Маргарет Этвуд Каменная подстилка
Margaret Atwood
STONE MATTRESS
Серия «Интеллектуальный бестселлер»
Copyright © 2014 by O. W. Toad, Ltd.
This edition is published by arrangement with Curtis Brown UK and The Van Lear Agency LLC.
© Т. Боровикова, перевод на русский язык, 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
* * *
Альфляндия
Ледяной дождь сеется с неба, словно незримый свадебный гость кидает горсти сверкающего риса. Капли падают и застывают, покрывая все поверхности зернистой ледяной коркой. В свете уличных фонарей это невероятно красиво. «Как серебро эльфов», – думает Констанция. Но еще бы она подумала что-нибудь другое: она слишком падка на волшебство. Красота – иллюзия, и еще она – предупреждение: у красоты есть темная сторона, как у ядовитых бабочек. Констанции следовало бы думать об опасностях, о ловушках, о неприятностях, которые этот ледяной дождь принесет многим людям. Уже приносит, если верить телевизору.
Телевизор с плоским экраном высокого разрешения. Его купил Эван, чтобы смотреть футбол и хоккей. Констанция предпочла бы старый, со странно оранжевыми людьми и расплывчатой картинкой, что время от времени шла волнами и гасла: высокое разрешение не всему идет на пользу. Констанцию раздражают поры, морщинки, волосы в носу, ненормально отбеленные зубы, увеличенные до огромного размера, так что нельзя просто не обращать на них внимания, как делаешь в обычной жизни. Как будто тебя заставили служить зеркалом в чужой ванной комнате. Увеличивающим. Ничего хорошего такое зеркало не покажет.
Хорошо, что дикторы, читающие прогноз погоды, стоят поодаль от камеры! Им нужно показывать на карту – широкими жестами, словно они официанты в гламурных фильмах тридцатых годов или фокусники, готовые продемонстрировать публике даму, зависшую в воздухе. Воззрите! Огромные охапки перистой белизны ползут вдоль континента! О, сколь они обширны!
Камера переходит под открытое небо. Два молодых комментатора – юноша и девушка, оба в стильных куртках с капюшонами, окружающими лица ореолом бледного меха, – горбятся под зонтами, с которых капает. Мимо медленно ползет вереница машин с лихорадочно работающими дворниками. Юноша и девушка в восторге, они восклицают, что никогда ничего подобного не видели. Конечно, не видели – слишком молоды. Затем показывают проявления катастрофы: авария на шоссе, бесформенная куча наехавших друг на друга машин; дерево упало и разбило крышу дома; злобно посверкивающий клубок электропроводов, которые обледенели и оборвались под собственной тяжестью; ряд прикованных к земле, покрытых снежной кашей самолетов на взлетном поле аэропорта; огромный грузовик лежит на боку – опрокинувшись, он сложился пополам, как перочинный нож, из него идет дым. Уже подъехали пожарные и «Скорая помощь», кругом суетятся люди в непромокаемых костюмах спецслужб: кто-то ранен, и у зрителей самопроизвольно учащается пульс. Затем на экране появляется полицейский, усы у него седые от кристалликов льда; он строго умоляет население оставаться дома. «Это не шутка, – сообщает он слушателям. – Не вздумайте бросать вызов стихиям!» Сдвинутые заснеженные брови суровы и благородны, как на плакатах военной поры, призывающих покупать облигации займа победы. Констанция их помнит. Или ей только так кажется. Возможно, она помнит репродукции в учебниках истории, экспонаты в музеях, кадры из документальных фильмов. Иногда очень трудно правильно определить источник воспоминаний.
Наконец телевизор начинает бить на жалость: показывают полузамерзшего бродячего пса, завернутого в детское розовое одеяльце. Конечно, обледеневший младенец был бы лучше, но, раз его нет, сойдет и пес. Молодые репортеры изображают лицом «ми-ми-ми»; девушка гладит собаку, а та слабо дергает мокрым свалявшимся хвостом. «Ему повезло», – говорит юноша-репортер. На самом деле он подразумевает: «Будете плохо себя вести – окажетесь на его месте, только вас никто спасать не станет». Юноша поворачивается к камере и делает серьезное лицо, хотя ясно видно, что он получает от всего этого огромное удовольствие. Он говорит, что будет еще хуже, потому что огромный снежный фронт сюда еще даже не дошел! В Чикаго положение гораздо серьезней! (Как всегда, впрочем.) Оставайтесь с нами!
Констанция выключает телевизор. Идет на другой конец комнаты, приглушает свет ламп, потом садится у фасадного окна, вглядываясь в освещенную фонарями уличную темноту и наблюдая, как мир превращается в гору бриллиантов – ветки деревьев, крыши, электропровода. Все сверкает и переливается.
– Альфляндия, – произносит она вслух.
«Тебе понадобится соль», – говорит Эван прямо ей в ухо. Когда он впервые заговорил с ней, она вздрогнула от испуга – к тому времени Эвана уже четыре дня нельзя было назвать живым. Но теперь она спокойней относится к его появлениям, хоть он и непредсказуем. Она рада слышать его голос, хотя беседа с ним обычно не клеится и идет в одну сторону: он говорит, Констанция отвечает, но он нечасто реагирует на ее ответы. Впрочем, их общение и раньше складывалось примерно так же.
После всего Констанция не знала, что делать с его одеждой. Сперва она решила оставить ее в гардеробной как есть, но каждый раз очень расстраивалась, открывая дверь и видя пиджаки и костюмы на вешалках. Они словно ждали, чтобы тело Эвана скользнуло в них и повело прогуляться. Твидовые костюмы, шерстяные свитера, клетчатые рубашки… Констанция не смогла отдать их бедным, что было бы единственным разумным вариантом. Выбросить тоже не смогла; во-первых, это расточительство, а во-вторых – как-то слишком резко, будто срываешь повязку, присохшую к ране. Поэтому все вещи, аккуратно сложенные и пересыпанные нафталином, отправились на третий этаж в сундук.
Днем еще ничего. Эван, кажется, не возражает. Голос – когда ему удается пробиться наружу – тверд и бодр. Повелительный, указующий. Голос с выставленным указательным пальцем. Поди туда, купи это, сделай то! Слегка насмешливый, поддразнивающий, небрежный. До болезни он часто обращался с ней в таком духе.
Ночами, однако, все становится сложнее. Одно время ей снились дурные сны: рыдания из сундука, скорбные жалобы, мольбы выпустить. Незнакомые мужчины у двери – вроде бы они обещали оказаться Эваном, но обещаний не держали. От них исходила явная угроза. Черные тренчи. Невнятные требования – Констанция не могла понять, чего они хотят, или, хуже того, они хотели, чтобы их пустили к Эвану, силой оттирали ее от двери, явно желая крови. «Эвана нет дома», – умоляюще восклицала она, несмотря на приглушенные крики из сундука на третьем этаже. Пришельцы топали вверх по лестнице, и Констанция просыпалась.
Она подумывала, не начать ли принимать снотворное, хотя знала, что это ведет к привыканию и в итоге к бессоннице. Может, лучше продать дом и купить квартиру в кондоминиуме. На этом в свое время настаивали мальчики (которые уже давно не мальчики и живут в Новой Зеландии и Франции соответственно, в удобном отдалении, позволяющем не навещать мать слишком часто). Мальчиков с флангов поддерживали жены – деловитые, но тактичные, преуспевающие в своих профессиях (пластический хирург и сертифицированный бухгалтер), так что выходило четверо на одного. Но Констанция проявила твердость. Она не могла бросить дом. Ведь здесь Эван. Но ей хватило смекалки не говорить о нем. Впрочем, они и без того считали ее слегка двинутой, из-за Альфляндии. (Хотя как только предприятия подобного рода начинают приносить деньги, исходящий от них запашок безумия мгновенно улетучивается.)
«Кондоминиум» – это эвфемизм. На самом деле речь идет о резиденции для престарелых. Констанция не в обиде на мальчиков: они хотят как ей лучше, а не просто как им самим удобнее. И, конечно, их напугал беспорядок, это естественно. Беспорядок как внутри самой Констанции – в чем-то понятный, ведь она только что овдовела, – так и в доме, в частности в холодильнике. В этом холодильнике встречались предметы, не поддающиеся никакому рациональному объяснению. Она будто слышала мысли сыновей и невесток: «Боже, ну и помойка! Сплошной ботулизм. Счастье, что она не отравилась насмерть». Но, конечно, она не отравилась, потому что в последние дни перед тем почти ничего не ела. Крекеры, ломтики сырной пасты, арахисовое масло прямо из банки.
Невестки разбирали завалы, стараясь проявлять максимальную деликатность. «Вот это вам нужно? А это?» – «Нет, нет! – стонала Констанция. – Ничего из этого не нужно! Выбрасывайте всё!» Троих внуков – двух девочек и мальчика – послали, словно на охоту за спрятанными пасхальными яйцами, искать по дому недопитые чашки с какао и чаем. Констанция бросала их там и сям, и они уже успели покрыться пушистыми бледно-серыми и бледно-зелеными шкурками в разных стадиях роста. «Маман, смотри! Я нашел еще одну!» – «Фу, какая гадость!» – «А где же дедушка?»
В резиденции для престарелых она хотя бы будет не одна. И еще, если она переедет, с нее снимется бремя, ответственность – ведь такой дом, как у нее, нужно содержать, следить за ним, зачем ей эта головная боль? Невестки подробно расписали перспективу. Констанция сможет играть в бридж или скрэбл. Или нарды – по слухам, они опять входят в моду. Никакого перенапряжения или излишнего мозгового возбуждения. Спокойные коллективные игры.
«Не сейчас, – говорит Эван. – Пока не надо».
Констанция знает, что он ненастоящий. Она знает, что Эвана больше нет. Конечно, знает! У других недавно овдовевших тоже бывает такое. Это называется «слуховые галлюцинации». Она про это читала. Это нормально. Она не сумасшедшая.
«Ты не сумасшедшая», – утешает ее Эван. Он бывает очень нежен, когда думает, что она страдает.
Насчет соли он прав. Ей еще несколько дней назад следовало запастись чем-нибудь для посыпки льда, но она забыла, и если она и сейчас ничего не купит, то будет замурована в доме как пленница – к завтрашнему дню улица превратится в каток. Что, если лед продержится несколько дней? У нее может кончиться еда. Она станет очередной палочкой в статистике – старушка, жила замкнуто, переохлаждение, смерть от голода, – потому что, как еще раньше совершенно справедливо объяснил Эван, она не может питаться воздухом.
Придется рискнуть. Даже одного пакета соли хватит на крыльцо и тротуар перед домом, чтобы не покалечились ни прохожие, ни сама Констанция. Лучше всего пойти в мелочную лавочку на углу – это всего два квартала. Придется взять сумку на колесиках, потому что мешок с солью тяжелый. Машину в семье водил только Эван. У самой Констанции права недействительны уже несколько десятков лет – она так углубилась в Альфляндию, что, по ее мнению, это слишком отвлекало бы ее за рулем. Альфляндия требует сосредоточенности. На посторонние мелочи типа знаков «стоп» внимания уже не хватает.
На улице, судя по всему, очень скользко. Устроив экспедицию наружу, можно сломать шею. Констанция стоит на кухне, размышляя.
– Эван, что мне делать? – спрашивает она.
«Возьми себя в руки», – твердо отвечает Эван. Не слишком информативно, но он всегда так отвечал на ее вопросы, когда хотел оставить себе пространство для маневра. «Где ты был, я так беспокоилась – думала даже, что ты в аварию попал?» – «Возьми себя в руки». – «Ты меня по правде любишь?» – «Возьми себя в руки». – «У тебя что, любовница?»
Порывшись на кухне, Констанция находит большой полиэтиленовый пакет с застежкой. Вытряхивает оттуда три ссохшиеся усатые морковки и латунным совочком собирает в пакет золу из камина. Она не топила камин с тех пор, как Эван покинул видимый мир – ей казалось, что это будет неправильно. Разведение огня – акт обновления, начала, а она не хочет ничего начинать. Она хочет продолжать. Точнее, она хочет вернуться в прошлое.
У камина еще лежат охапка дров и лучина для растопки. И на решетке внутри два недогоревших полена – с того вечера, когда они в последний раз были у камина вдвоем. Эван лежал на диване со стаканом своей шоколадной питательной гадости; он был лысый после «химии» и лучевой терапии. Констанция подоткнула вокруг него плед, села рядом и взяла его за руку. Молчаливые слезы катились по щекам, и она отвернулась, чтобы Эван не видел. Нечего его расстраивать своим расстройством.
– Как хорошо, – проговорил он. С трудом, голос тонкий, словно исхудал, как и он сам. Но теперь у него голос совсем не такой. Теперь – нормальный, как раньше. Как двадцать лет назад – низкий, раскатистый, особенно когда он смеется.
Она надевает пальто и сапоги, отыскивает варежки и вязаную шапку. Деньги, ей понадобятся деньги. Ключи от дома – очень глупо будет выйти, захлопнуть дверь и превратиться в сосульку на собственном крыльце. Она подходит к двери, таща за собой сумку на колесиках, и тут Эван говорит: «Возьми фонарик», так что она взбирается по лестнице на второй этаж, в спальню, не снимая сапог. Фонарик лежит на тумбочке с его стороны кровати. Констанция сует фонарик в сумку. Эван такой предусмотрительный. Сама она никогда не подумала бы про фонарик. Ступеньки переднего крыльца уже превратились в каток. Она сыплет на них золу из пакета, сует пакет в карман и спускается бочком, по-крабьи, по ступеньке за раз, держась одной рукой за перила, а другой волоча сумку на колесиках, стук-стук-стук. Оказавшись на тротуаре, она раскрывает зонтик, но с ним неудобно – не управиться с двумя предметами сразу, – и она снова закрывает его. Будет на него опираться, как на трость. Она мелкими шажками выползает на проезжую часть – там меньше льда, чем на тротуарах, – и пробирается по самой середине, помогая себе зонтиком. Машин на улице нет, так что ее хотя бы никто не переедет.
Особенно скользкие места на дороге она посыпает золой из пакета, оставляя за собой едва заметный темный след. По нему можно вернуться домой, если будет совсем плохо. Словно эпизод из Альфляндии – темная дорожка золы, загадочная, манящая, как белые камушки или хлебные крошки в лесу… только в этой золе должно быть что-нибудь особенное. Что-то такое, что обязательно нужно знать, какое-нибудь волшебное слово или заклинание, которое надо произнести, чтобы сдержать ее – без сомнения, зловредную – силу. Только там не должно быть слова «прах» – ничего такого, что напоминало бы о похоронах и последних почестях. Что-нибудь руническое.
– Зола, сожгла, дотла, смогла, дела, – произносит Констанция вслух, осторожно ступая по льду. Зола много с чем рифмуется. Нужно ввести эту золу в сюжетную линию, точнее – одну из сюжетных линий: их в Альфляндии много. Скорее всего, зловредная зола как-то связана с Милзретом Красной Рукой, хитроумным и злобным садистом. Он любит наводить на путников дурманящие видения, сманивать их с истинного пути и запирать в железные клетки, а потом терзать, спуская на них мохнатых хэнков-дьяволят, цианоринов, огнепигглей и прочих тварей. А сам с наслаждением смотрит, как одежды пленников – шелковые халаты, расшитые одеяния, подбитые мехом плащи, блестящие покрывала – превращаются в клочья, и как сами пленники умоляют о пощаде, корчась так, что приятно глазу. Она займется этим, как вернется домой.
У Милзрета лицо ее давнего начальника – из той поры, когда она работала официанткой. Он любил шлепать подчиненных ему женщин по попе. Интересно, читает ли он «Альфляндию»?
Она уже прошла один из двух кварталов. Все же эта вылазка была не самой удачной идеей – лицо мокрое, руки заледенели, и талая вода стекает за шиворот. Но раз уж вышла, нужно довести дело до конца. Она вдыхает холодный воздух. По лицу хлещут ледяные зерна. Ветер крепнет, как и обещали по телевизору. Но все же, когда пробиваешься через бурю, в этом есть что-то бодрящее, придающее сил. Ветер сметает с мозгов паутину, и дышишь полной грудью.
Мелочная лавочка на углу работает круглосуточно – Эван с Констанцией оценили это по достоинству еще двадцать лет назад, когда сюда переехали. Однако штабеля мешков с солью у наружной стены, где они обычно хранятся, нет. Констанция входит в магазин, таща за собой сумку.
– А соли нет? – спрашивает она у женщины, стоящей за прилавком. Этой она раньше не видела. Продавцы в магазине все время меняются. Эван говорил, что магазин наверняка ненастоящий и служит для отмывания денег, потому что не может он приносить прибыль, судя по тому, как мало тут покупателей и в каком состоянии зелень на прилавке.
– Нет, милочка, – отвечает продавщица. – Уже все расхватали. «Будь готов», видно, такой у них девиз.
Это намек на то, что Констанция не подготовилась должным образом. Все верно. Она всю жизнь такая – никогда ни к чему не бывает готова. Но как удивляться миру, если заранее ко всему готовиться? Как подготовиться к закату? К восходу луны? К снежной буре? Какое унылое это было бы существование!
– Ох, – говорит Констанция. – Нет соли. Не повезло мне.
– Зря вы вышли в такую погоду, милочка! – восклицает продавщица. – Это так опасно!
У нее крашеные рыжие волосы, по-модному подбритые сзади на шее. Но несмотря на это, она всего лет на десять моложе Констанции, судя по лицу, и существенно толще. «У меня хотя бы одышки нет», – думает Констанция. Но ей приятно, что ее называют милочкой. Так ее называли когда-то в молодости, а потом долго не называли. Теперь опять называют, часто.
– Ничего страшного, – отвечает она. – Я живу всего за два квартала отсюда.
– Два квартала в такую погоду – это много, – говорит продавщица. Несмотря на возраст, у нее на шее татуировка, выглядывает из-за края воротника. Кажется, дракон или что-то вроде. Шипы, рога, выпученные глаза. – Можно задницу отморозить.
Констанция соглашается и просит разрешения оставить сумку и зонтик у прилавка. Она бродит меж полок с товаром, толкая перед собой проволочную магазинную тележку. Других покупателей в магазине нет, только в одном проходе тощий юнец расставляет на полках банки с томатным соком. Она берет курицу гриль из тех, что крутятся на вертеле под стеклянным сводом – день за днем, без устали, словно грешники в аду – и пакет замороженного зеленого горошка.
«Кошачий туалет», – произносит Эван. Это он что, о ее покупках? Раньше он не одобрял этих кур гриль – говорил, что они напичканы химикатами. Впрочем, ел он с охотой, если Констанция приносила такую курицу домой. Когда еще ел.
– Ты о чем? – спрашивает она. – У нас же больше нет кошки.
Она еще раньше обнаружила, что с Эваном надо говорить вслух – читать мысли он, как правило, не умеет. Хотя иногда умеет. Его способности то прибывают, то убывают.
Эван ничего не объясняет. Он любит ее дразнить и часто заставляет находить ответы самостоятельно. Вдруг до нее доходит: наполнитель для кошачьего туалета – чтобы посыпать крыльцо, вместо соли. Он хуже, лед не растает, но хоть какое-то трение будет. Она перегружает мешок наполнителя с полки в тележку, добавляет две свечи и коробку деревянных спичек. Вот. Она подготовилась.
Она возвращается к прилавку, обменивается репликами с продавщицей по поводу курицы гриль – оказывается, продавщица тоже любит брать таких кур, потому что какой смысл готовить на одну себя или пускай даже на двоих, – и складывает покупки в сумку на колесиках, удерживаясь от комментариев по поводу татуировки с драконом. По опыту многих лет Констанция знает, что эта тема чревата осложнениями. В Альфляндии есть драконы, и у них множество поклонников со множеством гениальных идей, которыми они жаждут поделиться с Констанцией. О том, что драконы должны быть устроены совсем по-другому. О том, как они сами, лично воплотили бы драконов в книге. О подвидах драконов. Об ошибках, допущенных ею в описаниях кормления драконов и ухода за ними. И так далее. Просто удивительно, как люди заводятся из-за тварей, которых и на свете-то нет.
Слышала ли продавщица ее разговор с Эваном? Наверняка. И наверняка внимания не обратила. В любом круглосуточном магазине бывают покупатели, беседующие с невидимыми друзьями. В Альфляндии ее поведение истолковали бы по-другому: кое-кто из тамошних обитателей держит при себе невидимых духов в качестве фамильяров.
– Милочка, где вы живете? – кричит женщина в спину Констанции, когда та направляется к двери. – Я могу послать эсэмэску другу, он вас проводит до дому.
«Что это еще за друг? Может, она – девушка байкера, – думает Констанция. – Может, она моложе, чем я думала, просто потрепана жизнью».
Констанция притворяется, что не слышала. Может, это хитрость. Вдруг у крыльца ее будет поджидать бандит с мотком изоленты в кармане. Скажет, что у него машина сломалась, попросит разрешения воспользоваться ее телефоном, она по доброте сердечной пустит его в дом и оглянуться не успеет, а уже примотана к столбикам перил, и бандит вставляет ей иголки под ногти, чтобы она выдала все свои пароли. Констанция знает, что такое нынче случается – не зря же она смотрит новости по телевизору.
От дорожки золы никакого толку – ее занесло льдом и уже не видно, – и ветер еще усилился. Может, открыть мешок кошачьего туалета прямо сейчас? Нет, нужен нож или ножницы. Хотя там обычно есть ленточка, за которую можно потянуть, чтобы вскрыть мешок. Констанция пытается разглядеть мешок в сумке с покупками, светит туда фонариком, но батарейка, похоже, садится – ничего не видно. Пока она будет возиться с мешком, промерзнет до костей. Лучше совершить последний бросок и оказаться дома. Хотя слово «бросок» здесь, конечно, не очень подходит.
Кажется, ледяная корка за это время стала вдвое толще. Кусты на газонах перед домами похожи на фонтаны – ветки грациозно изгибаются, и сияющая листва склоняется до земли. Кое-где валяются огромные древесные сучья, отломанные под тяжестью льда – они частично загораживают дорогу. Добравшись до дома, Констанция оставляет сумку с покупками на тротуаре и взбирается по ступенькам крыльца, хватаясь за перила и подтягивая себя наверх. Хорошо, что свет на крыльце горит, хотя Констанция не помнит, как его включала. Она возится с ключом и замком, отворяет дверь и шлепает на кухню, оставляя мокрые следы. Возвращается по следу с кухонными ножницами в руке, спускается с крыльца к красной сумке на колесиках, взрезает мешок наполнителя и щедрой рукой рассыпает его кругом.
Вот. Теперь можно втащить сумку на крыльцо – бум-бум-бум – и в дом. Запереть дверь. Снять мокрое пальто, насквозь пропитанную водой шапку и варежки – пускай просушатся на батарее. Сапоги припарковать в прихожей. «Миссия выполнена», – говорит Констанция на случай, если Эван ее слышит. Он будет беспокоиться, если не узнает, что она благополучно добралась домой. Они всегда оставляли друг другу записки. Или голосовые сообщения на автоответчике. Тогда всяких нынешних электронных штучек еще не было. Когда ей особенно грустно и одиноко, она думает, не оставить ли Эвану сообщение на автоответчике. Вдруг он сможет его прослушать через электрические частицы или магнитные поля, или что он там использует, чтобы посылать свой голос в виде звуковых волн.
Но сейчас она не грустит. Наоборот, она в приподнятом настроении: горда, что успешно совершила вылазку за солью. И еще она хочет есть. Она не ощущала такого голода с тех пор, как Эван перестал садиться с ней за стол – еда в одиночестве ее слишком сильно угнетала. Но сейчас она рвет руками курицу гриль и пожирает ее. Так едят в Альфляндии спасенные из какой-нибудь передряги – из темницы, болота, железной клетки, унесенной в открытое море лодки. В Альфляндии все едят руками – столовые приборы есть только у знати, хотя почти каждый носит с собой нож, кроме говорящих зверей, конечно. Она облизывает пальцы и вытирает их посудным полотенцем. В доме должны быть бумажные полотенца, но их нет.
Осталось еще молоко, и она пьет его прямо из картонного пакета, почти не пролив. Чуть позже она сделает себе чего-нибудь горячего попить. Она торопится в Альфляндию – из-за дорожки золы. Она хочет расшифровать ее, распутать, пройти по ней до конца. Увидеть, куда эта дорожка ее приведет.
Сейчас Альфляндия живет у Констанции на компьютере. Много лет она разворачивалась на чердаке, который Констанция переделала под кабинет, когда денег от Альфляндии хватило на ремонт. Но даже с новым полом, новым пробитым в крыше окном, кондиционером и вентилятором на потолке чердак был тесный и душный, как во всех кирпичных викторианских домах. Поэтому чуть позже, когда мальчики уже учились в старших классах, Альфляндия переехала на кухонный стол и там много лет ползла, как свиток из электрической пишущей машинки, когда-то – последнего писка техники, а ныне устаревшей. Потом Альфляндия перебралась в компьютер. Там тоже водились свои опасности – например, написанное могло внезапно исчезнуть, что страшно бесило Констанцию – но компьютеры с тех пор усовершенствовались, и Констанция привыкла к своему. Сейчас компьютер стоит в кабинете Эвана – Констанция перенесла его туда, когда Эван покинул видимый мир.
Она не говорит «когда он умер», даже беседуя сама с собой. Слово на «у» объявлено непристойным. Вдруг он услышит и обидится, или будет страдать, или растеряется и расстроится, или даже рассердится. Одно из ее убеждений, не сформулированных до конца словами, – Эван сам не знает, что он мертв.
Она садится за стол Эвана, закутавшись в его черный плюшевый купальный халат. Черные плюшевые купальные халаты для мужчин были в моде в… девяностых? Этот халат она покупала сама, подарок на Рождество. Эван всегда отбивался от попыток одеть его по моде, хотя ко времени покупки халата они прекратились – Констанции было уже все равно, как он выглядит в глазах окружающих.
Сейчас она кутается в халат – не ради тепла, а ради утешения: так ей кажется, что Эван все еще в доме, просто вышел куда-то. Констанция не стирала халат после смерти мужа: чтобы пахло им, а не стиральным порошком.
«Ох, Эван, – думает она. – Нам было так хорошо вместе! А теперь все кончилось. Почему все кончилось так быстро?»
«Возьми себя в руки», – говорит Эван. Он не любит, когда она распускает нюни.
– Угу, – отвечает она. Расправляет плечи, поправляет подушку на эргономическом компьютерном кресле Эвана и включает компьютер. Появляется заставка: портал в волшебную страну, нарисованный для нее Эваном, который был архитектором, пока не перешел на более стабильную работу университетского преподавателя. Впрочем, курсы, которые он читал, назывались не «Архитектура», а «Теория конструируемого пространства», «Рукотворный ландшафт», «Тело в объеме». Эван по-прежнему прекрасно рисовал и нашел выход увлечению – создавал забавные картинки сперва для детей, а потом и для внуков. Заставку он нарисовал как подарок жене и еще как свидетельство, что принимает всерьез эти ее штучки – которых, скажем прямо, немного стыдился в своих утонченных интеллектуальных кругах. Как свидетельство, что принимает всерьез саму Констанцию. (И в том, и в другом у нее время от времени были причины сомневаться.) И еще – как знак прощения за Альфляндию, за то, что из-за нее жена не уделяла ему должного внимания и заботы. За то, как она порой смотрела на него, не видя.
Констанция про себя думала, что заставка – приношение во искупление вины за какой-то его проступок, в котором он не желал признаваться. За то время, когда Эван был чувствами где-то очень далеко от нее и, возможно, поддерживал связь – не физическую, так эмоциональную – с другой женщиной. С другим лицом, другим телом, другим голосом, другим запахом. Другим гардеробом с чуждыми Констанции поясами, пуговицами и молниями. Кто была эта женщина? Констанция питала разные подозрения, но потом понимала, что ошиблась. Неотступная тень тихо смеялась над ней из бессонной тьмы в три часа ночи, а потом ускользала. Констанция не могла назвать ничего конкретного.
Все это время она чувствовала себя неповоротливым куском дерева. Она была сама себе скучна, она была жива только наполовину. Она вся онемела.
Она никогда не допрашивала мужа об этом, никогда не припирала его к стенке. Эта тема была как слово на букву «у» – она присутствовала, висела у них над головами, как огромный дирижабль с рекламой, но упомянуть о нем вслух значило бы разрушить магию. Совершить некое действие, окончательно и бесповоротно. «Эван, у тебя другая женщина?» – «Возьми себя в руки. Рассуждай здраво. С какой стати у меня вдруг появится другая женщина?» Он бы отмахнулся, сбросил со счетов ее вопрос.
Констанция могла бы назвать кучу причин. Но она только улыбалась и обнимала его, и спрашивала, что он хочет на ужин, и держала язык за зубами.
Портал на заставке – каменный, с закругленным сводом, вроде римской арки. Он проделан в длинной высокой стене с башенками наверху. Над башенками реют красные стяги. Массивные ворота из бруса распахнуты. За ними виднеется залитый солнцем пейзаж, где в отдалении торчат другие башни.
Эван долго возился с заставкой. Штриховал, раскрашивал акварелью. Даже добавил лошадей, пасущихся на дальнем поле, а вот с драконами связываться не стал. Картинка очень красивая, хорошенькая, в стиле Уильяма Морриса или, скорее, Берн-Джонса, но от истины далека. Стена и ворота – слишком новые, чистые, будто вылизанные. Хотя и в Альфляндии есть уголки роскоши – шелк и бархат, вышивки, узорные канделябры – по большей части это древняя, грязноватая и слегка обветшалая страна. Кроме того, она страдает от вражеских набегов, поэтому в ней часто встречаются руины.
Над вратами на заставке высечена в камне надпись псевдоготическими прерафаэлитскими буквами: АЛЬФЛЯНДИЯ.
Констанция набирается духу. И входит.
По ту сторону заставки нет никакого солнечного пейзажа. От ворот вьется узкая дорога, почти тропа. Она спускается вниз, к мосту, освещенному – поскольку на дворе ночь – желтоватыми светящимися округлыми формами вроде яиц или капель воды. За мостом – темный лес.
Сейчас она перейдет мост, осторожно пересечет лес, остерегаясь засад, выйдет на открытое пространство и окажется на распутье. Там ей предстоит выбрать дорогу. Все они ведут в Альфляндию, но в разные версии. Даже Констанция – создательница этой страны, кукольник, дергающий персонажей за ниточки, демиург и Парка – не знает, куда в конце концов попадет.
Она начала творить Альфляндию давным-давно, задолго до встречи с Эваном. Тогда она жила с другим мужчиной, у них было две комнаты на втором этаже старого дома, с комковатым матрасом на полу, общим туалетом в коридоре, электрочайником (ее) и электроплиткой (его), официально запрещенными. Холодильника у них не было, поэтому еду ставили на подоконник снаружи, где она прокисала летом и замерзала зимой. Весной и осенью было бы ничего, если бы не белки.
Мужчина, с которым она тогда жила, был из компании поэтов, с которой Констанция водилась в трогательном юношеском заблуждении, что и она тоже поэт. Его звали Гэвин, по тем временам необычное имя, хотя сейчас – ничего особенного, сейчас Гэвинов стало заметно больше. Юная Констанция считала, что ей колоссально повезло: Гэвин был на четыре года старше, знал кучу других поэтов, был худ, ироничен, пренебрегал условностями общества и мрачно острил, подобно многим другим тогдашним литераторам.
Констанция была счастлива даже оказаться мишенью иронических или мрачно-сатирических замечаний Гэвина – в частности, он заявлял, что ее задница приковывает к себе и запоминается надолго, в отличие от ее же стихов. Кроме того, он оказал ей большую честь, изобразив ее в своих творениях. Конечно, он не называл ее по имени – тогда поэтам полагалось именовать своих муз «госпожа моя», «любовь моя», «леди», «Прекрасная Дама» (дань народным песням и рыцарской поэзии) или просто «она». Констанция сходила с ума от любви, читая стихи Гэвина (особенно эротические) и говоря себе, что каждый раз, когда в них упоминается «моя любовь» или «она», речь идет о ней, Констанции. «Прекрасная Дама раскинулась на подушках», «Первый утренний кофе моей госпожи», «Любовь моя облизывает мою тарелку» – все они согревали ей сердце, но больше всех она любила сонет «Прекрасная Дама, стоящая раком». Когда Гэвин бывал с ней неласков, она доставала этот сонет и перечитывала его.
Помимо литературных увеселений они весьма активно и изобретательно предавались сексу.
Встретив Эвана, Констанция поняла, что не стоит чрезмерно откровенничать с ним о своей прежней жизни. Хотя о чем тут беспокоиться? Да, Гэвин умел испытывать страсти, но он был настоящий козел; так что Эван мог не бояться сравнений, рядом с Гэвином он был просто принц в сверкающих доспехах. Кроме того, отношения с Гэвином кончились плохо – печально и унизительно для Констанции. Так чего о нем вспоминать? Какой в этом смысл? Эван никогда не спрашивал, были ли в ее жизни другие мужчины, и Констанция никогда ему не говорила. Она очень надеется, что он не узнает о Гэвине своими путями – через ее невысказанные мысли или иным способом.
С Альфляндией связан один приятный момент: любое тяжелое воспоминание можно вынести в нее через портал и спрятать во дворце памяти. Этот мнемонический прием был в большой моде… когда? Кажется, в восемнадцатом веке. Если хочешь что-то удержать в памяти, свяжи это в уме с воображаемой комнатой и, когда захочешь вспомнить все, мысленно зайди туда.
Поэтому Констанция держит в Альфляндии заброшенную винодельню – на землях, где ныне сидит Цымри Адамантовый Кулак, ее союзник – исключительно ради Гэвина. По одному из незыблемых законов Альфляндии Эвану воспрещен вход через каменный портал, и оттого она спокойна. Он никогда не найдет винодельню и не узнает, кого тут прячут.
В общем, Гэвин – в дубовом бочонке, в погребе. Он не страдает, хотя, по справедливости, возможно, заслужил страдание. Но Констанция проработала свои чувства и простила Гэвина, а потому не позволила его пытать. Он в чем-то вроде анабиоза – ни жив, ни мертв. Время от времени она заглядывает в эти места, преподносит Цымри дары, чтобы укрепить союз – алебастровый кувшин знамских морских ежей в меду, ожерелье из когтей цианорина, – произносит заклинание, открывающее бочонок, и заглядывает внутрь. Гэвин мирно спит. Он всегда хорошо смотрелся с закрытыми глазами. Он как будто не стал ни на день старше с их последней встречи. Констанции до сих пор больно о ней вспоминать. Она возвращает на место крышку бочонка и произносит заклинание задом наперед, запечатывая Гэвина до тех пор, пока ей опять захочется на него взглянуть.
В реальной жизни Гэвин получил несколько премий за стихи, а потом – место постоянного преподавателя писательского мастерства в университете где-то в Манитобе. Потом вышел на пенсию и перебрался в Викторию, город в Британской Колумбии с прекрасными видами на тихоокеанский закат. Констанция каждый год получает от него открытку на Рождество. Точнее, от него и его жены Рейнольдс. Третьей жены, намного моложе его. Рейнольдс – какое дурацкое имя! Похоже на марку сигарет из сороковых, когда сигаретные марки еще были серьезным делом.
Рейнольдс подписывает открытки и за себя, и за мужа – «Гэв» и «Рей» соответственно – и добавляет в конверт раздражающе болтливые годовые отчеты с описанием их отпуска («Марокко! Как хорошо, что мы захватили таблетки от поноса!» Хотя в последние годы чаще: «Флорида! Как приятно сбежать от слякоти!»). Кроме этого, она отчитывается о работе местного книжного клуба – только значительные книги, только пища для ума! Сейчас они прорабатывают Боланьо – идет тяжело, но упорство себя окупает! Члены клуба приносят тематические закуски, связанные с текущей книгой, и вот сейчас Рей учится делать тортильи. Это так весело!
Констанция подозревает, что Рей питает нездоровый интерес к богемной юности Гэвина и особенно к самой Констанции. Еще бы! Ведь она стала первой постоянной сожительницей Гэвина. В те времена он был до такой степени сексуально озабочен, что не мог держать штаны застегнутыми, если Констанция находилась ближе полумили. Словно она излучала ореол магических частиц или наводила неодолимые чары, как Феромония Сапфировые Косы в Альфляндии. Рейнольдс не может с ней тягаться. Учитывая, сколько лет Гэвину, наверняка с ним приходится использовать всякие подспорья. А может, Рейнольдс вообще махнула на него рукой в этом плане.
«Кто такие Гэвин и Рейнольдс?» – ежегодно спрашивал Эван.
«Гэвин – мой знакомый со студенческих лет», – отвечала Констанция. И в общем, даже не врала: она бросила университет, чтобы жить с Гэвином, так была зачарована им и его умением сочетать любовный жар с отстраненностью. Но такой информации Эван не обрадовался бы. Он бы опечалился, или приревновал ее, или даже рассердился бы. Зачем его расстраивать?
Приятели Гэвина, поэты – и фолк-певцы, и джазмены, и актеры, аморфная компания людей, кладущих живот на алтарь искусства, – целыми днями околачивались в кофейне под названием «Речной пароход» в Йорквилле. Тогда этот район Торонто как раз превращался из квазитрущоб для небедных людей в модный квартал, обиталище хиппи. Теперь от «Речного парохода» уже ничего не осталось, кроме унылой мемориальной доски из литого чугуна с завитушками. Сам дом, где было кафе, снесли и построили какой-то навороченный отель. «Все будет сметено могучим ураганом, – словно провозглашают эти доски, – и гораздо скорей, чем кажется».
У всех поэтов, фолк-певцов, джазменов и актеров не было ни гроша за душой. Как и у самой Констанции, но она была еще молода, и нищета казалась ей блеском. Ее влекло очарование богемы. Она стала писать про Альфляндию, чтобы содержать Гэвина, – он считал, что подобная финансовая поддержка является, в числе прочих вещей, долгом истинной Прекрасной Дамы. Самые первые рассказы она варганила на дребезжащей механической пишмашинке, импровизируя на ходу. Потом неожиданно для себя продала два рассказа, хоть и задешево, одному андерграундному журналу в Нью-Йорке, под чей формат ее творения как раз подошли. На обложках журнала красовались люди с прозрачными стрекозиными крыльями, многоголовые животные, бронзовые шлемы, кожаные колеты, луки и стрелы.
У нее неплохо получалось сочинять, во всяком случае – для таких журналов. В детстве она читала сказки с иллюстрациями Артура Рэкема и иже с ним – кривые узловатые деревья, тролли, загадочные девы в развевающихся одеяниях, мечи, перевязи, золотые яблоки солнца[1]. Чтобы создать Альфляндию, довольно было лишь слегка расширить тот пейзаж, поменять костюмы и выдумать имена.
Еще она в то время работала официанткой в забегаловке, которая называлась «Снаффи», в честь героя мультика – деревенского дурачка. В забегаловке подавали кукурузный хлеб и жареную курицу. В дополнение к зарплате сотрудники могли есть курицу сколько влезет, и Констанция выносила контрабандой куски для Гэвина. Работа была очень тяжелая, менеджер лапал официанток, но с чаевыми на круг выходило неплохо, особенно если работать сверхурочно, как Констанция.
Тогда девушкам так полагалось – работать на износ, поддерживая мужчину и его уверенность в том, что он гений. А что делал сам Гэвин, чтобы платить за квартиру? Мало что, хотя Констанция подозревала, что он приторговывает травкой. Время от времени они покуривали вместе, хотя и не часто, потому что Констанция от дыма кашляла. Все это было очень романтично.
Поэты и фолк-певцы, конечно, посмеивались над ее альфляндскими историями. Что тут такого? Констанция и сама над ними посмеивалась. Ширпотреб, который она выпекала пачками, лишь через много лет обрел подобие респектабельности. Кое-кто из богемы признавался в чтении «Властелина колец», хотя тогда это полагалось оправдывать интересом к скандинавской лингвистике. Но поэты единодушно считали, что пачкотня Констанции не дотягивает до уровня Толкина. Сказать по правде, так оно и было. Они дразнили ее, утверждая, что она пишет про садовых гномов, и она в ответ шутила, что так оно и есть, но сегодня гномы выкопали горшок золотых монет и ставят всем по пиву. От пива поэты не отказывались никогда. Они провозглашали тосты: «За гномов, да не оскудеет их борода! Гном – в каждый дом!»
Поэты смотрели свысока на тех, кто продает свое перо за деньги. Но на Констанцию это не распространялось, ведь Альфляндия изначально была поделкой, творимой на продажу. Кроме того, Констанция шла на это ради Гэвина, как и подобало истинной Прекрасной Даме. И еще она не была такой дурой, чтобы воспринимать свою писанину всерьез.
Но одного они не знали. Констанция воспринимала свою писанину всерьез, причем все больше и больше. Альфляндия принадлежала ей одной. Ее убежище, ее твердыня. Здесь она могла укрыться, когда меж ней и Гэвином шли раздоры. Она мысленно проникала через невидимый портал и блуждала по темным лесам, по благоуханным лугам, вступая в военные союзы и разбивая врагов, и никто не мог войти в Альфляндию против ее воли, поскольку портал закрывался пятимерным заклинанием.
Она проводила там все больше и больше времени – особенно когда начала подозревать, что далеко не всякое упоминание «Прекрасной Дамы» в новых стихах Гэвина относится к ней. Разве что его внезапно поразила цветовая слепота – ведь глаза Прекрасной Дамы, некогда названные «озерами синевы» и «дальними звездами», ныне были преисполнены «чернильной тьмы». Гэвин заявил, что сонет «С луной не схожа задница ее» – отсылка к Шекспиру. Разве он забыл, что в более ранних стихах – грубоватых, но прочувствованных – именно что сравнил седалище своей госпожи с луной: белой, круглой, мягко светящейся в темноте, манящей? Но другая, новая задница была тугой и мускулистой; активной, а не пассивной, захватывающей, а не манящей. Вроде боа-констриктора, хотя, конечно, совсем не такой формы. Констанция вооружилась зеркальцем и исследовала свой вид сзади. Да, какие объяснения ни изобретай, все бесполезно: разница очевидна. Неужели, пока она трудилась у «Снаффи», таская некогда воспетое седалище от стола к столу (и уставая так, что сон был ей желанней секса), Гэвин резвился на их общем комковатом матрасе с новой, свеженькой Прекрасной Дамой? Той, у которой захватывающая задница?
Когда-то Гэвину доставляло определенное удовольствие высмеивать Констанцию на людях – сардоническими, ироническими репликами, на которых он специализировался как поэт. Констанция считала их комплиментами: ведь в эти минуты его внимание всецело устремлено на нее. В каком-то смысле он так хвалился ею перед дружками. Раз его это возбуждало, Констанция терпела, кротко снося унижение и ожидая, пока оно кончится. Но теперь он перестал над ней смеяться. Он вообще перестал ее замечать, и это было гораздо хуже. Когда они оставались наедине в своих комнатушках, он больше не кидался целовать ее в шею, срывать с нее одежду и швырять ее на матрас, без стеснения свершая пиршество неутолимой страсти. Вместо этого он жаловался на спазмы в спине и намекал (точнее, требовал), чтобы в качестве компенсации за боль и ограниченную подвижность Констанция вознаградила его минетом.
Минет не относился к любимым занятиям Констанции. Во-первых, она не умела его делать, а во-вторых, в списке вещей, которые она с удовольствием помещала в рот, пенис стоял далеко не на первом месте.
Вот в Альфляндии никто ни у кого не требовал минетов. Впрочем, там и канализации не было. Она была просто не нужна. Кто станет отвлекаться на низменные функции тела, когда твой замок осаждают гигантские скорпионы? Вот ванны в Альфляндии были. Точнее, квадратные водоемы в садах, напоенных ароматом жасмина. Вода в водоемы поступала из подземных источников. Самые гнусные негодяи в Альфляндии купались в крови своих пленников. Их приковывали к столбам, вбитым по периметру водоема, и жизнь вытекала из них по капле, расплываясь красными пузырями у них на глазах.
Констанция перестала появляться в «Речном пароходе» – тамошние завсегдатаи смотрели на нее с жалостью и задавали наводящие вопросы вроде: «Куда это подевался Гэвин? Я его видел минуту назад». Они знали что-то, чего не знала она. И видели, что дело идет к развязке.
Оказалось, что новую Прекрасную Даму зовут Марджори. Сейчас, думает Констанция, это имя практически исчезло; Марджори почти вымерли, туда им и дорога. Марджори была темноволосая, темноглазая, длинноногая и бесплатно, ради практики вела бухгалтерию в «Пароходе». Она любила африканские ткани ярких расцветок, висячие серьги-фенечки из бисера и не смеялась, а ржала, зычно и с хрипотцой, напоминая мула с бронхитом.
Впрочем, Гэвину, похоже, она мула не напоминала. Констанция накрыла Гэвина с Марджори, когда они самозабвенно трахались, явно забыв о спазмах в спине. На столе стояли бокалы из-под вина. По полу была раскидана одежда, а по подушке – волосы Марджори. По подушке Констанции. Гэвин застонал – то ли в оргазме, то ли в печали от несвоевременного появления Констанции. Марджори, напротив, взоржала. То ли над Констанцией, то ли над Гэвином, то ли над ситуацией в целом. Ржание было презрительное. Недоброе. Обидное.
Что оставалось Констанции, кроме как заявить: «Ты должен мне половину квартплаты за месяц». Впрочем, денег она так и не получила: Гэвин был откровенно скуп – характерная для тогдашних поэтов черта. Констанция съехала с квартиры, прихватив свой электрочайник, и вскоре подписала первый контракт на книгу про Альфляндию. Как только слухи о том, что гномы принесли ей богатство – ну, относительное богатство – дошли до «Парохода», Гэвин явился в только что снятую ею трехкомнатную квартиру – с настоящей кроватью, которую она тогда делила с одним из фолк-певцов, хотя и этот роман длился недолго – и попытался с ней помириться. Он сказал, что Марджори была ошибкой. Случайностью. Ничего серьезного с его стороны. Это больше не повторится. Констанция – его истинная любовь. Ведь она сама знает, что они предназначены друг для друга!
Это было низко со стороны Гэвина, и Констанция так ему и сказала. Неужто у него нет ни совести, ни чести? Неужто ему не стыдно быть приживальщиком, пиявкой, ленивым эгоистом? Гэвин поначалу был шокирован таким решительным отпором некогда кроткой лунной девы, но собрался с сарказмом и заявил, что она чокнутая, стихи ее – полная херня, минет она делать вообще не умеет, ее дурацкая Альфляндия – жеваная кашка для младенцев, и лично у него в дырке от жопы больше таланта, чем во всех ее крохотных мозгах, больше похожих на пуховку для пудреницы.
Вот тебе и истинная любовь.
Но Гэвин так и не понял, что такое Альфляндия. Она – опасное место, и да, в каких-то отношениях нелепое, но не гнусное. У ее жителей есть определенные понятия о чести и совести.
Поэтому Марджори не попала в бочонок в той же винодельне, куда Констанция определила Гэвина. Нет, Марджори, обездвиженная руническими чарами, заточена в каменном улье, принадлежащем Френозии Благоуханные Усики. Это богиня восьми футов росту, с фасеточными глазами и телом, покрытым крохотными золотыми волосками. К счастью, она дружит с Констанцией и всегда рада помочь ей в обмен на различные заклинания для власти над насекомыми, которые Констанция поставляет ей в изобилии. Поэтому раз в сутки, ровно в полдень, в Марджори впиваются жала ста изумрудно-индиговых пчел. Словно раскаленные добела иглы, омоченные в настое жгучего перца, – мучения Марджори неописуемы.
Во внешнем же мире Марджори рассталась с Гэвином и «Пароходом» и пошла учиться бизнесу, а потом поступила на какую-то работу в рекламное агентство. Об этом Констанции донес «телеграф джунглей». Последний раз Констанция видела Марджори, когда та вышагивала по Блуру в бежевом деловом костюме с подкладными плечами. Это было в восьмидесятых. Костюм был неописуемо безобразен, как и подходящие к нему неуклюжие туфли-говнодавы.
Марджори, впрочем, Констанцию не видела. Или притворилась, что не видит. Ну и хорошо.
В мозгу Констанции, где-то в самой глубине, подшита в папочке другая версия встречи – там Констанция и Марджори узнают друг друга, приветствуют криками восторга, отправляются пить кофе и ужасно ржут над Гэвином, его стихами и его пристрастием к минетам. Но этого так и не случилось.
Констанция спускается по тропе, идет по мосту, освещенному тусклыми яйцевидными фонарями, и входит в темный лес. Т-с-с! Здесь надо ступать бесшумно. Вот впереди появляется дорожка из золы. Пришла нужда в заклинании. Констанция печатает:
Десница Времени тяжела, Уничтожит твои дела. Увидишь, что все – зола, Когда все истлеет дотла.Она решает, что это не годится – это просто стихи, а не заклинание. Попробуем еще раз. Может, поменять золу на пепел?
Норг, Смизерт, Цурпей, Сияющий Тельдарим, Пепел да будет сей Безвреден и недвижим. Лиловою кровью…Тут звонит телефон. Это оказывается один из мальчиков – тот, который живет в Париже. Точнее, его жена. Они видели по телевизору, что в Торонто ледяной дождь, и беспокоятся за Констанцию. Хотели убедиться, что с ней все в порядке.
Она спрашивает, сколько у них там времени. Почему они так поздно не спят. Конечно, с ней все в порядке! Немножко льда на улице, ничего страшного. Она велит им ложиться спать и просит поцеловать за нее внуков. У нее все хорошо.
Она торопится повесить трубку, досадуя, что ей помешали работать. Теперь она забыла имя божества, чья лиловая кровь должна помочь в данном случае. К счастью, здесь же в компьютере у нее есть список всех божеств Альфляндии с атрибутами и текстом соответствующих заклинаний. По алфавиту, чтобы легче было искать. За годы список сильно разросся. Ей пришлось придумать дополнительных богов для мультсериала, который вышел десять лет назад, и еще одну партию богов – крупных, страшных, особо злобных – для видеоигры, которую вот-вот должны выпустить. Знай она в самом начале, что Альфляндия продержится так долго и будет иметь такой успех, спланировала бы ее получше. Но вышло иначе, и Альфляндия расползлась бесконтрольно, как пригороды мегаполиса.
Более того, она бы даже не назвала свою волшебную страну Альфляндией. Слишком напоминает эльфов, хотя на самом деле Констанция имела в виду кольриджевский Альф, поток священный, что бежит сквозь мглу пещер гигантских, пенный, и впадает в сонный океан[2]. И еще альфу, первую букву греческого алфавита. Однажды нахальный молодой журналист, желая выпендриться, спросил у нее в интервью, не оттого ли ее «сконструированный мир» называется Альфляндией, что в нем так много альфа-самцов. Она ответила на это смешком – особым, с сумасшедшинкой: она выработала его для защиты, когда нахальные молодые журналисты решили, что так и быть, она стоит того, чтобы взять у нее интервью. Тогда пресса как раз заинтересовалась определенными книгами, которые потом объединили в один жанр. Во всяком случае, теми, что имели коммерческий успех.
– О нет, – ответила она журналисту. – Не думаю. Точно не альфа-самцы. Название как-то само возникло. Может быть… я всегда любила мюсли «Альфин», может, это в их честь?
В интервью она неизменно выходит пустоголовой дурой, поэтому интервью она больше не дает. И съезды любителей фантастики тоже не посещает. Хватит с нее подростков, одетых кроликами, вампирами и персонажами сериала «Звездный путь», а особенно – отборными злодеями из Альфляндии. Честно, она не вынесет еще одной неумелой имитации Милзрета Красной Руки – очередного розовощекого юнца в поисках своего внутреннего злодея.
Еще она не желает присутствовать в социальных сетях, несмотря на постоянные увещевания издателя. Сотрудники издательства твердят ей, что так можно повысить продажи книг про Альфляндию и разных товаров по франшизе. Но это Констанцию не убеждает. Зачем ей дополнительные деньги? На что? Эвана деньги не спасли. Она все оставит мальчикам, как и ожидают их жены. Общаться с поклонниками ее творчества она тоже не желает: она уже и так знает о них слишком много, об их пирсингах, татуировках и нездоровой фиксации на драконах. А самое главное, она не хочет их разочаровывать. Они ожидают увидеть статную колдунью с волосами цвета воронова крыла, заколотыми в узел стилетом, со змеиным браслетом выше локтя, а увидят хрупкую, как бумажная фигурка, бывшую блондинку с тихим голосом.
Она как раз открывает папку «Альфляндия» на компьютере, чтобы свериться со списком богов, когда Эван кричит очень громко, прямо ей в ухо: «Выключи!»
Она подскакивает.
– Что такое? Что выключить?
Может, она опять забыла про газ под чайником? Но она не ставила чайник!
«Выключи! Альфляндию выключи! Сейчас же!»
Должно быть, он имеет в виду компьютер. Она в испуге смотрит через плечо – там только что был Эван! – и щелкает кнопку «Завершить работу». Как раз когда экран темнеет, раздается тяжелый глухой удар и свет гаснет.
Весь свет. Даже фонари на улице. Откуда Эван знал? Может, он теперь видит будущее? Раньше не видел.
Она ощупью спускается по лестнице и пробирается по прихожей к парадной двери. Осторожно ее открывает. В правой стороне, в соседнем квартале, виден желтый свет. Должно быть, дерево упало на провода и обесточило ее квартал. Одному небу известно, когда это починят: такое наверняка творится по всему городу.
Где она бросила фонарик? Он у нее в сумке, а сумка на кухне. Констанция пробирается на кухню, шаркая ногами и шаря вокруг себя. Роется в сумке. Батарейки фонарика почти сели, но света хватает, чтобы зажечь две свечи.
«Перекрой вентиль в водопроводе, – говорит Эван. – Ты знаешь, как это делать, я тебе показывал. Потом открой кран на кухне. Нужно слить воду, иначе трубы полопаются».
Таких длинных речей он давно не произносил. У нее становится тепло на сердце: он о ней по-настоящему заботится.
Разобравшись с трубами, она собирает охапку вещей для теплоизоляции – перину с кровати, подушку, чистые шерстяные носки и плед – и делает себе гнездо перед камином. Потом разводит огонь. В качестве меры предосторожности она закрывает камин сеткой – еще не хватало загореться среди ночи. На сутки дров не хватит, но она хотя бы дотянет до рассвета, не замерзнув насмерть. Такой дом не может выстыть полностью всего за несколько часов. Утром она подумает, что делать дальше. А может, к тому времени и снежная буря уже кончится. Констанция задувает свечи – с огнем надо осторожно.
Она сворачивается клубочком под периной. В камине мерцает пламя. Ей удивительно уютно – во всяком случае, сейчас.
«Отлично, – говорит Эван. – Молодец, девочка моя!»
– Ах, Эван, – произносит Констанция. – Я точно твоя девочка? И всегда была твоей девочкой? У тебя точно никогда никого не было на стороне?
Ответа нет.
След из золы ведет через лес, поблескивая в свете луны и звезд. Что она забыла? Что-то не так. Она выходит из-под лесной сени и оказывается на обледенелой мостовой. Это улица, где она живет уже двадцать лет; вот ее дом, ее и Эвана.
Этому дому не место здесь, в Альфляндии. Что-то неправильно. Все неправильно. Но она все равно идет по дорожке из золы, поднимается на крыльцо и входит в дверь. Ее обхватывают руки в черных рукавах. Тренчкот. Это не Эван. Губы прижимаются к ее шее. Давно забытый вкус. Она так устала, она теряет волшебную силу; она чувствует, как эту силу из нее вытягивают через кончики пальцев. Как Гэвин сюда попал? Почему он одет как похоронных дел мастер? Она со вздохом падает к нему в объятия и, не издав больше ни звука, опускается на пол…
Ее будит утренний свет, струящийся через окно, – стекло покрыто слоем льда. Все тело застыло от спанья на полу.
Ну и ночка. Кто бы подумал, что в ее возрасте она еще способна на такие яркие эротические сны? Да еще с Гэвином! Какой идиотизм. Она его даже не уважает. Как он умудрился выбраться из метафоры, в которой она его заточила на долгие годы?
Она открывает парадную дверь и, щурясь, выглядывает на улицу. Солнце сияет, стрехи дома обросли сверкающими сосульками. Кошачий наполнитель на ступеньках крыльца превратился в кашу; скоро там будет слой мокрой глины и лужи талой воды. Улица повержена в хаос: везде валяются отломанные ветки и все покрыто слоем льда толщиной сантиметров пять. Зрелище потрясающее.
Но в доме холодно и становится все холоднее. Придется выбраться в это огромное ослепительное пространство, чтобы купить еще дров, если получится. А может, удастся найти какое-нибудь убежище – церковь, кофейню, ресторан. Место, где есть свет и отопление.
Но это значит – покинуть Эвана. Он останется в доме один. Это нехорошо.
На завтрак у нее ванильный йогурт – прямо из пластикового стаканчика. Пока она ест, Эван сообщает о своем прибытии. «Возьми себя в руки», – объявляет он.
Она не понимает, что он хочет этим сказать. Почему она должна взять себя в руки? Она вовсе не распадается на куски, а просто завтракает.
– Эван, что ты имеешь в виду? – спрашивает она.
«Разве нам плохо было вместе? – Голос почти умоляющий. – Почему ты решила все испортить? Кто этот человек?»
Последние слова звучат уже враждебно.
– О ком ты? – спрашивает она. Ее охватывает дурное предчувствие. Ведь не может быть, что у Эвана есть доступ в ее сны?
«Констанция! – упрекает она себя. – Соберись. Почему бы ему не иметь доступ в твои сны? Ведь он и существует только у тебя в голове!»
«Ты знаешь, о ком я! – не отстает Эван. Голос раздается у нее за спиной. – Этот человек!»
– Мне кажется, ты не имеешь права задавать мне такие вопросы, – она оборачивается, но за спиной никого нет.
«Почему? – Голос Эвана слабеет. – Возьми себя в руки!»
Уж не тает ли он?
– Эван, у тебя в самом деле тогда была интрижка? – спрашивает она. Раз уж он решил выяснять отношения, то и она ответит тем же.
«Не меняй тему! Разве нам плохо было вместе?»
Голос стал какой-то жестяной, механический.
– Это ты вечно меняешь тему! – говорит она. – Скажи мне правду. Тебе все равно уже нечего терять, ты умер.
Вот это она зря сказала. Она вообще все сделала не так. Надо было его подбадривать и уверять в своей любви. И слова на «у» не стоило говорить, оно само выскочило, потому что она рассердилась.
– Нет, нет, я не то хотела сказать! – восклицает она. – Эван, прости, ты на самом деле вовсе не…
Поздно. Раздается едва слышный, крохотный взрыв: «пфф». И тишина. Эван исчез.
Она ждет. Тишина.
– Хватит дуться! Возьми себя в руки!
Она злится на него, но быстро остывает.
Она выходит на улицу, купить еды. Один тротуар какая-то заботливая душа посыпала песком. О чудо! Мелочная лавочка на углу открыта – там есть электрогенератор. Внутри она видит других людей, закутанных в теплое, – они тоже остались без света. Женщина с крашеными волосами и татуировкой воткнула в сеть медленноварку и подогрела суп. Она продает кур гриль, порезанных на куски, чтобы всем хватило.
– Вот и вы, милочка, – говорит она, увидев Констанцию. – Я за вас беспокоилась!
– Спасибо, – отвечает Констанция.
Она отогревается, ест курицу и суп, слушает рассказы других о том, как они выживали в ледяную бурю. На волосок от гибели, злоключения, спаслись только находчивостью. Они рассказывают друг другу о том, как им повезло, и спрашивают, не нужна ли помощь. Здесь тепло, люди дружелюбны, но Констанция не может остаться надолго. Надо идти домой, Эван ждет.
Вернувшись, она крадется по холодному дому из комнаты в комнату и тихо зовет, словно перепуганную кошку:
– Эван, вернись! Я тебя люблю!
Собственный голос отдается эхом у нее в голове. Наконец она поднимается по лестнице на чердак и открывает сундук с нафталином. Там только одежда. Она лежит – плоская, неподвижная. Где бы ни был Эван, здесь его точно нет.
Она всегда боялась задать ему этот вопрос – была ли у него любовница. Она не дура и видела, что муж ей изменяет, только не знала с кем. От него пахло этой женщиной. Но она боялась, что Эван может ее бросить так же, как когда-то Гэвин. Этого она точно не пережила бы.
И вот теперь он ее бросил. Умолк. Ушел.
Но пусть он ушел из этого дома – он не мог уйти из этого мира, во всяком случае целиком. Этому Констанция никогда не поверит. Где-то он должен быть.
Нужно сосредоточиться.
Она входит в кабинет, садится в компьютерное кресло Эвана, смотрит на пустой экран компьютера. Эван хотел спасти Альфляндию – ведь иначе ее могло выжечь скачком напряжения в сети. Вот он и приказал Констанции выключить компьютер. Но почему? Он не вхож в Альфляндию, он втайне злился на ее успех, считал ее глупостью и стыдился ее интеллектуального убожества. Хоть он и смирился с поведением жены, ему было неприятно, что она уходит в Альфляндию с головой. А ему было нельзя туда, жена закрыла ему доступ в мир, который принадлежал только ей. Невидимые решетки преграждали вход. Она его никогда туда не пускала за все время, что они знакомы. Ему туда хода нет.
А вдруг есть? Может, и есть. Может, законы Альфляндии больше не действуют, заколдованная зола сделала свое дело, древние заклинания разрушены. Потому и Гэвин смог сорвать крышку с бочонка и явился к Констанции домой. А раз уж Гэвин выбрался из Альфляндии, вполне логично, что Эван смог туда попасть. А может, его туда втянуло – ну хотя бы стремление к запретному.
Да, наверняка туда он и ушел. Прошел через портал в стене с башенками, и теперь он там. Бредет по вьющейся сумеречной дороге, идет по залитому лунным светом мосту, входит в притихший зловещий лес. Скоро он дойдет до распутья дорог, на которое легла тень, и куда свернет? Он же не будет знать, куда идти. Он заблудится.
Он уже заблудился. В Альфляндии он чужак, не ведает ее опасностей. У него нет ни рун, ни оружия. Ни союзников.
Точнее, ни одного союзника, кроме нее.
– Эван, подожди меня! – восклицает она. – Стой на месте и жди меня!
Ей придется войти в Альфляндию и найти его там.
Призрак
Рейнольдс врывается в гостиную, таща две подушки. В незапамятные времена эти подушки, выпирающие из кольца рук, словно две огромные пухлые надувные груди, податливые, но упругие, напомнили бы Гэвину ее настоящие груди, скрываемые подушками, – тоже податливые, но упругие. Он бы изобрел какую-нибудь хитрую метафору – с упоминанием, например, двух пуховых перин, а дальше, по ассоциации, двух курочек, покорных топчущему их петуху. А может – если думать в сторону упругости, прыгучести, – два батута.
Сейчас, однако, эти подушки напоминают ему, помимо грудей, утрированно авангардную постановку «Ричарда III», которую он и Рейнольдс видели в парке прошлым летом. Это Рейнольдс потащила туда Гэвина; она сказала, что ему полезно отвлечься от рутины, побыть на воздухе, людей посмотреть и себя показать. Гэвин ответил, что охотно показал бы себя людям, но за такое можно и в полицию попасть, и Рей шутливо ткнула его локтем в бок со словами: «Фу, Гэви!» Она чрезмерно игрива и обожает вести себя так, будто Гэвин – непослушная собачка или кошечка. Он с горечью думает, что это не так уж и далеко от правды: конечно, он еще не начал гадить на ковер, портить мебель и скулить, требуя еды, но уже близок к тому.
На вылазку в парк Рейнольдс взяла с собой рюкзак с пластиковой подстилкой, парой пледов на случай, если Гэвин замерзнет, и двумя термосами – один с горячим какао, другой с «водкатини». Ее план был прозрачен: если Гэвин начнет брюзжать, накачать его спиртным, прикрыть пледами и надеяться, что он уснет и не помешает ей погрузиться в творение бессмертного барда.
Подстилка оказалась к месту – днем прошел дождь, и трава была сырая. Тайно надеясь, что дождь возобновится и можно будет пойти домой, Гэвин уселся на плед и заныл, что у него болят колени и что он хочет есть. Рейнольдс предвидела и то, и другое: она достала мазь RUB-A535 «с антифлогистеном» (одно из любимейших Гэвином бессмысленных словечек, сочиненных рекламщиками) и сэндвич с салатом из лосося. «Я не могу прочитать эту чертову программку», – буркнул Гэвин, хотя не очень-то и хотел. Рей сунула ему фонарик и лупу. Она, как правило, насквозь видит все его уловки.
– Как восхитительно! – сказала она старательно-жизнерадостным голосом. – Вот увидишь, тебе понравится!
Гэвин ощущает укол раскаяния: ее вера, что он способен получать удовольствие от жизни, очень трогательна. Она утверждает, что он это вполне может, надо только постараться. По ее мнению, беда в том, что у него очень негативный взгляд на жизнь. Они часто возвращаются к этой теме. Гэвин обычно отвечает: беда в том, что этот мир – говенное место. И лучше бы Рейнольдс направила свои усилия на его исправление, а не мужа пилила. А она парирует утверждением, что запах говна – в носу нюхающего, или иным заявлением в духе кантовского субъективизма (впрочем, эта женщина не поймет, что такое кантовский субъективизм, даже если он ей на голову свалится), и советует ему заняться буддистской медитацией.
И еще пилатес, она все время пристает к нему, чтобы он занялся пилатесом. Она уже даже инструктора нашла – девушку, готовую заниматься с ним один на один в виде большого исключения, из любви к его творчеству. Сама мысль об этом повергает Гэвина в ужас: чтобы аппетитная девица вчетверо моложе его, пышущая эстрогеном, выкручивала его тощие узловатые конечности, мысленно проводя сравнение с лирическим героем его стихов?! Сравнивая того покорителя сердец, находчивого остряка и неутомимого любовника, с этим мешком жил и костей? Взгляни сюда – вот два изображенья[3]. Почему это Рейнольдс так жаждет прикрутить его к дыбе – аппарату для пилатеса – и растягивать, пока он не лопнет, как пересохшая аптечная резинка?! Ей хочется, чтобы он страдал. Она хочет одновременно унижать его и упиваться тем, что она его облагодетельствовала.
– Хватит продавать меня поклонницам, – каждый раз отвечает он. – Завтра ты вообще привяжешь меня к стулу и будешь брать деньги за показ?
Парк кишел отдыхающими. В отдалении дети играли с летающей тарелкой, выли младенцы, лаяли собаки. Гэвин разглядывал программку. Претенциозная чушь, как всегда. Начало спектакля задерживалось; публике объяснили, что устраняют неполадку в осветительной системе. Появились комары; Гэвин начал от них отмахиваться; Рейнольдс достала репеллент. Какой-то дурак в алых легинсах и со свиными ушами на голове задудел в трубу, чтобы все заткнулись. Раздался небольшой взрыв, фигура в пышном елизаветинском воротнике бросилась к буфетному киоску – зачем? что могли забыть? – и представление началось.
В качестве пролога показали документальный фильм о том, как скелет Ричарда III выкапывают из-под автомобильной стоянки – такое на самом деле было, Гэвин видел в новостях. Это действительно был Ричард, его личность подтвердили анализом ДНК и многочисленных травм черепа. Фильм проецировали на кусок белой ткани, который выглядел как простыня, а скорее всего, и был простыней. «Ничего удивительного, учитывая, как нынче урезают бюджеты на искусство», – прокомментировал Гэвин вполголоса, обращаясь к Рейнольдс. Она в ответ двинула его локтем под ребра и шепнула: «Ты говоришь гораздо громче, чем тебе кажется».
Начитанный на пленку дикторский голос из громкоговорителя, прерывающийся треском – хромые ямбические пентаметры, стилизация под елизаветинцев – объяснил зрителям, что вся драма, которую они сейчас увидят, разворачивается у Ричарда в сильно пострадавшей голове после смерти. Камера наехала на глазницу черепа и влетела внутрь. Затемнение.
Тут простыню стремительно сдернули, и на сцене, в свете прожекторов, оказался Ричард, с набором коленец и острот наготове, с позами и угрозами. На спине у него был карикатурно огромный горб, обтянутый материей в красно-желтую полоску – цвета шутовского колпака. В программке объяснялось, что это отсылка к фигуре Панча, который сам восходит к итальянскому Пульчинелло; ибо, согласно концепции режиссера шекспировский «Ричард» создан по образцу комедии дель арте, и итальянская труппа, работающая в этом жанре, гастролировала по Англии как раз в то время. Горб сделали огромным специально: внутренняя сердцевина пьесы («в противоположность внешней сердцевине», фыркнул Гэвин про себя) во многом опиралась на реквизит. Он символизировал происходящее в подсознании Ричарда, и этим объяснялись преувеличенные размеры предметов. Вероятно, режиссер надеялся, что публика засмотрится на огромные троны, горбы и тому подобное, начнет гадать, что все это значит, и как-то отвлечется от того факта, что актеров совершенно не слышно.
Поэтому вдобавок к огромному разноцветному фаллически-символическому горбу Ричард был одет в королевский наряд с шестнадцатифутовым шлейфом. Шлейф носили за ним два пажа с огромными кабаньими головами, поскольку на гербе Ричарда фигурирует вепрь. Была на сцене и огромная бочка с мальвазией, чтобы утопить в ней Кларенса, и два меча длиной выше актерского роста. Сцена, где душат двух маленьких принцев в Тауэре, была без слов, как вставная пьеса в «Гамлете». На носилках выносили две огромные подушки, похожие на трупики жареных поросят; наволочки подушек были из той же материи, что обтягивала горб Ричарда, чтобы зрители уж точно не пропустили намек.
Смерть от пуха, думает Гэвин, разглядывая приближающиеся подушки в руках у Рейнольдс. Смерть от праха. Смерть от траха. Какая нелепая судьба. Рейнольдс в роли Первого Убийцы. Впрочем, это как-то подходит к его жизни, если хорошенько вдуматься. А Гэвин нынче только и делает, что обдумывает свою жизнь. Теперь у него есть на это время.
– Ты проснулся? – жизнерадостно спрашивает Рейнольдс, клацая по полу. На ней черный пуловер, перехваченный в талии серебряно-бирюзовым поясом, и джинсы в обтяжку. На бедрах с внешней стороны, кажется, нарастает жирок, но в целом они мощные и обтекаемые, словно у конькобежца. Может, сказать ей про жирок? Нет, лучше придержать до стратегического момента. А может, это и не жир вовсе. Она много времени проводит в спортзале.
– Даже если бы я спал, то сейчас точно проснулся бы, – говорит Гэвин. – Ты клацаешь, как деревянная железная дорога.
Он не любит эти сабо и неоднократно сообщал о том Рейнольдс. Они не украшают ее ноги. Но нынче ее уже не так волнует мнение мужа о ее ногах. Она говорит, что в сабо ей удобно и что удобство для нее важнее моды. Он пытался цитировать Йейтса (про то, что для женщин красота есть каждодневный труд[4]), но Рейнольдс – когда-то страстная поклонница Йейтса – ныне придерживается мнения, что Йейтс, конечно, имел право так думать, но он жил в ту пору, когда нравы были иные, и вообще давно помер.
Рейнольдс подпирает Гэвина подушками – одну под голову, другую под спину. Она утверждает, что такое расположение подушек помогает ему казаться выше и потому – внушительней. Она поправляет плед, которым прикрыты его ноги и который она зовет одеялком для тихого часа.
– Ну-ка, мистер Брюзга! – восклицает она. – Улыбнитесь!
Она теперь дает ему клички в соответствии с его настроем дня, или часа, или минуты; если верить ей, он сильно подвержен перепадам настроения. У нее на каждое есть соответствующий титул: мистер Брюзга, господин Засоня, доктор Остряк, сэр Сарказм, а иногда – если на нее саму находит саркастический (или, может быть, ностальгический) стих – сэр Романтик. Когда-то она прозвала его пенис «мистер Червячок», но то было давно; она уже махнула рукой на попытки воскресить давно умершее либидо мужа с помощью различных умащений и сексуальных снадобий со вкусом клубничного джема, бодрящего имбиря с лимоном или мяты, напоминающей о зубной пасте. Было у них и приключение с феном, которое Гэвину хотелось бы забыть.
– Уже без четверти четыре! – продолжает Рейнольдс. – Скоро придут гости, надо приготовиться!
Сейчас она достанет щетку для волос – хотя бы волосы у него остались от былой красоты, – а потом липкий валик для снятия ворса с одежды. Гэвин линяет, как собака.
– Кто на этот раз? – спрашивает он.
– Очень милая женщина, – отвечает Рейнольдс. – Девушка. Аспирантка. Она пишет диссертацию о твоей работе.
Она сама некогда писала диссертацию о его работе; здесь-то и таилась его погибель. Тогда ему чудовищно льстило, что привлекательная молодая женщина так любовно и внимательно перебирает его эпитеты.
Гэвин стонет:
– Диссертацию о моей работе, блин, оборони нас господь!
– Ну-ка, ну-ка, мистер Сквернослов, – упрекает его Рейнольдс. – Не будь врединой.
– За каким чертом эту ученую даму принесло во Флориду? Она наверняка идиотка.
– Флорида вовсе не такое захолустье, как ты все время твердишь. Времена переменились. Здесь теперь есть хорошие университеты и замечательный литературный фестиваль! На который приезжают тысячи людей!
– Охереть, я потрясен, – язвит Гэвин.
– Но вообще-то она не из Флориды, – Рейнольдс не обращает внимания на его сарказм. – Она прилетела из Айовы специально для того, чтобы взять у тебя интервью! Люди по всему миру пишут про твои книжки!
– Из Айовы, блин, – повторяет Гэвин. «Пишут про твои книжки». Иногда она изъясняется, как пятилетний ребенок.
Рейнольдс начинает работать липким валиком. Набрасывается на его плечи, потом игриво проезжается в области паха:
– Посмотрим, не запылился ли мистер Червячок!
– Ну-ка убери свои похотливые клешни от моих интимных мест, – говорит Гэвин. Ему хочется сказать, что, разумеется, мистер Червячок запылился, а может, и заржавел; чего же иного ждать, ведь она прекрасно знает, что мистер Червячок уже давно удалился на покой. Но Гэвин удерживается.
В закале ржа́веть, не сверкать в свершеньях[5], думает он. Теннисон. Улисс, везунчик, отправляется в последнее путешествие. По крайней мере, он умрет как мужчина, в сапогах, а не в домашних шлепанцах. Хотя греки не носили сапог. Это было одно из первых стихотворений, которые Гэвин вызубрил в школе. Оказалось, что он легко заучивает стихи наизусть. Стыдно признаться, но именно это подтолкнуло его к занятиям поэзией: Теннисон, вышедший из моды викторианский пустослов, и стихи о старике. Жизнь часто описывает круг и возвращается на прежнее место; по мнению Гэвина, это очень неприятная привычка.
– Мистеру Червячку нравятся мои похотливые клешни, – говорит Рейнольдс. Очень мило с ее стороны употребить глагол в настоящем времени. Когда-то это была их любимая игра: Рейнольдс в роли соблазнительницы, доминатриссы, женщины-вамп, а он – пассивная жертва. Ей, кажется, этот сценарий нравился, так что Гэвин подыгрывал. Теперь это больше не игра. Все игры остались в прошлом, и попытки их возобновить лишь испортят обоим настроение.
Вовсе не на это подписывалась Рейнольдс, когда выходила за него замуж. Наверняка она воображала бурную светскую жизнь, полную гламура, богемы и интеллектуально стимулирующих бесед. Впрочем, ей и этого досталось – в первую пору их брака. И последняя вспышка его иссякающих гормонов. Последний разрыв хлопушки, прежде чем она зашипит и погаснет. А теперь на руках у Рейнольдс осталась лишь выжженная оболочка. В минуты душевной слабости Гэвину становится жалко жену.
Наверняка она утешается на стороне. Он бы на ее месте поступал именно так. Куда она на самом деле ходит, когда якобы занимается в зале на велотренажерах или якобы посещает танцевальные вечера якобы с подругами? Он прекрасно может себе представить. И представляет. Раньше эти мысленные образы его терзали, но сейчас он созерцает возможные (да что там, практически наверняка реальные) измены с отстраненностью ученого-экспериментатора. Она имеет право утешаться на стороне, будучи на тридцать лет моложе его. У него, верно, больше рогов на голове, чем у сторогой улитки, как выразился бы бессмертный бард.
Так ему и надо, нечего было жениться на молоденькой. Так ему и надо, нечего было жениться на трех молоденьких подряд. Так ему и надо, нечего было жениться на своих аспирантках. Так ему и надо, нечего было жениться на командирше, самоназначенной распорядительнице его литературного наследия. Так ему и надо, нечего было жениться.
Но Рейнольдс хотя бы его не бросит, он в этом практически уверен. Она уже репетирует роль его вдовы и не захочет, чтобы труды пропали зря. Она собственница и досидит с ним до конца, чтобы не уступить ни одной из предыдущих жен ни кусочка наследства – литературного или какого иного. Она захочет распоряжаться его мифом, помочь писать его биографию, если таковая будет написана. И еще захочет оттереть от наследства его двоих детей, по одному от каждой из бывших жен. Впрочем, их уже нельзя назвать детьми – старшему пятьдесят один год (а может, пятьдесят два). Когда они были младенцами, Гэвин ими особо не интересовался. Они и их пастельные, пропитанные мочой аксессуары отнимали столько времени и отвлекали на себя столько внимания, которое по праву принадлежало ему. Оба раза он свалил еще до того, как ребенку исполнилось три года; поэтому дети к нему не слишком привязаны, да он их и не винит, ведь он и сам терпеть не может собственного папашу. Но все равно после похорон будет свара; Гэвин об этом позаботится, он специально тянет с составлением завещания. О, если бы он мог зависнуть в воздухе и понаблюдать за этой сценой!
Рейнольдс в последний раз проводит валиком, будто нанося завершающий мазок на картину.
– Вот, так-то лучше, – говорит она.
– Что это за девушка? Та, которая интересуется моими, как ты выражаешься, книжками. Надеюсь, у нее красивая попка.
– Прекрати, – говорит Рейнольдс. – Твое поколение свихнулось на почве секса. Мейлер, Апдайк, Рот – вся эта компашка.
– Они были старше меня.
– Ненамного. Секс, секс, секс – ни о чем другом и думать не могли! Не способны были удержать член в штанах!
– Что именно ты пытаешься сказать? – холодно спрашивает Гэвин. Он наслаждается этим разговором. – Что секс – это плохо? Ты вдруг записалась в ханжи? А о чем, по-твоему, мы должны были думать? О шопинге?
– Я пытаюсь сказать… – вынужденная пауза, она перегруппирует свои внутренние батальоны. – Ладно, согласна, шопинг – плохая замена сексу. Но faut de mieux[6]…
«Вот сейчас обидно было», – думает Гэвин.
– Faut de что? – переспрашивает он.
– Не притворяйся, ты все прекрасно понял. Я пытаюсь сказать, что попки далеко не главное в жизни. Эту женщину зовут Навина. И пожалуйста, отнесись к ней с уважением. Она уже опубликовала две работы, посвященные ранним годам «Речного парохода». Она очень способная. Я полагаю, она индийского происхождения.
«Индийского происхождения». Где Рейнольдс выкапывает эти архаичные обороты? Когда она пытается выражаться тонко, то выходит какой-то комический персонаж из пьес Уайльда.
– Навина, – повторяет он. – Звучит, как название сырной пасты. Или даже как название крема-депилятора.
– Совершенно не обязательно унижать людей, – говорит Рейнольдс, которая когда-то обожала его манеру унижать людей (по крайней мере, некоторых); по ее мнению, это значило, что он превосходит их интеллектуально и у него изысканный вкус. Теперь она считает, что это просто вредность характера или признак недостатка витаминов. – У тебя как будто примитивные рефлексы срабатывают! Унижая других, сам не возвысишься, знаешь ли. Навина – серьезный литературовед. У нее ученая степень магистра искусств.
– И красивая попка, иначе я с ней разговаривать не буду, – отвечает Гэвин. – Нынче каждый недоумок – магистр. Они как попкорн.
Он каждый раз устраивает одну и ту же сцену – каждый раз, когда Рейнольдс притаскивает очередного поклонника его творчества, очередного соискателя ученой степени, очередного раба из соляных копей науки. Ведь должен же он хоть что-то ей устраивать.
– Попкорн? – переспрашивает Рейнольдс. Гэвин на миг теряется – что же он имел в виду?
Он набирает воздух в грудь:
– Крохотные зернышки. Перегретые в академическом котле. Горячий воздух расширяется. Пуф! И вот вам новый магистр.
Неплохо, думает он. И притом правда. Университеты нуждаются в деньгах и потому заманивают все новых доверчивых детишек. И превращают их в раздутые горячим воздухом шарики перегретых углеводов. Для такого количества гуманитариев просто не существует рабочих мест. Уж лучше стать подмастерьем водопроводчика.
Рей смеется, но с оттенком горечи – у нее у самой степень магистра искусств. Потом она хмурится.
– Радоваться надо. – Сейчас последует выговор, шлепок свернутой газетой. – Фу, Гэви! Скажи спасибо, что тобой еще кто-то интересуется. Молодая женщина! Иные поэты душу бы продали за такое. Шестидесятые сейчас в моде – тебе повезло. По крайней мере, ты не можешь пожаловаться, что тебя забыли.
– Когда я на это жаловался? Я вообще никогда не жалуюсь!
– Еще как жалуешься, причем на все подряд.
Она дошла до точки, дальше заходить не стоит. Но он продолжает напирать:
– Зря я не женился на Констанции.
Это его козырной туз – шмяк на стол! Эти слова обычно, как по волшебству, вызывают вспышку гнева и порой даже слезы. Лучшим результатом у Гэвина считается, если она выбегает, хлопнув дверью. Или швыряет чем-нибудь. Однажды чуть не пристукнула его пепельницей.
Рейнольдс улыбается:
– Ну так ты на ней не женился. Ты женился на мне. Так что выкуси.
Гэвин на миг теряется. Она играет в непроницаемость.
– Ах, если бы я мог! – восклицает он.
– Ну да, вставными зубами кусаться трудно, – язвит Рейнольдс. Она может быть настоящей стервой, если ее довести. Гэвин восхищается этой чертой, порой даже против своей воли, если стервозность обращена на него. – А сейчас я пойду заваривать чай. Будешь плохо себя вести, когда Навина придет, – не получишь печеньку.
Насчет печеньки – это шутка, попытка разрядить атмосферу, но Гэвина слегка тревожит то, что угроза лишить сладкого пугает его всерьез. Ему не дадут печеньку! Его охватывает отчаяние. Кроме того, у него текут слюни. Господи, до чего он докатился! Скоро будет, как собачка, сидеть на задних лапках, выпрашивая вкусняшку.
Рейнольдс удаляется на кухню, а Гэвин остается на диване, любуясь пейзажем – уж какой есть. Синее небо в панорамном окне. Окно выходит в обнесенный сеткой дворик, на котором растет пальма. И еще джакаранда. Или это плюмерия? Он не знает – дом не их, арендованный.
Еще во дворе есть бассейн, но Гэвин там никогда не купается, хотя бассейн с подогревом. Рейнольдс иногда погружается туда рано утром, когда Гэвин еще спит, – во всяком случае, по ее словам. Она любит тыкать ему в нос доказательствами своей хорошей физической формы. С джакаранды, или как ее там, в бассейн падают листья. И с пальмы – тоже, похожие на шипы. Они плавают на поверхности, медленно кружась в воронке от циркуляционного насоса. Трижды в неделю приходит девушка и вылавливает листья сачком на длинной ручке. Девушку зовут Мария. Она школьница, старшеклассница; ее услуги включены в арендную плату за дом. Она отпирает своим ключом садовую калитку и входит, бесшумно ступая резиновыми подошвами туфель по скользким плиткам двора. У нее длинные темные волосы и прелестная талия. Возможно, она мексиканка – Гэвин не знает, поскольку никогда с ней не разговаривал. Она всегда ходит в джинсовых шортах – голубых или синих – и наклоняется, прямо в этих шортах, чтобы выуживать из воды листья. Лицо – когда оно видно Гэвину – бесстрастное, почти торжественное.
Ах, Мария, вздыхает он про себя. Омрачена ли твоя жизнь бедами? Если и нет, то скоро будет. Какая у тебя аккуратная попка. Когда такой виляют – любо-дорого посмотреть.
Видит ли она, как он наблюдает за ней через панорамное окно? Скорее всего, да. Считает ли его похотливым старым козлом? Вполне возможно. Но назвать его так было бы не вполне справедливо. Как передать обуревающую его смесь тоски, мечты о несбыточном, приглушенных сожалений? Сожалений о том, что он вовсе не похотливый старик, но хотел бы им быть. Хотел бы все еще мочь им быть. Как описать восхитительный вкус мороженого, когда сам ты уже не в силах его ощутить?
Он сочиняет стихотворение, которое начинается словами: «Мария ловит умирающие листья…» Хотя, строго говоря, эти листья не умирают, а уже умерли.
Звонят в дверь, и Рейнольдс, клацая, идет открывать. Из прихожей доносятся звуки женских приветствий, приглашения войти и прочие курлыканья и воркованья, по нынешней моде. Женщины согласно ахают, словно лучшие подруги, хотя видятся впервые в жизни. Все переговоры проходили по электронной почте, которую Гэвин презирает. А зря, между прочим: он сделал ошибку, передоверив свою корреспонденцию Рейнольдс и тем самым вручив ей ключ от королевства. Теперь она сторожит вход в царство его, Гэвина. Никто не войдет против ее воли.
– Он прикорнул после обеда, – говорит Рейнольдс насмешливо-почтительным тоном, в который всегда соскальзывает, демонстрируя его кому-нибудь. – Может быть, вы хотите сначала взглянуть на его кабинет? Место, где он работает?
– Ахаааа, – восклицает второй голос. Вероятно, это означает восторженное согласие. – Если это не сложно.
Уже две пары подкованных ножек клацают по коридору.
Слышится голос Рейнольдс:
– Он не может писать на компьютере. Ему обязательно нужно использовать карандаш. Он говорит, что координация руки с мозгом очень важна.
– Потрясно, – отзывается Навина.
Гэвин пламенно ненавидит свой кабинет. Этот, временный. А еще больше ненавидит свой постоянный кабинет в их доме, в Британской Колумбии. Интерьер оформляла сама Рейнольдс – стены выкрашены в цвет сырой печенки и расписаны цитатами из самых затасканных по антологиям стихов Гэвина, белой краской. Так что он вынужден сидеть среди нескудеющих высот собственного былого искусства[7], где в воздухе плавают ошметки украденных у вечности шедевров, которыми он когда-то восхищался: осколков изящных ваз, невнятных отголосков чужой мудрости.
Рейнольдс же содержит оба его кабинета словно святилища, где он – идол. Она устраивает целое представление, точа ему карандаши и перехватывая мешающие телефонные звонки. Она запирает его в кабинете, а потом расхаживает по дому на цыпочках, словно он при смерти. И в итоге он не может выдавить из себя ни слова. Он не может перепрясть солому в золото, во всяком случае, сидя в этом мавзолее, в который она превратила его кабинет. Румпельштильцхен, злобный карлик, чей облик ныне приняла муза Гэвина, где-то мешкает и не идет. Потом наступает время обеда, и Рейнольдс с надеждой взирает на него через стол и спрашивает: «Ну как?» Она ужасно гордится тем, что так ревностно блюдет его творческий покой, способствует приливу поэтических соков и предоставляет ему, как она выражается, «время творить». У него недостает духу объяснить ей, что он сух, как мертвая кость.
Нужно выбраться отсюда; хотя бы из кабинета, из обоих кабинетов, пропитанных пустынной сушью мумифицированных страниц. В шестидесятых, живя с Констанцией в душной квартирке, где они прели, как фрукты в компоте, без денег и тем более – фу-ты ну-ты – собственного кабинета, он писал где попало – в барах, в кафе, в забегаловках фастфуда – и слова лились из него потоком, вытекая через шариковую ручку или карандаш куда придется: на конверты, бумажные салфетки. Расхожий штамп, но тем не менее правда.
Как вернуться в былые дни? Как вернуть былое?
Клацанье приближается.
– Вот сюда, пожалуйста, – говорит Рейнольдс.
Навину впускают в гостиную. Она прелестная миниатюрная красотка, почти дитя. Огромные застенчивые черные глаза. Серьги в форме осьминогов. «У вас морские гады в ушах», – сказал бы он, если бы кадрил ее в баре, но сейчас не рискнет.
– О, прошу вас, не вставайте, – говорит она, но Гэвин устраивает целое представление, с огромным трудом поднимаясь на ноги, чтобы пожать ей руку. И задерживает ее пальцы в своих – специально – чуть дольше положенного.
Рейнольдс приспичивает переложить подушки у него за спиной – теперь она играет роль умелой сиделки. Что будет, если схватиться, как за рычаг, за обтянутую черным пуловером грудь, которой тычут ему в глаз, и опрокинуть Рейнольдс на спину, подобно черепахе? Веселым, бодрым ухажером[8]. Вопли, скандал, срывание покрова пищевой пленки с миски объедков, оставшихся от их брака, перед завороженной аудиторией из одного человека. Может, получится избежать этого убогого интервью?
Но он не хочет его избегать. Пока, во всяком случае. Иногда ему удается получить удовольствие от этих мучительных противостояний. Он с наслаждением заявляет, что не помнит, как писал этот бессвязный набор слов (о чем бы ни шла речь). Он обожает смешивать с дерьмом стихи, которые эти сентиментальные детишки называют в качестве своих любимых: «Мусор, чепуха, бред!» Он любит рассказывать небылицы о своих давних приятелях-поэтах, былых соперниках. Те по большей части мертвы, так что им его россказни не повредят. Впрочем, его это и не остановило бы.
Рей сажает Навину в кресло, откуда открывается самый лучший вид на Гэвина.
– Встреча с вами для меня огромная честь, – говорит она вполне почтительно. – Вам покажется, наверно, что я книжный червяк, но у меня такое чувство, что я с вами уже знакома. Наверно, это потому, что я изучала ваши труды и все такое.
Хоть она индийского происхождения, но у нее чистейший выговор уроженки среднезападных штатов.
– Значит, у вас передо мной преимущество, – говорит Гэвин. Он ухмыляется, как тролль – такая ухмылка хорошо сбивает гостей с панталыку.
– Что-что? – теряется Навина.
– Он хочет сказать, что вы уже много знаете о нем, а он о вас ничего, – Рейнольдс по обыкновению встревает в разговор. Она захватила должность переводчика при нем; пифии, толкующей темные по смыслу изречения оракула. – Может быть, вы расскажете ему, над чем сейчас работаете? Над какой из его книжек? А я пока пойду заварю чаю.
– Я весь обратился в слух, – говорит Гэвин, удерживая на лице ухмылку.
– Смотри не укуси ее. – Рейнольдс удаляется, передернув на прощание тугими джинсами. Хорошая финальная реплика: возможность укуса, обоюдоострая, неопределенная в части места и целей, повисает в воздухе, как запах. С чего бы он начал, если бы ему в самом деле дали укусить? Возможно, легонько прихватил бы зубами шейку с затылка?
Безнадежно. Даже эта мысленная картина его не возбуждает. Он подавляет зевок.
Навина возится с миниатюрным устройством, потом кладет его на кофейный столик перед Гэвином. Ее мини-юбка съехала вверх, открывая узор чулок, похожий на кружевные занавески, выкрашенные черным. Навина обута в сапожки с металлическими заклепками, на мучительно высоких каблуках. Гэвину больно даже смотреть на них. Наверняка пальчики ее ног сдавлены так, что превратились в клинышки. Как перебинтованные ступни китайских женщин на старинных фото цвета сепии. Гэвин читал, что такие ножки возбуждали мужчин. Что те вводили своих «мистеров Червячков» во влажное отверстие, образованное согнутыми, сломанными, прижатыми к подошве пальцами. Лично он этого не понимает.
Волосы у нее собраны в узел на затылке, как у балерины. Узел волос – это очень сексуально. Когда-то он с наслаждением разбирал такие узлы, словно разворачивая подарок. Женская головка с волосами, собранными сзади в узел, выглядит так элегантно, так компактно, так девственно; а потом эти волосы можно расплести, растрепать, выпустить на свободу, рассыпать по плечам, по грудям, по подушке. Он мысленно составляет список: «Узлы волос, которые я знал».
Констанция не собирала волосы в узел. Ей это было не нужно. Она сама была как узелок: аккуратная, компактная, а потом, когда вырывалась на свободу – необузданная. Его первая сожительница, как Ева у Адама. Первая бывает только одна. С каким замиранием сердца он ждал ее прихода в их тесном, душном раю с электроплиткой и электрочайником! И она приходила, вносила в комнату свое гибкое, но пышное тело с отстраненной, контрастирующей головой: лицо бледное, как убывающая луна, невесомые прядки разбегаются в стороны, как лучи, и он заключал ее в объятия и вонзал зубы ей в шею.
Ну не то чтобы прямо вонзал, конечно, но очень хотелось. Еще и потому, что тогда он все время был голоден, а от нее пахло жареными курами «Снаффи». А она обожала его и таяла в его объятиях, как теплый мед. Она была такая податливая. Он мог сложить ее в любую позу, сделать с ней все, что пожелает, и она отвечала «да». И не просто «да», а «Да, о да!!!».
Любил ли его хоть кто-нибудь еще вот так – чистым, простым обожанием безо всяких задних мотивов? Ведь тогда он не был знаменит – даже в узком кругу собратьев-поэтов. Он еще не завоевал ни одной премии, не опубликовал ни одного увенчанного лаврами и осыпанного похвалами тонкого томика. Он был свободен, поскольку был никем – будущее разворачивалось впереди, как пустой свиток, пиши что хочешь. Она обожала его просто за то, что он – это он. Его внутреннюю сердцевину.
– Так бы и съел тебя, – говорил он Констанции. – М-м-м, р-р-р, р-р-р. О да!
– Простите, что? – произносит Навина.
Он рывком возвращается в настоящее. Неужели он говорил вслух? Нямкал, рычал? Но если и так, что с того? Он заработал это право. Может издавать любые звуки, какие пожелает.
Но тише! Здесь прекрасная Навина. О, помяни мои стихи в своих глоссариях, нимфа[9]. Надо сказать что-нибудь более близкое к реальности.
– Вам удобно в этих сапожках? – заботливо спрашивает он. Лучше начинать постепенно; дать ей поговорить о чем-то знакомом, прежде чем речь пойдет о недоступных для нее материях.
– Что? – растерянно переспрашивает Навина. – Сапожки?
Да неужто она покраснела?
– Они не сдавливают вам пальцы? Они очень модные на вид, но как вы в них ходите?
Он хотел бы попросить ее встать и пропорхать по комнате – одна из функций высоких каблуков состоит в том, что женщина на каблуках отставляет попу назад, а груди вперед, придавая телу колдовской змеиный изгиб. Но он не рискнет попросить об этом Навину. В конце концов, они совершенно незнакомы.
– А, – говорит Навина. – Эти. Да. Они очень удобные, хотя, наверно, их не стоит носить, когда на тротуарах лед.
– Здесь не бывает льда на тротуарах, – говорит Гэвин. Похоже, эта нимфа не блещет умом.
– О нет, нет, не здесь. Ну то есть мы ведь во Флориде, ведь так? Я имею в виду – там, дома. – Она нервно хихикает. – Лед.
В последние дни Гэвин, смотря погоду по телевизору, с интересом наблюдал за полярным вихрем, охватившим север, восток, центр континента. Он видел фотографии снежных бурь, ледяного дождя, перевернутых машин и переломанных деревьев. Должно быть, Констанция сейчас там, в самом глазу этой снежной бури. Он представляет себе, как она тянет к нему руки, одетая лишь в снежные вихри, и от нее струится неземное сияние. Его леди лунного света. Он забыл, почему они расстались. Какая-то мелочь – непонятно, с чего Констанция так расстроилась. Он переспал с другой женщиной. Мелани? Меган? Марджори? Для него это ничего не значило – она практически сама на него прыгнула. Он пытался объяснить это Констанции, но та отказалась входить в его положение.
Отчего они не остались вдвоем навсегда? Он и Констанция, солнце и луна, оба сияют, но по-разному. Но нет, он теперь здесь, брошенный, покинутый ею. В скупом времени. В неласковом пространстве.
– Да, мы во Флориде. О чем вы вообще? – резко спрашивает он. Что она болтает, эта Навина?
– Здесь не бывает льда, – испуганный тоненький голосок.
– Да, конечно, это правда, но ведь вы скоро возвращаетесь домой, – надо ей показать, что он прекрасно понимает, где он и что вокруг происходит. – Домой, в… где вы живете? Индиану? Айдахо? Айову? Там бывает очень много льда! Поэтому, если будете падать, не выставляйте вперед руку.
Он переходит на отеческий, наставительный тон.
– Старайтесь приземлиться плечом. Иначе можно сломать запястье.
– О, спасибо, – говорит Навина. Воцаряется неловкая пауза. – Можно, мы теперь поговорим о вас? И ну, вы знаете, о вашей, ну, работе… о тех временах, когда вы творили свои ранние… творения. У меня тут диктофон – вы не возражаете, если я его включу? И еще я привезла видеоклипы, которые мы, может быть, можем вместе посмотреть, и вы мне все расскажете о… о том, кто… о контексте. Если вы не возражаете.
– Валяйте, – говорит он, откидываясь на подушки. Где черти носят Рейнольдс? Где его чай? И печенька. Он ее честно заработал.
– Ну хорошо… Вот… я занимаюсь… пожалуй, это можно назвать эпохой «Речного парохода». Серединой шестидесятых. Когда вы написали тот цикл стихов, «Сонеты для моей леди».
Теперь она возится еще с какой-то электронной штукой. Как это называется… планшетом. Рейнольдс только что купила такой, зеленый. У Навины он красный, с хитрой треугольной подставкой.
Гэвин в деланом смущении прикрывает глаза рукой:
– Не напоминайте. Сонеты, эта дилетантская чепуха! Дряблая, типичная для начинающего. Мне было всего двадцать шесть. Может, поговорим о чем-нибудь более существенном?
На самом деле эти сонеты вполне заслуживают внимания. Во-первых, потому, что они были сонетами лишь по названию – какая смелость с его стороны! – а во-вторых, потому, что они проложили новые пути в поэзии и раздвинули границы языка. Во всяком случае, так гласила рецензия на последней странице обложки. Как бы там ни было, этот сборник принес ему первую в жизни поэтическую премию. Гэвин притворялся, что к премии равнодушен и даже презирает ее – в конце концов, что такое все эти премии, как не жалкая попытка буржуазного истеблишмента контролировать людей искусства? – но деньги по чеку все же получил.
– Китс умер в двадцать шесть лет, – строго отвечает Навина, – а посмотрите, чего он успел достичь!
Туше! Чувствительный ответный выпад! Как она посмела?! Когда она родилась, он был уже мужчиной средних лет! Он мог бы быть ее отцом! Он мог бы быть ее Гумбертом!
– Байрон называл стихи Китса детским маранием пеленок, – парирует он.
– Еще бы! Наверняка он ему завидовал. Но это ладно. Ваши сонеты – потрясающие! «Губы моей госпожи объемлют меня». Это так просто, так мило и так прямо…
Она, похоже, не понимает, что в стихотворении описан минет, а не поцелуй. Иначе в нем говорилось бы «Губы моей госпожи объемлют мои». «Меня» в ту эпоху, в том контексте означало «мой член». Рейнольдс, впервые прочитав эту строчку, расхохоталась – уж его-то подгнившая лилия[10] такой невинностью ума не страдает!
– Так, значит, вы работаете над «Сонетами к леди». Скажите мне, есть ли там моменты, которые я мог бы для вас прояснить. Из первых уст, так сказать. Чтобы придать весомость вашей работе. Если можно так выразиться.
– Вообще-то я не совсем над ними работаю. О них уже много написано. – Она опускает взгляд на кофейный столик и вот теперь краснеет по-настоящему. – По правде сказать, моя диссертация посвящена К. В. Старр. Ну знаете, Констанции Старр, хотя я знаю, что это не настоящая фамилия. Я пишу про ее цикл об Альфляндии, и, ну, вы ведь знали ее в то время. В «Речном пароходе» и все такое.
Гэвину кажется, что ему в жилы накачивают холодную ртуть. Кто впустил сюда эту тварь? Лживую лазутчицу! Рейнольдс, вот кто. Интересно, знала ли предательница Рейнольдс о подлинной цели этой гарпии? Если да, он ей коренные зубы выдерет.
Но он загнан в угол. Он не может признаться в том, что это его задевает – что ему обидно быть всего лишь вторичным источником в главном действе, посвященном Констанции. Пустоголовой Констанции с ее идиотскими сказочками про гномов. Констанции-дурочке. Показать свой гнев означает открыть свое мягкое подбрюшье, унизить себя еще больше.
– О да! – он смеется – снисходительно, словно вспоминая анекдот. – И все это правда! Еще какое все это и еще какая правда! Мы занимались всем этим с утра до ночи и с ночи до утра! Но тогда у меня хватало стойкости для таких упражнений.
– Простите, что? – переспрашивает Навина. Глаза у нее горят: она чует кровь, за которой приехала. Но всю кровь он ей не отдаст.
– Дорогое мое дитя! Мы с Констанцией жили вместе. Сожительствовали. То была заря Эры Водолея! И хотя заря лишь занималась, мы были весьма прилежны. Мы больше времени проводили голыми, чем одетыми. Констанция была… невероятна. – Он позволяет себе улыбнуться, словно от приятных воспоминаний. – Но я не верю, что вы задумали серьезную научную работу о Констанции! То, что она писала, никоим образом…
– Вообще-то я пишу именно о ней, – говорит Навина. – Моя диссертация – глубинное исследование функции символизма в противовес неорепрезентационализму в процессе конструирования миров, который намного эффективней изучать через жанр фэнтези, чем в его более завуалированной форме, так называемой реалистической художественной литературе. Верно ведь?
Клацая, входит Рейнольдс с подносом в руках.
– А вот и наш чай! – объявляет она. Очень вовремя. У Гэвина стучит в висках. Что за херню только что изрекла Навина?
– Какое печенье? – спрашивает он, чтобы поставить неорепрезентационализм на место.
– С шоколадной крошкой, – отвечает Рейнольдс. – Навина уже показала тебе видеоклипы? Они просто завораживают! Она скинула их мне в дропбокс.
Она садится рядом с ним и начинает разливать чай.
Дропбокс? Это еще что такое? Ему ничего не приходит в голову, кроме того, что это какой-то новомодный вид фитнеса. Но спрашивать он не станет.
– Вот первый, – говорит Навина. – «Речной пароход», год примерно шестьдесят пятый.
Засада, предательство! Однако Гэвин не может не смотреть. Его словно втягивает в воронку времени – центростремительная сила непреодолима.
Изображение зернистое, черно-белое; звука нет. Камера едет по комнате: какой-то сраный кинолюбитель, а может, это заготовка для одного из первых документальных фильмов о «Пароходе»? На сцене, кажется, Сонни Терри и Брауни Макджи, а это вроде бы Сильвия Тайсон? За столиками – несколько поэтов, его приятелей тех давних дней, в давно вышедших из моды прическах и курчавых, вызывающих, оптимистических бородах. Многих уже нет на свете.
А вот и он сам, и Констанция рядом. Он без бороды, из угла рта свисает сигарета, и он небрежно обнимает Констанцию одной рукой. Смотрит не на нее, а на сцену. А вот Констанция смотрит на него. Она всегда смотрела на него. Такая трогательная пара; еще не побитые жизнью, полные сил и надежд, совсем как дети. Не ведают, что скоро ледяной вихрь судьбы погонит их в разные стороны. Гэвину хочется плакать.
– У нее очень усталый вид, – довольно произносит Рейнольдс. – Смотри, какие мешки под глазами. И вокруг глаз черные круги. Она, похоже, совсем вымотана.
– Усталый? – повторяет Гэвин. Он никогда не думал о том, что Констанция может уставать.
– Ну еще бы у нее был не усталый вид! – подхватывает Навина. – Она столько всего тогда писала! Разработала практически полный план Альфляндии, да еще так быстро! И к тому же она работала – в том заведении, фастфуде, с жареной курицей.
– Она никогда не говорила, что устала. – Гэвин вынужден что-то сказать, потому что эти двое уставились на него – не с упреком ли? – Она была очень выносливая.
– Она писала вам об этом, – говорит Навина. – О том, что устает. Но тут же оговаривалась, что для вас она всегда полна сил! И просила, чтобы вы обязательно будили ее, даже если придете поздно. Прямо так и написала! Мне кажется, она вас любила по-настоящему. Это так мило.
Гэвин в растерянности. Она ему писала? Он этого не помнит.
– С какой стати она стала бы писать мне письма? Мы жили вместе.
– Она обращала к вам заметки в своем дневнике, – объясняет Навина, – и оставляла его на столе, потому что вы спали допоздна, а ей нужно было идти на работу, но потом вы просыпались и читали ее послания. И писали под ними ответ. В ежедневнике с черной обложкой, точно таком же, как те, в которых она разрабатывала карты и списки для Альфляндии. Каждая страница – отдельный день. Неужели вы не помните?
– Ах, это, – Гэвин что-то смутно припоминает. Лучше всего ему помнится пронизанное сиянием утро после ночей с Констанцией. Первая чашка кофе, первая сигарета, первые строки первого стихотворения, проступающие словно по волшебству. Те стихи по большей части оказывались весьма годными. – Да, смутно припоминаю. Как вы об этом узнали?
– Он оказался в ваших бумагах, – объясняет Навина. – Дневник. Бумаги сейчас хранятся в Остинском университете. Вы их продали. Припоминаете?
– Я продал свои бумаги? Какие бумаги?
В памяти пусто, провал, словно прореха в паутине, такие провалы настигают его время от времени. Он не помнит ничего подобного.
– Ну, строго говоря, это я их продала. Я вела переговоры. Ты попросил меня взять это на себя. Ты тогда работал над переводом «Одиссеи». Вы знаете, он с головой уходит в работу, – продолжает Рейнольдс, обращаясь к Навине. – Он бы и поесть забывал, если бы я его не кормила.
– А то я не знаю! – восклицает Навина. Они обмениваются заговорщическим взглядом: «Гениям нужно потакать». Гэвин думает, что это лишь более лестная для него интерпретация другой максимы: «Старым пердунам нужно подыгрывать».
– Теперь давайте посмотрим второй клип, – говорит Рей, подаваясь вперед. «Смилуйся! – про себя умоляет Гэвин. – Я растянут на дыбе. Эта юная принцесса совсем загнала меня. Я понятия не имею, о чем она говорит! Давай заканчивать!»
– Я устал, – говорит он вслух, но, похоже, недостаточно громко: у этих двоих есть повестка дня, которую они намерены выполнить.
– Это интервью, взятое несколько лет назад. Его можно найти на Ютьюбе. – Навина щелкает стрелку, и изображение начинает двигаться – на этот раз оно цветное и со звуком. – Это на Всемирном съезде любителей фантастики в Торонто.
Гэвин смотрит с нарастающим ужасом. Хрупкую старушку с невесомыми прядками седых волос интервьюирует мужчина, одетый, как герой сериала «Звездный путь»: у него фиолетовая кожа и гигантский череп с пульсирующими венами. Клингон, догадывается Гэвин. Он мало что знает об этом разделе популярной культуры, но студенты с его поэтических семинаров неизменно пытались его просветить, когда затрагивали эту тему в своих стихах. Еще на экране женщина с блестящим пластиковым лицом.
– Королева боргов, – шепчет Навина. Заголовок ютьюбовского клипа утверждает, что эта старуха – Констанция, но Гэвин отказывается верить.
– Мы очень рады, что сегодня с нами человек, которого можно назвать бабушкой фэнтези двадцатого века, прародительницей тенденции к созданию миров, – говорит королева боргов. – Сама К. В. Старр, автор всемирно знаменитого цикла про Альфляндию. Как вас называть – Констанция или мисс Старр? Или К. В.?
– Как хотите, – отвечает Констанция. Ибо это воистину Констанция, хотя и сильно усохшая. На ней кардиган с люрексом – он висит как на вешалке. Волосы в пушистом беспорядке, как перья-эгреты, шея – палочка от эскимо. Констанция озирается кругом, щурясь, будто ошарашена ярким светом и шумом. – Мне все равно, как меня называют, и все такое. Единственное, что меня когда-либо волновало, – это дело моей жизни, Альфляндия.
Ее кожа странно светится, словно фосфоресцирующий гриб.
– А вы не думали, что совершаете очень смелый поступок? Тогда, давно, когда вы только начинали? – спрашивает клингон. – Ведь тогда весь этот жанр был мужским царством?
Констанция запрокидывает голову и хохочет. Ее смех – воздушный, невесомый – когда-то был очарователен, но теперь кажется Гэвину гротескным. Неуместная девичья игривость.
– О, тогда на меня никто не обращал внимания, – говорит она. – Так что это нельзя назвать смелостью. И вообще я использовала инициалы. Поначалу никто не знал, что я не мужчина.
– Как сестры Бронте, – говорит клингон.
– Ну вряд ли уж так. – Констанция смотрит искоса и преувеличенно скромно хихикает. Неужели она флиртует с этим фиолетовым венозным черепом? Гэвин морщится.
– Вот теперь у нее и правда усталый вид, – говорит Рейнольдс. – Интересно, кто ее так ужасно загримировал? Им не стоило использовать минеральную пудру. Сколько ей точно лет?
– Так как же именно создаются миры? – продолжает королева боргов. – Прямо так, из ничего?
– О, я никогда не творю из ничего, – теперь Констанция серьезна, в этой своей дурацкой манере, словно говорит: «Смотрите все, теперь я серьезна!» Гэвина этот ее вид никогда не убеждал: она выглядела как девочка, напялившая мамины туфли. Впрочем, тогда он и эту серьезность находил очаровательной; теперь же считает ее фальшивой. Какое право она имеет быть серьезной?
– Видите ли, – продолжает Констанция, – все, что есть в Альфляндии, основано на чем-то из реальной жизни. Разве может быть иначе?
– Это и к персонажам относится? – спрашивает клингон.
– Ну да, но иногда я беру черты от разных людей и соединяю в одном персонаже.
– Совсем как мистер Картофельная Голова, – говорит королева боргов.
– Мистер Картофельная Голова? – повторяет Констанция. – В Альфляндии нет никого с таким именем.
– Это детская игрушка, – объясняет королева боргов. – Картошка, на которую можно прилеплять разные носы и уши.
– А… Это было уже после меня. После того как я была ребенком, – добавляет Констанция.
Воцаряется пауза, которую прерывает клингон.
– В Альфляндии множество негодяев! Их вы тоже взяли из реальной жизни? – Он хихикает. – Богатый выбор!
– О да. Негодяев – в особенности, – отвечает Констанция.
– Значит, например, – говорит королева боргов, – завтра, идя по улице, я могу встретить Милзрета Красную Руку?
Констанция снова запрокидывает голову и хохочет, Гэвин скрежещет зубами. Кто-то должен ей сказать, чтобы она не открывала рот так широко: становится видно, что у нее дальних зубов не хватает.
– О боже, я надеюсь, что нет! Во всяком случае, не в этом костюме. Но у Милзрета в самом деле был реальный прототип.
Она задумчиво смотрит с экрана – прямо в глаза Гэвину.
– Какой-нибудь бывший возлюбленный? – спрашивает клингон.
– О нет, – отвечает Констанция. – Скорее политик. Милзрет – очень политическая фигура. Но я действительно поместила одного из своих бывших возлюбленных в Альфляндию. Он и сейчас там. Но вам его не увидеть.
– Ну, пожалуйста, расскажите, – королева боргов убийственно улыбается.
Констанция напускает на себя заговорщицкий вид.
– Это секрет! – Она озирается, словно подозревая, что сзади подслушивает шпион. – Я не могу вам сказать, где он. Не хочу нарушить, ну знаете, хрупкое равновесие. Это было бы опасно для нас всех!
Не выходит ли ситуация из-под контроля? Может, Констанция слегка чокнулась? Видимо, королеве боргов приходит в голову то же самое – она быстренько закругляет интервью.
– Это была большая честь для нас, большая радость, огромное вам спасибо! Мальчики и девочки, давайте от души похлопаем К. В. Старр!
Слышатся аплодисменты. У Констанции растерянный вид. Клингон берет ее под руку.
Моя золотая Констанция. Она растеряна. Сбилась с пути. Потерялась. Заблудилась.
Экран меркнет.
– Правда, здорово? Она совершенно потрясающая, – говорит Навина. – И вот я подумала, может быть, вы мне хоть намекнете… Ну, она практически прямым текстом говорит, что вставила вас в Альфляндию, и для меня… для моей диссертации было бы просто потрясающе важно, если бы я могла вычислить, кого именно она с вас списала. Я вычеркнула всех, кто не подходил, и у меня остался список из шести кандидатов. Я составила перечень их характеристик, волшебных суперсил, атрибутов и гербов. Мне кажется, что вы – Томас-Рифмач, потому что он единственный поэт во всем цикле. Хотя он скорее пророк, потому что его суперсила – ясновидение.
– Какой Томас? – холодно переспрашивает Гэвин.
– Рифмач, – запинается Навина. – Это из баллады, известный персонаж. Из баллад Чайлда. Его украла королева волшебной страны, и ему пришлось ехать на коне по колено в крови, и семь лет про него никто на земле не слышал, а потом, когда он вернулся, его стали называть Верным Томасом за то, что он мог предсказывать будущее. Только в Альфляндии его, конечно, не так зовут – там он Хлювош Кристальное Око.
– Неужели похоже, что у меня стеклянный глаз? – совершенно серьезно спрашивает Гэвин. Она у него еще попотеет.
– Нет, но…
– Это совершенно точно не я, – говорит Гэвин. – Хлювош Кристальное Око – это Эл Пэрди.
Эта ложь доставляет ему невероятное наслаждение. Большой Эл, с его стихами про столярное дело, работник фабрики по производству кровяной муки – похищен королевой фей! О, если Навина это вставит в свою диссертацию, он будет ей по гроб жизни благодарен. Она и кровяную муку туда вплетет, у нее все сойдется. Но он сохраняет серьезное лицо; смеяться ни в коем случае нельзя.
– Откуда ты знаешь, что это Эл Пэрди? – подозрительно спрашивает Рейнольдс. И поясняет, обращаясь к Навине: – Не забывайте, что Гэви – ужасный лжец. Он и собственную биографию подтасует. Ему это кажется забавным.
Но Гэвин обходит ее:
– Откуда мне знать, как не от самой Констанции? Она часто обсуждала со мной своих персонажей.
– Но Хлювош Кристальное Око появляется только в третьем томе, – говорит Навина. – «Возвращение призрака». А он вышел гораздо позже… Ну то есть я хочу сказать, нет никаких письменных свидетельств, а вы с Констанцией тогда уже расстались.
– Мы встречались втайне. Мы виделись тайно многие годы. В туалетах ночных клубов. Нас влекла друг к другу роковая страсть. Нас бы и дикие лошади не оторвали друг от друга.
– Ты никогда не говорил мне! – восклицает Рейнольдс.
– Детка, я тебе о-о-очень много чего не говорил.
Она не верит ни единому слову, но доказать, что он лжет, не сможет.
– Это все меняет, – бормочет Навина. – Придется переписать… Придется заново обдумать центральную посылку. Это так… так… основополагающе! Но если вы не Хлювош, то кто вы?
– И впрямь, кто же я? Я часто думал об этом. Может быть, меня вовсе и нет в Альфляндии. Может, Констанция меня вычеркнула.
– Она сама мне сказала, что вы там есть, – говорит Навина. – По е-мэйлу, всего месяц назад.
– Она съезжает с катушек, – говорит Рейнольдс. – Даже по этому клипу видно, а ведь тогда ее муж еще был жив. У нее все перемешалось, наверняка она не может даже…
Навина обходит Рейнольдс, подается вперед и расширенными глазами впивается в Гэвина, понизив голос почти до интимного шепота:
– Она сказала, что вы спрятаны. Как сокровище. Правда, ужасно романтично? Как картинки-загадки, где надо искать лица в деревьях – так она выразилась.
Она и хвостом, и ножкой, и языком[11] – хочет высосать последние капли его сути из почти опустошенного черепа. Прочь от меня, блудница!
– Извините, ничем не могу вам помочь, – говорит он. – Я не читаю подобного мусора.
Врет, читал. Большую часть. Правда, это лишь укрепило его в прежнем мнении. Констанция не только плохой поэт или была плохим поэтом, когда еще пыталась сочинять стихи; она еще и бездарный писатель. «Альфляндия»! Уже по одному названию все понятно. «Фигляндия», так-то было бы верней.
– Простите, что? – произносит Навина. – Мне кажется, это очень неуважительно… это элитарный подход…
– Неужели вам больше нечем заняться – только распутывать эти зловонные комья жабьей икры? Такая прекрасная особь женского пола, и пропадает даром, такая аппетитная попка засыхает на корню. Вас хоть кто-нибудь трахает?
– Простите, что? – повторяет Навина. Очевидно, это ее дежурный ответ, который никогда не подводит – просьба ее простить.
– Я спросил, вас кто-нибудь чешет, где зудит?[12] Скачете ли вы с кем-нибудь в койке? Веселым, бодрым ухажером. Есть ли у вас сексуальный партнер. – Рейнольдс со всей силы пихает его локтем в бок, но ему уже все равно. – Такой красивой девушке гораздо полезней с кем-нибудь потрахаться, чем составлять сноски к подобной херне. Только не говорите мне, что вы девственница! Это была бы вопиющая нелепость!
– Гэвин! – восклицает Рейнольдс. – В наше время не принято так разговаривать с женщинами! Это не…
– Я думаю, моя личная жизнь вас не касается, – резко произносит Навина. Нижняя губа у нее дрожит – возможно, он попал в цель. Но он ее так просто не отпустит.
– Но вы-то без колебаний полезли в мою, – говорит он. – В мою личную жизнь! Вы читали мой дневник, рылись в моих бумагах, вынюхивали разные обстоятельства, касающиеся моей… моей бывшей любовницы. Это непристойно! Констанция – это моя личная жизнь. Личная! Я полагаю, вы об этом вообще не задумывались!
– Гэвин, ты продал те бумаги, – напоминает Рейнольдс. – Так что теперь это – достояние публики.
– Херня! Это ты их продала, двуличная сука!
Навина закрывает красный планшет – не без достоинства.
– Думаю, мне пора идти, – говорит она, обращаясь к Рейнольдс.
– Простите, пожалуйста, – отвечает Рейнольдс. – На него иногда находит.
Обе встают и удаляются, курлыкая и взаимно извиняясь всю дорогу. Хлопает парадная дверь. Рейнольдс, должно быть, пошла провожать девушку до стоянки такси перед отелем «Холидей инн», это в паре кварталов отсюда. Конечно, по пути будут перемывать ему косточки. Говорить о нем и его вспышках раздражительности. Возможно, Рейнольдс попытается загладить его грубость. А может, и нет.
Вечер пройдет в холодной атмосфере. Скорее всего, Рейнольдс сварит ему яйцо на ужин, а сама облепится блестками и пойдет на танцы.
Он позволил себе разозлиться. Не следует так делать. Это вредно для сердечно-сосудистой системы. Нужно думать о другом. О стихах – о том стихотворении, которое он начал сочинять. Только не в так называемом кабинете – там он писать не может. Он шаркает на кухню, берет блокнот из обычного места – ящика под телефоном, – отыскивает карандаш, потом выбирается через заднюю дверь в сад, поднимается на три мощенные плиткой ступеньки вверх, осторожно пересекает патио. Патио тоже вымощено плиткой и местами – вокруг бассейна – скользкое. Гэвин добирается до намеченного шезлонга и осторожно опускается на него.
Опавшие листья вращаются в воронке. Может быть, скоро придет, бесшумно ступая, Мария в неизменных джинсовых шортах, с сачком, и выловит их.
Мария ловит умирающие листья. Души ли это? Вдруг один из них – моя душа? А кто Мария – ангел смерти ли, темноволосая, Сама из темноты, пришла забрать меня? Душа-скиталица в водовороте холода, Блеклая, пособница давняя тела глупого, Где ты приют найдешь? На голом ли брегу? И будешь лишь листом увядшим? Или…Нет. Слишком похоже на Уитмена. Да и Мария – всего лишь обыкновенная миленькая старшеклассница, подрабатывает на карманные расходы. Таких – на пятачок пучок, ничего особенного. Точно не нимфетка и не роковое свежее юное существо из «Смерти в Венеции». А как насчет «Смерти в Майами»? Звучит как название полицейского телесериала. Тупик. Расследование зашло в тупик.
Но все же ему нравится идея Марии как ангела смерти. Пора уже одному из таких ангелов нанести ему визит. Лучше в последний миг своей жизни видеть ангела, чем совсем ничего.
Он закрывает глаза.
И возвращается в парк, на представление «Ричарда III». Он уже выпил два бумажных стаканчика «водкатини» из термоса и теперь хочет писать. Но на сцене происходит самое важное: Ричард в кожаной одежде, с огромным хлыстом в руке, приступает к леди Анне, идущей за гробом покойного мужа. На ней костюмчик для садомазохистских игрищ; обмениваясь ядовитыми репликами, Ричард и Анна поочередно придавливают друг другу шею сапогом. Это нелепо, но если подумать, все сходится. Ричард пронзил ее мужа, она плюет Ричарду в лицо, он предлагает ей пронзить его, и так далее. Шекспир – знатный извращенец. Была ль когда так женщина добыта?[13] Если да, поставьте галочку в этой клетке.
– Мне надо отлить, – говорит он, когда Ричард перестает хвалиться победой над леди Анной.
– Туалет вон там, у ларька с хот-догами, – отвечает Рейнольдс. – Тссс!
– Настоящие мужчины не ходят в портативные туалеты, – говорит он. – Настоящие мужчины ссут в кустах.
– Давай-ка я лучше пойду с тобой. А то ты заблудишься.
– Оставь меня в покое!
– Возьми хотя бы фонарик.
Но он и от фонарика отказывается. Дерзать, искать, найти и не сдаваться[14]. Он бредет в темноту, возится с молнией на брюках. Ни черта не видно. Но он хотя бы на ноги себе не попал – в носках не тепло и не мокро. Он с облегчением застегивается и разворачивается, готовый в обратную дорогу. Но где он? По лицу хлещут ветки; он потерял направление. Хуже того: может быть, в кустах притаились разбойники, только и ждут, как бы ограбить беззащитную жертву. Черт! Как позвать Рейнольдс? Он не будет реветь и звать ее, как ребенок – маму. Паниковать нельзя.
Кто-то хватает его за руку, он вздрагивает и просыпается. Сердце колотится, дыхание частит. «Успокойся», – говорит он себе. Это был лишь сон. Личинка стихотворения.
Рука, похоже, принадлежала Рейнольдс. Она, значит, последовала за ним в кусты, прихватив фонарик. Он не помнит точно, но по-другому быть не могло, иначе он не оказался бы здесь, в шезлонге, верно? Никак не смог бы вернуться своими силами.
Сколько он проспал? Уже сумерки. С слияньем дня и мглы ночной бывают странные мгновенья… тудум тудум тудум тудум как мимолетное виденье[15]. Какое старомодное слово «мгла» – сейчас так никто уже не говорит.
Пора выпить.
– Рейнольдс! – зовет он. Нет ответа. Она его бросила. Так ему и надо. Он сегодня плохо себя вел. Но как приятно было плохо себя вести! «В наше время не принято так разговаривать с женщинами!» – да пошли вы к черту! Кто ему запретит? Он уже на пенсии, его не уволишь. Он хихикает про себя.
Он приподнимает себя из шезлонга и разворачивает в сторону ступенек, ведущих к дому. Ступеньки скользкие, и во дворе к тому же полутемно. Крепускулярное освещение. Крепускулярное – звучит как название какого-то членистоногого, вроде краба. Колючее слово в жестком панцире, с клешнями.
Вот ступеньки. Поднять правую ногу. Он промахивается, падает, налетает, обдирается.
Кто бы подумал, что в старике столько крови[16].
– О боже! – восклицает Рейнольдс, когда его находит. – Гэви! Тебя ни на минуту нельзя оставить! Посмотри, что ты наделал!
И разражается слезами.
Ей удалось перетащить его на шезлонг и подпереть подушками; еще она кое-как стерла кровь и перевязала ему голову мокрым посудным полотенцем. Теперь она висит на телефоне, пытаясь вызвать «Скорую».
– Не смейте ставить меня на ожидание! У него был удар, а может… Вы же скорая помощь! О черт!
Гэвин лежит среди подушек, и что-то – ни холодное, ни горячее – течет у него по лицу. Оказывается, еще не сумерки – солнце лишь клонится к закату, и небо окрашено в роскошный розовато-бордовый цвет. Ветви пальмы тихо колеблются; слышно, как пульсирует циркуляционный насос, или это кровь шумит в ушах? Поле зрения темнеет, и в нем появляется Констанция – она парит в воздухе, прямо посередине. Это старая, сморщенная Констанция, с плохо наложенным макияжем вроде маски, бледное растерянное лицо, которое он недавно видел на экране. Она удивленно смотрит на него.
– Мистер Картофельная Голова? – спрашивает она.
Но он не обращает внимания на ее слова, поскольку стремительно летит по воздуху прямо к ней. Она, однако, не становится ближе; должно быть, удаляется от него с той же скоростью. «Быстрее!» – подгоняет он себя, сокращает расстояние между ними, настигает ее, влетает в черную дыру зрачка, окруженного синевой радужки – в ее удивленный глаз. Вокруг открывается новое пространство, пронизанное сиянием; а вот и его Констанция, снова юная и манящая, как раньше. Она радостно улыбается и раскрывает ему объятия, и он обнимает ее.
– Ты добрался, – говорит она. – Наконец-то. Ты проснулся.
Смуглая леди
По утрам за завтраком Джорри читает некрологи во всех трех газетах. Иногда они ее смешат, но, насколько помнит Тин, она еще ни разу над ними не плакала. Она не из тех, у кого глаза на мокром месте.
Джорри отмечает крестиком покойников, заслуживающих интереса, – двумя, если собирается идти на похороны – и протягивает газеты через стол Тину. Она получает настоящие, бумажные газеты – их приносят и кладут прямо на порог таунхауса. Джорри утверждает, что интернет-версии газет скупятся и печатают не все некрологи.
– О, еще одна. «Ее будет не хватать всем, кто ее знал». Вот еще! Я работала с ней над рекламной кампанией «Сплендиды». Она была больная на голову стерва, – таков типичный комментарий Джорри к очередному некрологу. – Или: «Мирно скончался дома от естественных причин». Как же! Готова спорить, что это передоз.
Или:
– Ну наконец-то! Шаловливые Ручонки! Он пытался меня лапать на корпоративном ужине в восьмидесятых, при том что его жена сидела рядом. Он наверняка так проспиртовался, что его даже бальзамировать не придется.
Сам Тин ни за что не пошел бы на похороны неприятного ему человека – разве что поддержать кого-нибудь безутешного. Те годы, когда СПИД только появился, были адом – все равно что эпидемия «черной смерти»: похороны идут косяком, общее онемение, остекленелые глаза, невозможно поверить, комплекс вины у выживших, дефицит носовых платков. Но для Джорри ненависть, наоборот, служит стимулом. Она желает плясать чечетку на могилах; но лишь фигурально, поскольку ни она, ни Тин уже не годятся в плясуны. Он, впрочем, неплохо танцевал рок-н-ролл – давно, еще в школе.
Джорри никогда особенно не умела танцевать, но выезжала на энтузиазме. Неуклюжая, ногастая, как жеребенок-стригунок, она металась из стороны в сторону, мотая расплетшейся гривой волос. Но их компашка считала, что это круто, когда Тин и Джорри вдвоем зажигают на танцполе, ведь они близнецы. Тину удавалось создать впечатление, что Джорри на самом деле неплохо танцует – он с самого детства старался, насколько мог, защищать сестру от последствий ее собственного безрассудства. Кроме того, под предлогом танца с Джорри он мог отвертеться от притязаний очередной царицы бала, с которой в это время вроде бы гулял. Ему было из кого выбирать, и он слыл отменным сердцеедом. Это его устраивало.
Его всегда удивляла собственная популярность у красоток-ровесниц. Впрочем, если вдуматься, ничего удивительного: он умел сочувственно слушать, был всегда готов подставить жилетку, никогда не пытался раздевать девушек насильно, припарковав машину, хотя и проделывал положенное количество обжиманий после танцев – пусть не думают, что у него воняет изо рта. Если девушка самоотверженно предлагала пойти дальше – расстегнуть лифчик, скрывающий острые грудки, стащить эластичный пояс для чулок, – Мартин вежливо отказывался.
«Утром ты будешь об этом жалеть», – наставлял он очередную девицу. И это правда, наутро она бы раскаивалась, плакала бы в телефонную трубку, умоляла бы его никому не говорить; и, конечно, боялась бы беременности, как боялись все до появления противозачаточных таблеток. А может, наоборот – надеялась бы на беременность, чтобы заловить его в сети раннего брака – его, Мартина Великолепного! Завидная добыча!
И еще он никогда не хвастался своими победами, в отличие от менее желанных и более прыщавых юнцов. Когда в школьной раздевалке – спартанское убожество, холод, сквозняки, мурашки на голых телах – всплывал вопрос его ночных приключений, он лишь загадочно улыбался, а все остальные ухмылялись, подталкивали друг друга локтями и братски хлопали его по плечу. Помогало еще и то, что он был высокий и гибкий, звезда школьной команды по легкой атлетике. Он специализировался на прыжках в высоту.
Какой негодяй.
Какой джентльмен.
Джорри не хочет плясать на могилах в одиночку – она вообще ничего не хочет делать в одиночку. Если достаточно долго пилить Тина, он соглашается пойти с ней на очередной скорбный «девичник», хоть и говорит, что на этих сборищах у него глазные яблоки выпадают от скуки. У него нет никакого желания крутиться среди старух, которые притворно скорбят, перетирая беззубыми деснами сэндвичи на хлебе без корки, и втихомолку радуются, что сами-то живы. Он находит интерес Джорри к ритуалу последнего перехода чрезмерным и даже нездоровым и неоднократно говорил ей об этом.
– Я всего лишь отдаю последнюю дань уважения, – отвечает она, и Тин фыркает. Это шутка: для них обоих уважение всегда мало что значило, кроме случаев, когда его надо демонстрировать.
– Ты просто хочешь позлорадствовать, – отвечает он, и на этот раз фыркает Джорри – ведь он попал в точку.
– Как ты думаешь, мы с тобой слишком чувствительные? – спрашивает она иногда. «Потрясающее чувство юмора» – одно дело, а вот чрезмерная чувствительность – другое.
– Конечно, мы слишком чувствительные, – отвечает он. – От рождения! Но нет худа без добра: ведь бесчувственность несовместима с хорошим вкусом.
Он не добавляет, что у Джорри все равно со вкусом не очень – и с течением времени становится все хуже.
– Наверное, мы могли бы стать гениальными убийцами-психопатами, – сказала она однажды, лет десять назад, когда им было всего по шестьдесят с небольшим. – Мы могли бы совершить идеальное преступление – убить случайно выбранного совершенно незнакомого человека. Столкнуть его с поезда.
– Никогда не поздно, – ответил Тин. – Во всяком случае, я внес это в список дел, до которых когда-нибудь дойду. Но я жду, пока заболею раком. Раз уж придется уходить, уйдем элегантно; прихватим с собой кого-нибудь. Разгрузим планету. Хочешь еще тост?
– Не вздумай болеть раком без меня!
– Хорошо. Как бог свят, не буду. Разве что раком простаты.
– Не смей! Я буду чувствовать, что ты меня бросил.
– Если у меня найдут рак простаты, – заверил ее Тин, – я торжественно обещаю организовать пересадку простаты и тебе, чтобы ты могла разделить со мной это переживание. Я знаю кучу народу, кто не откажется удалить себе простату прямо сейчас. Тогда они хотя бы начнут высыпаться по ночам, не придется все время бегать.
Джорри ухмыльнулась:
– Ну спасибо тебе. Я всегда мечтала иметь простату. Еще один пункт в списке жалоб на преклонные годы. Как ты думаешь, может, донор согласится отдать всю мошонку?
– У тебя чрезвычайно грязный язык, – сказал Тин. – Впрочем, я не сомневаюсь, что это намеренно. Еще кофе?
Поскольку они близнецы, то могут не притворяться друг перед другом. Перед остальным человечеством без притворства не обойтись. Хотя, даже надев маскарадный костюм, они обманывают лишь посторонних, а друг для друга прозрачны, как рыбки гуппи – все потроха видны. Во всяком случае, такова их общая легенда; как известно Тину – кто-то из его бывших пассий держал аквариум, – даже у гуппи в организме есть непрозрачные места.
Он ласково смотрит на Джорри, которая хмурится над некрологами, разглядывая их сквозь очки для чтения в алой оправе; точнее, хмурится настолько, насколько позволяют инъекции ботокса. В последние годы, точнее – десятилетия, Джорри приобрела легкую пучеглазость – признак того, что она слегка перебрала с пластической хирургией. С волосами у нее тоже не все в порядке. Хорошо еще, что Тин отговорил ее красить волосы в радикально черный: а то она выглядела как ходячий мертвец, с ее-то цветом лица. Кожа у нее, мягко говоря, не светится, несмотря на основу цвета загара и минеральную пудру-бронзант со светоотражающими частицами, которую она, бедная заблуждающаяся дурочка, наносит щедрой рукой.
– Человеку столько лет, на сколько он себя чувствует, – слишком часто повторяет она, пытаясь уговорить Тина на очередную дурацкую эскападу: уроки румбы, групповые вылазки за город для рисования акварелью, губительные модные штучки типа занятий на велотренажерах. Тин не может представить себя на велотренажере, в обтягивающих штанах с лайкрой – вот он бодро жужжит педалями, нанося окончательный, непоправимый ущерб своей морщинистой промежности. Он вообще не может представить себя на велосипеде. Акварель отпала еще до старта – даже если он захочет таким заниматься, то уж точно не в компании ноющих дилетантов. Что до румбы, в ней требуется вертеть тазом, а Тин утратил эту способность примерно тогда же, когда отказался от сексуальных утех.
– Вот именно, – отвечает он. – Я чувствую себя двухтысячелетним. Я древнее скал, на которых сижу.
– Каких скал? Здесь нет никаких скал. Ты сидишь на диване.
– Это цитата. Парафраз. Уолтер Пейтер.
– Да ну тебя с твоими цитатами! Не все люди живут в кавычках, знаешь ли.
Тин вздыхает. Джорри не слишком начитанна – она предпочитает серьезной литературе исторические романы про Тюдоров и Борджиа. Подобно вампиру, я много раз умирал[17], цитирует он мысленно, не рискуя, однако, произнести эти слова вслух – Джорри встревожится, и тогда с ней будет очень сложно. Она боится не вампиров как таковых: она отважна и любопытна, и первой полезла бы в какую-нибудь запретную гробницу. Что ее напугает, так это мысль о превращении Тина в вампира – или вообще в кого угодно, отличного от ее представления о нем.
Но пока что Джорри всячески старается сама превратиться в кого-то другого. По ее собственным стандартам, она недотягивает до идеала. Единственный ее предрассудок имеет отношение к дорогой косметике. Джорри по правде верит обманчивым, заманчивым этикеткам, сулящим пухлость, упругость, исчезновение морщин, возвращение юной свежести, намек на бессмертие – несмотря на то, что много лет работала в рекламе и должна бы знать цену всем этим цветистым оборотам. Она вообще не знает многого, что должна бы знать, – в частности, навыки макияжа у нее оставляют желать лучшего. Тин вынужден напоминать, чтобы она, когда наносит блестящую бронзовую пудру, не останавливалась на середине шеи, а то возникает впечатление, будто голова отрезана и вместо нее пришита чужая.
С волосами они в конце концов нашли компромисс – Тин согласился на белую прядь слева («гериатрический панк», как он это обозвал про себя). Недавно к белой пряди добавилась цепляющая глаз ярко-красная. Все вместе напоминает скунса, пережившего встречу с бутылкой кетчупа и замершего в свете фар. Тин от души надеется, что из-за кровавой полосы его не потащат в полицию, решив, что это он избил бедную Джорри.
Давно прошли те дни, когда Джорри создавала знойный, цыганский образ, со склонностью к ярким африканским тканям и экзотической бижутерии – тогда она могла надеть что стукнет в голову, и ей все шло. Она утратила этот навык, хотя и сохранила пристрастие к яркому и экзотическому. Тина всегда подмывало сказать ей, что она старуха, а косит под молоденькую, но он так и не сказал. Он сдерживался изо всех сил и говорил ей это о других женщинах, чтобы рассмешить.
Обычно ему удается удержать ее от наиболее рискованных шагов, ведущих в пропасть. Самым памятным был эпизод с кольцом в носу, еще в девяностых; тогда она явилась прямо с этой чудовищной штуковиной, безо всякого предупреждения, и в упор спросила Тина, что он думает. Он был вынужден стиснуть зубы и промолчать, только лицемерно покивал и пробормотал что-то. Она сама избавилась от этой безвкусной побрякушки – после первой же простуды, когда носовой платок зацепился за кольцо и она чуть не оторвала себе полноздри.
Потом замаячила другая угроза – Джорри захотела сделать пирсинг языка, но, к счастью, сначала посоветовалась с Тином. Что он тогда сказал? «Ты хочешь, чтобы твой рот выглядел как куртка байкера?» Наверно, нет: слишком велик риск, что она ответила бы «да». Конечно, он не стал ей говорить, что большинство мужчин воспримет это как объявление: «Делаю минет». Ее это скорее подстегнуло бы. Может, он предупредил ее о медицинских осложнениях – о том, что можно умереть от заражения крови? Подобного рода предупреждения на нее не действуют, наоборот – она воспринимает их как вызов: она просто обязана доказать, что ее превосходная иммунная система раздавит в пыль любого микроба, которого вышлет против нее невидимый мир.
Скорее всего, он сказал: «Ты будешь разговаривать, как Даффи Дак, и еще у тебя будут лететь слюни изо рта. По-моему, это непривлекательно. К тому же мода на пирсинг языка давно прошла. Теперь его делают только биржевые брокеры». Это ее, по крайней мере, рассмешило бы.
Самое главное – не переборщить. Надави, и она начнет давить в ответ. Он еще не забыл ее детские истерики и драки, в которые она влипала: она бесполезно махала длинными руками, а другие дети хохотали и подзуживали ее. Тин смотрел со стороны и сам чуть не плакал – запертый на мальчиковой половине школьного двора, он не мог вступиться.
Поэтому он избегает конфронтации. Равнодушие гораздо эффективней как метод контроля.
Близнецов окрестили Марджори и Мартином – тогда модно было давать детям созвучные имена – и одевали в одинаковые комбинезончики. Даже их мать, не блиставшая умом, понимала, что не стоит надевать на Мартина платьице, поскольку он может вырасти голубеньким (как она выражалась). Вот они на снимке, в возрасте двух лет, в одинаковых матросках и бескозырках, держатся за руки и морщатся от солнца, на лицах одинаковые перекошенные ухмылки – у него перекос налево, у нее направо. Нельзя сказать, мальчики это или девочки, но невозможно не признать, что они очаровательны. Рядом мужское тело в военной форме, поскольку снимок – военной поры: это их отец, верх головы у него на снимке отрезан – скоро то же случится с ним и в реальности. Мать, напившись, каждый раз рыдала над этой фотографией. Она считала, что это был дурной знак, и держи она объектив как следует, голова Вестона уцелела бы при роковом взрыве.
Глядя на свои былые «я», Джорри и Тин ощущают нежность, которую редко дарят кому-либо в настоящем. Им хочется обнять этих очаровательных шалунов, эти желтеющие, выцветающие отзвуки. Им хочется уверить крохотных путешественников, что хотя их путешествие во времени примет неприятный оборот и скоро станет еще неприятней, все образуется в конце концов. Или ближе к концу; ведь, будем смотреть на вещи трезво: Джорри и Тин уже близятся к концу жизни.
Потому что – вуаля – они опять вместе, описали полный круг. Получили свою долю сердечных ран, шрамов, ссадин – но все еще держатся на ногах. Они все еще Джорри и Тин – восстали против уменьшительных «Мардж» и «Марв» и стали использовать вторые части своих имен как подлинные, тайные имена, известные только им двоим. Джорри и Тин против общества, которое уже строило на них планы; например, оба отказались устраивать традиционные свадьбы с белым платьем невесты. Джорри и Тин, два бунтаря, которые так и не покорились.
Но опять-таки это – их общая легенда. Лично Тин хранит в памяти немало постыдных, но удовлетворительных случаев, когда он покорялся – в диких ночных джунглях кустов на Вишневом пляже и в разных других местах. Но ни к чему осквернять слух Джорри рассказами об этих эпизодах. Хорошо уже то, что на тех страшноватых полночных дорожках он ни разу не нарвался ни на кого из своих учеников. Хорошо уже то, что его ни разу не ограбили. Хорошо уже то, что он ни разу не попался.
– Ангелочки, – Тин с улыбкой глядит на фотографию в рамке мореного дуба – она стоит в столовой на буфете ар-деко, купленном Тином за гроши лет сорок назад. – Жаль, что у нас волосы потемнели.
– Ну не знаю, – отвечает Джорри. – Ценность блондинистых волос преувеличена.
– Блонд снова входит в моду, – говорит Тин. – Моды пятидесятых возвращаются, ты заметила? Мэрилин Монро и все такое.
Он сам не верит в те пятидесятые, которые сейчас демонстрируются на больших и маленьких экранах. Когда они жили в те годы, то казалось, что это обычная, нормальная жизнь, но сейчас пятидесятые превратились в «стародавние времена»; стали сырьем для телесериалов, в которых гамма цветов лжива – слишком чистая, слишком пастельная, – а кринолины слишком многочисленны. Тогда очень мало кто носил прическу «конский хвостик», да и взрослые мужчины не всегда ходили в костюмах от портного, в фетровых шляпах, заломленных под залихватским углом, с носовыми платками, сложенными в белые крахмальные треугольнички.
Трубки тогда, впрочем, курили, хотя они уже выходили из моды. В выходные надевали мокасины и джинсы – примитивные, но все же джинсы. Читали газеты, развалившись в шезлонгах искусственной кожи, с пуфиком в комплекте, пили «манхэттены», чтобы расслабиться, и курили в убийственных количествах; любовно мыли и полировали длиннющие машины с острыми плавниками и обилием хромированных деталей, прямо-таки пожиравшие бензин; стригли газон, толкая перед собой ручные машинки. Во всяком случае, так проводили уик-энд отцы одноклассников Марджори и Мартина. Тин с некоторой ностальгией воображал шезлонги, блестящие смертоносные автомобили и неуклюжие ручные газонокосилки. Если бы отец не погиб – может быть, Тину жилось бы лучше?
Нет. Ничуть не лучше, а, наоборот, просто ужасно. Ему пришлось бы таскаться на рыбалку; выдергивать рыбу из воды, а потом, мужественно сопя, ее убивать. Заползать под машину с гаечным ключом и употреблять в речи слова типа «глушитель». Претерпевать хлопки по спине и выслушивать от отца заявления, что тот им гордится. Разбежались.
– Хотя мать Хемингуэя это делала, – говорит Джорри.
– Пардон, что она делала?
– Одевала Эрни в платьице.
– А…
Близнецы в разговоре часто ходят кругами – впрочем, они знают, что в присутствии посторонних этого делать нельзя. Это раздражает – не их, каждый из них способен подобрать спущенную убежавшую петлю из речи другого, но это может намекнуть третьему собеседнику, что он лишний. Или, особенно нынче, создать у третьего собеседника ощущение, что у них двоих шариков не хватает.
– А потом он вышиб себе мозги, – говорит Тин. – Что лично я делать не собираюсь.
– Лучше не надо, – соглашается Джорри. – Будет очень неэстетично. Кровавая каша на стенах. Если уж тебе так приспичит, лучше прыгнуть с моста.
– Огромное спасибо, я буду иметь в виду твой совет.
– Всегда пожалуйста.
Так они и общаются – словно персонажи кинокомедий тридцатых годов. Братья Маркс. Хепберн и Трейси. Ник и Нора Чарльз, за вычетом бесконечных мартини, которые Джорри и Тину уже не по силам. Они скользят по поверхностям – ледяным, тонким, блестящим; они избегают глубоких мест. Этот комический дуэт слегка утомляет Тина. Возможно, Джорри он тоже утомляет, но каждый из них выполняет свои обязательства перед другим.
Тин все равно стал «голубеньким» – близнецы считают, что таким образом судьба остроумно подшутила над их матерью, хотя ко времени, когда Тин перестал скрывать свою голубизну, мать уже умерла. Переход границы должен был бы произойти в другом направлении – ведь это Джорри носила одежду не своего пола, – но в конце концов не произошел, поскольку она всегда недолюбливала других женщин.
И неудивительно, если присмотреться к их матери. Матушка Мэв была не только тупа, как мешок молотков, но со временем так и не смогла побороть скорбь по усопшему мужу и запила. Она таскала из копилок детей деньги на опохмел. Еще она приводила домой болванов и бандитов, с целью – как выражался Тин много позже, рассказывая об этом на вечеринках, – вступить с ними в половое сношение. Обхохочешься! Услышав, что открывается передняя дверь, близнецы сбегали через черный ход. Или прятались в погребе, а потом, когда все затихало, прокрадывались наверх, чтобы подглядеть за «сношениями». Если дверь спальни была закрыта, они подслушивали.
Что они обо всем этом думали в детстве? Они не помнят – исходная сцена облеплена, словно слоями обоев, многочисленными бездумными и, возможно, мифологизирующими пересказами. Изначальные очертания уже не видны. (Взаправду ли собака выбежала из дома с огромным черным лифчиком в зубах и зарыла его на заднем дворе? Да и была ли у них собака? Взаправду ли Эдип разгадал загадку сфинкса? Взаправду ли Язон похитил золотое руно? Все это – вопросы одного плана.)
Тина эти якобы смешные семейные байки давно уже не забавляют. Мать умерла рано, и довольно неприятной смертью. Конечно, любая смерть неприятна, оговаривается про себя Тин, но все же в разной степени. Быть выставленной на улицу после закрытия питейного заведения, переходить дорогу в неположенном месте, ничего не видя из-за скорбных вдовьих слез, и попасть под грузовик – чрезвычайно неприятная смерть. Зато быстрая. И еще смерть матери привела к тому, что ко времени поступления в университет Тину и Джорри уже не приходилось общаться с болванами и бандитами. Malum quidem nullum esse sine aliquo bono[18], записал Тин в дневнике, который вел время от времени. Нет худа без добра.
У двух болванов хватило наглости явиться на похороны – это может объяснить болезненную фиксацию Джорри на погребальной теме. Она до сих пор жалеет, что так это и спустила: подумать только, явились к могиле, притворялись печальными, рассказывали близнецам, какой прекрасной, добросердечной женщиной была их мать, каким хорошим другом! «Другом, черта с два! Скажите уж прямо, безотказной давалкой!» – ярилась Джорри. Надо было так им и сказать; надо было устроить сцену. Надавать по мордам.
Тин думает, что, может быть, эти люди в самом деле грустили. Разве можно сказать с уверенностью, что они не испытывали к матушке Мэв любви – хотя бы в одном из значений этого слова? Amor, voluptas, caritas[19]. Но он помалкивает – подобное мнение было бы слишком неприятно Джорри, особенно в сочетании с латынью: Джорри терпеть не может латыни и всего, что с ней связано. Она никогда не могла понять этой части жизни Тина. Зачем терять время на какие-то пыльные каракули давно забытых писак на давно мертвом языке? Тин такой умный, такой талантливый, он мог бы стать… (следует длинный перечень возможностей – совершенно нереалистичных).
Так что эту кнопку лучше не нажимать.
Словосочетание «болваны и бандиты» они подхватили в восьмом классе от своего директора школы: он обожал читать ученикам нотации, что им грозит превратиться в болванов и бандитов, особенно если они будут кидаться снежками с заложенным внутрь камнем или писать на доске матерные слова. «Болваны против бандитов» – так называлась игра, изобретенная Тином, когда он еще был популярен среди одноклассников, до начала «голубого периода». Нечто вроде «Захвата флага». В нее играли на школьном дворе, на мальчиковой половине. Девочки не могут быть болванами и бандитами, сказал Тин, только мальчики могут. Джорри обиделась.
Это ей пришло в голову называть случайных приятелей матушки Мэв («скорее уж, приятелей по случке», как съязвил однажды Тин) болванами и бандитами. Тин тут же воспылал отвращением к придуманной им игре; позже он решил, что этот эпизод, несомненно, способствовал его «голубизне».
– Ну, уж я-то тут ни при чем, – сказала Джорри. – Не я же их водила к нам домой.
– Дорогая, я тебя не виню, я тебя благодарю, – сказал Тин. – Я тебе искренне благодарен.
Кстати говоря, к тому времени – когда он уже начал понимать, что к чему, – это была чистая правда.
Мать не все время пила. Запои у нее случались только по выходным. По будням она ходила на работу – она трудилась секретаршей за гроши, дополняя скудную пенсию солдатской вдовы. И вообще она по-своему любила близнецов.
– По крайней мере, она не была садисткой. Правда, иногда увлекалась, – говорила Джорри.
– Тогда все били детей. И все увлекались.
И впрямь – тогда дети даже хвастались полученными взбучками и преувеличивали, чтобы взять верх над товарищами. Шлепанцы, ремни, линейки, щетки для волос, ракетки для пинг-понга – таков был тогдашний родительский арсенал. Юные близнецы жалели, что у них нет отца, который бы их бил, а есть только малоэффективная матушка Мэв: ее легко было довести до слез, притворившись, что наказание тебя непоправимо искалечило; ее можно было безнаказанно дразнить, от нее можно было убежать. Их было двое, а она одна, так что они сговаривались против нее.
– Наверное, мы были очень жестокие дети, – говорила Джорри.
– Мы не слушались. Нагличали. Отбились от рук. Но все же мы были очаровательны, согласись.
– Мы были мерзкие щенки. Бессердечные щенки. Безжалостные, – порой уточняет Джорри. Что это – раскаяние или хвастовство?
В подростковые годы Джорри претерпела болезненный инцидент с одним из болванов – тот застал ее врасплох, а Тин не вступился, поскольку в это время спал. Это до сих пор давит ему на совесть. Должно быть, именно из-за этого все ее отношения с мужчинами пошли наперекосяк, хотя, скорее всего, они бы в любом случае пошли наперекосяк, так или иначе. Теперь она обращает то происшествие в шутку – «Изнасилована троллем!» – но это ей не всегда удавалось. В начале семидесятых, когда многие женщины пустились во все тяжкие, тема изнасилования была для нее очень болезненной, но сейчас она вроде бы оправилась.
Не всему причина – изнасилование, думает Тин. Лично его никто из болванов не насиловал, но его отношения с мужчинами столь же беспорядочны, как у сестры, а может, и еще того хуже. Джорри однажды сказала, что беда – в его подходе к любви: он ее слишком концептуализирует. Он ответил, что это Джорри концептуализирует недостаточно. То было давно, когда они еще обсуждали любовь.
– Нам бы положить твоих и моих любовников в блендер, хорошенько измельчить и перемешать, – сказала однажды Джорри. – Прийти к среднему.
Тин ответил, что ее формулировки чрезвычайно брутальны.
Дело в том, думает сейчас Тин, что они никогда не любили никого, кроме друг друга. Во всяком случае, никого другого не любили безусловной любовью. Все прочие их любови включали в себя множество условий.
– Гляди-ка, кто откинул копыта! – восклицает Джорри. – Апофеоз Большого Члена!
– Это подходит к куче народа, – говорит Тин. – А я полагаю, ты имеешь в виду определенного человека. Я вижу, у тебя подергиваются уши, значит – кто-то важный в твоей жизни.
– Угадай с трех раз. Подсказка: он часто бывал в «Речном пароходе» в то лето, когда я вела их бухгалтерию бесплатно.
– Ты хотела хороводиться с богемой, – говорит Тин. – Что-то смутно припоминаю. Так кто это? Слепой Сонни Терри?
– Не говори глупостей, он уже тогда был дряхлым старцем.
– Тогда сдаюсь. Я туда почти не ходил, там слишком сильно воняло. Эти фолк-певцы принципиально не мылись – как будто у них фишка была в этом.
– Неправда, – возражает Джорри. – Во всяком случае, не все. Я точно знаю. Сдаваться – нечестно!
– А кто говорит, что я честный? Не ты, во всяком случае.
– Ты обязан читать мои мысли.
– О, вызов моим способностям! Ну хорошо, это Гэвин Патнем. Самозваный поэт, в которого ты втюрилась.
– Ты знал!
Тин вздыхает:
– Он был чудовищно неоригинален – и он сам, и его стихи. Сентиментальный мусор. Омерзительно похабный при этом.
– Ранние стихи были очень хороши, – защищается Джорри. – Сонеты. Которые не были сонетами. К смуглой леди.
Непростительная оплошность. Как он мог забыть, что часть ранних стихов Гэвин Патнем посвятил Джорри? Во всяком случае, по ее словам. Она была в полном восторге. «Я муза!» – объявила она, когда сонеты к смуглой леди были опубликованы – если это вообще можно счесть за публикацию – в журнале из нескольких скрепленных степлером мимеографических страниц, который поэты верстали сами и продавали друг другу за доллар. Он назывался «Грязь» – они очень старались бросить вызов общественному вкусу.
Джорри так радовалась тем стихам, что Тим был тронут. В ту пору они виделись редко. Джорри вела гиперактивную (и это еще мягко сказано) светскую жизнь – несомненно, благодаря легкости, с которой прыгала в чужие постели. А Тин жил в двух комнатушках над мужской парикмахерской на улице Дандас и втихомолку переживал кризис половой идентичности, не прекращая работу над диссертацией.
Диссертация была солидным трудом, но, прямо скажем, не таила гениальных открытий – очередной анализ эпиграмм Марциала, тех, что почище и поприличней. На самом деле Тина привлекли взгляды Марциала на секс – он гораздо проще относился к этому занятию, чем современники Тина. Никаких романтических обиняков, никакой идеализации Женщины как существа, имеющего высшее духовное призвание; услышь Марциал о таком, он бы животики надорвал от смеха! И никаких табу, все делали всё со всеми: с рабами, юнцами, девицами, шлюхами, противоположным полом, своим полом, с женами, с молодыми, зрелыми, стариками, красивыми, дурными собой, страшными уродами, порнография, скатология, спереди, сзади, рот, рука, член. Секс был частью жизни, как еда, и потому следовало наслаждаться им, когда он хорош, и высмеивать, если он оставляет желать лучшего; это было развлечение, все равно что театр, и его можно было оценивать, как театральную постановку. Целомудрие не было главной добродетелью, к которой следовало стремиться – все равно, мужчинам или женщинам, – но определенные формы дружбы, щедрости, нежности получали высший балл. Современники звали Марциала солнечным, необычайно добродушным человеком, и его ядовитые остроты ничуть не противоречили этому образу. Он утверждал, что бичует не людей, а типы; впрочем, в этом Тин сомневался.
Однако в диссертации не принято писать о том, почему тебя привлекает именно эта тема; Тин знал, что в научном мире подобные вещи годятся лишь для светской болтовни. Для диссертации требовалась более четкая формулировка. Главный тезис Тина заключался в том, что трудно быть сатириком в эпоху, когда моральные стандарты чрезвычайно низки – что как раз и было характерно для эпохи Марциала: он переехал в Рим, когда у власти был Нерон. Кто такой Марциал на самом деле – истинный сатирик или просто грязный сплетник, как утверждали некоторые комментаторы? Тин намеревался защищать своего героя: в диссертации он заявит, что творчество Марциала нельзя свести к траханью мальчиков, рассуждениям о членах и шуткам про шлюх и про то, как кто-то пернул. Хотя, конечно, Тин не собирается использовать в своей работе подобный грубый и просторечный лексикон. И все эпиграммы, нужные для работы, он переведет заново сам, стараясь как можно лучше передать виртуозные формулировки Марциала. Хотя самые непристойные из эпиграмм он благоразумно решил опустить, их время еще не пришло.
Всех ты, Летин, обдурить решил, шевелюру покрасив, Сед как лунь был вчера, черен как ворон теперь. Как же, держи карман! Прозерпина не дура, не думай — Лживую юность тотчас сдернет с твоей головы[20].Вот такого стиля он решил придерживаться в своих переводах – современного, хлесткого, естественно звучащего. Бывало, он по целой неделе бился над одной-двумя строчками. Но те времена давно прошли, ибо всем, по большому счету, наплевать.
Тину дали грант, хотя и небольшой, на написание диссертации. Джорри заявила, что изучение античных языков скоро вымрет как класс, и чем он тогда намерен зарабатывать себе на жизнь? Ему следовало заняться дизайном – в этой отрасли сейчас платят убийственные деньги. Но Тин сказал, что получать убийственные деньги не хочет, так как для этого, несомненно, надо будет кого-нибудь убить, а он лишен наклонностей убийцы.
– Деньги говорят сами за себя, – сказала Джорри, которая, несмотря на свои богемные склонности, желала иметь кучу денег. Она не собиралась корпеть в каком-нибудь пыльном офисе, где из нее будут выжимать все соки и притом недоплачивать. Она не желала стать легкой добычей болванов и бандитов – как это случилось с матерью. Джорри грезила о шикарных автомобилях, отпуске на Карибах, гардеробной, полной сшитых на заказ нарядов. Она еще не сформулировала это видение словами, но Тин уже чувствовал, к чему идет дело.
– Да, – сказал он. – Говорить-то они говорят, но у них очень ограниченный словарный запас.
Так мог бы выразиться Марциал. Может, он так и сказал где-нибудь. Надо проверить. Aureo hamo piscari. Удить золотым крючком[21].
Брадобреи, работавшие на первом этаже в доме Тина, – три брата-итальянца, пожилых мизантропа, – затруднялись сказать, куда катится этот мир, но точно знали, что ничего хорошего ждать не приходится. В парикмахерской была стойка с журнальчиками определенного типа для клиентов – репортажи о полицейских буднях, фотографии шлюх с огромными грудями и так далее. Предполагалось, что подобное чтиво нравится мужчинам. От этих журнальчиков Тина мутило – призрак матушки Мэв бойко витал над черными лифчиками и тому подобными вещами, – но все равно Тин стригся здесь, задабривая итальянцев, и в ожидании своей очереди листал эту печатную продукцию. В те дни еще не стоило открыто показывать, что ты не такой, и вообще он пока не определился; а итальянцы были его квартирными хозяевами, и их приходилось умасливать.
Однако пришлось объяснить им, что Джорри – его сестра-близнец, а не распутная подружка. Несмотря на запас непристойных журнальчиков (вероятно, проходивших по разряду инвентаря), итальянцы весьма пуритански относились ко всяким шурам-мурам на сдаваемой жилплощади. Они считали Тина добродетельным, прилежным молодым ученым, прозвали его профессором и все время спрашивали, когда же он женится. «У меня нет денег», – отвечал обычно он. Или: «Я все никак не встречу свою суженую». Брадобреи мудро кивали – оба ответа были удовлетворительны.
Поэтому, когда Джорри приходила в гости (нечасто), братья махали ей через окно, мрачно улыбаясь. Как мило, что у профессора такая образцовая сестра. Во всех бы семьях так. Когда вышел номер «Грязи» с сонетами к смуглой леди, Джорри немедленно примчалась к Тину, горя желанием объявить о новопожалованном ей звании Музы. Она взлетела по лестнице на второй этаж, размахивая журналом – еще теплым, только что с мимеографа, – и плюхнулась в плетеное кресло.
– Смотри! – она сунула ему скрепленные скобками страницы, другой рукой откинув назад копну темных волос. Стройный стан был схвачен набивной тканью с рисунком из ярких красных и охряных квадратов, а на шее, в глубоком вырезе крестьянской рубахи, болталось ожерелье из… что это? неужели коровьи зубы? Глаза Джорри сияли, побрякушки звякали. – Семь стихотворений! Я попала в стихи!
Она была такая бесхитростная. Такая живая. Не будь Тин ее братом, питай он пристрастие к женщинам – побежал бы как ошпаренный… но к ней или от нее? Она слегка пугала. Она хотела всего сразу. Всех сразу. Она хотела ощущений. Тин, уже зараженный цинизмом, думал: ощущения – это то, что достается на твою долю, когда не получаешь желаемого. Но Джорри всегда была оптимистичней брата.
– Ты не можешь быть «в» стихах, – сказал он сердито, потому что эта влюбленность сестры уже начинала его беспокоить. Она непременно поранится: она неуклюжа и лишена сноровки в обращении с острыми предметами. – Стихи состоят из слов. Они не ящики, не дома. Никто не может попасть «в» стихи.
– Буквоед! Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду.
Тин вздохнул, сдался, присел на шаткий одноногий столик, держа в руке чашку только что заваренного чая, и прочел стихи.
– Джорри, – сказал он. – Эти стихи не о тебе.
У нее вытянулось лицо.
– Как не обо мне! А о ком же?! Это точно про мою…
– Они только о части тебя. – О нижней части, но этого он не сказал.
– Что?
Он снова вздохнул.
– Ты больше этого. Ты лучше этого. – Как бы сформулировать? «Ты не просто доступная дырка?» Нет, это слишком обидно. – Он совершенно не замечает твою душу… твой дух.
– Это ты вечно распространяешься о mens sana in corpore sano, – отпарировала она. – В здоровом теле здоровый дух! Я знаю, что ты думаешь – что это секс и больше ничего. Но в том-то все и дело! Я олицетворяю – то есть она, смуглая леди, олицетворяет здоровое, реалистичное отвержение всего фальшивого, сентиментального, нематериального… Совсем как у Д. Г. Лоренса. Так он говорит, Гэв. Именно за это он меня и любит!
И пошла, и пошла.
– Значит, истина в Венере? – сказал Тин.
– Чего?
Ах, Джорри, подумал он. Тебе не понять. Стоит такому человеку тобой овладеть, и ты ему сразу наскучишь. Тебя ждет горькое разочарование. Марциал, 7.76: «То для них не любовь, а лишь забава»[22].
Насчет разочарования он оказался прав. Оно было мгновенным и жестоким. Джорри не вдавалась в детали – была слишком потрясена, – но Тин собрал картинку по кусочкам. Судя по всему, у рифмоплета была сожительница, и она застала Джорри и Апологета Земной Любви на священном домашнем ложе, то есть матрасе.
– Я, конечно, зря засмеялась, – сказала Джорри. – Это было грубо. Но уж очень потешно получилось. И у нее был такой ошарашенный вид! Наверно, я ее сильно обидела своим смехом. Но я просто никак не могла удержаться.
Сожительницу звали Констанция («Фу-ты ну-ты, ну и имечко!» – фыркнула Джорри), и она была воплощением той самой сентиментальности и нематериальности, которую презирал Рифмоплет. В роковой момент она побледнела – стала еще бледней, чем была, – пробормотала что-то о деньгах за квартиру, повернулась и вышла. При этом она даже не топала, а семенила, бесшумно, как мышка. Воплощенная нематериальность. Джорри на ее месте как минимум повыдирала бы кому-нибудь патлы и нахлестала по мордасам.
Она решила, что уход Констанции – повод для торжества, победа жизненных сил и плотской истины над бесплодной абстракцией; но вышло не так. Недорифмач, изгнанный из спальни лунной девы, выл под дверью, просясь обратно; он орал, зовя свою Истинную Любовь, как мартовский кот или как младенец, у которого забрали сиську.
Джорри бестактно отнеслась к этим страданиям и покаянному скулежу – вероятно, она чересчур щедро рассыпала слова «подкаблучник» и «импотент», так что ее изгнание было неизбежным. Мистер Рифмоплет вдруг заявил, что именно она виновата во всей этой катавасии. Она его искушала. Она его соблазнила. Она была змеем в саду.
Тин решил, что в этом есть доля истины: Джорри была охотницей, а не дичью. Но все же для танго нужны двое: Малый Миннезингер имел полную возможность ей отказать.
Короче говоря, Джорри велела поэту перестать ныть насчет Констанции, они поругались, и Джорри вышвырнули в сточную канаву жизни, как использованный презерватив. С ней еще никто так не обращался! У Тина разрывалось сердце от жалости. Он пытался развлечь сестру – походами в кино, выпивкой, хотя денег у него особо не было ни на то, ни на другое – но она была неутешна. Она не закатывала истерик, не плакала, но в ней появилась некая мрачность, которая затем сменилась плохо скрываемой подспудно тлеющей ненавистью.
Совершит ли она непоправимое? Устроит поэту скандал на публике, с воплями и пощечинами? Пожалуй, у нее хватило бы злости. Над ней жестоко подшутили; звание музы, некогда источник радости и гордости, стало мучительным: не-сонеты, воспевающие смуглую леди, вошли в первый тоненький настоящий сборник стихов Гэвина «Тяжкий лунный свет» и теперь ухмылялись с его страниц, терзая Джорри насмешкой и упреком.
Еще хуже, эти стихи набирали вес по мере того, как Гэвин поднимался по лестнице читательского признания. Он получил премию (как потом оказалось – первую из цепочки небольших, но все же полезных в плане карьеры). Ранние стихи заиграли по-новому рядом с более поздними, в которых поэт запел на иной лад: лирический герой понял, что смуглая леди – носительница лишь плотского, в чем-то отвратительного, ненадежного начала, и вернулся к поклонению Истинной Любви в ее бледном сиянии. Но сия совершенная красота с ледяными глазами не простила безутешного былого возлюбленного, несмотря на его чрезмерно искусные, полные пафоса и неоднократно опубликованные мольбы.
Эти более поздние стихи сильно задели Джорри. Ей пришлось искать в «Словаре иностранных и редких слов» слово «иеродула». Было больно.
Чтобы отомстить, Джорри ушла в загул – она собирала любовников, как цветы, в каждой канаве и на каждой парковке, и так же небрежно выкидывала. Впрочем, Тин по опыту знает: того, кто тебя бросил, ничем таким не впечатлить; раз дошло до этого, можешь пасть сколь угодно низко, чтобы сквитаться с ним, – ему глубоко плевать. Совокупляйся хоть с безголовым козлом, это ничего не изменит.
Но времена года сменяли друг друга, как обычно, и заря, держа мел в нежных пальчиках, отметила черточками триста шестьдесят два розовых утра, а затем еще столько утр, что набралось на целый год, а потом еще один; и луна желания всходила, опускалась за горизонт и всходила снова, и тэ дэ и тэ пэ; и Певец Неутомимого Хера исчез в тумане прошлого. Во всяком случае, Тин на это надеялся – ради Джорри.
А вот теперь выясняется, что не так уж он и исчез. Стоит откинуть копыта, и вуаля – ты снова в свете рампы, думает Тин. Он надеется, что призрак Гэвина Патнема окажется дружелюбным – раз уж покойный решил задержаться на этом свете.
Вслух Тин говорит:
– Ах да, сонеты к смуглой леди. Помню, как же. Он хотел и рыбку съесть, и на бабу влезть, но стихами ему было проще; тебя он, во всяком случае, на них подцепил. Помню, ты вваливалась в мое брадобрейское гнездо, и от тебя разило подзаборным сексом. Воняло, как от лежалой рыбы. Ты целое лето страдала по этому уроду. Не знаю, какого хера ты в нем нашла. Я этого так и не понял.
– Потому что тебе он свой хер ни за что не показал бы. – Она смеется собственной шутке. – А посмотреть там было на что! Ты бы обзавидовался!
– Только не говори, что ты была в него влюблена, – говорит Тин. – То была низкая, примитивная похоть. У тебя крышу сорвало на гормональной почве.
Он ее хорошо понимает – сам через такое проходил. Со стороны это всегда выглядит смешно.
Джорри вздыхает.
– У него было потрясающее тело, – говорит она. – Пока было.
– Забудь, – отвечает Тин. – Тела больше нет, есть только труп.
Оба хихикают.
– Ты пойдешь со мной? – спрашивает Джорри. – На гражданскую панихиду? Поглазеть?
Она хорохорится, но не может обмануть ни его, ни себя.
– Мне кажется, тебе не следует идти, ничего хорошего из этого не выйдет.
– Почему? Мне интересно. Может, там будут его жены.
– Ты слишком самолюбива, – говорит Тин. – До сих пор не можешь поверить, что твое место заняла другая. Что тебе не досталась призовая свинья. Ну взгляни правде в лицо, вы не были созданы друг для друга.
– О, это-то я знаю, – отвечает Джорри. – Мы перегорели. Горели слишком жарко, и надолго нас не хватило. Я просто хочу полюбоваться двойными подбородками жен. И может, Эта-как-ее-там тоже придет. Вот будет умора, верно?
О боже, думает Тин. Только Этой-как-ее-там не хватало! Джорри до сих пор таит обиду на Констанцию, сожительницу, чей матрас осквернила, – до такой степени, что даже имени ее не хочет произносить.
К несчастью, Констанция В. Старр не канула в глубины забвения, как можно было бы предположить, исходя из ее робости и нематериальности. Напротив, она стала непристойно знаменитой, причем по совершенно смехотворной причине – как К. В. Старр, автор убогих книжонок про волшебную страну под названием Альфляндия. Альфляндия принесла своей создательнице такую охрененную кучу денег, что Гэвин, Относительно Нищий Поэт, должно быть, переворачивался в гробу – даже до того, как на самом деле умер. Вероятно, проклиная день, когда опьянился гормонами, исходящими от Джорри.
И вот звезда К. В. Старр взошла, а звезда самой Джорри закатилась, померкла. Поклонники едва ли не рвут К. В. Старр на части. По случаю выхода новых книг люди толпятся в магазинах, стоят в шумных очередях, одетые – и дети, и взрослые, обоих полов – в костюмы негодяя Милзрета Красной Руки, или Скинкрота Пожирателя Времени с пустым лицом, или Френозии Благоуханные Усики, богини с фасеточными глазами, за которой следует свита волшебных индигово-изумрудных пчел. У Джорри от всего этого, должно быть, желчь подступает к горлу, хотя она ни за что не признается.
Тин несколько раз бывал вместе с Джорри в «Речном пароходе» и примерно помнит неправдоподобную историю рождения волшебной страны. Началась она с череды эрзац-сказок из разряда «меч и колдовство». Их публиковали дешевые журнальчики – на обложках красовались полуголые девицы, на которых похабно пялились космические ящерицы явно мужского пола. Завсегдатаи «Речного парохода», особенно поэты, подшучивали над Констанцией, но Тин подозревает, что эти шутки давно кончились. Деньги удят рыбку на золотой крючок.
Конечно, он и сам читал эти книги про Альфляндию, хотя и не все: он решил, что обязан, ради Джорри. Если она когда-нибудь спросит его критическое мнение, он сможет как верный брат сказать ей, что они ужасны. Конечно, Джорри их тоже читала. Наверняка ее обуяло непреодолимое ревнивое любопытство. Но ни Тин, ни Джорри не признались друг другу даже в том, что хотя бы прикоснулись к этому чтиву.
К счастью, думает Тин, Констанция В. Старр слывет затворницей; она стала еще реже выходить после смерти мужа, чей некролог в газете Джорри прочла молча. В идеальном мире К. В. Старр не пришла бы на гражданскую панихиду по Гэвину Патнему.
Каковы шансы, что мы живем в идеальном мире? Один из миллиона.
– Если ты идешь на панихиду Патнема из-за того, что там будет К. В. Старр, я тебе запрещаю, – говорит Тин. – Потому что получится отнюдь не, как ты выражаешься, умора. На тебя это подействует очень негативно.
А вот чего он не произносит вслух: «Джорри, ты проиграешь. Точно так же, как проиграла в прошлый раз. Выгодная позиция – у нее».
– Я не из-за нее, честно! – уверяет Джорри. – То было больше пятидесяти лет назад! Как это может быть из-за нее, если я даже не помню, как ее зовут? И вообще, она была такая невесомая! Такая серая мышка! Мне казалось, стоит чихнуть, и ее унесет!
Джорри задыхается от смеха.
Тин раздумывает. Эта буря чувств означает, что Джорри нуждается в его поддержке.
– Ну ладно, я пойду, – говорит он с искренней неохотой. – Но у меня такое ощущение, что ничего хорошего из этого не выйдет.
– Дай свое мужское слово, – требует Джорри. Эта фразочка – из фильма-вестерна, который они смотрели вместе: детьми они регулярно ходили на утренний сеанс.
– Где проходит роковое мероприятие? – спрашивает Тин утром того самого дня. Сегодня воскресенье – единственный день, когда он допускает Джорри до готовки. Обычно ее кулинарные усилия сводятся к открыванию коробочек с едой, взятой навынос, но иногда поварские амбиции берут верх, и тогда бьется посуда, слышится ругань и пахнет горелым. Но сегодня, хвала господу, день бубликов. А кофе идеален, потому что его Тин варил сам.
– В Школе Еноха Тернера, – говорит Джорри. – Где царит благодатная атмосфера, воскрешающая стародавние времена.
– Кто это писал? Диккенс?
– Я, – отвечает Джорри. – Много лет назад. Когда я только что ушла во фриланс. Заказчик хотел архаичный стиль.
Тин припоминает, что Джорри, строго говоря, не совсем «ушла во фриланс»: в рекламном агентстве, где она работала, вспыхнула междоусобная война, и Джорри оказалась на проигравшей стороне, да еще, к несчастью, высказала оппонентам все, что о них думала. Однако у нее оказалась неплохая «подушка безопасности», и Джорри пошла спекулировать недвижимостью. Прибыли от этого занятия ей хватало на туфли от именитых дизайнеров – мечту фут-фетишиста – и поездки в вульгарные зимние отпуска на супердорогие курорты, пока очередной любовник климактерической Джорри не удрал со всеми ее сбережениями. Тогда оказалось, что ее задолженности превышают сумму активов, пришлось продавать в неблагоприятный момент, и горшочек с золотом развеялся как дым. Что же мог сделать Тин, как не принять сестру под свой кров? Его жилье вмещает двоих, но едва-едва: Джорри занимает массу места.
– Надеюсь, этот школьный дом – не апофеоз китча, – говорит Тин.
– Можно подумать, у нас есть выбор.
Покопавшись у себя в гардеробной, Джорри приносит три комплекта одежды на вешалках, чтобы Тин высказал свое мнение. Таково его требование – условие, – когда он куда-то идет вместе с ней.
– Каков будет вердикт? – спрашивает она.
– Ядовито-розовый – точно нет.
– Но это же Шанель! Настоящая!
И брат, и сестра часто посещают магазины винтажной одежды, хотя и самые дорогие. Счастье, что им удалось сохранить хотя бы фигуру: Тин все еще влезает в элегантные костюмы-тройки в стиле тридцатых годов, хранящиеся у него в гардеробе уже несколько десятков лет. У него даже лакированная трость есть.
– Не важно, – говорит он. – Этикетку никто читать не будет, а ты не Джеки Кеннеди. Ядовито-розовый цвет будет чрезмерно привлекать внимание.
Джорри и хочет чрезмерно привлекать внимание – в этом весь смысл! Если там окажется кто-то из жен Гэвина, а тем более – Эта-как-ее-там, они обязательно должны ее сразу же заметить. Но Джорри уступает, потому что знает – иначе Тин с ней не пойдет.
– И леопёрдовая накидка – тоже нет.
– Но они опять вошли в моду!
– Именно поэтому. Они слишком в моде. Не дуй губы, становишься похожа на верблюда.
– Значит, ты голосуешь за серое. Можно я зевну?
– Можешь зевать, но объективную реальность это не изменит. У серого костюма прекрасный покрой. Лаконичный. Может быть, с шарфом?
– Чтобы прикрыть мою жилистую шею?
– Заметь, не я это сказал.
– Я знаю, что всегда могу на тебя положиться, – говорит она. И не иронизирует: Тин спасает ее от самой себя – когда она слушается его советов. Выходя из дома, она может быть уверена, что выглядит презентабельно. Тин выбирает для нее шарф – приглушенный «китайский красный» немного оживит цвет лица.
– Ну что, как я выгляжу? – спрашивает Джорри, вертясь перед ним.
– Потрясающе, – отвечает Тин.
– Я обожаю, когда ты врешь, чтобы меня утешить.
– Я не вру. – Слово «потрясающий» означает «производящий сильное впечатление». Так оно в принципе и есть. После определенного момента даже серый костюм прекрасного покроя не спасает положение.
Наконец они готовы двинуться в путь.
– Надень самое теплое пальто, – говорит Тин. – На улице колотун.
– Что?
– Очень холодно. Минус двадцать, а потом будет еще холоднее. Очки взяла?
Он хочет, чтобы она сама читала программку, а не приставала к нему.
– Да, да. Две пары.
– Носовой платок?
– Не волнуйся, я не собираюсь плакать. Еще чего, из-за этого говнюка!
– Если все-таки будешь, я тебе рукав подставлю, – говорит Тин.
Она вздергивает подбородок, словно вздымает боевой стяг:
– Не понадобится.
Тин настаивает на том, чтобы сесть за руль: ехать пассажиром в машине, которую ведет Джорри, – все равно что играть в русскую рулетку. Иногда Джорри водит нормально, но вот на прошлой неделе, например, переехала енота. Она заявила, что он был уже мертвый, но Тин в этом сомневается. «И ообще, – добавила она, – нечего ему было шляться по улицам, погода паршивая и все такое».
Они осторожно едут по обледенелым улицам в «пежо» 1995 года, за которым Тин тщательно ухаживает. Шины скрипят по снегу. Улицы еще не чистили со вчерашнего дня; хорошо хоть, что вчера была просто метель, а не ледяная буря, как та, что накрыла город под Рождество. Провести три дня в таунхаусе без тепла и света было неприятно, тем более что Джорри видела в этом погодном явлении выпад против себя лично и жаловалась, что с ней нечестно обошлись. Как могла погода так поступить по отношению к ней, Джорри?
Машину можно поставить к северу от улицы Кинг – предусмотрительный Тин заранее нашел парковку в Интернете, ибо ему только не хватало под путаные указания Джорри искать, куда бы втиснуться. Они успевают удивительно вовремя: стоянка забита, и несколько машин, подъехавших сразу за ними, вынуждены отправиться восвояси. Тин извлекает Джорри с переднего сиденья и поддерживает ее на скользком месте. Зачем он не запретил эти сапоги на шпильках? Джорри может упасть и сломать себе что-нибудь серьезное – ногу, шейку бедра, – и тогда будет на много месяцев прикована к постели, а ему придется таскать подносы с едой и выносить горшки. Крепко держа сестру за плечо, он ведет ее по Кинг-стрит, потом сворачивает на юг по Тринити.
– Погляди, сколько народу, – говорит Джорри. – Черт возьми, кто все эти люди?
И правда, к школе Еноха Тернера стекается толпа. Как и следовало ожидать, много дряхлых старцев – вроде самих Тина и Джорри. Но, как ни странно, много и молодых. Неужто у нынешней молодежи существует культ Гэвина Патнема? Это было бы чрезвычайно неприятно, думает Тин.
Джорри прижимается к нему плотней, голова ее вращается, как перископ.
– Я ее не вижу, – шепчет она. – Ее здесь нет!
– Она не придет, – говорит Тин. – Испугалась, что ее назовут Эта-как-ее-там.
Джорри смеется, но не от души. У нее нет никакого плана, думает Тин: она просто бросается в атаку очертя голову, как всегда. Хорошо, что он с ней пошел.
Внутри очень людно и жарко, хотя и в самом деле царит благодатная атмосфера, воскрешающая стародавние времена. Слышится приглушенный гам, словно в отдалении – птичий базар. Тин помогает Джорри снять пальто, сам выбирается из своего и устраивается поудобней, намереваясь просидеть до конца мероприятия.
Джорри пихает его локтем и шепчет, кипя от возбуждения:
– Вон та, в голубом, должно быть, вдова. Черт, ей на вид лет двенадцать. Все-таки Гэв был ужасный извращенец.
Тин ищет глазами женщину, о которой говорит Джорри, но не видит ничего похожего. Как она ее разглядела с дальнего конца зала?
Толпа стихает: на сцену поднимается моложавый мужчина в водолазке и твидовом пиджаке – униформа университетского преподавателя – и приветствует всех, кто собрался, чтобы почтить память одного из наших самых любимых и знаменитых, и, если ему позволено будет так выразиться, важнейших поэтов.
«Говори за себя, – думает Тин. – Может, для кого он и был важнейшим, но для меня – точно нет». Он отключает слух и принимается мысленно оттачивать строчку-другую перевода из Марциала. Он больше не публикует плоды своего труда, смысла нет, но импровизированный перевод – хорошее упражнение для ума, позволяющее приятно провести время в случаях, когда его необходимо провести.
Все ты, Хиопа, блудишь на виду у прохожих. От твоего бесстыдства их просто корежит. Бери пример с подружек-шлюх, они скромней, За занавеской иль стеной развлекают гостей. Даже самые дешевые бабищи Продают себя в укромном месте, на кладбище. Трахайся вволю, мне не жаль! Но не прилюдно, ибо страдает мораль[23].Кажется, вышло слишком похоже на детские стишки. И ритм, и рифма. Может, двинуться еще дальше в этом направлении?
Дорогие мои шлюхи! Трахайтесь, когда вы в духе, Молодые иль старухи, Худощавы иль толстухи, Груди полны или сухи, На спине или на брюхе, Трахайтесь до звона в ухе, Только чур – не напоказ!Нет, это совершенно не годится: это глупее даже самых отъявленных дурачеств Марциала, и притом слишком далеко от исходного текста. Кроме того, пропало упоминание кладбища как места для утех, а его стоит сохранить. Он потом попробует еще раз. Может, взять другую эпиграмму, про фигу и смокву…
Локоть Джорри въезжает ему под ребро. «Ты засыпаешь!» – шипит она. Тин вздрагивает и приходит в себя. Торопливо просматривает программку, в которой указано, что будет происходить и в каком порядке. Из черной рамки повелительно смотрит Гэвин. В каком месте программы они сейчас? Внуки уже спели? Очевидно, да; и не какой-нибудь заунывный церковный гимн, но – о ужас – «Мой путь» Синатры; того, кто это придумал, следовало бы высечь девятихвостой плеткой, но, к счастью, Тин во время исполнения был в отключке.
Теперь взрослый сын читает вслух: не из Писания, но из трудов самого покойного трубадура позднего периода, строки об опавших листьях в бассейне:
Мария ловит умирающие листья. Души ли это? Вдруг один из них – моя душа? А кто Мария – ангел смерти ли, темноволосая, Сама из темноты, пришла забрать меня? Душа-скиталица в водовороте холода, Блеклая, пособница давняя тела глупого, Где ты приют найдешь? На голом ли брегу? И будешь лишь листом увядшим? Или…Ага, стихотворение не окончено: Гэвин умер, не дописав его. Бьют на жалость, думает Тин. Неудивительно, что из рядов слышатся сдавленные рыдания, словно лягушки на болоте раскричались по весне. Впрочем, если над этим творением хорошенько поработать, могло бы получиться нечто сносное. Оставив, конечно, в стороне тот факт, что оно чуть менее чем полностью слизано с обращения умирающего императора Адриана к собственной душе. Впрочем, благорасположенный критик вместо «слизано с…» скажет «содержит аллюзии на…». Значит, Гэвин Патнем достаточно хорошо знал творчество Адриана, чтобы воровать у него. Это значительно поднимает усопшего версификатора в глазах Тина. Но лишь как поэта, не как человека.
«Душа моя, скиталица, – декламирует он про себя, – И тела гостья, спутница,// В какой теперь уходишь ты// Унылый, мрачный, голый край,// Забыв веселость прежнюю»[24]. Умри, лучше не напишешь. Хотя многие пытались.
Речи прерываются – по программе сейчас «молчаливая медитация»: участникам мероприятия велят закрыть глаза и размышлять о своей духовно обогащающей дружбе с коллегой и другом, которого с нами больше нет, и о том, что эта дружба значила для них лично. Джорри опять толкает Тина локтем под ребра. Этот толчок означает: «То-то потом будем животики надрывать, вспоминая!»
Очередное угощение на этом погребальном пиру духа не заставляет себя ждать. Один из фолк-певцов эпохи «Речного парохода» – сильно морщинистый, с реденькой козлиной бородкой, напоминающей подбрюшье сороконожки, – встает, чтобы осчастливить собравшихся песней из той славной эпохи: «Мистер Тамбурин»[25]. Странный выбор – это отмечает и сам исполнитель, прежде чем начать петь. «Но мы типа не должны грустить, да? Мы должны радоваться! Я знаю, что Гэв наверняка нас сейчас слышит и притопывает ногой от радости! Эй, там, наверху! Гляди, дружище, мы тебе машем!»
Там и сям в зале захлебываются рыданиями. Избави нас господь, вздыхает Тин. Джорри рядом с ним трясется. От скорби или от смеха? Смотреть на нее нельзя: если она смеется, они расхохочутся оба, и тогда может получиться неудобно, вдруг Джорри не сможет перестать.
Дальше идет хвалебная речь в адрес покойного – ее произносит преступно хорошенькая смуглая молодая женщина в высоких сапожках и яркой шали. Она представляется – Навина-как-то-там, специалист по творчеству усопшего. Она говорит, что хотела бы рассказать, что хотя она познакомилась с мистером Патнемом лишь в последний день его жизни, но, несмотря на это, в полной мере ощутила свойственную ему заботливость и его заразительную любовь к жизни, и это ее глубоко тронуло, и она чрезвычайно благодарна миссис Патнем – Рейнольдс, – так как это стало возможным благодаря ей, и хотя она потеряла мистера Патнема, но приобрела нового друга в лице Рейнольдс в результате этого ужасного испытания, через которое они прошли вместе, и она так рада, что не уехала из Флориды в тот день, когда это все произошло, и таким образом смогла быть рядом с Рейнольдс и поддержать ее, и она уверена, что все присутствующие присоединятся к ней и горячо пожелают Рейнольдс всего самого наилучшего в это трагичное и трудное время, и… У Навины срывается голос. «Извините, – говорит она. – Я хотела сказать еще, ну вы знаете, про стихи, но…» Она сбегает со сцены в слезах.
Трогательная малютка.
Тин смотрит на часы.
Вот наконец последний музыкальный номер. Это «Прощай, моя любовь», шотландская народная песня. Говорят, что именно она вдохновила Гэвина Патнема на создание его первого, ныне знаменитого сборника стихов «Тяжкий лунный свет». На сцену всходит певец, юноша с волосами цвета медной проволоки, в сопровождении двух других юнцов, с гитарами.
Теперь прощай, моя любовь, Нас разлучат невзгоды, Клянусь, что я вернусь к тебе Сквозь мили и сквозь годы.Это бьет наповал, с гарантией: обещание вернуться, когда точно знаешь, что прощаешься навсегда. Тенорок певца дрожит и затухает, сменяясь залпом рыданий и кашля в зале. Тин чувствует, как кто-то трется о его рукав. «Ох, Тин», – говорит Джорри.
Он велел ей взять носовой платок, но она, конечно, не взяла. Он вытаскивает свой и отдает ей.
Бормотание, шелест, все встают и начинают толпиться. Со сцены объявляют, что в Салоне будет открытый бар, а в Западном зале подадут угощение. Слышен топот множества ног, но приглушенный.
– Где туалет? – спрашивает Джорри. Она вытерла лицо, но неумело: потекшая тушь размазалась по щекам. Тин отбирает у нее платок и стирает черные разводы, как может.
– Ты меня подождешь у входа? – жалобно спрашивает она.
– Мне тоже надо. Встретимся в баре.
– Только не застревай на целый день, – говорит Джорри. – Надо быстро валить из этого курятника.
Она становится раздражительной: видно, уровень сахара в крови падает. В суматохе приготовлений они забыли пообедать. Сейчас Тин вольет в нее спиртного, чтобы она быстренько воспрянула, и подведет к сэндвичам без корки. Потом, после одной-двух лимонных полосок, ибо какие же поминки без лимонных полосок, Тин и Джорри быстренько смоются.
В мужском туалете он налетает на Сета Макдональда, почетного профессора из Принстона, специалиста по древним языкам, заслуженного переводчика орфических гимнов и, как выясняется, давнего знакомого Гэвина Патнема. Не в профессиональном плане – они встретились на средиземноморском круизе «Злачные места античного мира», сошлись характерами и потом в течение нескольких лет переписывались. Тин и профессор выражают друг другу соболезнования; Тин из привычной осторожности изобретает легенду, объясняющую его присутствие.
– Мы оба интересовались Адрианом, – говорит он.
– Ах да, – отвечает Сет, – я тоже заметил аллюзию. Весьма искусно.
Из-за этой неожиданной задержки Джорри успевает выйти из туалета раньше Тина. Нельзя было выпускать ее из виду! Она щедро обсыпана блестящей металлизированной бронзовой пудрой и сверх того – еще кое-чем: крупными сверкающими золотыми блестками. Теперь она похожа на кожаную сумку, расшитую пайетками. Видно, протащила все это контрабандой: компенсация за то, что он не позволил ей надеть ядовито-розовый костюм от «Шанель». Конечно, она не могла как следует разглядеть общий эффект в зеркале в туалете; ведь наверняка ей не пришло в голову надеть очки для чтения.
– Что ты сде… – начинает он. Она пригвождает его взглядом: «Не смей!»
Она права: уже ничего не поделать.
Он хватает ее за локоть:
– Вперед, легкая кавалерия!
– Что?
– Пойдем выпьем.
Взяв по бокалу недорогого, но сносного белого вина, они направляются к столу, где сервированы закуски. Разглядев толпу, окружающую стол, Джорри цепенеет:
– Вон она, рядом с третьей женой! Смотри! Вон там!
Она вся дрожит.
– Кто? – спрашивает Тин, прекрасно зная ответ. Горгона, Эта-как-ее-там, К. В. Старр собственной персоной, он узнает ее по фотографиям в газетах. Маленькая седая старушка в неуклюжем стеганом пальто. Никакой пудры с блестками, вообще ни намека на косметику.
– Она меня не узнала! – шепчет Джорри. Теперь она бурлит весельем. Да кто тебя узнает-то, думает Тин, под этим слоем штукатурки и драконовой чешуи на лице. – Она посмотрела прямо сквозь меня! Пошли подслушаем!
Отзвуки их детского подслушивания. Джорри тянет его вперед.
– Джорри, фу! – командует он, словно плохо воспитанному терьеру. Но тщетно: она рвется вперед, натягивая невидимый поводок, который он не успел закрепить у нее на шее.
Констанция В. Старр держит в одной руке сэндвич с яичным салатом, а в другой – стакан воды. Вид у нее настороженный и даже загнанный. Женщина справа от нее – видимо, та самая безутешная вдова, Рейнольдс Патнем, в девственно-голубом костюме и жемчугах. Она и правда выглядит довольно молодо. И похоже, не слишком убивается. Но с другой стороны, ее муж и не вчера умер. Справа от миссис Патнем стоит Навина, красивая молодая поклонница, которая разрыдалась, произнося надгробную речь. Она, кажется, полностью оправилась и взяла себя в руки.
Но сейчас она говорит не о Гэвине Патнеме и его бессмертных строках. Тин настраивает слух на плосковатый по интонациям выговор уроженки Среднего Запада и понимает, что девушка выражает свои восторги по поводу Альфляндии. Констанция В. Старр откусывает кусок от сэндвича; она, вероятно, слышит подобное не впервые.
– Проклятие Френозии, – говорит Навина. – В четвертой книге. Это было так, так… эти пчелы, и Алая Колдунья из Руптуса, замурованная в каменном улье! Это такое, такое…
Слева от знаменитой писательницы – брешь, и Джорри проскальзывает туда. Одной рукой она цепляется за Тина. Выставляет голову вперед, впитывая каждое слово. Она что, собирается выдать себя за поклонницу Старр? Что она задумала?
– Третья книга, – поправляет Констанция. – Френозия впервые появляется в третьей книге, а не в четвертой.
Она снова откусывает от сэндвича и невозмутимо жует.
– О, конечно, конечно, в третьей книге, – Навина нервно хихикает. – И мистер Патнем сказал… он сказал, что вы и его вставили туда. Когда вы вышли за чаем, – это к Рейнольдс, – он мне сам сказал.
Лицо Рейнольдс застывает: это браконьерство, вторжение на ее территорию.
– Вы уверены? – спрашивает она. – Он всегда отрицал именно…
– Он сказал, что очень многого вам не рассказывал, – говорит Навина. – Щадил ваши чувства. Он не хотел, чтобы вы чувствовали себя брошенной – ведь вас в Альфляндию не пустили.
– Вы лжете! Он мне всегда все рассказывал! Он считал, что Альфляндия – полная чепуха!
– Ну вообще-то я и вправду вставила Гэвина в Альфляндию. – До сих пор Констанция вроде бы не замечала Джорри, но при этих словах она поворачивает голову и глядит на Джорри в упор. – Чтобы защитить его.
– Это неуместно с вашей стороны! – говорит Рейнольдс. – Мне кажется, вам лучше…
– И я его защитила, – продолжает Констанция. – Он был в бочонке для вина. Он проспал там пятьдесят лет.
– О, я знала! – восклицает Навина. – Я знала, что он там есть! В какой это книге?
Констанция не отвечает. Она по-прежнему обращается к Джорри:
– Но теперь я его выпустила. Так что он может приходить и уходить как ему угодно. Ты ему больше не угроза.
Что это с Констанцией Старр? – дивится Тин. Угроза Гэвину Патнему со стороны Джорри? Но ведь это он ее отверг, причинил ей боль. Может, в этом стакане не вода, а водка?
– Что? – переспрашивает Джорри. – Это вы мне?
Она сжимает руку Тина, но не для того, чтобы удержаться от смеха. Вид у нее испуганный.
– Гэвин ни в какой не в дурацкой книге! Гэвин умер! – Рейнольдс начинает плакать. Навина делает шажок к ней, но затем отступает.
– Он был под угрозой, потому что ты желала ему зла, Марджори, – говорит Констанция ровным голосом. – Желала зла и гневалась на него. Это очень мощное колдовство, знаешь ли. Пока его дух все еще обитал во плоти по сю сторону, он был в опасности.
Она прекрасно знает, кто такая Джорри; сразу поняла, должно быть, несмотря на блестки и бронзовую пудру.
– Конечно, я злилась – из-за того, как он со мной обошелся! Он меня вышвырнул, выставил, как, как старую…
– Ох, – произносит Констанция. Воцаряется пауза, словно застывшая во времени.
– Я этого не знала, – наконец произносит она. – Я думала, все было наоборот. Я думала, что это ты сделала ему больно.
«Похоже, они столкнулись лоб в лоб, – думает Тин. – Как материя и антиматерия? И сейчас взорвутся?»
– Что, это он так сказал? – спрашивает Джорри. – Черт, а чего другого от него было ждать? Конечно, он все свалил на меня!
– О господи, – вполголоса произносит Навина. – Вы – Смуглая леди! Смуглая леди сонетов! Можно я с вами потом поговорю?
– Это поминки! – кричит Рейнольдс. – А не конференция, блин! Гэвин был бы ужасно недоволен!
Но, похоже, никто из трех женщин ее не слышит. Она сморкается, пронзает их яростным взглядом красных глаз и удаляется в сторону бара.
Констанция В. Старр сует остатки сэндвича в стакан; Джорри смотрит на нее так, словно она смешивает колдовское зелье.
– В таком случае я, как порядочный человек, обязана тебя освободить, – наконец произносит Констанция. – Я действовала под влиянием заблуждения.
– Что? – Джорри почти кричит. – Освободить от чего? О чем ты говоришь?
– Из каменного улья. Где ты так долго была в заточении и где тебя жалили индиговые пчелы. В наказание. И чтобы помешать тебе причинить вред Гэвину.
– Так это она – Алая Колдунья из Руптуса! – восклицает Навина. – Какая круть! А вы можете мне сказать…
Констанция ее по-прежнему игнорирует.
– Прости меня за пчел, – говорит она, обращаясь к Джорри. – Это, наверное, было очень больно.
Тин сжимает локоть Джорри и пытается утянуть ее прочь. Чего доброго, она устроит истерику и начнет пинать старуху-писательницу по лодыжкам или просто поднимет крик. Нужно ее отсюда извлечь. Они поедут домой, он нальет себе и ей выпить покрепче и успокоит ее, а потом они смогут посмеяться над всей этой историей.
Но Джорри не двигается, только отпускает руку Тина.
– Да, это было очень больно, – шепчет она. – Так больно. Все было так больно, всю мою жизнь.
Неужели она плачет? Да: настоящие слезы, металлизированные, сверкающие золотом и бронзой.
– Мне тоже было очень больно, – говорит Констанция.
– Я знаю, – говорит Джорри. Они смотрят друг другу в глаза, словно сплавленные воедино в некоем непостижимом слиянии разумов.
– Мы живем одновременно там и здесь, – говорит Констанция. – В Альфляндии нет никакого прошлого. Там нет времени. Но здесь, где мы сейчас, время есть. И у нас еще осталось немного.
– Да, – говорит Джорри. – Время пришло. И я тоже прошу у тебя прощения. И отпускаю тебя.
Она делает шаг вперед. Что это, думает Тин – объятие или схватка? Это какой-то кризис? Как помочь? Что за странное, безумное женское действо происходит у него на глазах?
Он чувствует себя идиотом. Неужели он все эти годы не понимал про Джорри чего-то главного? У нее есть иные слои, иное могущество? Иные измерения, о которых он никогда не подозревал?
Констанция отступает.
– Иди с миром, – говорит она, обращаясь к Джорри. Теперь на белом пергаменте ее лица блестят золотые чешуйки.
Юная Навина сама не верит своему счастью. Она стоит с полуоткрытым ртом, покусывая кончики пальцев, затаив дыхание. Она обволакивает нас янтарем, думает Тин. Чтобы сохранить навеки. В янтарных бусах, в янтарных словах. Прямо в нашем присутствии.
Lusus Naturae[26]
Что можно со мной сделать? Что следует со мной сделать? Один и тот же вопрос. Возможности были ограничены. Семья перебирала их все – заунывно, бесконечно, сидя по вечерам за кухонным столом за закрытыми ставнями, поедая сухие щетинистые колбасы и картофельную похлебку. Когда мне было получше, я тоже сидела с ними, поддерживала разговор как могла, вылавливая в супе куски картошки. В другое время я пряталась где-нибудь в темном углу, мяукая что-то сама с собой и слушая чирикающие голоса, которых кроме меня никто не слышал.
– А ведь ребеночком она была такая миленькая, – говорила моя мать. – И все у нее было как следует.
Ее печалило, что она произвела на свет подобное существо: это было для нее упреком, осуждением. Чем она провинилась?
– Может, кто-то порчу навел, – говорила моя бабка. Она была сухая и щетинистая, как те самые колбасы, но в ее случае это было естественно, из-за возраста.
– С ней много лет было все в порядке, – говорил мой отец. – Все началось после того, как она переболела корью в семь лет. После этого.
– Кто мог навести на нас порчу? – гадала мать.
Бабка злобно кривилась. У нее был длинный список кандидатов. Но она не могла указать на кого-то определенного. Нашу семью всегда уважали и даже в какой-то степени любили. Пока что. И дальше будет так, если удастся придумать, что делать со мной. Если удастся это придумать раньше, чем я выйду на свет, как шило из мешка.
– Доктор сказал, это болезнь, – говорил мой отец. Ему нравилось считать себя просвещенным мыслителем. Он выписывал газеты. Это он настоял, чтобы меня научили читать, и поощрял меня в чтении, несмотря ни на что. Впрочем, я больше не могла сидеть у него на руках. Он сажал меня на другой конец стола. Эта вынужденная дистанция огорчала меня, но я понимала, почему отец так делает.
– Тогда почему он не даст нам лекарства? – спрашивала мать. Бабка фыркала. У нее были свои мысли на этот счет – вода из гнилого пня и грибы-дождевики. Однажды она сунула мою голову в корыто с замоченным грязным бельем и удерживала под водой, а сама молилась. Так она пыталась изгнать демона, который, по ее убеждению, влетел ко мне в рот и поселился за грудиной. Мать сказала, что бабушка хочет как лучше.
«Кормите ее хлебом, – сказал доктор. – Она будет есть много хлеба. И картошки. Она захочет пить кровь. Сгодится куриная или коровья. Много не давайте». Он сказал, как называется эта болезнь – в названии было много букв «п» и «р», и оно нам ничего не говорило. До меня он только однажды видел такой случай, сказал он, глядя на мои желтые глаза, розовые зубы, красные ногти, густые длинные черные волосы на руках и груди. Он хотел забрать меня в город, чтобы показать другим докторам, но семья воспротивилась.
– Она – lusus naturae, – сказал он.
– Что это значит? – спросила моя бабка.
– Игра природы, – объяснил доктор. Его выписали откуда-то из заморских краев. Местного доктора не стали звать, чтобы он не проболтался. – Это по-латыни. Нечто вроде чудовища.
Он думал, я его не понимаю, потому что мяукаю.
– Никто не виноват, – сказал он.
– Она – человек, – сказал отец. Он заплатил доктору большие деньги, чтобы тот уехал обратно к себе в заграницу и больше не возвращался.
– За что Господь нас так наказал? – спросила моя мать.
– Проклятие или болезнь – это все равно, – сказала моя старшая сестра. – В любом случае, если узнают, на мне никто не женится.
Я кивнула. Это правда. Сестра была хорошенькая, и мы не бедствовали, мы были почти зажиточные. Если бы не я, сестру ждало бы безоблачное будущее.
Днем я сидела у себя в затемненной комнате, поскольку выглядела уже совершенно неприемлемо. Меня это устраивало – я терпеть не могла солнечный свет. По ночам мне не спалось, и я бродила по дому, слушая, как домашние храпят – или поскуливают, если им снятся кошмары. Кот составлял мне компанию. Единственное живое существо, которое хотело быть рядом со мной. От меня пахло кровью – старой, засохшей: может, потому кот за мной и таскался, а иногда забирался мне на колени и начинал меня лизать.
Соседям сказали, что у меня тяжелая болезнь, изнурительная лихорадка, бред. Соседи посылали нам яйца и капусту, а время от времени приходили разнюхать, нет ли чего нового, но видеть меня не хотели – вдруг то, что у меня, заразно.
Было решено, что я умру. Так я не буду стоять на пути у сестры, не буду нависать над ней, как злой рок.
– Лучше пускай одна будет счастлива, чем обе несчастны, – сказала бабка. Она к этому времени завела обычай втыкать зубки чеснока вокруг косяка моей двери. Я согласилась на этот план – я хотела помочь.
Священника подкупили; кроме того, семья воззвала к его чувству сострадания. Любому приятно думать, что он творит добро, притом что ему за это еще и платят, и священник не был исключением. Он сказал мне, что Господь выбрал меня как совершенно особенную девочку, нечто вроде невесты, если можно так выразиться. Он сказал, что я призвана принести жертву. Он сказал, что страдания очистят мою душу. Он сказал, что мне повезло, так как я сохраню невинность на всю жизнь, ведь никакой мужчина не захочет меня осквернить, и потом я отправлюсь прямиком в рай.
Он сказал соседям, что я умерла как святая. Меня выставили на обозрение в очень глубоком гробу, в очень темной комнате, в белом платье с густой вуалью в несколько слоев – подходит для девственницы и к тому же скрывает усы. Так я лежала два дня – хотя по ночам, конечно, вставала. Если кто-нибудь подходил к гробу, я задерживала дыхание. Пришедшие ходили на цыпочках, говорили шепотом, держались поодаль – все еще боялись моей болезни. Моей матери они сообщали, что я – чистый ангел.
Мать сидела на кухне и плакала, словно я и впрямь умерла. Даже сестра умудрилась принять мрачный вид. Отец надел черный костюм. Бабка пекла. Все обжирались. На третий день гроб наполнили мокрой соломой, отвезли на кладбище, зарыли с молитвами и поставили небольшой надгробный камень, и через три месяца моя сестра вышла замуж. В церковь ее везли в карете – первый случай в истории нашей семьи. Мой гроб стал для нее ступенькой.
Умерев, я обрела свободу. В мою комнату – мою бывшую комнату, как ее называли, – не входил никто, кроме матери. Соседям сказали, что в комнате не будут ничего менять – она станет чем-то вроде святилища моей памяти. На дверь повесили мой портрет, нарисованный, когда я еще выглядела человеком. Я не знала, как выгляжу сейчас. Я избегала зеркал.
В полумраке я читала стихи Пушкина, и лорда Байрона, и Джона Китса. Я узнала про обреченную любовь, и про вызов судьбе, и про то, как сладостна смерть. Эти мысли утешали меня. Мать приносила мне картошку, хлеб, чашку с кровью и выносила горшок. Когда-то она расчесывала мне волосы – до того, как они начали вылезать пучками; у нее появилась привычка обнимать меня и рыдать, но потом прошла. Теперь мать проводила в моей комнате как можно меньше времени. Она злилась на меня, хотя, конечно, пыталась это скрывать. Нельзя бесконечно жалеть человека – в конце концов начинаешь думать, что он впал в такое состояние из вредности, чтобы насолить тебе лично.
По ночам я свободно ходила по дому, а потом по двору, а потом и по лесу. Я могла уже не беспокоиться, что мешаю другим людям и омрачаю их будущее. У меня самой больше не было будущего. Только настоящее, которое менялось – как мне казалось, – вместе с луной. Если бы не приступы, и долгие часы мучений, и чириканье голосов, которых я не понимала, – можно было бы даже сказать, что я счастлива.
Умерла бабка, потом отец. Кот состарился. Мать все глубже погружалась в отчаяние.
– Бедная моя девочка, – говорила она, хотя это слово ко мне уже вряд ли подходило. – Кто позаботится о тебе, когда меня не станет?
На этот вопрос был только один ответ: придется мне самой о себе заботиться. Я начала исследовать пределы своих возможностей. Оказалось, что, передвигаясь невидимо для других, я могу достичь гораздо большего, чем когда меня видят. А лучше всего – когда меня видят не полностью. Я нарочно напугала двух детей в лесу, показав им свои розовые зубы, волосатое лицо, красные ногти. Я замяукала на них, и они с воплями убежали. Скоро люди начали избегать нашей части леса. По ночам я заглядывала в окна и довела до истерики одну молодую женщину. «Тварь! Я видела тварь!» – рыдала она. Значит, я – тварь. Чем тварь отличается от человека?
Кто-то решил купить нашу ферму. Мать хотела продать и переехать к сестре, ее зажиточному мужу, ее растущему, совершенно здоровому семейству – они только что заказали художнику свои портреты. Мать уже не справлялась одна. Но как оставить меня?
– Ничего, – сказала я ей. Тогда я уже не говорила, а скорее рычала. – Я освобожу свою комнату. У меня есть другое место для жилья.
Мать, бедняжка, была мне благодарна. Она была привязана ко мне – как тело привязано к заусенице, к бородавке; я была ее частью. Но она была рада от меня избавиться. Она уже выполнила свой долг – вполне достаточно, хватит на целую жизнь.
Когда паковали и распродавали наши пожитки, я пряталась на сеновале. Удобное место, но для зимы не годится. Когда въехали новые хозяева, мне ничего не стоило от них избавиться. Я знала дом лучше их – все входы и выходы, закоулки. Я умела пробираться по нему в темноте. Я становилась одним призраком, потом другим; я трогала лица в лунном свете рукой с алыми когтями; я скрипела ржавыми петлями дверей (не нарочно). Люди бежали, объявив, что в доме водятся привидения. Дом остался мне.
Я питалась краденой картошкой, выкопанной при лунном свете, и яйцами, которые таскала из курятника. Время от времени я крала и курицу и сначала выпивала кровь. В хозяйствах были сторожевые собаки, но они не кидались на меня, а только выли: они не знали, что я такое. У себя дома я смотрелась в зеркало. Говорят, что покойники не могут видеть себя в зеркале, и это оказалось правдой: я не могла себя увидеть. Я видела нечто, но точно не себя: в глубине души я твердо знала, что я хорошенькая, добрая девушка, а в зеркале было что-то совсем другое.
Но теперь дело идет к концу. Я стала слишком заметной.
Вот как это случилось.
Я собирала ежевику в сумерках, на краю леса, и увидела, что идут два человека – с разных сторон. Юноша и девушка. У него одежда была лучше, чем у нее. Кроме того, он был обут.
Похоже, они от кого-то прятались. Я знала приметы – двигаешься перебежками, озираешься все время, – потому что сама, как правило, от всех прячусь. Я присела в зарослях ежевики и стала наблюдать. Эти двое вцепились друг в друга, переплелись, упали на землю. Стали мяукать, рычать, тихо взвизгивать. Может, у них приступ – у обоих сразу. Может быть, они – о, наконец! – такие же, как я. Я подкралась поближе. Они не походили на меня – например, у них не было волос, кроме как на голове; я смогла их хорошо рассмотреть, поскольку они почти полностью разделись. С другой стороны, я тоже не сразу стала выглядеть так, как сейчас. Вероятно, они на ранней стадии, подумала я. Они знают, что меняются, и нашли друг друга, чтобы не быть одинокими и переносить приступы вместе.
Мне казалось, что они получают удовольствие от своих конвульсий, даже несмотря на то, что время от времени они кусали друг друга. Я понимала, что это возможно. Каким утешением было бы для меня присоединиться к ним! Многие годы я ожесточала свое сердце, чтобы переносить одиночество; но теперь я чувствовала, что моя броня тает. Но все же робость мешала мне приблизиться.
Как-то вечером юноша уснул. Девушка прикрыла его рубашкой и поцеловала в лоб. И, бесшумно ступая, ушла.
Я вылезла из зарослей ежевики и подкралась к нему. Вот он – спит в овальном пятне вытоптанной травы, словно на блюде. К сожалению, я потеряла контроль над собой. Я вцепилась в него руками с красными когтями. Я вонзила зубы ему в шею. Что это было – похоть или голод? Откуда мне знать разницу. Он проснулся, увидел мои розовые зубы, мои желтые глаза, мое черное платье, которое развевалось, когда я убегала. Он видел, куда я побежала.
Он сказал другим жителям деревни, и они пораскинули мозгами. Выкопали мой гроб, он оказался пустым, и они заподозрили самое худшее. Вот они идут к дому в сумерках – с факелами и дрекольем. С ними моя сестра, и ее муж, и юноша, которого я поцеловала. Хотела поцеловать.
Что я могу им сказать, как объяснить, что я такое? Когда людям нужны демоны, обязательно кого-то подберут на эту роль, и не важно, вызовешься ты сама или тебя вынудят. «Я человек», – могла бы сказать я. Но как я это докажу? «Я – игра природы! Отвезите меня в город! Меня нужно изучать!» Безнадежно. Боюсь, коту тоже не поздоровится. Все, что сделают со мной, сделают и с ним.
Я склонна прощать. Я знаю, что эти люди хотят как лучше. Я надела свое белое погребальное платье и белую вуаль, подобающие девственнице. Следует вести себя сообразно случаю. Чирикающие голоса нарастают оглушительной лавиной; мне пора в полет. Я упаду с горящей крыши, как комета, запылаю, как костер. Деревенским жителям придется прочитать над моим пеплом множество заклинаний, чтобы на этот раз я уже точно умерла. Со временем я превращусь во что-то вроде святой наоборот: фаланги моих пальцев будут продавать как мощи нечистой силы. Тогда я уже стану легендой.
Возможно, в раю я буду выглядеть как ангел. А может, ангелы будут выглядеть как я. Вот будет сюрприз всем остальным! Жду с нетерпением.
Мумифицированный жених
Вдобавок ко всему у него не завелась машина. Из-за аномального резкого похолодания, вызванного полярным циклоном. Интернет-юмористы уже начали шутить о холодности своих жен и ее связи с погодой.
Сэм их очень понимает. Пока Гвинет еще не окончательно перекрыла ему доступ к телу, у нее была привычка менять простыню на супружеском ложе, сигналя, что она готова отпустить Сэму порцию секса – секс был без вкуса и без запаха и выдавался неохотно, с недовольной гримасой. Сразу после этого Гвинет меняла простыню снова, подчеркивая, что он, Сэм, – антисанитарное существо, блохастый грязнуля, вынуждающий ее зря гонять стиральную машину. Гвинет давно перестала изображать оргазм, фальшивые стоны отошли в прошлое, и акт проходил в зловещей тишине, в слащавом розовом запахе кондиционера для белья. Запах проникал, впитывался в поры. При таких обстоятельствах удивительно, что у Сэма вообще что-то получалось, и тем более – что ему удавалось нормально функционировать. Но он вечно открывает в себе неизведанные грани. Кто знает, что он отмочит завтра? Он сам – точно нет.
Вот как начинается день. За завтраком (который сам по себе катастрофа) Гвинет сообщает Сэму, что их брак подошел к концу. Сэм роняет вилку, поднимает ее и отодвигает остатки яичницы-болтуньи на край тарелки. Гвинет обычно делает нежнейшую яичницу-болтунью, и Сэму ясно как день: эта яичница, жесткая, как подошва, тоже связана с их разрывом. Гвинет больше не желает его ублажать, совсем напротив. Она могла бы и подождать, пока он выпьет кофе: знает же, что без вливания кофеина он не может сосредоточиться.
– Эй, эй, погоди, – говорит он, но тут же замолкает. Похоже, нет смысла. Ее слова – не вступление к семейному скандалу, не прием для привлечения внимания и не приглашение к переговорам. Сэм уже испытал на себе и то, и другое, и третье и знаком с соответствующими выражениями лица супруги. Сейчас лицо у нее не злобное, не надутое и не хмурое: взгляд ледяной, голос ровный. Она просто ставит его в известность.
Сэм думает, не запротестовать ли; разве он совершил нечто настолько огромное, чудовищное, мерзкое, непоправимое, словно раковая опухоль? Ну да, возможно, прикарманивал плохо лежащие наличные, приходил испачканный чужой помадой, но это ведь не в первый раз, правда? Можно было бы придраться к ее тону: «Что это ты сегодня такая сварливая?» Или указать на ее несоответствие идеалу: куда подевались ее чувство юмора, ее любовь к жизни, ее уравновешенность? Или воззвать к лучшим чувствам: «Умение прощать – высшая добродетель!» Или бить на жалость: разве может такая добрая, терпеливая, мягкосердечная женщина гвоздить его, такого уязвимого, уже раненного дубиной примитивной психической атаки? Или обещать исправиться: «Скажи только, что я должен сделать!» Он мог бы умолять дать ему еще один шанс, но она наверняка ответит, что он уже использовал все возможные шансы. Он мог бы сказать, что любит ее, но она скажет – как уже говорила недавно (неприятно, но ожидаемо) – что любовь выражается не в словах, а в делах.
Она сидит напротив него, через стол, препоясав чресла для битвы, которой, несомненно, ожидает. Волосы свирепо стянуты ото лба назад и скручены на затылке в тугой жгут, словно для того, чтобы остановить кровь. Прямоугольные золотые серьги и металлическое колье подчеркивают железную прочность ее решения. Она даже накрасилась, готовясь к этой сцене – губы цвета засохшей крови, брови грозовой черноты. Руки скрещены на некогда манящей груди: въезд воспрещен. А хуже всего то, что под этой броней жена к нему равнодушна. Теперь, когда они вдвоем перебрали все виды мелодрамы, он наконец наскучил Гвинет. Она считает минуты, ожидая, когда он уберется.
Он встает из-за стола. Она могла бы подождать с оглашением приговора, дать мужу хотя бы одеться и побриться; мужчина в пижаме пятидневной несвежести – жалок и уязвим.
– Ты куда это? – говорит она. – Нужно обсудить детали.
Его подмывает ответить чем-нибудь жалобным, ребячливым: «На улицу», «А тебе не все равно?», «Уже не твое дело!». Но это было бы тактической ошибкой.
– Это можно оставить на потом, – говорит он. – Всякую юридическую хрень. Мне нужно уложить вещи.
Если она блефует, это выяснится именно сейчас: но нет, она его не останавливает. Она даже не произносит: «Сэм, не говори глупостей! Я не собиралась тебя прогонять прямо сейчас! Сядь, выпей кофе! Мы остаемся друзьями!»
По-видимому, они больше не друзья.
– Как тебе угодно, – говорит она, пригвождая его ровным взглядом. Он вынужден позорно ретироваться с кухни: в пижаме, украшенной овечками, прыгающими через забор, – подарок на день рождения двухлетней давности, когда жена еще считала его остроумным и милым – и в утомленных жизнью суконных тапочках.
Он знал, что это случится, но не ожидал, что так скоро. Следовало быть начеку и бросить ее первым. Остаться на высоте. Впрочем, теперь он имеет моральное право объявить себя пострадавшей стороной. Он натягивает джинсы и кофту, швыряет вещи в большую сумку – она у него давно, с тех пор как он собирался путешествовать, но так и не собрался. За остальным барахлом можно вернуться позже. Их спальня, теперь единоличная спальня жены – когда-то место пламенных любовных игрищ, потом театр затяжных военных действий, «если-ты-так-то-я-вот-так», – уже похожа на гостиничный номер, покидаемый постояльцем. Неужели Сэм помогал выбирать эту безвкусную кровать – подделку под викторианский стиль? Да, во всяком случае, стоял рядом, когда преступление совершалось. Вот к занавескам с дурацкими розочками он точно непричастен. Хотя бы в этом нет его вины.
Бритва, носки, трусы, майки и так далее. Он переходит в ничью спальню, которую использовал как кабинет, и сует в компьютерную сумку ноутбук, телефон, записную книжку и клубок проводов. Несколько случайно затесавшихся бумажных документов, он обычно не доверяет бумаге. Портмоне, кредитные карточки, паспорт; все это он рассовывает по карманам.
Как выбраться из дома, чтобы она не видела – его и его жалкое отступление? Скрутить простыню, спуститься из окна, дюльфером по стене? Он не может сосредоточиться, взгляд расфокусирован от злости. Чтобы взять себя в руки, он начинает игру, в которую часто играет сам с собой: если вообразить, что он стал жертвой убийства, может ли его зубная паста послужить уликой? «Наше заключение таково, что из этого тюбика последний раз выжимали пасту двадцать четыре часа назад. Следовательно, тогда жертва была еще жива». А его айпод? «Давайте посмотрим, что он слушал за миг до того, как ему в ухо вонзили нож для разделки мяса. Может быть, его плей-лист – закодированное сообщение!» Или эти ужасные запонки с львиными головами, двухлетней давности рождественский подарок от Гвинет? «Они не могли принадлежать ему, человеку с прекрасным вкусом! Наверняка это собственность убийцы!»
Однако они принадлежали ему. Таким видела его Гвинет, когда они только начали встречаться: царь зверей, яростный хищник, который мотает и теребит жертву как хочет, порой оставляя на ней следы зубов. Прижимает к земле, извиваясь от похоти, ставит лапу ей на шею.
Почему-то он успокаивается, представляя свой труп в морге на столе патологоанатома – непременно сексапильной блондинки, белый халат слегка прикрывает упругую, решительную докторскую грудь. Блондинка ощупывает его тело осторожными, но опытными пальцами. «Такой молодой! И такие… выдающиеся параметры! – вздыхает она. – Какая жалость!» Потом она – задорный маленький детектив – пытается реконструировать его преждевременно оборвавшуюся жизнь, полную скорбей, пройти назад по пути, на котором он попал в дурную компанию и пришел к трагичному концу. «Удачи тебе, детка, – молча сигналит он ей из холодной белой головы. – Я – загадка, тебе никогда меня не разгадать, не разложить по полочкам. Но сделай-ка еще раз эту штуку с резиновой перчаткой! Да, о да!!!»
Иногда в этих фантазиях он вдруг приподнимается, потому что он на самом деле все-таки не мертвый. Визг! А потом – поцелуи! В другом варианте он, хотя и мертвый, все равно приподнимается. Глаза закачены в глубь головы, но руки тем не менее бодренько тянутся к пуговицам белого халата. Уже другой сценарий.
Он засовывает в сумку еще один свитер, этого должно хватить. Закрывает сумку, взваливает ее на плечо, берет компьютерный кофр в другую руку и скачет вниз по лестнице – через ступеньку, как в былые времена. Теперь не его забота, что придется менять ковровое покрытие на ступеньках. Пустячок, а приятно.
В прихожей он хватает из стенного шкафа зимнюю куртку, находит перчатки, теплый шарф и шапку из овчины. Отсюда видно Гвинет: она все еще на кухне – сидит, облокотившись на стеклянный стол, добытый им, Сэмом. Теперь стол достанется ей – Сэм не намерен устраивать из-за него свару. Вообще-то нельзя сказать, что он платил за этот стол. Тот просто оказался в его распоряжении.
Гвинет старательно игнорирует Сэма. Она сварила себе кофе – пахнет восхитительно. И тосты поджарила, кажется. Похоже, она не настолько расстроена, чтобы лишиться аппетита. Сэму обидно. Как она может жевать в такой момент? Неужели он, Сэм, для нее ничего не значит?
– Когда ты появишься? – спрашивает она, когда он направляется к двери.
– Я пришлю эсэмэску, – отвечает он. – Наслаждайся жизнью.
Кажется, это прозвучало слишком обиженно? Да. Проявлять обиду – ошибка. «Сэм, держи себя в руках, – говорит он сам себе. – Ты теряешь лицо».
Именно в этот момент у него не заводится машина. Чертова «ауди». Зря он взял это понтовое ведро с гайками у того мужика в счет долга. Хотя тогда казалось, что это очень выгодно.
Теперь театральный эффект его ухода окончательно испорчен. Даже не получится с ревом исчезнуть за углом: нас ждут далекие моря, бабы – обуза, они тянут тебя на дно, и кому это надо? Взмах руки – и прости-прощай, он уносится на поиски новых приключений.
Он снова пробует зажигание. Щелк-щелк. Мертво, как природа в ноябре. Дыхание в стылом воздухе выходит облачками. Пальцы белеют, мочки ушей уже ничего не чувствуют. Он звонит в службу, которой обычно пользуется в таких случаях, чтобы подъехали и «дали прикурить». Но слышит механический голос: его звонок поставлен в очередь, но он должен принять во внимание, что из-за неблагоприятных погодных условий среднее время ожидания составляет два часа, пожалуйста, оставайтесь на линии, ваш звонок очень важен для нас, дождитесь ответа оператора. Потом начинает играть бодрая музычка. Без слов, но они угадываются: «Можешь отморозить себе яйца, потому что благодаря полярному циклону мы сейчас гребем деньги лопатой. Проснись. Заведи себе обогреватель блока цилиндров. Поцелуй меня в жопу».
И вот он плетется обратно в дом. Хорошо хоть, что у него еще остался ключ (хотя «Сменить замки» наверняка стоит первым пунктом у Гвинет в списке дел – она из тех женщин, что вечно составляют списки).
– Ты еще здесь? – спрашивает она. Он надевает на лицо пристыженную, заискивающую улыбку: не будет ли она так добра попробовать, заводится ли ее машина, и если да, то не прикурит ли его аккумулятор от своего? «В некотором смысле», – добавляет он про себя. Он не прочь дать ей прикурить в совершенно ином смысле – вдруг получится завоевать ее снова, хотя бы на время, чтобы воспользоваться страстью, вспыхнувшей после примирения. Но сейчас это будет неуместно.
– Иначе придется ждать, пока пришлют техническую помощь, – объясняет он с ухмылкой – как он надеется, беззаботной. – Это может занять несколько часов. Я могу здесь просидеть… весь день могу просидеть. Ты же не хочешь, чтобы я тут сидел весь день.
Она не хочет, чтобы он тут сидел весь день. Она страдальчески вздыхает – незаводящаяся машина, конечно, пополнит список доказательств его бестолковости – и начинает утепляться: шуба, варежки, шарфы, сапоги. Он слышит, как она метафорически закатывает рукава: «дело должно быть сделано». Вытянуть его на тросе из кучи мусора, стряхнуть пыль, отполировать, чтобы засверкал как новенький – когда-то это было ее любимое занятие. Если кто и мог его починить, то это она.
Но и у нее не получилось.
Они познакомились, когда она пришла к нему в магазин искать пару к безобразной антикварной фарфоровой собачке, недавно полученной в наследство. Гвинет сочла его неотразимым: резкий, слегка пугающий, но интересный, как персонаж второго плана в мюзикле пятидесятых годов. Какой-нибудь очаровательный, остроумный гангстер, заблудший, но с добрым сердцем. Возможно, за ней еще никто не ухаживал так, как он: не разглядывал так пристально, не исследовал так тщательно, словно она – ценный предмет из фарфорового сервиза. А может, к ней и раньше пытались подкатываться, но она не замечала – слишком была занята уходом за больными родителями и не могла уделять много времени мужчинам или позволять, чтобы они уделяли время ей. Если можно так выразиться. Она даже была красива – классический профиль, как на камее – но, кажется, понятия не имела, что с этой красотой делать. У нее, впрочем, и до Сэма были какие-то мужчины – насколько он понял, жалкие тряпки.
Но на день фарфорового спаниеля она уже была готова зайти дальше. Не стоило ей пускаться на откровенности с первым встречным – то есть с ним, Сэмом. Столько ему рассказывать. Покойные родители, наследство – достаточное, чтобы бросить работу учительницы и наслаждаться жизнью. Но как?
Входит Сэм – вовремя, словно по знаку суфлера; он полон познаний о фарфоре и улыбается ей – восхищенно, вежливо, похотливо. Он умел веселиться, а это редкий талант, и Сэм охотно этим талантом делился.
Он был с ней довольно откровенен (точнее, не то чтобы врал). Он сказал, что антикварный магазин приносит ему доход, и это была правда, хоть и не вся. Он просто не упомянул о том, откуда еще берет деньги. Он сказал, что бизнес принадлежит ему (правда) и что у него есть партнер (тоже правда). Гвинет очаровалась им, увидев в нем человека действия, а также мага и волшебника в постели. Он же нашел в ней респектабельный фасад, за которым мог на время затихариться. Приятно было и то, что не нужно больше жить в мотелях или перебиваться в подсобке магазина – у Гвинет оказался свой дом, в котором хватало места и для Сэма. Во всяком случае, когда он бывал дома, а это со временем стало случаться все реже. Он сказал жене, что часто бывает в разъездах. Ищет антиквариат.
Надо признать, что быть женатым на Гвинет поначалу оказалось очень приятно. Она так его баловала. Все удобства.
Он все же не полный козел: уговорил себя на брак и даже сам поверил, что из этого что-то выйдет. Он ведь не молодеет с годами – может, пора ему остепениться. Да, Гвинет не секс-бомба, но что с того? Секс-бомбы, как правило, влюблены в себя, требовательны и капризны. Гвинет такой не была, и ей хватало мозгов ценить то, что она получала. Однажды он уложил ее, голую, на кровать и покрыл все ее тело стодолларовыми бумажками. Ее, добропорядочную девушку, это сразило наповал: деньги – лучший афродизиак! Но периодическая и все более серьезная нехватка этих самых бумажек – о которой Гвинет узнала, когда ему в первый раз не повезло и он попросил денег у нее, – имела обратный эффект. Гвинет щурилась, соски у нее съеживались в изюмины, она сморщивалась и высыхала, как чернослив. Как раз когда ему не помешало бы сочувствие и утешение – бац! Его запирали в виртуальный холодильник, и даже большие голубые глаза не помогали.
На этих глазах, больших и голубых, он выезжал всю жизнь. Круглых, честных глазах. Глазах профессионального мошенника. «Ты на куколку похож», – сказала как-то одна женщина. «Да, и я такой хрупкий!» – ответил он тогда, покорив ее сердце. Глядя в эти глаза, никакая женщина не устоит, обязательно поверит его цветистым оправданиям, которые он раскладывает перед ней веером, как торговец на уличном лотке – шелковые шарфы от дорогого модельера.
Хотя – Сэм убежден – большие голубые глаза в последнее время определенно уменьшились; или это лицо у него растет вширь? Так ли, эдак ли, но глаза явно становятся меньше относительно лица; и то же происходит с плечами по отношению к животу. Впрочем, большие голубые глаза его пока выручают; не с мужчинами, конечно. Те умеют распознавать, когда другой мужчина пытается их обдурить. А вот с женщинами получается; главное – все время смотреть ей на губы. Один из приемчиков.
Детей они с Гвинет не завели, так что развода ждать придется недолго. После прохождения всех формальностей Сэм опять станет неприкаян, ни к чему не привязан. Поползет по жизни, как улитка, что тащит свой домик на спине – возможно, такой вариант и подходит Сэму больше всего. Весело насвистывая. Болтая чепуху. И пахнуть опять будет самим собой.
Машина Гвинет заводится мгновенно. Гвинет глушит мотор и смотрит через стекло большими коровьими глазами: самодовольно глядит, как он застывшими пальцами возится в проводах – она, может быть, надеется, что его убьет током. Но ей не везет: он дает отмашку, она заводит мотор, ток идет по проводам от одной машины к другой, и вот Сэм снова мобилен. Он и она обмениваются натянутыми улыбками. Он осторожно выезжает на обледенелую мостовую, машет Гвинет. Но она уже отвернулась.
Его парковочное место – позади здания – в кои-то веки не занято. Антикварный магазин находится на Куин-стрит, ближе к западному концу – там, где волна наступающей джентрификации разбивается о пустынные утесы неблагополучного района. С одной стороны – модные кофейни и эксклюзивные ночные клубы; с другой – лавки процентщиков и магазины с дешевыми платьями, которые годами выцветают за стеклом витрин на потрескавшихся манекенах. «Метро-гламур» – возглашает вывеска лавки Сэма. На витрине – тиковый столовый гарнитур 1950-х годов, стереопроигрыватель в корпусе светлого дерева. Виниловые пластинки сейчас опять в моде; какой-нибудь мажор обязательно влюбится в этот проигрыватель и уговорит предков его купить.
«Метро-гламур» еще не открылся. Сэм, звякая ключами, побеждает многочисленные замки. Напарник Сэма уже здесь, в подсобке, за своим обычным занятием – подделкой антикварной мебели. Нет, облагораживанием антикварной мебели. Звать его Нед (во всяком случае, так он говорит), а на нет и суда нет (такова его любимая поговорка). Он все равно что косметолог для мебели, только в его «салоне красоты» она не молодеет, а старится. В воздухе – тонкая взвесь опилок, и воняет морилкой для дерева.
Сэм плюхает сумку с вещами на винтажное имсовское кресло[27].
– Погодка мерзопакостная, – говорит он. Нед поднимает глаза от молотка и зубила – он как раз добавляет кракелюры.
– Скоро еще подкинут, – отвечает он. – На Чикаго уже сыплется. Аэропорт закрыли.
– А до нас когда дойдет?
– Попозже.
«Тап-тап», – стучит зубило.
– Наверное, все дело в глобальном потеплении.
Так теперь говорят, а раньше говорили: «Мы прогневили бога». И ведь никто ничего не может сделать, так что зря молоть языком? Надо ловить кайф, пока еще можно. Танцуй, пока молодой. Хотя Сэму особо не до веселья. До него медленно доходит то, что случилось сегодня между ним и Гвинет. Доходит и оседает где-то в глубине. Там уже образовался холодный островок.
– Чертов снег, он у меня уже вот тут сидит, – говорит он.
Тап-тап-тап. Пауза.
– Что, баба тебя выгнала?
– Я сам ушел, – говорит Сэм, изображая равнодушие, как может. – Давно собирался.
– Вопрос времени. Должно было случиться рано или поздно.
Сэм рад, что Нед не цепляется к новости и не задает вопросов, хотя наверняка подозревает, что Сэм сильно приукрасил действительность.
– Угу, – говорит он. – Печально. Она тяжело восприняла. Но она справится. Не то чтобы ее выгнали на улицу или оставили без куска хлеба.
– Ага, ага, – отвечает Нед. У него на предплечьях столько татуировок, что кажется, будто руки обтянуты материей. Он молчалив, ибо сидел и в итоге усвоил (совершенно справедливо), что, держа рот на замке, не словишь заточку в почку. Работать с мебелью ему нравится, и он рад, что такая возможность ему подвернулась. Это хорошо для Сэма, поскольку Нед не захочет рисковать местом, задавая лишние вопросы. С другой стороны, он впитывает поступающую информацию, как разведчик-аналитик, и по требованию выдает ее абсолютно точно.
Сэм вытягивает из Неда новость: вчера ближе к вечеру заходил покупатель – Нед его видел первый раз, – мужик в дорогой кожаной куртке. Осмотрел все письменные столы. Странно, что ему приспичило этим заниматься в такую метель, но некоторые любят усложнять себе жизнь. Больше никого в магазине не было. Мужик обратил внимание на красивый стол – репродукцию в стиле директории. Он спросил цену и сказал, что подумает. Попросил, чтобы стол отложили для него на два дня, и оставил задаток в сто долларов. Наличными, не карточкой. В запечатанном конверте возле кассы. Имя написано внутри.
Нед снова принимается долбить. Сэм подходит к кассе, с небрежным видом открывает конверт. Внутри вместе с деньгами – двадцатками – лежит клочок бумаги. Сэм его вытаскивает. На клочке – только адрес и номер. Неда не проведешь, но в бизнесе они руководствуются принципом: веди дела так, чтобы потом иметь возможность все отрицать. Девиз Сэма – «Предполагай, что «жучки» повсюду». Он смотрит на номер, написанный карандашом, – «56», складывает к себе в голову, комкает бумажку и сует в карман. Как только дойдет до унитаза, спустит ее туда.
– Съезжу-ка я на аукцион, – говорит он. – Вдруг чего интересное найдется.
– Удачи, – отвечает Нед.
Аукцион – распродажа вещей из индивидуальных хранилищ. В неделю Сэм посещает две-три таких распродажи – склады кольцом охватывают город и пригороды, в каждой полосе магазинов вдоль дороги непременно окажется склад индивидуального хранения. Сэм подписан на электронную рассылку и получает уведомления обо всех аукционах в провинции, с разбивкой по почтовому индексу. Но он посещает только те, которые недалеко, в пределах двух часов езды. Иначе затраты на поездку в среднем не окупаются. Хотя особо удачливых покупателей ждут клады: кто знает, когда в очередном отсеке найдется подлинник работы старых мастеров под слоем пыли и потемневшего лака, или шкатулка знойных писем исторического деятеля к тайной любовнице, или стразы, которые окажутся бриллиантами. Недавно в моду вошли «реалити-шоу», якобы показывающие людей в момент, когда они открывают отсек и совершают судьбоносную находку. «Абракадабра!» – и вот он, весьма эффектный клад. Все охают и ахают.
С Сэмом такого никогда не случалось. И все же его сердце трепетало, когда он выигрывал аукцион, получал ключ от запертого отсека, открывал двери. Ожидая найти сокровище. Ведь любой мусор, хранящийся в отсеке, когда-то был чьим-то сокровищем – иначе его не стали бы хранить.
– Я вернусь часам к четырем, – говорит он Неду. Он всегда говорит Неду, во сколько примерно собирается вернуться. Это часть его мысленной игры, непрерывно сплетаемого сюжета. «Он сказал, что вернется к четырем. Нет, он не выглядел расстроенным. Хотя, возможно, беспокоился. Расспрашивал меня о том мужике, к нам в магазин приходил один странный мужик. В кожаной куртке. Интересовался письменными столами».
– Пришли мне эсэмэску, когда надо будет подослать фургон, – говорит Нед.
– Надеюсь, его будет за чем посылать, – отвечает Сэм. Отсеки коммерческого хранилища полагается освобождать в двадцать четыре часа: даже полностью негодное барахло нельзя там оставить просто так. Ты его выиграл, значит, оно теперь твое. Владельцы склада не будут тратиться на вывоз только что приобретенного тобою мусора.
Легенда, о которой безмолвно договорились Нед и Сэм, состоит в том, что Сэм ищет приличную мебель, которую Нед затем облагородит. Сэм именно это и делает – почему же нет? Он надеется сегодня отхватить что-нибудь поприличней, чем в прошлый раз, когда он вернулся с разбитой гитарой, складным ломберным столиком без ноги, огромным плюшевым медведем, каких выдают в ярмарочном тире в качестве приза, и деревянным набором для игры в крокиноль. Из всего этого лишь крокиноль чего-то стоил – некоторые люди коллекционируют старинные настольные игры.
– Будь осторожен за рулем, – говорит Нед.
«Он послал мне эсэмэску, чтобы ему подогнали фургон. Это было в 2:36. Я знаю, потому что посмотрел на часы, вон те, в стиле ар-деко, видите? Они очень точные. А потом, я не знаю, он просто исчез.
Были ли у него враги?
Не знаю, я просто здесь работаю.
Хотя он сказал… да, да, он сказал, что поругался с женой. Ее зовут Гвинет. Я сам с ней не близко знаком. За завтраком – он объявил, что от нее уходит. Я давно видел, что к этому идет. Она была такая мещанка, душила его. Никакого вкуса. Ревнивая, собственница, он мне жаловался. Она думала, что у него из жопы солнце светит, не могла на него надышаться. Могла ли она… Склонна к насилию? Нет, он никогда ничего такого не говорил. Если не считать того случая, когда она швырнула в него винную бутылку. Пустую. Но иногда они, бабы то есть, вдруг берут и съезжают с катушек. Хлоп, и съехала».
Сэм развлекается, представляя себе, как обнаружат его собственное мертвое тело. Труп голый или одетый? На улице или в помещении? Ножевое или огнестрельное? В одиночку?
На сей раз машина заводится, и Сэм видит в этом добрый знак. Он колесит зигзагами по узким улочкам, направляясь к скоростной трассе Гардинер и надеясь, что она еще не обвалилась. Нет, не обвалилась – может, бог все-таки есть. Сэм въезжает на трассу и движется на запад. В конверте был адрес большого склада с отсеками индивидуального хранения – в Миссисаге, не слишком далеко. Машины ползут еле-еле. Почему, интересно, зимой люди водят так, словно у них вместо рук ноги?
Сэм приезжает раньше, чем надо, ставит машину, идет в главный офис и регистрируется. Все как обычно. Теперь нужно убить время до начала аукциона. Сэм терпеть не может эти мертвые куски пространства-времени. Он проверяет телефон – нет ли сообщений. То да се, ничего интересного. Эсэмэска от Гвинет: «Встретимся завтра? Надо окончательно оформить». Он не отвечает, но и не удаляет сообщение. Пусть она подождет. Ему хочется выскочить наружу и покурить, но он борется с искушением – пять месяцев назад он официально бросил курить, в четвертый раз.
Народу в зале прибавилось – на одного или два человека. Не толпа, прямо скажем. Когда участников на торгах мало, это хорошо – некому задирать цены. Для туристов слишком холодно – в зале не ощущается ни азарта летней охоты за антиквариатом, ни гламурной ауры телевизионного «реалити-шоу». Просто несколько ничем не примечательных, тепло укутанных людей стоят, засунув руки в карманы, смотрят на часы или проверяют телефоны.
Вот пришли еще два торговца антиквариатом, знакомые Сэма; он кивает им, они кивают в ответ. Он вел дела с ними обоими – сдавал им то, что было по их части, но не по его. Он обычно не связывается с викторианской мебелью – для квартиры-кондоминиума она слишком крупная. И с мебелью военного времени тоже – на его вкус, она слишком одутловата и в окраске преобладают багровые оттенки. Он предпочитает мебель более изящных, чистых очертаний. Легкую. Не такую слоноподобную.
Влетает суетливый аукционист – с опозданием на пять минут, со взятым навынос кофе и пакетом «дырок от пончика» в руках. Он раздраженно смотрит на пустой зал и включает ручной микрофон – можно и обойтись, они ведь не на футбольном матче, в конце концов, но, видимо, аукционисту хочется почувствовать собственную важность. Сегодня с молотка идут семь отсеков – семь владельцев не соизволили продлить хранение или явиться за своими вещами. Сэм торгуется за пять лотов, четыре выигрывает, а пятый упускает – так выглядит правдоподобнее. На самом деле его интересует только второй по счету отсек, номер 56 – этот номер был написан на бумажке в конверте, и именно там будет спрятан секретный груз – но Сэм всегда старается перекупить несколько.
Когда собственно торги заканчиваются, Сэм платит аукционисту, и тот отдает ему ключи от четырех отсеков. «Вы должны вывезти вещи в двадцать четыре часа, – напоминает аукционист. – Вымести подчистую, такие правила». Сэм кивает. Правила ему известны, но говорить об этом смысла нет. Этот козел явно готовится стать тюремным охранником, политиком или другим мелким божком. Не будь он козлом, предложил бы Сэму «дырку от пончика» – неужели он намерен в одиночку сожрать весь пакет? Ему не мешало бы ограничить калории – но, похоже, он не склонен делиться с ближними своими.
Сэм топает к лавчонкам через дорогу, подняв воротник и замотав подбородок шарфом от ледяного ветра. Он берет в «Тим Хортонс» кофе (две ложки сахара, две сливок) и собственный пакет «дырок от пончика», шоколадных, в сахарной глазури, и возвращается на склад, чтобы не спеша обследовать новые приобретения. Надо подождать, пока прочие участники аукциона свалят – Сэм не любит, когда ему дышат в затылок. Номер 56 он оставит на самый конец – к тому времени уже точно все уйдут.
Первый отсек до потолка заставлен картонными ящиками. Сэм заглядывает внутрь: черт, книги почти сплошняком. Он ничего не понимает в книгах, так что договорится со знакомым букинистом: если там окажется что-нибудь ценное, Сэм получит процент от выручки. Автографы авторов – это обычно хорошо, хотя бывает, что и нет, если этого автора никто не знает. Если авторы покойные, это иногда хорошо; правда, автор должен быть не только покойным, но еще и знаменитым. Альбомы по искусству – это обычно хорошо, зависит от сохранности. Среди них попадаются редкие.
В следующем отсеке нет ничего, кроме старого мотороллера – легкого, итальянского, трехколесного. Сэму такое ни к чему, но желающие найдутся. В крайнем случае пойдет на запчасти. Он быстро переходит к следующему отсеку. Шевелись, а то отморозишь яйца – отопления на складе нет, а на улице все холодает.
Он находит следующий отсек, вставляет ключ в замок. Говорят, третий раз за все платит – а ну как сейчас он найдет клад? В такие минуты он все еще ощущает легкую дрожь предвкушения, хоть и знает – это все равно что верить в Санта-Клауса. Он поднимает рулонную дверь и включает свет.
Прямо перед входом висит белое свадебное платье с юбкой вроде огромного колокола и пышными рукавами-фонариками. Оно упаковано в прозрачный пластиковый чехол на молнии, словно только что из магазина. Похоже, его ни разу не надевали. На дне чехла лежат белые атласные туфельки, с виду новые. К рукавам приколоты длинные, по локоть, белые перчатки на пуговках. Все вместе слегка пугает, подчеркивая безголовость: хотя, приглядевшись, Сэм видит белую фату – она прикрывает плечи платья наподобие шали. К фате прикреплен белый веночек из искусственных цветов с жемчужным песком.
Кто это мог оставить свадебное платье в отсеке на складе? – недоумевает Сэм. Женщины так не поступают. Они могут повесить платье в гардероб, или сложить в сундук, или еще что-нибудь вроде этого, но никак не отправить его на склад. Интересно, где Гвинет держит свое? Сэм не знает. Впрочем, ее свадебный наряд был намного проще. Они не затевались со свадьбой «как положено», с венчанием, с кучей гостей: Гвинет сказала, что такие вещи обычно делаются для родителей, а ее родители умерли. Родители Сэма – тоже; во всяком случае, так он ей сказал – ему совершенно не улыбалось, чтобы его мамаша разинула пасть и выложила Гвинет что-нибудь из «забавных» похождений его молодости. Гвинет только растерялась бы. Ей пришлось бы выбирать из двух версий реальности – его и матери, – а подобная дилемма напрочь убивает романтику.
Так что они быстренько расписались в мэрии, и Сэм унес Гвинет на крыльях любви – на Каймановы острова, где их ждал сказочный медовый месяц. Окунуться в море, выйти из моря, поваляться на песочке, полюбоваться луной. За завтраком – цветы на столе. Снова закат. Они сидят в баре, держась за руки, и он накачивает ее замороженными дайкири – ее любимым напитком. Секс по утрам. Он целовал ее, начиная с пальчиков ног, медленно продвигаясь снизу вверх, словно слизняк на салате.
«О Сэм! Это так… Я понятия не имела…»
«Расслабься. Вот так. Положи руку сюда».
Проще простого. Тогда Сэм мог все это себе позволить – пляжи, дайкири. Он купался в деньгах. У денег бывают свои приливы и отливы, такова их природа, но кредо Сэма – если деньги есть, их нужно тратить. Кажется, именно тогда, в медовый месяц, он покрыл тело Гвинет стодолларовыми бумажками. Нет, это он отмочил позже.
Он отодвигает юбку свадебного платья в сторону. Она жесткая, шелестит, потрескивает. Тут еще какие-то свадебные атрибуты: тумбочка, и на ней огромный букет, перевязанный розовой атласной лентой. В основном розы, но весь букет сухой, как мертвая кость. С другой стороны за белой юбкой стоит такая же тумбочка, а на ней – огромный торт под крышкой-колпаком, какие бывают в кондитерских. Торт покрыт белой глазурью и украшен розовыми и белыми сахарными розочками, а также фигурками жениха и невесты на самом верху. Он не разрезан.
У Сэма возникает очень странное чувство. Он протискивается мимо платья. Если он прав, то здесь будет еще и шампанское: на свадьбе положено шампанское. И точно, вот оно – три ящика, ни один не вскрыт. Чудо, что оно не замерзло и бутылки не полопались. Рядом – несколько ящиков с фужерами. Стекло, не пластик. Хорошего качества. И несколько ящиков белых фарфоровых тарелок, и большая коробка белых салфеток – полотняных, не бумажных. Кто-то сложил сюда на хранение всю свою свадьбу. Свадьбу с размахом.
За картонными ящиками обнаруживаются чемоданы – вишнево-красные, новенький комплект.
А за ними – в самом дальнем, темном углу – жених.
– Черт! – восклицает Сэм. Дыхание вырывается изо рта белым плюмажем, потому что очень холодно. Возможно, именно из-за холода в отсеке совсем не пахнет. Впрочем, задумавшись об этом, Сэм начинает ощущать сладковатый запах – хотя это, может быть, от торта – с ноткой грязных носков и оттенком стухшей собачьей еды.
Сэм прикрывает нос шарфом. Его слегка подташнивает. Это безумие какое-то. Кто бы ни приволок сюда жениха, этот человек точно был опасным маньяком, больным на голову фетишистом. Немедленно бежать. Позвать полицию. Нет, только не полицию. Нельзя, чтобы легавые сунули нос в последний отсек, за номером 56, – тот, который Сэм еще не успел открыть.
Жених при полном параде – черный костюм, белая рубашка, шейный платок, иссохшая гвоздика в петлице. А цилиндр? Цилиндра не видать, но наверняка он где-то есть – может быть, в одном из чемоданов – потому что здесь явно собрали полную коллекцию.
Кроме невесты. Невесты не хватает.
Лицо у жениха какое-то обезвоженное, будто он высох, как мумия. Он заключен в несколько слоев прозрачного пластика: вероятно, чехлы для одежды, такие же, как тот, в который упаковано платье. Да, вот молнии; все швы аккуратно проклеены изолентой. Из-за пластика в несколько слоев жених слегка рябит волнами, будто смотрит из-под воды. Глаза, слава богу, закрыты. Как это удалось? Разве у покойников глаза не должны быть всегда открыты? Суперклей, скотч? У Сэма странное чувство, что этот человек ему знаком, что они где-то встречались, но такого, конечно, быть не может.
Сэм медленно пятится, выбираясь задом из отсека, тянет дверь вниз, запирает. Что теперь делать, черт побери? С сушеным женихом. Нельзя же просто так запереть его тут и оставить. Сэм купил эту свадьбу, она теперь его, и он обязан ее вывезти со склада. Но фургон вызывать нельзя – разве только если Нед сядет за руль, он надежен, как могила. Но Нед никогда не водит фургон сам, они всегда пользуются услугами транспортной фирмы.
А что, если попросить Неда взять фургон в другой фирме и подъехать сюда, а самому подождать его приезда, стоя перед входом в отсек, – чтобы никто больше сюда носа не сунул; стоять, околевая от холода в полной темноте, которая скоро наступит, а потом погрузить всю свадьбу в фургон и привезти ее в лавку. Допустим, но что потом? Вывезти этого сушеного чувака куда-нибудь в поле и там зарыть? Сбросить его в озеро Онтарио, пробравшись вглубь по прибрежному льду, который при этом, конечно, не потрескается и они не утонут, держи карман шире? Даже если у них получится, он наверняка всплывет. «Мумифицированный жених ставит в тупик криминалистов. Подозрительные обстоятельства окружают новобрачного. Невеста в шоке: она вышла замуж за зомби!»
Не сообщить о мертвом теле – это преступление или нет? Впрочем, все хуже: он наверняка был убит. Если человека упаковали в несколько слоев пластика и герметизировали швы изолентой, да при этом он разодет как жених, его точно сначала убили.
Пока Сэм перебирает возможные решения, из-за угла появляется высокая женщина. На ней дубленка с капюшоном, из-под которого выбиваются светлые волосы. Женщина почти бежит. Вот она подбежала к Сэму. Она явно волнуется, хотя и пытается это скрыть.
Ага, думает он. Вот и пропавшая невеста.
Она притрагивается к его руке:
– Извините, это ведь вы только что купили содержимое этого отсека? На аукционе?
Он улыбается ей, широко распахивает большие голубые глаза. Опускает взгляд на ее губы, снова поднимает его. Она примерно одного роста с ним. Должно быть, сильная, иначе не смогла бы приволочь сюда жениха в одиночку, особенно если тогда он еще не высох.
– Да, это я. Признаюсь, виновен.
– Но вы ведь его еще не открывали?
Решающий момент. Можно протянуть ей ключ и сказать: «Я видел, что вы тут наворотили, – разбирайтесь сами». Или: «Да, открыл, и сейчас вызову полицию». Или: «Я глянул мельком, там какое-то свадебное барахло, это ваше?»
– Нет, – говорит он. – Еще нет. Я купил несколько отсеков. Как раз собирался открыть этот.
– Сколько вы за него дали? Я заплачу вдвое больше, – говорит она. – Я не хотела, чтобы его пустили с молотка, но произошла ошибка, почта потеряла мой чек, а я была в отъезде по делам, слишком поздно получила уведомление, и тогда прыгнула на первый же самолет, но застряла в Чикаго на шесть часов из-за снегопада. Там так заметало! А потом ехала сюда из аэропорта, все занесло, на дорогах творился просто ужас!
Она заканчивает нервным смешком. Должно быть, речь отрепетирована: все это выползло у нее изо рта одним непрерывным предложением, как длинная телеграфная лента.
– Да, я слышал про снегопад, – говорит он. – В Чикаго. Сочувствую. Это неудачно вышло, что вы задержались.
Он ничего не отвечает на ее финансовое предложение. Оно повисает в воздухе между ними, как два облачка-дыхания.
– Снежный фронт идет сюда, – говорит она. – Очень сильная метель. Они всегда движутся с запада на восток. Если не хотите тут застрять, вам нужно уехать как можно скорее. Я готова ускорить процесс – заплачу наличными.
– Спасибо, – отвечает он. – Я обдумываю ваше предложение. Что у вас там, кстати? Должно быть, что-то ценное, раз оно для вас так важно.
Ему интересно, что она скажет.
– Просто семейные вещи, – говорит она. – Наследство. Ну знаете, хрусталь, фарфор от бабушки. Дешевая бижутерия. Дорого только по воспоминаниям. За это никто много денег не даст.
– Семейные вещи? – спрашивает он. – А мебель есть?
– Очень мало. Плохого качества. Старая мебель. Никому не нужная.
– Но ведь это же моя специальность! Старая мебель. У меня антикварный магазин. Часто люди сами не знают ценности того, что у них есть. Прежде чем принять ваше предложение, я хотел бы взглянуть.
Он снова переводит взгляд вниз, на ее губы.
– Я вам заплачу в три раза больше, – говорит она. Ее бьет дрожь. – Сейчас так холодно, вы не сможете копаться в отсеке! Может, уедем отсюда вместе, пока нас не накрыло снегопадом? Выпьем, я не знаю, поужинаем или что-нибудь такое. И поговорим.
Она улыбается ему – с намеком. Прядь волос выбилась и падает ей на губы; она медленно заправляет прядь за ухо, опускает взгляд – по направлению к поясу его брюк. Она повышает ставку.
– Хорошо, годится, – говорит он. – Расскажете мне поподробнее, какая у вас там мебель. Но предположим, я приму ваше предложение. Все вещи из отсека нужно вывезти в двадцать четыре часа. Иначе складские работники придут и сами все выкинут, и тогда мне не вернут залог за уборку.
– Я обязательно все вывезу, – говорит она. И берет его под руку. – Но мне понадобится ключ.
– Не торопитесь. Мы еще не назначили цену.
Она смотрит на него, уже не улыбаясь. Она знает, что он знает.
Надо бы кончать этот спектакль. Взять деньги и бежать. Но он получает колоссальное удовольствие. Настоящая убийца, и делает ему авансы! Одно неловкое движение, и ему конец. Его это невыносимо заводит. Он давно не чувствовал себя таким живым. Что она сделает – подсыплет яду ему в стакан? Зажмет в темном углу, выхватит из кармана нож и ударит в сонную артерию? Успеет ли он перехватить ее руку? Он хочет рассказать ей о том, что знает, в безопасном месте, в окружении других людей. Он хочет видеть ее лицо в тот миг, когда она поймет, что он, так сказать, держит ее за горло. Он хочет услышать ее рассказ. Или рассказы: наверняка у нее в запасе не один. И услышит.
– Выезжаете из ворот, поворачиваете направо. На первом светофоре прямо. Там будет мотель, «Серебряный рыцарь». – Он знает все бары при мотелях рядом со всеми складами, куда ездит на аукционы. – Встретимся в баре. Займите укромный уголок. Я только загляну в последний отсек, который купил.
Он едва удерживается от того, чтобы сказать «Заодно снимите номер в мотеле, поскольку мы оба прекрасно понимаем, к чему идет дело», но это означало бы слишком торопить события.
– «Серебряный рыцарь», – повторяет она. – С серебряным рыцарем на вывеске? Спешащим на помощь прекрасной даме?
Она старается все обратить в шутку. Опять смешок, но у нее явно перехватывает дыхание. Сэм не отвечает ей шуткой. Вместо этого он укоризненно хмурится. «Не думайте, дамочка, что сможете задурить мне голову. Я твердо намерен получить свои деньги».
– Мимо не проедете, – говорит он. Сбежит ли она? Оставит его разгребать последствия? Никто не знает, где и как ее искать – разве что она по оплошности сняла отсек на свое настоящее имя. Выпускать ее из виду – рискованно, но Сэм готов на этот риск пойти. Он на девяносто девять процентов уверен, что найдет ее в баре «Серебряный рыцарь».
Он посылает Неду эсэмэску: «На дорогах убийство. Погода говно. Заберем барахло утром. Спок ночи». Его подмывает вытащить сим-карту из телефона и сунуть в нагрудный карман жениху, но он противится искушению. Впрочем, он уходит в офлайн: не полная тьма, но сумрак.
«Не знаю, господин полицейский, – скажет Нед. – Он послал мне эсэмэску с того склада. Часа в четыре. Тогда с ним было все норм. Он собирался приехать в магазин утром, мы бы взяли фургон и забрали все из отсеков. После этого от него больше ничего не было.
Какой сушеный мужик во фраке?! Правда?! Охренеть. Не знаю, хоть обыщите».
Спокойно, все по порядку. Сначала откроем отсек номер 56. Там все, как и следовало ожидать: несколько разных предметов мебели, неплохого качества, как раз годится для перепродажи в «Метро-гламур». Кресло-качалка, сосновое, Квебек. Два журнальных столика пятидесятых годов, похоже – красного дерева, тонкие суставчатые ножки под эбен. Среди прочего – письменный стол в стиле «движения искусств и ремесел»[28]. Запечатанные белые мешочки лежат в трех ящичках справа.
Схема на самом деле идеальная. Можно вообще все отрицать. Провести линию от них к нему невозможно. «Да я понятия не имею, откуда это тут! Я купил отсек с содержимым на аукционе, выиграл лот, на моем месте мог быть кто угодно. Я так же удивлен, как и вы! Нет, я не открывал ящики стола до того, как привез его к себе в магазин, с какой стати? Я торгую мебелью, а не барахлом, которое лежит в ящиках».
Потом стол купит нужный человек – скорее всего, это произойдет в понедельник, – и делу конец. Сэм – лишь передаточная станция. Мальчик-курьер.
Нед тоже не станет открывать ящики. У него хорошее чутье – он знает, куда лезть не стоит.
Можно спокойно оставить всю партию товара на месте: до завтрашнего полудня никто не полезет в запертый отсек. А Сэм и фургон уберутся отсюда задолго до этого срока.
Он проверяет телефон. Новая эсэмэска от Гвинет: «Я была не права, пожалуйста, вернись, мы все обсудим». Укол ностальгии: что-то знакомое, уютное, безопасное. В определенной степени безопасное. Приятно знать, что это у него впереди. Но он не отвечает. Ему нужен этот длинный пустой кусок ничем не заполненного времени, который начнется прямо сейчас. В котором может случиться все, что угодно.
Когда он входит в бар «Серебряный рыцарь», она уже там, ждет. Она даже заняла кабинку со столиком и двумя скамьями. Сэма радует такая неожиданная уступчивость. Женщина сняла дубленку и теперь одета так, как ей и положено: в черное. Вдова, паук. Черное идет к ее волосам – она пепельная блондинка. Глаза у нее зеленовато-карие, ресницы длинные.
Она улыбается, когда Сэм вдвигается на скамью напротив нее. Но улыбается не слишком широко: слабо, меланхолично. Перед ней бокал белого вина, едва початый. Сэм берет то же самое. Пауза. Кто начнет первым? У Сэма встают дыбом волосы на затылке. На стене за головой женщины висит плоский экран. Показывают наступающую на город метель – она как огромная бесшумная волна конфетти.
– Похоже, мы тут застрянем, – говорит женщина.
– Давайте выпьем за это, – отвечает Сэм, распахивая большие голубые глаза. Он смотрит прямо в глаза женщине и поднимает бокал. Ей ничего не остается, как поднять в ответ свой.
«Да, это он, точно, без вопросов. Я в тот вечер, когда снегопад был, работал в баре. Этот человек пришел с отпадной блондинкой в черном, и мне показалось, они договорились, если вы понимаете, о чем я. Как они уходили, я не видел. Спорим, по весне ее найдут в сугробе, когда начнет таять снег?»
– Значит, вы заглянули внутрь, – говорит она.
– Да, заглянул, – отвечает Сэм. – Кто он такой? Что произошло?
Он надеется, что женщина не разразится слезами, это его разочарует. Но нет, она ограничивается дрожащим подбородком и прикушенной губой.
– Это было ужасно, – произносит она. – Это была ошибка. Он не должен был умереть.
– Но умер, – добрым голосом поощряет ее Сэм. – Бывает.
– Да, бывает. Я даже не знаю, как рассказать, это все так…
– Доверьтесь мне, – говорит Сэм. Она ему не доверится, но притворится.
– Он любил… Клайд, он любил, чтобы его придушивали. Мне это не доставляло особого удовольствия. Но я любила его… была влюблена в него… поэтому делала, как он просил.
– Ну конечно, – говорит Сэм. Жаль, что у мумифицированного жениха появилось имя: «Клайд» звучит по-дурацки. Лучше бы он оставался безымянным. Ясно, что она врет, но что именно в ее рассказе ложь? Когда Сэм врет, он предпочитает держаться поближе к истине, чтобы меньше выдумывать, меньше запоминать. Так что, может быть, что-то из ее слов и правда.
– И потом он… вот.
– И потом он – что?
– Умер. У него начались конвульсии, но я думала, это он просто… ну, вы понимаете… как обычно. Но я перестаралась. А потом не знала, что делать. Это было за день до нашей свадьбы! Я много месяцев все организовывала, заказывала! Пришлось сказать, что он оставил мне записку, сбежал, исчез, бросил меня. Я была жутко расстроена! Мне уже все привезли – платье, торт, вот это все. И я, это звучит ужасно, но я его одела, полностью, вплоть до гвоздики в петлице, он был такой красивый. А потом я все уложила в отсек на складе. Я плохо соображала. Я так ждала этой свадьбы, и мне почудилось, что сложить все вместе и значит сыграть свадьбу в каком-то смысле.
– Вы сами его туда привезли? Вместе с тортом и всем прочим?
– Да, – говорит она. – Оказалось не так уж трудно. У меня была погрузочная тележка. Знаете, для переездов, для тяжелых вещей, мебели и прочего.
– Удачно придумали, – говорит Сэм. – Вы очень находчивая.
– Спасибо.
– Вот это история. Такому мало кто поверит.
Женщина опускает глаза, смотрит на стол.
– Я знаю, – отвечает она несчастным голоском. Потом поднимает взгляд. – Но вы же верите, правда?
– Я по природе недоверчив, – говорит Сэм. – Скажем, так – я верю вашим словам. Пока что.
Может, потом он вытянет у нее всю правду. А может, и нет.
– Спасибо, – повторяет она. – Вы никому не расскажете?
Дрожащая улыбка, прикушенная губа. Она явно переигрывает. Как все было на самом деле? Она проломила ему голову бутылкой шампанского? Впрыснула смертельную дозу? Какая сумма денег была замешана и в какой форме? Без денег тут не обошлось, это точно. Может, она запустила руку в банковский счет бедняги, а он заметил?
– Идем, – говорит Сэм. – К лифту налево.
В номере темно, если не считать слабого света, идущего с улицы. Шум уличного движения – и без того слабый – приглушен. Снег валит уже всерьез: хлопья мягко шлепают о стекло, словно армия мышей-камикадзе бьется грудью в окно, пытаясь прорваться внутрь.
Сэм держит женщину в объятиях. Нет, не так, он ее удерживает, придавливает, и это безумно возбуждает, электризует, он ничего подобного в жизни не ощущал. Она словно гудит от высокого напряжения, от опасности, как высоковольтный провод; она – незаземленная розетка; она – сумма его собственного незнания, всего, что он не понимает и никогда не поймет. Стоит отпустить хоть одну ее руку – и, возможно, это будет его смерть. Стоит повернуться к ней спиной. Не бежит ли он сейчас, спасая свою жизнь? Не бьет ли ему в спину хриплое дыхание?
– Мы с тобой созданы друг для друга, – говорит женщина. – Мы должны всегда быть вместе.
Может, она и тому, другому, говорила эти же слова? Его скорбному, высохшему двойнику? Он хватает ее за волосы, кусает ее рот. Он пока впереди, и расстояние между ними растет. Быстрее!
Никто не знает, где он сейчас.
Мне снилась Женя с красными зубами[29]
– Вчера ночью мне приснилась Женя, – говорит Коринна.
– Кто? – переспрашивает Тони.
– Ах, поганка! – восклицает Роза. Уида, Кориннина собака, черно-белая помесь загадочной породы, только что проехалась грязными лапами по новому пальто Розы. Пальто оранжевое – возможно, не самый удачный цвет. Коринна уверяет, что Уида обладает особо тонким восприятием и что следы ее лап – на самом деле послания. «Что Уида пытается мне сказать? – гадает Роза. – Что я похожа на тыкву?»
Осень. Три подруги гуляют по оврагу, шурша опавшими листьями. На такую прогулку они выходят еженедельно. Они заключили между собой договор – больше двигаться, чтобы подстегнуть образование аутофагов в организме. Про аутофаги Роза вычитала в каком-то медицинском журнале, сидя в приемной у зубного врача; оказывается, в человеческом организме куски клеток съедают другие куски, больные или умирающие. И такой внутриклеточный каннибализм способствует долголетию.
– Кто поганка? – спрашивает Коринна. У нее длинное, белое, гофрированное лицо и длинные, белые, гофрированные волосы, и она как никогда похожа на овцу. Или на ангорскую козу, думает Тони, которая всегда предпочитает конкретику. Устремленный внутрь себя взгляд, словно его обладательница что-то сосредоточенно пережевывает.
– Я не про твой сон, – говорит Роза. – Я про Уиду. Уида, сидеть!
– Она тебя любит, – нежно говорит Коринна.
– Уида, сидеть! – повторяет Роза, уже раздраженно. Уида уносится прочь.
– Она такая энергичная! – восклицает Коринна. Она обзавелась собакой три месяца назад и уже тает от умиления каждый раз, когда эта блохастая дворняга что-нибудь выкинет. Можно подумать, что Коринна самолично ее родила.
– Потрясно, – говорит Тони, которая порой набирается словечек у своих студентов. Она теперь почетный профессор, но все же ведет один семинар, для будущих магистров: «Ранние военные технологии». Они только что прошли скорпионовые бомбы – эта тема всегда очень популярна – и начали рассматривать композитные луки гунна Аттилы, с арматурой из кости. – Женя! Охренеть! Она что – просочилась из гроба наружу?
Она вглядывается в лицо Коринны через круглые очочки. В двадцать с небольшим Тони была похожа на проказливого эльфа. Она и сейчас еще похожа на эльфа, но уже составленного из сушеных цветов. Кожа как мятая папиросная бумага.
– Когда она умерла-то? – спрашивает Роза. – Я забыла. Ужасно, правда?
– В тысяча девятьсот восемьдесят девятом или около того, – отвечает Тони. – Или в тысяча девятьсот девяностом. Тогда как раз сносили Берлинскую стену. У меня остался кусок.
– Ты думаешь, он настоящий? – спрашивает Роза. – Тогда откалывали куски бетона откуда попало! Это все равно что щепки от Истинного Креста, или фаланги пальцев святых, или… или фальшивые «Ролексы».
– Это сувенир, – говорит Тони. – Сувенирам не обязательно быть подлинными.
– Во сне время течет не так, как в реальности, – произносит Коринна. Она любит читать о том, что происходит у нее в голове, когда она спит – впрочем, думает Роза, бодрствующая Коринна порой не сильно отличается от спящей. – Во сне все живы. Так сказал этот человек, тот, который… он говорит, что во сне время всегда «сейчас».
– Это не слишком утешает, – говорит Тони. Она любит, чтобы все было разложено по полочкам и так оставалось. Ручки в этом стакане, карандаши в том. Овощи на тарелке справа, мясо слева. Живые в одну сторону, мертвые – в другую. Нельзя допускать осмоса, смешения: от этого начинает кружиться голова.
– А во что она была одета? – спрашивает Роза. При жизни Женя одевалась очень эффектно. Предпочитала насыщенные цвета – сливовый, сепия. Она была гламурна, в то время как Роза – лишь элегантна.
– В кожу, – бормочет Тони. – И хлыстик с серебряной ручкой.
– Во что-то вроде савана, – отвечает Коринна. – Белое.
– Как-то не представляю ее в белом, – говорит Роза.
– Мы же не одевали ее в саван, – говорит Тони. – Для кремации. Мы выбрали одно из ее собственных платьев, вы разве не помните? Вроде коктейльного. Темное.
Если имя «Женя» написать наоборот, получится «Янеж». Звучит по-венгерски. В Жене определенно было что-то венгерское, цыганское; будь она певицей, у нее было бы контральто.
– Это вы вдвоем выбрали, – говорит Роза. – Я бы ее в мешок запихала.
Она тогда предложила мешок, но Коринна потребовала облачить Женю как следует: а то вдруг она обидится и не уйдет на тот свет, а останется их изводить на этом.
– Ну не знаю, может, это был и не саван, – уступает Коринна. – Может, ночная рубашка. Она вроде как развевалась.
– А не светилась? – с интересом спрашивает Тони. – Как эктоплазма?
– А на ногах что было? – спрашивает Роза. Туфли – дорогие, на высоких каблуках – когда-то играли важнейшую роль в ее жизни, но выпирающие косточки и искривленные пальцы положили этому конец. Впрочем, туфли, пригодные для ходьбы, тоже могут быть на вид очень элегантными. Может, она купит эти новомодные, у которых каждый палец отдельно. Будет в них похожа на лягушку, но, говорят, они ужасно удобные.
– Конечно, это на самом деле была крашеная марля, – говорит Тони. – Они засовывали ее в нос.
– Что вы все несете?! – спрашивает Роза.
– При чем тут ее ноги? – восклицает Коринна. – Дело не в ногах, дело в том, что…
– Надо полагать, у нее еще были окровавленные клыки, – говорит Тони. Женя вечно переигрывала, и такое было бы как раз в ее духе. Красные контактные линзы, шипение, когти, все дела.
Коринне пора завязывать с просмотром вампирских фильмов на ночь. Ей это вредно, она слишком впечатлительна. Тони и Роза обе так думают, поэтому когда намечается очередной киновечер, они приходят к Коринне, чтобы она хотя бы не смотрела в одиночку. Коринна делает им мятный чай и попкорн, и они сидят у нее на диване, как подростки, набивая рот попкорном и время от времени бросая горсть Уиде; они прилипают к экрану, когда музыка вдруг становится зловещей, глаза краснеют или желтеют, зубы удлиняются и кровь брызжет, как томатный соус, заливая все кругом. Когда начинают выть волки, Уида тоже воет.
Почему они втроем проводят время как подростки? Может, это – унылая замена сексу, которого им достается все меньше? Они словно отбросили взрослость, зрелость, жизненный опыт, мудрость, что собирали всю жизнь, вроде очков-бонусов накопительной программы; взяли и выкинули, променяли на вредную масляную, соленую еду, на дурацкие фильмы, от которых адреналин бьет в голову. После этих своеобразных оргий Тони по нескольку дней счищает с кардигана белые волосы – одни принадлежат Уиде, другие Коринне. «Ну что, хорошо провели время?» – спрашивает Юст, и Тони отвечает, что они просто болтали. Скучная бабья болтовня. Чтобы он не обиделся, что его не допустили к чему-то важному.
Мир явно катится под уклон; Тони ловит себя на том, что высказывает это мнение как минимум раз в день. Погода сошла с ума. Из-за политики люди готовы друг другу глотку перервать. Куда ни плюнь, везде строят стеклянные небоскребы – они похожи на трехмерные зеркала или на осадные башни. Сбор мусора – столько разноцветных контейнеров, и как запомнить, что в какой класть? Куда, например, идут прозрачные коробочки от еды и почему при сортировке нельзя руководствоваться номером, выдавленным на дне такой коробочки?
И теперь вот вампиры. Раньше с ними все было ясно – вонючие нежити, воплощение зла. Но теперь появились добродетельные вампиры и заблудшие вампиры, сексуальные вампиры, гламурные вампиры, и старые правила уже не действуют. Когда-то можно было положиться на чеснок, восход солнца, крест. Избавиться от вампиров раз и навсегда. Но увы, это уже не так.
– Ну, не то чтобы клыки, – говорит Коринна. – Хотя если вдуматься, зубы у нее были какие-то слишком острые. И вроде как розовые. Уида, перестань!
Уида скачет вокруг и лает: она возбуждена оттого, что гуляет в овраге и не на поводке. Она любит рыться носом под упавшими стволами и бросаться за кусты, оттягивая момент, когда ее снова поймают, и зарывая свое… как это назвать? Коринна не любит вульгарных слов вроде «говно». Роза предложила «какашки», но это слово Коринна отвергла как слишком детское. «Продукты пищеварения», предложила Тони. Нет, сказала Коринна, это слишком холодно и заумно. Ее – дары земле.
Ну, стало быть, Уида зарывает свои дары земле, а Коринна бегает за ней с пластиковым экопакетом в руке (они у Коринны почти не расходуются, так как часто ей не удается найти дары), слабо выкрикивая, вот как сейчас:
– Уида! Уида! Иди сюда! Хорошая девочка!
– Ну хорошо, тебе явилась Женя, – говорит Тони. – Во сне. И что было дальше?
– Ты думаешь, что это глупо, – отвечает Коринна. – Но все равно. Она не угрожала мне и ничего такого. Наоборот, мне показалось, что она желает мне добра. У нее было для меня послание. Она сказала, что Билли возвращается.
– Похоже, на тот свет новости доходят с опозданием, поскольку Билли уже вернулся, так? – язвит Тони.
– Ну не то чтобы вернулся, – чопорно отвечает Коринна. – То есть я хочу сказать… мы с ним не… Он просто живет за стенкой.
– И это уже чересчур близко, – говорит Роза. – Я никак не пойму, за каким чертом ты пустила к себе этого халявщика.
Давным-давно, когда они все были молоды, Женя у каждой из них украла по мужчине. У Тони – Юста, хотя он потом передумал (точнее, такова официальная версия, которую Тони внушила самой себе), вернулся и пустил корни. Сейчас он сидит дома, возится со своей электронной музыкальной системой и глохнет день ото дня. У Розы – Митча, это было нетрудно, поскольку он никогда особо не умел держать штаны застегнутыми; Женя не только обобрала его до нитки, но и украла у него то, что Коринна зовет психической цельностью. Митч утопился в озере Онтарио – на нем был спасательный жилет, и все выглядело как несчастный случай на яхте, но Роза-то знала.
Она уже пережила это и успокоилась – насколько женщина вообще может пережить такое и успокоиться. Теперь у нее другой муж, гораздо приятней, его зовут Сэм, он работает в торговом банке, намного лучше ей подходит, и чувство юмора у него тоже более развито. Но рубец в душе остался. И дети пострадали; вот этого Роза никак не может простить, несмотря на все походы к психотерапевту с намерением стереть прошлое. Впрочем, если человека уже нет на свете, его хоть прощай, хоть не прощай, это ничего не изменит.
А у Коринны Женя украла Билли. Тони и Роза думают, что это, вероятно, была самая жестокая кража – Коринна такая доверчивая и беззащитная, она впустила Женю к себе, потому что та была в беде, стала жертвой жестокого обращения, и еще у нее был рак, и ей нужна была помощь. Во всяком случае, по словам самой Жени – и все до единого слова были враньем. Коринна и Билли жили тогда на Острове, в небольшом коттедже, скорее – деревенском домике. Они держали кур. Курятник Билли построил сам: он скрывался от призыва и потому у него не было постоянной работы.
Для Жени в домике не то чтобы хватало места, но Коринна потеснилась, поскольку была гостеприимна и хотела делиться всем, что у нее было: такими тогда были жители Острова, а также люди из коммуны укрывающихся от призыва. На участке росла яблоня; Коринна пекла пироги с яблоками и всякое другое, замешивала тесто на яйцах. Она была так счастлива и к тому же ждала ребенка. И вдруг – никто глазом моргнуть не успел – Билли и Женя сбежали вместе, а все куры оказались мертвыми. Им кто-то перерезал горло хлебным ножом. Какая омерзительная жестокость.
Почему Женя так поступила? «А почему она вообще все делала? Почему кошки едят птичек?» – так отреагировала Роза, но это не сильно помогло. Тони считала, что это демонстрация власти. Коринна же была уверена, что есть какая-то причина, какой-то резон где-то в шестеренках механизма вселенной, но какой – не знала.
Роза и Тони в конце концов обзавелись постоянными спутниками жизни, несмотря на все старания Жени им помешать. А Коринна – нет. Роза объясняла это тем, что Коринна тогда, после истории с Женей и Билли, не обрела психологического завершения. Тони – тем, что Коринна просто не смогла найти такого же чокнутого, под стать себе. И кто же явился вдруг, меньше месяца назад? Не кто иной, как давно пропавший паразит Билли! И что же сделала Коринна? Взяла и сдала ему вторую половину своего дома! Тут впору, пожалуй, рвать на себе седые волосы, думает Роза, которая до сих пор каждые две недели аккуратно подкрашивает свои. В спокойный каштановый, не вырвиглаз. Если волосы покрасить слишком ярко, лицо будет казаться бесцветным.
Двухквартирный дом Коринны – это целая отдельная история. Надо бы запретить дальним родственницам умирать, думает Тони; а уж если без этого совсем никак, пусть хотя бы не оставляют денег добросердечным дурам вроде Коринны.
Ведь Коринна теперь не просто бывшая хиппи, которая пробавляется яйцами от своих кур, уцененным вчерашним хлебом, кошачьими консервами и бог знает чем еще в щелястой дачке на Острове. Это раньше у нее в перспективе были только нищая старость и весьма вероятная смерть от переохлаждения, и ей приходилось все время отражать попытки выросшей дочери, чиновницы в аппарате правительства в Оттаве, переселить ее в дом престарелых. Нет, именно потому, что Коринна больше не кандидат в чокнутые одинокие нищие старухи, а вполне обеспеченна, Билли и влетел обратно в ее жизнь с такой скоростью, словно его телепортировали.
Нельзя сказать, что дальняя родственница оставила царское состояние, но этой суммы Коринне хватило, чтобы уехать с Острова. Она сказала, что в любом случае Остров стал уже не тот – дома скупают богачи, перестраивают их, атмосфера совершенно изменилась, и среди новых жителей Коринна чувствует себя чужой. Хватило, чтобы отогнать призрак дома престарелых и забыть об уцененном хлебе. Хватило, чтобы купить жилье.
Коринна могла бы приобрести отдельный дом, но, похоже, она временами становится немножко рассеянна – так она выразилась, и Тони, обсуждая эту историю с Розой по телефону, воскликнула: «Да неужели!» – и она решила, что будет жить в одной квартире, а другую сдавать кому-нибудь, мастеру на все руки, и она сделает ему скидку с квартплаты, а он за это будет чинить все, что надо. Такой бартерный обмен – это ведь совсем не так меркантильно, как драть за квартиру по рыночной стоимости, правда ведь?
Тони и Роза были не согласны, но Коринна пренебрегла их мнением и разместила объявление на бесплатном сайте, слишком подробно описав себя и свои вкусы (по мнению Тони) и в целом просто открытым текстом приглашая нечистоплотных халявщиков вроде Билли (по мнению Розы). И вот он, пожалуйста – явился не запылился.
Уида не любит Билли. Она на него рычит. Это радует, ведь нынче Коринна ставит мнение Уиды выше любого другого, не исключая двух ее старинных подруг.
Это Тони и Роза подарили Коринне собаку, потому что теперь Коринна живет в Паркдейле. Роза следит за ценами на недвижимость, она говорит, что в этом районе идет стремительная джентрификация и когда-нибудь Коринна сможет продать дом за кругленькую сумму, но пока джентрификация не закончилась и на улице легко нарваться бог знает на кого, не говоря уже о торговцах наркотиками. И кроме того, говорит Тони, Коринна такая простая душа – у нее совсем нет чутья на подвох. И водить машину она не любит – предпочитает бродить пешком в диких безлюдных местах, всяких там оврагах и Хай-парке, общаясь с духами растений. Или что она там делает, говорит Роза, будем надеяться, она не решит, что Фея Ядовитого Плюща – ее новая лучшая подруга.
Ни одна из них не хочет прочитать в газете про Коринну: «Пожилая женщина ограблена под мостом» или «Безобидная старуха найдена избитой». Собака все-таки помешает такому, а Уида – частично терьер, возможно, с примесью бордер-колли, и уж, во всяком случае, не глупа, решили подруги, когда брали собаку из приюта и заполняли анкету. Немного дрессировки, и…
– Н-ну, – сказала Тони, когда Уида прожила у Коринны месяц. То было слабое звено в их плане: Коринна не могла бы выдрессировать и банан. «Но Уида очень верная, – сказала Роза. – В трудный момент на нее можно положиться. Она прекрасно рычит». «Она рычит на комаров», – мрачно ответила Тони. Когда ей говорят, что дело верное, она, как историк, знает: впереди провал.
Уиду назвали в честь английской романистки девятнадцатого века, склонной к драматическому поведению; она нежно любила собак, а значит, это имя как нельзя лучше подходит для четвероногой подружки Коринны. Так сказала Тони, придумавшая кличку собаке. По подозрениям Розы и Тони, Коринна считает, что в Уиду-собаку и впрямь вселилась душа Уиды-писательницы, поскольку Коринна верит во вторичное использование – не только стекла и пластика, но и психических объектов. Однажды, отстаивая свою точку зрения, она заявила, что, по твердому убеждению премьер-министра Маккензи Кинга, душа его матери вернулась на землю в теле его ирландского терьера, и тогда это никого не удивило. Тони хотела сказать, что тогда это никого не удивило, поскольку никто об этом не знал, а вот потом, когда узнали, удивились весьма сильно. Но промолчала.
Придя домой с прогулки, Роза немедленно звонит Тони по мобильнику.
– Что будем делать? – спрашивает она.
– Ты про Женю?
– Нет, про Билли! Он психопат. Он убил тех кур!
– Убийство кур – благотворный для общества поступок, – говорит Тони. – Кто-то должен это делать, иначе мы утонем в курах.
– Тони, это не шутки!
– А что мы можем сделать? Она совершеннолетняя, мы ей не мать. Она уже ходит как пыльным мешком стукнутая и смотрит телячьими глазами.
– Может, я найму частного сыщика? Пускай расследует прошлое Билли. Пока он ее не убил и не закопал в саду.
– У нее нет сада, только патио, – говорит Тони. – Ему придется зарыть ее в подвале. Давай следить за хозяйственными магазинами, чтобы сразу узнать, если он вдруг купит кирку.
– Коринна – наша подруга! Нельзя так шутить!
– Я знаю, – отвечает Тони. – Извини. Я шучу только тогда, когда не знаю, что делать.
– Я тоже не знаю, что делать, – говорит Роза.
– Будем молиться Уиде. Она – наша последняя линия обороны.
Их регулярные прогулки происходят по субботам, но поскольку налицо чрезвычайная ситуация, Роза назначает обед на среду.
Раньше, в эпоху Жени, они втроем ели в ресторане «ТоксИк». Куин-стрит-вест тогда была авангардней: зеленые волосы, черные кожаные прикиды, магазины комиксов. Теперь эту улицу обжили сетевые магазины одежды среднего ценового диапазона, хотя ателье татуировщиков и лавки, торгующие швейной фурнитурой, еще остались кое-где, и «Презервативная» кое-как держится. «ТоксИк», впрочем, давно нет. Роза выбирает кафе «Королева-мать». Слегка пожилое, видавшее виды, но уверенное в себе. Совсем как они втроем.
Точнее, как они втроем когда-то в прошлом. Сегодня Коринне явно не по себе. Она ковыряет вилкой вегетарианский пад-тай и все время поглядывает в окно, где нетерпеливо ждет Уида, привязанная к стойке для велосипедов.
– Когда у нас очередная вампирская ночь? – спрашивает Роза. Она только что от зубного – заморозка еще не отошла, и ей трудно есть. Ее зубы уходят туда же, куда раньше ушли туфли на высоких каблуках, и по той же причине – хрупкость, боль. А расходы какие! Словно она кидает пачки денег в собственный разверстый рот. Впрочем, есть и плюсы – за последние годы стоматология продвинулась далеко вперед. Вместо того чтобы извиваться от боли и потеть в кресле дантиста, Роза надевает темные очки и наушники и слушает музыку нью-эйдж с колокольчиками, уносясь на волне обезболивающих и успокоительных средств.
– Ну, понимаете, видите ли, вампирская ночь была вчера, – говорит Коринна. Тон у нее виноватый.
– И ты нам не сказала? – спрашивает Тони. – Мы бы пришли. Наверняка тебе из-за этого снились кошмары с Женей.
– Женя была позавчера, – говорит Коринна. – Она пришла, села на край моей кровати и велела мне беречься… кого-то, незнакомое имя. Вроде бы женское. Звучало как-то по-марсиански. Начинается на «и». На этот раз Женя была одета в меха.
– Какие меха? – Тони почему-то думает, что это был мех росомахи.
– Не знаю, – отвечает Коринна. – Какой-то черно-белый мех.
– Бррр, – говорит Роза. – И потом ты взяла и насмотрелась кино про вампиров в одиночку? Как неосторожно!
– Я не… – Коринна розовеет, – не одна его смотрела.
– О черт! – восклицает Роза. – Билли?!
– Ты с ним переспала? – спрашивает Тони. Вопрос чересчур личный, но ей и Розе нужно точно знать расположение войск противника.
– Нет! – смущенно отвечает Коринна. – Все было чисто по-дружески! Мы разговаривали! И у меня теперь стало гораздо легче на душе, потому что как можно простить человека, если он где-то далеко?
– Он тебя обнимал? – спрашивает Роза, чувствуя, что превращается в собственную мать. Нет, в собственную бабушку.
Коринна увиливает от ответа:
– Билли считает, что нам надо открыть городской «бед-энд-брекфаст»[30]. Чтобы вложить капитал. Теперь это входит в моду. В одной половине дома. Он сделает ремонт, а я буду печь.
– И деньгами тоже он будет заведовать, так? – спрашивает Роза.
– Скажи, пожалуйста, имя, которое назвала Женя, – случайно, не «Иллиб»? – спрашивает Тони. Женя всегда любила шифры, загадки, игру отражений.
– Послушай меня: забудь об этом! – говорит Роза. – Билли все равно что пылесос. Вытянет из тебя все до последнего гроша.
– А что думает про него Уида? – спрашивает Тони.
– Уида, надо сказать, слегка ревнует. Мне пришлось ее… изолировать.
Теперь она уже явно краснеет.
– Я думаю, она заперла Уиду в чулане, – говорит Тони Розе по телефону.
– Плохо дело, – отвечает Роза.
Они разрабатывают систему телефонного контроля: каждая будет звонить Коринне по разу в день, следя за развитием ситуации. Но Коринна больше не берет трубку.
Проходит три дня. И тут Тони получает эсэмэску: «Надо поговорить. Пожалуйста, приходите. Простите меня». Это от Коринны.
Тони хватает Розу – точнее, Роза заезжает за Тони на своем «приусе», – и они мчатся к Коринне. Она сидит за столом на кухне. Глаза у нее заплаканы. Но, во всяком случае, она еще жива.
– Что случилось, миленькая? – спрашивает Роза. Признаков насилия не видно: может, этот козел просто украл у Коринны все деньги?
Тони смотрит на Уиду. Она сидит у ног Коринны, навострив уши и вывесив язык. Мех у нее на груди чем-то испачкан. Томатный соус?
– Билли в больнице, – говорит Коринна. – Уида его укусила.
Она шмыгает носом. Молодец Уида, думает Тони.
– Я заварю мятного чаю, – говорит Роза. – Но почему Уида…
– Ну, мы собирались, ну, это… в спальне… А Уида лаяла, и мне пришлось запереть ее в чулане на верхней лестничной площадке. А потом, прямо перед тем как… Мне просто обязательно нужно было знать. И я спросила: «Билли, кто убил моих кур?» Потому что тогда, давно, Женя сказала мне, что это Билли сделал, но я так и не решила, кому верить, потому что Женя была такая врушка, но я просто не могла бы… с человеком, который такое сделал… И Билли сказал: «Это была Женя, она перерезала им горло, я пытался ее остановить». И тогда Уида залаяла очень-очень громко, как будто ей больно, и я не могла не пойти посмотреть, что с ней, а когда я открыла дверь чулана, она выскочила, прыгнула на кровать и укусила Билли. Он кричал, на простынях была кровь, и всё это…
– Кровь можно вывести холодной водой, – говорит Роза.
– За ногу? – спрашивает Тони.
– Не совсем. Он был совсем раздет, иначе, я уверена, она не стала бы… Но ему сейчас делают операцию. Мне ужасно неловко. В больнице, когда его уже увезли оперировать, я сказала, что это я его укусила, что он любит, чтобы его кусали в постели, и что я перестаралась, и они отнеслись с пониманием, сказали, что такое случается. Мне было ужасно неловко врать, но ведь они могли, вы же понимаете, забрать Уиду. Это было ужасно тяжело! Зато теперь я знаю ответ.
– Какой ответ? – спрашивает Роза. – Ответ на что?
Коринна объясняет, что все предельно ясно: Женя приходила к ней во сне, чтобы предостеречь ее насчет Билли, и убийцей кур был именно он. Но Коринна была глупа и сама не догадалась… она хотела видеть Билли в лучшем свете, и так радовалась, что он вернулся в ее жизнь, словно круг замкнулся или что-то такое, и тогда Жене пришлось сделать следующий шаг и перевоплотиться в теле Уиды… поэтому во втором сне она была одета в меха… и, конечно, рассердилась, услышав, что Билли свалил убийство кур на нее.
И вообще, продолжает Коринна, может быть, Женя с самого начала хотела сделать как лучше. Может быть, она тогда увела Билли, потому что он был плохой человек и мог причинить вред Коринне. А Юста – чтобы преподать Тони жизненный урок о… не знаю… о том, что следует любить музыку или еще что-нибудь такое. А Митча – чтобы освободить место для Сэма, из которого муж получился гораздо лучше. Может быть, Женя – тайный двойник, альтер эго каждой из них, и делала для них то, на что они сами не могли решиться. Если так на это посмотреть…
Тони и Роза согласились, что на это стоит смотреть именно так – во всяком случае, в присутствии Коринны, раз Коринну это утешает. Конечно, трудно изображать веру в то, что черно-белая собака средних размеров, которая пачкает тебе пальто грязными лапами и присаживается какать за упавшими стволами, – на самом деле Женя, но все время притворяться и не нужно: Женя приходит и уходит, непредсказуемая, как всегда, и лишь сама Коринна знает, когда Женя присутствует в теле Уиды, а когда нет.
Билли угрожал подать на Коринну в суд за травмы, но Роза подавила его намерения в зародыше: она сказала, что в суде побьет его одной левой. Нанятый ею частный сыщик потрудился на славу и раскопал все подробности карьеры Билли: обирание старушек, финансовые пирамиды, кража чужой личности. А если он думает угрожать Уиде, то пусть подумает хорошенько, поскольку в этом деле – его слово против слова Коринны, а кому с большей вероятностью поверят в суде?
Так что Билли растворился в голубой дали, и больше его никто никогда не видел. Во второй квартире у Коринны поселился добродушный сантехник-пенсионер. Он вдовец, и Роза с Тони возлагают на него большие надежды. Сейчас он перестраивает ванную комнату, отлично для начала. Уида его обожает и все время норовит втиснуться под раковину, когда он возится там с гаечным ключом; она лижет его куда попало и бесстыдно заигрывает с ним.
Мертвая рука тебя любит
«Мертвая рука» началась как шутка. Точнее, Джек купился на подначку. Ему бы быть поосторожней, но в те времена он курил слишком много дури и перебирал с некачественным бухлом, так что, можно сказать, не полностью за себя отвечал. Это несправедливо, что его призвали к ответственности. Это несправедливо, что он теперь связан условиями того чертова договора. Этот договор словно кандалы у него на ногах.
И ему никогда не освободиться, ведь договор действует бесконечно. Надо было указать дату окончания – как срок годности на пакете молока, на стакане йогурта, на банке с майонезом. Но что он тогда знал о договорах?! Ему было двадцать два года.
И он нуждался в деньгах.
И деньги-то были мизерные. Чрезвычайно невыгодная для него сделка. Его просто поимели. Как эти трое умудрились им попользоваться? Причем теперь они не соглашаются, что это нечестно. Просто ссылаются на этот чертов договор, на котором стоят подписи, в том числе его подпись – не оспоришь. И ему остается только стиснуть зубы и выкладывать денежки. Сначала он отказывался платить, но Ирена обзавелась адвокатом; теперь они все трое облеплены адвокатами, как собака блохами. Ирена могла бы и сжалиться над ним, ведь когда-то они были близки, но у нее сердце из асфальта – с каждым годом все жестче и суше под палящими солнечными лучами. Деньги ее погубили.
Его деньги, ведь именно благодаря ему Ирена и другие двое теперь могут позволить себе этих самых адвокатов. По высшему разряду, не хуже, чем у него самого; хотя свара между адвокатами Джеку совершенно не нужна. Когда гиены дерутся за еду, жертвой всегда становится клиент: из него вырывают зубами куски, обгрызают, словно он попал в мешок с хорьками, с крысами, с пираньями, и в итоге остается лишь обрывок, клочок кожи, кусок ногтя.
Так что он вынужден раскошеливаться – десятилетие за десятилетием, поскольку, как ему указали (совершенно справедливо), в суде у него не будет ни единого шанса. Он ведь подписал тот адский договор. Красной, горячей кровью.
Когда они подписывали договор, все четверо были студентами. Не сказать, чтобы совсем нищими – иначе они не получали бы так называемого высшего образования, а ремонтировали дороги, потрескавшиеся от зимних холодов, или обугливали гамбургеры в фастфуде за минимальную зарплату, или отсасывали у клиентов в дешевых барах, воняющих блевотиной (во всяком случае, Ирена). Нищими они не были, но лишних денег у них тоже не водилось. Они кое-как перебивались летними подработками, выпрашивали займы у родственников-скряг или (как Ирена) получали скудную стипендию.
Познакомились они в студенческой пивной, где разливное пиво стоило десять центов за кружку, – там подобралась кучка завсегдатаев, которые приходили острить, жаловаться и хвастаться. Только не Ирена, она таким никогда не занималась. Зато она, как общая мамочка, расплачивалась по счету, если все остальные сильно набирались и забывали, где у них лежат деньги, или вообще хитрили и приходили без денег – впрочем, она потом обязательно выбивала долг из должника. Они четверо открыли, что их роднит желание поменьше платить за жилье, и вот сняли дом вместе – прямо рядом с университетом.
То было в начале шестидесятых, когда студенты еще могли себе позволить снять дом в районе университета, хотя бы даже и узкий, с остроконечной крышей, трехэтажный, душный летом и промороженный зимой, запущенный, воняющий мочой, с отстающими обоями, кривыми полами, лязгающими батареями, кишащий крысами и тараканами типовой викторианский дом красного кирпича в ряду таких же. Лишь гораздо позже эти дома были объявлены архитектурными памятниками – теперь, чтобы купить такой, придется продать почку; и они обвешаны мемориальными табличками, этим занимаются разные дебилы, которым делать больше нефиг, кроме как развешивать мемориальные таблички на безобразно дорогой, вылизанной, навороченной недвижимости.
Его собственный дом – тот, в котором был подписан злополучный контракт, – тоже обзавелся табличкой. На ней написано – сюрприз! – что он, Джек, когда-то жил в этом доме. Джек как бы и сам знает, что он тут раньше жил, и в напоминаниях не нуждается. Ему совершенно ни к чему читать собственное имя, «Джек Дейс, 1963–1964», как будто он прожил на свете только один год, и все, что ниже мелким шрифтом: «В этом доме был создан шедевр мировой литературы в жанре хоррора «Мертвая рука тебя любит»».
При виде эмалированной овальной бело-синей таблички Джеку хочется закричать: «Я не идиот! Я все это и так знаю!» Ему хочется забыть про табличку, вообще всю эту историю забыть как можно прочней, но он не может – словно прикован за ногу к этому дому. Он приходит сюда полюбоваться каждый раз, когда оказывается в городе – когда идет очередной кинофестиваль, литературный фестиваль, комикс-конвент, шабаш любителей ужастиков или еще что-нибудь такое. С одной стороны, табличка напоминает ему о том, каким дураком он был, что подписал договор; с другой стороны, он самым жалким образом тешит свое тщеславие, перечитывая слова «шедевр мировой литературы в жанре хоррора». Он как будто слегка двинулся на этой табличке. Впрочем, она отдает дань самому большому достижению его жизни. Уж какое есть.
Может, и на могиле у него напишут: «Шедевр мировой литературы в жанре хоррора «Мертвая рука тебя любит»». Может быть, нимфетки-фанатки с глазами, подведенными по-готски, с татуированными на шее швами, как у Франкенштейна, с пунктиром на запястьях, помеченным «Линия разреза», будут посещать его могилу, оставляя на ней иссохшие розы и выбеленные куриные кости. Ему такое уже присылают по почте, а ведь он даже еще не умер.
Иногда поклонницы преследуют его на разных мероприятиях – на дискуссионных панелях, куда его приглашают ради нудных рассуждений о подлинной ценности «определенных жанров», на ретроспективных показах фильмов, вдохновленных его литературным шедевром – одеваются в рваные саваны, красят лица в трупно-зеленый цвет, подносят конверты с собственными фотографиями в голом виде и/или с черной веревкой на шее и высунутым языком, и/или пакетики с пучками собственных лобковых волос и предлагают сделать ему потрясающий минет вставной вампирской челюстью. Это возбуждает, но также и отпугивает, и он еще ни на одно из таких предложений не согласился. От других предложений он, впрочем, не отказывался. Как тут устоять?
Впрочем, это всегда рискованно – для его самолюбия. Вдруг он окажется не гигантом в койке (точнее, поскольку этих девиц возбуждает умеренный дискомфорт, – на полу, у стены, на кресле с веревками и цепями)? Вдруг очередная девица скажет, поправляя кожаную сбрую, натягивая чулки в виде паутины и подновляя гримом гноящиеся язвы перед зеркалом в ванной: «Я тебя как-то по-другому представляла»? Да, такое случалось, ведь годы над ним очень даже властны и его разнообразие прискучивает[31].
«Ты мне все страдание испортил» – даже такое они иногда ляпают. Хуже всего, что это говорится всерьез. Они дуются. Обвиняют его. Отказывают в праве на существование. Так что лучше держаться от них подальше, пусть поклоняются его порочным сатанинским чарам издалека. Кстати, эти девицы непрерывно молодеют, и Джеку все трудней поддерживать с ними разговор, когда требуется. Он не понимает половины всего, что исходит у них изо рта (когда это не высунутый язык, а что-то членораздельное). У них даже словарь другой. Иногда Джеку кажется, что он проспал сто лет под землей.
Кто бы предсказал ему такой странный успех? В те давние годы, когда все, кто его знал (включая его самого), считали его ни к чему не годным бездельником? «Мертвая рука тебя любит» была плодом внезапного вдохновения, неожиданного визита какой-то пошлой, морально неустойчивой, потасканной музы; ведь Джек написал книгу практически в один присест, а не так, как обычно работал – то начнет, то застрянет, то скомкает страницу и швырнет в корзинку для бумаг, то погрузится в летаргию или уныние, которые обычно и мешали ему что-либо написать. На этот раз он садился и печатал – по девять-десять страниц в день, на старом «ремингтоне», подвернувшемся по случаю в закладной лавке. Как странно теперь вспоминать пишущие машинки – застревающие рычажки, перекрученные ленты, испачканные копиркой пальцы. Вся книга родилась, кажется, за три недели. Точно не больше месяца.
Конечно, он не знал, что это будет «шедевр мировой литературы в жанре хоррора». Ему не пришло бы в голову сбежать по лестнице на два этажа вниз, ворваться на кухню и заорать: «Я только что написал шедевр мировой литературы в жанре хоррора!» Да если бы и заорал, другие трое над ним только посмеялись бы, сидя за столом с покрытием «формика», попивая растворимый кофе и поедая бледные запеканки авторства Ирены с большим количеством риса, лапши, лука, грибного супа из консервных банок и тунца из них же – поскольку все это дешево и в то же время питательно. Разумная экономия была ее коньком.
Четверо обитателей дома складывали деньги на продукты на неделю в обеденную копилку, банку для печенья в форме свиньи. Ирена клала меньше денег, поскольку готовила на всех. Готовила, ходила в магазин за продуктами, платила по счетам за свет и отопление – ей это нравилось. Когда-то женщинам нравились подобные занятия, и мужчин это устраивало. Джек и сам не возражал, когда Ирена кудахтала над ним и говорила, что ему нужно больше есть. У них был уговор, что остальные трое, в том числе Джек, моют посуду после еды, но Джек не мог бы, положа руку на сердце, сказать, что это происходило регулярно. Во всяком случае, с ним.
Перед тем как приступить к готовке, Ирена надевала фартук. На нем была аппликация, изображающая пирог, и надо сказать, что фартук Ирене шел – в частности, потому, что завязывался на талии, и тогда было видно, что у Ирены, собственно говоря, есть талия. Обычно ее скрывали многослойные толстые вязаные или тканые одежды, защищавшие Ирену от холода. Темно-серые или черные, словно она монахиня в миру.
Поскольку у Ирены появлялась талия, становилось также заметно, что у нее есть попа и вполне существенная грудь, и Джек поневоле воображал, как она выглядела бы, если бы снять с нее все эти прочные, жесткие одеяния и даже фартук. И распустить волосы, светлые волосы, которые она скручивала узлом на затылке. Она была бы восхитительной и аппетитной, пухленькой и податливой; пассивно манящей, словно теплая грелка телесного цвета, укутанная в чехол из розового бархата. Она провела Джека, обманула: он думал, что сердце у нее мягкое, как набитая пухом подушка. Он ее идеализировал. Вот же лох!
Короче, если бы он тогда явился на кухню, пропахшую запеканкой из лапши и рыбных консервов, и заявил, что только что написал шедевр мировой литературы в жанре хоррора, те трое лишь посмеялись бы над ним – тогда они не принимали его всерьез, и сейчас не принимают.
Джек жил на верхнем этаже. На чердаке. Это была самая плохая комната в доме. Раскаленная летом и стылая зимой. Туда поднимались все испарения дома – кухонный чад, вонь грязных носков с нижних этажей, смрад сортира. Все эти запахи кочевали снизу вверх. Джек ничем не мог компенсировать несправедливое распределение жары и холода, разве что с удвоенной силой топать ногами; но этим он беспокоил бы только Ирену, чья комната была прямо под ним, а ее он злить не хотел, поскольку намеревался пробраться к ней в трусы.
Трусы у нее были черные, как Джек в конце концов выяснил. Тогда он думал, что черное белье – это сексуально, даже где-то порочно, как откровенные фотографии в бульварных журнальчиках про полицейских и преступников. В жизни ему до того попадалось только белое и розовое нижнее белье, такое носили девушки, с которыми он встречался в школе; впрочем, ему и эти-то не удавалось толком разглядеть, поскольку с девушками он обжимался в припаркованных машинах, а там было, к сожалению, темно. Много лет спустя до него дошло, что Ирена предпочитала черное белье не для сексапильности, а из практических соображений: ее черные трусы были предельно прагматичны, без кружев, без прорезей и прочих завлекалочек; их покупали не для того, чтобы демонстрировать плоть, а лишь для того, чтобы скрыть грязь и сэкономить гроши на стирке.
Потом Джек шутил про себя, что заниматься любовью с Иреной – все равно что с чугунной вафельницей. Но это было уже потом, когда последующие события исказили его ретроспективный взгляд и заковали ее в броню.
Ирена не одна жила на втором этаже. Там обитал и Джаффри, отчего Джека порой обуревала мрачная ревность – ведь Джаффри ничего не стоило разуться, оставшись в вонючих шерстяных носках, и бесшумно проскользнуть по коридору к двери Ирены, капая слюнями и дрожа от похоти, пока Джек в своей каморке на чердаке был мертв для всего остального мира. Но комната Джаффри находилась над кухней – позднейшей пристройкой к дому, крытой рубероидом, щелястой и насквозь пропитавшейся жиром, так что Джек не мог досадить Джаффри, топая у него над головой.
Третий жилец, Род, тоже был неуязвим для топанья, и его Джек тоже подозревал в подбивании клиньев к Ирене. Род занимал комнату на первом этаже, бывшую столовую. Они заколотили двойные двери с матовыми стеклами между комнатой Рода и бывшей гостиной. Гостиная теперь выглядела как притон курильщиков опиума, хотя никакого опиума у них не было – нечистые бордовые подушки, бурый ковер оттенка собачьей блевотины с инкрустацией из втоптанных в него картофельных чипсов и орехов, и сломанное кресло, от которого приторно воняло портвейном «Старый моряк» – любимым за дешевизну напитком захожих студентов-философов.
В этой гостиной они проводили время, устраивали вечеринки, – впрочем, места в гостиной не хватало, и вечеринки выплескивались в узкий коридор, вверх по лестнице и на кухню. Гости разбивались на две группы – любители дури и любители бухла. Любители дури еще не называли себя хиппи, поскольку никаких хиппи на свете еще не было, – но это были предвестники будущего, обтрепанные, застенчивые квазибитники, отвисавшие с джазистами и перенимавшие у них всяческие пороки, свойственные маргиналам. В такие дни Джек Дейс, ныне увековеченный табличкой почтенный автор всемирного шедевра литературы в жанре хоррора, был очень рад, что его комната находится на самом верху, вдали от веселящейся толпы и запахов алкоголя, разнообразного дыма, а иногда и рвоты, поскольку некоторые не знают своей нормы.
Раз у Джека была отдельная комната на самом верху, он мог предложить временное убежище какой-нибудь прекрасной, утомленной жизнью светской утонченной девице в черной водолазке и с сильно подведенными глазами. Он мог бы заманить ее по лестнице в свой заваленный газетами будуар, на кровать с индийским покрывалом, обещая беседу о литературном ремесле, о муках и конвульсиях творчества, о писательской честности, о соблазне продаться, о благородном сопротивлении этому соблазну и так далее. Обещание формулировалось с ноткой иронии – чтобы девица вдруг не подумала, что он самоуверенный надутый индюк. Впрочем, он как раз и был самоуверенным надутым индюком – в этом возрасте нельзя иначе, а то никогда не наберешься мужества сползти с постели утром и затем в течение двенадцати часов кое-как поддерживать в себе веру в свои мнимые таланты.
Но на деле ему ни разу не удалось залучить к себе такую девицу – а если бы удалось, это закрыло бы ему путь к Ирене, которая подавала едва заметные знаки, что, может быть, ну вдруг, у них что-нибудь получится. Ирена не пила и не курила, только подтирала по всему дому за пьющими и курящими, мысленно отмечала, кто что делает и с кем именно, и наутро все это помнила. Она никогда не рассказывала об увиденном, дальше нее это не шло, но по ее умолчаниям можно было кое-что понять.
После того как «Мертвая рука» вышла и получила всеобщее признание – нет, не так, подобные книги не получают всеобщего признания, или, во всяком случае, тогда не получали, это случилось лишь гораздо позже, когда «подобные жанры» десантировались с моря, захватили плацдарм и в конце концов отвоевали мыс на побережье респектабельной литературы, – ну, значит, когда по книге сделали фильм, Джеку стало гораздо проще заманивать девиц. У него появилась репутация – за неимением лучшего, репутация коммерчески успешного писателя, чьи книги выходят массовым тиражом в мягкой обложке с большими выпуклыми золотыми буквами. Проповедовать чистоту искусства и непродажность писателя он после этого уже не мог, зато многих девиц привлекала чернуха – во всяком случае, они так говорили. Даже до того, как появились готы. Возможно, его книга напоминала этим девицам об их внутренней жизни. Впрочем, возможно, они просто надеялись, что он пропихнет их сниматься в кино.
Ах, Джек, Джек, говорит он себе, разглядывая в зеркало мешки под глазами, ощупывая проплешину на затылке и втягивая живот – хотя это получается лишь ненадолго. Какой ты идиот. Как ты одинок. Ах, Джек, прошла пора, когда ты ходил гулять на речку. Где твоя, когда-то большая и крепкая, свечка?[32] И куда делся твой дар – толкать телеги мочалкам? Когда-то ты был такой самоуверенный. Такой доверчивый. Такой молодой.
Договор родился в неприятной ситуации. На дворе стоял конец марта, на газонах лежал кучами серый пористый тающий снег, воздух был холодный и мокрый, а атмосфера в доме – напряженная. Трое соседей Джека сидели за столом на кухне – стол на железных ногах, столешница из «формики», красная с жемчужными разводами – и жевали остатки от ужина: Ирена обычно подавала их назавтра на обед, так как не любила выбрасывать еду. А Джек к обеду проспал, и неудивительно: накануне случилась очередная вечеринка, необычно мерзкая и нудная. С подачи Джаффри, считавшего себя крупным специалистом по заумным иностранным писателям, заговорили про Ницше и Камю, так что Джеку не повезло – все, что он знал об этих авторах, уместилось бы в чайной ложке. Хотя про Кафку он мог бы поговорить – он читал ту уморительную штуку про мужика, что превратился в таракана, и, кстати, очень часто сам по утрам именно так себя и чувствовал. Какой-то садист притащил на вечеринку фляжку медицинского спирта, смешал его с виноградным соком и водкой, и Джек, одурев от нескончаемого сравнительного литературоведения, выпил слишком много этой смеси и выблевал все вплоть до материнского молока. И это вдобавок к тому, что он курил… он не знал, что именно он курил, но оно явно было разбодяжено каким-то порошком от блох.
Так что в тот день он был не в настроении обсуждать тему, безжалостно поднятую Иреной за запеканкой из рыбных консервов и лапши.
– Ты задолжал за комнату за три месяца, – сказала она. А ведь он даже кофе (растворимого) отхлебнуть не успел.
– Господи! – ответил он. – Смотри, как у меня руки трясутся. Похоже, я вчера крупно перебрал!
Блин, ну почему она не может проявить понимание и подобающую женщине заботливость? Даже проницательное замечание его сейчас морально поддержало бы. «Да, видок у тебя еще тот», например.
– Не меняй тему, – сказала Ирена. – Как ты прекрасно знаешь, нам приходится доплачивать за тебя, иначе нас всех отсюда выселят. Так дальше нельзя. Либо найди деньги, где хочешь, либо освобождай помещение. Мы сдадим твою комнату тому, кто сможет за нее платить.
Джек сгорбился у стола:
– Я знаю, я знаю. Господи. Извините. Я все заплачу, только дайте мне время.
– Какое время? – Джаффри недоверчиво ухмылялся. – Абсолютное или относительное? Внутреннее или измеряемое? Евклидово или кантовское?
Никак нельзя без шуточек на уровне вводного курса философии для первокурсников, причем в такую рань. Вот же козел.
– У кого-нибудь есть таблетка от головы? – спросил Джек. Жалкий приемчик, но ничего другого у него в запасе не оказалось. У него и правда голова раскалывалась. Ирена встала и пошла за таблеткой. Не удержалась от соблазна поиграть в медсестричку.
– Сколько тебе нужно времени? – спросил Род. Он вытащил зеленовато-бурый блокнотик, в котором вел расчеты, – он был бухгалтером их небольшого совместного предприятия.
– Ты уже очень давно просишь дать тебе время, – вмешалась Ирена. – Несколько месяцев, если совсем точно.
Она положила перед ним две таблетки аспирина и поставила стакан воды.
– Есть еще алка-зельтцер.
– Мой роман, – пробормотал Джек. Впрочем, этот предлог он тоже уже использовал раньше. – Мне нужно время, я… честно, я почти закончил.
Это была неправда. На самом деле он иссяк на третьей главе. Он описал действующих лиц – четыре человека, четверо сексуально привлекательных студентов, бурлящих гормонами, – и место действия, трехэтажный викторианский дом с остроконечной крышей недалеко от университета. Студенты изрекали загадочные сентенции о своей духовной жизни и много блудили, но на этом Джек застрял – он никак не мог придумать, чем бы их еще занять.
– Я найду работу, – слабым голосом сказал он.
– Какую, например? – спросила жестокосердная Ирена. – Есть еще имбирная газировка, если хочешь.
– Ходить по домам и продавать энциклопедии, – сказал Род, и все трое заржали. Продажа энциклопедий была последним прибежищем отчаявшихся неудачников и бездельников; кроме того, само предположение, что Джек Дейс способен кому-либо что-либо продать, ужасно рассмешило его соседей. Они считали его неудачником, лузером, чье лузерство заразительно; его сторонились даже бродячие собаки, ибо от него разило неудачей – так явственно, словно он наступил в кошачье дерьмо. В последнее время соседи не давали ему даже посуду вытирать – слишком уж много тарелок он перебил. Он делал это нарочно – очень удобно, когда тебя считают ни к чему не годным, это окупается при распределении домашних обязанностей, но сейчас такая репутация работала против него.
– А почему бы тебе не продать акции своего романа? – спросил Род. Он учился на экономическом, потихоньку играл на бирже на свободные деньги и даже оставался в выигрыше – именно с этих выигрышей он и платил за, черт бы его побрал, жилье. Поэтому, когда речь заходила о деньгах, он становился невыносимо самодовольным – причем сохранил это свойство на всю оставшуюся жизнь.
– Идет, – сказал Джек. Тогда все это было понарошку. Они трое решили подыграть ему – помочь, притворно поверить его притязаниям на талант, дать возможность расплатиться с долгами, хотя бы теоретическую. Так они говорили потом: что вступили в заговор, чтобы подтолкнуть Джека в нужную сторону, убедить, что они в него верят, придать ему уверенности в себе. Может, тогда он оторвет задницу от стула и по правде что-нибудь сделает. Впрочем, они не ожидали, что это на самом деле случится. Они не виноваты, что план сработал, да еще как.
Договор составил Род. Плата за жилье за три месяца плюс один – три, за которые Джек уже задолжал, плюс текущий месяц. Взамен все денежные средства, полученные от публикации его еще не законченного романа, делились на четыре части, по одной каждому из жильцов дома, в том числе самому Джеку. Отсутствие материальной заинтересованности негативно мотивировало бы его. Если он ничего не получит от исполнения договора, он не очень-то разбежится его исполнять, сказал Род, который верил в экономические стимулы. При этом он фыркал, так как не верил, что Джек допишет роман.
Подписал бы Джек подобный договор, если бы у него не трещала голова с похмелья? Вероятно. Он не хотел, чтобы его выгнали. Не хотел оказаться на улице, или – что еще хуже – в гостевой спальне родительского дома в Дон-Миллз, где мать будет причитать над ним и кормить ростбифами, а отец – читать ему лекции, неодобрительно цокая языком. Поэтому Джек согласился на всё и всё подписал, облегченно выдохнул, по настоянию Ирены съел пару ложек запеканки из рыбных консервов и лапши, чтобы чем-нибудь заполнить желудок, и ушел наверх – прилечь.
Но теперь ему предстояло писать этот сраный роман.
Четверо персонажей-студентов, живущих в викторианском доме, были безнадежны. Ясно, что они намертво прилипли анусами, подобно присоскам многоголового осьминога, к сильно подержанным кухонным стульям и в жизни не оторвутся, даже если автор разведет огонь под их седалищами. Надо было придумать что-то другое, что-то совсем новое, и быстро, потому что завершение романа – в каком угодно виде – стало для Джека вопросом гордости. Он не вынесет, если Джаффри и Род будут над ним насмехаться; не вынесет жалости и презрения в прекрасных голубых глазах Ирены.
«Пожалуйста, ну пожалуйста! – молился он в холодную, пропитанную зловонными парами пустоту. – Помогите мне! Помогите придумать, все равно что! Лишь бы это можно было продать!»
Именно так заключаются сделки с дьяволом.
И вдруг, сгустившись из воздуха и мерцая, словно фосфоресцирующая поганка, перед ним возникло видение «Руки», полностью завершенной: ему оставалось лишь записать ее. Во всяком случае, так он потом рассказывал в разных телепередачах. Откуда взялась «Мертвая рука»? Кто знает! Из отчаяния. Из-под кровати. Из детских кошмаров. А скорее всего – из чернушных комиксов, которые он воровал в лавке на углу, когда ему было двенадцать лет: отрубленные, высушенные, самодвижущиеся части тела встречались в них нередко.
Сюжет был весьма прост. Виолетта, прекрасная, но жестокосердая девушка, внешне похожая на Ирену (только талия у нее была тоньше, а грудь – больше), бросила влюбленного в нее жениха, Уильяма – красивого, тонко чувствующего юношу ростом на пятнадцать сантиметров выше Джека, хотя и с тем же цветом волос. Ею двигали исключительно меркантильные мотивы: другой поклонник, Альф, как две капли воды похожий с виду на Джаффри, был омерзительно богат.
Разрыв произошел путем, максимально унизительным для Уильяма. Честный и порядочный юноша назначил Виолетте свидание и прибыл в умеренно недешевый дом ее родителей, чтобы ее оттуда забрать. Однако Альф оказался там раньше, и Уильям застал парочку на скамье-качелях на веранде в жарком и нескромном объятии. Хуже того, рука Альфа была под юбкой у Виолетты – Уильям никогда не осмеливался на такую вольность, вот дурак.
Полный ярости и потрясенный, Уильям произнес гневную и обличающую речь, но это ему ничего не дало. Виолетта презрительно швырнула на тротуар самолично собранный Уильямом букет ромашек и шиповника, а с ним и простой золотой ободок – обручальное кольцо. Чтобы купить это кольцо, Уильям два месяца не покладая рук продавал энциклопедии. Затем она прошествовала мимо в вызывающих красных туфлях на высоких каблуках и уехала с Альфом в его серебристом «альфа-ромео» с откидным верхом. Альф специально купил машину, название которой было созвучно с его именем, – он мог позволить себе подобные вещи. Насмешливый хохот парочки отдавался в ушах Уильяма. В довершение всего обручальное кольцо покатилось по мостовой, звеня и подпрыгивая, и провалилось в канализационную решетку.
Уильям был смертельно ранен. Его мечты разбиты вдребезги, его светлый идеал женщины осквернен. Он поплелся к себе в дешевые, но чистые меблированные комнаты и там написал завещание: он хотел, чтобы его правую руку отрезали и похоронили отдельно, рядом с парковой скамьей, где они с Виолеттой так часто обжимались, лизались, сливались в нежном объятии. Затем Уильям застрелился из револьвера, унаследованного от отца, ибо был сиротой. Отец его героически сражался на войне, вооруженный этим самым револьвером. Джек счел, что эта деталь добавляет символического благородства.
Квартирная хозяйка Уильяма, добросердечная вдова с европейским акцентом и цыганским чутьем, проследила за тем, чтобы его предсмертное желание было исполнено. Она даже самолично прокралась в похоронное бюро и отпилила указанную конечность лобзиком из набора инструментов, принадлежавшего ее покойному мужу – в фильме, точнее, в обоих фильмах, и в первом, и в ремейке, эта сцена позволила режиссерам вдоволь поиграть со зловещими тенями и потусторонним светом, исходящим от руки. Потусторонний свет сильно напугал квартирную хозяйку, но она мужественно продолжала свое дело. Затем она похоронила руку рядом с парковой скамьей, поглубже, чтобы ее не потревожили скунсы. И сверху положила распятие, ибо, как уроженка Старого Света, была суеверна.
Виолетта, жестокосердная стерва, не соизволила прийти на похороны и ничего не знала об отпиленной руке. О ней вообще никто не знал, кроме квартирной хозяйки, которая вскоре уехала в далекую страну Хорватию и там ушла в монастырь, чтобы спасти свою душу, отмолив совершенное ею, возможно – сатанинское, действо.
Время шло. Виолетта обручилась с Альфом. Они планировали пышную свадьбу. Виолетту терзали легкие угрызения совести из-за Уильяма. Ей было его немного жалко, но в целом она редко о нем вспоминала. Она была слишком занята: примеряла новые дорогие наряды и щеголяла в бриллиантах и сапфирах, которыми осыпал ее вульгарный Альф – он считал, что путь к сердцу женщины прокладывается с помощью ювелирных изделий, и в случае Виолетты это было совершенно верно.
Над следующим поворотом сюжета Джеку пришлось немного подумать. Держать ли Руку в тайне вплоть до дня свадьбы? Может быть, спрятать ее в длинном атласном шлейфе свадебного платья, чтобы она приехала к алтарю вместе с Виолеттой и наделала переполоху в церкви прямо перед невестиным «да»? Нет, слишком много свидетелей. Они станут ловить ее, мечась по церкви, словно сбежавшую из зоопарка обезьяну, и выйдет смешно, а не страшно. Лучше пусть она застанет Виолетту одну; а еще лучше, если Виолетта при этом будет голая.
За несколько недель до свадьбы какая-то девочка, играя в парке, заметила блеснувшее на солнце распятие квартирной хозяйки, подобрала его и унесла домой, таким образом аннулировав его защитное действие. (В фильме – в первом, не в ремейке – эта сцена сопровождалась зловещей ретромузыкой. В ремейке ребенка заменили собакой – она притащила находку владельцу, а тот, демонстрируя незнание соответствующих легенд, швырнул распятие в кусты.)
И вот в следующее полнолуние Рука Уильяма выкопалась из земли рядом с парковой скамьей – словно песчаный краб или мутировавший побег нарцисса. Пребывание в земле Руку не украсило: она побурела и усохла, у нее отросли длинные ногти. Она выползла из парка и спустилась в дренажную трубу, откуда возникла с кольцом, бессердечно брошенным жестокосердной Виолеттой, на мизинце.
Клацая и шурша, Рука добралась до дома Виолетты и вскарабкалась по плющу, обвивающему стену, к окну спальни. Влезши в окно, Рука спряталась под изящной накидкой с цветочным узором, прикрывающей ночной столик, и стала жадно смотреть, как Виолетта раздевается. Могла ли Рука смотреть? Нет, потому что глаз у нее не было. Но каким-то особым, незрячим зрением она обладала, поскольку в Руке жил дух Уильяма. Или часть его духа, не самая лучшая.
(На особом заседании Ассоциации современных языков, посвященном «Руке», тринадцать – или уже пятнадцать? – лет назад, древний критик-фрейдист заявил, что Рука символизирует возвращение всего подавленного и вытесненного в человеческой психике. Юнгианская критикесса отвергла эту интерпретацию и подкрепила свою точку зрения множеством примеров отрубленных рук из мифологии и магической практики: она сказала, что прототипом «Руки», несомненно, является так называемая Рука Славы, которую отрезали у повешенного и бальзамировали, а затем оснащали свечами, и она открывала любые двери, служа подспорьем для воров. По-французски «рука славы» – main de gloire, и от этого названия произошло слово «мандрагора». Фрейдист заявил, что эта фольклорная информация, во-первых, устарела, а во-вторых, никакого отношения к делу не имеет. Разгорелись страсти. Джек, почетный гость на заседании, извинился и вышел покурить – тогда он еще курил, и его кардиолог еще не поставил ему ультиматум: либо бросить, либо отправиться на тот свет.)
Пока Рука подглядывала из-под ночного столика, Виолетта совлекла с себя все одеяния и прошествовала в душ, оставив дверь из спальни в ванную комнату открытой, чтобы обеспечить как Руке, так и читателю завлекательный вид. Далее шли обильные описания розовых выпуклостей и упругих аппетитностей. Теперь Джек понимает, что в этой сцене перестарался, но двадцатидвухлетнему юноше можно простить неумеренность. (Режиссер первого фильма снял сцену в душе как оммаж «Психо» Хичкока – тем более уместно, что первую Виолетту играла Сью Эллен Блейк, светловолосая богиня, гибрид Джанет Ли и Типпи Хедрен; Джек неутомимо добивался ее взаимности, но в итоге разочаровался – Сью Эллен была эгоистична и готова принимать дары и поклонение, но секс как таковой ей не нравился, и она терпеть не могла, когда ей размазывают макияж.)
Ирена в студенческие дни вообще не пользовалась косметикой (вероятно, потому что та стоила денег), но в итоге выглядела свежей и нежной, ничем не приукрашенной – сама подлинность, как только что вскрытая устрица. Кроме того, она не оставляла бежевых и красных пятен на подушке. (Джек оценил это лишь гораздо позже.)
Рука едва сдерживалась, наблюдая, как Виолетта намыливает различные части тела. Но понимала, что если даст о себе знать сейчас, это не сыграет ей на руку, так сказать. Поэтому она терпеливо ждала, пока автор осыпал Виолетту прилагательными. Рука, читатель и Виолетта любовались телом последней, пока она вытиралась и дразняще умащала ароматным лосьоном идеально гладкие поверхности цвета сливок. Затем она скользнула в облегающее платье, расшитое золотыми блестками, обвела пухлые губы рубиновой помадой, защелкнула на длинной лебяжьей шее, которую так и хотелось сжать, золотое ожерелье, накинула на мягкие, манящие плечи драгоценный белый мех и прошествовала прочь из комнаты, двигая бедрами так, что у зрителей отвалилась челюсть. У Руки, конечно, не было челюсти, но она тоже выразила свою мучительную эротическую фрустрацию – в обеих версиях фильма это передавалось припадком подлинно омерзительных конвульсий.
Как только Виолетта вышла из комнаты, Рука полезла к ней в письменный стол и нашла там розовую бумагу для писем, украшенную инициалами Виолетты. Затем Рука взяла серебряную ручку Виолетты и написала записку почерком безвременно ушедшего Уильяма, который Виолетта, конечно же, помнила:
Я буду всегда любить тебя, милая моя Виолетта. Даже после смерти.
Вечно твой УильямЗаписку Рука положила на подушку Виолетты вместе с красной розой, взятой из букета на ночном столике. Букет был свежий, поскольку Альф, хозяин «альфа-ромео», ежедневно присылал Виолетте дюжину красных роз.
Затем Рука поползла в стенной шкаф Виолетты и спряталась в обувной коробке, чтобы увидеть, как дальше развернутся события. В коробке оказались те самые броские красные туфли, которые были на Виолетте, когда она жестокосердно отвергла Уильяма, и этот символизм не укрылся от Руки. Она медленно водила иссохшими пальцами с длинными ногтями по изгибам красных туфель – злорадно и вместе с тем эротично, как фут-фетишист. (Эту сцену потом много анализировали в научных статьях – в основном французы, но и испанцы тоже; они рассматривали фильм – оригинал, не ремейк, поскольку к ремейку европейские синефилы отнеслись с откровенным презрением, как к образчику позднего американского пуританского неосюрреализма. Джеку было насрать, как они это назовут: он просто хотел показать, как мертвая рука мацает пару отпадных туфелек. Впрочем, он готов согласиться, что это то же самое.)
Рука ждала в коробке несколько часов. Она не возражала: у нее не было намечено никаких других дел. В фильме (оригинальном, не ремейке) она иногда барабанила пальцами, выражая нетерпение, но в книге этого не было, это добавили по настоянию режиссера, Станисласа Людзя – он счел, что, если Рука просто лежит в коробке и ничего не делает, сцене недостает саспенса. Режиссер был странный тип, он считал себя чем-то вроде Моцарта от хоррора и впоследствии утопился, прыгнув в воду с буксирного судна.
В обоих фильмах кадры Руки в коробке чередовались с кадрами в ночном клубе, где Виолетта с Альфом танцевали щека к щеке и бедро к бедру и Альф жестом собственника поглаживал обвитую золотом шею Виолетты, шепча: «Скоро ты будешь моя». Сцены с ночным клубом в книге не было, но если бы Джек до этого додумался, то непременно вставил бы ее; и он таки додумался, но позже, когда писал сценарий для фильма (обоих фильмов), так что это почти то же самое.
После всех этих танцев, перещупываний и ожидания в коробке последовало возвращение Виолетты домой; за вечер она выпила несколько фужеров шампанского (крупным планом: ее шея при глотании) и потому свалилась в постель, даже не взглянув на аккуратно подготовленную любовную записку Руки и розу на подушке. У Виолетты было две подушки, и записка с розой лежали на другой, так что Виолетта не заметила записки и не укололась шипами.
Что чувствовала Рука в тот миг, когда ее снова презрели? Скорбь, гнев, то и другое? По Руке сложно определить.
Рука осторожно выбралась из шкафа и вскарабкалась по сползающему покрывалу на кровать, где разметалась, забывшись сном, Виолетта в кружевной ночнушке. Неужели задушит? Омерзительные пальцы на миг замерли у шеи – визг ужаса в зрительном зале, – но нет, Рука все еще любила Виолетту. Она принялась поглаживать ее волосы – нежно, медленно, с тоской; а затем, не удержавшись, коснулась ее щеки.
Виолетта проснулась и увидела рядом с собой на подушке – в полной теней, но освещенной лунным светом комнате – нечто, похожее на огромного пятиногого паука. Опять визг – на этот раз Виолетты. Рука бежала в ужасе, и к тому времени как Виолетта, онемевшая от испуга, все же умудрилась включить прикроватный ночник, Рука уже спряталась под кроватью и пропала из виду.
Виолетта позвонила Альфу, рыдая и объясняясь нечленораздельно, как положено девушке в подобных обстоятельствах, и Альф мужественно утешил ее, объяснив, что ей, должно быть, приснился кошмар. Успокоившись, Виолетта повесила трубку и уже было собиралась выключить свет, но что же попалось ей на глаза, как не роза, а с ней и записка, написанная, без сомнений, когда-то столь дорогим ей почерком Уильяма?!
Широко распахнутые глаза. Вздох ужаса. Этого не может быть! Не смея долее оставаться в комнате даже для того, чтобы снова позвонить Альфу, Виолетта заперлась в ванной, где и провела беспокойную ночь на дне ванны, не полностью прикрытая полотенцами. (В книге она всю ночь предавалась мучительным воспоминаниям об Уильяме, но в фильмах решили этого не показывать, и воспоминания были заменены страдальческим кусанием пальцев и сдавленными рыданиями.)
Утром Виолетта осторожно вышла из ванной в спальню, залитую бодрым солнечным светом. Записки на розовой бумаге нигде не было – Рука ее уничтожила. Роза снова стояла в той же вазе.
Глубокий вздох. Выдох облегчения. Да, это всего лишь кошмарный сон. Но все же Виолетта была напугана и, готовясь прогулять обтянутые дорогой юбкой бедра на обед с Альфом, нервно озиралась.
Когда она ушла, Рука снова занялась делом. Она перелистала дневник Виолетты и после нескольких попыток научилась копировать ее почерк. Украв еще розовой писчей бумаги, Рука создала многословное и полное непристойностей письмо к мужчине (не Альфу), предлагая ему перед свадьбой еще раз перепихнуться в обычном месте (малоприличном мотеле на окраине, излюбленном проститутками, рядом с оптовой торговлей коврами). «Милый, я знаю, что рискую, но меня так тянет к тебе!» – говорилось в письме. Далее шли гадости в адрес Альфа и критика его способностей в постели, с особым упором на недостаточный размер члена. Завершалось письмо предвкушением восторгов, которые ждали влюбленных, как только Виолетта наконец выйдет за богатого Альфа и избавится от него. Добавить ему антимония в мартини, и дело в шляпе. Последний абзац письма был посвящен жаркому томлению Виолетты в ожидании момента, когда электрический угорь вымышленного любовника снова скользнет в ее влажный, трепещущий клубок водорослей.
(Сегодня такие эвфемизмы уже никуда не годились бы – нынче полагается называть вещи своими именами; но тогда непечатные слова действительно не пропускали в печать. Джеку жаль, что старые табу уже не действуют – они подстегивали изобретательность писателей в отношении метафор. А нынешние молодые литераторы только и знают, что «х…» да «п…». Джеку это кажется скучным. Может, он превращается в старого брюзгу? Нет, это скучно даже на объективный взгляд.)
Вымышленного любовника звали Роланд. Человек по имени Роланд действительно существовал: когда-то он ухаживал за Виолеттой, но не добился успеха. Виолетта предпочла ему красавца Уильяма, и неудивительно, так как Роланд – бухгалтер, что само по себе вызывает зевоту – был еще и скупердяем, владельцем злобного умишка, ссохшейся душонки и жестокого, как штопор, сердца. Нечто вроде Рода с его зеленовато-бурым блокнотиком. Он был настоящий козел, вонючий хорек, шакал…
Эти эпитеты показались Джеку слишком зоологическими, и он их вычеркнул. А потом – возможно, ему кофеин в голову ударил, – задумался: почему слово «козел» считается оскорбительным? Из-за сексуальных привычек этого животного? Но ведь способность покрывать самок никоим образом не является позорной, совсем наоборот. Может, мужчину оскорбляет, что такой возможностью обладает кто-то еще, кроме него? Да, скорее всего, дело именно в этом. Надо будет отполировать эту теорию и представить ее на следующем сборище, когда интеллектуалы в очередной раз начнут умничать.
Но в этой стороне лежит прокрастинация[33]. И сто страниц еще до сна[34], мысленно произнес Джек. Ему предстояло пролить много крови.
– Я принесла тебе суп, – сказала Ирена, бесшумно поднявшись по лестнице на верхотуру к Джеку. Она поставила тарелку и миску на столик для бриджа, который Джек использовал в качестве письменного стола. Суп был грибной, к нему прилагались крекеры.
– Спасибо, – сказал Джек. Вот это уже больше похоже на подобающую женщине заботливость. Он подумал – может, схватить Ирену за упакованную в фартук грудь, повалить на пол, передать ей настойчивый, импульсивный élan vital[35], чтобы она ослабела от восторга и покорилась. Но сейчас не время – нужно предать кровавой смерти Роланда, уничтожить Альфа и напугать Виолетту до потери рассудка. Первым делом – главное.
Несколько дней у Джека ушло на то, чтобы пересмотреть рукопись с самого начала и вставить Роланда, раз уж он понадобился для сюжета. Джек попросил у Ирены ножницы и скотч, и она мгновенно принесла просимое: она чрезвычайно охотно помогала всему, что продвигало вперед работу над романом.
Рука засунула обманное послание к Роланду в ящик с невесомым бельишком Виолетты. А затем написала печатными буквами на другом листке розовой бумаги: «Альф, ты дурак. Она тебе изменяет. Посмотри в ее тряпках, второй ящик сверху», по-крабьи сбежала вниз по увитой плющом стене, добралась на другой конец города, к шикарному зданию, где располагался пентхаус Альфа, и вскарабкалась по внутренней стене шахты лифта на верхний этаж, держа анонимку мизинцем и безымянным пальцем. Анонимку она засунула под дверь Альфу, вернулась обратно к Виолетте и спряталась за филодендроном в горшке.
Виолетта вернулась с обеда и как раз – Джек решил, что это очень удачный штришок, – примеряла свадебное платье с помощью жирной сплетницы-портнихи (комическая интерлюдия), когда ворвался багровый Альф, осыпал Виолетту дикими обвинениями и принялся вышвыривать ее трусы из ящиков комода. Он что, с ума сошел?! Нет! Глядите: вот любовное письмо на собственной писчей бумаге Виолетты, ее собственным почерком!
Рыдая так, что тронула бы и каменное сердце, Виолетта – которой кинозрители к этому времени уже начали сочувствовать, – уверяла, что она никогда, никогда в жизни не писала ничего подобного, а Роланда не видела… ну, во всяком случае, уже очень-очень давно. Затем она поведала о вчерашней ночи и об ужаснувшей ее записке, найденной на подушке.
Обоим стало ясно, что они жертвы омерзительного розыгрыша, автор которого, несомненно, омерзительный козел Роланд – он пытается их поссорить, чтобы самому завладеть Виолеттой. Альф поклялся, что разберется во всем: припрет Роланда к стенке и заставит сознаться, причем немедленно.
Виолетта умоляла не совершать опрометчивых поступков, но это лишь насторожило Альфа: что это она вдруг защищает Роланда от его праведного гнева? Если она врет, он свернет ее лебяжью шею, прорычал он. И вообще, где та записка, что якобы лежала у нее на подушке? Может, Виолетта все придумала? Он схватил ее, рыдающую, за горло и яростно поцеловал, а потом грубо швырнул на кровать. К этому времени и читатели, и Виолетта начали беспокоиться, что Альф эмоционально неуравновешен. Ангел насилия уже взмахнул алыми крылами, но Альф ограничился тем, что грязно выругался и смахнул на пол свежеприсланный им самим букет роз; ваза разбилась, предоставив как юнгианцам, так и фрейдистам обильную пищу для анализа на будущее.
Но не успел Альф выбежать вон, как Виолетта нашла на комоде другую записку – там, где еще минуту назад никакой записки не было: «Ты будешь только моей и больше ничьей. Смерть нас не разлучит. Береги шею. Вечно твой Уильям».
Виолетта открывала и закрывала рот, как выброшенный на сушу карась. Она уже не могла кричать. Тот, кто пишет эти записки – здесь, с ней, в ее доме, прямо сейчас! И притом она совсем одна – портниха ушла! Какой ужас!
Чем больше страстей творилось на страницах, тем быстрее Джек писал. Он поглощал растворимый кофе в таком объеме, словно подключился к трубе, ел арахис целыми пакетами и урывал лишь несколько часов сна в сутки. Ирена, завороженная этой маниакальной энергией, таскала ему тарелки с запеканками для поддержания творческого порыва. Она даже дошла до того, что постирала всю его грязную одежду, прибралась у него в комнате и переменила постельное белье.
Как раз вскоре после смены постельного белья Джеку удалось затащить Ирену в постель. Или это Ирене удалось затащить его в постель? Джек даже тогда не понял. Короче говоря, в конце концов они вдвоем очутились в его постели, и ему было совершенно все равно, как они туда попали.
Он так долго предвкушал это событие, грезил о нем, разрабатывал стратегии, которые должны были к нему привести; но, когда оно и впрямь произошло, он оказался чересчур стремительным в деле и невнимательным после; он не счел нужным бормотать нежные слова, а потом почти сразу отключился и уснул. Сейчас он признает, что проявил недостаточную заботу о партнерше. Но у него были уважительные причины: он был молод, ужасно устал, и голова у него была занята совсем другим. Он берег силы для главного дела, ибо «Мертвая рука» уже близилась к развязке.
Альф должен в припадке ярости сделать из Роланда котлету. Затем, весь в крови, он, шатаясь, добредет до «альфа-ромео», где Рука, спрятавшись меж сделанных на заказ кожаных сидений, попытается подкрасться к нему сзади и придушить. Из-за этого Альф потеряет управление машиной и врежется в виадук, после чего сгорит при взрыве. Рука, сильно обгоревшая, выползет из-под обломков машины и поковыляет к дому Виолетты.
У несчастной Виолетты, которой полиция только что сообщила о гибели Альфа и роковой аварии, происходит нервный срыв. Доктор прописывает ей успокоительное, и Виолетта, уже погружаясь в непреодолимый сон, видит обгоревшую, покрытую волдырями, обугленную Руку, что из последних сил, но неостановимо тащится к ней по подушке…
– О чем ты пишешь? – спросила Ирена с соседней подушки. Их у Джека теперь было две – вторую принесла сама Ирена. Визиты в его чердачную конуру уже вошли у нее в привычку. Иногда она приносила ему какао и все чаще оставалась на ночь, хотя была отнюдь не худенькой и они вдвоем едва вмещались на старомодной односпальной кровати ойека. До сих пор Ирена довольствовалась ролью помощницы в создании шедевра – она даже предложила перепечатать рукопись, так как печатала быстро и аккуратно, в отличие от Джека. Однако он отказался. Но сейчас она впервые заинтересовалась сутью его литературного произведения, хоть и не сомневалась, что оно относится к Литературе с большой буквы; она даже не догадывалась, что он плетет дешевый примитивный ужастик об отрезанной сушеной руке.
– О материализме нашего века с экзистенциальной точки зрения, – ответил Джек. – Под влиянием «Степного волка».
«Степного волка»?! Сейчас Джек сам не понимает, как тогда мог такое сморозить. Впрочем, это простительно: тогда «Степной волк» еще не достиг той вульгарной популярности, какая подстерегала его позже. Ответ Джека не был чистой ложью, он был в каком-то смысле правдой, но очень сильно натянутой.
Ирена осталась довольна его ответом. Она бегло поцеловала его, снова надела практичное черное нижнее белье, а поверх – толстый свитер и твидовую юбку, и побежала на кухню, разогревать вчерашние фрикадельки для коллективного обеда.
В свой срок Джек закончил последнюю главу и проспал двенадцать часов подряд. Ему ничего не снилось. Затем он стал всячески проталкивать рукопись в печать, ибо если он не покажет, что старается изо всех сил, оправдывая бывшую и будущую плату за жилье, его все-таки выставят на улицу. Впрочем, его нельзя было упрекнуть в лености. Он тщательно перепечатал книгу – свидетелем этого была Ирена, но он прикрывал страницы – и надеялся, что соседи по дому сделают ему скидку хоть за старание.
В Нью-Йорке было несколько издательств, специализирующихся на ужастиках, и Джек купил конвертов из манильской бумаги и послал рукопись в три места. Скорее, чем он ожидал (правду сказать, он вообще ничего не ожидал), он получил лаконичный ответ: его рукопись приняли. Ему предложили аванс. Аванс был скромный, но достаточный, чтобы рассчитаться с долгами за жилье, а остатка должно было хватить до конца семестра.
Хватило даже на то, чтобы отпраздновать успех. Джек с помощью Ирены устроил вечеринку. Все его поздравляли и спрашивали, когда же его шедевр выйдет в свет и в каком издательстве. Джек увиливал от ответа. Он обкурился, перебрал портвейна «Старый моряк» и пунша с водкой и блевал сырными шариками, испеченными Иреной в честь его литературного дара. Он без особого восторга ждал публикации: не одно шило, а целая сотня вылезет из мешка, и его соседи по дому, несомненно, узнают свое отражение – карикатурное, как в кривом зеркале, бездумно вставленное им в книгу. Правду сказать, Джек просто не ожидал, что книга увидит свет.
Придя в себя после вечеринки – с выполненными обязательствами и кое-как полученным дипломом – Джек был свободен и мог идти в большую жизнь, которая, как выяснилось, в его случае была связана с рекламой. Ему сказали, что он ловко управляется с прилагательными и наречиями, а это ценная способность, надо только подучить азы ремесла. Четверо соседей расстались и пошли своей дорогой, но Джек все еще встречался с Иреной, которая решила учиться дальше на юриста. Секс с Иреной был для Джека непрекращающимся откровением. Первый раз оказался райским блаженством, чтобы не сказать – апофеозом, и следующие были не хуже, несмотря на консервативность Ирены, которая признавала только миссионерскую позицию. Ирена была немногословна, и Джек это ценил – сам он любил поговорить, – но вообще-то ему хотелось бы знать, как он справляется в постели, поскольку сравнить свои успехи ему было не с чем. Ему казалось, что женщина должна как-то активней стонать. Но приходилось довольствоваться молчаливым взглядом ее голубых глаз, в которых Джек не мог ничего прочитать. Обожание? Он очень надеялся, что да.
По сноровке самой Ирены было ясно, что ей-то есть с кем его сравнить. Но у нее хватало такта об этом не упоминать – еще одно качество, которое Джек в ней ценил. Она не стала его первой любовью – ею была Линда, брюнетка с косичками, с которой он учился во втором классе. Но Ирена стала его первой женщиной. А это – жизненная веха, хочешь не хочешь. Так что какую бы другую роль Ирена ни сыграла в его жизни, она вечно красуется в воображаемом гроте, святилище, где царит она одна: Блаженная Ирена от Святого Оргазма. Да, эта святая оказалась гипсовой, но все равно она незыблемо высится у него в голове; статуя изображает момент, когда Ирена снимает практичные черные трусы – белые бедра сияют во тьме, очи опущены долу, но в них светится хитрость, рот приоткрыт в загадочной улыбке. Этот образ не имеет ничего общего с более поздним – жестокосердной мегеры, дважды в год кладущей в банк его чеки. Джек никак не может совместить один образ с другим.
В последующие несколько месяцев Ирена купила ему набор кухонных мисок и мусорное ведро. Она сказала, что они ему нужны. В переводе на общедоступный язык это значило, что они нужны ей – чтобы готовить обед на двоих у него дома. Кроме этого, она вымыла его санузел. Даже не один раз. Она не только надвигалась на него физически, но и начала им командовать. Она не одобряла его работу в рекламном агентстве, считала, что ему давно пора писать вторую книгу, и, кстати говоря, когда наконец выйдет его первая книга, которую ей так не терпится прочитать? «Мертвая рука тебя любит» меж тем не подавала никаких признаков жизни, и Джек надеялся, что редактор забыл рукопись в такси.
Но не с его счастьем; совсем как отрубленная рука, центральный персонаж книги, «Мертвая рука» выцарапалась наверх и появилась в продаже на каждом углу по всей стране. К тому времени Джек уже купил кое-какую мебель, в том числе кресло-мешок, и хорошую звуковую систему, и три костюма с подходящими галстуками. Он жалел, что подписал книгу своим настоящим именем, а не псевдонимом – вдруг новые работодатели прочтут ее и решат, что он чокнутый маньяк? Ему оставалось только вести себя тише воды ниже травы и надеяться, что никто не заметит.
Но опять-таки не с его счастьем. Сначала он поссорился с Иреной, и она обдала его холодом, когда выяснила, что его шедевр, оказывается, уже вышел, а он ей не сказал. Потом была еще одна ссора, когда Ирена прочитала книгу и поняла, что собой представляет так называемый шедевр – профанация таланта, продажа себя за гроши, как он мог пасть так низко – и что персонажи книги это всего лишь плохо замаскированные бывшие соседи Джека, включая саму Ирену.
– Так вот, значит, какого мнения ты был о нас о всех!
– Но Виолетта прекрасна! – протестовал он. – Но главный герой ее любит!
Это не помогло. По мнению Ирены, любовь высушенной руки, даже преданная и самоотверженная, не могла льстить женщине.
Последний удар был нанесен, когда она в отсутствие Джека рылась в его почте – зачем он дал ей ключ от своей квартиры! – и поняла, что он получает роялти от издателя и кладет чеки в банк, вместо того чтобы делить их с прочими акционерами. Он нарушает договор! Он говенный писатель, говенный любовник и еще к тому же преступный обманщик, позорящий человечество, заявила она. Она немедленно свяжется с Джаффри и Родом – и вполне представляет себе, что они скажут.
– Но, но, но, – сказал Джек, – но я совсем забыл про тот договор. Это же не настоящий договор, это была только шутка, что-то вроде…
– Это настоящий договор, – холодно сказала Ирена. К тому времени она уже много знала о настоящих договорах. – Он доказывает преднамеренность.
– Ну ладно. Я собирался поделить деньги. Просто руки не дошли.
– Ты врешь и сам это прекрасно знаешь.
– А ты что, читаешь мои мысли? Ты думаешь, что знаешь обо мне все. Только потому, что я тебя…
– Не смей со мной так разговаривать! – Ирена была большой скромницей в отношении слов (но не в разных других отношениях).
– А как прикажешь это называть? Когда я это делаю, ты почему-то не возражаешь! Ну хорошо, только потому, что я сую свою морковку в твою хорошо разработанную…
Топ, топ, топ. Через комнату и в дверь. Хлоп. Рад он или огорчен?
Вслед за этим он получил письмо от юриста, нанятого тремя разгневанными акционерами. Требования. Угрозы. Потом капитуляция – со стороны Джека. Они приперли его к стене. Как и утверждала Ирена, договор доказывал преднамеренность.
Джек был расстроен уходом Ирены, хотя и скрывал это. Он предпринял несколько попыток помириться. Что я такого сделал, спрашивал он ее. Почему ты списала меня в расход?
Бесполезно. Она провела его инвентаризацию, взвесила и нашла очень легким[36], и нет, она не хочет это обсуждать, и нет, у нее нет другого мужчины, и нет, она не даст Джеку еще одну, последнюю попытку. По ее словам, Джек мог сделать одну вещь – давно уже должен был сделать, – но он понятия не имел, что именно, и, по словам Ирены, это лишний раз доказывало, что она правильно от него ушла.
Он умолял ее, хотя и без особого жара, сказать, чего она хочет. Почему она не может сказать? Но она не хотела говорить. Это ставило его в тупик.
Он топил свои печали, но они, как все утопленники, имели привычку всплывать на поверхность в самый неожиданный момент.
Впрочем, были и приятные новости. «Мертвая рука» набрала популярность (пускай лишь у любителей определенного жанра, презираемого серьезными читателями). Как выразился издатель – «Конечно, это говно, но качественное». Еще того лучше, по книге решили снимать фильм, и кому как не Джеку имело смысл поручить написание сценария? А затем – второго сценария, для сиквела, ну или еще какого-нибудь столь же качественного говна? Джек уволился из рекламного агентства и стал профессионалом пера. Точнее, профессионалом «ремингтона», который вскоре сменился машинкой IBM Selectric с плавающей головкой, позволяющей менять шрифты. Вот это было круто!
Жизнь профессионального литератора имела свои плюсы и минусы. Правду сказать, Джеку так и не удалось создать ничего под стать первой книге – он известен именно как ее автор, и именно она обеспечивает основную часть его дохода. Который вчетверо меньше, чем мог бы быть, и все из-за того заключенного в молодости контракта. И это очень обидно. С годами Джеку все трудней выдавать на-гора словесную руду, и обида грызет его все сильнее. «Мертвая рука» была рекордом, который ему не суждено повторить. Что еще хуже, молодые писатели, у которых в книгах больше извращений и насилия, презирают Джека из-за возраста, сбрасывают со счетов. Ну да, «Мертвая рука» – это типа классика, но она по нынешним временам годится только для детей. Например, Виолетте не выдрали кишки. Никого не пытали, ничью печенку не поджарили на сковородке, никаких групповых изнасилований. Так в чем прикол?
Эти юнцы с колючками из волос и пирсингами в носу уважают фильм больше, чем книгу – первый фильм, не ремейк. Да, ремейк, он типа круче и все такое, для любителей. Он технически снят лучше, спецэффекты и вот это все; но он не так свеж и непосредствен, в нем нет той обнаженной, примитивной силы. Слишком наманикюренный, слишком сознающий себя, ему недостает…
«А вот и особый гость нашего сегодняшнего вечера, Джек Дейс, патриарх хоррора! Что же вы думаете о фильме, мистер Дейс? О втором, неудачном, пустышке. Ох. Ваш сценарий? Ух ты, кто бы знал? Никто из наших панелистов в то время еще даже не родился, верно, парни? Ха-ха-ха, да, Марша, я знаю, что ты не парень, но мы тебя произвели в почетные парни. У тебя яйца будут покрепче, чем у половины зрителей! Я прав?» Бездумное хихиканье.
Неужели он сам когда-то был таким бесчувственным и наглым пошляком? Да, был.
На прошлой неделе Джек получил предложение – снять по книге мини-телесериал, привязанный к видеоигре. К сожалению, по словам адвоката, обе художественные формы подпадали под действие первоначального четырехстороннего договора. Кроме того, предлагалось провести целый симпозиум – в Остине (штат Техас), гнезде суперкульных нёрдов, – посвященный Джеку Дейсу и всем его трудам, но в особенности «Мертвой руке». Эта движуха вокруг его работ и сопутствующая шумиха в соцсетях повысит продажи книги, а следовательно, и выплаты автору, которые, черт побери все на свете, придется делить на четверых. Это – его последний вздох, его прощальный поклон, но он не сможет насладиться им в полной мере, а только лишь на двадцать пять процентов! Это деление на четверых явно несправедливо и тянется уже слишком долго. Кое-кому пора сойти со сцены. И не одному.
Как лучше действовать, чтобы не вызвать подозрений?
Джек был в курсе жизни своих бывших соседей. Не по своей воле – их поверенные об этом заботились.
Род и Ирена были женаты друг на друге, но давно и недолго. Сейчас Род уволился из международной брокерской фирмы и живет в Сарасоте (штат Флорида), где подвизается в театрально-балетной среде в качестве волонтера – финансового консультанта.
Джаффри – который тоже побывал в браке с Иреной, но уже после Рода, – живет в Чикаго. Он нашел применение своим философским дискуссионным талантам в муниципальной политике. Четырнадцать лет назад он едва не попал под суд по делу о взятках, но вывернулся и продолжал свою карьеру в качестве известного повара политической кухни и мастера медийных манипуляций, консультируя кандидатов на выборах.
Ирена по-прежнему живет в Торонто и теперь возглавляет компанию по сбору пожертвований на разные достойные благотворительные нужды, такие как пересадка почек. Ее покойный муж сделал состояние на калийных удобрениях, и Ирена часто устраивает у себя шикарные приемы. Каждый год на Рождество она посылает Джеку открытку с типовым отчетом о своих никому не интересных светских делах.
Джек с виду не питает вражды к этой троице – уже много лет назад он дал понять, что смирился с ситуацией. Но все же он давно ни с кем из них не виделся. Несколько десятилетий. Да и зачем ему? Он не имел никакого желания гоняться за отрыжкой прошлого.
Но теперь все изменилось.
Он решает начать с Рода, который живет дальше всех. Он не шлет е-мейл, а оставляет голосовое сообщение на телефоне: он будет проезжать через Сарасоту, это связано с работой над проектом фильма, он ищет подходящее место для съемок, и не хочет ли Род пообедать вместе и повспоминать былые времена? Джек готов к отказу, но, к его удивлению, Род отвечает положительно.
Но они встречаются не в ресторане и не дома у Рода. Встреча происходит в унылом кафетерии буддистского хосписа, где теперь живет Род. Вокруг слоняются белые люди в оранжевых одеяниях; звенят колокольчики; вдали слышны песнопения.
Когда-то плотный Род сильно усох; кожа у него желто-серая, а сам он похож на пустую перчатку.
– Рак поджелудочной, – говорит он Джеку. – Это смертный приговор.
Джек говорит, что понятия не имел (это правда). Еще он выражает надежду – откуда только он берет все эти банальности?! – что духовные запросы Рода надлежащим образом удовлетворяются. Род отвечает, что он не буддист, но буддисты умеют обращаться со смертью, а поскольку он одинок, то какая разница, где жить, можно и тут.
Джек выражает соболезнования. Род говорит, что могло быть гораздо хуже и жаловаться ему не на что. Он пожил всласть – в том числе благодаря Джеку, у него хватило совести это добавить, – поскольку именно деньги от «Мертвой руки» позволили ему встать на ноги в самом начале.
Они сидят и смотрят в свои тарелки с вегетарианской едой, стандартной трапезой буддийского храма. Говорить больше особо не о чем.
Джек рад, что Рода в конце концов убивать не придется. Неужели он готов был зайти так далеко? Хватило бы у него духу? Скорее всего, нет. Он всегда относился к Роду хорошо. Неправда, он относился к нему плохо, но не настолько, чтобы его убивать – ни тогда, ни сейчас.
– Роланд – это на самом деле не ты, – говорит он. Хотя бы это он может сделать для несчастного умирающего, черт бы его побрал.
– Я знаю, – отвечает Род. Он бледно улыбается. Женщина средних лет в оранжевых одеждах наливает им зеленый чай. – Мы тогда весело жили, а? В том старом доме. То был век невинности.
– Да, – говорит Джек. – Мы весело жили.
С такого расстояния тогдашняя жизнь и правда кажется веселой. Веселье – это когда не знаешь, чем все закончится.
– Я должен тебе кое-что сказать, – говорит наконец Род. – Насчет твоей книги и того контракта.
– Не беспокойся об этом.
– Нет, слушай. Мы заключили сепаратную сделку.
– Сепаратную сделку? Как это?
– Мы трое. Если один из нас умрет, его или ее доля делится между двумя другими. Это Ирена придумала.
На нее похоже, думает Джек. Она всегда видела на метр вглубь.
– Понятно, – говорит он.
– Я знаю, что это нечестно, – продолжает Род. – По-хорошему, права должны были бы вернуться к тебе. Но Ирена очень разозлилась на то, что ты написал про Виолетту в книге. Она решила, что ты хотел ее уколоть. После того, как она, ну, столько для тебя сделала.
– Я не хотел ее уколоть, – говорит Джек. Еще одна полуложь. – А что случится, если вы все умрете?
– Тогда наши доли возвращаются к тебе. Ирена хотела, чтобы все отошло ее «почечным» фондам, но я уперся.
– Спасибо, – говорит Джек. Значит, выживший получает всё. Ну что ж, по крайней мере, теперь он знает, как обстоят дела. – Особое спасибо за то, что ты мне все рассказал.
Он трясет вялую руку Рода.
– Джек, это всего лишь деньги, – говорит Род. – Послушай меня. Когда подходишь к финишной черте, деньги не значат ничего. Оставь это.
Джаффри страшно рад весточке от Джека – во всяком случае, по его словам. Что за славные времена то были! Дни их юности! Веселье на всю катушку! Он как будто забыл, что часть тех дней провел, облапошивая Джека, но поскольку теперь он облапошивает широкие массы населения, тот мелкий инцидент с краплеными картами, должно быть, затерялся в общем шулерстве. А ведь Джаффри наверняка выстелил себе уютное гнездышко деньгами Джека.
Они на поле для гольфа, по предложению Джаффри. Сыграть раунд-другой, выпить пинту-другую пива, что может быть лучше? Джек ненавидит гольф, зато проигрывать умеет, и часто практикуется в этом: общение с режиссерами его фильмов весьма способствует.
Джаффри, однако, все продумал: поле для гольфа – идеальное место. Здесь можно разговаривать так, чтобы тебя не слышали, но ты все время на виду, так что Джек не может просто взять и вышибить клюшкой мозги старому пердуну незаметно для свидетелей. А Джаффри и правда стар: волосы, какие остались, поседели, спина сгорбилась, дряблый живот отвис. Джек и сам не скачет козленком, но все же он в гораздо лучшей форме.
Джаффри что-то болтает про кирпичный дом-трущобу, где они проводили столь беззаботные дни. Знает ли Джек, что теперь на доме висит мемориальная табличка? Увековечивает Джека и «Мертвую руку», подумать только! До чего удивительно, что теперь эта убогая книжонка, полная штампов, считается художественным произведением! Французы – ладно, у них и Джерри Льюис сойдет за гения, но все остальные? Сам Джаффри всегда считал «Мертвую руку» совершенно уморительной и не может не полагать, что Джек создавал ее именно с такими видами. Но правда ведь здорово, что она оказалась золотой жилой? Для всех заинтересованных лиц. Он хихикает и подмигивает.
– Ирена не считала, что это очень смешная книга, – говорит Джек. – Она на меня обозлилась. Решила, что я ее обманул. Она ждала, что я напишу «Войну и мир», а я в это время…
– Она прекрасно знала, о чем твоя книга, – говорит Джаффри с торжествующей ухмылкой – точно такой же, как в былые годы, когда он удачно осаживал противника в философской дискуссии. – Уже тогда знала, когда ты ее писал.
– Как? О чем ты? Я ей не говорил…
– Ирена жутко любопытна. Уж кому и знать, как не мне, я был на ней женат. К тому же у нее чутье. Я сходил от нее налево всего раз семь или восемь, максимум десять – и каждый раз она меня тут же раскалывала. С ней и в гольф играть чертовски тяжело. Она не дает сжульничать даже на дюйм.
– Не могла она знать, – говорит Джек. – Я всегда прятал рукопись.
– А ты думаешь, Ирена не подглядывала при любой возможности? Ты шел в сортир, она кидалась читать. Ни о чем другом и думать не могла. Хотела узнать, убьешь ли ты Виолетту. И к тому же она прекрасно понимала, что это будет шедевр, хотя и попса.
– Но она потом устроила мне скандал. Я не понимаю. – Джеку кажется, что у него мутится в голове. Может, это от солнца, он не привык так подолгу бывать на открытом воздухе. – Она порвала со мной из-за этой книги. Я предал свой подлинный литературный талант и все такое.
– Она не из-за этого с тобой порвала, – говорит Джеффри. – Она была в тебя влюблена. Ты не заметил? Она хотела, чтобы ты сделал ей предложение, хотела выйти замуж. Она очень консервативна. Но ты не пошел ей навстречу. И она чувствовала себя отвергнутой.
Джек удивлен:
– Но ведь она поступила на юридический!
Джаффри смеется:
– Это не оправдание.
– Но если она этого хотела, почему не сказала прямо? – обиженно говорит Джек.
– И чтобы ты ей отказал? Ты же ее знаешь. Она никогда не поставит себя в такое уязвимое положение.
– Но ведь я мог и согласиться! – Если бы он тогда догадался, а потом рискнул, его жизнь могла быть совсем другой. Лучше или хуже? Кто знает. Например, сейчас он мог бы чувствовать себя не таким одиноким. Просто к примеру.
Он так и не женился ни на ком из многочисленных девиц – поклонниц, актрис, с которыми знакомился на съемках. Он всех их подозревал в том, что они любят его книгу и/или деньги больше, чем его самого. Но Ирена, размышляет он, появилась раньше, чем «Мертвая рука» вышла в свет еще до его успеха. О ней можно говорить разное, но в корысти ее не обвинишь.
– По-моему, она до сих пор к тебе неровно дышит, – добавляет Джаффри.
– Она много лет превращала мою жизнь в ад! Из-за доходов от книги. Если она ее так ненавидела, почему не отказалась от денег?
– Потому что для нее это был способ поддерживать с тобой связь, – объясняет Джаффри. – Ты не догадывался?
Джаффри рассказывает Джеку, что соглашение при разводе с Иреной включало очень странный пункт: Ирена настояла, чтобы доля Джаффри в «Мертвой руке» перешла к ней – Джаффри должен был переводить ей все поступления от книги сразу, как только сам их получит.
– Она считает, что вдохновила тебя на создание книги. Так что она в своем праве.
– Может, она и вправду меня вдохновила, – говорит Джек. Он размышляет о различных методах, которыми можно было бы убрать Джаффри. Заколоть в мужской уборной ножичком для колки льда? Подсыпать радиоактивной пыли в пиво? Пришлось бы все тщательно продумать – за годы работы в политике Джаффри наверняка нажил себе могущественных врагов и теперь осторожен. Но, видимо, Джеку не придется реализовать ни одну из этих схем, поскольку Джаффри сошел со сцены в том, что касается «Мертвой руки»: он больше не получает от нее никаких выгод.
Джек посылает Ирене письмо. Не электронное – обычное, с маркой и всеми делами. Он хочет создать атмосферу романтики, чтобы усыпить бдительность Ирены, а затем, фигурально выражаясь, заманить ее в безлюдное место и спихнуть с обрыва. Он предлагает ей поужинать вместе. У него есть новости относительно их общей книги, и он хочет поделиться этими новостями с Иреной. Он предлагает ей выбрать ресторан – ценовая категория не препятствие. Он очень хочет с ней повидаться после стольких лет. Она всегда играла очень, очень особую роль в его жизни. И до сих пор играет.
Пауза. Наконец он получает ответ.
Да, это очень правильно. Приятно будет вспомнить длинный и сложный путь, который мы прошли – сначала вместе, а затем параллельными курсами, разными, но схожими дорогами. Невидимые вибрации соединяли нас, как ты наверняка и сам ощущал. С сердечным приветом, твой старый друг Ирена.
P. S. Наши гороскопы предсказали эту встречу.Как это понять? Любовь, ненависть, равнодушие, притворство? А может, у Ирены крыша едет?
Они встречаются в дорогом ресторане «Каноэ», далеком от лапшевников с рыбными консервами, как небо от земли. Ресторан выбрала Ирена. Им дают один из лучших столиков – с видом на раскинувшийся внизу, залитый огнями город. У Джека от этого вида кружится голова.
Он отворачивается от окна и старается смотреть на Ирену. Она слегка сморщилась и сильно похудела, но в целом сохранилась хорошо. Скулы выпирают; у нее изысканный вид, явно следствие дорогого ухода. Взгляд поразительно синих глаз по-прежнему непроницаем. Одета она гораздо лучше, чем в пору их соседства; Джек, впрочем, тоже.
Им приносят белое вино, каберне совиньон. Они поднимают бокалы.
– Вот так вот, значит. – Ирена неуверенно улыбается. Неужто нервничает? Ирена никогда не нервничала; во всяком случае, Джек не замечал за ней такого.
– Я очень рад тебя видеть, – говорит Джек. Как ни странно, он искренен.
– Здесь подают очень хороший паштет из гусиной печенки, – говорит Ирена. – Я знаю, тебе понравится. Потому я и выбрала этот ресторан для тебя: я всегда знала, что тебе нравится.
Она облизывает губы.
– Ты меня вдохновляла в моем творчестве, – неожиданно для себя говорит Джек. Как не стыдно молоть такую сентиментальную чушь, упрекает он сам себя. Но, кажется, он хочет сделать Ирене приятное. Как это могло случиться? Надо переходить к делу, скинуть ее с высокого балкона, спихнуть с лестницы.
– Я знаю, – Ирена мечтательно улыбается. – Виолетта – это я, правда? Только она красивей меня, а я никогда не была такой эгоисткой.
– Для меня ты всегда была красивее, – говорит Джек.
Неужели это слеза? Неужели у Ирены бывают эмоции? Теперь Джек испуган. Он понимает, что рассчитывал на Ирену, на ее железный самоконтроль. Ирену, которая хлюпает носом, он убить не сможет: у него поднимется рука только на бессердечную.
– Я купила те туфли, – говорит она. – Точно такие, как те, в книге.
– С ума сойти, – произносит Джек.
– И сохранила их до сих пор. В коробке.
– Ох, – говорит Джек. Дело принимает чрезвычайно странный оборот. Она чокнутая – не хуже его юных поклонниц-готок, она сделала из него фетиш. Может, лучше отменить планы убийства. Бежать немедленно. Сослаться на приступ несварения желудка.
– Эта книга многое открыла для меня, – говорит Ирена. – Она придала мне уверенности.
– Оттого что за тобой гонялась мертвая рука? – Джеку трудно сосредоточиться. Неужели он и правда собирался заманить Ирену в темный переулок и треснуть кирпичом по голове? Нет, конечно же, то был мимолетный кошмар.
– Наверное, ты меня ненавидел все эти годы, из-за денег, – говорит Ирена.
– Нет, неправда, – врет Джек. Он ее и впрямь ненавидел. Но сейчас эта ненависть куда-то делась.
– Дело было не в деньгах, – говорит она. – Я не хотела причинять тебе боль. Я просто хотела поддерживать с тобой какую-то связь. Чтобы ты не забывал обо мне даже в своей гламурной новой жизни.
– Не такая уж она и гламурная. Я бы тебя все равно не забыл. Я тебя никогда не забывал.
Он врет или говорит от чистого сердца? Он так долго жил среди лицедеев и словоплетов, что теперь и сам не чувствует разницы.
– Мне понравилось, что ты не убил Виолетту, – говорит Ирена. – То есть что Рука ее не убила. Та финальная сцена, это было так трогательно. Я плакала.
Джек собирался позволить Руке задушить Виолетту: это казалось ему правильным и закономерным. Рука зажмет ей нос и рот, потом сомкнет мертвые иссохшие пальцы вокруг шеи и будет сжимать, пока Виолетта не закатит глаза, как святая в религиозном экстазе.
Но в последний момент Виолетта храбро преодолела ужас и отвращение и взяла инициативу на себя. Она протянула собственную руку и нежно погладила Руку, поскольку знала, что это Уильям, ну или часть его. И Рука рассыпалась серебристой пылью. Это Джек украл из «Носферату»: любовь чистой женщины имеет непреодолимую власть над силами тьмы. Может быть, 1964 год был последним, когда такое еще могло прокатить. Если попробовать сейчас, тебя осмеют.
– Я всегда думала, что эта концовка – на самом деле твое послание, – говорит Ирена. – Обращенное ко мне.
– Послание? – переспрашивает Джек. Она чокнутая или совершенно права? Юнгианцы и фрейдисты с ней согласятся. Хотя если это в самом деле послание – разрази его гром, если он знает, что оно значит.
– Ты боялся. – Ирена словно отвечает на его невысказанные мысли. – Ты боялся, что если я на самом деле коснусь тебя, протяну руку и коснусь твоего сердца – если ты подпустишь меня слишком близко к своей утонченной духовной сути – то ты исчезнешь. И потому ты не смог, не захотел… Потому у нас ничего не получилось. Но теперь-то ты сможешь.
– Ну, я думаю, мы это выясним, – говорит Джек. Он ухмыляется – надеясь, что это выглядит как простодушная мальчишеская ухмылка. Неужели у него есть утонченная духовная суть? Если да, то Ирена – единственный на всем свете человек, который так считает.
– Я тоже так думаю, – говорит Ирена. Она снова улыбается и накрывает его ладонь своей; он ощущает кости ее пальцев. Он накрывает их соединенные руки своей второй рукой и слегка сжимает.
– Завтра я пошлю тебе букет роз. Красных, – он заглядывает ей в глаза. – Считай, что это предложение.
Вот. Он осмелился и ринулся в неизвестное, но в неизвестное что? Джек, иди гуляй на речку, говорит он себе, но будь осторожен. Избегай ловушек. Возможно, она окажется тебе не по зубам, а может, она вообще чокнутая. Не ошибись. Но сколько ему осталось той жизни, чтобы беспокоиться об ошибках?
Каменная подстилка
Сначала Верна не собиралась никого убивать. У нее в планах был только отдых. Перевести дух, подвести внутренние итоги, сбросить старую кожу. Арктика ей подходит: эти безграничные холодные просторы льда, скал, моря и неба действуют успокоительно. Никаких городов, шоссе, деревьев и прочего мусора, загромождающего пейзажи в более теплых краях.
В понятие мусора Верна включает и других людей, а именно мужчин. С нее пока хватит мужчин. Она мысленно приказывает себе не допускать никакого флирта и всего, что может за ним последовать. Ей не нужны деньги. Больше не нужны. Она не расточительна и не скупа, говорит она себе; она всю жизнь хотела лишь защититься – толстым слоем денег: добрых, мягких, изолирующих от внешнего мира, чтобы никто не мог больше к ней подобраться и причинить ей боль. Этой скромной цели она наконец-то достигла, без всякого сомнения.
Но старые привычки трудно искоренить, и вот Верна уже оценивающе глядит на попутчиков: облаченные в теплый флис, они возятся с чемоданами в вестибюле гостиницы при аэропорте, первой ночевке маршрута. Верна отсеивает взглядом женщин и мысленно сортирует мужскую часть стада. Некоторые приехали со своими женщинами, этих Верна тоже пропускает, из принципа: зачем излишне осложнять себе работу? Отцеплять жену от мужа – дело весьма трудоемкое. Верна знает это по опыту своего первого брака. Брошенные жены липнут к мужьям, как репьи.
Так что ее интересуют одиночки, те, что рыскают по внешнему периметру. Некоторые для нее слишком стары – с этими она избегает встречаться глазами. Ей нужны те, кто считает, что они еще ого-го; это – ее добыча. Она уговаривает себя, что не собирается ничего с ними делать, просто потренируется лишний раз – уверится, что еще может, если захочет.
Для сегодняшнего вечера, когда участников круиза будут представлять друг другу, она выбрала кремовый пуловер и приколола значок круиза – «Курс на Север» – на левую грудь, чуть-чуть ниже, чем следовало бы. Благодаря аквааэробике и упражнениям на мышцы кора она в прекрасной форме для своего возраста – да и для любого возраста, во всяком случае, когда она полностью одета и облачена в броню белья на стальных каркасах. Она не рискнула бы надеть бикини и разлечься в шезлонге на палубе – поверхностное сморщивание уже началось, несмотря на все ее усилия, и в частности поэтому она предпочла Арктику Карибам. Лицо – уж какое есть; несомненно, оно – лучшее, что можно купить за деньги на этой стадии; немножко бронзера, светлые тени для век, тушь для ресниц, сверкающая пудра, приглушенное освещение – и она покажется на десять лет моложе.
«Немало отнято, но кое-что осталось»[37], – бормочет она, глядя на себя в зеркало. Ее третий муж был повернут на цитатах и питал особое пристрастие к Теннисону. Перед тем как отправиться в постель, он обычно говорил: «Мод, пойдем с тобою в сад»[38]. Верну это страшно бесило.
Она душится одеколоном – ненавязчивый, цветочный, ностальгический запах – потом промакивает его, оставляя лишь намек. Перебор был бы ошибкой – да, пожилые носы менее чувствительны, но следует делать поправку на возможную аллергию. Чихающий мужчина не будет галантным кавалером.
Она приходит с небольшим запозданием, улыбаясь бодро, но отстраненно – женщине без спутника не следует выглядеть так, словно она в явных поисках, – берет предложенный бокал сносного белого вина и дрейфует меж сотоварищей по круизу, отхлебывающих и жующих. Мужчины окажутся высокооплачиваемыми специалистами на пенсии – врачи, юристы, инженеры, биржевые брокеры, движимые интересом к Арктике, белым медведям, археологии, птицам, инуитским народным промыслам, может быть, даже викингам, ботанике, геологии. «Курс на Север» привлекает серьезную публику и держит целый штат настоящих специалистов, чтобы пасти участников круиза и читать им лекции. Верна исследовала две другие компании, организующие круизы в эти места, и обе отвергла. У одной в программу круиза включены пешие походы, и рассчитан он на возрастную группу «до 50» – не ее целевая аудитория, – а другая устраивает коллективные спевки и одевает участников круиза в дурацкие костюмы. Так что Верне пришлось выбрать «Курс на Север» – он удобен еще и тем, что знаком. Она уже однажды ездила в этот круиз – пять лет назад, после смерти третьего мужа, – и теперь примерно знает, чего ожидать.
Многие одеты как на сафари – бежевый, хаки, много клетчатых рубашек, жилеты с изобилием карманов. Верна обращает внимание на бейджики с именами – Фреды, Дэны, Нормы, Бобы. Вот еще один Боб, и еще, и еще… Очень много Бобов. Немало среди них и одиночек. Боб. Когда-то это имя сыграло огромную роль в судьбе Верны, хотя, конечно, она давно избавилась от тяжкого груза воспоминаний. Она выбирает одного из Бобов – постройней, но не слишком худого, – подбирается поближе, поднимает взгляд на него, затем опускает веки. Он пялится на ее грудь.
– Верна, – произносит он. – Какое красивое имя.
– Старомодное, – объясняет Верна. – По-латыни оно значит «весна». Пора, когда все кругом оживает.
Эта фраза, явный намек на плодородие и совокупление, помогла ей подцепить второго по счету мужа. Третьему мужу она сказала, что мать назвала ее под влиянием стихов Джеймса Томсона, шотландского поэта восемнадцатого века, о весенних ветерках. Это была ни с чем не сообразная ложь, которая, однако, доставила Верне большое удовольствие. На самом деле ее назвали в честь покойной тетки – рыхлой, с лицом, похожим на булку. Что же до матери, то она была твердокаменной пресвитерианкой с губами, сдвинутыми плотно, как тиски, презирала поэзию, и повлиять на нее можно было, разве что треснув с размаху о гранитную стену.
Заарканивая четвертого мужа, в котором Верна сразу распознала пристрастие к сексу с вывертами, она пошла еще дальше. Она сказала, что ее назвали в честь балета «Весна священная», весьма чувственного, с изображением пыток и человеческих жертвоприношений. Он засмеялся, но при этом заерзал: явный признак того, что рыбка клюнула.
Сейчас Верна произносит:
– А вы… Боб.
Этот едва заметный вдох, от которого у мужчин с гарантией слабеют колени, она оттачивала много лет.
– Да. Боб Горэм, – добавляет он с напускной скромностью, которая, как он наверняка считает, бьет наповал. Верна широко улыбается, чтобы скрыть потрясение. Она чувствует, как ее заливает краска – это ярость и вместе с ней почти беспечная радость. Она глядит ему прямо в лицо. Да, под редеющими волосами, морщинами и явно отбеленными зубами – возможно, имплантами – все тот же Боб, пятидесяти-с-чем-то-летней давности. Мистер Сердцеед, мистер Великий Футболист, мистер Завидная Пара из богатой части города, где жили и ездили на «кадиллаках» большие шишки из управления шахт. Мистер Сволочь с перекошенной улыбочкой клоуна-садиста и манерой нависать над своей жертвой.
Как все изумились – не только вся школа, но и весь город, точнее, городишко, где все знали всё про всех: кто пьет, кто нет, кто прошмандовка и сколько у кого мелочи в заднем кармане брюк, – узнав, что золотой мальчик Боб пригласил на торжественный зимний «Бал Снежной королевы» ничем не примечательную Верну. Верна – невинная, хорошенькая, тремя годами моложе Боба, ее терпели, но не дружили с ней, – прилежно училась, перескакивая через классы, и зубами выгрызала себе стипендию, чтобы после школы пойти учиться дальше и уехать из города. Наивная Верна, которая думала, что она влюблена.
А может, она и вправду была влюблена. Ведь если ты уверена, что любишь, – разве это не то же самое? Такая уверенность лишает сил и туманит взгляд. С тех пор Верна ни разу не позволила заманить себя в ту же ловушку.
Подо что они танцевали в тот вечер? «Rock Around the Clock», «Hearts Made of Stone», «The Great Pretender». Боб вел Верну по периметру школьного спортзала, с силой прижимая к гвоздике у себя в петлице – неопытная, неуклюжая Верна до сих пор ни разу не была на танцах и не годилась в партнерши Бобу с его зрелищной акробатикой. Жизнь кроткой девочки Верны проходила в церкви, школе, домашних делах и – по воскресеньям – за подработкой в местном аптечно-хозяйственном магазине. Мать следила за каждым ее шагом. Никаких свиданий; впрочем, Верну никто и не звал на свидания. Но мать разрешила ей пойти на школьный бал, который будет проходить под строгим наблюдением педагогов; ее пригласил Боб Горэм, светоч добродетели из респектабельной семьи. Мать даже позволила себе капельку самодовольства, хотя и молча. Все силы матери уходили на то, чтобы высоко держать голову после того, как сбежал отец Верны, и шея у нее почти перестала гнуться. Сейчас, с расстояния прожитых лет, Верна ее понимает.
Итак, Верна с сияющими глазами вышла из дверей школы, ковыляя на первых в жизни каблуках. Боб галантно подсадил ее в свой сверкающий красный кабриолет, где в бардачке уже коварно притаилась чекушка виски. Верна сидела прямая, как палка, почти парализованная застенчивостью. От нее пахло шампунем «Прелл» и лосьоном для тела «Джергенс», и она куталась в смердящую нафталином немодную материнскую накидку из кроличьего меха, под которой было льдисто-голубое платье с тюлевой юбкой, дешевое как с виду, так и на самом деле.
Дешевка. Одноразовая дешевка. Попользоваться и выбросить. Вот что думал о ней Боб с самого начала.
Сейчас Боб слегка ухмыляется. Он явно доволен собой: должно быть, думает, что Верна краснеет от желания. Но он ее не узнал! Мать твою, сколько знакомых Верн у тебя было?
Возьми себя в руки, мысленно командует она себе. Ее объемлет холодный, хрусткий запах гвоздик. Надо убраться от Боба подальше; на нее вдруг накатывает тошнота. Верна бежит в дамский туалет, который, по счастью, пуст, и извергает в унитаз все белое вино и канапе с сырной пастой и оливками. Наверно, отменять круиз уже слишком поздно. Но с какой стати ей опять убегать от Боба?
Тогда, много лет назад, у нее не было выбора. К концу недели об этой истории знал весь город. Боб сам все рассказал – точнее, рассказал пародийную версию, не очень похожую на ту, что помнила сама Верна. Пьяная, похотливая, распутная Верна! Вот умора-то! По дороге из школы домой за ней увязывалась толпа мальчишек – они ухали, свистели и кричали ей вслед: «Дешевка! Хочешь покататься? Вот тебе ви́ски, покажи сиськи!» Эти выкрики были еще из безобидных. Девочки в школе шарахались от нее, боясь, чтобы позор – нелепая, смехотворная слабость на передок – не перекинулся и на них.
А еще была мать. Новость немедленно долетела и до всех прихожан ее церкви. Мать сжала губы, как тиски, и говорила мало, но каждое слово было как вбитый гвоздь: Верна сама себе постелила и сама теперь будет на этом лежать. Нет, Верне не позволено предаваться жалости к себе – она должна вынести все последствия своего падения, зная, что подняться ей не дадут. Один неверный шаг, и ты в грязи, так устроена жизнь. Когда стало ясно, что случилось худшее, мать купила Верне билет на автобус и отправила в церковный приют для незамужних матерей, расположенный на окраине Торонто.
Там Верна проводила дни за чисткой картошки, мытьем полов и туалетов вместе с товарками по преступлению. Их одевали в серые платья для беременных, серые шерстяные чулки и неуклюжие бурые туфли, проинформировав, что все оплачено великодушными благотворителями. Помимо мытья и чистки, их гоняли на молитву и обрушивали на их головы проповеди, полные праведного гнева. Обычно в проповеди сообщалось, что они заслужили все, что с ними происходит, своим безнравственным поведением, но никогда не поздно искупить грех тяжелым трудом и воздержанной жизнью. Их предостерегали от опасностей, таящихся в алкоголе, табаке и жевательной резинке, а также сообщали, что будет божьим чудом, если какой-нибудь мало-мальски порядочный человек захочет на них жениться.
Роды у Верны были долгие и трудные. Ребенка забрали немедленно, чтобы она к нему не привязалась. Ей занесли инфекцию, которая привела к осложнениям и рубцам, но, как сообщила одна деловитая медсестра другой в пределах слышимости Верны, это и к лучшему, ведь таким девкам вообще не следует рожать. Как только Верна встала на ноги, ей сунули пять долларов и билет на автобус и велели вернуться в распоряжение матери, ведь она была все еще несовершеннолетняя.
Но Верна не могла взглянуть в лицо матери, а тем более всему городу, и поехала в центр Торонто. О чем она думала? Пожалуй, у нее в голове не было оформленных мыслей, одни чувства: беспросветное горе, а потом наконец-то искра гнева, вызова. Раз она все равно такая распутная дрянь, как все думают, то может с тем же успехом вести себя соответственно. И она вела себя соответственно – в промежутках между работой официантки и уборкой гостиничных номеров.
Ей колоссально повезло – судьба свела ее с женатым мужчиной намного старше, который ею заинтересовался. За три года секса в обеденный перерыв она скопила деньги на учебу. Она считала это справедливым обменом и не держала зла на мужчину. Он многому ее научил – ходить на высоких каблуках в числе прочего, но и гораздо более важным вещам – и она зацепилась и вылезла из ямы. Мало-помалу она выкорчевала образ Боба, который до тех пор – хотите верьте, хотите нет, – носила у сердца, как смятый засушенный цветок.
Она похлопывает лицо, чтобы снять отек, и заново подкрашивает ресницы – тушь растеклась, хотя на этикетке было написано, что она водостойкая. Мужайся, говорит себе Верна. На этот раз она не обратится в бегство. Она сильнее; теперь она справится и с пятью Бобами. И у нее стратегическое преимущество – ведь Боб понятия не имеет, кто она такая. Неужели она так изменилась? Да. Она выглядит гораздо лучше. Волосы – серебристый блонд, ну и различные достижения косметической хирургии, конечно. Но главная разница – в ее манере держаться, в уверенности. Сквозь этот фасад Бобу трудно будет разглядеть робкую сопливую дурочку с мышиными волосами, какой она была в четырнадцать лет.
Наложив завершающий слой пудры, Верна возвращается в салон и встает в очередь к буфету за ростбифом и лососиной. Она съест мало – на публике она всегда ест мало: прожорливая женщина не может быть загадочной и притягательной. Она не ищет глазами Боба – вдруг он ее увидит и станет ей махать, а ей надо подумать, – и выбирает столик в дальнем конце зала. Но тут, откуда ни возьмись, является Боб и, даже не спросив разрешения, втискивается рядом с ней. Он полагает, что уже помочился на этот столбик, думает она. Изобразил свой автограф на стене. Отрезал голову охотничьему трофею и сфотографировался, поставив ногу на тушу. Как уже сделал однажды, много лет назад, хотя он этого не помнит. Она улыбается.
Он держится покровительственно. Как Верна себя чувствует? Хорошо, отвечает она. Видно, что-то не в то горло попало. Боб без промедлений запускает прелюдию. Чем занимается Верна? На пенсии, отвечает она, а до этого работала физиотерапевтом, специализировалась в восстановлении после инфарктов и инсультов. Должно быть, очень интересная работа, говорит Боб. О да, отвечает Верна, так приятно знать, что помогаешь людям!
Работа у нее была не просто интересная. Богатые мужчины, поправляясь после опасного для жизни приступа, по достоинству ценили привлекательную женщину моложе себя, с ловкими руками, которая умеет вовремя подбодрить и интуитивно понимает, когда следует промолчать. Или, как выразился ее третий муж, обратившись на сей раз к Китсу, пусть звучная мелодия сладка – неслышная мелодия нежнее[39]. Неизбежная физическая близость между физиотерапевтом и пациентом приводит к иной близости, хотя до собственно секса Верна никогда не доходила. Она говорила, что ей религия не позволяет. Если клиент не спешил делать предложение, Верна прекращала его обслуживать, ссылаясь на то, что другим страждущим ее помощь нужна больше. Два раза это подталкивало события в нужном направлении.
Она выбирала объект с учетом анамнеза и после свадьбы начинала изо всех сил заботиться о супруге. Все ее мужья отправлялись на тот свет абсолютно счастливыми, а также благодарными ей – но чуточку раньше, чем можно было ожидать. Впрочем, все мужья умирали от естественных причин – от повторения рокового инфаркта или инсульта, который уже и раньше настигал их. Верна лишь негласно разрешала мужу все запретное: еду, забивающую артерии, спиртное в любых количествах, слишком раннее возвращение к игре в гольф. Она видела, что они, возможно, перебирают с дозировкой лекарства, но молчала. Позднее она говорила, что доза казалась ей слишком высокой, но кто она такая, чтобы противоречить указаниям врача?
А если муж случайно забыл, что уже принимал таблетки, а потом нашел их, заботливо выложенные на привычном месте, и принял еще раз – что удивляться результату? Антикоагулянты в чрезмерной дозе очень опасны. Возможно кровоизлияние в мозг.
И еще, конечно, секс: венец всего, удар милосердия. Верна не любила секс как таковой, но умела им пользоваться. «Один раз живем на свете», – привычно говорила она, поднимая бокал шампанского за ужином при свечах, а потом доставала виагру, огромное достижение фармацевтики, которое, однако, сильно влияет на кровяное давление. Тут важно было вызвать «Скорую» вовремя – быстро, но не слишком. Например, можно было сказать: «Я проснулась и увидела его в таком состоянии». Или: «Я услышала странный звук в ванной комнате, пошла посмотреть и…»
Угрызения совести ее не мучили. Она оказывала этим мужчинам услугу: лучше уйти сразу, чем дряхлеть, медленно угасая.
Два раза у нее вышли сложности из-за завещания со взрослыми детьми мужей. Верна любезно говорила, что понимает их чувства. А затем откупалась от них, давала им даже больше, чем следовало бы, если учесть, сколько она приложила усилий. У нее сохранилось пресвитерианское понятие о справедливости: она не требует лишнего, но на меньшее, чем ей положено, тоже не согласна. Все счета должны быть оплачены.
Боб склоняется к ней, просовывая руку вдоль спинки ее стула. А муж тоже здесь, вместе с ней, в круизе? Шепчет ей прямо в ухо, обдает дыханием. Нет, она недавно овдовела – тут она опускает взгляд на стол, надеясь, что это выглядит как приглушенная скорбь – и в круиз поехала, чтобы залечить рану. Боб выражает сочувствие: какое совпадение, его жена тоже скончалась, всего полгода назад. Это был удар. Они так предвкушали золотые годы вдвоем. Они познакомились еще в университете, это была любовь с первого взгляда. Верит ли Верна в любовь с первого взгляда? Да, говорит Верна.
Боб продолжает изливать душу: они дождались, пока он получил диплом юриста, поженились, родили троих детей, и сейчас у них пять внуков, он так гордится ими. «Если он начнет показывать мне фотографии младенцев, я его ударю», – думает Верна.
– Остается пустота, правда? – говорит Боб. – Ощущение потери.
Верна соглашается.
Боб говорит, что хочет заказать бутылку вина – не желает ли Верна составить ему компанию?
Ах ты сволочь, думает Верна. Значит, ты жил дальше припеваючи, обзавелся детишками, как будто ничего не случилось. А я… Ее мутит.
– Буду рада, – говорит она. – Но давайте подождем, пока мы окажемся на корабле. Так будет гораздо удобнее, легче расслабиться.
Она снова взглядывает на него и опускает веки.
– А теперь меня ждет «сон красоты».
– О, вы в этом совершенно не нуждаетесь, – галантно говорит Боб. И, сволочь такая, вежливо отодвигает ей стул. Полсотни лет назад он такой галантности не проявил. Их встреча была мерзка, груба и коротка, как выразился бы ее третий муж, цитируя слова Гоббса о человеческой жизни[40]. Нынче девушки знают, что в таких случаях нужно идти в полицию. Нынче Боб мог бы врать сколько угодно – все равно его посадили бы, она была несовершеннолетняя. Но тогда не было даже слов, чтобы описать происшедшее: изнасилование – это когда на тебя из кустов выскакивает маньяк, а не когда мальчик, только что танцевавший с тобой на школьном балу, отвозит тебя в чахлый лесок недалеко от шахтерского городишки, приказывает тебе выпить, и ты послушно пьешь, а потом он разнимает тебя на части, сдирая слой за слоем. Мало того, скоро подъехал на собственной машине Кен, лучший друг Боба, – пособить приятелю. Они гоготали. И оставили себе ее пояс от чулок – на память.
А потом Боб выпихнул ее из машины на полпути к городу – он разозлился, потому что она плакала. «Заткнись, или пойдешь домой пешком», – сказал он. У Верны возникает в голове картина: вот она ковыляет по обледенелой обочине в специально крашенных под цвет платья льдисто-голубых туфлях на каблуках на босу ногу; у нее болит все тело, ее тошнит, ее бьет дрожь, и еще – унизительное воспоминание – она икает. У нее в голове неотступно крутилась только одна мысль – о ее нейлоновых чулках. Куда они делись? Она купила их на свои заработки продавщицы. Наверное, она была в шоке.
Верно ли она помнит? Действительно ли Боб надел на голову ее пояс для чулок и плясал среди сугробов, и подвязки болтались, как бубенцы на шутовском колпаке?
Пояс для чулок, мысленно повторяет она. Практически палеозой. И все прочие окаменелости, ушедшие вместе с ним. Сегодня девушки принимают таблетки или делают аборт, глазом не моргнув. Она, Верна, сама динозавр, если эта память ее еще ранит.
За ней вернулся Кен, а не Боб. Буркнул: «Залезай», и отвез ее домой. Вид у него был смущенный – хоть на это хватило совести. Он пробормотал: «Не рассказывай никому». Верна никому не рассказала, но это ей мало помогло.
Почему только она пострадала из-за той ночи? Да, она сделала глупость, но ведь Боб совершил преступление. И остался безнаказанным, даже совесть его не мучила, а у нее вся жизнь пошла под откос. Тогдашняя Верна умерла, и на ее месте образовалась другая: перекрученная, изуродованная, с ампутированными чувствами. Это Боб научил ее тому, что выигрывают сильные, а слабых следует безжалостно использовать. Это Боб сделал ее – почему бы не назвать вещи своими словами? – убийцей.
Наутро, пока они летят чартерным рейсом к кораблю, ожидающему на просторах моря Бофорта, Верна обдумывает планы. Можно выводить Боба, как рыбу на спиннинг, и в решающий момент оставить с носом и со спущенными штанами. Это принесет удовлетворение, но не слишком большое. Можно избегать его в течение оставшейся поездки и оставить задачу в том же состоянии, в котором она была все эти пятьдесят лет: нерешенной. А можно его убить. Она рассматривает третий вариант с хладнокровием теоретика.
Допустим гипотетическую возможность, что она хочет убить Боба, – как это сделать во время круиза и не попасться? Ее обычный метод – лекарства плюс секс – слишком медленный, а на Боба может и вообще не подействовать – он, кажется, вполне здоров. Столкнуть его в воду – нереально. Он слишком крупный, перила слишком высокие, и по опыту предыдущего круиза Верна знает, что на палубе всегда кто-нибудь есть – любуется видами или фотографирует. Труп в каюте приведет к появлению полиции, анализам на ДНК и волокна, как показывают по телевизору. Нет, смерть надо организовать во время одной из вылазок на берег. Но как? И где? Верна смотрит на карту и программу круиза. Инуитское поселение не годится: собаки будут лаять, дети увяжутся следом. А во всех остальных местах запланированной высадки спрятаться негде. На берег их будет сопровождать персонал с огнестрельным оружием, для защиты от белых медведей. Может, устроить несчастный случай с оружием? Но тогда надо будет все проделать с точностью до доли секунды.
Какой бы метод она ни выбрала, действовать нужно в самом начале круиза, пока Боб не оброс знакомыми, которые могут его хватиться. Кроме того, есть постоянная опасность, что Боб ее узнает. Если это случится, считай, игра кончена. А пока не следует, чтобы их слишком часто видели вместе. Нужно подогревать его интерес, но нельзя, чтобы по кораблю поползли слухи, что у них роман. В круизах сплетни плодятся как мухи.
Взойдя на борт корабля – это «Решительный II», знакомый Верне по прошлому круизу, – пассажиры встают в очередь к стойке администрации, чтобы сдать паспорта. Затем пассажиров собирают в носовом салоне на лекцию по технике безопасности. Лекцию читают три пугающе компетентных сотрудника круиза. Каждый раз при сходе на берег, говорит один, сурово хмурясь на манер викинга, они должны перевернуть свою табличку на общей доске красной стороной вверх. Вернувшись на борт, следует снова перевернуть табличку, теперь зеленой стороной вверх. На берег их будут возить в надувных лодках «Зодиак», и при этом пассажиры должны всегда быть в спасательных жилетах. Жилеты – новой конструкции, тонкие, они надуваются, попав в воду. При высадке на берег следует оставить спасательные жилеты на месте высадки, в приготовленных для этой цели белых полотняных мешках, а садясь в лодку для возвращения на корабль – снова надеть. Если табличка останется неперевернутой или в мешках окажется лишний спасжилет, персонал будет знать, что кто-то остался на берегу. Вы ведь не хотите, чтобы вас забыли на берегу, правда? А теперь – хозяйственные мелочи. Мешки для сдачи в стирку грязного белья будут приносить в каюту. Стоимость выпитого в баре будет приплюсована к счету в конце круиза, и чаевые начислены централизованно. На корабле не принято запирать каюты – это облегчает работу уборочного персонала – но если вы хотите, то, конечно, можете запереть свою. Если вы нашли чужую потерянную вещь, сдайте ее на стойку администратора. Всем все ясно? Хорошо.
Теперь к микрофону подходит археолог. На вид ей лет двенадцать. Она говорит, что в планах – посещение нескольких стоянок местных первобытных культур, в том числе индепенденс 1, дорсет и туле. Но ни в коем случае нельзя ничего оттуда брать. Никаких артефактов и особенно – ни в коем случае никаких костей. Кости могут оказаться человеческими, и нужно проявлять максимальную осторожность, чтобы их не потревожить. Но даже кости животных – источник дефицитного кальция для воронов, леммингов, лис и далее по всей пищевой цепочке, так как в Арктике в дело идет все. Всем все ясно? Хорошо.
Да, пожалуй, несчастный случай с ружьем устроить не получится, думает Верна. Пассажиров к этим ружьям не подпустят.
После обеда им читают лекцию про моржей. Ходят слухи о моржах-шатунах, что питаются тюленями – протыкают их клыками и высасывают жир мощным ртом. Справа и слева от Верны сидят женщины и вяжут. «Липосакция», – говорит одна. Вторая смеется.
Лекция кончается, и Верна выходит на палубу. Небо ясное, стайка линзовидных облаков висит на нем, как флотилия летающих тарелок; воздух теплый; море – цвета морской волны. По левому борту плавает классический айсберг, в середине он такой синий, словно его нарочно покрасили, а впереди по курсу виднеется мираж – фата-моргана, высится на горизонте, чрезвычайно правдоподобный, если не считать легкого мерцания по краям. Моряки устремлялись к таким миражам навстречу своей смерти. Они рисовали горы на картах там, где никаких гор не было.
– Красота, верно? – произносит Боб, материализовавшийся у нее за спиной. – Ну что, как насчет той бутылочки сегодня вечером?
– Да, потрясающе красиво, – улыбается Верна. – Но только, может быть, не сегодня – я договорилась кое-что поделать с девочками.
Она не врет – она и впрямь договорилась на вечер с теми двумя вязальщицами.
– Может, завтра? – Боб ухмыляется и сообщает, что у него каюта на одного. Номер 222, как название болеутоляющих таблеток, шутит он. И расположена удобно, в средней части корабля. Почти никакой качки.
Верна говорит, что у нее тоже одиночная каюта. Оно того стоит, потому что иначе невозможно как следует расслабиться. Она так чувственно протягивает слово «расслабиться», что оно приводит на ум эротические конвульсии на атласных простынях.
Прогуливаясь по кораблю после ужина, Верна бросает взгляд на доску присутствия и обнаруживает, что ее табличка и табличка Боба расположены недалеко друг от друга. Она заходит в сувенирный магазин и покупает дешевые перчатки. Она читала много детективов.
Следующий день начинается с лекции по геологии. Лектор – энергичный молодой геолог, пробудивший немалый интерес аудитории (особенно женской ее части). В результате колоссального везения, а также изменений в расписании, вызванных паковым льдом, они совершат дополнительную высадку на берег, где смогут осмотреть геологическое чудо, которое видели очень немногие. Им посчастливится увидеть самые ранние в мире окаменелые строматолиты, которым 1,9 миллиона лет. Они образовались, когда на свете еще не было рыб, динозавров, млекопитающих – это самая ранняя из сохранившихся форм жизни на планете. Что такое строматолит? – риторически вопрошает он, сверкая глазами. Это слово происходит от греческого «строма», подстилка, и корня «лит», означающего камень. Каменная подстилка: окаменелая подушка, образованная множеством слоев сине-зеленых водорослей. Слои нарастали друг на друга, образуя нечто вроде купола или кочки. Именно эти сине-зеленые водоросли выработали кислород, которым мы все дышим. Потрясающе, правда?
За обедом морщинистый человечек, сосед Верны по столу, брюзжит: он-то надеялся увидеть нечто поинтереснее камней. Он тоже Боб – Верна провела инвентаризацию. Лишний Боб никогда не помешает.
– А я очень хочу их увидеть, – говорит она. – Каменные подстилки.
Слово «подстилка» она произносит с крохотной ноткой намека, и Боб Второй одобрительно блестит глазами в ответ. Вот уж действительно, нет мужчины, который был бы слишком стар для флирта.
После кофе она выходит на палубу и разглядывает землю, к которой они приближаются, в бинокль. Здесь сейчас осень; листья на карликовых деревьях, змеящихся по земле, как лозы – красные, оранжевые, желтые, багряные. Из них складками и волнами торчат скалы. Вон гряда, за ней другая, а еще дальше – третья. Геолог сказал, что лучшие строматолиты можно найти на второй.
А если проскользнуть за третью гряду, увидят ли тебя со второй? Верна думает, что нет.
И вот они все втиснулись в непромокаемые штаны и резиновые сапоги; вот их облачают в спасжилеты, как детсадовцев-переростков, и застегивают многочисленные пряжки; вот они переворачивают свои таблички с зеленой стороны на красную; вот они гуськом спускаются по трапу и садятся в черные надувные «зодиаки». Боб пробрался в «зодиак» Верны. Он поднимает фотоаппарат и щелкает ее.
У Верны бьется сердце. «Если он вдруг узнает меня сам, я не стану его убивать, – думает она. – Если я скажу ему, кто я, и он меня узнает и попросит прощения, я тоже не стану его убивать». Это ровно на два шанса больше, чем он предоставил ей. Это означает отказ от преимущества внезапности, и это может быть опасно – ведь Боб гораздо крупней и сильней ее, – но она хочет быть даже более чем справедливой.
Они высадились, сняли спасжилеты и резиновые сапоги и теперь шнуруют туристические ботинки. Верна подбирается ближе к Бобу и замечает, что он не стал заморачиваться с резиновыми сапогами. На нем красная бейсбольная кепка; на глазах у Верны он поворачивает ее козырьком назад.
Они разделяются. Кое-кто остается у берега, другие идут к первой гряде. Геолог стоит с молотком, и вокруг него уже собралась чирикающая стайка. Он полным ходом ведет инструктаж: их просят не брать строматолиты с собой, но у корабля есть разрешение на взятие образцов, поэтому если кто-нибудь найдет особо выдающийся экземпляр, особенно с поперечным сечением, должен посоветоваться с ним, геологом, и этот экземпляр, возможно, поместят на стол для образцов, устроенный на борту, чтобы все могли полюбоваться. Вот несколько экземпляров для тех, кто не хочет подниматься на вторую гряду…
Слушатели вглядываются, достают фотоаппараты. Идеально, думает Верна. Чем больше они отвлекутся, тем лучше. Она чувствует, не глядя, что Боб где-то рядом. Они уже у второй гряды, и кое-кто из пассажиров карабкается на нее с легкостью, а кое-кто с трудом. Здесь лучшие строматолиты, целое поле. Не сломанные похожи на пузыри или купола, маленькие и большие, размером с половину футбольного мяча. Иные – без верхушки, как яйцо, из которого вот-вот кто-то вылупится. Другие разрушены, от них остался лишь набор выступающих концентрических продолговатых гребней – похоже на плюшку с корицей или на годовые кольца дерева.
А этот расколот на четыре части, словно разрезали голову голландского сыра. Верна подбирает одну четвертушку, разглядывает слои: каждый год – черная полоска, серая, черная, серая, и в самом низу – сердцевина, где все сливается. Кусок камня – тяжелый и острый. Верна засовывает его в рюкзак.
Тут появляется Боб, словно по знаку суфлера. Он медленно и тяжело ковыляет к ней по склону, как зомби. Он снял верхнюю куртку и засунул под лямки рюкзака. Он запыхался. Верну охватывает раскаяние: он стар, ему осталось всего ничего, его уже одолевает старческая немощь. Может, не стоит поминать былое? Все мальчики шалят. Они в этом возрасте всего лишь марионетки, управляемые гормонами, правда ведь? Разве можно судить человека по тому, что он сделал в другой жизни, так давно, словно прошли уже века?
Прилетает ворон, кружит у нее над головой. А вдруг он расскажет? Или он ждет? Верна смотрит на себя глазами ворона, видит старуху – потому что, будем глядеть правде в глаза, она старуха – которая собирается убить старика из-за обиды, уже рассеявшейся в дали давно ушедшего времени. Это мелко. Это злобно. Это нормально. Это жизнь.
– Отличный денек, – говорит Боб. – Приятно поразмять ноги.
– Да, в самом деле, – Верна перемещается на дальний склон второй гряды. – А может, там дальше еще что-нибудь получше. Но ведь нам, кажется, велели не заходить так далеко? Не скрываться из виду?
Боб издает смешок, говорящий, что правила – для быдла.
– Мы им деньги платим, – произносит он. И идет вперед, возглавляя шествие, не вверх по третьей гряде, а в обход вокруг нее. Он как раз и хочет скрыться из виду.
Сотрудник круиза с ружьем, стоящий на верху второй гряды, кричит на кого-то из пассажиров, которые убрели влево. На Верну и Боба он не смотрит. Еще несколько шагов, Верна оборачивается: она никого не видит, а это значит, что и ее никому не видно. Они хлюпают по грязи, пересекая топкое место. Верна вытаскивает из кармана тонкие перчатки, надевает. Вот они уже на дальней стороне третьей гряды, у основания, где уклон небольшой.
– Иди сюда, – говорит Боб, хлопая по камню. Рюкзак лежит рядом. – Я кое-что захватил, выпьем.
Вокруг него – рваный тюль черного лишайника.
– Замечательно, – Верна присаживается рядом, открывает рюкзак. – Смотри, я нашла прекрасный образец.
Она поворачивается, кладет строматолит между собой и Бобом, держа его обеими руками. Набирает воздуху в грудь.
– Мы, кажется, и раньше были знакомы. Я – Верна Причард. Из школы.
Боб даже бровью не ведет:
– То-то мне казалось, что я тебя уже где-то видел.
Он ухмыляется. В самом деле ухмыляется.
Она помнит эту ухмылку. Она живо вспоминает, как Боб торжествующе скакал в снегу, хихикая на манер десятилетки. И себя – смятую, отброшенную.
Она знает, что широко размахиваться нельзя. И, с силой подняв строматолит, коротким и резким движением бьет Боба под челюсть. Слышится хруст, это единственный звук в тишине. Голова откидывается назад. Вот Боб уже лежит, распростершись на камне. Верна держит строматолит у него надо лбом, отпускает. Еще раз. И еще. Вот. Кажется, готово.
Боб выглядит ужасно нелепо – глаза открыты, лоб проломлен, кровь течет по лицу в обе стороны. «Ну и убожество», – говорит она. Он смешон, и она смеется. Как она и подозревала, вместо передних зубов у него имплантаты.
Она ждет с минуту, чтобы перевести дух. Забирает строматолит – осторожно, чтобы кровь не попала ни на нее, ни даже на перчатки, и бросает его в лужу болотной воды. Бейсболка Боба свалилась на землю; Верна берет ее и засовывает к себе в рюкзак вместе с его курткой. Она вытряхивает его рюкзак: там только фотоаппарат, пара шерстяных варежек, шарф и шесть мини-бутылочек виски. Какая чудовищно жалкая самоуверенность. Она скатывает рюкзак, засовывает в свой, сует туда же фотоаппарат – потом бросит в море. Вытирает строматолит шарфом, старательно, чтобы не осталось крови, и тоже сует в рюкзак. Боба она оставляет воронам, леммингам и прочим представителям пищевой цепочки.
Затем она огибает третью гряду и выходит к людям, поправляя куртку. Если кто ее и видел, решит, что она отбежала пописать. При визитах на берег люди все время так делают. Но ее никто не видит.
Она отыскивает молодого геолога – он все еще на второй гряде, среди поклонниц – и показывает ему строматолит.
– Можно я возьму его на корабль? – невинно спрашивает она. – Для стола с образцами?
– Какой фантастический экземпляр! – восклицает он.
Путешественники уже возвращаются к берегу, к «зодиакам». Добравшись до мешков со спасжилетами, Верна делает вид, что завязывает шнурок, выбирает момент, когда никто не смотрит, и запихивает лишний жилет к себе в рюкзак. Рюкзак теперь набит намного плотней, чем когда она сходила на берег, но вряд ли кто-нибудь заметит.
Поднявшись на борт корабля, она возится с рюкзаком, пока все остальные не проходят дальше, и переворачивает табличку Боба с красной на зеленую. И свою собственную тоже, конечно.
На пути в свою каюту она ждет, пока коридор опустеет, и проникает в незапертую каюту Боба. Ключ от каюты лежит на комоде; она его не трогает. Она вешает в шкаф спасательный жилет, водонепроницаемую куртку Боба и бейсболку, пускает воду в раковине, мочит и мнет полотенце. Потом идет к себе в каюту по все еще пустому коридору, снимает перчатки, стирает и вешает сушить. Она сломала ноготь – какая жалость, но это поправимо. Она смотрит на себя в зеркало: лицо слегка обгорело на солнце, но ничего серьезного. К ужину она одевается в розовое и старательно флиртует с Бобом Вторым, который мужественно возвращает ее подачи, но, несомненно, слишком дряхл и потому неперспективен. Вот и хорошо – уровень адреналина у нее в крови катастрофически упал. Им сообщают, что если будет замечено северное сияние, пассажирам объявят, но Верна не собирается ради этого вставать.
Пока что никто ничего не подозревает. Осталось лишь поддерживать иллюзию присутствия Боба, старательно переворачивая его табличку – с зеленой на красную сторону, с красной на зеленую. Он будет перекладывать вещи у себя в каюте, носить свое бежевое и клетчатое, спать в кровати, принимать душ, бросая на пол мокрые полотенца. Потом он получит приглашение – с указанием только имени – отужинать за капитанским столом, и пригласительная карточка окажется в каюте другого Боба, и никто не заметит подмены. Он будет чистить зубы. Он будет подзаводить будильник. Он будет посылать одежду в стирку, хотя и не заполняя квитанцию (это слишком рискованно). Обслуга не обратит внимания – пожилые люди часто забывают заполнять квитанцию на стирку.
Строматолит будет лежать на столе среди других геологических образцов, и все кому не лень будут брать его в руки, осматривать, обсуждать, и он покроется отпечатками пальцев множества людей. В конце круиза его выкинут. «Решительный II» будет в море четырнадцать дней; за это время пассажиры совершат восемнадцать высадок на берег. Корабль будет плыть мимо ледяных шапок и отвесных утесов, гор цвета золота, меди, эбена и серебра; он будет скользить через паковый лед; он будет бросать якорь у длинных безжизненных пляжей и исследовать фьорды, выгрызенные ледниками за миллионы лет. Перед лицом такого сурового и неумолимого великолепия кто вспомнит про Боба?
В конце круиза наступит момент истины: Боб не появится, чтобы оплатить счет и забрать паспорт. Чемоданы свои он тоже не упакует. Среди персонала поднимется переполох, последует совещание – тайное, чтобы не напугать пассажиров. Наконец капитан сделает объявление: произошла трагедия, Боб, видимо, свалился с корабля в последнюю ночь круиза, высунувшись слишком далеко за перила в поисках удачного ракурса для съемок северного сияния. Иное объяснение невозможно.
А тем временем пассажиры рассеются на все четыре стороны света, и Верна среди них. Если, конечно, ей удастся все это провернуть. Удастся или нет? Она странно безразлична – ведь ей предстоит интересная задача, но пока что она ощущает лишь усталость и некую пустоту.
Впрочем, еще и умиротворение. Она в безопасности. «С душой покойной, страсти утолив», как говорил ее третий муж после сеансов с виагрой, и эта цитата ее тоже бесила. Викторианцы вечно отождествляли секс со смертью. Чье это, кстати? Китс? Теннисон?[41] Ее память уж не та, что была. Но наверняка она потом вспомнит, на досуге.
Жги рухлядь
Человечки карабкаются по тумбочке. Сегодня они в зеленом: женщины – в кринолинах, широкополых бархатных шляпах, корсажах с квадратным вырезом, переливающихся бисером, мужчины – в панталонах до колен, туфлях с пряжками, на плечах у них пучки лент, а треуголки украшены пышным плюмажем. Никакого уважения к исторической точности. Как будто театральный костюмер напился за сценой и вывернул все кладовые: здесь вырез в стиле ранних Тюдоров, тут куртка гондольера, там костюм Арлекина. Вильма не может не восхищаться такой залихватской небрежностью.
Вот они поднимаются на тумбочку, держась за руки. Оказавшись на уровне глаз Вильмы, они сцепляются локтями и принимаются танцевать – вполне грациозно, если учесть препятствия: ночник, лупу ювелира, которую прислала Элисон, дочь Вильмы (очень мило с ее стороны, но толку никакого), электронную читалку с увеличенным шрифтом. Сейчас Вильма сражается с «Унесенными ветром». На страницу у нее уходит минут пятнадцать, и это если повезет. К счастью, она уже читала эту книгу, давно, и помнит основные повороты сюжета. Может, потому человечки и одеты в зеленое: отзвук знаменитых зеленых бархатных штор, из которых несгибаемая Скарлетт пошила себе платье, чтобы пустить пыль в глаза.
Человечки кружатся в танце, у женщин раздуваются юбки. Сегодня человечки в хорошем настроении: они кивают друг другу, улыбаются, открывают и закрывают рты, словно разговаривают.
Вильма прекрасно знает, что никаких человечков на самом деле нет. Они – лишь симптомы, проявления синдрома Шарля Бонне, такое бывает у многих в ее возрасте, особенно при проблемах со зрением. Ей повезло – ее проявления, или чучики, как зовет их доктор Прасад, по большей части безобидны. Они лишь изредка злобно гримасничают, или разбухают и становятся огромными, или рассыпаются на фрагменты. Даже когда они сердиты или обижены, это не имеет никакого отношения к Вильме, поскольку они явно не замечают ее существования. Доктор говорит, что это в порядке вещей.
Как правило, чучики ей симпатичны; хорошо бы они с ней еще и разговаривали. Впрочем, когда она поделилась этой мыслью с Тобиасом, он сказал: «Берегитесь желаний, они сбываются. Первое: вдруг они начнут трещать так, что не остановишь? Второе: кто знает, что именно они будут говорить». Вслед за этим он начал рассказывать об одной из своих многочисленных любовных связей; дела давно минувших дней, конечно. Женщина была потрясающе красива, с грудями индийской богини и бедрами греческой статуи (Тобиас склонен к архаизмам и преувеличениям), но стоило ей открыть рот, и она изрекала такие банальности, что Тобиас чуть не лопался от подавляемого раздражения. Чтобы заманить ее в постель, он устроил целую военную кампанию, длинную и трудоемкую; понадобились шоколад, золотая коробка шоколадных конфет в форме сердца. И шампанское, но от шампанского богиня не прониклась желанием, а только стала еще глупее.
По словам Тобиаса, глупую женщину соблазнять гораздо труднее, чем умную, потому что дуры не понимают намеков и не способны уловить связь между причиной и следствием. Такая даже не понимает, что если ее покормили ужином в дорогом ресторане, за этим неминуемо, как день за ночью, должно последовать ее согласие раздвинуть идеальные ноги. Было бы бестактно, решила Вильма, намекнуть ему, что пустой взгляд и недогадливость весьма удобны для красавиц, и почему бы не отобедать в дорогом ресторане, если в качестве оплаты можно отделаться хлопаньем больших, бессмысленных, сильно подведенных глаз. Она помнит, как женщины перешептывались, выйдя в дамскую туалетную «попудрить носик» – помнит, как они заговорщически хихикали и обменивались полезными советами, рассказывая друг другу, как доверчивы мужчины, и одновременно подкрашивая губы и брови. Но зачем расстраивать галантного Тобиаса? Если он узнает сейчас, это уже не принесет ему пользы, а лишь омрачит его нежные воспоминания.
– Жаль, что мы с вами тогда не были знакомы, – говорит Тобиас Вильме, прерывая отчет о шоколаде и шампанском. – Только искры полетели бы!
Вильма пытается понять, что он имеет в виду: что она умна, а следовательно, ее легко затащить в постель? Или было легко. Понимает ли он, что другая на ее месте могла бы и обидеться?
Нет, не понимает. Эти слова задумывались как комплимент. Он, бедняжка, не нарочно – просто у него, по его же словам, примесь венгерской крови. Так что Вильма не прерывает его, и он продолжает молоть языком – божественная грудь, мраморные бедра и прочее. Вильма даже не язвит, если Тобиас повторяется и рассказывает про одну и ту же интрижку несколько раз. А ведь когда-то она не удержалась бы. Вильма напоминает себе, что здесь, в этом месте, нужно быть добрыми друг к другу. «У нас больше ничего не осталось, кроме нас самих».
Если в двух словах, то дело в том, что Тобиас пока еще видит. Вильма не может позволить себе раздражаться из-за избыточных описаний давно ушедших красоток, пока Тобиас способен выглянуть в окно и рассказать, что происходит снаружи, на территории «Усадьбы «Амброзия»», по ту сторону внушительной парадной двери здания. Вильма хочет быть в курсе происходящего – если что-то происходит.
Она щурится, вглядываясь в специальные часы с крупными цифрами, потом сдвигает их вбок – боковое зрение у нее лучше. Как всегда, время более позднее, чем она думала. Она шарит на тумбочке у кровати, находит зубной мост и вставляет его на место.
Человечки – сейчас они кружатся в вальсе – даже с шага не сбиваются: ее фальшивые зубы их не интересуют. Впрочем, если вдуматься, они вообще никого не интересуют, кроме самой Вильмы и, возможно, доктора Штитта, если он еще пребывает в царстве живых. Именно доктор Штитт убедил ее – давно, уже лет четырнадцать-пятнадцать назад, – что лучше выкорчевать несколько больших коренных зубов, которым все равно уже недолго осталось, и поставить импланты, чтобы было куда крепить мост, если он вдруг понадобится в будущем. А он понадобится, сказал доктор Штитт, поскольку зубы Вильмы не застали всеобщее фторирование и должны скоро выкрошиться, подобно мокрой штукатурке.
– Когда-нибудь вы меня поблагодарите, – сказал он.
– Если доживу, – ответила она со смехом. В том возрасте она еще любила походя пошутить о смерти, подчеркивая, какая она бодрая старушка.
– Вы будете жить вечно, – сказал доктор. Это прозвучало скорее как предупреждение, чем как попытка ее подбодрить. Впрочем, возможно, доктор лишь с приятностью думал о том, что она еще долго будет его пациенткой.
Но она в самом деле дожила и теперь в самом деле ежеутренне возносит безмолвную хвалу доктору Штитту. Остаться без зубов было бы очень неприятно.
Вставив безупречную белую улыбку, она выскальзывает из постели, нащупывает ногами махровые тапочки и идет в ванную. В ванной она пока справляется: знает, где что, и потом, не сказать, что она совсем ничего не видит. Глядя искоса, она пока получает довольно сносную картину, хотя слепое пятно в середине поля зрения расползается – как и предсказывали врачи. Слишком много играла в гольф без темных очков, каталась на яхте – из-за отражения от воды получаешь двойную дозу ультрафиолета. Но кто тогда об этом знал? Считалось, что бывать на солнце очень полезно. Здоровый загар. Они намазывались детским маслом и подрумянивались, как блинчики. Загорелые и гладкие, как жаренный на вертеле кролик, ноги так хорошо смотрелись по контрасту с белыми шортами.
Макулярная дегенерация. Очень противное слово «макулярный», напоминает макулатуру. «Видно, мне пора в утиль», – шутила Вильма сразу после того, как ей поставили диагноз. Когда-то она любила храбро шутить.
Одевается она тоже пока сама, при условии, что на одежде нет пуговиц: два года назад (или уже больше?) она полностью избавилась от пуговиц. Остались лишь застежки-липучки и молнии – только молнии должны быть зашиты на конце, потому что вдеть одну маленькую штучку в другую Вильма уже не в состоянии.
Она приглаживает волосы, шарит рукой, нащупывая убежавшие невесомые прядки. В «Амброзии» свой салон красоты, хвала небесам, и на стилиста Сашу можно положиться – он держит ее волосы в порядке. Больше всего во время утренних приготовлений Вильму раздражает собственное лицо. Она едва различает его очертания в зеркале: пустота в форме лица, наподобие стандартных юзерпиков, которые когда-то использовались в социальных сетях, пока не добавишь собственную картинку. Поэтому никакого подкрашивания бровей, и о туши для ресниц можно забыть, и о губной помаде тоже – хотя в припадке оптимизма Вильма иногда рисует себе рот, надеясь, что попадает куда надо. Может, рискнуть сегодня? А вдруг она в результате будет выглядеть как клоун? Хотя кого это волнует?
Ее волнует. И может быть, Тобиаса. И еще обслуживающий персонал. Если выглядишь так, будто выжила из ума, то с тобой скорее начнут обращаться так, словно ты и впрямь выжила из ума. Так что губная помада отменяется.
Вильма нашаривает флакон одеколона на привычном месте – уборщицам строго-настрого запрещается что-либо передвигать – и наносит по капельке за ушами. Розовое масло с ноткой чего-то другого, цитрусового. Вильма втягивает ноздрями запах; слава богу, у нее, в отличие от некоторых других, сохранилось обоняние. Когда оно уходит, с ним уходит и аппетит, и человек постепенно сходит на нет.
Отворачиваясь от зеркала, Вильма ловит свое мимолетное отражение. Или чье-то чужое: эта женщина неприятно похожа на ее мать, какой та была в старости, кожа как мятая папиросная бумага и все такое. Хотя из-за скошенных вбок глаз женщина в зеркале выглядит так, словно задумала какое-то озорство. Или что-то недоброе: как эльф, перешедший на темную сторону. Этому взгляду искоса недостает прямоты взгляда в упор – но Вильма больше никогда не сможет взглянуть в глаза своему отражению.
А вот и Тобиас – он пунктуален, как обычно. Они всегда завтракают вместе.
Прежде чем войти, он стучит – как положено галантному джентльмену, каковым он себя преподносит. По словам Тобиаса, джентльмен должен выждать, прежде чем войти в покои дамы – тогда другой джентльмен успеет нырнуть под кровать. В отношениях с женой главное – сохранять видимость полного порядка; кому и знать, как не Тобиасу, пережившему правление нескольких жен. Все они ему изменяли; впрочем, Тобиас на них не в обиде, ведь нельзя уважать женщину, на которую не льстятся другие мужчины. Он никогда не давал женам понять, что знает, и всегда заманивал их обратно, дожидался, пока они начинали его боготворить, и тут-то выставлял коленом под зад безо всяких объяснений, ибо к чему унижаться, обвиняя их? Проще захлопнуть дверь и тем самым сохранить достоинство. Вот как надо обращаться с женами.
С любовницами, однако, эмоции чаще берут верх. Исполненный подозрений любовник, распаляемый ревностью и собственной уязвленной честью, как правило, врывается без стука и проливает кровь: прямо тут же, на месте – ножом или голыми руками – или позже на дуэли.
– И вам случалось кого-нибудь убить? – спросила однажды Вильма, когда он в очередной раз это рассказывал.
– На моих устах печать, – провозгласил Тобиас. – Но винная бутылка – полная винная бутылка – может проломить череп в области виска. И еще я отлично стрелял.
Вильма старается, чтобы углы рта не поехали кверху: она не видит Тобиаса, но он-то ее видит, и если она ухмыльнется, он будет обижен. Подробности его рассказов, вроде золотой шоколадной коробки в форме сердца, представляются ей завитками рококо. Она подозревает, что Тобиас их выдумывает, но не на пустом месте, а на базе вычурных старинных оперетт, вышедших из моды европейских романов и воспоминаний своих дядюшек-денди. Наверное, он думает, что в глазах Вильмы – наивной, простодушной уроженки Северной Америки – выглядит блистательным декадентом, светским щеголем. Что она принимает его рассказы за чистую монету. Впрочем, возможно, что он и сам им верит.
– Войдите! – кричит она. В дверном проеме появляется пятно. Вильма смотрит на него искоса и принюхивается. Да, это наверняка Тобиас, пахнет его одеколоном после бритья: «Брют», если она не ошибается. Может, у Вильмы обострилось обоняние из-за того, что зрение слабеет? Вероятно, нет, но приятней думать, что да. – Тобиас, как я рада вас видеть.
– Милая дама, вы сегодня ослепительны, – говорит Тобиас. Он приближается и наносит поцелуй на ее щеку тонкими сухими губами. Он немного колется: еще не брился, только плеснул на себя одеколону. Как и Вильма, он наверняка боится, что от него пахнет: кислым, затхлым запахом стареющего тела, очень заметным, когда обитатели «Амброзии» собираются в столовой. Базовая нота медленного распада и недержания пробивается через слои нанесенных запахов – нежных цветочных у женщин, пряных у мужчин, ведь каждый из них еще хранит в душе внутренний образ лихого пирата или цветущей красавицы.
– Надеюсь, вы хорошо спали, – говорит Вильма.
– Мне приснился такой сон! – восклицает Тобиас. – Фиолетовый. Бордовый. Очень сексуальный, с музыкой.
Его сны часто бывают очень сексуальными и с музыкой.
– Надеюсь, он кончился хорошо? – спрашивает Вильма.
Она сегодня явно слишком много «надеется».
– Не очень, – отвечает Тобиас. – Я совершил убийство. И из-за этого проснулся. Что мы выберем сегодня? Овсяные творения или с отрубями?
Он никогда не называет сухие завтраки, выбранные Вильмой, их настоящим именем: считает, что это банально. Скоро он посетует на то, что здесь не подают хороших круассанов – точнее, вообще никаких круассанов.
– Выбирайте, – говорит она. – Я хочу пополам того и другого.
Отруби для кишечника, овес – для регулировки холестерина. Хотя эти диетологи сегодня говорят одно, завтра другое. Вильма слышит, как Тобиас роется у нее в кухонном углу – он знает, где что лежит. В «Амброзии» обед и ужин подают в столовой, но завтракают обитатели у себя в апартаментах; во всяком случае, обитатели крыла с частичным уходом. В крыле с усиленным уходом дела обстоят по-другому, но как именно – Вильма не желает об этом думать.
Звякают тарелки и приборы – Тобиас накрывает для завтрака небольшой столик у окна. Черный силуэт на ослепительном квадрате дневного с вета.
– Я принесу молоко, – говорит Вильма. Хотя бы это она еще может: открыть дверцу мини-холодильника, нашарить прохладный кирпичик ламинированного картона, донести его до стола, не разлив.
– Я уже все принес, – говорит Тобиас. Сейчас он мелет кофе – слышится жужжание, словно крохотная бензопила работает. Сегодня Тобиас не рассказывает, насколько лучше было бы молоть кофе ручной мельницей, красной, с медной ручкой, как принято было во времена его юности. Или во времена юности его матери. Во времена чьей-то юности. Вильма уже досконально изучила эту красную кофемолку с медной ручкой. Словно когда-то сама ею владела, хотя на самом деле такого никогда не было. Однако она ощущает потерю: кофемолка стала частью списка, вместе с другими вещами, которые Вильма в самом деле утратила.
– Жаль, что у нас нет яиц, – говорит Тобиас. Иногда они готовят и яйца, хотя в последний раз это привело к небольшой катастрофе. Тобиас сварил яйца, но не вкрутую, и Вильма, неаккуратно обращаясь со своим, испачкала желтком весь перед платья. Снятие верхней части скорлупы – операция, требующая точности, а Вильма уже не может как следует нацелиться ложкой. В следующий раз она предложит приготовить омлет, хотя, возможно, кулинарное искусство Тобиаса так далеко не простирается. Может быть, если она будет руководить им, шаг за шагом? Нет, все же опасно: вдруг он обожжется, Вильма этого совершенно не хочет. Можно приготовить что-нибудь в микроволновке – гренки или что-нибудь похожее. Сырную запеканку слоями – Вильма делала такие, когда еще готовила на семью. Но как найти рецепт? И как потом ему следовать? Бывают ли на свете аудиорецепты?
Они сидят за столом, жуя сухие завтраки – хрупкие, на вкус отдающие пеплом. Приходится работать челюстями. Вильма думает, что звук, раздающийся у нее в голове, похож на хруст снега под ногами или на шуршание упаковочных пенополистироловых гранул. Может, выбрать на завтрак что-нибудь помягче, например растворимую овсянку. Но Тобиас вознегодует на нее за одно упоминание растворимой овсянки – он презирает все растворимое. Бананы, вот что, нужно попробовать бананы. Они растут на деревьях или на кустах, в общем, на каких-то растениях. У Тобиаса нет резона возражать против бананов.
– Почему эти штуки делают в виде колечек? – спрашивает Тобиас уже далеко не в первый раз. – Эти овсяные штучки.
– Это буква «о», – объясняет Вильма. – «О» значит овес. Что-то вроде ребуса.
Тобиас качает пятном – силуэтом головы.
– Я бы предпочел круассан. Круассаны также имеют определенную форму, форму полумесяца. Их история восходит к случаю, когда Вену чуть не захватили мавры. Я не понимаю почему… – Он прерывается. – Что-то происходит у ворот.
У Вильмы есть бинокль – его прислала Элисон, наблюдать за птицами. Впрочем, Вильме так и не удалось увидеть никаких птиц, кроме скворцов, а теперь бинокль ей и вовсе ни к чему. Другая дочь присылает в основном тапочки, у Вильмы уже залежи тапочек. Сын шлет открытки. До него никак не доходит, что мать уже не может прочитать написанное.
Бинокль хранится на подоконнике, и Тобиас пользуется им, чтобы осматривать территорию: изогнутая дорожка, ведущая от ворот к главному входу; газон с фигурно обрезанными кустами – их Вильма запомнила в день своего приезда сюда, три года назад; фонтан с копией знаменитой бельгийской статуи – голый мальчик с лицом херувима мочится в каменную чашу; высокая кирпичная стена; внушительные въездные ворота с аркой и двумя солидными, унылыми каменными львами. «Усадьба «Амброзия» когда-то была настоящим загородным имением – в те времена, когда люди еще строили усадьбы и когда город сюда еще не дошел. Отсюда, видимо, и львы.
Иногда Тобиас не видит ничего интересного, кроме обычных передвижений. К обитателям усадьбы каждый день приходят гости – «вольняшки», как Тобиас их называет. Они торопливо идут от гостевой парковки к парадному входу, неся горшок с бегонией или геранью, таща упирающегося внука, надевая на лицо фальшивую бодрость и надеясь побыстрей провернуть обязаловку – визит к пожилому богатому родственнику. И сотрудники – медицинский персонал, кухонные работники, уборщики. Они въезжают в ворота и огибают здание, двигаясь к парковке для сотрудников и боковым дверям. Еще приезжают ярко раскрашенные фургоны, привозят продукты, белье из прачечной, иногда – затейливые букеты, которыми родственники пытаются избыть чувство вины. Для менее парадного транспорта (в частности, грузовиков, забирающих мусор) есть неприметные задние ворота.
Время от времени случаются драмы. Обитатель крыла усиленного ухода сбегает, несмотря на все предосторожности, и тогда из окна можно увидеть, как он бесцельно блуждает по территории – в пижаме или полуодетый, мочась там и тут. Прилюдное мочеиспускание приличествует статуе в фонтане, но неприемлемо для дряхлой человеческой развалины – и сотрудники устраивают чинную, но весьма эффективную охоту на беглеца, окружают его и уводят обратно в дом. Или ее: иногда сбегают и женщины, хотя у мужчин, кажется, больше инициативы в этом деле.
А иногда прибывает «Скорая помощь», из нее выскакивает кучка парамедиков с оборудованием и вбегает в дом. «Как на войне», – заметил однажды Тобиас, хотя, наверное, имел в виду кино, ведь насколько знает Вильма, он ни в одной войне не участвовал. Через некоторое время парамедики выходят уже не торопясь, толкая каталку, на которой угадываются очертания человеческого тела. Отсюда сверху не видно, живой или мертвый, говорит Тобиас, разглядывая эту картину в бинокль. «Может, и им там, внизу, не видно», – добавляет он иногда капельку черного юмора.
– Что там такое? – спрашивает Вильма. – «Скорая»?
Сирен не было, она уверена, слышит она пока неплохо. Именно в такие моменты слепота огорчает ее сильнее всего. Ей так хочется видеть все своими глазами; она не доверяет описаниям Тобиаса, она подозревает, что он иногда утаивает что-то. По его словам, он так бережет ее. Но она не хочет, чтобы ее берегли таким образом.
Вероятно, в ответ на ее неприятные чувства на подоконнике образуется строй человечков. На этот раз только мужчины, женщин нет; больше похоже на марширующую колонну. Общество человечков, видимо, патриархально – женщин они маршировать не пускают. Они по-прежнему одеты в зеленое, но потемнее, не такого праздничного цвета. На идущих в авангарде – практичные железные каски. В рядах, следующих за ними, костюмы скорее церемониальные – плащи с золотым подбоем и зеленые меховые шапки. Интересно, появятся ли миниатюрные лошади? Такое тоже бывало.
Тобиас отвечает не сразу:
– Не «Скорая». Кто-то пикетирует въезд. Похоже на организованную акцию.
– Может, забастовка, – говорит Вильма. Но кто из сотрудников «Амброзии» станет бастовать? Больше всего причин для забастовки, конечно, у уборщиков, им очень мало платят; но как раз они вряд ли будут выступать, поскольку в худшем случае – нелегалы, а в лучшем – сильно нуждаются в деньгах.
– Н-нет, – медленно произносит Тобиас. – Не думаю, что это забастовка. С ними разговаривают три человека из нашей охраны. И еще там легавый. Два легавых.
Когда Тобиас использует подобные сленговые словечки, Вильма каждый раз вздрагивает. Они идут вразрез с его обычной речью, обычно очень корректной и обдуманной. Возможно, он позволяет себе говорить «легавый», потому что это слово звучит архаично. Однажды он сказал «оки-доки», а в другой раз – «валить». Может быть, он почерпнул эти слова из книг – потрепанных старых детективов и прочего в том же духе. Хотя кто такая Вильма, чтобы его судить? Теперь, когда ее интернетные забавы отошли в прошлое, она уже не знает, как разговаривают люди. Настоящие люди, моложе ее. Впрочем, не то чтобы она предавалась каким-то особенным забавам в Интернете. Она мало общалась, обычно молча следила за происходящим, и только начала осваиваться, как ей стали отказывать глаза.
Однажды она сказала мужу – когда он был еще жив, а не в тот год кошмара наяву после его смерти, когда она продолжала с ним разговаривать, – что на ее могильном камне следует написать: «Она подглядывала». Ведь разве она не была только наблюдателем большую часть своей жизни? Сейчас ей кажется, что да, хотя тогда так не казалось, она была вечно занята то тем, то этим. В университете она изучала историю – приемлемая, безопасная специальность, которая не помешает выйти замуж, – но от учебы ей никакой пользы не было, потому что сейчас она уже почти ничего из истории не помнит. Три политических лидера, умершие в постели с любовницей, – Чингисхан, Клемансо и этот третий, как его. Она потом вспомнит на досуге.
– Что они делают? – спрашивает она. Человечки на подоконнике маршируют вправо, потом резко делают поворот кругом и маршируют уже налево. Они вооружились копьями со сверкающими наконечниками, и еще у некоторых теперь есть барабаны. Она старается не отвлекаться на человечков, хотя так приятно видеть хоть что-нибудь в мельчайших, четких деталях. Но Тобиас обижается, когда чувствует, что ее внимание не устремлено на него нераздельно. Она резко возвращается в осязаемое, невидимое настоящее. – Они идут сюда?
– Нет, стоят. Бездельничают, – неодобрительно комментирует Тобиас. – Молодежь.
Он считает, что все молодые люди – ленивые иждивенцы, которым следовало бы идти работать. Он никак не может усвоить, что рабочих мест на всех не хватает. Он говорит, что если рабочих мест нет, пусть те, кому нужна работа, их создадут.
– Сколько их там? – спрашивает Вильма. Если десяток или чуть больше, то ничего серьезного.
– Человек пятьдесят, – отвечает Тобиас. – У них плакаты. Не у полицейских, у других. Теперь они пытаются не пропустить грузовик из прачечной. Смотрите, они становятся прямо перед ним.
Он забыл, что посмотреть она не может.
– А что на плакатах? – спрашивает она. Не пускать грузовик из прачечной – очень жестоко с их стороны: сегодня день, когда меняют постельное белье – во всяком случае, тем, кто не нуждается в частой смене белья и клеенке на матрас. По слухам, в крыле усиленного ухода постели перестилают чаще, дважды в день. «Усадьба «Амброзия» – недешевое место, и родственники будут очень разгневаны, обнаружив у любимой бабушки язвы и пролежни. Родственники хотят, чтобы уровень обслуживания соответствовал оплате – во всяком случае, они так говорят. На самом деле, скорее всего, они хотят, чтобы старая клюшка поскорей убралась на тот свет, причем не по их вине. Тогда они смогут навести порядок, собрать остатки состояния покойного или покойной – наследство, объедки, останки – и сказать себе, что все это принадлежит им по праву.
– На некоторых плакатах изображены младенцы, – отвечает Тобиас. – Пухлые, улыбающиеся младенцы. А на других написано: «Пора на выход».
– «Пора на выход»? – повторяет Вильма. – Младенцы? Что все это значит? У нас тут не роддом.
Даже наоборот, ядовито думает она: здесь уходят из жизни, а не входят в нее. Но Тобиас не отвечает.
– Полицейские проложили дорогу фургону с бельем, – говорит он.
Хорошо, думает Вильма. Всем поменяют постели. Хоть вонять не так будем.
Тобиас уходит вздремнуть перед обедом – в полдень он вернется, чтобы сопроводить ее в столовую. После нескольких неудачных попыток, смахнув на пол доску для сыра, Вильма наконец нащупывает и включает радиоприемник, стоящий на кухонном рабочем столе. Это специальный приемник для слабовидящих – из кнопок у него только выключатель и верньер настройки, а сам он заключен в нескользящий, водонепроницаемый пластиковый корпус цвета лайма. Еще один подарок от Элисон, живущей на Западном побережье, – она все время беспокоится, что недостаточно делает для матери. Она, конечно, приезжала бы чаще, но у нее дети, близнецы-подростки с проблемами (неназываемыми), и ответственная работа в крупной международной бухгалтерской фирме. Вильма решает, что надо сегодня позвонить дочери, известить ее, что мать еще жива. Элисон обязательно заставит близнецов поговорить с бабушкой. Какими нудными, должно быть, кажутся им эти разговоры. Но это естественно – они и ей самой кажутся нудными.
Может быть, про забастовку, или что оно там, скажут в программе новостей. Вильма послушает ее за мытьем посуды – она еще справляется с мытьем посуды, если не торопится. Если разобьется что-нибудь стеклянное, придется вызывать помощь по интеркому и ждать прихода Кати, ее личной уборщицы по вызову. Катя заметет осколки, непрестанно охая и причитая со славянским акцентом. Осколки стекла бывают очень острыми, и Вильме не стоит рисковать, вдруг она порежется – тем более она что-то подзабыла, в каком ящике в ванной у нее лежит лейкопластырь.
А кровяные пятна на полу создадут у руководства нежелательную картину. Люди, заправляющие «Усадьбой», не верят, что Вильма может самостоятельно себя обслуживать; они только и ждут предлога, чтобы запихнуть ее в крыло усиленного ухода и наложить лапу на мебель, которую она себе оставила, на ее хороший фарфор и столовое серебро. Все это они продадут, чтобы поддержать прибыльность «Усадьбы». Таковы условия подписанного Вильмой договора: плата за попадание в «Усадьбу», цена комфорта, цена безопасности. Плата за то, чтобы не быть обузой. Вильма оставила себе два предмета мебели – секретер и туалетный столик, последние реликвии ее уже не существующего имущества. Остальное она отдала своим троим детям, хотя им ее вещи были ни к чему – не в их вкусе, и они наверняка засунули все это куда-нибудь в подвал, но выразили почтительную благодарность.
Из радиоприемника несется бравурная музыка, бодрый диалог ведущего и ведущей, опять музыка, погода. Волна жары на севере, затопление на юге, снова торнадо. Ураган направляется к Новому Орлеану, другой треплет Восточное побережье континента, обычное дело в июне. А в Индии все наоборот: муссоны не пришли, и существует опасность неурожая и голода. В Австралии все еще держится засуха – хотя в районе Кэрнса, наоборот, потоп, и крокодилы вторгаются на улицы города. В Аризоне лесные пожары, и в Польше тоже, и в Греции. Но здесь, у нас, все хорошо – самое время отправиться на пляж, насладиться солнышком, но не забывайте про крем от загара, и к тому же следите за грозовыми очагами, которые могут образоваться позже. Хорошего вам дня!
А вот и главный блок новостей. Переворот в Узбекистане; стрельба в торговом центре в Денвере, стрелок (без сомнения, сумасшедший) убил нескольких человек и сам был убит снайпером. Третью новость Вильма слушает внимательно. Толпа людей в масках младенцев подожгла дом престарелых на окраине Чикаго; то же самое произошло недалеко от города Саванна в штате Джорджия, и третий подобный инцидент случился в Эйкроне, штат Огайо. Один из домов престарелых был государственный, но два других – частные, со своей охранной службой, с весьма небедными обитателями (из которых кое-кто превратился в угольки).
Комментатор говорит, что это не совпадение. Это координированные поджоги: ответственность за них взяла на себя группа, именующая себя «Нащерет», заявление группы опубликовано на сайте, владельцев которого власти сейчас пытаются установить. Комментатор сообщает, что семьи погибших пожилых людей, разумеется, в шоке. Следует интервью с рыдающим родственником, неспособным членораздельно изъясняться. Вильма выключает радио. Про сборище у въезда в «Усадьбу «Амброзия» ничего не сказали – видимо, у него масштабы не те, и к тому же здесь еще ничего не случилось.
«Нащерет» – так это прозвучало для Вильмы. Дикторы не сказали, как название движения пишется по буквам. Она попросит Тобиаса посмотреть новости по телевизору – он утверждает, что терпеть не может это занятие, но сам вечно смотрит – и рассказать ей поподробнее. Она игнорирует пляски человечков вокруг микроволновки – на сей раз они в розовом и оранжевом, со множеством рюшей, гротескно высокие парики украшены цветами – и идет в постель, ей нужно поспать перед обедом. Когда-то Вильма терпеть не могла спать днем – и до сих пор терпеть не может, боится что-нибудь пропустить. Но не спать днем она уже не может, иначе не хватит сил до вечера.
Тобиас ведет ее по коридору к столовой. Они едят во вторую смену: Тобиас считает дурным вкусом обедать раньше часа дня. Он шагает быстрей обычного, и Вильма просит его идти помедленней. «Конечно, дорогая», – говорит он, сжимая локоть, под который он ее подталкивает. Однажды он обнял ее за талию – у нее еще есть талия, в отличие от некоторых, – но в результате потерял равновесие, и они оба чуть не упали. Он невысок ростом и перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Ему нельзя падать.
Вильма не знает, как он выглядит – уже не знает. Скорее всего, она мысленно приукрашивает его образ, воображает его моложе и бодрее, чем на самом деле, не таким морщинистым, с более густой шевелюрой.
– Мне надо очень многое вам рассказать, – говорит он прямо ей в ухо. Ей хочется сказать, чтобы он не кричал, она не глухая. – Я узнал, что они не забастовщики, эти люди. Они не отступают, их стало больше.
Такой поворот событий, кажется, придал ему сил: он почти мурлыкает про себя.
В столовой он отодвигает стул, помогает ей сесть и, как раз когда она опускается на сиденье, придвигает стул обратно к столу. Почти потерянное искусство, думает Вильма – умение грациозно пододвинуть стул даме, все равно что умение подковать лошадь или оперить стрелу. Затем Тобиас садится напротив – едва различимый силуэт на фоне белых обоев. Вильма поворачивает голову и краем глаза видит смутные очертания его лица с темными, пронзительными глазами. Она запомнила их пронзительными.
– Что в меню? – спрашивает она. На каждую трапезу им дают напечатанное меню, лист бумаги с рельефно выдавленным несуществующим гербом. Гладкая бумага цвета сливок, как театральные программки давних лет, когда они еще не печатались на газетной бумаге и не пестрели рекламой.
– Грибной суп, – говорит Тобиас. Обычно он пространно рассуждает за каждым приемом пищи, мягко критикуя еду, вспоминая роскошные банкеты, на которых ему довелось побывать, выражая сожаление, что в наши дни уже никто не умеет готовить, особенно телятину, – но сегодня он все это пропускает. – Я кое-что нарыл. В игровой комнате. Я серфил.
Он имеет в виду, что воспользовался общим компьютером и поискал в Интернете информацию на интересующую его тему. Личные компьютеры обитателям «Амброзии» не положены – официально это объясняется тем, что пропускная способность локальной сети недостаточна. Вильма подозревает, что на самом деле руководство боится. Если предоставить обитателям выход в Интернет, то женщины падут жертвой сетевых мошенников, заведут неподходящие романы и растрынькают все свои деньги, а мужчины подсядут на интернет-порнушку, перевозбудятся и откинут копыта, и «Амброзию» засудят негодующие родственники, поскольку персонал должен был тщательней следить за старичками.
Итак, никаких личных компьютеров; но клиенты заведения могут пользоваться компьютерами в интернет-центре, где установлены программы, ограничивающие доступ, – наподобие родительского контроля, как для детей. Вдобавок руководство старается оттянуть своих подопечных от экранов, вызывающих нездоровое привыкание: лучше пусть клиенты возятся с мокрой глиной или склеивают картонки в узоры; или играют в бридж – он, как говорят, замедляет наступление деменции. Впрочем, как выражается Тобиас, по игрокам в бридж невозможно определить, наступила ли у них деменция. Вильма, которая сама когда-то активно играла в бридж, воздерживается от комментария.
За ужином Шошанна, трудотерапевт, обходит столовую, нудно убеждая жильцов в том, что они испытывают потребность выразить себя через Искусство с большой буквы. Когда Шошанна тащит их принять участие в очередном рисовании пальцем, нанизывании бус из макарон или какой-нибудь еще гениальной затее, Вильма всегда ссылается на свое гаснущее зрение. Шошанна однажды покрыла ее козырь рассказом про каких-то слепых горшечников, чьи творения, прекрасные, вылепленные вручную сосуды, снискали международную славу. Неужели Вильма не хочет расширить свои горизонты, хотя бы попробовать? Но Вильма обдала ее холодом. «Старую собаку новым трюкам не выучишь», – и оскалила острые фальшивые зубы.
Что до интернет-порнушки, кое-кто из похотливых старцев обзавелся мобильными телефонами и пускается во все тяжкие. Вильма знает это со слов Тобиаса, который, когда не болтает с ней самой, сплетничает со всеми подряд. Он утверждает, что сам не опускается до вульгарного телефонного порно, поскольку женщины на экране – слишком маленькие. Он говорит, что есть предел уменьшения, после которого женшина превращается в муравья с молочными железами. Вильма не совсем верит этой повести о воздержании, хотя, возможно, он и не врет; не исключено, что саги собственного сочинения заводят его сильнее, чем все, что может предложить простой телефон – и кроме того, у саг большое преимущество: в них Тобиас играет главную роль.
– Что еще вы узнали? – спрашивает Вильма.
Воздух полон звяканья ложечек о фарфор, бормотания дребезжащих голосов – насекомые вибрации.
– Они утверждают, что пришел их черед, – говорит Тобиас. – Поэтому на плакатах написано «Наш черед».
– О, – Вильма понимает, что расслышала неправильно: не «Нащерет», а «Наш черед». – Их черед делать что?
– Жить, насколько я понимаю. Я слышал выступление одного из них по телевизору: их сейчас интервьюируют все кому не лень. Они говорят, что мы уже пожили. Люди нашего с вами возраста. И испортили все, что можно. Убили планету из-за собственной жадности и все такое.
– В этом что-то есть, – говорит Вильма. – Мы и вправду много напортили. Хотя и не нарочно.
– Они – обыкновенные социалисты! – Тобиас не любит социалистов; все, кто ему не нравится, оказываются социалистами под той или иной маской. – Ленивые социалисты! Вечно пытаются захапать то, ради чего другие трудились.
Вильма так и не узнала точно, откуда у Тобиаса деньги – и немалые, раз он смог позволить себе не только череду бывших жен, но и просторные апартаменты в «Амброзии». Она подозревает, что он занимался сомнительными сделками в странах, где любые сделки – сомнительны. Но он осторожен и не распространяется о начале своей финансовой карьеры. Он говорит только, что владел несколькими компаниями, которые занимались международным импортом и экспортом, и удачно вложил деньги, хотя богатым себя назвать не может. Впрочем, богатые люди никогда не говорят, что богаты: они считают себя «обеспеченными».
Вильма и сама была обеспеченной – при жизни мужа. Вероятно, она все еще обеспеченная. Она уже не следит за тем, что происходит с ее накоплениями: этим занимается частная компания по управлению инвестициями. За компанией следит Элисон – насколько ей это удается с Западного побережья. Но «Амброзия» до сих пор не выкинула Вильму на улицу, так что, вероятно, для оплаты счетов деньги пока есть.
– И чего они от нас хотят? – спрашивает Вильма, стараясь, чтобы голос не звучал обиженно. – Эти люди с плакатами. Я вас умоляю. Как будто мы им можем чем-то помочь.
– Они говорят, что мы должны потесниться. Освободить место для них. У них и на некоторых плакатах так написано: «Освобождайте место».
– Я полагаю, они имеют в виду, что мы должны умереть. А булочек сегодня нету?
Иногда им подают вкуснейшие булочки «паркер-хаус», свежие, только что из печи. Чтобы жильцы чувствовали себя как дома, диетологи «Амброзии» сознательно пытаются воспроизвести то, что считают аутентичным меню семидесяти-восьмидесятилетней давности. Макароны с сыром, суфле, заварной крем, рисовый пудинг, желе ярких цветов, украшенное взбитыми сливками. У всех этих блюд есть и дополнительное преимущество: они мягкие и не представляют опасности для шатких зубов.
– Нет, – отвечает Тобиас. – Сегодня нет. Вот несут пироги с курицей.
– Вы думаете, они опасны? – спрашивает Вильма.
– Здесь – нет. Но в других странах они занимаются поджогами. Эта группа. Они говорят, что они – интернациональное движение. Что на борьбу поднимаются миллионы.
– О, в других странах вечно кто-нибудь занимается поджогами, – небрежно говорит Вильма. Она слышит свой голос, произносящий: «Если доживу». Та же уверенность: со мной ничего подобного случиться не может.
Идиотка, говорит она себе. Не выдавай желаемое за действительное. Но она никак не может заставить себя ощутить угрозу, во всяком случае – угрозу, исходящую от этих клоунов за воротами.
После обеда Тобиас напрашивается к ней на чай. Его окна выходят на другую сторону здания. Оттуда видна вторая половина территории усадьбы – посыпанные гравием дорожки, скамейки (расположенные очень часто, специально для тех, кто легко сбивается с дыхания), элегантные беседки, где можно укрыться от солнца, и газон для крокета и прочих веселых игр. Тобиас все это видит и неоднократно описывал Вильме в выразительных подробностях, а вот парадные ворота ему не видны. Кроме того, у него нет бинокля. Поэтому он пришел сейчас к Вильме – ради вида из окна.
– Теперь их больше, – говорит он. – Наверно, около сотни. Некоторые в масках.
– В масках? – переспрашивает заинтригованная Вильма. – Как на Хэллоуин?
Она представляет себе гоблинов и дракул, принцесс, ведьм, элвисов пресли.
– А я думала, носить маски на публичных мероприятиях незаконно.
– Нет, не как на Хэллоуин, – говорит Тобиас. – Маски младенцев.
– Розовые? – Вильма слегка вздрагивает – ей становится страшно. Толпа в масках младенцев – это пугает. Орда младенцев размером со взрослого человека, возможно, склонных к насилию. Вышедших из-под контроля.
На столе два-три десятка человечков взялись за руки и водят хоровод вокруг чего-то – вероятно, сахарницы: Тобиас любит чай с сахаром. На женщинах юбки будто из нескольких слоев розовых лепестков, на мужчинах – синие переливчатые одежды цвета павлиньего хвоста. Роскошные одежды с тончайшей вышивкой. Трудно поверить, что они ненастоящие: они выглядят так натурально, так детально проработаны.
– Некоторые, да. Есть еще желтые и коричневые.
– Наверно, это должно символизировать межрасовые отношения, – говорит Вильма. Она украдкой двигает руку по столу, приближаясь к танцующим: вот бы схватить одного, зажать между большим и указательным пальцем, как жука! Может, тогда они признают ее существование – хотя бы попытками брыкаться, укусить ее. – А что, они и одеты как младенцы?
Может, они в памперсах, или ползунках и комбинезончиках с лозунгами, или слюнявчиках с изображениями вампиров и пиратов. Такие когда-то были самым писком моды.
– Нет, только маски, – говорит Тобиас. Крохотные танцоры не допускают, чтобы Вильма провела рукой по воздуху сквозь них и тем самым доказала раз и навсегда, что они нематериальны. Вместо этого они ловко меняют траекторию танца, уворачиваясь, так что, может быть, все же ее видят. Может, они ее нарочно дразнят, мелкие негодяи.
Не глупи, одергивает она себя. Это синдром. Шарля Боннара. Он подробно описан в медицинской литературе, не одна ты им страдаешь. Нет, не Боннара, а Бонне; Боннар – это художник, Вильма почти уверена. Или то Боннивер?
– Они преграждают дорогу очередному фургону, – говорит Тобиас. – С курами.
Кур привозят с местной фермы – органических, вольного выпаса. И яйца тоже. «Несушки-веселушки Барни и Дэйва». Каждый четверг. Без курятины и без яиц дело может принять серьезный оборот, думает Вильма. Обитатели заведения будут недовольны. Разговоры на повышенных тонах. «За что я вам деньги плачу?»
– А полицейские? – спрашивает она.
– Я ни одного не вижу.
– Надо спросить у консьержа, – говорит Вильма. – Надо пожаловаться! Пускай этих людей уберут, пускай что-нибудь сделают.
– Я уже спрашивал, – говорит Тобиас. – Они знают обо всем этом не больше нашего.
За ужином атмосфера оживленней обычного: больше болтовни, больше звяканья, больше внезапных всплесков дребезжащего смеха. Кажется, обслуживающего персонала не хватает – обычно это раздражает жильцов, но сегодня они охвачены тайным весельем. Падает поднос, бьется что-то стеклянное, все одобрительно кричат. Обедающих предупреждают об опасности: рассыпались кубики льда, они плохо заметны и очень скользкие. «Нам ведь ни к чему переломы шейки бедра, верно?» – произносит голос Шошанны, завладевшей микрофоном.
Тобиас заказывает на стол бутылку вина.
– Будем жить на полную катушку. Выпьем за то, что я смотрю на вас!
Звякают бокалы. Они с Вильмой сегодня ужинают не вдвоем, как обычно, а за столиком на четверых. Это предложил Тобиас, и Вильма согласилась и сама удивилась этому. Сбиваясь в кучку, обеспечиваешь себе если не безопасность, то по крайней мере иллюзию безопасности. Держась вместе, они отразят неизвестную угрозу.
Двух соседок по столу зовут Джо-Анн и Норин. Жаль, что нельзя было заполучить женщину и мужчину, думает Вильма, но в этой возрастной группе женщины преобладают в пропорции четыре к одному. По словам Тобиаса, женщины более живучи, поскольку менее склонны возмущаться и легче переносят унижение, а что есть старость, как не одно сплошное унижение? Ни один сохранивший остатки собственного достоинства человек не станет с ней мириться. По временам, когда Тобиаса начинает тошнить от безвкусной еды или у него разыгрывается артрит, он обещает разнести себе голову выстрелом (если только удастся достать оружие) или вскрыть вены бритвенным лезвием в ванной, как уважающий себя римлянин. Вильма начинает протестовать, и он ее успокаивает: это всего лишь венгерская кровь, все венгерские мужчины склонны к мрачным разговорам. У венгерского мужчины ни дня не проходит, чтобы он не пригрозил самоубийством, хотя, к сожалению (это он так шутит), лишь немногие выполняют свои обещания.
А венгерские женщины? Почему они так себя не ведут? Вильма много раз спрашивала об этом. Почему они не режут себе вены в ванной? Ей нравится задавать те же вопросы повторно, потому что ответы не всегда повторяются. Тобиас родился по меньшей мере в трех разных местах и окончил четыре университета (в одном и том же году). У него много паспортов разных стран.
– Венгерские женщины на такое ни за что не пойдут, – сказал он однажды. – Они никогда не признают, что игра окончена – в любви, в жизни или в смерти. Венгерская женщина будет кокетничать с похоронных дел мастером, даже с кладбищенским сторожем, который только что опустил в яму ее гроб и засыпает землей. Она никогда не сдается.
Джо-Анн и Норин – не венгерские женщины, но тоже умеют кокетничать так, что только держись. Будь у них веера из перьев, они сейчас хлопали бы Тобиаса по рукам. Будь у них букеты, они швыряли бы ему розовые бутоны. Будь у них щиколотки, они их демонстрировали бы. А так они только глупо улыбаются. Вильму так и подмывает сказать: «Ведите себя на свои годы», но что под этим подразумевается?
С Джо-Анн она знакома по бассейну. Она старается дважды в неделю проплыть длину бассейна хотя бы несколько раз – на это она пока еще способна, при условии, что ей помогут влезть в воду и вылезти, а также проведут в раздевалку. И с Норин она, кажется, встречалась раньше на каком-то мероприятии вроде концерта: она помнит это голубиное воркование, грудное тремоло. Она понятия не имеет, как выглядят эти женщины, хотя боковым зрением видит, что обе одеты в малиновое.
Тобиас счастлив, что обрел новых слушательниц. Он уже успел сказать Норин, что она сегодня ослепительна, а Джо-Анн намекнул, что, будь он прежним, не удержался бы, оставшись с ней наедине. «Если бы молодость знала, если бы старость могла», – произносит он. Что это за звук – неужели он целует дамам ручки? Дамы хихикают. Точнее, лет двадцать назад это было бы хихиканьем. Сейчас это кудахтанье, писк, одышка; шелестение опавших листьев в порыве ветра. Голосовые связки укорачиваются, горестно думает Вильма. Легкие съеживаются. Все иссыхает.
Как она относится к этому флирту над чаудером из мидий? Ревнует ли она, хочет ли, чтобы Тобиас принадлежал ей безраздельно? Не безраздельно, нет; так далеко она не заходит. У нее нет желания резвиться с ним на пресловутом сеновале, поскольку у нее вообще нет желания. Или почти нет. Но ей нужно внимание Тобиаса. Точнее, ей нужно, чтобы он нуждался в ее внимании, хотя он, кажется, вполне обходится некачественной заменой в количестве двух штук. Втроем они ведут куртуазную беседу, достойную любовного романа из эпохи регентства. А Вильме приходится слушать, поскольку отвлечься ей не на что: человечки не явились.
Она пытается их вызвать. «Придите», – командует она про себя, устремляя то, что когда-то было взглядом, на композицию из искусственных цветов в центре стола (высокое качество, говорит Тобиас, не отличишь). Цветы желтые – это все, что знает о них Вильма.
Ничего не происходит. Она не может управлять ни появлением человечков, ни их исчезновением. Она решает, что это нечестно – в конце концов, именно у нее в мозгу они зарождаются.
Вслед за чаудером подают запеканку из говяжьего фарша с грибами, потом рисовый пудинг с изюмом. Вильма сосредотачивается на еде: ей нужно боковым зрением установить местонахождение тарелки, а потом работать вилкой, словно это ковш экскаватора – приблизить, повернуть, набрать груз, поднять. Это требует усилий. Наконец приносят блюдо с печеньем – как обычно, песочное и полоски. На краткий миг Вильме являются семь или восемь дам в пышных юбках цвета слоновой кости, они пляшут канкан, сверкая ногами в шелковых чулках, но почти сразу же растворяются в печенье.
– Что там снаружи происходит? – В паутине комплиментов, сплетаемой с трех сторон, внезапно появляется брешь, и Вильма устремляет свой вопрос туда. – У главных ворот?
– О, а мы как раз стараемся обо всем этом забыть! – весело восклицает Норин.
– Да, – говорит Джо-Анн. – Это слишком депрессивно. Надо ловить момент, верно, Тобиас?
– Вино, женщины и песня! – провозглашает Норин. – Зовите одалисок, пусть исполнят танец живота!
Джо-Анн и Норин трескуче хихикают.
Тобиас, как ни странно, не смеется. Он берет Вильму за руку: она чувствует его сухие, теплые, костлявые пальцы на своих.
– Их становится больше. Ситуация серьезней, чем мы думали, дорогая. Было бы неразумно ее недооценивать.
– О, мы ее не недооцениваем! – Джо-Анн пытается жонглировать мыльными пузырями разговора. – Мы просто делаем вид, что ее нет!
– На нет и суда нет! – чирикает Норин. Но Тобиаса их позиция больше не устраивает. Он сбросил маску старосветского аристократа а-ля «Алый первоцвет»[42] и переключился в режим «человек действия».
– Нужно ожидать худшего, – говорит он. – Они не застанут нас врасплох. Идемте, дорогая, я провожу вас домой.
Она вздыхает с облегчением: Тобиас вернулся к ней. Он доведет ее до самой двери ее квартиры, как делает это каждый вечер, пунктуальный, словно будильник. Чего она боялась? Что он бросит ее, беспомощную, ощупью искать дорогу, покинет на виду у всех остальных и сбежит в кусты с Норин и Джо-Анн, чтобы совершить с ними тройственное совокупление в беседке? Об этом можно сразу забыть: охрана выловит их в ноль минут и отправит прямиком в крыло усиленного ухода. Территория усадьбы патрулируется по ночам, с фонариками и собаками.
– Мы готовы? – спрашивает ее Тобиас. Вильма тает. «Мы». Можно забыть про Джо-Анн и Норин, разжалованных назад в «они». Она склоняется к Тобиасу, он берет ее под локоть, и они удаляются вместе. Вильма вольна воображать, что, удаляясь, они выглядят достойно.
– Но что такое худшее? – спрашивает она в лифте. – И как к нему можно приготовиться? Неужели вы думаете, что они нас сожгут! В нашей стране это невозможно! Полиция их остановит!
– На полицию рассчитывать нельзя, – отвечает Тобиас. – Уже нельзя.
Вильма собирается протестовать – «Но ведь они обязаны нас защищать, это их работа!» – и осекается. Если бы полицейских беспокоило создавшееся положение, они давно бы уже что-нибудь предприняли. Они сознательно бездействуют.
– Эти люди поначалу будут действовать осторожно, – продолжает он. – Продвигаться мелкими шагами. У нас еще есть немного времени. Постарайтесь не беспокоиться, вам нужно выспаться, чтобы набраться сил. А я кое-что подготовлю. Я не допущу неудачи.
Странно, до чего успокаивает Вильму этот мелодраматический эпизод: Тобиас берет командование на себя, строит хорошо продуманный план, намеревается перехитрить судьбу. Он всего лишь дряхлый старец, артритик, говорит себе Вильма. Но все равно ее это успокаивает и ободряет.
Перед дверями ее квартиры они традиционно клюют друг друга в щеку, и Вильма слушает, как он, прихрамывая, удаляется по коридору. Не сожаление ли шевельнулось у нее в душе? Не взыграло ли ретивое, как когда-то? Неужто ей и вправду захотелось, чтобы он заключил ее в тощие жилистые объятия, пробрался к коже сквозь застежки-липучки и молнии, попытался совершить пародию – призрачную, скрипучую, артритную – акта, что он совершал безо всяких усилий сотни, тысячи раз? Нет. Для нее самой будет слишком болезненным неминуемое молчаливое сравнение: с пышными любовницами, любительницами шоколада, божественными грудями, мраморными бедрами. Все это – и она.
Ты верила, что по мере старения сможешь прейти физические ограничения, мысленно обращается она к себе. Верила, что сможешь подняться над телом – в царство безмятежности, свободное от всего плотского. Но это возможно лишь через экстаз, а экстаз достигается через тело. Без костей и сухожилий, составляющих крылья, нет полета. Без этого экстаза тело лишь утянет тебя вниз, в свою машинерию. Ржавую, скрипящую, мстительную, жестокую.
Когда Тобиас уходит за пределы слышимости, она закрывает дверь и начинает подготовку ко сну по заведенному порядку. Сначала снять туфли и надеть тапочки, лучше всего не торопясь. Потом снять одежду, расстегивая одну липучку за другой, вставить вешалки (хоть как-то) и повесить одежду в шкаф. Нижнее белье – в корзину для белья, оно уже давно туда просится. Катя завтра с ним разберется. Пописать в унитаз обошлось без жертв. Спустить воду. Принять витамины, биоактивные добавки и все прочие таблетки. Запить водой в достаточном количестве – очень неприятно, когда они растворяются в пищеводе. Ей удается успешно проглотить все и не подавиться.
Ей также удается принять душ и не упасть. Она крепко держится за перила и не злоупотребляет гелем для душа, он скользкий. Вытираться лучше сидя; многие пытались вытирать ноги стоя, и последствия были плачевны. Она мысленно делает пометку: завтра позвонить в обслуживание, пусть назначат ей прием в салоне красоты, чтобы подстричь ногти на ногах. Еще одно дело, которое она больше не может делать сама.
Ночная рубашка, чистая и сложенная, ждет на подушке – ее бесшумно положили туда руки невидимой обслуги, пока Вильма ходила на ужин, и сама постель приготовлена для сна. На подушке, как обычно, шоколадка. Вильма нащупывает ее, освобождает от фольги и жадно ест. Такие заботливые мелочи выгодно отличают «Усадьбу «Амброзия» от конкурентов, говорилось в рекламной брошюре. Побалуй себя. Ты этого достойна.
Наутро Тобиас опаздывает к завтраку. Вильма сначала чувствует это, потом проверяет с помощью говорящих часов на кухне, еще одного подарка Элисон: нажав кнопку – если удастся ее нашарить – слышишь голос, который называет текущее время. Снисходительный, как у учителя математики во втором классе. «Сейчас восемь часов тридцать две минуты. Восемь тридцать две». Потом наступает восемь часов тридцать три минуты, потом восемь тридцать четыре, и Вильма чувствует, что с каждой минутой у нее повышается давление. Может, с ним что-нибудь случилось? Инсульт, сердечный приступ? В «Усадьбе «Амброзия» подобное происходит еженедельно, и даже обеспеченность от этого не защищает.
Наконец он приходит.
– У меня новости, – объявляет он, еще не успев толком войти. – Я ходил на «Рассветную йогу».
Вильма хохочет. Просто не может удержаться. Тобиас и йога – ее смешит сама идея, что они могут совместиться в пространстве. Интересно, что он надел по такому случаю? Тобиас и тренировочные штаны – тоже вещи несовместные.
– Я понимаю причину вашего веселья, дорогая, – говорит Тобиас. – Занятия йогой – совсем не то, что я выбрал бы, будь у меня другие варианты. Но я пожертвовал собой, чтобы добыть информацию. В любом случае занятий не было, так как инструктор не пришел. Поэтому мы с дамами имели возможность поболтать.
Вильма серьезнеет.
– А почему инструктор не пришел? – спрашивает она.
– Ворота заблокированы, – сообщает Тобиас. – Внутрь никого не пропускают.
– А что же полиция? И охрана «Усадьбы»? – Блокада – это серьезно. Это требует значительных сил.
– Их нигде не видно.
– Входите и садитесь. Давайте выпьем кофе.
– Вы правы, – отвечает Тобиас. – Нам нужно подумать.
Они садятся за столик у окна, пьют кофе и едят сухие завтраки из овса: те, что с отрубями, кончились, и до Вильмы внезапно доходит, что у нее очень мало шансов пополнить запас. Надо быть благодарной за то, что я сейчас ем, думает она сквозь хруст, который слышится у нее в голове. Наслаждаться моментом. Человечки сегодня возбуждены, кружатся в быстром вальсе, на них сверкающие костюмы, расшитые серебряными и золотыми блестками. Они устраивают для Вильмы настоящее представление; но у нее нет на них времени, сейчас ей нужно думать о серьезных вещах.
– А они кого-нибудь выпускают? – спрашивает она Тобиаса. – Через ворота.
Как там было в той книге, что она читала, про Французскую революцию? Версаль оцеплен, и королевская семья тоскует и задыхается внутри.
– Только персонал, – говорит Тобиас. – Им практически приказали уйти. Но не жильцов. Мы должны остаться. По-видимому, так велели эти люди.
Вильма обдумывает его слова. Значит, персоналу разрешают уйти, но ушедших уже не пустят обратно.
– И фургоны тоже не пропускают, – говорит она. Это не вопрос, а утверждение. – Например, с птицефермы.
– Разумеется, нет.
– Они хотят, чтобы мы погибли от голода. Другого объяснения нет.
– По-видимому, так, – отвечает Тобиас.
– Мы можем замаскироваться, – предлагает она. – Чтобы выбраться наружу. Например, прикинуться, что мы уборщики. Уборщики-мусульмане, с покрытыми головами. Или что-нибудь такое.
– Я очень сомневаюсь, что нас беспрепятственно пропустят, дорогая. Это вопрос возраста. Время оставляет свой след.
– Но ведь старые уборщики тоже бывают, – с надеждой говорит Вильма.
– Дело в степени, – он вздыхает. Или это одышка? – Но не отчаивайтесь. Я располагаю некоторыми ресурсами.
Вильма хочет ответить, что не отчаивается, но молчит. Объяснение было бы слишком сложным. Она не может сказать, что именно чувствует. Точно не отчаяние. И не надежду. Она только хочет увидеть, что будет дальше. Это гораздо лучше, чем ежедневная рутина.
По настоянию Тобиаса они первым делом наполняют ванну Вильмы – делают запас воды. Свою он уже наполнил. Рано или поздно нам отрубят электричество, говорит он, и тогда воды тоже не будет. Это лишь вопрос времени.
Затем он проводит инвентаризацию съестного в шкафах и холодильнике Вильмы. Запасов у нее мало, так как она не готовит ни обедов, ни ужинов. С какой стати ей это делать? Здешние обитатели получают готовый обед и ужин.
– У меня есть изюм в йогуртовой глазури, – говорит Вильма. – Кажется. И банка оливок.
Тобиас презрительно фыркает.
– На этом не проживешь, – говорит он, тряся коробку с какой-то едой и словно делая Вильме выговор. Он сообщает, что вчера в ходе приготовлений нанес визит в магазин на первом этаже и, стараясь не привлекать внимания, купил энергетических батончиков, попкорна в карамели и соленых орешков.
– Какой вы умный! – восклицает Вильма.
Да, соглашается Тобиас. Это было весьма умно. Но этого аварийного пайка им надолго не хватит.
– Я спущусь вниз и обследую кухню, – говорит он. – Прежде чем это придет в голову кому-либо еще. Они наверняка разграбят запасы, устроят давку. Я такое видел.
Вильма хочет пойти с ним – она может прикрыть его от давки, ведь ее никто не сочтет за угрозу. А если им действительно удастся опередить мародерствующую толпу, она унесет найденные припасы в сумочке к себе в квартиру. Но она не предлагает этого, поскольку понимает, что будет лишь путаться у него под ногами: ему хватит дел и без того, чтобы работать при ней поводырем.
Тобиас, кажется, чувствует, что она хочет быть полезной. Он весьма заботливо нашел роль и для нее: она должна оставаться в квартире и слушать новости. Собирать разведданные, как он это назвал.
Когда он уходит, Вильма включает кухонное радио, готовясь собирать разведданные. В новостях не добавляют ничего к тому, что она уже знает: «Наш черед» – это движение, международное, и его цель, судя по всему – уничтожение того, что один из демонстрантов называет «паразитическим сухостоем», а другой – «старой рухлядью».
Власти реагируют слабо или вообще никак. У них полно более важных забот: новые затопления, лесные пожары, вырывающиеся из-под контроля, торнадо – только успевай поворачиваться. Дикторы проигрывают отрывки из заявлений той или иной важной шишки. Обитателям учреждений, ставших объектами атаки, не следует поддаваться панике. Не следует им также убегать и бродить по улицам, где их безопасность никто не может гарантировать. Несколько человек при безрассудной попытке прорваться через блокаду погибли, причем одного толпа просто разорвала руками на части. Обитатели учреждений, подвергшихся блокаде, должны оставаться на месте – ситуацию скоро возьмут под контроль. Возможно, будут высланы вертолеты. Родственникам обитателей не следует самостоятельно вмешиваться в происходящее, поскольку ситуация нестабильна. Следует слушаться полицию, или войска, или спецназ. Тех, у кого громкоговорители. И самое главное, следует помнить, что помощь скоро придет.
В последнем Вильма сомневается, но радио не выключает. За новостями следует панельная дискуссия. Ведущий предлагает участникам первым делом назвать свой возраст и род занятий. Ученый, социолог-антрополог, тридцать пять лет. Инженер-энергетик, сорок два года. Финансист, пятьдесят шесть лет. Они препираются о том, как назвать происходящее: то ли всплеск преступности, атака на само понятие старости, на цивилизацию, на институт семьи. То ли, наоборот, протестующих можно понять, учитывая сложное положение, провокации, и, говоря откровенно, глубокую яму, в которой сидит наше общество в плане как экономики, так и экологии, и из которой нынешние двадцатипятилетние теперь вынуждены выбираться.
Да, в определенных слоях общества накопилось много ярости, и да, весьма печально, что она обратилась против самых уязвимых членов общества, но подобный поворот событий нельзя назвать беспрецедентным. Во многих культурах, объясняет антрополог, пожилые люди уходили с достоинством, чтобы не объедать молодые рты: они удалялись на снежную равнину или их относили на носилках на пустынный горный склон и оставляли там. Но тогда в обществе существовал дефицит материальных ресурсов, возражает экономист. Сейчас пожилые люди, наоборот, создают множество рабочих мест. Да, но они съедают львиную долю средств, выделенных на здравоохранение, большая часть этих денег тратится на людей в последних стадиях… да, это все понятно, но гибнут неповинные… позвольте вас прервать, это зависит от того, что понимать под невиновностью, кое-кто из этих… неужели вы оправдываете… разумеется, нет, но ведь нельзя не признать…
Ведущий объявляет, что начинается прием звонков от радиослушателей.
– Не доверяйте никому моложе шестидесяти лет, – говорит первый звонящий. Все смеются.
Второй звонящий заявляет, что не понимает, как они могут шутить на подобную тему. Пожилые люди упорно работали всю жизнь, десятилетиями платили налоги и, скорее всего, до сих пор платят, и куда смотрит правительство, неужели политики не понимают, что молодые не голосуют? Если правительство не возьмется за ум и не наведет порядок, на следующих выборах оно получит по заслугам. Больше тюрем! Вот что нужно на самом деле.
Третий звонящий начинает с того, что он как раз голосует, но ни черта с этого не получил. Потом он выкрикивает: «Жги рухлядь!»
– Простите, не понял, – говорит ведущий. Человек визжит:
– Вы прекрасно все поняли! Жги рухлядь! Вы меня слышали!
Его отключают. Слышится бодрая музыка.
Вильма выключает радио – на сегодня хватит разведданных.
Пока она шарит в поисках чайных пакетиков – заваривать себе чай очень рискованно, можно обжечься, но она будет осторожна – звонит телефон с большими цифрами. Аппарат старомодный, с трубкой – с мобильником Вильма уже не справляется. Она находит телефон боковым зрением, игнорируя десяток человечков, устроивших себе каток на кухонном рабочем столе, – они облачены в длинные бархатные плащи, подбитые мехом, и серебряные муфты, – и берет трубку.
– Слава богу! – восклицает Элисон. – Я видела, что происходит, по телевизору показали ваше здание, всех этих людей снаружи, перевернутый фургон из прачечной… Я так беспокоилась! Я прямо сейчас прыгаю в самолет и…
– Нет, – говорит Вильма. – Здесь все в порядке. Я в порядке. Все под контролем. Оставайся на…
В трубке воцаряется мертвая тишина.
Значит, эти люди начали перерезать провода. С минуты на минуту отрубят и электричество. Но в «Усадьбе «Амброзия» есть генератор, так что какое-то время они смогут продержаться.
Когда она пьет чай, дверь отворяется, но это не Тобиас – «Брютом» не пахнет. Торопливые шаги, запах соли и мокрой тряпки, рыдания. Вильму заключают в крепкие объятия, от которых у нее растрепывается прическа.
– Они говорят, что я должна уйти! Говорят, что должна! Нам велели уйти из здания, всем работникам, всем отделениям! Нам всем! А не то они…
– Катя, Катя, успокойся, – говорит Вильма. Она отцепляет ее руки одну за другой.
– Но вы мне как мать!
Вильма слишком много знает о Катиной властной матери; это сравнение весьма нелестно, но Катя, конечно, хотела сказать ей приятное.
– Со мной все будет в порядке, – говорит она.
– Но кто будет стелить вам постель, и приносить свежие полотенца, и подметать, что вы разбили, и класть шоколадка вам на подушка каждый вечер…
– Я справлюсь, – говорит Вильма. – А теперь будь хорошей девочкой и не поднимай шум. Скоро пришлют армию. Она наведет порядок.
Это ложь, но Кате следует уйти. Незачем ей оставаться в здании, все больше напоминающем осажденную крепость.
Вильма просит принести ее сумочку и отдает Кате все наличные деньги, какие остались. Пускай хоть кому-нибудь пригодятся; Вильме, похоже, вылазка по магазинам в ближайшее время не светит. Она велит Кате забрать из ванной все куски цветочного мыла, оставив только два на всякий случай.
– Почему в ванне вода? – спрашивает Катя. Хорошо хоть, рыдать перестала. – Это холодная! Я сделаю горячая!
– Не надо ничего делать, оставь. А теперь беги. Вдруг они забаррикадируют двери? Ты же не хочешь опоздать?
После ухода Кати Вильма тащится в дневную часть комнаты, по дороге сбивая что-то с полки (кажется, стакан с карандашами – звук как от деревянных палочек), и падает в кресло. Она собирается оценить свое положение, пересмотреть свою жизнь или что-нибудь в этом роде, но сначала продерется через пару предложений из «Унесенных ветром» на электронной читалке с крупным шрифтом. Она умудряется включить эту штуку и найти место, где читала, – само по себе уже чудо. Может, пора ей учить шрифт Брайля? Возможно, но теперь уже маловероятно.
«Ах, Эшли, Эшли!» – беззвучно воскликнула она, и сердце ее заколотилось еще сильнее…»[43] Идиотка, думает Вильма. Надвигается катастрофа, а ты страдаешь по этому хлюпику. Атланта сгорит. Тару выпотрошат. Все будет сметено могучим ураганом.
И она, сама того не заметив, погружается в сон.
Будит ее Тобиас, осторожно тряся за руку. А вдруг она храпела? А вдруг спала с открытым ртом? Вдруг у нее зубной мост съехал?
– Который час? – спрашивает она.
– Время обеда, – говорит Тобиас.
– Вы нашли еду?
– Я приобрел некоторое количество сухой лапши. И банку фасоли в томате. Но кухня была занята.
– О! – восклицает Вильма. – Кто-то остался? Из кухонной обслуги?
Это была бы весьма утешительная новость; Вильма понимает, что голодна.
– Нет, они все ушли. Это Норин, Джо-Анн и еще несколько человек. Они сварили суп. Соблаговолите пройти со мной.
В столовой, судя по шуму, царит оживление. Все прониклись общим духом, каков бы он ни был. Вильма решает, что, скорее всего, это массовая истерика. Суп, должно быть, носит с кухни кто-то из жильцов, изображая официантов. Что-то падает, разбивается. Слышится смех.
Голос Норин – оглушительный, прямо в ухо Вильме:
– Это что-то, верно? Все засучили рукава и участвуют в общем деле! Весело, как в летнем лагере! А эти небось думают, что мы тут не справимся!
– Ну как вам наш супчик? – это уже Джо-Анн. Вопрос адресован не Вильме, а Тобиасу. – Мы сварили его в котле!
– Он восхитителен, дорогая, – вежливо отвечает Тобиас.
– Мы совершили налет на морозильник! И все, что нашли, пошло в котел! Все, кроме кухонной раковины! Лягушиное бедро и совиное перо! При рожденье, миг спустя, удушённое дитя![44] – Она хихикает.
Вильма пытается понять, что плавает в супе. Кусок колбасы, фасолина, гриб?
– Кухня в чудовищном состоянии, – это опять Норин. – Не знаю, за что мы им деньги платим, этому так называемому обслуживающему персоналу! Похоже, не за уборку! Я видела крысу!
– Ш-ш-ш, – прерывает ее Джо-Анн. – Чего они не знают, от того не страдают!
Обе радостно смеются.
– Меня не напугать простой крысой, – говорит Тобиас. – Я видывал и похуже.
– Но какой ужас, вы знаете, крыло усиленного ухода? Мы пошли посмотреть, не надо ли отнести им супа, но переходная дверь заперта.
– Мы не смогли открыть, – говорит Джо-Анн. – И персонал весь ушел. Это значит…
– Это ужасно, ужасно, – подхватывает Норин.
– Мы ничего не можем сделать, – говорит Тобиас. – Те, кто находится здесь, ничего не могут сделать для тех, других людей. Это не в наших возможностях.
– Но они, должно быть, растеряны и ничего не понимают, – упавшим голосом произносит Норин.
– Ну вот что, – заявляет Джо-Анн. – Как только мы поедим, я считаю, нам нужно набраться духу, построиться в колонну по два и организованно выйти отсюда! А потом мы сообщим властям, и они придут, и откроют двери, и переведут тех несчастных туда, где им следует быть. Вся эта история – чистое безобразие! А что касается этих, в дурацких детских масках…
– Они вас не пропустят, – говорит Тобиас.
– Но мы пойдем все вместе! Там будет пресса. Они не посмеют нас остановить на виду у всего мира!
– Я бы на это не рассчитывал, – говорит Тобиас. – Мир обожает подобные зрелища и с удовольствием будет наблюдать. Сожжение ведьм и публичные повешения всегда происходили при большом скоплении зрителей.
– Теперь вы меня пугаете, – говорит Джо-Анн. Голос у нее не очень испуганный.
– Я сначала прилягу поспать, – говорит Норин. – Наберусь сил. Прежде чем мы выступим колонной. Хорошо уже то, что нам не придется мыть посуду в этой омерзительной кухне – долго мы здесь не пробудем.
Тобиас совершил обход территории. Он говорит, что задние ворота тоже перекрыты, как и следовало ожидать. Остаток дня он проводит у Вильмы, пользуясь ее биноклем. Толпа снаружи у ворот увеличивается. Люди размахивают обычными лозунгами: «Время вышло», «Жги рухлядь», «Пора потесниться».
Никто из них не пытается пройти на территорию – во всяком случае, Тобиас таких попыток не заметил. День сегодня облачный, поэтому видимость хуже обычного. Вечер будет необычно прохладным для этого времени года – произнеся эту фразу, телевизор сдыхает.
Тобиас говорит Вильме, что его мобильник перестал работать. Молодые люди в толпе, хоть они и ленивые коммунисты, весьма сведущи в цифровых технологиях. Они роют подкопы в Интернете, здесь и там, как термиты. Должно быть, раздобыли список обитателей «Амброзии», получили доступ к их учетным записям и отключили связь.
– У них бочки из-под нефти, – говорит он. – В бочках горит огонь. Они жарят сосиски. И, я подозреваю, пьют пиво.
Вильма сама не отказалась бы от сосиски. Она представляет себе, как выходит к толпе и вежливо спрашивает, не могут ли они с ней поделиться. Но она также представляет себе, что они ответят.
Часов в пять жидкая кучка обитателей усадьбы собирается у входной двери. Всего человек пятнадцать, говорит Тобиас. Они строятся в колонну по два, словно на парад; кое-где между двоек затесывается случайная тройка. Толпа снаружи стихает: наблюдает за ними. Кто-то из обитателей «Амброзии» нашел мегафон. Тобиас говорит, что это Джо-Анн. Слышатся приказы, но разобрать слова через стекло невозможно. Колонна медленно, запинаясь, движется вперед.
– Ну что, они уже дошли до ворот? – спрашивает Вильма. Она страшно жалеет, что не видит происходящего. Совсем как футбольный матч в ее студенческие годы! Напряженное ожидание, две команды, мегафоны. Она всегда была зрителем, никогда – игроком, потому что девушкам не полагалось играть в футбол. Их делом было смотреть и ахать. И плохо разбираться в правилах – совсем как Вильма сейчас.
От ожидания и надежды у нее учащается пульс. Если группа Джо-Анн прорвется, остальные обитатели дома смогут организоваться и попробовать так же выйти.
– Да, – говорит Тобиас. – Но что-то случилось. Инцидент.
– Что вы имеете в виду?
– Ничего хорошего. Они возвращаются.
– Они бегут? – спрашивает Вильма.
– Насколько могут. Мы с вами подождем до темноты. И тогда быстро уйдем.
– Но мы же не можем уйти! Они нас не выпустят!
– Мы можем покинуть здание и подождать на территории, – объясняет Тобиас. – Пока они не уйдут. Тогда мы тоже уйдем, и нам никто не помешает.
– Но они не собираются уходить!
– Они уйдут, когда все будет кончено, – говорит Тобиас. – А теперь нам надо поесть. Я открою банку фасоли. Меня всегда приводила в отчаяние неспособность человечества изобрести нормально работающий консервный нож. Конструкция существующих консервных ножей не улучшалась со времен войны.
«Что значит «когда все будет кончено»?» – хочет спросить Вильма. Но молчит.
Вильма готовится к предложенной вылазке. Тобиас сказал, что им придется пробыть снаружи несколько часов, а возможно, и дней; смотря как развернутся события. Вильма надевает кардиган, берет шаль и пачку печенья, а также ювелирную лупу и электронную читалку – все это легкое, нетрудно будет унести. Она беспокоится из-за мелочей; она знает, что это мелочи, но все же – куда она сегодня ночью положит свои зубы? А где взять чистое белье? Тобиас говорит, что много они унести не смогут.
А теперь они пойдут – тихо-тихо, как мышки при лунном свете. Тобиас говорит, что пора. Он ведет ее за руку – вниз по задней лестнице, потом по коридору на кухню, через склад и мимо мусорных контейнеров. Он называет каждую стадию путешествия, чтобы Вильма знала, где они; и останавливается у каждого порога.
– Не беспокойтесь, – говорит он. – Здесь никого нет. Все ушли.
– Но я что-то слышу, – шепчет она, и вправду слышит: шорох, топот лапок. Писк, словно маленькие пронзительные голоски: может, это ее человечки наконец с ней заговорили? Пульс неприятно частит. Чем это пахнет – мерзкий, животный запах, как волосы потного человека, как немытые подмышки?
– Это крысы, – говорит он. – В таких местах всегда есть крысы, но они прячутся. Они знают, когда нет опасности и можно выходить. Я думаю, они умнее нас. Обопритесь на меня, тут ступенька.
Они вышли через задний ход, они уже снаружи. Слышны далекие голоса, скандирование – это, должно быть, толпа у главных ворот. Что они скандируют? «Гори, гори. Место уступи. Время, вперед – пришел наш черед». Зловещий ритм.
Но все это доносится издалека. Здесь, по другую сторону здания, тихо. Воздух свеж, ночь прохладна. Вильма беспокоится, что их увидят, примут за взломщиков или за беглецов из крыла усиленного ухода. Но вокруг совершенно точно никого нет. Никакой охраны с собаками. Тобиас подсвечивает себе фонариком, чтобы ступать уверенней, а значит, лучше поддерживать Вильму. Он то включает фонарик, то выключает.
– Это что, светлячки? – спрашивает Вильма шепотом. Ей хочется думать, что это светлячки; ибо если не они, то что такое эти искры на самом краю ее поля зрения? Они пульсируют, как сигналы; может, это какая-нибудь новая патология нервов, может, ее мозг закоротило, как тостер, брошенный в ванну с водой?
– Много светлячков, – шепчет в ответ Тобиас.
– А куда мы идем?
– Когда дойдем, увидите.
Вильму посещает недостойная, а затем пугающая мысль. Что, если Тобиас все выдумал? Что, если у ворот нет никакой толпы в масках младенцев? Что, если это массовая галлюцинация, как статуи, плачущие кровью, или образ Девы Марии в облаках? Или еще того хуже: что, если это – хитроумный план Тобиаса с целью выманить ее в безлюдное место и там задушить? Что, если он получает удовлетворение, убивая людей?
Но как же радиопередачи? Их легко подделать. А Норин и Джо-Анн, их суповая кухня? Нанятые актрисы. А скандирование, которое слышится прямо сейчас? Запись. Или группа нанятых студентов – заплати им минимальную почасовую ставку, и они что хочешь будут кричать. Для хорошо организованного маньяка с деньгами все это вполне возможно.
Вильма, ты перечитала детективов, говорит она себе. Если бы он хотел тебя убить, давно бы уже убил. И даже если она права, вернуться все равно не сможет – она понятия не имеет, куда идти.
– Пришли, – говорит Тобиас. – Лучшие места, в партере. Здесь нам будет удобно.
Они в одной из беседок – крайней левой. Она расположена по дальнюю сторону декоративного пруда, и если верить Тобиасу, из нее открывается частичный вид на главный вход в «Усадьбу». Он взял с собой бинокль.
– Поешьте арахиса, – предлагает он. Шуршит упаковка, в ладонь Вильмы попадает горсть мелких продолговатых предметов. Как это ободряет! Ее паника постепенно уходит. Сегодня днем Тобиас спрятал в беседке одеяло и два термоса кофе. Теперь он их достает, и они вдвоем принимаются за импровизированный пикник. Вильма вспоминает – как уже вспоминала сегодня – похожее занятие из прошлого, пикники, на которых она бывала с молодыми людьми. Костры. Шкварчащие на них сосиски. Пиво. Из темноты сгущается рука и уверенно, но вместе с тем робко обхватывает ее плечи. Это правда рука или Вильма все придумала?
– Со мной вы в безопасности, дорогая, – говорит Тобиас. Все относительно, думает Вильма.
– Что они теперь делают? – спрашивает она, едва заметно вздрагивая.
– Толпятся кругом. Так всегда бывает, сначала люди толпятся кругом. Потом входят в раж.
Он заботливо кутает ее в одеяло. Вильма видит человечков, мужчин и женщин, одетых в тускло-красный бархат с богатой текстурой и золотым узором; вероятно, они выстроились в цепочку на перилах беседки, которые Вильме не видны. Они чинно прогуливаются, рука об руку, пара за парой: вперед, остановка, поворот, поклон и реверанс, потом опять вперед, вытягивая острые носки золотых туфель. У женщин диадемы, украшенные цветами и крыльями бабочек; у мужчин – митры наподобие епископских. Должно быть, они движутся под слышную только им музыку, вне пределов, доступных человеческому уху.
– Вот, – говорит Тобиас. – Первые языки пламени. У них факелы. Без сомнения, и взрывчатые вещества тоже.
– Но как же все остальные?
– Для остальных я ничего не могу сделать, – говорит Тобиас.
– Но как же Норин! Джо-Анн! Они все еще там, внутри! Они…
Вильма замечает, что с силой сжимает собственные руки. Они кажутся ей чьими-то, чужими.
– Такова жизнь, – говорит он скорбно. Или холодно? Она не может понять.
Ропот толпы растет.
– Они вошли на территорию, – говорит Тобиас. – Они строят баррикаду – заваливают главную дверь. Боковые, наверно, тоже. Чтобы никто не вышел. Ну и не вошел тоже. И заднюю дверь тоже заваливают, они методичны. Они вкатывают в ворота бочки из-под нефти и еще подогнали машину вплотную к дверям, для верности.
– Мне это не нравится, – говорит Вильма.
Внезапный взрыв. О, если бы это были фейерверки.
– Горит, – говорит Тобиас. – Усадьба горит.
Раздается тонкий, пронзительный визг. Вильма зажимает уши, но все равно слышит. Визг продолжается, сначала громкий, но постепенно затихает.
Когда же приедут пожарные машины?! Сирен не слышно.
– Я этого не вынесу, – говорит Вильма. Тобиас поглаживает ее по колену.
– Может быть, они попрыгают из окон, – говорит он.
– Нет, не попрыгают, – говорит Вильма. Она бы не стала прыгать. Просто сдалась бы. И вообще они раньше задохнутся в дыму.
Пламя уже разгорелось. Такое яркое. Вильма видит, даже когда смотрит прямо на него. В пламени, смешиваясь с ним, мерцая, реют в воздухе человечки – красные одеяния сияют изнутри алым, оранжевым, желтым, золотым светом. Человечки, кружась, поднимаются вверх, они торжествуют! Они слетаются вместе, обнимаются и расстаются; это воздушный танец.
Смотри, смотри! Они поют!
Благодарности
Эти девять сказов многое почерпнули из фольклора, слагавшегося веками. Если небольшое произведение в прозе назвать сказом, это по крайней мере частично выводит его из плоскости обыденности, быта. Слово «сказ» приводит на ум народную сказку, волшебство, древних сказителей. При слове «сказ» можно догадаться, что речь идет о вымысле, в то время как «рассказ» может быть отчетом о подлинном происшествии или произведением в духе социального реализма. Сказ – то, что поведал свадебному гостю Старый Моряк у Кольриджа. «Дайте мне медный грошик, и я сплету вам золотой сказ», – говаривал покойный Робертсон Дэвис.
Некоторые из сказов в этом сборнике – сказы о сказах; читатели сами догадаются, какие именно. Три из них были опубликованы раньше.
Титульный сказ, «Каменная подстилка», зародился в канадской Арктике во время круиза «Канадское приключение», в результате моей попытки развлечь спутников. Грэм Гибсон внес солидный вклад – оказалось, что у него уже разработан план, как убить кого-нибудь во время такого круиза и не попасться. Поскольку всем пассажирам не терпелось узнать, чем кончится (особенно заинтересовались многочисленные Бобы), я дописала этот сказ. Он был опубликован в журнале «Нью-Йоркер», в номерах от 19 и 26 декабря 2011 года, за что я благодарю Дебору Трисман, редактора журнала.
«Lusus Naturae» был написан для Майкла Шейбона, который составлял антологию странных повествований: «Заколдованная сокровищница удивительных историй Максуини». Ред. Майкл Шейбон, Vintage Books (2004).
История про Женю с красными зубами была написана мной для журнала The Walrus (летний выпуск 2012 года). Редакция журнала попросила писателей вернуться к персонажам своих ранних произведений, и я выбрала Женю и ее подруг (или жертв) Розу, Коринну и Тони из романа «Невеста-разбойник».
Я, как всегда, благодарна своим редакторам – Эллен Селигман из издательства «Маклелланд и Стюарт» (Канада), Нэн Тализи из издательства «Даблдей» (США) и Александре Прингл из издательства «Блумсбери» (Великобритания). А также редактору Хезер Сэнглер из strongfinish.ca.
Особая благодарность – первым читателям этой книги: Джесс Этвуд Гибсон, Фиби Лармор – моему агенту в Северной Америке; моим агентам в Великобритании – Вивьен Шустер и Каролине Саттон из «Кертис Браун».
Я благодарна Бетси Роббинс и Софи Бейкер из агентства «Кертис-Браун», которые занимаются авторскими правами на мои зарубежные издания. А также Рону Бернстайну из ICM. И еще Луизе Деннис из «Винтедж», ЛуЭнн Уолтер из «Энкор», Ленни Гудингсу из «Вираго» и множеству агентов и издателей по всему миру, работающих с моими книгами. А также Элисон Рич, Эшли Данн, Мэдилайн Фини и Джуди Джейкобс.
Я благодарю своего личного секретаря Сюзанну Портер. А также Сару Уэбстер и Лору Стенберг; Пенни Каванах, В. Дж. Бауэра, Джоэля Рубиновича и Шелдона Шойба. А также Майкла Брэдли, и Сару Купер, и Колин Куинн, и Сяолань Чжао. Университет Восточной Англии – особенно Эндрю Кауана – и Нориджский писательский центр – особенно Криса Гриббла, – где я провела часть семестра в должности приглашенного профессора по программе ЮНЕСКО «Город литературы».
И наконец, мое особое спасибо – Грэму Гибсону, который всегда обладал чрезвычайно затейливым умом.
Примечания
1
Цитата из стихотворения У. Б. Йейтса «Песня скитальца Энгуса» (а также, возможно, аллюзия на одноименный сборник рассказов Рэя Брэдбери). Последняя строфа стихотворения звучит следующим образом:
Я век свой прожил и прошел холмы и долы, свет и тьму, но я пойду за девой вслед, и догоню, и обниму. И будем в травах мы бродить, не ведая ни дней, ни лет, срывая серебро луны и солнца золотой ранет.(Здесь и далее, если не указано иное, перевод стихов выполнен Т. Боровиковой.)
(обратно)2
Стихотворение С. Т. Кольриджа «Кубла-хан» цитируется по переводу К. Бальмонта.
(обратно)3
Шекспир У., «Гамлет», акт III, сцена 4. Цитируется по пер. А. Кронеберга.
(обратно)4
Йейтс У. Б., «Проклятие Адама». Цитируется по пер. Г. Кружкова.
(обратно)5
Теннисон А., «Улисс». Цитируется по пер. К. Бальмонта.
(обратно)6
За неимением лучшего (фр.)
(обратно)7
Из стихотворения У. Б. Йейтса «Плавание в Византию».
(обратно)8
Шекспир У., «Ричард III», акт 4, сцена III.
(обратно)9
Перефразированная цитата из пьесы У. Шекспира «Гамлет», акт III, сцена 1. Цитируется по пер. А. Радловой.
(обратно)10
Аллюзия на Сонет XCIV У. Шекспира.
(обратно)11
Шекспир У., «Гамлет», акт III, сцена 1. Цитируется по пер. Б. Пастернака.
(обратно)12
Шекспир У., «Буря», акт II, сцена 2. Цитируется по пер. М. Цветаевой.
(обратно)13
Шекспир У., «Ричард III», акт I, сцена 2. Цитируется по пер. А. Дружинина.
(обратно)14
Последняя строка стихотворения А. Теннисона «Улисс». Цитируется по пер. Г. Кружкова.
(обратно)15
В оригинале смесь отрывков из стихотворения «Детский час» Г. Лонгфелло и песни на слова Клифтона Бингэма «Старинная сладостная песнь любви». В переводе использованы стихи Мирры Лохвицкой и А. С. Пушкина.
(обратно)16
Шекспир У., «Макбет», акт V, сцена 1. Цитируется по пер. Ю. Корнеева.
(обратно)17
Уолтер Пейтер (1839–1894) – английский эссеист и искусствовед, главный идеолог эстетизма – художественного движения, исповедовавшего девиз «искусство ради искусства» (Оскар Уайльд, Джордж Мур, Обри Бёрдслей). Цитируется его книга «Очерки по истории Ренессанса» (1873), в заключении которой он повторил тезис Китса, что искусство существует ради собственной красоты и не признает ни нравственных категорий, ни утилитарного смысла.
(обратно)18
Плиний Старший. «Естественная история» (Pliny the Elder, «Nat. Hist».), 27.2: Дословно: «Однако не бывает зла без какого-нибудь добра». (Переводчик благодарит Сергея Карпухина за консультации, связанные с латинским языком и поэзией.)
(обратно)19
Латинские слова, означающие разные виды любви: amor – личная приязнь, voluptas – чувственное влечение, caritas – уважение.
(обратно)20
Марциал, 3.43. «Mentiris iuvenem tinctis, Laetine, capillis…»
(обратно)21
Aureo hamo piscari: Suetonius, Life of Augustus, 25: Тех, кто домогается малых выгод ценой больших опасностей, он сравнивал с рыболовом, который удит рыбу на золотой крючок: оторвись крючок, никакая добыча не возместит потери. (Светоний, «Жизнь двенадцати цезарей», «Божественный Август», пер. М. Гаспарова.)
(обратно)22
Марциал, 7.76: «Quod te diripiunt potentiores…»
(обратно)23
Очень вольный перевод эпиграммы Марциала 1:34.
(обратно)24
«Animula, vagula, blandula…» – предсмертное стихотворение римского императора Адриана (76–138), известного, в частности, тем, что в его правление был построен Адрианов вал, перегородивший Британию, и проведена кодификация римского права. Перевод Ф. Петровского.
(обратно)25
Песня (1965) Боба Дилана (род. 1941), лауреата Нобелевской премии по литературе.
В переводе М. Немцова:
Эй, мистер Тамбурин, сыграй-ка для меня Я не сплю, мне больше некуда податься Эй, мистер Тамбурин, сыграй-ка для меня Утро звякнет, за тобой мне собираться пора Хоть вечерняя империя давно ушла в песок А он с ладони стек И я слеп и одинок, стою бессонный Усталость изумительна, тавро на мне горит Безлюдье до зари А в руинах смерть царит и снов – не сонмы Ты меня на борт возьми в волхвов круговорот С меня все страсти рвет, курок под пальцем врет А оттиск стоп истерт, лишь башмаки мои Подвластны странствиям Но я готов идти, исчезнуть тоже я готов Средь пирровых пиров, зачаруй меня – и словно Кану в этом танце я Хоть услышишь: смех кружит безумным солнцем у виска Его цель невелика, ведь он ударился в бега Ну а кроме неба – никаких заборов А если смутный гомон рифм почуешь за собой То под тамбурина бой клоун драный и худой — Не морочься ерундой – он догонит эту тень Еще не скоро И пусть я сгину в дымных кольцах разума с тобой За чертой береговой, вдали от мерзлых крон Обманчивых времен, чьи ветви – как штыки, — Испуганной тоски вертлявый автор Танцевать, маша одной рукой алмазам в небесах У стихии на глазах, вязнуть в цирковых песках А вся память и весь страх пропадают пусть в волнах Да только про сегодня думать буду завтра Эй, мистер Тамбурин, сыграй-ка для меня Я не сплю, мне больше некуда податься Эй, мистер Тамбурин, сыграй-ка для меня Утро звякнет, за тобой мне собираться пора (обратно)26
Игра природы (лат.)
(обратно)27
Чарльз и Рей Имс – американские дизайнеры XX века, муж и жена, внесшие значительный вклад в развитие современной архитектуры, мебельного, промышленного и графического дизайна. Кресло, носящее их фамилию, – их самая известная разработка.
(обратно)28
Движение искусств и ремесел (Arts & Crafts) – английское художественное движение Викторианской эпохи (конец XIX века).
(обратно)29
Название рассказа – переиначенная первая строка известной песни «Мне снилась Дженни с русыми кудрями» (1854 г., стихи и музыка Стивена Фостера).
(обратно)30
Bed and breakfast – вид мини-гостиницы, существующий в разных странах, в которой из услуг для посетителей предлагаются ночлег и завтрак.
(обратно)31
Парафраз цитаты из пьесы У. Шекспира «Антоний и Клеопатра», акт II, сцена 2: «Над ней не властны годы; не прискучит ее разнообразие вовек». Цитируется по пер. М. Донского.
(обратно)32
Отсылка к английскому народному детскому стишку: «Джек пошел гулять на речку, перепрыгнул через свечку».
(обратно)33
Перефразированная цитата из пьесы У. Шекспира «Король Лир»: «Но в этой стороне лежит безумье». Акт III, сцена 4.
(обратно)34
Перефразированная цитата из стихотворения Роберта Фроста «Остановка в лесу снежным вечером»: «И много миль еще до сна». Цитируется по переводу Т. Гутиной.
(обратно)35
Жизненный порыв – согласно французскому философу Анри Бергсону (1859–1941), гипотетическая движущая сила всей творческой эволюции и спонтанного морфогенеза.
(обратно)36
Дан. 5:25-27
(обратно)37
Теннисон А., из поэмы «Улисс».
(обратно)38
Теннисон А., из поэмы «Мод».
(обратно)39
Из стихотворения Дж. Китса «Ода греческой вазе».
(обратно)40
Из книги Т. Гоббса «Левиафан» (1651).
(обратно)41
На самом деле это последняя строка из поэмы Д. Мильтона (1608–1674) «Самсон-борец»
(обратно)42
«Алый первоцвет» (1905) – классический приключенческий роман, написанный британской писательницей венгерского происхождения баронессой Эммой Орци (1865–1947) о британском аристократе и роялисте, действующем на территории Франции во время Большого террора.
(обратно)43
Митчелл Маргарет, «Унесенные ветром», цитируется по переводу Т. Озерской и Т. Кудрявцевой.
(обратно)44
Шекспир У., «Макбет», акт IV, сцена 1. Цитируется по пер. Б. Пастернака.
(обратно)

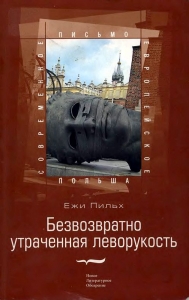



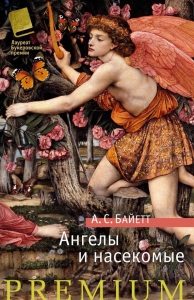

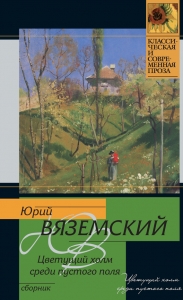


Комментарии к книге «Каменная подстилка», Маргарет Этвуд
Всего 0 комментариев