«…Лила стала ускользать от меня, и мои сведения о ее жизни заметно оскудели. Наши жизни разошлись слишком далеко. Но все же, несмотря на то что мы жили в разных городах, почти не виделись, она ничего не рассказывала мне о себе, а я старалась не спрашивать, тень ее всегда следовала за мной, подгоняла или подавляла, переполняла гордостью или принижала, не давая мне успокоиться ни на миг.
Сейчас, когда я пишу эти строки, ее тень нужна мне, как никогда. Она нужна мне здесь и сейчас, потому я и пишу. Я хотела бы, чтобы она исправила нашу историю, что-то вычеркнула, а что-то добавила, переписала ее на свой вкус и рассказала обо всем, что знала, говорила и думала….»
«Лихорадка Ферранте» протекает примерно так: вы покупаете книгу Элены Ферранте, потому что подруги сказали вам, что ее непременно нужно прочесть. Вы читаете несколько страниц, а когда приходите в сознание, на часах уже четыре утра, и вы гуглите остальные три названия из неаполитанского квартета.
The New YorkerЭлена Ферранте Те, кто уходит, и те, кто остается Моя гениальная подруга Книга третья Молодость
Все события, диалоги и персонажи, представленные в данном романе, являются плодом авторской фантазии. Любое совпадение с реально живущими или жившими людьми, фактами их жизни или местами проживания является совершенной случайностью. Упоминание культурно-исторических реалий служит лишь для создания необходимой атмосферы
Действующие лица и краткое содержание первой и второй книг
Семья сапожника Черулло
Фернандо Черулло, сапожник, отец Лилы. Считает, что для дочери вполне достаточно начального образования
Нунция Черулло, его жена. Любящая мать, Нунция слишком слаба характером, чтобы противостоять мужу и поддерживать дочь
Рафаэлла Черулло (Лина, Лила), родилась в августе 1944 года. Всю жизнь прожила в Неаполе, но в 66 лет бесследно исчезла. Блестяще успевающая ученица, в десять лет написала рассказ «Голубая фея». После начальной школы по настоянию отца бросила учебу и освоила сапожное мастерство. Рано вышла замуж за Стефано Карраччи, успешно управляла колбасной лавкой в новом квартале, затем — обувным магазином на пьяцца Мартири. Во время летнего отдыха на Искье влюбилась в Нино Сарраторе, ради которого ушла от Стефано. Вскоре рассталась с Нино, от которого у нее остался сын, Дженнаро, он же Рино, и вернулась к мужу. Узнав, что Ада Каппуччо ждет от Стефано ребенка, окончательно порвала с ним, вместе с Энцо Сканно перебралась в Сан-Джованни-а-Тедуччо и устроилась работать на колбасный завод, принадлежащий отцу Бруно Соккаво
Рино Черулло, старший брат Лилы, сапожник. Благодаря финансовым вложениям Стефано Карраччи вместе с отцом, Фернандо, открывает обувную фабрику «Черулло». Женат на сестре Стефано, Пинучче Карраччи; у них растет сын Фердинандо, он же Дино. Лила называет своего первенца в честь брата
Другие дети
Семья швейцара Греко
Элена Греко (Ленучча, Лену), родилась в августе 1944 года. Рассказ ведется от ее лица. Элена начинает писать эту историю, когда узнает об исчезновении подруги детства Лины Черулло, которую называет Лилой. После начальной школы Элена успешно продолжает образование в лицее, где вступает в конфликт с преподавателем богословия, оспаривая роль Святого Духа, но благодаря отличной успеваемости и поддержке профессора Галиани этот демарш проходит для нее без последствий. По предложению Нино Сарраторе, в которого она с детства тайно влюблена, и с помощью Лилы Элена пишет об этом эпизоде заметку. Нино обещает напечатать ее в журнале, с которым сотрудничает, но редакция, по его словам, ее не принимает. По окончании лицея Элена поступает в престижную Высшую нормальную школу Пизы, где знакомится с будущим женихом, Пьетро Айротой, и пишет повесть о жизни своего квартала и своем первом сексуальном опыте на Искье
Отец, швейцар в муниципалитете
Мать, домохозяйка. Ходит прихрамывая, что бесконечно раздражает Элену
Пеппе, Джанни, Элиза — младшие дети
Семья Карраччи (дона Акилле)
Дон Акилле Карраччи, сказочный людоед, спекулянт, ростовщик. Погибает насильственной смертью
Мария Карраччи, его жена, мать Стефано, Пинуччи и Альфонсо. Работает в семейной колбасной лавке
Стефано Карраччи, сын покойного дона Акилле, муж Лилы. После смерти отца взял его дела в свои руки и быстро стал успешным коммерсантом. Управляет двумя колбасными лавками, приносящими хороший доход, и вместе с братьями Солара является совладельцем обувного магазина на пьяцца Мартири. Быстро теряет интерес к жене, раздраженный ее непокорным характером, и вступает в связь с Адой Каппуччо. Ада беременеет и, дождавшись переезда Лилы в Сан-Джованни-а-Тедуччо, перебирается жить к Стефано
Пинучча, дочь дона Акилле. Работает сначала в семейной колбасной лавке, затем — в обувном магазине. Замужем за Рино, братом Лилы, с которым воспитывает сына Фердинандо, он же Дино
Альфонсо, сын дона Акилле. Дружил с Эленой, в лицее сидел с ней за одной партой. Помолвлен с Маризой Сарраторе. После окончания лицея становится управляющим обувным магазином на пьяцца Мартири
Семья столяра Пелузо
Альфредо Пелузо, столяр. Коммунист. По обвинению в убийстве дона Акилле приговорен к тюремному заключению, где умирает
Джузеппина Пелузо, его жена. Работает на табачной фабрике, горячо предана мужу и детям. После смерти мужа кончает с собой
Паскуале Пелузо, старший сын Альфредо и Джузеппины. Каменщик, коммунист. Первым заметил красоту Лилы и признался ей в любви. Ненавидит братьев Солара. Помолвлен с Адой Каппуччо
Кармела Пелузо, она же Кармен, сестра Паскуале. Работала продавщицей в галантерее, затем благодаря Лиле получила место в новой колбасной лавке Стефано. Долгое время встречалась с Энцо Сканно, но после службы в армии тот ее без объяснений бросает. После расставания с Энцо обручается с рабочим с автозаправки
Другие дети
Семья сумасшедшей вдовы Каппуччо
Мелина, родственница Нунции Черулло, вдова. Работает уборщицей. Была любовницей Донато Сарраторе, отца Нино, из-за чего семейству Сарраторе пришлось покинуть свой квартал. После этого Мелина окончательно лишилась рассудка
Муж Мелины, при жизни грузчик на овощном рынке, умер при невыясненных обстоятельствах
Ада Каппуччо, дочь Мелины. С малых лет помогала матери мыть подъезды. Благодаря Лиле устроилась продавщицей в колбасную лавку. Встречалась с Паскуале Пелузо, но потом вступила в связь со Стефано Карраччи, забеременела и переехала к нему. У них родилась дочь Мария
Антонио Каппуччо, ее брат, механик. Встречался с Эленой и ревновал ее к Нино Сарраторе. С ужасом ждал призыва в армию, но, узнав о попытке Элены откупить его при помощи братьев Солара, оскорбился и расстался с ней. Во время службы заработал тяжелое нервное расстройство и демобилизовался раньше срока. По возвращении домой из-за крайней нищеты был вынужден подрядиться работать на Микеле Солару, который вскоре зачем-то отправляет его в Германию
Другие дети
Семья железнодорожника-поэта Сарраторе
Донато Сарраторе, контролер, поэт, журналист. Известный бабник, любовник Мелины. Когда Элена проводит каникулы на острове Искья и живет в одном доме с семейством Сарраторе, ей приходится в спешке возвращаться домой, спасаясь от преследований Донато. На следующее лето, узнав, что Лила встречается с Нино, и пытаясь заглушить боль ревности, Элена добровольно отдается ему на пляже. Позднее, спасаясь от навязчивых воспоминаний о пережитом унижении, Элена описывает этот эпизод в своей первой повести
Лидия Сарраторе, жена Донато
Нино Сарраторе, старший из детей Донато и Лидии. Ненавидит и презирает отца. Круглый отличник. Влюбился в Лилу и тайно встречался с ней. Во время их недолгих отношений Лила забеременела
Мариза Сарраторе, сестра Нино. Встречается с Альфонсо Карраччи
Пино, Клелия и Чиро — младшие дети
Семья торговца фруктами Сканно
Никола Сканно, торговец фруктами. Умер от воспаления легких
Ассунта Сканно, его жена. Умерла от рака
Энцо Сканно, их сын, тоже торговец фруктами. Лила с детства относилась к нему с симпатией. Встречался с Кармен Пелузо, но по возвращении из армии бросил ее без видимых причин. Экстерном отучился на курсах и получил диплом техника. После того как Лила окончательно порвала со Стефано, взял на себя заботу о ней и ее сыне Дженнаро, поселившись с ними в Сан-Джованни-а-Тедуччо
Другие дети
Семья владельца бара-кондитерской «Солара»
Сильвио Солара, владелец бара-кондитерской. Придерживается монархистско-фашистских взглядов, связан с мафией и черным рынком. Пытался помешать открытию обувной фабрики «Черулло»
Мануэла Солара, его жена, ростовщица: жители квартала боятся попасть в ее «красную книгу»
Марчелло и Микеле, сыновья Сильвио и Мануэлы. Ведут себя вызывающе, но, несмотря на это, пользуются определенным успехом у девушек. Лила их презирает. Марчелло был в нее влюблен, но она отвергла его ухаживания. Микеле умнее, сдержаннее и жестче старшего брата. Встречается с дочерью кондитера Джильолой, но жаждет заполучить Лилу, и с годами это стремление превращается в одержимость
Семья кондитера Спаньюоло
Синьор Спаньюоло, кондитер у Солары
Роза Спаньюоло, его жена
Джильола Спаньюоло, их дочь, девушка Микеле Солары
Другие дети
Семья профессора Айроты
Айрота, профессор, преподает античную литературу
Аделе, его жена. Работает в миланском издательстве, которому предлагает для публикации написанную Эленой повесть
Мариароза Айрота, их старшая дочь, преподает искусствоведение, живет в Милане
Пьетро Айрота, их младший сын. Знакомится с Эленой в университете. Они обручаются. Все вокруг уверены, что Пьетро ждет блестящая научная карьера
Учителя
Ферраро, учитель и библиотекарь. За усердие в чтении вручил Лиле и Элене по почетной грамоте
Оливьеро, учительница. Первая догадывается о выдающихся способностях Лилы и Элены. Когда десятилетняя Лила пишет рассказ «Голубая фея» и Элена показывает его учительнице, та от огорчения, что девочка по настоянию родителей не будет продолжать учебу, не находит для нее ни слова похвалы, перестает следить за ее успехами и отдает все внимание Элене. Тяжело заболевает и вскоре после того, как Элена оканчивает университет, умирает
Джераче, преподаватель лицея
Галиани, профессор, преподавательница лицея. Блестяще образованна и умна. Состоит в коммунистической партии. Быстро выделяет Элену из массы других учеников, приносит ей книги и защищает от придирок преподавателя богословия. Приглашает ее к себе домой на вечеринку и знакомит со своими детьми. Охлаждение в ее отношении к Элене наступает после того, как Нино ради Лилы бросает ее дочь, Надю
Прочие лица
Джино, сын аптекаря. Первый парень, с которым встречается Элена
Нелла Инкардо, родственница учительницы Оливьеро. Живет в Барано-д’Искья, на лето сдает часть дома семейству Сарраторе. Здесь Элена проводит свои первые каникулы на море
Армандо, сын профессора Галиани, студент медицинского факультета
Надя, дочь профессора Галиани, студентка, в прошлом помолвленная с Нино. Влюбившись в Лилу, Нино с Искьи пишет Наде письмо, в котором объявляет об их разрыве
Бруно Соккаво, друг Нино Сарраторе, сын богатого предпринимателя из Сан-Джованни-а-Тедуччо. Принимает Лилу на работу на семейный колбасный завод
Франко Мари, студент, встречался с Эленой в первые годы ее учебы в университете
Молодость
1
В последний раз я видела Лилу пять лет назад, зимой 2005-го. Ранним утром мы прогуливались вдоль шоссе и, как это случалось все чаще, испытывали взаимную неловкость. Помню, говорила я одна, а она напевала что-то себе под нос и здоровалась с прохожими, которые ей не отвечали. Если изредка она ко мне и обращалась, то с какими-то странными, невпопад и не к месту, восклицаниями. За минувшие годы произошло немало плохого, даже ужасного, и, чтобы снова сблизиться, нам следовало бы во многом признаться друг другу. Но у меня не было сил искать нужные слова, а у нее силы, может, и были, но не было желания — или она не видела в том никакой пользы.
Несмотря ни на что, я очень любила ее и каждый раз, приезжая в Неаполь, старалась с ней повидаться, хотя, по правде говоря, немного боялась этих встреч. Она сильно изменилась. Старость не пощадила нас обеих. Я вела ожесточенную борьбу с лишним весом, а она совсем усохла — кожа да кости. Свои короткие, совершенно седые волосы она стригла сама — не потому, что ей так нравилось, а потому, что было плевать, как она выглядит. Чертами лица она все больше походила на отца. Она нервно, чуть ли не визгливо, смеялась, говорила слишком громко и непрерывно размахивала руками, будто надвое рубила ими дома, улицу, прохожих и меня.
Мы проходили мимо начальной школы, когда нас обогнал незнакомый парень и на бегу крикнул Лиле, что на клумбе возле церкви нашли труп женщины. Мы поспешили в сторону парка, и Лила, работая локтями, втащила меня в толпу зевак, запрудивших всю улицу. Женщина, невероятно толстая, одетая в старомодный темно-зеленый непромокаемый плащ, лежала на боку. Лила узнала ее сразу, а я нет. Это была подруга нашего детства Джильола Спаньюоло, бывшая жена Микеле Солары.
Я не видела ее несколько десятков лет. От ее прежней красоты не осталось и следа: лицо было одутловатым, ноги распухшими. Волосы, некогда каштановые, а теперь выкрашенные в огненно-красный цвет, такие же длинные, как в детстве, но теперь совсем редкие, рассыпались по рыхлой земле. Одна нога была в поношенной туфле на низком каблуке, вторая — в сером шерстяном носке с дырой на большом пальце. Туфля валялась в метре от тела, как будто, перед тем как упасть, Джильола пыталась ногой оттолкнуть от себя боль или страх. Я заплакала, и Лила смерила меня недовольным взглядом.
Мы сели на скамейку неподалеку и стали молча ждать, когда Джильолу унесут. Что с ней случилось, отчего она умерла — мы не имели об этом понятия. Потом мы пошли к Лиле, в старую тесную квартиру ее родителей, где теперь она жила с сыном Рино. Мы вспоминали умершую подругу, и Лила наговорила о ней всяких гадостей, осуждая ее за тщеславие и подлость. Но на сей раз уже мне не удавалось сосредоточиться на ее словах: перед глазами все еще стояло мертвое лицо, разметавшиеся по земле длинные волосы, белесые проплешины на затылке. Сколько наших ровесниц уже ушли из жизни, исчезли с лица земли, унесенные болезнями или горем; их души не выдержали, истерлись о несчастья, как о наждачную бумагу. А сколько умерли насильственной смертью! Мы долго сидели на кухне, не решаясь подняться и убрать со стола, но потом снова вышли на улицу.
Под лучами зимнего солнца наш старый квартал выглядел тихим и спокойным. В отличие от нас он совсем не изменился. Все те же старые серые дома, тот же двор, в котором мы когда-то играли, то же шоссе, уходящее в черную пасть туннеля, и то же насилие — все здесь осталось прежним. Зато пейзаж вокруг стало не узнать. Исчезли подернутые зеленоватой ряской пруды, исчезла консервная фабрика. На их месте символом лучезарного будущего, которое вот-вот наступит и в которое на самом деле никто никогда не верил, возвышались стеклянные небоскребы. За этими переменами я наблюдала издалека — изредка с любопытством, чаще с безразличием. В детстве мне казалось, что Неаполь за пределами нашего квартала полон чудес. Помню, как много десятков лет назад меня поразило строительство небоскреба на площади возле центрального вокзала, — он постепенно, этаж за этажом, рос у нас на глазах и по сравнению с нашей железнодорожной станцией казался мне громадой. Каждый раз, проходя по пьяцца Гарибальди, я восхищенно ахала и восклицала: «Нет, вы только посмотрите, вот это высота!» — обращаясь к Лиле, Кармен, Паскуале, Аде или Антонио, моим друзьям тех времен, когда мы вместе ходили к морю или прогуливались неподалеку от богатых кварталов. Наверное, там, на самом верху, откуда открывается вид на весь город, живут ангелы, говорила я себе. Как мне хотелось подняться туда, на вершину. Это был наш небоскреб, хоть и стоял он за пределами квартала. Потом стройку заморозили. Позднее, когда я уже училась в Пизе и возвращалась домой только на каникулы, мне наконец перестал мерещиться в нем символ общественного обновления; я поняла, что это всего лишь очередная убыточная стройка.
В те годы я начала осознавать, что остальной Неаполь не слишком отличается от нашего квартала: повсюду, расползаясь все шире, царила одна и та же бедность. Возвращаясь домой, я каждый раз с удивлением обнаруживала, что еще что-то пришло в упадок: город буквально крошился, будто слепленный из песочного теста, он не выдерживал смены времен года, жары, холода и особенно гроз. То наводнением затопило вокзал на пьяцца Гарибальди, то обрушилась Галерея напротив Археологического музея, то случился оползень и в большинстве районов отключили электричество. В памяти остались полные опасностей темные улицы, все более беспорядочное движение на дорогах, разбитые мостовые, огромные лужи. Канализационные трубы не справлялись с нагрузкой, и на улицы выплескивались потоки воды с нечистотами и мусором, кишащие всеми мыслимыми и немыслимыми паразитами, с холмов, застроенных хлипкими дешевыми многоэтажками, они стекали в море или уходили в почву, размывая нижнюю часть города. Люди умирали от антисанитарии, коррупции и произвола, но продолжали послушно голосовать за политиков, превративших их жизнь в кошмар. Сойдя с поезда, я ловила себя на мысли, что с опаской передвигаюсь по тем местам, где выросла, и стараюсь изъясняться исключительно на диалекте, как бы давая окружающим понять: «Я своя, не причиняйте мне зла!»
Когда я закончила учебу и написала повесть, которая неожиданно для меня через несколько месяцев стала книгой, во мне окрепло убеждение, что породивший меня мир катится в пропасть. В Пизе и Милане мне было хорошо, временами я бывала там даже счастлива, зато каждый приезд в родной город оборачивался пыткой. Меня не покидал страх, что случится что-нибудь такое, из-за чего я навсегда застряну здесь и потеряю все, чего успела добиться. Я боялась, что больше не увижусь с Пьетро, за которого собиралась замуж, что больше никогда не попаду в чудный мир издательства и не встречусь с прекрасной Аделе — моей будущей свекровью, матерью, какой у меня никогда не было. Я и раньше всегда находила Неаполь слишком плотно населенным: от пьяцца Гарибальди до виа Форчелла, Дукеска, Лавинайо и Реттифило постоянно было не протолкнуться. В конце 1960-х улицы, как мне казалось, сделались еще многолюднее, а прохожие — еще грубее и агрессивнее. Однажды утром я решила пройтись до виа Меццоканноне, где когда-то работала продавщицей в книжном магазине. Мне хотелось взглянуть на место, где я вкалывала за гроши, а главное — посмотреть на университет, учиться в котором мне так и не довелось, и сравнить его с пизанской Высшей нормальной школой. Может, думала я, случайно столкнусь с Армандо и Надей — детьми профессора Галиани, — и у меня будет повод похвастаться своими достижениями. Но то, что я увидела в университете, наполнило меня чувством, близким к ужасу. Студенты, толпившиеся во дворе и сновавшие по коридорам, были уроженцами Неаполя, его окрестностей или других южных областей, одни — хорошо одетые, шумные и самоуверенные, другие — неотесанные и забитые. Тесные аудитории, возле деканата — длиннющая скандалящая очередь. Трое или четверо парней сцепились прямо у меня на глазах, ни с того ни с сего, будто им для драки не нужен был даже повод: просто посмотрели друг на друга — и посыпались взаимные оскорбления и затрещины; ненависть, доходящая до жажды крови, изливалась из них на диалекте, который даже я понимала не до конца. Я поспешила уйти, словно почувствовала угрозу — и это в месте, которое, по моим представлениям, должно было быть совершенно безопасным, потому что там обитало только добро.
Короче говоря, ситуация ухудшалась с каждым годом. Во время затяжных ливней почву в городе так размыло, что рухнул целый дом — повалился на бок, как человек, опершийся на прогнивший подлокотник кресла. Было много погибших и раненых. Казалось, город вынашивал в своих недрах злобу, которая никак не могла вырваться наружу и разъедала его изнутри или вспучивалась на поверхности ядовитыми фурункулами, отравляя детей, взрослых, стариков, жителей соседних городов, американцев с базы НАТО, туристов всех национальностей и самих неаполитанцев. Как можно было уцелеть здесь, посреди опасностей и беспорядков — на окраине или в центре, на холмах или у подножия Везувия? Сан-Джованни-а-Тедуччо и дорога туда произвели на меня страшное впечатление. Мне стало жутко от зрелища завода, где работала Лила, да и от самой Лилы, новой Лилы, которая жила в нищете с маленьким ребенком и делила кров с Энцо, хотя и не спала с ним. Она рассказала мне тогда, что Энцо интересуется компьютерами и изучает их, а она ему помогает. В памяти сохранился ее голос, силившийся перекричать и перечеркнуть собой Сан-Джованни, колбасы, заводскую вонь, условия, в которых она жила и работала. С наигранной небрежностью, словно между делом, она упоминала государственный кибернетический центр в Милане, говорила о том, что в Советском Союзе уже используют ЭВМ для исследований в общественных науках, и уверяла, что скоро то же самое будет и в Неаполе. «В Милане — пожалуй, — думала я, — а уж в Советском Союзе и подавно, но здесь никаких центров точно не будет. Это все твои сумасшедшие выдумки, ты вечно носилась с чем-нибудь таким, а теперь еще втягиваешь в это несчастного влюбленного Энцо. Тебе надо не фантазировать, а бежать отсюда. Навсегда, подальше от этой жизни, которой мы жили с детства. Осесть в каком-нибудь приличном месте, где и вправду возможна нормальная жизнь». Я верила в это, потому и сбежала. К сожалению, десятилетия спустя мне пришлось признать, что я ошибалась: бежать было некуда. Все это были звенья одной цепи, различавшиеся разве что размерами: наш квартал — наш город — Италия — Европа — наша планета. Теперь-то я понимаю, что болен был не наш квартал и не Неаполь, а весь земной шар, вся Вселенная, все вселенные, сколько ни есть их на свете. И сделать тут ничего нельзя, разве что только упрятать голову поглубже в песок.
Все это я высказала Лиле тем зимним вечером 2005 года. Моя речь звучала пафосно, но в то же время виновато. До меня наконец дошло то, что она поняла еще в детстве, не покидая Неаполя. Следовало ей в этом сознаться, но мне было стыдно: не хотелось выглядеть перед ней озлобленной ворчливой старухой — я знала, что она не выносит нытиков. Она кривовато усмехнулась, показав стесанные с годами зубы, и сказала:
— Ладно, хватит о пустяках. Что ты задумала? Собралась писать о нас? Обо мне?
— Нет.
— Не ври.
— Если б и захотела, это слишком сложно.
— Но ты об этом думала. Да и сейчас думаешь.
— Бывает.
— Брось эту затею, Лену. Оставь меня в покое. Всех нас оставь. Мы должны бесследно исчезнуть, ничего другого мы не заслуживаем: ни Джильола, ни я, никто.
— Неправда.
Она недовольно скривилась, впилась в меня взглядом и сквозь зубы процедила:
— Ну ладно, раз тебе невмоготу, пиши. О Джильоле можешь писать что хочешь. А обо мне не смей! Дай слово, что не будешь!
— Я ни о ком ничего писать не собираюсь. В том числе о тебе.
— Смотри, я проверю.
— Да ну?
— Запросто! Взломаю твой компьютер, найду файл, прочитаю и сотру.
— Да ладно тебе.
— Думаешь, не сумею?
— Сумеешь, сумеешь. Не сомневаюсь. Но и я умею защищаться.
— Только не от меня, — зловеще, как раньше, рассмеялась она.
2
Я никогда не забуду эти слова — последние, которые я слышала от нее. «Только не от меня». Вот уже несколько недель я самозабвенно пишу, не отвлекаясь на то, чтобы перечитать написанное. «Если Лила жива, — мечтательно думаю я, попивая кофе и глядя, как волны реки По разбиваются об опоры моста Принцессы Изабеллы, — она точно не сдержится. Эта старая психопатка влезет в мой компьютер, прочтет текст, разозлится, что я ее не послушала, начнет его исправлять и дописывать и больше не вспомнит о том, что хотела исчезнуть». Ополаскиваю чашку, возвращаюсь за стол и пишу дальше — про ту холодную миланскую весну, про тот день в книжном магазине больше чем сорокалетней давности, когда мужчина в очках с толстыми стеклами при всех распекал меня и мою книгу, а я, дрожа и смущаясь, пыталась хоть что-то пролепетать в свое оправдание. А потом внезапно поднялся заросший растрепанной черной бородой Нино Сарраторе, которого я не сразу узнала, и, не стесняясь в выражениях, поставил моего обидчика на место. Как долго я не видела его: года четыре, может, пять? Помню, я похолодела от волнения, но мне казалось, я вся горю.
Как только Нино договорил, мужчина сдержанным жестом попросил ответного слова. Ясно было, что он обиделся, но я была слишком взволнована, чтобы догадаться, что именно его оскорбило. Разумеется, я понимала, что выступление Нино — резкое, на грани грубости — увело спор из литературной области в политику. И все же в тот момент я не придала этому особого значения: я корила себя за то, что не смогла сдержать удар и выставила себя перед ученой публикой полной бестолочью. Вообще-то я умела за себя постоять! Когда-то в лицее, чтобы быть не хуже других, я подражала профессору Галиани, заимствовала ее интонацию и выражения. В Пизе, чтобы выстоять против враждебно настроенных сокурсников, этого багажа оказалось недостаточно. Франко, Пьетро и другие блестящие студенты изъяснялись цветисто, писали с нарочитой сложностью, а в споре щеголяли безупречно выстроенной аргументацией — ничем подобным Галиани никогда не занималась. Но и там я научилась вести себя, как все. У меня получалось, и я поверила, что наконец овладела словом до такой степени, чтобы в любых обстоятельствах не поддаваться эмоциям, сохранять самообладание и здравомыслие. При помощи изящных, взвешенных и пространных рассуждений я завораживала слушателей, отбивая у них всякое желание мне возражать. Но в тот вечер все пошло не так. Сначала Аделе и ее друзья с их хвалебными речами, потом этот мужчина в очках с толстыми стеклами… Я разнервничалась, снова почувствовала себя девчонкой-зубрилой с южным диалектом, выскочкой из нищего квартала, дочерью швейцара, непостижимым образом попавшей в культурное общество и возомнившей себя молодым дарованием. Вся моя вера в себя испарилась, а с ней и все мое красноречие. А тут еще Нино! С его появлением я окончательно потеряла контроль над собой и, пока слушала его прекрасное выступление в мою защиту, забыла и то, что умела. Выходцы из одной среды, мы оба много трудились, чтобы научиться складно говорить. Нино виртуозно владел литературным итальянским, с легкостью обращая его против своего оппонента, но, когда считал нужным, намеренно отказывался от изысканных оборотов и позволял себе игривую небрежность, на фоне которой профессорская речь мужчины в очках с толстыми стеклами казалась старомодной и оттого нелепой. Я увидела, что мужчина собирается ответить, и очень испугалась: если он и раньше ругал мою книгу, что же он скажет теперь, когда его разозлили?!
Вопреки всем опасениям, мой обидчик забыл про повесть и заговорил совсем о другом. Он прицепился к некоторым выражениям, которые Нино употреблял как бы невзначай, но повторял их снова и снова: «высокомерие аристократов», «антиавторитарная литература». Я поняла, что нашего оппонента задела именно политическая сторона спора. Ему не нравились эти слова, и, воспроизводя их, он с глубокого баса неожиданно срывался на саркастический фальцет («значит, гордость за свои знания сегодня называется высокомерием аристократа, а литература с каких-то пор превратилась в антиавторитарную?»). Он попытался обыграть термин «авторитаризм»: «Нужно благодарить Бога, — сказал он, — за эту преграду, за стену, защищающую нас от дурно воспитанной молодежи, болтающей невесть что и повторяющей глупости, исходящие от врагов государства». Он долго говорил на эту тему, обращаясь исключительно к публике, а не к Нино и не ко мне. В конце речи он посмотрел сначала на пожилого критика, сидевшего рядом со мной, а потом на Аделе — возможно, его единственного в тот вечер подлинного адресата. «Я ничего не имею против молодежи, — заключил он, — я против взрослых ученых, которые в своих интересах готовы поддержать любую модную глупость». На этом он наконец умолк и начал пробираться к выходу, негромко, но четко выговаривая: «Извините», «Позвольте», «Благодарю».
Зрители вставали с мест, чтобы дать ему пройти, глядя на него недовольно, но в то же время почтительно. Только тогда мне стало ясно, что это был влиятельный человек, настолько влиятельный, что даже Аделе на его хмурое прощание вежливо ответила: «Спасибо, до свидания!» Каково же было всеобщее изумление, когда Нино с вызывающей издевкой в голосе окликнул его, назвав «профессором» и тем самым показав, что знает, с кем имеет дело: «Эй, профессор, куда же вы? Не убегайте!» Он резво кинулся ему наперерез на своих длинных ногах, встал лицом к лицу и произнес несколько слов, которые я со своего места плохо расслышала и не совсем поняла, но которые, должно быть, жгли, как стальной прут под палящим солнцем. Мужчина выслушал Нино с каменным лицом, после чего жестом попросил его уйти с дороги и направился к выходу.
3
Я поднялась с места, не понимая, что происходит: мне не верилось, что Нино действительно здесь, в Милане, в этом зале. А между тем он не торопясь, с улыбкой на лице, шел в мою сторону. Мы пожали друг другу руки: его была горячей-горячей, моя — ледяной; обменялись дежурными фразами о том, как рады видеть друг друга после стольких лет. Тут до меня стало доходить, что самая страшная часть вечера позади, и настроение у меня немного поднялось, хотя волнение не совсем улеглось. Я познакомила Нино с критиком, который великодушно похвалил мою книгу, представив его как старого друга, с которым училась в лицее в Неаполе. Несмотря на то что и ему досталось от Нино, тот был любезен, благожелательно отозвался о его выступлении против «профессора» и одобрительно закивал, услышав о Неаполе, — в общем, вел себя с ним как с образцовым студентом, стараясь его поддержать. Нино рассказал, что уже несколько лет живет в Милане, изучает экономическую географию и принадлежит (тут он улыбнулся) к низшей ступени академического сообщества — иначе говоря, занимает должность ассистента. Говорил он с улыбкой и не злился, как раньше, на весь мир — будто скинул с себя тяжелые доспехи, в школьные годы вызывавшие мое восхищение, и предпочел облачение поизящнее, в котором легче побеждать. Я не без радости отметила, что у него нет обручального кольца.
Тем временем ко мне подошла одна из подруг Аделе с просьбой подписать книгу: это был мой первый автограф, и меня охватило сильное возбуждение. Мне не хотелось упустить Нино, но в то же время я понимала, что и без того выставила себя в его глазах забитой дурочкой — не усугублять же ситуацию. Поэтому я оставила его с пожилым профессором Тарратано и увлеченно занялась своими читательницами. Я надеялась быстро освободиться, но не тут-то было: книжки были новехонькие и так приятно пахли типографской краской (не чета вонючим обтрепанным томикам, которые мы с Лилой брали в муниципальной библиотеке), что я боялась в спешке испортить их своей подписью. В итоге я подолгу раздумывала над посвящениями и выводила буковки идеальным почерком, каким не писала со времен школьных прописей, так медленно, что читательницы, выстроившиеся в очередь за автографом, начали проявлять нетерпение. Я старалась писать от всего сердца, а сердце колотилось в страхе, что Нино вот-вот уйдет.
Но он не уходил. К ним с Тарратано присоединилась Аделе, и Нино уважительно, но абсолютно свободно беседовал с ней. Я смотрела на этого молодого мужчину и видела все того же блестящего лицеиста, когда-то точно так же беседовавшего с профессором Галиани в коридоре. Куда труднее — и болезненнее — было сознавать, что передо мной студент, с которым мы гуляли на Искье, любовник моей замужней подруги, прятавшийся в туалете магазина на пьяцца Мартири, и отец Дженнаро — мальчика, которого он даже ни разу не видел. Конечно, история с Лилой тогда выбила его из колеи, но, как я ясно видела теперь, ненадолго. Как бы сильно он ее ни любил, какой бы глубокий след она ни оставила в его сердце, — все осталось в прошлом. Нино снова стал собой, и я была этому рада. И хотя первой у меня мелькнула мысль: «Надо рассказать Лиле, что я его видела и у него все хорошо», следом за ней явилась другая: «Нет, не буду ей ничего говорить!»
Когда я закончила с посвящениями, зал опустел. Аделе с нежностью взяла меня за руку, похвалила за то, как я рассказывала о книге и как ответила на «отвратительный выпад» — именно так она выразилась — мужчины в очках с толстыми стеклами. Я прекрасно понимала, что это неправда, и стала отмахиваться, но она обратилась к Нино и Тарратано за подтверждением ее слов: разумеется, оба рассыпались передо мной в комплиментах. Нино, серьезно глядя на меня, еще и добавил: «Это вы ее в лицее не видели! Эта девушка уже тогда поражала умом, начитанностью, смелостью и красотой!» Я залилась краской, а он начал весело рассказывать о моей стычке с преподавателем богословия. Аделе засмеялась и сказала: «Мы всей семьей сразу заметили таланты Элены». Потом она объявила, что заказала для нас столик в заведении неподалеку. Я смущенно забормотала, что устала и не хочу есть, а поскольку мы с Нино давно не виделись, с радостью немного прогулялась бы с ним перед сном. Я знала, что с моей стороны это невежливо, ведь ужин устраивали специально в мою честь, ну и в благодарность Тарратано за поддержку моей книги, но не смогла сдержаться. Аделе посмотрела на меня, хитро улыбнулась и сказала, что мой друг тоже приглашен. «А еще, — заговорщически, будто пытаясь компенсировать причиненное неудобство, произнесла она, — у меня есть для тебя приятный сюрприз». Я с тревогой посмотрела на Нино: вдруг он откажется. Он сказал, что не хочет быть лишним, но потом взглянул на часы и согласился пойти с нами.
4
Мы вышли из книжного магазина. Аделе тактично увела Тарратано вперед, мы с Нино шагали следом. Вскоре я поняла, что не знаю, о чем с ним говорить, и боюсь ляпнуть что-нибудь не то. Сам он не молчал: еще раз похвалил мою книгу, с большой симпатией отозвался об Айрота, назвав их «самой культурной из влиятельных семей Италии», поздравил меня с предстоящим замужеством (Аделе ему рассказала) и удивил, сообщив, что читал книгу Пьетро о вакхических ритуалах. Но с особым уважением он говорил о главе семьи, профессоре Гвидо Айроте, по его мнению, «человеке исключительном». Меня немного расстроило, что он уже знает о моей скорой свадьбе, а все восторги по поводу моей повести служили ему лишь предисловием к гораздо более многословному восхвалению семьи Пьетро и его книги. Я перебила его, спросив, чем он занимается, но он ответил расплывчато, упомянув только, что скоро у него выходит небольшая книжка, скорее скучная, не написать которую он не мог. Я поинтересовалась, трудно ли ему пришлось в первое время в Милане. Он коротко подтвердил, что проблем было много, так как с юга он приехал без гроша в кармане.
— Так ты что, вернулась в Неаполь? — вдруг спросил он.
— Пока да.
— В наш квартал?
— Да.
— А я окончательно порвал с отцом. И ни с кем из родных давно не вижусь.
— Жаль.
— Так лучше. Плохо только, что ничего не слыхать о Лине.
На миг мне показалось, что я ошиблась, что Лила не исчезала из его жизни и что в книжный он пришел не ради меня, а ради того, чтобы узнать о ней. Но потом я сказала себе: «Если бы он действительно хотел узнать что-то о Лиле, нашел бы способ — за столько-то лет». Торопливо, желая подчеркнуть, что тема закрыта, я сказала:
— Она бросила мужа и теперь живет с другим.
— Кто у нее родился, мальчик или девочка?
— Мальчик.
Он недовольно скривился и сказал:
— Лина смелая, даже чересчур. Но она совершенно не умеет мириться с реальностью. Она не способна принимать других такими, какие они есть. Да и себя тоже. Любить ее слишком тяжело.
— В каком смысле?
— Она не знает, что такое преданность.
— А ты не преувеличиваешь?
— Нет, она действительно как-то неправильно устроена: и мозг, и все остальное. Даже в сексе.
Это «даже в сексе» поразило меня больше всего. Значит, Нино был не так уж счастлив с Лилой? В том числе и в постели, в чем он, вогнав меня в смущение, только что сам признался? Я взглянула на темные силуэты Аделе и ее друга. Смущение переросло в тревогу: я чувствовала, что это «даже в сексе» было только вступлением к еще более откровенному разговору. Как-то раз, много лет назад, со мной вскоре после свадьбы разоткровенничался Стефано: он рассказывал о проблемах с Лилой, но ни словом не упоминал о сексе, — и ни один мужчина квартала не стал бы делиться с посторонними женщинами такими подробностями. Невозможно даже представить себе, чтобы Паскуале заговорил со мной о сексуальности Ады или чтобы Антонио стал обсуждать с Кармен или Джильолой мою сексуальность. Мужчины говорили об этом исключительно между собой, позволяя себе страшные непристойности — особенно если влюбленность в предмет беседы осталась в прошлом, — но чтобы мужчина затронул эту тему в разговоре с женщиной, такого не бывало. Но Нино — новый Нино — не видел ничего странного в том, чтобы обсуждать со мной половые отношения с моей подругой. Я окончательно растерялась. «Об этом я тоже никогда не расскажу Лиле», — думала я. «Что было, то прошло, — ответила я Нино с напускной легкостью, — не будем о грустном. Вернемся к тебе: над чем ты сейчас работаешь? Какие перспективы в университете? Где живешь? Ты один?» Я буквально засыпала его вопросами, — он, должно быть, сразу меня раскусил, иронично улыбнулся и начал было отвечать, но мы как раз дошли до ресторана.
5
Аделе рассадила нас за столом: меня рядом с Нино, напротив Тарратано; сама она села рядом с Тарратано напротив Нино. Мы сделали заказ и заговорили о мужчине в очках с толстыми стеклами. Это был профессор итальянской литературы, постоянный сотрудник «Коррьере делла сера», христианский демократ. На сей раз Аделе и ее друг не стали сдерживаться. За пределами книжного магазина они забыли об ограничениях, накладываемых этикетом, и принялись поносить этого человека и расхваливать Нино, который выступил против него и разбил его наголову. Особенно им понравилась фраза, брошенная ему Нино на пороге; в отличие от меня они отлично ее расслышали. Они попросили Нино в точности вспомнить, что он ему сказал; тот сначала отнекивался, утверждая, что уже не помнит, но в конце концов — то ли воспроизведя свои слова, то ли сложив их заново, — все-таки произнес нечто вроде: «В своем стремлении защитить власть вы готовы пожертвовать демократией». С этого момента они, все больше увлекаясь, разговаривали втроем, обсуждая секретные службы, Грецию, пытки, которым подвергались заключенные в этой стране, Вьетнам, неожиданную вспышку студенческих волнений не только в Италии, но и во всей Европе и во всем мире, и опубликованную в «Понте» статью профессора Айроты об условиях обучения в университетах, под каждым словом которой Нино, по его словам, готов был подписаться.
— Я скажу дочери, что вы на его стороне, — сказала Аделе, — а то Мариароза была против.
— Мариароза увлечена тем, чему в нашем мире не бывать.
— Верно замечено! Именно так!
Я ничего не знала о статье будущего свекра. Мне было очень неловко сидеть и молча их слушать. Сначала экзамены, потом диплом, потом книга и поездка в издательство — ни на что другое времени у меня не оставалось. О том, что происходило вокруг, я имела весьма поверхностное представление: слышала краем уха о студенческих манифестациях, столкновениях с полицией, раненых и арестованных, но не придавала этому значения. Университет я уже окончила, беспорядков не застала, и знала о них в основном из сетований Пьетро, называвшего эти события не иначе как «пизанским безумием». В общем, все это в моем представлении имело очертания довольно расплывчатые, зато для остальных моих сотрапезников картина была яснее ясного, особенно для Нино. Он сидел рядом, мой рукав чуть касался его рукава, и от этого прикосновения меня охватывал трепет. Он все так же любил цифры: приводил данные о растущем числе студентов, реальной вместимости зданий, о том, сколько часов руководство университетов, вместо того чтобы заниматься наукой и преподаванием, просиживает в парламенте и советах директоров или дает дорогостоящие консультации и проводит частные исследования. Аделе согласно кивала, ее друг тоже, иногда они что-то дополняли, упоминая людей, имена которых ни о чем мне не говорили. Я чувствовала себя лишней. Моя книга больше никого не интересовала, а свекровь, казалось, забыла об обещанном сюрпризе. Я шепнула, что на минутку выйду; Аделе, не глядя в мою сторону, кивнула, Нино продолжил увлеченно говорить. Тарратано, очевидно заметив, что я заскучала, тихо сказал:
— Возвращайтесь поскорее. Мне очень хочется услышать ваше мнение.
— У меня нет своего мнения, — ответила я, улыбнувшись.
— У писательницы оно всегда найдется, — улыбнулся он в ответ.
— Может, я и не писательница вовсе.
— Да вы что? Писательница, и очень хорошая.
Я пошла в туалет. Как всегда, мне было достаточно услышать Нино, чтобы понять, как сильно я отстала. «Надо исправляться, — думала я. — Как только я могла докатиться до такого?» Конечно, я могла поиграть словами, сделав вид, что интересуюсь этим вопросом и хоть сколько-то в нем разбираюсь. Но дальше так нельзя: я выучила слишком много бесполезного и слишком мало нужного. Стоило мне расстаться с Франко, как я тут же потеряла даже тот малый интерес к окружающей действительности, который он успел мне привить. Отношения с Пьетро в этом плане ничего не меняли: его эти проблемы совершенно не интересовали. Насколько же все-таки Пьетро отличался от своего отца, от сестры и матери. А особенно — от Нино. С Пьетро я бы никогда не написала свою повесть, которую он до сих пор и в руки-то взять побаивается, — как же, такое нарушение академического канона. Или я преувеличиваю? Может, я сама во всем виновата? Виновата моя ограниченность? Если я за что-то берусь, то концентрируюсь на чем-то одном, а об остальном напрочь забываю. Но довольно, теперь все будет по-другому. Скорее бы закончился этот скучный вечер! Я утащу Нино с собой, мы будем гулять всю ночь, и я спрошу его, какие книги надо прочитать. Какие фильмы посмотреть, какую музыку послушать. А потом возьму его под руку и скажу, что мне холодно… Бессвязные мысли, обрывочные мечты — за ними я прятала свое волнение. На самом деле я думала об одном: «Быть может, это мой единственный шанс… Вдруг завтра он уедет и больше я его никогда не увижу».
Я со злостью посмотрела на себя в зеркало. Лицо было уставшее, на лбу — прыщи, под глазами — синяки, предвестники месячных. «Я уродина, коротышка, и грудь у меня слишком большая. Давно пора признать, что я никогда ему не нравилась. Не случайно же он выбрал Лилу». Выбрал — и что с того? «Она действительно как-то неправильно устроена, даже в сексе», — сказал он. Зря я свернула разговор. Надо было проявить интерес, дать ему развить мысль. Если он вернется к этой теме, я рискну. Усмехнусь и спрошу: «Что значит „неправильно устроена в сексе“? Расскажи, а то вдруг мне тоже нужно исправиться?» Я с отвращением вспомнила то, что произошло между мной и его отцом на пляже Маронти. Вспомнила секс с Франко на его узкой кровати в студенческой комнатке в Пизе. Вдруг я тоже что-то делала не так, и он это заметил, но тактично промолчал? А вдруг сегодня вечером я окажусь в постели с Нино, снова окажусь не на высоте, он подумает: «Эта тоже неправильно устроена, не лучше Лины» — и станет обсуждать меня со своими подружками из университета, а то и с Мариарозой?
Я понимала, что он сказал гадость, и знала, что не должна была ему этого спускать. «От этого неправильного секса, — должна была сказать я, — того самого, о котором ты сейчас говоришь такое, родился твой сын, малыш Дженнаро, очень умный мальчик. Как ты можешь так рассуждать? И вообще, кому судить, кто правильно устроен, а кто неправильно. Лила ради тебя поломала свою жизнь!» Я решила: как только избавлюсь от Аделе с другом и Нино пойдет провожать меня в гостиницу, сама вернусь к тому разговору и все ему выскажу.
Я вернулась в зал и обнаружила, что за время моего отсутствия произошли кое-какие перемены. Свекровь увидела меня, замахала мне рукой и весело крикнула: «А вот и сюрприз! Прибыл наконец-то!» Сюрпризом оказался Пьетро: он сидел с ней рядом.
6
Мой жених подскочил ко мне и заключил меня в объятия. Я никогда ничего не рассказывала ему про Нино. Мельком упоминала Антонио, намекала на отношения с Франко, о которых, впрочем, в нашей студенческой среде и так все знали. Но имени Нино я даже не называла. Это была моя больная тема, и мысли о ней причиняли мне грусть и стыд. Говорить о нем значило признать, что я всегда любила только его, любила так, как никогда не полюблю Пьетро. К тому же для полноты картины пришлось бы рассказать о Лиле, об Искье, а то и о том, что эпизод секса со зрелым мужчиной из моей книги — описание реального опыта на Маронти, следствие решения, которое приняла тогда убитая горем девчонка и которое теперь, по прошествии лет, казалось ей такой мерзостью. В общем, лучше было держать свои тайны при себе. Зато, если бы Пьетро все знал, он сразу догадался бы, почему я совсем не обрадовалась, увидев его.
Он сидел во главе стола, между матерью и Нино, жадно ел бифштекс, пил вино, но в то же время с тревогой поглядывал на меня, понимая, что настроение у меня плохое. Конечно, он чувствовал себя виноватым за то, что не смог приехать раньше и пропустил такое важное в моей жизни событие. Наверняка он боялся, что я обижусь, решив, что он меня не любит, раз оставил одну среди чужих людей. Вряд ли я сумела бы объяснить ему: мое молчание и мрачное выражение лица вызваны не тем, что он приехал поздно, а тем, что он вообще приехал, вклинившись между мной и Нино.
Из-за Нино я чувствовала себя особенно несчастной. Он сидел рядом, но не говорил мне ни слова. Казалось, приезд Пьетро его обрадовал. Он подливал ему вина, угостил сигаретой, поднес огня. Они дружно выпускали тонкие струйки дыма, говорили о машинах, обсуждали, как тяжело добираться от Пизы до Милана. Меня поразило, насколько они были разные: Нино — сухощавый, лохматый, с пронзительным голосом; Пьетро — коренастый, высоколобый, со смешной шапкой спутанных волос и пухлыми щеками со следами порезов от бритвы. Кажется, оба были рады знакомству: я глазам своим не верила, глядя на Пьетро, вечно замкнутого и погруженного в свои мысли. Нино старался его разговорить и искренне интересовался его исследованиями («Я читал где-то твою статью, ты советуешь вместо вина пить молоко с медом и вообще выступаешь против любых форм дурмана»), а мой жених, вообще-то избегавший подобных разговоров, охотно поддерживал беседу и дружески поправлял Нино, если тот что-то понимал не так. Но, как только Пьетро разговорился, вмешалась Аделе.
— Довольно болтать, — сказала она, — пришло время сюрприза для Элены.
Я удивленно посмотрела на нее. Неужели сюрпризы еще не кончились? Разве мало того, что Пьетро несколько часов, не останавливаясь, гнал машину, чтобы поспеть к ужину в мою честь? Я с любопытством посмотрела на своего жениха: он хмурился, и я знала, что это значит. Так он делал, когда вынужден был прилюдно хвалить себя. Он сообщил мне почти шепотом, что назначен штатным профессором, самым молодым во Флоренции. И конечно, добавил, что это произошло каким-то чудом. Он никогда не кичился своими достижениями, и я почти ничего не знала о том, как его уважали в академических кругах; он ни словом не обмолвился о труднейшем конкурсе, который выдержал. Он сообщил мне эту новость запросто, даже с некоторым пренебрежением, как будто для него самого она ничего не значила, а сказать пришлось только из-за матери. На самом деле она означала очень многое: настоящее признание, престиж, стабильный заработок, а кроме того, шанс покинуть Пизу, сбежать из той политической и культурной среды, которая почему-то раздражала его в последние месяцы. А главное — она значила, что будущей осенью, самое позднее — зимой мы поженимся и я уеду из Неаполя. Никто ни слова не сказал об этом, но поздравляли все не только Пьетро, но и меня. Поздравил нас и Нино, но сразу после посмотрел на часы, отпустил довольно ехидное замечание об университетской карьере и объявил, что ему, к большому сожалению, пора.
Мы встали из-за стола. Я не знала, что мне делать, и тщетно ловила его взгляд; от боли у меня стеснило грудь. Праздник закончился, оставив после себя потерянные возможности и несбывшиеся желания. Мы вышли на улицу, и мне показалось, что он сейчас даст мне номер своего телефона или адрес. Но он лишь пожал мне руку и пожелал всего самого лучшего. У меня возникло ощущение, что он намеренно избегает смотреть мне в глаза. На прощанье я ему улыбнулась и махнула рукой в воздухе, изобразив, что держу карандаш. «Ты знаешь, где я живу, напиши мне, пожалуйста», — говорил мой жест. Но он уже повернулся ко мне спиной.
7
Я поблагодарила Аделе и ее друга за все, что они сделали для меня и моей книги. Оба долго и искренне хвалили Нино, обращаясь ко мне, будто это благодаря мне он был таким умным и симпатичным. Пьетро ничего не сказал, только раздраженно отмахнулся, когда мать попросила его возвращаться скорее: они остановились у Мариарозы. «Не волнуйся, не нужно меня провожать, — сказала я ему, — иди с мамой». Но никто не принял мои слова всерьез; они и мысли не допускали, что мне и правда хотелось побыть одной.
По дороге я вела себя невыносимо. Жаловалась, что мне не нравится Флоренция, хотя это было не так. Жаловалась, что не желаю больше писать и мечтаю преподавать, хотя это было не так. Жаловалась, что устала и хочу спать, хотя это было не так. Мало того: когда Пьетро ни с того ни с сего заявил, что ему пора познакомиться с моими родителями, я воскликнула: «Ты с ума сошел! Даже не думай! Ты им не понравишься, а они не понравятся тебе». После этого он испуганно спросил меня: «Ты что, больше не хочешь за меня замуж?»
Я чуть не ответила: «Нет, не хочу», — но вовремя сдержалась, зная, что и это не так. «Прости, — сказала я тихо, — я просто расстроена. Конечно же, я хочу за тебя замуж». Я взяла его за руку, сплела его пальцы со своими. Он был умный, невероятно образованный и хороший человек. Я любила его и не хотела причинить ему боль. Тем не менее в тот момент, когда я держала его за руку, когда утверждала, что хочу за него замуж, я ясно сознавала, что, не появись он в ресторане, я сделала бы все, чтобы заполучить Нино.
Мне было трудно признаться себе в этом. По отношению к Пьетро я поступала ужасно, он этого не заслужил… И все же я сделала бы это, и, возможно, даже не мучилась бы угрызениями совести. Я нашла бы способ заманить Нино к себе — я слишком давно и хорошо его знала, еще с начальной школы и лицея, с Искьи и пьяцца Мартири. Меня не остановили бы даже его колкие слова о Лиле. Я сделала бы это, а Пьетро ни в чем не призналась бы. Возможно, много лет спустя, на старости лет, я рассказала бы об этом Лиле — когда, как мне думалось, эта история уже ничего не будет значить ни для нее, ни для меня, когда время, как обычно, все расставит по своим местам. Наша история с Нино продлилась бы всего одну ночь, а наутро он покинул бы меня. Хоть я и знала его всю жизнь, но понимала: я его придумала. Он был плодом моих детских фантазий, не имевших ничего общего с реальностью, тем более — с моим будущим. Пьетро, напротив, составлял часть моего настоящего, он был осязаем и конкретен, как межевой камень. Он устанавливал границу совершенно новых для меня земель — земель благоразумия, жизни по правилам, принятым в его семье и наполняющим смыслом все существование. Здесь властвовали высокие идеалы, культ репутации, принципы. Ничего на территории Айрота не происходило просто так. Брак, например, был вкладом в борьбу за светское общество. Родители Пьетро состояли только в светском браке, и Пьетро (вопреки, а может, благодаря глубочайшим познаниям в религиозной культуре) ни в коем случае не согласился бы венчаться в церкви и предпочел бы отказаться от меня. То же касалось крестин. Пьетро был некрещеный, Мариароза — тоже, потому и наши будущие дети не должны проходить обряд крещения. И так во всем: казалось, им управляет некая высшая сила, пусть не божественного, а семейного происхождения, и эта сила внушает ему абсолютную уверенность в том, что он всегда на стороне правды и справедливости. Что касается секса, то тут я пребывала в полном неведении, а он был предельно сдержан. Он достаточно знал о моих отношениях с Франко Мари, чтобы понимать, что я не девственница, но ни разу не позволил себе ни одного грязного намека, обвинения, колкости или смешка. Я полагала, что до меня у него никого не было: я не представляла его себе с проституткой и даже в мыслях не допускала, чтобы он обсуждал девушек с другими парнями. Он терпеть не мог сальные шуточки, ненавидел пустую болтовню, восторженные ахи и охи, вечеринки, любую бессмысленную трату времени. Имея очень приличное состояние, он — в отличие от родителей и сестры — вел жизнь скорее аскетическую. При этом обладал обостренным чувством долга: никогда не отступил бы от взятых передо мной обязательств, никогда меня не предал бы.
Поэтому я не хотела его терять. Несмотря на то что мне, с моей неотесанностью и моим происхождением, даже после университета было до него далеко, я, честно говоря, не очень понимала, как буду жить во всей этой геометрии. Он вселял в меня уверенность, что я сумею избежать и раболепия отца, и грубости матери. Поэтому я переборола себя, отбросила мысли о Нино, взяла Пьетро под руку и проговорила: «Давай поженимся как можно скорее, я хочу уехать из дома, хочу получить права, хочу путешествовать, хочу, чтобы у меня был телефон, телевизор — у меня же никогда ничего не было!» Он повеселел, засмеялся и пообещал дать мне все, чего я бессвязно просила. Мы почти дошли до отеля, когда он остановился и хриплым голосом сказал: «Можно я сегодня останусь у тебя?» Это был последний сюрприз того вечера. Я смотрела на него в растерянности: я столько раз склоняла его заняться любовью, а он всегда выворачивался. Но лечь с ним в постель здесь, в Милане, в отеле, после неприятной дискуссии в книжном магазине, после Нино, я не могла. «Мы столько ждали, — ответила я, — подождем еще немного». Мы остановились на углу, в темноте, я поцеловала его, а потом смотрела с порога отеля, как он уходит по корсо Гарибальди, то и дело оборачиваясь и застенчиво махая мне рукой. Его неровная шаркающая походка и лохматая шапка волос наполнили меня умилением.
8
С того дня жизнь закрутилась в сумасшедшем ритме: месяцы стремительно сменяли один другой, и не было ни дня, в который не случилось бы чего-то хорошего или плохого. Я вернулась в Неаполь, переполненная воспоминаниями о встрече с Нино, не получившей продолжения. Иногда меня одолевало желание побежать к Лиле, дождаться ее с работы и рассказать о том, что виделась с Нино. Но, поразмыслив, я приходила к выводу, что своим рассказом только причиню ей боль, и отказывалась от этой идеи. Лила шла по жизни своей дорогой, Нино — своей, а меня ждали неотложные дела. Вернувшись из Милана, я в тот же вечер сказала родителям, что скоро приедет Пьетро, что, вероятно, в следующем году мы поженимся и я уеду жить во Флоренцию.
В ответ — ни радости, ни одобрения. Видимо, они уже привыкли к тому, что я уезжаю и возвращаюсь когда хочу и все больше отдаляюсь от семьи, не желая вникать в их проблемы. Только отец проявил некоторую нервозность, что меня не удивило: он всегда волновался, когда сталкивался с ситуацией, к которой не был готов.
— А ему обязательно к нам приезжать, этому твоему профессору? — недовольно спросил он.
— Как же ему не приезжать? — рассердилась мать. — Как он попросит у тебя руки Ленуччи, если не приедет?
Я подумала, что она восприняла новость равнодушнее, чем отец, как обычно продемонстрировав решительность и хладнокровие. Только когда отец отправился спать, а Элиза, Пеппе и Джанни стелили себе в столовой, мне пришлось признать, что я ошиблась. Мать впилась в меня взглядом покрасневших глаз и очень тихо, но яростно, с каким-то присвистом, прошипела: «Для тебя мы пустое место, ты сообщаешь нам новости в последний момент, синьорина возомнила себя черт знает кем, потому что она выучилась, потому что пишет книжки, потому что выходит замуж за профессора, только вот, дорогуша, из этого живота ты вышла, из этого теста ты сделана, поэтому не заносись и не забывай никогда, что раз уж ты такая умная, я, выносившая тебя вот здесь, внутри, такая же умная, а то и умнее, так что будь у меня возможности, как у тебя, я бы тоже все это заполучила, ясно тебе?» Потом, не сбавляя тона, она принялась упрекать меня в том, что якобы по моей вине, из-за того что я уехала и думала только о себе, мои братья и сестра учатся из рук вон плохо, и тут же попросила, точнее, потребовала денег на приличное платье для Элизы и на то, чтобы хоть немного привести дом в порядок, раз уж они вынуждены принимать моего жениха.
По поводу плохой учебы братьев и сестры я промолчала, но денег дала сразу, хотя и знала, что она не собирается ничего покупать в дом; она то и дело вытягивала из меня деньги, не брезгуя никакими предлогами. Она не говорила об этом прямо, но я понимала: ей невыносима мысль, что я держу деньги в банке, а не приношу ей, как раньше, когда водила на пляж дочек продавщицы из магазина канцтоваров или работала в книжном на виа Меццоканноне. «Возможно, — думала я, — она ведет себя так, будто мои деньги принадлежат ей, чтобы показать, что я и сама принадлежу и всегда, даже после замужества, буду ее собственностью?»
Я вела себя спокойно и пообещала, что в качестве компенсации установлю в квартире телефон и куплю им телевизор. Она посмотрела на меня недоверчиво, и на лице у нее вдруг промелькнуло восхищение, никак не вязавшееся с тем, что она мне только что наговорила.
— Телефон и телевизор? Здесь, у нас дома?
— Конечно.
— И ты будешь за них платить?
— Да.
— Всегда? И после свадьбы тоже?
— Да.
— А профессор знает, что у тебя нет ни гроша в приданое? И на свадьбу денег у нас тоже нет?
— Знает. Да и не будет никакой свадьбы.
Она опешила. В глазах снова вспыхнули искры ярости.
— Как это — никакой свадьбы? Скажи ему, пусть он за все заплатит!
— Нет. Нам это не нужно.
Мать рассвирепела. Она начала засыпать меня самыми неприятными вопросами, надеясь спровоцировать на грубость и заводясь все сильнее.
— Помнишь свадьбу Лилы? Помнишь, какой праздник они устроили?
— Да.
— Ты во сто раз лучше ее и хочешь лишить себя праздника?
— Да.
Так продолжалось, пока я не решила, что не имеет смысла тянуть с главным и проще снести все истерики разом.
— Мам, — сказала я, — не только свадьбы не будет. Венчаться в церкви мы тоже не будем. Поженимся в муниципалитете.
Вот тут началось: будто все окна и двери выбило шквальным ветром. Мать не отличалась особой религиозностью, но, услышав такое, совершенно потеряла над собой контроль; покраснела, придвинулась ко мне и завизжала, осыпая меня страшными оскорблениями. Она вопила, что брак ничего не стоит, если его не признал священник. Кричала, что, если я не выйду замуж перед Богом, шлюха я, а никакая не жена. Забыв про свою хромую ногу, она чуть ли не бегом бросилась будить отца, братьев и сестру, чтобы сообщить им, что сбылось то, чего она всегда так боялась: от слишком долгой учебы я тронулась рассудком. Жизнь дает мне все шансы, а я позволяю обходиться с собой как с потаскухой, и как ей теперь показаться на люди — она от стыда сгорит за свою безбожницу дочь.
Растерянный отец, как был, в одних трусах, и братья с сестрой тщетно пытались ее успокоить; они так и не поняли, какие еще невзгоды обрушатся на них по моей вине. Мать вопила, что выгонит меня из дома, пока я не навлекла позор на всю семью и не сделала ее матерью содержанки вроде Лилы и Ады. Бить меня она не решилась, но руками размахивала так, будто я — всего лишь тень себя, а меня настоящую она крепко держит и лупит удар за ударом. Вскоре она утихла — спасибо Элизе, которая подошла ко мне и негромко спросила:
— Ты сама хочешь выходить замуж в муниципалитете или твой жених так решил?
Я объяснила ей, но так, чтобы слышали все, что для меня церковь давно ничего не значит и мне все равно, заключать брак в муниципалитете или перед алтарем, а для моего жениха очень важно вступить именно в светский брак, потому что он глубоко разбирается в вопросах религии, ничего против нее не имеет, но считает, что религия разрушает себя тем, что вмешивается в общественные дела. «Короче говоря, если мы не поженимся в муниципалитете, — заключила я, — он вообще на мне не женится».
Тут отец, вначале занявший было сторону матери, прекратил ей подпевать и спросил:
— Не женится?
— Нет.
— А как же тогда? Бросит тебя, что ли?
— Мы уедем во Флоренцию и будем жить неженатыми.
Эта новость прозвучала для матери убийственно. Она словно обезумела и выпалила, что возьмет нож и собственными руками меня зарежет. Отец нервно взъерошил волосы и сказал:
— А ну замолчи! Разоралась… Дай лучше подумать. Все знают, что можно обвенчаться в церкви, устроить роскошную свадьбу, и все равно ничем хорошим это не кончится.
Разумеется, он намекал на скандальную историю с Лилой, толки о которой по-прежнему будоражили весь квартал. До матери наконец начало доходить, что священник не гарантия, да и вообще, о каких гарантиях можно рассуждать в том жутком мире, в котором мы живем. Она перестала орать, решив положиться на отца. Впрочем, она продолжала ходить взад-вперед, хромая, потряхивая головой и ругая моего будущего мужа. «Кто он, этот профессор? Коммунист? Коммунист и в то же время профессор? Да какой это на хрен профессор? — снова завелась она. — Разве профессор может быть таким придурком?» — «Да не придурок он, — вступился отец. — Он человек ученый, ему лучше знать, что творят священники. Потому он и собрался расписываться в муниципалитете. Конечно, ты права, многие коммунисты так делают. И да, получается, что наша дочь как будто бы и не замужем вовсе. Но я бы все равно доверился этому университетскому профессору: он любит Ленуччу и не позволит, чтобы ее считали потаскухой. Я ему верю, хоть мы и не знакомы: он важный человек, любая девушка мечтает о таком муже, но даже если бы мы ему и не верили, поверим муниципалитету. Я же там работаю и могу тебя заверить: брак, заключенный в муниципалитете, значит не меньше церковного, а то и больше».
Так продолжалось несколько часов. Братья и сестра в какой-то момент сдались и ушли спать. Я осталась успокаивать родителей, убеждая их принять то, что было для меня важным знаком вхождения в мир Пьетро. Я чувствовала себя очень смелой, намного смелее Лилы. Если мне доведется снова встретиться с Нино, думала я, у меня будет полное право сказать ему: «Видишь, куда меня завел тот давний спор с преподавателем богословия. Любое решение имеет свою историю: многие события нашей жизни до поры до времени таятся в тени, но потом все же выходят на свет». Впрочем, тут я преувеличила: на деле все было проще. К тому дню Бог из моего детства уже лет десять как ослаб и был, подобно больному старику, отправлен в дальний угол: я не испытывала никакой потребности в освящении моего брака. Главное было уехать из Неаполя.
9
Ужас, пережитый моими родными при мысли о светском браке, конечно, не исчез за одну ночь, но померк. На следующий день мать вела себя со мной так, будто вещи, которых она касалась, — кофейник, чашка с молоком, сахарница, свежий батон — попадали ей в руки с одной-единственной целью: вызвать искушение запустить ими мне в физиономию. Но она хотя бы больше не орала. Я решила не обращать на нее внимания, рано утром вышла из дома и отправилась договариваться об установке телефона. С этим я быстро разобралась, потом прогулялась по Порт-Альба и заглянула в книжные магазины. Я хотела сделать интеллектуальный рывок, чтобы больше не молчать как рыба, как тогда, в Милане, и обо всем иметь свое суждение. Во многом наугад я набрала книг и журналов, потратив довольно много денег. Под впечатлением от слов Нино, которые не шли у меня из головы, я, поколебавшись, все-таки взяла «Три очерка по теории сексуальности» (в те времена я почти ничего не знала о Фрейде, а то немногое, что знала, нагоняло на меня тоску) и еще пару книг о сексе. Я надеялась, что разберусь со всей этой премудростью — справлялась же я раньше с уроками, экзаменами, дипломом, газетами, которые давала мне профессор Галиани, и марксистскими текстами, которыми увлекался Франко. Я хотела изучить современный мир. Трудно сказать, что к тому моменту было в моем багаже. Разговоры с Паскуале и Нино. Немного интереса к кубинскому и латиноамериканскому вопросу. Я знала о беспросветной нищете нашего квартала и проигранной борьбе с ней Лилы. Я понимала, что школа отвергла моих братьев и сестру потому, что им не хватило моего упорства и они не были готовы на жертвы ради учебы. Долгие беседы с Франко и случайные разговоры с Мариарозой, слившиеся в какое-то туманное воспоминание («мир в корне несправедлив, и его надо менять, но мирное сосуществование американского империализма и сталинской бюрократии, как и реформистская политика европейских, особенно итальянских рабочих партий, ведут к удержанию пролетариата в подчиненном выжидательном положении, тем самым подливая масла в огонь революции; если мировой застой победит, если победят социал-демократы, капитализм утвердится на века, а рабочий класс падет жертвой навязанной обществу потребительской модели»). Эти идеи жили и работали внутри меня, временами даже по-настоящему меня волновали. Но гораздо сильнее было мое старое желание преуспеть во всем, из-за чего (по крайней мере, поначалу) я и решила во что бы то ни стало срочно разобраться в этих вопросах. Я долго верила, что всему можно выучиться, в том числе развить в себе интерес к политике.
Расплачиваясь, я заметила на полке свою повесть и поспешила отвести взгляд. Каждый раз, когда я видела на витрине среди других недавно изданных книг свою, я испытывала смесь гордости и страха, удовольствие, перераставшее в беспокойство. Конечно, моя повесть родилась случайно, за двадцать дней, я над ней не корпела, просто стремилась с ее помощью избавиться от депрессии. Я ведь знала, что такое настоящая литература, много читала классику и потому, когда писала свою книгу, мне и в голову не приходило, что я создаю нечто стоящее. Однако меня увлек сам процесс поиска формы. И вот она здесь, эта книга, вмещающая меня самое. На полке стояла я сама, и мысль о том, что я смотрю на себя, заставляла сердце неистово биться в груди. Для меня не только в моей повести, но и в книгах вообще было нечто будоражащее, обнажавшее сердце, заставлявшее его трепетать и рваться наружу, как было в тот день, когда Лила предложила нам вместе написать книгу. Писать настоящие книги выпало мне. Но этого ли я хотела? Правда ли я хотела писать, но писать осознанно и лучше прежнего? Изучать, что было когда-то и что происходит сейчас, разбираться, как все устроено в жизни, снова и снова узнавать все о мире, чтобы научиться создавать живые образы, такие, каких не создать никому, кроме меня, даже Лиле, получи она возможность писать?
Я вышла из магазина, остановилась на пьяцца Кавур. День был прекрасный, виа Фория казалась непривычно чистой и выглядела солидно, несмотря на скрывшуюся под ремонтной сеткой Галерею. Самое время вспомнить былое прилежание. Я достала недавно купленный блокнот, в который собиралась записывать свои мысли, наблюдения, важные факты, как это делают настоящие писатели. Прочла от начала до конца «Униту», записала то, чего не знала. Нашла в «Понте» статью отца Пьетро, с любопытством просмотрела ее, но она не показалась мне такой интересной, как утверждал Нино, более того, как минимум две вещи в ней неприятно меня удивили: во-первых, Гвидо Айрота пользовался еще более закоснелым, чем тот мужчина в очках с толстыми стеклами, профессорским языком, во-вторых, в его описании студенток («эта новая толпа, по всей видимости, не из зажиточных семей, синьорины в скромных нарядах, со скромным образованием, которые надеются собственным старанием получить в жизни что-то кроме бесконечной домашней рутины») я узнала себя — уж не знаю, действительно он имел в виду меня или это было случайное совпадение. Это я тоже записала в блокнот (Кто я для семейства Айрота? Вишенка на торте их широких взглядов на жизнь?). Без всякого удовольствия, скорее в раздражении, я принялась листать «Коррьере делла сера».
Помню, воздух был теплый, нос щекотал запах газетной краски, смешанный с запахом горячей пиццы, — не знаю, правда так пахло или я это потом додумала. Я перелистывала страницу за страницей, просматривала заголовки — и у меня вдруг аж дыхание перехватило. Я увидела свою фотографию, обрамленную четырьмя колонками плотного текста. Фото на фоне туннеля — границы нашего квартала. Заголовок гласил: «Пикантные воспоминания честолюбивой девушки: литературный дебют Элены Греко». Рядом значилось имя автора — того самого мужчины в очках с толстыми стеклами.
10
Я читала и покрывалась холодным потом: казалось, вот-вот потеряю сознание. Он воспользовался моей книгой как доказательством того, что в последнее десятилетие во всех областях экономической, социальной и культурной жизни — от фабрик до учреждений, университетов, издательств и кино — наблюдается полная деградация, виновата в которой испорченная и не признающая ценностей молодежь. Автор приводил закавыченные цитаты из моей повести, иллюстрирующие, на его взгляд, дурное воспитание поколения, яркой представительницей которого была я. Оканчивалась статья вердиктом: «Девушка, стремящаяся спрятать недостаток таланта за пикантными страничками заурядных пошлостей».
Я расплакалась. Это был самый жесткий отзыв из всех, что я читала с момента выхода книги, и появился он не в какой-нибудь малотиражной газетенке, а в самом популярном в Италии издании. Особенно невыносимо было смотреть на свое улыбающееся лицо на фоне настолько жестокого текста. До дома я шла пешком, по пути благоразумно избавившись от «Коррьере». Я боялась, что мать увидит рецензию, вклеит ее в свой альбом и будет тыкать меня в нее носом каждый раз, когда я посмею с ней поспорить.
Дома меня ждал накрытый стол. Отец был на работе, мать пошла за чем-то к соседке, братья и сестра уже поели. Я жевала пасту с картошкой, нервно перелистывая свою книгу, выхватывая по строчке то тут, то там. Может, я и правда бездарность, думала я. Может, меня опубликовали, только чтобы сделать одолжение Аделе. И правда, какие бесцветные выражения, какие банальные мысли! Как небрежно расставлены запятые, сколько лишних! Никогда больше ничего не стану писать! Пока я мучилась отвращением к еде и собственной книге, на кухню вошла Элиза с листком бумаги в руке. Ей его дала синьора Спаньюоло, по телефону которой, с ее любезного позволения, со мной связывались в случае срочной надобности. Листок гласил, что мне звонили трое: Джина Медотти, возглавлявшая пресс-бюро издательства, Аделе и Пьетро.
При виде трех имен, написанных кривоватым почерком синьоры Спаньюоло, во мне окончательно оформилась еще мгновение назад смутная мысль. Мерзкие слова мужчины в очках с толстыми стеклами быстро разошлись повсюду. Статью уже прочел Пьетро, его семья, руководство издательства. Быть может, она дошла уже и до Нино. Быть может, попалась на глаза моим преподавателям в Пизе. Вне всякого сомнения, привлекла внимание профессора Галиани и ее детей. И — как знать? — возможно, даже Лила ее уже прочитала. У меня из глаз покатились слезы.
— Что с тобой, Лену? — испуганно спросила Элиза.
— Я плохо себя чувствую.
— Заварить тебе ромашку?
— Да.
Но выпить настой я не успела. В дверь постучали: это была Роза Спаньюоло. Немного запыхавшаяся от подъема по лестнице, она радостно сообщила, что меня снова разыскивает жених, ждет на телефоне. «Какой красивый голос! Какое красивое северное произношение!» Принеся тысячу извинений за беспокойство, я побежала к телефону. Пьетро успокаивал меня, говорил, что мать просила меня не огорчаться; главное, что о книге заговорили. В ответ я, к немалому удивлению синьоры Спаньюоло, считавшей меня тихоней, чуть ли не закричала: «Что мне с того, что о ней заговорили, если говорят такое?!» Он снова призвал меня сохранять спокойствие и добавил: «Завтра выйдет статья в „Уните“». — «Было бы лучше, если бы обо мне вообще забыли», — ледяным голосом сказала я и положила трубку.
Ночью я не сомкнула глаз. Утром не удержалась — побежала покупать «Униту» и пролистала ее в спешке, прямо у киоска, находившегося возле начальной школы. Снова увидела свою фотографию, ту же, что и в «Коррьере», но на сей раз она располагалась не в центре текста, а сверху, рядом с заголовком: «Молодые бунтари и старые реакционеры: к разговору о повести Элены Греко». Я никогда раньше не слышала имени автора статьи, но писал он, бесспорно, хорошо, и слова его пролились на мою душу бальзамом. Он однозначно хвалил мою повесть и высмеивал известного профессора в очках с толстыми стеклами. Домой я вернулась ободренной и даже в хорошем расположении духа. Я снова полистала свою книгу, и на сей раз мне показалось, что она хорошо выстроена и написана. Когда мать с кислым выражением лица спросила: «Что, счастье привалило?» — я, ни слова не говоря, оставила на столе газету.
Вечером снова пришла синьора Спаньюоло: мне опять звонили. На мое смущение и извинения она ответила, что счастлива быть полезной такой девушке, как я, и наговорила мне кучу комплиментов. «Джильоле не повезло, — вздыхала она, пока мы шли по лестнице, — отец взял ее работать в кондитерскую Солара в тринадцать лет; хорошо еще, что она вышла за Микеле, а то пришлось бы ей вкалывать там всю жизнь». Она открыла дверь и проводила меня по коридору к телефону, висевшему на стене. Я заметила, что она поставила рядом стул, чтобы мне было удобнее разговаривать: с каким же почтением относились здесь к тем, кто получил образование. Учеба расценивалась как возможность для самых способных детей избежать изнуряющего труда. «Как мне объяснить этой женщине, — думала я, — что я с шести лет нахожусь в плену у букв и цифр, что мое настроение зависит от того, насколько удачно они складываются, а случается это редко, да и радость от успеха длится недолго — один час, один вечер, максимум — ночь?»
— Прочитала? — спросила Аделе.
— Да.
— Довольна?
— Да.
— У меня еще одна хорошая новость: книга начала продаваться. Если так дальше пойдет, мы сможем ее переиздать.
— Как это?
— А вот так! Наш друг из «Коррьере» намеревался уничтожить нас, а вместо этого оказал нам услугу. Пока, Элена, наслаждайся успехом!
11
Книга действительно неплохо продавалась, в этом я смогла убедиться сразу — как минимум, по участившимся звонкам Джины, которая сообщала то об очередной рецензии, вышедшей в таком-то журнале, то о приглашении выступить в книжном магазине или культурном центре. «Книга расходится, доктор Греко, поздравляю!» — непременно говорила она на прощанье. Я благодарила ее, но сама не особенно радовалась. Отзывы в газетах казались мне поверхностными, они ограничивались либо восторгами, по примеру «Униты», либо оголтелой критикой, как в «Коррьере». И хотя Джина то и дело повторяла, что отрицательные отзывы помогают продажам, мне они причиняли боль, поэтому каждый раз, когда я читала такой, с трепетом ждала очередной хвалебной рецензии, чтобы сравнять счет. Зато я перестала прятать от матери статьи злопыхателей и стала отдавать ей все — и хорошие, и плохие. Она, насупившись, пыталась читать по слогам, но ей ни разу не удалось одолеть больше четырех-пяти строк: либо она тут же находила повод за что-нибудь ко мне прицепиться, либо ее одолевала скука и она отправлялась вклеивать статью в альбом. Это стало ее манией: она мечтала собрать целый альбом публикаций и сокрушалась, когда мне нечего было добавить к ее коллекции, — боялась, что останутся пустые страницы.
Самой болезненной для меня оказалась рецензия, вышедшая в «Риме». Она практически копировала отзыв из «Коррьере», излагая его разве что более цветистым языком, и с маниакальным упорством сводила все к финальной мысли: женщины окончательно потеряли стыд, и, чтобы понять это, достаточно прочесть похабную повесть Элены Греко — перепевы романа «Здравствуй, грусть!»,[1] который и сам по себе слишком груб. Но ранило меня не содержание статьи, а имя автора. Это был отец Нино, Донато Сарраторе. Я вспомнила, как в детстве меня поразила новость о том, что этот человек издал сборник своих стихов; узнав, что он пишет для газеты, я воображала его в сиянии славы. Зачем он написал эту рецензию? Решил отомстить, узнав себя в развратнике — отце семейства, воспользовавшемся слабостью главной героини? Мне захотелось позвонить ему и обложить последними словами на диалекте. Меня остановила только мысль о Нино: я подумала вдруг, что мы с ним очень похожи. Это открытие показалось мне крайне важным. Мы оба отказались от образцов, заданных семьей: я всю жизнь старалась как можно дальше сбежать от матери, он окончательно сжег мосты, соединяющие его с отцом. Обнаружив это сходство, я успокоилась, и мой гнев понемногу перекипел.
Я не учла, что «Рим» в нашем квартале читали больше, чем другие газеты. Вспомнить об этом пришлось уже вечером. Когда я проходила мимо аптеки, на пороге появился Джино, сын аптекаря, накачанный молодой человек, увлекавшийся тяжелой атлетикой; он носил белый врачебный халат, хотя еще не получил диплома. Джино окликнул меня, помахивая газетой, и среди прочего страшно серьезным тоном (видимо, потому, что с недавних пор занимал какое-то место в местном отделении Итальянского социального движения) спросил: «Видела, что о тебе пишут?» Чтобы не доставлять ему удовольствия, я сказала: «Да мало ли что обо мне пишут!» — и пошла дальше, кивнув ему на прощанье. Он смутился, пробормотал что-то, а потом злорадно прокричал мне вслед: «Надо обязательно прочитать эту твою книгу, кажется, она очень интересная».
Но это было только начало. На следующий день на улице меня догнал Микеле Солара и настойчиво стал предлагать выпить кофе. Мы отправились в их бар, и, пока Джильола принимала у меня заказ (молча, не скрывая недовольства моим присутствием, а может, и присутствием мужа), он сказал: «Лену, Джино дал мне почитать статью: говорят, ты написала повесть, которую запрещено читать детям до восемнадцати лет. Кто бы мог подумать! Этому ты научилась в Пизе? Этому учат в университете? Поверить не могу! У вас с Линой что, договор? Она делает дурные вещи, а ты их описываешь? Так ведь? Признавайся!» Я покраснела, не стала дожидаться кофе, попрощалась с Джильолой и ушла. «Ты что, обиделась? Вернись, я же пошутил!» — весело крикнул мне в спину Микеле.
На очереди была встреча с Кармен Пелузо. Мать послала меня в новую лавку Карраччи, потому что масло там было дешевле. Дело было вечером, посетителей не было, Кармен рассыпалась в комплиментах: «Какая ты молодец, для меня честь быть твоей подругой! Это единственное, с чем мне в жизни повезло!» Она сказала, что наткнулась на статью Сарраторе случайно: поставщик забыл выпуск «Рима» в магазине. Как мне показалось, она была искренне возмущена и назвала Донато мерзавцем. Ее брат, Паскуале, показывал ей статью в «Уните», совсем другую, очень-очень хорошую, с прекрасной фотографией: «Ты просто красавица! И все у тебя получается!» От моей матери она знала, что я скоро выхожу замуж за университетского профессора и уезжаю во Флоренцию, в собственный дом, как настоящая синьора. Она тоже собиралась замуж, за рабочего с автозаправки, но когда — сама не знала, потому что у них не было денег. Затем, без всякого перехода, начала жаловаться на Аду. С тех пор как Ада заняла место Лилы рядом со Стефано, жизнь Кармен с каждым днем делалась невыносимей. Ада хозяйничала в лавках, кричала на Кармен, обвиняла ее в воровстве, командовала и следила за каждым ее шагом. Кармен так все это надоело, что она собиралась уволиться и перейти работать на бензоколонку к будущему мужу.
Я слушала ее внимательно и вспоминала, как мы с Антонио собирались пожениться и работать на автозаправке. Я рассказала ей об этом, чтобы немного развлечь, но вместо этого она помрачнела и проворчала: «Конечно, как же! Представляю: ты — и на бензоколонке. Как же тебе повезло, что ты выбралась из этой дыры!» Потом она забормотала что-то совсем уже несвязное: «Как же все несправедливо, Лену, слишком несправедливо, надо с этим что-то делать, невозможно так больше, сил моих нет…» Она достала из ящика мою книгу: обложка была вся мятая и грязная. В первый раз я увидела экземпляр своей книги в руках человека из нашего квартала: меня поразило, что первые страницы были замурзанными и растрепанными, а остальные — белыми, плотно прилегающими одна к другой. «Я читаю понемногу, по вечерам и когда нет покупателей. Но пока дошла только до тридцать второй страницы: у меня мало времени, все приходится делать одной. Карраччи держат меня здесь взаперти с шести утра до девяти вечера. Ну что, — вдруг с ухмылкой спросила она меня, — скоро там уже откровенные сцены? Долго еще читать?»
Откровенные сцены.
Не успела я далеко уйти, как натолкнулась на Аду с Марией — ее дочерью от Стефано — на руках. После всего, что рассказала Кармен, мне было трудно быть с ней приветливой, но я постаралась. Похвалила девочку, ее красивое платье и изящные сережки. Но Ада меня не слушала. Она заговорила об Антонио, сказала, что они переписываются, что слухи о его женитьбе и детях — неправда, что из-за меня он разучился и думать, и любить. Потом она накинулась на мою книгу. «Я ее не читала, но слышала, что такие книги дома держать нельзя, — злобно проговорила она. — Представь себе, моя дочка подрастет и найдет такую книжку, что я ей скажу? Ты уж извини, но я ее не куплю. Впрочем, — добавила она, — я за тебя рада, хоть на жизнь себе заработаешь. Пока!»
12
После этих встреч во мне поселилось опасение, что книга действительно продается только за счет деликатных сцен, о которых упоминалось и во враждебно настроенных, и в благосклонных ко мне изданиях. Помню, я даже подумала, что Нино заговорил со мной о сексуальности Лилы только потому, что был уверен: раз уж я пишу на эти темы, то и обсуждать их со мной можно без проблем. От этих мыслей мне снова захотелось повидаться с подругой. «Кто знает, — говорила я себе, — вдруг Лила тоже раздобыла книгу, как Кармен». Я представила себе, как вечером, вернувшись с завода, она сидит с ребенком в комнате (Энцо, как обычно, в другой) и, несмотря на усталость, внимательно читает мою повесть: рот прикрыт, лоб наморщен, как всегда, когда она сосредоточена. Что она думает по поводу книги? Тоже сократила бы ее до одних откровенных сцен? А может, она и не читала вовсе: вряд ли у нее были деньги на книгу, надо бы мне подарить ее ей. Мне понравилась эта идея, но потом я от нее отказалась. Мнением Лилы я все еще дорожила больше, нежели чьим бы то ни было, но наведаться к ней не решалась. У меня не было лишнего времени, нужно было столько всего узнать, столько прочитать. Кроме того, из головы не шла сцена нашей последней встречи — как она стояла в заводском дворе у костра, в котором горели страницы «Голубой феи», — вот оно, прощание с остатками детства, подтверждение того, что наши пути разошлись. Скажет еще: «Некогда мне читать твою писанину! Видишь, как я живу?» И я продолжала жить своей жизнью.
Между тем книга продавалась все лучше — что бы ни было тому причиной. Однажды мне позвонила Аделе и, как обычно, тепло и чуть насмешливо сказала: «Если так дальше пойдет, ты разбогатеешь и бросишь бедняка Пьетро». Потом она передала трубку мужу: «Гвидо хочет с тобой поговорить». Я разволновалась: мы с профессором Айротой редко общались, и при нем я всегда чувствовала себя неловко. Но отец Пьетро был очень доброжелателен, поздравил меня с успехом, посмеялся над стыдливостью моих злопыхателей, сказал о затянувшемся в Италии Средневековье и похвалил меня за вклад в модернизацию страны — примерно в таких выражениях. О моей повести он умолчал, ему и без того забот хватало. Но мне было приятно, что он захотел меня поддержать, выразить свое уважение.
Мариароза тоже отнеслась ко мне тепло и очень меня хвалила. Вначале она заговорила о самой книге, но вскоре сменила тему и пригласила меня в университет, принять участие в том, что она называла неудержимым течением событий. «Приезжай прямо завтра! — настаивала она. — Ты видела, что происходит во Франции?!» Я знала, что происходит, целыми днями просиживала у старого радиоприемника голубого цвета: мать держала его на кухне, поэтому приемник был весь в жирных пятнах. «Да, просто потрясающе! — сказала я. — Нантер, баррикады в Латинском квартале…» Но она явно знала больше и увлекалась этим сильнее меня. Они с друзьями планировали отправиться в Париж, и она предложила мне поехать вместе с ними на автомобиле. Это было так заманчиво, что я сказала: «Хорошо, я подумаю». Сесть в машину в Милане, проехать по Франции, оказаться в Париже, в центре восстания и зверств полиции, окунуться с головой в раскаленную магму тех месяцев, продолжить путешествие, начатое несколько лет назад с Франко. И как было бы здорово поехать именно с Мариарозой — среди всех моих знакомых не было второй такой девушки — настолько модной, без предрассудков, разбирающейся в мировой политике почти на равных с мужчинами. Я восхищалась ею: разве другая смогла бы так все бросить и уехать? Кумиры того времени — Руди Дучке,[2] Даниэль Кон-Бендит[3] — бесстрашно противостояли насилию со стороны реакционных сил, как в фильмах о войне, где героические роли, как всегда, доставались мужчинам. Равняться на них девчонкам было трудно — они могли лишь любить их, внимать их идеям и переживать за них. Мне пришло в голову, что среди друзей Мариарозы, собирающихся во Францию, мог оказаться и Нино — они ведь были знакомы. Подумать только: увидеть его, погрузиться с головой в это приключение, вместе с ним подвергать себя опасностям… На улице давно стемнело, на кухне было тихо, родители спали, братья все еще гуляли на улице, Элиза мылась, закрывшись в ванной. Уеду отсюда, завтра же утром уеду!
13
Я уехала, но не в Париж. Сразу после выборов, отметивших тот беспокойный год, Джина отправила меня по городам Италии продвигать книгу. Начала я с Флоренции. Одна дама-профессор, дружившая с приятелем семьи Айрота, пригласила меня выступить на педагогическом факультете перед тремя десятками студентов и студенток — в то время распространилась практика устраивать такие встречи вместо обычных лекций. С первого взгляда меня поразило, что некоторые девушки выглядели даже хуже описанных моим будущим свекром в «Понте»: плохо одетые, неумело накрашенные, сумбурно и слишком эмоционально излагающие свои мысли, недовольные системой экзаменов и отношением к себе преподавателей. По подсказке профессора я с подчеркнутым энтузиазмом высказалась по поводу студенческих манифестаций, особенно во Франции. Я делилась тем, о чем успела прочитать, и нравилась сама себе. Я чувствовала, что говорю уверенно и ясно, что девушки восхищаются мной, моей манерой говорить, моими знаниями, моим умением касаться сложных мировых проблем и складывать их в единую картину. Одновременно я заметила, что стараюсь не упоминать о своей книге. Мне было неловко говорить о ней: я боялась, что слушатели отреагируют на нее так же, как девчонки из нашего квартала, поэтому я предпочитала рассуждать о прочитанном в «Тетрадях Пьячентини»[4] и «Ежемесячном обозрении».[5] Но приглашали-то меня рассказать о книге, и начали задавать вопросы. Сначала спрашивали исключительно о сложностях, которые приходится преодолевать героине, чтобы выбраться из среды, в которой она родилась. И только ближе к концу беседы одна девушка, высокая и тощая, попросила, нервно посмеиваясь, объяснить, почему я сочла необходимым включить в свой гладкий текст этот скабрезный фрагмент.
Я смутилась, кажется, покраснела, и пустилась в сложные социологические рассуждения, пока не догадалась сказать, что считаю необходимым свободно говорить о человеческом жизненном опыте во всем его многообразии, в том числе о том, что представляется нам настолько неприличным, что мы предпочитаем молчать об этом даже наедине с собой. Эти мои слова явно понравились публике, и мне удалось вернуть себе расположение аудитории. Профессор, пригласившая меня, одобрила эту мою мысль, сказала, что подумает над ней и обязательно мне напишет.
Благодаря ее поддержке в голове у меня утвердились некоторые идеи, которые я вскоре стала повторять, как песенный припев. Я часто прибегала к ним в публичных выступлениях, озвучивая их то с юмором, то серьезно, то коротко, то длинно и замысловато. Особенно уверенно я почувствовала себя в Турине, на вечере в книжном магазине: народу собралось довольно много, и публика подобралась без комплексов. К тому времени я уже спокойно воспринимала расспросы — доброжелательные или провоцирующие — об эпизоде с сексом на пляже, тем более что у меня имелся готовый отточенный ответ, встречавший неизменный успех.
В Турине меня по просьбе издательства сопровождал пожилой друг Аделе — Тарратано. Он гордился тем, что с самого начала предсказал успех моей книге; туринской публике он представил меня теми же восторженными словами, что и некоторое время назад в Милане. В конце вечера он поздравил меня с огромным прогрессом, которого я достигла за короткое время. Затем, как всегда добродушно, он спросил: «Почему вы соглашаетесь, когда эротическую сцену из вашей повести называют скабрезной? Почему сами так ее определяете?» Он объяснил, что я не должна этого делать потому, что повесть не ограничивается эпизодом на пляже, в ней есть куда более интересные и важные сцены. К тому же если все вокруг и твердили о дерзости моего сочинения, то только потому, что его написала молодая девушка. «Откровенность, — заключил он, — не чужда хорошей литературе и подлинному искусству слова, что вовсе не делает их скабрезными».
Мне стало стыдно. Этот образованнейший человек тактично объяснил мне, что в моей книге нет ничего стыдного и зря, говоря о ней, я молча соглашаюсь, что якобы совершила смертный грех. Иначе говоря, я все преувеличивала. Я терпела близорукость своей аудитории, ее поверхностность. «Хватит, — сказала я себе. — Нельзя так зависеть от чужого мнения, надо учиться возражать читателям, не опускаться до их уровня». Я решила строже обходиться с теми, кто заводит речь об этих эпизодах, — при первой же возможности начну.
За ужином в ресторане отеля, который нам оплачивало издательство, я смущенно, но с интересом слушала, как Тарратано цитирует Генри Миллера, доказывая мне, что я вполне целомудренный автор. Он называл меня «милой девочкой» и говорил, что многие талантливейшие писательницы двадцатых и тридцатых годов знали и писали о сексе такое, чего я и представить себе не могу. Я записала их имена в свою тетрадь. Этот человек, думала я, несмотря на все похвалы, не видит во мне большого таланта; в его глазах я обычная девчонка, которая не заслужила обрушившегося на нее успеха; даже страницы, больше всего волнующие читателей, он не воспринимает всерьез. Конечно, необразованных людей они шокируют, но таких, как он, — ни в малейшей степени.
Я сказала, что немного устала, и стала помогать Тарратано, выпившему лишнего, подняться. Это был низенький человек с солидным животом, любитель вкусно поесть, с вихрами седых волос, торчащими над большими ушами, красным лицом, тонким ртом, большим носом и очень живыми глазами. Он много курил, и пальцы у него были желтые. В лифте он попытался обнять и поцеловать меня. Мне с трудом удалось его оттолкнуть, но он не сдавался. В памяти отпечатались прикосновения его живота и проспиртованное дыхание. До того мне и в голову не могло прийти, что порядочный и образованный пожилой человек, близкий друг моей будущей свекрови, способен на подобное. Когда мы вышли из лифта, он попросил у меня прощения, сказал, что это все от вина, и поспешил скрыться за дверью своей комнаты.
14
На следующий день за завтраком и потом в машине, которая везла нас в Милан, он увлеченно рассказывал о времени, которое считал лучшим в своей жизни, — 1945–1948 годах. В его голосе звучала искренняя грусть, которая исчезла, когда он начал с энтузиазмом рассуждать о новой революции — силе, которая, по его словам, должна поднять и молодых, и старых. Я без остановки кивала, поражаясь воодушевлению, с каким он доказывал мне, что в прошлом был таким же, как я сейчас, и как счастлив был бы туда вернуться. Мне стало немного жаль его. Одно из событий, о котором он упомянул, назвав точную дату, позволило мне быстро сосчитать в уме: человеку, сидевшему рядом со мной, было пятьдесят восемь лет.
В Милане неподалеку от издательства я распрощалась со своим компаньоном. Мысли путались: ночью я плохо спала. Оставшись одна, я попыталась забыть об отвратительных прикосновениях Тарратано, но мне было трудно избавиться от ощущения запачканности, которое напоминало мне о грязи нашего квартала. В издательстве меня встретили восторженно, и это была не просто вежливость, как несколько месяцев назад, — все действительно были мне рады, словно говорили: «Какая же ты молодец, и какие молодцы мы, что поверили в тебя!» Даже девушка в приемной, единственная во всем издательстве, кто относился ко мне с некоторым высокомерием, вышла из своей кабинки и обняла меня, а редактор, недавно придирчиво правивший мой текст, впервые пригласил меня на обед.
Мы расположились в полупустом ресторанчике неподалеку от издательства, и он сказал, что мое письмо обладает тайным завораживающим действием. В перерыве между сменой блюд он добавил, что мне пора задуматься над новой книгой — спешить не надо, но и почивать на лаврах не годится. Он напомнил, что в три часа меня ждут в Государственном университете. Мариароза была тут ни при чем, издательство по своим каналам организовало для меня встречу со студентами. «Я там никогда не была. К кому мне обратиться?» — спросила я. «Мой сын будет ждать вас у входа», — с гордостью сообщил мне он.
Я вернулась в издательство, забрала свой багаж, поехала в отель, сняла номер и отправилась к университету. В здании стояла невыносимая жара. Стены были оклеены листовками, набранными мелким шрифтом, плакатами с изображением красных флагов и призывами к борьбе, здесь было многолюдно и шумно — я слышала громкие разговоры, крики, смех. В воздухе веяло трудноопределимой, но явственной тревогой. Помню темноволосого парня, который налетел на меня на бегу, потерял равновесие, едва удержался на ногах и выбежал на улицу, будто за ним кто-то гнался, хотя позади никого не было. Помню, как в душных коридорах вдруг раздался звук трубы — единственная нота — чистая и звонкая. Помню худенькую блондинку, которая с грохотом тащила за собой цепь с огромным замком на конце и громко кричала непонятно кому: «Я иду». Я помню их потому, что ждала, что меня узнают, и для важности достала свою тетрадку и начала делать в ней беспорядочные записи. Прошло полчаса, но никто ко мне так и не подошел. Я стала внимательнее всматриваться в листовки и плакаты в надежде найти свое имя, название своей повести. Безрезультатно. Я разнервничалась: мне было стыдно отнимать у студентов время, зачитывая фрагменты своей книги и предлагая обсудить ее, притом что листовки на стенах поднимали куда более важные темы. Я с тревогой осознала, что разрываюсь между двумя чувствами: огромной симпатией к этим молодым людям и девушкам, каждым своим жестом и словом воплощавшим протест, и страхом, что беспорядок, от которого я бежала с самого детства, сейчас, прямо здесь, снова захватит меня в плен и толкнет в самую глубь заварухи, где какая-нибудь непреодолимая сила — сторож, преподаватель, ректор или полиция — сочтет, что это я во всем виновата, не поверит, что я всю жизнь была хорошей девочкой, и строго меня накажет.
Я подумала сбежать оттуда: какое мне дело до этих бунтарей младше меня и зачем мне рассказывать им очередные глупости? Мне хотелось вернуться к себе в номер и наслаждаться положением успешной писательницы, которая много путешествует, ест в ресторанах и ночует в отелях. Но мимо прошли пять или шесть озабоченных девушек с тяжелыми сумками, и я будто против своей воли пошла за ними, за голосами, за криками, за звуком трубы. Так я шла и шла, пока не оказалась возле аудитории, из которой доносились неистовые крики. Девушки, за которыми я шла, вошли туда, и я осторожно проскочила следом.
Среди небольшой группы людей, толпившихся возле кафедры, шел ожесточенный спор, в котором участвовали все присутствующие в переполненной аудитории. Я осталась стоять у двери, готовая в любой момент сбежать от невыносимой духоты насквозь прокуренного помещения.
Я пыталась понять, что происходит. Кажется, обсуждались какие-то процедурные вопросы, причем обстановка была такая, что никто — ни кричавшие, ни молчавшие, ни смеявшиеся, ни бегавшие по аудитории, как ординарцы по полю боя, ни державшиеся в стороне, ни пытавшиеся читать — явно не верил в то, что они смогут прийти к соглашению. Я надеялась, что где-то здесь и Мариароза. Постепенно я начала привыкать к шуму и духоте. В аудитории было столько народу! По большей части парни, красивые и некрасивые, элегантные и неряшливые, суровые, напуганные, веселые. Но я с любопытством вглядывалась в девушек: ощущение было такое, будто я единственная из них пришла сюда в одиночку. Некоторые девчонки — например, те, следом за которыми я пришла сюда, — постоянно держались вместе, даже когда ходили по переполненной аудитории и раздавали листовки; они вместе кричали, вместе смеялись, а если вдруг приходилось разойтись на пару метров в разные стороны, не спускали друг с друга глаз, чтобы не потеряться. Давние подруги или случайные знакомые, казалось, они нарочно объединялись в группы, чтобы, находясь здесь, среди этого беспорядка и хаоса, такого обольстительного и в то же время слишком страшного, оставаться в одиночестве. Наверное, они заранее, в более спокойной обстановке, договорились, что, если одна решит уйти, уйдут и все остальные. Другие девушки, по одной или — максимум — по двое, входили в мужские компании. Эти веселились, вели себя вызывающе, чувствовали себя в компании с парнями как рыба в воде и казались мне самыми счастливыми, самыми напористыми и самыми гордыми из всех.
Я понимала, что я не такая, как они, и не имею права здесь находиться. Раз мне нечего прокричать, нечего и оставаться среди табачного дыма, напомнившего мне об Антонио: он тоже курил, когда мы обнимались на прудах. По сравнению с ними я была слишком бедной и слишком загнала себя, стремясь непременно учиться лучше всех. Я почти не ходила в кино, никогда не покупала пластинок с любимой музыкой, у меня не было кумиров среди музыкальных исполнителей, я не бегала на концерты, не собирала автографы, никогда не напивалась, а мой небогатый сексуальный опыт дался мне совсем не просто, и я до сих пор сама его побаивалась. А эти девушки — кто побогаче, кто победнее — все же росли в значительно более комфортных условиях и, когда настала пора сбросить старую кожу и обзавестись новой, оказались куда более подготовленными, чем я. Наверняка они не считали, что сошли с рельсов на пути к цели, а, наоборот, воспринимали здешнюю атмосферу как результат собственного единственно верного выбора. «Теперь, когда у меня появилось немного денег, — подумала я, — я могу хоть отчасти наверстать упущенное…» Но я ошибалась. Я была слишком хорошо образованна, слишком мало знала о жизни, слишком хорошо владела собой, слишком привыкла жить спокойно, накапливая мысли и знания, и, наконец, я собиралась выйти замуж и окончательно определиться в жизни, — в общем, я слишком любила порядок, а находясь здесь, рисковала им. Последняя мысль напугала меня. «Прочь из этого места, немедленно, — приказала я себе, — каждое услышанное здесь слово звучит оскорблением потраченным мной огромным усилиям». Но вместо того чтобы сбежать, я проскользнула внутрь переполненной аудитории.
С первого взгляда меня поразила одна девушка — явно младше меня, очень красивая, с тонкими чертами лица, черными длинными распущенными волосами. Я смотрела на нее и не могла глаз отвести. Ее окружали решительно настроенные парни, за спиной, как телохранитель, стоял темноволосый мужчина лет тридцати и курил сигару. Из толпы она выделялась не только красотой, но и тем, что держала на руках младенца нескольких месяцев от роду: она кормила его грудью и в то же время умудрялась внимательно следить за спором, а иногда и сама что-то выкрикивала. Когда ребенок — из голубого одеяльца выбились наружу красные ручки и ножки — отпускал сосок, она не спешила прятать грудь в бюстгальтер, а оставалась стоять как стояла — расстегнутая блузка, припухшая грудь, хмурое лицо, поджатые губы. Потом она замечала наконец, что ребенок перестал сосать, и снова машинальным жестом прикладывала его к груди.
Вид этой девушки меня потряс. В этой шумной, душной аудитории она казалась иконой неправильного материнства. Она была младше меня, красавица, на ней лежала ответственность за ребенка. Но при этом она делала все возможное, чтобы не походить на молодую заботливую мать. Она кричала, размахивала руками, просила слова, неистово смеялась, презрительно показывала на кого-то пальцем. Несмотря на все это, ребенок был частью ее, искал грудь, потом терял ее и снова находил. Вместе они представляли собой пугающую картину, будто нарисованную на стекле, — того и гляди разобьется! Ребенок в любой момент мог выскользнуть у нее из рук, кто-нибудь мог случайно ударить его локтем по голове. Я обрадовалась, когда рядом с ней вдруг появилась Мариароза. Наконец-то! Какая она была живая, яркая, приветливая. Очевидно, они с молодой матерью были близко знакомы. Я помахала ей рукой, но она меня не заметила. Сказала что-то на ухо девушке, исчезла, появилась вновь, на сей раз среди спорщиков у кафедры. Тем временем в боковую дверь ворвалась группа людей, одним своим появлением немного утихомирив собравшихся. Мариароза подала кому-то знак рукой, дождалась ответного, взяла мегафон и произнесла несколько слов, после которых в аудитории настала тишина. В тот миг у меня мелькнуло ощущение, что гремучая смесь из атмосферы Милана, студенческих волнений и моего собственного возбуждения способна изгнать из моей головы прочно обосновавшиеся в ней тени. Сколько раз за последние дни я вспоминала человека, давшего мне азы политической культуры? Мариароза передала мегафон молодому парню, которого я не могла не узнать. Это был Франко Мари, мой любовник времен учебы в Пизе.
15
Он ничуть не изменился: тот же решительный тон, та же манера выстраивать речь: начинал он всегда с общих рассуждений, а затем — мысль за мыслью, буквально ведя публику за собой, — переходил к анализу конкретного события, раскрывая его подоплеку. Теперь я пишу это и понимаю, что очень плохо помню его внешне; в памяти сохранились только бледное выбритое лицо и короткая стрижка. Странно, что я не помню его тела, ведь на тот момент это был единственный мужчина, с которым у меня была длительная связь.
Я пробралась к Франко после его выступления; он обнял меня, его глаза горели от удивления. Но поговорить нам не удалось: кто-то уже тянул его за руку, кто-то другой бросался на него, настырно и громко что-то доказывая, будто он был в чем-то виноват. Я стояла среди этих людей, возле кафедры, и мне было страшно неловко. К тому же я потеряла в толпе Мариарозу. Однако вскоре она сама нашла меня и взяла за руку.
— Что ты здесь делаешь? — радостно спросила она.
Я не стала объяснять ей, что пропустила назначенную встречу и попала сюда случайно.
— Я его знаю, — сказала я, указав на Франко.
— Мари?
— Да.
Она вдохновенно заговорила со мной о Франко, а потом прошептала: «Они мне не простят, это ведь я его пригласила. Мы разворошили осиное гнездо!» Он должен был переночевать у нее и на следующий день уехать в Турин. Мариароза настояла, чтобы я тоже поехала. Я согласилась — прощай, отель!
Собрание шло долго, обстановка была напряженной, чтобы не сказать взрывоопасной. Мы вышли из университета, когда уже темнело. Помимо Франко к Мариарозе присоединилась молодая мать — ее звали Сильвия — и мужчина лет тридцати, которого я заметила еще в аудитории, тот самый, что курил сигару, — некто Хуан, художник из Венесуэлы. Все вместе по совету Мариарозы мы отправились ужинать в тратторию. Я успела переброситься с Франко парой слов, но их хватило, чтобы понять, что я ошиблась: он изменился. Как будто на него надели (или он сам на себя надел) маску, которая идеально копировала черты его лица, но в то же время скрывала его былое великодушие. Теперь он был сдержан, зажат, взвешивал каждое слово. Во время нашего недолгого и с виду доверительного дружеского разговора он ни разу не упомянул о наших прежних отношениях, а когда я заговорила о них и посетовала, что он перестал мне писать, он отрезал: «Так было нужно». На вопросы об университете отвечал расплывчато: я догадалась, что он так и не получил диплом.
— Я занят другими вещами.
— Какими?
Он обернулся к Мариарозе, которой, должно быть, наскучила наша беседа один на один.
— Элена спрашивает, чем я занимаюсь.
— Революцией, — весело ответила она.
— А в свободное время? — подхватила я ее иронический тон.
Хуан, сидевший рядом с Сильвией и нежно гладивший худенький кулачок ее ребенка, ответил серьезно:
— А в свободное время — подготовкой к революции.
После ужина мы все сели в машину Мариарозы и поехали к ней домой. Жила она в районе Сант-Амброджо, в огромной старой квартире. Как обнаружилось, у венесуэльца там было что-то типа студии — комната в страшном беспорядке, куда нас с Франко повели смотреть его работы — большие картины с изображением многолюдных, написанных с практически фотографической точностью урбанистических пейзажей, испорченные прибитыми поверх тюбиками краски, кисточками, палитрами, мисками для скипидара, тряпками. Мариароза очень хвалила его работы, обращаясь в первую очередь к Франко, мнением которого особенно дорожила.
Я наблюдала за ними и ничего не могла понять. Без сомнения, Хуан жил здесь, без сомнения, здесь же жила Сильвия, которая уверенно расхаживала по квартире со своим сыном Мирко. Сначала я подумала, что художник и молоденькая мама — пара и снимают здесь комнату, но вскоре поняла, что ошиблась. На самом деле вся забота венесуэльца о Сильвии была простой вежливостью, зато его рука часто обвивала плечи Мариарозы, а один раз он даже поцеловал ее в шею.
Сначала все долго обсуждали произведения Хуана. Франко обладал завидными познаниями в области изобразительного искусства, и его суждения отличались глубиной и меткостью. Мы увлеченно слушали его, все, кроме Сильвии: малыш, который до сих пор вел себя идеально, вдруг расплакался, и она никак не могла его успокоить. Я надеялась услышать от Франко что-нибудь о своей книге: наверняка он мог бы сказать о ней много интересного, как о картинах Хуана — кстати, о них он высказался довольно резко. Но о моей повести никто так и не упомянул. Венесуэлец, которому замечания Франко о связи искусства с социальными проблемами не очень понравились, возмущенно фыркнул, и разговор перекинулся на темы итальянской культурной отсталости, политической обстановки, последствий выборов, слабостей социал-демократии, студенчества и полицейских репрессий и того, что все называли французскими уроками. Полемика между мужчинами велась уже на повышенных тонах. Сильвия, не понимая, чего хочет Мирко, бранила его как взрослого и, расхаживая с сыном на руках по коридору или переодевая его в соседней комнате, время от времени вставляла в спор свое замечание, туманное по смыслу, но явно неодобрительное. Мариароза сказала, что в Сорбонне для детей бастующих студентов организовали ясли, и вспомнила Париж в первые дни июня — дождливый, холодный и парализованный всеобщей забастовкой. Сама она там не была (о чем сожалела), но получила письмо от близкой подруги. Франко и Хуан слушали ее краем уха, захваченные своим спором, тональность которого становилась все более враждебной.
Мы, три женщины, наблюдали за ними, как три сонные коровы, ожидающие, пока перестанут бодаться сцепившиеся быки. Меня это разозлило. Я надеялась, что Мариароза присоединится к разговору, рассчитывая последовать ее примеру, но Франко и Хуан не оставляли нам такой возможности. Ребенок по-прежнему плакал, и Сильвия начала терять терпение. Мне подумалось, что Лила была даже моложе, когда родила Дженнаро. Я поняла, что еще во время собрания мысленно провела между ними параллель. Действительно, Лила после ухода Нино и разрыва со Стефано тоже осталась одна с ребенком на руках. Или дело было в красоте? Окажись Лила с Дженнаро в студенческой аудитории, она благодаря своей привлекательности и решительному характеру произвела бы на окружающих еще более сильное, чем Сильвия, впечатление. Но Лила была отрезана от событий, свидетельницей которых я стала. Даже если бы волна, захлестнувшая студенчество, докатилась до Сан-Джованни-а-Тедуччо, на колбасном заводе ее просто никто не заметил бы — слишком гиблое это было место. Я почувствовала укол вины: надо было забрать ее оттуда, увезти силой, взять с собой в мои путешествия. Или хотя бы продолжать слышать в себе ее голос, не позволять ему умолкнуть. Вот как сейчас. Мне и правда почудилось, что это она сердито говорит: «Что ты торчишь там как комнатное растение? Если не можешь заткнуть эту парочку, хоть девушке помоги. Представь себе на минутку, каково ей одной с младенцем!» У меня в голове все смешалось — время, пространство, чувства. Я подскочила к Сильвии и осторожно забрала у нее ребенка — она охотно вручила его мне.
16
Это был незабываемый момент. Какой чудесный малыш! Мирно меня очаровал. Он и правда был прелесть — весь розовый, ножки и ручки в перетяжечках, хорошенькое личико, ясные глазки, густые волосики! От него восхитительно пахло! Все это я тихонько нашептывала ему, расхаживая по квартире и укачивая его. Мужские голоса отдалились, а вместе с ними — идеи, которые они отстаивали, и их враждебный тон. Зато меня охватило чувство доселе неведомого наслаждения. Я ощущала тепло подвижного тельца ребенка, и мне казалось, что благодаря этому прекрасному в своем совершенстве комочку жизни мои способности к восприятию обострились до крайней степени, я постигла, что такое нежность и ответственность, и была готова защитить его от всех злых теней, прятавшихся в темных углах этого дома. Мирко, вероятно, почувствовал это, перестал плакать и уснул. Мне было очень приятно, я гордилась, что смогла его успокоить.
Когда я вернулась в гостиную, Сильвия сидела на коленях у Мариарозы, слушала разговор мужчин и вмешивалась в него, отпуская резкие реплики. Она повернулась ко мне и, должно быть, заметила, с каким удовольствием я прижимаю к себе ее сына. Она вскочила, забрала у меня Мирко, бросив сухое «спасибо», и понесла его в кроватку. Лишенная тепла Мирко, я села на свое место в полном смятении мыслей и чувств. Мне хотелось, чтобы мне вернули этого ребенка, я надеялась, что он опять заплачет и Сильвия обратится ко мне за помощью. Что со мной происходит, думала я. Неужели я хочу детей? Хочу забеременеть, родить, кормить грудью, петь колыбельные? Хочу замуж? Вдруг в тот самый миг, когда я наконец почувствую себя в полной безопасности, из моего собственного живота вылезет моя мать?
17
Мне было трудно сосредоточиться на осмыслении «французского урока» и сути затянувшегося спора мужчин. Но и молчать мне надоело. Меня так и подмывало поделиться сведениями, почерпнутыми из недавно прочитанных газет, высказаться о ситуации в Париже, но в голове царил сумбур, и я не могла внятно сформулировать ни одну мысль. Я поражалась, что и Мариароза — такая умная и независимая — тоже хранила молчание и лишь с ободряющей улыбкой кивала, поддерживая Франко, что нервировало Хуана — он заметно терял апломб. Раз она молчит, сказала я себе, тогда скажу я. Иначе зачем я согласилась сюда прийти, хотя могла бы спокойно отдыхать в отеле? Я знала ответ на этот вопрос. Мне хотелось показать — тем, кто знал меня раньше, — какой я стала сегодня. Мне хотелось, чтобы Франко понял: я не просто его бывшая подружка, теперь я совершенно другой человек. Мне хотелось, чтобы он в присутствии Мариарозы признал, что относится ко мне новой с заслуженным уважением. Поэтому — мальчик уснул, и Сильвия ушла к нему в комнату, так что они больше во мне не нуждались, — я старательно искала повод опровергнуть слова своего бывшего любовника и наконец его нашла. С моей стороны это была чистая импровизация: мною двигали не выстраданные убеждения, а желание выступить против Франко. В голове у меня засела целая куча лозунгов, которыми я с напускной уверенностью и принялась жонглировать. В общих чертах я говорила о том, что у меня вызывают сомнения утверждения о нарастании во Франции классовой борьбы, а вероятный союз студентов с трудящимися представляется мне абстракцией. Говорила я решительно, боясь, что один из мужчин меня перебьет и их спор потечет по прежнему руслу. Но все, включая Сильвию, которая вернулась в гостиную на цыпочках и без ребенка, слушали меня внимательно. Ни Франко, ни Хуан не проявляли ни малейших признаков нетерпения, а венесуэлец, после того как я дважды или трижды произнесла слово «народ», одобрительно закивал. «То есть ты настаиваешь, что нынешняя ситуация не является объективно революционной?» — не выдержал Мари. Я знала этот его ироничный тон: с его помощью он пытался подчеркнуть, что я ляпнула глупость. Между нами вспыхнула перепалка: мы перебрасывались репликами, как мячиком: не понимаю, какой смысл ты вкладываешь в слово «объективно», смысл такой, что переход к активным действиям неизбежен; если он неизбежен, значит, тебе делать нечего; ничего подобного, революционер обязан делать все от него зависящее; во Франции студенты сделали больше, они сломали систему образования, и ее уже не восстановить; вот и признай, что все меняется и будет меняться дальше; да, но ни от тебя, ни от кого бы то ни было не требуется сертификат с печатью, удостоверяющий, что революционная ситуация объективно сложилась, студенты сами перешли к активным действиям, вот и все; неправда; именно что правда! И так далее, пока мы вдруг оба одновременно не умолкли.
Это был необычный спор — не по содержанию, а по накалу: мы говорили, не задумываясь о хорошем тоне. Я заметила, что Мариароза смотрит на нас с особым любопытством: она догадалась, что нас связывало нечто большее, чем совместная учеба в университете. «Помогите-ка мне!» — обратилась она к Сильвии и Хуану. Ей нужна была стремянка, чтобы достать из шкафа постельное белье для Франко и для меня. Они ушли, и я видела, что Хуан что-то шепнул Мариарозе на ухо.
Франко тут же уставился в пол, сжал губы, будто пытаясь сдержать улыбку, и ласково сказал:
— Ты так и осталась мещанкой.
Так он в шутку называл меня несколько лет назад, когда я боялась, что меня застанут у него в комнате. Поскольку мы были одни, я довольно резко ответила:
— На себя посмотри. Вспомни свое происхождение и воспитание. Да и поведение тоже.
— Я не хотел тебя обидеть.
— А я и не обижаюсь.
— Ты изменилась. Стала злюкой.
— Я все та же.
— Дома все нормально?
— Да.
— А как твоя подруга? Кажется, ты была к ней очень привязана…
Этот его вопрос сбил меня с толку. Что я рассказывала ему о Лиле? В каких выражениях? С какой стати он вспомнил о ней сейчас? Что в нашем споре натолкнуло его на мысль о ней? И почему он углядел эту связь, а я — нет?
— У нее все хорошо.
— Чем она занимается?
— Работает на колбасном заводе под Неаполем.
— Разве она не замужем за лавочником?
— Брак продлился недолго.
— Познакомь меня с ней, когда буду в Неаполе.
— Обязательно.
— Оставишь мне ее адрес и телефон?
— Конечно.
Он смотрел на меня сочувственно, будто всеми силами старался не причинять мне лишней боли.
— Она прочла твою книгу?
— Не знаю. А ты прочел?
— Конечно.
— И как она тебе?
— Хорошо.
— В каком смысле?
— В ней есть хорошие страницы.
— Какие?
— Те, на которых главная героиня по-своему соединяет фрагменты окружающей действительности.
— И все?
— А этого недостаточно?
— Нет. Просто книга тебе не понравилась.
— Я уже сказал: хорошая книга.
Я знала его: он не хотел меня обидеть, и это меня разозлило.
— О ней много спорят, и она хорошо продается, — сказала я.
— Вот и отлично, разве нет?
— Да, но тебе-то она не понравилась. Что с ней не так?
Он снова поджал губы и наконец решился:
— В ней нет ничего особенного, Элена. За любовными интрижками героев и их стремлением подняться по социальной лестнице ты прячешь то, о чем действительно стоило бы рассказать.
— Что именно?
— Не важно. Забудь. Поздно уже, спать пора.
Он старался вернуться к насмешливо-доброжелательному тону, но на самом деле ни на йоту не отступил от своей новой роли человека, поглощенного выполнением настолько важной миссии, что все остальное его мало интересовало.
— Ты сделала все от тебя зависящее, верно? Просто сейчас — объективно — не время писать романы.
18
В гостиной появились Мариароза с Хуаном и Сильвией, они принесли чистые полотенца и простыни. Без сомнения, Мариароза слышала последнюю фразу и, конечно же, поняла, что речь идет о моей книге. Она могла бы сказать, что ей книга понравилась и что романы следует писать в любое время, но промолчала. Из этого я сделала вывод, что при всей ко мне симпатии в этом кругу — образованном и охваченном политическими страстями — мою книгу не воспринимают всерьез: страницы, благодаря которым она получила популярность, расцениваются либо как разбавленная версия гораздо более скандальных произведений — которых я, к слову сказать, не читала, — либо удостаиваются пренебрежительного ярлыка «любовной интрижки», о чем только что говорил Франко.
Мариароза с торопливым радушием показала мне ванную и мою спальню. Мы простились с Франко: он уезжал рано утром. Я пожала ему руку; он тоже не собирался меня целовать. Я видела, как он скрылся в комнате Мариарозы; по мрачному выражению лица Хуана и несчастным глазам Сильвии я поняла, что гость и хозяйка дома будут спать вместе.
Я отправилась в выделенную мне спальню. Застоявшийся запах курева, неубранная постель, ни тумбочки, ни ночника, только тусклая лампочка в центре потолка да куча газет на полу, несколько выпусков литературных журналов — «Менабо́», «Нуово импеньо», «Маркатре́», дорогие книги по искусству — одни в ужасном состоянии, другие, судя по всему, вообще не читанные. Под кроватью обнаружилась полная окурков пепельница; я открыла окно, поставила ее на подоконник, разделась. Ночная рубашка, которую мне дала Мариароза, оказалась слишком тесной и длинной. Босиком, в полутьме я поплелась по коридору в ванную. Отсутствие зубной щетки меня не смущало: в детстве никто не приучал меня чистить зубы, эту привычку я не так давно приобрела в Пизе.
Лежа в постели, я пыталась выкинуть из головы Франко, каким увидела его сегодня, и вспомнить его прежнего — богатого и щедрого парня, который любил меня, помогал мне, учил меня, покупал мне разные вещи, брал меня с собой на политические собрания в Париж и возил в Версилию, в родительский дом. Но у меня ничего не вышло. Новый Франко, с его несдержанностью, шумным выступлением в переполненной аудитории, политическим жаргоном, отзвуки которого продолжали гудеть у меня в ушах, вытесняя из сознания мою книгу, мгновенно лишившуюся всякого смысла, оказался сильнее. Неужели я обманываю себя, веря в свое литературное будущее? Что, если Франко прав, и мне следует бросить писать романы и заняться чем-нибудь другим? Какое впечатление я произвела на него? Что он помнил со времен нашей любви, если вообще что-то помнил? Может, он жаловался на меня Мариарозе, как Нино жаловался мне на Лилу? Я была расстроена и разочарована. Я ожидала приятного, слегка меланхоличного вечера, а он обернулся глубокой печалью. Скорее бы утро. Скорее бы вернуться в Неаполь. Чтобы выключить свет, мне пришлось встать с кровати, а потом искать ее в темноте.
Мне не спалось, я ворочалась с боку на бок в постели, хранившей запахи чужих тел: вроде все как дома, но все не так; повсюду следы посторонних, порой отталкивающих жизней. Я задремала, но вскоре проснулась оттого, что кто-то вошел ко мне в комнату. «Кто здесь?» — шепотом спросила я. И услышала голос Хуана; без предисловий, словно речь шла о мелкой услуге, он спросил:
— Можно я лягу с тобой?
Просьба показалась мне настолько нелепой, что я, чтобы убедиться, что не сплю и правильно его поняла, переспросила:
— Ляжешь со мной?
— Да. Я тебе не помешаю, просто лягу рядом: не хочется оставаться одному.
— Ни в коем случае!
— Почему?
Я не знала, что ответить.
— Потому что у меня есть жених, — пробормотала я.
— И что? Мы же просто поспим, и все.
— Уходи, пожалуйста! Я тебя даже не знаю!
— Меня зовут Хуан, ты видела мои картины. Что еще ты хочешь знать?
Он сел на кровать, я увидела темный силуэт, почувствовала его дыхание, запах сигар.
— Прошу тебя, уйди, — не отступала я. — Я спать хочу.
— Ты же писательница, пишешь о любви. Все, что с нами происходит, подпитывает воображение и помогает творить. Пусти меня, и тебе будет о чем рассказать читателю.
Он коснулся моей ноги кончиками пальцев. Я не выдержала, вскочила и бросилась к выключателю. Зажегся свет. Хуан так и остался сидеть на кровати в трусах и майке.
— Вон отсюда, — прошипела я настолько решительно, что он понял: сейчас я или заору, или накинусь на него с кулаками, и медленно встал с кровати.
— Ханжа, — с отвращением произнес он.
Он ушел. Я закрыла за ним дверь, но у меня не было ключа, чтобы запереться.
Я была в ужасе, в ярости, страшно напугана, в голове крутились самые жуткие ругательства на диалекте. Я не сразу вернулась в постель и не стала гасить свет. За кого они меня принимают? Разве я дала Хуану повод так себя со мной вести? Или это из-за книги? Может, они решили, что я девушка свободных взглядов? Или на них произвело впечатление мое участие в политическом споре? Очевидно же, что это был не просто теоретический диспут и не игра, затеянная ради того, чтобы доказать им всем, что я ничуть не хуже мужчин? Вступив в схватку с Франко, я перед ними раскрылась, но почему они поторопились сделать вывод о моей сексуальной доступности? Разве одного того факта, что я согласилась приехать к Мариарозе, было достаточно, чтобы посторонний мужчина посмел вломиться ко мне в комнату — так же бесцеремонно, как Мариароза увела к себе в комнату Франко? Или я незаметно для себя поддалась тому неясному эротическому возбуждению, которое витало в университетской аудитории, и не смогла его скрыть? Ведь именно здесь, в Милане, я готова была изменить Пьетро и переспать с Нино. Но Нино был моей давней любовью, и это многое объясняло. Но секс как таковой, примитивный секс ради оргазма, — ну уж нет, это не для меня. До этого я еще не докатилась. Почему в Турине друг Аделе решил, что меня можно лапать? Почему ко мне заявился Хуан? Чего они от меня ждали? И что хотели мне показать? Мне вдруг вспомнилась история с Донато Сарраторе. Но не тот вечер на пляже на Искье, который я потом описала в своей повести, а другой, когда я спала на кухне в доме у Неллы, а он пришел ко мне, целовал меня и гладил, а я помимо своей воли испытала прилив удовольствия. Существовала ли связь между той напуганной, сбитой с толку девчонкой и нынешней женщиной, к которой пристают в лифте, к кому врываются в комнату? И неужели блестяще образованный Тарратано, друг Аделе, и венесуэльский художник Хуан слеплены из того же теста, что и отец Нино, железнодорожный контролер, рифмоплет и продажный писака?
19
Сон ко мне не шел. Я перенервничала, в голове царил сумбур, а тут еще Мирко проснулся и зашелся плачем. Я вспомнила, с каким удовольствием держала на руках ребенка, и не стерпела. Встала, пошла на звук плача и вскоре оказалась у двери, из-под которой сочился свет. Я постучала, и Сильвия грубо отозвалась: «Войдите». Комната была уютнее моей, в ней стоял старый шкаф, комод, двуспальная кровать, на которой сидела, скрестив ноги, молодая женщина в короткой розовой ночной сорочке и смотрела на меня злобным взглядом. Ее руки бессильно сжимали и комкали смятые простыни. Мирко — голый, с побагровевшим личиком — лежал у нее на коленях, щурил щелочки глаз и надрывался от крика, суча руками и ногами. Сначала Сильвия повела себя со мной враждебно, но вскоре оттаяла. Призналась, что она в отчаянии, что она плохая мать и не знает, что ей дальше делать. «Он постоянно орет, если не ест. Наверное, болеет. Умрет тут со мной, прямо на этой кровати…» — прошептала она. Я посмотрела на нее: она ни капли не походила на Лилу — некрасивая, с перекошенным ртом, выпученными глазами. Она разрыдалась.
У меня сжалось сердце. Мне хотелось обнять их обоих, и мать и сына, защитить и утешить. «Можно я возьму его на руки?» — спросила я. Продолжая всхлипывать, она кивнула. Я сняла с ее коленей мальчика, прижала к груди и снова ощутила уже знакомый прилив запахов, звуков, тепла, будто ребенок после разлуки торопился поделиться со мной своими жизненными силами. Я ходила с ним взад-вперед по комнате и, как нескладную молитву, выдумывая на ходу, бормотала бессвязные слова любви. Как ни удивительно, Мирко успокоился и уснул. Я тихонько положила его рядом с матерью, хотя мне очень не хотелось с ним расставаться. Я боялась, что, вернувшись в свою комнату, обнаружу там Хуана. Я предпочла бы остаться у Сильвии.
Сильвия поблагодарила меня, но без всякой искренности, ледяным голосом добавив к обычному «спасибо» перечень моих достижений: «Ты умна, все знаешь, умеешь заставить себя уважать, у тебя материнский талант: твоим будущим детям можно только позавидовать». Я смутилась и сказала, что пойду спать. Тут она вдруг испуганно схватила меня за руку и попросила остаться: «Он чувствует, когда ты рядом, и спит спокойно. Пожалуйста, останься!» Я согласилась. Мы погасили свет, легли в постель, уложив мальчика посередке, но, вместо того чтобы спать, принялись рассказывать друг другу о себе.
В темноте Сильвия помягчела. Она говорила о том отвращении, которое испытала, узнав, что беременна. Она скрывала беременность не только от человека, которого любила, но и от себя самой, словно старалась поверить, что все пройдет само, как проходит болезнь. Но Сильвия начала полнеть, у нее появился живот, и ей пришлось признаться родителям — зажиточным интеллигентам из Монцы. Дома был страшный скандал, и Сильвия ушла из дома. Но вместо того чтобы честно сказать себе: чуда не произошло и ничего не рассосалось, а решиться на аборт ей мешает страх перед последствиями для здоровья, она внушила себе, что хочет этого ребенка из любви к мужчине, от которого забеременела. Он тоже заявил: «Раз ты хочешь ребенка, значит, и мне он нужен, потому что я люблю тебя». В тот момент никто из них не врал: она была влюблена в него, он — в нее. Но несколько месяцев спустя, незадолго до родов, любовь прошла, причем у обоих. Сильвия особенно настаивала на этом обстоятельстве, повторив эту болезненную подробность несколько раз. Между ними не осталось ничего, кроме взаимной неприязни. Она оказалась в полном одиночестве, и только благодаря Мариарозе ей до сих пор удавалось худо-бедно выживать. Сильвия говорила о ней с глубоким чувством: «Она прекрасный преподаватель, который действительно занимает сторону студентов, и бесценный друг».
Я сказала, что вся семья Айрота достойна восхищения, а мы с Пьетро обручены и осенью поженимся. «А меня одна мысль о браке повергает в ужас, — ответила она резко. — Институт семьи безнадежно устарел!» Но вдруг сменила тон.
— Отец Мирко тоже работает в университете, — грустно сказала она.
— Правда?
— Я была его студенткой. Такой уверенный в себе, всегда готовый к лекции, такой умный, красивый! Просто идеальный мужчина! Волнениями еще и не пахло, а он уже нам говорил: «Перевоспитывайте своих преподавателей, не позволяйте им обращаться с вами как со скотом».
— О ребенке он хоть немного заботится?
Она хмыкнула:
— Мужчина, за исключением тех сумасшедших моментов, когда ты любишь его так, что позволяешь войти в себя, всегда остается в стороне. Поэтому потом, когда ты больше его не любишь, тебе становится неприятно даже думать о том, что когда-то он был тебе нужен. Я приглянулась ему, он приглянулся мне — вот и все. Я ко многим испытываю симпатию, по нескольку раз на дню. А ты что, нет? Но это быстро проходит. А ребенок с тобой, он часть тебя, в то время как его отец как был посторонним, так таким и остался. Даже имя его теперь звучит по-другому. Раньше я, едва проснусь, твердила: «Нино, Нино» — как магическое заклинание. А теперь мне его и слышать противно.
Повисла пауза. Потом я наконец негромко спросила:
— Значит, отца Мирко зовут Нино?
— Да, его в университете все знают. Он местная знаменитость.
— А как его фамилия?
— Нино Сарраторе.
20
Я уехала рано утром, оставив Сильвию спящей с малышом на груди. Художника нигде не было видно. Я попрощалась только с Мариарозой: она встала еще раньше, чтобы проводить Франко на вокзал, и как раз успела вернуться. Вид у нее был сонный и, как мне показалось, встревоженный.
— Хорошо спала? — спросила она.
— Мы долго болтали с Сильвией.
— Она рассказала тебе про Сарраторе?
— Да.
— Я знаю, что он твой друг.
— Это он тебе сказал?
— Да, мы немного посплетничали о тебе.
— Правда, что Мирко его сын?
— Да. — Она зевнула и улыбнулась. — Нино обворожителен, девушки сходят по нему с ума, прямо на части рвут. К счастью, в наше время можно делать что хочешь. Он дарит им радость, побуждает к действию.
Она сказала, что студенческому движению очень нужны такие люди, как он. Но и ему надо помогать расти над собой. «Одаренным людям необходима направляющая сила. Поскреби такого, и обнаружишь и буржуазного демократа, и главу предприятия, и реформатора…» Мне пора было уходить. Мы обе посетовали, что слишком мало времени провели вместе, и пообещали друг другу, что в следующий раз это исправим. Я забрала из отеля багаж и уехала.
Только в поезде по пути в Неаполь я наконец смогла переварить новость о втором отцовстве Нино. Нить звенящей тоски протянулась от Сильвии к Лиле, от Мирко — к Дженнаро. Мне подумалось, что страсть, разгоревшаяся на Искье, ночь любви в Форио, тайные свидания на пьяцца Мартири, беременность Лилы обесцветились и превратились в детали механизма, который Нино, покинув Неаполь, пустил в ход с Сильвией и неизвестно со сколькими еще девушками. Эта мысль оскорбила меня, будто где-то в дальнем уголке моего сознания засела Лила, заставляя меня чувствовать то же, что она. Я испытывала ту же горечь, какую испытала бы она, узнай о том, что знала я, и тот же гнев, словно это со мной обошлись так несправедливо. Нино предал и Лилу, и меня. Он оскорбил нас обеих, мы обе любили его, но он никогда не любил ни ее, ни меня. Несмотря на все свои прекрасные качества, он был человеком распутным, поверхностным, одержимым животными инстинктами, привыкшим оставлять за собой побочные последствия своих минутных удовольствий — зачатки живой материи, росшей и обретавшей форму в женском лоне. Мне вспомнилось, как несколько лет назад, в нашем квартале, когда он пришел повидаться со мной, мы стояли и разговаривали во дворе, и Мелина, выглянув в окно, приняла Нино за его отца. Бывшая любовница Донато уловила сходство, которого я не замечала. Теперь я знала, что она была права, а я ошибалась: на деле Нино так и не смог сбежать от своего отца, хоть и боялся стать таким же, как он. Хуже того, он уже стал им, пусть и не желал этого признавать.
Но возненавидеть его я не могла. В раскаленном от зноя поезде я снова думала о нашей встрече в книжном магазине, связывая ее со всем, что случилось и было сказано за последнее время. Поступки, разговоры, книги без конца возвращали меня к навязчивой теме секса, одновременно отталкивающей и притягательной. Вокруг рушились преграды, и оковы благополучия разбивались на куски. Нино жил по законам своего времени. Он был органичной частью того шумного университетского собрания с его особыми запахами, он прекрасно вписывался в беспорядочную жизнь дома Мариарозы, которая, вне всякого сомнения, и сама была его любовницей. Благодаря своему уму, своим желаниям и своему умению обольщать он смотрел на новую эпоху уверенно и с любопытством. Возможно, я зря сравнила его с отцом, этим похотливым развратником; Нино явно принадлежал к другой культуре. И Сильвия, и Мариароза в один голос утверждали: девушки сами вешались на него, и он давал им то, чего они желали: никакого насилия, никакого греха, все по обоюдному согласию. Когда Нино сказал мне, что у Лилы неправильное отношение к сексу, возможно, он как раз и имел в виду, что время взаимных претензий между близкими людьми прошло и не следует отягощать наслаждение какими-то обязательствами. Даже если он унаследовал натуру отца, его страсть к женщинам принимала совсем иные формы.
Поезд подходил к Неаполю, и после долгих размышлений о Нино я отчасти была готова признать, что в его позиции нет ничего особенного. Немного досадуя на себя, я подумала: а что плохого он делает? Наслаждается жизнью сам и дарит наслаждение всем желающим. Но когда я подъезжала к своему кварталу, меня посетила другая мысль: именно потому, что все девушки хотели его заполучить, а он никому не отказывал, я, влюбленная в него с давних пор, хочу его еще сильнее. Поэтому я решила любыми путями избегать встреч с ним. Что до Лилы, то я не знала, как поступить. Промолчать? Или рассказать ей обо всем? Ладно, сказала я себе, вот увидимся с ней, тогда и определюсь.
21
По приезде домой у меня не было ни времени, ни желания возвращаться к этому вопросу. Позвонил Пьетро и сообщил, что на следующей неделе приедет знакомиться с моими родителями. Я восприняла эту новость как неизбежное зло и посвятила себя поискам отеля для него, генеральной уборке дома и попыткам хоть немного успокоить родных. Последнее, впрочем, было бессмысленно: обстановка в доме только накалялась. По кварталу все шире ползли гадкие слухи обо мне, о моей книге, о том, что я постоянно езжу одна. Мать отбивалась от них, рассказывая всем, что скоро я выхожу замуж, но, не вдаваясь в подробности, чтобы не проболтаться, что мой жених безбожник, хвастала, что свадьба состоится не в Неаполе, а в Генуе. Пересуды после этого, к ее неудовольствию, только усилились.
Как-то вечером она набросилась на меня с особенным ожесточением, возмущаясь, что люди, прочитавшие мою книгу, считают ее похабной и шепчутся у нее за спиной. Братьям, орала она, пришлось подраться с сыновьями мясника, которые назвали меня шлюхой, и избить одноклассника Элизы, предложившего ей заняться тем же, чем занимается ее распущенная старшая сестра.
— Что ты там понаписала?
— Ничего, мам.
— Небось люди правду говорят, расписала всякие мерзости.
— Какие еще мерзости? Возьми да сама прочти.
— Еще чего! Некогда мне читать всякую срамоту.
— Тогда оставь меня в покое.
— Если отец узнает, что о тебе болтают, из дома выгонит.
— Не волнуйся, скоро сама уйду.
Был вечер. Я пошла прогуляться, чтобы не наговорить ей того, о чем потом буду жалеть. Мне казалось, что люди на улице, в парке, на шоссе внимательно разглядывают меня: ох уж эти злобные тени мира, в котором я больше не жила! По пути я случайно наткнулась на Джильолу; она как раз возвращалась с работы. Мы были соседками и пошли домой вместе. Всю дорогу я боялась, что она найдет способ поддеть меня. Но вместо этого, к моему огромному удивлению, Джильола, девица довольно вздорная и подлая, неожиданно робко проговорила:
— Я прочла твою книгу. Мне очень понравилось. Нужно быть очень смелой, чтобы описывать такие вещи.
Я остолбенела:
— Какие «такие»?
— Ну, те, которыми ты занималась на пляже.
— Это не я ими занималась, а моя героиня.
— Да, но ты так здорово все описала, Лену, все прямо как в жизни, вся эта грязь. Там много того, что только женщина может знать. — С этими словами она потянула меня за локоть, и мне пришлось остановиться. — Если увидишь Лину, передай ей, что она была права, теперь я это поняла. Она правильно сделала, что плюнула на мужа, мать, отца, брата, Марчелло, Микеле и все это дерьмо. Мне тоже надо было бежать отсюда, надо было брать пример с вас. Но вы умные, а я родилась дурой, ничего не поделаешь.
Больше ничего существенного мы друг другу не сказали: я остановилась на своей лестничной клетке, она отправилась к себе. Но ее слова врезались мне в память. Меня поразило, что жизненный крах Лилы и мой взлет она воспринимала как явления одного порядка, веря, что по сравнению с ней нам обеим повезло. Но еще больше меня впечатлило, что в «грязи», описанной в моей книге, она узнала нечто, произошедшее с ней самой. Для меня это стало открытием, и я пока не знала, как к этому отнестись. Тем более что вскоре приехал Пьетро, и я на время забыла об этом разговоре.
22
Я встретила его на вокзале, проводила в отель на виа Фиренце: мне его посоветовал отец. Мне показалось, что Пьетро волнуется еще больше моих родных. Одетый, как всегда, неряшливо, с усталым, раскрасневшимся от жары лицом, он сошел с поезда, волоча за собой огромный чемодан. Он решил купить моей матери цветы и, вопреки своей привычке к скромности, не успокоился, пока не выбрал самый большой и дорогой букет. Он оставил меня с этим букетом в холле гостиницы, сказав, что скоро вернется, и исчез на полчаса. Когда он спустился, на нем был синий костюм-тройка, белая рубашка, голубой галстук и начищенные до блеска туфли. Я рассмеялась. «Мне не идет, да?» — спросил он. Я успокоила его: выглядел он прекрасно. Но, пока мы шли по улице, я чувствовала у нас за спиной сальные взгляды мужчин и издевательские улыбочки, сопровождавшие меня, когда я ходила одна. Пожалуй, их было даже больше, чем всегда: они показывали, что мой спутник не заслуживает уважения. Пьетро с огромной охапкой цветов, который он нес сам, одетый с иголочки и всем своим видом источавший добропорядочность, плохо вписывался в мой город. Свободной рукой он обнимал меня за плечи, но меня не покидало ощущение, что не я, а он нуждается в защите. Нам открыла Элиза, затем вышел отец, за ним — братья, все празднично одетые и подчеркнуто приветливые. Мать показалась последней: сначала до нас донесся шум слива воды в сортире, сразу за ним — перестук неровных шагов. Она сделала укладку, слегка накрасила губы и щеки: мне подумалось, что когда-то она, наверное, была красивой девушкой. Она самодовольно приняла цветы, и мы расположились в столовой — ради торжественного случая в ней не осталось и следа от постелей, которые мы раскладывали по вечерам и убирали по утрам. В квартире царила безупречная чистота, был накрыт стол. Мать с Элизой готовили несколько дней подряд, и ужин длился бесконечно. Меня поразил Пьетро: он был невероятно общителен, расспрашивал моего отца о работе и слушал его с таким вниманием, что тот бросил мучительные попытки изъясняться на итальянском и перешел на диалект, начав рассказывать байки из жизни сотрудников муниципалитета, из которых мой жених мало что понимал, но делал вид, что ему очень интересно. Я никогда не видела, чтобы Пьетро так ел. Он не только нахваливал каждое блюдо, но и интересовался рецептами, будто полжизни проводил у плиты, хотя на самом деле был не способен поджарить и яичницу. Картофельной запеканкой он восторгался так, что мать положила ему огромную вторую порцию и даже пообещала, пусть и без особого энтузиазма, что до его отъезда приготовит ее для него еще раз. Атмосфера за столом очень быстро стала теплой. Даже Пеппе и Джанни передумали убегать из-за стола к друзьям и остались с нами.
После ужина началось самое главное. Пьетро торжественным голосом попросил у отца моей руки. Он использовал именно это выражение и произнес его с таким чувством, что моя сестра чуть не расплакалась, а братья развеселились. Отец засмущался и забормотал, что для него это огромная честь — такой приятный и серьезный молодой профессор… Казалось, дело близится к завершению, но тут вмешалась мать.
— Мы не согласны, — сказала она хмуро. — Если вы не будете венчаться. Брак без священника — не брак.
Наступила тишина. Должно быть, родители заранее договорились, что эту тему поднимет мать. Отец, впрочем, не выдержал и слегка улыбнулся Пьетро, чтобы показать ему, что он, хотя и принадлежит к «мы», заявленному женой, предпочел бы обсудить этот вопрос в более мягкой форме. Пьетро улыбнулся ему в ответ, но, понимая, что на сей раз главный собеседник не он, отныне обращался исключительно к матери. Я заранее предупредила его о враждебности моих родных, и он подготовился. Он говорил просто, доброжелательно, но, как всегда, очень четко. Сказал, что понимает их, но и сам, в свою очередь, надеется на их понимание. Что бесконечно уважает людей, искренне верующих в Бога, но себя таковым не ощущает. Что быть неверующим вовсе не означает ни во что не верить, что у него есть убеждения и он бесконечно верит в свою любовь ко мне. Что именно эта любовь скрепит наш брак, а не алтарь, священник или работник муниципалитета. Что отказ от церковного обряда для него вопрос принципа и что я непременно разлюбила бы его или, по крайней мере, любила бы меньше, если бы он показал себя человеком беспринципным. Наконец, что и моя мать, вне всякого сомнения, не смогла бы доверить свою дочь человеку, готовому просто так отречься от своих убеждений.
При этих его словах отец начал уверенно кивать в знак согласия, братья стояли разинув рты, Элиза опять растрогалась. Мать хранила невозмутимость. Несколько секунд она теребила обручальное кольцо на пальце, затем посмотрела Пьетро прямо в глаза и вместо того чтобы сдаться или продолжить спор, вдруг принялась с холодной решимостью превозносить мои достоинства. Она говорила, что я с детства была не такой, как другие дети. Что мне удавалось то, что было не под силу ни одной другой девчонке в квартале. Что я была и остаюсь ее гордостью, гордостью всей семьи. Что я никогда ее не разочаровывала. Что я заслужила право на счастье, и что, если кто-нибудь причинит мне боль, она постарается, чтобы этому человеку было в тысячу раз больнее.
Я слушала ее в замешательстве. Пока она говорила, я пыталась понять, говорит она это серьезно или, по своей привычке, дает Пьетро понять, что ей плевать на его профессорское звание и на всю его болтовню, что это не он делает одолжение семье Греко, а семья Греко делает одолжение ему. Я слушала ее, не веря своим ушам. Зато мой жених верил ей беспрекословно и соглашался с каждым ее словом. Когда она наконец замолчала, он сказал, что прекрасно знает, какое я сокровище, и бесконечно благодарен ей за то, что она воспитала такую дочь. Затем он сунул руку в карман пиджака, достал синий футляр и застенчиво протянул ее мне. Я удивилась — что это может быть? Кольцо он мне уже дарил. Неужели решил подарить еще одно? Я открыла футляр. В нем действительно лежало кольцо, причем невероятно красивое: из красного золота, с аметистом, обрамленным бриллиантами. «Это кольцо принадлежало моей бабушке, — тихо сказал Пьетро, — маминой матери. Вся наша семья очень рада, что оно достанется тебе».
Этот подарок ознаменовал окончание ритуальной части вечера. Мужчины еще выпили, отец снова пустился рассказывать смешные случаи из жизни, Джанни поинтересовался, за кого болеет Пьетро, а Пеппе предложил ему помериться силой рук. Я помогала сестре убрать со стола и имела неосторожность спросить у матери на кухне:
— Ну и как тебе?
— Кольцо?
— Нет, Пьетро.
— Некрасивый: ноги кривые.
— Папа был не лучше.
— Ты что-то имеешь против своего отца?
— Нет, ничего.
— Вот и помолчи, а то ты только с нами смелая.
— Неправда.
— Да ну! А что же ты тогда позволяешь собой командовать? Видите ли, у него принципы… А у тебя что же, нет их? Можешь ты заставить себя уважать?
— Мам, — вмешалась Элиза, — Пьетро — культурный человек, ты же не знаешь, что значит быть по-настоящему культурным человеком…
— А ты прямо знаешь! Помолчи, а не то надаю. Видела, что у него с прической? Разве может культурный человек ходить такой нечесаный?
— Быть культурным — не значит обладать какой-то внешностью, это особый склад характера.
Мать чуть не ударила ее, но сестра рассмеялась и утащила меня с кухни.
— Как же тебе повезло, Лену, — сказала она весело. — Какой он милый! И как любит тебя! Он ведь подарил тебе семейную реликвию, бабушкино кольцо, да? Покажешь?
Мы вернулись в столовую как раз в тот момент, когда вся мужская половина семейства собралась испытать силу рук моего жениха: им очень хотелось показать, что они превосходят профессора хотя бы физически. Он не отступил: снял пиджак, засучил рукава рубашки и сел за стол. Он проиграл и Пеппе, и Джанни, и моему отцу. Но меня изумило, как он старался выиграть. Он побагровел, у него проступила вена на лбу, он кричал, что его соперники играют против правил, и упорно сражался с Пеппе и Джанни, тягавшими штангу, и с отцом, привыкшим отвинчивать гайки двумя пальцами. Все время, пока они состязались, я боялась, что он даст им сломать себе руку, лишь бы не проиграть.
23
Пьетро пробыл с нами три дня. Отец и братья быстро привязались к нему. Последние особенно были рады тому, что он не задавался и проявлял к ним интерес, хотя в школе их считали бездарями. Мать, напротив, вела себя с ним не особенно дружелюбно и только накануне его отъезда оттаяла. Это было в воскресенье. Отец сказал, что хочет показать зятю все красоты Неаполя, тому понравилась идея, и он предложил поужинать где-нибудь всем вместе.
— Мы пойдем в ресторан? — нахмурилась мать.
— Да, синьора, нам есть что отметить.
— Лучше я сама приготовлю ужин, мы же обещали накормить тебя запеканкой.
— Спасибо, синьора, но вы и так слишком много для меня сделали.
Во время сборов мать отвела меня в сторону и спросила:
— А платить он будет?
— Да.
— Уверена?
— Конечно, мам, он же нас пригласил.
Утром, празднично одетые, мы отправились в центр. И тут случилось то, что поразило меня до глубины души. Поначалу отец взял на себя роль гида. Он показал гостю замок Маскио Анджоино, Королевский дворец, статуи правителей, Кастель-дель-Ово, виа Караччоло, море. Пьетро слушал его очень внимательно. Но в какой-то момент он, гулявший по нашему городу в первый раз, начал сам, немного смущаясь, рассказывать нам о Неаполе, открывая новые, неизвестные нам факты. Это было прекрасно. Я никогда особенно не интересовалась местами, с которыми были связаны мои детство и отрочество, и меня потрясло, с каким восхищением говорил о моем городе Пьетро. Он рассказывал нам об истории Неаполя, неаполитанской литературе, сказках, легендах, памятниках — как сохранившихся, так и утраченных по чьей-то халатности, — пересказывал анекдоты из жизни города. Я понимала, что он знал город так хорошо не только потому, что знал вообще все, но и потому, что это был мой город. Отец быстро почувствовал себя низринутым с трона, братья заскучали. Я заметила это и дала понять Пьетро, что рассказ пора заканчивать. Он покраснел и тут же умолк. Но мать, как всегда, была непредсказуема — она повисла у него на руке и сказала:
— Продолжай, мне так нравится! Мне никто никогда ничего такого не рассказывал.
Обедать мы отправились в «Санта-Лючию»; по словам моего отца, это был прекрасный ресторан (сам он, разумеется, там не бывал, но слышал о нем).
— Я могу заказать все, что захочу? — шепнула мне на ухо Элиза.
— Конечно.
Обстановка в ресторане была спокойная. Мать выпила лишнего и отпустила пару неприличных выражений, отец, братья и Пьетро шутили между собой. Я глаз не могла отвести от своего будущего мужа: сомнений не было, я любила его. Этот человек знал себе цену и в то же время при необходимости умел с такой легкостью забывать о себе. Я в первый раз в жизни заметила, как внимательно он умеет слушать, с каким участием говорит с собеседником, — настоящий исповедник в миру. Этот его тон и голос очень мне нравились. Возможно, мне стоило убедить его остаться еще на день и познакомить с Лилой? Я скажу ей: «Я выхожу замуж за этого человека и уезжаю с ним из Неаполя. Как думаешь, правильно я поступаю?» Я как раз мысленно взвешивала, стоит ли мне так поступить, когда заметила за соседним столиком компанию из пяти-шести студентов, которые что-то отмечали за пиццей и, поглядывая в нашу сторону, обменивались смешками. Я поняла, что их развеселил вид Пьетро с его густыми бровями и свисающей на лоб копной волос. Несколько минут спустя мои братья не сговариваясь одновременно встали из-за стола, подошли к студентам и что-то им сказали — подозреваю, что-то не слишком приятное. Те ответили, началась перепалка, раздались крики, кто-то кого-то ударил. Мать в поддержку сыновей разразилась потоком брани, отец и Пьетро бросились разнимать дерущихся. Пьетро это происшествие скорее позабавило: по-моему, он так и не понял, из-за чего разгорелась ссора. «Это что, местный обычай, — пошутил он, когда мы вышли на улицу, — подойти и ни с того ни с сего наброситься с кулаками на сидящих за соседним столиком?» В результате симпатия между Пьетро и моими братьями только укрепилась. Но отец при первой возможности отвел Пеппе и Джанни в сторонку и строго отчитал за то, что те выставили себя перед профессором какими-то дикарями. Я слышала, как Пеппе шепотом оправдывался: «Пап, они же насмехались над Пьетро, что ж нам, молчать надо было?» Мне понравилось, что он назвал его «Пьетро», а не «профессор», — верный знак того, что он уже считал его своим, членом семьи и другом, пусть даже чудаковатым, смеяться над которым в его присутствии не смел никто. Но меня этот случай убедил, что не стоит знакомить Пьетро с Лилой: уж я-то ее знала, она была злая, и, если бы Пьетро показался ей нелепым, она вполне могла встретить его издевкой, как те парни в ресторане.
Вечером мы вернулись домой, уставшие после долгой прогулки, слегка перекусили и все вместе пошли провожать моего жениха до отеля. Мать неожиданно для всех на прощанье расцеловала его в обе щеки. На обратном пути, пока мы наперебой обсуждали достоинства Пьетро, она не проронила ни слова. И только дома, прежде чем отправиться спать, с завистью сказала мне:
— Тебе слишком повезло. Бедный мальчик! Ты его не заслуживаешь.
24
Книга хорошо продавалась все лето, а я продолжала разъезжать по Италии и рассказывать о ней. Теперь я старалась рассуждать о ней немного отстраненно, охлаждая пыл агрессивно настроенной публики. Помня, что сказала мне Джильола, я использовала в своих выступлениях ее слова, сплетая их со своими.
В начале сентября Пьетро перебрался во Флоренцию, поселился в привокзальном отеле и занялся поисками жилья для нас. Он нашел маленькую съемную квартиру неподалеку от Санта-Мария-дель-Кармине. Я поехала ее посмотреть: две темные комнаты в жалком состоянии, крошечная кухня, ванная комната без окна. Когда-то давно, когда я ходила заниматься к Лиле в ее новую квартиру, она часто пускала меня в свою до блеска начищенную ванну понежиться в теплой воде с пеной. Ванна флорентийской квартиры была пожелтевшая, потрескавшаяся и только сидячая. Но я придушила свое недовольство и сказала, что квартира меня устраивает: у Пьетро начинались лекции, ему надо было работать, а не терять время на всякую ерунду. К тому же по сравнению с квартирой моих родителей это был настоящий дворец.
Пьетро уже собирался подписывать договор аренды, но тут к нам приехала Аделе. В отличие от меня она не оробела: назвала квартиру сараем и сказала, что та совершенно не подходит людям, которые значительную часть времени работают дома. Затем она сделала то, что мог бы сделать, но не сделал ее сын: сняла телефонную трубку и, не обращая внимания на яростные протесты Пьетро, начала обзванивать всех своих хоть сколько-то влиятельных флорентийских знакомых. Вскоре нам за смехотворную арендную плату удалось снять пятикомнатную квартиру в районе Сан-Никколо — светлую, с огромной кухней и большой ванной. На этом Аделе не успокоилась: на свои деньги сделала в ней ремонт и помогла мне купить мебель. По правде говоря, она не всегда считалась с моими вкусами, хотя моя покорность ей тоже не нравилась. Если я соглашалась с ее выбором, она по нескольку раз переспрашивала, действительно ли я довольна; если я возражала, она уговаривала меня, пока я не приму ее сторону. В общем, мы все сделали так, как хотелось ей. Справедливости ради должна сказать, что я редко вступала с ней в спор, а больше старалась у нее учиться. Меня завораживала ее речь, манеры, прическа, одежда, обувь, брошки, серьги — она всегда была великолепна. А ей нравилось, что я вела себя как послушная ученица. Она уговорила меня коротко постричься, на свой вкус выбрала для меня одежду в дорогущем магазине, где ей делали большие скидки, подарила пару туфель, которые хотела купить себе, но решила, что ей они не по возрасту, и даже отвела к дантисту, рекомендованному друзьями.
Между тем свадьбу, отчасти из-за квартиры, которая, по мнению Аделе, нуждалась все в новых улучшениях, отчасти из-за Пьетро, с головой ушедшего в работу, перенесли с осени на весну, что дало моей матери лишний повод поскандалить и вытянуть из меня еще денег. Я старалась избегать крупных ссор и показывала, что не забываю родную семью. Телефон нам поставили, и я оплатила небольшой ремонт: в коридоре и кухне перекрасили стены, в столовой поклеили новые обои в фиолетовый цветочек; я купила пальто Элизе, в рассрочку приобрела телевизор. Наконец, я решила сделать подарок и себе: записалась в автошколу, с легкостью сдала экзамен и получила права. Мать страшно разозлилась:
— Нравится тебе кидать деньги на ветер? Зачем тебе права, если у тебя нет машины?!
— Там видно будет.
— Ты что, собираешься машину покупать? Сколько же у тебя на самом деле денег?!
— Это тебя не касается.
Машина была у Пьетро, и я надеялась, что смогу водить ее после свадьбы. Когда он снова приехал в Неаполь (как раз на машине — он привез своих родителей знакомиться с моими), то дал мне сесть за руль. Я прокатилась и по старому району, и по новому: проехала по шоссе, мимо начальной школы, библиотеки, вверх по улице, где раньше жила Лила с мужем, и вернулась назад по дороге вдоль парка. Этот мой первый водительский опыт стал единственным приятным воспоминанием от того дня. День прошел ужасно, за ним наступил нескончаемый ужин. Мы с Пьетро изо всех сил старались снять напряжение, но наши семьи принадлежали к настолько разным мирам, что за столом то и дело повисало долгое молчание. Когда Айрота наконец ушли, нагруженные невероятным количеством остатков ужина — мать им навязала, — мне вдруг подумалось, что я совершаю грандиозную ошибку. Я из этой семьи, Пьетро — из той. Каждый из нас носит в себе черты своих предков. Что же будет с нами после свадьбы? Что меня ждет? Сможет ли то, что нас сближает, взять верх над нашими различиями? Напишу ли я еще одну книгу? Когда? О чем? Пьетро поддержит меня? А Аделе? А Мариароза?
Как-то вечером я сидела дома, погруженная в подобные размышления, когда услышала, что меня зовут с улицы. Я узнала голос Паскуале Пелузо и подбежала к окну. Он был не один, а с Энцо. Я забеспокоилась. Разве Энцо не должен быть дома, в Сан-Джованни-а-Тедуччо, с Лилой и Дженнаро?
— Можешь спуститься? — крикнул Паскуале.
— Что случилось?
— Лиле плохо, и она хочет тебя видеть.
— Бегу, — ответила я и бросилась вниз по лестнице, не обращая внимания на мать, завопившую мне вслед: «Куда тебя несет, ночь на дворе? Вернись немедленно!»
25
С Паскуале и Энцо мы не виделись очень давно, но сейчас они пришли ради Лилы и потому без лишних предисловий заговорили о ней. Паскуале отпустил бороду, как у Че Гевары: она ему шла. Глаза казались больше и выразительнее, под густыми усами стало совсем не заметно плохих зубов, даже когда он смеялся. А вот Энцо совсем не изменился и был, как всегда, молчалив и сосредоточен. Мы сели в старую машину Паскуале, и тут я задумалась о том, насколько странно видеть их вместе. До сих пор я считала, что после случившегося никто из жителей квартала не общается с Лилой и Энцо. На самом деле Паскуале часто их навещал, и не случайно Лила отправила их за мной вдвоем.
Энцо, как всегда, коротко и ясно рассказал мне, что случилось. Они пригласили Паскуале — он теперь работал на стройке близ Сан-Джованни-а-Тедуччо — на ужин. Лила обычно возвращалась с завода в половине пятого, но, когда Паскуале с Энцо в семь вечера пришли в квартиру, там было пусто. Дженнаро был у соседки. Паскуале с Энцо приготовили ужин, Энцо накормил мальчика. Лила вернулась только в девять, бледная и взволнованная. На вопросы не отвечала. Единственное, что она испуганным голосом сказала: «Я потеряла ногти». Энцо осмотрел ее руки: ногти были на месте. Она разозлилась, закрылась в комнате с Дженнаро, откуда крикнула, чтобы они сходили узнать, дома ли я, потому что ей срочно нужно со мной поговорить.
— Вы поссорились? — спросила я Энцо.
— Нет.
— Может, она заболела? Поранилась на работе?
— Не знаю. Не похоже.
— Давай не будем паниковать раньше времени, — сказал мне Паскуале. — Спорим, Лина успокоится, как только тебя увидит? Я рад, что мы тебя застали: ты теперь важная птица, вся в делах.
Я пыталась возражать, но он в подтверждение своих слов процитировал старую статью из «Униты». Энцо согласно кивнул: он тоже ее читал.
— Лила тоже видела статью, — сказал он.
— И что сказала?
— Ей очень понравилась фотография.
— Только они написали, — проворчал Паскуале, — что ты еще студентка. Надо было сообщить в газету, что ты уже получила диплом.
Весь остаток пути он сокрушался, что даже «Унита» больше всего пишет про студентов. Энцо с ним соглашался. В целом их беседа не слишком отличалась от тех, что я слышала в Милане, разве что выражались они проще. Паскуале с особенным удовольствием повторял, что, надо же, про меня, их подругу, печатают статьи в «Уните», да еще с фотографией. Возможно, они и затеяли весь этот разговор, чтобы хоть немного развеять тревогу, и свою, и мою.
Я сидела и слушала. Вскоре мне стало ясно, что их дружба держалась на общем увлечении политикой. Они часто виделись после работы на партийных собраниях или подобных мероприятиях. Я из вежливости вставляла по паре реплик, но у меня из головы не шла Лила: она же такая сильная, что могло с ней случиться? Пока мы ехали до Сан-Джованни, оба моих приятеля окончательно убедились, что мною можно гордиться. Особенно Паскуале: он смотрел на меня в зеркало заднего вида и ловил каждое мое слово. Он не отказался от своего самоуверенного тона — еще бы, он же был секретарем районной партийной ячейки, — но на самом деле искал в моих высказываниях на политические темы подтверждения собственной правоты. Убедившись, что я целиком на его стороне, он рассказал, что они с Энцо и другими товарищами ведут отчаянный внутрипартийный спор, потому что компартия, злобно стукнув кулаком по рулю, объяснил он, намерена до скончания века сидеть и ждать, пока ей, как дрессированной собачке, не свистнет Альдо Моро[6] — вместо того чтобы бросить болтать и перейти к активным действиям.
— Что скажешь? — спросил он меня.
— Ты совершенно прав, — ответила я.
— Все-таки ты молодец, — торжественно заявил он, пока мы поднимались по грязной лестнице. — И всегда была молодец. Правда, Энцо?
Энцо кивнул, однако я заметила, что с каждой ступенькой его, как и меня, все больше охватывает беспокойство за Лилу; он словно стыдился, что позволил увлечь себя нашим разговором. Он отпер квартиру, крикнул: «Мы пришли» — и указал мне на дверь со стеклянным окошком, сквозь которое пробивался слабый свет. Я тихонько постучала и вошла.
26
Лила лежала на раскладушке прямо в рабочей одежде. Дженнаро спал рядом. «Входи, — сказала она. — Я знала, что ты придешь. Поцелуй меня». Я расцеловала ее в обе щеки и села на кушетку, на которой, наверное, обычно спал мальчик. Сколько времени прошло с тех пор, как мы виделись в последний раз? Мне показалось, что она еще больше похудела и побледнела. Глаза были красные, все руки в порезах, кожа вокруг носа воспалена.
— Я видела твое фото в газетах… — Она говорила быстро, без остановок, но тихо, чтобы не разбудить ребенка. — Какая ты красавица, какие волосы! Я все о тебе знаю, знаю, что ты выходишь замуж, что он профессор, что ты переезжаешь во Флоренцию. Ты молодчина! Прости, что заставила тебя прийти сюда в такое время, у меня голова не работает, я совсем расклеилась. Как хорошо, что ты здесь.
— Что случилось? — Я погладила ее руку.
Она вытаращила глаза, затряслась и резко отдернула руку.
— Мне нехорошо, — сказала она. — Подожди, не бойся, сейчас я успокоюсь.
Она перестала дрожать и заговорила медленно, чеканя каждое слово:
— Я потревожила тебя, Лену, потому что только тебе доверяю. Ты должна пообещать мне: если со мной что-нибудь случится, если я попаду в больницу, если меня отправят в психушку, если меня вообще не найдут, ты должна взять Дженнаро, забрать его себе, вырастить в своем доме. Энцо очень хороший, он умный, я ему доверяю, но он не сможет дать ребенку того, что сможешь дать ты.
— Что ты такое говоришь? Что с тобой? Я ничего не поняла, объясни мне.
— Сначала пообещай.
— Хорошо.
Ее снова затрясло — я сильно напугалась.
— Нет, никаких «хорошо». Ты должна сказать мне здесь и сейчас, что не бросишь моего сына. Если будут нужны деньги, разыщи Нино, скажи, чтобы он тебе помог. Только дай мне слово. Скажи: «Я воспитаю твоего ребенка».
Я в нерешительности посмотрела на нее и сделала, что она просила. Дала обещание, осталась с ней и слушала ее всю ночь.
27
Наверное, я в последний раз рассказываю о Лиле в подробностях. Потом она стала ускользать от меня, и мои сведения о ее жизни заметно оскудели. Наши жизни разошлись слишком далеко. Но даже несмотря на то, что мы жили в разных городах, почти не виделись, она ничего не рассказывала о себе, а я старалась не спрашивать, тень ее всегда следовала за мной, подгоняла или подавляла, переполняла гордостью или принижала, не давая мне успокоиться ни на миг.
Сейчас, когда я пишу эти строки, ее тень нужна мне как никогда. Она нужна мне здесь и сейчас, потому я и пишу. Я хотела бы, чтоб она исправила нашу историю, что-то вычеркнула, а что-то добавила, переписала ее на свой вкус и рассказала обо всем, что знала, говорила и думала. Например, о том, как столкнулась с фашистом Джино; как встретилась с Надей, дочерью профессора Галиани; что почувствовала, вновь оказавшись в доме на корсо Витторио-Эммануэле, где в прошлый раз ощутила свою чужеродность. Я хотела, чтобы она снова с беспощадной прямотой описала свой сексуальный опыт. О том, с какой болью и смущением я слушала ее, не перебивая, я поведаю как-нибудь потом.
28
Как только «Голубая фея» превратилась в пепел, порхающий над костром в заводском дворе, Лила вернулась к работе. Не знаю, насколько сильно повлияла на нее наша встреча, но на протяжении нескольких последовавших дней она чувствовала себя несчастной, хотя и не понимала почему. Жизнь уже научила ее тому, что от поиска причин становится только хуже, и Лила просто ждала, пока несчастье не превратится в дурное настроение, затем — в легкую печаль и, наконец, растворится в повседневных заботах: помыть и покормить Дженнаро, заправить постели, убраться, постирать и погладить одежду Дженнаро, Энцо и свою, приготовить обед, отвести сына к соседке, оставив ей тысячу наказов, побежать на завод и отработать тяжелую смену, наслушавшись оскорблений, вернуться домой, позаниматься с Дженнаро и его приятелями по играм, приготовить ужин, поесть, уложить Дженнаро, пока Энцо убирает со стола и моет посуду, вернуться на кухню и помочь ему с учебой, которой он был увлечен, а она не могла ему отказать, даже если очень уставала.
Что она видела в Энцо? По большому счету то же, что раньше хотела видеть в Стефано и Нино, — возможность расставить наконец в жизни все по своим местам. Но Стефано, когда развеялась дымовая завеса богатства, оказался тряпкой и жестоким человеком, а Нино, когда рухнула иллюзия ума, — безответственным вертопрахом. Зато от Энцо неприятных сюрпризов можно было не ждать. Еще в начальной школе она по непонятным причинам выделяла из общей массы этого мальчишку и относилась к нему с уважением. Теперь он превратился в надежного и целеустремленного мужчину, настолько же решительного с другими, насколько мягкого с ней, и она не допускала, что он вдруг изменится.
Разумеется, они не спали вместе, Лила не хотела. На ночь каждый закрывался в своей комнате, и она слушала, как он ворочается за стенкой. Потом он затихал, и оставались только звуки ночной квартиры, подъезда, улицы. Несмотря на усталость, она плохо засыпала. В темноте все причины ее бед, в которых она боялась признаться самой себе, сливались в тревогу о Дженнаро. Что из него вырастет, думала она. Надо перестать звать его Ринуччо, не то тоже скатится на диалект, думала она. Его дружков тоже надо чему-то учить, а то они его испортят, думала она. Но где взять время и силы, я уже не та, что раньше, давным-давно ничего не пишу и не читаю книг, думала она.
Иногда у нее возникало ощущение, как будто что-то давит на грудь. Она пугалась, зажигала свет и смотрела на спящего сына. Он совсем не был похож на Нино, скорее на ее брата. Когда Дженнаро был младше, он все время был с ней, а теперь ее компания ему быстро надоедала, он начинал капризничать, просил отпустить его играть и мог наговорить грубостей. Я очень люблю его, размышляла Лила, но люблю ли я его таким, какой он есть? Ужасный вопрос. Хотя соседка говорила, что Дженнаро очень умный мальчик, чем больше Лила за ним наблюдала, тем отчетливее понимала, что ее сын не совсем такой, каким ей хотелось бы его видеть. Она подозревала, что годы, которые она посвятила ему, не дали результата, и больше не верила, что личность человека зависит от того, как прошло его детство. Жизнь требовала постоянства, а у Дженнаро его не было, как, впрочем, и у нее самой. У меня мозги наперекосяк, думала она, я ненормальная, и он тоже ненормальный Потом ей становилось стыдно этих мыслей, и она шептала спящему ребенку: «Ты молодец, уже умеешь писать, читать, складывать, вычитать. Это мать у тебя глупая, вечно ей все не так». Она целовала мальчика в лоб и выключала свет.
Но ей все равно не спалось, особенно если Энцо возвращался домой поздно и сразу шел к себе и не звал ее заниматься. В такие ночи она представляла, что он ходил к проститутке или завел любовницу — девушку с фабрики или активистку коммунистической ячейки — в партию он вступил давно. Мужчины так устроены, думала она, по крайней мере те, кого я знаю: им постоянно нужен секс, они без него не могут. Не думаю, чтобы Энцо в этом отличался от остальных: с чего бы? Я сама его оттолкнула, отослала спать в другую комнату и не имею права ничего ему запрещать. Она боялась одного — что он влюбится и прогонит ее. Остаться без крыши над головой она не боялась: у нее была работа, и она чувствовала себя сильной — как ни странно, более сильной, чем когда выходила замуж за Стефано, получив в свое распоряжение много денег, но еще и необходимость во всем подчиняться мужу. Ее пугала мысль о том, что она потеряет внимание Энцо и его заботу. От него исходила тихая мощь, благодаря которой она и спаслась — сначала от предательства Нино, а затем от преследований Стефано. Кроме того, в той новой жизни, которую она вела, Энцо был единственным человеком, верившим в ее выдающиеся способности.
— Можешь это прочитать?
— Нет.
— Но ты все же попробуй.
— Это по-немецки, Энцо, я же не знаю немецкого.
— Да тебе стоит только захотеть — мигом выучишь, — говорил он ей отчасти в шутку, отчасти всерьез.
Энцо, получивший диплом ценой невероятных усилий, считал Лилу, доучившуюся до пятого класса начальной школы, значительно умнее себя, и приписывал ей волшебную способность быстро осваивать любые новые дисциплины. Впрочем, он сам очень рано догадался о том, что языки программирования электронно-вычислительных машин во многом определят будущее человечества, и люди, первыми овладевшие ими, сыграют особую роль в мировой истории. С этими мыслями он и обратился к ней:
— Помоги мне.
— Я устала.
— Жить так, как мы сейчас живем, нельзя, Лина.
— Нормально живем.
— Ребенок целыми днями с чужими людьми.
— Он уже большой, не держать же его под стеклянным колпаком.
— Посмотри только на свои руки!
— Мои руки, что хочу с ними, то и делаю.
— Я хочу больше зарабатывать, для тебя и для Дженнаро.
— Думай о своих делах! А о своих я сама позабочусь.
Она, как всегда, огрызалась. Энцо записался на заочные курсы (для их бюджета очень недешевые) и должен был регулярно отправлять выполненные задания в Цюрих, в международный центр обработки данных, где их проверяли и возвращали с исправлениями. Понемногу он втянул в это дело Лилу, и она пыталась его догнать. Правда, на сей раз она вела себя совсем не так, как когда-то с Нино. Того она выводила из себя, навязчиво доказывая, что способна оказать ему любую помощь, тогда как с Энцо занималась спокойно, не пытаясь его обогнать. Если для него вечера, проведенные над книгами, были трудом, то для нее — способом успокоиться. Возможно, именно поэтому в те редкие дни, когда Энцо возвращался домой поздно и не приглашал ее разделить с ним его увлечение, Лила не могла заснуть и с волнением прислушивалась к шуму воды в ванной, воображая, что Энцо смывает с себя следы любовных похождений.
29
Лила быстро сообразила, что рабочие завода, возвращаясь после трудового дня домой, не испытывали ни малейшего желания заниматься сексом с женой (или мужем) — у них не было на это сил. Зато утром и днем, когда они приходили на работу, природа брала свое. Мужчины постоянно распускали руки и не пропускали ни одной девушки, чтобы не сделать ей непристойное предложение. Женщины — особенно те, что постарше, — в ответ только смеялись, прижимались к ним, выпячивали грудь и напропалую флиртовали — такая любовь служила им развлечением, отгоняла усталость и скуку, дарила иллюзию настоящей жизни.
С первых дней работы мужчины начали обхаживать Лилу, осторожно прощупывая почву. Лила каждому давала от ворот поворот, они хмыкали и отставали, напевая песенки, полные грязных намеков. Однажды утром, чтобы раз и навсегда положить конец приставаниям, она чуть не оторвала одному рабочему ухо — тот, проходя мимо, сказал сальность и поцеловал ее в шею. Того типа звали Эдо — мужик под сорок, довольно приятной внешности, который клеился ко всем женщинам и рассказывал похабные анекдоты. Лила мертвой хваткой вцепилась ему в ухо и изо всех сил потянула, одновременно нанося ему удары ногой; он орал благим матом и вырывался. После этого взбешенная Лила пошла к Бруно Соккаво жаловаться.
С тех пор как Бруно взял ее на работу, она видела его несколько раз, но не обращала на него внимания. На сей раз у нее была возможность рассмотреть его хорошенько: он стоял за своим письменным столом — встал, как положено воспитанному мужчине, когда в комнату входит женщина. Вид его удивил Лилу: отечное лицо, тусклый взгляд пресыщенных глаз, жирная грудь, но главное — цвет лица, красный, как жидкая лава, особенно заметный на фоне черных волос и крупных белых зубов. «Неужели это тот самый парень, который дружил с Нино и изучал право?» — изумилась она про себя и поняла, что между каникулами на Искье и колбасным заводом вообще нет никакой связи, ничего, кроме зияющей пустоты, и, очевидно, для Бруно прыжок из одного мира в другой не обошелся без последствий; кроме того, его отец заболел, и предприятие (по слухам, вместе с долгами) внезапно перешло под его полную ответственность.
Она высказала ему свои претензии, он рассмеялся.
— Лина, — сказал он, — я сделал тебе одолжение, взял тебя на работу, так нечего морочить мне голову. Люди работают, устают, и я не могу запретить им расслабляться, иначе они будут выливать свое недовольство на меня.
— Так расслабляйтесь друг с другом.
Он окинул ее повеселевшим взглядом.
— Я знал, что ты любишь пошутить.
— Позволь мне самой решать, что я люблю, а что нет.
Суровость Лилы заставила его сменить тон. Он сделал серьезное лицо и сказал, не глядя в ее сторону:
— А ты не меняешься: все такая же красивая, как на Искье. Иди. — Он указал ей на дверь. — Иди работай.
Однако с того дня, каждый раз, когда они сталкивались на заводе, он не упускал случая при всех поздороваться с ней, отпустить какую-нибудь любезность. Это немного облегчило Лиле существование: все поняли, что она в фаворе у молодого Соккаво, и лучше ее не трогать. Вскоре им выпал случай еще раз в этом убедиться. Однажды после обеденного перерыва толстая женщина по имени Тереза преградила Лиле дорогу и сказала, ухмыляясь, что ее ждут в сушильном цехе. Лила вошла в большое помещение, где под желтыми лампами, свисая с потолка, сохли колбасы. Там был Бруно: он делал вид, будто проверяет работу цеха, а сам просто хотел поболтать.
Кружа по цеху и с видом специалиста ощупывая и обнюхивая колбасы, он спросил, как поживает ее невестка Пинучча. Потом, не глядя в ее сторону и проверяя упругость колбасы, сказал: «Твой брат никогда ей не нравился, а тем летом она влюбилась в меня, как ты в Нино». Лила насторожилась, а он двинулся дальше, повернулся к ней спиной и добавил: «Благодаря ей я узнал, что беременные обожают заниматься любовью». Затем, не дав ей возможности хоть что-то сказать в ответ, веселое или сердитое, остановился в центре зала и сказал, что с детства ненавидел этот завод и только здесь, в сушильной камере, всегда чувствовал себя комфортно. Здесь он испытывал чувство удовлетворения, некой завершенности — продукт почти готов и, источая аромат, доходит до кондиции перед отправкой на рынок. «Посмотри, потрогай, — сказал он ей. — Какие они твердые, упругие. А как пахнут! Когда мужчина и женщина ласкают друг друга, пахнет почти так же. Тебе нравится? Знаешь, скольких девушек я сюда приводил, еще мальчишкой?» С этими словами он обхватил ее за талию, скользнул губами по ее длинной шее, стиснул ее ягодицы. Казалось, у него выросла сотня рук: они с бешеной скоростью шарили у нее под фартуком, без всякого удовольствия, с единственной маниакальной целью — доказать свою силу.
Все вокруг, начиная от запаха колбас, напомнившего Лиле о том, что вытворял над ней Стефано, на миг вселило в нее страх — она испугалась, что сейчас он ее убьет. Затем ее охватила ярость, она врезала Бруно по физиономии, двинула ему между ног и крикнула: «Ах ты дерьмо! Да у тебя там и нет ничего, давай, доставай что осталось, оторву на хрен! Мудак!»
Бруно выпустил ее, вытер с губы кровь, нервно хихикнул и пробормотал: «Извини, я рассчитывал хоть на каплю благодарности». Лила обожгла его взглядом: «Хочешь сказать, что с меня причитается? Не то ты меня уволишь, так, что ли?» Он снова засмеялся и замотал головой: «Нет-нет, не хочешь — не надо, все. Я же извинился, чего тебе еще надо?» Она была вне себя: только сейчас она почувствовала на себе следы его лап и поняла, что ей теперь долго от них не избавиться — такое мылом не смоешь. Она отошла к двери и бросила ему: «Считай, что сегодня тебе повезло. Но, клянусь, ты еще проклянешь минуту, когда осмелился меня тронуть!» Лила ушла, а он все бормотал ей вслед: «Да что я тебе такого сделал? Я же ничего не сделал. Навыдумывала себе! Я ссориться не хочу!»
Она вернулась на свое рабочее место. В тот день она занималась уборкой цеха, в котором варили колбасный фарш, — над огромными котлами поднимался пар, оседавший на пол, вытирай не вытирай. Эдо, чуть не оставшийся без уха, смотрел на нее с любопытством, и не только он. Все работники и работницы впились в нее глазами, когда она с перекошенным от ярости лицом вышла из сушилки. Лила схватила тряпку, швырнула ее на пол и принялась тереть грязную плитку, громко объявив: «Может, еще какой-нибудь сукин сын желает рискнуть здоровьем?» Рабочие перестали на нее пялиться и занялись делом.
Несколько дней она ждала увольнения, но его не последовало. Каждый раз, когда они сталкивались с Бруно, он вежливо улыбался ей, она холодно кивала в ответ. Ничего не изменилось, если не считать чувства омерзения, охватывавшего ее при воспоминании о его блудливых ручонках, перераставшего в ненависть. Мастера, наблюдая, что Лила ведет себя с прежней самоуверенностью, снова принялись ее изводить: постоянно перебрасывали с места на место, поручали самую тяжелую и грязную работу и донимали сальностями. Это означало, что Бруно дал им на это разрешение.
Энцо она ничего не рассказывала, ни о чуть не оторванном ухе, ни о приставаниях Бруно, ни о каждодневных оскорблениях и издевательствах. Когда он спрашивал, как дела на заводе, она с сарказмом отвечала: «А ты не хочешь рассказать мне, как у тебя на работе дела?» Поскольку он молчал, Лила отпускала в его адрес пару шуток, после чего они садились за учебники. За этими книгами они прятались от многого, но главное — от вопросов, что будет завтра, кто они друг другу, почему он заботится о ней и Дженнаро и почему она ему это позволяет, почему, хоть они давно живут под одной крышей, Энцо каждую ночь напрасно ждет, что она придет к нему. Он ворочался в постели, вставал, шел на кухню вроде бы попить, смотрел на ее дверь: горит ли свет, не мелькнет ли за мутным стеклом ее тень. Их существование состояло из немых ожиданий (постучать к ней? впустить его?) и бесконечных сомнений с обеих сторон. Чтобы не думать об этом, они воевали с блок-схемами, словно сражались с гимнастическими снарядами.
— Давай составим алгоритм открывания двери, — предлагала Лила.
— Давай составим алгоритм завязывания галстука, — предлагал Энцо.
— Давай составим алгоритм того, как я помогаю Дженнаро зашнуровать ботинки, — предлагала Лила.
— Давай составим алгоритм приготовления кофе по-неаполитански, — предлагал Энцо.
Они каждый день ломали головы над алгоритмами повседневных действий — от элементарных до самых сложных, — даже когда все задания из Цюриха были выполнены. Идея принадлежала не Энцо: Лила, начав заниматься через силу, с каждым днем увлекалась все больше. Когда наступала ночь и все в доме замирало, ее захватывала безумная идея: уместить весь этот ничтожный мир, в котором они жили, в последовательность нулей и единиц. Ей нравилась эта линейная абстракция, порождающая все остальные абстракции, служившая символом покоя и чистоты.
— Давай составим алгоритм работы завода, — предложила она однажды.
— Всего технологического процесса? — задумчиво спросил он.
— Да.
Он посмотрел на нее и сказал:
— Давай начнем с твоего.
Она недовольно скривилась, буркнула: «Спокойной ночи» — и ушла к себе.
30
И без того шаткое равновесие их существования нарушилось с появлением Паскуале. Он работал на стройке неподалеку и приезжал в Сан-Джованни-а-Тедуччо на собрания местной ячейки коммунистической партии. С Энцо они случайно столкнулись на улице и, как в былые времена, разговорились о политике; выяснилось, что они разделяют одни и те же убеждения и в равной мере недовольны властью. Поначалу Энцо выражался обтекаемо, ведь Паскуале был секретарем ячейки, но тот, отбросив всякую осторожность, неожиданно принялся критиковать партию, назвав ее ревизионистской, и профсоюзы, которые, по его мнению, слишком на многое закрывали глаза. Приятели до того обрадовались друг другу, что вечером Лила обнаружила Паскуале у себя за столом и была вынуждена срочно что-то предпринять, чтобы ужина хватило на всех.
Вечер начался скорее плохо. Лила видела, что Паскуале наблюдает за ней, и едва сдерживала гнев. Что ему от нее нужно? Явился разнюхать, как она живет, чтобы доложить всему кварталу? Кто дал ему право ее судить? Он не сказал ей ни одного дружеского слова, не упомянул ни о Нунции, ни о ее брате Рино, ни о Фернандо. Вместо этого он окидывал ее оценивающим взглядом, точь-в-точь как мужики у нее на заводе, а когда она ловила его на этом, спешил отвести глаза в сторону. Он наверняка заметил, как она подурнела; наверняка думал: «Каким же я был кретином! И как меня тогда угораздило в нее влюбиться?» Он наверняка считал ее плохой матерью, раз она обрекла сына на нищету, вместо того чтобы растить его в достатке на деньги от магазинов Карраччи. После ужина Лила вздохнула и сказала Энцо: «Уберешь сам со стола, я пошла спать». Но тут Паскуале вдруг встал и торжественно-взволнованным голосом заявил: «Лина, прежде чем ты уйдешь, я должен сказать тебе одну вещь. Ты — потрясающая женщина. Если бы все мы умели противостоять этой жизни с такой силой, как ты, мир уже давно изменился бы». Лед был разбит, и Паскуале рассказал ей новости о ее родне: Фернандо снова ставил на обувь подметки, Рино таскался за Стефано и постоянно клянчил у него деньги, а Нунцию он почти не видел, потому что та не выходила из дома. «Ты правильно сделала, что ушла, — заключил он. — Никому во всем квартале не удавалось надавать Карраччи и Солара столько пощечин, сколько надавала ты. Знай, я на твоей стороне».
После того вечера они стали видеться часто, что немало вредило успехам Энцо на заочных курсах. Паскуале являлся к ужину с четырьмя горячими пиццами и, как всегда, с видом знатока рассуждал о мире капитализма и его противниках. Былая дружба не только вернулась, но даже окрепла. Было видно, что он живет без женской заботы: его сестра Кармен готовилась к свадьбе и времени на брата у нее не оставалось. Лиле очень нравилось его отношение к своему холостяцкому житью-бытью, которое нисколько его не смущало; вместо семейной он вел активную общественную жизнь: трудился на стройке, работал в профсоюзе, разбрызгивал кроваво-красную краску на здание американского консульства, был в первых рядах, когда намечалась драка с фашистами, входил в комитет рабочих и студентов, постоянно ссорясь с последними. И это не считая коммунистической партии: он ждал, что его вот-вот сместят с поста секретаря ячейки за слишком резкие взгляды и критику. С Энцо и Лилой он говорил, ничем себя не стесняя, часто смешивая личные обиды с политическими убеждениями. «Это они мне говорят, что я враг партии, — жаловался он. — Говорят, что от меня слишком много шума и надо вести себя спокойнее. А ведь на самом деле это они разваливают партию, они делают ее шестеренкой системы, это они превратили антифашизм в сторожа демократии. Знаете, кого поставили во главе Общественного движения района? Сына аптекаря, дурака Джино, прислуживающего Микеле Соларе. И что мне остается? Терпеть власть фашистов в собственном квартале? Мой отец, — все больше распалялся он, — всего себя отдал партии. И ради чего? Ради этого разбавленного антифашизма, присыпанного сахарком? Ради того дерьма, что творится сегодня? Когда несчастный сгинул в тюрьме, осужденный без вины — ведь он не убивал дона Акилле, — партия бросила его, несмотря на то что он был ее верным солдатом, что за его спиной Четыре дня Неаполя[7] и Понте-делла-Санита,[8] что и после войны он рисковал собой, как мало кто во всем районе. А наша мать, Джузеппина? Хоть кто-нибудь помог ей? — Упоминая о матери, Паскуале сажал Дженнаро к себе на колени и спрашивал его: — Видишь, какая красавица у тебя мама? Любишь маму?»
Лила слушала его. Иногда ей приходило в голову, что нужно было тогда, давно, сказать «да» этому парню, первым заметившему ее, вместо того чтобы грезить о Стефано и его деньгах и ввязываться в историю с Нино: надо было побороть свою гордость, остудить голову, успокоиться и остаться на своем — положенном — месте. В другие вечера, когда Паскуале особенно яростно нападал на всех и вся, она чувствовала себя так, будто вернулась в детство, в жестокие нравы нашего квартала, к дону Акилле и его убийству, о котором она так часто рассказывала, да еще в таких подробностях, добавлявшихся с каждым рассказом, что порой ей казалось, что она была на месте преступления в момент его совершения. В памяти всплывал арест отца Паскуале, крики плотника, его жены, его дочери Кармен — подлинные воспоминания смешивались с выдумкой, она снова видела насилие, видела кровь. Едва очнувшись от этих мыслей, она пыталась отогнать от себя исходившую от Паскуале злобу, уводила разговор в сторону, напоминала ему о семейном праздновании Рождества или Пасхи, о том, как вкусно готовила его мать Джузеппина. Паскуале понял ее по-своему, заключив, что Лила, как и он, тоскует по близким. Как бы то ни было, однажды он заявился без предупреждения и с порога весело крикнул: «Смотри, кого я тебе привел!» Он привел Нунцию.
Мать с дочерью обнялись, Нунция долго плакала, а потом подарила Дженнаро тряпичного Пиноккио. Лила вроде бы обрадовалась матери, но, стоило той начать бранить дочь за совершенные глупости, решительно сказала: «Мам, давай так: или ты делаешь вид, что у нас все нормально, или уходишь». Нунция обиделась и села играть с ребенком, то и дело повторяя, будто и правда обращалась к нему: «А когда мама ходит на работу, на кого же она тебя, бедняжечка, оставляет?» Паскуале понял, что совершил ошибку, сказал, что уже поздно и им пора. Нунция осмелела, повернулась к дочери и то ли угрожающе, то ли жалобно произнесла: «Сперва ты вытащила нас из нищеты, мы зажили как настоящие господа, а потом все поломала: твой брат чувствует себя брошенным и больше не желает тебя видеть, отец вычеркнул тебя из своей жизни. Лина, я не прошу тебя мириться с мужем, знаю, что это невозможно, но умоляю, поговори с Солара — это из-за тебя они все забрали себе, а твой отец, Рино, все мы, Черулло, снова остались ни с чем».
Лила дослушала ее, а потом практически вытолкала за дверь: «Лучше тебе, мам, никогда больше сюда не приходить». То же она крикнула вслед Паскуале.
31
Слишком много проблем свалилось на нее одновременно: она чувствовала свою вину перед Дженнаро и Энцо, выматывалась на работе, сносила сверхурочные смены и пошлости Бруно, боялась родни, снова готовой повиснуть у нее на шее, да еще и терпела визиты Паскуале, гнать которого было бесполезно. Он ни на что не обижался, весело врывался к ним в дом, то волок их в пиццерию, то вез на машине в Аджеролу, чтобы ребенок мог подышать свежим воздухом. Но больше всего он усердствовал, пытаясь втянуть Лилу в общественную деятельность. Он уговорил ее записаться в профсоюз, хотя она этого не хотела и согласилась исключительно назло Соккаво, которому это вряд ли понравилось бы. Паскуале носил ей разные брошюры об оплате труда, трудовых договорах, ставках зарплаты, написанные коротко и понятно; сам он их даже не открывал, но не сомневался, что Лила рано или поздно их прочтет. Вместе с Энцо и сыном он затащил их на набережную Ривьера-ди-Кьяйя, на демонстрацию против войны во Вьетнаме, которая переросла в ужасные беспорядки и панику: появились фашисты, начали кидать камни, провоцируя полицию, Паскуале ринулся в бой, Лила кричала и ругалась, а Энцо проклинал ту минуту, когда они додумались взять с собой Дженнаро.
Но особенно запомнились Лиле другие два эпизода. Паскуале особенно активно зазывал ее на собрание, на котором ожидалось выступление одной из руководителей партии. Лила согласилась, ей было любопытно. Из речи, посвященной отношениям партии и рабочего класса, Лила почти ничего не услышала, потому что докладчица опоздала и к долгожданному началу собрания Дженнаро успел устать, так что Лиле пришлось его развлекать, выходить на улицу поиграть, возвращаться и снова выходить. Впрочем, того немногого, что услышала Лила, ей хватило, чтобы понять, насколько умна эта женщина и как она отличается от сидящей в зале рабочей и мелкобуржуазной публики. Лила заметила, что Паскуале, Энцо и некоторые другие слушатели недовольны содержанием доклада, и подумала, что это они зря, лучше бы поблагодарили образованную синьору за то, что она к ним приехала и тратит на них свое время. Когда Паскуале вступил с ней в ожесточенную полемику, она встала с места и сердито крикнула: «Прекратите, иначе я сейчас встану и уйду». Лиле понравилась ее реакция, и она была готова занять ее сторону. Впрочем, она испытывала противоречивые чувства. Когда Энцо закричал в поддержку Паскуале: «Послушайте, товарищ, без нас вы ничего собой не представляете, поэтому вам придется остаться до тех пор, пока нам это нужно, и уйдете вы только тогда, когда мы скажем», — Лила почему-то мысленно присоединилась к этому «мы» и решила, что женщина получила по заслугам. Домой она вернулась злая на сына, испортившего ей вечер.
Еще более оживленно прошло заседание комитета, в котором Паскуале, с его манией общественной деятельности, разумеется, участвовал. Лила пошла с ним не только потому, что он ее позвал, но и потому, что верила: вся эта активность полезна для Паскуале, который таким образом развивается и растет над собой. Комитет заседал в Неаполе, в старом здании на виа Трибунале. Они приехали туда на машине Паскуале, поднялись по ободранной, но массивной лестнице. Зал был большой, собравшихся — мало. Лила сразу научилась отличать студентов от рабочих: студенты постоянно вертели головами по сторонам, сбивались в стайки и болтали между собой. Вскоре они стали ее раздражать. Все, что они говорили, казалось ей лицемерием, а их неухоженный вид совершенно не сочетался с учеными речами. Они постоянно повторяли «мы здесь, чтобы учиться у вас, рабочих», а на деле только повторяли и без того очевидные тезисы о капитале, эксплуатации, предательстве социал-демократии и методах классовой борьбы. Больше того, Лила заметила, что некоторые девушки, в основном молчавшие, были не прочь пококетничать с Энцо и Паскуале. Особенно с Паскуале: он был более разговорчив и пользовался успехом. Оно и понятно: рабочий, который, несмотря на членство в компартии и партийный пост, согласился делиться своим пролетарским опытом с другими революционерами. Когда он или Энцо брали слово, студенты слушали их внимательно и со всем соглашались, тогда как во время выступлений своих коллег то и дело устраивали споры. Энцо, как обычно, говорил по существу и очень кратко. Паскуале, напротив, смешивая итальянский с диалектом, с неиссякаемым красноречием пространно рассуждал об успехах политической работы на стройплощадках, а также отпускал колкие замечания по поводу слабой активности студенчества. В конце своей речи он ни с того ни с сего приплел Лилу. Он назвал ее имя, фамилию, представил публике как своего товарища, работницу небольшого пищевого предприятия, и очень ее хвалил.
Лила наморщила лоб, прищурилась: ей не нравилось, что все разглядывают ее как какое-то редкое животное. Когда следом за Паскуале слово взяла девушка, первой из женщин заговорившая на том собрании, Лила рассердилась еще сильнее: во-первых, потому, что та изъяснялась так, будто не говорила, а зачитывала вслух отрывки из книги, во-вторых, потому, что она несколько раз привела в пример Лилу, называя ее «товарищ Черулло», а в-третьих, потому, что Лила ее узнала: это была Надя, дочь профессора Галиани, невеста Нино, писавшая ему любовные письма на Искью.
Сначала Лила боялась, что Надя, в свою очередь, тоже ее узнает, но девушка, хоть и обращалась почти исключительно к ней, явно ее не помнила. Да и с чего бы ей вспомнить? Наверняка она часто бывала на вечеринках для богатых: не все же мелькнувшие там призраки держать в памяти. Это Лиле, побывавшей там однажды, тот день надолго врезался в память. Она и сейчас как наяву видела дом на корсо Витторио-Эммануэле, Нино, девушек и парней из богатых семей, книги и картины; ей было там плохо, да и потом она чувствовала себя отвратительно. Лила не выдержала, встала и пошла прогуляться с Дженнаро. В ней бушевала страшная злость, которая, не находя выхода, узлом скручивала ей желудок.
Впрочем, скоро она вернулась, решив, что не останется в долгу. Когда она вошла в зал, кудрявый молодой человек со знанием дела рассказывал об итальянском концерне черной металлургии и сдельной оплате труда. Лила дождалась, пока он закончит, и попросила слова, не обращая внимания на недоумение во взгляде Энцо. Говорила она долго, на чистом итальянском; Дженнаро все время этой речи дергал ее за руку. Начала она негромко, но постепенно шум в зале улегся, и ее, возможно, слишком звонкий голос звучал в полной тишине. Она с насмешкой сказала, что ничего не знает о рабочем классе. Сказала, что знает только самих рабочих своего завода, женщин и мужчин, людей, у которых абсолютно нечему учиться, кроме жизни в нищете. «Вы хоть представляете себе, — спросила она, — что это такое, по восемь часов в день стоять по пояс в жидком вареве, из которого делают мортаделлу? Что значит разделывать мясо, то и дело раня руки острыми костями? Или ходить в морозильную камеру, получая компенсацию по десять лир в час за работу при минус двадцати? Представили? Так чему же вы хотите учиться у людей, которые так живут? Наши работницы позволяют начальству и коллегам лапать себя за задницу, не говоря ни слова. Стоит сынку хозяина захотеть, и любая из них отправится с ним в сушильный цех, так же как отправлялись их предшественницы с его отцом, а может, еще и дедом. А прежде чем запрыгнуть на тебя, он непременно расскажет о том, как его возбуждает колбасный запах. На выходе с завода и мужчины, и женщины подвергаются личному досмотру — так называемой „проверке“: когда загорается не зеленая, а красная лампочка, это означает, что ты пытаешься вынести с завода салями или мортаделлу. „Проверку“ проводит охранник, нанятый хозяином, и он зажигает красный свет не только потенциальным ворам, но и строптивным девчонкам и неугодным работникам. Так обстоят дела на заводе, где я работаю. Там нет никаких профсоюзов, а рабочие — это всего лишь бедняки, покорные хозяину и живущие под давлением постоянного шантажа: „Я плачу тебе деньги, а значит, имею право распоряжаться по своему усмотрению тобой, твоей жизнью, семьей и всем, что у тебя есть, а не будешь слушаться — я тебя уничтожу“».
На какое-то время наступила тишина. Затем из зала раздались голоса поддержки и восхищения Лилой. К ней подошла Надя и обняла ее. «Какая же ты красавица, какая умница, как прекрасно говоришь! Спасибо тебе, — серьезно сказала она, — благодаря тебе мы теперь знаем, сколько еще работы нам предстоит». Но, несмотря на торжественный тон, Лиле она показалась еще большим ребенком, чем в тот вечер, много лет назад, когда она видела Надю с Нино. Что они делали тогда с сыном Сарраторе? Танцевали, болтали, обнимались, целовались? Лила и сама уже не помнила. Конечно, забыть такую очаровательную девушку невозможно, но сейчас, когда она стояла рядом, Лила думала только о том, насколько она хрупкая, чистая, еще чище, чем тогда, насколько искренне сострадает людям, потому что чувствует их боль как свою.
— Придешь на следующее собрание?
— У меня ребенок.
— Приходи, пожалуйста, ты нужна нам.
Лила неуверенно покачала головой.
— У меня ребенок, — повторила она и указала рукой на Дженнаро. — Сынок, поздоровайся с синьорой, расскажи ей, какой ты у меня молодец, расскажи, что уже умеешь читать и писать, пусть синьора послушает, как ты хорошо говоришь.
Дженнаро застеснялся и уставился в пол, Надя улыбнулась ему, но тоже ощутила неловкость. Тогда Лила повторила еще раз:
— У меня ребенок, я работаю по восемь часов в день, не считая сверхурочных. Люди, которые живут, как я, по вечерам мечтают об одном — лечь спать.
Она вышла на улицу в растерянности, с ощущением, что слишком много рассказала о себе людям, которые, без сомнения, добры, но живут в мире абстракций, а по-настоящему, в реальности, никогда ее не поймут. «Я-то знаю, — думала она, не решаясь сказать это вслух, — что значит питать наилучшие намерения, живя в довольстве, а вот ты даже представить себе не можешь, что такое подлинная нищета».
Пока они шли к машине, настроение у нее окончательно упало. По хмурым лицам Паскуале и Энцо Лила догадывалась, что ее выступление обидело их. Паскуале впервые осторожно взял ее под руку, на что раньше не осмеливался, и спросил:
— Ты что, действительно работаешь в таких условиях?
Лила с отвращением отдернула руку.
— А ты? Вы оба разве не так работаете?
Они не ответили. На работе им приходилось несладко, это ясно. У себя на заводе Энцо наверняка видел вечно усталых женщин, измученных трудом, унижениями и домашними обязанностями не меньше Лилы. Почему же они оба так помрачнели, услышав, как работает она? Что им не понравилось? Мужчинам вообще лучше ничего не говорить. Они предпочитают оставаться в неведении и делать вид, что все, что творится вокруг, чудесным образом не касается женщины, за которую они взяли на себя ответственность и которую — эту мысль им вбили в головы с самого детства — обязаны защищать даже под страхом смерти. Их молчание взбесило Лилу еще больше.
— Да катитесь вы оба, — сказала она, — вместе со своим рабочим классом!
Они сели в автомобиль и всю дорогу до Сан-Джованни-а-Тедуччо обменивались лишь ничего не значащими репликами. Прощаясь у подъезда, Паскуале сказал Лиле: «Ничего не поделаешь, все равно ты умнее их всех вместе взятых», вернулся в машину и уехал. Энцо, неся на руках уснувшего мальчика, угрюмо проворчал:
— Почему ты мне ничего не рассказывала? Кто тебя обидел? Кто распускал руки?
Они оба очень устали, и Лила решила его успокоить:
— Со мной они себе такого не позволяют.
32
Через несколько дней начались неприятности. Ранним утром Лила пришла на работу. Голова у нее была занята тысячью разных забот, а потому она оказалась абсолютно не готова к тому, что случилось дальше. На улице было очень холодно, она уже несколько дней кашляла и чувствовала, что начинается грипп. У входа ей встретились двое мальчишек, похожих на школьников-прогульщиков. Один из них небрежно поздоровался с ней и протянул ей не листовку, что бывало часто, а напечатанную на ротаторе брошюру в несколько страниц. Лила ответила на приветствие, растерянно посмотрела на мальчика и поняла, что видела его на заседании комитета на виа Трибунале. Она сунула брошюру в карман пальто и пошла дальше, мимо охранника Филиппо, не удостоив его даже взглядом. «Эй, посмотрите на нее, даже не здоровается!» — крикнул он ей вслед.
В тот день она работала в разделочной и, как обычно, трудилась с таким остервенением, что думать забыла о мальчишке. В обеденный перерыв она вышла во двор, чтобы поесть на солнышке; увидев ее, Филиппо оставил свой пост и бросился за ней. Это был мужчина за пятьдесят, невысокого роста, грубый, любитель самой омерзительной похабщины и в то же время сентиментальный до слезливости. Незадолго до того у него родился шестой ребенок, и теперь он без конца доставал бумажник и растроганно демонстрировал всем фото маленького сына. Лила решила, что он и ей хочет показать малыша, но дело было не в этом. Мужчина вытащил из кармана куртки брошюру и сказал с агрессией:
— Послушай хорошенько, Черу, что я тебе скажу: если это ты наговорила этим засранцам все, что здесь написано, ты сильно влипла, врубаешься?
— Не понимаю, что за хрень ты несешь. И вообще отвали, дай пожрать спокойно, — холодно ответила она.
Филиппо в бешенстве швырнул ей в лицо брошюру.
— Не понимаешь? Правда? Так почитай. На заводе мы все живем душа в душу, и только такая сука, как ты, могла такого наплести. Это я-то зажигаю красный при проверке? Я лапаю женщин? Я, отец семейства? Вот увидишь, если Бруно тебе за это не навешает, видит Бог, я лично тебе ноги переломаю.
Он развернулся и пошел назад в свою будку.
Лила спокойно доела, затем подняла брошюру. Название было претенциозное: «Результаты обследования условий труда рабочих Неаполя и области». Лила пробежала ее глазами и нашла целую страницу, посвященную колбасному заводу Соккаво. На ней слово в слово было изложено все, о чем она говорила на собрании на виа Трибунале.
Она положила брошюру назад на землю, как ни в чем не бывало вошла в здание, по привычке не глядя в сторону охранника, и спокойно вернулась к работе. На самом деле она была в ярости на тех, кто втянул ее в эту заваруху, даже не предупредив, особенно на эту неженку Надю: разумеется, это все она, со своей вечной жаждой порядка, тревогой за всех и телячьими нежностями! Лила разделывала ножом холодное мясо, от запаха которого ее мутило, и злость в ней нарастала. Она чувствовала, что ее окружают враждебные взгляды коллег, и мужчин, и женщин. Все они давно знали друг друга, как знали, что накажут всех сразу, за пособничество, поэтому никто не сомневался, кто во всем виноват: Лила единственная с самого начала вела себя так, будто работа на хозяина не предполагает полного ему подчинения.
Ближе к вечеру появился Бруно и почти сразу послал за ней. Лицо у него было еще краснее, чем обычно, в руках брошюра.
— Это ведь ты?
— Нет.
— Говори правду. Кругом и так полно любителей беспорядков. Ты что, примкнула к ним?
— Я уже сказала тебе, нет.
— Нет? Правда? А ничего, что больше ни одному рабочему завода не хватило бы способностей и наглости наврать такого?
— Значит, это кто-то из служащих.
— А служащим — и подавно.
— Ну а от меня-то ты чего хочешь? Птичка напела — на птичек и злись.
Он тяжело вздохнул. Кажется, он действительно мнил себя невинной жертвой.
— Я дал тебе работу. Я смолчал, когда ты вступила в ВИКТ,[9] хотя мой отец за такое выгнал бы тебя взашей. Ладно, пусть я сделал глупость тогда, в сушилке, но я же попросил прощения. И не скажешь же ты, что после того случая я еще к тебе приставал? А ты что творишь? Ты мстишь мне, возводишь напраслину на мое предприятие, утверждаешь, что я таскаю в сушилку чуть ли не всех работниц подряд? Я? Работниц? Ты что, с ума сошла? Так вот как ты платишь мне за все то добро, что я тебе сделал!
— За добро? Я работаю на тебя целыми днями, а ты платишь мне гроши. Я делаю тебе куда больше добра, чем ты мне.
— Вот видишь, ты говоришь так же, как эти сволочи. Имей смелость хотя бы признаться в том, что ты это написала.
— Я ничего не писала.
Бруно скривился. Он смотрел на брошюру и, как догадалась Лила, никак не мог решить: говорить с ней еще жестче, угрожать увольнением или подождать и попытаться вызнать у нее, не готовится ли еще что-нибудь в том же роде. Тогда решилась она: с трудом преодолев отвращение к нему и его прикосновениям, о которых все еще помнило ее тело, она изобразила на лице примирительность и тихим голосом выдавила из себя:
— Ну поверь, у меня же ребенок, я правда этого не делала.
Он кивнул, но все же пробормотал недовольно:
— Знаешь, на что ты меня вынуждаешь?
— Не знаю и знать не хочу.
— А я тебе все равно расскажу. Если эти идиоты — твои друзья, передай им, что, если они еще раз устроят бардак на заводе, получат так, что у них навсегда отпадет желание мне пакостить. А сама будь поосторожнее: перегнешь палку — сломается.
На этом день не закончился. Когда Лила выходила с фабрики, зажегся красный свет. Это было обычное дело: каждый вечер охранник веселья ради выбирал себе три-четыре жертвы — скромные девушки опускали глаза, когда он обыскивал их, женщины без комплексов смеялись: «Дружок, хочешь пощупать — щупай, только скорей, мне надо домой, ужин готовить». На сей раз Филиппо остановил одну Лилу. Было холодно, дул сильный ветер. Охранник вышел из своей будки. Лилу затрясло.
— Только попробуй меня тронуть. Богом клянусь, или сразу убью, или найду того, кто тебя прикончит.
Филиппо мрачно посмотрел на нее и кивнул ей на стол, стоявший рядом с будкой:
— Выворачивай карманы по одному и выкладывай все сюда.
Лила обнаружила в кармане пальто свежую сосиску — с отвращением нащупала мясное месиво в узкой кишке. Она вытащила ее и разразилась хохотом:
— Ну и говнюки же вы все вместе взятые!
33
Ее обвинили в воровстве. В наказание последовал вычет из зарплаты и штраф. Филиппо орал на нее, она орала на Филиппо. Бруно не вышел, хотя, без сомнения, был еще на заводе: его машина стояла во дворе. Лила поняла, что с этого дня ничего хорошего ей ждать не придется.
Она вернулась домой еще более уставшей, чем обычно. Отругала Дженнаро за то, что тот не хотел уходить от соседки, приготовила ужин, сказала Энцо, чтобы сам разбирался со своими заданиями, и отправилась спать. Согреться под одеялом не удавалось, поэтому она встала, надела поверх ночной рубашки шерстяной свитер, снова легла и вдруг почувствовала, что сердце у нее бьется где-то на уровне горла, да так сильно, будто это не ее, а чужое сердце.
Ей были знакомы эти симптомы, они всегда сопровождали состояние, которое одиннадцать лет спустя, в 1980-м, она назвала обрезкой. Но раньше они никогда не проявлялись так бурно, кроме того, это впервые случилось, когда рядом никого не было. Она вдруг с ужасом осознала, что на самом деле не одна. Чужие лица и голоса выбирались из ее головы, словно отделившейся от тела, и плыли по комнате: двое ребят из комитета, охранник, коллеги по работе, Бруно в сушильном цехе, Надя — все они двигались слишком быстро, как в немом кино, даже красный огонь проверки мигал слишком часто, Филиппо слишком резко выхватил у нее из рук сосиску и начал орать, угрожать. Все это было игрой воображения: на самом деле, кроме Дженнаро, ровно посапывавшего в своей кроватке, в комнате не было ни людей, ни звуков. Но легче ей от этого не становилось, напротив, страх только усиливался. Сердце колотилось так сильно, что казалось, все вокруг того и гляди взорвется и стены обрушатся. Отчаянные удары в горле сотрясали кровать, крошили штукатурку, разбивали на части черепную коробку, они и ребенка могли сломать, как пластиковую куклу, расколоть ему грудь, живот, голову. «Нужно отодвинуть его подальше, чтобы не разбился, — думала Лила, — чем ближе он ко мне, тем опаснее». Тут ей вспомнился другой ребенок, тот, которого она потеряла, ребенок, которому так и не суждено было созреть в ее чреве, ребенок Стефано. Она сама прогнала его, по крайней мере, так шептали у нее за спиной Пинучча и Джильола. «Возможно, так оно и было, я нарочно его выгнала. Почему у меня до сих пор ничего в жизни не выходит нормально? Почему я должна постоянно таскать за собой свои провалы?» Сердце все так же колотилось и не собиралось успокаиваться, очертания знакомых фигур, словно сотканные из дыма, окружали ее, их голоса гудели в ушах. Она села на край кровати, вытерла со лба пот — липкий, как холодное оливковое масло, дотянулась босыми ногами до кроватки Дженнаро и отодвинула ее, но недалеко: она боялась, если он будет рядом, она может навредить ему, а если слишком далеко — потерять. Она медленно побрела на кухню, опираясь на мебель, держась за стену и при этом постоянно оглядываясь назад в страхе, что пол за ней разверзнется и утянет вниз Дженнаро. Она попила воды из крана, умылась, — сердце вдруг резко замерло, дернув ее вперед, как при резком торможении.
Кончилось. Вещи вокруг приняли привычные очертания, тело понемногу пришло в себя, пот высох. Лила дрожала, чувствовала такую слабость, что в глазах все плыло и она боялась упасть в обморок. «Надо пойти к Энцо, — думала она, — согреться, лечь с ним рядом, прямо сейчас, пока он спит, прижаться к его спине и заснуть». Но она отказалась от этой мысли. Она ощутила на своем лице ту приторную гримасу, которую состроила, когда говорила Бруно: «Ну поверь, у меня же ребенок, я правда этого не делала». Это жеманство, наигранная доброжелательность женщины, которая первой делала шаг навстречу, несмотря на все свое отвращение, — должно быть, они показались ему соблазнительными. Ей стало стыдно: как она могла вести себя так после того, что Соккаво сделал с ней в сушилке? А ведь она была не такая. Она умела управлять мужчинами, заставлять их, как дрессированных животных, идти к цели, которую они принимали за свою. Нет, хватит, довольно: раньше она делала это по разным причинам, не всегда отдавая себе в том отчет; так было со Стефано, с Нино, с Солара, пожалуй, даже с Энцо. Больше этому не бывать! Отныне она все будет делать сама. Она справится со всеми проблемами. Разберется с охранником, коллегами по работе, студентами, Соккаво, а главное — со своей собственной головой, забитой честолюбивыми стремлениями, своей бедной головой, на которую свалилось слишком много всего, так что она не выдержала.
34
Проснулась она в лихорадке, выпила таблетку аспирина и несмотря ни на что отправилась на работу. Темное еще ночное небо только начало голубеть, освещая крыши низких зданий, сорную траву, уличную грязь и груды ржавых железяк. Пробираясь через лужи на разбитой дороге, которая вела к заводу, Лила заметила, что сегодня студентов у входа было четверо: двое те же, что и вчера, еще один новый, их ровесник, и второй, толстый парень постарше, лет двадцати с лишним, явно страдающий ожирением. Они клеили на забор плакаты с призывами к борьбе и раздавали листовки того же содержания. Но если еще вчера рабочие из любопытства и вежливости брали брошюры, то сейчас большинство из них или проходили мимо, опустив глаза в землю, или, взяв листовку, комкали ее и выбрасывали.
Заметив парней, явившихся на свой пост ни свет ни заря, словно график их так называемой политической работы соблюдался строже ее собственного, Лила почувствовала раздражение, сменившееся злостью, когда ее вчерашний знакомец, держа в руках пачку листовок, с приветливым выражением лица кинулся ей навстречу.
— У вас все в порядке, товарищ?
Лила не удостоила его вниманием: горло у нее горело, в висках стучало. Парень догнал ее и сказал нерешительно:
— Я Дарио. Ты, наверно, меня не помнишь, мы виделись на виа Трибунале.
— Я прекрасно знаю, кто ты, — взорвалась Лила, — но я не желаю иметь ничего общего ни с тобой, ни с твоими дружками.
Дарио онемел от удивления, остановился, потом произнес, будто сам себе:
— Возьмешь листовку?
Лила не стала отвечать, чтобы не наорать на него. В память ей врезалось недоуменное выражение его лица, какое бывает у людей, искренне уверенных в своей правоте и не понимающих, как другие могут не разделять их мнения. Она подумала, что надо бы доходчиво объяснить ему, почему на собрании она сказала то, что сказала, почему возмущалась тем, что ее слова попали в их брошюру, почему считала глупым и бесполезным то, что они вчетвером, вместо того чтобы спать дома или идти в школу, торчат здесь на морозе и раздают листки, напечатанные мелким шрифтом, людям, которые и читать-то толком не умеют и не собираются утруждать себя этим, потому что знают про то, что там написано, не понаслышке, а живут в этом каждый день и могут сами порассказать много чего похлеще, но молчат и будут молчать, потому что не принадлежат себе и не верят, что кто-нибудь когда-нибудь их услышит. Но у нее была температура, ей было трудно говорить, и она правда паршиво себя чувствовала. Поэтому она молча пошла к воротам, где разыгрывалась безобразная сцена.
Охранник орал на диалекте толстому взрослому парню: «Эй, ты, иди сюда, переступи эту линию, сукин сын, давай, зайдешь без спросу на территорию частной собственности, и я тебя подстрелю!» Студента его слова распалили, и он, широко и злобно улыбаясь, в свою очередь орал на итальянском, называя охранника рабом: «Стреляй, хочу посмотреть, как ты стреляешь. И это никакая не частная собственность, все там внутри принадлежит народу!» Лила подошла к ним. Сколько раз она присутствовала при таких перепалках: Рино, Антонио, Паскуале и даже Энцо были настоящими мастерами таких споров. «Сделай, что он просит, — серьезно сказала она Филиппо. — Что толку трепаться попусту? Если он вместо того, чтобы спать или учиться, трахает тут всем мозги, его и правда стоит подстрелить». Охранник посмотрел на нее и широко разинул рот; он так и не понял, правда ли она подбивает его сделать подобную глупость или просто над ним издевается. Зато у студента не осталось никаких сомнений. Он злобно уставился на нее и крикнул: «Давай, беги целовать в задницу своего хозяина!» Затем сделал шаг назад, тряхнул головой и продолжил раздавать листовки в паре метров от ворот.
Лила вошла во двор. На часах было семь утра, а она уже чувствовала себя без сил, глаза жгло, и предстоящие восемь часов работы казались ей вечностью. Вдруг за ее спиной раздался визг колес и крики. Она обернулась: к территории завода подъехали два автомобиля — один серого цвета, второй — синего. Из первого выскочили несколько человек и бросились срывать только что наклеенные на ограду плакаты. «Плохо дело», — подумала Лила и инстинктивно пошла назад, хотя прекрасно понимала, что нужно последовать примеру остальных: поторопиться внутрь и приступить к работе.
Она сделала несколько шагов — этого оказалось достаточно, чтобы рассмотреть молодого человека, приехавшего в серой машине: это был Джино. Она видела, как он открыл дверцу и вышел: высокий, мускулистый, в руках — дубинка. Остальные — те, что срывали листовки, и те, что еще только вылезали из машин, — были вооружены цепями и железными прутьями. Всего их было человек семь или восемь. Фашисты, почти все из нашего квартала, некоторых Лила даже знала. Фашистом был отец Стефано, дон Акилле, фашистом того и гляди мог стать сам Стефано, фашистами были братья Солара, их отец, дед и все их семейство, кем бы они себя ни выставляли в угоду конъюнктуре — монархистами или христианскими демократами. Она ненавидела их с детства, с тех пор как девчонкой в подробностях представляла себе все мерзости, которые они совершают, понимая, что от них невозможно освободиться, невозможно избавиться. На самом деле связь между прошлым и настоящим никогда не разрывалась: большинство жителей нашего квартала любили фашистов, а те никогда не упускали случая помахать дубинками.
Дарио, парнишка с виа Трибунале, первым сорвался с места и побежал спасать плакаты. В руках у него была пачка листовок. «Брось ты их, кретин!» — подумала Лила. Она слышала, как он пытается говорить с ними на итальянском, кричит: «Прекратите, вы не имеете права», — видела, как оглядывается на своих в поисках поддержки. «Он ничего не понимает, не умеет драться, не знает, что противника ни на секунду нельзя терять из виду, что фашисты болтать не любят — разве что вопят, выпучив глаза, чтобы пуще напугать, — зато бьют первыми, безжалостно — попробуй останови, если не сдрейфишь». Один из молодчиков так и сделал: без предупреждения ударил Дарио кулаком в лицо. Тот упал на землю и остался лежать среди рассыпавшихся листовок, а обидчик встал над ним и продолжил пинать его ногами; от каждого нового удара листовки, словно зараженные его яростью, взмывали в воздух. Толстый парень увидел упавшего товарища и кинулся ему на помощь, но на полпути его остановил тяжелый удар цепью. Удар пришелся ему в руку, но парень не сдался, вцепился в цепь мертвой хваткой и стал тянуть ее на себя, пытаясь вырвать у нападавшего. Какое-то время они боролись и орали друг на друга, пока за спиной толстого студента не появился Джино и сильным ударом не повалил его наземь.
Лила забыла о простуде и усталости и бросилась к воротам, сама не зная зачем. То ли она хотела лучше рассмотреть, что происходит, то ли спешила помочь студентам, а может, ее сорвал с места инстинкт, ее всегдашняя отчаянная смелость, благодаря которой в минуты опасности ее охватывал не страх, а ярость. Как бы то ни было, добежать она не успела: ее чуть не снесла толпа рабочих, которые неслись ей навстречу. Некоторые из них попытались остановить фашистов (разумеется, Эдо в первых рядах), но сдались под их натиском и теперь удирали. Мужчины и женщины спасались от двух парней, которые преследовали их, размахивая железными прутьями. Женщина по имени Иза на бегу крикнула Филиппо: «Чего стоишь, вызывай полицию!» Эдо был ранен: кровь текла у него по руке, но это не помешало ему громко сказать: «Ну все, я за топором! Посмотрим, кто кого!» В итоге, когда Лила выскочила наконец на разбитую дорогу, синяя машина уже отъехала, а в серую как раз забирался Джино. Он узнал ее и на миг остолбенел. «Ты-то какого черта тут делаешь?! — Подельники затащили его внутрь, взревел мотор. — Ты же жила, как королева, — проорал Джино из машины, — только погляди, на кого ты теперь похожа!»
35
Рабочий день прошел в нервном напряжении, которое Лила, как обычно, прятала за презрительными или агрессивными взглядами. Остальные рабочие не скрывали, что в обострении обстановки, нарушившем мирное течение их жизни, винят именно ее. Все они разделились на два лагеря: первый состоял из нескольких человек, которые надеялись, воспользовавшись ситуацией, сговориться в обеденный перерыв и заставить Лилу пойти к хозяину с просьбой о хотя бы небольшом повышении зарплаты; во втором лагере, куда входило большинство, считали, что с Лилой связываться нельзя, что с ней даже разговаривать опасно, и возражали против любых действий, потому что они ухудшат их и без того тяжелое положение. Прийти к согласию они не могли. Дошло до того, что Эдо, принадлежавший к первому лагерю и особенно злой — у него болела раненая рука, — бросил одному из сторонников второго лагеря: «Если у меня начнется заражение и мне отрежут руку, я приду к тебе домой, оболью все бензином и спалю тебя вместе со всем семейством!» Лила не обращала внимания ни на тех, ни на других; она замкнулась в себе и, опустив голову, просто работала, как всегда старательно, несмотря на разговоры за спиной, оскорбления, температуру. Но она не могла запретить себе думать — о том, что ее ждет. В охваченной жаром голове вихрем проносились мысли: что стало с избитыми студентами? Куда они исчезли? Во что она ввязалась? Джино теперь, разумеется, растрезвонит о ней по всему кварталу, в подробностях опишет ее Микеле Соларе. Страшное унижение — просить о чем-то Бруно, но другого выхода у нее не было: она боялась, что ее уволят, боялась потерять заработок — пусть нищенский, но дававший ей возможность любить Энцо, не переваливая на него ответственность за себя и Дженнаро.
Ей вспомнилась ужасная прошлая ночь. Что это было? Наверное, надо сходить ко врачу. А если врач найдет у нее какую-нибудь болезнь, что она будет делать с работой, с ребенком? Стоп, надо успокоиться, нечего поддаваться панике. В обед, пересилив себя, она решилась отправиться к Бруно. Она хотела поговорить с ним о злой шутке с сосиской, о фашистах, о Джино, попытаться убедить его, что она ни в чем не виновата. По пути в дирекцию она зашла в туалет и, презирая себя за это, причесалась и слегка накрасила губы. Но секретарша Бруно с неприязнью сказала ей, что Бруно нет на месте и, скорее всего, не будет до конца недели. Лилу снова охватил страх. Она подумала, что хорошо бы поговорить с Паскуале, попросить его убедить студентов больше не приходить к заводским воротам. Не будет ребят из комитета, думала она, исчезнут и фашисты, все успокоятся, и жизнь вернется в нормальное русло. Но где искать Паскуале? Она не знала, на какой стройке он работает, а искать его по всему кварталу она ни за что не стала бы, опасаясь наткнуться на мать, отца или брата, встреча с которым была ей особенно противна. Окончательно обессилев от этих мыслей, она решила со всеми своими претензиями обратиться прямо к Наде. Прибежав домой, она оставила Энцо записку с просьбой приготовить ужин, надела на Дженнаро теплое пальто и шапку и на автобусах, с пересадками, поехала с ним на корсо Витторио-Эммануэле.
Небо было пастельно-голубым, ни единого облачка, но солнце уже садилось, дул сильный ветер, и было прохладно. Она прекрасно помнила дом и подъезд, помнила каждую мелочь, включая чувство унижения, которое испытала здесь много лет назад и которое теперь подпитывало ее гнев. Каким непрочным оказалось прошлое: оно на глазах разваливалось на куски и осыпалось на нее градом. Когда-то я привела ее в этот дом на вечеринку, обернувшуюся для нее страданием, и вот теперь из этого же дома появилась Надя, причинив ей страдания еще более мучительные. Но Лила была не из тех, кто готов глотать обиды, поэтому она и пошла туда, таща за собой Дженнаро. Она скажет этой девчонке: «Из-за тебя и твоих дружков я в опасности, я и мой сын. Для тебя это все игрушки, тебе ничего не угрожает, но для нас с ним это слишком серьезно. В общем, или ты все исправляешь, или я так тебя отделаю, что мало не покажется!» Именно так она ей и скажет. Лилу бил кашель и душил гнев; ей не терпелось выплеснуть его наружу.
Дверь в подъезд была открыта. Поднимаясь по лестнице, она вспоминала, как мы шли по ней вдвоем, оставив на улице проводившего нас Стефано; вспоминала, какие на нас были платья и туфли, о чем мы говорили по пути туда и обратно. Она позвонила в дверь. Ей открыла профессор Галиани. Она ничуть не изменилась: та же любезность, тот же безупречный внешний вид; она идеально вписывалась в обстановку своей ухоженной квартиры. По сравнению с ней Лила почувствовала себя грязной — из-за вони сырого мяса, которая пропитала ее насквозь; из-за простуженного горла; из-за температуры, заставлявшей путаться мысли и чувства; из-за своего плохо воспитанного ребенка, что-то канючившего на диалекте.
— Надя дома? — спросила она грубо.
— Нет, ее нет.
— Когда она вернется?
— К сожалению, не знаю. Может, через десять минут, а может, через час — она мне не докладывает.
— Можете ей передать, что ее искала Лина?
— У вас что-то срочное?
— Да.
— А мне не хотите рассказать?
Что рассказать? Лила отвела взгляд от синьоры Галиани и скользнула им ей за спину. Увидела старинную мебель и люстры, огромные книжные шкафы, поразившие ее еще в первый раз, бесценные картины на стенах. Вот мир, о котором грезил Нино, прежде чем связался со мной, думала она. Это совсем другой Неаполь, но что я о нем знаю? Ничего. Мне никогда в нем не жить, ни мне, ни Дженнаро. Так пусть он рухнет, пусть его пожрет огонь и засыплет пепел, пусть его затопит горящая лава!
— Нет, спасибо, мне надо поговорить с Надей, — ответила она наконец. Пора было прощаться: зря только сюда тащилась. Но от нее не укрылось недовольство, с каким профессор говорила о своей дочери, и потому она вдруг совсем другим, легкомысленным тоном сказала: — Знаете, а я у вас уже была, несколько лет назад, на вечеринке. Помню, ждала бог знает чего, а оказалось, тут такая скукотища — я еле до конца дотерпела.
36
Что-то в Лиле понравилось синьоре Галиани, возможно, ее откровенность на грани невежливости. Лила назвала мое имя, и профессор обрадованно воскликнула: «Ах да, Греко! Она совсем пропала, видно, успех ударил в голову». Она пригласила Лилу с сыном в гостиную, где играл ее внук, светловолосый мальчишка, которому она строго приказала: «Марко, поздоровайся! Это наш новый друг!» Лила в свою очередь подтолкнула вперед сына: «Дженнаро, иди поиграй с Марко», а сама расположилась в старом удобном кресле и продолжила говорить о той давней вечеринке. Профессор с сожалением заметила, что напрочь о ней забыла, зато Лила помнила все. Она призналась, что провела тогда один из худших вечеров в своей жизни, прислушиваясь к умным разговорам, из которых ничего не поняла. «Я была жутко темная и неотесанная, — воскликнула она с показной веселостью, — а сейчас стала еще хуже!»
Галиани поражалась ее искренности, удивительной непринужденности, прекрасному итальянскому и тонкой иронии. Я допускаю, она подпала под влияние той неуловимой силы, завораживающей и в то же время пугающей, которой обладала Лила и против которой, как против пения сирены, не мог устоять никто. Их беседа прервалась лишь тогда, когда Дженнаро стукнул Марко, выругался на диалекте и вырвал у него из рук зеленую машинку. Лила вскочила с кресла, схватила сына за руку, которой он только что ударил другого ребенка, и несколько раз с силой хлестнула по ней. Профессор Галиани спокойно сказала: «Не переживайте, это же дети», но Лила отругала сына и заставила вернуть игрушку. Марко плакал. Дженнаро, не проронив ни слезинки, с пренебрежением швырнул в него машинку. Не сей раз Лила наградила его затрещиной.
— Пойдем, — нервно бросила она.
— Что вы? Посидите еще немного.
Лила снова села.
— Он не всегда такой.
— Он у вас замечательный! Правда ведь, Дженнаро, ты очень хороший и послушный мальчик?
— О нет, он совсем не послушный. Но он умненький. Такой маленький, а уже умеет читать, пишет все буквы, и заглавные, и строчные. Дженна, покажешь синьоре, как ты читаешь?
На красивом стеклянном столике лежал журнал; Лила взяла его и показала сыну первое попавшееся слово на обложке: «Ну-ка, прочитай, что тут написано». Дженнаро замотал головой, мать шлепнула его и грозно повторила: «Читай, Дженна!» Мальчик начал нехотя разбирать буквы: «п-р-е-д», но отвел глаза и с завистью уставился на машинку Марко. Тот крепко прижал ее к груди, ухмыльнулся и с легкостью прочитал: «предназначение».
Лила помрачнела и окинула внука профессора Галиани недовольным взглядом.
— Как он хорошо читает.
— Только потому, что я провожу с ним много времени. Его родителей вечно нет дома.
— Сколько ему?
— Три с половиной года.
— А выглядит старше.
— Да, он быстро развивается. А вашему сыну сколько?
— Скоро пять, — нехотя призналась Лила.
Профессор погладила Дженнаро по голове:
— Мама дала тебе трудное слово, но ты молодец! Сразу видно, что ты умеешь читать!
В этот момент послышался шум: хлопнула входная дверь, раздалось шарканье ног, зазвучали мужские и женские голоса. «Вот и дети явились, — сказала синьора Галиани и позвала: — Надя!» Но вместо Нади в комнату ворвалась худенькая блондинка, очень бледная, с ясными голубыми глазами, похожими на кукольные. Она распахнула руки и крикнула Марко: «Кто поцелует мамочку?» Мальчик бросился к ней, она взяла его на руки и принялась покрывать поцелуями. В это время в комнате появился Армандо, старший сын Галиани — его Лила тоже сразу узнала. Он отнял Марко у матери и воскликнул: «А теперь папина очередь! Ты должен мне не меньше тридцати поцелуев!» Марко стал целовать отца в щеку, считая вслух: «Один, два, три, четыре…»
— Надя! — снова позвала синьора Галиани голосом, в котором мелькнула нотка раздражения. — Ты что, оглохла? Иди сюда, к тебе пришли.
Наконец в комнату вошла Надя. За спиной у нее маячил Паскуале.
37
Лилу вновь охватил гнев. Так вот куда Паскуале бегает после работы: в дом к этим людям, счастливым мамочкам, папочкам, дедушкам, бабушкам, тетям, дядям и детишкам, таким дружелюбным и образованным, таким терпимым, что они готовы принимать его как своего, несмотря на то что он простой каменщик и даже не успел смыть грязь после рабочего дня.
Надя, как всегда, сердечно обняла Лилу. «Молодец, что пришла, — сказала она. — Оставь мальчика моей маме, нам нужно поговорить». Лила сердито ответила, что поговорить им действительно нужно, и поскорее, за тем она сюда и явилась. У нее не так много времени, подчеркнула она, и Паскуале сказал, что обратно отвезет ее на машине. Они оставили детей с бабушкой в гостиной, а сами, включая Армандо и блондинку, которую, как выяснилось, звали Изабеллой, отправились в Надину комнату — просторную, с кроватью, письменным столом, шкафами, забитыми книгами, и развешанными на стенах плакатами с изображением артистов, названий фильмов и героев-революционеров, о которых Лила не знала ничего или почти ничего. В комнате их ждали еще три молодых человека: двоих Лила никогда раньше не видела, а третьим оказался Дарио. Он лежал на Надиной кровати, прямо в обуви, на ее розовом одеяле: вид после драки у него был плачевный. Все трое курили прямо в комнате, дым стоял столбом. Лила, не ответив даже на приветствие Дарио, выплеснула на них все: они втянули ее в крупные неприятности, по их вине ей грозила потеря работы, из-за их листовок разразился страшный скандал, они не должны больше появляться возле завода, потому что из-за них сюда заявились фашисты, и теперь рабочие завода одинаково ненавидят и красных, и черных. Потом она повернулась к Дарио. Раз не умеешь драться, сиди дома, бросила она ему. Ты хоть понимаешь, что они могли тебя убить? Паскуале пару раз попытался ее перебить, но она с презрением отмахнулась от него, словно само его присутствие в этом доме уже было предательством. Остальные слушали молча. Когда Лила договорила, слово взял Армандо. Это был молодой человек с тонкими, как у матери, чертами лица, густыми черными бровями и синеватым от тщательного бритья подбородком. Он представился — голос у него был низкий и теплый — и сказал, что очень рад знакомству с Лилой и сожалеет, что пропустил ее выступление в комитете. Они долго обсуждали его между собой и сочли настолько важным, что решили напечатать дословно.
— Ты не волнуйся, — спокойно заключил он. — Мы во всем поддержим тебя и твоих товарищей.
Лила закашлялась: от табачного дыма горло у нее драло еще сильнее.
— Вы должны были предупредить меня.
— Конечно, но у нас не было времени.
— Было бы желание — нашлось бы и время.
— Нас мало, а работы все больше.
— Кем ты работаешь?
— В каком смысле?
— Чем зарабатываешь на жизнь?
— Я врач.
— Как твой отец?
— Да.
— Правильно я понимаю, что ты тоже рискуешь своим местом и можешь в любой момент оказаться на улице вместе с сыном?
Армандо недовольно встряхнул головой:
— Лина, не нужно соревноваться, кто больше рискует, кто меньше.
— Его дважды арестовывали, — не выдержал Паскуале. — У меня самого восемь приводов. Здесь все рискуют.
— Да неужели?
— Именно так, — подтвердила Надя. — Мы все на передовой, и каждый готов нести полную ответственность.
Лила, словно забыв, что находится в чужом доме, перешла на крик:
— А если я потеряю работу, мне что, приходить жить сюда? Вы будете меня кормить? Вы позволите мне сесть вам на шею?
— Если захочешь, да, — спокойно ответила Надя.
Всего три слова. Лила поняла, что Надя не шутит. Даже если Бруно Соккаво уволит всех рабочих, она тем же сладким голоском повторит ту же чушь каждому. Она считала себя защитницей рабочих и верила, что имеет право из своей заставленной книгами комнаты с видом на море распоряжаться твоей жизнью, указывать, что тебе делать, и решать за тебя. А если тебя вышвырнут на улицу, она и тут предложит тебе прекрасный выход. Лила еле сдержалась, чтобы не заорать: дура, да я, если захочу, таких дров наломаю, что ты ахнешь, и не тебе, святоша, диктовать мне, что делать и о чем думать! Но вместо этого повернулась к Паскуале и отрывисто сказала:
— Я ухожу. Отвезешь меня или останешься?
Наступило молчание. Паскуале покосился на Надю и пробормотал: «Я тебя отвезу». Лила вышла из комнаты, не прощаясь. Надя поспешила ее проводить, на ходу повторяя, какая она молодец, как ужасно, что она работает в таких невыносимых условиях, как важно зажечь в людях искру будущей борьбы и много чего еще в том же роде. «Не сдавайся!» — призвала она под конец, когда они уже входили в гостиную. Ответа она не дождалась.
Профессор Галиани сидела в кресле с хмурым выражением лица и читала. Она подняла глаза и, игнорируя дочь и Паскуале, который выглядел смущенным, обратилась к Лиле:
— Уже уходите?
— Да, уже поздно. Пошли, Дженнаро. Верни Марко машинку и надевай пальто.
Синьора Галиани улыбнулась внуку, глядевшему на нее с обидой.
— Марко подарил ее Дженнаро.
Лила прищурилась: глаза ее превратились в две узкие щелочки.
— В этом доме все так щедры! Спасибо.
Пока Лила воевала с сыном, надевая на него пальто, профессор не спускала с нее глаз.
— Вы позволите задать вам один вопрос?
— Спрашивайте.
— Где вы учились?
— Мама, Лина торопится, — сердито вмешалась Надя.
Лила впервые расслышала в ее детском голосе ноту нервозности, и порадовалась.
— Дай ты нам поговорить, — вспылила синьора Галиани, но, обращаясь к Лиле, вернулась к прежнему любезному тону: — Так где вы учились?
— Нигде.
— По вашей речи этого не скажешь.
— И тем не менее. Я бросила учебу после начальной школы.
— Почему?
— Способностей не было.
— С чего вы это взяли?
— Греко была способной, а я нет.
Профессор Галиани покачала головой:
— Если бы вы продолжили учебу, добились бы не меньших успехов, чем Греко.
— Откуда вам знать?
— Это моя работа.
— Вы так говорите потому, что зарабатываете себе на жизнь преподаванием. На самом деле эта ваша учеба никому не нужна. Лучше от нее люди не становятся, наоборот, только хуже.
— Элена что, стала хуже?
— Нет, она нет.
— Как же так?
Лила натянула сыну на голову шерстяную шапку.
— Мы еще в детстве договорились: из нас двоих плохая девчонка — это я.
38
В машине она обрушилась на Паскуале («Ты что, в лакеи к ним нанялся?»), и он дал ей выпустить пар. Когда ему показалось, что ее обвинения иссякают, он решился ответить, но не придумал ничего умнее, чем засыпать ее политическими штампами, и завел речь об условиях труда в южной части страны, социальном порабощении, шантаже работодателей, слабости, если не полном бессилии профсоюзов и необходимости форсировать ситуацию и переходить к настоящей борьбе. «Лина, — на взволнованном диалекте сказал он ей, — ты боишься потерять гроши, которые тебе платят, и тебя можно понять: тебе надо растить Дженнаро. Но ты же наш товарищ и должна понимать: мы, рабочие, получаем такие крохи, которые и зарплатой-то не назовешь, и это в нарушение всех законов и правил. Потому нельзя говорить: „Оставьте меня в покое, у меня своих проблем по горло“. Чтобы что-то изменилось, каждый должен делать все от него зависящее».
У Лилы совсем не осталось сил: на ее счастье Дженнаро заснул на заднем сиденье, крепко сжимая в руке подаренную машинку. Паскуале она слушала невнимательно, больше думая о красивом доме на корсо Витторио, профессоре Галиани, Армандо, Изабелле, Нино, бросившем ее и отправившемся на поиски жены, похожей на Надю, и Марко, который в свои три года читал лучше ее сына. Занятия с Дженнаро обернулись напрасной тратой времени. Мальчик на глазах терял все, что она в него вложила, скатывался вниз, и ей не удавалось его удержать. Они подъехали к дому, и она не могла не предложить Паскуале подняться с ней вместе. «Не знаю, что Энцо приготовил на ужин, но стряпает он отвратительно! Вряд ли ты станешь это есть», — сказала она в надежде, что Паскуале не примет приглашения. Но не тут-то было. «Я забегу буквально на десять минут», — ответил тот. Тогда она тронула его за локоть кончиками пальцев и предупредила:
— Ничего ему не рассказывай.
— О чем?
— О фашистах. Если он узнает, сегодня же побежит бить морду Джино.
— Ты его любишь?
— Я не хочу втягивать его в неприятности.
— А-а.
— Именно так.
— Только помни: Энцо лучше нас с тобой знает, что ему делать.
— Наверняка. Но ты все равно не рассказывай.
Паскуале нахмурился, но согласился. Он взял на руки Дженнаро, который никак не хотел просыпаться, и понес его вверх по лестнице; Лила шла следом и недовольно ворчала: «Что за день, вымоталась как собака. А вы со своими друзьями меня доконали». Энцо они сказали, что были на собрании у Нади дома. Паскуале болтал без умолку, не давая другу задать ни одного вопроса, и засиделся у них до полуночи. Он утверждал, что в Неаполе, как и по всему миру, вскипает новая жизнь, нахваливал Армандо, который, будучи прекрасным врачом, вместо того чтобы делать карьеру, бесплатно лечил бедняков, помогал детям из нищих кварталов и вместе с Надей и Изабеллой работал над всевозможными социальными проектами вроде организации яслей или диспансеров. Никто в этом городе больше не одинок, восклицал он, товарищи всегда готовы прийти на помощь товарищам, — какое прекрасное время! «И вам нечего сидеть взаперти: выбирайтесь почаще, встречайтесь с друзьями», — призывал он их. Под конец он признался, что вышел из компартии: слишком много махинаций, слишком много компромиссов, как внутри страны, так и в международных делах, хватит, ему это надоело! Энцо эта новость взволновала, между приятелями разгорелся жаркий спор. Партия есть партия, как же без нее; чепуха; ничего не чепуха; да достали они уже со своим стремлением к стабилизации, систему надо менять! Лила устала их слушать и пошла укладывать Дженнаро, который раскапризничался еще за ужином, и больше к ним не вышла.
Но она не спала. Она слышала, как ушел Паскуале, как в доме все стихло. Измерила температуру — тридцать восемь. Она вспомнила, с каким трудом Дженнаро пытался прочесть слово. Что это было за слово? Предназначение. Разумеется, Дженнаро увидел его впервые в жизни. Нет, просто знать буквы недостаточно, все гораздо сложнее. Если бы этого ребенка родила от Нино Надя, судьба мальчика сложилась бы совсем по-другому. Она чувствовала, что стала его матерью по ошибке. «Но ведь я хотела этого ребенка, — думала она. — Это от Стефано я детей не хотела, а от Нино — да!» Нино она любила по-настоящему. Она желала его, старалась доставить ему удовольствие и ради этого охотно делала то, чем с мужем занималась через силу, перебарывая отвращение, лишь бы он ее не убил. Но того, что должна испытывать женщина во время секса, она не испытывала никогда — ни со Стефано, ни с Нино. Мужчины столько значения придают своему члену! Гордятся им и верят, что женщины дорожат им еще больше. Даже Дженнаро то и дело играет со своей штукой, часами теребит ее и морщится, если слишком сильно сожмет или потянет. Лила пугалась, как бы он себе не навредил. Поначалу ей приходилось пересиливать себя, чтобы помыть сына или помочь ему пописать. К счастью, Энцо был очень сдержан: никогда не расхаживал по квартире в трусах, ни разу не произнес ни одного вульгарного слова. Она была очень к нему привязана и бесконечно благодарна за то, что он преданно ждал ее в соседней комнате, никогда не позволяя себе ни единого лишнего жеста. Его способность держать под контролем себя и окружающее была единственным, что вселяло в нее хоть какую-то уверенность в жизни. Но вслед за этой мыслью ее охватило чувство вины: то, что ей служило утешением, для него было мукой. Осознание того, что она заставляет Энцо мучиться, стало последней каплей, переполнившей чашу неприятностей этого дня. Картины последних событий, отзвуки сказанных слов все крутились и крутились у нее в голове. Как ей следует завтра вести себя на заводе? Действительно ли в Неаполе и по всему миру кипит бурная общественная борьба или Паскуале, Надя и Армандо выдумали все это — от скуки или от страха? Можно ли им доверять, не рискуя стать жертвой иллюзий? Или все же лучше еще раз сходить к Бруно, упросить его не наказывать ее? Вот только вряд ли он пойдет ей навстречу, не попытавшись воспользоваться ее слабостью. Так что же, молча терпеть, позволять Филиппо и мастерам себя лапать? Она так ни к чему и не пришла. Но, уже засыпая, вспомнила старое правило, которое мы с ней усвоили еще в детстве. Чтобы защитить себя и Дженнаро, надо запугать тех, кто пугает ее, сделать так, чтобы не она их, а они ее боялись. Она погрузилась в сон, полная решимости отомстить им всем: Наде, доказав ей, что она избалованная девчонка из богатой семьи, и Соккаво, навсегда отбив у него охоту нюхать колбасу и трахать работниц в сушильном цехе.
39
Она проснулась в пять утра, вся в поту — температура спала. Студентов возле заводских ворот не было видно, зато фашисты заявились. Они приехали на тех же машинах, что и вчера; Лила узнала их рожи. Теперь они выкрикивали лозунги и раздавали листовки. Дело пахло новой дракой, и Лила, сунув руки в карманы пальто, быстрым шагом шла к воротам, надеясь, что успеет в них скользнуть, пока не началась стычка. Но вдруг перед ней вырос Джино.
— Ты читать-то еще не разучилась? — спросил он на диалекте, протягивая ей листовку.
— Я-то нет, а ты когда научился? — ответила она, не вынимая рук из карманов.
Она попыталась его обойти, но Джино впихнул ей в карман листовку, ногтем оцарапав ей руку. Лила скомкала ее и выбросила.
— Не годится даже задницу подтирать.
— А ну подними! — приказал сын аптекаря, мертвой хваткой вцепившись ей в руку. — Подними и послушай меня. Вчера вечером я спросил у твоего рогоносца-мужа, можно ли мне тебе накостылять, и он мне разрешил.
Лила впилась в него взглядом:
— Значит, чтобы мне накостылять, ты бежишь спрашивать разрешения у моего мужа? А ну отпусти руку, сукин сын!
В этот момент рядом появился Эдо, но вместо того, чтобы с безразличным видом пройти мимо, он против всякого ожидания остановился:
— Чего он к тебе пристал, Черу?
Дальнейшее произошло молниеносно. Джино ударил Эдо кулаком в лицо, и тот повалился на землю. Сердце у Лилы опять забилось где-то в горле, и все вокруг закружилось с невообразимой скоростью. Она подняла камень, крепко сжала его в руке и изо всех сил запустила в сына аптекаря. Джино толкнул Лилу, и она отлетела к фонарному столбу. Эдо пытался подняться. В эту минуту по грунтовой дороге, вздымая пыль, подъехала еще одна машина. Лила узнала ее: эта развалюха принадлежала Паскуале. Все ясно, поняла Лила: Армандо послушался ее, как, очевидно, и Надя — они люди воспитанные, а Паскуале решил ввязаться в бой. Дверца открылась, из машины выскочили, включая самого Паскуале, пятеро парней. Это были рабочие со стройки, и они принялись охаживать фашистов сучковатыми дубинками: уверенно и методично, один точный удар, и противник сбит с ног. Лила заметила, что Паскуале надвигается на Джино, который стоял в паре шагов от нее, подбежала к нему, обеими руками схватила его за локоть и со смехом крикнула: «Беги давай, не то прибьют!» Но Джино не побежал; еще раз толкнув Лилу, он бросился на Паскуале. Лила помогла Эдо подняться и потащила его во двор, что было нелегко: он был тяжеленный, да еще дергался от боли и сыпал проклятиями. Немного успокоился он, лишь увидев, как Паскуале ударом дубинки повалил Джино на землю. Вокруг кипела драка: противники, плюясь и изрыгая ругательства, швыряли друг в друга всем, что могли подобрать с земли. Джино валялся без сознания. Паскуале с еще одним парнем, одетым в майку и заляпанные известкой широкие синие штаны, устремились во двор к будке Филиппо, который от ужаса заперся. Они выбили в будке стекла, но тут, заглушая их похабную ругань, послышался вой полицейской сирены. Лилу охватило радостное возбуждение. Да, думала она, если тебя пугают, напугай их сам, по-другому нельзя. Отвечай ударом на удар; ты у меня что-то отнял, я отниму твое у тебя; как вы со мной, так и я с вами. Паскуале и его ребята запрыгнули в машину; фашисты бросились к своим, волоча бесчувственное тело Джино; вой сирен слышался все ближе; Лила почувствовала, что ее сердце сжалось, как пружина в заводной игрушке, и поняла, что ей срочно нужно присесть. Войдя в здание завода, она без сил опустилась прямо на пол, прислонившись спиной к стене, и постаралась успокоиться. Тереза, толстуха лет сорока из разделочного цеха, смывала с лицо Эдо кровь.
— То чуть ухо ему не оторвала, а то вон спасать его кинулась, — насмешливо сказала она Лиле. — Что ж ты его там не бросила?
— Он помог мне, я — ему.
— Ты что, правда ей помог? — изумленно спросила она Эдо.
— Еще не хватало, чтоб какой-то чужак ее бил. Я и сам справлюсь! — пробормотал он.
— Видали Филиппо? В штаны наложил со страху! — засмеялась Тереза.
— Так ему и надо, — проворчал Эдо. — Жаль, что ему только будку помяли.
Тереза обернулась к Лиле и, хитро сощурившись, спросила:
— Признавайся, это ты позвала коммунистов?
«Она что, шутит? — подумала Лила. — Или вынюхивает, чтобы донести хозяину?»
— Нет, — ответила она. — Зато я знаю, кто позвал фашистов.
— Кто же?
— Соккаво.
40
Паскуале пришел к ним вечером, после ужина, хмурый, и позвал Энцо на заседание ячейки Сан-Джованни-а-Тедуччо. Лиле удалось перекинуться с ним наедине всего парой слов.
— Ты спятил? Что это вы устроили утром?
— Что надо, то и устроили.
— И твои друзья не возражали?
— Какие друзья?
— Надя с братом.
— Разумеется, не возражали.
— Но сами предпочли отсидеться дома…
— А кто тебе сказал, что они сидели дома?
Он был не в настроении, словно утреннее столкновение высосало из него все силы, даже его обычная жажда деятельности слегка угасла. Он даже не позвал Лилу на собрание, пригласив одного Энцо, чего никогда не бывало: позднее время, плохая погода и необходимость тащить с собой Дженнаро никогда его не останавливали. Может, у них намечались очередные мужские разборки. А может, он злился на нее за то, что своим отказом от борьбы она выставила его в дурном свете перед Надей и Армандо. И конечно, ему не понравилось, каким тоном она говорила с ним об утренних событиях. «Он думает, — размышляла Лила, — что я не понимаю, почему он накинулся на Джино и хотел проломить голову охраннику. Все мужчины, и добрые, и злые, уверены, что за любой такой подвиг им полагается место в иконостасе, как святому Георгию, сразившему змея. Он считает меня неблагодарной: он за меня отомстил, а я ему даже спасибо не сказала».
Паскуале с Энцо ушли, а она, лежа в постели, допоздна читала брошюры о рабочих профсоюзах, которые некоторое время назад дал ей Паскуале. Чтение помогло ей вернуться к будничным проблемам, отвлекло от страха перед мертвой тишиной в доме, неконтролируемым сердцебиением и вспыхивавшими в сознании искаженными образами действительности. Несмотря на усталость, она успела много прочитать и узнала много нового и интересного. Ей хотелось обсудить прочитанное с Энцо, но его все не было. Дженнаро мерно посапывал рядом, и под это гипнотическое сопение она и сама вскоре уснула.
На другое утро Эдо и Тереза встретили Лилу с осторожным дружелюбием. Лила не только не оттолкнула их, но и с другими рабочими повела себя приветливо. Она сопереживала тем, кто жаловался, с пониманием выслушивала тех, кто ругался, и соглашалась с теми, кто возмущался порядками на заводе. Разговаривая простыми словами, она помогала остальным осознать, что у них общие интересы и общий враг. На протяжении следующих дней ей удалось сблизиться с Эдо, Терезой и их компанией, по-прежнему представленной меньшинством: во время обеденного перерыва они собирались вместе и шепотом обсуждали свои проблемы. Лила обладала даром убедить других в том, что решение предлагает не она, а они сами. Группа ее сторонников росла; рабочим было приятно слышать, что их требования вполне законны и должны быть немедленно исполнены. Лила объединила претензии рабочих разделочного, морозильного и варочного цехов и, к собственному удивлению, обнаружила, что они взаимосвязаны: то, что творилось на одном этапе производства, влияло на все остальные, а все вместе сплеталось в единую цепь эксплуатации. Она составила подробный перечень проблем со здоровьем, вызванных плохими условиями труда: травм, заболеваний суставов и легких. Она собрала достаточно доказательств того, что предприятие находится в неудовлетворительном состоянии: санитарные нормы постоянно нарушаются, в производстве используется просроченное сырье, часто сомнительного происхождения. Когда она рассказала об этом Паскуале и показала ему свои заметки, он, несмотря на свой обычный скептицизм, от удивления разинул рот. «Я в тебе и не сомневался!» — воскликнул он и организовал ей встречу с неким Капоне, секретарем Палаты труда.
Лила переписала все бумаги своим красивым почерком и отнесла экземпляр Капоне. Изучая ее материалы, секретарь очень воодушевился: «Ты проделала прекрасную работу, товарищ! Молодчина! Никто из нас и сунуться не мог на завод Соккаво: там кишмя кишат фашисты. Но благодаря тебе все изменится».
— Что нам делать дальше?
— Организуйте комитет.
— Считайте, мы уже комитет.
— Отлично. Теперь надо привести все это в порядок.
— В каком смысле?
Капоне посмотрел на Паскуале. Тот молчал.
— Вы требуете сразу слишком многого, в том числе такого, о чем никто до вас и не заикался. Необходимо расставить приоритеты.
— Здесь все приоритет.
— Ты пойми, есть вопросы тактики. Станешь просить всего и сразу — проиграешь.
Лила прищурилась, ее глаза превратились в щелочки. Она попыталась поспорить с секретарем и среди прочего выяснила, что комитет не имеет права общаться с владельцем предприятия напрямую, а только через посредничество профсоюза.
— А я, значит, не профсоюз? — возмутилась Лила.
— Конечно, профсоюз, но всему свое время.
Они снова сцепились.
— Смотри, — наконец сказал Капоне. — Начните с чего-нибудь одного. Обсудите организацию смен, или выходных, или переработок, а там видно будет. В любом случае ты даже себе не представляешь, как я рад видеть тебя в наших рядах. С тобой нам просто повезло! Так мало активных товарищей, особенно среди женщин! Вместе мы всего добьемся, наведем порядок в пищевой отрасли. — С этими словами он полез в задний карман брюк за бумажником. — Возьми немного денег на расходы.
— Какие еще расходы?
— Бумага, печать листовок, потраченное время…
— Не надо.
Капоне убрал бумажник обратно в карман.
— Только не пропадай, Лина, и не падай духом. Будем на связи. Вот, я записал твои имя и фамилию и обязательно расскажу о тебе в профсоюзе. Мы просто обязаны тебя использовать.
Лила вышла от него разочарованная. «Куда ты меня привел?» — негодовала она на Паскуале. Он успокаивал ее, заверял, что Капоне прекрасный человек и что он прав: в их деле действительно важны и стратегия, и тактика. Происходящее наполнило его энтузиазмом, он едва не прыгал от радости и хотел даже ее обнять, но сдержался. «Вперед, Лина! Надерем задницы этим бюрократам, а с комитетом я договорюсь».
Лила плюнула на приоритеты, просто изложила все свои претензии короче, переписала их мелким почерком и уложилась в одну страницу. Новый документ она отнесла Эдо: в нем по-прежнему фигурировали требования, касавшиеся условий труда, рабочих смен, общего состояния завода, качества продукции, компенсаций за болезни и травмы, полученные на производстве, увеличения зарплат и надбавок за сверхурочные. Настало время решать, кому идти с этим листком к Бруно.
— Иди ты, — сказала Лила Эдо.
— Да я озверею, как только его увижу.
— Тем лучше!
— Нет, я для этого не подхожу.
— Прекрасно подходишь!
— Нет уж, иди ты. Ты и в профсоюз записана, и говоришь так, что сразу его на место поставишь.
41
Лила с самого начала знала, что идти придется ей. В назначенный день она оставила Дженнаро соседке и вместе с Паскуале отправилась на собрание комитета на виа Трибунале, в повестке дня которого в том числе значилось обсуждение положения на заводе Соккаво. Собралось двенадцать человек, включая Надю, Армандо, Изабеллу и Паскуале. Лила показала им первый вариант требований, приготовленный для Капоне, где каждый пункт был подробно аргументирован. Надя внимательно прочитала его и сказала: «Паскуале был прав: ты не из тех, кто отступает. За короткое время тебе удалось проделать потрясающую работу!» Она говорила с искренним восхищением и хвалила не только политическое значение документа, но и его стиль: «Ты просто умница! Кто бы мог подумать, что на эту тему можно писать так ярко!» Тем не менее идти к Соккаво прямо сейчас Надя ее отговаривала. Армандо придерживался того же мнения.
— Нужно дождаться, когда недовольство усилится, когда люди созреют для борьбы. Мы проторили тропинку на завод, и это отличный результат. Сейчас нельзя предпринимать необдуманные шаги, иначе мы рискуем снова оказаться за забором.
— И что вы предлагаете? — спросил Дарио.
— Мы проведем расширенное собрание, — ответила ему Надя, глядя при этом на Лилу. — Нам нужно как можно скорее встретиться с твоими товарищами: это упрочит ваш союз. Кроме того, если потребуется, мы сможем по твоим материалам подготовить новую брошюру.
Такого коварства Лила от нее не ожидала.
— Вы что, правда думаете, — с издевкой сказала она, — что я проделала эту работу, рискуя местом на заводе, только ради того, чтобы вы смогли провести расширенное собрание и выпустить очередную брошюру?
Но позлорадствовать вволю ей не удалось. Силуэт Нади, стоявшей напротив нее, вдруг задрожал, как плохо закрепленное стекло, и начал расплываться и дробиться. У Лилы сдавило горло, все вокруг закружилось со все ускоряющимся темпом. Она закрыла глаза, откинулась на спинку рассохшегося стула и поняла, что задыхается.
— Тебе что, нехорошо? — спросил Армандо.
— Лина, что с тобой? Дать воды? — забеспокоился Паскуале.
Дарио побежал за водой, Армандо взял ее за руку и стал считать пульс, Паскуале суетился вокруг.
— Что у тебя болит? Вытяни ноги. Дыши, дыши глубже!
Лила выдернула запястье из рук Армандо, прошептала, что с ней все в порядке и попросила на минуту оставить ее в покое. Вернулся Дарио со стаканом воды, она сделала маленький глоток и снова пробормотала, что все нормально, просто у нее грипп.
— У тебя температура? — спокойно спросил Армандо.
— Сегодня нет.
— Кашель? Дышать тяжело?
— Немного. Ощущение, будто сердце бьется в горле.
— Сейчас тебе получше?
— Да.
— Пойдем-ка в ту комнату.
Лила никуда не хотела с ним идти, но она и правда испугалась. В конце концов она с трудом поднялась и поплелась следом за Армандо, прихватившим свой черный кожаный портфель с золотыми пряжками. Лила впервые попала в эту комнату: она была большая, холодная, из мебели там стояли три койки со старыми грязными матрасами, шкаф с заляпанным зеркалом и комод. В изнеможении Лила села на одну из коек: у врача она не была со времен беременности. Армандо расспрашивал ее о симптомах, но она молчала, пожаловалась только на тяжесть в груди, да и то добавила, что это ерунда.
Армандо прослушал ее. Тишина, повисшая в комнате, показалась Лиле зловещей. Этот тактичный мужчина с невозмутимым видом задавал ей вопросы, но у нее складывалось впечатление, что он не верит ее ответам, считая, что полагаться можно только на реакции организма, медицинские инструменты и собственные знания. Он осматривал и ощупывал ее, а она ждала его вердикта, по поводу происходящего в ее груди, животе, горле, о которых, как ей казалось до того момента, она знала все, а на деле ничего не знала. Наконец Армандо спросил:
— Ты хорошо спишь?
— Отлично.
— Сколько?
— По-разному бывает.
— От чего это зависит?
— От того, сколько мыслей в голове.
— Ешь нормально?
— Когда хочется.
— Трудности с дыханием бывают?
— Нет.
— Боли в груди?
— Тяжесть бывает, но не сильная.
— Холодный пот?
— Нет.
— Обмороки? Или ощущение, что вот-вот потеряешь сознание?
— Нет.
— Цикл регулярный?
— В смысле?
— Менструальный цикл.
— Нет.
— Когда была последняя менструация?
— Не знаю.
— Ты не следишь за этим?
— А что, надо?
— Хорошо бы. Предохраняешься?
— Что-что?
— Ну, чем-то пользуешься? Презервативами, спиралью, таблетками…
— Какими таблетками?
— Есть такие новые препараты: если их принимать, не забеременеешь.
— И правда помогает?
— Конечно! Твой муж что, не использует презервативы?
— У меня больше нет мужа.
— Он тебя бросил?
— Это я его бросила.
— А когда вы были вместе, он пользовался презервативами?
— Не знаю. Я вообще не знаю, что такое презерватив.
— Ведешь регулярную половую жизнь?
— С чего бы мне рассказывать тебе об этом?
— Если не хочешь, не будем об этом говорить.
— Не хочу.
Армандо убрал инструменты в сумку, сел в полуразвалившееся кресло и вздохнул:
— Тебе надо притормозить, Лина. Ты себя загнала.
— В смысле?
— У тебя нервное истощение. Ты совсем себя не бережешь.
— И что с того?
— У тебя бронхит. Я дам тебе микстуру.
— А дальше мне что делать?
— Надо обследоваться: печень немного увеличена.
— У меня нет времени на обследования. Дай мне лекарства.
Армандо недовольно покачал головой:
— Послушай, я уже понял, что с тобой лучше не ходить вокруг да около: у тебя шумы в сердце.
— Что это значит?
— Это значит, что есть проблема, и возможно, не самая безобидная.
Лила встревоженно нахмурилась:
— Ты хочешь сказать, что я умираю?
— Нет, — улыбнулся он, — но надо обследоваться у кардиолога. Приходи завтра ко мне в больницу, я направлю тебя к хорошему специалисту.
Лила нахмурилась, встала и холодно сказала:
— Завтра не получится. Завтра я иду к Соккаво.
42
Особенно ее бесил взволнованный голос Паскуале. По пути домой он начал допытываться:
— Что тебе сказал Армандо? Что с тобой?
— Ничего, все нормально, просто надо больше есть.
— Вот видишь… Ты совсем о себе не думаешь.
— Паскуа, — не сдержалась Лила, — ты мне не отец, не брат, ты мне никто. Оставь меня в покое, ясно тебе?
— Я что, не имею права о тебе беспокоиться?
— Нет. И будь повнимательнее с тем, что делаешь и говоришь, особенно при Энцо: только попробуй сказать ему, что мне стало плохо, — а это неправда, плохо мне не было, просто голова закружилась, — и нашей дружбе конец.
— Возьми пару выходных и не ходи к Соккаво. Сначала тебя отговаривал Капоне, теперь комитет: это вопрос политической целесообразности.
— А мне плевать на политическую целесообразность. Вы втянули меня в неприятности, а теперь я буду делать то, что считаю нужным.
Она не пригласила его подняться, и он уехал обиженный. Придя домой, Лила с особой нежностью поцеловала Дженнаро, затем приготовила ужин и села ждать Энцо. Она решила почаще отрываться от дел и устраивать себе перерывы для отдыха. Энцо задерживался, и Лила покормила сына ужином. Она боялась, что в этот вечер Энцо встречается с женщинами и вернется поздней ночью. От этих мыслей вся ее нежность к сыну улетучилась, и, когда он опрокинул стакан воды, Лила заорала на него как на взрослого, ругаясь на диалекте: «Можешь ты хоть минуту посидеть на месте? Сейчас как врежу! Всю жизнь мне испортил!»
В этот момент появился Энцо. С ним она постаралась быть приветливой. Они поели, хотя Лиле кусок не лез в горло, ей было больно глотать и драло грудь. Когда Дженнаро уснул, они сели за задания, но Энцо быстро устал и сказал, что хочет спать. Лила предпочла пропустить его слова мимо ушей — она хотела посидеть с ним подольше, потому что боялась остаться одной у себя в комнате: вдруг симптомы, о которых она не рассказала Армандо, проявятся снова и убьют ее.
— Может, все же объяснишь, что происходит? — тихо спросил Энцо.
— Ничего.
— Ты всюду таскаешься с Паскуале. Что у вас за секреты от меня?
— Мне приходится с ним таскаться: он же записал меня в профсоюз, вот мы и ходим по профсоюзным делам.
Энцо смотрел на нее с отчаянием.
— Что ты? — спросила она.
— Паскуале рассказал мне, что ты устраиваешь на заводе. Ты обо всем докладываешь ему, докладываешь комитету… Один я не должен ничего знать.
Лила вскочила с места и побежала в ванную. Значит, Паскуале проболтался. Но что именно он успел рассказать? Только о бумаге, которую она от имени профсоюза собиралась подать Соккаво, или еще и о Джино, и о том, что ей стало плохо на виа Трибунале? Промолчать он, конечно, не мог: в мужской дружбе свои законы — неписаные, но нерушимые, — не то что в женской. Немного успокоившись, она вернулась к Энцо.
— Паскуале — трепло.
— Паскуале — мой друг. А вот кто мне ты?
Его интонация потрясла Лилу. Стыдясь собственной слабости, она пыталась сдержать слезы, но они сами покатились у нее по щекам.
— Я не хочу, чтобы из-за меня у тебя были неприятности, у тебя и своих хватает. Я боюсь, что ты меня прогонишь! — Она высморкалась и добавила шепотом: — Можно я сегодня лягу с тобой?
Энцо смотрел на нее, не веря собственным ушам.
— В каком смысле?
— В каком хочешь.
— А чего хочешь ты?
Лила, упершись взглядом в стоявший посередине стола дурацкий графин с куриной головой, который так нравился Дженнаро, проговорила:
— Я хочу, чтобы ты был рядом.
Энцо печально покачал головой:
— Ты же не хочешь быть со мной…
— Хочу! Но я ничего не чувствую.
— Ничего не чувствуешь ко мне?
— Да нет же, что ты! Я очень люблю тебя и каждый вечер только и мечтаю о том, как ты позовешь меня, обнимешь, прижмешь к себе. Но ничего больше мне не хочется.
Энцо побледнел, его красивое лицо исказилось, как от невыносимой боли.
— Я тебе противен.
— Да нет же! Давай займемся тем, чего ты хочешь, прямо сейчас, немедленно, я готова.
Он грустно улыбнулся, помолчал немного и, не выдержав ее взгляда, сказал:
— Давай спать.
— Каждый у себя?
— Нет, пойдем ко мне.
Лила успокоилась и пошла переодеваться. В ночной рубашке она пришла к нему в комнату, дрожа от холода. Энцо ждал ее в постели.
— Мне здесь лечь?
— Ложись.
Она скользнула под одеяло, положила голову ему на плечо, а руку — на грудь. Энцо не двигался, его тело пылало жаром.
— У меня ноги заледенели, — прошептала она, — можно я погреюсь о твои?
— Грейся.
— Можно я тебя приласкаю немножко?
— Не надо, оставь.
Вскоре она согрелась, забыла о коме в горле, боль в груди прошла. Тепло обволокло ее со всех сторон, и она наконец успокоилась.
— Можно я посплю? — спросила она, погружаясь в сон.
— Спи.
43
Она проснулась на рассвете, вздрогнув во сне: тело напоминало, что пора вставать. Не успела она вылезти из постели, как на нее обрушились вчерашние дурные мысли: она вспомнила о своем больном сердце, неудачах Дженнаро, фашистах из родного квартала, списке требований, Надином самодовольстве и Паскуале, которому нельзя ничего доверить. Лишь потом она сообразила, что всю ночь проспала у Энцо, но он куда-то исчез. Она вскочила и в тот же миг услышала, как хлопнула входная дверь. Интересно, он встал, как только она заснула? Не спал всю ночь? Или ушел в ее комнату к Дженнаро? Или все же заснул с ней рядом, забыв о своих желаниях? Точно она знала одно: он, как обычно перед выходом, позавтракал, накрыл на стол для нее и Дженнаро и ушел на работу, не сказав ей ни слова.
Лила отвела сына к соседке и побежала на завод.
— Ну что, решилась наконец? Идешь? — слегка обиженно спросил Эдо.
— Когда захочу, тогда и пойду, — ответила Лила злобно, как раньше.
— Мы же комитет! Ты должна держать нас в курсе!
— Вы показали список остальным?
— Да.
— И что говорят?
— Ничего. Молчанье — знак согласия.
— Молчанье — знак того, что всем насрать.
Капоне был прав, и Надя с Армандо тоже. Пустая это затея. Лила с остервенением резала мясо, ей хотелось сделать себе больно: воткнуть нож в руку, надавить на него, чтоб пронзил вместе с мертвой плотью плоть живую, ее плоть. Или наорать на кого-нибудь: пусть платят за свое неумение принимать решения. Эх, Лина, Лина Черулло, ты неисправима! Сдался тебе этот список? Тебе не нравится, что тебя эксплуатируют? Ты хочешь облегчить работу себе и всем этим людям? Ты правда веришь, что с ними можно начать победный марш пролетариата по всему миру? Да куда им! А если б и начали, куда этот марш приведет? Вы так и будете всю жизнь вкалывать. Какой прок от власти рабочих, если они горбатятся с утра до вечера? Бред! Бессмысленная болтовня в попытке позолотить пилюлю изнурительного труда. Ты же прекрасно знаешь это жестокое правило: не можешь изменить что-то к лучшему, просто пройди мимо, — с детства знаешь! Изменить, измениться… Сама-то ты, к примеру, меняешься к лучшему? Стала ты такой, как Надя или Изабелла? Твой брат изменился? Стал вторым Армандо? А твой сын станет как Марко? Нет, мы по-прежнему мы, а они — это они. Так куда же ты лезешь? Дурья башка, вечно тебе не сидится, думаешь слишком много, ищешь не пойми чего. То обувь рисовала, то возилась с обувной фабрикой, то переписывала за Нино его статьи, ходила за ним по пятам, пока не сделает по-твоему, потом взялась за Энцо, влезла зачем-то в его учебу на заочных цюрихских курсах. Теперь, видите ли, раз Надя затеяла революцию, тебе тоже приспичило протестовать, да еще непременно так, чтобы обставить Надю. Это все твоя дурная голова. Все беды от нее и все болезни. Как же мне все надоело. И с Дженнаро возиться надоело: все равно ничего хорошего его не ждет, будет, как и все, уродоваться на заводе и стелиться перед хозяином за лишние пять лир. Так что же делать? А вот что, Черулло. Бери-ка быка за рога и делай что задумала — иди и запугай Соккаво, да так, чтобы он и думать забыл запираться с работницами в сушилке. Покажи ему, чему научилась, покажи, что его ждет, этого студента-оборотня с волчьей пастью. Помнишь то лето на Искье? Напитки, дом на Форио, роскошную кровать, на которой вы спали с Нино. Ведь деньги текли отсюда, из этой вони, бесконечных дней, проведенных среди этой мерзости, из труда, оцененного в пять лир. Что мне терять? Что это я только что отрезала? Фу, потекла какая-то желтая жижа… Мир все еще держится, но если он упадет, то точно разобьется, да оно и к лучшему.
Незадолго до обеденного перерыва она подошла к Эдо и сказала: «Я пошла». Но не успела она снять фартук, как в разделочной появилась секретарша хозяина:
— Доктор Соккаво ждет тебя в кабинете, немедленно.
Лила не сомневалась, что среди них нашелся доносчик, доложивший Бруно о том, что готовится. Она взяла из своего шкафчика листок с требованиями, поднялась к кабинету, постучала в дверь и вошла. Бруно был не один. В кресле руководителя с сигаретой в зубах восседал Микеле Солара.
44
Лила не сомневалась, что рано или поздно Микеле Солара еще объявится в ее жизни, но, увидев его в кабинете Бруно, испугалась так, как в детстве пугалась призраков, готовых вот-вот выскочить из темного угла. «Что он здесь делает? — пронеслось у нее в голове. — Надо бежать отсюда». Солара встал, распахнул ей объятия и взволнованно произнес: «Лина, сколько лет, сколько зим! Как я рад тебя видеть!» Он собирался обнять ее, но она инстинктивным движением, с отвращением на лице, уклонилась. Микеле так и застыл на мгновение с разведенными в разные стороны руками, потом одной рукой почесал подбородок, другую запрокинул за голову, к затылку.
— Подумать только, — сказал он наконец, указывая на Лилу. — Поверить не могу! Как только тебе удалось спрятать среди палок колбасы саму синьору Карраччи.
Лила посмотрела на Бруно и резко сказала:
— Я потом зайду.
— Нет, садись, — ответил тот мрачно.
— Лучше я постою.
— Садись, ты устала.
Лила помотала головой и осталась на ногах.
— Бесполезно, — хитро улыбнулся Микеле, обращаясь к Бруно. — Так уж она устроена: всегда все делает по-своему.
Лиле показалось, что голос Солары стал еще более властным, чем раньше: каждое слово он выговаривал так, будто в последние годы только и делал, что оттачивал произношение. Может, от усталости, а может, ему назло Лила передумала и села. Микеле повернулся к ней и заговорил так, будто Бруно вообще не было в комнате. Он внимательно, с симпатией во взгляде, оглядел ее и с сожалением заключил: «Что у тебя с руками? Все в порезах. Помню, какие красивые они были в юности… Очень, очень жаль». Потом он перешел к магазину на пьяцца Мартири. Он обращался к Лиле, словно она до сих пор в нем распоряжалась и у них была деловая встреча. Он упомянул о новых шкафах, розетках, о том, что велел заделать вторую дверь в туалет — ту, что вела во двор. Лила вспомнила про тот выход и прошипела на диалекте:
— Плевать я хотела на твой магазин.
— Ты хотела сказать «на наш магазин»: мы его вместе делали.
— Ничего я с тобой вместе не делала.
— Тот, кто вкладывает в дело деньги, — заспорил с ней Микеле, улыбаясь и слегка покачивая головой, — трудится не меньше, чем тот, кто работает руками и головой. Деньги открывают горизонты, меняют ход событий и жизни людей. Ты себе не представляешь, сколько народу я могу осчастливить или уничтожить, просто подписав чек.
После этого он спокойно вернулся к прежней болтовне: казалось, ему доставляло удовольствие рассказывать ей последние новости, как обычно их рассказывают друзьям. Начал он с Альфонсо, сказал, что очень доволен его работой на пьяцца Мартири и хорошо ему платит; Альфонсо вполне мог бы содержать на свое жалованье семью. Однако, по рассказу Микеле, тот не спешил жениться, предпочитая держать Маризу в статусе вечной невесты, а самому делать все, что заблагорассудится. Микеле, зная, что семейная жизнь хорошо сказывается на работе, решил на правах работодателя подтолкнуть его к этому шагу, пообещав взять на себя все расходы; в июне должна наконец состояться свадьба. «Представь только, — сказал он Лиле, — если я так помогаю Альфонсо, сколько бы я дал тебе, останься ты работать на меня. Да я бы тебя озолотил, сделал настоящей королевой!» Затем, не дав ей возможности ответить, он стряхнул пепел в старинную бронзовую пепельницу и объявил, что и сам в июне женится, разумеется на Джильоле, которую любит всю жизнь. «Жаль, что тебя не будет на свадьбе, — сокрушался он. — С радостью позвал бы тебя, но не хочу ставить твоего мужа в неловкое положение». Дальше последовал рассказ о Стефано, Аде и их дочке, и Микеле то и дело повторял, как любит всех троих, хотя дела в лавках Стефано идут уже далеко не так хорошо, как раньше. «Торговля сегодня — бурное море, — пояснил Микеле. — Пока у Карраччи были отцовские деньги, он держался на плаву, а теперь черпнул воды бортом, и ему несдобровать. Конкуренция растет, открываются новые магазины…» Сам Марчелло некоторое время назад задумал расширить старую лавку покойного дона Карло, превратив ее в магазин, в котором можно купить все что душе угодно — от мыла до лампочек, от мортаделлы до сладостей. Замысел он осуществил, и теперь магазин под названием «Всё для всех» пользуется огромной популярностью.
— То есть вы с братом все-таки разорили Стефано?
— Что значит — разорили? Что ты, Лила, мы просто работаем. Более того, когда у нас есть возможность помочь товарищам, мы им помогаем. Угадай, кого Марчелло устроил в новый магазин?
— Понятия не имею.
— Твоего брата.
— Рино дошел до того, что сел у вас продавцом?
— Ну, ты же его бросила, а у него на шее остались отец с матерью, ребенок, Пинучча, она, кстати, опять беременна… Что ему оставалось? Он попросил помощи у Марчелло, и Марчелло ему помог. Что тебе опять не так?
— Все не так, — ответила Лила холодно, — вообще все, что вы делаете, не так.
Микеле остался недоволен ее ответом и только тут как будто вспомнил о Бруно.
— Видишь, все, как я говорил: все ее беды от вздорного характера.
Бруно растерянно улыбнулся, отчаянно пытаясь изобразить, что понимает, о чем говорит Микеле.
— И то правда.
— Тебе тоже от нее достается?
— Есть немного.
— Представь, она еще девчонкой набросилась на моего брата с сапожным ножом. И не посмотрела, что он вдвое ее больше. И ведь не шутила, правда готова была перерезать ему горло…
— Правда?
— Ага. Ей решимости не занимать, она на многое способна.
Лила изо всех сил сжала кулаки: в тот момент она ненавидела себя за слабость, расползавшуюся по всему телу. Комната кружилась, контуры предметов и людей расплывались. Она смотрела, как Микеле тушит сигарету о пепельницу, и по тому, с каким остервенением он это делал, догадалась, насколько наигранным было его спокойствие. Пальцы с побелевшими ногтями изо всех сил сжимали окурок, никак не решаясь выпустить его. «Когда-то он предлагал мне стать его любовницей, — думала она. — Но на самом деле ему не это было нужно. Есть тут что-то большее, никак не связанное с сексом, что-то, чего он сам себе не может объяснить. У него ко мне что-то вроде суеверия: возможно, он верит, что у меня есть некая тайная сила, которой он сам хотел бы обладать. Насильно ему ее у меня не отобрать, вот он и дергается. Не будь этого, он бы меня уже раздавил. Только вот почему я? Что такое он во мне разглядел? Что ему от меня нужно? Мне нельзя здесь оставаться, нельзя слушать его, позволять ему смотреть на себя. Я боюсь его, боюсь того, что он видит, и того, чего хочет».
— Я кое-что оставлю тебе, — сказала она Бруно. — И все, мне пора.
Она встала и достала из кармана листок с требованиями, собираясь положить его на стол, возле пепельницы, и уйти. Она понимала, что это ничего не даст, но считала себя обязанной это сделать. Однако ее остановил голос Микеле. На сей раз он говорил ласково, едва ли не с заботой, так, будто догадался, что она собирается сбежать, и готов был на все, лишь бы остановить и задержать ее.
— Характер у нее и правда паршивый, — вновь обратился он к Соккаво. — Ей начхать на то, что я не договорил: она достает какой-то листок и убегает. Но мой тебе совет: прости ей все, потому что ее дрянной характер с лихвой окупается необыкновенными способностями. Перед тобой не простая работница, нет. Эта синьора куда ценнее. Позволь ей действовать, и увидишь, как она превратит дерьмо вокруг тебя в золото. Она может сделать из твоей шараги предприятие такого уровня, о каком ты и мечтать не смеешь. Как ей это удается? А вот так: она соображает. Не только лучше любой бабы, но и лучше нас с тобой, лучше любого мужика. Я давно за ней наблюдаю, с детства, и знаю, что говорю. Она нарисовала ботинки, которые до сих пор продаются по всему Неаполю и за его пределами и приносят мне кучу денег. И магазин на Мартири она мне так обустроила, что он стал салоном для богачей с виа Кьяйя, Позилипо и Вомеро. Она еще много на что способна. Только вот есть у нее одна причуда: она всегда делает что хочет. Когда хочет — приходит, когда хочет — исчезает; захочет — построит что угодно, а потом взбредет ей в голову — сама и сломает. Думаешь, это я ее уволил? Ничего подобного, просто как-то раз она не явилась на работу. Просто исчезла. Пытаешься вернуть ее, а она ускользает между пальцев как угорь. В этом-то и вся ее проблема: она жутко умная, но не понимает, что можно, а чего нельзя. А все потому, что ей до сих пор не встретился настоящий мужик. Нормальный мужик всегда сумеет поставить женщину на место. Не умеет готовить? Научится. Не убирается дома? Начнет, да так, что все засверкает. Рядом с настоящим мужчиной женщина способна на все. Вот я недавно познакомился с бабой, которая свистеть не умела. Мы всего-то два часа провели вместе — горячие выдались два часа, — а потом я ей говорю: «Свистни». И ведь не поверишь, засвистела. Умеешь учить женщину — учи, а не умеешь — оставь в покое, не то хуже будет.
Последнюю фразу он произнес так, словно озвучивал приказ, но, еще не успев договорить, должно быть, догадался, что и сам сейчас не в состоянии его исполнить. Он изменился в лице, и голос его зазвучал по-другому: было ясно, что ему позарез необходимо прямо тут, немедленно, унизить Лилу. Он повернулся к ней и, перейдя на диалект, зачастил:
— Только с этой сучкой не так все просто. Вроде посмотришь на нее: глазки узенькие, сиськи маленькие, жопа маленькая, сама тощая как щепка. Думаешь, на фиг такая сдалась, на нее даже не встанет. А еще секунду посмотришь — всего секунду — и понимаешь, что больше всего на свете хочешь ее трахнуть.
Лила почувствовала бешеный стук в голове, как будто сердце билось не в горле, как раньше, а перепрыгнуло прямо в черепную коробку. Она ответила ему такой же грязной, если не хуже, тирадой, схватила пепельницу, разметав вокруг окурки и пепел, и попыталась его ударить. Однако, несмотря на всю ярость, рука ее двигалась вяло, будто лишенная силы. «Лина, остановись, что ты делаешь?» — завопил Бруно, и она как будто нехотя послушалась его. Солара с легкостью схватил ее за запястье, вырвал у нее пепельницу и в бешенстве заговорил:
— Думаешь, ты тут подчиняешься синьору Соккаво? Думаешь, я тут никто? Ошибаешься. Доктор Соккаво с недавнего времени вписан в красную книгу моей матери, ту самую, что куда важнее красной книжицы Мао. Так что работаешь ты не на него, а на меня, и зависишь от меня одного. До сегодняшнего дня я позволял тебе делать что хочешь, любопытно было посмотреть, далеко ли вы зайдете с этим мудаком, который тебя трахает. А теперь запомни, что я глаз с тебя не спущу и что ты должна бежать ко мне по первому зову, ясно тебе?
Только в этот момент Бруно вскочил со стула и заорал:
— Брось, Микеле! Оставь ее, ты перегибаешь палку.
Солара медленно отпустил Лилино запястье, обернулся к Соккаво и забормотал, снова вернувшись к литературному итальянскому:
— Ты прав, прости. Такая уж особенность есть у синьоры Карраччи: так или иначе, но она непременно заставит тебя перегнуть палку.
Лила сдержала гнев, аккуратно стряхнула кончиками пальцев пепел со своей одежды, развернула листок с требованиями, положила его на стол перед Бруно и направилась к двери. На полпути она вдруг обернулась и, обращаясь к Соларе, сказала:
— А свистеть я научилась в пять лет.
45
Из кабинета Соккаво она вернулась белая как полотно. Эдо спросил, как все прошло, но она не ответила, отодвинула его рукой, прошла мимо и заперлась в туалете. Она боялась, что Бруно сейчас же позовет ее назад, что ей придется разговаривать с ним в присутствии Микеле, боялась противной слабости во всем теле, к которой никак не могла привыкнуть. Она вздохнула с облегчением, только когда увидела в окно, выходившее во двор, как Микеле идет к своей машине — высокий, шаги резкие, нервные, лоб с залысинами, красивое, гладко выбритое лицо, черная кожаная куртка и темные брюки. Она вернулась в разделочную.
— Так что? Отдала? — снова пристал к ней Эдо.
— Да, но дальше будете разбираться сами.
— В смысле?
Лила не успела ответить: к ней подбежала запыхавшаяся секретарша Бруно и сообщила, что хозяин немедленно хочет ее видеть. Лила шла к нему в кабинет, как святая, которая все еще носит голову на плечах, но уже придерживает обеими руками, зная, что ее вот-вот отсекут. Едва завидев Лилу, Бруно заорал:
— Может, вам еще и кофе по утрам в постель подавать? Что за новости, Лина? Ты сама-то понимаешь, чего просишь? А ну садись и объясни мне все нормально. Глазам своим не верю!
Лила растолковала ему все требования, пункт за пунктом, тем же тоном, каким говорила с Дженнаро, когда тот не хотел слушать ее объяснений. Она подчеркнула, что советует ему отнестись к требованиям серьезно, обдумать и конструктивно обсудить каждый пункт, потому что иначе — если он будет себя вести неправильно — инспекция нагрянет на завод без предупреждения. Под конец она спросила его, в какое дерьмо он вляпался, чтобы оказаться в руках у подонков Солара. Этого Бруно уже не стерпел. Его обычно румяное лицо посинело, глаза налились кровью, он завопил, что уничтожит ее, что стоит ему зачерпнуть из своего кармана горсть монет и кинуть мудакам, которые затеяли идти против него, — и все его дела тут же наладятся. Он орал, что его отец всегда был на короткой ноге с инспекцией и не ему их бояться. Визжал, что Солара быстренько отобьют у нее охоту играть в профсоюзы, и задыхаясь, прохрипел: «А теперь вон отсюда, вон, немедленно!»
Лила направилась к двери и уже с порога сообщила:
— Больше ты меня не увидишь: я увольняюсь.
Ее слова быстро привели Соккаво в чувство. По его напряженной физиономии нетрудно было догадаться, что он поклялся Микеле не увольнять ее.
— Ты что, еще и обижаешься? — спросил он ее. — Капризничать вздумала? Что ты несешь, вернись, давай все обсудим. Это мне решать, увольнять тебя или нет. А ну вернись, засранка, иди сюда.
На какую-то долю секунды ей снова вспомнилось, как по утрам на Искье мы ждали Нино с его богатым другом из Форио, любезным и всегда невозмутимым молодым человеком. Она вышла и захлопнула за собой дверь. Ее била дрожь, все тело покрылось холодным потом. Она не вернулась в разделочный цех, не попрощалась с Эдо и Терезой, прошла мимо Филиппо, который растерянно кричал ей вслед: «Эй, Черу, ты куда? А ну вернись!» Она бегом побежала по немощеной дорожке, села на первый же автобус до Марины, вышла у моря, долго бродила по побережью на холодном ветру, потом на фуникулере поднялась до Вомеро. Прошла по пьяцца Ванвителли, по виа Скарлатти и Чимароза, снова села на фуникулер и спустилась вниз. Было уже поздно, когда она поняла, что совсем забыла о Дженнаро. Домой она вернулась в девять, встревоженные Энцо и Паскуале принялись расспрашивать ее, что случилось, но она вместо ответа отправила их в квартал искать меня.
Так мы оказались глубокой ночью вместе, в бедной комнате в Сан-Джованни-а-Тедуччо. Дженнаро спал, Лила шепотом говорила и говорила без остановки, Энцо и Паскуале ждали на кухне. Я чувствовала себя героем старинного романа — рыцарем, облаченным в сияющие доспехи, который, пройдя полмира и пережив тысячи захватывающих приключений, вдруг встречает на своем пути тщедушного пастуха-оборванца, ни разу в жизни не покидавшего пределы своего пастбища, который с немыслимой отвагой, голыми руками, хватает страшных хищных зверей и подчиняет своей воле.
46
Я дала ей выговориться и слушала ее молча. Некоторые эпизоды, особенно те, говоря о которых она болезненно морщилась, напугали меня по-настоящему. Я чувствовала себя виноватой, думая о том, что моя жизнь могла сложиться так же, и если это не так, то в том числе благодаря ей. Иногда меня охватывало желание обнять ее, еще чаще — задать вопрос или отпустить комментарий, но я сдерживалась и позволила себе перебить ее всего два-три раза.
Например, когда речь зашла о профессоре Галиани и ее детях. Я хотела знать, что именно сказала моя бывшая преподавательница, в каких словах и выражениях, и не упоминали ли обо мне Надя и Армандо. К счастью, я вовремя сообразила, что с моей стороны было бы подло заострять внимание на подобных пустяках, хотя в душе считала свое любопытство оправданным: все же я хорошо знала этих людей и испытывала к ним искреннюю привязанность. Но я сказала лишь:
— Надо будет навестить Галиани перед отъездом во Флоренцию. Поехали вместе? Она немного охладела ко мне после истории на Искье, решила, что Нино бросил Надю из-за меня… — Лила молча смотрела на меня невидящим взглядом, тогда я добавила: — Галиани — хорошие люди. Немного высокомерные, но хорошие. А что с шумами в сердце? Ты проверилась?
— И так понятно, есть там шумы, — на сей раз она не промолчала.
— Сказал же тебе Армандо, что надо сходить к кардиологу.
— Зачем? Он же сам их слышал.
Еще меня тянуло вмешаться, когда она говорила о сексе. Когда она рассказывала историю про сушильный цех, я чуть не ляпнула: представляешь, ко мне в Турине подкатывал один старикан, а в Милане художник-венесуэлец, заявился ко мне в спальню, как будто так и надо — и это после нескольких часов знакомства! Но я прикусила язык. Как я могла говорить о себе? И потом, какое отношение произошедшее со мной имело к тому, о чем она мне рассказывала?
Я особенно ясно поняла это, когда Лила заговорила о своей сексуальности как таковой (до этого, делясь со мной впечатлениями о своей первой брачной ночи, она ограничилась простой констатацией фактов). Мы впервые заговорили с ней на эту тему. Язык похабщины, принятый в нашем квартале, годился, чтобы дать отпор приставалам, но сама его грубость не позволяла прибегать к нему для доверительного обсуждения проблем, связанных с сексом. Вот почему я слушала ее откровения, смущенно уставившись в пол, а она в тех самых вульгарных выражениях говорила, что ей никогда не нравилось трахаться, что она никогда не получала от этого удовольствия, о котором слышала чуть ли не с детства, что она практически ничего не чувствовала, а после Стефано и Нино убедилась, что секс — это что-то омерзительное, и сейчас не в состоянии заставить себя переспать с Энцо, несмотря на всю его доброту. На этом она не остановилась. Используя еще более грубые слова, она призналась, что соглашалась — под принуждением, из любопытства или в порыве страсти — на все, что мужчина хочет получить от женщины. Но даже с Нино, мечтая зачать от него ребенка, она не испытывала того наслаждения, которое, по слухам, дарит настоящая любовь.
Я понимала, что молчать в ответ на такие признания нельзя и я должна рассказать ей о себе — откровенность за откровенность. Но от одной мысли, что мне придется перед ней раскрыться — при том, что диалект вызывал у меня отвращение, а использовать для обсуждения липких сексуальных тем литературный итальянский казалось мне чуть ли не кощунством, — чувство неловкости во мне только окрепло. Я не подумала, какой ценой далось ей это признание, как будто не видела, что каждое произнесенное ею слово, даже самое пошлое, сопровождалось выражением муки на лице и дрожью в руках.
— У меня это не так, — просто сказала я.
Я не врала, хотя и правдой это не было. Правда была сложнее, но, чтобы придать ей форму, нужны были точные, проверенные слова. Надо было объяснить, что во времена моих отношений с Антонио мне нравилось тереться об него и позволять ему трогать себя — я получала от этого огромное удовольствие и до сих пор надеялась испытать его вновь. Надо было честно сказать, что мой первый настоящий сексуальный опыт принес мне разочарование: все ощущения были испорчены чувством вины, неудобством неподходящей обстановки, страхом, что нас застукают, спешкой и ужасом от мысли, что я забеременею. Надо было добавить, что Франко — а тем немногим, что я знала о сексе, я была по большей части обязана ему, — прежде чем проникнуть в меня, а иногда и после, — давал мне потереться о свою ногу или живот, что мне нравилось, а иногда и само проникновение доставляло мне удовольствие. Наконец, надо было сказать, что я жду свадьбы, а поскольку Пьетро — человек очень внимательный, я надеюсь, что с ним, в законной супружеской постели, спокойствии и комфорте, познаю наконец все радости секса. Вот что надо было сказать, чтобы не погрешить против правды. Но между нами были не приняты подобные откровения, и в свои почти полные двадцать пять мы не знали, как об этом говорить. Кое-как, туманными намеками, мы касались этой темы, когда она собиралась замуж за Стефано, а я встречалась с Антонио, но ни о чем конкретном речи никогда не шло. Ни о Донато Сарраторе, ни о Франко я ей вообще не рассказывала. Поэтому я ограничилась кратким: «У меня это не так», — но она, видимо, поняла мои слова по-своему: «Наверное, ты не совсем нормальная». Она с недоумением посмотрела на меня и, словно оправдываясь, сказала:
— В книге ты написала другое.
Значит, она ее все-таки прочитала.
— Я уже сама не помню, что там написано, — пробормотала я.
— Там написано про всю эту грязь. Про то, о чем мужчины не желают слышать, а женщины знают, но боятся говорить. Зачем ты теперь это скрываешь?
Примерно так она сказала; во всяком случае, она точно произнесла слово «грязь». Иначе говоря, она тоже вспоминала мои «откровенные сцены» — в точности как Джильола, рассуждавшая о «грязи». Я ждала, что она выскажется о моей книге в целом, но этого не произошло, она использовала ее как что-то вроде мостика, чтобы вернуться к своей навязчивой идее о том, что «трахаться омерзительно». «Ты же сама писала об этом в книге, значит, все понимаешь, и нечего прикидываться, говорить: „У меня это не так“!» — «Ну да, — забормотала я, — может, ты и права, не знаю». И пока она с прежней мукой и прежним бесстыдством продолжала откровенничать (возбуждение, ноль удовлетворения, одна мерзость), мне вспомнился Нино и те вопросы, над которыми я недавно размышляла. Может, именно сейчас, этой бесконечной ночью, полной разговоров, рассказать ей, что я его видела? Предупредить, чтобы не рассчитывала на его помощь в воспитании Дженнаро, потому что у него есть еще один сын, который ему тоже до лампочки? Воспользоваться моментом и сказать, что в Милане он говорил мне о ней не самые приятные вещи, в том числе сетовал, что «у нее все не так, даже в сексе»? Или рубануть ей напрямик, что ее признания и «грязь», которую она нашла в моей книге, заставляют меня думать, что Нино, в сущности, прав? Разве сын Сарраторе имел в виду не то же самое, о чем она только что сама говорила? Что секс для Лилы был отвратительной обязанностью, что она не умела наслаждаться близостью? Он в этом эксперт, думала я, у него было полно женщин, и он знает, как они должны вести себя в постели. Очевидно, что быть плохой партнершей означает неумение получать наслаждение от мужской долбежки. Это означает, что после секса ты продолжаешь сгорать от желания и берешь в руки его член, как я иногда делала с Франко, и кладешь его себе между ног, хотя ему это не нравится — он уже достиг оргазма и хочет спать. Мне все больше делалось не по себе. Так вот о чем я написала в своей повести, думала я, вот что вычитали из нее Джильола и Лила, а наверняка и Нино — не потому ли он и решился со мной об этом заговорить? Я постаралась отбросить эти мысли и, просто чтобы не молчать, почти наугад сказала:
— А все-таки жалко.
— Что жалко?
— Что ты забеременела, так и не испытав удовольствия.
— А уж мне-то как жалко, — неожиданно съязвила она в ответ.
Когда я перебила ее в очередной раз, уже светало. Она закончила рассказ о встрече с Микеле. «Ну, хватит! — воскликнула я. — Дай-ка я смерю тебе температуру». Градусник показал тридцать восемь и пять. Я крепко обняла ее и прошептала: «Теперь я буду о тебе заботиться. Я не брошу тебя, пока ты не поправишься. А потом увезу тебя вместе с сыном во Флоренцию». Она категорично замотала головой и сделала последнее в ту ночь признание — сказала, что совершила ошибку, уехав с Энцо в Сан-Джованни-а-Тедуччо, и хочет вернуться в наш квартал.
— В наш квартал?
— Да.
— Ты что, с ума сошла?
— Как только мне станет лучше, сразу перееду.
Я принялась ее отговаривать, твердила, что у нее жар и она сама не соображает, что несет, что она не сможет там жить и что это страшная глупость.
— Я вот жду не дождусь, когда окончательно оттуда вырвусь, — воскликнула я.
— Ты сильная, — сказала она в ответ, изумив меня, — а я никогда не отличалась силой. Чем дальше ты оттуда, тем лучше себя чувствуешь, становишься собой. А я на ту сторону туннеля не могу перебраться — у меня поджилки дрожат. Помнишь, как мы хотели дойти до моря? Когда еще ливень начался… Помнишь, кто хотел идти вперед, а кто развернулся и побежал назад? Ты или я?
— Да я и не помню уже. Зато знаю, что в квартал тебе возвращаться нельзя.
Мы долго спорили, я пыталась переубедить ее, но тщетно.
— Иди, — сказала она мне наконец. — Поговори с ребятами, они ведь так и сидят на кухне, ждут, всю ночь глаз не сомкнули. А им обоим на работу пора.
— Что мне им сказать?
— Что хочешь.
Я закутала ее в одеяло, накрыла Дженнаро, беспокойно ворочавшегося всю ночь. Лила задремала.
— Я скоро вернусь, — сказала я.
— Помнишь, что ты мне обещала?
— Что?
— Ты что, уже забыла? Если со мной что-нибудь случится, ты должна взять Дженнаро к себе.
— Ничего с тобой не случится.
Не успела я выйти из комнаты, как Лила вздрогнула и в полусне пробормотала:
— Не уходи… Побудь со мной, пока я не усну. Никогда не выпускай меня из виду, даже когда уедешь из Неаполя, не выпускай. Мне спокойнее, когда ты за мной наблюдаешь.
47
Я постаралась сделать для Лилы все, что было в моих силах, — с той ночи и до замужества, то есть до 17 мая 1969 года, когда мы с Пьетро расписались в Флоренции и на три дня съездили в свадебное путешествие в Венецию. По возвращении я с головой окунулась в семейную жизнь. Сначала я думала, что побуду с Лилой недолго, пока температура не спадет. У меня была куча своих дел — и с флорентийской квартирой, и с продвижением книги; телефон у нас не умолкал; мать всем раздала свой номер, но ей никто не звонил — в квартале считали, что эта фигня дома — лишняя головная боль, зато без конца названивали мне, что ее бесило. Одновременно я пыталась записывать идеи для новых романов и устранять пробелы в своих литературных и политических познаниях. Но состояние Лилы так ухудшилось, она так ослабела, что я плюнула на все свои дела и занималась почти исключительно ею. Мать прознала, что мы снова видимся, пришла в дикую ярость, орала, что я ее позорю, и костерила нас обеих на чем свет стоит. Она все еще верила, что может указывать мне, что делать, а чего не делать, и ковыляла за мной своей хромой походкой; порой мне казалось, что она готова влезть в мое тело, лишь бы не дать мне распоряжаться собой. «Нечего тебе с ней возиться, — бурчала мать, — где ты и где она?! Мало нам сраму из-за твоей книжки, теперь еще со шлюхой будешь дружбу водить?» Я пропускала ее слова мимо ушей. С той минуты, когда я оставила Лилу в комнате, а сама вышла к Энцо и Паскуале, всю ночь просидевшим на кухне, я навещала ее каждый день и пыталась устроить ее жизнь.
Я сообщила им, что Лила больна, что она не может больше работать на Соккаво и уволилась. Энцо ничего объяснять не пришлось: он давно знал, что на заводе ей не место, что обстановка там ужасная и что с Лилой и правда что-то не то. Но Паскуале воспринял новость в штыки. Утром, когда мы ехали по пустым улицам, еще не успевшим заполниться машинами, он сказал: «Нечего делать из мухи слона. Конечно, жизнь у Лины не сахар, но она ничем не отличается от жизни всех остальных, кого по всему миру эксплуатирует капитал». По своей всегдашней привычке он начал рассуждать о политике, о положении крестьян на юге, рабочих на севере, о проблемах народов Латинской Америки, Африки и северо-востока Бразилии, об афроамериканцах, вьетнамцах и американском империализме. «Паскуале, — перебила я его, — ты пойми: если Лина не изменит свой образ жизни, она умрет». Но он стоял на своем — не потому, что ему было не жалко Лилу, а потому, что он считал борьбу против Соккаво делом исключительной важности. Лиле он отводил в этой борьбе решающую роль и предпочитал думать, что ее не остановит какой-то пустяковый грипп — она же не я, не мелкобуржуазная интеллектуалка, для которой простуда страшнее политических последствий поражения рабочего движения. Прямо он мне этого, конечно, не сказал, — я сама сделала этот вывод из его полунамеков и обрывочных фраз и озвучила его, чтобы он не сомневался: я все прекрасно поняла. Он занервничал. Высаживая меня возле дома, он сказал, что ему пора на работу, но что позже мы непременно вернемся к этому разговору. В следующий раз, когда я пришла в квартиру в Сан-Джованни-а-Тедуччо, я отвела Энцо в сторонку и сказала ему: «Если ты любишь Лину, и близко не подпускай к ней Паскуале. И никаких разговоров о заводе в ее присутствии!»
В то время я всегда таскала с собой книгу и блокнот для записей: читала в автобусе и когда Лила засыпала. Несколько раз я замечала, как она приоткрывает глаза и внимательно смотрит на меня; возможно, ей было интересно узнать, что я читаю, однако она ни разу не спросила даже, как называется книга, а когда я хотела прочесть ей несколько страниц вслух — как сейчас помню, это был Эптон, сцена в гостинице,[10] — она закрыла глаза, будто я ее утомила. Через несколько дней температура спала, но остался кашель, и я настояла, чтобы она оставалась в постели. Я убиралась, готовила, занималась с Дженнаро. Мальчик капризничал, иногда вел себя грубо и, должно быть в силу возраста, не казался ни обаятельным, ни беззащитным — в отличие от Мирко, второго сына Нино. Зато меня умиляло, когда он, устав, неожиданно прекращал свои буйные игры и засыпал прямо на полу. Я привязалась к нему, и вскоре он научился этим пользоваться, требуя всего моего внимания и мешая мне заниматься домашними делами и читать.
Я пыталась разобраться, в какой ситуации оказалась Лила. Например, были ли у нее деньги? Нет. Я предложила ей денег взаймы, и она их взяла, тысячу раз повторив, что непременно вернет мне долг. Сколько должен был заплатить ей Бруно? Зарплату за два месяца. А выходное пособие? Об этом она ничего не знала. Кем работал Энцо? Сколько зарабатывал? Она не имела понятия. Что конкретно давали эти заочные курсы с заданиями из Цюриха? Трудно сказать. Она ужасно кашляла, ее мучили боли в груди, потливость, спазмы в горле; ей часто казалось, что сердце у нее вот-вот выскочит из груди. Я внимательно следила за всеми симптомами и убеждала ее в необходимости серьезного обследования — одного осмотра, проведенного Армандо, очевидно, было недостаточно. Она не согласилась, но и не отказалась. Как-то вечером, когда Энцо еще не вернулся с работы, зашел Паскуале. Он был со мной очень вежлив, сказал, что и он, и товарищи из комитета, и некоторые работники завода Соккаво переживают за Лилу, беспокоятся, как она. Я сказала, что Лила болеет и ей нужен отдых, но он все равно хотел с ней увидеться, хотя бы поздороваться. Я оставила его на кухне, а сама отправилась к Лиле и посоветовала ей к нему не выходить. Она промолчала, но выражение ее лица означало: «Делай, как считаешь нужным». С ума сойти! Она полностью доверилась мне — это Лила, которая всю жизнь всеми командовала.
48
В тот вечер я позвонила с родительского телефона Пьетро и в подробностях рассказала ему обо всех Лилиных бедах и о том, как пытаюсь ей помочь. Он терпеливо выслушал меня и даже проявил некоторую инициативу, вспомнив, что в Пизе у него есть знакомый, молодой эллинист, который страстно увлекается компьютерами и верит, что благодаря им филология выйдет на новый уровень развития. Я знала, как Пьетро занят, и его готовность принять участие в моих делах меня растрогала.
— Свяжись с ним, пожалуйста, — попросила я. — Расскажи ему про Энцо, вдруг для него найдется работа…
Он пообещал, что попробует, а заодно вспомнил, что у Мариарозы, кажется, был роман с каким-то молодым неаполитанским адвокатом.
— Можно его разыскать и обратиться к нему.
— Зачем?
— Выбить денежную компенсацию от завода для твоей подруги.
Эта идея привела меня в восторг.
— Позвони Мариарозе!
— Хорошо.
— Не забудь, — настаивала я, — пожалуйста, прямо сейчас позвони.
На какое-то мгновение он замолчал, а потом сказал:
— Ты прямо как моя мама.
— В каком смысле?
— Когда ей что-нибудь нужно, она говорит теми же словами.
— К сожалению, мы с ней слишком разные.
Он снова помолчал.
— И хорошо, что разные, — после паузы добавил он. — Но в таких делах ей цены нет. Позвони, расскажи ей о подруге — вот увидишь, она все устроит.
Я позвонила Аделе. Мне было страшно неудобно ее беспокоить, но я решилась, потому что помнила, как ловко она расправилась со всеми проблемами, связанными с флорентийской квартирой или с моей книгой. Ей нравилось хлопотать за других. В случае необходимости она просто поднимала трубку и запускала цепочку, которая — звено за звеном — приводила к поставленной цели. Говорить она умела так, что отказать ей было невозможно. Она преодолевала любые идеологические преграды, не признавала иерархий, с одинаковой легкостью обращалась к уборщицам, мелким служащим, воротилам бизнеса, ученым или министрам, со всеми была приветлива, но ухитрялась так себя поставить, будто своей очередной просьбой оказывала этим людям одолжение. Я тысячу раз извинилась, после чего вкратце рассказала Аделе о своей подруге. Она внимательно выслушала меня. История Лилы ее заинтересовала, увлекла и возмутила.
— Дашь мне время подумать?
— Конечно.
— А можно я пока дам тебе один совет?
— Буду рада.
— Не трусь. Ты писательница, вот и воспользуйся своим положением, покажи всем, кто ты такая. Мы живем в эпоху перемен, старые порядки рушатся на глазах. Не стой в стороне, вмешивайся в то, что происходит. И начни с этих подонков, прижми их к стенке.
— Но как?
— Пиши! Пусть Соккаво и ему подобные до смерти тебя боятся! Пообещай мне, что сделаешь это.
— Я постараюсь.
Она дала мне номер редактора «Униты».
49
Звонок Пьетро и особенно разговор с будущей свекровью пробудили во мне чувство, которое я до сих пор держала в узде, чтобы не сказать подавляла, хотя оно давно просилось наружу. Речь шла об изменении моего статуса. Для Айрота — в первую очередь для Гвидо, хотя и для Аделе тоже — я, скорее всего, была милой девушкой, но вовсе не идеальной партией для их сына. При всей широте взглядов мое происхождение, акцент, манеры стали для них суровым испытанием. Возможно, я преувеличиваю, но иногда у меня мелькала мысль, что помощь в публикации моей книги была частью плана, осуществление которого позволило бы с меньшими потерями ввести меня в их мир. Впрочем, они, бесспорно, приняли меня, согласились на наш брак и не возражали против того, что я войду в их семью, под их опеку, они были готовы укрыть меня за стенами своей родовой крепости, откуда я в любой момент могла выйти на свободу, но куда в случае опасности всегда могла вернуться. Мне пришлось срочно привыкать к новым для себя условиям, а главное — осознать их в полной мере. Я перестала быть маленькой нищенкой, которая трясется над последней спичкой, — теперь у меня этих спичек было навалом. И я вдруг поняла, что теперь способна сделать для Лилы намного больше, чем рассчитывала.
Я попросила подругу показать мне материалы, свидетельствующие против Соккаво, и она покорно отдала мне все, даже не поинтересовавшись, что я собираюсь с ними делать. Я читала и не уставала удивляться. Как точно и содержательно она описала весь этот кошмар! За сухими строчками ее отчета вставали картины чудовищных несправедливостей, творившихся на заводе. Я листала страницу за страницей, а потом неожиданно для себя, чуть ли не по наитию, открыла телефонный справочник и набрала номер Соккаво. «Алло, это Элена Греко, — уверенным, если не высокомерным тоном представилась я. — Могу я поговорить с Бруно?» Он был со мной очень приветлив: «Как я рад тебя слышать! Я так за тебя рад: видел твое фото в „Риме“. Ты молодчина! Читал о тебе и вспоминал, как здорово было на Искье». Я холодно ответила, что тоже рада его слышать, но Искья давно в прошлом: с тех пор утекло много воды, все мы изменились — кто в лучшую сторону, кто в худшую. «Вот о тебе, например, — сказала я, — ходят дурные слухи, хотя я надеюсь, что они ни на чем не основаны». Он сразу понял, к чему я клоню, и принялся жаловаться на Лилу, ее черную неблагодарность и неприятности, которые она ему причинила. Я оборвала его, заявив, что Лиле верю больше, чем ему. «Возьми-ка листок бумаги и ручку, запиши мой номер, — велела я. — Записал? А теперь позаботься, чтобы ей выплатили все, что должны, до последней лиры. Позвонишь мне, когда приготовишь деньги, я приеду заберу. Не хотелось бы, чтобы и твоя фотография украсила газетные полосы, правда?»
Я положила трубку, не дожидаясь его ответа, страшно гордая собой. Я ничем не выдала своего волнения, говорила сухо, без эмоций, ограничившись несколькими фразами на чистом итальянском — сначала вежливыми, затем суровыми. Мне хотелось верить, что Пьетро прав, что я действительно многому научилась у Аделе и, сама того не замечая, веду себя как она. Я решила проверить, смогу ли при необходимости воплотить в жизнь угрозу, которой закончила разговор. Волнуясь значительно больше, — в конце концов, Бруно так и остался для меня приставучим мальчишкой, пытавшимся поцеловать меня на пляже Читара, — я позвонила в редакцию «Униты», надеясь, что во время разговора мать не разорется на весь дом на Элизу. «Меня зовут Элена Греко…» — начала я, но больше ничего сказать не успела, потому что телефонистка воскликнула: «Элена Греко? Та самая? Писательница?» Она прочла мою книгу, и ей очень понравилось. Я была счастлива. Несколько раз произнесла: «Большое спасибо», зачем-то доложила ей, что намерена написать статью об одном провинциальном заводе, и попросила соединить с редактором, которого мне порекомендовала Аделе. Телефонистка отпустила мне еще порцию комплиментов, после чего вернулась, наконец, к деловому тону: «Побудьте на линии». Минуту спустя в трубке раздался хриплый мужской голос. Редактор шутливо поинтересовался, с каких это пор мастера слова готовы поставить свое перо на службу таким низким предметам, как тарифные ставки, ночные смены, сверхурочные и прочие малосимпатичные вещи, от которых воротит людей и покрепче, не то что успешных молодых писательниц.
— А что за отрасль? — спросил он наконец. — Строители? Портовики? Шахтеры?
— Да нет… — смутилась я. — Это небольшой колбасный завод, ничего особенного…
— Что это вы как будто извиняетесь? — весело спросил редактор. — Это же отлично! Если Элена Греко, для которой наша газета не пожалела целого подвала, желает писать о сосисках, нам ли, простым смертным, с ней спорить? Тридцати строк вам хватит? Нет? Хорошо, пусть будет шестьдесят. Готовый материал привезете или надиктуете? Как вам удобнее?
Я тут же села за статью. Мне предстояло втиснуть десятки написанных Лилой страниц в шестьдесят строчек и сделать это как можно лучше — ради нее. Но у меня совсем не было журналистского опыта, если не считать неудачной заметки о конфликте с преподавателем богословия, которую я написала в пятнадцать лет и передала в редакцию через Нино; заметку так и не опубликовали. Возможно, мне мешала память о той неудаче, возможно, ироничный тон редактора — его голос все еще стоял у меня в ушах — и его просьба передать привет моей будущей свекрови. Как бы то ни было, статья шла трудно, я просидела над ней невообразимо долго и извела кучу черновиков. И даже окончательный вариант не вызвал во мне удовлетворения — нести статью в редакцию мне не хотелось. «Надо показать Лиле, — решила я. — Попробуем вместе поправить».
На следующий день я пошла навестить Лилу и обнаружила, что ей стало значительно хуже. Она сказала, что в мое отсутствие отовсюду повылезли злые духи, не давая покоя ни ей, ни Дженнаро. Я всполошилась, и тогда она улыбнулась и добавила, что все это глупости и что просто ей хочется, чтобы я проводила с ней как можно больше времени. Мы долго разговаривали, и мне удалось немного ее успокоить, но статью я ей так и не показала. Я боялась, что в «Уните» мне откажут и придется (какое унижение!) признаться Лиле, что у меня ничего не вышло. К счастью, вечером позвонила Аделе, и моя хандра рассеялась как дым: ее оптимизм действовал как лучшее противоядие. Она посоветовалась с мужем и Мариарозой и за пару часов подняла на ноги массу народу: нескольких медицинских светил, профессоров-социалистов, имевших связи в профсоюзах, и одного христианского демократа, который, по ее словам, был жутким простофилей, зато хорошим человеком и отменным специалистом по трудовому праву. В результате на завтра у нас была назначена встреча с лучшим кардиологом Неаполя — другом друзей, готовым принять нас бесплатно; на завод Соккаво уже выехала трудовая инспекция, а чтобы получить причитавшиеся Лиле деньги, мне следовало обратиться к другу Мариарозы, о котором упоминал Пьетро, молодому адвокату-социалисту — его уже посвятили в суть нашей проблемы и он ждал нас в любое время у себя в конторе на пьяцца Никола Аморе.
— Ну что, довольна?
— Еще бы!
— А статью написала?
— Да.
— Правда? А я была уверена, что не напишешь.
— Статья готова, завтра отвезу ее в «Униту».
— Умница! Кажется, я имела неосторожность недооценить тебя.
— Почему же неосторожность?
— Недооценивать кого бы то ни было всегда неосмотрительно. Кстати, как там дела с моим глупым сыном?
50
Дальше события понеслись бурным потоком, и у меня складывалось впечатление, что им управляю я. Пьетро тоже включился в кампанию по спасению Лилы. Знакомый эллинист оказался жутким говоруном, но, несомненно, полезным человеком: он знал в Болонье одного специалиста по компьютерам — которыми и сам бредил, мечтая с их помощью совершить революцию в филологии, — и тот дал ему контакты коллеги, живущего в Неаполе, по его заверениям, настоящего эксперта. Я записала имя, фамилию, адрес и телефон этого синьора, горячо поблагодарила Пьетро, добродушно пошутила по поводу его предприимчивости и даже послала ему по телефону поцелуй.
И сразу же побежала к Лиле. Она надрывно кашляла, лицо осунулось и побледнело, в глазах появился лихорадочный блеск. Но я принесла ей отличные новости и не скрывала своей радости. Я растормошила ее, обняла и, крепко сжимая ее руки в своих, рассказала о телефонном разговоре с Бруно, прочитала вслух статью и по пунктам отчиталась о работе, проделанной Пьетро, моей будущей свекровью и золовкой. Она слушала меня, но как будто издалека, из другого мира: по-моему, она и половины из того, что я говорила, не поняла. Кроме того, ее постоянно теребил Дженнаро, требуя поиграть с ним; она подчинялась, но как-то машинально. И все-таки я была очень довольна. Когда-то Лила жестом волшебницы выдвигала кассовый ящик колбасной лавки, чтобы купить мне все, в чем я нуждалась, главным образом книги. Теперь настала моя очередь: я тоже открывала свои «ящики», надеясь поделиться с ней новым для меня чувством безопасности.
— Значит, так, — подытожила я. — Завтра утром идешь к кардиологу.
Ее реакция меня удивила.
— Наде это не понравится, — с глухим смешком сказала она. — Да и ее брату тоже.
— Что именно ей не понравится? — не поняла я.
— Да так, ничего.
— Лила, послушай, ну при чем тут Надя? Забудь ты о Наде! По-моему, она слишком много на себя берет. Да и Армандо не лучше — я всегда подозревала, что он верхогляд.
С какой стати я накинулась на детей профессора Галиани? В конце концов, я их почти не знала и не мне было их судить. На миг мне почудилось, что Лила смотрит на меня как на чужую, словно я какой-то призрак, явившийся, чтобы воспользоваться ее слабостью. На самом деле я вовсе не намеревалась поносить Надю и Армандо; мне просто хотелось объяснить Лиле, что ситуация изменилась и что по сравнению с влиятельностью семейства Айрота Галиани не представляли собой ничего особенного, не говоря уже о Бруно Соккаво или этом бандите Микеле. Тебе не о чем волноваться, внушала я ей, просто делай, что я говорю. Я еще продолжала ее увещевать, когда вдруг поймала себя на том, что незаметно впадаю в самовосхваление. Я умолкла, погладила ее по щеке и спустя минуту добавила, что политическая активность детей Галиани заслуживает всяческого восхищения.
— Но в данном случае, — улыбнулась я, — доверься лучше мне.
— Ладно, пойдем к твоему кардиологу, — буркнула она.
— А что насчет Энцо? — гнула я свое. — На какой день мне договариваться о встрече?
— В любой. Только после пяти вечера.
Вернувшись домой, я снова повисла на телефоне. Позвонила адвокату и подробно описала ему положение Лилы. Позвонила кардиологу, подтвердила, что мы придем. Позвонила специалисту по компьютерам — он работал в Институте экономического развития — и услышала от него, что заочные курсы в Цюрихе — полная ерунда, но пусть Энцо все-таки к нему зайдет; он назначил день и час и продиктовал адрес. Позвонила в «Униту». «Не больно-то вы торопитесь! — сердито сказал редактор. — Дождемся мы вашей статьи или до Рождества нечего и надеяться?» Позвонила секретарше Соккаво и попросила передать хозяину, что, раз новостей от него нет, я передаю статью о его заводе в «Униту».
Реакция на последний звонок последовала незамедлительно. Через две минуты Соккаво перезвонил мне сам: на сей раз он даже не пытался изображать дружелюбие и сразу перешел к угрозам. В ответ я сказала, что к нему вот-вот нагрянет трудовая инспекция, а вопрос о выплате компенсации Лиле он отныне будет обсуждать с ее адвокатом. Я страшно гордилась собой: Паскуале и Франко вбили себе в голову, что могут меня поучать, а я взяла и дала бой несправедливости, руководствуясь собственными чувствами и убеждениями. Все еще пребывая в радостном возбуждении, я помчалась в «Униту».
Редактор, с которым мы разговаривали по телефону, оказался пожилым мужчиной невысокого роста, с маленькими, очень живыми глазами, в которых ни на миг не гасла доброжелательная ирония. Он встретил меня и предложил присесть. Я расположилась на расшатанном стуле, а он погрузился в чтение моей статьи. Через некоторое время он положил мои листки на стол и сказал:
— По-вашему, это шестьдесят строк? Скорее сто пятьдесят.
— Ровно шестьдесят, — покраснев, пробормотала я. — Я специально считала.
— Ну разумеется, душа моя, только написано от руки, да еще таким почерком, что только с лупой разбирать. Зато материал что надо. Ну вот что, товарищ. Поищи-ка где-нибудь здесь свободную пишущую машинку, перепечатай и сократи до нужного объема.
— Прямо сейчас?
— А когда ж еще? В кои-то веки мне попала в руки стоящая статья, а я, по-твоему, буду тянуть с публикацией до второго пришествия?
51
В те дни я буквально кипела энергией! На следующий день мы с Лилой отправились к кардиологу на виа Криспи, где он жил и вел прием. Я тщательно подготовилась к визиту. Врач был неаполитанцем, но принадлежал миру Аделе, и я не могла позволить себе подвести будущую свекровь. Я сделала прическу, надела платье, подаренное Аделе, надушилась тонкими духами, похожими на ее, и чуть-чуть накрасилась. Мне хотелось, чтобы профессор по телефону или в случае личной встречи с Аделе похвалил меня перед ней. Зато Лила выглядела точно так же, как все последние дни, не позаботившись хоть чуть-чуть привести себя в порядок. Мы ждали в просторной передней, на стенах которой висели картины XIX века: благородная дама, раскинувшаяся в креслах, и чернокожая служанка у нее за спиной; портрет пожилой синьоры; огромное полотно со сценой охоты. Кроме нас здесь находились еще двое — мужчина и женщина, оба в годах, хорошо одетые, сразу видно — богатые. Мы сидели молча. Только раз Лила, которая еще на улице одобрила мой внешний вид, тихонько шепнула мне на ухо: «Ты прямо как с картины сошла: смотри, ты та дама, а я твоя служанка».
Через несколько минут появилась медсестра и пригласила нас в кабинет — почему-то раньше двух других пациентов. Только тогда Лила занервничала, попросила меня пойти с ней и практически втолкнула меня в кабинет первой, как будто в медицинской помощи нуждалась не она, а я. Врач оказался костлявым мужчиной за шестьдесят, с густой седой шевелюрой. Он был со мной очень любезен и много обо мне знал: минут десять мы с ним болтали, словно забыв про Лилу. Он рассказал, что его сын тоже окончил Высшую нормальную школу в Пизе, но выпустился за шесть лет до меня, и упомянул, что у него есть брат, писатель, довольно известный, правда только в Неаполе. Он с большим воодушевлением отозвался о семействе Айрота и хорошо знал одного родственника Аделе, знаменитого физика.
— Когда свадьба? — спросил он.
— Семнадцатого мая.
— Семнадцатого? Несчастливое число. Перенесите, а?
— К сожалению, уже не получится.
Лила все это время просидела молча. На профессора она не смотрела, зато с любопытством следила за мной, вслушиваясь в каждое произнесенное мной слово. Наконец доктор обратил на нее внимание и принялся подробно ее расспрашивать. Лила отвечала нехотя, на диалекте или плохом итальянском, воспроизводя диалектные грамматические конструкции. Мне приходилось без конца вмешиваться: упоминать симптомы, про которые она забыла или значение которых пыталась приуменьшить. Потом он перешел к осмотру и всевозможным обследованиям. Лила терпела его манипуляции с выражением крайнего недовольства на лице, будто мы с врачом пытались ей навредить. Я смотрела на нее: худющая, в застиранной голубой комбинации на несколько размеров больше, с длинной шеей, на которой, казалось, с трудом держится голова, с прозрачной кожей, так туго обтянувшей кости, что было страшно — еще чуть-чуть, и она порвется. Я заметила, что у нее периодически непроизвольно дергается большой палец на левой руке. Прошло не меньше получаса, когда профессор велел ей одеваться. Она подчинилась, но краем глаза косилась на него с испуганным видом. Кардиолог снова сел за стол и сообщил, что все в порядке и никаких шумов он не услышал. «Синьора, у вас прекрасное сердце», — сказал он Лиле. Это заявление ее не только не обрадовало, но даже как будто рассердило. Зато у меня камень с души упал: можно подумать, речь шла о моем сердце. И я же забеспокоилась, когда профессор, по-прежнему обращаясь ко мне, а не к Лиле, словно обидевшись на нее за отсутствие реакции, мрачно добавил, что общее состояние моей подруги требует незамедлительного вмешательства. По его мнению, проблема была не в кашле: «Да, синьора простужена, она перенесла грипп, и я выпишу ей микстуру». Но подлинной причиной недомогания было сильнейшее истощение организма, вызванное анемией. Он сказал, что Лила должна регулярно питаться, принимать общеукрепляющие средства и спать не меньше восьми часов в сутки. «Как только ваша подруга наберется сил, большая часть симптомов исчезнет. Тем не менее я рекомендовал бы ей показаться неврологу».
На этих словах Лила будто проснулась. Она нахмурила лоб, сделала шаг вперед и на чистом итальянском спросила:
— Вы хотите сказать, что у меня нервное расстройство?
Врач поднял на нее изумленный взгляд: его пациентку как будто только что чудом подменили.
— Вовсе нет. Просто советую провериться.
— Я что-то не так сделала? Что-то не то сказала?
— Нет, что вы, не волнуйтесь. Консультация специалиста поможет прояснить общую картину, вот и все.
— Одна моя родственница, — объяснила Лила, — двоюродная сестра матери, была очень несчастным человеком, она всю жизнь мучилась. Я с детства помню, как она кричала или хохотала на всю улицу — летом окна у всех открыты. Она вообще делала много странных вещей, за что ее считали сумасшедшей. Только это не имело никакого отношения к нервам. Просто она была несчастной. А к неврологу она ни разу не ходила, вообще ни разу не была у врача.
— А надо было.
— Лечить нервы — привилегия женщин из приличного общества.
— А родственница вашей матери к ним не принадлежала?
— Нет.
— А вы?
— А я тем более.
— И вы несчастны?
— Нет, у меня все прекрасно.
Врач нахмурился и снова обратился ко мне:
— Абсолютный покой. Проследите, чтобы все мои предписания строго выполнялись. А еще лучше — отправьте ее в деревню, на свежий воздух…
Лила засмеялась и снова перешла на диалект:
— В последний раз, когда я была у врача, он тоже послал меня отдыхать на море. С этого и пошли все мои беды.
Профессор сделал вид, что не слышал последней реплики, улыбнулся мне, и я заговорщически улыбнулась в ответ. Он назвал мне имя своего знакомого невролога и тут же сам ему позвонил с просьбой принять нас немедленно. Затащить Лилу к еще одному врачу стоило мне немалых усилий. Лишь когда я заверила ее, что платить за консультацию не придется, она скрепя сердце согласилась.
Кабинет невролога располагался в старинном здании на виа Толедо. В приемной царил образцовый порядок, к услугам пациентов, ожидающих своей очереди, на столике лежали книги по философии. Сам он оказался абсолютно лысым и невероятно говорливым коротышкой, который, по-моему, млел от звука собственного голоса — пациенты явно интересовали его значительно меньше. Он осматривал Лилу, продолжая болтать со мной, задавал ей вопрос и, не слушая ответа, пускался в глубокие рассуждения на посторонние темы. Вскоре он небрежно сообщил, что с нервной системой, как и с сердцем, у Лилы все в порядке. «Но, дорогая синьорита Греко, — добавил он, — мой коллега совершенно прав. Организм сильно истощен, поэтому страсти и эмоции берут верх над разумом. Надо укреплять тело, тогда и к душе вернется покой». Он выписал неразборчивым почерком рецепт, вслух уточнил названия лекарств и дозировку и перешел к советам. Для расслабления он рекомендовал долгие прогулки, но не на побережье, а в лесу, лучше всего где-нибудь в Каподимонте или Камальдоли. Велел побольше читать, но только днем, ни в коем случае не вечером. Сказал о пользе ручного труда, хотя одного взгляда на руки Лилы хватило бы, чтобы понять: этого дефицита она не испытывает. Когда он дошел до вязанья и его благотворного влияния на нервную систему, Лила заерзала на стуле и вдруг его перебила:
— Раз уж мы все равно здесь, не могли бы вы выписать мне противозачаточные таблетки?
Невролог нахмурился, я тоже смутилась — что за странная просьба?
— Вы замужем?
— Была.
— В каком смысле?
— Я ушла от мужа.
— Но вы замужем?
— Если угодно.
— У вас есть дети?
— Есть сын.
— Всего один?
— Мне и одного достаточно.
— В вашем состоянии беременность была бы очень кстати: это лучшее лекарство для любой женщины.
— А я знаю женщин, которых беременность разрушила. Лучше выпишите мне таблетки.
— По этому вопросу вам следует обратиться к гинекологу.
— А вы только в нервах понимаете? А про противозачаточные средства даже не слышали?
Врач рассердился. Уже на пороге, наградив нас очередной порцией болтовни, он дал мне адрес и телефон женщины-гинеколога, работавшей в медицинской лаборатории на виа Понте-ди-Таппиа. «Обратитесь к ней», — посоветовал он мне, будто это я интересовалась противозачаточными, и простился. Когда мы вышли из кабинета, секретарша потребовала оплатить прием. Как выяснилось, невролог не входил в число лиц, готовых сделать Аделе одолжение. Я расплатилась.
На улице Лила дала волю гневу.
— Даже не подумаю принимать то, что мне прописал этот говнюк, — кипятилась она. — А что у меня мозги набекрень, я и без него знаю.
— Что за чепуха, — возразила я. — Но решать, конечно, тебе.
— Против тебя я ничего не имею, — смущенно пробормотала она, — только против медиков.
Мы шли в направлении виа Понте-ди-Таппиа, но дружно делали вид, что просто гуляем, а не идем к врачу. Она то замолкала, то снова начинала передразнивать невролога; ее горячность казалась мне добрым знаком: к ней возвращалась жизнь.
— Так что у вас с Энцо? — спросила я.
— У нас все по-старому.
— Тогда зачем тебе таблетки?
— Ты что, тоже знаешь про такие таблетки?
— Да.
— Принимаешь?
— Нет, но буду принимать, когда выйду замуж.
— Ты не хочешь детей?
— Хочу, но сначала надо написать вторую книгу.
— А твой жених знает, что ты не хочешь детей сразу?
— Я ему скажу.
— Ладно, пошли к этой тетке. Пусть выпишет таблетки нам обеим!
— Лила, это ж не карамельки, чтобы их просто так глотать. Если у вас с Энцо ничего нет, не надо их принимать.
— Пока ничего нет, — сказала она, прищурившись, — а там — кто его знает.
— Ты это серьезно?
— А что, думаешь, не стоит?
— Что ты! Наоборот!
Мы нашли телефонную будку на виа Понте-ди-Таппиа, позвонили врачу, и она сказала, что готова принять нас прямо сейчас. По дороге в лабораторию я не скрывала, что рада намерению Лилы сблизиться с Энцо, и мои слова явно улучшили ей настроение. Мы болтали, как когда-то в детстве, дурачились и полушутя, полусерьезно спорили, кто будет говорить с врачом. «Давай ты, у тебя лучше получится. — Нет, лучше ты, ты одета приличней. — Да мне-то спешить некуда. — Да и мне тоже. — Тогда зачем мы вообще туда идем?»
Врач в белом халате встретила нас в дверях. Это была симпатичная женщина со звонким голосом, которая сразу пригласила нас в кафетерий, как старых подруг. Она несколько раз повторила, что вообще-то она не гинеколог, но очень подробно нам все объяснила и дала массу практических рекомендаций. В какой-то момент мне стало немного скучно ее слушать, зато Лила оживилась, задавала все более откровенные вопросы, возражала, снова о чем-то спрашивала и отпустила пару ироничных комментариев. Они очень понравились друг другу. В конце женщина выписала нам по рецепту и категорически отказалась от денег. «Это мой долг», — просто сказала она и добавила, что у нее есть еще несколько друзей, которые занимаются тем же. Ей пора было возвращаться на работу, и, прощаясь, она сердечно нас обняла. Когда мы вышли на улицу, Лила сказала серьезно: «Есть же на свете хорошие люди!» Она выглядела довольной — я давным-давно не видела ее такой.
52
Несмотря на хвалебный отзыв редактора, «Унита» не спешила печатать мою статью. Я уже начала волноваться, что они передумали. Но на следующий после визита к неврологу день, явившись, как обычно, рано утром к киоску за газетой, я наконец увидела статью. Я боялась, что ее сократят и запихнут в рубрику местных происшествий, но нет: статья красовалась на полосе, посвященной внутренней политике, целиком, подписанная моим именем — я аж вздрогнула, будто меня укололи иголкой. Позвонил довольный Пьетро, за ним Аделе, которая сказала, что статья очень понравилась ее мужу и даже Мариарозе. Полной неожиданностью для меня стали звонки с поздравлениями от директора издательства, двух известнейших писателей, печатавшихся там же, и Франко — Франко Мари: тот выпросил у Мариарозы мой номер. Он говорил со мной уважительно, подчеркнул, что гордится мной, что я провела блестящее расследование положения рабочего класса и что в ближайшее время он надеется увидеться со мной, чтобы обсудить эту тему. Я каждый день ждала, что и Нино как-то даст о себе знать, одобрит мои усилия, но этого, к большому моему огорчению, так и не произошло. Молчал и Паскуале; впрочем, он из принципа давно бросил читать партийную газету. Зато звонок редактора «Униты» меня обрадовал: тот сообщил, что его коллеги высоко оценили мой текст, и своим насмешливым тоном пожелал мне купить пишущую машинку и продолжить начатое.
Но больше всего меня поразил разговор с Бруно Соккаво. Мне позвонила его секретарша, тут же передав трубку ему. В его голосе слышалась такая тоска, будто моя статья, которую он поначалу даже не упомянул, нанесла ему смертельную рану. Тогда, на Искье, вздыхал он, во время наших долгих прогулок по пляжу, он влюбился в меня, как никогда ни в кого не влюблялся. Он восхищался тем, что я, несмотря на молодость, сумела многого достичь. Жаловался, что отец передал ему завод в ужасном состоянии, с чудовищными порядками, что он — всего лишь раб обстоятельств и ситуация на предприятии беспокоит его не меньше, чем меня. Вспомнив наконец про статью, он заявил, что теперь многое понял и постарается как можно скорее исправить ошибки, унаследованные от прошлого. Он выразил сожаление из-за недоразумения с Лилой и заверил меня, что дирекция непременно решит все спорные вопросы с моим адвокатом. «Ты ведь знаешь Солара, — напоследок медленно произнес он. — Они помогают мне в этот трудный момент придать заводу „Соккаво“ новый облик. Микеле передает тебе привет». Я послала ответный привет, сказала, что приму к сведению их планы, положила трубку и сразу же позвонила адвокату. Он подтвердил, что вопрос с деньгами решен, и через несколько дней я отправилась к нему в контору. Друг Мариарозы оказался чуть старше меня: хорошо одетый, парень симпатичный, если не считать слишком тонких губ. Он пригласил меня выпить кофе. Пока мы сидели в кафе, он восхищался Гвидо Айротой и вспоминал Пьетро. Он выдал мне всю сумму, что причиталась Лиле, предупредив, чтобы спрятала деньги — как бы не украли. Потом рассказал, что к воротам завода явилась толпа студентов, представителей профсоюзов и полицейских, а на самом предприятии уже работает трудовая инспекция. Несмотря на все это, он не выглядел довольным. Лишь когда мы уже прощались, он вдруг спросил:
— Ты знаешь, кто такие Солара?
— Да, мы выросли в одном квартале.
— А тебе известно, что это они стоят за Соккаво?
— Да.
— И ты не боишься?
— Не понимаю…
— Видишь ли… Возможно, тот факт, что ты знаешь их с детства, но надолго отсюда уезжала, не позволяет тебе объективно оценивать ситуацию.
— Я как раз оцениваю ее вполне объективно.
— В последние годы Солара укрепили свои позиции. В городе с ними считаются.
— И что с того?
Он поджал губы и протянул мне руку.
— Да нет, ничего. Деньги мы получили, и ладно. Передавай привет Мариарозе и Пьетро. Кстати, когда свадьба? И как тебе Флоренция?
53
Я отдала деньги Лиле, она с удовлетворением дважды их пересчитала и вернула мне долг. Вскоре вернулся Энцо, ходивший встречаться со специалистом по компьютерам. Он выглядел довольным — насколько позволяла его обычная сдержанность, не дававшая ему выражать свои мысли и чувства и, подозреваю, подавлявшая его желания. Нам с Лилой стоило немалого труда вытянуть из него информацию, но в конце концов мы все выяснили. Специалист оказался отличным парнем. Он еще раз подтвердил, что цюрихские курсы — пустая трата времени, зато быстро понял, что Энцо, несмотря на отсутствие систематического образования, парень толковый. Он рассказал, что IBM запускает в Италии, в Вимеркате, производство нового типа компьютеров и что их неаполитанскому филиалу срочно требуются операторы для ввода данных в компьютер, программисты и аналитики. Он записал координаты Энцо и обещал связаться с ним, когда компания начнет набирать кадры для обучения.
— Как думаешь, он это серьезно? — спросила Лила.
Энцо указал ей на меня:
— Он же знает, за кого Элена выходит замуж.
— И что с того?
— Он сказал, что отец ее жениха — очень уважаемый человек.
Лила расстроилась. Конечно, она знала, что встречу организовал Пьетро и что в том, что она завершилась скорее благоприятно, фамилия Айрота сыграла не последнюю роль, но ей не понравилось, что Энцо тоже об этом осведомлен. Ее раздражало, что не только она, но и Энцо окажется передо мной в долгу; одно дело — мы с ней, мы помогали друг другу без всякой задней мысли, даже не считая нужным выражать взаимную благодарность, и совсем другое — Энцо. Я поспешила их успокоить: дескать, репутация моего будущего свекра тут ни при чем, а компьютерный специалист сразу сказал мне, что, если Энцо ему не подойдет, он ничем не сможет нам помочь. Лила чрезвычайно воодушевилась, закивала головой и воскликнула:
— Еще бы он ему не подошел! Он же такой умный!
— Да я компьютера ни разу в жизни в глаза не видел, — заметил Энцо.
— И что с того? Этот парень сразу понял, что ты справишься.
Энцо чуть помолчал, а потом посмотрел на Лилу с таким восхищением, что меня кольнула зависть.
— Я рассказал ему, какие задания ты придумывала. Он впечатлился.
— Правда?
— Да! Особенно от задач на составление алгоритмов. Как погладить рубашку, как забить гвоздь…
Тут они словно забыли обо мне: начали перешучиваться, используя термины, которые ни о чем мне не говорили. Я смотрела на них и видела счастливую семейную пару, у которой есть своя тайна, настолько сокровенная, что они сами о ней не догадываются. В памяти всплыл двор нашего детства; школьный конкурс по арифметике, на котором Лила и Энцо сражались друг с другом перед директором и учительницей Оливьеро за первое место; тот день, когда Энцо, никогда не плакавший, разревелся, попав в Лилу камнем. Эти двое, думала я, лучшее, что есть в нашем квартале. Может, Лила и права: им стоит туда вернуться.
54
Я стала обращать внимание на таблички «Сдается внаем» на дверях домов. В один прекрасный день по почте пришло приглашение на свадьбу Джильолы Спаньюоло и Микеле Солары, адресованное не нашей семье, а лично мне. Несколько часов спустя мне доставили и вручили еще одно приглашение — на свадьбу Маризы Сарраторе и Альфонсо Карраччи. Оба послания — и от Солара, и от Карраччи начинались с почтительного: «Уважаемая синьора». Мне сразу подумалось, что эти приглашения — отличный повод повидаться с будущими новобрачными и выяснить, не опасно ли Лиле возвращаться в квартал. У меня появился повод навестить Микеле, Альфонсо, Джильолу и Маризу. Я поздравлю их и скажу, что не смогу присутствовать на торжестве, потому что к тому времени уже уеду из Неаполя, а сама постараюсь разведать, намерены ли Солара и Карраччи по-прежнему преследовать Лилу. Пожалуй, единственным, кто мог бы честно сказать мне, прошла злость Стефано на жену или нет, был Альфонсо. С Микеле, хоть я его и ненавидела (или как раз потому, что ненавидела), я собиралась поговорить о том, что у Лилы проблемы со здоровьем, и дать ему понять, что, даже если он воображает себя пупом земли, а меня считает беспомощной девчонкой, у меня теперь достаточно сил, чтобы осложнить ему жизнь, вздумай он обижать мою подругу. Я спрятала обе открытки в сумку — не хотела, чтобы мать увидела их и оскорбилась, что пригласили меня, а не их с отцом, — и вышла из дома, полная готовности обойти всех за день.
Погода стояла ненастная, пришлось тащить с собой зонт, но настроение у меня было приподнятое: хотелось пройтись пешком, поразмышлять, в некотором роде проститься со своим кварталом и с городом. По привычке, свойственной всем отличникам, начать я решила с самого трудного — с Солара. Я отправилась в бар, но ни Микеле, ни Джильолы, ни даже Марчелло там не застала: мне сказали, что они, скорее всего, в новом магазине. Я направилась в сторону шоссе — шла не торопясь, глазела по сторонам. От длинной темной лавки дона Карло, куда в детстве я бегала за жидким мылом и другими хозяйственными мелочами, не осталось и следа. Из окна четвертого этажа свисала, доходя до самой двери, огромная вертикальная вывеска «Всё для всех». Несмотря на ясный день, в магазине горели все лампы, освещая разнообразные товары — настоящий праздник изобилия! Меня встретил Рино, Лилин брат: он сильно растолстел. Говорил он со мной холодно, сказал, что он тут всем распоряжается, а про Солара ничего не знает. «Если тебе нужен Микеле, иди к нему домой», — сказал он с неприязнью и отвернулся, словно его ждали неотложные дела.
Я пошла дальше, в новый район: я знала, что несколько лет назад семейство Солара перебралось туда, купив огромную квартиру. Мне открыла Мануэла, мать Марчелло и Микеле, ростовщица: я не видела ее со дня Лилиной свадьбы. Я слышала ее шаги за дверью: прежде чем повернуть ручку, она долго разглядывала меня в глазок. Наконец Мануэла появилась на пороге, плохо различимая в темноте — свет в квартире не горел; узкий луч пробивался разве что из окна на лестничной площадке. Она как будто усохла: широкое костлявое тело обтянуто кожей, один глаз сверкает, второй совсем потух. В ушах, на шее, на темном костюме, висевшем на ней мешком, сверкали драгоценности — она вырядилась как на праздник. Она вежливо поздоровалась со мной, пригласила войти и предложила кофе. Микеле дома не было: они с Джильолой обустраивали квартиру в Позиллипо, куда собирались переехать после свадьбы.
— Они что, уезжают из квартала?
— Конечно.
— В Позиллипо?
— Ну да. Только представь себе, Лену, шесть комнат, из них три с видом на море. Я бы выбрала Вомеро, но Микеле такой упрямец, все делает по-своему. Зато какой там воздух, сколько света!
Я сильно удивилась: никогда не подумала бы, что Солара рискнут покинуть зону своего контроля и логово, где прятали добычу. Однако именно Микеле Солара — самый хитрый и самый алчный из всей семьи — решил перебраться в Позиллипо, в квартиру с видом на море и Везувий. Адвокат был прав: мания величия обоих братьев приняла совсем другой масштаб. Тем не менее новость меня обрадовала: Микеле уедет из квартала, и это прекрасно! По крайней мере, не будет донимать Лилу, если та вернется.
55
Я спросила у синьоры Мануэлы адрес, простилась с ней и через весь город отправилась к Микеле: на метро доехала до Мерджеллины, немного прошла пешком и села на автобус до Позиллипо. Меня снедало любопытство. Я уже привыкла к мысли, что обладаю некоторой законной властью, что меня окружает ореол высокой культуры, и мне было очень интересно взглянуть на другое, наглое воплощение власти, которую я наблюдала с детства; она произрастала из произвола, безнаказанных преступлений, фальшивых улыбок, изображающих законопослушность, и показного расточительства — в общем, из всего, чем славились братья Солара. Но и тут Микеле от меня ускользнул. В квартире на верхнем этаже нового дома я нашла только Джильолу. Она посмотрела на меня с явным удивлением и столь же явной неприязнью. Я поймала себя на мысли, что любезничала с семейством Спаньюоло, пока в любое время дня и ночи бегала к ее матери звонить, а после того, как установила телефон у нас дома, и думать о них забыла. И вдруг хмурым дождливым полднем без предупреждения заявляюсь в Позиллипо, в квартиру будущих молодоженов, где все еще вверх дном. Мне стало стыдно, и, чтобы загладить свою вину, я притворилась, что безумно рада встрече. Поначалу Джильола вела себя сдержанно и настороженно, но потом желание похвастаться взяло в ней верх. Она мечтала, чтобы я ей позавидовала и признала, что ей повезло больше, чем остальным девчонкам квартала. Она повела меня показывать дом, комнату за комнатой, внимательно следя за моей реакцией и ликуя, когда я шумно восхищалась. Дорогущая мебель, роскошные люстры, две огромные ванны, гигантский водонагреватель, холодильник, стиральная машина, три телефона, к сожалению еще не подключенные, телевизор с большим экраном и даже лоджия, напоминающая благоухающий сад, полный цветов, — жаль только, погода не позволила оценить их во всей красе.
— Смотри, какой вид на море! А на весь Неаполь? А на Везувий? А небо, небо какое! В квартале такого не бывает!
Действительно, ничего подобного я раньше не видела. Свинцового цвета залив казался словно оплавленным по краям; прямо над нами плыли густые всклокоченные тучи, а где-то дальше, между морем и тучами, зияла похожая на порез длинная полоса слепящего света, утыкаясь в фиолетовую тень Везувия. Мы долго стояли и смотрели вдаль, и ветер раздувал наши юбки. Меня заворожила красота Неаполя; даже с балкона профессора Галиани, в гостях у которой я была несколько лет назад, вид был не такой величественный. К бетонной уродине, обезобразившей облик города, прилагался — за очень большие деньги — невероятной красоты пейзаж. Именно его и приобрел Микеле.
— Тебе что, не нравится?
— Это потрясающе!
— Не идет ни в какое сравнение с квартиркой Лины, правда?
— Какие уж тут сравнения.
— Я сказала — Лины, а ведь там теперь Ада хозяйничает…
— Да.
— Тут живут люди побогаче.
— Конечно.
— А что это ты морщишься? Что-то не так?
— Что ты! Я очень за тебя рада!
— Да уж, каждому свое. Ты выучилась, книги вон пишешь. А у меня зато есть это.
— Да.
— Как-то ты это странно говоришь.
— Нисколько.
— Ты бы посмотрела на таблички на доме. Тут живут сплошь инженеры, адвокаты и известные профессора. Конечно, квартиры здесь стоят дорого, но, я думаю, если вы с мужем подкопите, сможете купить себе такую.
— Это вряд ли.
— Он что, не хочет жить в Неаполе?
— Это исключено.
— Никогда не говори никогда. Ты везучая. Я же слышала голос Пьетро по телефону, а потом видела его из окна — сразу видно, он парень добрый. Не то что Микеле. Он все сделает, как ты захочешь.
Она потащила меня в дом; ей хотелось чем-нибудь меня угостить. Она достала ветчину, сыр проволоне, нарезала хлеб. «Нормальной еды пока нет, мы же еще не заселились, — извинилась она, — но потом, когда будете с мужем в Неаполе, заходи обязательно, посмотришь, как я все тут устрою». Она широко распахнула сияющие глаза, изо всех сил стараясь погасить мои последние сомнения в ее превосходстве. Я на миг представила себе, как мы с Пьетро приезжаем в Неаполь и идем в гости к ним с Микеле… Впрочем, она сама не верила в то, что говорила, и ненадолго умолкла, чтобы вскоре продолжить свои похвальбы, но уже совсем другим тоном. «Да, мне тоже повезло, — заявила она с каким-то странным вызовом. — Возьми Кармен — докатилась до какого-то заправщика. Пинучча мается с этим идиотом Рино. Ада — шлюха при Стефано. А у меня — Микеле. Он красивый, умный, он всеми командует. И все-таки согласился на мне жениться, и вон какую квартиру купил, а уж какую свадьбу отгрохает! Даже персидскому шаху с принцессой Сорайей такая не снилась. Видишь, какая я хитрая: я на него давно глаз положила». Она еще долго распространялась по поводу своей ловкости, благодаря которой захомутала Солару и все его богатства, но постепенно ее голос звучал все жалобнее: ей было одиноко. «Микеле, — сокрушалась она, — почти не бывает дома. Иногда мне кажется, что я сама за себя замуж выхожу. А ну посмотри на меня: я вообще-то существую? — спросила она неожиданно, будто и правда ждала от меня ответа. — Или я так, пустое место?» С этими словами она ткнула рукой себе в пышную грудь, словно хотела убедиться, что не превратилась в бесплотный призрак. Но она и в самом лишилась себя — по вине Микеле. Еще совсем девчонкой он забрал себе ее всю, без остатка, сжевал и разрушил, а теперь, когда ей стукнуло двадцать пять, она стала для него чем-то вроде привычной вещи. Он шлялся по бабам, а на нее даже не смотрел.
— Самое ужасное — это когда нас спрашивают, скольких детей мы хотим. Он обычно отвечает: «Спрашивайте у Джильолы, мне-то все равно, у меня и так полно детей, сам не знаю, сколько точно». Тебе твой жених ляпнул бы такое? Сказал бы: «От Ленуччи, пожалуй, троих, а с остальными — как случится»? Он только что ноги об меня не вытирает, никого не стесняется. И я знаю почему. Он никогда меня не любил, а замуж меня берет потому, что ему нужна служанка — все мужики только затем и женятся. Он вечно ко мне придирается: «Ты ж дура дурой, ничего не понимаешь, вкуса у тебя нет, такую красивую квартиру и ту испоганила. За что ни возьмешься — все портишь!» — Она расплакалась и, всхлипывая, проговорила: — Прости, что я тебе надоедаю, но ты написала эту книгу, которая мне очень понравилась, ты тоже знаешь, что значит быть несчастной.
— Почему ты позволяешь ему говорить тебе такое?
— Потому что иначе он на мне не женится.
— Ясно. Тогда хоть после свадьбы отомсти.
— Как? Плевать он на меня хотел. Я сейчас-то его почти не вижу, а уж после свадьбы — и говорить нечего.
— Тогда я не понимаю…
— Конечно, не понимаешь, ты ж не я. Ты бы не связалась с человеком, зная, что он влюблен в другую.
— У Микеле есть любовница? — осторожно спросила я.
— Полно. Он же мужчина, спит со всеми подряд. Дело не в этом.
— А в чем?
— Лену, я тебе скажу, только не говори никому, а не то Микеле меня убьет.
Я пообещала ей и сдержала свое обещание. Если я теперь и пишу об этом, то только потому, что она уже умерла.
— Он любит Лину. Так любит, как никогда меня не любил, как никого никогда не любил.
— Чепуха!
— Никакая это не чепуха, и ты так не говори, а не то лучше уходи. Это чистая правда. Он влюбился в нее с того самого проклятого дня, когда она приставила ножик к горлу Марчелло. Не я ж это придумала, он мне сам рассказал.
То, что я услышала дальше, потрясло меня до глубины души. Не так давно, вечером, в этой самой квартире, Микеле напился и разоткровенничался. Он заявил ей, что посчитал точно, сколько женщин у него было: оказалось, сто двадцать две — с одними он спал за деньги, с другими бесплатно. «Это считая тебя, — подчеркнул он, — и, как понимаешь, ты не из тех, кто может доставить удовольствие в постели. А знаешь почему? Потому что ты дура, а чтоб прилично трахаться, нужны мозги. Ты и минет приличный сделать не можешь, не дано тебе! И учить бесполезно — по тебе сразу видно, что тебя с души воротит». И прочее в том же духе, скабрезность на скабрезности — для него это был привычный язык. Потом он взялся растолковывать ей, что к чему: женится он на ней из уважения к ее отцу — тот был отличным кондитером, работал у них давно, и Микеле успел к нему привязаться, — а еще потому, что так положено: жена, дети, роскошный дом. Но пусть она не обольщается. Она для него пустое место, он никогда ее не любил, так что ей же будет лучше, если она раз и навсегда оставит его в покое и не вбивает в свою глупую башку, что на что-то там имеет права. Он говорил с ней так грубо, что самому стало не по себе; он вдруг осекся и предался меланхолии. Бормотал, что женщины для него — куклы с дырками: поигрался — и ладно. Все. Все, кроме одной. Лила была единственной женщиной на свете, которую он любил, — любил по-настоящему, как в кино, любил и уважал. «Он сказал мне, — жаловалась Джильола, — что это она должна была обустраивать этот дом, что ей бы он с радостью дал сколько угодно денег на мебель и на все остальное. Только с ней можно выбиться в люди в Неаполе. „Помнишь, что она сделала с той свадебной фотографией? — спрашивал он. — А как преобразила магазин?! А ты что? Ты, Пинучча и все остальные, какой от вас толк? Что вы умеете?“ Этим он не ограничился. Рассказал, что день и ночь думает о Лиле, но не так, как о других женщинах: с ним такое творилось впервые. На самом деле он ее не хотел. Не хотел так, как других женщин: завалил, почувствовал под собой чужое тело, подергался туда-сюда, сломал и выбросил. Он не хотел поиметь ее и забыть. Ему нужна была ее умная голова и ее богатое воображение. Он не собирался ее ломать, напротив, постарался бы сберечь. Он не испытывал желания ее трахнуть — само это слово по отношению к ней его возмущало. Он хотел целовать ее, ласкать. Хотел, чтобы она ласкала его, помогала ему, наставляла его, руководила им. Он хотел наблюдать, как она меняется с годами, как стареет. Она нужна была ему, чтобы думать, чтобы научить его размышлять. „Теперь ты меня понимаешь? Он говорит о ней так, как никогда не говорил и не скажет обо мне. А ведь у нас свадьба на носу!“ Он сказал: „Мой брат Марчелло, этот придурок Стефано, этот мудак Энцо — они же ничего не знают о Лине! Куда им. Они ж дураки: сами не понимают, что потеряли или могут потерять. Только я один знаю, какая она на самом деле. Я ее разгадал! Она была бы счастлива со мной“. Вот что он на меня выплеснул. А я сидела и молча слушала, пока он не уснул. И все думала: „Это говорил не он, это кто-то чужой. Ненавижу этого чужого, дождусь, пока заснет покрепче, зарежу его и верну своего Микеле. А Лину я не ненавижу, нет. Давно, много лет назад, мне хотелось ее убить — когда Микеле отобрал у меня новый магазин и отдал ей, а меня отправил горбатиться за прилавком в кондитерской. Я тогда почувствовала себя последним дерьмом! А теперь вся моя ненависть к ней прошла. Я понимаю, что она ни в чем не виновата. Она сама всегда хотела вырваться из этой грязи. Не то что я, дура. Она бы за него замуж не пошла. Больше тебе скажу: я ее даже полюбила. Микеле привык получать все, что хочет, а с ней этот номер не пройдет — хоть кто-то его обломает!“»
Я слушала ее, время от времени бормоча слова утешения. «Он ведь женится на тебе, — говорила я, — значит, ты ему нужна. Не отчаивайся!» Но Джильола замотала головой и руками вытерла слезы.
— Ты просто его не знаешь. Никто не знает его так, как я.
— Как ты думаешь, — спросила я наконец, — может он окончательно спятить и как-то навредить Лине?
— Он? Лине? Ты что, не видела, как он себя вел все эти годы? Он может причинить боль мне, тебе, кому угодно. Даже своему отцу, матери, брату. Может навредить любому, кто Лине дорог, — ее сыну, Энцо. Ему это раз плюнуть. Но ее он и пальцем не тронет.
56
Я решила продолжить свою разведывательную экспедицию. Пешком спустилась до Мерджеллины и вышла на пьяцца Мартири. Хмурые тучи висели так низко, что казалось, небо лежит прямо на крышах зданий. Надвигалась гроза, и я поспешила в знаменитый обувной магазин «Солара». Альфонсо стал еще красивее, чем я его помнила: большие глаза, длинные ресницы, красиво очерченные губы, изящная и вместе с тем крепкая фигура. Говорил он на итальянском, но немного искусственно, как на уроке латыни или древнегреческого. Зато он был искренне рад меня видеть. Мы столько всего пережили вместе за годы учебы в лицее, что даже после долгой разлуки легко нашли общий язык. Мы сразу взяли шутливый тон, вспомнили школьные деньки, преподавателей, обсудили мою книгу и предстоящие свадьбы — и его, и мою. Разумеется, первой о Лиле заговорила я. Он немного смутился: поливать ее грязью ему не хотелось, но и осуждать брата и Аду — тоже.
— Этим и должно было кончиться, — пробормотал он.
— Почему?
— Помнишь, я говорил тебе, что боюсь Лину?
— Да.
— На самом деле это был не страх. Я уже потом понял.
— А что же?
— Чувство отчужденности и в то же время родства. Когда что-то кажется далеким и одновременно близким.
— Не понимаю…
— Это трудно объяснить. С тобой мы сразу подружились, и я до сих пор очень тебя люблю. Но я помыслить не мог, что, например, можно подружиться с ней. Было в ней что-то пугающее. Перед ней хотелось пасть на колени и исповедаться во всех тайных мыслях.
— Какая прелесть, — съязвила я. — Прямо религиозный культ.
— Нет, — продолжил он серьезно, — просто ощущение собственной неполноценности. Зато когда она помогала мне с учебой — это было прямо чудо. Она читала учебник, мгновенно все понимала и объясняла мне простыми словами. Я иногда думал, да и сейчас порой думаю, что, родись я девчонкой, хотелось бы мне быть как она. По правде говоря, мы с ней оба чувствовали себя в семье Карраччи чужаками. Нам там было не место. Поэтому я ее ни в чем не виню. Я вообще всегда был на ее стороне.
— Стефано все еще злится на нее?
— Не знаю. Но даже если так, ему сейчас других проблем хватает. Лина сейчас — последняя из его забот.
Говорил он искренне и уверенно. Я услышала достаточно, чтобы оставить тему Лилы, и принялась расспрашивать его о Маризе, семье Сарраторе и, конечно, о Нино. Он отвечал расплывчато, особенно на вопросы, касавшиеся Нино. Сказал только, что из-за Донато никто даже не рискнул пригласить его на «эту кошмарную свадьбу».
— Ты что, не хочешь жениться? — удивилась я.
— Меня и без того все устраивало.
— А Маризу?
— А вот ее как раз нет.
— Ты что, хотел, чтоб она всю жизнь в невестах проходила?
— Не знаю.
— Но ты все-таки сдался?
— Она нажаловалась Микеле.
— В смысле? — не поняла я.
Он нервно усмехнулся:
— Она пошла к нему и натравила его на меня.
Я сидела на пуфе, а он стоял рядом, против света. Мне хорошо был виден его силуэт — гибкий и в то же время крепкий, как у матадора из фильма про корриду.
— И все же я не понимаю. Ты что, женишься на Маризе потому, что тебе так велел Солара?
— Я женюсь на Маризе, чтобы не раздражать Микеле. Он дал мне это место, поверил в мои способности, и за это я ему благодарен.
— Ты с ума сошел!
— Все так говорят. Вы просто не знаете Микеле. — Лицо его скривилось; казалось, он едва сдерживает слезы. — Мариза беременна.
— Так вот в чем дело!
Теперь мне стала ясна настоящая причина их женитьбы. Я робко взяла его за руку. Он немного успокоился и вздохнул:
— Жизнь — паршивая штука, Лену.
— Ну что ты! Вот увидишь, из Маризы выйдет хорошая жена и замечательная мать.
— Да плевать мне на Маризу.
— Что ты такое говоришь?
Он пристально посмотрел на меня, будто пытаясь понять, не скрываю ли я чего.
— Значит, Лина даже тебе не рассказала?
— О чем не рассказала?
— Ага, значит, я все-таки прав, — с неожиданной радостью кивнул он. — Она необыкновенный человек. Как-то раз я доверил ей одну тайну. Мне было страшно и хотелось с кем-то поделиться своим страхом. Я выбрал ее, и она выслушала меня так внимательно, что я успокоился. Как будто она слушала не ушами, а каким-то своим, совершенно особым органом, которого больше ни у кого нет. Обычно в таких случаях говорят: «Только поклянись, что никому не скажешь», но ее я даже просить не стал. Зато теперь вижу: если уж она тебе ни словом не обмолвилась, значит, никто об этом не узнал. Она меня не выдала — даже из мести, даже из ненависти к моему брату, который ее колотил.
Я слушала его не перебивая, хотя меня грызла обида: мы с ним всегда были друзьями, а своим секретом он предпочел поделиться не со мной, а с ней. Он что-то такое почувствовал, крепко обнял меня и прошептал мне на ухо:
— Лену, я гей. Женщины меня вообще не интересуют.
Мы уже прощались, когда он смущенно добавил: «Я всегда подозревал, что ты и так обо всем догадалась». От этих слов мне стало совсем тошно: ни о чем подобном я никогда даже не задумывалась.
57
День тянулся бесконечно. Дождь так и не пролился, хотя небо оставалось затянуто тучами. Во мне что-то сломалось: радость от неожиданного сближения с Лилой сменилась желанием обрубить все, что нас связывало, и заняться наконец своими делами. Возможно, это началось еще раньше; мне не нравились некоторые мелочи, на которые я старалась не обращать внимания и которые теперь как-то разом слились воедино. Мой поход можно было назвать удачным, но настроения это мне не улучшило. Что это за дружба, если Лила столько лет молчала об Альфонсо, хотя знала, как хорошо я к нему отношусь? И неужели она не замечала, что Микеле сходит по ней с ума? Почему же ничего мне не рассказывала? С другой стороны, я ведь тоже многое от нее скрывала…
Остаток дня прошел в беспокойстве. В голове у меня царил сумбур: события, времена, люди смешивались между собой, вызывая ощущение полного хаоса: похожая на призрак синьора Мануэла, пустозвон Рино, Джильола — девчонка из начальной, а потом средней школы, Джильола, зачарованная красотой и богатством Солара, Джильола, садящаяся в «милличенто», Микеле, соблазнивший не меньше женщин, чем Нино, но, в отличие от него, оказавшийся способным на настоящую страсть, и, конечно, Лила, предмет этой страсти, сотканной не из маниакального стремления обладать, не из местечкового бахвальства, не из мести или низменных, как она их называла, желаний, а из доходящего до умопомешательства преклонения перед ней как женщиной. Это было не обожание, не самоотречение, а сложное чувство мужской любви, беспрекословно и даже с долей одержимости вознесшее избранницу на пьедестал, недоступный другим женщинам. Я понимала Джильолу, понимала, почему она переживала это как оскорбление.
Вечером я отправилась к Лиле и Энцо. Я не стала говорить им о своем походе, который предприняла ради нее, ради того, чтобы защитить человека, с которым она делила кров. Зато, воспользовавшись тем, что Лила пошла на кухню кормить Дженнаро, я сказала Энцо, что Лила хочет вернуться в квартал. По мне, добавила я, идея не из лучших, но, если это поможет ей прийти в себя, наверное, стоит ее поддержать: она не больна, ей просто нужно вернуть себе душевное равновесие. Все-таки прошло уже много времени, а, насколько мне известно, вряд ли там сейчас хуже, чем в Сан-Джованни-а-Тедуччо.
— Да я не против. — Энцо пожал плечами. — Ну, буду чуть раньше вставать и чуть позже возвращаться…
— Я видела, сдается старая квартира дона Карло. Его дети переехали в Казерату, и вдова собирается к ним присоединиться.
— Сколько они хотят?
Я назвала сумму: в нашем квартале жилье было дешевле, чем в Сан-Джованни-а-Тедуччо.
— Годится, — согласился Энцо.
— Только помни, без проблем не обойдется…
— Их и тут хватает.
— У вас будет много неприятностей. На вас будут указывать пальцем.
— Ничего, разберемся.
— Ты останешься с ней?
— Пока не прогонит.
Мы пошли на кухню рассказать Лиле о квартире дона Карло. Они с Дженнаро скандалили. Мальчик привык проводить больше времени с соседкой, чем с матерью, и теперь многое ему не нравилось: он лишился свободы и капризничал, требуя, чтобы его кормили с ложки — это в пять-то лет! Лила на него заорала, а он швырнул на пол тарелку, которая разлетелась вдребезги. Когда мы появились на кухне, Лила только что влепила ему пощечину и прямо с порога накинулась на меня.
— Это ты его приучила? Изображать из ложки самолет?
— Да всего один раз.
— Кто тебя просил?
— Ладно, мы больше не будем.
— Конечно, не будете: ты уедешь и дальше изображать из себя писательницу, а мне его с ложечки кормить, как будто у меня других дел нет.
Потихоньку она успокоилась; я убрала осколки. Энцо сказал, что согласен перебраться в квартал, а я, едва сдерживая раздражение, рассказала о квартире дона Карло. Лила утешала сына и слушала нас вполуха, а потом, сделав вид, что поддается на наши с Энцо уговоры, сказала: «Ладно, если вы так хотите».
На следующий день мы отправились смотреть квартиру. Квартира была в ужасном состоянии, но Лилу это не смутило: ей нравилось, что дом стоит на окраине района, возле туннеля, и из окон видна заправка, на которой работал жених Кармен. Энцо заметил, что по ночам будет шумно: по шоссе безостановочно ездят грузовики, а рядом сортировочная станция, но Лила сказала, что шум будет напоминать ей о детстве. Они с вдовой сговорились о цене. Отныне Энцо каждый день ездил после работы в квартал и занимался ремонтом квартиры.
Приближался май, а с ним и моя свадьба, и я постоянно сновала между Неаполем и Флоренцией. Лила об этом не думала и таскала меня по магазинам — ей надо было обставить квартиру. Мы купили двуспальную кровать, кровать поменьше для Дженнаро, вместе сходили оставили заявку на подключение телефона. На улице мы сталкивались со знакомыми: одни здоровались только со мной, другие с нами обеими, третьи отворачивались и спешили пройти мимо. Лилу это не смущало. Как-то раз мы встретили Аду: она была одна, дружески улыбнулась нам и с деловым видом поспешила прочь. В другой раз нам попалась по пути Мария, мать Стефано; мы с ней поздоровались — она не ответила. А потом к нам вдруг подрулил Стефано, затормозил и вышел из машины. Обращался он только ко мне, подчеркнуто веселым тоном, спросил про свадьбу, с восторгом отозвался о Флоренции, куда ездил с Адой и дочкой, потрепал по голове Дженнаро, кивнул Лиле и уехал. Еще мы видели Фернандо, отца Лилы: он стоял напротив нашей начальной школы, сгорбленный и сильно постаревший. Лила вспыхнула и сказала Дженнаро, что сейчас познакомит его с дедушкой. Я пыталась ее остановить, но она меня не послушала. Фернандо мельком глянул на внука, пробормотал: «Передай своей матери, что она шлюха» — и ушел.
Но самой драматичной была другая встреча, хотя, казалось бы, она вообще не имела значения. До переезда оставалось несколько дней, когда мы прямо у дома столкнулись с Мелиной. Она вела за руку внучку — дочь Стефано и Ады, Марию. Вид у Мелины был, как обычно, отсутствующий, зато она была прилично одета, причесана и очень густо накрашена. Меня она узнала, Лилу — нет, если только не притворилась, чтобы говорить со мной одной. Похоже, она все еще думала, что я дружу с ее сыном, Антонио, и сказала, что скоро он вернется из Германии, а пока шлет мне приветы. Я похвалила ее платье и прическу, чем очень ее обрадовала. Но еще больше она обрадовалась, когда я похвалила ее внучку: девочка смущалась и стояла, вцепившись в бабушкин подол. Мелина, очевидно, решила, что обязана в ответ сказать что-нибудь хорошее про Дженнаро и спросила Лилу: «Это твой сын?» Кажется, только тут она ее и узнала — Лила все это время смотрела на нее молча. Мелина, должно быть, вспомнила, что ее дочь, Ада, увела у этой женщины мужа. Она вытаращила глаза и торжественно произнесла: «Лина, ты очень подурнела и отощала. Потому-то Стефано тебя и бросил: мужчинам надо, чтоб было за что подержаться». Она перевела взгляд на Дженнаро и чуть ли не взвизгнула, показывая пальцем на девочку: «Смотри, это твоя сестренка! Ну-ка, поцелуйте друг друга. Мадонна, какие вы оба хорошенькие!» Дженнаро поцеловал девочку, она не сопротивлялась. Мелина посмотрела на них еще раз и воскликнула: «Подумать только, как похожи! И оба в отца, вылитый он!» После этого схватила девочку за руку и убежала, не прощаясь, будто ее ждали срочные дела.
Лила не проронила ни слова. Но я видела, что она в шоке, как в тот раз, в детстве, когда она увидела, как Мелина идет по улице и ест мыло. Как только бабушка с внучкой скрылись из виду, она встрепенулась, рукой растрепала себе волосы и, прищурившись, сказала: «Вот такой и я стану». Потом снова пригладила волосы и проворчала:
— Слышала, что она сказала?
— Это неправда. Ничего ты не подурнела и не отощала.
— Даже если так, мне плевать. Я тебе про сходство.
— Какое сходство?
— Про детей. Мелина права, оба вылитые Стефано.
— Ничего подобного! Девочка — да, но только не Дженнаро.
Она расхохоталась: впервые за долгое время я снова услышала ее знаменитый злорадный смех.
— Похож как две капли воды.
58
Для меня настало время уезжать. Что могла, я для нее сделала. Что толку было застревать здесь, ломая себе голову над тем, кто отец Дженнаро, что угадала проницательная Мелина, какие мысли занимали Лилу, что она знала и о чем не знала, о чем догадывалась, но предпочитала молчать, а во что ей просто хотелось верить — и так далее, до бесконечности. Энцо был на работе, и в его отсутствие мы без конца обсуждали встречу с Мелиной. Я козыряла избитыми истинами типа: женщина всегда знает, кто отец ее ребенка. «Вспомни, — втолковывала я ей, — ты же никогда не сомневалась, что ребенок от Нино. Ты его потому и хотела. А теперь ты поверила, что он от Стефано, только потому, что так сказала сумасшедшая Мелина?» Она усмехалась и восклицала: «Какая же я дура, как я раньше не догадалась!» При этом она выглядела довольной, что ввергало меня в полное недоумение. В конце концов я отступилась. Если эта новая идея фикс поможет ей выздороветь — прекрасно. А если это очередное обострение — чем я могу ей помочь? И вообще, хватит с меня! Мою книгу купили во Франции, Испании и Германии, и вот-вот должны были появиться переводы. В «Уните» вышли еще две мои статьи, посвященные проблемам женского труда на предприятиях Кампании; в редакции меня хвалили. В издательстве ждали мой новый роман. Одним словом, мне было чем заняться помимо погружения в перипетии жизни Лилы. По совету Аделе я купила в Милане костюм на свадьбу: кремового цвета, с узким приталенным пиджаком и короткой юбкой — он очень мне шел. Примеряя костюм, я вспоминала роскошное подвенечное платье Лилы, в котором ее сфотографировала портниха, выставившая снимок у себя в витрине в Реттифило, и невольно сравнивала ее и себя. Ее свадьба и моя — мы принадлежали разным мирам. Я не скрыла от нее, что венчаться мы не будем, что у меня не будет традиционного пышного платья и что Пьетро еле-еле согласился даже на то, чтобы пригласить на свадьбу самую близкую родню.
— Почему? — спросила она без особого интереса.
— Что «почему»?
— Почему вы не венчаетесь?
— Мы неверующие.
— А как же Божья воля и Святой Дух? — напомнила она о заметке, которую когда-то в ранней юности мы написали вместе.
— Я повзрослела.
— Ну хоть бы праздник устроили, позвали друзей…
— Пьетро не хочет.
— Даже меня не пригласишь?
— А ты что, придешь?
— Нет, — улыбнулась она.
Вот и поговорили. В первых числах мая, перед тем как окончательно проститься с Неаполем, я решилась сделать еще одну вещь — навестить синьору Галиани. Если бы я знала, чем это обернется! Я нашла ее номер и позвонила. Сказала, что выхожу замуж, уезжаю во Флоренцию и хотела бы зайти к ней попрощаться. Она не удивилась и не обрадовалась, но была со мной любезна и назавтра пригласила меня к себе к пяти часам. Прежде чем положить трубку, она добавила: «И подругу свою приводи, Лину. Если она не против, конечно».
Лилу долго уговаривать не пришлось: она оставила Дженнаро на попечение Энцо и пошла со мной. Я накрасилась, сделала прическу, оделась так, как одобрила бы Аделе, и помогла Лиле слегка привести себя в порядок — уговаривать ее наряжаться было бесполезно. Она хотела купить пирожных, но я сказала, что не стоит. Зато я прихватила экземпляр своей повести, хотя и не сомневалась, что профессор Еалиани ее уже прочитала; мне хотелось надписать ей книгу.
Мы пришли в назначенное время, позвонили в дверь — тишина. Позвонили еще раз, и нам открыла Надя — запыхавшаяся и на удивление небрежно одетая. От ее привычной вежливости не осталось и следа, как будто беспорядок в одежде заодно лишил ее и хороших манер. Я объяснила, что нас пригласила ее мать. Она сказала, что матери нет дома, провела нас в гостиную, велела располагаться, а сама исчезла.
В квартире было тихо. Мы тоже сидели молча, обмениваясь смущенными улыбками. Минут через пять в коридоре наконец послышались шаги. Это был Паскуале: вид у него был взъерошенный. Лилу его появление нисколько не удивило, а я изумленно воскликнула: «Что ты тут делаешь?» — «Это вы что здесь делаете?» — сухо ответил он вопросом на вопрос. Мне пришлось перед ним оправдываться, будто мы без приглашения заявились к нему: у меня назначена встреча с моей преподавательницей, профессором Галиани.
— А-а, — сказал он и повернулся к Лиле: — Как ты, поправилась?
— Почти.
— Я очень рад.
Я рассердилась и сказала, что ей стало чуть лучше буквально в последние дни, но зато Соккаво получил отличный урок: на завод приходила инспекция, и он выплатил Лиле все, что ей причиталось.
— Да ну? — спросил он, и тут в гостиной появилась Надя; теперь она выглядела безупречно. — Слышала, Надя? Синьорита Греко преподала урок Соккаво.
— Не я преподала, — воскликнула я.
— Не вы? Значит, урок Соккаво преподал сам Господь Бог.
Надя усмехнулась, прошла через всю комнату и, несмотря на то что диван был свободен, уселась на колени к Паскуале. Мне стало неловко.
— Я просто пыталась помочь Лине.
Паскуале обвил рукой Надину талию и обратился ко мне:
— Отлично. Значит, теперь, что бы ни случилось на любом заводе, фабрике или на стройке, где угодно в Италии и даже по всему миру, все рабочие, недовольные своими хозяевами, могут звонить Элене Греко, а уж она, в свою очередь, позвонит своим друзьям, инспекторам и святым, прямо в рай — у нее везде связи, — и решит все проблемы.
Он никогда так со мной не разговаривал, даже в детстве, когда выглядел на нашем фоне взрослым парнем, разбирающимся в политике. Я почувствовала себя уязвленной, хотела возразить, но меня перебила Надя. Она обращалась к Лиле, будто разговаривать со мной не имело смысла, и говорила медленно и с расстановкой:
— Лина, трудовая инспекция никому не поможет. Ну, приехали они к Соккаво, заполнили свои бумажки, а дальше что? На заводе все по-старому. Кто-то получил на лапу за молчание, а у тех, кто посмел подать голос, теперь крупные неприятности. Нас искала полиция. А фашисты подкараулили Армандо возле дома и избили.
Не успела она договорить, как вмешался Паскуале.
— А ну объясни нам, чего ты пыталась добиться? — Он почти кричал, но в его голосе звучала искренняя боль. — Ты вообще понимаешь, что творится в Италии? Понимаешь, что такое классовая борьба?
— Не кричи, пожалуйста, — попросила его Надя и снова повернулась к Лиле: — Товарищей не бросают.
— Это по-любому добром не кончилось бы, — ответила Лила.
— То есть?
— Листовками их не одолеть. И драками с фашистами тоже.
— А как же их одолеть?
Лила молчала. Паскуале набросился на нее:
— Как-как? Подлизаться к добреньким друзьям хозяев, выпросить себе денег, а на остальных наплевать!
— Паскуале, прекрати! — не выдержала я, против своей воли повысив голос. — Как ты с нами разговариваешь? И все это было совсем не так!
Я хотела заставить его замолчать, доказать ему, что он не прав, но в голове царила пустота; на ум не шел ни один стоящий аргумент — только подлая, в сущности, мысль о том, что теперь, когда он закрутил шашни с девушкой из хорошей семьи, он считает, что ухватил Бога за бороду. Но не успела я и рта раскрыть, как Лила с раздражением сказала:
— Брось, Лену, они правы.
Я опешила. Как это — они правы? Меня так и подмывало дать им всем отпор. Пусть Лила объяснит, что она имеет в виду! Но тут в коридоре снова послышались шаги — пришла профессор Галиани.
59
Я надеялась, что профессор не слышала, как я орала. Еще я была уверена, что Надя соскочит с коленей Паскуале и пересядет на диван. Мне хотелось посмотреть, как они будут делать вид, что их ничто не связывает. Лила тоже поглядывала на них с интересом. Но они остались сидеть как сидели, а Надя, будто боясь упасть, даже обвила рукой шею Паскуале. «В следующий раз не забывай предупреждать, когда зовешь гостей», — сказала она матери, едва та появилась на пороге. Профессор не ответила дочери, лишь холодно произнесла, обращаясь к нам: «Извините, меня задержали. Пойдемте ко мне в кабинет». Мы последовали за ней, а Паскуале отстранил Надю от себя и раздраженно пробормотал: «С меня хватит, пошли отсюда».
Галиани вела нас по коридору, возмущенно бормоча на ходу: «Чего я не выношу, так это грубости». Мы вошли в просторную комнату: старинный письменный стол, много книг, стулья с обивкой в строгих тонах. Профессор силилась быть любезной, но это у нее плохо получалось. Она сказала, что рада нас видеть, но я чувствовала, как она раздражена. Меня охватило желание как можно скорее сбежать. Я извинилась за то, что долго не давала о себе знать, и немного сумбурно пояснила, что была полностью поглощена сначала учебой, потом книгой и прочими хлопотами, а теперь и предстоящей свадьбой.
— Вы венчаетесь в церкви или только расписываетесь?
— Только расписываемся.
— Молодец!
Она повернулась к Лиле:
— А вы венчались?
— Да.
— Вы верующая?
— Нет.
— А зачем же тогда церковный брак?
— Так принято.
— Не все следует делать только потому, что так принято.
— Но многие делают.
— Вы поедете к Элене на свадьбу?
— Она меня не приглашала.
— Неправда, — подскочила я.
— Правда-правда, — усмехнулась Лила. — Она меня стыдится.
Она вроде бы шутила, но я все равно разозлилась. Что с ней происходит? То выставила меня дурой перед Паскуале и Надей, теперь позорит перед бывшей преподавательницей.
— Глупости! — воскликнула я и, чтобы успокоиться, достала из сумки свою книгу и протянула синьоре Галиани. — Это вам.
Она посмотрела на книгу задумчиво, словно не понимая, что это за предмет перед ней, но потом поблагодарила, сказала, что у нее такая уже есть, и вернула мне книгу.
— А твой будущий муж чем занимается?
Он получил кафедру будет читать латинскую литературу во Флоренции.
— Он намного старше тебя?
— Ему двадцать семь.
— Такой молодой и уже профессор?
— Он очень способный.
— Как его зовут?
— Пьетро Айрота.
Она внимательно посмотрела на меня, как в школе, когда ей казалось, что я ответила на вопрос недостаточно полно.
— Он не родственник Гвидо Айроты?
— Сын.
— Хорошая партия, — хитро подмигнула она мне.
— Мы любим друг друга.
— Ты уже начала писать новую книгу?
— Пытаюсь.
— Я видела, ты пишешь для «Униты».
— Немного.
— А я перестала для них писать. Они вконец обюрократились.
Она снова обернулась к Лиле: было видно, что она изо всех сил старается выразить ей свою симпатию.
— Вы проделали выдающуюся работу на заводе.
— Ничего я не делала, — недовольно поморщилась Лила.
— Ну что вы!
Профессор подошла к столу, поискала среди бумаг и показала нам несколько листков, словно демонстрируя неопровержимое доказательство.
— Надя вечно все разбрасывает по дому, а я подобрала и прочитала. Отличная работа: смело, свежо и написано превосходно. Мне хотелось вас увидеть, чтобы это сказать.
Она держала в руках сделанные Лилой заметки, из которых я скроила свою первую статью для «Униты».
60
Все, пора было прощаться. От Галиани я вышла разочарованная, так и не набравшись смелости сказать ей, что напрасно она так себя со мной ведет. Она ни слова не сказала о моей книге, хотя читала ее, во всяком случае, пролистала. Она не попросила подписать книгу, а ведь я принесла ее специально! Больше того, перед самым уходом я, поддавшись слабости и желанию расстаться с ней в самых теплых чувствах, сама предложила оставить на книге дарственную надпись, но она ничего не ответила, только улыбнулась и продолжила говорить с Лилой. О моих статьях она тоже ни словом не обмолвилась, если не считать критики в отношении «Униты». Разыскав у себя на столе заметки Лилы, она вообще полностью переключила свое внимание на нее, как будто меня вообще не было в комнате — мое мнение ее не интересовало. Мне хотелось крикнуть ей: «Да, Лила очень умная, я всегда знала это, всегда любила ее за это, всегда пыталась за ней угнаться, и я не отрицаю ее влияния. Но я и сама не дура, я работала над собой, не жалея сил, и добилась успеха, меня высоко ценят, и я не кичливая пустышка, как твоя дочка!» Но ничего такого я не сказала и молча слушала, как они обсуждают завод, проблемы труда и требования рабочих. Провожая нас, уже на лестничной площадке, синьора Галиани коротко попрощалась со мной, а Лилу обняла и, вдруг перейдя на ты, сказала ей: «Не пропадай!» Я чувствовала себя униженной. Паскуале с Надей так и не вернулись, не дав мне шанса ответить им, и злость продолжала кипеть во мне, не находя выхода: что плохого я сделала, когда захотела помочь подруге? Я многим рисковала, за что же они со мной так? И вообще, кто дал им право меня судить? Мы с Лилой остались вдвоем, спустились по лестнице в холл, вышли на улицу и по тротуару направились в сторону корсо Витторио-Эммануэле. Меня так и тянуло наорать на нее. «Ты что, правда думаешь, что я тебя стыжусь? Что на тебя нашло? Почему ты встала на сторону этой парочки? Я из кожи вон лезла, чтобы быть с тобой рядом, чтобы тебе помочь, так-то ты мне за это платишь? Видно, у тебя и правда с головой не в порядке». Но не успела я и рта раскрыть (впрочем, что бы это изменило?), как она взяла меня под руку и принялась защищать, ругая синьору Галиани.
Она не дала мне вставить ни словечка, хотя я готова была осыпать ее упреками за то, что она поддержала Паскуале и Надю и, не подумав, брякнула, что я не желаю видеть ее на своей свадьбе. Передо мной была другая Лила — Лила, которая не знала ответов на мои вопросы, а потому с нее и спрашивать было бесполезно. Всю дорогу, пока мы шли до метро по пьяцца Амадео, она болтала без умолку. «Что эта старуха себе позволяет! С какой стати она на тебя взъелась? Понятно, завидует, что ты пишешь романы и статьи, да еще замуж выходишь за прекрасного человека, а ее Надя, которую они все учили да учили и надеялись, что она станет лучше всех и мать будет ей гордиться, ничегошеньки не добилась, а теперь вон вообще, обжимается с простым работягой, как будто так и надо, — шлюха, как есть шлюха! А ты зря расстраиваешься, плюнь на нее! И нечего было книгу ей совать, тем более — предлагать автограф. Таких посылать надо куда подальше! Твоя беда в том, что ты слишком добрая и ведешься на их болтовню. Они ведь как считают? Раз они такие ученые, значит, только у них мозги работают! Но они ошибаются. Так что не бери в голову. Скоро у тебя свадьба, путешествие… Ты и так слишком много времени на меня потратила, а тебе надо писать следующий роман. Я уверена, что он будет еще лучше первого. Я же люблю тебя и хочу, чтоб все у тебя было хорошо».
Я слушала ее, но на душе было мрачно. Выходит дело, она никогда не угомонится. Каждый раз повторялось одно и то же: стоило нам хоть немного сблизиться, как у нее что-то переклинивало в голове, и наши отношения летели в тартарары. Я не понимала, зачем она мне все это говорит: то ли просит прощения, то ли прикидывается, не желая быть со мной откровенной, то ли вообще готовится навсегда со мной распрощаться. Ясно было одно: она лживое и неблагодарное существо, а я, несмотря на все свои достижения, все равно смотрю на нее снизу вверх. Я испугалась, что никогда не избавлюсь от этой зависимости, и мысль об этом причинила мне муку. Я поймала себя на том, что мечтаю, чтобы кардиолог ошибся, а прав оказался Армандо: пусть бы она и правда заболела и умерла.
С того дня мы не виделись много лет, только иногда созванивались. Мы стали друг для друга голосами в телефонной трубке. Но желание, чтобы она умерла, затаилось где-то в углу моего сознания. Я гнала его прочь, а оно не уходило.
61
Ночь накануне отъезда во Флоренцию я провела без сна. Из всех неотвязных мыслей больше всего меня мучила мысль о Паскуале. Его слова жгли мне душу. Вначале я приняла их в штыки, но чем больше думала, тем больше закрадывалось сомнений: с одной стороны, мне по-прежнему казалось, что я не заслужила столь суровой отповеди, а с другой — раз Лила с ним согласилась, может, я и в самом деле не права? Устав ворочаться в постели, я впервые в жизни встала в четыре утра и еще до рассвета вышла из дома. Я была так несчастна, что мне хотелось, чтобы со мной случилось что-нибудь ужасное, что станет мне наказанием за мои грехи, но рикошетом ударит и по Лиле. Но со мной ничего не произошло. Я долго бродила по пустынным улицам, гораздо менее опасным, чем днем, когда их заполняла толпа. Небо надо мной постепенно лиловело. Я вышла к морю — оно расстилалось передо мной ровным серым листом, над ним проплывали редкие, чуть подсвеченные розовым облака. Яркий луч света надвое разрезал массив Кастель-дель-Ово: со стороны Везувия его силуэт переливался охрой, со стороны Мерджеллины и Позилипо оставался коричневатым пятном. Дорога вдоль пляжа была пуста, море не шумело, зато источало сильный запах. Интересно, как бы я относилась к Неаполю, да и к себе самой, если бы каждое утро просыпалась не в нашем квартале, а в одном из этих домов на побережье? К чему я стремилась? Изменить свое происхождение? Изменить себя и других? Взять пустой, как сейчас, город и заселить его новыми жителями, не зараженными алчностью, нищетой, ненавистью, злобой, способными наслаждаться красотой пейзажа, как божества, что обитали здесь когда-то? Подстегнуть своего личного демона, устроить ему сладкую жизнь и обрести счастье? Да, я воспользовалась властью семейства Айрота, которые на протяжении нескольких поколений боролись за социализм и выступали на стороне таких, как Паскуале и Лила; я сделала это не ради спасения мира, а ради одного человека, которого любила; не сделай я этого, я совершила бы ошибку. Разве я неправильно поступила? Неужели я должна была бросить Лилу в беде? Никогда, никогда больше палец о палец не ударю, ни ради кого. Я уехала из Неаполя и вышла замуж.
62
Свою свадьбу я не помню. Вместо воспоминаний — несколько застывших картинок на фото: растерянное лицо Пьетро, взволнованное мое, моя мать — она не в фокусе, но и так видно, что она чем-то недовольна. Или это только так кажется? Как нас регистрировали, я тоже не помню, зато память сохранила долгий разговор, который состоялся у нас с Пьетро за несколько дней до свадьбы. Я сказала ему, что планирую принимать противозачаточные таблетки, потому что сначала — и срочно — должна написать новую книгу. Я не сомневалась, что он меня поймет и не станет возражать. Но он совершенно неожиданно воспротивился. Сначала его обеспокоило, что таблетки незаконные — официально в продажу они тогда еще не поступили; потом он сказал, что, по слухам, они вредят здоровью, потом произнес целую речь о сексе, любви и зачатии и, наконец, буркнул, что если мне есть что написать, то я смогу писать и беременная. Меня его слова разозлили: куда подевался высокообразованный сторонник социального прогресса, который так настаивал на гражданском браке? Я все ему высказала, мы поссорились и не помирились даже к дню бракосочетания. Потому-то он в тот день был молчалив, а я холодна.
Был и еще один неприятный сюрприз: прием по случаю свадьбы. Мы собирались расписаться, расцеловаться с родственниками и уехать к себе без всяких празднований. Это решение мы приняли вместе с Пьетро: он вообще был аскет, а мне не терпелось доказать себе и окружающим, что я больше не принадлежу к тому миру, в котором живет мать. Но Аделе придерживалась другого мнения и все сделала по-своему. Она затащила нас домой к своей подруге, якобы чтобы выпить за наше здоровье, а в действительности мы оказались на грандиозном приеме в одном из самых изысканных флорентийских домов среди бесчисленной родни Айрота и других известных и даже очень известных людей, с которыми вынуждены были провести весь вечер. Муж сразу помрачнел, а у меня возник вопрос: раз так, почему же я не пригласила никого, кроме родителей, братьев и сестры, в конце концов, это же моя свадьба.
— Ты знал? — спросила я его.
— Нет.
Какое-то время мы держались вместе, но вскоре Пьетро надоело, что мать и сестра без конца с кем-то его знакомят, он засел в углу с моими родителями и проболтал с ними весь вечер. Я с раздражением думала о том, что мы угодили в западню, из которой просто так не вырвешься, но через некоторое время с изумлением обнаружила, что ко мне проявляют интерес известные политики, именитые ученые, молодые революционеры и даже знаменитые литераторы — поэт и романист. Они читали мою книгу и хвалили мои статьи в «Уните». Настроение у меня сразу поднялось. Время летело незаметно, и я чувствовала себя все ближе к миру Айрота. Даже свекор удостоил меня краткой беседы на тему положения рабочего класса. Вокруг нас тут же столпились другие гости — все эти люди участвовали в публичных дебатах по поводу роста протестного движения, все шире охватывавшего страну. И я была одной из них, была в центре внимания — это действительно был мой праздник.
Свекор упомянул отличный материал, вышедший в «Мондо операйо», автор которого с большим талантом осветил проблему становления в Италии демократии. С опорой на факты он доказывал, что, пока радио, телевидение, крупные газеты, школа, университет и местные власти работают в русле идеологии правящей партии, честные выборы в стране невозможны и рабочие ни при каких обстоятельствах не смогут набрать большинство в парламенте. Все согласно кивали, приводили свои доводы, дополняли автора. Наконец профессор Айрота назвал имя — я угадала его раньше всех, еще до того, как он успел произнести «Джованни Сарраторе»: конечно, это был Нино. Я была так за него рада, что не удержалась и сказала, что мы знакомы, а потом позвала Аделе, чтобы она подтвердила мужу и всем присутствующим, что мой неаполитанский друг действительно светлая голова.
Так Нино оказался на моей свадьбе, хоть и не присутствовал на ней физически. Говоря о нем, я словно бы получила право говорить и о себе, объяснить, почему я увлеклась вопросами борьбы трудящихся; я принялась рассуждать о необходимости помочь левым партиям и движениям заполнить лакуны в понимании современного политического и экономического положения. Я щеголяла недавно заученными формулировками, которыми наловчилась уверенно пользоваться, и чувствовала себя страшно умной. Мне стало хорошо; мне нравилось находиться рядом с родителями мужа, в кругу их друзей — меня здесь ценили. К концу вечера, когда мои родные робко попрощались с нами и отправились куда-то коротать время до первого поезда в Неаполь, вся моя злость на Пьетро испарилась. Он заметил это и сам повеселел; всякая натянутость между нами исчезла.
Вернувшись домой и заперев дверь, мы занялись любовью. Поначалу мне было очень приятно, но вскоре выяснилось, что сюрпризы того дня еще не кончились. Антонио, чтобы достичь оргазма, достаточно было немного о меня потереться, Франко изо всех сил старался продлить наслаждение, но вскоре с хрипом выходил из меня или, когда пользовался презервативом, замирал и весь как будто тяжелел, наваливаясь на меня всем телом и счастливо смеясь мне в ухо. Пьетро, напротив, трудился надо мной так долго, что это время показалось мне вечностью. Мощные ритмичные удары быстро свели на нет всякое удовольствие, к тому же у меня заболел живот. Сам он весь взмок — пот стекал у него по лицу и по шее, а я гладила его мокрую спину и понимала, что уже ничего не хочу. Но он не обращал на это внимания, продолжал снова и снова входить и выходить, монотонно и однообразно. Я не знала, что делать, ласкала его, шептала слова любви, а сама только и думала: поскорее бы это кончилось. Когда он наконец заревел и в изнеможении обрушился на меня, я была страшно довольна, хотя осталась неудовлетворенной и все тело у меня ныло.
Он почти сразу встал и побрел в ванную. Я так устала, что не дождалась его и через пару минут уснула. Внезапно проснувшись через час, я обнаружила, что он так и не вернулся, и пошла его искать. Он сидел за письменным столом в кабинете.
— Что ты делаешь?
— Работаю, — улыбнулся он.
— Пойдем спать.
— Иди, я скоро.
Я уверена, что именно той ночью забеременела.
63
Поняв, что жду ребенка, я настолько растерялась, что даже позвонила матери. Да, мы воевали всю жизнь, но в тот момент желание поговорить с ней перевесило все прочие соображения. И зря: она меня замучила. Названивала без конца, грозилась приехать и пожить с нами, чтобы присматривать за мной, или, наоборот, увезти домой, в квартал, и отправить к повитухе, которая принимала всех нас. Отвязаться от нее было непросто. Я сказала, что наблюдаюсь у гинеколога, друга свекрови и известного профессора, и рожать буду у него в клинике. Мать обиделась. «Тебе свекровь дороже матери», — прошипела она и перестала звонить.
Несколько дней спустя позвонила Лила. С тех пор как я уехала, мы несколько раз созванивались, болтали буквально по паре минут, чтобы не тратить много денег: она со мной говорила весело, я с ней — прохладно, она не без иронии спрашивала, как моя замужняя жизнь, я серьезно интересовалась ее здоровьем. Но в этот раз я сразу заметила, что что-то не так.
— Ты на меня обиделась? — спросила она.
— Нет, с чего?
— А что ж ты тогда ничего мне не сказала? Если б твоя мать не хвасталась на каждом углу, я бы так и не узнала, что ты беременная.
— Да я сама не была уверена.
— А я думала, ты пьешь таблетки.
— Да, собиралась, — смутилась я, — но потом передумала.
— Почему?
— Ну, годы-то идут.
— А как же книга?
— Там видно будет.
— Смотри у меня…
— Я постараюсь.
— Давай, ты должна делать все возможное.
— Постараюсь.
— А я пью таблетки.
— Так у вас с Энцо все наладилось?
— В общем да, но детей я больше не хочу.
Она замолчала, я тоже не стала это комментировать. Потом Лила рассказала, как она узнала, что ждет ребенка — в первый раз и во второй. Ни об одной из своих беременностей ничего хорошего она сказать не могла. «Правда, во второй раз, — призналась она, — я была уверена, что ребенок от Нино, поэтому радовалась, даже когда мне было совсем плохо. Радуйся не радуйся, все равно будет паршиво». После этого она, все больше сгущая краски, пустилась расписывать мне ужасы беременности и родов; она и раньше это мне говорила, но сейчас подробно смаковала каждую деталь — еще бы, мне ведь все это вскоре предстояло. Вроде бы она пеклась обо мне, хотела меня подготовить, волновалась о моем будущем. Сначала чужая жизнь разрастается у тебя в животе, а потом выходит наружу — и все, ты на поводке и больше себе не хозяйка. Она живописала все периоды моего будущего материнства, в полной уверенности, что у меня все будет так же, как у нее, и делала это, как всегда, очень талантливо. «Представь себе: ты сама куешь себе орудие пытки!» Я поняла: она и мысли не допускает, что у меня все может быть не так, как у нее, что она — это она, а я — это я, что у меня и беременность может протекать иначе, и отношение к детям может быть другим. Как будто, если меня минуют ее проблемы и я стану счастливой матерью, это будет с моей стороны предательством.
Мне не хотелось больше ее слушать, и я отвела трубку подальше от уха. Простились мы довольно холодно.
— Если что понадобится, дай знать, — сказала она.
— Хорошо.
— Ты мне помогла, теперь я тебе хочу помочь.
— Хорошо.
Этот разговор не то что не помог мне, а только напугал. Я жила в незнакомом городе, хотя благодаря Пьетро изучила его вдоль и поперек, чего не могла сказать о Неаполе. Мне нравилась набережная Арно, откуда открывался прекрасный вид, но цвет зданий нагонял на меня тоску. Меня немного раздражали флорентийцы с их вечными насмешками: консьерж, мясник, булочник или почтальон считали своим долгом отпустить какую-нибудь шутку, и мне приходилось отшучиваться, что заставляло постоянно пребывать в каком-то напряжении. Друзья Гвидо и Аделе, так радушно принявшие меня на свадьбе, больше не объявлялись, а Пьетро не выказывал ни малейшего желания с ними видеться. Я чувствовала себя одинокой и уязвимой. От тоски накупила книжек о том, как стать идеальной матерью, и с привычным прилежанием засела за их изучение.
Шли дни, недели, но, к моему немалому удивлению, беременность нисколько меня не тяготила, наоборот, придавала мне легкости. Тошнило меня редко, ничего не болело, настроение не падало, никакой апатии я не испытывала. Я была на четвертом месяце, когда получила премию за книгу, а с ней очередную порцию внимания и денег. Я пошла на вручение премии, хотя политическая обстановка не слишком располагала к известности подобного рода. Но я ощущала себя привлекательной, гордилась собой и пребывала в состоянии такой физической и интеллектуальной полноты, что ничего не боялась и вела себя очень раскованно. В своей долгой благодарственной речи я сказала, что чувствую себя такой же счастливой, как астронавты, ступившие на белую лунную поверхность. Через пару дней я позвонила Лиле — рассказать про премию. Мне хотелось сообщить ей, что ее мрачные прогнозы не оправдались, дела идут отлично, и я всем довольна. Я так поверила в себя, что мне ничего не стоило подняться над былыми обидами. Но Лила уже прочитала о премии в «Маттино» — неаполитанские газеты черкнули о ней пару строк — и, не дав мне сказать ни слова, сурово раскритиковала эту мою фразу об астронавтах: «Белая лунная поверхность! — издевательски проговорила она. — Вот уж действительно, иногда лучше промолчать, чем ляпнуть чушь!» И добавила, что Луна — это всего лишь камень среди миллиардов других камней, ничем не лучше обыкновенного булыжника. По ее мнению, гораздо важнее твердо стоять на земле.
У меня скрутило желудок. Почему она постоянно стремится меня уколоть? Не хочет, чтоб я была счастлива? Или она все еще не поправилась, и болезнь обострила в ней все худшее? В голову лезли жестокие слова, которые я так и не решилась произнести вслух. Она как будто не догадывалась, что своими словами нанесла мне глубокую рану, а если догадывалась, то считала, что имеет на это полное право. Без перехода, как ни в чем не бывало, она перешла к рассказу о своих делах. Она помирилась с братом, матерью и даже с отцом, снова сцепилась с Микеле из-за давней истории с обувной маркой и деньгами, которые он, по ее мнению, задолжал Рино, встретилась со Стефано и потребовала, чтобы он участвовал в воспитании Дженнаро, а не только Марии, по меньшей мере материально. Говоря о брате, Солара и Стефано, она употребляла грубые, на грани приличия, выражения. В заключение она спросила: «Правильно я сделала?» — как будто ее и правда интересовало мое мнение. Я не стала отвечать. Я получила премию, а она прицепилась к моей фразе про астронавтов. Тогда я — не без задней мысли, мне тоже захотелось ее задеть, — спросила, как у нее с головой: прошло то ощущение, что она у нее не на месте? Нет, не прошло, ответила она, но тут же добавила, что прекрасно себя чувствует. «Если не считать того, — со смешком сказала она, — что иногда я краем глаза вижу, как из шкафа выходят какие-то люди. А как твоя беременность? Все нормально?» — «Все хорошо. Просто отлично. Никогда себя лучше не чувствовала», — ответила я.
В те месяцы я много путешествовала. Меня часто приглашали на встречи, посвященные обсуждению не только книги, но и статей, которые я теперь регулярно писала, для чего тоже приходилось ездить по всей Италии, знакомиться с новыми формами стачечной борьбы и реакцией владельцев предприятий. Я вовсе не ставила своей целью стать публицистом, просто делала то, что мне нравилось. Я чувствовала себя бунтаркой, во мне бурлило столько энергии, что моя обычная кротость казалась маской. На самом деле именно мягкая манера общения позволяла мне с легкостью присоединяться к рабочим пикетам, разговаривать с простыми людьми, общаться с представителями профсоюзов и ускользать от полиции. Я ничего не боялась. Когда прогремел взрыв в Сельскохозяйственном банке, я была в Милане, в своем издательстве, но ничуть не испугалась и не усмотрела в этом ужасном событии никаких мрачных предзнаменований. Я чувствовала в себе безудержные силы, ощущала себя неуязвимой. Никто не мог причинить зла ни мне, ни моему ребенку. Среди всего этого хаоса только мы двое были подлинной, нерушимой реальностью: я — видимой, а он (или она, хотя Пьетро хотел мальчика) — пока еще невидимой. Все остальное казалось дуновением ветра, смутной волной изображений и звуков — порой разрушительных, порой благотворных, — и эти неясные картины обретали благодаря моей работе материальную форму. События шли своим чередом, а я облекала их в слова, силой своей магии превращала в рассказ, статью или публичное выступление. Заботило меня одно: необходимость оставаться в заданных самой себе рамках и следить, чтобы ни одна моя мысль не вызвала возражений со стороны Айрота, моего издательства, Нино, который наверняка меня читал, Паскуале, Нади и Лилы (почему бы и нет?). Последние, полагала я, наконец должны были признать: «Зря мы так с Лену, мы были к ней несправедливы, она на нашей стороне. Смотри, что она пишет…»
Я никогда не была такой активной, как во время беременности. Как ни странно, беременность даже пробудила во мне сексуальную активность: я приставала к Пьетро, обнимала его, целовала и чуть ли не силком тащила в постель, где он в своей манере, долго и болезненно, овладевал мной. Затем он вставал и шел допоздна работать. Я спала час-два, просыпалась и, не обнаружив его рядом, зажигала свет и брала книгу. Устав читать, шла к нему в кабинет и звала спать — он послушно шел со мной. Вскакивал он ни свет ни заря, будто вообще боялся спать. Зато я отсыпалась до полудня.
За все это время меня взволновало только одно событие. Я была на седьмом месяце, живот уже был большой. Я стояла у ограды «Нуово пиньоне»,[11] когда прямо рядом разгорелась драка, — пришлось убегать. Возможно, я оступилась, не знаю, но вдруг в середине правой ягодицы вспыхнула острая боль, словно раскаленным прутом пронзило ногу. Домой я приковыляла хромая и сразу легла. Боль утихла, но время от времени возвращалась, простреливая от бедра в пах. Я приспособилась передвигаться так, чтобы не было больно, но тут заметила, что при этом хромаю. Меня охватила паника. Я побежала к врачу, у которого наблюдалась по поводу беременности. Он меня успокоил: ничего страшного, из-за дополнительной нагрузки немного защемило седалищный нерв. «Что вы так разволновались? Даже странно, обычно вы такая безмятежная…» Я пожала плечами. На самом деле я прекрасно знала, в чем дело. Я испугалась, что все же унаследовала походку матери, что она завладела моим телом и теперь я на всю жизнь останусь хромой, как она.
После разговора с гинекологом я угомонилась. Боль еще какое-то время напоминала о себе, но потом все прошло. С того дня Пьетро запретил мне заниматься глупостями: довольно скакать туда-сюда. Я признала, что он прав, и остаток беременности провела дома за книгами и почти ничего не писала. Наша дочь родилась 12 февраля 1970 года, в пять двадцать утра. Назвали мы ее Аделе, хотя свекровь возражала: «Бедная девочка! Аделе — ужасное имя. Назовите как угодно, только не так!» Роды были страшно болезненные, но довольно быстрые. Когда малышка появилась на свет и я впервые увидела ее — черные волосики, еще синеватая кожа, — то испытала такое физическое наслаждение, какого больше не испытывала за всю свою жизнь. Крестить ее мы не стали; моя мать жутко ругалась и орала в телефонную трубку, что не приедет на нее даже посмотреть. «Смирится, — утешала я сама себя. — А если нет, ей же хуже!»
Как только я встала на ноги, позвонила Лиле. Мне не хотелось давать ей лишний повод для обиды, что я ей ничего не сказала.
— И все-таки это было прекрасно, — заявила я.
— Что?
— Беременность и роды. Моя Аделе такая сладкая, такая хорошенькая.
— Каждый рассказывает историю своей жизни так, как ему удобно, — буркнула она.
64
Сколько в тот период жизни разрозненных мыслей, похожих на рваные нити, сплелось в моей голове в неряшливый клубок! Старых, полузабытых, и новых, ярких и бесцветных, тонких и полупрозрачных. Все нарушилось как раз тогда, когда я окончательно убедила себя, что сделанные Лилой дурные предсказания не сбылись. С дочкой начались проблемы, и все мои прежние страхи выползли на поверхность, словно нарочно выпущенные кем-то на волю. В роддоме она прекрасно брала грудь, но, стоило нам вернуться домой, все пошло наперекосяк. Она сосала несколько секунд, а потом заливалась криком, как разгневанный звереныш. Я чувствовала себя беспомощной, во мне ожили все старые предрассудки. Что с моим ребенком? Может, у меня соски слишком маленькие? Или мое молоко ей не нравится? А может, кто-то нас сглазил и она не признает во мне свою мать?
Я начала таскать ее по врачам; ходили мы вдвоем, Пьетро вечно был занят в университете. Грудь у меня распирало и жгло так, будто внутрь напихали раскаленных камней, мне чудилась неизбежная ампутация вследствие заражения. Я мучилась с молокоотсосом, чтобы было чем накормить дочку из бутылочки и хоть немного снять боль. «Ну давай, соси, — нежно шептала я ей, — ты у меня такая умница, такая хорошая девочка, у тебя хорошенький ротик, такие красивые глазки, что тебе не нравится?» Все было без толку. Какое-то время у меня получалось держать ее на смешанном питании, но потом пришлось окончательно перейти на искусственное вскармливание. Я целыми сутками только и делала, что стерилизовала бутылочки и соски и взвешивала девочку до и после кормления, при каждом ее поносе умирая от чувства вины. Я часто вспоминала, как Сильвия кормила Мирко — сына Нино — прямо посреди шумного студенческого собрания. Почему у меня ничего не получается? Я подолгу рыдала из-за этого, когда никто не видел.
Потом выдалось несколько спокойных дней; я приободрилась и даже решила, что пора как-то переустроить свою жизнь, но затишье не продлилось и недели. Весь первый год моя дочка практически не спала: она часами плакала, извиваясь всем своим хрупким тельцем; откуда только силы брались. Успокаивалась она, только когда я носила ее на руках взад-вперед по квартире, приговаривая: «Девочка моя, мамино солнышко, доченька будет умницей, сейчас закроет глазки и заснет». Но мамино солнышко спать отказывалось наотрез, как будто, как отец, боялось сна. Что с ней? Животик болит? Или она голодная? Или чувствует себя брошенной из-за того, что я не смогла кормить ее грудью? Или все-таки ее сглазили? Что за демон мог вселиться в это крошечное создание? А со мной что? Что за яд в моем молоке? И что это было с ногой? Неужели это все моя мать? Наказывает меня за то, что я не захотела быть похожей на нее? Или это что-то еще?
Как-то ночью я словно наяву услышала голос Джильолы, которая рассказывала всему кварталу, что Лила колдунья, умеет управлять огнем и душить младенцев еще в утробе. Меня охватил стыд: надо было срочно что-то предпринимать, иначе я рехнусь. Я попробовала оставить малышку с Пьетро: он привык работать по ночам и не так уставал. «Не могу больше, разбуди меня через пару часов», — сказала я, легла и мгновенно провалилась в сон. Но вскоре проснулась: ребенок надрывался плачем. Я подождала немного, плач не стихал, и я встала. Пьетро затащил люльку в кабинет и, не обращая внимания на дочь, невозмутимо сидел над книгой; рядом лежали заполненные карточки. Вот тут меня прорвало. «Тебе вообще на все плевать, тебе работа важнее собственной дочери!» — заорала я на него на диалекте. Муж холодно и спокойно предложил мне выйти за дверь и забрать люльку: ему надо закончить важную статью для английского журнала, а сроки поджимают. Больше я не просила у него помощи, а когда он сам предлагал посидеть с дочкой, говорила: «Спасибо, не надо, иди работай, у тебя куча своих дел». После ужина он какое-то время робко и растерянно крутился вокруг меня, а потом закрывался в кабинете и работал до глубокой ночи.
65
Я чувствовала себя всеми покинутой, но в то же время была уверена, что я это заслужила: я не могла обеспечить безмятежную жизнь собственному ребенку. Мне становилось все страшнее. Организм отторгал роль матери, но я стискивала зубы и продолжала делать то, что должна была делать. Я старалась не обращать внимания на боль в ноге, но она вернулась и становилась все сильнее. Я делала вид, что все нормально, и изматывала себя тяжелой работой. В доме не было лифта, и я таскала по лестнице коляску с ребенком, сумки из магазина, убирала квартиру, готовила еду и думала о том, что старею раньше времени и становлюсь страшной, как женщины из нашего квартала. Когда отчаяние достигало пика, мне непременно — именно в этот момент — звонила Лила.
Как только я слышала ее голос, мне хотелось кричать: «Что ты со мной сделала? Все шло гладко, и вдруг ни с того ни с сего случилось то, о чем ты и говорила: с дочкой ни минуты покоя, я хромаю… Что творится? Я так больше не могу!» Но мне удавалось сдержаться. «У нас все хорошо, — щебетала я, — малышка немного капризничает, в весе медленно прибавляет, но она такая лапочка, я так счастлива!» Потом с напускным интересом расспрашивала ее об Энцо, Дженнаро, отношениях со Стефано, с братом, о квартале, о том, не обижают ли ее Бруно Соккаво и Микеле. Отвечала она грубо, на диалекте, но особой злобы в ее голосе я обычно не слышала. «Соккаво? Ему давно пора кишки выпустить. А Микеле пусть только попадется мне на глаза, лично ему в рожу плюну». О Дженнаро она теперь говорила как о сыне Стефано и постоянно это подчеркивала: «Такой же коротышка, как его отец». Если я замечала, что он очень славный мальчик, она смеялась в ответ: «Из тебя такая хорошая мамаша, вот и забирай его себе». В этих словах было столько сарказма, будто она и впрямь силой ведовства узнала, как я живу на самом деле. Меня душила злость, но я продолжала разыгрывать перед ней спектакль: слышишь звучный голосок — это наша Деде; Флоренция — чудный город, здесь так здорово; читаю сейчас Бэрана,[12] отличная книга! — и так далее, пока она не позволяла мне опустить занавес, сообщив о том, что Энцо приняли на курсы при компании IBM.
Энцо был единственным, о ком она отзывалась уважительно; вспомнив о нем, следом непременно спрашивала меня о Пьетро.
— С мужем все хорошо?
— Отлично!
— У нас с Энцо тоже.
Она вешала трубку, а у меня в памяти немедленно вставали и часами не уходили картины прошлого: наш старый двор, наши опасные игры, моя кукла, которую она бросила в подвал, темная лестница, ведущая к двери дона Акилле, свадьба Лилы, ее благородство и ее подлость, ее роман с Нино. Она не переносит моих удач, в ужасе думала я, она хочет, чтобы я всегда была рядом, слушалась ее, помогала ей и участвовала в ее жалких войнах против квартала. Потом я сама себя одергивала: «Какая я дура, что за чушь я несу! Стоило столько учиться!» — и продолжала делать вид, что полностью владею ситуацией. Сестре Элизе, которая часто мне звонила, я рассказывала, как это прекрасно — быть мамой. Как-то позвонила Кармен Пелузо, сказала, что выходит замуж за рабочего с автозаправки. «Отличная новость, — воскликнула я, — поздравляю! Будьте счастливы! И передавай привет Паскуале. Как он там, кстати?» Мать звонила редко, и перед ней я тоже изображала безоблачное счастье. Только один раз я не выдержала и спросила: «А что у тебя с ногой? Давно ты хромаешь?» И услышала в ответ: «Тебе-то какая разница? Не твое дело!»
Несколько месяцев прошли в беспрестанной борьбе, и я безуспешно пыталась взять себя в руки. Иногда я ловила себя на том, что молюсь Богоматери, хотя по-прежнему считала себя атеисткой; мне становилось стыдно. Но чаще, когда мы с дочкой оставались одни дома, я давала себе волю и принималась кричать: это был бессловесный протяжный вой, вырывавшийся из груди от отчаяния. Этот страшный период все не кончался, а время тянулось медленно и мучительно. По ночам, хромая, я ходила взад-вперед по коридору с ребенком на руках: я больше не утешала ее, ничего ей не шептала, просто старалась не обращать внимания на ее плач и думать о себе. В другой руке у меня всегда была книга или журнал, хотя читать все равно было невозможно. Днем, когда удавалось уложить Аделе — поначалу я звала ее Аде, не задумываясь о созвучии со словом «ад», но Пьетро сделал мне замечание, я смутилась и перешла на Деде, — я пыталась писать статьи. Конечно, у меня теперь не было ни времени, ни желания разъезжать по заданию «Униты», из-за чего мои писания утратили прежний динамизм, но, чтобы доказать себе, что я все еще чего-то стою, я прятала недостаток содержания за словесными ухищрениями. Как-то раз я набросала статью и, прежде чем отправлять в редакцию, дала ее прочесть Пьетро.
— Ну как?
— Пустовато.
— В смысле?
— Сплошное пустословие.
Я страшно обиделась, но все равно послала статью. Ее не напечатали. С того момента газеты — и местная, и общенациональная — стали отвергать мои тексты, отговариваясь нехваткой полос. Я страдала, понимая, что все вокруг рушится словно под действием неистовых подземных толчков — все, что я привыкла считать незыблемыми условиями жизни и работы, внезапно зашаталось. Я читала, но чтение теперь сводилось к простому узнаванию букв, складывающихся в слова, — смысл написанного от меня ускользал. Пару-тройку раз я натыкалась на статьи Нино, но даже от них не получала прежнего удовольствия: я не представляла себе его, не слышала его голоса, не радовалась его свежим идеям. Конечно, я была за него рада: раз он пишет, значит, у него все хорошо, он живет своей жизнью — неизвестно где и неизвестно с кем. Я всматривалась в его имя, прочитывала несколько строк и откладывала статью в сторону: каждое предложение, набранное черным по белому, делало мое положение еще более невыносимым. Меня ничто не интересовало; я совсем не заботилась о том, как выгляжу. Да и ради кого мне было прихорашиваться? Я ни с кем не виделась, кроме Пьетро, который, конечно, вел себя со мной корректно, но считал меня всего лишь своей бледной тенью. Иногда я пыталась поставить себя на его место, взглянуть на себя его глазами, и то, что я видела, мне не нравилось. Брак со мной только осложнил ему жизнь, мешал заниматься, и это при том, что его известность росла, особенно в Великобритании и США. Конечно, я гордилась им, но он меня все больше раздражал. В разговорах с ним я все чаще брала униженно-злобный тон.
Потом настал день, когда я сказала себе: все, хватит. Прощай, «Унита». Надо садиться за роман. Как только я напишу хорошую книгу, все образуется! Но о чем писать? Свекрови и издательству я пела, что работа идет полным ходом, но я бессовестно лгала. На самом деле у меня не было ничего, кроме тетрадей, заполненных разрозненными заметками. Стоило мне их открыть — днем или ночью, когда Деде позволяла, — я сама не замечала, как засыпала. Как-то раз вечером, вернувшись из университета, Пьетро застал меня после такой попытки поработать: я повела себя еще хуже, чем он, когда я просила его немножко посидеть с дочкой. Я спала на кухне, уронив голову на стол, а малышка, потерявшая пустышку, надрывалась криком в спальне. Отец обнаружил ее полуголой, забытой родной матерью. Когда Деде жадно принялась сосать из бутылочки, расстроенный Пьетро спросил:
— Может, позвать кого-нибудь тебе на помощь?
— В этом городе у меня нет никого, ты же знаешь.
— Попроси приехать мать или сестру.
— Не хочу.
— Тогда позови ту свою подругу из Неаполя. Ты же ей помогала, теперь пусть она тебе поможет.
Меня аж передернуло. На какую-то долю секунды мне представилось, будто Лила уже здесь, в этом доме, и, как когда-то она завладела мной, теперь вселится в Деде, вместе со своими прищуренными глазками и наморщенным лбом. Я уверенно замотала головой. Ни за что на свете!
Пришлось Пьетро звонить своей матери: ему страшно не хотелось, но он попросил ее приехать и пожить немного у нас.
66
Я полностью доверилась свекрови, и она меня не подвела: и на этот раз она все наладила, и мне оставалось только восторгаться ею и мечтать когда-нибудь стать такой, как она. Уже через пару дней она нашла Клелию, девушку лет двадцати родом из Мареммы, и выдала ей четкие инструкции по уборке дома, походам по магазинам и приготовлению еды. Обнаружив Клелию, Пьетро рассердился — с ним даже не посоветовались.
— Мне рабы в доме не нужны, — заявил он.
— Какая же это рабыня? — спокойно возразила Аделе. — Это просто ее работа. Мы будем ей платить.
Я так осмелела в присутствии свекрови, что добавила от себя:
— А что, по-твоему, рабыней должна быть я?
— Ты мать, а не рабыня.
— Я обстирываю тебя, глажу твои вещи, убираюсь, готовлю. Я родила тебе дочь и теперь одна занимаюсь ею. Я вымоталась.
— А кто тебя заставляет? Я никогда ни о чем тебя не прошу.
Я была готова взорваться, но вмешалась Аделе: она обрушила на сына целый поток саркастических насмешек, и Клелия осталась. После этого Аделе забрала у меня девочку, переставила ее кроватку в свою комнату и взяла на себя заботу о бутылочках. Заметив, что я хромаю, она отвела меня к знакомому врачу, который назначил мне курс уколов. Каждое утро и каждый вечер она приходила ко мне со стерилизатором, шприцами и ампулами и бестрепетной рукой колола меня в ягодицы. Мне сразу полегчало, боль прошла, настроение улучшилось, и я наконец воспрянула духом. Но Аделе не прекращала обо мне заботиться. Она убедила меня заняться собой, отправила к парикмахеру, сводила к дантисту. Но главное — она постоянно вела со мной разговоры о театре и кино, о книге, которую переводила, о другой книге, которую редактировала, о том, что ее муж или кто-то еще из известных людей — она знала их и дружески называла по именам — написали для того или иного журнала. От нее я впервые услышала о феминистках и брошюрах, которые они издавали. Мариароза была знакома с их авторами и искренне восхищалась ими — в отличие от Аделе: та с привычной иронией говорила, что они мелют чушь, пытаясь отделить женский вопрос от классовой борьбы. «Но ты все равно почитай, — посоветовала она, протянув мне пару книжек и добавив загадочно: — Если собираешься быть писательницей, ничего не упускай». Я отложила книжонки в сторону: не хотела тратить время на тексты, которые сама Аделе считала неудачными. Но именно тогда я поняла: свекровь говорит со мной не потому, что ей действительно интересно мое мнение. Она пыталась разрушить сложившийся у меня в голове стереотип плохой матери. Она сыпала передо мной словами, надеясь, что, приходя в соприкосновение, они высекут искру, от которой в моих потухших глазах вновь загорится огонь. Она пришла не для того, чтобы выслушать меня, а для того, чтобы меня спасти.
Но проблемы никуда не девались. Деде продолжала плакать по ночам, я прислушивалась к ее плачу, терзалась и, несмотря на все старания свекрови, по-прежнему чувствовала себя несчастной. У меня появилось свободное время, но мне не писалось. К тому же обычно сдержанный Пьетро при матери терял хладнокровие и порой вел себя откровенно грубо. Едва он возвращался домой, как между ними вспыхивала перепалка, в которой каждый старался уколоть другого побольнее; в результате моя жизнь, и без того не сладкая, оборачивалась ежедневным кошмаром. Как я скоро догадалась, муж во всех своих бедах винил Аделе. Он ссорился с ней по любому поводу, в том числе когда у него не ладилось на работе. Я почти ничего не знала о том, что в университете у него возникли серьезные проблемы; на мое «Как дела?» он всегда отвечал: «Хорошо», не желая меня волновать. Но при матери все его внутренние барьеры падали и он тоном обиженного ребенка изливал на нее все свои неудачи; если я вдруг оказывалась рядом, он делал вид, что меня не видит, — его вполне устраивала роль жены как немого свидетеля.
Тогда мне многое стало ясно. Коллеги Пьетро, все, как один, старше его, верили, что своей блестящей карьерой и известностью за границей он обязан исключительно знаменитой фамилии, и всячески его затирали. Студенты считали, что он слишком строг; в их глазах он был богатым занудой, педантом, который занимается никому не нужной ерундой, возделывает свой сад, не обращая внимания на то, что вокруг растекаются потоки раскаленной лавы, и, вне всякого сомнения, классовым врагом. Он, разумеется, не пытался защищаться, тем более наступать, и продолжал гнуть свою линию: читал содержательные — в этом я не сомневалась — лекции и на экзаменах требовал столь же содержательных ответов. «Мне же трудно!» — однажды вечером чуть ли не выкрикнул он, жалуясь Аделе, но тут же осекся, понизил голос и сказал, что ему нужен покой, что он сильно устает, что коллеги настраивают против него студентов, что какие-то молодчики то и дело врываются в аудиторию прямо посреди лекции, а в последнее время на стенах стали появляться оскорбительные для него надписи. Аделе не успела еще произнести ни слова, как не выдержала я: «Сам виноват! Не надо быть таким реакционером!» Тут он впервые за годы нашего знакомства позволил себе меня одернуть. «Хоть ты-то помолчи, — холодно ответил он. — Только и умеешь, что повторять чужие клише».
Я обиделась и заперлась в ванной. Я поняла вдруг, насколько плохо его знаю. И правда, что он за человек? Тихий, но в то же время страшно упертый. Он поддерживал рабочий класс и студенчество, но экзамены принимал как истый консерватор. Он был атеистом, отказался венчаться в церкви, запретил крестить Деде и в то же время восхищался христианскими общинами в Ольтрарно и обладал глубокими познаниями в вопросах религии. Он был одним из Айрота, но терпеть не мог привилегий, которые давала эта фамилия. Я успокоилась и решила, что должна стать к нему ближе — пусть почувствует, что он мне дорог. «Все-таки он мой муж, — говорила я себе, — нам надо чаще разговаривать». Но в присутствии Аделе это было практически невозможно. Между ними существовала какая-то скрытая неприязнь, из-за которой он вдруг забывал о хороших манерах, а она вела себя с ним как с безнадежным бездарем.
Так мы и жили втроем, в постоянных стычках: он ссорился с матерью, говорил ей что-нибудь ужасное, я набрасывалась на него — так продолжалось до тех пор, пока однажды вечером за ужином мать не спросила его, почему он спит на диване. «Будет лучше, если ты завтра же уедешь», — сказал он в ответ. Я не стала вмешиваться, хотя прекрасно знала, что спит он отдельно, чтобы не будить меня в три часа ночи, когда он наконец выбирался из-за письменного стола и ложился отдохнуть. На следующий день Аделе вернулась в Геную. Я почувствовала себя окончательно брошенной.
67
Прошло несколько месяцев, и мы с дочкой, кажется, выкарабкались. Деде пошла в свой первый день рождения: отец сидел напротив нее и, улыбаясь, звал к себе. Она выпустила мою руку и, пошатываясь, зашагала к нему с вытянутыми вперед ручками и приоткрытым ротиком — это было счастливое окончание года непрерывного плача. С того дня она начала спокойно спать по ночам, и я расслабилась. Дочка все больше времени проводила с Клелией, реже капризничала, и у меня появилось немного свободного времени. Тут-то и выяснилось, что я не готова целиком посвятить себя серьезным делам. Как будто после долгой болезни, мне хотелось гулять, наслаждаться солнечным светом и красками мира, бродить по переполненным улицам, разглядывать витрины. У меня скопилось достаточно своих денег, и я ходила по магазинам, покупала одежду себе, дочке и Пьетро, обставляла дом новой мебелью, тащила в него всякие безделушки — в общем, тратила столько, сколько не тратила никогда. Мне хотелось чувствовать себя красивой, встречаться с интересными людьми, вести приятные разговоры. Но новых знакомых у меня так и не появилось, а Пьетро не любил гостей и очень редко кого-нибудь к нам приглашал.
Я понемногу возвращалась к жизни, которой жила до родов, и лишь тогда вдруг обнаружила, что телефон звонит все реже, а если и звонит, то спрашивают не меня. Ослепительный успех моей первой книги проходил, и люди теряли ко мне интерес. Эйфория освобождения сменилась тревогой: я чувствовала себя подавленной и задавалась вопросом, что дальше. Я снова начала читать современную литературу — на общем фоне моя повесть казалась мне легкомысленной и банальной. Я отложила в сторону заметки для новой книги — она во многом повторяла первую — и искала другой сюжет, в котором отразилась бы вся сложность современного мира.
Пару раз я звонила в «Униту» по телефону и даже предложила им несколько статей, но мои тексты перестали нравиться редакции. Я потеряла связь с миром, не следила за событиями, не ездила, как раньше, по разным городам — мне не о чем было рассказать читателю. Слог у меня был хороший, но мои суждения отличались расплывчатостью; я как будто силилась доказать — но кому? — что принадлежу к числу самых жестких критиков коммунистической партии и профсоюзов. Сегодня мне трудно объяснить, зачем я упорно продолжала строчить эти статьи, а главное, почему меня так привлекали крайние точки зрения, хотя я практически не участвовала в политической жизни города, а по характеру была человеком скорее мягким. Возможно, виной тому была моя неуверенность в себе, возможно — нелюбовь ко всякого рода посредничеству, на которое я насмотрелась в детстве: отец работал в муниципалитете, где успеха добивались только те, кто умел вовремя подсуетиться. Еще одна причина — я не понаслышке знала, что такое нищета, не хотела об этом забывать и считала своим долгом быть на стороне обездоленных, которым нечего терять. Кроме того, меня мало интересовала стратегия мелких уступок, которую я так прилежно освещала; мне хотелось чего-то значительного (я часто использовала этот эпитет), что я могла бы пережить и описать. А может, дело было в том, что я по-прежнему видела (хоть и не желала того признавать) образец для подражания в Лиле, с ее отчаянным упрямством и бескомпромиссностью; мы отдалились друг от друга, и в прямом и в переносном смысле слова, но я стремилась говорить и делать то, что, как мне казалось, говорила и делала бы она, будь у нее мои возможности.
Я перестала покупать «Униту» и стала читать «Лотта континуа» и «Манифест». В последней газете печатался Нино. Тексты его, как обычно, отличались логичностью и строгой аргументацией. Они пробудили во мне воспоминания о наших былых спорах, и я поняла, что мне нужна строгая система взглядов, опора на которую положит конец моим шараханьям. Страсть к Нино осталась в прошлом, не говоря уже о любви. Он стал для меня символом сожалений о нереализованных возможностях. Мы с ним вышли из одной среды, и оба сумели из нее вырваться. Почему же я скатилась так низко? Из-за замужества? Из-за материнства? Из-за того, что я женщина, а значит, должна вести дом, заботиться о семье, подтирать дерьмо и стирать пеленки? Каждый раз, когда мне попадалась хорошо написанная статья Нино, у меня портилось настроение. А расплачиваться приходилось Пьетро: он же был единственным моим собеседником. Я ругалась с ним, упрекала, что он бросил меня в самый трудный период моей жизни, думал только о своей карьере, а про меня забыл. Наши отношения ухудшались на глазах — мне было страшно самой себе признаваться в этом, но это было так. Я знала, что у него проблемы на работе, но не желала войти в его положение; хуже того, нападала на него с тех же политических позиций, что и студенты, от которых ему так доставалось. Он слушал меня с недовольным видом, часто не снисходя до ответа. Из этого я делала вывод, что не случайно он не так давно предложил мне «помолчать», потому что я только воспроизвожу «чужие клише». Очевидно, он и в самом деле не верил, что со мной можно говорить на серьезные темы. Меня это приводило в отчаяние, я злилась, в том числе и потому, что сама разрывалась между двумя взаимоисключающими чувствами, которые, схематизируя, описала бы так: с одной стороны, из-за существующего неравенства для одних (например, для меня) учеба была тяжким трудом, а для других (например, для Пьетро) почти удовольствием; с другой стороны, я считала, что учиться все равно надо, вопреки любому неравенству. Я гордилась тем, какой путь прошла, и отказывалась признавать, что все мои усилия были бессмысленны и продиктованы глупостью. Тем не менее в разговорах с Пьетро я почему-то упорно твердила только про несправедливость неравенства. «Ты ведешь себя так, — корила я его, — как будто все студенты одинаковы, но нельзя ждать от людей равных результатов, если у них разные возможности, — это настоящий садизм». Я раскритиковала его даже в тот день, когда он поделился со мной подробностями ссоры с коллегой, человеком на двадцать лет старше, знакомым Мариарозы, который пытался заключить с ним союз в борьбе с университетскими консерваторами. Этот коллега дружески посоветовал Пьетро не быть со студентами таким строгим. Пьетро своим обычным безапелляционным тоном возразил, что он не строг, а всего лишь требователен. Ну, значит, надо быть менее требовательным, уточнил тот, особенно к тем студентам, которые тратят большую часть своего времени на то, чтобы хоть что-то изменить в этой лавочке. На этом спор перешел в ссору. Я не знаю, что именно сказал ему Пьетро, потому что он имел привычку сглаживать острые углы. Начал он с того, что принципиально ко всем студентам относится с равной долей уважения, а затем обвинил коллегу в двойных стандартах: дескать, тот слишком мягок с напористыми студентами и слишком суров — порой оскороительно суров — с робкими. Профессор взбеленился и заявил, что только знакомство с Мариарозой не позволяет ему назвать — и, естественно, тут же назвал — Пьетро кретином, которому кафедра досталась по недоразумению.
— Неужели нельзя было вести себя осмотрительнее?
— Я осмотрителен.
— Не похоже.
— Я всегда буду говорить то, что думаю.
— Может, тебе пора научиться отличать друзей от врагов?
— У меня нет врагов.
— И друзей нет.
Слово за слово, и в конце концов я перешла границы. «Именно потому, что ты так себя ведешь, — горько сказала я, — никто в этом городе, даже друзья твоих родителей, не приглашает нас в гости, на концерт или на выходные за город».
68
Отныне мне стало ясно: на работе Пьетро считали занудой, далеким от активной жизненной позиции своих родных; он был Айрота, но Айрота с изъяном. Я тоже разделяла это мнение, что не шло на пользу нашему браку и интимным отношениям. Когда Деде наконец стала нормально спать, Пьетро вернулся с дивана в супружескую постель, но стоило ему приблизиться ко мне, как меня охватывал ужас: я боялась снова забеременеть и делала все возможное, чтобы он оставил меня в покое. Я отодвигалась, поворачивалась к нему спиной. Если он настаивал и начинал тереться об меня через ночную рубашку, я легонько била его пяткой по ноге, как бы говоря: «Нет, только не сегодня, я спать хочу». Пьетро недовольно вставал и шел в кабинет работать.
Однажды вечером мы в очередной раз поссорились из-за Клелии — мы ссорились каждый раз, когда наступал день ее зарплаты, — но в данном случае Клелия послужила лишь предлогом. «Элена, — мрачно сказал Пьетро, — надо нам обсудить наши отношения и сделать какие-то выводы». Я согласилась. Сказала, что восхищаюсь его умом и образованием, что Деде — настоящее чудо, но добавила, что больше детей не хочу; домашнее заточение оказалось невыносимым, а я хочу вернуться к активной жизни — не для того я с детства корпела над книгами, чтобы погрязнуть в обязанностях жены и матери. Мы поспорили: я была резка, он — нет. В конце концов он сдался: смирился с присутствием Клелии, купил презервативы, стал приглашать на ужин друзей, точнее, знакомых — друзей у него не было, — и даже не возражал, что я собираюсь ходить с Деде на собрания и манифестации, хотя на городских улицах все чаще проливалась кровь.
Но вместо того чтобы облегчить мне жизнь, наши новые отношения еще больше ее осложнили. Деде все больше привязывалась к Клелии и, когда я брала ее с собой, капризничала, дергала меня за уши, за волосы, за нос, просилась назад и плакала. Я убедилась, что с девушкой из Мареммы ей лучше, чем со мной, и во мне опять проснулись старые опасения: я не кормила ее грудью и она промучилась весь первый год жизни, а теперь видит во мне непонятную злую тетку, которая то и дело ее ругает, да еще не пускает к доброй нянечке, хотя с ней можно играть и она умеет рассказывать сказки. Даже когда я наклонялась вытереть ей нос или рот после обеда, она меня отталкивала и жаловалась, что я делаю ей больно.
Что до Пьетро, то в презервативе ему требовалось намного больше, чем без него, времени, чтобы достичь оргазма. Наши супружеские отношения превратились в пытку и для него и для меня. Иногда я позволяла ему взять меня сзади, чтобы было не так больно, и, снося его неистовые удары, брала его руку и клала себе между ног в надежде, что он догадается, что мне нужны ласки. Но он не умел делать две вещи одновременно, и, поскольку первая ему нравилась больше, о второй он забывал; получив свою долю наслаждения, он не желал понимать, что мне тоже требуется удовлетворение; в лучшем случае он гладил меня по голове и шептал мне на ухо: «Пойду немного поработаю». Он уходил, а мне в качестве утешительного приза оставалось одиночество.
Иногда на демонстрациях я с любопытством разглядывала молодых парней, бесстрашно подвергавших себя опасности; их переполняла радостная энергия, даже когда в ответ на угрозу они и сами начинали вести себя агрессивно. Я была очарована ими, меня притягивал их лихорадочный пыл. Но вокруг них увивались легкомысленно одетые девчонки, за которыми мне было не угнаться: я была слишком серьезна, носила очки, у меня был муж и никогда не было времени. Домой я возвращалась в дурном настроении и огрызалась на Пьетро — я чувствовала себя старухой. Иногда я представляла себе, как один из этих парней, непременно известный на всю Флоренцию, обратит на меня внимание и уведет за собой, как когда-то Антонио или Паскуале. Но наяву ничего такого не происходило. Пьетро стал приглашать к нам своих знакомых, но и это лишь прибавило мне проблем. Приходилось готовить что-то особенное на ужин и изображать гостеприимную хозяйку дома, способную поддержать любой разговор. Я не жаловалась: в конце концов, я сама просила мужа приводить в дом гостей. Однако вскоре я не без смущения заметила, что меня привлекают не эти сборища сами по себе, а их участники — мужчины, которые проявляли ко мне хоть какой-то интерес. Стоило гостю — высокому или маленькому, худому или толстому, красавцу или уроду, молодому или старому, женатому или холостому — похвалить мою мысль, сказать пару приятных слов о моей книге или восхититься моим умом, как я проникалась к нему симпатией; я обращалась к нему с парой слов, бросала в его сторону пару ласковых взглядов, и он, даже если поначалу скучал, тут же оживлялся, забывал о Пьетро и переключал все внимание на меня. Он на глазах смелел — позволял себе всякие намеки, заглядывал мне в глаза, касался моего плеча или руки, задевал меня коленом или прижимал носок своего ботинка к мыскам моих туфель.
В эти минуты мне было хорошо, я забывала о Пьетро и Деде, о своих гнетущих обязательствах перед ними. Я боялась одного: что скоро гость уйдет и я снова окунусь в домашнюю рутину, и снова покатятся похожие один на другой дни, заполненные бездельем и взаимным раздражением под маской любезности. Из-за этого я позволяла себе лишнее: говорила слишком громко и возбужденно, закидывала ногу на ногу, чтобы повыше задралась юбка, вроде бы машинально расстегивала верхнюю пуговицу на блузке. Я намеренно сокращала дистанцию между собой и чужим для меня человеком, наивно веря, что, стоит мне его коснуться, мимолетное ощущение счастья останется со мной, в моем теле, и, когда он уйдет — один, с женой или подругой, — мучительная тоска и ощущение внутренней пустоты и собственной никчемности хотя бы на время оставят меня.
На самом деле, лежа потом в постели, пока Пьетро работал в соседней комнате, я сама себя презирала и понимала, что вела себя как последняя дура. Я пыталась бороться с собой, но это ни к чему не приводило. Тем более что мужчины, уверенные, что произвели на меня впечатление, часто звонили мне на следующий день и предлагали — под тем или иным предлогом — встретиться. Я соглашалась. Но, уже явившись на свидание, поддавалась панике. Один тот факт, что мужчина клюнул на меня, хотя был на тридцать лет старше или женат, сводил на нет весь его авторитет и он уже не годился на роль спасителя, а мои с ним заигрывания, приносившие мне столько удовольствия, теперь казались несусветной глупостью и подлостью. «Как я могла так поступить? — в растерянности спрашивала я себя. — Что со мной творится?» И старалась окружить Деде и Пьетро удвоенной заботой.
Но к нам снова приходили гости, и все повторялось. Я проводила дни в пустых мечтаниях, слушала, включив погромче, музыку — наверстывала упущенное в юности, — ничего не читала, ничего не писала. Но главное, меня все больше грызли сожаления о том, что из-за своей проклятой самодисциплины я так долго лишала себя дерзких удовольствий, которым предавались и продолжали предаваться женщины моего возраста и моего круга. Так, Мариароза, приезжая во Флоренцию читать лекции или участвовать в политических акциях, каждый раз заявлялась к нам с разными мужчинами, иногда не одна, а с подругами; она баловалась наркотиками и предлагала нам. Пьетро мрачнел и закрывался у себя в кабинете, но меня все это завораживало; курить траву или пробовать кислоту я отказывалась — боялась, что мне станет плохо, — но болтала с Мариарозой и ее друзьями до поздней ночи.
Мы говорили обо всем подряд, часто спорили на повышенных тонах, и у меня складывалось впечатление, что прекрасный литературный язык, на овладение которым я потратила столько времени и сил, больше никому не нужен — слишком он был прилизанный, слишком чистенький. Я видела, как изменилась речь Мариарозы. Она сожгла все мосты между собой и своим воспитанием. Теперь сестра Пьетро выражалась хуже нас с Лилой, когда мы были девчонками. Ни одно существительное не обходилось у нее без определения «долбаный»: «Куда я дела эту долбаную зажигалку и где эти долбаные сигареты?» Лила говорила так всю жизнь, а мне что было делать? Стать прежней, вернуться на исходную точку? Зачем же тогда я столько лет себя мучила?
Я наблюдала за золовкой. Мне нравилось, что она демонстративно занимает мою сторону, а не сторону своего брата. Мне нравились мужчины, которых она приводила в наш дом. Однажды вечером посреди жаркого спора она бросила молодому парню, с которым пришла: «Ну, хватит, пошли трахаться!» Трахаться. У Пьетро для обозначения понятий, связанных с сексом, существовал собственный словарь мальчика из хорошей семьи, и я освоила его, заменяя приличными выражениями ту похабщину, к которой привыкла с детства. Неужели теперь, чтобы не отстать от меняющегося мира, мне следовало к ним вернуться и говорить: «Я хочу потрахаться, отымей меня так-то и так-то»? С моим мужем это было немыслимо. Зато те немногие мужчины, с которыми я общалась, люди высокой культуры, охотно играли в показную простоту, проводили время с подчеркнуто вульгарными девицами и с наслаждением обращались с приличными женщинами как с потаскухами. Поначалу они вели себя сдержанно, не выходя за рамки, но им явно не терпелось включиться в игру, по правилам которой можно вслух говорить то, о чем принято молчать, и постоянно повышать градус откровенности. Женская стыдливость воспринималась отныне как признак ограниченности и ханжества; в свободной женщине больше всего ценились искренность и непосредственность. Я тоже старалась освоиться в этой игре. Но чем лучше это у меня получалось, тем быстрее крепло ощущение, что я впадаю в зависимость от своих собеседников. Пару раз мне даже показалось, что я влюбилась.
69
В первый раз это было со специалистом по греческой литературе, моим ровесником из Асти. В родном городе его ждала невеста, о которой он отзывался с пренебрежением. Во второй — с мужем преподавательницы папирологии. Она была из Катании, он из Флоренции, у них было двое маленьких детей. Его звали Марио, он был старше меня на семь лет и носил длинные волосы. Инженер по образованию, он преподавал механику, прекрасно разбирался в политике, великолепно держался на публике, а в свободное время играл на ударных в рок-группе. В обоих случаях события развивались по одному и тому же сценарию: Пьетро пригласил их на ужин, и я завела свой привычный флирт. Потом последовали звонки, совместное участие в манифестациях, частые прогулки — иногда с Деде, иногда вдвоем — и несколько походов в кино. Ассистента я отвергла, как только он начал проявлять настойчивость. Зато Марио сокращал дистанцию между нами постепенно, но однажды вечером, в машине, поцеловал меня долгим поцелуем и принялся оглаживать мою грудь в лифчике. Я не без труда оттолкнула его и сказала, что больше не желаю его видеть. Но он продолжал мне названивать, утверждая, что жить без меня не может. Я сдалась. Поскольку я уже позволила ему целовать и лапать себя, он решил, что получил на меня некие права, и вел себя так, будто мы должны были продолжить с того места, на котором остановились, с каждым разом проявляя все большую настойчивость. С одной стороны, я сама его провоцировала, с другой — уворачивалась. Он воспринимал это как оскорбление и оскорблял меня в ответ.
Как-то раз утром я гуляла с ним и с Деде, которой, если я правильно помню, было тогда два с небольшим, и она повсюду таскала с собой куклу. Куклу звали Тес — это имя придумала ей Деде. Во время прогулки, увлеченная пикировкой с Марио, я почти не обращала внимания на дочь. Присутствие ребенка его нисколько не стесняло, он продолжал делать мне откровенные предложения, изредка наклоняясь к девочке, чтобы шепнуть ей на ухо: «Можешь сказать своей маме, чтобы она меня не обижала?» Время пролетело незаметно, он уехал, мы с Деде пошли домой. Но буквально через несколько шагов дочка остановилась и, медленно подбирая слова, проговорила: «Тес сказала, что расскажет папе секрет». Сердце замерло у меня в груди. «Тес? — Да. — И что же она расскажет? — Тес сама знает. — Она расскажет хорошее или плохое? — Плохое. — Тогда, — пригрозила я, — передай Тес: если она что-нибудь скажет папе, я запру ее на ключ в темном ящике и больше не выпущу». Дочка разрыдалась, и мне пришлось тащить ее домой на руках, хотя она, стараясь ко мне подольститься, всегда шла сама, утверждая, что не устала. Деде поняла — или догадалась, — что между мной и этим чужим дядей происходит что-то такое, что очень не понравится ее отцу.
Я прекратила встречаться с Марио. Кто он такой, в конце концов? Сексуально озабоченный буржуа. Но покой не наступал. У меня в душе росла жажда разрушения: мне хотелось сокрушать установленные правила, ведь весь мир вокруг меня катился под откос. Мне хотелось хоть ненадолго сбросить оковы брака, а еще лучше (почему бы и нет?) — оковы всей своей жизни, сбежать от всего, чему меня учили, что я написала и еще пыталась писать, от ребенка, которого произвела на свет. Брак — это и правда тюрьма, рассуждала я, вот Лиле хватило смелости, даже рискуя жизнью, от него избавиться. А я, чем я рискую с Пьетро, который вечно занят своими делами, для которого я — пустое место? Ничем. Так чего ж я жду? Я позвонила Марио. Оставила Деде с Клелией и поехала к нему на работу. Мы целовались, он обсасывал мои соски и трогал меня между ног, как Антонио много лет назад во время наших встреч на прудах. Но, когда он спустил до колен штаны и трусы, сжал мой затылок и потянул мою голову к своему члену, я вырвалась, привела в порядок одежду и убежала.
Когда я пришла домой, меня била дрожь от чувства вины. Ночью я с неведомой прежде страстью отдалась Пьетро и сама сказала ему, что презерватив не нужен. Волноваться не о чем, думала я, со дня на день придут месячные, ничего не случится. Однако же случилось. Через пару недель я поняла, что снова беременна.
70
С Пьетро я даже не заговаривала об аборте — он был счастлив, что я подарю ему еще одного ребенка. Да мне и самой было страшно — от одного слова скручивало желудок. На аборт мне намекала Аделе в телефонном разговоре, но я отделалась банальностями типа: Деде нужна компания, одной расти плохо, ей хочется братика или сестренку.
— А как же книга?
— Книга продвигается, — соврала я.
— Дашь мне почитать?
— Конечно.
— Мы уж заждались.
— Знаю.
Я была в панике и, едва ли отдавая себе отчет в том, что делаю, предприняла шаг, поразивший не только Пьетро, но и меня: позвонила матери, сказала, что опять жду ребенка, и попросила ее приехать во Флоренцию пожить немного с нами. Она буркнула, что не может — кто будет заботиться о семье? Я заорала: «Тогда знай, что из-за тебя я больше ничего не напишу! — А мне плевать! — заорала она в ответ. — Ты и без того живешь как у Христа за пазухой!» — и швырнула трубку. Но через пять минут перезвонила Элиза. «Я присмотрю за домом, — сказала она, — мама завтра выезжает».
Пьетро поехал встречать ее на вокзал на машине. Этот знак внимания наполнил ее гордостью; она поняла, что ее любят. Я с порога перечислила ей свод незыблемых правил: ничего не трогать в моей комнате и в комнате Пьетро, не баловать Деде, никогда не лезть в наши с мужем дела, присматривать за Клелией и не ссориться с ней, считать, что меня нет дома и не беспокоить ни при каких обстоятельствах, когда у нас гости, оставаться на кухне или в своей комнате. Я не верила, что она станет их соблюдать, но ошиблась: страх, что ее прогонят, взял верх над ее склочным характером, и за несколько дней она превратилась в нашу преданную служанку, которая следила за домом и решала все проблемы, не беспокоя ни меня, ни Пьетро.
Время от времени она ездила в Неаполь — без нее мне казалось, что меня бросили на произвол судьбы, и я страшно боялась, что она не вернется. Но она всегда возвращалась, рассказывала мне местные новости (Кармен была беременна, Мариза родила мальчика, Джильола ждала от Микеле Солары второго ребенка; о Лиле она во избежание ссоры помалкивала) и сразу превращалась в доброго домового, который следит за тем, чтобы белье было выстирано и выглажено, на столе появлялись блюда со вкусами из детства, квартира сияла чистотой, и в ней царил идеальный порядок: любая вещь, оказавшаяся не там, где надо, немедленно и с маниакальной точностью возвращалась на свое место. Пьетро предпринял очередную попытку избавиться от Клелии, и мать взяла его сторону. Я разозлилась, но вместо того, чтобы ссориться с мужем, накинулась на нее; она молча ушла в свою комнату. Пьетро меня отругал и велел помириться с матерью, что я сейчас же с удовольствием и сделала. Он обожал ее, говорил, что она очень умная женщина, и часто после ужина оставался на кухне с ней поболтать Деде звала ее бабулей и привязалась к ней настолько, что даже изменила своей любимой Клелии. Ну вот, сказала я себе теперь все в порядке, отговариваться больше нечем. И заставила себя засесть за книгу.
Я пересмотрела свои заметки и вынуждена была признать, что надо менять направление. Мне хотелось отойти от того, что Франко назвал «любовными интрижками», и написать что-то злободневное, актуальное, соответствующее духу массовых манифестаций, полицейских репрессий и убийств и постоянного ужаса в ожидании государственного переворота. Но мне никак не удавалось вымучить больше десяти страниц. Чего мне не хватало? Трудно сказать. Может быть, Неаполя и нашего квартала. Или какого-то образа наподобие «Голубой феи». Или страстной увлеченности. Или голоса, который вызывал бы во мне уважение и указал бы мне путь. Я часами просиживала за письменным столом, листала романы и боялась выйти из комнаты, чтобы меня не перехватила Деде. Как же я была несчастна! Из коридора доносились детский щебет, реплики Клелии, шарканье матери. Я задирала подол и смотрела на свой начавший расти живот. По всему телу растекалось нежеланное ощущение блаженства. Уже во второй раз я была наполненной и в то же время пустой.
71
Я стала звонить Лиле не от случая к случаю, как раньше, а почти каждый день. Междугородние звонки стоили дорого, но я все равно звонила, потому что надеялась, что на меня вновь упадет ее тень и это поможет мне скоротать срок беременности. По старой привычке я верила, что она пробудит мою фантазию. Разумеется, я не собиралась с ней ссориться и того же ждала от нее. Я уже успела убедиться, что мы можем дружить только при условии, что каждая из нас следит за своим языком. Я, например, не могла признаться, что темной частью сознания допускала, что она меня сглазила, и той же темной частью желала, чтобы она заболела и умерла. Со своей стороны, она не должна была называть истинных причин, вынуждавших ее говорить мне обидные вещи. Поэтому мы ограничивались беседами о Дженнаро, который пошел в начальную школу и был одним из лучших в классе, о Деде, которая уже научилась читать, — в общем, болтали и хвастались друг перед другом, как две обычные мамаши. Иногда я намекала на свои попытки писать, впрочем, не драматизируя ситуацию, просто говорила: да, работаю, но дело идет медленно, быстро устаю, беременность есть беременность. Иногда я пыталась выяснить, не пристает ли к ней Микеле, иногда интересовалась, как ей нравится тот или иной артист или телеведущий. Иногда выпытывала, интересуют ли ее другие мужчины, помимо Энцо, чтобы в свою очередь признаться, что меня порой тянет к кому-то помимо Пьетро. Но эта тема оставляла ее равнодушной. На вопросы об артистах она почти всегда отвечала: «А кто это? Никогда его не видела, ни в кино, ни по телевизору», а стоило мне произнести имя Энцо, как она тут же переводила разговор на компьютеры и принималась сыпать непонятными терминами.
Об этом она говорила вдохновенно, а я слушала и на всякий случай делала заметки: может, пригодится в будущем? У Энцо все получилось; теперь он работал на небольшой швейной фабрике в пятидесяти километрах от Неаполя. Предприятие арендовало компьютер IBM, а Энцо занимал должность системного администратора. «Знаешь, что это такое? Представь себе: он моделирует процесс ручного труда и переводит его в блок-схему программы. Центральный процессор у них огромный, размером с трехстворчатый шкаф, память — восемь килобайт. А как там жарко, Лену, хуже, чем в бане. Высшая степень абстракции — и при этом пот и вонь!» Она рассказывала мне о ферритовых тороидальных сердечниках — это такие кольца, обмотанные электропроводом, напряжение в котором определяет значение бита — 0 или 1; каждое кольцо — это один бит, а из восьми колец складывается байт, способный передать букву. Энцо был главным героем ее нескончаемых рассказов, он выступал в них богом всех этих материй, повелевал всеми этими словами изнутри огромной комнаты, оснащенной двумя мощными кондиционерами, и заставлял машину выполнять работу, которую обычно делали люди. «Поняла?» — без конца переспрашивала она, и я тихо отвечала: «Да», хотя даже смутно не представляла себе, что она имеет в виду. Я знала, что она догадывается о моей тупости, и мне было очень стыдно.
Ее воодушевление росло от разговора к разговору. Энцо теперь зарабатывал сто сорок восемь тысяч лир («Представляешь, сто сорок восемь тысяч!»), потому что он был невероятно умный, самый умный из всех знакомых ей мужчин. На фабрике его ценили, считали незаменимым, и, стоило ему похлопотать, ее тоже взяли на работу. Вот это была новость! Лила снова работала, и на сей раз была страшно довольна. «Представляешь, Лену, он начальник вычислительного центра, а я его заместитель. С Дженнаро сидит мама (иногда и Стефано), а я теперь каждое утро бегу на фабрику. Мы с Энцо осваиваем все этапы производства, шаг за шагом. Делаем то же, что рабочие, чтобы понимать, что вводить в компьютер. Занимаемся бухгалтерскими проводками, договорами, счетами-фактурами, сверяем списки практикантов, учетные карточки и все это превращаем в схемы и отверстия в перфокартах. Да, я пока всего лишь оператор перфоратора, со мной работают еще три женщины, и получаю я всего восемьдесят тысяч. Но ведь сто сорок восемь плюс восемьдесят — это двести двадцать восемь тысяч лир, Лену. Представляешь, мы с Энцо теперь богатые люди, а через несколько месяцев будем еще богаче, потому что владелец фабрики меня заметил и хочет отправить на учебу. Видишь, как я теперь живу! Ты за меня рада?»
72
Однажды вечером она позвонила мне сама и сообщила, что только что получила страшное известие: прямо на выходе из университета, на пьяцца Иисус, убили Дарио, того самого мальчишку из комитета, о котором она мне рассказывала, студента, раздававшего листовки у ворот завода Соккаво — забили дубинками до смерти.
Мне она показалась очень встревоженной. Она говорила о том, что весь квартал и весь город накрыло свинцовым колпаком насилия; случаи жестоких нападений происходят все чаще. «За большинством из них стоит фашист Джино, а за Джино — Микеле Солара». Когда она произносила эти имена, в ее голосе слышалась не только всегдашняя ненависть, но и какая-то новая ярость, как будто за тем, что она говорила, скрывалось нечто большее, о чем она умалчивала. Почему она так уверена в том, чьих рук это дело, недоумевала я. Может, она до сих пор поддерживает связь со студентами с виа Трибунале? Может, на самом деле ее жизнь не ограничивается одними компьютерами и Энцо? Я слушала ее не перебивая; ее рассказ, как всегда, звучал захватывающе. Она в подробностях рассказывала, как фашисты собираются возле местного отделения Итальянского социального движения, напротив начальной школы, а потом, вооружившись железными прутьями и ножами, расходятся по разным районам — в Реттифило, на пьяцца Муниципио, в Вомеро — и подстерегают коммунистов. Паскуале дважды попал им в лапы, и теперь у него не хватает передних зубов. Энцо тоже как-то вечером пришлось сцепиться с Джино, прямо под дверью собственного дома.
Она немного помолчала, а потом совсем другим тоном сказала: «Ты помнишь, что творилось у нас в квартале в детстве? Так вот, все стало еще хуже. Хотя нет, все так же». Она имела в виду своего свекра, ростовщика и фашиста дона Акилле Карраччи, столяра и коммуниста Пелузо и ту войну, что разворачивалась прямо у нас на глазах. Мы отдались во власть воспоминаний: то у меня в памяти всплывала та или иная деталь, то у нее. Постепенно у Лилы разыгралось воображение, и она, как в детстве, смешивая факты со своими фантазиями, начала описывать мне сцену убийства дона Акилле. Удар ножом в шею, длинная струйка крови, кровь на медной кастрюле. Как и тогда, она и мысли не допускала, что его убил столяр. «Следствие, — с убежденностью зрелого человека заключила она, — устремилось по самому очевидному следу, который и привел их к коммунисту. Но где доказательства, что старика убил отец Кармелы и Паскуале? Откуда вообще известно, что это был мужчина, а не женщина?» Я мгновенно подхватила ее тон, и, дополняя друг друга, мы — успевшие повзрослеть девчонки — шаг за шагом добрались до правды, которая замалчивалась десятилетиями. «Давай подумаем, — сказала Лила, — кто выиграл от этого убийства? Кому достался ростовщический бизнес, которым занимался дон Акилле?» Действительно, кому? Ответ мы дали хором: выиграла женщина с красной книгой, Мануэла Солара, мать Марчелло и Микеле. «Это она убила дона Акилле!» — воскликнули мы в один голос, но, спохватившись, сами себя оборвали: что мы такое несем? И вообще, хватит об этом. Разыгрались, как дети малые.
73
Наконец-то между нами установилось взаимопонимание, какого не было давно. Жаль только, что оно проявлялось в сплетении голосовых вибраций на разных концах телефонного провода. Мы давно не виделись. Она не представляла, во что меня превратили две беременности, я понятия не имела, какой стала она: все такая же бледная и худющая или изменилась. Несколько лет я разговаривала с воображаемой картинкой, лишь немного оживляемой голосом. Возможно, именно поэтому убийство дона Акилле тоже показалось мне выдумкой, начальным эпизодом романа, достойным продолжения. Положив трубку, я попыталась упорядочить результат нашей беседы, шаг за шагом восстановить путь, по которому Лила, сплавляя воедино прошлое и настоящее, от смерти бедняги Дарио и убийства ростовщика подвела меня к Мануэле Соларе. Эти мысли долго не давали мне заснуть. Чем больше я думала, тем острее ощущала, что эта история и есть то место, с которого я смогу наконец взять разбег для нового романа. В последующие дни я занималась тем, что перемешивала между собой Флоренцию и Неаполь, сегодняшние заботы и вчерашние голоса, нынешнее благополучие и былые усилия, потраченные на то, чтобы оторваться от своих корней, страх потерять приобретенное и искушение деградации. Мои размышления постепенно перерастали в уверенность: из этого можно сделать книгу. С великим трудом, с многократными исправлениями, я заполняла тетрадь в клеточку, выстраивая сюжет, основанный на этих смертях и сплавивший воедино последние двадцать лет нашей жизни. За это время мне несколько раз звонила Лила.
— Куда ты пропала? Плохо себя чувствуешь?
— Нет, все отлично. Я пишу роман.
— Ну и что? Если ты пишешь, я что, не существую?
— Конечно, существуешь, просто не хотела отвлекаться.
— А если мне станет плохо, если ты мне понадобишься?
— Тогда звони!
— А если не позвоню, ты так и будешь корпеть над своим романом?
— Да.
— Везет же тебе! Завидую.
Я работала как проклятая и боялась, что не успею закончить до родов, что умру в родовых муках, так и оставив текст недописанным. Я была строга к себе — ничего общего с той неосознанной беспечностью, с какой писала первую повесть. Наметив сюжетные ходы, я взялась за стиль и ритмику текста. Мне хотелось, чтобы в нем была динамика и новизна, своего рода организованный хаос, и, поставив последнюю точку, я, не щадя себя, принялась за вторую редакцию. Потом я дважды, с новыми бесконечными исправлениями, перепечатала текст на пишущей машинке, приобретенной, еще когда я ждала Деде, и с помощью копирки превратила свои тетради в три экземпляра увесистой рукописи почти на двести страниц, напечатанной без единой опечатки.
Стояло лето, было очень жарко, живот у меня был огромный. Меня снова донимала боль в бедре, которая то обострялась, то отступала, и, прислушиваясь к шагам матери в коридоре, я все больше психовала. Я сколола листы и поняла, что боюсь. Несколько дней я колебалась: дать прочесть Пьетро или не стоит. Может, лучше сразу отправить Аделе: ему все равно не понравится. К тому же из-за неистребимого упрямства дела на факультете шли у него все хуже, он возвращался домой весь на нервах и вел со мной какие-то отвлеченные разговоры о важности соблюдения законов, одним словом, он был не в том состоянии, чтобы читать роман о рабочих, хозяевах, классовой борьбе, крови, каморристах и ростовщиках. А уж тем более мой роман. Он старался держать меня подальше от своих проблем, не интересовался, что со мной происходит и кем я становлюсь, — так какой смысл показывать ему рукопись? Все равно он ограничится обсуждением употребления слов и запятых, а если я начну вытягивать из него, что он думает по существу, — отговорится общими рассуждениями. В итоге я отправила Аделе перепечатанный роман и позвонила ей:
— Я дописала.
— Как я рада! Дашь почитать?
— Сегодня утром отправила.
— Молодец! Я сгораю от нетерпения!
74
Настало время ожидания. Отзыва о книге я ждала с куда большим беспокойством, чем ребенка, пинавшегося в животе. Я считала дни: их прошло пять, но Аделе не звонила. На шестой день, за ужином, пока Деде изо всех сил старалась есть самостоятельно, чтобы меня порадовать, а бабушка умирала от желания ей помочь, но сдерживалась, Пьетро спросил:
— Ты что, дописала книгу?
— Да.
— А почему ты матери дала прочесть, а мне — нет?
— У тебя дел много, не хотела тебя отвлекать. Если хочешь, прочти, у меня на столе лежит экземпляр.
Он ничего не ответил, я подождала немного и спросила:
— Это Аделе тебе сказала, что я отправила ей книгу?
— Конечно, кто же еще?
— Она прочитала?
— Да.
— И что говорит?
— Она тебе сама расскажет, это ваши дела.
Он явно был обижен. После ужина я переложила рукопись со своего письменного стола на его, уложила Деде, посмотрела телевизор, ничего не видя и не слыша, и наконец легла в постель. Глаз сомкнуть я не могла: все думала, почему Аделе говорила с Пьетро, а мне даже не позвонила. На следующий день — 30 июля 1973 года — я пошла проверять, начал ли муж читать роман: рукопись по-прежнему лежала на столе, погребенная под книгами, над которыми он просидел почти всю ночь; роман он явно даже не листал. Я распсиховалась, отругала Клелию, велела ей заниматься с Деде, а не сидеть сложа руки, перекладывая все дела на мою мать. Я была с ней очень груба, и мать, по всей видимости, решила, что я набросилась на девушку из сочувствия к ней. Дотронувшись до моего живота, вроде бы успокаивая меня, она спросила:
— Если опять будет девочка, как назовешь?
Голова у меня была занята другим, нога болела, и я, не подумав, бросила:
— Эльза.
Мать помрачнела. Я догадалась: она ждала, что я скажу: «Деде мы назвали в честь мамы Пьетро, если родится вторая дочка — назовем ее в твою честь», — но было уже поздно. Пришлось оправдываться. «Мам, ну сама пойми, — говорила я. — Тебя как зовут? Иммаколата. Мне это имя не нравится, не могу я так назвать свою дочь. — А Эльза что, лучше что ли? — Эльза — это почти Элиза, — отбивалась я. — Я хочу назвать дочь в честь сестры, ты должна радоваться». Больше она мне ни слова не сказала. Как же я устала ото всего этого. Становилось все жарче, я обливалась потом, сил больше не было таскать этот тяжеленный живот, хромать, терпеть все это, все вокруг.
Перед обедом наконец позвонила Аделе. Она оставила свой всегда ироничный тон и говорила медленно и серьезно — чувствовалось, что каждое слово дается ей с трудом. Не прямо, с массой оговорок, но она объявила, что книга не удалась. Я начала защищать роман, и тогда она перестала ходить вокруг да около и высказалась откровенно. Главная героиня не вызывает никакой симпатии, остальные персонажи — ходульные типажи. Сюжетные ходы и диалоги надуманные. Стиль претендует на новизну, но это не стиль, а полное его отсутствие. В книге слишком много ненависти — это оттолкнет читателя. Финал жестокий, как в спагетти-вестерне — он оскорбителен для моего ума, уровня культуры и таланта. Я молча выслушала критику. «Твоя предыдущая вещь, — заключила она, — была живой, абсолютно новой, а эта содержательно устарела и написана так вычурно, что слова кажутся пустыми». — «Может, в издательстве к нему отнесутся благосклоннее?» — робко спросила я. Она напряглась и холодно ответила: «Конечно, если хочешь, отправь им, но мне кажется, печатать не станут». Я не знала, что сказать, и тихо пробормотала: «Хорошо, я подумаю. Пока!» — но она меня не отпустила и совсем другим голосом начала расспрашивать о Деде, моей матери, беременности и Мариарозе, которая сильно ее расстраивала.
— Почему ты не дала Пьетро прочесть роман? — спросила она наконец.
— Не знаю.
— Он мог бы дать тебе совет.
— Сомневаюсь.
— Тебе его мнение совсем не интересно?
— Ну почему?
Я ушла к себе в комнату. Это было невыносимое унижение. Есть я не могла и легла спать с закрытым, несмотря на жару, окном. Ближе к вечеру, в четыре, начались схватки. Я ничего не сказала матери, взяла давно собранную сумку, села за руль и поехала в роддом, надеясь, что по дороге мы вместе умрем, и я, и ребенок. Но все прошло как по маслу. Промучившись несколько часов, я родила свою вторую дочь. Уже на следующее утро Пьетро завел со мной спор, требуя назвать девочку в честь моей матери, — по его мнению, мы были обязаны оказать ей подобный знак уважения. Настроение у меня было хуже некуда, и я решительно сказала, что традиция называть детей в честь родителей — это верх глупости и что я назову девочку Эльзой. Вернувшись из роддома, я первым делом позвонила Лиле. Я не сказала ей, что родила, но вместо этого спросила, можно ли прислать ей роман.
— Прочту, когда напечатают.
— Мне твое мнение нужно прямо сейчас.
— Ты же знаешь, я сто лет книг в руки не брала. Лену, я разучилась читать, не способна я больше на это.
— Прошу тебя, ну, пожалуйста.
— Прошлую книгу ты сразу отдала печатать. Почему с этой так нельзя?
— Потому что ту я и за книгу не считала.
— Я ведь многого тебе не скажу. Так только — понравилось, не понравилось.
— Мне и этого достаточно.
75
Пока я ждала, что скажет Лила, в Неаполе началась холера. Мать заволновалась, стала рассеянной, разбила мою любимую супницу и наконец заявила, что должна ехать домой. Я понимала, что холера, конечно, сыграла свою роль, но мой отказ назвать дочь в ее честь повлиял на нее не меньше. Я пыталась ее задержать, но она все равно уехала, несмотря на то что я только что родила и нога у меня болела. Она и так посвятила мне много месяцев своей жизни, мне, неблагодарной и не питающей к ней никакого уважения, а теперь предпочитала вернуться к мужу и хорошим детям и умереть вместе с ними. Тем не менее до самого отъезда она невозмутимо выполняла все, о чем я просила, не жаловалась, не ворчала, ничем меня не попрекала. Она с радостью приняла предложение Пьетро отвезти ее на вокзал: чувствовала, что зять ее любит. Наверно, все это время она сдерживалась не ради меня, поняла я, а чтобы не портить ему настроение. Растрогалась мать, только когда пришла пора прощаться с Деде. Уже на лестничной площадке она спросила девочку на своем вымученном итальянском: «Тебе жалко, что бабушка уезжает, да?» Деде, воспринявшая ее отъезд как предательство, мрачно ответила: «Нет».
Я злилась на себя больше, чем на мать. Меня охватила мания саморазрушения, и спустя несколько часов я уволила Клелию. Пьетро удивился, забеспокоился. Я злобно заявила ему, что устала бороться с произношением Деде, в котором слышу то мареммские, то неаполитанские интонации, что я снова хочу быть хозяйкой в своем доме и матерью своим детям. На самом деле я чувствовала свою вину и хотела себя наказать. Я с наслаждением упивалась мыслью о том, как изведу себя домашними делами, двумя детьми и болью в ноге.
Я не сомневалась в том, что с Эльзой мне предстоит такой же жуткий год, какой мы пережили с Деде. Но то ли потому, что я научилась обращаться с младенцами, то ли потому, что смирилась с ролью никчемной матери и забросила свой былой перфекционизм, девочка прекрасно брала грудь, хорошо ела и подолгу спала. Соответственно и я высыпалась, да и Пьетро, к моему удивлению, в первые же дни, когда мы остались одни, стал помогать мне по дому, ходить по магазинам, готовить еду, купать Эльзу и уделять больше внимания Деде, пораженной рождением сестры и отъездом бабушки. Боли в ноге и во всем теле прошли. Однажды поздним вечером, когда я спокойно дремала, меня разбудил муж: «Там твоя подруга из Неаполя звонит». Я побежала к телефону.
Лила успела достаточно поговорить с Пьетро и сказала, что ждет не дождется, когда познакомится с ним лично. Я слушала ее вполуха: Пьетро всегда был приветлив с людьми, не принадлежавшими к миру его родителей. Она явно тянула время, голос ее звучал весело, но как-то нервно. Я чуть не заорала: «Ты уже надо мной поиздевалась, так что хватит, давай уже, говори! Ты держала книгу тринадцать дней!» — но сдержалась и, перебив ее, просто спросила:
— Прочитала?
— Да. — Голос сразу стал серьезным.
— И?
— Хорошо.
— В каком смысле «хорошо»? Каким он тебе показался? Интересным, занятным, скучным?
— Интересным.
— Насколько? Очень или нет?
— Очень.
— Чем именно?
— Сюжетом. Его интересно читать.
— И?..
— Что — и?
— Лила, — сорвалась я, — мне очень нужно знать, удался ли роман. Кроме тебя мне этого никто не скажет.
— Так я и говорю.
— Ничего ты не говоришь, только путаешь меня: ты еще никогда ни о чем так поверхностно не отзывалась.
Наступило долгое молчание. Я представила себе, как она сидит, положив ногу на ногу, за обшарпанным столом, на котором стоит телефон. Наверно, они с Энцо только что вернулись с работы, а Дженнаро играет рядом.
— Я же говорила тебе, что разучилась читать.
— Да при чем тут это? Ты мне нужна, а тебе на меня плевать!
Снова молчание. Потом она буркнула что-то, чего я не расслышала, наверное, выругалась, и заговорила жестко, с досадой: «Я делаю свою работу, ты — свою. Чего ты от меня добиваешься? Это ты училась, ты знаешь, какими должны быть книги. — Тут ее голос сорвался, и она почти прокричала: — Ты не должна писать об этом, Лену, это не твое! Ничто из того, что я прочитала, на тебя не похоже. Книжка плохая, плохая, плохая, как и предыдущая».
Вот так. Говорила она быстро, но голос звучал сдавленно, будто воздух вокруг ее затвердел и слова перекрыли ей горло. У меня скрутило желудок, заболело вверху живота; боль нарастала, но не от того, что она сказала, а от того, как она это сказала. Неужели она плачет? «Лила! — воскликнула я в ужасе. — Что с тобой? Успокойся! Дыши, дыши!» Но она не успокаивалась, рыдала прямо в трубку, и в этих ее рыданиях было столько муки, что я забыла и боль от ее «Книжка плохая, Лену, плохая, плохая», и обиду на то, что и первая моя повесть — так хорошо продававшаяся, принесшая мне славу, о которой она, впрочем, ни разу и словом не обмолвилась, — была, по ее мнению, провалом. Больно мне было только от ее слез. Я оказалась к ним не готова, я не ждала их. Лучше бы мне досталась Лила-злодейка с ее обычным издевательским тоном. Но нет, она продолжала рыдать и не могла взять себя в руки.
Я растерялась. «Ладно, — думала я, — допустим, я написала две плохие книги, ну и что с того? Уж слишком она убивается». «Лила, — сказала я, — что ты плачешь? Это я должна плакать, а ну перестань!» — «Я плачу, — закричала она, — потому что ты заставила меня прочитать эту книжку, потому что вынудила сказать, что я думаю, а мне надо было помалкивать. — Да нет же, — не соглашалась я, — я рада, что ты мне это сказала, честное слово». Я надеялась, что она успокоится, но она не затихала и продолжала сыпать беспорядочными фразами: «Никогда больше не проси меня ничего читать, я не могу, я жду от тебя большего, я слишком уверена, что ты можешь намного лучше, я хочу, чтобы ты писала лучше, больше всего в жизни я этого хочу, потому что если у тебя ничего не выходит, тогда я-то кто? Кто я?» — «Не волнуйся ты так, — бормотала я, — говори мне всегда, что думаешь, только так ты мне и поможешь. Ты же мне всегда помогала, с самого детства, без тебя у меня ничего не вышло бы». Наконец рыдания стихли, и, хлюпая носом, она сказала: «И что это я разревелась? Вот дура! Я не хотела тебя расстраивать, я ведь заготовила хвалебную речь. Представляешь, даже записала, чтобы не ударить в грязь лицом». Я попросила прислать мне ее: «Наверняка ты лучше меня знаешь, что я должна писать». На этом мы прекратили разговор о книге, я сказала, что родилась Эльза, мы обсудили Флоренцию, Неаполь, холеру. «Какая еще холера? — усмехнулась она. — Нет никакой холеры, один только наш вечный бардак и страх помереть в дерьме. Страха больше, чем реальной опасности, на деле ничего страшного. Едим лимоны — никакая зараза не пристанет».
Теперь она говорила гладко, без остановок, почти весело — как будто камень с души упал. Постепенно до меня начало доходить, в каком я тупике: двое маленьких детей, муж, которого никогда нет рядом, с писательством беда. И все-таки я не отчаивалась, наоборот, чувствовала какую-то легкость. Я сама вернулась к разговору о своем провале. В голове крутилось: «Я потеряла нить, я больше не чувствую твоего благословенного влияния, теперь я совсем одна», но ничего этого я ей не сказала. Зато, смеясь сама над собой, объяснила, что этой книгой пыталась свести счеты с кварталом, описать те великие перемены, что творятся вокруг, призналась, что вдохновилась историей о доне Акилле и матери Солара. Она расхохоталась и заявила, что, видимо, для романа одних мерзких рож недостаточно: если не подключать воображение, они кажутся не реальными рожами, а масками.
76
Сама не знаю, что со мной случилось после того нашего разговора. Чем больше я его анализирую, тем труднее мне описать эффект, который произвели на меня рыдания Лилы. Если задуматься, это было похоже на совершенно неуместную радость, как будто ее слезы, ее вера в мои способности и ее неравнодушие напрочь перечеркивали тот факт, что обе мои книги ей не понравились. Только спустя много лет мне пришло в голову, что рыдания позволили ей окончательно разгромить мою работу, избежать обид с моей стороны и поставить передо мной такую высокую планку — не разочаровать ее, — что все мои попытки написать хоть что-то оказались парализованы. Но, повторяю: сколько бы я ни думала над этим разговором, я не могу сказать, что именно ею двигало, первое или второе; был это один из высочайших моментов нашей дружбы или один из самых низких. Мне ясно одно: Лила утвердилась в роли зеркального отражения моей бездарности. После того разговора мне было легче принять свой провал — так, будто мнение Лилы значило для меня больше авторитетного мнения свекрови.
Несколько дней спустя я позвонила Аделе. «Спасибо за откровенность, — сказала я. — Теперь я понимаю, что ты права. И в первой моей книге недостатков хватает; может, у меня вовсе нет писательского таланта, а может, мне просто нужно больше времени». Свекровь тут же засыпала меня комплиментами, похвалила мою способность к самокритике и напомнила, что у меня есть своя читательская аудитория, и эта аудитория в нетерпении ждет книгу. «Да, конечно», — пробормотала я и, положив трубку, поспешила запереть на ключ в ящике стола последний экземпляр романа, туда же убрала тетради с заметками и с головой ушла в повседневные хлопоты. Отвращение к этой бессмысленной деятельности распространилось и на мою первую книгу, если не на всю художественную литературу. Теперь, если в голове всплывал яркий образ или удачная фраза, я чувствовала дурноту и старалась поскорее занять себя чем-нибудь полезным.
Я посвятила себя дому, дочерям, Пьетро. Я и не думала снова вызывать Клелию или нанимать другую няньку. Я взвалила на себя все домашние хлопоты, просто чтобы забыться. Мне не пришлось пересиливать себя, я ни о чем не жалела, все произошло как будто само собой: я поняла вдруг, что именно этим и следует заниматься в жизни. Что-то внутри меня так и нашептывало: «Хватит с нас твоих тараканов в голове». И я уверенно расправлялась с домашними делами, с неожиданной радостью занималась Эльзой и Деде, как будто вместе с тяжестью живота, вместе с тяжестью рукописи меня отпустила и какая-то другая тяжесть, спрятанная так глубоко, что я сама себе не могла ее назвать. Эльза оказалась очень спокойным ребенком: подолгу и с радостью купалась, сосала, спала и смеялась даже во сне; мне приходилось быть очень внимательной с Деде, которая ненавидела сестру. Просыпаясь по утрам, она рассказывала, как во сне спасла ее то от пожара, то из воды, то от волка, изображала из себя новорожденную, просила дать ей грудь, чуть что заливалась младенческим плачем, — в общем, отказывалась быть собой, девочкой почти четырех лет с отлично развитой речью, отлично обходившейся без меня и легко справлявшейся со своими детскими обязанностями. Я старалась показывать свою любовь к ней, хвалила ее за то, какая она умная, какая старательная, убеждала, что мне постоянно требуется ее помощь, что я не могу без нее ни сходить в магазин, ни приготовить ужин, ни уследить, чтобы Эльза чего-нибудь не натворила.
В то же время я страшно боялась снова забеременеть и начала принимать таблетки. Я сразу растолстела — казалось, будто меня распирает изнутри, но принимать их я не перестала: ничто не пугало меня так, как очередная беременность. К тому же я больше не заботилась о своей внешности, как раньше. Мне казалось, что двое детей и постоянные, каждодневные заботы — умыть их, одеть, раздеть, вытащить коляску, сходить в магазин, приготовить обед, одну нести на руках, другую вести за руку, вытереть одной сопли, другой слюни и так далее — вполне естественно накладывают отпечаток на мой облик, свидетельствуют о том, что я состоялась как женщина. Я больше не боялась стать такой же, как мамаши из квартала, это было в порядке вещей. «Ну и что, пусть так», — твердила я себе.
Пьетро долго возражал против таблеток, но наконец сдался и теперь наблюдал за мной с тревогой: «А ты округлилась. И что это за пятна на коже?» Он очень боялся, что девочки, я или он сам заболеем, и при этом терпеть не мог медиков. Я пыталась его успокоить. Он за последнее время очень похудел, под глазами не проходили синяки, уже появилась седина; у него болело то колено, то правый бок, то плечо, но к врачу он не шел, пока я не заставила. Мы вместе с девочками пошли с ним. Врач посоветовал попить успокоительное — в остальном Пьетро был совершенно здоров. Он так обрадовался этому известию, что все симптомы сразу исчезли. Но вскоре, несмотря на прием успокоительных, ему опять стало хуже. Как-то раз, например, когда Деде не давала ему спокойно посмотреть выпуск теленовостей — это было как раз после государственного переворота в Чили, — он отшлепал ее с невиданной прежде яростью. Кроме того, с тех пор как я начала пить таблетки, ему все чаще хотелось заниматься любовью, особенно по утрам или днем: он уверял, что из-за вечерних оргазмов ему не спится и ночью он вынужден работать, что и стало причиной хронической усталости и дурного самочувствия.
Конечно, все это были отговорки: работать по ночам давно вошло у него в привычку, стало потребностью. Но я согласно кивала: «Ладно, больше ничего такого по вечерам» — мне было все равно. Конечно, порой он меня раздражал — не допросишься хоть чуть-чуть помочь по хозяйству, сходить в магазин или помыть посуду после ужина, даже если у него было время. Однажды вечером, потеряв терпение, я на него прикрикнула — не наорала, а просто слегка повысила голос. И тогда же сделала важное открытие: стоит рявкнуть на него построже, и все его упрямство тут же проходит и он становится послушным как ребенок. Мало того, забывает и про свои боли, и про неутолимую жажду секса. Но мне это совсем не нравилось. Как будто своей решительностью я провоцирую у него в мозгу какой-то болезненный спазм. Мне становилось его жалко. Впрочем, эффект от его добрых намерений продолжался недолго. Он уступал, не без торжественности обещал сделать то или другое, но вскоре действительно уставал, и посуда оставалась немытой, а он опять погружался в себя. В конце концов я махала рукой и вместо этого пыталась его рассмешить или приласкать. Что мне стоило вымыть пару тарелок? Зато не надо будет смотреть на его недовольное лицо, на котором чуть ли не прямо написано: «Опять я теряю время, а ведь у меня столько работы!» Я предпочитала его не трогать и радовалась, когда удавалось избежать ссоры.
Чтобы зря его не злить, я научилась держать свои мнения при себе — правда, они его не очень-то интересовали. Когда Пьетро рассуждал о правительственных мерах по преодолению нефтяного кризиса или хвалил коммунистов за сближение с христианскими демократами, мне следовало слушать его и молча соглашаться. Стоило мне вступить в ним в спор, он на глазах скучнел и говорил мне тем же тоном, каким наверняка привык разговаривать со студентами: «Ты рассуждаешь безответственно. Ты не понимаешь ценности демократии, государства, права, взаимного уважения интересов, международного баланса сил: тебе подавай апокалипсис». Я была его женой, образованной женой, и он ждал от меня внимания к каждому своему слову, о чем бы ни рассуждал: о политике, своей работе, своей новой книге, отнимавшей у него массу сил, но мое внимание должно было быть исключительно восторженным; мое мнение его не занимало, не говоря уже о возможности вступить со мной в серьезную полемику. Он словно бы рассуждал вслух, адресуясь в основном к самому себе. Его мать, а тем более сестра отнюдь не принадлежали к женщинам подобного рода, и ему явно не хотелось, чтобы я следовала их примеру. Именно в этот период нашей жизни я по некоторым его обрывочным замечаниям поняла, что не только успех моей первой книги, но и сам факт, что ее напечатали, произвел на него неприятное впечатление. О судьбе второй он меня ни разу даже не спросил: его не интересовало, что стало с рукописью и какие у меня планы на будущее. Он видел, что я больше ничего не пишу, и, по-моему, испытывал облегчение.
Несмотря на то что я каждый день открывала в Пьетро новые и не самые лучшие черты, на других мужчин я больше не заглядывалась. Пару раз я случайно встретила инженера Марио и тут же поняла, что у меня нет ни малейшего желания с ним флиртовать; наваждение прошло, и все, что между нами было, теперь казалось мне глупостью — хорошо, что это осталось позади. Угасло и мое стремление участвовать в общественной жизни города. Если изредка я и ходила на какие-нибудь дебаты или манифестацию, то брала с собой девочек и битком набитую сумку, в которой лежало все для них необходимое; наличие этой сумки наполняло меня гордостью, как и сыпавшиеся со всех сторон предостережения: «Зачем же вы таких маленьких привели, здесь может быть опасно».
Зато я каждый день, в любую погоду, ходила гулять, чтобы дети побыли на солнце и свежем воздухе. С собой у меня всегда была книга. Следуя укоренившейся привычке, я продолжала читать в любых обстоятельствах, пусть и рассталась с прежними амбициями перестроить мир по своему желанию. Мы совершали небольшую прогулку пешком, а потом я садилась на скамейку неподалеку от дома и погружалась в изучение очередного сложного эссе или читала газету, время от времени покрикивая: «Деде, ты куда побежала, а ну вернись к маме». Вот какой я стала, и с этим приходилось мириться. Лила, как бы ни складывалась ее жизнь, осталась в прошлом.
77
Примерно в это время во Флоренцию приехала Мариароза — представлять книгу коллеги по университету, посвященную Мадонне-дель-Парто. Пьетро обещал пойти с нами, но в последний момент извинился и где-то спрятался. Золовка приехала на машине, на сей раз одна, немного уставшая, но, как обычно, приветливая и нагруженная подарками для Деде и Эльзы. Она ни слова не сказала по поводу моего неудавшегося романа, хотя Аделе наверняка ей о нем говорила. Вместо этого она без умолку и, как всегда, восторженно делилась со мной впечатлениями о своих путешествиях и книгах, которые читала. Она с неустанной энергией следила за каждой новинкой, воодушевлялась, остывала, сегодня утверждала одно, завтра — противоположное, а то и возвращалась к чему-то, что по рассеянности или недальновидности вдруг упустила. Презентация книги прошла блестяще — Мариароза буквально пленила аудиторию, в основном состоявшую из искусствоведов. Мероприятие и дальше текло бы в русле академических обсуждений, не начни она сыпать сомнительными сентенциями типа: разговоры о том, что женщина «дарит» ребенка его отцу, не говоря уж об Отце Небесном, — это глупость; смысл существования ребенка — сам ребенок; довольно смотреть на мир с точки зрения мужчин, пора взглянуть на него женскими глазами; за каждой научной дисциплиной торчит мужской член (она выразилась гораздо грубее), а когда он чувствует бессилие, его аргументами становятся железный прут, полиция, тюрьма, армия и концлагерь; если женщина отказывается сгибаться и продолжает наводить шорох, ее ждет расправа. С одной стороны послышался недовольный гул, с другой — одобрительные выкрики. Вскоре Мариарозу плотным кольцом окружили женщины. Она подзывала меня к себе, радостно помахивая рукой, с гордостью показывала своим флорентийским подругам Деде и Эльзу, говорила обо мне добрые слова. Какая-то девушка упомянула о моей книге, но я увильнула от разговора, будто это не я ее написала. Из этой чудесной встречи родилась идея раз в неделю собираться у одной из них всей нашей пестрой компанией, чтобы «поговорить о нас».
Провокативные высказывания Мариарозы и приглашение ее подруг заставили меня откопать те две брошюры, что некоторое время назад дала мне Аделе. Я положила их в сумку, чтобы прочитать на свежем воздухе, под серым небом последних зимних дней. Начала я с той, чье название меня сразу заинтриговало: «Плевать на Гегеля». Я читала, Эльза спала в коляске, а Деде, одетая в пальто, сапоги и шерстяную шапку, вела неспешную беседу со своей куклой. Меня поражала каждая фраза, каждое слово; какая смелость, какая свобода мысли! Я подчеркивала отдельные строчки, ставила на полях восклицательные знаки, обводила целые абзацы. Плевать на Гегеля. Плевать на всю мужскую культуру, на Маркса, Энгельса, Ленина. На исторический материализм. На Фрейда. На его психоанализ и «зависть к пенису». На брак, на семью. На нацизм, сталинизм, терроризм. И на войну. И на классовую борьбу. И на диктатуру пролетариата. И на социализм. И на коммунизм. И на ловушку равенства. На все продукты патриархальной культуры. На все организационные формы. Бороться с распылением женского интеллекта. Вырваться за рамки так называемой культуры. Поломать систему, начав с материнства: никому не дарить детей. Освободиться от диалектики раба и господина. Вырвать из мозга саму идею своей неполноценности. Вернуть себе себя. Никому себя не противопоставлять. Во имя своего отличия перевести проблему в другую плоскость. Университетское образование не освобождает женщину, а лишь совершенствует ее угнетение. Долой мудрость. Пока мужчины открывают космос, для женщин жизнь только должна начаться. Женщина — это обратная сторона Земли. Женщина — это непредсказуемый субъект. От смирения нужно избавиться, здесь и сейчас, в настоящем времени. Автором этих страниц была Карла Лонци.[13] «Как может женщина, — думала я, — научиться так мыслить? Сколько я корпела над книгами, но при этом просто следовала за ними, не использовала их по-настоящему, не оборачивала против них же самих. Вот как надо использовать голову! Вот как надо протестовать. Я столько работала над собой, а думать не умею. И Мариароза не умеет. Начиталась всего подряд и цитирует чужие мысли, зато с блеском, а публике нравится. Вот и все ее таланты. А вот Лила умеет. В ней это заложено природой. Если бы у нее была возможность учиться, именно так она бы и писала».
Меня захватила эта идея. Что бы я ни читала в тот период, мыслями непременно возвращалась к Лиле. Я столкнулась с женским взглядом на мир, который при всех различиях вызывал во мне то же восхищение и то же чувство собственной недоразвитости, что и моя подруга. Я читала, а сама думала о ней: о событиях в ее жизни, о том, какие из этих идей она бы приняла, а какие отвергла. Под впечатлением от прочитанного я стала часто встречаться с подругами Мариарозы, хотя это было нелегко. Деде то и дело спрашивала, когда мы пойдем домой, Эльза ни с того ни с сего принималась радостно ворковать. Но проблема была не только в дочках. На этих собраниях я видела женщин, похожих на меня, которые ничем не могли мне помочь. Слушать в корявом пересказе то, что я и без них уже знала, было скучно. Мне казалось, я достаточно хорошо понимаю, что значит родиться женщиной, и процесс осознания этого меня совершенно не интересовал. Я не собиралась публично рассказывать о своих отношениях с Пьетро и с мужчинами вообще, чтобы подтвердить, что все мужчины, несмотря на социальное положение и возраст, одинаковы. Никто из них не знал лучше меня, что значит перестраивать свое мышление под мужское, потому что иначе ты будешь отвергнута всей мужской культурой: я совершила эту перестройку и до сих пор продолжала этим заниматься. К тому же меня абсолютно не трогали внутренние разногласия, вспышки взаимной ревности, властные интонации одних и робкий лепет других и борьба за интеллектуальное доминирование, порой оканчивавшаяся слезами. Но все же было там нечто новое, что снова напомнило мне о Лиле. Меня потрясало, с какой чуть ли не отталкивающей откровенностью говорили и спорили эти женщины. Я терпеть не могла сочувственного тона, неизменно служившего поводом посплетничать, — насмотрелась на это в детстве. Что меня привлекало, так это стремление к подлинности, с каким я никогда раньше не сталкивалась и которое, пожалуй, было чуждо моей природе. Общаясь с этими женщинами, я не произнесла ни одного слова, которое шло бы вразрез с этой установкой. Но я чувствовала, что должна проделать нечто подобное и с Лилой: нам следовало подвергнуть наши отношения такому же откровенному анализу, дойти до самой сути, отбросив все умолчания, — и начать, наверное, следовало с ее необъяснимого плача по моей неудавшейся книге.
Это желание так захватило меня, что я собиралась или ненадолго съездить в Неаполь с дочками, или пригласить ее с Дженнаро к нам, или предложить ей переписываться. Однажды я сказала ей об этом по телефону, но она меня не поддержала. Я рассказала ей о написанных женщинами книгах, которые читала, и о нашей группе. Она какое-то время слушала меня, а потом принялась хохотать: ну и название, «Женщина клиторальная и женщина вагинальная»![14] Она не стеснялась в выражениях: «Ты что, Лену, совсем опупела? Удовлетворение, женский оргазм… Тебе что, заняться больше нечем? Мне бы, блин, твои заботы!» Она явно демонстрировала, что ее умишка недостаточно, чтобы обсуждать со мной то, что меня интересовало. В конце разговора она презрительно бросила мне: «Работай лучше, делай то, что умеешь хорошо делать, и не трать время на ерунду!» Теперь в ее голосе звучала злость. Я решила, что выбрала неудачный момент: ничего, позже еще раз попробую. Но так и не попробовала: то некогда было, то смелости не хватало. В конце концов я пришла к выводу, что сначала должна получше разобраться в себе, изучить свою женскую природу. Я всю жизнь старалась приобрести мужские способности и далеко в этом продвинулась. Мне казалось, что я должна знать все, со всем справляться. Но, если честно, что значила для меня политика, классовая борьба и так далее? Я просто хотела не ударить в грязь лицом перед мужчинами, всегда быть на высоте. На высоте чего? На высоте их ума, часто оборачивающегося совершенной глупостью. Сколько сил я потратила, заучивая их модные выражения — зачем? Я была продуктом своего образования: оно сформировало мой мозг, дало мне голос. На какие только тайные сделки с собой я не шла, лишь бы стать лучше всех. Но теперь, после немыслимых трудов, мне надо было выбросить из головы все, что я зазубрила. Мало того, близкое общение с Лилой заставляло меня изображать из себя то, чем я не являлась. Я была спаяна с ней: стоило мне от нее отдалиться, как я начинала ощущать себя калекой. Ни одной идеи, не внушенной Лилой. Ни единой мысли, которой я доверяла бы, не нуждаясь в ее поддержке. Ни единого образа. Мне было необходимо принять себя без оглядки на нее. Вот в чем была вся суть. Признать свою обыкновенность. Чем заняться? Снова попробовать писать? Но что, если писательство меня вовсе не увлекало? Что, если я просто выполняла чужое задание? Значит, не писать? Найти какую-нибудь работу? Или жить барыней, как выражалась мать? Запереть себя в доме. Или вообще бросить все это? Дом. Дочерей. Мужа.
78
Я сблизилась с Мариарозой. Мы часто перезванивались. Пьетро, заметив это, высказывал в адрес сестры все более презрительные замечания. Легкомысленная пустышка, представляющая опасность как для себя, так и для окружающих, в детстве и даже в юности она беспрестанно мучила его и доставляла сплошные неприятности родителям. Как-то вечером, когда я говорила с золовкой по телефону, он вышел из своей комнаты всклокоченный, с усталым лицом, прошел на кухню, что-то съел, пошутил с Деде, прислушиваясь к нашему разговору, и вдруг заорал: «Эта идиотка что, не догадывается, что сейчас время ужина?» Я извинилась перед Мариарозой и повесила трубку. «Все готово, — сказала я ему, — можно садиться за стол. И нечего так кричать». Он проворчал, что не понимает, как можно тратить кучу денег на междугородние переговоры ради того, чтобы слушать чушь, которую несет его сумасшедшая сестра. Я молча накрывала на стол. Он догадался, что я рассердилась, и с тревогой проговорил: «Ты тут ни при чем, это все Мариароза». С того вечера он начал просматривать книги, которые я читала, высмеивая подчеркнутые мной строки. «Не давай им забивать тебе голову этими глупостями», — говорил он и искал в феминистских манифестах и брошюрах нелогичные рассуждения.
Из-за этого мы однажды вечером крупно поссорились. Допускаю, что я перегнула палку, зато высказала ему все, что думала. «Ты очень любишь строить из себя великого человека, но всем, чего ты достиг, ты, как и Мариароза, обязан отцу и матери». Дальше случилось неожиданное: прямо на глазах у Деде он влепил мне пощечину.
Я умела держать удар лучше, чем он: мне в жизни досталось немало тумаков, тогда как он впервые кого-то ударил. Я увидела на его лице отвращение к тому, что он только что сделал. Бросив взгляд на дочь, Пьетро ушел из дома. Моя злость скоро перекипела. Спать я не пошла, ждала его. Он не возвращался, я волновалась. Что это, нервы? Недостаток отдыха? Или истинная его природа, погребенная под тысячами книг и хорошим образованием? Я еще раз убедилась, что плохо его знаю и не могу предугадать его действий. Может, он уже бросился в Арно или валяется где-нибудь пьяный, а может, уехал в Геную хныкать и искать защиты у мамочки. Ладно, хватит! Ты меня уже напугал! Тогда я поняла, что готова выбросить за порог все свои книги и все свои рассуждения. У меня росли две дочери, и я не собиралась принимать поспешных решений.
Пьетро вернулся около пяти утра, и, увидев его живым и здоровым, я почувствовала такое облегчение, что обняла его и поцеловала. «Ты меня не любишь и никогда не любила, — пробормотал он и добавил: — Но я все равно тебя не заслуживаю».
79
На самом деле Пьетро был невыносим беспорядок, охвативший все сферы жизни. Ему хотелось спокойного существования с нерушимыми традициями: учиться, преподавать, играть с дочками, заниматься любовью и понемногу, с помощью демократии, распутывать клубок противоречий, накопившихся в Италии. Измученный конфликтами в университете — коллеги всячески принижали значимость его трудов, которые приобретали все большую известность за границей, — он чувствовал себя презираемым и гонимым и верил, что из-за моего неугомонного характера (что ей на месте не сидится?) страдает и наша семья. Однажды после обеда Эльза играла, я занималась с Деде чтением, а он закрылся у себя в кабинете — в доме царила тишина. Пьетро закрывается в своей крепости, думала я раздраженно, и работает там спокойно над книгой, уверенный, что в доме благодаря мне полный порядок и дочерям обеспечен надлежащий уход. Вдруг прозвенел звонок, и я пошла открывать: к моему изумлению, это были Паскуале и Надя.
За плечами у них виднелись огромные солдатские рюкзаки, на голове у Паскуале красовалась старая шляпа, из-под которой торчала густая копна кудрявых волос, переходивших в такую же густую и кудрявую бороду. Надя похудела и выглядела уставшей: смотрела своими огромными глазами, как перепуганный ребенок, который пытается делать вид, что ему не страшно. За адресом они обратились к Кармен, которая, в свою очередь, узнала его у моей матери. Держались они дружелюбно, я отвечала тем же, как будто между нами никогда не было ссор и разногласий. Вели себя как дома, разбросали свои вещи по всей квартире. Паскуале очень много и громко говорил, почти всегда на диалекте. Поначалу появление этих двоих показалось мне скорее приятным разнообразием на фоне повседневной рутины. Но вскоре я поняла, что Пьетро они не нравятся. Его раздражало, что они предварительно не позвонили, не предупредили о приезде и вообще не стеснялись. Надя сняла ботинки и растянулась на диване. Паскуале так и разгуливал по дому в шляпе, трогал наши вещи, листал книги, без спроса достал из холодильника пиво себе и Наде; свое выпил залпом и рыгнул, чем страшно рассмешил Деде. Они сказали, что решили попутешествовать: именно попутешествовать, без уточнений. Давно они уехали из Неаполя? Вместо ответа — неопределенный взмах руками. Когда думают назад? Еще один взмах. «А как же работа?» — спросила я Паскуале. «Хватит с меня, — засмеялся он. — Я и так переработал, теперь вот отдыхаю». С этими словами он показал свои руки, попросил Пьетро показать свои и потер своей ладонью его ладонь: «Чувствуешь разницу?» Он вытащил номер «Лотта континуа», положил правую руку на первую страницу и погладил ее, гордый, что бумага заскрипела под его шершавой ладонью. Он был доволен, будто изобрел новую игру. Затем едва ли не с угрозой сказал Пьетро: «Без этих шершавых рук, профессор, не было бы этого кресла, здания, автомобиля, ничего бы не было, даже тебя самого — стоит нам, рабочим, перестать трудиться, как все встанет, небо упадет на землю, земля улетит на небо, деревья снова захватят город, Арно зальет ваши прекрасные дома, и только тот, кто всегда трудился в поте лица, сумеет выжить, а вас обоих, со всеми вашими книгами, растерзают собаки».
Паскуале был в своем репертуаре: говорил пылко и выложил все, что думал. Пьетро выслушал и ничего не ответил, впрочем, как и Надя: все время, пока ее друг говорил, она с серьезным лицом смотрела в потолок, растянувшись на диване. В беседе Паскуале с Пьетро она почти не принимала участия. Но когда я пошла на кухню сварить кофе, она отправилась следом, указала на Эльзу, которая ходила за мной по пятам, и сказала серьезно:
— Она очень тебя любит.
— Она еще маленькая.
— То есть ты думаешь, что, когда она вырастет, не будет тебя любить?
— Нет, надеюсь, что и взрослая будет.
— Мама то и дело тебя вспоминает. Любимая ученица! Мне всегда казалось, что ты ей больше дочь, чем я.
— Правда?
— Я тебя ненавидела за это. И за то, что ты увела у меня Нино.
— Он оставил тебя не ради меня.
— Да какая разница! Я уж и в лицо-то его не помню.
— В юности я так хотела быть как ты.
— Зачем? Думаешь, хорошо родиться богатой, расти на всем готовом?
— Ну, работать точно можно меньше.
— Ошибаешься. На самом деле все время кажется, что все и так уже сделано, и тебе незачем напрягаться. Остается только чувство вины за то, что ты этого не заслуживаешь.
— Лучше это, чем чувство вины за то, что ничего не добилась.
— Это тебе Лина сказала?
— Нет.
Надя резко тряхнула головой, на лице появилась хитрая гримаска — никогда бы не подумала, что она на такую способна.
— Из вас двоих я предпочитаю Лину. Обе вы дерьмо, отходы люмпен-пролетариата, обе ничего не можете изменить. Но ты при этом еще и пытаешься казаться милой, а она нет.
Она ушла, а я осталась молча стоять на кухне. Я слушала, как она крикнула Паскуале: «Я в душ, тебе бы тоже неплохо ополоснуться». Они закрылись в ванной. Мы слушали, как они смеялись, от Надиных криков Деде очень разволновалась. Вышли они с мокрыми волосами, полуголые и радостные. Они продолжали шутить между собой, будто нас в квартире вообще не было. Пьетро попытался вмешаться в их разговор, спросил, как давно они вместе. «А мы не вместе, — ответила Надя, — это вы вместе, вам так надо на всякий случай». — «В каком смысле?» — настойчиво уточнил мой муж — обычно он делал так в разговоре с людьми, которых считал пустышками. — «Тебе не понять». — «Когда кто-то чего-то не понимает, — не унимался Пьетро, — ему это надо объяснить». Тут вмешался Паскуале: «Нечего тут объяснять, профессор, — усмехнулся он, — ты ведь мертв, хоть сам того и не знаешь, — подумай лучше об этом. Все тут мертвое — то, как вы живете, как говорите, и ваша уверенность в том, что вы такие умные, демократичные, левые. Как можно что-то объяснить мертвецу?»
Повисло напряжение. Я ничего не говорила: никак не могла отойти от того, что Надя облила меня грязью в моем собственном доме, будто так и надо. Наконец они уехали, без предупреждения, как и появились. Просто взяли вещи и испарились. Только Паскуале, уже стоя на пороге, неожиданно грустно произнес:
— Чао, синьора Айрота.
Синьора Айрота. Неужели и бывший друг из квартала осуждал меня? Хотел сказать этим, что для него я больше не Лену, не Элена, не Элена Греко? А если для него, то и для других тоже? И для меня самой? Разве сама я не называлась всюду фамилией мужа, с тех пор как моя потеряла ту короткую славу, что выпала ей на долю? Я принялась приводить квартиру в порядок, особенно ванную, в которой они оставили жуткий бардак. «Чтобы ноги этой парочки в моем доме больше не было, — сказал Пьетро. — Тот, кто так рассуждает об умственном груде, — фашист, даже если сам того не осознает. А таких, как она, я прекрасно знаю — в голове пустота».
80
Будто в подтверждение правоты Пьетро беспорядки вскоре обрели конкретику, затронув моих близких знакомых. От Мариарозы я узнала, что в Милане на Франко напали фашисты и избили так, что он лишился глаза. Я сразу же выехала туда вместе с Деде и маленькой Эльзой. Мы ехали на поезде, я играла с девочками, кормила их, но в то же время с ностальгией вспоминала себя прежнюю (много же успело накопиться разных прежних меня!) — бедную необразованную подружку богатого и увлеченного политикой студента Франко Мари, — которая куда-то сгинула, а тут вдруг вынырнула из небытия.
На вокзале нас встретила золовка, бледная, встревоженная. Мы поехали к ней: на сей раз квартира была пуста, беспорядок — еще больше, чем в тот раз, когда я ночевала у нее после собрания в университете. Пока Деде играла, а Эльза спала, Мариароза рассказала мне больше, чем успела по телефону. Произошло это пять дней назад. Франко выступал на манифестации «Рабочего авангарда»[15] в переполненном зале небольшого театра. После выступления они с Сильвией пошли пешком к ней — она теперь жила с редактором газеты «День» в красивом доме неподалеку от театра. На следующий день Франко должен был ехать оттуда в Пьяченцу. Они были практически в дверях — Сильвия уже вытащила ключи из сумочки, — когда подкатил белый фургон и из него выскочили фашисты. Его отделали до полусмерти, Сильвию побили и изнасиловали.
Мы выпили много вина, потом Мариароза достала наркотик — она употребляла именно это слово, иногда в единственном, как сейчас, иногда во множественном числе. Я тоже решила попробовать, исключительно потому, что даже после выпитого вина не находила ничего хорошего, за что можно было бы уцепиться. Моя золовка говорила все более сурово, а потом замолчала и разрыдалась. Я не знала, как ее утешить. Мне казалось, я слышу ее слезы, слышу звук, с которым они стекают из глаз по щекам. Вдруг она исчезла, исчезла комната, все стало черным. Я потеряла сознание.
Когда я пришла в себя, мне стало очень стыдно, и, чтобы самооправдаться, я внушила себе, что просто устала. Ночью я спала плохо: тело отяжелело, слова из книг и журналов беспорядочно крутились в голове так, будто буквы алфавита перестали вдруг складываться в нечто осмысленное. Я положила рядом с собой девочек, надеясь на их защиту.
На следующий день я оставила Деде и Эльзу с Мариарозой, а сама отправилась в больницу. Франко лежал в душной палате с зеленоватыми стенами, провонявшей мочой и лекарствами. Он показался мне как будто меньше ростом; опухшее лицо и шея лиловели на фоне белых бинтов. Встретил он меня без радости, как будто стыдился своего вида. Говорила в основном я, рассказывала ему про своих дочек. Через несколько минут он буркнул: «Уходи, не хочу тебя здесь видеть». Я стала спорить, но он прошипел: «То, что ты видишь, — это уже не я. Уходи». Ему было очень плохо. От соседей по палате я узнала, что его снова собираются оперировать. Из больницы я вернулась убитая, Мариароза заметила это, помогла мне с девочками и, как только Деде уснула, отправила меня отдыхать. На следующий день она хотела отвезти меня к Сильвии. Я отказывалась: еще не отошла от встречи с Франко и сознания того, что не только не могу помочь ему, но и усиливаю его страдания. Я сказала, что хочу запомнить Сильвию такой, какой встретила ее на собрании в университете. «Ну уж нет, — ответила Мариароза, — мы должны увидеть ее сейчас. Мы ей нужны». И мы поехали к Сильвии.
Дверь открыла ухоженная дама с очень светлыми волнистыми волосами до плеч. Это была мать Сильвии, с ней — такой же светловолосый Мирко; мальчику тогда было лет пять или шесть. Деде в своей манере, сердито и властно, потащила его играть с Тес, старой куклой, которую она всюду с собой таскала. Сильвия спала, но велела матери разбудить ее, когда мы придем. Ждали мы ее довольно долго. Она вышла к нам сильно накрашенная, в длинном зеленом платье. Но меня поразили не ее синяки, не ссадины и не болезненная походка — Лила после своего свадебного путешествия выглядела еще хуже, — меня потрясли ее пустые глаза. Потухший взгляд никак не соответствовал исступленному голосу с постоянными смешками, каким она начала увлеченно рассказывать мне — именно мне, поскольку я еще не слышала, — о том, что с ней сделали фашисты. Она говорила, как будто рассказывала наизусть заученную детскую считалку-страшилку, которую вынужденно повторяла каждому, кто ее навещал. Мать пыталась ее прервать, но Сильвия отмахивалась и начинала говорить еще громче, выкрикивала похабные ругательства, предсказывала, что уже скоро, совсем скоро наступит жестокое отмщение. Тут я разревелась, и она замолчала. Скоро пришли новые посетители — друзья семьи и ее товарищи, Сильвия завела рассказ заново, а я поспешила забиться в угол, прижала к себе Эльзу и стала ее целовать. В памяти вставали подробности того, что делал Стефано с Лилой, дополненные рассказом Сильвии: обе эти истории звучали для меня животным воплем ужаса.
В какой-то момент я отправилась на поиски Деде. Они с Мирко и куклой были в коридоре, играли в семью — мать, отец и ребенок, причем изображали не мирную жизнь, а сцену ссоры. Я застыла на месте. Деде обучала Мирко: «А теперь ты должен дать мне пощечину, понял?» Новая плоть копировала старую даже в игре; все мы были цепочкой теней, от века проживавших на сцене любовь и ненависть, желание и ярость. Я всматривалась в Деде: она казалась мне копией Пьетро, а Мирко как две капли воды был похож на Нино.
81
Вскоре в мою дверь снова постучала скрытая война, отзвуки которой попадали в газеты и на телевизионный экран: планы государственного переворота, полицейские репрессии, вооруженные группировки и их столкновения, перестрелки, убитые и раненые, взрывы бомб и убийства как в больших, так и в маленьких городах. Мне позвонила встревоженная Кармен: вот уже несколько недель не было новостей от Паскуале.
— Я думала, может, он у тебя?
— Он заезжал, но месяца два назад.
— Точно, он спрашивал у меня твой адрес и номер. Он хотел с тобой о чем-то посоветоваться.
— По какому поводу?
— Не знаю.
— Он ни о чем не советовался.
— А что говорил?
— Ничего особенного, но выглядел веселым.
Кармен опрашивала всех: Лилу, Энцо, участников собраний на виа Трибунале. Она даже позвонила Наде домой, но синьора Галиани грубо ее отшила, а Армандо сказал, что Надя там больше не живет — переехала и не оставила адреса.
— Значит, они теперь вместе.
— Паскуале с этой? Да еще не оставил ни адреса, ни телефона?
Мы долго проговорили. Я предположила, что Надя ушла из дома из-за связи с Паскуале; может, они уехали в Германию, в Англию или во Францию. Кармен спорила со мной, говорила, что Паскуале заботливый брат и никогда не исчез бы так, не предупредив ее. Предчувствия у нее были ужасные: без столкновений в квартале уже и дня не обходилось, всем, кто хоть как-то был связан с коммунистами, приходилось проявлять осторожность, даже ей и ее мужу угрожали. А Паскуале обвиняли в поджогах дома, где собирались неофашисты, и магазина Солара. Я ничего об этом не слышала и была поражена:
— Это все в нашем квартале творится? Это фашисты обвиняют Паскуале?
— Да, он у них в списке на уничтожение под первым номером. Наверно, Джино его и убил.
— Ты в полицию обращалась?
— Да.
— И что сказали?
— Чуть саму не арестовали. Там сидят фашисты еще почище наших.
Я позвонила Галиани. «Что с тобой случилось? — спросила она с иронией. — Что-то тебя больше не видно ни на книжных полках в магазине, ни в газетах. Вышла на пенсию?» Я ответила, что у меня две дочки и у меня сейчас другие заботы, а потом попросила Надю. Голос сразу стал неприветливый: «Надя девочка взрослая, решила жить отдельно и уехала». — «Куда?» — не отставала я. «Это ее дело», — ответила она и повесила трубку, не попрощавшись и не дав мне возможности попросить номер ее сына.
Найти номер Армандо оказалось непросто, еще труднее — застать его дома. Когда я наконец до него дозвонилась, он обрадовался и был даже как-то слишком откровенен. У него было очень много работы в больнице, брак распался, жена ушла и забрала ребенка, он сходил с ума от одиночества. Стоило мне заговорить о его сестре, он замолк, а потом проговорил тихо: «Мы с ней больше не общаемся». Оказалось, у них появились политические разногласия, и не только политические. «С тех пор как она связалась с Паскуале, разучилась думать своей головой». — «Они теперь вместе живут?» — спросила я. «Можно и так сказать», — отрезал он и перевел разговор на политическое положение, заговорил о резне в Брешии, о владельцах предприятий, которые сначала подкармливают партии, а потом, если дела не ладятся, начинают подкармливать фашистов.
Я снова позвонила Кармен, сказала, что была права: Надя ушла из семьи, чтобы быть с Паскуале, а Паскуале готов бежать за ней куда угодно, как собачонка.
— Что ты такое говоришь?
— Все именно так. Любовь есть любовь.
Она не верила, но я стояла на своем, рассказывала в подробностях о том вечере, что они провели у меня, настаивая на том, что они любят друг друга. На этом мы распрощались. Но в середине июня она снова позвонила мне. Она была в отчаянии. Убили Джино, средь бела дня, прямо напротив аптеки, выстрелили ему в лицо. На меня эта новость произвела тяжелое впечатление: все-таки Джино, фашист он теперь или нет, был частью нашей подростковой жизни. Но позвонила она вовсе не затем, чтобы вместе со мной ужаснуться этому преступлению. Карабинеры ворвались к ней в квартиру, перевернули все вверх дном, а потом обыскали бензоколонку. Они искали след, который привел бы их к Паскуале. Ей было еще хуже, чем в тот день, когда ее отца арестовали за убийство дона Акилле.
82
Испуганная Кармен то и дело принималась плакать: ей казалось, что преследователи вот-вот вернутся. А я никак не могла выкинуть из головы пустую площадь, на которую выходила аптека, и саму аптеку, которую так любила за запах пастилок и сиропа от кашля, за мебель темного дерева, украшенную яркими вазами… Особенно мне нравились ее владельцы — родители Джино, всегда вежливые, выглядывающие, ссутулившись, из-за стойки, как с балкона: они точно были там, когда это случилось, подскочили от звука выстрелов и, возможно, в ужасе наблюдали, как тело их сына оседает у порога в лужу крови. Мне надо было выговориться, и я позвонила Лиле, но она встретила известие с полным безразличием, сказала только: «А ведь карабинеры, наверное, не в обиде на Паскуале». И добавила, что, если бы даже убийцей оказался Паскуале (что она исключала), на месте карабинеров она встала бы на его сторону, потому что наш друг, строитель и коммунист, всяко лучше убитого, со всеми его темными делишками. После этого голос ее изменился, будто у нее ко мне было более важное дело, и она спросила, не смогу ли я взять к себе ее сына до начала нового учебного года. Дженнаро? Что я с ним буду делать? Я и от Деде с Эльзой уставала до смерти.
— Зачем? — спросила я.
— Мне надо работать.
— Мы с девочками едем на море.
— Возьмите его с собой.
— Мы едем в Виареджо, пробудем там до конца августа. Мальчик плохо меня знает, будет рваться к тебе. Если ты тоже поедешь с нами, — тогда пожалуйста, а так — даже не знаю.
— Ты клялась, что позаботишься о нем.
— Да, если с тобой что-то случится.
— А с чего ты взяла, что со мной ничего не случилось?
— А что, что-то не так?
— Нет.
— Так может, тогда лучше оставить его твоей маме или Стефано?
Она чуть помолчала, а потом напрямик спросила:
— Так сделаешь ты мне такое одолжение, да или нет?
— Ладно, привози, — уступила я.
— Энцо привезет.
В субботу к нам приехал Энцо на недавно взятом в аренду белоснежном «чинквеченто». Я увидела его еще из окна — он что-то говорил на диалекте мальчику, сидевшему в машине, — и сразу узнала: такой же крепкий, как раньше, та же скупость в движениях — я как будто снова оказалась в Неаполе, в нашем квартале. Я открыла дверь, Деде вцепилась в подол моего платья. Мне хватило одного взгляда на мальчика, чтобы признать, что сумасшедшая Мелина была права: теперь, когда мальчику исполнилось десять, не осталось никаких сомнений, что в нем нет ничего не только от Нино, но и от Лилы — передо мной стояла точная копия Стефано.
Чувство от этого было двойственное: я одновременно была и разочарована, и довольна. С одной стороны, раз уж мне предстояло так долго прожить с чужим ребенком, мне было бы приятней вместе со своими дочерьми воспитывать сына Нино, с другой — я была рада узнать, что Нино ничего не оставил Лиле.
83
Энцо хотел уехать сразу, но Пьетро принял его очень любезно и пригласил остаться на ночь. Я предлагала Дженнаро пойти поиграть с Деде, хоть он и был почти на шесть лет ее старше, и она не возражала, но он наотрез отказался. Меня поразила забота Энцо об этом ребенке — не своем ребенке. Он прекрасно знал все его привычки, вкусы, потребности. Он быстро уложил его спать, хотя Дженнаро сопротивлялся: сводил в туалет, заставил почистить перед сном зубы, а когда мальчик рухнул в постель от усталости, умело раздел его и натянул на него пижаму.
Пока я мыла посуду и наводила порядок, Пьетро развлекал гостя. Они сидели на кухне, за столом, общих тем для разговора у них не было. Они попробовали было поговорить о политике, но, как только Пьетро одобрительно высказался о сближении коммунистов с демократами, Энцо заявил, что, если так и дальше пойдет, Берлингуэр[16] скоро пожмет руку страшнейшему врагу рабочего класса. Они оставили эту тему, чтобы не поссориться. Пьетро стал из вежливости расспрашивать Энцо о его работе. Энцо любопытство моего мужа, должно быть, показалось искренним, и он начал свой сухой и перегруженный терминологией рассказ, причем говорил значительно больше, чем обычно. IBM решила перевести их с Лилой на более крупное предприятие: новая фабрика располагалась близ Нолы и насчитывала триста рабочих и около сорока служащих. От предложенной зарплаты у них обоих дух перехватило: триста пятьдесят тысяч лир в месяц ему и сто тысяч ей как его заместителю. Разумеется, они согласились, но за такие деньги работа предстояла огромная. «В нашем распоряжении, — объяснял он, постоянно повторяя „мы“, „наше“, — будет „Система-3“ десятой модели, два ассистента и пять женщин-операторов на перфораторах. Мы должны собирать и вводить в „Систему-3“ огромное количество информации, чтобы машина могла выполнять различные задачи: например, бухгалтерский учет, расчет зарплат, выписка счетов, учет складских резервов, управление заказами, поставками, производством, отгрузкой. Для этого используются специальные картонные карточки с перфорацией. Отверстия на карте отвечают за все, это основная наша забота. К примеру, рассмотрим алгоритм программирования какого-нибудь простейшего действия, пусть будет выписка счета. Сначала кладовщик указывает, какому клиенту какие продукты были доставлены. Каждый продукт и каждый клиент идет под своим числовым кодом, анкетные данные клиента тоже закодированы. Перфораторы вводят эти коды в машину: нажимают кнопку приема перфокарты и начинают вбивать на клавиатуре номер бланка, код клиента, коды анкетных данных, коды продукта, количество проданного и другие данные. Чтобы вы понимали, это тысяча карточек на один продукт, а на десять продуктов — десять тысяч карт с отверстиями как от иголки. Поняли? Следите за мыслью?»
Так прошел весь вечер. Пьетро то и дело старался показать, что за мыслью следит, и даже задавал вопросы («Отверстия считываются, это ясно, а неперфорированное пространство тоже участвует в подсчетах?»). Я ограничивалась улыбкой, не отрываясь от мытья тарелок. Энцо был счастлив возможности объяснять что-то университетскому профессору, который слушал его как прилежный студент, и своей старой подруге, получившей диплом и написавшей книгу, — правда, теперь подруга наводила порядок на кухне — они с Лилой на такое времени не тратили. Сама я быстро запуталась в его рассказе. Оператор брал тысячу карточек и загружал их в специальный аппарат — сортировальную машину. Машина располагала их согласно коду продукта. Потом начиналось так называемое чтение, но не в смысле обычного человеческого чтения, — за дело брались два считывателя — машины, запрограммированные на подсчет отверстий и свободных мест на карте. А дальше что? Тут я терялась. Терялась среди кодов, огромных кип карточек, отверстий, которые сличались с другими отверстиями, отверстий, которые сортировались, отверстий, которые считывались, каких-то четырех выполняемых операций, печати имен, адресов и сумм. Я терялась каждый раз, когда Энцо произносил слово «файл» — слово, которого я никогда раньше не слышала, — а произносил он его то и дело. Этот таинственный файл представлял собой не менее загадочный массив данных (именно так, в мужском роде — «массив», а не привычная «масса»), употреблялось это слово исключительно в сочетании с другим существительным: «файл того-то», «файл этого». Я терялась, думая, что Лила знает все эти слова, все об этих машинах и этой работе, и идет трудиться на большую фабрику под Нолой, несмотря на то что при нынешнем доходе Энцо могла бы сидеть дома и жить богаче меня. Я терялась, когда Энцо произносил с гордостью: «Без нее у меня ничего не выйдет», говорил о ней с такой любовью, с таким обожанием — ему явно доставляло удовольствие напоминать себе самому и окружающим о невероятных способностях любимой женщины; терялась оттого, что мой муж никогда меня не хвалил, отводил мне роль матери его детей, не верил, что я способна самостоятельно мыслить, унижал меня, смеясь над тем, что я читаю, чем интересуюсь, что говорю, и вообще был готов любить меня только при условии, что я буду всем своим видом демонстрировать собственную ничтожность.
Наконец я тоже села за стол, сердитая, потому что никто из этих двоих даже не подумал сказать: «Давай помогу убрать со стола, помыть посуду, подмести пол». «Счет, — говорил Энцо, — бумага простая. Казалось бы, разве сложно выписать от руки? Конечно нет, если надо выписать десяток в день. А если тысячу? Считыватели обрабатывают двести карт в минуту, это десять минут на две тысячи, а на десять тысяч — пятьдесят минут. Скорость работы — огромное преимущество, особенно когда речь идет о сложных операциях, которые при выполнении человеком требуют массу времени. Наша с Лилой работа и заключается в том, чтобы подготовить „Систему“ к выполнению этих сложных задач. На стадии разработки программ все отлично, на оперативной пока чуть хуже. Карты то и дело заедает в сортировальной машине. Еще чаще падает контейнер с разобранными картами, и они рассыпаются по полу. Но это мелочи, и так все хорошо, очень хорошо».
Я перебила его, только чтобы как-то обозначить свое присутствие:
— А он может ошибиться?
— Кто он?
— Ну, компьютер.
— Нет никакого «он», Лену, он — это я. Если и ошибается, если работает не так, как надо, то это моя ошибка, моя недоработка.
— Ох! — вздохнула я в ответ. — Я так устала.
Пьетро согласно кивнул — значит, вечер подходил к концу. Но тут он вдруг обратился к Энцо:
— Это все, конечно, очень увлекательно, только вот если, как ты утверждаешь, эта машина сможет выполнять работу людей, сколько профессий пропадет! На «Фиате» и так уже сваркой занимаются роботы, а тут — сколько рабочих мест мы потеряем!
Энцо сначала согласился с ним, потом как будто передумал и наконец остановился на единственном мнении, которое считал авторитетным:
— Лина говорит, что это хорошо: унизительные профессии, как и те, от которых только глупеют, должны исчезнуть.
Лина, Лина, Лина. Я не выдержала и спросила с издевкой: «Если Лина такая молодец, почему тебе платят триста пятьдесят тысяч, а ей только сто? Почему ты руководитель, а она твой зам?» Энцо заколебался. «А что я, по-твоему, должен с этим делать? — проворчал он. — Мне что, отменить частную собственность на средства производства?» Несколько секунд на кухне раздавалось только жужжание холодильника. Потом Пьетро встал и объявил: «Пойдемте спать».
84
Энцо собирался выезжать около шести, но уже в четыре утра я услышала в его комнате движение и встала сварить ему кофе. В молчаливом доме, один на один, мы забросили компьютерную терминологию и итальянский, необходимый, чтобы не упасть в грязь лицом перед Пьетро, и перешли на диалект. Я спросила об их с Лилой отношениях. Он сказал, что все хорошо, вот только она все никак не угомонится. Помогает ему с работой, воюет с матерью, отцом и братом, занимается с Дженнаро, а заодно с детьми Рино и другими мальчишками и девчонками чуть ли не со всего квартала. Лила совершенно не бережет себя, страшно устает, и он боится, как бы она не сломалась — однажды такое уже было. Вскоре я поняла, что сложившийся в моем воображении образ дружной пары, работающей плечом к плечу и получающей хорошие деньги, далек от истины и в реальности все намного сложнее.
— Может, вам изменить образ жизни? — неуверенно произнесла я. — Нельзя, чтобы Лина так надрывалась.
— Я ей это постоянно твержу.
— К тому же они со Стефано давно не живут вместе. Почему бы ей не оформить развод?[17]
— На это ей плевать.
— А Стефано?
— Он и не знает, что теперь можно разводиться.
— А Ада?
— Аде не позавидуешь. Колесо фортуны крутится: вчера ты был наверху, а сегодня оказался внизу. У Карраччи не осталось ни гроша, одни долги перед Солара. Ада и пытается отхватить хоть что-то, пока не поздно.
— А ты? Не хочешь жениться?
Я поняла, что он с радостью женился бы, но Лила против. И не только потому, что ей было лень возиться с разводом («Да какая разница, за кем я замужем, если я живу с тобой и сплю с тобой, разве это не главное?»), от одной мысли о втором замужестве ее смех разбирал: «Нам с тобой? Это нам-то с тобой жениться? Что ты несешь? Нам и так хорошо. А надоедим друг другу — разбежимся, каждый пойдет своей дорогой». В общем, как объяснил Энцо, замужество Лилу совсем не интересовало, у нее и без того было о чем подумать.
— О чем, например?
— Да ладно, не важно.
— Расскажи!
— А сама она ничего тебе не говорила?
— О чем?
— О Микеле Соларе.
В нескольких коротких и сухих фразах он рассказал мне, что все эти годы Микеле постоянно уговаривал Лилу работать на него. Он предлагал ей управлять новым магазином в Вомеро. Предлагал заняться бухгалтерией или налогами. Предлагал место секретаря своего друга — важной шишки в Христианско-демократической партии. Предложил даже платить ей двести тысяч лир в месяц просто за то, что она будет высказывать любые, самые сумасшедшие идеи, все, что придет в голову. Он переехал в Позиллипо, но продолжал контролировать всю торговлю в квартале и то и дело бывал у матери с отцом. Лила постоянно натыкалась на него — на улице, на рынке, в магазинах. Он обязательно заговаривал с ней, был очень дружелюбен, шутил с Дженнаро, делал ему небольшие подарки. Потом становился серьезен, делал очередное предложение о работе, на отказы реагировал спокойно, а на прощанье своим обычным насмешливым тоном сообщал: «Но я не сдаюсь, готов ждать тебя хоть вечность: только позови, тут же прибегу». Так продолжалось до тех пор, пока Микеле не узнал, что Лила работает в IBM. Это ему не понравилось, он поднял свои связи, добиваясь, чтобы Энцо уволили, а вместе с ним и Лилу. Ничего не вышло: IBM нуждалась в специалистах, а таких, как Энцо с Лилой, было мало. Обстановка изменилась. Вскоре Энцо прямо у входа в подъезд подстерегли фашисты Джино: он чудом унес ноги, успел прошмыгнуть в подъезд и захлопнуть за собой дверь. Вскоре кое-что случилось и с Дженнаро. Мать Лилы пошла, как обычно, забирать его из школы. Все его одноклассники вышли, а мальчика не было. Учительница утверждала, что он буквально минуту назад был здесь, то же говорили его друзья: «Да, только что здесь стоял, а потом куда-то пропал». Нунция страшно перепугалась, вызвала Лилу с работы, та помчалась искать сына. Она нашла Дженнаро в сквере. Мальчик смирно сидел на скамейке — школьная форма, портфель — все на месте. На вопросы, где он был и что делал, не отвечал и только посмеивался, глядя пустыми глазами. Она хотела сразу пойти к Микеле и убить его и за попытку избить Энцо, и за похищение сына, но Энцо ее остановил. Фашисты нападали на всех, кто придерживался левых взглядов: нельзя было сказать наверняка, что именно Микеле увел ребенка. Что до Дженнаро, то он утверждал, что сам убежал из школы, просто так, из баловства. Как только Лила успокоилась, Энцо сам отправился поговорить с Микеле. Встретились они в баре Солара. Пока Энцо говорил, Микеле и бровью не повел, а потом сказал: «Что за чушь ты несешь, Энцо. Я обожаю Дженнаро: кто его пальцем тронет — тот труп. Но среди всей ерунды, что ты мне тут нагородил, одна здравая мысль все же есть: Лина действительно умница. Жалко ее: разбазаривает свои мозги на всякие глупости. Сколько лет я ей предлагаю со мной работать… А если тебя что-то не устраивает, кого это на хрен волнует? Хотя ты, конечно, не прав: если ты и правда любишь ее, должен следить, чтобы такие способности не пропадали зря. Да ты садись, садись, выпей кофе, съешь что-нибудь. Расскажи-ка мне, что делают эти ваши компьютеры». Этим дело не ограничилось. Два или три раза они как бы случайно встречались на улице, и Микеле снова выспрашивал его про «Систему-3». А как-то раз, посмеиваясь, поделился с Энцо, что спрашивал у знакомых в IBM, кто лучше работает, он или Лила, и ему сказали, что Энцо, конечно, голова, но специалиста лучше Лилы нет. Вскоре после этого он остановил Лилу на улице и сделал ей новое предложение: он собирался арендовать «Систему-3» для ведения всех своих коммерческих дел и предлагал ей возглавить отдел за четыреста тысяч в месяц.
— Даже этого она тебе не рассказывала? — с осторожностью спросил Энцо.
— Нет.
— Видимо, не хочет тебя беспокоить, все-таки у тебя своя жизнь. Но ты же понимаешь, что для нее это качественный скачок, а для нас вместе — большая удача. Ведь мы бы вдвоем тогда получали семьсот пятьдесят в месяц. Уму непостижимо!
— И что Лина?
— Должна дать ответ в сентябре.
— И что она решила?
— Не знаю. Разве заранее угадаешь, что у нее в голове?
— Нет. А сам ты что думаешь? Как ей лучше поступить?
— Я думаю то же, что она.
— Даже если не согласен с ней?
— Да.
Я проводила его до машины. Когда мы спускались по лестнице, я подумала, что, наверное, следует рассказать ему о том, чего он, разумеется, не знает: что Микеле любит Лилу, потому и плетет вокруг нее свою паутину, что любовь эта опасная, что она не имеет ничего общего с физическим желанием, тем более с преданностью. Я чуть не сказала ему об этом. Он мне нравился, и я не хотела, чтобы он оставался в плену заблуждений, наивно полагая, что Микеле, этот воротила подпольного бизнеса, ходит за ним только потому, что хочет купить ум его подруги. Он уже садился за руль, когда я спросила:
— А вдруг Микеле задумал ее у тебя увести?
— Тогда я его убью, — невозмутимо ответил Энцо. — Только он ничего такого не хочет. Любовница у него уже есть, это все знают.
— Это кто же?
— Мариза. Она опять от него беременна.
Мне показалось, что я ослышалась:
— Мариза Сарраторе?
— Да, Мариза, жена Альфонсо.
Я вспомнила разговор с Альфонсо. Он ведь пытался поделиться со мной своими бедами, но меня так поразили его откровения, что их содержательная сторона прошла мимо моего внимания. Я так и не поняла, почему ему было так плохо, а может, и сейчас понимала не до конца — чтобы в этом разобраться, надо было увидеться с ним снова. Но слова Энцо больно задели меня.
— А как же Альфонсо? — спросила я.
— Ему все равно. Говорят, он гей.
— Кто говорит?
— Все.
— Все — понятие растяжимое, Энцо. А что еще говорят эти все?
Он посмотрел на меня и заговорщически улыбнулся:
— Да мало ли что. В квартале только и делают, что болтают разное.
— Например?
— Вспомнили тут старую историю: утверждают, будто дона Акилле убила мать Солара.
Он уехал. Я надеялась, что вместе с ним исчезнет и все, о чем он мне рассказал. Не тут-то было. Мне было страшно, и в то же время меня трясло от злости. Чтобы освободиться от этих мыслей, я бросилась звонить Лиле. «Почему ты ничего не рассказывала мне о предложениях Микеле, особенно о последнем? Зачем выдала секрет Альфонсо? Зачем пустила в народ слух о мамаше Солара — мы же с тобой придумали эту версию в шутку? Зачем ты отправила ко мне Дженнаро? Боишься за него? Скажи мне правду, я имею право знать, что творится у тебя в голове!» В общем, я сорвалась, но, обрушивая на нее град вопросов, в глубине души надеялась, что на этом мы не остановимся, что сейчас сбудется мое давнее желание обсудить, пусть по телефону, наши отношения, прояснить их и понять наконец друг друга. Я нарочно провоцировала ее, чтобы вырвать из нее ответ на другие вопросы, которые касались лично меня. Но Лила окатила меня волной холодного раздражения — видно, я застала ее не в самом лучшем настроении. Она сказала, что я уехала много лет назад и что в моей нынешней жизни Солара, Стефано, Мариза и Альфонсо не значат ровным счетом ничего. «Езжай ты себе на море, отдыхай спокойно, пиши. Ты умная, мы все тут для тебя — неотесанная провинция, вот и не лезь в наши дела. И прошу, последи, чтобы Дженнаро как следует прогрелся на солнце, не то вырастет рахитиком, как его отец».
Ее насмешливый, едва ли не пренебрежительный тон перечеркнул все мои страхи, вызванные рассказом Энцо, и лишил меня последней надежды приобщить ее к книгам, которые я читала, идеям, которыми прониклась благодаря Мариарозе и флорентийским женским собраниям, и вопросам, которые я себе задавала. Я не сомневалась, что она, стоило ее просветить, нашла бы на них наилучшие ответы. «Ну и ладно, — подумала я, — у меня свои дела, у тебя — свои: раз тебе так больше нравится, не взрослей, продолжай играть во дворе в свои глупые игры, забудь, что тебе скоро тридцать, а с меня хватит, я еду на море». Так я и сделала.
85
Пьетро отвез меня с тремя детьми на машине в довольно уродливый дом, который мы сняли в Виареджо, и вернулся во Флоренцию дописывать книгу. Ну вот, говорила я себе, теперь и я зажиточная синьора на каникулах: с тремя детьми, кучей игрушек, собственным зонтиком на первой линии пляжа, толстыми полотенцами, кучей еды, пятью купальниками разных цветов и ментоловыми сигаретами; я загорю на солнце, а волосы станут еще светлее. Каждый вечер я разговаривала по телефону с Пьетро и Лилой. Пьетро докладывал, кто из немногих оставшихся с давних времен знакомых мне звонил, реже рассказывал об очередной осенившей его научной идее. Набрав номер Лилы, я сразу передавала трубку Дженнаро: он нехотя делился с ней важными, с его точки зрения, событиями дня и желал спокойной ночи. Сама я почти ничего не говорила. Казалось, Лила окончательно превратилась для меня в голос в телефонной трубке.
Однако вскоре я убедилась, что это не совсем так: часть ее присутствовала здесь, воплощенная в Дженнаро. Конечно, внешне мальчик был очень похож на Стефано, а не на мать. Но жестикуляцией, манерой говорить, отдельными словечками и агрессивностью напоминал мне Лилу в детстве. Иногда я, забывшись, вздрагивала от его голоса; иногда, слушая, как он объясняет Деде правила очередной игры, словно переносилась в детство.
В отличие от матери Дженнаро умел обманывать. Лила свою злость всегда выражала открыто, и никакими наказаниями нельзя было добиться, чтобы она вела себя сдержаннее. Зато Дженнаро при мне изображал из себя воспитанного и скромного мальчика, но, стоило мне отвернуться, приставал к Деде, отнимал у нее куклу, мог и стукнуть. Я грозила, что в наказание не буду звонить маме и он не сможет пожелать ей спокойной ночи, — он делал вид, что расстроен. На самом деле эта перспектива нисколько его не пугала: ритуальные вечерние звонки придумала я, а ему было на них плевать. Гораздо больше его огорчало, что его оставят без мороженого. Тут он пускался в рев и, рыдая, говорил, что хочет домой, в Неаполь. Я сразу сдавалась, но этого ему было мало, и в отместку мне он тайком отыгрывался на Деде.
Я была уверена, что моя дочь боится и ненавидит его. Но я ошибалась. Со временем она перестала обижаться на его нападки, напротив, все больше в него влюблялась. Она звала его Рино или Ринуччо, потому что он сказал, что так его называют друзья, и ходила за ним хвостиком, не обращая внимания на мои предостережения. Именно она часто подговаривала его отойти подальше от нашего зонтика. Я только и делала, что целыми днями кричала: Деде, ты куда; Дженнаро, иди сюда; Эльза, что ты делаешь, песок в рот нельзя; Дженнаро, перестань; Деде, если ты немедленно не прекратишь, я тебе сейчас покажу! Надрывалась я напрасно: Эльза все равно с завидной регулярностью набивала полный рот песка, и, пока я промывала ей рот, Деде с Дженнаро с той же регулярностью от меня убегали.
Они прятались в зарослях камыша неподалеку. Однажды я взяла Эльзу и пошла посмотреть, чем они там заняты. Обнаружила я их голышом: Дженнаро показывал Деде свой набухший стручок, а она с любопытством его трогала. Я остановилась в нескольких метрах от них, не представляя, что делать. Я знала, что Деде часто мастурбирует, лежа на животе, я сама это видела. Я прочла кучу книг по детской сексуальности, купила дочери книжку с картинками, где кратко объяснялось, что происходит между мужчиной и женщиной. Книга не вызвала у нее никакого интереса. В первый раз застав ее за этим занятием, я, несмотря на охватившую меня тревогу, не стала ее наказывать, мало того, догадываясь, что отец будет реагировать на это совсем по-другому, следила, чтобы он ее не застукал.
А теперь что? Позволить им и дальше играть? Или вмешаться? Или подойти как ни в чем не бывало, сделать вид, что ничего не заметила, и заговорить о другом? А вдруг этот злобный идиот заставит ее делать невесть что, причинит ей боль? Он ведь настолько ее старше. Не опасна ли такая разница в возрасте? Дальнейшее развитие событий определили два обстоятельства. Во-первых, Эльза увидела сестру, заверещала от радости и стала ее звать, во-вторых, в тот же момент я услышала слова на диалекте, которые Дженнаро говорил Деде, — ту самую похабщину, которую и я когда-то выучила у нас во дворе. Мое терпение иссякло. Я забыла все, что читала о латентном удовольствии, неврозах, полиморфной перверсии девочек и женщин, и отругала обоих, особенно Дженнаро — ему я вцепилась в руку и силой оттащила от Деде. Он разревелся, а Деде нахально заявила мне: «Ты очень злая!»
Я купила обоим мороженое. С того дня я начала внимательно следить, чтобы ничего подобного не повторялось, и с беспокойством наблюдала, не просочились ли похабные диалектные ругательства в речь Деде. По вечерам, когда дети засыпали, я напрягала память: занималась ли я в детстве чем-то подобным с ровесниками во дворе? А Лила? Мы же никогда не говорили об этом. В свое время мы пользовались разными мерзкими словечками, это да, но это были просто ругательства, и использовали мы их в том числе для того, чтобы отбиваться от приставаний взрослых: мы выкрикивали их и спешили унести ноги. А что еще было? Я заставила себя задуматься: трогали ли мы с ней когда-нибудь друг друга? Хотелось ли мне этого когда-нибудь: в детстве, в подростковом возрасте, в юности или уже взрослой? А ей? На этих вопросах я зависла надолго. А потом ответила себе тихо: «Не знаю и знать не хочу». Я допускала, что ее тело мне нравилось, но и в мыслях не могла допустить, что между нами может что-то быть. Страх был слишком силен: если бы нас застукали, забили бы до смерти.
Как бы там ни было, столкнувшись с этой проблемой, я перестала звать Дженнаро к телефону. Я боялась, что он пожалуется Лиле, что здесь, со мной, ему плохо, а то и расскажет о нашем происшествии. Я злилась на себя за этот страх: с какой стати это должно меня волновать? Со временем меня отпустило, даже присматривать за этими двоими я перестала: невозможно же постоянно шпионить. Я посвятила себя Эльзе, а их оставила в покое. Только когда видела, что губы у них посинели, а они все не вылезают из моря, орала с берега, держа наготове два полотенца — для нее и для него.
Так пролетели августовские дни. Дом, поход за покупками, набивание сумок на пляж, море, дом, ужин, мороженое, телефонные звонки. Иногда я болтала с другими мамочками — все они были старше меня, — и была очень рада, когда они хвалили моих детей и меня — за терпение. Они обсуждали мужей и их работу. «Муж преподает латынь в университете», — рассказывала я. На выходные приезжал Пьетро, точно так же, как когда-то на Искью приезжали Стефано и Рино. Мои новые знакомые смотрели на него с уважением: похоже, благодаря его должности даже куст волос на его голове вызывал у них восхищение. Пьетро купался с девочками и Дженнаро, придумывал для них якобы опасные задания, все четверо отлично развлекались. А потом он садился под зонт и работал, жалуясь, что недосыпает. Он часто забывал принимать успокоительное. Когда дети засыпали, он брал меня прямо стоя, на кухне, чтобы не скрипеть кроватью. Брак казался мне институтом, который, вопреки расхожему мнению, убивает в сексе все человеческое.
86
Однажды в субботу Пьетро прочитал в номере «Коррьере делла сера», в основном посвященном взрыву, устроенному фашистами в поезде «Италикус», короткую заметку о заводе на окраине Неаполя.
— А эта твоя подруга не на заводе Соккаво работала?
— А что случилось?
Он передал мне газету. Группа из двух мужчин и женщины совершила налет на колбасный завод на окраине Неаполя. Сначала они выстрелили в ноги охраннику, Филиппо Кара, который теперь находится в тяжелом состоянии, затем поднялись в кабинет владельца, молодого неаполитанского предпринимателя Бруно Соккаво, и убили его, сделав четыре выстрела — три в грудь и один в голову. Я читала и представляла себе обезображенное лицо Бруно с его белоснежными зубами. О боже! Дыхание у меня перехватило. Я оставила детей с Пьетро, а сама побежала звонить Лиле. Телефон надрывался долго, но никто не отвечал. Вечером я снова пробовала звонить — безрезультатно. Дозвонилась я только на следующий день. «Что случилось? — забеспокоилась она. — Что-то с Дженнаро?» Я сказала, что все в порядке, а потом сообщила новость о Бруно. Она ничего об этом не знала, дала мне выговориться, а потом бесцветным голосом резюмировала: «Какая ужасная новость». И все. Я попыталась расшевелить ее: «Позвони кому-нибудь, выясни подробности, узнай и скажи мне, куда отправить телеграмму с соболезнованиями». Она сказала, что у нее не осталось никаких контактов с завода. «И потом, что еще за телеграмма, ты что? Успокойся».
Я и успокоилась. Но уже на следующий день в «Манифесте» вышла статья Джованни Сарраторе, то есть Нино, о мелких предприятиях Кампании, на которых в силу общей отсталости региона особенно воздействуют политические разногласия. Он с чувством рассказывал о Бруно и его трагической гибели. Несколько дней я пыталась следить по газетам за развитием событий, но безрезультатно: новость быстро исчезла с полос. Лила тоже больше не хотела обсуждать со мной эту тему: когда мы звонили ей вечером, она просила передать трубку Дженнаро. Особенно сухо она отреагировала, когда я попыталась процитировать Нино. «Что за чушь! Вечно он сует нос куда не надо: при чем тут политика? Как будто других причин не было. У нас за что только людей не убивают — за измены, мошенничество, да просто за то, что не так на кого-то посмотрел!» Но шли дни, и от Бруно осталось одно воспоминание. Я видела его не хозяином завода, которому, прикрываясь фамилией Айрота, угрожала по телефону, а парнем, который пытался поцеловать меня на пляже и получил грубый отпор.
87
Тягостные мысли начали одолевать меня еще там, на пляже. Лила, думала я, нарочно гонит прочь все чувства и эмоции. Если я все упорнее искала инструмент, с помощью которого могла бы разобраться в себе, то она все старательнее от себя пряталась. Чем настойчивее я вызывала ее на откровенность, тем глубже она уходила в тень. Так полная луна скрывается за лесом, маскируя свой лик за ветками деревьев.
В начале сентября я вернулась во Флоренцию, но мои дурные предчувствия не только не развеялись, а еще и усилились. Поговорить по душам с Пьетро я даже не пыталась, понимая, что это бесполезно. Он был недоволен тем, что мы с детьми приехали: он не успевал с книгой, приближался новый учебный год, и он все заметнее нервничал. Как-то вечером Деде с Дженнаро повздорили из-за чего-то за столом; Пьетро вскочил и вышел из кухни, хлопнув за собой дверью так, что дверное стекло разлетелось вдребезги. Я позвонила Лиле и без всяких предисловий сообщила, что она должна забрать мальчика, он и так прожил у нас полтора месяца.
— Не можешь оставить его до конца месяца?
— Нет.
— Тут плохо.
— Тут тоже.
Энцо выехал поздно ночью, а приехал утром, когда Пьетро был на работе. Я уже собрала вещи Дженнаро. Я объяснила, что детские ссоры стали невыносимы, сказала, что мне очень жаль, но трое детей для меня — это слишком, что больше я так не могу. Он ответил, что все понимает, поблагодарил меня за все и как бы в оправдание проворчал: «Лина… Ты же знаешь, какая она». Я промолчала: и потому, что Деде устроила истерику из-за отъезда Дженнаро, и потому, что, согласившись: «Да, я знаю, какая она», могла наговорить такого, о чем потом жалела бы.
Меня одолевали мысли, которые я, веря в магическую связь слов и реальных событий, боялась четко сформулировать даже в уме. Но совсем избавиться от них я не могла: они складывались в законченные предложения, пугали меня, одновременно завораживая, повергая в ужас и искушая. Я поддалась старой привычке во всем наводить порядок, находить зависимость между, казалось бы, разрозненными элементами. Я связала ужасную смерть Джино и убийство Бруно Соккаво (Филиппо, заводской охранник, выжил) и пришла к выводу, что оба этих события ведут к Паскуале, а может, и к Наде тоже. Одно это предположение лишило меня покоя. Я хотела позвонить Кармен, спросить, нет ли новостей от брата, но потом передумала: испугалась, что телефон могут прослушивать. Когда Энцо приехал забирать Дженнаро, я рассчитывала поговорить с ним и посмотреть на его реакцию. Но снова промолчала из страха наговорить лишнего, произнести имя той, что стояла за Паскуале и Надей. Лила; конечно Лила; та самая Лила: Лила, которая не болтает, а делает; Лила, усвоившая правила квартала, ни в чем не полагавшаяся на полицию, законы, государство и верившая, что проблемы решаются только при помощи сапожного ножа; Лила, на своей шкуре испытавшая все ужасы неравенства; Лила, которая еще во времена собраний на виа Трибунале сумела найти применение своему уму и в революционной теории, и в практике; Лила, умевшая превращать старые и новые обиды в политические задачи; Лила, управлявшая людьми, как персонажами своего рассказа; Лила, обернувшая наш опыт нищеты и насилия в вооруженную борьбу против фашистов, против хозяев, против капитализма. Лишь сегодня я готова честно признаться, что в те сентябрьские дни подозревала в кровопролитии не только Паскуале, которого сама жизнь толкнула взять в руки оружие, не только Надю, но и Лилу — Лилу собственной персоной. Долгое время, готовя обед или занимаясь с детьми, я представляла, как она и еще двое стреляют в Джино, стреляют в Филиппо, стреляют в Бруно Соккаво. Представить в этой роли Паскуале или Надю мне было трудно (я считала Паскуале хорошим парнем, хоть и любителем прихвастнуть: отлупить кого-нибудь он, конечно, мог, но убить — нет; а что до Нади, то эта девочка из хорошей семьи если и способна была кого-то ранить, то только острыми словечками). Зато по поводу Лилы у меня не возникало и тени сомнения: она могла составить идеальный план и свести к минимуму риски, она умела контролировать свой страх и смотреть на свои смертоносные замыслы отвлеченно, признавая за ними бескорыстие, она знала, как превратить человеческое существо в бездыханное тело и лужу крови, ее не мучили бы угрызения совести, она совершила бы убийство, веря, что творит правосудие.
Вот, значит, как! Теперь я ясно видела ее за спиной Паскуале, Нади или кого-то еще. Они подъезжали на автомобиле к площади, притормаживали возле аптеки и расстреливали Джино, тайного полицейского агента, маскирующегося за белым халатом. Они мчались по пыльной дороге, по обочинам которой высились груды мусора, к заводу Соккаво. Паскуале входил в ворота, стрелял в ноги Филиппо: стены сторожевой будки обагряла кровь, охранник вопил, в глазах его стоял ужас. Тем временем Лила, отлично знавшая дорогу, поднималась по лестнице и врывалась в кабинет Бруно, тот успевал только радостно воскликнуть: «Привет, какими судьбами?» — а она уже выпускала в него пули: три в грудь, одна в голову.
Ну конечно, воинствующий антифашизм, новое сопротивление, пролетарская справедливость и другие лозунги, которые она инстинктивно умела наполнять жизнью, уходя от набивших оскомину клише. Я думала, что, наверное, участие в подобных акциях было обязательным условием для вступления в какие-нибудь «Красные бригады», «Передовую линию» или «Пролетарскую вооруженную ячейку».[18] Лила исчезнет из квартала, как исчез Паскуале. Может, потому она и просила меня подержать Дженнаро еще месяц, а сама намеревалась оставить мне его навсегда. Тогда мы больше не увидимся. А может, ее арестуют, как уже арестовали главарей «Красных бригад» Курчо и Франческини. А может, она удерет от всех полицейских — ей достанет для этого ума и бесстрашия. А когда великая цель будет наконец достигнута, она с триумфом вернется в обличье лидера революции и, любуясь на свои деяния, скажет мне: «Ты все хотела писать романы, а я написала свой роман в реальной жизни, с настоящими людьми и настоящей кровью».
По ночам все эти фантазии представлялись мне уже свершившимися — или начавшими свершаться — фактами; я боялась за нее, видела ее избитой, раненой, как многих женщин и мужчин, брошенных в хаос этого мира; я переживала за нее, но в то же время завидовала ей. Мое детское убеждение, что ей на роду написано делать невероятные вещи, от этого только крепло; меня охватило сожаление, что я сбежала из Неаполя, отдалилась от нее, и мне захотелось снова оказаться рядом с ней. Одновременно меня злило, что она устремилась по этому пути, не посоветовавшись со мной, словно считала, что мне это не по зубам. А ведь я много чего знала о капитализме, эксплуатации, классовой борьбе и неизбежности пролетарской революции. Я могла бы быть ей полезной, могла бы участвовать в ее делах. Я была несчастна. Я ворочалась в постели, проклиная свое положение замужней женщины, матери семейства, — о каком будущем может идти речь, если мне всю жизнь предстоит существовать в рамках одних и тех же домашних ритуалов, как на кухне, так и в супружеской постели, — до самой смерти.
Днем сознание прояснялось, но тогда меня охватывал ужас. Я представляла себе Лилу — вздорную девчонку, которая нарочно провоцировала в других ненависть к себе, тем самым оказываясь втянутой в самые ужасные события, происходившие вокруг. Я не сомневалась, что ей хватило смелости пойти до конца; она перешла к активным действиям с решимостью, преисполненная благородного гнева, как делают все, кто убежден в том, что выступает за правое дело. Но что дальше? Гражданская война? Чего они хотят? Превратить квартал, Неаполь, всю Италию в поле битвы, во Вьетнам посреди Средиземноморья? Бросить нас всех в бесконечную и беспощадную схватку, с обеих сторон стиснутую двумя противостоящими блоками — восточным и западным? Раздуть пожар по всей Европе, по всей планете? До полной и окончательной победы? Но что это будет за победа? Сожженные города, трупы на улицах, ярость и подлость, заставляющая бросаться не только на классового врага, но и на своих, раздоры между революционными организациями разных районов и разных направлений, и все это — во имя пролетариата и установления его диктатуры. А там, как знать, и ядерная война.
Я в ужасе закрывала глаза. Мои дочери, их будущее. Я цеплялась за привычные формулы: непредсказуемые последствия, разрушительная патриархальная логика, женская способность к выживанию. Надо поговорить с Лилой. Она обязана рассказать мне обо всем, что делает и что собирается делать, и тогда я решу, хочу я быть с ней или нет.
Но я так ей и не позвонила, а она не звонила мне. Я убедилась, что звуковая нить, на долгие годы ставшая нашим единственным средством общения, ничего нам не принесла. Мы еще поддерживали связь, но главное было утеряно. Мы стали друг для друга абстрактными величинами — настолько, что я могла представить ее и компьютерным экспертом, и городской партизанкой, решительной и беспощадной. А она, должно быть, видела во мне или типичную интеллигентную женщину, добившуюся успеха, или зажиточную и неплохо образованную тетку, озабоченную своими детьми, своими книгами и умными беседами со своим ученым мужем. Нам обеим требовалось снова наполнить взаимные представления телесностью, но мы были далеко друг от друга, и нам не удавалось заполнить образовавшуюся между нами пустоту.
88
Так прошел сентябрь, за ним октябрь. Я ни с кем не общалась, даже с Аделе, — у нее было много работы, и Мариарозой — та забрала к себе Франко, ставшего инвалидом, нуждавшегося в уходе и сломленного депрессией. Мариароза радостно отвечала мне по телефону, обещала передать ему привет, но быстро прощалась, сославшись на то, что дел невпроворот. С Пьетро мы тоже больше молчали. Мир за пределами книг все больше тяготил его, он с трудом заставлял себя ходить в университет, это царство упорядоченного хаоса, часто, сказавшись больным, пропускал занятия. Он говорил, что ему не хватает времени на серьезную работу, но так и не мог закончить книгу и все реже закрывался в кабинете, предпочитая для самооправдания заниматься с Эльзой, готовить еду, подметать полы, стирать, гладить. Я ругалась с ним, требовала, чтобы он вернулся на факультет, и каждый раз в этом раскаивалась. С тех пор как страшные события затронули моих знакомых, я стала бояться за него. Он никогда не отступал, даже в опасных ситуациях, и открыто высказывался против того, что на своем особом языке называл сборником глупостей авторства его студентов и большинства коллег. Но, несмотря на то что я переживала за него, а может, именно потому, что переживала, я никогда с ним не соглашалась. Я надеялась, что, если буду его критиковать, он образумится, бросит свой реакционный реформизм (я использовала именно этот термин), станет мягче. Но в его глазах это только ставило меня в один ряд с нападавшими на него студентами и с профессорами, которые плели против него интриги.
На самом деле все было куда сложнее. С одной стороны, я хотела как-то его защитить, с другой — меня не покидало смутное ощущение, что я соглашаюсь с Лилой и защищаю тот выбор, который про себя приписывала ей. Иногда у меня возникало желание позвонить ей и начать разговор именно с Пьетро, с наших споров, спросить, что она по этому поводу думает, а там — слово за слово — вызвать ее на откровенный разговор. Конечно, я ничего такого не делала: глупо было даже рассчитывать на ее искренность в таких вопросах, да еще и по телефону. Но однажды вечером она позвонила сама, причем была очень весела.
— У меня для тебя отличная новость!
— Что случилось?
— Я теперь руководитель.
— В каком смысле?
— Руководитель механографического центра IBM, меня Микеле нанял.
Я не верила своим ушам, попросила повторить. Неужели она приняла предложение Солары? После стольких лет борьбы она снова попала в зависимость от этой семейки, как во времена магазина на пьяцца Мартири? Она гордо ответила «да» и изложила мне подробности: Микеле доверил ей «Систему-3», которую взял в аренду и разместил на обувном складе в Ачерре; под ее началом работали операторы на перфораторах, и она получала четыреста двадцать пять тысяч лир в месяц.
Мне стало дурно. Образ партизанки, который я рисовала у себя в голове, рассыпался в прах, а вместе с ним зашатались и все мои представления о Лиле.
— Это последнее, чего я могла от тебя ожидать, — сказала я.
— А что мне было делать?
— Отказаться.
— С какой стати?
— Мы же с тобой знаем, кто такие Солара.
— И что с того? Я уже начала работать. И, поверь мне, у Микеле мне намного лучше, чем было у этого придурка Соккаво.
— Поступай как знаешь.
Она вздохнула:
— Не нравится мне этот твой тон, Лену. Я получаю больше Энцо, хотя он мужчина, — что тебе не нравится?
— Ничего.
— A-а! Ты про революцию, рабочее дело, новый мир и прочую фигню?
— Хватит. Если тебе когда-нибудь захочется поговорить по-настоящему, я тебя с удовольствием выслушаю, а если нет, тогда пока.
— Знаешь, что я заметила? Ты очень часто используешь слова «настоящее» и «по-настоящему», и в разговоре, и когда пишешь. А еще говоришь «вдруг». Только вот когда это люди говорили что-то по-настоящему и когда хоть что-нибудь случалось вдруг? Ты лучше меня знаешь, что все связано, одно тянет за собой другое, другое — третье. Я больше ничего не делаю по-настоящему, Лену. И я научилась внимательно следить за тем, что происходит, потому что только дураки верят в то, что что-то случается вдруг.
— Молодец! И что ты мне этим пытаешься доказать? Что у тебя все под контролем? Что ты используешь Микеле, а не Микеле тебя? Ладно, хватит, пока.
— Ну уж нет, говори, что хочешь сказать.
— Мне нечего сказать.
— Говори, а не то я скажу.
— И скажи, я послушаю.
— Ты вот меня ругаешь, а о своей сестре ничего не хочешь сказать?
Я опешила:
— При чем тут моя сестра?
— Ты что, ничего не знаешь про Элизу?
— А что я должна знать?
Она злобно рассмеялась:
— Спроси у своей матери, своего отца и своих братьев.
89
Больше она мне ничего так и не сказала, я в бешенстве повесила трубку и тут же позвонила родителям. Ответила мать:
— Надо же, ты еще помнишь, что мы существуем.
— Мам, что случилось с Элизой?
— То же, что со всеми нынешними девушками.
— То есть?
— Нашла себе кое-кого.
— Жених появился?
— Можно и так сказать.
— И кто же это?
От ее ответа у меня сжалось сердце.
— Марчелло Солара.
Так вот о чем говорила Лила, вот что я должна была узнать. Марчелло, красавчик Марчелло из нашего детства, ее упрямый ухажер, парень, которого она унизила, выйдя за Стефано Карраччи, забрал мою сестру, самую младшую в семье, мою милую сестренку, взрослую девушку, в которой я все еще видела чудесную девчушку. А Элиза позволила ему забрать себя. И ни родители, ни братья пальцем не пошевелили, чтобы остановить ее. И теперь вся моя семья, и я сама в какой-то степени, должны будем породниться с Солара.
— И давно они вместе?
— Да не знаю, может, с год.
— И вы дали на это свое согласие?
— Ты у нас спрашивала, согласны ли мы? Сделала как хотела. Вот и она так же.
— Пьетро — это вам не Марчелло Солара.
— Что правда, то правда: Марчелло никогда не позволит Элизе обращаться с собой так, как тебе позволяет Пьетро.
Молчание.
— Могли бы и меня предупредить, посоветоваться.
— Это еще зачем? Ты ж уехала. «Не волнуйтесь, я о вас позабочусь». Какое там! Только о себе ты думаешь, а на нас тебе наплевать.
Я решила немедленно ехать с девочками в Неаполь на поезде, но Пьетро предложил отвезти нас на машине — и заботу проявил, и нашел себе оправдание, почему отлынивает от работы. Как только мы отъехали от Доганеллы и очутились на дорогах Неаполя с их беспорядочным движением, я почувствовала, как этот город снова схватил меня и заставляет подчиняться своим неписаным законам. Ноги моей здесь не было с тех пор, как я уехала на собственную свадьбу. Шум казался мне невыносимым, выводили из себя бесконечные гудки автомобилей и проклятья водителей, которыми они осыпали Пьетро за то, что не знал дороги, сомневался, куда ехать, и притормаживал. Перед площадью Карла III я предложила сменить его, села за руль сама и с остервенением доехала до виа Фиренце, до той самой гостиницы, где он когда-то останавливался. Мы выгрузили багаж, я с особой тщательностью привела в порядок себя и дочерей, и мы отправились в квартал, к моим родителям. Что я собиралась предпринять? Надавить на Элизу авторитетом старшей сестры, получившей образование и удачно вышедшей замуж? Заставить ее бросить его? Сказать: «Я с детства знаю, что такое Марчелло. С того дня, как он схватил меня за запястье, пытаясь затащить в свой „милличенто“, и порвал мамин серебряный браслет. Поверь, это жестокий и похотливый человек»? Да, именно так. Я была настроена решительно, и у меня была цель — вытащить Элизу из этой западни.
Мать очень тепло встретила Пьетро, потом начала дарить подарки девочкам, выдавая по одному: «Это Деде от бабушки, это — Эльзе». Подарков было много, и дочки были счастливы. У отца от волнения охрип голос, мне показалось, он похудел и пресмыкается еще больше, чем раньше. Я ждала, когда выйдут братья, но оказалось, их нет дома.
— Они все время на работе, — сказал отец без воодушевления.
— А чем они занимаются?
— Вкалывают, — влезла в разговор мать.
— Где?
— Марчелло устроил.
Мне вспомнилось, как Солара устроили Альфонсо и во что они его превратили.
— Так чем они занимаются? — спросила я.
— Деньги приносят — и ладно, — ответила она раздраженно. — Элиза не то что ты, Лену, Элиза обо всех нас думает.
Я сделала вид, что не расслышала.
— Ты сказала ей, что я приеду сегодня? Где же она?
Отец опустил взгляд, а мать сухо проговорила:
— У себя дома.
Я рассердилась:
— Она что, здесь больше не живет?
— Нет.
— И давно?
— Почти два месяца. У них с Марчелло прекрасная квартира в новом квартале, — ледяным голосом ответила мать.
90
Все оказалось серьезнее, чем я думала; они не просто встречались. Я решила сразу ехать к Элизе, несмотря на то что мать твердила: «Стой, что ты делаешь? Сестра готовит тебе сюрприз, подожди, поедем попозже все вместе». Но я не послушала. Позвонила ей; она обрадовалась и в то же время немного растерялась. «Жди меня, — сказала я, — я выхожу». Я оставила Пьетро и девочек с родителями и отправилась к ней пешком.
Квартал показался мне еще хуже, чем был: облупленные стены домов, ямы на шоссе, кругом грязь. Из траурных объявлений, развешанных на стенах (я никогда еще не видела, чтобы их было так много), я узнала, что умер старик Уго Солара, дед Марчелло и Микеле. Судя по дате, это была уже не новость — прошло больше двух месяцев. Высокопарные слова, изображения скорбящей Мадонны и само имя умершего выцвели, но сообщения о смерти по-прежнему висели повсюду, как будто другие умершие, из уважения к Солара, решили о своем уходе из этого мира никого не оповещать. Много объявлений висело и на колбасной лавке Стефано. Там было открыто, но вход казался просто дырой в стене: внутри темно, пусто, один Карраччи мелькнул в глубине в белой рубашке и исчез, как привидение.
Я поднялась к железной дороге, прошла мимо того, что когда-то было новой колбасной лавкой. Давно опущенная железная ставня с одной стороны вышла из пазов, вся проржавела и была покрыта неприличными надписями и рисунками. Эта часть района казалась заброшенной, стены домов, которые я помнила белоснежными, посерели, штукатурка кое-где потрескалась, обнажив кирпичи. Я прошла мимо дома, где жила Лила. Когда-то здесь посадили молодые деревца — выжили из них немногие. Стекло входной двери треснуло и было заклеено скотчем. Элиза жила выше, в более фешенебельной и лучше сохранившейся части района. Дорогу мне преградил консьерж — лысый мужик с тонкими усами, — и спросил недовольно, к кому я. Я не знала, что ответить, и буркнула: «К Солара». Мужик тут же просиял и пропустил меня.
Только в лифте мне пришло в голову, что меня как будто отбрасывает назад. То, что в Милане и во Флоренции казалось мне совершенно нормальным — свобода женщины распоряжаться собственным телом и желаниями, сожительство вне брака, — здесь, в квартале, приводило меня в шок: на кону стояло будущее моей сестры, и я никак не могла успокоиться. Элиза живет под одной крышей с таким опасным человеком, как Марчелло Солара, и моя мать довольна? Мать, бесившаяся оттого, что я вышла замуж в муниципалитете и отказалась от религиозных ритуалов, мать, которая считала Лилу шлюхой за то, что та жила с Энцо, звала Аду потаскухой за то, что та стала любовницей Стефано, спокойно приняла то, что ее незамужняя младшая дочь спит с мерзавцем Марчелло Соларой? Об этом я думала, поднимаясь к Элизе, и моя злость казалась мне совершенно оправданной. А вот мысленно — я привыкла все раскладывать по полочкам — я зашла в тупик: я не знала, какие доводы пускать в ход. Те, что использовала бы моя мать несколько лет назад, если бы я сделала такой выбор? Не скачусь ли я тем самым до уровня, с которого даже она сдвинулась? А может, сказать: «Живи с кем хочешь, только не с Марчелло Соларой»? Сказать так? А рискнула бы я приказать какой-нибудь современной девушке в Милане или во Флоренции бросить любимого человека, кем бы он ни был?
Элиза открыла, я обняла ее так сильно, что она засмеялась: «Ай, больно». Я чувствовала, что она волнуется. Она провела меня в гостиную — помпезную, уставленную диванами и креслами в цветочек с золотыми спинками — и принялась безостановочно стрекотать: как хорошо я выгляжу, какие у меня красивые сережки и ожерелье, как элегантно я одета, как она мечтает увидеть Деде и Эльзу. Я охотно рассказывала ей о племянницах, дала примерить сережки и подарила их ей. Она повеселела, заулыбалась и сказала:
— А я боялась, что ты приехала меня ругать, что ты против наших с Марчелло отношений.
Я пристально посмотрела на нее:
— Элиза, так и есть, я против. И я проделала этот путь, чтобы сказать об этом тебе, маме, папе и братьям.
Выражение ее лица изменилось, глаза наполнились слезами.
— А вот теперь ты меня расстроила. Почему ты против?
— Солара — плохие люди.
— Марчелло — нет.
Она принялась рассказывать мне о нем. Сказала, что все началось, когда я ждала Эльзу. Мать уехала мне помогать, а она взвалила на себя всю заботу о семье. Как-то раз она отправилась за покупками в супермаркет Солара. Рино, брат Лилы, сказал, что, если она оставит список того, что нужно, он все принесет ей домой. Тогда же Марчелло помахал ей рукой в знак приветствия, как бы давая понять, что это его распоряжение. С тех пор он стал увиваться за ней, осыпая всевозможными знаками внимания. Элиза твердила себе: «Он для меня стар, да и не нравится мне». Но он занимал все больше места в ее жизни, причем вел себя очень любезно — ни единого лишнего слова, жеста, обычных мерзостей Солара. Марчелло оказался очень порядочным человеком, она чувствовала себя рядом с ним в безопасности, сильной и заметной, будто выросла сразу метров на десять. И это было еще не все. С того момента, как Марчелло обратил на нее внимание, жизнь Элизы изменилась. И в квартале, и за его пределами с ней обращались как с королевой: все старались выразить ей свое почтение. Это было абсолютно новое ощущение, к которому она до сих пор не могла привыкнуть. «То ты была никем, — объясняла она мне, — а тут вдруг тебя все начинают узнавать, даже мыши подвальные. Ты-то привыкла к такому: ты написала книгу, ты знаменитость, а я-то нет, — до сих пор в себя не могу прийти от удивления. Мне вдруг больше не надо было ни о чем волноваться. Обо всем заботился Марчелло, любое мое желание для него было закон. Время шло, и чем дальше, тем больше я в него влюблялась». В общем, в конце концов она сказала ему да. И теперь, если она хоть день не видела его и не слышала, — рыдала ночь напролет.
Элиза была уверена, что ей невероятно повезло, и я не в силах была разрушить это ее счастье. Да и она не давала мне возможности возразить: Марчелло был такой способный, такой ответственный, такой красивый, такой чудесный. Говорила она очень осторожно, стараясь либо отметить, как он не похож на Солара, либо выразить симпатию то к его маме, то к отцу, у которого были проблемы с желудком, из-за чего он больше почти не выходил из дома, то к покойному деду, а то и к Микеле: при личном знакомстве он вел себя совсем не так, как люди о нем говорят, и был очень доброжелательным человеком. «Поэтому, поверь, — заключила она, — мне еще никогда в жизни не было так хорошо, как сейчас. Потому и мама на моей стороне, а она сама знаешь какая, и папа, и Джанни с Пеппе — еще недавно они слонялись целыми днями без дела, а теперь Марчелло нашел им работу и очень хорошо платит».
— Раз все так — женитесь, — сказала я.
— Поженимся. Просто сейчас не время: Марчелло говорит, что сейчас у него много сложных дел, с которыми надо разобраться. К тому же траур по дедушке: бедный, он совсем потерял рассудок, разучился ходить, говорить — Господь забрал его, освободил. Как только все уладится, мы сразу поженимся, не волнуйся. К тому же, прежде чем жениться, неплохо бы проверить, хорошо ли нам вместе, разве нет?
Она говорила не своими словами — словами современной девушки, заученными по газетам. Я представила, что сама сказала бы на эту тему, и поняла, что ее слова мало чем отличаются от моих, разве что не так изящны. Что ей возразить? Я не знала этого ни в начале нашей встречи, ни сейчас. Я могла сказать только: «Нечего тут проверять, Элиза, все и так понятно — Марчелло попользуется тобой, пресытится твоим телом и бросит тебя». Только это прозвучало бы совсем старомодно: даже мать не осмелилась бы ляпнуть такое. Поэтому я сдалась. Я уехала, а Элиза осталась. А что было бы со мной, останься я здесь, какой я сделала бы выбор? Разве, когда я была девчонкой, братья Солара не нравились и мне тоже? К тому же что я получила, уехав? Не научилась даже подбирать разумные слова, которые могли бы убедить сестру не дать себя разрушить. У Элизы было красивое, очень тонкое лицо, безупречная фигура, ласковый голос. Марчелло я помнила хорошо: высокий, красивый, квадратное лицо, здоровый румянец. Мускулистый, способный на долгое и прочное чувство: то, что он был влюблен в Лилу, вовсе не значило, что с тех пор он не мог полюбить другую женщину. Что тут скажешь? В конце разговора она достала шкатулку и стала показывать мне всевозможные украшения, которые дарил ей Марчелло, — на их фоне сережки, которые я ей отдала, выглядели тем, чем, собственно, и были, — безделушкой.
— Будь осторожна, — сказала я, — не теряй себя. Если потребуюсь, звони.
Я собралась вставать, но она остановила меня и улыбнулась:
— Куда ты собралась? Мама что, не сказала тебе? Все придут сюда на ужин. Я столько всего наготовила.
Я не выразила восторга.
— Кто все?
— Все: увидишь, это сюрприз.
91
Первыми приехали отец, мать, мои девочки и Пьетро. Деде и Эльза получили еще подарков, на сей раз от Элизы, которая очень им обрадовалась («Деде, дорогая, поцелуй меня сильно-сильно, вот сюда; Эльза, какая ты миленькая, какая кругленькая, иди к тете, ты знаешь, что нас зовут одинаково?»). Мать тут же скрылась на кухне, опустив взгляд и не глядя на меня. Пьетро пытался отвести меня в сторону, чтобы сказать что-то важное. Ничего не вышло: отец утащил его с собой, усадил на диван перед телевизором и включил звук на полную громкость.
Вскоре появились Джильола с детьми — двумя несносными мальчишками, которые сразу нашли общий язык с Деде; Эльза стеснялась и жалась ко мне. Джильола была только что от парикмахера, цокала высоченными каблуками, сверкала золотом в ушах, на шее, на руках. Блестящее зеленое платье с огромным вырезом было ей впритык, толстый слой косметики уже начал шелушиться. Разговор со мной она начала без всяких предисловий, с открытого сарказма:
— А вот и мы, пришли чествовать вас, профессора. Как ты, Лену, все хорошо? А это и есть университетский гений? Ух ты, какая шикарная шевелюра у твоего мужа!
Пьетро освободился от руки отца, лежавшей на его плече, вскочил с места, смущенно улыбнулся и не сдержался — опустил взгляд на огромную грудь Джильолы. Она заметила это и явно обрадовалась.
— Спокойно, спокойно, не беспокойтесь, — сказала она. — У нас тут никто не встает поздороваться с синьорой.
Отец потянул моего мужа назад к себе, испугавшись, что его уведут, и заговорил с ним, несмотря на то, что телевизор работал очень громко. Я спросила Джильолу, как у нее дела, взглядом и интонацией стараясь сообщить, что не забыла ее откровений и что я рядом. Это ей явно не понравилось.
— Послушай, милая, у меня все хорошо, у тебя все хорошо, у всех все хорошо. Но если бы мой муж не заставил меня явиться сюда и страдать тут всякой фигней, дома мне было бы еще лучше. Просто чтобы ты понимала.
Я не успела ответить, в дверь позвонили. Сестра, легко, будто ее несло ветром, побежала открывать. «Как я рада вас видеть, — воскликнула она. — Проходите, мама, располагайтесь». Затем она вошла в комнату, таща за руку будущую свекровь, Мануэлу Солару, нарядную, с искусственным цветком в ярко-рыжих крашеных волосах, с прозрачными больными глазами в окружении больших синяков. Она показалась мне еще более тощей, чем в момент последней нашей встречи, — кожа да кости. За ней показался Микеле Солара — хорошо одетый, гладко выбритый, с обычной своей холодной силой во взгляде и спокойных жестах. Мгновение спустя в комнату вошел человек, которого я узнала с трудом. Все его тело казалось огромным: высокий, длинные толстые ноги, необъятные плечи, грудь и живот, казалось выточенные из какого-то тяжелого и очень плотного материала, массивная голова с широким лбом, длинные темные волосы, зачесанные назад, блестящая, отдающая в антрацитовую черноту, борода. Это был Марчелло — я догадалась по Элизе, которая смотрела на него как на бога и в знак уважения и благодарности тянулась к нему губами, будто это было ее подношение. Он наклонился, легко коснулся ее губ своими, пока отец поднимался с дивана, таща за собой смущенного Пьетро, а мать, хромая, ковыляла с кухни. Я поняла, что появление синьоры Солары считали событием исключительным, чем-то, чем стоит гордиться. Элиза в восторге шепнула мне: «Сегодня моей свекрови исполняется шестьдесят». — «Ах», — произнесла я, поразившись тем временем тому, что Марчелло, едва вошел в комнату, сразу же обратился непосредственно к моему мужу, будто они были знакомы. Он улыбнулся ему своей белоснежной улыбкой: «Все в порядке, профессор?» Что в порядке? Пьетро тоже неуверенно улыбнулся в ответ, а потом посмотрел в мою сторону, печально качнул головой, как бы говоря тем самым: «Что смог, сделал». Я хотела, чтобы он объяснил мне, что происходит, но Марчелло уже вел к нему знакомиться Мануэлу: «Иди сюда, мама, это профессор, муж Ленуччи, присаживайся здесь, рядом с ним». Пьетро слегка поклонился, я тоже почувствовала, что обязана поздороваться с синьорой Соларой. «Какая ты красавица, Лену, красавица, как сестра, — сказала она, а затем спросила с некоторой тревогой: — Кажется, тут жарковато, не находишь?» Я не ответила: Деде расхныкалась и звала меня. Джильола — единственная из присутствующих, кто демонстративно не уделял никакого внимания Мануэле, — грубо заорала на диалекте на своих сыновей, ударивших мою дочь. Я заметила, что Микеле молча изучает меня, не сказав даже «привет». Я сама громко поздоровалась с ним и пошла успокаивать Деде и Эльзу, которая, увидев, что сестре больно, тоже разревелась. «Я так рад видеть вас у себя, — сказал мне Марчелло. — Поверь, для меня это большая честь!» Потом он повернулся к Элизе, будто говорить непосредственно со мной было выше его сил: «Расскажи сестре, как я рад ее видеть, а то я так взволнован!» Я пробормотала что-то, чтобы успокоить его, но в этот момент вновь раздался звонок в дверь.
Микеле пошел открывать и вернулся очень довольный. За ним шел пожилой человек, нес чемоданы, мои чемоданы, которые мы оставили в гостинице. Марчелло указал ему на меня, он подошел и поставил багаж передо мной, будто это был волшебный фокус для моего развлечения. «Нет, — воскликнула я, — только этого не хватало!» Но Элиза обняла меня, поцеловала: «У нас полно места, вам не надо останавливаться в гостинице: в квартире столько комнат, две ванные». — «К тому же, — подчеркнул Марчелло, — я спросил разрешения у твоего мужа, я бы никогда не осмелился без спросу взять инициативу в свои руки. Профессор, пожалуйста, поговорите с женой, скажите ей что-нибудь в мое оправдание». Гневно размахивая руками, но в то же время улыбаясь, я сказала: «Ну надо же, какое недоразумение! Спасибо, Марче, ты очень любезен, только мы, к сожалению, не можем принять приглашение». Я попыталась отправить багаж назад в гостиницу, но в то же время мне надо было успокаивать Деде: «Ну, дай-ка посмотреть. Тебя что, мальчики ударили? Да нет, ничего нет, видишь? Дай поцелую — и все пройдет. Беги поиграй, и Эльзу возьми с собой». Я позвала Пьетро, уже попавшегося в сети Мануэлы Солары: «Пьетро, подойди, пожалуйста, что ты там такого наговорил Марчелло? Мы не можем спать тут». Я заметила, что от нервов стала говорить с диалектными интонациями, что некоторые слова выходили по-неаполитански, на языке квартала, двора, шоссе, туннеля, языке, который я впитывала вместе с квартальным поведением, реакцией на события, образами, которые во Флоренции казались выцветшими картинками, а здесь снова обретали скелет, обрастали мясом.
В дверь снова позвонили, Элиза пошла открывать. Кто еще должен был прийти? Через несколько секунд в комнату влетел Дженнаро: он увидел Деде, Деде тут же перестала хныкать и, глазам своим не веря, смотрела на него. Оба были поражены неожиданной встречей и глаз друг с друга не сводили. Вскоре появился Энцо — единственный блондин среди брюнетов, весь в светлом, но выглядел он все равно мрачно. Наконец в комнату вошла Лила.
92
Это был миг, означавший, что долгий период бесплотных разговоров и голосов, существующих только в виде электрических волн, внезапно кончился. На Лиле было синее платье выше колен. Она еще похудела и как будто вся состояла из одних нервов, отчего казалась еще выше ростом, несмотря на туфли без каблуков. Возле рта и в уголках глаз залегли морщинки; бледная кожа туго обтягивала лоб и скулы. Волосы она убрала в конский хвост; над самыми ушами, очень маленькими, проглядывали тонкие белые нити. Увидев меня, она улыбнулась и прищурилась. Я так удивилась, что ничего не сказала, даже не поздоровалась. Нам обеим было по тридцать, но мне показалось, что она выглядит старше и хуже меня, во всяком случае, какой я себя представляла. «Ну вот, и вторая королева явилась! — воскликнула Джильола. — Мои мальчишки проголодались, давайте садиться, а то они сейчас меня съедят!»
Мы сели за стол. Я чувствовала, что меня затягивает в какой-то отвратительный механизм, и не могла проглотить ни кусочка. Меня душила ярость. Приехав в отель, я распаковала наш багаж; значит, кто-то чужой, один или с помощниками, снова его упаковал, трогал мои вещи, вещи Пьетро и дочек, кое-как запихивая их в чемоданы. Я не желала мириться с очевидным фактом: мне придется ночевать в доме Марчелло Солары, чтобы не огорчать сестру, которая делила с ним постель. Я с тоскливой неприязнью наблюдала за Элизой и матерью: первая, вне себя от радости и волнения, болтала без умолку, изображая из себя хозяйку дома; вторая так и лучилась довольством и снизошла даже до того, что радушно наполнила тарелку Лилы. Я смотрела на Энцо: он ел, опустив голову, стараясь не обращать внимания на сидевшую рядом Джильолу, которая прижималась к нему своей огромной грудью и что-то ему говорила, громко и с интонациями обольстительницы. Пьетро, которого без конца дергали мой отец, Марчелло и синьора Солара, не отводил глаз от сидевшей напротив него Лилы. Она, в свою очередь, игнорировала всех, кроме моего мужа, — даже меня, а может, меня в особенности. Меня раздражали дети — пять новых жизней, разделившихся на два лагеря: Дженнаро с Деде, с виду послушные, но хитрые, против сыновей Джильолы, которые отпивали вино из бокала своей невнимательной мамаши и вели себя все более несносно, чем нравились примкнувшей к ним Эльзе, хотя те не проявляли к ней никакого интереса.
Что я забыла на этом спектакле? Кому пришло в голову устроить это празднество? Понятное дело, Элизе, но кто ее надоумил? Очевидно, Марчелло. А его, без сомнения, науськал Микеле, который сидел рядом со мной, с аппетитом ел, много пил, никак не реагировал на поведение жены и сыновей и с усмешкой поглядывал на моего мужа, завороженного Лилой. Что он хотел этим доказать? Что мы находимся на территории Солара? Что я, хоть и сбежала, все равно принадлежу этому месту, а значит, и им? Что они могут делать со мной что угодно, используя чувства других людей, лексикон и традиции, внося любую путаницу, выдавая прекрасное за безобразное и наоборот. Он обратился ко мне — в первый раз за весь вечер. «Посмотри на маму, — сказал он. — Подумай только, ведь ей сегодня шестьдесят, а как выглядит! Разве ей дашь? Красавица! Правда?» Он нарочно произнес это погромче, чтобы все услышали не столько его вопрос, сколько мой ответ. Он ждал от меня похвального слова в адрес его матери. Она сидела рядом с Пьетро, пожилая, немного растерянная женщина, на вид славная и безобидная, с длинным тощим лицом, огромным носом и идиотским цветком в поредевших волосах. Но именно она, ростовщица, обеспечила могущество семейства, она владела красной книгой, в которую были вписаны имена многих и многих обитателей квартала, города и целой области, она безнаказанно совершила преступление; она, если мы с Лилой не ошиблись в своих телефонных фантазиях, чему я посвятила несколько страниц своего неудавшегося романа, была беспощадна и жестока; она была та самая мамма, которая убила дона Акилле, чтобы захватить его отвратительный бизнес; она воспитала своих сыновей, научив их шагать по трупам и брать что захочется. И вот теперь Микеле ждал, что я скажу: «Конечно, правда. Твоя мама красавица, она прекрасно выглядит в свои годы! Просто молодец!» Краем глаза я видела, что Лила перестала болтать с Пьетро и обернулась в мою сторону: рот чуть приоткрыт, глаза прищурены, лоб наморщен. На ее лице читался сарказм, и у меня даже мелькнуло, что это она посоветовала Микеле заманить меня в ловушку. «Маме исполняется шестьдесят лет, Лену, маме твоего зятя, свекрови твоей сестры, посмотрим, что ты на это скажешь, будешь и дальше строить из себя училку?» Я посмотрела на Мануэлу и сказала: «Поздравляю». Все. Тут вмешался Марчелло — как будто я нуждалась в его помощи. «Спасибо, — воскликнул он взволнованно, — спасибо, Лену!» Потом он обратился к матери — та сидела с выражением боли на лице, на лбу выступил пот, тощая шея покрылась красными пятнами: «Ленучча поздравила вас, мама». Подключился и Пьетро, сидевший сбоку от нее: «Примите поздравления и от меня, синьора». И так по кругу — все, кроме Джильолы и Лилы, выразили свое почтение синьоре Соларе, даже дети проговорили хором: «С днем рождения, Мануэла, с днем рождения, бабушка». Она проворчала: «Я уже старая», — вытащила из сумки голубой веер с изображением залива и дымящегося Везувия и стала обмахиваться им, сначала слегка, а потом все быстрее и быстрее.
Микеле, хоть и начал с меня, гораздо больше оценил поздравление моего мужа. «Вы очень любезны, профессор, — вежливо сказал он. — Вы нездешний и потому не можете в полной мере знать всех достоинств нашей матери. Мы простые люди, — он перешел на доверительный тон, — мой покойный дед, пусть земля ему будет пухом, начинал с нуля, открыл бар тут на углу, отец расширил его, устроил кондитерскую, которая благодаря таланту повара Спаньюоло, отца моей жены и настоящего мастера своего дела, — правда, Джильола, — прославилась на весь Неаполь. Но все же, — добавил он, — именно маме, нашей маме мы обязаны всем, что у нас есть. В последнее время народ пошел завистливый, многие желают нам зла, распускают отвратительные слухи. Но мы люди терпимые, мы привыкли сохранять спокойствие — и как не привыкнуть, если ты всю жизнь в коммерции. Тем более что правда всегда торжествует. А правда в том, что это умнейшая женщина с сильным характером. Она ни разу не сказала себе: „Не хочу ничего делать, буду отдыхать“. Она проработала всю жизнь, всю, и все на благо семьи, ничего для себя. Все, что сегодня у нас есть, все, что она для нас, своих сыновей, построила, все, чем мы занимаемся, — это продолжение ее трудов и ее заслуга!»
Мануэла стала обмахиваться еще активнее. Она перевела взгляд на Пьетро и громко сказала: «Микеле — прекрасный сын. В детстве, на Рождество, он забирался на стол и читал стихи. У него только один недостаток: очень уж любит поговорить, а когда говорит, всегда все преувеличивает». — «Что вы, мама, — перебил ее Марчелло, — какие преувеличения? Это чистая правда». И Микеле с новым воодушевлением продолжил превозносить Мануэлу, расписывать, какая она красивая, какая великодушная, и так до бесконечности, пока вдруг неожиданно не повернулся ко мне. «Есть только одна женщина, — сказал он серьезно и даже торжественно, — почти такая же, как наша мама». Другая женщина? Женщина, которая почти может сравниться с Мануэлой Соларой? Я смотрела на него в растерянности. Фраза, за исключением этого «почти», прозвучала явно не к месту, и на мгновение за столом повисло молчание. Джильола впилась взглядом в мужа; она много выпила, и смотрела на него расширенными зрачками. Лицо моей матери тоже напряглось: может, она надеялась, что этой женщиной окажется Элиза, что Микеле намерен передать ее дочери право унаследовать почетное звание главы семейства Солара. Мануэла перестала махать веером, стерла указательным пальцем пот с губы и уставилась на сына: сейчас он скажет, что пошутил.
Но Микеле со свойственной ему наглостью, наплевав на жену, на Энцо и даже на мать, перевел взгляд на Лилу. Он побледнел, даже слегка позеленел; с него частично слетела его обычная самоуверенность; он выбрасывал каждое слово, словно накидывал лассо, с помощью которого силился оторвать ее от Пьетро, завладевшего ее вниманием. «Сегодня, — сказал он, — все мы собрались здесь, во-первых, в честь двух уважаемых профессоров и их прелестных дочек, во-вторых, в честь дня рождения моей мамы, святой женщины, в-третьих, чтобы пожелать счастья и скорейшего вступления в брак Элизе, а в-четвертых, с вашего позволения, конечно, чтобы выпить за согласие, которое я уж и не надеялся получить. Лина, выйди сюда, пожалуйста».
Лина. Лила.
Я поискала ее взгляд и на долю секунды его перехватила. «Ну что, поняла теперь мою игру? — успела я прочитать в нем. — Поняла, как надо?» К моему огромному удивлению, пока Энцо изучал пятнышко на скатерти, она покорно встала и подошла к Микеле.
Он не коснулся ее. Ни пытался дотронуться ни до ее руки, ни до плеча, будто их разделяла бритва, о которую он боялся пораниться. Вместо этого кончиками пальцев скользнул по моему плечу и сказал: «Только не обижайся, Лену, ты большая молодец, ты проделала долгий путь, о тебе писали в газетах, мы все гордимся тобой, гордимся тем, что знаем тебя с детства. И все же — я уверен, что ты одобришь мои слова, потому что любишь Лину, — у Лины в голове есть кое-что, чего нет больше ни у кого, что-то такое, что вдруг дает о себе знать и против чего мы бессильны. Никакая медицина не скажет, что это такое, но ей это дано с рождения. Она сама про это не знает и знать не хочет — вон как сердито смотрит! Но если вы встанете у нее на пути, у вас будут большие проблемы. И наоборот, если она за вас, такое сделает, что все рот разинут. Я давно зарюсь на ее талант, давно мечтаю его купить. Да, купить, что тут плохого? Покупают же жемчуг и бриллианты! К сожалению, до сегодняшнего дня у меня ничего не получалось. Но сейчас мы сделали один маленький шажок в этом направлении, и именно это мне хотелось бы отпраздновать. Я пригласил синьору Черулло поработать в механографическом центре, который я основал в Ачерре. На самой современной из существующих машин. Если тебе, Лену, интересно, и вам, профессор, тоже, я могу отвезти вас туда, хоть прямо завтра или перед вашим отъездом. Что скажешь, Лену?»
Лила скривилась, недовольно замотала головой и, глядя на синьору Солару, произнесла: «Микеле ничего не понимает в компьютерах. Ему кажется, что я делаю бог знает что, а на самом деле это ерунда: достаточно пройти заочный курс. Даже я справилась, хотя у меня за плечами только начальная школа». Больше она ничего не сказала. Вопреки моим ожиданиям, она не стала высмеивать Микеле за его пафосную речь про ее необыкновенный дар или издеваться над его словами про жемчуг и бриллианты. Она приняла его комплименты и позволила нам выпить за ее новую работу, как будто и правда получила место в раю, и не мешала Микеле и дальше нахваливать ее: за такую зарплату она это ему прощала. Тут подал голос и Пьетро, обладавший способностью легко сходиться с людьми много ниже себя; и не подумав посоветоваться со мной, он сказал, что мы будем счастливы посетить центр в Ачерре, и засыпал вопросами Лилу, успевшую вернуться на свое место. Дай я ей время, она увела бы у меня мужа, как когда-то увела Нино, мелькнуло у меня. Но ревности я не испытывала. Даже если бы она на это и пошла, то с одной целью: сделать ров между нами еще глубже. Пьетро ей не нравился, это было очевидно, да и он никогда не бросил бы меня ради другой.
Охватившее меня чувство было намного сложнее. Я здесь родилась, и здесь меня считали человеком, добившимся самого большого успеха, — это всегда казалось мне неоспоримым фактом. Но Микеле своим панегириком в честь Лилы сверг меня с пьедестала, да еще на глазах моей родни; мало того, он хотел, чтобы и я согласилась с ним, вслух признав несравненные таланты моей подруги. И Лила ему не возразила. Я не исключала, что она сама спланировала и организовала это его выступление. Еще несколько лет назад, когда у меня была своя, пусть и скромная, писательская слава, я отнеслась бы к этому легко и даже порадовалась бы за Лилу, но теперь, когда мои достижения остались в прошлом, слова Микеле отозвались во мне болью. Мы с матерью обменялись взглядами. Она хмурилась; по выражению ее лица я поняла, что она с радостью влепила бы мне сейчас пощечину. Ее раздражало мое кроткое молчание; ей хотелось, чтобы я ответила, блеснула своими знаниями — знаниями высшего сорта, не чета этой ерунде в Ачерре. В ее глазах читался немой приказ. Но я его проигнорировала. Вдруг Мануэла Солара, обведя комнату недовольным взглядом, воскликнула: «Ну и жарища! Вам не кажется?»
93
Элиза, как и мать, не желала мириться с потерей моего авторитета. Но если та страдала молча, то Элиза с сияющим лицом повернулась ко мне, своей любимой старшей сестре, которой искренне гордилась, и радостно сказала: «Я должна тебе кое-что передать». И тут же, в своей обычной манере перескакивать с темы на тему, спросила: «Ты когда-нибудь летала на самолете?» Я ответила, что не летала. «Правда?» — «Правда». Оказалось, что из всех присутствующих только Пьетро летал много раз и не видел в этом ничего особенного. Но для Элизы и Марчелло это было настоящее приключение. Они летали в Германию, и по делам, и отдохнуть. Элиза немного боялась: самолет слегка трясло, а струя холодного воздуха била ей прямо в голову — еще чуть-чуть, и просверлила бы дыру! Но потом она увидела в иллюминатор белоснежные облака, а над ними ясное голубое небо. Так она открыла для себя, что там, над облаками, всегда хорошая погода и что с высоты земля кажется зелено-сине-фиолетовой, а кое-где сияет снежной белизной — они видели, когда пролетали над горами.
— Угадай, кого мы встретили в Дюссельдорфе?
— Не знаю, Элиза, — недовольно проворчала я, — сама скажи.
— Антонио!
— Да ну?
— Он просил передать тебе привет.
— У него все хорошо?
— Да, отлично. Он передал тебе подарок.
Так вот что она хотела мне передать — подарок Антонио. Она побежала за ним. Марчелло смотрел на меня улыбаясь.
— Кто такой Антонио? — спросил Пьетро.
— Наш сотрудник, — ответил Марчелло.
— Жених вашей жены, — засмеялся Микеле. — Времена меняются, профессор. Сегодня девушки ни в чем не уступают парням, да еще и хвастаются этим. Вот у вас сколько было женщин?
— Ни одной. Я любил и люблю только свою жену, — серьезно ответил он.
— Не верю! — воскликнул Микеле, развеселившись. — Хотите, скажу на ушко, сколько женщин было у меня?
Он встал — Джильола с отвращением проводила его взглядом, — подошел к моему мужу и шепнул ему что-то.
— Невероятно! — воскликнул Пьетро с легкой иронией. Оба рассмеялись.
Тем временем вернулась Элиза и вручила мне бумажный сверток.
— Открывай.
— А ты знаешь, что там? — спросила я в растерянности.
— Мы оба знаем, — сказал Марчелло, — но надеемся, что ты не знаешь.
Я разворачивала пакет и чувствовала, что все взгляды за столом направлены на меня. Особенно пристально смотрела на меня Лила, как будто ждала, что из пакета выползет змея. Когда стало ясно, что Антонио, сын сумасшедшей Мелины, малограмотный наемник Солара, прислал мне в подарок не что-то милое, трогательное, напоминающее о былом, а всего лишь книгу, — все, казалось, были разочарованы. Но потом они заметили, как я изменилась в лице, как рассматриваю обложку, не в силах скрыть свою радость. Это была не просто книга. Это была моя книга. Немецкий перевод моей повести, вышедший спустя шесть лет после публикации в Италии. Впервые в жизни я наблюдала подобное зрелище — а для меня это было настоящее зрелище: как мои слова пляшут перед мной, написанные на другом языке.
— Ты что, ничего не знала?
— Нет.
— Довольна?
— Еще бы! Очень довольна!
Сестра с гордостью объявила всем:
— Это та самая книга, которую написала Ленучча, только на немецком.
Мать тут же почувствовала себя отмщенной и зарумянилась от удовольствия:
— Конечно, она у нас знаменитость!
Джильола взяла у меня книгу, полистала и с восхищением сказала, что единственное, что она поняла, — это Элена Греко. Лила требовательно протянула руку за книгой. Я видела в ее глазах любопытство, желание потрогать, посмотреть, почитать незнакомые слова, вмещавшие меня и переносившие далеко-далеко. Она желала получить книгу немедленно — я поняла это по ее глазам, такое бывало с ней в детстве; я растрогалась. Но Джильола не собиралась выпускать добычу.
— Подожди, я еще сама не посмотрела. А ты что, еще и немецкий знаешь? — Лила отвела руку и отрицательно покачала головой, на что Джильола воскликнула: — Вот и нечего лезть! Мне, может, тоже интересно, чего там понаписала Ленучча.
В абсолютной тишине она с явным удовольствием вертела в руках книгу, листала страницы, медленно вглядывалась в строки. Затем наконец отдала мне книгу, нетрезвым голосом проговорив:
— Какая же ты молодец, Лену! Поздравляю тебя: и с книгой, и с мужем, и с дочками. Кто-то думал, что тебя только мы знаем, а оказалось, тебя знают даже немцы. Ты заслужила все, что у тебя есть, заслужила своим трудом, никому не делала зла, не морочила головы чужим мужьям. Ну, спасибо, нам пора, до свиданья.
Она с тяжким вздохом поднялась: от вина она стала еще грузнее. «А ну пошли!» — крикнула она детям. Мальчики не хотели уходить, старший выругался на диалекте, мать дала ему пощечину и силой потащила к выходу. Микеле с улыбкой на лице покачал головой и проворчал: «И зачем я только женился на этой идиотке, вечно портит мне все удовольствие. Подожди, Джильо, куда ты? — сказал он ей. — Сначала десерт от твоего отца, а потом пойдем». Дети, воодушевленные словами отца, тут же вырвались от матери и вернулись за стол. Но Джильола продолжала двигаться к выходу, ворча раздраженно: «Ну и оставайтесь, а я пошла, мне нехорошо». И тут раздался вопль Микеле: «А ну вернись и сядь на место!» Она замерла, как будто от этого крика ей парализовало ноги. Элиза подбежала к ней: «Пойдем, поможешь мне принести торт» — взяла ее за руку и утащила на кухню. Я взглядом постаралась успокоить Деде, испуганную воплем Микеле, а затем протянула книгу Лиле: «Хочешь посмотреть?» Она отрицательно помотала головой, изобразив на лице пренебрежительную гримасу.
94
«Н — да, и куда мы попали?» — с веселым возмущением спросил меня Пьетро, когда мы уложили девочек и закрылись в комнате, которую выделила нам Элиза. Ему хотелось вместе со мной посмеяться по поводу самых колоритных эпизодов этого вечера, но я не приняла его шутливого тона, и мы начали шепотом ругаться. Я была страшно зла — на него, на других, на саму себя. Из хаоса одолевавших меня чувств на поверхность всплыло одно: желание, чтобы Лила заболела и умерла. Это не была ненависть: я любила ее все больше и не могла ненавидеть. Но пустота, которая оставалась после того, как она в очередной раз уворачивалась от меня, была невыносима. «Как тебе только в голову пришло, — корила я Пьетро, — позволить им принести сюда наши чемоданы, заставить нас сюда переехать?» — «Я же не знал, что это за люди». — «Ну конечно, — шипела я, — ты же меня не слушаешь. Я никогда не скрывала, откуда я родом».
Говорили мы долго, он меня успокаивал, я негодовала. Сказала ему, что он слишком робок, что позволяет садиться себе на голову, что умеет возражать только людям своего круга, что я больше не доверяю ни ему, ни его матери. «Как это может быть, чтобы в издательстве ничего не знали? Книга вышла в Германии два года назад, а мне никто об этом не сообщил. На каких еще языках ее издали без моего ведома? Ну ничего, теперь-то я доберусь до правды» — и так далее в том же духе. Он во всем со мной соглашался и даже предложил утром вместе позвонить его матери и в издательство. Потом он с большой симпатией отозвался о том, что называл средой — той самой, в которой я родилась и выросла. Повторял, что моя мать очень умна и добра, нашел теплые слова для моего отца, Элизы, Джильолы и Энцо. Но мгновенно сменил тон, когда добрался до братьев Солара: этих отпетых негодяев, бандитов и отъявленных лжецов. Наконец он перешел к Лиле. «Она поразила меня больше всех», — тихо сказал он. «Я заметила, — фыркнула я, — ты же с ней весь вечер проговорил». На что Пьетро уверенно кивнул головой и неожиданно заявил, что Лила, на его взгляд, хуже их всех. Он сказал, что никакая она мне не подруга и что она меня ненавидит. Да, она очень умна и обворожительна, но свой ум она использует не во благо, а во зло; у нее злобная душа, способная сеять только раздор и ненависть к жизни, а потому ее очарование отталкивает: оно порабощает и служит разрушению. Вот так.
Поначалу я делала вид, что не согласна с ним, но на самом деле была довольна. Значит, я ошиблась, и Пьетро оказался ей не по зубам: это был человек, умевший в любом тексте видеть и подтекст, и он с легкостью считал все темные стороны ее характера. Потом я решила, что он все же преувеличивает. «Я не понимаю, как ваши отношения могли продолжаться так долго, — сказал он, — если только вы обе не старались скрывать друг от друга то, что должно было их разрушить. Или я ничего не понял в ней — что вполне возможно, я ведь ее не знаю, — или я ничего не понимаю в тебе, а вот это волнует меня значительно больше». Наконец он сказал самое неприятное: «Она и этот Микеле созданы друг для друга; если они еще не любовники — скоро станут». Тут я возмутилась. Грозным шепотом я говорила, что терпеть не могу, когда он рассуждает с видом всезнайки, что лучше ему никогда в жизни не повторять ничего подобного о моей подруге и что он ничего не понимает. Пока я клокотала, меня осенила догадка: все-таки Лила его проняла, да еще как! Пьетро был настолько околдован ею, что и сам испугался, и теперь нарочно старался принизить ее в моих глазах. Боялся он, скорее всего, не за себя, а за меня. Он боялся того, что она даже на расстоянии украдет меня у него и разрушит нашу семью. Чтобы защитить меня, он пустился во все тяжкие и поливал ее грязью, надеясь, что она станет мне отвратительна и я выкину ее из своей жизни. Я пробормотала: «Спокойной ночи» — и повернулась к нему спиной.
95
Утром я проснулась ни свет ни заря и начала собирать вещи, чтобы как можно скорее вернуться домой, во Флоренцию. Но ничего не вышло. Марчелло сказал, что пообещал брату отвезти нас в Ачерру. Пьетро не возражал (хотя я всячески показывала, что не хочу никуда ехать), мы оставили детей с Элизой, и этот здоровяк довез нас до низкого длинного желтого здания, в котором располагался обувной склад. Я всю дорогу молчала, а Пьетро расспрашивал Марчелло о том, что за дела ведут Солара в Германии. Тот отвечал расплывчато: «Италия, Германия, да хоть весь мир, профессор! Я коммунист больше, чем сами коммунисты, революционер больше, чем революционеры, — если потребуется все снести и выстроить все заново, я буду в первых рядах. Хотя, — он покосился в зеркало заднего вида, ища мое одобрение, — любовь для меня прежде всего».
Когда мы доехали, он провел нас в комнату с низким потолком, освещенную лампами дневного света. В помещении витал сильный запах чернил, пыли и оплавившейся изоленты, смешанный с запахами обувной кожи и гуталина. «Вот эта штуковина, которую арендовал Микеле», — сказал Марчелло. Я огляделась вокруг: возле машины никого не было. Безликая «Система-3» стояла возле стены, похожая на предмет мебели: металлические панели, кнопки, красный выключатель, деревянные полки, клавиатура. «Я в этом ничего не понимаю, — сказал Марчелло, — во всем Лина разбирается, но у нее тут нет фиксированного графика и она вечно где-то ходит». Пьетро внимательно разглядывал панели, ручки, каждую деталь, но было видно, что все эти новшества сильно его разочаровали, тем более что Марчелло на все его вопросы отвечал однообразно: «Это надо у брата спрашивать, у меня своих забот хватает».
Лила появилась, когда мы уже собирались уходить. Вместе с ней шли две молодые женщины с металлическими контейнерами в руках. Лила раздраженно отдавала им какие-то приказы, но, как только увидела нас, сменила тон на более вежливый, хотя было видно, что она себя пересиливает, как будто частью мозга негодует, что вынуждена отвлекаться от неотложных дел. На Марчелло она даже не посмотрела и сразу заговорила с Пьетро, обращаясь и ко мне тоже: «И что вас сюда принесло? — съязвила она. — Но если вам и правда интересно, давайте меняться: вы будете работать здесь, а я начну писать романы и рассуждать о литературе и античной живописи». Мне снова показалось, что она постарела больше моего, и не только внешне. Она принялась рассказывать — неинтересно, непонятно и нудно — не только о том, как функционирует «Система-3», но и о каких-то магнитных лентах, пятидюймовых дисках и других новшествах типа настольного компьютера, который можно поставить у себя дома. Это была уже не та Лила, что по-детски мечтала о новой работе; ничего общего с воодушевлением, какого, говоря о своей работе, не скрывал от нас Энцо. Она вела себя как сверхкомпетентный специалист, вынужденный по прихоти начальства принимать у себя тупых туристов. В ее речи не мелькнуло ни одной дружеской интонации, она ни разу не пошутила с Пьетро. Наконец она велела девушкам показать Пьетро, как работает перфоратор, а меня вывела в коридор.
— Ну что? Ты рада за Элизу? И как тебе спалось в доме Марчелло? Ты счастлива, что старой ведьме стукнуло шестьдесят?
— Раз моя сестра так решила, — недовольно пробурчала я, — что я могу сделать? Голову ей оторвать?
— Да уж, это только в сказках все бывает как хочется. Реальность — другое дело.
— Неправда. Кто тебя заставил позволять Микеле себя использовать?
— Это я его использую, а не он меня.
— Ты сама себя обманываешь.
— Вот погоди, увидишь.
— Что увижу? Скажешь тоже.
— Слушай, мне не нравится, когда ты так себя ведешь. Ты ничего о нас не знаешь, так что лучше уж молчи.
— Ты хочешь сказать, что тебя можно критиковать только тому, кто живет в Неаполе?
— Неаполь, Флоренция, какая разница… Ты все равно ничего не поймешь, Лену.
— Кто тебе это сказал?
— Это факты.
— Знаешь, я со своими фактами сама разберусь, без твоей помощи.
Я была на пределе. Она почувствовала это и решила мириться.
— Ладно. Ты меня разозлила, и я наговорила лишнего. Ты правильно сделала, что уехала из Неаполя, очень правильно. Кстати, знаешь, кто вернулся?
— Кто?
— Нино.
От этой новости у меня заломило в груди.
— А ты откуда знаешь?
— Мариза сказала. Он получил место в университете.
— Что ему в Милане не понравилось?
Лила прищурилась:
— Он женился тут на одной с виа Тассо. У ее родителей половина Банка Неаполя. У них сыну уже год.
Не помню, причинила мне эта весть боль или нет, зато точно помню: она казалась мне невероятной.
— Неужели правда женился?
— Да.
Я посмотрела ей в глаза, надеясь угадать, что у нее на уме.
— Собираешься повидаться с ним?
— Нет. Но если встречу случайно на улице, скажу, что Дженнаро не от него.
96
После этого она говорила еще о чем-то, без особой связи и логики: поздравляю, у тебя очень красивый и умный муж, рассуждает как верующий, хотя сам атеист, столько знает об Античности, да и вообще кучу всего, например о Неаполе, мне даже стыдно стало: я вот неаполитанка, а ничего этого не знаю. Дженнаро растет, им больше моя мать занимается, чем я, но учится хорошо. С Энцо у нас все нормально: много работаем, мало видимся. А вот Стефано сам роет себе могилу: карабинеры нашли у него в подсобке краденый товар — уж не знаю, какой именно, — его арестовали, правда сейчас выпустили, но он теперь тише воды, ниже травы, у него нет ни гроша — это я даю ему деньги, а не он мне. Видишь, как все меняется: осталась бы я синьорой Карраччи, тоже погибла бы, осталась бы без штанов, как все Карраччи, но, к счастью, я Рафаэлла Черулло, директор вычислительного центра у Микеле Солары, с окладом в четыреста двадцать пять тысяч лир. Теперь моя мать ведет себя как королева, отец мне все простил, брат тянет из меня деньги, Пинучча только и рассказывает, как меня любит, а их дети зовут меня тетушкой. А работа скучная, все совсем не так, как мне вначале казалось: все так медленно, столько времени приходится ждать, надеюсь, скоро появятся новые машины, которые будут работать быстрее. А может, и это ничего не изменит. Скорость все сжирает: из-за нее даже фотографии выходят размытые. Это Альфонсо мне как-то сказал, так, шутки ради, — дескать, он родился размытым — ни одной четкой линии. В последнее время он постоянно набивается мне в друзья. Хочет во всем мне подражать, чтобы как под копирку; утверждает, что ему понравилось бы быть женщиной, такой, как я. «Какой еще женщиной, — сказала я ему, — ты же мужчина, ты ничего не знаешь о том, какая я, и даже если мы будем дружить и ты будешь меня изучать, — все равно ничего не узнаешь». — «Что же мне тогда делать? — улыбнулся он. — Быть собой для меня мучение». И тут он признался мне, что всю жизнь любит Микеле — да, самого Микеле Солару, — и потому хочет быть как я, потому что думает, что я нравлюсь Микеле. Понимаешь, Лену, что творится с людьми? Слишком много всего скрыто у нас внутри: оно так и раздувает нас, так и ломает. «Ладно, — сказала я ему, — давай будем друзьями, только выкинь из головы, что можешь стать женщиной, как я, если ты и можешь чем-то таким стать, то только женщиной, какой ее вы — мужчины — видите. Ты можешь копировать меня, срисовывать в мельчайших деталях, как художник, но мое дерьмо останется моим, а твое — твоим». Ах, Лену-у, что же с нами со всеми творится? Мы как трубы, в которых вода замерзла. Что за паршивая штука — голова, вечно она всем недовольная. Помнишь, что мы сделали с моим свадебным фото? Я хочу и дальше продолжать в том же духе. Придет день, когда я превращусь в сплошную блок-схему, перфорированную магнитную ленту, и никто меня больше не найдет.
Все это перемежалось смешками. Эта болтовня в коридоре еще раз подтвердила, что в наших отношениях больше не было близости. Они сжались до краткого обмена банальными новостями, недобрыми шутками, ехидными репликами, — ни о каком безоговорочном доверии больше не шло и речи. Жизнь Лилы теперь принадлежала только ей, и она никого не собиралась в нее впускать. Я поняла, что бесполезно донимать ее вопросами типа: что тебе известно о Паскуале? где он? ты имела отношение к убийству Соккаво и стрельбе по Филиппо? что заставило тебя принять предложение Микеле? как ты надеешься использовать его зависимость от тебя? Лила втянулась во что-то ужасное, о чем не говорят вслух, и не намеревалась обсуждать это ни с кем, в том числе и со мной. «Что это тебе в голову взбрело? — сказала бы она. — Совсем с ума сошла? Микеле, зависимость, Соккаво — что ты несешь?» Даже сейчас, когда я пишу эти строки, мне не хватает многих звеньев в цепи этой истории, чтобы уйти от сослагательного наклонения и перейти к утверждениям: «Лила пошла», «Лила сделала», «Лила встретила», «Лила планировала». А тогда, по пути во Флоренцию, в машине, меня не отпускало чувство, что там, в квартале, среди отсталости и нововведений, она жила более насыщенной жизнью, чем я. Я слишком много потеряла, уехав; я верила, что мне суждена какая-то другая жизнь. А Лила осталась, и теперь у нее была новая работа, за которую ей платили много денег, да еще и предоставили полную свободу действий, она разбиралась в каких-то невероятно сложных схемах и чертежах. Она очень любила сына, целиком посвятила себя ему в первые годы его жизни и сейчас заботилась о нем, но умела освобождаться от него, когда хотела, и не тряслась за него так, как я за своих дочерей. Она порвала с семьей, но несла на себе весь груз ответственности за родных и помогала им, чем только могла. Она помогала попавшему в беду Стефано, хотя не собиралась с ним сходиться. Она ненавидела Солара и все же уступила им. Она посмеивалась над Альфонсо, но не отказывала ему в дружбе. Она говорила, что не желает видеться с Нино, но я знала, что это не так, и она обязательно с ним встретится. Ее жизнь находилась в движении, в то время как моя остановилась. Пьетро молча вел машину, девочки ссорились между собой, а я все думала о ней и о Нино, о том, что будет с ними дальше. Я представляла, как Лила вернет его, наладит с ним отношения — это она умеет, уведет от жены и сына, использует в своей борьбе (уж не знаю, против кого), заставит развестись, сбежит от Микеле, предварительно выдоив из него кучу денег, бросит Энцо, может, надумает наконец развестись со Стефано, может, выйдет за Нино, а может, и нет, но в любом случае они объединят свои мозги и таланты, и тогда трудно себе даже представить, чем они вместе смогут стать.
Стать. Этот глагол мучил меня всю жизнь, но впервые я осознала это именно в тот день. Я хотела стать кем-то, хотя никогда не знала, кем именно. И я стала, это было точно, только без цели, без подлинной страсти, без ясных амбиций. Но главное заключалось в том, что стать кем-то я хотела только лишь из страха, что Лила станет кем-то значительным, а я останусь никем. Мое становление шло по ее следам. Теперь мне опять нужно было кем-то стать, но уже самой по себе, по-взрослому и вне зависимости от нее.
97
Как только мы приехали домой, я позвонила Аделе. Хотела узнать о немецком переводе, который прислал мне Антонио. Аделе очень удивилась: оказалось, она тоже ничего не знала. Поговорив с издательством, она перезвонила мне и сказала, что книга вышла не только в Германии, но и во Франции, и в Испании. «И что мне теперь делать?» — спросила я. «Ничего, радоваться», — растерянно ответила она. «Я очень рада, но все же, с практической точки зрения, — может, мне следует поехать куда-то для продвижения книги за границей?» — «Не надо никуда ехать, Элена, — ответила она ласково, — к сожалению, книга совсем не продается».
Настроение у меня испортилось. Я замучила издательство звонками, расспросами о переводах; я ругалась, что никто не потрудился поставить меня в известность, и даже сказала какой-то их сотруднице с сонным голосом: «Это нормально, что узнаю о немецком издании не от вас, а от своего малограмотного друга? Вы вообще собираетесь выполнять свою работу?» Потом я извинилась, почувствовав себя дурой. Одна за другой стали приходить книги: на французском, на немецком, еще один экземпляр немецкого перевода — не помятый, в отличие от подаренного Антонио, а новенький. Издания были паршивые: на обложках женщины в черных платьях, мужчины со свисающими усами в сицилийских беретах, сохнущее на веревках белье. Я листала их, показывала Пьетро и ставила в шкаф среди других книг. Немая, бесполезная бумага.
Я вступила в безрадостный, выматывающий период жизни. Каждый день я звонила Элизе узнать, по-прежнему ли обходителен с ней Марчелло и не собираются ли они пожениться. На мое обеспокоенное нытье она отвечала радостным смехом и рассказами о прекрасной жизни, путешествиях на автомобиле и самолете, процветании наших братьев, растущем благосостоянии отца и матери. Теперь я ей даже завидовала. Я была уставшая, раздражительная. Эльза долго болела, Деде требовала неустанного внимания, Пьетро, вместо того чтобы дописывать книгу, болтался без дела. Я раздражалась по малейшему поводу: орала на детей, ссорилась с мужем. В результате все трое стали меня бояться. Девочки, как только я приближалась к их комнате, останавливали игры и замирали в тревоге, а Пьетро все чаще предпочитал собственному дому университетскую библиотеку. Он уходил рано утром, возвращался вечером. С собой он, казалось, приносил следы борьбы, о которой я, окончательно выпав из общественной жизни, теперь узнавала только из газет: фашисты совершали одно убийство за другим, товарищи коммунисты от них не отставали, полиция получила законное право стрелять в зачинщиков беспорядков и пользовалась этим правом даже здесь, во Флоренции. И тут случилось то, чего я давно ждала: Пьетро оказался в центре одной ужасной истории, о которой много писали в газетах. Он завалил на экзамене одного парня из влиятельной семьи, известного активиста политической борьбы. Парень при всех обложил его руганью и направил на него пистолет. Пьетро — как мне рассказала одна общая знакомая, да и то не свидетельница происшествия, поскольку ее там не было, — продолжил спокойно вписывать неудовлетворительную оценку, после чего протянул студенту зачетную книжку и сказал примерно следующее: «Вы или стреляйте по-настоящему, или избавьтесь от оружия, потому что через минуту я выйду отсюда и заявлю на вас». Парень несколько долгих секунд продолжал целиться в голову Пьетро, а потом сунул пистолет в карман, схватил зачетку и убежал. Через несколько минут Пьетро отправился к карабинерам, парня арестовали. Но этим дело не кончилось. Семья парня обратилась с просьбой забрать заявление, но не к самому Пьетро, а к его отцу. Профессор Гвидо Айрота пытался переубедить сына: меня поразило, что во время их долгих телефонных переговоров Айрота-старший терял терпение и повышал голос. Но Пьетро не сдавался. Тогда на него накинулась я:
— Ты отдаешь себе отчет, как ты себя ведешь?
— А что я должен делать?
— Ослабить хватку.
— Я тебя не понимаю.
— Ты не хочешь меня понять. Ты такой же, как наши преподаватели в Пизе, только еще хуже.
— Мне так не кажется.
— Это так и есть. Ты забыл, как мы без толку горбатились, зубрили ненужные дисциплины и сдавали еще более бессмысленные экзамены?
— Мой курс не бессмысленный.
— Об этом лучше спросить твоих студентов.
— Спрашивать нужно тех, кто достаточно компетентен, чтобы ответить.
— А у меня ты спросил бы, будь я твоей студенткой?
— У меня отличные отношения с теми, кто занимается.
— То есть тебе нравится, когда перед тобой виляют хвостом?
— А тебе нравятся выскочки типа твоей подруги из Неаполя?
— Да.
— Почему же тогда ты сама всегда вела себя смирно и подчинялась правилам?
— Потому что я была бедной, — смутилась я. — Я вообще считала чудом то, что мне удалось забраться так высоко.
— Ну так у этого мальчишки нет с тобой ничего общего.
— У тебя со мной тоже нет ничего общего.
— Что ты хочешь этим сказать?
Я не ответила и на всякий случай перевела разговор на другое. Но вскоре гнев накатил снова, и я опять принялась ругать его за принципиальность. «Ладно, пусть ты его завалил, но зачем было писать на него заявление в полицию?» — «Он совершил преступление», — проворчал Пьетро. «Он играл, хотел тебя напугать, он же еще мальчишка». — «Пистолет — оружие, а не игрушка, — ледяным голосом ответил он, — и он был украден вместе с другим оружием семь лет назад из карабинерской казармы в Ровеццано». — «Парень не выстрелил», — говорила я. «Но пистолет на меня направил. А если бы выстрелил?» — злился Пьетро. «Он не выстрелил», — закричала я. В ответ он тоже поднял голос: «А что, мне надо было дождаться, пока выстрелит, а потом на него донести?» — «Не кричи, — завизжала я, — у тебя и так нервы не в порядке». — «Думай о своих нервах», — ответил он. Напрасно я, горячась, объясняла ему, что спорю с ним потому, что волнуюсь. «Я боюсь за тебя, за девочек, за себя», — твердила я. Он и не подумал меня успокоить, заперся у себя в кабинете и засел за книгу. Только несколько недель спустя он рассказал мне, что к нему приходили двое полицейских в штатском, расспрашивали его о некоторых студентах, показывали фотографии. В первый раз он встретил их вежливо и столь же вежливо проводил, ничего не сказав. Когда они явились во второй раз, он спросил:
— Эти молодые люди совершили преступление?
— Нет, пока нет.
— Тогда чего вы от меня хотите?
Он выпроводил их с презрительной вежливостью, на какую всегда был способен.
98
Лила не звонила несколько месяцев — наверное, была очень занята. Я тоже к ней не лезла, хотя она была мне очень нужна. Чтобы заглушить чувство пустоты, я попыталась сблизиться с Мариарозой, но препятствий к тому возникло довольно много. У золовки теперь постоянно жил Франко, и Пьетро не нравилось, что я провожу много времени с его сестрой и вижусь с бывшим любовником. Если я задерживалась в Милане больше чем на день, настроение у него портилось, учащались симптомы выдуманных болезней, и напряжение между нами росло. Сам Франко, выбиравшийся из дома разве что на необходимые медицинские процедуры, не любил, когда я у них бывала; его раздражал шум, который поднимали мои дочки, и он куда-нибудь уходил, заставляя нас с Мариарозой с ума сходить от волнения. У Мариарозы тоже было полно дел, вокруг нее постоянно крутились какие-то женщины. Ее квартира была открыта для всех: и для интеллектуалок, и для дам из богатых семей, и для простых работниц, которые прятались у нее от домашнего насилия, и для сбившихся с пути девчонок, и на меня у нее оставалось мало времени. К тому же она со всеми вела себя так тепло и сердечно, что я начинала сомневаться: может, я для нее всего лишь одна из многих? Зато за несколько дней, проведенных в ее доме, ко мне возвращалось желание учиться и писать. Точнее говоря, возвращалось ощущение, что я на это способна.
Мы подолгу обсуждали наши проблемы. Но, хоть все мы и были женщины (Франко, если не убегал, закрывался у себя в комнате), нам было трудно понять, что же такое женщина. Стоило хорошенько задуматься, и складывалось впечатление, что ни один наш поступок, мысль, выражение или мечта нам не принадлежит. Самых слабых из нас это приводило в отчаяние; они вообще не проявляли склонности к излишнему самокопанию и считали, что, для того чтобы встать на путь свободы, достаточно убрать из жизни женщин мужчин. То было крайне нестабильное время, и изменения происходили скачками, накатывая волна за волной. Многие из нас боялись, что снова наступит мертвый штиль, и предпочитали держаться на гребне волны, исповедуя крайние взгляды и посматривая вниз со страхом и гневом. Когда выяснилось, что газета «Лотта континуа» выступила против шествия женщин за свои права, градус дискуссии достиг такого накала, что стоило одной из наиболее непримиримых участниц наших собраний узнать, что у Мариарозы дома живет мужчина (она этого не афишировала, но и не скрывала), как спор перешел в свару, а кое-кто ушел, хлопнув дверью.
Мне все это было глубоко несимпатично. Я искала стимула, а не конфликтов, меня интересовали научные гипотезы, а не догмы. Во всяком случае, именно это я заявляла Мариарозе, которая слушала меня молча. Однажды я призналась ей, что во время учебы в Пизе нас с Франко связывали близкие отношения, которые значили для меня очень много. «Я благодарна ему, — сказала я. — Я многому у него научилась, и мне жаль, что сейчас он так холоден со мной и моими дочками. Но, — чуть подумав, продолжила я, — все-таки в этом мужском стремлении учить нас есть что-то глубоко неправильное. Я тогда была девчонкой и не понимала, что он пытается меня изменить потому, что такая, как есть, я его не устраиваю; он хотел, чтобы я стала другой; ему была нужна не просто женщина, а такая женщина, какой он был бы сам, родись он женщиной. Для Франко я воплощала возможность выйти за границы себя, распространиться и на женскую территорию тоже; я была живым свидетельством его всемогущества, на моем примере он мог показать, что способен быть не только мужчиной, но и женщиной. А теперь он перестал видеть во мне часть себя и потому считает, что я его предала».
Я выразилась именно так. Мариароза слушала меня с искренним интересом, не так, как слушала других. «Напиши что-нибудь на эту тему», — предложила она мне. И с волнением добавила, что такого Франко, о каком я ей рассказывала, она не застала. «Но это и к лучшему, — сказала она. — Я бы никогда не смогла влюбиться в такого человека. Ненавижу слишком умных мужчин, которые диктуют, какой мне надо быть. Предпочитаю страдающего и задумчивого Франко, которого приютила у себя и за которым присматриваю. Но ты, — настойчиво повторила она, — обязательно напиши о том, что мне рассказала».
Я кивнула в знак согласия, наверное, слишком поспешно; с одной стороны, довольная похвалой, а с другой — немного смущенная. Потом я заговорила о Пьетро и о том, что он навязывает мне свое мировоззрение. Тут Мариароза расхохоталась, нарушив торжественный тон нашей беседы. «Сравнивать Франко с Пьетро? Шутишь? — воскликнула она. — Пьетро с трудом справляется со своей мужской ролью, но чтобы он пытался навязать тебе свое представление о женщине, — да ну, перестань! Хочешь, скажу кое-что? Я готова была держать пари, что ты за него не выйдешь. А если выйдешь, бросишь его меньше чем через год. Что ни за что не родишь от него детей. То, что вы до сих пор вместе, кажется мне чудом. Бедняжка! Ты действительно молодчина».
99
Ну и ну: сестра моего мужа считала наш брак ошибкой и открыто говорила об этом. Я не знала, плакать мне или смеяться: для меня это было последним и самым убедительным доказательством того, что я не ошибалась, чувствуя себя несчастной в браке. Впрочем, что с того? Я убеждала себя, что зрелость в том и состоит, чтобы спокойно принимать все жизненные перипетии, уметь увязывать теории с практическими делами и прислушиваться к себе в ожидании больших перемен. Постепенно я успокоилась. Деде умела читать и писать и пошла в школу чуть раньше положенного. Эльза радовалась, что мы с ней по полдня проводим одни в тишине. Муж — скромный преподаватель университета — вроде бы заканчивал вторую книгу, которая обещала прозвучать еще громче первой, а я была синьорой Айротой. Эленой Айротой, женщиной, измученной собственным смирением, но — не без влияния золовки — нацелившейся покончить с собственной униженностью. Ради этого я почти тайно погрузилась в исследование темы женского образа, создаваемого мужчинами с Античности до наших дней. Я не ставила перед собой никаких задач, просто хотела иметь возможность на вопрос «Чем занимаешься?» отвечать Мариарозе и некоторым другим своим знакомым: «Работаю».
Оттолкнувшись от первых двух глав Библии, я приступила к анализу следующих пар: Дефо-Флендерс, Флобер-Бовари, Толстой-Каренина; затем обратилась к материалам «Ла дерньер мод»,[19] Роуз Селяви[20] и, одержимая жаждой разоблачений, двигалась все дальше. Вскоре я начала получать удовольствие от этой работы. Я всюду находила схематичные образы женщин, созданные мужчинами. От нас в них не было ничего, а если что-то и просачивалось, то немедленно захватывалось мужчинами в качестве материала для своих экспериментов. Когда Пьетро уходил на работу, Деде — в школу, а Эльза играла возле моего письменного стола, ко мне наконец возвращалось чувство, что я все-таки жива. Я копалась в словах — и между слов — и иногда задумывалась: как сложились бы моя жизнь и жизнь Лилы, если бы мы вместе поступили в среднюю школу, потом в лицей и в университет, и вместе получили бы диплом; если бы мы проделали весь этот путь плечом к плечу, сплоченная пара, объединившая умственную энергию, радость познания и силу воображения. Мы бы сочиняли вместе, подписывая свои тексты двумя именами, подпитывали бы друг друга и не давали бы друг другу усомниться: то, что принадлежит нам, — это наше и больше ничье. Одинокий женский ум обречен на несчастье, размышляла я. Как много мы потеряли, отделившись друг от друга! Мне казалось, что мои мысли — это какие-то обрубки; любопытные, неполноценные; мне хотелось проверить их и развить, но себе я не доверяла. Меня охватывало желание позвонить Лиле и сказать: «Послушай, вот что я думаю, давай это обсудим, мне важно услышать твое мнение. Помнишь, что ты говорила мне про Альфонсо?..» Но я упустила эту возможность, и не сейчас, а десятилетия назад. Придется учиться довольствоваться собой.
Однажды, когда я сидела и размышляла над необходимостью этого, в замочной скважине повернулся ключ. Пьетро пришел на обед, по пути забрав из школы Деде. Я закрыла свои книги и тетради. Дочка вбежала в комнату, Эльза очень ей обрадовалась. Деде проголодалась, и я ждала, что сейчас она спросит, как обычно: «Мам, что у нас на обед?» Но она, даже не успев положить портфель, воскликнула: «С нами будет обедать папин друг». Я точно запомнила дату, это было 9 марта 1970 года. Я недовольно поднялась. Деде схватила меня за руку и потащила в коридор. Эльза, поняв, что пришел кто-то чужой, держалась за мою юбку. «Смотри, кого я тебе привел!» — радостно сказал Пьетро.
100
У Нино больше не было густой бороды, с которой я его видела несколько лет назад в книжном магазине, но волосы были все такие же длинные и взлохмаченные. В остальном он остался прежним: высокий, худой, с сияющими глазами, небрежно одетый. Он обнял меня, присел приласкать девочек, встал и попросил прощения за вторжение. Я пробормотала несколько дежурных слов: «Проходи, располагайся. Какими судьбами ты во Флоренции?» Я чувствовала себя так, будто по мозгу разливалось обжигающее вино: происходящее не укладывалось в голове. Неужели это он, собственной персоной, здесь, у меня дома? Наверное, что-то в этом мире дало сбой. Может, это мне только чудится? Пьетро объяснил: «Мы встретились в университете, и я пригласил гостя к нам на обед». Я улыбнулась, сказала: «Да, конечно, все готово: где на четверых, там и на пятерых хватит. Пойду накрывать на стол, составите мне компанию?» Я старалась казаться спокойной, хотя на самом деле во мне все кипело, а от вымученной улыбки заболели скулы. Как мог Нино оказаться здесь? И где это «здесь»? И что значит «оказаться»? «Вот, преподнес тебе сюрприз», — немного сконфуженно произнес Пьетро, опасаясь, не совершил ли ошибку. «Я ему сто раз говорил, что надо тебе позвонить, — улыбнулся Нино, — а он ни в какую». Потом он рассказал, что связаться с нами ему посоветовал мой свекор. Они с профессором Айротой встретились в Риме, на конгрессе социалистической партии, разговорились, и Нино упомянул, что едет во Флоренцию; профессор рассказал о сыне, о новой книге, которую пишет Пьетро, и о том, что достал для него редкое издание, которое срочно нужно ему передать. Нино предложил свои услуги, и вот он здесь, обедает у нас, девочки соревнуются друг с другом за его внимание, он с удовольствием развлекает обеих, уважительно беседует с Пьетро и даже мне высказал несколько вполне серьезных замечаний.
— Подумать только, — обратился он ко мне, — я столько раз приезжал в этот город по работе, и даже не знал, что ты здесь живешь и что у вас две такие прекрасные синьорины. Хорошо, что представился случай!
— А ты все еще преподаешь в Милане? — спросила я, хотя была прекрасно осведомлена, что в Милане он больше не живет.
— Нет, я преподаю в Неаполе.
— Что именно?
Он недовольно скривился:
— Географию.
— А точнее?
— Географию городов.
— А почему решил вернуться?
— Матери нездоровится.
— Сочувствую. Что с ней?
— Сердце.
— Как братья?
— Хорошо.
— А отец?
— Да как обычно. Но время идет, мы становимся старше… В последнее время мы с ним сблизились. У него есть свои недостатки, но есть и достоинства, как у всех.
Тут он обернулся к Пьетро:
— Сколько мы воевали против отцов! А ведь теперь наступает наша очередь занять их место. Как будем выкручиваться?
— Ну, тут мне повезло, — сказал муж с легкой иронией.
— Не сомневаюсь. Ты женился на невероятной женщине, а уж какие у вас принцессы! Красивые, умненькие и такие элегантные. Какое у тебя чудесное платье, Деде! Тебе очень идет! А кто же подарил Эльзе такую прекрасную заколку со звездочками?
— Мама, — ответила Эльза.
Понемногу я успокоилась. Секунды вернулись к обычному ритму, и происходящее больше меня не шокировало. Нино сидел за столом рядом со мной, ел приготовленную мною пасту, заботливо резал отбивную Эльзы на маленькие кусочки, с аппетитом уплетал свою, с презрением говорил о взятках, которые «Локхид» давала Танасси и Туи,[21] хвалил мою стряпню, обсуждал с Пьетро социалистическую альтернативу и чистил яблоко змейкой, чем привел Деде в абсолютный восторг. С его появлением в доме воцарилась прекрасная атмосфера, какой у нас давно не бывало. Я была рада, что Нино и Пьетро соглашаются друг с другом и явно друг другу симпатизируют. Я молча начала убирать со стола. Нино вскочил и предложил помыть посуду, но при условии, что девочки будут ему помогать. «А ты посиди», — сказал он мне. Деде и Эльза старались изо всех сил, а он то и дело спрашивал меня, куда положить то, куда это, в то же время продолжая разговор с Пьетро.
Да, это был он, после стольких лет он был здесь. Я невольно смотрела на обручальное кольцо у него на безымянном пальце. «Он ведь ни словом не обмолвился о женитьбе, — думала я. — О матери говорил, об отце говорил, а о жене и о сыне — нет. Может, это брак не по любви, а по расчету? Или его вынудили жениться?» Но мои предположения не оправдались: Нино вдруг начал рассказывать девочкам о своем сыне, Альбертино, представляя его героем сказки; говорил он шутливо, но с нежностью. Он вытер руки, достал из бумажника фотографию, показал сначала Эльзе, потом Деде, потом Пьетро; наконец фотография дошла до меня. Альбертино был очень красивым мальчиком лет двух. На фото он с сердитым видом сидел на руках у матери. Мельком взглянув на малыша, я принялась оценивающе изучать ее. Она показалась мне красавицей: большие глаза, длинные черные волосы, на вид лет двадцать с небольшим. Она улыбалась, сверкая ровными зубами, и смотрела в камеру влюбленными глазами. Я вернула ему фото, сказав: «Я сварю кофе». Они вчетвером отправились в комнату, и я осталась на кухне одна.
У Нино была назначена деловая встреча, поэтому он, извинившись, сбежал сразу после кофе и выкуренной сигареты. «Я завтра уезжаю, — сказал он, — но на следующей неделе опять буду здесь». Пьетро несколько раз попросил его позвонить, когда он приедет, и он пообещал. Тепло простился с девочками, пожал руку Пьетро, помахал мне и исчез. Как только дверь за ним закрылась, я почувствовала, как на меня обрушивается вся рутина нашей жизни. Я ждала, что Пьетро, несмотря на то что они с Нино так охотно общались, начнет говорить про гостя гадости, как он делал почти всегда. Но вместо этого он сказал довольным голосом: «Ну наконец-то хоть один человек, на которого не жалко времени». Не знаю почему, но от этих его слов мне стало тошно. Я включила телевизор и вместе с дочками смотрела его до самого вечера.
101
Я надеялась, что Нино позвонит сразу, как только вернется, и вздрагивала на каждый телефонный звонок, однако от него целую неделю не было вестей. Я чувствовала себя так, будто заболела гриппом. Меня охватила апатия, я забросила чтение вместе со своими заметками и сама на себя злилась за это безрассудное ожидание. Но как-то днем Пьетро вернулся домой в очень хорошем настроении. Он сказал, что Нино приезжал в университет, они немного поговорили, но он так и не смог уговорить его прийти к нам в гости. «Завтра он зовет нас где-нибудь поужинать, вместе с девочками: не хочет, чтобы ты утруждалась готовкой».
Кровь у меня в жилах побежала быстрее, и накатил прилив нежности к Пьетро. Как только девочки отправились спать, я обняла его, поцеловала, стала шептать слова любви. Ночью я спала мало, даже не спала, а дремала, но при этом мне казалось, что я никак не могу заснуть. На следующий день, как только Деде вернулась из школы, я посадила их с Эльзой в ванну и хорошенько вымыла. Потом занялась собой: долго нежилась в ванне, побрила ноги, помыла голову, высушила и уложила волосы. Я перемерила все наряды, что у меня были: я нервничала, ничего мне не нравилось, укладкой я тоже была недовольна. Деде и Эльза вились вокруг, подражая мне: вертелись перед зеркалом, фыркали на платья и прически, шлепали в моих туфлях. В итоге я махнула рукой: уж какая есть. Эльза в последний момент испачкала платье, пришлось срочно ее переодевать, после чего я наконец села за руль, и мы поехали к университету, где нас должны были ждать Пьетро и Нино. Ехала я неспокойно, то и дело кричала на дочерей, которые расшалились и нараспев сочиняли стишки со словами «какать» и «писать». Чем ближе мы подъезжали, тем сильнее я надеялась, что у Нино в последний момент появится какое-нибудь срочное дело и он не придет. Но нет: они стояли в назначенном месте вдвоем с Пьетро и о чем-то беседовали. Нино жестикулировал, словно приглашая собеседника в специально очерченное для него пространство. Пьетро, как обычно, показался мне неуклюжим: красное лицо, смех невпопад, какая-то приниженность. Никто из них не выказал особого интереса к моему появлению.
Муж сел на заднее сиденье, к дочкам, Нино расположился рядом со мной, обещая показать дорогу до местечка, где можно хорошо поесть. «Там такие вкусные пончики», — сказал он, обернувшись к Деде и Эльзе, и, видя их воодушевление, принялся подробно расписывать пончики. «А ведь когда-то мы гуляли, держась за руки, — думала я, глядя на него краем глаза, — и он два раза поцеловал меня — как давно это было. И какие красивые у него пальцы!» Мне он говорил только: «Здесь направо, потом еще раз направо, а на перекрестке — налево». Ни одного восхищенного взгляда, ни одного комплимента.
В траттории нас встретили приветливо и уважительно. Нино был знаком с хозяином и официантами. Я села во главе стола, девочки — с обеих сторон от меня, дальше — Пьетро и Нино, напротив друг друга. Муж начал делиться тяготами университетской жизни. Я почти все время молчала, занималась Деде и Эльзой, которые обычно прекрасно вели себя за столом, но на этот раз, чтобы привлечь к себе внимание Нино, шумели и озорничали. «Пьетро слишком много говорит, не дает Нино вставить ни слова — так он ему быстро надоест, — думала я. — Мы уже семь лет живем в этом городе, а у нас даже нет своего места, куда можно пригласить его в ответ, какого-нибудь ресторанчика, где хорошо готовят, как здесь, где все нас узнавали бы!» Мне нравилась обходительность хозяина траттории: он то и дело подходил к нашему столику и даже сказал Нино: «Это блюдо не советую: вам и вашими гостям оно не понравится, возьмите лучше то». Прибыли знаменитые пончики, и девочки пришли в восторг; Пьетро от них не отставал. Только тогда Нино заговорил со мной.
— А почему больше не выходит твоих книг? — спросил он с искренним интересом, слишком серьезно для застольной болтовни.
Я покраснела и указала на девочек:
— Я другим была занята.
— Та книга была блестящая.
— Спасибо.
— Это не комплимент: ты всегда превосходно писала. Помнишь ту статью о преподавателе богословия?
— Твои друзья ее не напечатали.
— Это было недоразумение.
— Я тогда потеряла веру в себя.
— Жалко. А сейчас пишешь?
— Пытаюсь урывками.
— Роман?
— Не знаю, что выйдет.
— А тема?
— Мужчины, создающие женщин.
— Интересно.
— Посмотрим.
— Ты уж постарайся, очень хочется прочитать.
К моему удивлению, он отлично знал написанные женщинами тексты, которыми я занималась: я думала, мужчины такое не читают. Кроме того, он посоветовал мне книгу Старобинского,[22] которую сам прочел недавно: возможно, я найду там что-то полезное для себя. Сколько же он всего знал! Он с детства был такой, всем интересовался. Он цитировал Руссо и Бернарда Шоу; если я его перебивала, он слушал меня со всем вниманием. Дочери съели свои пончики и стали требовать еще; я рассердилась, но Нино позвал хозяина и попросил принести нам добавку.
— Ты должен предоставлять жене больше свободного времени, — сказал он вдруг Пьетро.
— И так весь день в ее распоряжении.
— Я не шучу. Иначе будешь признан виновным, и не только с общечеловеческой, но и с политической точки зрения.
— И в чем же мое преступление?
— Растрата умственных способностей. Общество, считающее нормальным, что женщина душит свой ум заботой о детях и доме, — само себе враг, хоть и не понимает этого.
Я молча ждала, что скажет Пьетро.
— Элена может культивировать свои умственные способности сколько и как угодно, главное, чтобы она не отнимала времени у меня, — сказал он с иронией.
— А у кого же еще ей его отнимать?
Пьетро нахмурился:
— Когда человек чем-то увлечен, ничто не может помешать ему довести дело до конца.
Я обиделась.
— Мой муж считает, — с натянутой улыбкой процедила я, — что ничто не интересует меня по-настоящему.
Молчание.
— И что, это так? — спросил меня Нино.
Я не задумываясь ответила: не знаю. От неловкости и досады на глаза у меня навернулись слезы. Я опустила взгляд. «Все, хватит пончиков», — сказала я девочкам дрогнувшим голосом. Нино поспешил мне на помощь: «Я съем еще один, один маме, один папе, и вам как раз по одному. По последнему». Он позвал хозяина и торжественно произнес: «Я приду сюда с этими синьоринами ровно через тридцать дней, а вы к тому времени приготовьте нам гору таких же пончиков, хорошо?»
— Так все-таки через месяц или через тридцать дней? — спросила Эльза.
Мне удалось наконец побороть слезы, я посмотрела на Нино и переспросила:
— Вот именно, через месяц все-таки или через тридцать дней?
Мы стали шутить, Деде хохотала над смутными представлениями Эльзы о времени. Пьетро хотел рассчитаться, но обнаружил, что Нино уже заплатил за всех, и запротестовал. Пьетро сел за руль, я устроилась на заднем сиденье между двух клюющих носами дочек. Мы подбросили Нино до гостиницы. Всю дорогу я молча слушала их разговоры: оба были под хмельком. Когда мы прощались, Пьетро с огромным воодушевлением сказал Нино:
— Зачем тратить лишние деньги? У нас есть комната для гостей, в следующий раз останавливайся у нас, не стесняйся!
— Мы меньше часа назад говорили о том, что Элене нужно больше свободного времени, — улыбнулся Нино, — а ты хочешь еще и меня на нее повесить.
— Я была бы очень рада, — вмешалась я вяло, — и Деде с Эльзой тоже.
Но как только мы с Пьетро остались одни, я сказала ему:
— Прежде чем приглашать, мог бы со мной посоветоваться.
Он завел мотор и посмотрел на меня в зеркало заднего вида:
— Я думал, ты обрадуешься.
102
Конечно, я обрадовалась, я очень обрадовалась. Только вот я чувствовала себя так, будто мое тело превратилось в яичную скорлупу: стоит чуть надавить на руку, на лоб, на живот, как она треснет, и все мои секреты вывалятся наружу, даже те, что я держала в тайне от себя самой. Я старалась не считать дни до встречи и сосредоточилась на текстах, как будто Нино заказал мне эту работу и к своему возвращению желает видеть результат. Я мечтала, как скажу ему: «Я послушала твоего совета. Ты велел поторопиться — вот, смотри: это мои наброски. Надеюсь услышать твое мнение».
Отличный стимул. Тридцать дней пролетели даже слишком быстро. Я забыла об Элизе, больше не думала о Лиле, не звонила Мариарозе, не читала газет, не смотрела телевизор, забросила детей и домашние дела. От арестов, столкновений, убийств и войн — всего, что сотрясало Италию и всю планету, до меня доносились только слабые отзвуки; за напряженной избирательной кампанией я тоже мало следила. Зато я прилежно писала. Я ломала голову над кучей старых вопросов, пока мне не показалось, что я наконец хотя бы на бумаге привела свои мысли в порядок. Иногда мне хотелось обсудить написанное с Пьетро. Он был умнее меня и наверняка предостерег бы от необдуманных, упрощенных или глупых выводов. Но я не стала: ненавидела, когда он давил на меня своими энциклопедическими знаниями. Особенно упорно я работала над первыми двумя главами Книги Бытия. Я рассматривала их последовательно: первое описание создания человека как своего рода вершины сотворения мира, а второе — как более подробное изложение той же истории, которая казалась мне вполне динамичной. Писала я примерно следующее: Бог сотворил человека — Иш — по своему образу и подобию. Он создал и мужскую особь, и женскую. Но как? Сначала создал Иш из праха земного, вдохнув в ноздри его дыхание жизни. А потом появилась Иша́ — женщина, созданная из уже сотворенного мужского тела — не из косного вещества, а из живой материи, из ребра Иша, чья рана тут же затянулась. В результате Иша́ может сказать: она не такая, как все, что было создано ранее, она не я, но при этом ее плоть от моей плоти, ее кость от моей кости. Бог породил ее от меня. Меня он оживил дыханием жизни, а ее произвел от моего тела. Я Иш, а она Иша́. Самое имя ее — главное доказательство того, что она произошла от меня, а я создан по образу Божьему и ношу внутри себя Слово. Сама по себе она — всего лишь суффикс, добавленный к моему корню, и потому изъясняться может только моим словом.
Дни проходили в приятном интеллектуальном возбуждении. Единственное, что меня пугало, — что я не успею вовремя написать читабельный текст. Я сама себе поражалась: ради того чтобы заслужить одобрение Нино, я писала намного легче и быстрее.
Но месяц прошел, а он так и не позвонил. Поначалу мне это было на руку: времени прибавилось и мне удалось закончить работу. Но потом я начала волноваться, спросила Пьетро, не в курсе ли он, куда подевался Нино. Оказалось, они часто созванивались по работе, но в последние несколько дней никаких новостей не было.
— Вы часто созванивались?
— Да.
— А мне ты почему ничего не говорил?
— Чего «ничего»?
— Что вы часто созванивались.
— Мы же по работе разговаривали.
— Ну, раз вы такие друзья, позвони ему и скажи, чтобы удосужился предупредить, когда приедет.
— Зачем?
— Тебе-то, конечно, незачем, это ж моя забота… И все-таки, раз уж мне готовиться к его приезду, хотелось бы знать заранее.
Он не стал ему звонить. Сказал: «Ладно, подождем. Нино обещал девочкам вернуться, — не верится, чтобы он не сдержал обещания». Так и вышло. Нино позвонил с опозданием на неделю, вечером. Трубку взяла я, его это, кажется, смутило. После обмена несколькими дежурными фразами он спросил: «А Пьетро дома?» Я тоже смутилась и позвала мужа. Разговаривали они долго, и у меня начало портиться настроение. Муж говорил непривычным для себя тоном: громко, со множеством восклицаний, со смехом. Только тогда я поняла, что общение с Нино его успокаивало: он чувствовал себя не таким одиноким, забывал о своих болячках, работал с большей охотой. Я закрылась в комнате, где Деде в ожидании ужина читала, а Эльза играла. Но даже туда долетал громкий голос Пьетро: можно было подумать, что он пьян. Потом он умолк, в коридоре послышались его шаги. Он заглянул в комнату и радостно объявил дочерям:
— Девочки, завтра вечером будем есть пончики с дядей Нино.
Деде и Эльза заверещали от восторга, а я спросила:
— И как он, собирается у нас ночевать?
— Нет, он приедет с женой и сыном — остановятся в гостинице.
103
Мне потребовалось время, чтобы переварить эту новость.
— Мог бы и предупредить заранее, — проговорила я наконец.
— Они все в последний момент решили.
— Не очень-то вежливо с его стороны.
— Элена, да в чем проблема?
Итак, Нино приезжал с женой. Я была в ужасе от предстоящего мне сравнения с этой женщиной. Я прекрасно знала, какая я, знала, какое тело досталось мне в качестве исходного материала, но в жизни мало что делала, чтобы как-то этот материал обработать. Я росла с одной парой обуви, носила одежонку, которую шила мать, редко красилась. Потом я начала следить за модой, развивать свой вкус под руководством Аделе, — и теперь мне нравилось наводить красоту. Но иногда, особенно если я прихорашивалась не просто так, а ради мужчины, я находила всю эту кухню (именно так я это называла) немного нелепой. Столько времени и сил, потраченных на камуфляж, и ради чего? Этот цвет мне идет, а тот нет; эта модель стройнит, а та полнит; этот фасон подчеркивает мои достоинства, а тот — недостатки. Я уж не говорю про трату денег. Я ощущала себя накрытым праздничным столом, который должен вызвать у мужчины сексуальный аппетит, искусно приготовленным блюдом, от одного вида которого слюнки текут. На меня накатывала тоска — не хотелось делать вообще ничего: не пытаться казаться красивой, не изощряться, маскируя свое тело со всеми его запахами, гуморами и дефектами. И все-таки я это делала. В последний раз я делала это ради Нино. Мне хотелось показать ему, что я стала другой, что мне удалось достичь некоторого изящества, что я уже не та девчонка с Лилиной свадьбы, не лицеистка на вечеринке у профессора Галиани и не беззащитная авторша единственной книги, какой предстала перед ним в Милане. Хватит с меня этого. Он притащил сюда жену, и я страшно злилась. Я терпеть не могла соревноваться в красоте с другими женщинами, тем более под внимательными взглядами мужчин, мне становилось плохо от мысли оказаться на одной территории с той красоткой, что я видела на фото, — так плохо, что скручивало желудок. Я представляла, как она будет оценивающе смотреть на меня, вглядываться в каждую мелочь с придирчивостью синьорины с виа Тассо, с детства обученной следить за своим телом, а потом, оставшись наедине с мужем, с безжалостной проницательностью раскритикует меня.
Я промучилась несколько часов и решила, что придумаю отговорку и отправлю на ужин мужа с детьми. Но на следующий день не смогла отказаться. Я оделась, разделась, снова оделась и пошла мучить Пьетро. Я то и дело заходила к нему в кабинет, то в одном платье, то в другом, то с одной прической, то с другой и каждый раз спрашивала: «Как тебе?» Он бросал на меня рассеянный взгляд и отвечал: «Хорошо выглядишь». — «А может, надеть голубое?» Он согласно кивал. Я надела голубое платье, но мне не понравилось: было узко в бедрах. Снова вернулась к Пьетро: «Оно мне мало». Пьетро все так же спокойно соглашался: «Да, то зеленое в цветочек лучше сидит». Но мне не хотелось, чтобы зеленое в цветочек всего-навсего сидело лучше, я хотела, чтобы оно смотрелось безупречно, чтобы безупречно смотрелись сережки, прическа, туфли. Пьетро был не в состоянии добавить мне уверенности в себе: он смотрел на меня, но он меня не видел. А я нравилась себе все меньше: слишком большая грудь, слишком толстый зад, широкие бедра, белобрысые волосы, огромный нос. У меня было тело моей матери, неловкое и неуклюжее, не хватало еще, чтобы боль в бедре вернулась и я снова начала хромать. А жена Нино была молоденькая, красивая, богатая и, уж конечно, умела вести себя на людях так, как мне никогда не научиться. Я тысячу раз возвращалась к своему исходному решению: «Не пойду, отправлю Пьетро с девочками, а сама скажу, что мне нездоровится». И все-таки я пошла. Надела белую блузку, пеструю юбку в цветочек, из украшений — только старый мамин браслет, положила в сумку пачку исписанных листов. «Да плевать мне на нее, — сказала я себе, — и на него, и на всех остальных».
104
Из-за всех этих колебаний в тратторию мы явились с опозданием. Семья Сарраторе уже сидела за столом. Нино познакомил нас со своей женой Элеонорой, и настроение у меня мгновенно изменилось. Да, у нее было милое личико и прекрасные черные волосы, как на фото. Но она была еще меньше меня ростом, плоскогрудая, хотя и пухленькая. Она была одета в огненно-красное платье, которое сидело на ней ужасно, и с ног до головы увешана украшениями. Голос у нее был писклявый, неаполитанский акцент резал ухо. За ужином выяснилось, что она жутко необразованная, хоть и училась на юридическом. Кроме того, она обо всем и обо всех говорила гадости — с вызывающим видом, чем, по-видимому, гордилась. Короче говоря: богатая, избалованная, вульгарная. Миловидные черты лица то и дело кривила недовольная гримаса, за которой следовали отрывистые смешки: «Хи-хи-хи», которыми она щедро пересыпала свою речь. Ей не нравилась Флоренция: «Да что тут такого, чего нет в Неаполе?», траттория: «Мерзкая дыра», хозяин траттории: «Неотесанный грубиян», отдельные высказывания Пьетро: «Что за чушь!», наши дочери: «Мама родная, сколько же можно трещать, помолчите хоть немножко, сделайте милость» и, разумеется, я сама: «Ты училась в Пизе? А зачем? В Неаполе филологический факультет в сто раз лучше… Никогда не слышала про твою книгу, когда, говоришь, она вышла? Восемь лет назад? Мне тогда было четырнадцать». Только с сыном и с Нино она была нежна. Альбертино был симпатичным, толстеньким, веселым мальчиком, и мать без конца расхваливала его. То же самое с мужем: он был самый лучший, она соглашалась с каждым его словом, гладила его, обнимала, целовала. Что общего было у этой девицы с Лилой и Сильвией? Ничего. Почему же Нино на ней женился?
Я наблюдала за ними весь вечер. Он был с ней любезен, позволял ей себя обнимать и чмокать, улыбался ее грубым шуткам, рассеянно, но играл с мальчиком. Но с моими дочками он вел себя по-прежнему, так же весело болтал с Пьетро и перекидывался парой фраз со мной. Мне хотелось думать, он все же не полностью поглощен женой. Элеонора представляла собой лишь один фрагмент его бурной жизни и не имела на него никакого влияния — Нино шел вперед своей дорогой, не придавая жене особого значения. Я почувствовала себя увереннее, особенно когда он на несколько секунд приложил руку к моему запястью и слегка погладил его, показывая, что помнит этот браслет, а потом как бы в шутку спросил моего мужа, стал ли тот предоставлять мне больше времени на себя. И тут поинтересовался, как продвигается моя работа.
— Первая редакция готова, — сказала я.
— Ты читал? — обратился Нино к Пьетро.
— Элена ничего не дает мне читать.
— Ты же все равно не читаешь, — возразила я беззлобно, делая вид, что это часть нашей привычной игры.
Тут вмешалась Элеонора: ей не хотелось выпадать из беседы.
— О чем это вы? — спросила она. Не успела я ответить, как она, повинуясь причудливому полету своей мысли, спросила: — Поводишь меня завтра по магазинам, пока Нино будет на работе?
Я с наигранным дружелюбием улыбнулась и согласилась, и она тут же начала подробно перечислять, что ей надо купить. Лишь на выходе из траттории мне удалось подойти к Нино и шепнуть ему:
— Не мог бы ты пробежать мой текст?
Он посмотрел на меня с искренним удивлением:
— Ты правда дашь мне почитать?
— Если это тебя не затруднит.
Я украдкой, словно не хотела, чтобы Пьетро, Элеонора или дочери заметили, передала ему рукопись. Сердце колотилось как бешеное.
105
Ночью я не сомкнула глаз. Утром меня ждала встреча с Элеонорой: мы договорились, что к десяти утра я подойду к гостинице. «Только не делай глупостей, — уговаривала я себя. — Не вздумай выведывать у нее, не начал ли ее муж читать твой текст: у Нино полно дел, так что наберись терпения. Как минимум на неделю».
Однако ровно в девять, когда я собиралась выходить, зазвонил телефон. Звонил Нино.
— Прости за беспокойство, просто я сейчас иду в библиотеку и до вечера не смогу позвонить. Я точно не мешаю?
— Нисколько!
— Я прочитал.
— Уже?
— Да. Великолепная работа. Аналитическая глубина, стройность аргументации, бездна воображения. Но чему я больше всего завидую? Твоему таланту рассказчицы. Текст, который ты написала, очень трудно отнести к тому или иному жанру. Не поймешь, то ли эссе, то ли рассказ. Но это нечто выдающееся!
— Это недостаток?
— Что?
— Что его нельзя классифицировать?
— Что ты, одно из достоинств.
— Как ты думаешь, можно публиковать его как есть?
— Конечно!
— Спасибо.
— Тебе спасибо, а теперь мне пора. Не сердись на Элеонору. Она кажется агрессивной, а на самом деле просто стесняется. Завтра утром мы возвращаемся в Неаполь, но я приеду сразу после выборов, если хочешь, увидимся, поболтаем.
— Я с удовольствием. Не хочешь остановиться у нас?
— А я точно не помешаю?
— Абсолютно.
— Ну хорошо.
Он не вешал трубку: я слышала его дыхание.
— Элена.
— Да.
— Лина тогда, в юности, нас обоих одурачила.
От этих его слов я совсем растерялась:
— В каком смысле?
— Ты приписывала ей способности, которыми на самом деле обладала только ты.
— А ты?
— О, со мной все еще хуже. Я по глупости решил, что нашел в ней то, что видел в тебе.
Несколько секунд я молчала. Зачем он сейчас заговорил о Лиле, да еще по телефону? А главное — что он хотел этим сказать? Просто сделать комплимент? Или намекал, что любил меня, а на Искье случайно приписал одной то, что принадлежало другой?
— Приезжай скорее, — сказала я ему.
106
Я отправилась на прогулку с Элеонорой и тремя детьми в таком хорошем расположении духа, что, вонзи она мне в спину нож, я бы не почувствовала боли. Впрочем, от моей приветливости жена Нино забыла всю свою враждебность, хвалила Деде и Эльзу за то, какие они воспитанные, и заявила, что восхищается мною. Нино рассказал ей обо мне все: о том, как я училась, о моем писательском успехе. «Я даже немного ревную, — призналась она, — не потому, что ты такая умная, а потому, что ты знаешь его всю жизнь, а я нет». Ей тоже хотелось бы познакомиться с ним еще в детстве, знать, каким он был в десять лет, каким в четырнадцать, слышать его голос до ломки, его детский смех. «Хорошо, что у меня есть Альбертино, — сказала она, — он вылитый отец».
Я присмотрелась к ребенку и не нашла в нем ни единой черты Нино, — может, они должны проявиться позднее. «А я похожа на папу», — тут же с гордостью воскликнула Деде. «А я на маму», — вмешалась Эльза. Мне снова вспомнился Мирко, сын Сильвии, — вот он всегда был копией Нино. Какое удовольствие испытала я тогда, у Мариарозы дома, когда взяла его на руки, баюкала, укачивала. Что я искала в том ребенке, когда до материнства мне было еще далеко? Что я искала в Дженнаро, когда еще не знала, что его отец Стефано? Что теперь, когда я сама была матерью Деде и Эльзы, искала в Альбертино, зачем так внимательно разглядывала его? Я знала, что Нино никогда не вспоминает о Мирко, знала, что он никогда не интересовался Дженнаро. Одурманенные страстью, мужчины разбрасывают свое семя, не думая о том, что делают. Они входят в нас, а потом убираются, оставляя у нас внутри свой призрак, как случайно забытую вещь. Интересно, Альбертино — желанный ребенок, зачатый сознательно? Или и он оказался на руках у женщины-матери помимо желания Нино? Я опомнилась, сказала Элеоноре, что ее сын — копия отца, и осталась довольна своим враньем. Затем я пустилась в подробный рассказ о том, каким был Нино в начальной школе, как учительница Оливьеро и директор устраивали в школе соревнования между учениками, как мы учились в лицее, как ходили в гости к профессору Галиани, как с другими нашими друзьями проводили каникулы на Искье. На этом я остановилась, хотя Элеонора продолжала, как маленькая, спрашивать: «А потом?»
Мы болтали и болтали, и она проникалась ко мне все большей симпатией. Если мы заходили в магазин, я брала примерить ту или иную вещь, говорила, что она мне нравится, но не покупала, то, стоило нам выйти на улицу, как оказывалось, что ее купила Элеонора — мне в подарок. Деде и Эльзе она тоже накупила нарядов. В ресторане платила она, за такси тоже: водитель сначала доставил домой нас с дочками, а потом повез к гостинице нагруженную пакетами Элеонору. Мы с девочками махали руками ей вслед, пока машина не повернула за угол. Эта женщина, думала я, воплощала собой другую часть моего города, бесконечно далекую от той, в которой росла я. Она тратила деньги так, будто они ничего не стоили, и я не сомневалась, что это не деньги Нино. Ее отец был адвокатом, как и дед, мать происходила из семьи банкира. В чем различие, спрашивала я себя, между богатством этих буржуа и богатством Солара. И какими запутанными маршрутами путешествуют деньги, прежде чем становятся высокими зарплатами и умопомрачительными гонорарами. Я помнила, чем молодые парни в нашем квартале зарабатывали себе на жизнь: разгружали контрабанду, рубили деревья в парке, работали на стройке. Я помнила, как Антонио, Паскуале и Энцо надрывались за гроши ради простого выживания. Инженеры, архитекторы, адвокаты, банкиры — дело другое, но и их состояния, проходя через тысячу фильтров, проистекали из того же криминального источника; кое-какая мелочь в виде чаевых перепадала даже моему отцу, благодаря чему он смог отправить меня учиться. Где тот порог, за которым плохие деньги становятся хорошими, и наоборот? Были ли чистыми деньги, на которые Элеонора в тот знойный флорентийский день накупила нам подарков? Чем они отличались — если отличались — от денег, которыми Микеле расплачивался с Лилой за ее работу? Мы с дочками весь вечер крутились перед зеркалом, примеряя новые наряды. Вещи были отменного качества, красивых сочных тонов. Особенно мне шло платье темно-красного цвета в стиле сороковых — мне не терпелось показаться в нем Нино.
К сожалению, до отъезда Сарраторе в Неаполь еще раз встретиться нам не удалось. Но, вопреки моим страхам, время не остановилось на месте, а стремительно полетело вперед. Я знала, что Нино вернется. Мы обязательно обсудим мой текст. Чтобы избежать ненужных ссор, я положила экземпляр на стол Пьетро. Потом позвонила Мариарозе и сказала, что привела в порядок заметки, о которых мы говорили. Она попросила немедленно прислать ей рукопись. Несколько дней спустя она позвонила мне и с большим воодушевлением спросила разрешения перевести текст на французский и отправить в Нантер своей подруге, у которой было небольшое издательство. Я с радостью согласилась, но этим дело не кончилось. Через несколько часов мне позвонила свекровь и наигранно обиженным голосом спросила:
— Значит, теперь ты даешь свои тексты читать Мариарозе, а не мне?
— Боюсь, тебе это неинтересно. Там всего-то семьдесят страниц: это не роман. Да я и сама не знаю, что это.
— Когда не знаешь, что написала, это значит, что работа удалась. И позволь мне самой решать, что мне интересно, а что нет.
Я отправила экземпляр и ей, так, между делом. Это было утром, а около полудня вдруг позвонил Нино, с вокзала — он только что приехал во Флоренцию.
— Буду у тебя через полчаса, заброшу чемодан — и сразу в библиотеку.
— Даже не поешь? — спросила я совершенно естественным голосом.
Теперь все это представлялось мне абсолютно нормальным, словно логичное завершение долгого пути: что он будет спать в моем доме, что я буду готовить ему еду, что он будет принимать душ в моей ванной, что мы вместе сядем обедать — он, девочки и я, — пока Пьетро принимает в университете экзамены.
107
Нино пробыл у нас десять дней. За все это время не происходило ничего, что хоть немного напоминало бы ту манию заигрывания с мужчинами, во власти которой я оказалась несколько лет назад. Я не отпускала двусмысленных шуточек, не разговаривала с ним приторно-слащавым голосом, не оказывала ему особых знаков внимания, не изображала из себя женщину свободных взглядов наподобие Мариарозы, не делала фривольных намеков, не заглядывала с нежностью ему в глаза, не изворачивалась, чтобы сесть с ним рядом за столом или на диване перед телевизором, не расхаживала по дому полуодетой, не стремилась остаться с ним наедине, не задевала нарочно его локоть своим локтем, его руку — своей рукой или грудью, его ногу — своей ногой. Я вела себя скромно, сдержанно и с достоинством и следила только за тем, чтобы он поел, чтобы девочки ему не мешали и чтобы он чувствовал себя как дома. Я не старалась вести себя именно так, а не иначе — это получалось само собой. Он шутил с Пьетро, с Деде и Эльзой, но, обращаясь ко мне, переходил на серьезный тон и взвешивал каждое слово, будто это не мы были старыми друзьями. Я поступала так же. Я была бесконечно счастлива, что он живет у меня дома, но не испытывала ни малейшей потребности в фамильярности, мне даже нравилось держаться от него на расстоянии и избегать близкого общения. Я чувствовала себя каплей дождя, повисшей на ниточке паутины, и делала все возможное, чтобы не соскользнуть вниз.
У нас состоялся всего один долгий разговор, и тот был полностью посвящен моему тексту. Он заговорил о нем сразу, как только приехал, демонстрируя знание текста и глубину мысли. Его поразил фрагмент, в котором говорилось об Иш и Иша́, он задавал мне вопросы, в том числе спрашивал: «Правильно я понял, что для тебя женщина в библейском рассказе неотделима от мужчины? Она и есть он?» — «Да, — сказала я, — Ева не может, не умеет существовать вне Адама, не обладает собственной материей. Ее зло и ее добро — это зло и добро, какими видит их Адам. Ева и есть женское воплощение Адама. Божественная операция прошла так успешно, что женщина сама не понимает, что она такое; у нее нет определенных черт, нет своего языка, своего ума, своей логики, она легко меняет форму, как будто так и должно быть». — «Ей не позавидуешь», — прокомментировал Нино. Я напряглась и покосилась на него: смеется, что ли? Нет, он не смеялся. Напротив, он без тени иронии поздравил меня, упомянул несколько книг на сходную тему, которых я не читала, и подтвердил, что работа готова к публикации. Я выслушала его спокойно, без самодовольства, только в конце сказала: «Мариарозе тоже понравилось». Он спросил, как она поживает, с большим уважением отозвался о ее научной работе, восхитился ее самоотверженностью по отношению к Франко и побежал в библиотеку.
По утрам он вставал вместе с Пьетро, вечером возвращался после него. Мы всего пару раз всей компанией выбрались из дома. Однажды он, например, пригласил нас в кино на комедию, чтобы повеселить девочек. Нино сидел рядом с Пьетро, я — между дочками. Как только я заметила, что начинаю громко хохотать, едва засмеется он, вообще перестала смеяться. В перерыве, когда он бросился покупать мороженое девочкам, а заодно и нам, взрослым, я его слегка отчитала и отказалась: «Я не буду, спасибо». Он шутливым тоном сказал, что мороженое отличное и я сама не представляю, что теряю, а потом предложил попробовать его порцию, и я попробовала. В общем, сплошные мелочи. Как-то мы вышли прогуляться после обеда: он, Деде с Эльзой и я. Говорили мы мало, он в основном он уделял внимание девочками. Тем не менее я хорошо запомнила ту прогулку и даже сейчас могла бы с точностью воспроизвести наш маршрут, показать, где мы свернули, а где остановились. Погода стояла теплая, на улицах было полно народу. Он то и дело с кем-то раскланивался, кто-то называл его по фамилии, он всем представлял меня, расхваливая сверх меры. Меня поразила его известность. Один знаменитый историк даже сделал девочкам комплимент, словно это были наши с Нино дети. Больше ничего особенного не происходило, не считая внезапной и необъяснимой перемены в их с Пьетро отношениях.
108
Все началось вечером, за ужином. Пьетро с восхищением заговорил об одном неаполитанском профессоре, в то время пользовавшемся достаточно высокой репутацией, когда Нино вдруг сказал: «Я так и думал, что тебе нравится этот придурок». Муж, сбитый с толку, неуверенно улыбнулся в ответ, но Нино не только не унялся, а, напротив, довольно жестко высмеял легкость, с какой Пьетро ведется на показуху. На следующее утро, за завтраком, случился еще один небольшой инцидент. Не помню, в связи с чем, но Нино вдруг вспомнил о моей давнишней стычке с преподавателем богословия по поводу Святого Духа. Пьетро, который ничего не знал об этом эпизоде, захотел узнать подробности, и Нино, обращаясь не к нему, а к девочкам, повел рассказ о героическом подвиге, совершенном их мамой, когда она была еще маленькой.
Муж похвалил меня за смелость, но вслед за тем принялся рассказывать Деде, что произошло с двенадцатью апостолами в день Пятидесятницы, — точно тем же голосом, каким обычно, услышав по телевизору очередную глупость, объяснял дочери, как в действительности обстоит дело. «Послышался шум, как от ветра, вспыхнули языки пламени, и апостолы получили дар понимать всех людей, на каком бы языке они ни говорили». Он повернулся к нам с Нино, напомнил о сошедшей на учеников Христа благодати, процитировал пророка Иоиля: «Излию от Духа Моего на всякую плоть» — и заключил, что Святой Дух — это символ, необходимый для понимания того, что самые разные люди могут жить вместе, образуя сообщество. Нино слушал со все более насмешливым выражением лица, а в конце его речи воскликнул: «Я всегда подозревал, что в душе ты священник, — перевел взгляд на меня и с сарказмом спросил: — Ты-то хоть ему жена или верная Перпетуя?[23]» Пьетро покраснел. Он никогда не любил эту тему, и я чувствовала, что ему очень неприятно. «Простите меня, — пробормотал он, — я зря отнимаю у вас время. Пойдем работать».
Подобные эпизоды без всяких видимых причин повторялись все чаще. Наши отношения с Нино оставались прежними: внимательность, вежливость, дистанция — но между ним и Пьетро как будто рухнул какой-то барьер. За завтраком и ужином гость позволял себе все более издевательски, на грани оскорбления, разговаривать с хозяином, но отпускал свои замечания якобы дружеским тоном, с улыбкой на губах, делая заведомо дурацкой любую попытку возмутиться. Я хорошо знала эту манеру: в квартале те, кто посообразительнее, часто вели себя так с теми, кто поглупее, превращая их в мишень для насмешек. Пьетро был в полном замешательстве: ему нравился Нино, он его уважал и не мог дать ему отпор. Лишь качал головой, притворялся, что оценил шутку, но про себя, судя по всему, задавался вопросом, что он сделал не так, все еще надеясь, что они вот-вот вернутся к прежней задушевности. Но Нино упорно вел свою игру. Он обращался ко мне и девочкам, говорил очередную колкость и ждал нашего одобрения. Девочки с радостью ему подыгрывали, и я иногда тоже. Одновременно я думала: зачем он так себя ведет? Если Пьетро на него обидится, нашим отношениям конец. Но Пьетро не обижался — он искренне не понимал, что происходит. К нему вернулись его неврозы. Снова то же измученное лицо, многолетняя усталость в глазах, сморщенный лоб. С этим надо что-то делать, говорила я себе, и как можно скорее. Но ничего не делала. Мне стоило немалого труда не поддаться не то чтобы восхищению, а какому-то возбуждению — да, пожалуй, именно возбуждению, — когда я видела, как один из Айрота, умнейший человек с блестящим образованием, теряется, смущается и лишь жалобно блеет в ответ на молниеносные и порой жестокие словесные выпады Нино Сарраторе — моего школьного товарища и друга, родившегося в том же квартале, что и я.
109
Незадолго до возвращения Нино в Неаполь произошло два особенно неприятных эпизода. Однажды днем мне позвонила Аделе: ей тоже понравилась моя работа. Она сказала, чтобы я немедленно отправила текст в издательство — там хотели издать его одновременно с французским переводом, в крайнем случае сразу после. За ужином я между прочим упомянула об этом. Нино осыпал меня комплиментами и сказал девочкам:
— У вас необыкновенная мама! — Затем он повернулся к Пьетро: — А ты прочитал?
— Не успел.
— Ну, лучше и не читай.
— Почему?
— Это не для тебя.
— То есть?
— Слишком умно.
— Что ты имеешь в виду?
— Что Элена умнее тебя.
Пьетро промолчал, и тогда Нино засмеялся:
— Ты что, обиделся?
Он ждал ответа, чтобы унизить его еще сильнее, но Пьетро встал из-за стола.
— Извините, мне надо работать.
— Хоть бы доел, — проворчала я.
Он не ответил. Ужинали мы в гостиной: это была просторная комната, и поначалу мне показалось, что он и правда собирается к себе в кабинет. Но он повернул с полпути, сел на диван, включил телевизор и увеличил громкость. Атмосфера сделалась невыносимой. Прошло всего несколько дней, а как все осложнилось. Я чувствовала себя несчастной.
— Убавь звук немного, — попросила я.
В ответ он просто сказал: «Нет».
Нино ухмыльнулся, доел и помог мне убрать со стола.
— Прости его: он много работает и мало спит, — сказала я Нино на кухне.
— Как ты его терпишь? — не выдержал он в ответ.
Я с тревогой покосилась на дверь: к счастью, телевизор все еще работал на полную громкость.
— Я люблю его, — ответила я и, поскольку он настаивал, что будет мыть посуду, добавила: — Уйди, пожалуйста, ты мне мешаешь.
Второй эпизод был еще хуже: он-то все и решил. Я уже не понимала, чего хочу на самом деле. Скорее бы все это кончилось, думала я; скорее бы вернуться к привычным семейным заботам и своей книге. Но в то же время мне нравилось входить по утрам в комнату Нино, наводить там порядок, заправлять его постель, готовить еду, зная, что ужинать мы будем вместе. Мне была непереносима мысль, что скоро он уедет. После обеда я начинала сходить с ума; дом, несмотря на присутствие дочерей, казался мне пустым, и сама я чувствовала опустошенность; меня совершенно не интересовало, что я пишу, собственный текст представлялся поверхностным, и вопреки воодушевлению Мариарозы, Аделе, французского и итальянского издательств я теряла веру в себя. Он уедет, и мое существование окончательно утратит смысл.
Именно в этом состоянии духа — жизнь ускользала от меня, оставляя ощущение невосполнимой потери, — и застал меня Пьетро, который вернулся из университета в особенно мрачном настроении. Мы ждали его к ужину. Нино пришел на полчаса раньше, но его сразу облепили девочки.
— Что-то случилось? — вежливо поинтересовалась я.
— Больше никогда не приводи к нам в дом своих земляков! — гаркнул он.
Я похолодела, решив, что он имеет в виду Нино. Тот как раз вошел в комнату — по пятам за ним следовали Деде и Эльза — и, наверное, тоже так подумал. У него на лице появилась вызывающая улыбочка — он явно готовился к очередному скандалу. Но Пьетро имел в виду не его. Презрительно, как всегда, когда дело шло о попрании основополагающих для него принципов, он сказал:
— Сегодня ко мне опять приходили из полиции. Они называли имена и показывали снимки.
Я вздохнула с облегчением. С тех пор как он отказался забирать свою жалобу на студента, угрожавшего ему оружием, его допекали не столько молодые политические активисты, включая некоторых преподавателей, сколько визиты полицейских, принимавших его за своего осведомителя.
— Сам виноват, — довольно враждебно сказала я ему. — Не надо было так себя вести, я тебя предупреждала. Теперь они от тебя не отстанут.
Тут вмешался Нино.
— И кого же ты сдал? — спросил он с издевкой.
Пьетро даже не посмотрел в его сторону. Он был зол на меня и ссориться собирался со мной.
— Тогда я сделал то, что должен был сделать. И сегодня мне следовало сделать то же самое. Но я смолчал, потому что в этом замешана ты.
Тут я поняла, что дело не в полицейских, а в том, что он от них узнал.
— При чем тут я?
— А разве Паскуале с Надей не твои друзья? — закричал он.
— Паскуале с Надей? — повторила я, ничего не понимая.
— Полицейские показывали мне фотографии террористов: я их узнал.
Я онемела. Все, что я воображала, оказалось правдой, и Пьетро только что это подтвердил. Я снова как наяву увидела: вот Паскуале разряжает пистолет в Джино и стреляет по ногам Филиппо, вот Надя — Надя, а не Лила — поднимается по лестнице, стучит в дверь Бруно, заходит в кабинет и стреляет ему в лицо. Какой ужас! И все же тон Пьетро не соответствовал ситуации: он как будто нарочно использовал эту новость, чтобы на глазах у Нино поставить меня в затруднительное положение, разжечь скандал, которого я так не хотела. Но тут Нино снова подал голос:
— Так значит, ты заделался полицейским осведомителем? Так вот чем ты теперь занимаешься… Стучишь на товарищей? А твой отец об этом знает? А мать? А сестра?
— Пойдемте ужинать, — устало проворчала я. И, обращаясь к Нино, добавила: — Какой еще осведомитель, не пори чепухи.
Мне хотелось разрядить обстановку и совсем не хотелось, чтобы он продолжал злить Пьетро упоминаниями о его родне. Потом я, не вдаваясь в подробности, объяснила, что не так давно к нам заезжал Паскуале Пелузо («Не знаю, помнишь ты его или нет»), хороший парень из квартала; они теперь — так уж сложилось — вместе с Надей (уж ее-то он точно помнил), да-да, дочерью профессора Галиани, той самой. Тут мне пришлось прерваться, потому что Нино расхохотался: «Надя?! О господи! Надя!» — Он повернулся к Пьетро и с еще большей издевкой проговорил: «Только ты и парочка тупых полицейских могли подумать, что Надя Галиани возьмется за оружие. Что за бред?! Да Надя Галиани самый добрый и мягкий человек из всех, кого мне доводилось встречать! До чего ж мы тут, в Италии, дожили… Ладно, пошли есть. Органы правопорядка уж как-нибудь обойдутся без тебя». С этими словами он направился в гостиную, окликнув Деде и Эльзу. Я начала накрывать на стол, уверенная, что Пьетро вот-вот к нам присоединится.
Но он так и не появился. Сначала я подумала, что он пошел мыть руки, потом — что специально задерживается, чтобы успокоиться. Я села на свое место. Настроение было хуже некуда: я так хотела провести этот вечер спокойно, отметить окончание нашего с Нино житья под одной крышей. Но Пьетро все не приходил. Девочки начали есть. Даже Нино, кажется, растерялся.
— Приступай, — сказала я ему, — а то остынет.
— Только вместе с тобой.
Я колебалась. Наверное, надо было пойти к мужу, посмотреть, что он делает, успокоить его. Но мне не хотелось: слишком уж он меня разозлил. Неужели нельзя было умолчать про эту историю с полицией — он же никогда ничего мне не рассказывал! И по какому праву он так разговаривал со мной при Нино? «Больше никогда не приводи к нам в дом своих земляков». Зачем обсуждать это при посторонних? Почему не подождать и не высказать мне все это позднее, в спальне, наедине? Он злился на меня, вот в чем дело, и хотел испортить мне вечер. Ему было плевать на все, что я делаю и чего хочу.
Я взяла вилку и нож. Мы вчетвером съели закуску, основное блюдо, домашний десерт. Пьетро так и не появился. Я разозлилась. Не хочет есть? Ну и пожалуйста, значит, не голоден. Предпочитает заниматься своими делами? Ну и отлично, дом большой, без него даже лучше — никто не действует на нервы. В любом случае мне стало ясно: проблема не в том, что к нам однажды ненадолго заехали два человека, которых подозревают в принадлежности к террористической группировке. Проблема в том, что Пьетро не хватает живости ума, чтобы на равных участвовать в словесной дуэли с другими самцами; из-за этого он мучился и кидался на меня. Но мне-то что за дело до тебя и до твоих жалких комплексов? «Со стола уберу потом», — сказала я вслух, будто сама себе отдавала приказ отбросить ненужные переживания. Я включила телевизор и вместе с Нино и девочками села на диван.
Время тянулось изнурительно медленно. Я чувствовала, что Нино тоже немного не по себе, хотя его происходящее скорее забавляло. «Я пойду позову папу», — сказала Деде; теперь, когда она наелась, вспомнила о Пьетро и забеспокоилась. «Иди», — кивнула я. Вернулась она на цыпочках и прошептала мне на ухо: «Он спит». Нино услышал ее шепот и объявил мне:
— Завтра я уезжаю.
— Закончил работу?
— Нет.
— Так оставайся еще.
— Не могу.
— Пьетро хороший человек.
— Ты его защищаешь?
Защищаю? От кого? От чего? Я ничего не поняла, и во мне поднялось глухое раздражение, направленное и на Нино тоже.
110
Девочки заснули перед телевизором, я отнесла их в постели. Когда я вернулась, Нино уже ушел к себе в комнату. Расстроенная, я убрала со стола, вымыла посуду. Что за глупость просить его остаться! Пусть лучше уезжает. С другой стороны, жизнь без него обернется беспросветной тоской. Хоть бы перед отъездом пообещал, что рано или поздно вернется. Я хотела, чтобы он спал в моем доме, чтобы мы снова вместе завтракали и ужинали, сидя за одним столом, чтобы он болтал своим веселым голосом обо всем подряд, чтобы слушал меня, когда я пытаюсь облечь в слова свою мысль, и проникался ко мне все большим уважением, никогда не опускаясь до иронии или сарказма. Вместе с тем я понимала, что ситуация так быстро накалилась, сделав невозможным дальнейшее совместное существование, именно по вине Нино. Пьетро привязался к нему. Ему нравилось с ним разговаривать, он дорожил их недавно зародившейся дружбой. Но откуда в Нино взялось это стремление причинять ему боль, оскорблять его и унижать? Я смыла косметику, приняла душ, надела ночную рубашку, закрыла входную дверь на замок и на цепочку, опустила везде жалюзи, погасила свет. Сходила проверить девочек и пошла в спальню. Я надеялась, что Пьетро действительно спит, а не притворяется и не поджидает меня, чтобы продолжить ссору. Я посмотрела на его тумбочку: судя по всему, он принял снотворное. На меня накатила нежность, и я поцеловала его в щеку. Какой непредсказуемый человек: умный и в то же время глупый, чувствительный и непробиваемый, смелый и трусливый, образованный и невежественный, хорошо воспитанный и грубый. Неудавшийся Айрота, результат сбоя программы. Мог ли Нино, с его решительностью и самоуверенностью, запустить ее по новой, исправить дефект? Почему, снова задумалась я, их недавняя дружба преобразилась в одностороннюю вражду? И кажется, поняла. Нино хотел, чтобы я увидела своего мужа таким, какой он был на самом деле. Он считал, что я идеализирую Пьетро и полностью ему подчиняюсь, что называется, предана ему умом и сердцем. Он хотел доказать мне, что молодой профессор, автор дипломной работы, ставшей монографией и получившей высокую оценку специалистов, ученый, работающий над новой многообещающей книгой, в сущности, пустышка. В последние дни он чуть ли не открытым текстом внушал мне: «Ты живешь с посредственностью, ты родила двух дочерей от ничтожества». Принижая его в моих глазах, он хотел освободить меня, вернуть меня мне же самой. Но отдавал ли он себе отчет, что тем самым вольно или невольно предлагает мне в качестве альтернативы себя как образец настоящего мужчины?
Эта мысль наполнила меня гневом. Нино вел себя безответственно. Он внес разлад в мою размеренную жизнь, служившую мне единственным источником душевного спокойствия. Как он посмел, не советуясь со мной, рушить мое благополучие? Кто его просил открывать мне глаза, спасать меня? С чего он взял, что мне это нужно? Или он думает, что может что угодно вытворять с моей семьей, с моими материнскими обязанностями? А главное, с какой целью? Чего он добивается? Он обязан ответить мне на все эти вопросы. Неужели он совсем не дорожит нашей дружбой? Скоро отпуск. Я поеду в Виареджо, он — на Капри, к родителям жены. Значит, до конца каникул мы точно не увидимся. Но, собственно, почему? Уже летом мы могли бы укрепить дружеские связи между нашими семьями. Я могла бы позвонить Элеоноре, пригласить ее на несколько дней вместе с мужем и сыном к нам в Виареджо, и была бы счастлива, если бы она, в свою очередь, позвала нас с Деде, Эльзой и Пьетро на Капри, — я никогда там не была. Но даже если бы из этого ничего не вышло, мы могли бы переписываться, делиться друг с другом идеями, советовать, какие книги стоит прочесть, обсуждать, что происходит на работе.
Я все никак не могла успокоиться. Нино совершил ошибку. Если он и правда дорожил мной, надо было вернуться к исходной точке. Он должен снова завоевать симпатию и дружбу Пьетро — мой муж только этого и желал. Неужели Нино и правда верил, что, внося сумятицу в нашу жизнь, действует мне во благо? Нет, не может быть. Мне надо поговорить с ним, сказать, что с его стороны глупо так вести себя с Пьетро. Я тихонько встала с постели, вышла из комнаты, босиком миновала коридор, постучалась в дверь Нино, подождала немного и вошла. В комнате было темно.
— Решилась наконец? — спросил он.
Я вздрогнула. На что решилась? Я не стала задумываться над этим вопросом, просто поняла, что он прав. Да, я решилась. Сняла ночную рубашку и легла рядом с ним, хотя было очень жарко.
111
К себе в постель я вернулась около четырех утра. Муж вздрогнул, пробормотал во сне: «Что случилось?» Я уверенно сказала ему: «Спи», и он успокоился. Голова шла кругом. Я была счастлива, но, как ни старалась, не могла осознать, что то, что только что случилось, случилось со мной, в моем доме, здесь, во Флоренции. Мне казалось, что между мной и Нино все кончилось еще там, в квартале, когда его родители переезжали под душераздирающие крики Мелины и грохот вещей, которые она выкидывала из окна. Или на Искье, когда мы гуляли по пляжу, держась за руки. Или в Милане, после той встречи в книжном, когда он защищал меня от злобного критика. На краткий миг это освободило меня от чувства вины, словно подруга Лилы, жена Пьетро и мать Деде и Эльзы не имела ничего общего с девочкой-девушкой-женщиной, любившей Нино и наконец заполучившей его. Тело еще помнило следы его прикосновений, его поцелуев, и жажда наслаждения все не утихала. «До утра еще далеко, — говорила я себе, — что я здесь делаю? Надо вернуться к нему».
Я провалилась в сон. Когда я снова открыла глаза, то вздрогнула от испуга: в комнате было уже светло. Что я натворила? Здесь, в собственном доме. Вот дура! Скоро проснется Пьетро. И дочери. Надо вставать, готовить завтрак. Нино попрощается с нами и уедет в Неаполь к жене и сыну. А я снова стану сама собой.
Я поднялась, долго простояла под душем, высушила волосы, старательно накрасилась, надела красивое платье, будто собиралась на выход. О, конечно же, в ночи мы с Нино поклялись, что больше не потеряем друг друга и найдем способ быть вместе. Но как и когда? И с какой стати ему искать новых встреч со мной? Все, что между нами могло случиться, уже случилось, дальше пойдут одни осложнения. Ну хватит. Я накрыла на стол. Мне хотелось, чтобы у него осталась добрая память о том, как он гостил у нас в доме, об окружавших его мелочах, обо мне.
На кухне показался Пьетро, растрепанный, в пижаме.
— Куда это ты собралась?
— Никуда.
Он посмотрел на меня в недоумении: я никогда не наряжалась с утра пораньше.
— Ты прекрасно выглядишь.
— И не благодаря тебе.
Он подошел к окну, посмотрел на улицу и проворчал:
— Я вчера вечером очень устал.
— И вел себя как невоспитанный подросток.
— Я попрошу у него прощения.
— Прежде всего ты должен попросить прощения у меня.
— Прости.
— Он сегодня уезжает.
Тут показалась Деде, босая. Я пошла искать ей тапки, разбудила Эльзу, та, как обычно, еще не открыв глаза, принялась меня целовать. От нее чудесно пахло, она была такая нежная! «Ну да, — сказала я себе, — это произошло. И хорошо, а то ведь могло и не произойти. Но теперь надо взять себя в руки. Надо позвонить Мариарозе, узнать, что там с Францией, поговорить с Аделе, съездить в издательство, спросить, что они собираются делать с моей книгой: правда она им понравилась или просто не хотят обижать мою свекровь». В коридоре послышался шум. Это был Нино. Все во мне перевернулось. Он еще был здесь, хоть и ненадолго. Я высвободилась из объятий Эльзы, сказала: «Прости, моя сладкая, мама сейчас», — и выскользнула за дверь.
Заспанный Нино выходил из своей комнаты. Я увлекла его в ванную и закрыла дверь. Мы целовались, и я снова потеряла чувство времени и пространства. Я сама поражалась, насколько желала его, — все-таки я хорошо умела прятать свои чувства. Мы сплелись в объятиях с таким неистовством, какого я не знала никогда; наши тела бились друг о друга, словно стремились разлететься на кусочки. Так вот что такое удовольствие: сломаться, слиться, не помнить больше, где я, где он. Даже если бы появился Пьетро, даже если бы зашли девочки, они бы не узнали нас. Я шептала, прижимаясь губами к его губам:
— Оставайся.
— Не могу.
— Тогда возвращайся, ты же вернешься? Поклянись.
— Да.
— А звонить мне будешь?
— Да.
— Скажи, что не забудешь меня, скажи, что не оставишь, скажи, что любишь меня.
— Я тебя люблю.
— Повтори.
— Я тебя люблю.
— Поклянись, что не врешь.
— Клянусь.
112
Через час он уехал, хотя Пьетро все еще обиженным голосом уговаривал его остаться, а Деде и вовсе разрыдалась. Муж пошел мыться, одеваться и собираться на работу. «Я не сказал полиции, что Паскуале и Надя были у нас, — опустив глаза в пол, пробормотал он. — Но не потому, что хотел тебя защитить, а потому что считаю, что в наши дни многие путают инакомыслие с преступлением». Я не сразу поняла, о чем он. Паскуале и Надя совсем вылетели у меня из головы, и мне стоило усилий вернуть их туда. Пьетро подождал несколько секунд — может, хотел услышать, что я с ним согласна, а может, надеялся, что этот жаркий день, в который ему предстоит принимать экзамены, начнется с подтверждения того, что мы стали ближе друг к другу, что хоть раз в жизни наши мысли совпали. Но я лишь рассеянно пожала плечами. Какое мне было дело до политических воззрений, до Паскуале и Нади, до гибели Ульрики Майнхоф,[24] до рождения Социалистической Республики Вьетнам, до успехов на выборах коммунистической партии? Весь мир отступил на второй план. Я была погружена в себя, в свою плоть, что казалось мне не только единственно возможным способом существования, но и единственным, ради чего вообще стоило жить. Когда муж — это воплощение организованного хаоса — вышел и закрыл за собой дверь, я вздохнула с облегчением. Мне было трудно выдерживать на себе его взгляд; я боялась, что на губах проступят следы поцелуев, что меня выдаст ночное изнеможение и обретшее сверхчувствительность, словно обожженное тело.
Как только я осталась одна, ко мне вернулась уверенность, что больше я никогда не увижу и не услышу Нино. Вслед за этой мыслью пришла вторая: я не могу больше жить с Пьетро. Не могу спать с ним в одной постели. Что же делать? Брошу его, думала я. Уйду, забрав дочерей. Но ведь существует какая-то процедура? Нельзя же просто уйти и все? Я ничего не знала ни о раздельном проживании, ни о разводе, понятия не имела, что для этого следовало предпринимать и как долго ждать свободы. У меня не было ни одной знакомой пары, которая прошла бы через все это. Как поступают с детьми? Кто отвечает за их попечение? Смогу ли я увезти девочек в другой город — скажем, в Неаполь? Кстати, почему в Неаполь, почему не в Милан? Если я оставлю Пьетро, говорила я себе, рано или поздно мне придется идти работать. Времена сейчас тяжелые, экономика в кризисе — Милан самое подходящее для меня место, там мое издательство. Но как же Деде и Эльза? Они же должны видеться с отцом? Значит, оставаться во Флоренции? Ну уж нет, ни за что. Лучше в Милан. Пьетро будет приезжать повидать дочерей, когда сможет и захочет. Да. Но мысли сами уносили меня в Неаполь. Не в наш квартал — туда я ни за что бы не вернулась. Я представляла, как поселюсь в одном из лучших районов города, в нескольких шагах от дома Нино, на виа Тассо. Я буду смотреть из окна, как он идет в университет и возвращается назад, каждый день встречать его на улице, болтать с ним. Я не буду ему мешать. Не буду создавать ему проблем с семьей. Наоборот, еще крепче подружусь с Элеонорой, стану больше с ней общаться. Этого мне будет вполне достаточно. Значит, все же в Неаполь, а не в Милан. К тому же Милан после расставания с Пьетро будет ко мне уже не столь благосклонен. Мариароза ко мне охладеет, Аделе тоже. Мы не рассоримся — они люди цивилизованные, но все же Пьетро им сын и брат, хоть в семье его не очень-то уважают. Отец семейства, Гвидо, тоже скажет свое веское слово. Нет, рассчитывать на Айрота, как сегодня, я больше не смогу, а может, и на издательство тоже. Помощи можно ждать только от Нино. У него повсюду друзья, и он наверняка найдет способ поддержать меня. Если только мое близкое присутствие не начнет раздражать его жену, да и его самого тоже. Кто я для него? Замужняя женщина, которая живет во Флоренции со своей семьей. Живет далеко от Неаполя и несвободна. И вдруг ни с того ни с сего рушит свой брак, сбегает к нему, селится в нескольких шагах от его дома — какой ужас! Он сочтет меня сумасшедшей, бабой, у которой не все дома и которая во всем зависит от мужиков. А уж в какой ужас придут подруги Мариарозы! Нет, такая я ему не нужна. Он любил стольких женщин, не задумываясь, переходил из одной постели в другую, оставлял после себя детей и считал брак добровольным соглашением, а не клеткой, в которой заперты человеческие желания. Я буду выглядеть смешно. В своей жизни я обходилась без стольких вещей, обойдусь и без Нино. Пойду своей дорогой вместе со своими дочерьми.
Но тут зазвонил телефон, я побежала отвечать. Это был он, на заднем фоне звучал громкоговоритель, шум, грохот, — голос было едва слышно. Он только что приехал в Неаполь, звонил с вокзала. «Я только поздороваться, — сказал он. — Как ты?» — «Хорошо». — «Чем занимаешься?» — «Собираемся с девочками обедать». — «Пьетро дома?» — «Нет». — «Тебе понравилось заниматься со мной любовью?» — «Да». — «Очень?» — «Очень-очень». — «Ой, у меня больше жетонов нет». «Ладно, давай, пока, спасибо за звонок». — «Еще созвонимся». — «Звони в любое время». Я была довольна собой. Я удержала его на правильной дистанции, убеждала я себя, на жест вежливости ответила вежливостью. Но через три часа он снова позвонил — опять из автомата. Он нервничал. «Почему ты так холодна со мной?» — «Я не холодна». — «Сегодня утром ты попросила сказать, что я люблю тебя, и я сказал, хотя я принципиально никому этого не говорю, даже жене». — «Я рада». — «А ты меня любишь?» — «Да». — «Вечером ляжешь спать с ним?» — «А ты как думал, с кем еще мне спать?» — «Я этого не перенесу». — «А ты что, не будешь спать с женой?» — «Это другое». — «Почему?» — «Элеонора для меня ничего не значит». — «Тогда возвращайся сюда». — «Как?» — «Брось ее». — «А дальше что?» Он звонил с маниакальной частотой. Я обожала эти звонки, особенно когда думала, что теперь мы неизвестно когда поговорим, а он перезванивал через полчаса, а иногда и через десять минут: снова волновался, спрашивал, занималась ли я любовью с Пьетро после того, как была с ним. Я говорила «нет», он просил меня поклясться, я клялась, спрашивала, спал ли он с женой, он кричал «нет», я тоже просила его поклясться. За клятвой следовали другие клятвы и куча обещаний, в том числе самое торжественное: что я буду сидеть дома и мне можно будет позвонить. Ему хотелось, чтобы я ждала его звонков, поэтому, когда я уходила из дома (все же иногда мне надо было выскочить в магазин), он звонил и звонил в пустоту, пока я не вернусь, не брошу у порога девочек и сумки и, даже не закрыв входную дверь, не кинусь снимать трубку. «Я уж думал, ты никогда не ответишь, — говорил он с отчаянием и, сразу приободрившись, добавлял: — Я тогда так и звонил бы тебе вечно и полюбил бы телефонные гудки в пустоте — единственное, что мне от тебя осталось». Он снова вспоминал нашу ночь: а помнишь это, а помнишь то. Он перечислял, чем хочет заняться со мной, и не только в плане секса, говорил, что мечтает со мной гулять, путешествовать, ходить в кино, в ресторан, рассказывать мне о работе, которой занимается, слушать, как продвигаются дела с моей книгой. Я теряла контроль над собой, твердила: «Да, да, да, все, все, что угодно», кричала: «Мне придется уехать в отпуск, через неделю мы с девочками и Пьетро будем на море», — так, будто речь шла о депортации. «Элеонора едет на Капри через три дня, — отвечал он, — как только она уедет, я приеду к тебе во Флоренцию, хотя бы на час». Эльза смотрела на меня, спрашивала: «Мама, с кем ты там все время разговариваешь? Пойдем играть». Как-то раз Деде ответила ей: «Оставь маму в покое, она разговаривает со своим женихом».
113
Нино выехал ночью, во Флоренцию приехал в девять утра. Он набрал наш номер. Ему ответил Пьетро, и Нино положил трубку. Позвонил снова — я побежала к телефону. Он припарковался у нашего дома. «Спускайся». — «Не могу». — «Спускайся немедленно, а не то я поднимусь». До моего отъезда в Виареджо оставалось несколько дней, Пьетро уже был в отпуске. Я оставила с ним девочек, сказала, что мне срочно надо купить кое-что для моря, и побежала к Нино.
Напрасно мы решили увидеться. Желание не только не утихло, но вспыхнуло с новой силой и нахально выдвигало тысячи требований, настаивая на исполнении прямо сейчас, немедленно. На расстоянии, по телефону, мы на словах предавались будоражащим мечтам, но в то же время соблюдали приличия и сдерживались, но оказавшись рядом, в тесном автомобиле, в жуткой жаре, мы больше не могли противиться своему сумасшествию; оно обретало форму, срасталось с реальностью и требовало невозможного.
— Не возвращайся домой.
— А как же девочки? Пьетро?
— А как же мы?
Прежде чем вернуться в Неаполь, он сказал, что не знает, как проживет весь август, не видясь со мной. Мы прощались в отчаянии. В доме, который мы снимали в Виареджо, не было телефона, но он все равно оставил мне свой номер на Капри и заставил пообещать, что я буду звонить каждый день.
— А если ответит твоя жена?
— Положишь трубку.
— А если ты будешь на море?
— У меня полно работы, я почти не буду ходить на море.
Созвониться надо было еще и для того, чтобы назначить дату встречи. Надо было найти способ увидеться хоть раз — перед Успением или сразу после. Он уговаривал меня придумать повод вернуться во Флоренцию и говорил, что то же самое провернет с Элеонорой и приедет ко мне. Мы встретимся у меня дома, будем вместе ужинать, вместе спать. Еще одно безумие. Я целовала его, ласкала, покусывала, потом он уехал, а я — несчастная и в то же время счастливая — побежала в магазин хватать все подряд: полотенца, две пары плавок Пьетро, ведерко и совочек для Эльзы, синий купальник Деде. В то время она любила синий цвет.
114
Мы поехали отдыхать. За девочками я почти не смотрела, постоянно оставляя их на отца. Я бегала в поисках телефона, чтобы сказать Нино, что люблю его. Пару раз подходила Элеонора, и мне пришлось вешать трубку. Одного ее голоса было достаточно, чтобы у меня испортилось настроение: это неправильно, что она сейчас рядом с ним, — зачем она ему? зачем она нам? Чувство досады заставило меня побороть страх: план увидеться с Нино представлялся мне все более осуществимым. Я сказала Пьетро (и не согрешила против истины), что итальянское издательство при всем желании не выпустит мою книгу раньше января, а вот во Франции она выйдет уже в конце октября. Сказала, что у меня есть некоторые сомнения по содержанию текста, и, чтобы разрешить их, мне срочно нужны кое-какие книги, поэтому мне придется вернуться домой.
— Давай я съезжу и привезу, — предложил Пьетро.
— Побудь с девочками хоть немного, ты и так с ними почти не бываешь.
— Зато я люблю водить машину, а ты нет.
— Можешь ты отпустить меня хоть ненадолго? Имею я право на один свободный день? Даже слугам дают выходные, а я что, не заслужила?
Я выехала ранним утром: по небу стелились белые полосы, в окошко дул свежий ветер, принося с собой запахи лета. В пустой дом я вошла с колотящимся сердцем. Разделась, вымылась, посмотрелась в зеркало, посокрушалась из-за белых, не загорелых пятен на груди и животе, оделась, разделась, снова оделась, и так пока наконец не почувствовала себя красивой.
Около трех приехал Нино: уж не знаю, что он там наплел своей жене. Мы занимались любовью до самого вечера. Наконец нам было удобно, и он мог полностью посвятить себя моему телу, со всем преклонением и обожанием, к которым я оказалась не готова. Я старалась не остаться в долгу, во что бы то ни стало хотела доказать ему, что тоже кое-что умею. Но стоило мне увидеть его покорным и счастливым, как что-то щелкнуло у меня в голове. Для меня это был первый и единственный опыт, а для него — очередной. Он любил женщин, обожал женское тело, для него это был фетиш. Я не особенно задумывалась о других его женщинах, с которыми была знакома, — о Наде, Сильвии, Мариарозе, его жене Элеоноре. Но я не могла не думать о том, о чем знала прекрасно: о тех безумствах, которые он совершал ради Лилы и которые чуть не довели его до самоуничтожения. Я вспомнила, как она верила в эту страсть, как цеплялась за него, за сложные книги, которые он читал, за его мысли, его амбиции, чтобы только удержаться рядом с ним и попытаться изменить себя. Я вспомнила, как она сломалась, когда Нино оставил ее. Неужели он умел любить только так, на грани срыва? И неужели наша любовь тоже была лишь повторением других его любовных безумств? Разве он жаждал заполучить меня не так же, как когда-то жаждал заполучить Лилу — невзирая ни на что? И разве наша встреча в моем с Пьетро доме не была повторением его встречи с Лилой в той квартире, где она жила со Стефано? Значит, наш роман — всего лишь одна из копий его прежних романов?
Я отпрянула от него. Он спросил: «Что случилось?» — «Ничего». Я не знала, что ответить: для выражения моих чувств не существовало слов. Я снова приникла поцелуем, стараясь выбросить из головы мысли о его любви к Лиле. Но Нино продолжал настаивать, я не могла отмолчаться и, вспомнив его относительно недавнее признание и решив, что уж про это я точно могу ему сказать, с наигранной беспечностью спросила:
— А что, у меня тоже что-то не так с сексом, как и у Лины?
Он изменился в лице. Я увидела перед собой другого человека, человека с чужими глазами, и испугалась. Не дожидаясь его ответа, я быстро прошептала:
— Я пошутила. Если не хочешь, не говори.
— Я не понял, что ты сказала.
— Я повторила твои же слова.
— Я никогда не произносил ничего подобного.
— Врешь, ты говорил это в Милане, по пути в ресторан.
— Неправда. В любом случае я не хочу говорить о Лине.
— Почему?
Он не ответил. Я разозлилась и отвернулась от него. Он погладил меня по спине кончиками пальцев, но я прошипела: «Оставь меня». Некоторое время мы лежали неподвижно, ни слова не говоря. Потом он снова начал ласкать меня, легонько поцеловал в плечо, и я сдалась. «Да, он прав, — сказала я себе, — не надо спрашивать его о Лиле».
Вечером зазвонил телефон — очевидно, это был Пьетро с дочками. Я жестом показала Нино, чтоб молчал, вскочила с постели и побежала отвечать. Я настроилась говорить уверенно и сердечно, но почему-то сразу перешла на шепот, наверное, в душе боялась, что Нино услышит разговор и будет потом надо мной смеяться, а то и расстроится.
— Что ты шепчешь? — не понял Пьетро. — У тебя все в порядке?
Я тут же повысила голос, на сей раз чересчур. Я была очень нежна, поболтала с Эльзой, попросила Деде не доставлять хлопот отцу и не забывать чистить зубы перед сном. Когда я вернулась в постель, Нино сказал:
— Какая прекрасная жена! Какая заботливая мамочка!
— Сам такой, — отрезала я.
Я ждала, когда ослабнет вспыхнувшее между нами напряжение и стихнет эхо голосов моего мужа и моих дочерей. Потом мы вместе пошли в душ — для меня это было в новинку и очень понравилось: я с удовольствием мыла его и позволяла ему мыть себя. Потом я стала одеваться. Я снова прихорашивалась, на сей раз у него на глазах и — неожиданно — без всякого волнения. Он зачарованно смотрел, как я примеряю разные платья, как наношу макияж, то и дело подходил ко мне со спины, целовал в шею, запускал руки в вырез декольте и под юбку, несмотря на мои шуточные протесты: «Прекрати, мне щекотно! Смотри, мне придется заново краситься! Ой, ты сейчас на мне платье порвешь!»
Я настояла на том, чтобы он вышел один и ждал меня в машине. Конечно, соседи были в отпусках, дом наполовину пустовал, но я все равно боялась, как бы кто-нибудь не увидел нас вместе. Мы поехали ужинать, с аппетитом ели, много говорили и еще больше выпили. Вернувшись домой, мы снова легли в постель, но всю ночь не сомкнули глаз.
— В октябре я еду на пять дней в Монпелье, — сказал он мне. — На конференцию.
— Отдохни хорошенько. С женой?
— Я хочу поехать с тобой.
— Это невозможно.
— Почему?
— Деде шесть лет, Эльзе три. Я должна думать о них.
Мы заговорили о нашем положении, впервые произнеся такие слова, как «брак» и «дети». От отчаяния мы снова занимались сексом, после секса опять переходили к отчаянью.
— Мы не должны больше видеться, — прошептала я наконец.
— Если для тебя это возможно, отлично. Для меня нет.
— Это все болтовня. Ты знаешь меня с детства, и ничего, все эти годы обходился без меня, жил полной жизнью. Ты быстро меня забудешь.
— Обещай, что будешь звонить мне каждый день.
— Нет, я не буду больше тебе звонить.
— Если не будешь, я с ума сойду.
— Это я сойду с ума, если и дальше буду о тебе думать.
Мы с мазохистским удовольствием исследовали тупик, в который сами себя загнали, и так старательно перечисляли все препятствия и препоны, что в конце концов поссорились. Он уехал в шесть утра весь на нервах. Я убрала дом, поплакала, села за руль и всю дорогу надеялась, что никогда не доберусь до Виареджо. На полпути я сообразила, что не захватила ни одной книги, чтобы хоть чем-то оправдать свой отъезд. «Оно и к лучшему», — подумала я.
115
Эльза очень мне обрадовалась. «Папа совсем не умеет играть», — сказала она сердито. Деде защищала Пьетро и нападала на сестру, дескать, та слишком маленькая и глупая и сама портит все игры. Пьетро смотрел на меня, не скрывая дурного настроения.
— Ты что, не спала?
— Плохо спалось.
— Нашла нужные книги?
— Да.
— Где же они?
— А где им быть, по-твоему? Дома. Я проверила все что надо, и все.
— Почему ты злишься?
— Потому что ты меня злишь.
— Мы вчера звонили тебе второй раз. Эльза хотела пожелать тебе спокойной ночи, но тебя не было дома.
— Было жарко, я решила пройтись.
— Одна?
— А с кем?
— Деде говорит, что у тебя есть жених.
— Деде так тебя обожает: она что угодно скажет, лишь бы оттеснить меня.
— Или просто видит и слышит то, чего я не вижу и не слышу.
— Что ты хочешь этим сказать?
— То, что сказал.
— Пьетро, давай начистоту: к твоим многочисленным болезням добавилась еще и ревность?
— Я не ревную.
— Будем надеяться. Но на всякий случай предупреждаю заранее: я на дух не выношу ревнивцев. Это уж слишком!
В последующие дни стычки подобного рода вспыхивали все чаще. Я была с ним холодна, придиралась к нему по пустякам, одновременно презирая себя. Временами меня охватывал гнев: чего он от меня хочет? Что я могу поделать? Я любила Нино, всю жизнь любила: разве я могла выбросить его из сердца, из головы, из груди теперь, когда он тоже меня желал? С самого детства я выстроила в себе идеальный механизм самоцензуры. Я никогда не давала воли своим истинным влечениям и всегда находила способ пресечь безумные поползновения, перенаправив их в нужное русло. Но теперь все, хватит, говорила я себе, пропади все пропадом, включая меня самое.
И все же я колебалась. Несколько дней не звонила Нино, о чем предусмотрительно предупредила его еще во Флоренции. А потом вдруг начала звонить по три-четыре раза в день, плюнув на осторожность. Я дошла до того, что оставляла Деде в паре шагов от телефонной будки. Я разговаривала с ним из этой раскаленной на солнце клетки и иногда, вся мокрая от пота, не в силах терпеть пристальный взгляд этой малолетней шпионки, моей дочери, распахивала настежь дверь и кричала: «Что ты стоишь столбом? Я же велела тебе смотреть за сестрой!» Теперь мои мысли занимала главным образом конференция в Монпелье. Нино все настойчивее дергал меня, повторяя, что я должна доказать ему, что действительно им дорожу. От бурных ссор мы переходили к страстным признаниям в любви, от взаимных упреков — вылетавших мне в кругленькие суммы, звонила-то я по межгороду, — к самым смелым откровениям, словно надеясь, что они помогут нам утолить взаимное желание. Однажды, устав от нытья Деде и Эльзы под дверью будки («Мам, выходи скорее, нам скучно»), я сказала ему:
— У меня есть только один способ поехать с тобой в Монпелье.
— Какой?
— Признаться во всем Пьетро.
Долгое молчание.
— Ты действительно готова на это?
— Да, но при одном условии: ты расскажешь все Элеоноре.
Снова долгое молчание.
— Ты хочешь, чтобы я причинил боль Элеоноре и своему сыну? — тихо спросил Нино.
— Да. Я ведь собираюсь сделать то же самое с Пьетро и дочерьми. Решиться и значит причинить боль.
— Альбертино еще совсем маленький.
— Эльза тоже. А уж Деде просто этого не перенесет.
— Давай сделаем это после Монпелье?
— Нино, не играй со мной.
— Я не играю.
— А раз не играешь, будь последовательным: ты говоришь со своей женой, я говорю со своим мужем. Немедленно. Сегодня же вечером.
— Дай мне немного времени, это нелегко.
— А мне легко?
Он начал изворачиваться. Сказал, что Элеонора — женщина очень ранимая. Что вся ее жизнь сосредоточена вокруг него и ребенка. Что в юности она два раза пыталась покончить с собой. На этом он не остановился: я поняла, что вызвала его на полную откровенность. Слово за слово, со свойственной ему предусмотрительностью, он признался, что развод не только причинит боль его жене и сыну, но и лишит его множества удобств («в Неаполе можно сносно жить, только если ты богат») и полезных связей, благодаря которым он мог заниматься в университете тем, что ему нравилось. Затем, поддавшись порыву быть со мной до конца честным, он сказал: «Ты ведь в курсе, как меня уважает твой свекор. Если все узнают о нашей связи, это будет означать полный разрыв с Айрота». Почему-то именно последнее его замечание ранило меня больнее всего.
— Хорошо, — сказала я. — Закончим на этом.
— Подожди.
— Я и так слишком долго ждала. Надо было раньше решиться.
— Что ты собираешься делать?
— Признать, что мой брак больше не имеет смысла, и пойти своей дорогой.
— Ты уверена?
— Да.
— Ты приедешь ко мне в Монпелье?
— Я сказала: пойти своей дорогой, а не твоей. Между нами все кончено.
116
Я вышла из будки в слезах. «Мама, ты ушиблась?» — спросила Эльза. «Нет, со мной все хорошо, это бабушке нездоровится». Слезы сами лились у меня из глаз, пугая Эльзу и Деде.
Последние дни отпуска я только и делала, что плакала. Я говорила, что плохо себя чувствую, что слишком жарко, что у меня болит голова, и отправляла Пьетро с дочками на море, а сама ложилась в постель и рыдала в подушку. Я ненавидела себя за эту слабость: так я не ревела даже в детстве. Еще девчонками мы с Лилой запрещали себе плакать, а если нам и случалось пустить слезу, то в исключительных обстоятельствах и никогда надолго: нам было слишком стыдно, и мы брали себя в руки. А тут как будто у меня в голове забил родник, как в «Неистовом Роланде» Ариосто: даже когда к приходу Пьетро, Деде и Эльзы я заставляла себя успокоиться и бежала умываться, слезы не иссякали, в любую минуту готовые хлынуть из глаз по уже проложенному руслу. На самом деле я не была нужна Нино. Он много притворялся и мало любил. Ему просто хотелось трахнуть меня — да, трахнуть, как он трахал бессчетное число других женщин; но остаться со мной навсегда, порвав с женой, в его планы не входило. Может, он все еще был влюблен в Лилу. Может, он всю жизнь любил одну ее, как многие из тех, кто ее знал. Поэтому он всю жизнь проживет с Элеонорой. Любовь к Лиле служила гарантией того, что ни одна женщина, как бы неистово он ее ни желал, не сможет разрушить их хрупкий союз, а уж я — в последнюю очередь. Вот как обстояли дела. Иногда я прямо посреди обеда или ужина вставала из-за стола, запиралась в ванной и давала волю слезам.
Пьетро вел себя со мной осторожно, опасаясь возможного скандала. Сразу после разрыва с Нино я собиралась обо всем ему рассказать, как будто он был мне не только мужем, но и исповедником. Я ощущала это как потребность, особенно когда в постели он пытался меня обнять, а я отталкивала его, шепча: «Только не здесь, девочки проснутся»; еще чуть-чуть, и я бы все ему выложила. Но я вовремя себя останавливала: не обязательно было рассказывать ему про Нино. Теперь, когда я больше не бегала звонить человеку, которого любила, и чувствовала себя окончательно пропащей, какой смысл был мучить еще и Пьетро? Лучше сказать несколько простых и понятных слов: «Я больше не могу жить с тобой». Но даже на это я была неспособна. Когда в полумраке спальни я наконец чувствовала себя готовой сделать этот шаг, меня охватывала жалость к нему и страх за будущее девочек; тогда я гладила его по плечу, по щеке и говорила: «Спи».
Все изменилось в последний день отпуска. Было почти полночь, Деде и Эльза спали. К тому времени я уже больше десяти дней не звонила Нино. Я упаковала вещи и, устав от сборов и жары, вышла к Пьетро на балкон и вытянулась на соседнем шезлонге. Ночь была влажная, волосы и одежда у нас пропитались сыростью. Пахло морем и смолой.
— Как там твоя мать? — спросил вдруг Пьетро.
— Моя мать?
— Да.
— Хорошо.
— Деде сказала, она заболела.
— Она уже поправилась.
— Я ей сегодня звонил. Она не жаловалась на здоровье.
Я ничего не ответила. Что за ужасный человек! На глаза у меня снова навернулись слезы. Как же мне все это надоело! Он между тем продолжал спокойным голосом:
— Думаешь, я слепой и глухой? Думаешь, я не замечал, как ты флиртовала с теми идиотами, которые шлялись к нам перед рождением Эльзы?
— Не понимаю, о чем ты.
— Прекрасно понимаешь.
— Нет, не понимаю. О ком ты? Какие-то люди приходили к нам ужинать несколько лет назад. И я флиртовала с ними? Ты что, с ума сошел?
Пьетро покачал головой, улыбаясь сам себе. Он выждал несколько секунд и спросил, уставившись в оконную решетку:
— Ты хочешь сказать, что не флиртовала даже с тем парнем, что играл на ударных?
Я забеспокоилась. Он не собирался отступать.
— С Марио? — фыркнула я.
— Вот видишь, как хорошо ты его помнишь.
— Конечно, помню, как не помнить? Один из немногих интересных людей, которых за семь лет брака ты к нам приглашал.
— Он показался тебе интересным?
— Да, и что с того? Что это на тебя сегодня нашло?
— Я хочу знать. Я что, не имею права знать?
— Что ты хочешь знать? Все, что мне известно, ты тоже знаешь. С того дня, как мы в последний раз видели этого типа, прошло как минимум четыре года, и вдруг ты заводишь о нем разговор. Что за глупости?
Он отвел взгляд от решетки, повернулся ко мне и сказал серьезно:
— Хорошо, поговорим о недавних событиях. Что у тебя с Нино?
117
Удар был сильный и неожиданный. Он хочет знать, что у меня с Нино. Этого вопроса и этого имени оказалось достаточно, чтобы родник в голове забил снова. Я почувствовала, как слезы застилают глаза, и закричала, забыв, что мы сидим на улице, а соседи спят, расслабившись после солнца и море: «Зачем ты меня спрашиваешь? Не мог помолчать? Ты все испортил! Теперь с этим ничего не сделаешь! Надо было молчать, а ты сказал, и теперь мне придется уйти! Уйти, потому что ты меня вынудил!»
Не знаю, что с ним случилось после этих моих слов. Может, он понял, что действительно совершил ошибку, и теперь непонятно ради чего рискует навсегда разрушить наш брак. А может, увидел во мне грубое создание, не способное поддерживать тонкую беседу, существо, лишенное логики, одним словом, самку в самом страшном ее проявлении. Зрелище оказалось для него невыносимым: он рывком поднялся и ушел в дом. Я побежала за ним, выкрикивая на ходу, что с детства любила Нино, что он открыл передо мной новые жизненные горизонты, что во мне кипит нерастраченная энергия, что это Пьетро на долгие годы погрузил меня в рутину, что по его вине я лишена полноценной жизни.
Когда я, обессилев, упала на стул, то увидела перед собой его впалые щеки, глаза в окружении огромных синяков, побелевшие губы и загар, который казался коркой грязи. Только тогда я поняла, насколько он был шокирован. Вопросы, которые он мне задавал, даже гипотетически не предполагали утвердительного ответа: «Да, я флиртовала с ударником, и даже больше того»; «Да, мы с Нино любовники». Пьетро задал их с единственной целью: чтобы я все опровергла, чтобы развеяла его сомнения, чтобы успокоила его перед сном. Вместо этого он попал в кошмар, из которого не видел выхода. Как утопающий хватается за соломинку, он почти шепотом спросил меня:
— Вы с ним занимались любовью?
Мне снова стало его жалко. Если бы я ответила утвердительно, то крикнула бы: «Да! В первый раз, когда ты спал; во второй — в его машине; в третий — в нашей с тобой постели во Флоренции». Эти фразы я произнесла бы со сладострастием, пробужденным одним перечислением этих фактов. Но вместо этого я отрицательно помотала головой.
118
Мы вернулись во Флоренцию. Наше общение свелось к обмену необходимыми репликами и показной теплотой в присутствии детей. Пьетро спал в кабинете, как в те времена, когда Деде была крикливым младенцем; я занимала супружескую постель и размышляла, что делать дальше. Тот способ, которым закончился брак Лилы со Стефано, меня не устраивал: он давно устарел и не имел никакой юридической силы. Я рассчитывала сделать все цивилизованно, по закону, в соответствии со временем и нашим положением. Но в реальности я даже не представляла, за что браться, а потому не делала ничего. Тем более что сразу по возвращении мне позвонила Мариароза и сказала, что французское издание почти готово и что она пришлет мне корректуру; придирчивый редактор из моего издательства заявил, что у него возникли вопросы по некоторым фрагментам текста. Я была рада снова занять себя работой. Но у меня не получалось: личные проблемы казались мне гораздо серьезней неверно истолкованных строчек и неудачных выражений.
Однажды утром зазвонил телефон. Подошел Пьетро. Он произнес: «Алло», повторил еще раз: «Алло!» — и повесил трубку. Сердце у меня заколотилось как сумасшедшее, я приготовилась бежать к телефону, чтобы опередить мужа. Но больше никто не звонил. Прошло несколько часов, я пыталась вычитывать свой текст. Лучше бы и не бралась: он казался мне набором глупостей; я до того измучилась, что заснула, положив голову на стол. Но вот снова зазвонил телефон, и снова ответил муж. Он прокричал, напугав Деде: «Алло!» — и швырнул трубку, как будто хотел разбить аппарат.
Это был Нино, я знала это, и Пьетро это знал. Время конференции приближалось, и, разумеется, он снова собирался уговаривать меня поехать с ним. Он надеялся снова заманить меня плотской страстью. Он будет доказывать мне, что единственная наша возможность — это встречаться тайно и жить, сколько сможем, разрываясь между удовольствием и осознанием того, что мы поступаем плохо. Это значило изменять и постоянно придумывать, что соврать, чтобы вырваться из дома. Я могла бы в первый раз в жизни полететь на самолете и, как в кино, прижиматься к нему, пока машина будет поднимать нас в воздух. Почему бы и нет? После Монпелье мы могли бы отправиться в Нантер, к подруге Мариарозы: мы бы обсудили книгу, согласовали дальнейшие планы, я бы представила ей Нино. О да, поехать в сопровождении любимого мужчины, обладавшего такой властью над людьми, такой силой, перед которой никто не мог устоять. Ненависть отступила. Я сдалась.
На следующий день Пьетро поехал в университет, а я ждала, когда Нино снова позвонит. Он не звонил, и тогда я сама набрала его номер. Прошло несколько секунд, меня трясло от волнения, в голове не было ничего, кроме желания услышать его голос. Что делать дальше — я не знала. Может, я набросилась бы на него, может, заплакала бы, а может, крикнула бы: «Ладно, я еду с тобой, я буду твоей любовницей, буду до тех пор, пока тебе не надоем». В этот момент на том конце провода сняли трубку.
Ответила Элеонора. Я еле-еле успела выбросить из головы призрак Нино и удержать свой голос, чтобы не запустить по телефонным проводам опасные, компрометирующие слова. «Привет, это Элена Греко, — сказала я радостно. — Как поживаешь? Как вы отдохнули? Как Альбертино?» Она молча выслушала меня, а потом заорала: «Ах, это Элена Греко! Шлюха, лицемерная шлюха! Оставь в покое моего мужа и не смей звонить сюда больше! И помни, я знаю, где ты живешь! Приеду и разобью тебе рожу!» Она бросила трубку.
119
Не знаю, сколько я просидела у телефона. Меня переполняла ненависть, в голове кружили фразы типа: «Давай, приезжай, приезжай поскорее, дура набитая, другого я от тебя и не ждала, откуда ты там, с виа Тассо? С виа Филанджери? С виа Криспи? Из Сантареллы? И ты вздумала тягаться со мной, ах ты погань, ах ты дрянь, да ты, паршивка, сама не знаешь, с кем связываешься». Какая-то другая я, спрятанная некогда под коркой кротости, рвалась наружу, билась в груди, смешивая выученные итальянские слова с голосами из детства. Если только Элеонора рискнет приблизиться к моей двери, я плюну ей в рожу, спущу с лестницы, протащу за волосы по улице и разобью ее башку, набитую дерьмом, о тротуар. У меня теснило в груди, пульсировало в висках. Под окнами начались дорожные работы, через окно в квартиру проникала жара, летела пыль, доносился стук молотков и раздражающий гул каких-то машин. Деде в соседней комнате ссорилась с Эльзой: «Хватит повторять все за мной, как обезьяна. Так только обезьяны делают». Тут я понемногу стала понимать: Нино поговорил с женой, поэтому она на меня и набросилась. Злоба превратилась в неудержимую радость. Я нужна была Нино, настолько, что он все рассказал жене. Он разрушил свой брак, отказался, прекрасно понимая, что делает, от всех удобств, что его окружали, сломал свою жизнь и предпочел причинить боль Элеоноре и Альбертино, а не мне. Он действительно любил меня. Я глубоко вздохнула. Зазвонил телефон, я сняла трубку.
Это был Нино, его голос. Он казался спокойным. Сказал, что его браку конец и он свободен.
— Ты поговорила с Пьетро?
— Начала.
— Ты еще не сказала ему?
— Что-то сказала, что-то нет.
— Хочешь отступить?
— Нет.
— Тогда поторопись, нам скоро ехать.
Он уже предусмотрел, что я еду с ним. Мы должны были встретиться в Риме, гостиница, билеты — все было готово.
— У меня проблема с девочками, — тихо и неуверенно сказала я ему.
— Оставь их со своей мамой.
— Об этом даже говорить бесполезно.
— Тогда бери их с собой.
— Ты серьезно?
— Да.
— Ты все равно возьмешь меня с собой, даже с дочками?
— Конечно.
— Ты и правда меня любишь, — сказала я.
— Да.
120
Я вдруг ощутила себя неуязвимой и непобедимой, как в те времена, когда мне казалось, что я все могу. Я родилась под счастливой звездой. Даже когда казалось, что судьба от меня отвернулась, на самом деле она работала на меня. Конечно, у меня были свои достоинства. Я была организованна, у меня была хорошая память, я освоила инструментарий, которым обычно пользуются мужчины, я умела логически выстроить разрозненную массу фрагментов, и я умела нравиться. Но важнее всего была удача, и я гордилась тем, что она всегда рядом, как верная подруга. Она снова на моей стороне, уверяла я себя. Я вышла замуж за хорошего человека, не за какого-нибудь там Стефано Карраччи или, тем более, Микеле Солару. Да, мы поссоримся, да, он будет страдать, но в конце концов мы обо всем договоримся. Конечно, вот так пустить по ветру брак, семью — это болезненно. Пока, в силу разных причин, у нас не было желания сообщать об этом нашим родителям, напротив, мы собирались держать все в секрете как можно дольше, а потому не могли рассчитывать на родственников Пьетро, которые в любых ситуациях знают, что делать и к кому обращаться. Но я наконец была спокойна. Мы взрослые умные люди, мы все обсудим, объяснимся и все решим. В те часы среди беспорядочных мыслей только одна казалась мне непоколебимой: я еду в Монпелье.
Тем же вечером я поговорила с мужем, призналась ему, что Нино был моим любовником. Он сделал все возможное, чтобы не верить этому. Когда я наконец убедила его, что это правда, он заплакал, упрашивал пощадить его, впал в бешенство, схватил стекло, лежавшее на столе, и разбил его о стену на глазах перепуганных девочек, которые проснулись от криков, прибежали и стояли на пороге гостиной, не веря своим глазам. Меня это поразило, но я не отступала. Я снова уложила Деде и Эльзу, успокоила их, подождала, пока они заснут, потом вернулась к мужу, каждая минута разговора с которым оборачивалась пыткой. Кроме того, нам начала названивать Элеонора; она оскорбляла меня, оскорбляла Пьетро, говорила, что он не мужик, обещала мне, что ее родственники найдут способ оставить нас и наших дочерей без глаз, чтобы даже плакать было нечем.
Но я не падала духом. Я пребывала в таком воодушевлении, что и мысли не могла допустить, что не права. Наоборот, мне казалось, что даже та боль, которую я причиняла, те унижения и угрозы, которые получала в ответ, работали на меня. Этот болезненный опыт пойдет на пользу не только мне, помогая мне стать наконец собой, он принесет благо всем, кто сейчас так страдает. Элеонора поймет, что с любовью ничего не поделаешь, что это безумие — говорить человеку, который хочет уйти, что он должен остаться. А Пьетро, который, вне всякого сомнения, теоретически знал это и так, нужно будет только потерпеть, чтобы абстрактное знание превратилось в мудрость.
Самой главной проблемой оставались мои дочери. Муж настаивал, что мы должны сказать им правду. Я возражала: «Они еще слишком малы, им этого не понять». Однажды он сорвался и закричал: «Раз решила уходить, ты обязана дать объяснения своим дочерям, а если смелости не хватает, тогда оставайся — значит, ты сама не веришь в то, что собираешься сделать». — «Давай поговорим с адвокатом», — предложила я. «Сейчас не до адвокатов», — ответил он и без предупреждения громко позвал Деде и Эльзу, которые очень сблизились за последнее время и, как только слышали наши крики, дружно закрывались у себя в комнате.
— Ваша мать должна сказать вам кое-что, — начал Пьетро, — садитесь и слушайте.
— Я и папа очень любим друг друга, — начала я, — но с некоторых пор мы не можем прийти к согласию, и потому решили расстаться.
— Неправда, — спокойно прервал меня Пьетро, — это ваша мама решила уйти. И то, что мы любим друг друга, тоже неправда: она меня больше не любит.
Я разволновалась:
— Девочки, все не так просто. Любить друг друга можно, даже если не живешь вместе.
— И это ложь, — снова перебил он меня. — Или мы любим друг друга, живем вместе, мы семья, или не любим, расходимся, и мы больше не семья. Как они что-то поймут, если ты постоянно врешь? Будь добра, скажи честно и ясно, почему мы расходимся.
— Я вас не бросаю, вы самое главное, что есть в моей жизни, я не смогу жить без вас. Просто у меня проблемы с вашим папой.
— Какие проблемы? — не отставал он. — Давай, объясни, какие у нас проблемы.
Я вздохнула и выговорила:
— Я люблю другого человека и хочу жить с ним.
Эльза посмотрела на Деде, хотела понять, как реагировать на эту новость, и, поскольку Деде сидела невозмутимо, она тоже сделала невозмутимое лицо. Зато муж мой утратил спокойствие и закричал:
— Назови имя, скажи им, как зовут этого человека. Не хочешь? Стыдно? Тогда я скажу: вы знаете этого другого человека, это Нино, помните его? Ваша мать хочет уйти жить к нему.
Он разрыдался, а Эльза немного встревоженно проговорила: «Мам, а ты возьмешь меня с собой?» Но ответа она не дождалась: как только сестра встала и быстро — едва ли не бегом — вышла из комнаты, Эльза бросилась следом за ней.
Той ночью Деде кричала во сне, я проснулась, вскочила, побежала к ней. Она спала, но намочила постель. Мне пришлось будить ее, переодевать, менять простыню. Когда я снова попыталась ее уложить, она сказала, что хочет спать со мной. Я согласилась, взяла ее к себе. Время от времени она вздрагивала во сне и тянулась ко мне рукой, чтобы убедиться, что я на месте.
121
Приближался день отъезда, но ситуация с Пьетро не улучшалась, согласовать с ним хоть что-то, например мою поездку в Монпелье, было невозможно. «Если уедешь, — говорил он, — никогда больше не увидишь дочерей». Или: «Если увезешь дочек, я покончу с собой». Или: «Поехали вчетвером, съездим в Вену». Или: «Девочки, ваша мама предпочла вам синьора Нино Сарраторе».
Это становилось невыносимо. Мне вспоминались протесты Антонио, когда я его бросила. Но Антонио был тогда мальчишкой, в наследство от Мелины ему досталась неустойчивая психика, кроме того, он не получил такого воспитания, как Пьетро, и никто не учил его с детства отличать порядок от хаоса. «Может, — думала я, — я преувеличиваю значение культурных традиций, воспитания, чтения, хорошего владения языком, политических предпочтений, может, когда нас бросают, мы все ведем себя одинаково, может, ни один самый здравый ум не может просто так смириться с тем, что его больше не любят». Мой муж — и с этим ничего было не поделать — был уверен, что обязан любой ценой защитить меня от яда моих же желаний, и потому, все еще будучи моим мужем, готов был прибегнуть к любым средствам, даже самым низким. Он, настоявший на гражданском браке, всегда выступавший за возможность развестись, теперь настаивал, что наш союз должен быть вечным, как будто он был заключен перед Богом. И поскольку я твердо стояла на своем, он сначала пытался меня переубедить, затем ломал вещи, затем бил себя по лицу, а под конец вдруг начинал петь.
Когда он вел себя таким образом, я приходила в негодование и осыпала его оскорблениями. Он, как обычно, мгновенно менялся в лице, застывал, как перепуганный зверек, садился рядом, просил прощения, говорил, что не сердится на меня, что это у него с головой не в порядке. Как-то ночью в слезах он рассказал мне, что Аделе всю жизнь изменяла его отцу — он узнал об этом еще в детстве. В шесть лет он увидел, как она целовалась со здоровенным мужиком в синем костюме. Это было в Генуе, в большой комнате, окна которой выходили на море. Он помнил все в подробностях: у мужчины были длинные усы, напоминавшие два черных кинжала, на штанах блестело пятно, похожее на монету в сто лир; мать рядом с ним казалась тетивой лука, да такой натянутой — того и гляди порвется. Я выслушала его молча, пыталась утешить: «Успокойся, это ведь не настоящие воспоминания, ты сам это знаешь, не мне тебе говорить». Но он продолжал стоять на своем: на Аделе был красный сарафан, лямка соскользнула с загоревшего плеча, длинные ногти казались стеклянными, затылок оплетала похожая на змею черная коса. В конце он спросил, уже не жалобно, а грозно: «Теперь ты понимаешь, в какой ужас меня ввергла?» Я думала про себя: «Значит, и Деде все вспомнит и так же будет рассказывать об этом кому-то, когда вырастет». Но потом я отогнала эту мысль, сообразив, что Пьетро рассказывает мне о матери только сейчас, после стольких лет, только для того, чтобы меня удержать.
Так продолжалось долго. Я была измучена, перестала спать. Муж терзал меня, Нино от него не отставал, хоть и по-своему. Когда напряжение достигало пика, он, вместо того чтобы успокоить меня, подливал масла в огонь: «Думаешь, мне сейчас легче? Тут такой же ад, как и у тебя, я боюсь за Элеонору, боюсь, что она что-нибудь над собой сделает, так что не думай, что мне легко, может, даже труднее». Потом он восклицал: «Все равно мы с тобой сильнее всех на свете! Мы обязательно должны быть вместе, это просто необходимо, ты понимаешь? Скажи, я хочу это слышать, ты понимаешь это?» Я понимала. Но его слова не особенно мне помогали. Всеми силами воображения я представляла себе момент, когда наконец увижу его снова и мы улетим во Францию. «Надо еще немножко продержаться, а уж там видно будет», — говорила я себе. А пока мне хотелось одного: чтобы эти мучения закончились — я так больше не могла. В разгар одной ужасной ссоры я сказала Пьетро при Деде и Эльзе:
— Все, хватит. Я уезжаю на пять дней, всего на пять дней, потом я вернусь, и мы решим, что делать. Идет?
Он обратился к девочкам:
— Ваша мать говорит, что ее не будет всего пять дней, вы ей верите?
Деде отрицательно замотала головой, Эльза тоже.
— Даже они тебе не верят, — объявил Пьетро. — Мы знаем, что ты уйдешь от нас и больше не вернешься.
Тут, как по условному сигналу, Деде и Эльза бросились ко мне, обняли за ноги, умоляли не уезжать, остаться с ними. Я не выдержала. Я присела, обхватила их за талии, сказала: «Ладно, я не поеду, вы мои девочки, я останусь с вами». Эти слова успокоили их, Пьетро тоже понемногу успокоился. Я пошла к себе в комнату.
О боже, как же все вывернулось наизнанку: они, я, мир вокруг; добиться перемирия можно было только враньем. До отъезда оставалась пара дней. Я написала длинное письмо Пьетро, маленькое Деде с просьбой прочитать его Эльзе, собрала чемодан, спрятала его под кровать в комнате для гостей, накупила продуктов, забила холодильник. На обед и на ужин приготовила любимые блюда Пьетро, он ел и благодарил. Девочки приободрились и снова начали ссориться по любому поводу.
122
День отъезда приближался, и Нино перестал мне звонить. Я попробовала сама набрать его номер, надеясь, что подойдет не Элеонора. Мне ответила домработница, я обрадовалась и попросила позвать профессора Сарраторе. В ответ прозвучало: «Я позову синьору». Я положила трубку и стала ждать. Я надеялась, что звонок вызовет очередную супружескую ссору, и Нино догадается, что я его искала. Через десять минут зазвонил телефон. Я сняла трубку в уверенности, что это Нино, но это оказалась Лила.
Мы давно не разговаривали, и мне не хотелось с ней болтать. Даже ее голос меня раздражал. В тот период одно ее имя, ужом проползая по извилинам мозга, пугало меня и отнимало последние силы. К тому же момент был неподходящий: мог позвонить Нино, и я не хотела занимать линию; у нас и без того были проблемы со связью.
— Можно я тебе потом перезвоню? — спросила я.
— Ты занята?
— Немного.
Мой ответ она проигнорировала. Ей, как обычно, казалось, что она может входить в мою жизнь и выходить из нее, когда захочет, ни о чем не беспокоясь, как будто мы с ней по-прежнему были одно и не было нужды спрашивать: «Как дела? Чем занимаешься? Не побеспокою?» Уставшим голосом она сказала, что у нее для меня плохая новость: мать Солара убили. Говорила она медленно, как бы подчеркивая каждое слово; я слушала ее не перебивая. За ее словами в моей памяти вставала череда картин: разряженная в пух и прах ростовщица за столом на их со Стефано свадьбе; полупризрачная женская фигура в дверном проеме квартиры, в которой я искала Микеле; страшная тень из нашего детства, вонзившая нож в дона Акилле; старуха с искусственным цветком в волосах, обмахивающаяся голубым веером и бормочущая: «Ну и жарища здесь…» Новость не вызвала у меня никаких эмоций, даже когда Лила стала со своей обычной обстоятельностью пересказывать местные слухи. Мануэлу закололи ножом; ее застрелили из пистолета — четыре пули попали в грудь, а одна — в шею; ее насмерть забили ногами; убийцы — она использовала именно это слово — даже не входили в дом, а застрелили ее прямо на пороге: Мануэла повалилась ничком на лестничную площадку; ее муж, ни о чем не догадываясь, смотрел в это время телевизор. «Единственное, что можно сказать наверняка, — добавила Лила, — это то, что Солара как с ума посходили, наперегонки с полицией ищут виновных, созвали своих людей из Неаполя и из других городов, закрыли все свои предприятия. Я вот сегодня тоже не работаю. У нас ужас что творится, сидим, дышать боимся».
Как она умела придать значимости тому, что происходило с ней и вокруг нее! Убитая ростовщица, потрясенные сыновья, их головорезы, готовые проливать новую кровь, и, конечно, она сама, как всегда находящаяся в центре событий. Наконец она дошла до истинной причины своего звонка:
— Завтра я отправляю к тебе Дженнаро. Я понимаю, что злоупотребляю твоим гостеприимством, у тебя свои дочери, свои дела, но сейчас я не могу и не хочу держать его здесь. Пропустит несколько дней в школе, ничего страшного. Он тебя любит, ему у тебя хорошо, ты единственная, кому я доверяю.
На несколько секунд я задумалась над ее последней фразой: «Ты единственная, кому я доверяю». Мои губы тронула улыбка: Лила еще не знала, что мне больше нельзя доверять. Выслушав ее просьбу, подразумевавшую, что в моей безмятежной, благоразумной жизни, похожей на существование растения — знай себе цвети и жди, когда созреют ягодки, — ничего не может измениться, я просто, но твердо ответила:
— Я уезжаю. Я бросила мужа.
— Не поняла.
— Моему браку конец, Лила. Я встретила Нино, мы поняли, что всю жизнь любили друг друга, с самого детства, сами того не зная. Поэтому я уезжаю и начинаю новую жизнь.
После долгого молчания она спросила:
— Ты шутишь?
— Нет.
Должно быть, ей казалось невозможным, что я учинила беспорядок в своей жизни, в своей упорядоченной голове, и она набросилась на меня, машинально вспомнив моего мужа. «Пьетро, — говорила она, — необыкновенный человек, добрый, умный, ты с ума сошла — бросать его?! Подумай о своих дочерях — что с ними-то будет?». Она говорила, но не упоминала Нино, как будто это имя застряло у нее где-то в ушной раковине, так и не дойдя до мозга. Мне самой пришлось произнести его еще раз: «Нет, Лила, я не могу больше жить с Пьетро, потому что я люблю Нино. Что бы ни случилось, я уезжаю с ним». Я говорила еще что-то, близкое по содержанию, как будто хвастала заслуженной наградой.
— Ты бросаешь все, что у тебя есть, ради Нино? — закричала она. — Ради него ты рушишь свою семью? Знаешь, что с тобой будет? Он использует тебя, высосет из тебя всю кровь, отнимет желание жить и бросит тебя. Ради этого ты столько училась? Проклятье, я столько надеялась, что ты проживешь прекрасную жизнь — и за себя, и за меня! Как же я в тебе ошиблась! Ты просто кретинка.
123
Я бросила трубку, как будто она жгла мне руку. «Она ревнивая и завистливая, теперь она меня ненавидит», — сказала я себе. Это была правда. Проходили долгие секунды, я ни разу не вспомнила о мамаше Солара; ее убийство испарилось у меня из головы. Вместо этого я в тревоге думала: «Почему не звонит Нино?» А вдруг именно сейчас, когда я все рассказала Лиле, он передумает и выставит меня посмешищем? На мгновение я представила, как стою перед ней воплощением ничтожества — дурочка, погубившая себя ради миража. Зазвонил телефон. Два или три долгих гудка я сидела и смотрела на аппарат. Когда я взяла трубку, на языке вертелись слова, заготовленные для Лилы: «Не думай больше обо мне. На Нино ты не имеешь никаких прав, дай мне самой совершать ошибки какие хочу». Но это оказалась не она. Это был Нино. Я была счастлива слышать его и сыпала восклицаниями и обрывками восторженных фраз. Я рассказала, что поговорила с Пьетро и дочками; достичь разумного согласия не удалось; я собрала чемодан и жду не дождусь, когда обниму его. Он доложил о яростных ссорах с женой — последние часы были особенно невыносимыми. «Мне очень страшно, — прошептал он, — но я не могу представить себе жизнь без тебя».
На следующий день, когда Пьетро был в университете, я попросила соседку несколько часов присмотреть за Деде и Эльзой, оставила на кухонном столе заготовленные письма и ушла. Я думала: «Происходит нечто великое, от чего распадается весь мир, в котором мы живем, и я сама часть этого распада». Я поехала к Нино в Рим, мы встретились в гостинице в паре шагов от вокзала. Я прижимала его к себе и думала: «Я никогда не привыкну к этому сильному телу, для меня всегда будут сюрпризом это долговязое тело, будоражащий запах кожи, твердость, сила, подвижность — он ни в чем не похож на Пьетро».
На следующее утро я в первый раз в жизни села в самолет. Я даже пристегиваться не умела — Нино мне помог. Как я волновалась, с какой силой сжимала его руку, когда шум моторов, нарастая, достиг пика и самолет начал двигаться. У меня захватило дух, когда мы одним толчком оторвались от земли и дома внизу на глазах превращались в кубики, улицы становились ниточками, поля сжимались в зеленые пятна, море изгибалось, как тонкая пластинка, а облака опускались вниз, похожие на оползни рыхлых гор. Страх, боль и счастье сливались воедино, делались частью единого порыва к свету. Мне казалось, что в полете мир упрощается; я вздохнула и постаралась забыться. Время от времени я спрашивала Нино: «Ты доволен?» Он кивал в ответ и целовал меня. Иногда я чувствовала, как вибрирует под ногами пол — единственная поверхность, на которую можно было опереться.
Конец третьей книги
Отзывы о книгах
Элена Ферранте — автор романов «Дни одиночества» (2005), «Навязчивая любовь» (2007) и «Мрачная дочь» (2009). «Те, кто уходит, и те, кто остается» — третья из четырех книг неаполитанского цикла «Моя гениальная подруга», повествующего о двух ровесницах — Лену и Лиле — и их дружбе-соперничестве.
«Неаполитанский квартет»
Книга первая
Моя гениальная подруга
Ничего подобного не издавалось никогда ранее.
The GuardianКнига вторая
История нового имени
Безусловный, безоговорочный шедевр.
Джумпа ЛахириКнига третья
Те, кто уходит, и те, кто остается
Полный страсти и ярости эпический шедевр.
TimeКнига четвертая
История о пропавшем ребенке
Лучшая литературная эпопея современности.
La RepubblicaПолный страсти и ярости эпический шедевр
TimeСила трения человеческих характеров в неаполитанских романах такова, что вызывает не искры, а пламя… Ферранте напоминает нам о том, каково это на самом деле — любить кого-то.
The New YorkerПерсонажи Ферранте — живые, из страстей и противоречий люди. Они живут абсолютно так же, как мы. И страдают как мы. И предают себя и других — так же, как это делаем мы.
The GuardianГде бы вы ни жили, где бы ни выросли — при чтении Ферранте вам будет казаться, что вы знаете этих героев с самого детства.
The Huffington PostНеаполитанский квартет Элены Ферранте — произведение огромной эмоциональной силы.
Literary ReviewЭто тот самый случай книжной магии, когда от простой на первый взгляд истории невозможно оторваться.
РБК СтильПримечания
1
«Здравствуй, грусть!» — роман французской писательницы Франсуазы Саган, вышедший в 1954 г. — Здесь и далее прим. пер.
(обратно)2
Лидер западногерманского студенческого движения 1960-х.
(обратно)3
Один из лидеров студенческих волнений во Франции в мае 1968 г.
(обратно)4
Итальянский левый журнал по проблемам политики и культуры, издавался в 1962–1984 гг.
(обратно)5
Monthly Review («Ежемесячное обозрение») — американский левый теоретический журнал.
(обратно)6
Крупный политический деятель Италии, христианский демократ.
(обратно)7
27–30 сентября 1943 г. — самый яркий эпизод движения Сопротивления на юге Италии: освободительное восстание населения Неаполя против немецких фашистов-оккупантов.
(обратно)8
Понте-делла-Санита — здесь: стратегически важный объект, который пытались взорвать немцы во время Четырех дней Неаполя. Был спасен партизанским отрядом.
(обратно)9
ВИКТ — Всеобщая итальянская конфедерация труда.
(обратно)10
По всей видимости, имеется в виду сцена из романа «Нефть!» американского писателя, публициста и общественного деятеля Синклера Эптона.
(обратно)11
Итальянская компания, занимающаяся производством нефтегазового оборудования.
(обратно)12
Вероятно, имеется в виду «Политическая экономия роста» Пола Бэрана.
(обратно)13
Лонци Карла (1931–1982) — итальянская писательница, искусствовед, известная феминистка и автор теоретических работ по феминизму.
(обратно)14
Первый сборник Карлы Лонци, опубликованный в Милане в 1974 г., назывался «Плевать на Гегеля. Женщина клиторальная и женщина вагинальная и другие сочинения».
(обратно)15
Внепарламентская крайняя левая коммунистическая организация, основанная в Милане в 1968 году.
(обратно)16
Секретарь Итальянской коммунистической партии в 1972–1984 гг.
(обратно)17
В Италии разводы были легализованы в 1970 г. По закону разводу обязательно должен предшествовать период раздельного проживания супругов, с 1970 по 1987 г. он составлял 5 лет.
(обратно)18
Подпольные революционные организации.
(обратно)19
Первый в истории модный женский журнал, основанный Малларме.
(обратно)20
Женское альтер эго художника и теоретика искусств Марселя Дюшана.
(обратно)21
В 1976 г. разгорелся один из крупнейших международных коррупционных скандалов: американскую авиастроительную компанию «Локхид» уличили в даче взяток крупным чиновникам разных стран для продвижения на рынок своих гражданских и военных самолетов. В Италии замешанными в скандал оказались политики Марио Танасси и Луиджи Гуи.
(обратно)22
Вероятно, имеется в виду Жан Старобинский, швейцарский культуролог и литературный критик.
(обратно)23
Персонаж романа А. Мандзони «Обрученные», служанка священника.
(обратно)24
Западногерманская террористка, журналистка, педагог, социолог, общественный деятель, одна из лидеров и теоретиков «Фракции Красной Армии», обстоятельства смерти которой до сих пор окончательно не выяснены.
(обратно)



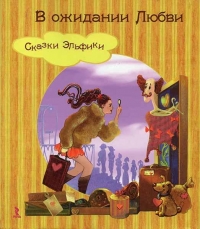







Комментарии к книге «Те, кто уходит, и те, кто остается», Элена Ферранте
Всего 0 комментариев