Патрик Несс Исчезнувшая в облаках
© Patrick Ness, 2013 © Коваленин Д. В., перевод на русский язык, 2014
© Издание на русском языке, перевод на русский язык. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2014
© Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2016
Часть I
Его разбудил сверхъестественный звук – скорбный осколок заледеневшей ночи, упавший с неба и вонзившийся ему в сердце, чтобы застрять там навсегда, недвижно и нерастворимо, – и только сам он, по обыкновению, решил, что все дело в его мочевом пузыре.
Он съежился под одеялом и внутренним чутьем попытался определить, насколько срочным был этот зов. Похоже, и правда срочным. Он вздохнул. Все-таки сорок восемь – еще не тот возраст, чтобы так по-стариковски часто просыпаться ночью по нужде; но без этого, очевидно, заснуть уже не удастся. А если закончить все по-быстрому, можно даже не успеть проснуться окончательно. Ладно. Уже встаю. Уже плетусь через гостиную.
Он ступил босиком на обжигающе ледяной пол в ванной, и у него перехватило дыхание. Обычной батареи здесь не было – только на стенке висела загадочная плоская штуковина, которую ему никогда не удавалось адекватно кому-либо описать и которая при включенном режиме раскалялась так, что не прикоснуться, но окружающий воздух не нагревала ни на полградуса. Эту проблему он собирался решить еще тогда, когда только поселился здесь сразу после развода, но прошло девять лет, а его босые пятки все так же замерзают на холодном полу всякий раз, как он заходит в собственный туалет.
– Холод собачий, – пробормотал он, плохо ориентируясь в лунном свете и лишь по звуку струи пытаясь определить, попал ли в цель.
Эта зима была странной: она словно противоречила самой себе, словно пыталась бороться сама с собой. Теплые, а порой и ослепительно солнечные дни сменялись ночами, чья стылость лишь усугубляла промозглость самого дома. Огромный город звенел и искрился всего в нескольких метрах от порога, а внутри дома застоялся столетний сырой туман. Его дочь Аманда, заехав сюда в последний раз, даже раздумала снимать пальто и поинтересовалась, не ждет ли он чумной повозки.
Стряхнув последние капли, он оторвал клочок туалетной бумаги и аккуратно промахнул остатки влаги – привычка, когда-то вызывавшая у его бывшей жены приступы неописуемой нежности.
– Это как приклеивать ресницы медведю в цирке, – говорила она.
Впрочем, она все равно с ним развелась.
Он выкинул бумагу в унитаз и наклонился, чтобы нажать на слив, и в этот неловкий момент снова услышал странный звук – на сей раз совершенно осознанно.
Так и не дотянувшись до сливного бачка, он окаменел.
Оконце ванной выходило в маленький сад на заднем дворе – зеркальную копию такого же садика по другую сторону дома, – и звук этот доносился явно оттуда, из-за мраморного стекла.
Но что же это, черт побери? Он наскоро перебрал в памяти все мыслимые звуки, какие могли раздаваться по соседству в столь поздний час, но из подобного списка ничего не подходило: это не могло быть ни душераздирающим воем спаривающейся лисицы, ни воплем кота, случайно запертого в гараже (в очередной раз), ни криком ночного воришки – ну, какой же вор способен так истошно визжать?
Он чуть не подскочил на месте, когда странный звук повторился снова – распоров ночную тишину, точно издавало его нечто очень холодное и вряд ли живое.
Наконец-то нужное слово само всплыло в его расшатанном, расщепленном сознании. Больше всего этот звук напоминал погребальный плач. Надрывное стенание по кому-то или чему-то, от которого – он сам себе поразился – на глаза наворачивались самые настоящие слезы. Оно разрывало ему сердце, словно рухнувшая мечта – бессловесная мольба о помощи, заставшая его врасплох. Ведь помочь он совершенно бессилен, не стоит даже пытаться.
Звук – как он понял потом, вспоминая эту ночь, оставшуюся в его памяти на всю жизнь, – противоречил всякому здравому смыслу. Потому что, когда он нашел эту птицу, она не издавала вообще ни звука.
Он кинулся в спальню и лихорадочно оделся: штаны и куртка на голое тело, ботинки на босу ногу. Логика подсказывала, что стоило бы выглянуть в окно и проверить, откуда исходит странный звук, но от логики он отмахнулся. И доверился инстинкту, который подсказывал, что медлить нельзя, иначе источник этого звука, кем или чем бы он ни был, ускользнет от него, развеется, точно забытая любовь. Нужно действовать быстро, не отвлекаясь на что бы то ни было.
Сбегая вниз по лестнице, он выудил из кармана штанов ключи. Пересек гостиную с кухней, подбежал к двери черного хода и, подбирая нужный ключ, разозлился на то, как громко тот бряцает о замочную скважину. (Какой идиот вообще придумал закрывать входную дверь изнутри на ключ? А если пожар? Так и задохнешься раньше, чем откроешь чертову дверь! Переделать замок он тоже планировал. Глядишь, когда-нибудь руки дойдут… Лет через десять.)
Наконец дверь распахнулась, и он выскочил в морозную ночь, почти не сомневаясь: то, что он ищет, наверняка уже скрылось, напуганное бряцаньем ключей и грохотом чертовой двери. Убежало, улетело, ускользнуло…
Но нет. Вот оно стоит. В этой траве этого садика на заднем дворе этого отдельно взятого дома.
Прекрасная белая птица, высотой с него самого, если не выше, гибкая, как тростинка.
Звездная тростинка, подумал он.
И тут же спросил себя: Тростинка из звезд? Откуда это в моей голове, черт возьми?
Освещенная лишь светом луны в холодном ясном небе, светло-серая тень, возвышающаяся над чернотой лужайки, и только мигающий глаз поблескивает влажным золотом почти вровень с его взглядом. Эта птица была ростом с него, вернее, с того долговязого подростка, которым он был когда-то. Его посетила глупая мысль: а ведь она смотрит на него так, будто вот-вот распахнет свой острый короткий клюв и сообщит ему нечто жизненно важное, что можно узнать лишь во сне и что забудешь, как только проснешься.
Но сном это быть не могло: слишком жестокий холод пробирал его под одеждой, а птица конечно же не издавала ни звука и больше не плакала так надрывно, как могла плакать лишь она и никто другой.
Это зрелище потрясало. Не только тем, что было неожиданно и неуместно для лондонской окраины, знаменитой своей безликостью – все рожденные здесь художники неизменно съезжали куда подальше. Но даже в зоопарке – и даже человеку, который ничего не смыслит в орнитологии, – эта птица сразу бросилась бы в глаза. Поразительная в этой тьме белизна ее груди и шеи казалась частью изморози, покрывшей траву. Белизна эта будто стекала на крылья, одно из которых – то, что ближе к нему, – простиралось почти до самой земли.
Черные треугольнички темнели по обеим сторонам у основания клюва, а красная шапочка на макушке, различимая даже во мраке, напоминала воинский знак отличия какой-то неведомой страны. Взгляд у птицы был твердым и повелевающим. Она понимала, что он здесь, смотрела на него в упор, но не улетала и не выказывала ни страха, ни тревоги.
Если она чего и боялась, то уж явно не его самого.
Он покачал головой. Все эти домыслы не имели смысла. Жестокий холод совсем не помогал проснуться, а, напротив, лишь добавлял сонливости, и он вдруг подумал, что вот так, наверное, люди и замерзают до смерти в метель – впадая в летаргию и ощущая тепло вопреки реальности. Он потер руки, но тут же замер, боясь спугнуть птицу.
Та не улетала.
Цапля? – подумал он. Аист? Но эта красавица совсем не похожа на сизых согбенных пернатых, что иногда прошмыгивают туда-сюда, точно старые немытые бродяги в закоулках столичного пригорода!
Затем, второй раз за вечер, дар речи вернулся к нему. Кто знает, был ли он прав, кто вообще теперь что-либо знает обо всем этом – какие слова следует говорить птицам, какие слова в принципе следует говорить; да и кому придет в голову вспоминать о правильных словах в том возрасте, когда любое знание уходит в туман и забывается, как забывается даже то, что нужно помнить. Но имя ее само пришло к нему в голову, и не важно, откуда и насколько точное – оно было в самый раз. Он знал это – и, позвав ее, понял, что не ошибся.
– Журавушка, – мягко сказал он. – Ты – Журавушка…
Птица повернулась всем телом, будто откликаясь на зов и по-прежнему глядя ему в глаза, и он увидел, что второе крыло ее вовсе не распускалось до самой земли подобно первому. Оно нелепо торчало вбок. Навылет пронзенное стрелой.
– О, черт, – прошептал он, и слова сорвались с его губ бесполезным облачком пара. – О, нет…
Стрела была длинной, невероятно длинной, никак не меньше четырех футов, и чем дольше он смотрел на нее, тем отчетливей понимал, что это – ужасающе добротная стрела, с жестким тройным опереньем на одном конце и широким, в два пальца, сияющим наконечником – на другом. В ней также ощущалось нечто до странности древнее, словно ее изготовили из какого-то по-настоящему дорогого дерева; она выглядела вовсе не как игрушка из легкой бальсы, бамбука или из чего там еще делают палочки для еды и уж куда серьезнее декоративных прутиков, какими атлеты малых народностей разжигают олимпийский огонь.
Эта стрела была создана для убийства. Убийства людей в том числе. Эта стрела была из тех, над которыми средневековые лучники молили Господа о благословении, дабы поразить неверных язычников в самое сердце. Вглядевшись внимательней, он также различил у ног птицы темное пятно крови, стекавшей с наконечника на заиндевелую траву.
Кто же мог выпустить такую стрелу в наши дни? Откуда? И, боже правый, зачем?
Он двинулся птице на помощь, не представляя, что именно сможет сделать, и зная наверняка, что помочь не сумеет, но, пораженный тем, что Журавушка даже не попятилась от него, остановился. И, выждав еще немного, обратился к ней напрямую.
– Откуда ты здесь? – спросил он. – Заблудилась?
Птица молчала. Он снова вспомнил ее заупокойный стон, все еще отдававшийся скорбным эхом в его груди, хотя сама она теперь не издавала ни звука. Вокруг царила гробовая тишина. Казалось, они оба находятся в каком-то сне, хотя жуткий холод утверждал обратное, проникая сквозь подошвы его ботинок и покусывая кончики пальцев на руках, а неизбежная шальная капля, как он ни старался это предотвратить, все-таки просочилась в промежность штанов – ведь трусов на нем не было, – напомнив о несомненной реальности происходящего со всеми ее разочарованиями.
О нет, это был не сон, но хождение по грани реального, одно из тех редких переживаний, о которых он будет помнить всю оставшуюся жизнь и в которых весь мир ужимался до него одного и застывал на пару минут для того, чтобы он почувствовал себя снова живым. Примерно так же он ощущал себя, когда терял девственность с одноклассницей – отличницей по английскому, страдавшей экземой, – и все было так мимолетно и так насыщенно, что казалось, будто их обоих вынесло из нормального бытия и физически растворило во времени. Или в тот раз, на каникулах в Новой Каледонии, когда он вынырнул на поверхность океана – в маске, с трубкой – и за какие-то несколько секунд успел разглядеть между накатывающими волнами лодку, с которой спрыгнули другие дайверы, и услышать голос жены, которая в ярости заорала: «Вот он!» – и его всосало обратно в реальность. Или рождение его дочери, пыхтящей красной галделки, которая в первую же ночь после рождения (когда его измученную жену сразил сон и они остались наедине – он и это крошечное созданьице) открыла глаза и уставилась на него, изумленная увиденным, тем, что обнаружила в этом себя, а также, возможно, и слегка оскорбленная – состояние, из которого Аманда так и не вышла за все эти годы.
Этот же момент – именно здесь и сейчас – был не просто подобен уже перечисленным, но и во многом превосходил их. Смертельно раненная птица и он – в замерзшем садике на заднем дворе, словно в границах единственной вселенной, которую он знает. В таких-то местах порой и ощущаешь вечность…
Пока он смотрел, Журавушка сделала шаг, один шажок в сторону – и споткнулась.
Он бросился вперед, чтобы подхватить ее, и вот она уже у него в руках – на удивление тяжелое тело и длинная шея (совсем как у лебедя, но и совсем другая), неповрежденное крыло хлопает по боку.
А запах! От нее разит паникой и дерьмом. Кровью и страхом. Невозможностью полета, заставляющего работать каждый атом любой птицы. Именно запах сильнее всего остального убедил его, что это не сон. При всей боязни причинить птице боль, при всей суматохе – ее хлопающие крылья, разлетающиеся перья и взбесившийся клюв, который запросто мог проткнуть ему грудь до самого сердца, – он осознавал, что его мозг, пускай и весьма одаренный, просто не в состоянии смоделировать букет запахов такой сложности и такой насыщенности самыми разными специями.
– Ну, тише, тише… Успокойся… – приговаривал он, пока птица билась в его руках, слишком поздно осознавая, что угодила в лапы, скорее всего, какого-то хищника.
Ее клюв вонзился ему в щеку, потекла кровь.
– Ч-черт! – воскликнул он. – Я же пытаюсь тебе помочь!
Отведя шею назад, птица уперлась головою в небо и распахнула клюв, словно для ответа. Но ничего не ответила. Лишь выдохнула на луну, будто выпуская ее из себя. И вдруг навалилась всем телом ему на грудь – длинная шея упала вниз, точно рука балерины, принимающей аплодисменты, и легла на его плечо, а голова опустилась ему на спину. И лишь по тому, как вздымалась ее узкая грудь, он понял, что птица еще жива, просто в изнеможении уступила его объятиям, и что готова отдать ему жизнь, если это потребуется.
– Не умирай! – торопливо прошептал он. – Пожалуйста, не умирай.
Он опустился в траву – колени вмиг намокли от инея – и, одной рукой придерживая птицу, другой попытался расправить крыло с застрявшей в нем стрелой.
Почти все птичье крыло составляют перья; мышечная плоть – та, что воплощает обыкновенное чудо полета, – заключена целиком в длинном узком тяже, от которого перья и разбегаются, точно брызги. Стрела, пронзив сухожилие снизу, перебила множество перьев, но главное – изувечила столько мышц, что надежды на исцеление почти не оставалось.
Нужно позвать кого-нибудь, подумал он, того, кто в миллионы раз лучше него разбирается во всем этом и сможет реально помочь. Но кого? Специалиста из Королевского общества защиты птиц? Ветеринара? В этот час ночи? И что они сделают? Велят оставить ее в покое? Журавля с такой раной?
– Нет, – прошептал он почти бессознательно. – О, нет… – И уже громче добавил: – Я помогу тебе! Я попробую. Но ты должна вести себя смирно, поняла?
Он поймал себя на том, что, как последний глупец, ожидает от птицы ответа. Но все, что она могла, сводилось лишь к отчаянному дыханию, которое он чувствовал шеей. Нужно вынуть стрелу; он понятия не имел, как это следует делать, но руки его уже сами разворачивали раненое крыло.
– Ну, что ж, – пробормотал он. И повторил: – Ну, что ж…
Он отнял ее от груди и, едва удерживая увесистое тело на вытянутой руке, неуклюже стянул с себя куртку. Затем свободной рукой расправил дешевую ткань на заиндевелой траве, уложил на нее птицу и укутал здоровое крыло, чтобы не мешало. Покорность, с которой Журавушка подчинялась ему, пугала, но он все еще видел, что она дышит: ее грудь вздымалась и опадала куда чаще, чем следовало, но, по крайней мере, не замирала.
Голый по пояс, он стоял на коленях в мерзлой траве – ясной ночью на морозе, который мог бы запросто убить его, останься он здесь подольше. Его руки работали так быстро, как только могли, над крылом, простертым над землей. До сих пор – как, вероятно, и кто угодно на этом свете – раны от стрел он видел разве что в кино. Кажется, там ломали стрелу и вынимали обломок с обратной стороны. Следует ли ему поступить так же?
– Ладно, – прошептал он, ухватился за древко и медленно отпустил крыло так, чтобы его удерживала в воздухе только стрела, зажатая в обеих его руках, и более ничего.
Эта стрела буквально обжигала его пальцы, задеревеневшие на морозе. Древко оказалось на удивление легким – каким ему, впрочем, и полагалось быть, – но очень крепким. Он ощупал каждый дюйм, пытаясь найти более тонкое место, но не нашел – и отчетливо понял, что ему не удастся сломать стрелу сразу, одним нажатием, и что придется пробовать несколько раз, причиняя пернатой бедняге невыносимую боль.
– О, нет, – пробормотал он снова, чувствуя, как его бьет озноб. – Ч-черт…
Он глянул вниз. Золотистый глаз птицы следил за ним не мигая, а длинная шея изгибалась на расстеленной куртке, точно вопросительный знак.
Решения не приходило. Слишком холодно. Он слишком замерз. А стрела была слишком толстой и крепкой. Все равно что из железа. Журавушка умирала. Эта звездная тростиночка испускала последние вздохи прямо здесь, в грустном садике на заднем дворе его дома.
Он проиграл – осознание поражения накатило на него внезапной волной. Неужели больше ничего нельзя сделать? Он обернулся к двери в кухню – все еще открытой, выпускавшей из дома последние остатки скудного тепла. Получится ли забрать птицу в дом? Удастся ли поднять и перенести ее так, чтоб не поранить еще сильнее?
Журавушка же, казалось, больше и не надеялась на него, словно уже вынесла приговор, который ему выносили многие – приятный мужчина, только чего-то в нем не хватает, некой изюминки, ради которой стоило бы тратить на него время, нервы и силы. Ошибка, которую женщины совершают довольно часто. Женщин-друзей, включая бывшую жену, у него было больше, чем у любого мужика-натурала из всех, кого он знал. Беда была в том, что каждая из этих женщин начинала с ним как любовница – и лишь со временем понимала: он слишком мил, чтобы воспринимать его всерьез. «Ты тянешь процентов на шестьдесят пять, – сказала ему жена, уходя. – А мне нужно минимум семьдесят». Вся трагедия, похоже, была в том, что семьдесят – минимум для любой женщины.
Вот и для этой Журавушки, кажется, минимум – никак не меньше семидесяти. Она совершила ту же ошибку, что и все остальные женщины, увидев мужчину в том, кто на деле оказался всего лишь своим парнем.
– Прости меня, – сказал он птице сквозь слезы. – Мне очень жаль…
Но вдруг стрела подалась. Возможно, сама же птица в непроизвольной конвульсии дернула крылом. Стрела будто сама скользнула в его пальцах… И остановилась.
Он что-то нащупал. Да, точно – трещина. Он пригляделся. Почти незаметная в тусклом свете, но очевидная трещина, достаточно большая, чтобы ощутить ее даже задубевшими пальцами. Древко расщеплено вдоль – несомненно, мощными усилиями птичьего крыла. Он даже почувствовал, что концы стрелы смотрят в стороны под разными углами.
Он снова взглянул на птицу. Она смотрела на него, думая бог знает о чем.
Случайность, подумал он. Не сама же птица подсказала его пальцам, где трещина!
Но, с другой стороны, не по своей же воле она, с перебитым стрелою крылом, приземлилась в его садике…
– Попробуем, – сказал он.
И перехватил стрелу ближе к ране. А другой рукой стиснул древко по ту сторону трещины. Холод пробирал до костей так неистово, что саднило руки. Вот, теперь. Теперь или никогда.
– Пожалуйста, – прошептал он. – Ну, давай же…
И разломил стрелу.
* * *
Резкий звук вспорол морозный воздух – но вовсе не треск ломающегося дерева, а скорее хлопанье флага на ураганном ветру. Птица вскочила на ноги и расправила крылья во всю ширь; отпрянув от неожиданности, он поскользнулся и упал на цементный бордюр у края лужайки. Защищая себя от падения, он едва успел выставить руку, выронив половину стрелы с наконечником, от которого резко пахло птичьей кровью. Другая половина древка улетела куда-то в темноту. Позже он не смог отыскать ни того, ни другого обломка и навсегда убедил себя в том, что запах крови оказался слишком дразнящим для какой-нибудь изголодавшейся лисицы и та утащила их к себе в нору.
Теперь же птица возвышалась над ним, подняв голову к ночному небу, и чуть слышно курлыкала на луну. Ее крылья распахнулись, и он заметил, что их размах превосходит его собственный рост. Затем мощными и плавными, чуть замедленными движениями она сложила их – раздался хлопок, за ним еще один. Кровь из раны все еще сочилась, заливая ее белоснежное оперенье, но работой крыльев она, похоже, осталась довольна.
Вновь распахнув крылья во всю ширь, она застыла. Лишь голова ее с темно-красной шапочкой повернулась к нему, и он поймал на себе немигающий взгляд ее золотистых глаз. На секунду ему показалось, будто она вот-вот наклонится и обнимет его – так, словно он выдержал некое испытание, о котором даже не заподозрил бы, если бы потерпел фиаско.
Затем он поймал себя на том, что произнес нечто глупое и совершенно бессмысленное.
– Меня, – сказал он, – зовут Джордж.
Он сказал это ей, журавлихе.
Словно в ответ, птица склонила длинную гибкую шею к самой земле, отвела назад крылья и захлопала ими, будто собираясь упасть к нему на грудь. Не успел он отпрянуть, как птица поднялась в воздух, мелькнув ослепительно-белым оперением прямо в каком-то дюйме над его носом. Оглянувшись назад, он увидел, как она круто взмыла вверх, чтобы не врезаться в стену дома, и опустилась ненадолго на конек крыши. Ее застывший силуэт отчетливо проступил на фоне яркой луны.
Затем она снова нагнула голову, взлетела и сделала прощальный круг над садиком, а он, Джордж, все смотрел, как ее тонкие черные ноги тянутся, словно тростинки, вслед за белоснежным телом, как она поднимается все выше, выше, выше, как превращается в одну из бесчисленных звезд ночного неба и, наконец, исчезает совсем.
Он медленно поднялся с замерзшей земли и с тревогой отметил, как по голому торсу растекается боль. Все тело трясло так, что ноги едва держали его. Не хватало еще свалиться здесь в судороге, подумал он. Нужно залезть в горячую ванну, и как можно скорее, вот только где бы взять сил доковылять до двери?
Он чуть не подпрыгнул, когда вновь услыхал этот стон. Безутешную погребальную песню, из-за которой он здесь и появился. Она разнеслась в морозном воздухе странным эхом – так, словно сама ночь взывала к нему. Казалось, Журавушка прощается с ним, или благодарит его, или…
И только тут он сообразил: это кричала вовсе не странная птица, исчезнувшая из его сада, из его жизни и, возможно, из этого мира навеки. Этот страшный стон исходил от него самого – слетал с его посиневших от холода губ, исторгался из грудной клетки, в которой все еще билось его безнадежно разбитое сердце.
* * *
– Но здесь написано «Пэтти».
– Да, то же самое и на бланке заказа.
– По-вашему, я похож на Пэтти?
– Но, может, они решили, что это для вашей жены?
– Мою жену зовут Колин.
– Да, тогда Пэтти явно не по адресу…
– Я сам видел, как он это впечатывал! Пи, эй, два ди, уай… Должно было получиться «Пэдди»! А кроме того, я всегда подчеркиваю пальцем буквы, так что уверяю вас, там однозначно было указано «Пэдди»!
– Это то, что указано в бланке заказа.
– Но это совсем не то, что напечатано здесь!
– Может, они посмотрели на эту майку и решили, что раз она такая розовая…
– Они? Кто – они?
– Печатники.
– А у вас что, не печатники?
– У нас не такие. Мы печатаем флаерсы, плакаты с дизайном типа…
– То есть вы сами печатью не занимаетесь?
– Ну я же говорю, у нас все больше флаерсы…
– Но вы беретесь за печать и на спортивных майках?
– И на футболках, да.
– А в чем разница?
– Ну, мы же продаем не только майки с тонкими лямками. Футболки вот тоже. Все эти мальчишники, девичники, ну вы понимаете…
– И у вас они расходятся хорошо?
– Да, неплохо.
– Особенно если кто-то хочет впечатать в вашу форму на футболке какую-то свою надпись?
– Да.
– Значит, если я вижу, что какой-то мужик куда постарше вас – то есть совсем взрослый дядя – впечатал на свою будущую майку Пи, Эй, два Ди, Уай…
– Это значит, заказ был передан специальной типографии.
– Но они его не выполнили?
– Если верить вам – да, но в заказе определенно значилось «Пэтти»…
– Я ЧТО, ПО-ВАШЕМУ, ВЫГЛЯЖУ КАК ПЭТТИ?!
– Не нужно кричать. Мы ведь просто пытаемся решить проблему, два разумных человека…
– При этом никого из нас не зовут Пэтти!
– Я сам из Турции. У нас там не бывает ни Пэдди, ни Пэтти. Так откуда мне знать? Я же говорю, скорее всего, они просто увидели цвет этой майки…
– Это цвет нашей благотворительной компании. Мы с таким цветом выступаем против рака груди. Розовый. Потому что рак груди убивает женщин. Большинство взносов делают женщины, но попадаются и мужчины. Мы проводим кампанию, собираем деньги. Такой у нас цвет. С полом того, кто наденет майку, это никак не связано. Разве у маек есть пол?
– Я бы сказал, что да. Это написано прямо на бирке. Мужской – сверхбольшой. Экстра! Ладж! Эй, что, меня на видео снимают? Ах, вот вы что устроили? Так вот он, кто это всё…
– Эй! Как дела, Мехмет?
– Клиент недоволен выполненным заказом, мистер Дункан.
– Я что, по-вашему, похож на Пэтти?!
– Ну, я не знаю вас настолько близко, чтобы судить, но, по-моему, нет.
– А почему тогда здесь написано…
– Это явно чья-то ошибка. Я отлично помню, что впечатывали два Ди.
– Вот спасибо!
– Мы все исправим уже к утру.
– У меня забег в воскресенье!
– А завтра только пятница. Мы все успеем.
– Я просто подчеркиваю, что на очередные ошибки нет времени.
– Не беспокойтесь. Больше никаких ошибок. Лично вам гарантирую.
– Вы слышите? Джордж Дункан лично гарантирует!
– Что вы имеете в виду?
– Я лично буду здесь завтра, Пэдди, я обещаю. И если понадобится поехать для этого в Сент-Ив…
– У вас что, типография в Сент-Иве?!
– Если понадобится, я поеду в Сент-Ив и заберу их лично.
– Но это двенадцать часов туда и обратно!
– А вы туда ездили? Я слышал, шоссе А-30 как раз для этого, если вы…
– В общем… До завтра, прошу вас. Надеюсь, я внятно говорю.
– Даю вам слово.
– …
– Тяжелый чувак попался.
– Перестань задирать клиентов, Мехмет. Тут рецессия на носу.
– Ну что ж, еще один повод задуматься. С рецессией на носу, Пэтти, ошибка в написании твоего имени конечно же приведет к такому…
– Что я тебе повторяю? Береги клиента! Я ввожу это правило вовсе не для того, чтобы тебя наказывать.
– Но это именно то, что они установили по всей Америке, Джордж. «Могу я чем-то помочь вам, сэр?» «Как вам это идет, сэр!» «Еще чаю со льдом, сэр?»
– Значит, ты еще не был в настоящей Америке.
– Ну, телевизор… та же фигня.
– Давай-ка позвони в Сент-Ив и скажи, что у нас срочная коррекция. А заодно спроси, куда подевались футболки с блядками для Брукмана. Парни ночью уезжают в Ригу и должны заглянуть к нам буквально через…
– Для Брукмана?
– Что ты так смотришь, Мехмет? Не нравится мне твой взгляд. Скажи-ка…
– Ребята от Брукмана уже уехали. Они заглядывали сюда днем, когда ты ушел на обед.
– О, нет! Нет-нет-нет! Я же проверял тот заказ и все их пожелания, когда они приходили…
– Ну да, те маечки с лямками и голубыми кисками на пузе.
– А! Это же был мальчишник О’Райли! Какого хрена там делают голубые киски?! Они ведь еще сами говорили – гулянки по-тяжелому…
– У нас нет мальчишников в Турции. Откуда мне знать разницу?
– Но вы же втроем переехали сюда!
– Да ладно, и что с того? Они придут сюда в задницу пьяные, кто вообще что-нибудь заметит?
– Знаешь, если солдаты из Колдстримской гвардии Ее Величества заметят, что над их яйцами почему-то болтаются голубые картонные киски…
– Лапки.
– Что?
– Не сами киски, а их лапки. Зачем? Чтобы ублажать, понятное дело. Разве не это – главная задача любого мальчишника?
– …
– Что?
– Позвони Брукману, Мехмет. Он-то уж точно еще не открывал ящик с подарками на мальчишник.
– Да, он, похоже, очень торопился. Даже не взглянул на то, что ему подарили.
– Что ты ржешь?
– Я не ржу.
– Ржешь. Ты специально ему это подстроил!
– Да иди ты!
– Мехмет!
– Я у тебя во всем виноват! Ты прямо расист какой-то!
– Звони ему. Прямо сейчас.
– Почему я должен выполнять всю грязную работу? Ты слоняешься без дела и любуешься своей драгоценной фигней! Вот, что это ты опять притащил?
– Где?
– Вон там, что это ты прячешь за спиной всю дорогу?
– Это? Да так, ерунда. Это…
– Гусь?
– Это не гусь. Это журавль.
– Журавль?
– Журавль.
– Это как колодцы в деревнях? Видишь ли, Джордж, я должен тебе открыть одну истину…
– Ну. Давай. Колись-колись-колись…
– Сейчас. Боже! Дело в том, что рабство отменили две сотни лет назад, если помнишь.
– Помню. Это сделал Уильям Уилберфорс.
– И ты еще удивляешься, почему тобой не интересуются девчонки? По-моему, их не особо интересует Уильям Уилберфорс. Я, конечно, не знаю, но…
– У меня нет проблем с девчонками, Мехмет.
– Что, даже с последней? С той безымянной, которую никто так и не увидел? Она жила в Канаде, правда, Джордж? И звали ее Альберта?
– Даже не знаю, о чем ты говоришь, Мехмет.
– Не ломай комедию. И не делай вид, что я говорю с тобой на иностранном языке. А то мне опять покажется, что я пришел на прослушивание…
– Ладно, что угодно, только соберись и позвони куда нужно. И не вздумай перед этим сидеть в твиттере битых полчаса!
– В твиттере? Был ли мир таким же красочным, Джордж, когда ты появился на свет? И существовало ли земное притяжение?
– Полагаешь, у тебя достаточно квалификации, чтобы я тебя не уволил?
– Ну, начинается. «Это моя студия, и я тут хозяин…»
– Но ведь так и есть.
– Прекрасно. Тогда оставайся один со своим гусем.
– Журавлем.
– Тогда напиши у него это на лбу, чтобы все поверили, что это журавль.
– Это не для всех. Это…
– Что – это?
– Ничего.
– А что ты так покраснел? Есть чего стесняться?
– Да ты что? Глупости. Я просто… Встретил Журавушку. Вчера ночью.
– Журавушку? Ты имеешь в виду проститутку?
– Да нет же. Господи Иисусе! Просто журавлиха приземлилась в моем саду.
– И?
– И ничего! Иди и звони куда следует!
– Уже иду. Смотри, как изысканно.
– И перестань так вздыхать!
– Клиент, мистер Дункан.
– Что?
– Я говорю – клиент. Прямо за вашей спиной.
– Но я не слышал, чтобы дверь отворя…
– …
– …
– Чем могу?..
– Зовите меня Кумико, – сказала она.
* * *
Все всегда удивлялись, узнав о том, что Джордж американец – ну, или что он родился и вырос в Америке. Говорили, что на американца он не похож. Но кого бы ни спросили, что имеется в виду, каждый выглядел озадаченным – не потому, что не представлял, какими должны быть люди, «похожие» на американцев, а потому, что не знал, насколько это может обидеть Джорджа.
Все эти люди, даже из числа друзей – высокообразованных, не раз посещавших Америку, – крайне затруднялись расстаться с убеждением в том, что, не считая самого Джорджа (нет, что вы, что вы), все остальные триста миллионов его соотечественников – беспаспортные, ненавидящие любую иронию борцы во имя Иисуса, вечно голосующие за явно сумасшедших политиков, не устающие при этом жаловаться на то, что их вопиюще дешевый бензин на самом деле недостаточно дешев.
– Видите ли, Америка – это… – обычно начинали они, но тут же терялись и не знали, чем закончить фразу.
– «Нью-Йоркер», – подсказывал он. – Джаз. Мерил Стрип.
Обычно это сразу вызывало у них желание скопировать американский акцент, услужливо-открытую улыбочку и беспрестанные подмигивания. По крайней мере, эта привычка у них не исчезла и через многие годы; даже через десять лет после его переезда в Англию окружающие покупались на самую тупую остроту из сериала про Джея Юинга[1].
– Я из Такомы, – говорил он им.
Они и слышать не желали о том, что жизнь кого-либо, кроме них самих, может быть сложной и неоднозначной и что у старушки Истории никогда не бывает одной-единственной версии прочтения. Им оказалось до странного сложно принять тот факт, что Джордж хоть и американец, но вырос не на Дальнем Юге и не Восточном побережье, а на Тихоокеанском северо-западе, где акцент мягок почти по-канадски, и что его родители, пусть и самые заурядные церковные прихожане (еще один пункт в списке стереотипов об Америке) – а, простите, где вы найдете американских протестантов, которые не таковы? – к религии все же относились с позиции laissezfaire[2], словно к неприятной обязанности вроде прививок от болезней. Отец его, например, был тайным курильщиком, хотя его церковь славилась евангелической строгостью и такие пристрастия порицала. А однажды Джордж застал своих родителей врасплох – инцидент, о котором в их доме даже думать было запрещено, – и так узнал, что его предки время от времени берут на ближайшей заправке видеокассеты с порнушкой.
– Имя людям – легион, – настаивал он. – Даже если это и неудобно с общемировой точки зрения.
Взять хотя бы первый год, проведенный им в школе. Даже эта история в его жизни не была заурядной, что уж говорить обо всех остальных. Он причалил туда прямиком из детского сада (хотя кто не приплывает туда из детского сада? – думал он; возможно, это просто была его первая попытка увидеть мир и не задохнуться от ужаса?) и после года учебы сдал всю программу за первый и второй классы, а по чтению его определили сразу в четвертый, дабы не помер со скуки. Преподаватели любили его – за голубые глазищи, за смирение, граничащее с рабской покорностью, и за манеру держаться так, словно он собрался отрастить бороду в шесть лет от роду.
– Он такой чувствительный, – говорили о нем учителя на родительских собраниях. – Мечтатель, но в лучшем смысле этого слова. На уроках всегда тянет руку. Очень нежный, особенный мальчуган.
– Ничего особенного! – отрезала мисс Джонс на родительском собрании третьего класса через какие-то пару недель после начала занятий. – Слишком много о себе воображает. Никто не любит выскочек и всезнаек. Ни учащиеся, ни уж тем более я сама).
Услышав это, родители Джорджа прямо-таки застыли в своих почтительных позах; мать вцепилась в свою сумочку, точно в таксу, которая вот-вот спрыгнет на пол и изгадит школьный ковер, а потом переглянулась с отцом, и на лице ее отразилось то потрясение, какое появлялось всякий раз, когда ее неожиданно ударяла жизнь. Что, собственно, происходило всегда, как только она выходила из дому.
Джордж узнал обо всем этом, поскольку: 1) предки его были из тех, кто исправно посещает каждое родительское собрание (он полагал, что это у них «синдром единственного ребенка» и они просто не упускают ни малейшего шанса непоправимо испортить все что можно); и 2) у них не получилось нанять на вечер няньку, несмотря на целый эскадрон девчушек-подростков, услуги которых обычно предлагает церковь, поэтому Джордж тихонько рисовал цветными карандашами за свободной партой, пока отец с матерью ютились, уморительно задрав коленки, на детских пластиковых стульчиках перед столом мисс Джонс.
Но мисс Джонс лишь распалялась еще сильнее.
– Это просто не передать, как я устала! – воскликнула она и воздела взгляд к Небесам, словно моля прислать отчет о причинах ее усталости. – От каждого родителя, приходящего сюда, я только и слышу об их крошках Тимми, Стефани или Фредерико… – произнесла она с таким отвращением, что даже Джордж сразу понял: речь идет о Фредди Гомесе, единственном, кроме него, исключительном мальчике, который тоже пробился в старший класс по чтению и от которого пахло мылом так, что слезились глаза. – О том, что они особенные, талантливые и одаренные самим Господом и непременно должны попасть сразу в третий класс!
Отец откашлялся.
– Но ведь об этом говорим не только мы, – сказал он. – Это знает вся школа…
– Ах, вся школа?! – Мисс Джонс подалась вперед, перегнувшись чуть ли не через весь стол. – Вот что я вам скажу, мистер Дункан! – произнесла она. – Этим детям всего шесть, семь и восемь лет от роду. У них еще молоко на губах не обсохло. Чему они могут знать цену? Что они вообще могут знать, кроме того, как завязывать шнурки на ботинках и как не обмочиться от звука школьного звонка? Да и с этим, уверяю, справляется далеко не каждый из них!
– Но при чем же тут цена на молоко? – спросила мать таким сдавленным голосом, что при первом же звуке уши Джорджа встали торчком.
Она была нервной дамой, его мать. Ее, очевидно, сбили с панталыку прямота, массивность и – что уж там говорить – чернота мисс Джонс, и он тут же понял, что дело добром не кончится. А потому продолжил раскрашивать каждый участок рисунка со Снупи сплошным зеленым цветом.
И в этот момент мисс Джонс совершила роковую ошибку.
– А теперь послушайте меня, миссис Дункан, – сказала она и, выставив указательный палец, помахала им у матери перед носом. – То, что ваш мальчик не ест пластилин, еще не делает его вундеркиндом!
Взгляд матери будто прирос к кончику темно-коричневого пальца, который наставительно вилял у ее носа вверх-вниз, вторгаясь в ее пространство так грубо, что даже Джорджу стало не по себе; и не успел отец произнести своим авторитетным, судьбоносным голосом строителя-прораба: «Так, а теперь послушайте нас!», как мать наклонилась вперед и укусила палец мисс Джонс, звонко клацнув зубами, – и застыла в удивлении на секунду или две перед тем, как разразился весь этот визг.
Рассказывая эту историю, Джордж всегда немного побаивался, не создает ли она несколько искаженное представление о его матери. Кусать зарвавшуюся училку за палец – пускай не до крови и не настолько больно, чтобы его родителей можно было обвинить в насилии, чем бы не преминула воспользоваться мисс Джонс, а директор школы при этом, разумеется, держал бы себя так, словно этот укус пальца не первый случай в его директорской практике, – это могло быть прочитано как настоящий подвиг. Его мать выступала в этой истории настоящей героиней, да почему бы и нет? Копилка семейных анекдотов обогатилась нетленной историей, которую пересказывали бесчисленное количество раз и которая неизменно вызывала взрывы смеха.
– И я подумала, – рассказывала мать, краснея от ужаса и восторга (ведь все в комнате смотрели только на нее), – что кто-нибудь непременно укусит этот палец, рано или поздно! Так почему бы не сделать это сегодня?
Но Джордж-то знал, твердо знал в своем сердце, что этот поступок вовсе не был результатом ее обдуманного решения с вынесением столь идеального, яростного вердикта; на самом деле его мать укусила мисс Джонс из-за того, что в панике оказалась полностью оторванной от реальности, от разумной природы вещей. И в этом своем состоянии она была подобна фужеру для шампанского, который может лопнуть в любую секунду. Впервые фужеры для шампанского Джордж увидел в свои девятнадцать лет, тогда их полагалось аккуратно заворачивать и убирать с глаз долой. Отец лично занимался этим, соблюдая все меры предосторожности и стараясь предусмотреть все заранее. Его любовь к жене – а Джордж был уверен, что маму отец любил, – принимала странную форму: он пытался защитить ее от всего на свете, что в конечном счете скорее навредило ей, нежели помогло.
Когда мисс Джонс размахивала своим чертовым пальцем, Джордж был уверен, его мать чувствовала не обиду – она ощущала, что ее атакуют, что весь мир ополчился против нее, и кусала она мисс Джонс вовсе не как победитель, но как утопающий, цепляющийся за соломинку, чтобы выжить. В ее случае – буквально зубами. Вся ее жизнь оказалась под угрозой из-за этого единственного, ужасающего пальца, нависшего над нею, как всадник Апокалипсиса, от которого не стоит ждать ни жалости, ни прощения – ничего, кроме нескончаемого отчаяния. Кто бы на ее месте не восстал?
Сам факт, что этот случайный поступок матери оказался в то же время правильным, его не смущал, и в глубине души он даже был рад за нее, ту женщину, какой она когда-то была. Но между историей, которую всем рассказывают, и настоящей подоплекой событий разница все-таки есть, и разница, возможно, непреодолимая.
Как бы там ни было, результат не заставил себя ждать: Джордж пулей вылетел из третьего класса мисс Джонс в начальной школе Генри Бозмана и приземлился в Академии Израильского Самообучения и Святости «О, приди, приди!» имени Рэнсома и Эммануэли – заведении, где, несмотря на слово «израильский» в названии, очень мало кто мог похвастаться тем, что встретил в жизни хоть одного еврея. (Выросшему в Такоме Джорджу доводилось встречаться с несколькими евангелистами, кучкой мормонов, парой-тройкой католиков и даже с практикующими буддистами из крупнейшей во всей стране азиатской общины. А вот с евреями все как-то не удавалось. Первых в своей жизни евреев он повстречал перед поступлением в колледж в Нью-Йорке. Где, собственно, встретил потом и всех остальных.)
«О, приди, приди» – заведение, связанное с церковью его родителей разве что благими намерениями, – воспитывало ни много ни мало сорок восемь учеников, от детсадовцев до двенадцатиклассников, которые получали знания из буклетиков для самостоятельного чтения (частенько испещренных их же пометками). Помимо обычных занятий, по средам с утра до полудня ученики посещали церковную службу, которую проводил священник из местной церкви. Служба эта состояла из песнопений вперемежку с молитвами и обязывала всех учащихся раз в неделю менять униформу: с желтой сорочки с галстуком и зеленых брюк – на белую сорочку с зелеными брюками и галстуком.
К тому времени Джорджу стукнуло восемь – возраст, когда ты считаешь нормальным все, что бы ни происходило у тебя перед носом. Он не стал озадачиваться отличиями церковной школы от обычной (начиная с весьма неопределенной этнической принадлежности своих новых одноклассников) и быстро освоился, возведя в повседневную привычку заискивание перед двумя старыми девами, управлявшими заведением: рыжеволосой мисс Келли, чьи волосы были собраны в такой тугой пучок, что она всегда казалась удивленной, и мисс Олдершот, чей взгляд был доброжелательным, подбородок волосатым, а манера обращаться с линейкой выдавала ее садистские наклонности.
В целом Джорджу нравилось здесь, хотя, возможно, мальчик просто не предъявлял к своей жизни особо высоких требований. Он терпеть не мог игру в вышибалы, в которую играла вся школа, – практически единственную разновидность физического воспитания, какая только могла прийти в голову двум престарелым грымзам, помимо унылых прыжков и бега на месте (наскоро, в поту и не снимая галстуков), – но обожал школьную библиотеку, прощая ей даже вымаранные чертыханья и проклятия на загнутых страницах школьной копии «Невероятного путешествия»[3].
Ближайшим к нему по возрасту одноклассником оказался Рой (имя старомодное даже по тем временам, как, впрочем, и «Джордж») – паренек на год старше, на год ученее и на год опытнее его, что подтверждалось еще и тем, что у Роя был велосипед.
– Это с войны, – пояснил он Джорджу, когда они впервые встретились. – Папаша прикатил на нем домой прямо с фронта. Стащил у япошек после того, как мы их разбомбили.
На дворе были 70-е, и в год бомбежки Нагасаки отец Роя никак не мог быть старше слюнявого младенца, но Джордж проглотил эту байку, точно Божье откровение.
– Ого, – только и сказал он.
– Потому он такой тяжелый, – добавил девятилетний мальчишка, с трудом поднимая велосипед своими ручонками. – Чтобы пережить гранатные атаки, когда лавируешь под вражеским огнем.
– Ого… – повторил Джордж.
– Когда чуток подрасту, поеду на нем во Вьетнам и забросаю гранатами всех япошек.
– А дашь прокатиться?
– Нет.
Школа располагалась на 35-й улице. Рой жил на 56-й, а Джордж – на 60-й, в доме, который никому из его семьи никогда не нравился. Мать Джорджа, которая не работала, обычно забирала его из школы, но иногда она оказывалась занята, так что он возвращался пешком, деля часть пути с Роем и разделявшим их велосипедом – огромной железной махиной, которую тот толкал вперед, надежную и покорную, как корова.
В тот весенний день в небе царило солнце, и лишь скудные белые шлейфы то и дело перечеркивали синеву крест-накрест, вылетая из сопел реактивных истребителей с военно-воздушной базы неподалеку. «Один из тех милых денечков, когда Господь решает вас испытать», – как любила повторять мисс Келли.
– И тут ты врубаешься, что весь линкор – это офигенная пушка, прикинь?! – возбужденно рассказывал Джордж. – Весь корабль целиком! Прямо из его носа вырывается гигантский сноп света – баба-ах!! – и логово Гамилона уничтожено![4]
В семье Роя не было телевизора, ведь именно из телезрителей дьявол в первую очередь вербует свою паству (своим родителям Джордж решил об этой проблеме не сообщать, хотя после истории с порнушкой стал догадываться, что те вряд ли учли бы ее), поэтому Джордж частенько заполнял их болтовню по дороге домой подробностями, которых Рою недоставало.
– Но сам он – не совсем планета? – уточнил Рой.
– Не-ет! – еще азартней воскликнул Джордж. – Это самая невероятная штука на свете! Наполовину он как планета, дрейфует в космосе, и в его верхней части построены города, а нижняя половина окаменевшая и круглая… Вернее, он сперва был таким, пока чертов Звездный Патруль его не взорвал.
– Кррасота-а-а… – с уважением протянул Рой.
– Еще бы! – кивнул Джордж без тени улыбки.
Они дошли до 53-й, самой оживленной улицы в промежутке между «О, приди, приди» и их домами. Миновали супермаркет на углу с парковочной площадкой, запруженной мамашами, не намного стервознее их собственных матерей, с детьми помладше Роя и Джорджа, которые тут же уставились на их школьную форму. Бензозаправка через дорогу напротив была заполнена точно такими же мамашами и детьми.
Они остановились на перекрестке в ожидании, пока сменится цвет светофора.
– Хотя лично я думаю, что некоторые подонки с Гамилона все-таки смылись, – продолжил Джордж. – Потому что под конец никто не выглядел особо счастливым. И еще было слишком много суматохи и криков, смысла которых я не понял. – Он опять улыбнулся. – Но сам корабль все-таки оказался гигантской пушкой, от носа до кормы!
Загорелся зеленый, появилась надпись «Идите», Рой толкнул вперед велосипед, а Джордж погрузился в размышления о непостижимых тайнах японской анимации.
– Из этого велика я тоже сделаю пушку, – сказал Рой. – И когда мне стукнет шестнадцать, возьму его с собой во Вьетнам.
– Это дело, – согласился Джордж.
И автомобиль сбил их сразу обоих.
Позже, рассказывая об этом, Джордж неизменно добавлял: «Вот так оно все и случилось» и «Ей-богу, не вру», ибо всем казалось слишком невероятным и жестоким то, что какая-то тачка не остановилась на красный свет и протаранила сразу его самого, Роя и велосипед, тачка, которой управляла дама восьмидесяти трех лет, не видевшая из-за проклятой баранки почти ни черта.
Как ни печально, это было правдой. Если бы Джордж знал, как ее звали, он бы запомнил это имя надолго, но в его памяти остался лишь ее возраст – восемьдесят три года, ее маленький рост – дама была чуть выше их с Роем, и слова, которые она повторяла без остановки: «Только не надо суда. Умоляю, не надо суда!» Питая уважение ко всем старушкам на свете, Джордж часто жалел, что все случилось именно так, но куда деваться – иногда жизнь не спрашивает заранее, из каких вариантов нам выбирать.
Не сказать чтобы старушка ехала особенно быстро, но все происходящее казалось Рою с Джорджем настолько непредотвратимым и в то же время глупым, что они только и успели одновременно крикнуть «A-а!», прежде чем она их сбила.
И не остановилась.
По поводу этого впоследствии выдвигалось много разных версий, в большинстве своем вполне убедительных: возможно, ее одряхлевшему мозгу понадобилось какое-то время, чтобы осознать, что случилось; а может, шок от случившегося парализовал ее, и нога застыла на газу, вместо того чтобы перескочить на тормоз; или же неверие в реальность происходящего было настолько сильным, что еще несколько секунд после удара она просто ждала каких-нибудь действий от кого-либо еще. Но как бы это ни объяснялось потом, она сбила их – и поехала дальше.
Рой заметил ее в последнюю секунду и отпрянул назад, хотя и недостаточно быстро. Машина ударила его под колени, отбросила на мостовую и тут же вписалась в Джорджа и велосипед. Джордж видел, что происходит, но ничего при этом не чувствовал. Сначала из его поля зрения исчез Рой, а потом все пространство перед глазами заполнилось неудержимо надвигающейся на него грудой металла, которая расплющила ему живот о сиденье велосипеда, а еще через миг зашвырнула себе на капот.
И, не останавливаясь, помчалась дальше. Джордж не понимал, куда поставить ногу и на что опереться, ибо землю вдруг выдернули из-под него, – и он рухнул, пораженный настолько, что мог улавливать происходящее лишь одними глазами, не слыша звуков и не чувствуя боли, поскольку все прочие чувства заклинило.
Вместе с ним подбросило и велосипед, руль которого зацепился за передний бампер, и, пока старушка все еще ехала дальше – десять, двадцать, тридцать футов по пешеходной зоне, вперед и вперед, – Джордж соскользнул на землю, и его тут же придавило тяжеленным велосипедом – прямо на дороге, перед носом автомобиля. Это он помнил отчетливо, куда отчетливей любых других подробностей происшествия. Больше всего это напоминало съезжание на спине со снежной горки – несколько секунд, в которые чувство боли откладывается на потом и воспринимается лишь как грядущая вероятность. Так или иначе, остановиться он все равно не мог – рукам не за что было ухватиться, ногам не во что упереться, а голове даже не на кого оглянуться, чтобы просить о помощи.
Возвращаясь мыслями к этому событию, Джордж, как это ни парадоксально, яснее всего остального помнил о своем невероятном спокойствии. Он видел одно лишь небо над головой – ясное, умиротворяющее, просторное, бесстрастно взиравшее сверху на то, как его подбрасывает от удара, шарахает о мостовую и придавливает тяжелым велосипедом. Очень похоже на момент, когда он нашел Журавушку (или она его), – миг, когда время остановилось, миг, в котором можно жить вечно. Он вглядывался в это небо с восторгом и недоверием в сердце, и единственной вразумительной мыслью в голове было: «Это действительно происходит со мной».
«Это действительно произошло со мной, – рассказывал он потом. – Может, кому-нибудь покажется, что я сочиняю, но уверяю вас, именно так все и было…»
Велосипедный руль отцепился от бампера, и велосипед свалился, но каким-то образом – к счастью? чудом? невероятно? немыслимо? – свалился так, что старухина машина вытолкнула его на обочину, и Джорджа с ним заодно. И вместо того чтобы оказаться размазанным колесами по асфальту, Джордж увидел, как эти колеса пронеслись мимо в какой-то паре дюймов от его носа.
А потом пришла тишина. Абсолютная. По-прежнему лежа на спине, Джордж повернул голову и увидел Роя. С момента удара прошло всего несколько секунд, и Рой также лежал на дороге, безуспешно стараясь подняться. Джордж пытался делать то же самое, и о том, что оба не могут встать, они догадались одновременно. И тот, и другой корчились на земле в совершенно одинаковых позах.
Осознав это, они расхохотались.
Теперь, почти сорок лет спустя, Джордж все еще помнил об этом смехе – искреннем, неподдельном. Они, пацаны восьми и девяти лет, за несколько мгновений до того, как неизбежная боль накрыла их с головой, и прежде чем осознать, что только что избежали почти неминуемой гибели, две-три секунды хохотали.
Но мир больше ждать не мог. И хлынул на них тысячным людским потоком с парковочной площади у бензозаправки, из стеклянных дверей супермаркета, и все эти тысячи лиц – хотя не могло их быть более десяти – были так искажены праведным гневом и одновременно болью, что Джордж неожиданно разрыдался.
Взрослые стали трогать его и Роя, подняли их на руки и унесли с дороги, а некоторые погнались за автомобилем старухи, который начал останавливаться лишь теперь, через полсотни шагов от места происшествия. Эти люди вызвали «скорую», а также пожарную машину, что Джорджу, даже при всей его боли и оторопи, показалось несколько лишним. Он не помнил, чтобы давал кому-либо номер своего телефона, но, видимо, все-таки давал, поскольку некая женщина откуда-то сзади – он помнит это совершенно отчетливо до сих пор – сказала другой: «Ну, я позвонила их матерям. Одна спокойная, другая истерит».
Его плечи опали, как сдувшийся мячик.
Нечего и говорить, именно его мать примчалась в слезах, столь же неудержимых, как и старухин автомобиль, и первыми же словами, слетевшими с ее губ (это он тоже помнит очень ясно), были: «Почему ты не позвонил, чтобы я забрала тебя?»
В тех редких случаях, когда Джорджу доводится рассказывать финал этой истории, в которой его мать выступила так нелепо, он напоминает своим слушателям – дескать, она услышала новость о том, что ее восьмилетнего сына сбила машина, и потому, разумеется, у нее были все причины временно сойти с ума. И тем не менее каждый раз ему хочется извиниться перед всеми этими незнакомцами за поведение своей матери, за то, что ее пришлось успокаивать водителю «скорой помощи», и за кислородную маску, которую она так охотно приняла из рук медбрата. Та самая женщина, которая так героически (якобы) укусила за палец саму мисс Джонс, теперь стяжала на себя все софиты сцены, на которой ее сына сбило автомобилем.
Они выжили. Конечно, выжили. И даже сильно не пострадали. Никаких переломов, хотя Рою и разорвало связки в обоих коленях. А Джорджу, пусть и принявшему на себя всю тяжесть удара, удача улыбнулась немного шире. Два огромных синяка на бедрах неделю мешали ему ходить, а затылок и локти стерлись об асфальт до мяса, но все это было сущими пустяками по сравнению со смертельной опасностью, которой он избежал. Его даже не стали запихивать в «скорую». Увезли только Роя, под завывание сирены, а Джордж остался со своей матерью, которая отвела его в больницу, всю дорогу причитая и плача так, что ему самому пришлось ее успокаивать.
Она впала в такое отчаяние, что он даже не стал рассказывать ни ей, ни отцу о том, до чего в свои восемь лет додумался сам: если бы не велосипед Роя, упавший так странно – сначала зацепившийся за бампер, а потом в самый страшный момент оттащивший Джорджа в сторону, – старуха бы раздавила его. Колеса ее авто, выглядывающие из-за велосипедной рамы, точно ненасытные драконы из-за прутьев железной клетки, просто размазали бы его по асфальту.
И все же, не случись этого события, Джордж никогда бы не уставился в это небо – и никогда не пережил бы момента, когда он был единственным, кто действительно жил во всем этом великом, содеянном кем-то мире.
О дальнейшей судьбе старухи он так никогда и не узнал. И что еще удивительнее, он не знал, что дальше было с Роем, как тот излечился от всех своих ран. Джордж даже не мог вспомнить его фамилию, не говоря уже обо всем остальном. Он не помнил, как вернулся в «О, приди, приди», то есть, скорее всего, он просто туда не возвращался, а его родители заняли позицию «бог его знает» в отношении ситуации, когда их сын чуть не отдал концы. Джордж знал, что родители выдали ему сотню долларов из страховки – он купил на них книги, – а остальное потратили на ремонт дома. Но как насчет всего остального? Ну да, он выжил. Но разве это могло быть сравнимо с потрясением, перенесенным его мамашей? С тем, что при этом пришлось испытать ей?
Время шло. Учительница четвертого класса по имени миссис Андерхилл оказалась прекрасной женщиной, но по неизвестным причинам – вероятно, финансовым – его родители не смогли позволить себе даже обильно спонсируемую церковью частную школу. И Джордж – возможно, из-за того, что это место, надо признать, было немного странным и абсолютно не подходящим для натур чувствительных, – все же покинул «О, приди, приди» и на следующий год перешел обратно к Генри Бозману. Учился он прилежно, и этого оказалось достаточно, чтобы его родители смогли вписаться в общий круг и выбить ему стипендию для поступления в любой вуз на другом побережье.
Так Джордж оказался в Нью-Йорке. И как тут не вспомнить слова мисс Джонс? Несмотря на недостаток схоластического чутья, Джордж все же выделялся из круга своих сверстников. Он умудрился выцарапать себе стипендию и перебрался в Англию – как раз тогда, когда больше не видел смысла в получении звания и диплома. Ему было уже все равно. Он встретил Клэр. А домой приезжал разве что на похороны. Сперва с отцом произошел несчастный случай на стройплощадке, а потом умерла и мать якобы от сердечного приступа, но, вероятнее всего, оттого, что, ухаживая за мужем, отдала слишком много своих драгоценных сил. Что нередко случается. Джордж остепенился, и теперь он уже жил в Англии дольше, чем в Штатах, что могло бы кому-нибудь показаться важным, хотя никогда таковым не являлось.
История эта, впрочем, произошла на самом деле – во всех деталях, – несмотря на всю свою невероятность. Теперь, спустя столько лет, Джордж понимал, что она перестала быть его личной историей, рассказывающей лишь о части его собственной жизни.
Уж не из-за всех ли этих людей?
Всех, кто прибежал с заправки и из овощной лавки, всех тех, о ком Джордж начал задумываться, когда повзрослел, особенно после того, как сначала стал отцом Аманды, а потом дедушкой Джея-Пи? Всех этих людей, незнакомцев, чьих имен он так и не узнал, а лиц не запомнил, всех этих случайных индивидуумов, увидавших, как двух маленьких мальчиков сбила старуха в огромной машине?
Интересно, случалось ли им рассказывать эту историю? Даже Рою с Джорджем эти мгновения показались мучительными, мгновения, когда никто не сомневался в том, что они, скорее всего, погибнут, и не было ничего – ничегошеньки! – чем все эти взрослые могли бы им помочь. Невыносимость этих мгновений Джордж полностью прочувствовал лишь однажды, когда Аманда, едва научившаяся ходить, в пятнадцати шагах от него вдруг упала с бордюра на дорогу с мчавшимися автомобилями. Она мгновенно перестала реветь, когда увидела, как перепугался ее отец, и ощутила, с какой силой он прижимал ее к груди.
Джордж чувствовал, что связан с ними, со всеми этими безымянными свидетелями, которых теперь не найти – даже в нашу эпоху безудержного всеобщего осетенения. Их жизни ненадолго пересеклись с его судьбой – и случилось то, что происходит – конечно же по-разному, но с кем угодно – каждую секунду и где ни попадя, вот только смысл обретает, лишь когда касается кого-то лично, не правда ли?
На самом же деле – и Джордж часто думал об этом, – хотя в своей версии произошедшего он и выступал главным героем, его, разумеется, неизбежно делали персонажем второго плана, когда ту же историю рассказывал кто-то другой. Как они вообще рассказывали ее? Ведь наверняка же они это как-то делали. «Вы не поверите, недавно со мной приключилось такое! Захожу в супермаркет, покупаю блок сигарет для мужа и две бутылки виноградного сока. Уж не помню почему, но точно помню, что две. Поднимаю глаза – и тут…»
А как насчет старухи? Какую историю рассказывала она в те недолгие годы жизни, что ей оставались? А как насчет водителя «скорой», который, скорее всего, очень быстро забыл о несчастном случае, в котором два пацана отделались легкими царапинами?
И если уж на то пошло, как звучала бы версия мисс Джонс, взбреди ей в голову рассказать кому-либо о белой сумасшедшей, укусившей ее за палец? Как бы она отличалась от версии Джорджа? Или от рассказа его матери, в котором уже все происходило совсем не так, как рассказывал он?
Стоило ли так ломать над этим голову? Джорджу казалось, что стоило, и даже не ради того, чтобы выяснить истину или установить, что же именно происходило в тот или иной конкретный момент. Истин – в чем-то совпадающих, переплетенных одна с другой – всегда было столько же, сколько и рассказчиков. Истина как таковая значила меньше, чем история чьей-то жизни. Забытые истории умирали. А оставшиеся в памяти не просто жили, но и обрастали деталями.
И когда бы он ни рассказывал свою версию этой истории – о причинах своей «неамериканскости», о роли, которую в этом сыграли его теперь уже покойные родители, об укушенном пальце, из-за которого он умудрился в итоге попасть под машину, – беседа сразу же перетекала к другой истории, которую рассказывал кто-нибудь еще, а сам он частенько забывался и, слушая вполуха, на какое-то время погружался в собственные воспоминания.
Он рисовал в них себя – за десятилетия, за океаны и континенты отсюда, под восхитительным голубым небом, в невероятном безмолвии распятым на асфальте, под пристальными взглядами десятков пар испуганных глаз всех этих «сорассказчиков», и, поскольку он мог видеть их, а они – его, во всех различных интерпретациях их жизни пересекались и связывались друг с дружкой в то, что Джордж мог определить лишь как всеобщие объятия, и этот миг длился постоянно – и не заканчивался до сих пор.
И благодаря этому бесконечно повторяющемуся мигу боль оставалась на якоре, страх дремал на привязи, а все остальное казалось удивительным и чудесным.
* * *
На этот раз дела у Аманды пошли наперекосяк, когда из всех дурацких мест на нашей зеленой планете они с Рэйчел и Мэй приехали к самому идиотскому – мемориалу «Животные на войне»[5].
– Гребаный стыд! – протянула Аманда, скорчившись в одиночку на заднем сиденье, хотя была выше Мэй чуть не на целый фут и по всей логике куда больше заслуживала места впереди.
Все это неизбежно возвращало ее в раннее детство, к тем поездкам с родителями, когда ей полагалось всю дорогу до Корнуэлла спать на заднем сиденье, пока Джордж вел машину в своей обычной нервно-растерянной манере, а мать отчаянно пыталась разобраться в бумажках для адвоката.
Всякое настроение для пикника у Аманды пропало, но изменить свои планы на этот день, казалось, уже невозможно. Мэй неизменно восседала впереди, а Рэйчел, как всегда, крутила баранку, хотя все трое могли бы ехать каждая на своей машине.
Таковы были правила, как и во многом другом. Правила, которым Аманда честно пыталась следовать, но неизбежно и безнадежно что-нибудь нарушала.
– Что именно? Это? – спросила Рэйчел. И, не отнимая ладони от руля, показала наманикюренным пальцем на огромную стену из затейливого мрамора, тянущуюся вдоль дорогущего особняка прямо в центре квартала Мейфэр.
Перед стеною покорно застыли памятники – лошадь, собака и, кажется, почтовый голубь, хотя Аманде никогда не доводилось разглядывать всю эту дичь вблизи. Зачем? Кому вообще это нужно?
– Да, это, – сказала Аманда, хотя часть ее мозга уже посылала истеричные сигналы тревоги. – «У них не было выбора»! – с пафосом продекламировала она девиз Мемориала, довольно похоже копируя Хью Эдвардса[6]. – А с чего у них будет свой выбор? Ведь это животные! Разве это не оскорбление реально погибших на войне людей – отцов, матерей, сыновей, дочерей, – когда их приравнивают к гребаному лабрадору?!
В нахлынувшей тишине Рэйчел и Мэй переглянулись, и Аманда поняла, что осталась в одиночестве, что, возможно, это еще не последний раз, когда ее пригласили прокатиться в машине Рэйчел на импровизированный пикничок в духе «Один-раз-живем-так-давайте-же-carpe-такой-неожиданно-солнечный-diem»[7], но вероятность получения таких приглашений в дальнейшем резко сократилась.
Хотя произносить слово «гребаный» (тем более дважды) было само по себе рискованно, она все же рассчитывала на особую роль в их троице – роль подруги, которая может и матюгнуться, которая знает, как скрутить косячок, если попросят (пока не просили), и которая успела сожрать в былом замужестве столько дерьма, что жизнь ее стала похожа на жизнь гиены. Как Рэйчел, так и Мэй тоже развелись, хотя и не в столь юном возрасте и не с таким раздраем. Они сами выбрали ее на эту роль, и она старалась играть ее как можно достойнее.
Ну и хрен с вами, мысленно вздохнула Аманда. В гробу я обеих видела…
Даже за восемь месяцев знакомства она так и не стала для них своей.
Занималась Аманда транспортным консалтингом, так же как Рэйчел и Мэй. В их фирме из семидесяти четырех сотрудников работало всего девять женщин, что конечно же незаконно. И дело не в том, что транспорт – совсем не женская индустрия (хотя, конечно, отчасти и в этом), просто такая уж это была контора: в их компании, «Амбрелло Флэттери», начальницей отдела кадров работала женщина, ненавидевшая всех прочих представительниц своего пола (Фелисити Хартфорд, несомненно, Дама Номер Один из всех девяти). На собеседовании перед приемом на работу она объявила, что по своим способностям Аманда «в лучшем случае» восьмая по счету кандидатка (из восьми), но в конце концов даже пожилой Амбрелло-старший начал удивляться, зачем его секретаршу, нанятую совсем недавно, вдруг заменили на хлыщеватого вида юношу, в воротнике сорочки которого вечно торчит «какая-то нелепая железяка, миссис Хартфорд». И прежде чем миссис Хартфорд «сыграет в ящик, не выдержав очередного судебного разбирательства», Аманде придется заниматься всем этим самой.
Аманду определили в отдел к Рэйчел и Мэй – миссис Хартфорд предпочитала разбивать всех сотрудниц на мелкие группы, чтобы было легче уволить любую из них, как только она задумает это сделать, проснувшись однажды утром, – и обе разведенки приняли ее под свое крылышко как младшую подругу по несчастью. В первый же день они пригласили Аманду на ланч, и за сорок пять минут обеденного перерыва она не только узнала о том, что Рэйчел разместила фотографии голой любовницы своего бывшего мужа на мемориальном сайте покойной матери этой самой любовницы, что Мэй страдает молочницей и что в колледже Рэйчел выжила при пожаре (который, похоже, сама и устроила), унесшем жизни двух ее соседок по общежитию, но еще и успела услышать от Мэй целых три душещипательных анекдота про обрезание.
– Они что, все были братьями, эти трое? – рассмеялась Аманда низким, тяжелым, скабрезным смехом, который она назвала бы своей лучшей «фишкой на публику», догадайся хоть кто-нибудь ее об этом спросить.
Никто не засмеялся в ответ.
Это были долгие восемь месяцев.
– Можешь достать корзинку для пикника? – попросила Рэйчел, втискивая свой «мини» в свободный проем на парковке.
– Конечно, – ответила Аманда. Именно она всегда доставала чертову корзинку для пикника.
Мэй вышла из машины, крайне сосредоточенно пялясь в мобильник. Она отслеживала по GPS свою дочь, которую «воскресный папаша» забирал к себе по выходным.
– Поверить не могу, – сказала Мэй, которая никогда ничему не могла поверить. – Он привез ее в «Нандо’с»!
– Что за херню вы сюда напихали? – спросила Аманда, пытаясь вытащить из машины необъяснимо тяжелую корзинку для пикника.
Она чувствовала себя носорогом, вылезающим задницей вперед из стеклянной витрины.
– Послушай, тебе уже двадцать пять, так ведь? – сказала Рэйчел. – Ты моложе нас, ладно, я понимаю. Но не слишком ли взрослая, чтобы ругаться так, словно торчишь от скинхедов?
– Извини, – буркнула Аманда и вытащила наконец проклятую корзинку.
Но не удержала в руках, и та гулко шмякнулась о землю. Поток вина хлынул из ее днища и зажурчал, как ручеек – очень дорогой ручеек.
Рэйчел вздохнула:
– Это была наша единственная бутылка красного?
– Извини, – повторила Аманда.
Рэйчел ничего не ответила, просто выдержала паузу, давая Мэй время заметить, что Аманда стоит в луже бесценного Pinot.
– О-о-о! – едва слышно прошептала Мэй, наконец оторвавшись от экрана. – Глазам своим не верю…
Аманде всегда хорошо удавалось начинать отношения. И в школе, и в колледже, и на разных работах по окончании вуза, не говоря уже о целой ватаге друзей, вертевшихся вокруг Генри. При первой встрече она всем нравилась. Это действительно так.
То, что могло бы казаться пугающим в мужчине – рост выше среднего, широкие плечи, низкий командный голос, – в этой женщине, напротив, обезоруживало. Глядя на нее, парни помнили, что перед ними девушка, но в то же время могли рассуждать о каком-нибудь регби, а потом неожиданно для себя покупали ей пиво и спрашивали, каковы, по ее мнению, у них шансы закадрить вон ту аппетитную голландочку с курсов по экономике. Геям она тоже нравилась, что имело свои преимущества, хотя и вызывало смутное ощущение, будто ей удалили яичники; что же до женщин – те поначалу ценили ее как подругу, с которой наконец-то можно оставаться собой и говорить что думаешь, не особенно заботясь о вечной девчачьей конкуренции. Они считали ее «своим парнем», это правда.
И в этом они ошибались.
– Ой, смотри! – воскликнула Карен, ее новоиспеченная «лучшая подруга» (одна из многих) в колледже, которая училась на географа, никогда не фанатела по Бристолю, а также считала, что секрет провала любой политической философии в истории можно ужать до простейшей, основополагающей формулы: «Все люди – тупицы». – По ящику крутят «Волшебника страны Оз»!
– Да ты что? – отозвалась Аманда и шлепнулась на диван рядом.
Они только что классно оттянулись в клубе на вечеринке. Ее лучший прикид так и лип к пропотевшей коже, а ноги просто отваливались в этих туфлях – все-таки для девушки с широкой костью неестественно забираться на шпильки, – и хотя они с Карен танцевали, выпивали, хохотали и курили всю ночь, привлечь мужское внимание им так и не удалось; никто из парней даже взглядом за них не зацепился. Если судить строго, у Карен проблемы с формой носа. И бровей. И еще, ну что поделать, она прихрамывает, хотя в танце этого почти не заметишь. Но как бы там ни было, всё прошло весело и весьма многообещающе.
С небольшой помощью от матери с отчимом Хэнком – а родной отец платил за ее обучение и вряд ли мог себе это позволить, поэтому она всегда врала, когда он спрашивал, не нужно ли ей что-нибудь еще, – Аманда могла снять комнату в квартирке с двумя спальнями недалеко от университета, чтобы прожить там последний год перед выпуском, и подыскивала компаньонку. Карен прочла ее объявление, опубликованное на вузовском сайте, и откликнулась. Они встретились за кофе, ударили по рукам и въехали в новое жилище. С тех пор прошло две недели, и никаких проблем на горизонте не наблюдалось.
– Вот уж не думала, что это вспомнят и покажут еще хоть раз! – с энтузиазмом продолжила Карен, поджимая на диване ноги. И, вдохнув поглубже, приготовилась подпевать «Мы в Город Изумрудный…»
– Дурацкий фильм, – сказала Аманда. – Ненавижу.
Карен поперхнулась воздухом, так ничего и не спев.
– Че-го?! – спросила она сквозь кашель с таким видом, точно Аманда съездила ей кулаком по физиономии. Реально съездила, без дураков.
Словно не замечая этого, Аманда рубанула:
– История вымучена, сюжет – дерьмо. Чтобы все связно выглядело, актеры, как последние маразматики, выворачиваются наизнанку. А под конец мало того что никакого чуда не происходит, так еще и главный волшебник оказывается жалким клоуном! Лузер, который призывал всех идти за собой, а когда дело запахло Международным трибуналом, спас свою задницу, удрав на воздушном шаре. Вылитый Милошевич!
На несколько секунд она прервала свою речь, увидев, как вокруг глаз Карен расползаются белые пятна, но подумала, что это из-за подозрительных таблеток, которые они купили возле клубного туалета у какого-то толстячка, который клялся, что это – экстези, найденное в спальне у его старшего брата; поэтому Аманда допускала, что таблеткам уже лет двадцать и на самом деле это вообще какой-нибудь парацетамол.
– Ты… шутишь, да? – уточнила Карен.
– А потом эта Дороти возвращается в свой Канзас, – продолжала Аманда, отчего-то решив, что Карен таким образом ее подзадоривает, – и мы должны быть счастливы от того, что она вернулась к своей прежней унылой черно-белой жизни с перспективами ниже плинтуса? Что мечты – это, конечно, хорошо, но давай-ка, милая, не забывай, что на самом деле тебе никогда не вырваться с этого сраного ранчо? За то же самое, кстати, я ненавижу Хроники гребаной Нарнии… О нет, только не показывайте мне этого извращенца! – воскликнула она, когда на экране закривлялся Трусливый Лев. – Исчадие кошмаров!
Карен оторопела. Точнее, оторопела еще сильнее.
– Кто? Трусливый Лев?
– Ой, да ладно. Только не говори, что он не напоминает тебе сразу всех педофилов, от которых ты велела бы своей дочери держаться подальше! Так и ждет момента, чтобы взгромоздиться на малютку Дороти со своим агрегатом. – И она в самых ужасных интонациях передразнила Трусливого Льва: – «Ну давай же, крошка Дороти, садись к дядюшке Льву на коленки, и он покажет тебе, за что его называют королем джунглей, вот так, вот так…» А потом прижмет ее к земле, стянет с нее трусы и доберется до всех ее рубиновых пре…
И тут Аманда остановилась, поскольку ошибаться насчет выражения лица Карен стало уже невозможно. Парацетамол на людей так не действует.
– Ну чего ты, не реви! – добавила она, но было поздно.
Как выяснилось, бедняжку Карен периодически «заряжал» (по ее же дичайшему выражению, которое она повторила несколько раз) ее собственный дед – с тех пор как ей исполнилось пять и вплоть до ее четырнадцати. Прекратилось это лишь с его смертью. Мало того, когда она рассказала об этом своим родителям, те выкинули ее из дому и согласились впустить обратно, чтобы она могла сдать выпускные экзамены в средней школе, лишь когда Карен поклялась, что все это выдумала.
– Ты просто не знаешь, каково это… – рыдала она потом в объятиях Аманды долгими, долгими часами. – Просто не знаешь…
– Ну, прости меня, – бормотала Аманда, неловко гладя ее по голове. – Я правда не знаю.
Этот случай мог бы и сблизить их. С большой вероятностью. Но вместо этого Карен начала приглашать в дом подруг, с которыми резко обрывала любую беседу, как только в комнате появлялась Аманда. И все снова кончилось, как всегда.
Самое ужасное – Аманда понятия не имела, в чем тут загвоздка. Насколько она помнила, у нее самой было абсолютно нормальное детство. И с Джорджем, и с Клэр, несмотря на их развод, она оставалась по-прежнему близка, ей никогда не приходилось особенно беспокоиться о деньгах и личной безопасности. Но ей все время казалось, будто она родилась с каким-то едва ощутимым изъяном – где-то глубоко внутри, – изъяном, который слишком стыдно показывать кому-либо еще и вокруг которого она всю жизнь выстраивала некий защитный панцирь, дабы никто ничего не заметил. И со временем панцирь стал ею самой – это было неизбежно, – только она никогда не признавала этого факта, хотя от такого признания ей, возможно, и стало бы легче. Ведь настоящую правду о себе – о том, что внутри у нее что-то немного не так, – знает только она одна, и никто никогда не должен этой правды увидеть. Ведь если не это – она настоящая, то что же тогда? Глубоко внутри она сломана, неисправна, и вся ее жизнь – бесконечная попытка сделать так, чтобы этого никто не заметил.
– У тебя все в порядке, дорогая? – спросил отец, позвонив ей в очередной раз.
– О боже, пап, ну конечно! – ответила она, еле сдерживая слезы.
– Просто все утверждают, будто эти годы в колледже – твои лучшие годы, но, должен признаться, мне всё это время было там как-то… неловко? Да, пожалуй, что неловко.
– Тебе всё всегда неловко, Джордж, – сказала она, выгибая спину, чтобы рыдание не вырвалось из горла.
– Да, наверное, – рассмеялся он.
И это было настолько невыносимо – вся его забота о ней, вся бессмысленность этой заботы, – что, когда он спросил, не нужно ли ей еще денег, она просто повесила трубку.
Рэйчел и Мэй уселись на траву и разложили почти все салфетки, взятые для пикника, исключительно между собой. Денек для пикника выдался не самый теплый, но, по мнению Аманды, Рэйчел любила подкладывать подружкам подобные «суровые испытания» и смотреть, как те будут с ними справляться. Кто захныкал – тот проиграл.
– Так кто сегодня присматривает за Джей-Пи? – спросила Рэйчел, так и не сняв пальто.
– Мой папа, – ответила Аманда, заглядывая в корзинку и не находя там ничего, что лично ей хотелось бы съесть. Наконец она остановила свой выбор на пластиковом контейнере с салатом. – А соус какой-нибудь есть?
Очередная пауза – и очередной негромкий смешок между Мэй и Рэйчел. Сделав вид, что этого не заметила, Аманда нашла по крайней мере дорогущего вида бутыль с оливковым маслом. Обильно, не скупясь, полила им салат – как тот, что собиралась съесть сама, так и всё, всё, всё остальное. Закрыла бутылку крышкой – так резко, что та захрустела под пальцами, слетела с резьбы и перестала держаться. И аккуратно положила обратно в корзинку – в таком положении, чтобы со стороны бутыль казалась закрытой, – и Мэй с Рэйчел ничего не заметили.
– А мой папаша в жизни с ребенком не сидел? – сказала Рэйчел, наливая в кружку кофе из вопиюще гламурного термоса. – Ни одного подгузника не поменял? И как собственных детей зовут, не помнил, пока нам лет пять не исполнилось?
– Ой, я тебя умоляю! – поморщилась Мэй, удивив как Аманду, так, похоже, и саму себя, но тут же восстановила на лице маску жизнерадостного согласия.
Аманда, впрочем, и не надеялась на солидарность; просто, судя по всему, даже Мэй устала от вечного стремления Рэйчел глумиться над своим папашей-австралоидом, который, судя по ее описаниям, разве что не арканил рогатый скот, стиснув лассо зубами, и не рассекал на доске по волнам с банкой пива в руках. Был ли его нос типичной «австралийской картошкой»? Аманда никогда не спрашивала. А торс мускулистым? Или имелось отвислое брюшко? Ни разу не поинтересовалась. Носил ли он на затылке хвост, как у музыканта из джаг-бэнда 70-х? И спросить бы не подумала. Аманда заглянула в себя. Все-таки она к Рэйчел слишком несправедлива. Но порой излишняя несправедливость к кому-нибудь так увлекательна, правда?
– А мой папа отлично ладит с Джеем-Пи, – сказала она. – Он очень добрый. Настоящий отец. Заботливый.
– М-м-м? – как бы ответила на это Рэйчел, наблюдая за молодыми парнями, гоняющими мяч на полянке, выбранной ею для пикника. – Младший брат Джейка Гилленхаля, три часа.
Мэй сморгнула:
– Знаешь, я никогда не понимала, что у тебя это значит. Ты говоришь «три часа» так, словно это направление.
– Но это так и есть, – ответила Рэйчел, указывая направление пальцем. – Двенадцать, час, два, а вон там – три часа. Что тут сложного?
Обернувшись куда нужно, все увидели мистера Три Часа, который – чего Аманда никогда не признала бы вслух – был действительно чертовски привлекателен, хотя довольно юн для нее самой и уж точно чересчур юн для Рэйчел, которая на шесть лет была старше ее. Шевелюра у парня была густой и соблазнительной, как молочный коктейль, и в том, что он осознавал это, сомневаться не приходилось. Даже на таком расстоянии было видно: парню не отказать в самолюбовании, как королеве в снисходительности.
– Могу спорить, этот кричит, когда кончает, – пробормотала Аманда, не осознавая, что произнесла это вслух, пока Мэй не хрюкнула от смеха.
Она обернулась, но Мэй уже вновь остепенилась под взглядом Рэйчел. Хвать телефон – и ну отслеживать дальше местонахождение дочери.
– Они все еще в «Нандо’с»! – объявила наконец Мэй.
– Ну, Марко хотя бы ребенком интересуется? – обронила Рэйчел. – По крайней мере, не раскатывает с новой зазнобой по заграницам? И не забывает о своих обязанностях?
Вилка в руке Аманды застыла на полпути от последних крошек салата ко рту; боль от укола была такой неожиданной, что к глазам подступили слезы. И лишь невероятным усилием воли она не позволила им побежать по щекам.
Потому что все было не так. Точнее, так, да не так. Да, Генри вернулся во Францию и живет теперь с Клодин, но Аманда фактически сама заставила его уехать, изгоняя из своей и Джей-Пи жизни с такой энергией и постоянством, что самой себе удивлялась. Он же звонил Джей-Пи каждую неделю, несмотря на то что навыки общения по телефону у четырехлетнего мальчишки были почти нулевые. Говорил, что хочет приучать сына к звукам настоящей французской речи, хочет, чтобы тот слушал, как его имя (Жан-Пьер) произносится на самом деле и как звучат колыбельные, которые когда-то ему пела родная бабушка.
Если бы сердце Аманды не раскалывалось на куски каждый раз, когда она слышала голос Генри, это звучало бы даже мило.
Они познакомились, когда она училась на последнем курсе вуза; сперва встречались на лекциях, а потом и на университетских вечеринках. Мужественности в этом представителе сильного пола было хоть отбавляй. Уже в двадцать лет в его волосах мелькала солоноватая проседь, и из всех девчонок их студенческого потока она оказалась той единственной, с кем он решил сидеть рядом, разглядев, как он потом рассказал, «родственную душу», чему, вероятно, способствовало отчетливое ощущение, что любого врага она не только убьет, но и съест.
Она, со своей стороны, впадала в такую эйфорию всякий раз, когда он оказывался в одном с нею помещении, что начала жить в состоянии почти непрерывной ярости. Факт его существования она долгие месяцы скрывала даже от родителей, чтобы те не дай бог не стали хихикать над тем, как жестоко она втюрилась, хотя именно они конечно же были последними, кто стал бы так поступать.
Больше всего от нее доставалось самому Генри.
– А ты с огоньком! – подцепил он ее, и хотя это звучало нелепо даже с его французском акцентом, оба находились на таком взводе, что вряд ли о том задумались.
Это напоминало ухаживание урагана за скорпионом. Со швырянием друг в друга предметами, невероятным сексом и месяцами жизни в какой-то лихорадочной дрожи. Все так по-молодежному! И так по-французски! Она была сметена примерно как скоростная трасса оползнем – ничем не остановимой катастрофой, которая перемалывает ее в щебень. Они ругались даже на свадьбе. Прямо на церемонии.
Через месяц после женитьбы она обнаружила, что уже на третьем месяце, и принялась обвинять его в чем ни попадя еще неистовее, чем прежде. Он не врубается, какие ножи обычные, а какие – для стейка. Он забивает окурками всю землю в горшке с камелией, высаженной ею на балконе в их новой квартирке, ремонт которой он так и не довел до конца. А однажды вечером, во время все еще весьма замечательного секса – и это несмотря на седьмой месяц беременности, – он вдруг показался ей таким злым, что она непроизвольно залепила ему пощечину, и с такой силой, что расцарапала ему щеку обручальным кольцом; поступок этот поверг ее в глубочайший шок, она сбежала из дому и провела всю ночь у отца в ужасе от мысли о том, что будет дальше.
На следующий день Генри съехал.
– Дело не в пощечине, – сказал он со сводящим с ума спокойствием. – Француз может принять пощечину, Господь свидетель. Дело в том, с каким лицом ты это сделала.
Он взял ее за руку с нежностью, ранящей сильнее любых жестокостей какой бы то ни было драки.
– Ты борешься с ненавистью к самой себе, все это замечают, и ты очень стараешься, переключая ее лишь на тех людей, у которых, как ты надеешься, достаточно сил с этим справиться. Это я понимаю. Я сам такой же. Это тяжело, но можно перенести, если твоя любовь ко мне сильней, чем ненависть. Но однажды баланс уже сместился в другую сторону, и я не думаю, что это можно исправить. Ни в тебе, ни во мне.
Боль от услышанного вызвала в ней новую вспышку гнева, и она прогнала его прочь бурным потоком мстительных клятв – что он никогда не увидит сына, что, если он не сгинет навеки, она расскажет судье, что это он ударил ее, а какой английский судья не поверит ей, если речь идет о французе? – так что лучше пускай он уматывает из этой страны ко всем чертям, иначе она добьется его ареста.
Наконец он поверил ей. И ушел.
А когда родился их сын, она назвала его именем любимого дядюшки Генри, уже покойного, как они однажды вместе и решили. Да, имя это она тут же сократила до «Джей-Пи», но тем не менее. Даже теперь она разговаривала с сыном и по-английски, и по-французски, следя за тем, чтобы он не забывал языка и мог свободно общаться с отцом. Генри был любовью всей ее жизни, и этого она никогда не смогла бы простить ему. А может, самой себе.
Время от времени он звонил, и от звука его голоса на нее наваливалась такая тоска, что она врубала телик, пока он говорил с Джей-Пи, отвечавшим на все вопросы в трубке одним осторожным «Oui?».
– Послушайте, – сказала Аманда, бросив вилку обратно в контейнер с салатом и сглотнув подступившие слезы. – Простите меня за то, что я сказала про всех этих животных, погибших на войне. Простите, что материлась. Простите, что я вечно все говню, ладно? Не нужно увеличивать наказание!
В глазах Мэй вроде бы промелькнуло удивление и довольно искреннее сочувствие, но Рэйчел обрушилась первой.
– Дело не в Мемориале? – сказала она. – А похоже, в твоей вопиющей несдержанности?
Аманда, ожидавшая – и глупо, как выяснилось, – спешных заверений в том, что ей не за что извиняться, рассвирепела пуще прежнего.
– Мой дедушка Джо потерял во Вьетнаме ногу, – сказала она. – А когда вернулся в инвалидном кресле, Союз ветеранов войны наплевал на него с высокой колокольни. Так что вы уж простите, если я считаю, что памятник погибшему голубю – дурной вкус.
– Ого, – прошептала Мэй. – Твой дед воевал во Вьетнаме?!
– Это просто не может быть правдой, – еще жестче сказала Рэйчел.
Аманда застыла. Да, это было не совсем правдой. Дедуля Джо не попал под призыв и погиб на стройке, когда какой-то рабочий по ошибке перерубил ему лопатой бедренную артерию. Она почти физически ощущала, что ложь о нем сильно портит ей карму. Но не соврать не могла.
– Он убил хоть одного вьетнамца? – спросила Мэй неожиданно серьезным тоном, на какой переходила всегда, стоило кому-либо в зоне слышимости ляпнуть что-нибудь неуважительное про азиатов.
Рэйчел презрительно фыркнула:
– Британские солдаты не участвовали в боевых действиях? То ли дело австралийцы. Мой папаша…
– Мой дед был американцем, – сказала Аманда, потому что хотя бы в этом ей не приходилось врать.
Мэй посмотрела на Рэйчел:
– Это правда?
– По матери? – уточнила Рэйчел, сбитая с толку в той же степени, что и Аманда.
– Я про деда, – сказала Аманда. – Мой дед – американец.
– А вот и нет! – засмеялась Рэйчел. – Твой отец британец? Я же встречала его? И даже не раз? Ты такая врушка, Аманда. Это так неразумно? И совсем не смешно?
– Ну, извини, – сказала Аманда. – Мне кажется, я знаю, откуда родом мой отец.
– Да как угодно! – Рэйчел хмыкнула и отхлебнула кофе.
– Может, ты имеешь в виду своего отчима? – спросила Мэй, явно волнуясь, не слишком ли они жестоки.
– Отчим тоже американец, – нахмурилась Аманда. – Мамаша всегда выбирает один и тот же типаж.
И в этом опять соврала. Да, Хэнк американец, но огромный, сильный и черный. И не мог бы отличаться от Джорджа еще сильнее, даже если бы Джордж был женщиной.
– Моя мать – британка, но отец – точно американец.
Рэйчел лишь задрала брови и перевела взгляд обратно на мистера Три Часа.
– Не веришь мне – спроси у его новой подружки, – добавила Аманда уже спокойно, решив больше не спорить.
– У его новой подружки? – на удивление резко переспросила Рэйчел.
– У него любовница? – уточнила Мэй и оставила рот открытым. – В его-то годы?
– Ему сорок восемь, – сказала Аманда. – Запросто мог бы закрутить даже с любой из вас.
– Фу-у? – скривилась Рэйчел. – Не юродствуй, а? – Она выловила очередную оливку из пасты. – Ну, и что за девица? Она станет теперь твоей мачехой?
Это Аманда и сама хотела бы знать. На этой неделе Джордж вел себя еще рассеянней, чем обычно. Сначала позвонил ей, чтобы рассказать историю, которая плохо уложилась у нее в голове, что-то о птице, приземлившейся в его саду, а потом улетевшей; Аманда почти убедила его, что все это ему приснилось, но сегодня утром он позвонил снова и объявил, что встречается с женщиной, которая недавно забрела к нему в студию. При этом он был таким искренним и таким уязвимым, что от беспокойства за то, что должно случиться – ведь это Джордж, как ни крути, – ей стало немного не по себе.
– Ну, мачехой вряд ли, – сказала Аманда. – Пока они встречались всего пару раз, и я ее даже в глаза не видела. Знаю только, что зовут Кумико и что…
– Кумико? – повторила Рэйчел. – Что еще за имечко?
– Японское, – вставила Мэй, сверкнув глазами, как лазерами. – Самое обычное имя.
– Я пока не уверена, но, судя по его рассказам, очень милая женщина.
– Ну, какой же еще ей быть, если она связалась с твоим якобы американским папашей? – съязвила Рэйчел и допила остатки вина.
«Что ты этим хочешь сказать?» – хотела спросить Аманда, но не успела произнести «Что ты этим…», как получила футбольным мячом по затылку – с такой силой, что повалилась вперед и едва не вписалась носом в корзинку для пикника.
– Прошу прощения! – крикнул мистер Три Часа, ловко наклоняясь и подбирая мяч с травы.
– Какого черта?! – закричала Аманда, прижимая ладонь к затылку, да так и застыла, увидев, как Рэйчел расхохоталась в своей самой соблазнительной манере – дрыгая сиськами так, словно предлагает себя.
– Не бери в голову? – сказала Рэйчел. – Она это заслужила. Меньше будет чертыхаться!
Мистер Три Часа рассмеялся и отвел назад упавшие на глаза белокурые локоны:
– А у вас чисто дамский пикник или всяких подонков тоже пускают?
– Подонки приветствуются, – ответила Рэйчел. – Хочешь кальмаров? Только что из «Маркса и Спенсера».
– Почему бы и нет? – И парень шмякнулся на траву рядом с Амандой так небрежно, что задел ее бумажный стаканчик с колой, и тот улетел в траву.
Извиняться он даже не подумал. Рэйчел уже накладывала ему кальмаров на салфетку.
Аманда все еще массировала затылок.
– Масло будешь, оливковое? – бесстрастно предложила она.
– С удовольствием! – ответил он, даже не взглянув в ее сторону.
Осторожным движением она извлекла из корзинки бутыль и передала ему с ангельской невинностью на лице:
– Лучше взболтай сперва.
Так он и сделал.
– Глазам не верю… – только и выдавила Мэй.
* * *
Взять в руки бритву и взрезать ею страницу книги всегда казалось Джорджу нарушением табу, попранием всего, что было ему дорого и свято, и каждый раз, когда ему приходилось заниматься подобным варварством, он ловил себя на мысли, что не удивился бы, полейся из этих страниц настоящая кровь.
Бумажные книги он любил с той же страстью, какую другие питают к лошадям, вину или прогрессивному року. К электронным книгам он так и не привык, ибо в них книга сокращалась до размеров компьютерного файла, а компьютерный файл – продукт для временного использования, и к тому же никогда не принадлежит тебе одному. У Джорджа не осталось ни одного электронного письма десятилетней давности, зато сохранились все книги, которые он тогда покупал. Да и вообще, разве можно придумать объект совершеннее, чем бумажная книга? Все эти кусочки бумаги – такие разные, гладкие или шершавые, под кончиками твоих пальцев. Край страницы, прижатый большим пальцем, когда так не терпится перейти к новой главе. То, как твоя закладка – причудливая, скромная, картонка, конфетный фантик – движется сквозь толщу повествования, отмечая, насколько ты преуспел, дальше и дальше всякий раз, когда закрываешь книгу.
А как они смотрятся на стенах! Выстроенные под любую прихоть. Прихоть Джорджа была простой – по авторам, с соблюдением хронологии, хотя со временем он стал выстраивать их и по толщине, а также по теме и особенностям переплета. Все они стояли на его полках, слишком много – и всегда недостаточно. Все эти истории, рассказанные разными авторами: Доротея Брук, никак не находящая себе верного мужа, дождь из цветов, навеки застревающий в похоронах Хосе Аркадио Буэндиа, и бесконечный теннис, в который играет, не помня себя, Хол Инкаденца на полях Энфилда.
Однажды он наблюдал, как тибетские монахи ваяли песчаные мандалы. Невероятно прекрасные создания, некоторые всего в метр диаметром, другие – размером с комнату. Разноцветный песок скрупулезно выдувался монахами через трубочки, похожие на соломинки, слой за слоем, неделю за неделей, и так до самого завершения. После чего, согласно канонам буддийского материализма, мандалы подлежали уничтожению, но Джордж предпочел эту часть пропустить.
Больше всего его заинтересовало то, что мандала – если только он не ошибся, а это вполне возможно – отражала внутреннее состояние монаха. Его скрытое бытие – видимо, обретшее покой, – принявшее идеальную и недолговечную форму. Душа – как картина.
Книги на стенах Джорджа были его песчаной мандалой. Когда каждая стояла на своем месте, когда он мог провести рукой по их корешкам-позвоночникам, выбирая одну, чтобы прочесть или перечитать, все они являли собой отражение его внутреннего состояния. Или, по крайней мере, того состояния, к которому он хотел бы прийти. Как и те монахи, если хорошенько подумать.
Поэтому, когда он совершил свое первое надругательство над страницей, когда вторгся бритвой в потрепанный покетбук, найденный среди мусора на задворках студии, он показался себе неуклюжим олухом, наступившим на мандалу. Кощунство. Святотатство. Попрание сакрала. Или, может, высвобождение его?
Так или иначе, это оказалось… интересно.
Никогда раньше Джордж не считал себя художником, да не считал и теперь, но рисовальщиком он все же был неплохим. Мог набросать довольно похоже чье-нибудь лицо, хотя руки давались хуже – но кому вообще хорошо давались руки, кроме Джона Сингера Сарджента? – и какое-то время назад, еще в колледже, даже рисовал углем обнаженную Клэр – то расслабленную на подушках, то пытающуюся удержать на голове плюмаж из перьев, откопанный ею бог знает где. Сеансы эти, разумеется, были неплохими прелюдиями к сексу, а также символизировали их скорый брак, поскольку она не совсем верно поняла, с кем на самом деле связалась.
– Это даже не очень плохо, – говорила Клэр, мельком глядя на мольберт и стягивая с Джорджа майку.
И наступало время расслабления и радости и очень правильных удовольствий.
Рисование он не бросил и после женитьбы – даже после того, как открыл свою типографскую студию, а Клэр начала подниматься по карьерной лестнице в должности юрисконсульта (когда-нибудь она станет судьей, они даже не сомневались в этом), но, несмотря на все трогательные и вдохновляющие слова Клэр, несмотря на все ее надежды, настоящего художника из него так и не вышло. Он остался просто рисовальщиком. Наброски обнаженной натуры углем он делал все реже, плюмаж затерялся неведомо где, а размеренные полуденные часы все чаще отводились сну.
Хэнк, новый муж Клэр, заправлял огромным отелем, собственностью какого-то американского конгломерата. Рисовал ли он тоже, Джордж понятия не имел.
Рисовал Джордж и после развода – то просто набрасывал что-то, болтая с кем-нибудь по телефону, а то доставал из запасника в студии шершавую бумагу и прикипал взглядом к какой-нибудь кроне дерева, пропускавшей солнечные лучи, или скамейке в дождливом парке, или паре безобразных туфель, оставленных когда-то Мехметом после неудачной пробы на роль в спектакле «Король-Лев». Вот и все, и ничего серьезнее. Ничего, кроме карандашных линий, иногда чернил, но теперь уже никакого угля…
Пока не наткнулся на эту книгу. А ведь мог бы и не заметить. Она завалилась между мусорными баками, и он заметил ее, лишь когда собирал остатки выкинутого завтрака, разбросанные удачливым голубем чуть не по всей аллее. Это был Джон Апдайк, которого он не читал (он вообще никогда не читал Апдайка), роман под названием «Красота лилий». Он забрал книгу в дом – изувеченную, полуразвалившуюся – и пролистал потрепанные страницы. Многие страницы слиплись от дождя, и лишь полкниги было еще читабельно.
Внезапно его охватило желание нарисовать что-нибудь на странице. Жизнь этой книги кончилась, читать ее уже никто бы и не подумал, а вот порисовать в ней вдруг показалось ему не только вандализмом, но и (что, кстати, даже очень правильно) достойным способом проводить несчастную в мир иной – примерно как кладут монетки на веки усопших перед погребением. Он занес карандаш над полупустой страницей – и остановился.
Бритва будет уместней.
Даже не задумываясь почему, он порылся в ящике стола и нашел бритву, которой затачивал или расщеплял что-нибудь всякий раз, когда работа требовала физического вмешательства, что случалось все реже в нынешнюю эпоху компьютерного дизайна, которой он не противился, ибо компьютер работал все же быстрее и высвобождал ему время для всякой необязательной ерунды и досужих мечтаний.
С лезвием в пальцах он вернулся к книге, оставленной на конторке.
Стояло воскресное утро. Пора было открывать студию, но вместо этого он вонзил в страницу книги лезвие бритвы. С судорожным вздохом – и почти ожидая такого же вздоха от книги. И хотя она не стала вздыхать, после первого надреза он замер, уставившись на то, что натворил.
А потом сделал это еще раз.
Он все резал и резал ее – на маленькие, на большие полоски, вырезая углы, закручивая изгибы, кромсая, кромсая еще и еще, пока не приспособился к сопротивляющейся бумаге. Желаемые надрезы получались плохо, и он кромсал дальше, внутрь и внутрь слов Джона Апдайка (мельком читая некоторые отрывки, когда останавливался передохнуть – параграфы с потрясающим количеством точек с запятой, в которых ничего особенного не происходило).
Оторвавшись на минуту, он все-таки открыл студию, чтобы оставить посетителей на волю Мехмета, а сам сосредоточился на вырезании – с силой, которая поражала его самого, – и час таял за часом, чего давно уже не бывало. Он не вполне понимал, что именно вырезает, но когда перевалило за полдень и Мехмет засобирался домой, чтобы успеть прожечь субботний вечер где-то в городе, у Джорджа наконец-то начали получаться самые удачные надрезы, и до него впервые дошло, чего именно хочет его подсознание. Он даже не стал складывать отдельные кусочки в трехмерную форму – оставил их лежать на странице как есть, растерзанные слова и кусочки слов смотрели на него так, словно там, внутри книги, из них сложился отдельный, самостоятельный мир.
– Лилия, – сказал Мехмет, пробегая мимо за курткой.
– Что? – удивился Джордж, с трудом вспоминая, где он.
– Это похоже на лилию, – медленно, словно разговаривая с пациентом в коме, ответил Мехмет. – Любимый цветок моей мамы. А это говорит о ней очень много. Сладко пахнет и повсюду оставляет пятна.
Набросив куртку на плечи, Мехмет ушел, а Джордж еще долго сидел и разглядывал, что сотворил.
Лилия. И правда лилия. Из книги под названием «Красота лилий».
Он засмеялся, несколько задетый этой банальностью – да, именно эта предсказуемость всю жизнь и мешала ему стать настоящим художником, – и уже протянул руку, чтобы выкинуть свое творение в мусорное ведро.
Но остановился. Эта лилия получилась действительно здорово.
Тут-то все и началось. Он стал охотиться за уцененными до одного фунта книгами у букинистов, откапывая только самые изувеченные, нелюбимые и никем не читаемые экземпляры. И хотя совсем не стремился вырезать из них что-либо конкретное, поскольку надеялся избежать повторения истории с коварной лилией, иногда какая-нибудь строчка из шестидесятилетней давности, полузаплесневелого издания Агаты Кристи, будила его воображение, и он мог выстрогать покрытую параграфом изогнутую руку, чьи пальцы постепенно перетекали в предложение-сигарету. Или в формате хайку выложить из букв горизонт с тремя лунами из фантастического романа, о котором никогда в жизни не слышал. Или изваять одинокую фигурку с младенцем на руках, на котором значилась единственная цифра «1» от заголовка «Часть 1» из истории Ленинградской блокады.
Результаты своих стараний он показывал только Аманде; Мехмет тоже видел их, поскольку работал с ним в студии, но слово «показывать» в этом случае было неприменимо; она же отзывалась о них учтиво, от чего он, конечно, приходил в уныние, но увлечения не бросал. Экспериментировал с клеем, закрепляя уже вырезанные фигурки на том или ином фоне, под стеклом или без, в рамках или без, с контуром, без контура, маленькие, большие. Иногда пробовал создать какой-нибудь силуэт одним-единственным долгим разрезом и однажды даже получил таким способом почти совершенную розу (как и пресловутая лилия, она появилась на свет благодаря заголовку полуразвалившейся книги – «Дикой розы» Айрис Мёрдок), хотя куда чаще дело заканчивалось какими-нибудь гусеподобными журавлями, одного из которых и увидел случайно Мехмет.
Особых надежд касательно своих творений он не питал: не считал их достаточно ценными, чтобы выставлять на публике, но испытание временем они все-таки выдержали. Они заставляли его руки работать, а порой и озадачивали его самого, когда он даже не знал, что получит в итоге – это оставалось тайной до тех пор, пока отдельные элементы не собирались вместе на общем фоне. Он завершал их так или эдак и хранил на складе в дальнем углу, куда Мехмет великодушно предпочитал не заглядывать.
Они были его забавой, хотя иногда и чуть более того, но, как правило, безделицами, в чем он и сам бы признался, спроси его об этом, – да, безделицами и не более.
Вплоть до того самого дня, когда появилась Кумико. Появилась – и изменила все, что только могла.
В руке она держала саквояж, совсем небольшой, из тех, с какими – а мозг подсказал этот образ так быстро, что он сам смутился, – разгуливала по вокзалу героиня какого-нибудь кинофильма 40-х: чуть крупнее коробки из-под обуви, явно пустой, чтоб актриса не утомилась держать его в своей изящной ручке в белоснежной перчатке. При этом именно саквояж, а не портфель и не сумка. Роста она была ниже среднего, хотя и не слишком низенькая; длинные темные волосы каскадом спускались на плечи, а светло-карие глаза, не мигая, смотрели на него. Определить, откуда она родом, он навскидку не смог бы. Одета в простое белое платье – одного цвета с плащом, перекинутым через свободную руку, – отчего еще больше напоминала героиню 40-х. И наконец, ее голову венчала красная шляпка – анахронизм, который лишь довершал полноту картины.
Возраст ее вычислить было так же непросто, как и национальность. Но вроде моложе его. Лет сорок пять? Но, едва взглянув на нее, он тут же лишился дара речи: в ее осанке, в подчеркнутой простоте ее платья, в неотрывно следящих за ним глазах было нечто такое, из-за чего вся ее фигурка казалась словно выпавшей сюда из иного времени – влиятельная землевладелица времен какой-нибудь из шотландских войн, французская дофина, отправленная в пампасы Южной Америки, терпеливая служанка особо капризной богини…
Затем он моргнул, и она снова превратилась в обычную женщину. В простом белом платье. В шляпке, которая казалась как устаревшей лет сто назад, так и последним криком моды одновременно.
– Чем могу?.. – наконец выдавил он.
– Зовите меня Кумико, – сказала она.
За все время существования студии (а это ни много ни мало двадцать один год) ни один заказчик маек, гравюр или эстампов еще не начинал разговор с таких слов.
– Я Джордж, – сказал он.
– Джордж, – повторила она. – Да. Джордж.
– Могу я вам чем-то помочь? – спросил он, очень сильно желая, чтобы она не уходила.
– Я хотела узнать, – сказала она, кладя на конторку свой саквояж, – не посоветуете ли вы мне, как лучше всего изготовить копии вот с этих работ…
При ближайшем рассмотрении саквояж показался ему сделанным чуть ли не из бумаги, но в то же время и самой дорогой разновидностью багажа, какую Джордж только встречал в своей жизни. Открыв его, она достала стопку черных табличек – крупных, приблизительно формата А5, похожих на те, что использовал для работы сам Джордж. И, выбрав пять из них, разложила перед ним одну за другой.
Это были картинки, созданные ею самой, если судить по тому, как она их ему предъявляла – с тем смешанным чувством робости и гордости, с тем явным ожиданием, оценят ее или нет, какие присущи разве только чудаковатым художникам. На первый взгляд обычные изображения красивых предметов, нанесенные на таблички. Но если приглядеться внимательней…
Боже правый.
На одной картинке изображалась водяная мельница. Но вовсе не та сусальная мельница, какие частенько изображают на подобных пейзажах. Эта мельница только что не вертелась от потока воды, стекавшей по ее колесу, она существовала не в чьих-то фантазиях, но в каком-то конкретном месте этого мира – реальная, всамделишная мельница, вокруг которой еще совсем недавно могли происходить великие и ужасные трагедии, рушиться человеческие жизни и судьбы. Хотя казалось бы, просто мельница, ничего особенного.
На следующей табличке парил дракон – немного похожий на китайского, но с крыльями, точно из мифов Европы, и взглядом, полным испепеляющей злобы. Как и в случае с мельницей, картинка на грани китча, на самой грани того барахла, которое уличные торговцы всучивают туристам почти за гроши. И все же – только на грани. Этот дракон был именно тем, на кого мечтали походить все фальшивые драконы, вместе взятые, – мясистой, тяжелой, живой, дышащей тварью, даром что из мифа. Этот дракон в любую секунду запросто мог укусить. А то и сожрать.
Прочие таблички оставляли все то же странное ощущение: близко к вульгарности, но все-таки без нее. Мотылек, взлетающий над чашечкой цветка. Табун лошадей, каскадом несущихся вниз с горы. Щека и шея отвернувшейся женщины.
Все они просто обязаны были смотреться дешевкой. Пошлой и кустарной. Затрапезной, как самое унылое барахло на задворках блошиного рынка, изготовленное какой-нибудь несчастной толстухой, которой не на что больше рассчитывать, кроме как на раннюю смерть от запоя.
Но от них… От них просто захватывало дух.
И когда Джордж вдруг понял, что картинки не нарисованы, не высечены, не написаны маслом или акварелью, сердце его подпрыгнуло, а живот свело так, словно он проглотил воздушный шарик.
Эти картинки были выложены из перьев. Каждую табличку покрывали мириады каких-то немыслимых тоненьких перышек.
– Но это же… – начал Джордж, но не нашел нужных слов и просто повторил: – Это же…
– Они еще не закончены, я знаю, – сказала Кумико. – В них кое-чего не хватает. Но они мои.
Казалось, она слегка смущена тем, как пристально Джордж разглядывает ее работы. Так, словно сам он – жертва похищения, а эти дощечки – долгожданный выкуп за его освобождение. Он почувствовал, что теряет равновесие, в ушах зазвенело, и он оперся о стойку локтями, чтобы не упасть.
– О! – с улыбкой воскликнула Кумико, глядя на его левую руку.
И лишь тут он заметил, что левой рукой все еще сжимает свое собственное творение, которое только что пытался спрятать от глаз Мехмета – крайне убогое, не идущее ни в какое сравнение с тем, что сотворила она. Он снова хотел спрятать его, но она уже разглядела, что это, и в глазах ее при этом не было ни презрения, ни насмешки.
Глаза ее сияли от радости.
– Ты сделал Журавушку, – сказала она.
В тот же вечер за ужином Кумико рассказала ему, что родом она «отовсюду» и до недавнего времени работала кем-то вроде учителя. За океаном. В развивающихся странах.
– Звучит благородно, – добавила она. – Но я не хочу, чтобы это звучало так. Словно некая великая женщина посвящает себя служению бедным и несчастным, которые перед ней преклоняются. Ничего подобного. Все было совсем не так. Все было…
Она запнулась в поисках нужного слова, вглядываясь в темное дерево досок на стенах и потолке. По причине, которая осталась неясной ему самому, Джордж пригласил ее в демонстративно старомодный «английский» ресторан, где посетители в утренних смокингах могли трапезничать в любую эпоху с 1780 по 1965 год. Небольшая, уже казавшаяся винтажной вывеска над дверью утверждала, будто на дворе все еще 1997-й. Он удивился, когда Кумико приняла его приглашение, и еще сильнее – когда призналась, что вечером ей абсолютно нечем заняться, но она объяснила это тем, что пока еще не освоилась на новом месте и, по крайней мере на данный момент, ее жизнь друзьями «не изобилует».
Она так и сказала – «не изобилует».
– А преподавание мое, – добавила она, наморщив бровь, – точнее сказать, взаимодействие напоминало одновременно и «привет» и «прощай», все сразу, и так каждый день. Понимаешь, о чем я?
– Понятия не имею, – ответил Джордж.
Он никак не мог разобрать, что у нее за акцент. Французский? Франко-русский? Испано-мальтийский? Южно-африкано-непало-канадский? Плюс английский, а судя по ее имени, возможно, еще и японский, а то и все сразу, но ни один по отдельности, как если бы ни одно место, куда она приезжала, не желало с ней расставаться и внедрялось в ее голос, заставляя забрать и его с собой. Он мог представить, каково это.
Она рассмеялась, но совсем безобидно:
– Не люблю много рассказывать о себе. Достаточно того, что я жила, менялась и продолжаю меняться. Как и любой из нас.
– Никогда бы не подумал, что тебе зачем-то нужно еще меняться.
Она разложила кусочки ростбифа по краю тарелки, но есть не стала.
– Я верю, ты знаешь, о чем сейчас говоришь, Джордж.
– Кажется, я сболтнул лишнего. Извини.
– И в это я тоже верю.
Когда-то у нее были с кем-то близкие отношения, возможно даже супружеские, которые в некий момент закончились, примерно как у Джорджа с Клэр, хотя и, похоже, не столь мирно. Об этом ей тоже говорить не хотелось.
– Прошлое всегда полно как радости, так и боли. Все это очень личное и, пожалуй, не стоит обсуждения на первом свидании.
Он так обрадовался ее словам о «первом свидании», что пропустил мимо ушей сразу несколько следующих фраз.
– Ну, а ты, Джордж? – продолжала она. – Ведь ты не отсюда, верно?
– Нет, – удивился он. – Я из…
– Из Штатов. – Она откинулась на спинку кресла. – Наверное, и ты ощущаешь себя здесь не совсем дома?
Она рассказала, что аппликациями занялась в путешествиях. Краски и кисти слишком сложно и дорого перевозить с места на место, поэтому сперва она решила заняться рисунками на ткани – батиком, вышивкой или каким-нибудь еще сподручным рукоделием; но постепенно – так уж случилось – перешла на перья, особенно после того, как наткнулась на кочевой фургончик то ли в Парамарибо, то ли во Вьентьяне, то ли Кито или еще какой Шангри-Ле, в котором продавались перья всех цветов и оттенков, мыслимых и немыслимых, в том числе и такие, каких и представить невозможно у представителей фауны планеты Земля.
– Ты просто не представляешь, – сказала она, – какая это невероятная удача – наткнуться на такой фургончик! Перья очень трудно достать, и они такие дорогие. А тут висят себе на стенке у бедняка продавца. Я просто впала в транс. Купила, сколько смогла унести, а на следующий день, когда пришла снова, фургончик уже исчез.
Она отхлебнула мятного чаю – странный выбор к ростбифу. От красного вина она отказалась, и Джордж отчаянно пытался не пить слишком быстро.
– Твои картины – это… – начал было он и запнулся.
– Ну вот, опять эта фраза, которую ты никак не договоришь.
– Да нет, я просто хотел сказать, что они… – Но слов по-прежнему не находилось. – Они…
Она улыбалась – улыбкой немного робкой перед грядущей критикой своих работ, но прекрасной, такой прекрасной и такой доброй – и так глядела при этом на Джорджа, что он просто послал все к черту и рубанул:
– Они выглядят так, словно я смотрю на части своей души.
Ее глаза чуть расширились.
Но она не засмеялась над ним.
– Ты очень добр ко мне, Джордж, – сказала она. – Но ты ошибаешься. Они выглядят так, как выглядят части моей души. – Она вздохнула. – Моей пока еще не завершенной души. В них кое-чего недостает. Они почти готовы, но… кое-чего не хватает.
Она заглянула в чашку с чаем, словно то, чего ей не хватало, могло находиться там.
Она была невозможной. Невозможно прекрасной. Невозможным был сам факт, что она беседует с ним, что она вообще существует, – ибо чем еще она может быть, если не сновидением? Подошвы ее туфелек при ходьбе наверняка зависают в полудюйме от земли. А ее кожа, можно не сомневаться, такая хрупкая, что от малейшего прикосновения разлетится на тысячи осколков. А ладони, если приглядеться, такие прозрачные, что сквозь них вполне можно читать.
Он невольно подался вперед и взял ее руку в свою. Кумико не противилась, и он исследовал ее ладонь с обеих сторон. Убедился, что ничего необычного, ладонь как ладонь (кроме, конечно, того, что это ее ладонь), и, смущенный, попытался отпустить ее руку. Но теперь уже Кумико удержала его. И точно так же изучила его ладонь – грубую кожу, неопрятные волоски на тыльной стороне пальцев и ногти, обгрызенные так коротко за столько десятков лет, что теперь были похожи скорее на едва различимые надгробья над кончиками его пальцев.
– Извини, – сказал он.
Мягко отпустив его руку, она открыла свой маленький саквояж, стоявший на кресле рядом. Достала вырезанную Джорджем Журавушку, которую он по ее же просьбе еще в студии подарил ей на память. И положила фигурку к себе на ладонь.
– Интересно, способна ли я на дерзость, – сказала она.
Следующий день был сплошным бесконечным кошмаром. Забрать перепутанные футболки с котятами у Брукмана оказалось на удивление проблематично, поскольку всем гостям на его вечеринке они, как ни странно, жутко понравились.
– Что может быть прикольней десятка армейских офицеров в майках на лямочках и с дрочащим котенком на пузе?! – проревел сам Брукман в телефонную трубку.
Джордж без труда представил сразу несколько вещей поприкольнее.
– Просто на эти майки очень рассчитывали на мальчишнике у О’Райли, – ответил он. – У них ролевая игра, и на каждой майке обозначена та роль, которую…
– Да все мы поняли! И все их роли уже распределили. Лучший парень на деревне – точно наш Сисястый!
Кончилось тем, что Джордж отправился в город и на казенном принтере срочно и за бешеные деньги, причем свои собственные, напечатал еще одну партию футболок для мальчишника, моля бога лишь о том, чтобы О’Райли и его компания не свалили в свою Ригу раньше, чем планировали, просто потому, что им попались уцененные авиабилеты. Мехмет же тем временем симулировал боль в животе, надеясь улизнуть с работы пораньше, что он регулярно делал после обеда по пятницам, тогда как Джордж целый день тупил над почти невероятной новостью о том, что Кумико до сих пор не завела себе мобильника, который работал бы в этой стране, поэтому он не мог ни позвонить ей, ни послать сообщения, ни просто думать о том, чтобы ей позвонить или написать, равно как и о том, чтобы не звонить и не писать, и ближе к вечеру уже чуть не взрывался от мысли, что на повторную встречу с ней у него нет ни малейших шансов, если она не сдержит своего обещания.
И тут она, конечно, пришла.
– Простите за дерзость, – сказала она, ставя на конторку свой саквояжик.
Свою картинку с драконом она отодвинула в сторону – белые, плотно пригнанные перышки на простом черном фоне. А рядом с драконом поместила вырезанную им Журавушку.
– Чтоб я сдох! – воскликнул Мехмет, выглядывая у Джорджа из-за плеча. – Очень круто!
А Джордж не сказал ничего, ибо если б заговорил, то тут же бы и расплакался.
– Я на пикник, – сказала Аманда на следующее утро, передавая Джорджу его внука Джея-Пи, с головы до ног перемазанного странной дрянью, от которой разило бисквитом.
– Grand-père![8] – заорал Джей-Пи.
– А не холодно для пикника? – поинтересовался Джордж, целуя внука и заводя его в дом.
Аманда вошла за ним, но садиться не стала.
Он заметил, как дочь обвела угрюмым взглядом кучи бумаг, одежды и книг, которые делали из его гостиной, мягко скажем, не самое уютное на свете место для детей. Ну и ладно. Джей-Пи обожал деда, а Джордж обожал Джей-Пи. Попади они вместе хоть в тюремную камеру – все равно отлично провели бы время.
– Только не для Рэйчел и Мэй, – ответила Аманда.
– Рэйчел? – уточнил Джордж.
– Ты должен помнить, – сказала она. – Девчонка с моей работы, приходила на мой день рождения полгода назад. И Мэй тоже. Обе красотки, и обе злючки. Рэйчел даже больше, чем Мэй.
– Ах да, – отозвался Джордж, подбрасывая хихикающего внука на руках. – Кажется, припоминаю.
– Будем сидеть на солнышке, пялиться на парней и хлестать винище.
– Звучит очень мило.
– Они меня ненавидят. А я, кажется, ненавижу их.
– А я тут встретил кое-кого, – выпалил Джордж так, словно больше не мог сдержаться. – Ее зовут Кумико.
Лицо Аманды на секунду окаменело.
– Ну-ну.
– Зашла ко мне в студию. Встречались последние пару вечеров. Сегодня опять встречаемся.
– Три вечера подряд? Вы что, тинейджеры?
– Знаю, знаю, лучше меньше, да лучше, но… – Он бросил Джея-Пи на диван и похоронил в старых, пыльных подушках, чтобы тот выбирался как может, – игра, которую Джей-Пи так любил.
– Но? – переспросила Аманда.
– Да так, – пожал плечами Джордж. – Ничего. Просто рассказываю, что встретил очень милую женщину.
– Ну-ну, – осторожно повторила Аманда. – Я заберу его к четырем.
– Хорошо, потому что…
– Потому что у тебя свиданка, все ясно.
На что Джордж даже глазом не моргнул – в нем было слишком много солнца, чтобы смущаться.
– Да, погоди! – вспомнил он. – Я покажу тебе Дракона и Журавушку…
Той ночью он поцеловал Кумико. Секунду-другую он целовал ее, а потом ее губы ответили тем же.
Его сердце пело.
– Никак не пойму, – сказал он ей позже, когда оба лежали в постели, которую он не удосужился поменять, поскольку даже представить не мог, что все это может случиться. – Кто же ты такая?
– Кумико, – ответила она. – А ты кто?
– Скажу тебе честно, – признался он. – Понятия не имею.
– Тогда я тебе расскажу. – Она повернулась к нему и взяла его руки в свои, будто благословляя. – Ты очень добрый, Джордж. Такие, как ты, сумеют простить.
– Что простить? – не понял он.
Но вместо ответа она поцеловала его – и сам вопрос затерялся где-то далеко, далеко, далеко.
* * *
1 из 32
Она рождена дыханием облака.
Она не видит ни своей матери, ни отца: мать умерла при родах и ее просто нет; отец же – сам облако, молчаливое, плачущее, охваченное горем, и потому она стоит одиноко, не чуя под собою ног.
– Откуда я? – спрашивает она.
Нет ответа.
– Куда мне идти?
Нет ответа, даже от отца-облака, хотя он и знает.
– Могу я хотя бы узнать, как меня зовут?
Секунду спустя облако шепчет ей на ухо. Она кивает и понимает.
2 из 32
Она взлетает.
3 из 32
Мир под нею так юн, слишком юн, чтобы мог вырасти с нею вместе. Он существует в виде островков дрейфующей земли: одни из них соединены между собой веревочными мостиками или бамбуковыми переходами, другие затерялись в бескрайних просторах, и добраться к ним можно лишь на гребных лодках, изготовленных из бумаги, к третьим она может долететь сама.
Она приземляется на остров, состоящий почти целиком из луга, и трава склоняется к ее ногам под легким ветерком. Она срывает травинку, сжимает в кончиках пальцев и говорит:
– Да. Вот так.
На лугу есть озеро. Она идет к нему, следует за песчаными изгибами его берегов, пока не доходит до реки, что из него вытекает. Она встает на цыпочки и видит, как река опрокидывается с края острова и улетает в пропасть со всей яростью сердитой воды.
«Зачем вода делает так?» – думает она.
4 из 32
На дальнем берегу она встречает рыбака. И спрашивает его:
– Зачем река это делает? Разве так она не изольет все свои воды и не оставит после себя одну лишь пустую землю?
– Это озеро наполняется слезами детей, которые потеряли родителей, госпожа, – отвечает рыбак. – Как ты сама и видишь.
– Ах, – говорит она и видит, как слезы падают в воду из ее золотистых глаз и круги разбегаются по озерной глади.
– Это делает рыбу нежной, – добавляет рыбак, вытаскивая из воды рыбу с блестящей золотой чешуей. – Хотя и слишком горькой на вкус.
– Я хочу есть, – говорит она. – Я до сих пор еще ни разу ничего не ела.
– Пройди к костру, госпожа, – приглашает рыбак. – Я утолю твое горе. – Он бросает рыбу с золотой чешуей в корзину, и та бесцельно хватает жабрами воздух. – А потом, возможно, – добавляет он почти робко, но только почти, – ты приляжешь со мной и покажешь, как ты мне благодарна.
Он улыбается. И улыбка его зла и полна надежды.
5 из 32
Она склоняет голову в ответ и летит к нему, пальцами рук рассекая озерную гладь и оставляя на водной поверхности за собою две долгие водяные стрелы. Приземлившись рядом с рыбаком, она запускает пальцы в его волосы и нежно целует в губы.
Какое небывалое ощущение. Влажней, чем она ожидала.
– Ты хочешь поймать меня в ловушку, – говорит она ему. – Твои мысли ясны мне как день. Ты возьмешь копье, что лежит рядом с рыбной корзиной, и, если я не соглашусь с тобой лечь, ты воспользуешься им, чтобы взять меня силой. Наверное, ты неплохой человек, просто один из тех, кого испортило одиночество. Точно сказать не могу. Но я знаю наверняка, что тебе не нужно мое тело. Тебе нужно мое прощение.
Гримаса печали искажает лицо рыбака, и по лицу его бегут слезы.
– Да, госпожа. Прости меня, госпожа.
– Я верю тебе, – говорит она. – И прощаю тебя.
6 из 32
Очень быстро и милосердно она выгрызает рыбаку оба глаза и двумя острыми пальцами пронзает его сердце. Он сползает на илистый берег.
– Ты убила меня, госпожа, – говорит он, указывая на свое тело, что корчится в грязи между ними. – Ты освободила меня.
– Делаю это с радостью, – отвечает она.
– Спасибо тебе, госпожа, – говорит рыбак. – Спасибо тебе.
Вихрь закручивается вокруг них и уносит прочь его призрак, который благодарит ее до тех пор, пока способен благодарить.
7 из 32
Она кормится рыбами из его корзины. Те и правда горчат, хотя горечь эта не так уж и неприятна. Утолив голод, она берет оставшихся рыб и отпускает обратно в воду, подержав их в ладонях, пока не оживут. Закончив с рыбами, она скатывает в озеро и тело рыбака, а потом прощается с ним, когда злая вода выплескивает его в пропасть между островами.
Она смотрит на свои руки, вертит их перед собой так и эдак, словно удивляясь, что же такое она ими сделала. Она моет их в реке, вытирает о подол платья.
А затем взлетает снова.
Часть II
– Я хочу, чтоб она переехала жить ко мне.
– Ну а а, а я хотела спросить, не мог бы ты снова забрать Джея-Пи в субботу? Мне придется вести статистику очередей в Ромфорде, можешь себе представить? В субботу! Там какой-то спортивный праздник, я уж не знаю…
– Ты слышала, что я сказал?
– Ага. Хочешь вызвать уборщицу. Бла-бла-бла… Я должна буду завезти его к тебе преступно рано, где-то до шести, но он запросто спит до восьми, так что ты просто…
– Ты слышала, зачем я вызываю уборщицу?
– Зачем? Откуда мне знать. Чтоб она убралась у тебя в доме, я полагаю? Что за вопрос…
– Я хочу, чтобы Кумико переехала ко мне.
– …
– …
– Переехала к тебе?
– Ну да. Я так хочу.
– ПЕРЕЕХАЛА К ТЕБЕ?!
– Я понимаю, что все немного внезапно.
– НЕМНОГО ВНЕЗАПНО? Ты знаком с ней каких-то две недели! Подумать только! Вы кто – мухи-однодневки?!
– Аманда…
– Папа, ты бредишь. Ты же едва ее знаешь!
– В том-то и дело. А хочу узнать лучше. Просто сгораю от нетерпения.
– И ты решил узнать ее таким способом? Послушай, ты втюрился, и я за тебя очень рада, но я и волнуюсь за тебя, Джордж. Ты ломишься с места в карьер. Ты втюрился, и твое чувство очень сильно, только она не станет любить тебя так же сильно в ответ, и уверяю тебя, если ты попросишь ее переехать к тебе, она, скорее всего, сбежит от тебя на край света. И правильно сделает! Любая женщина поступила бы точно так же.
– Она не любая.
– Может, и так, но если она не какая-нибудь марсианка…
– Почему бы и нет?
– …тогда она точно решит, что ты сумасшедший.
– Ты не стала бы так говорить, если б ее увидела. Это решение кажется самым простым и естественным…
– Вот видишь, как для тебя все быстро и просто! А я ведь ее даже еще не видела!
– Почему бы тебе не заехать к нам на ужин в субботу?
– Потому что я буду в Ромфорде, и мне нужно завезти к тебе Джея-Пи…
– Ну, оставайтесь потом, когда приедешь его забрать.
– Не могу. В субботу вечером ему должен звонить Генри, а я…
– Я просто хотел тебя с ней…
– Да зачем это мне? Почему я вообще должна запоминать ее имя? Через каких-нибудь пару дней она сбежит, стоит тебе попросить ее переехать сюда. Ведь вы знакомы всего две недели.
– Знаешь, Аманда, порой я никак не пойму, с чего ты взяла, что можешь разговаривать со мной в таком тоне.
– Я…
– …
– …
– Аманда?
– …
– О, милая, только не плачь, я вовсе не хотел тебя оби…
– О нет, я знаю, что не хотел, потому и плачу. Ты даже выволочки мне делаешь так по-доброму, и ты прав, а я не знаю, что со мной творится, я просто какое-то злобное дерьмо…
– Ты вовсе не злобное…
– Еще какое злобное! Вот и опять! Откуда ты знаешь, что я не разревелась специально, чтобы ты принялся убеждать меня, что я не злобная?
– А ты какая?
– Не знаю!!!
– Милая, что происходит?
– …
– Вздохи такой длины обычно указывают на то, что…
– Кажется, я разосралась с девчонками.
– Боже, Аманда…
– Я знаю, не нужно ничего говорить.
– С какими девчонками?
– Чего?
– С какими девчонками?
– Да все с теми же. Мэй и Рэйчел.
– Рэйчел… Это та, что разговаривает одними вопросами?
– А Мэй – та, у которой сиськи натуральные, но похожи на силикон. Вот видишь? Стоит мне только о них подумать, как я тут же стебусь над ними…
– Так что случилось-то?
– Все как всегда. Я просто открыла свою огромную, грязную, драную пасть.
– О, нет. Только не это…
– Не лучшее время стыдить меня за мой язык, пап.
– Извини.
– Я просто н-не понимаю! Как людям это удается? Как у них получается так запросто болтать друг с другом? Как они умудряются, я не знаю, попадать в струю, расслабляться и так легко отпускать направо-налево всякие шпильки да остроумные шуточки, а я просто сижу перед ними и думаю: Так, и о чем же мы все говорим? И что я должна сказать? А что не должна? И если все-таки должна или все-таки не должна, то – как? И вот, когда я наконец открываю рот, все, оказывается, уже убежали на три темы вперед!
– А почему бы тебе самой не задавать тему?
– От этого все только становится еще хуже. Ну то есть вся эта катастрофа и началась с моей фразы о том, как я ненавижу это убожество на Мейфэр…
– Какое убожество?
– Мемориал «Животные на войне».
– А чем он тебе не угодил?
– …
– О, милая, я не знаю, почему ты плачешь, но прошу тебя…
– Потому что я не могу взять в толк, как люди друг с другом общаются, пап. Я пытаюсь, но выходит совсем фигово – то разобью чей-то любимый фарфор, то плюну кому-нибудь в суп, то похериваю все эти сраные правила, о которых мне даже никто никогда не рассказывал!
– Ох уж эти англичане. Они просто обожают правила, которых никто не знает.
– Да, но я-то англичанка. Я-то и есть они.
– Я всего лишь хочу сказать, что вряд ли ты единственная среди них, кто чувствует себя изгоем.
– Но ведь так оно и есть. Я действительно изгой. Думала, вырасту – что-то изменится, но…
– Умные люди часто чувствуют себя изгоями, родная.
– Я не настолько умная. Хотя умнее Рэйчел. И даже, наверно, умнее Мэй, хотя у этой хитрюги хватает секретов. Так что не знаю, возможно. Только что за радость быть умным, если ты произносишь слова, а никто не понимает, что они означают?
– Прости, дорогая. Но, может, они просто не те, с кем стоит пытаться дружить?
– А с кем тогда стоит? Мне уже почти двадцать шесть, а я даже не могу никого назвать своей лучшей подругой! Да ты знаешь, в какие фрики записывают таких дур, как я? Да все девки только и циклятся на лучших подругах, даже если друг дружку ненавидят!
– Ну, у парней тоже бывают лучшие друзья.
– Ты просто не ловишь, о чем я. За моей спиной четверть века фальстартов и подглядываний в чужие окна – и полные непонятки, как же пробраться на этот сраный праздник жизни. И главное, как там остаться.
– Бывает и хуже. Скажем, все лет пятьдесят.
– Ты никогда не страдал от неумения ладить с людьми, Джордж.
– Зато я страдал от неумения удержать их рядом с собой. Та же проблема, вид сбоку.
– Мама с тобой осталась.
– Ненадолго.
– Надолго. Она до сих пор твой друг.
– Друг – это все-таки не жена, Аманда.
– Да уж, знаю. Все знаю. Просто я… замоталась совсем на работе. И дома. Генри звонит Джею-Пи и говорит со мной очень вежливо. Дружелюбно, вежливо… и, мать твою, любезно. И вырывает по три куска у меня из сердца всякий раз, когда…
– Ладно, я перестаю умолять тебя не реветь. Возможно, эти слезы тебя исцеляют.
– Только не эти. Это слезы злости. Только не вздумай ржать.
– Ну что ж, милая, если тебе поможет, я твой друг навсегда.
– Ох, пап. Ты же знаешь, что это не считается.
* * *
Смотреть, как она корпит над своими табличками, ему не дозволялось.
– Прости, Джордж, но я не могу, – говорила она, так и вспыхивая при этом от смущения (а как он мог не трогать ее, когда она смущалась, как мог не пробегать пальцами по ее скуле, подбородку и ниже, как мог не целовать ее, извиняясь за каждый проделанный шаг?). – Слишком много личного, извини.
– Даже для меня?
– Особенно для тебя. Ведь ты видишь меня очень ясно, ты смотришь со всей своей любовью.
– Кумико…
– Я знаю. Ты не сказал ни слова, но я поняла.
Он немного напрягся, но ее светло-карие глаза лучились добротой и теплом.
– Твое внимание – это именно то, чего бы я хотела больше всего, – продолжала она. – Но моя работа, увы, от этого будет искажена. Сначала видеть ее могут только мои глаза. А если смотришь и ты, значит, я ею делюсь, а если я ею уже поделилась, то не смогу разделить ее ни с тобой, ни с кем-либо еще, понимаешь?
– Нет, – ответил он. – То есть, конечно, понимаю, но я хотел сказать не о том.
– О чем же ты хотел сказать?
– О том, что я действительно смотрю на тебя с любовью.
– Я знаю, – сказала она, но с такой интонацией, что это «я знаю» могло бы означать любую разновидность любви по его усмотрению.
– Ты переедешь жить ко мне?
И как и всякий раз, когда он спрашивал ее об этом, она лишь рассмеялась.
Искусство ее само по себе было прекрасным, но он не переставал настаивать на том, что все же оно статично. Аппликации из перьев были собраны так, чтобы представить глазу не только объекты (мельницу, дракона, женский профиль), но также и отсутствие этих объектов – так, отбрасываемые ими тени, благодаря черным перьям в сочетании с темно-пурпурными, порождали феерический эффект пустоты. Или же иногда на них просто была пустота – с единственной полоской рассвета, подчеркивавшей отсутствие чего бы то ни было. Взгляд постоянно обманывался ими, натыкаясь на силуэт там, где ожидалась бездна, и проваливаясь в бездну там, где ощущался намек на силуэт. Они завораживали и томили, издеваясь над зрителем и оставляя его в дураках.
– Но они не дышат, Джордж.
– Дышат. Уверяю тебя.
– Ты слишком добр. Нет, не дышат.
Мало того, при тщательном изучении на них можно было обнаружить не только перья. Иногда она вплетала в них ниточку или одинокую перламутровую пуговицу, чтобы изобразить горизонт или солнце. А в одну картинку она даже вставила плоскую пластмассовую завитушку, которая резко контрастировала с мягкостью пуха, но смотрелась и подходяще и непреходяще.
Они были хороши. Очень хороши.
Но она говорила:
– В них не хватает жизни.
– Они идеальны.
– Они идеально пусты.
– Они не похожи ни на что, виденное мною в жизни.
– Значит, ты еще не видел в этой жизни настоящей пустоты.
Они часто спорили так, пока она не напоминала ему об их первом дне, о ее «навязчивости», как она сама это назвала. Ее дракон на той самой плитке так и остался нетронутым – дракон, в котором, по ее словам, жизнь отсутствовала напрочь, с чем Джордж наотрез отказывался соглашаться.
Ему отчетливо виделось самое настоящее злорадство в зеленом глазе чудовища, изготовленном то ли из кусочка стекла, то ли из какого-то минерала.
Однако теперь дракон угрожал вырезанной Джорджем Журавушке. Этот самый дракон, выложенный из перьев, уже атаковал птицу, вырезанную из книжных страниц. Взаимодействие медиумов, которое не должно сработать. Комбинация стилей, которые не сочетаются между собой. Или даже, как Джордж не побоялся признать, противостояние антагонистов (ее изящное искусство против его хромоты и медлительности), между которыми не могло ничего произойти…
И все-таки – ого. Ничего себе. Ну и дела.
– Просто с ума сойти, – сказал тогда Мехмет.
И правда, с ума сойти, подумал Джордж.
У дракона теперь появилась цель. А у птицы – контекст. В драконе теперь проснулось любопытство, прорезался характер. Птица же ощутила угрозу, и от ее безмятежности не осталось и следа. Между ними возникло напряжение. Соединенные вместе, они стали больше чем двумя незавершенными половинками целого, они стали чем-то законченным третьим – мощной мистической сущностью, намного большей, нежели маленький черный прямоугольник, заключавший их в себе, точно в клетке. Рамка таблички превратилась в кинокадр, предложение стало историей.
Дракон и Журавушка приглашали войти к ним, примерить на себя их роли, стать кем-либо из них или сразу обоими, но в то же время давали ясно понять, что любой доброволец будет действовать исключительно на свой страх и риск.
И Кумико отдала ему это.
– В знак благодарности, – сказала она. – Если желаешь.
– Нет, – сказал Джордж. – Это слишком много. Просто чересчур.
– Тогда я возьму, – сказал Мехмет.
– Она закончена, – добавила Кумико. – Ты завершил ее. Она теперь твоя так же, как и моя.
– Я… – начал Джордж. – Я…
– Я возьму, – повторил Мехмет.
И тогда Кумико спросила:
– И часто ты вырезаешь из книг?
С этого-то все и началось.
Она не просила его вырезать что-нибудь конкретное, предоставляя свободу его воображению. Но Джордж с огромной охотой начал посвящать этому занятию чуть ли не каждую свободную минуту – совершал налеты на букинистические лавки с корзинами подержанных покетов, покупал даже новые книги, если не находил то, что нужно, и посылал Мехмета к выходу из студии, чтобы тот терзал любого вошедшего посетителя, отвлекая внимание от актов его книгорезательного вандализма («Но вы же заказывали красный цвет, вот ваша анкета!»).
Он старался не думать, старался ослабить узы своей концентрации – и позволить лезвию работать самому по себе, очень смутно представляя, что за пазл должен собраться в итоге.
– И что это? – поинтересовался Мехмет, когда он закончил первую фигурку, которой остался доволен только наполовину.
– А ты как думаешь? – отозвался Джордж, сам озадаченный этим вопросом.
– Вроде гиена какая-то.
– А мне кажется, это лев.
– О да. Одна из тех стилизованных говёшек, какие шлепают на английские спортивные майки.
– Говёшек?
– Все старое когда-нибудь снова входит в моду, капитан.
– Назовешь меня еще раз капитаном – уволю.
Мехмет, нахмурившись, уставился на гиенообразного льва:
– А может, это какая-нибудь охмурительная завлекаловка с пленительного Востока, которым тебя так одурманила эта женщина? Тогда это просто потрясающе оскорбительно.
– Ты у нас тоже с Востока, Мехмет, но ведь тебя я не нахожу ни пленительным, ни тем более охмурительным.
– Ах! – воскликнула Кумико, увидев фигурку. – Лев. Да.
И тут же забрала ее с собой.
Он по-прежнему не знал о ней почти ничего. Что она делает в свободное время? Чем зарабатывает на жизнь? Есть ли у нее семья?
– Я просто живу, Джордж, – отвечала она будто бы через силу, чуть заметно морща бровь. – Чем заняты все люди на свете? Выживают как могут, причем каждый идет по жизни со своей неповторимой историей.
Ну, положим, своими неповторимыми историями больше заняты персонажи толстых романов, подумал он, хотя вслух не сказал. А остальным из нас только и нужно, что денег на хлеб да пиво.
Как-то она намекнула, что живет на сбережения, но сколько может скопить работник международной благотворительной организации, чем бы он там ни занимался? Разве что у нее могли сохраниться какие-то деньги из прошлой жизни, семейный капитал или…
– Я беспокою тебя, – сказала она однажды в постели, в его постели и в его доме.
К себе домой она еще ни разу его не приглашала. «Там слишком тесно, – хмурилась она. – Так тесно, что никто никогда бы не поверил».
Это случилось примерно на третьей неделе их знакомства. То было странное время. Они проводили вместе часы напролет, но в его памяти всякий раз оставались лишь случайные обрывки событий: ее губы, размыкающиеся, чтобы съесть дольку баклажана; ее смех над жадным до их булки гусем, который разочарованно ковылял за ними по всему парку; смущенный вид, с которым она взяла его за руку, когда ему не понравилось, что очередь в кино, куда они решили сходить, состояла сплошь из подростков (при этом из фильма он не запомнил ни кадра).
Она была сном, который помнишь только наполовину. Хотя и не только. Ведь вот она – лежит рядом в его постели, отзывается на его ласки, гладит его пальцем от затылка до подбородка и говорит:
– Я беспокою тебя.
– Я так мало о тебе знаю, – говорит он.
– Ты знаешь все самое важное.
– Ты говоришь так, но…
– Но что, например?
– Например, твое имя.
– Ты знаешь мое имя, Джордж! – отзывается она, явно развлекаясь.
– Да, но ведь Кумико – японское имя?
– Думаю, да.
– А сама ты – японка?
Она смотрит на него с дразнящей улыбкой:
– Если судить по имени, похоже на то.
– Может, это для тебя обидный вопрос? Я совсем не хотел тебя…
– Джордж… – Она приподнялась на локте над подушками и посмотрела на него сверху вниз, продолжая водить пальцем по седеющим волосам на его груди. – Моя прежняя жизнь была очень нелегкой, – сказала она, и казалось, сама ночь остановила свой ход, чтобы ее послушать. – Очень нелегкой, Джордж. Конечно, были и счастливые дни, и я старалась прожить их до последней минутки, но большинство тех дней были очень тяжелыми. И я не хочу возвращаться в них снова. – На секунду умолкнув, она поиграла пальцем с его пупком, и в ее голосе зазвучали такие же игривые нотки. – Разумеется, тебе еще много чего предстоит узнать обо мне! – Она посмотрела на него в упор, и он готов был поклясться, что ее глаза непонятным образом отражают золотистый лунный свет, хотя луна и светила у нее за спиной. – Но у нас есть время, Джордж. Столько времени, сколько сможем украсть. Разве нельзя подождать? Разве я не могу раскрываться перед тобой постепенно?
– Кумико…
– С тобой я чувствую себя в безопасности, Джордж. Ты – моя безопасность, мягкость и доброта. И моя передышка в пути.
И без того встревоженный тем, куда зашел разговор, Джордж вдруг пришел в еще большее смятение.
– Мягкость? – переспросил он.
– Мягкость – это сила, – сказала она. – И гораздо большая, чем ты думаешь.
– Нет, – возразил он. – Ничего подобного. Люди говорят так, потому что это звучит мило, но на самом деле это не так.
– Джордж…
Он вздохнул. Ему захотелось обнять ее своими слишком грубыми руками, ласкать и гладить тонкую кожу ее спины, бедер, даже ладоней и пяток. Хотелось укрыть ее в своих объятиях, точно за стенами грота, стать для нее «передышкой в пути» – тем, чем она окрестила его, как бы он тому ни противился.
– Моя бывшая жена, – сказал он, жалея, что говорит об этом в постели, но продолжая говорить через силу, – всегда повторяла, что я слишком милый и дружелюбный. Слишком мягкий. Нет, она не имела в виду ничего плохого, все в порядке. На самом деле мы до сих пор друзья. – Он выдержал паузу. – И все-таки она ушла от меня. Как ушли потом все остальные. Хотя ни одна из женщин, с которыми я встречался, никогда со мной не ругалась. – Он погладил Кумико по плечу. – Люди любят, когда с ними милы их друзья, но эта любовь – совсем иного порядка.
– Милость, Джордж, – сказала она, – это все, чего я желаю от этого мира…
И как будто еще два слова – «прямо сейчас» – были добавлены к концу ее фразы, но он так и не понял, произнесла их она или это сочинило его пугливое сердце.
Он решил оформить «Дракона и Журавушку» и изрядно поломал голову как. Обычная фоторамка тут не годилась – объемность самой работы не позволяла даже слегка придавить ее стеклом. Кроме того, большинство рамок, из которых ему пришлось выбирать, предназначались для фотографий крепкозубых детишек и их золотистых ретриверов и совсем не подходили для столь многозначной и живой работы, как эта.
Перепробовав и забраковав несколько вариантов – без стекла, с фиксацией на матовой или блестящей поверхности, без накладной рамки, чтобы можно было разглядывать работу и сверху, – в итоге он вставил картину в узкий стеклянный кейс, обеспечив вокруг нее воздушный зазор, примерно как в диораме. Ребра кейса были окантованы золотыми полосками, из-за чего казалось, будто картинка находится внутри него сотни лет и может рассыпаться в пыль, если попытаться ее извлечь. Она стала напоминать реликвию, артефакт, случайно заброшенный в этот мир из альтернативного пространства-времени.
Куда же теперь ее поместить?
Сперва он повесил ее у себя дома, но почему-то это казалось ему ошибкой. На стене над каминной полкой картина была не на месте и выглядела как иностранный гость, который вежливо улыбается и гадает, когда же наконец закончится этот проклятый ужин. Остальные стены в комнате были заставлены стеллажами, на которых книги стояли так плотно, что казалось, картина просто задохнется от недостатка воздуха, и тогда он решил поместить ее над кроватью в спальне. Один пугающе бессвязный эротический сон, настигший его после этого (оползни, зеленые луга и армии, прокатывающие буквально по нему), заставил вернуть картину на прежнее место.
И в конце концов она перекочевала обратно в студию, где он, по крайней мере, мог видеть ее каждый день, где она смотрелась абсолютно на своем месте (и наблюдала за ним) как одно из лучших творений данного заведения. Не говоря уже о том, что именно здесь он встретил Кумико. Возможно, поэтому сия табличка, слияние двух разных искусств, и смотрелась так органично там, где их жизни пересеклись.
Он повесил ее над своим столом, на боковой стене, на расстоянии от конторки – как он надеялся, достаточно далеко, чтобы посетители смогли ее разглядеть.
Но тут…
– Что это, черт меня побери?! Это ваше? – воскликнул человек в костюме, расплачивающийся за свежеоттиснутые файлы для документов – как он объяснил, приходится делать это самому, потому что его секретарша, видите ли, заболела. Джордж поднял взгляд от стола, за которым вырезал из книги небольшую фигурку, на его глазах принимающую форму натюрморта из фруктов (или, возможно, спаниеля).
– У меня даже не спрашивайте! – отозвался Мехмет, все еще обиженный на то, что табличка так и не досталась ему. – Не думаю, что у нас в Турции кто-нибудь назовет такое искусством.
– Тогда у вас в Турции остались одни дураки… – произнес человек в костюме так, словно был страшно ошеломлен.
И тут Джордж понял, что вопрос «это ваше?» включает оба смысла сразу. Джордж сам это сделал? И – что звучало особенно интригующе – Джорджа ли это собственность?
– Журавль – мой, – ответил Джордж. – А дракон… – Он выдержал паузу, ощутив бесценное имя Кумико на кончике языка. – Дракон не мой.
– Это поразительно, – сказал мужчина.
Сказал очень просто, без ненужного ударения или акцента, не сводя глаз с картинки.
– Спасибо.
– Сколько?
Джордж заморгал от удивления:
– Простите?
– А сколько вы предлагаете? – встрял Мехмет, скрещивая руки на груди.
– Она не продается.
– Ну, а если бы продавалась? – хором спросили Мехмет и посетитель.
– Не продается. Точка.
– У всего есть своя цена, – проговорил человек в костюме, уже слегка раздраженный тем, что ему отказывают в том, чего он хочет, а ведь именно эта несправедливость возмущает сегодняшний мир куда сильнее всех остальных.
– Это самая враждебная из фраз, которые я за сегодня услышал, – ответил Джордж.
Посетитель решил сменить тактику:
– Приношу извинения. От всей души, поверьте. Просто это выглядит настолько…
Он выдержал паузу, но Джордж решил дождаться ее окончания. Мехмет, очевидно, тоже.
– …правильно! – закончил-таки мужчина, и Джордж с изумлением увидел, что в глазах его стоят слезы. – Так вы уверены?
– Абсолютно, – вежливо ответил Джордж.
– А я бы хорошо заплатил, – настаивал собеседник. – Гораздо больше, чем вы думаете.
И назвал сумму – настолько сумасшедшую, что у Мехмета перехватило дыхание.
– Она не продается, – повторил Джордж.
Мехмет развернулся к нему:
– Ты с ума сошел?
– Вы знаете, – сказал мужчина, – на самом деле я вас понимаю. Я бы тоже не захотел с ней расставаться.
Его ладонь лениво похлопала по файлам для документов, и в этом жесте сквозило такое разочарование, такое ясное признание того, что в лице Джорджа он столкнулся с серьезнейшей из жизненных преград. Джордж, стоявший на его пути, не знал, что делать. Подбодрить посетителя? Извиниться? Или просто оценить историческую важность момента?
Но выбрать, что лучше, ему так и не удалось, потому что в студию вошла Кумико и отозвалась улыбкой на его приветствие.
– Не возражаете? – сказала она и опустила свой саквояж на конторку рядом с файлами мужчины, не обращая на него особого внимания.
Вынув из саквояжа очередную черную табличку, она тут же прикрыла ее рукой, чтобы Джордж не увидел изображения.
– Я взяла твоего льва, – сказала Кумико. – И использовала. – И в возникшей тишине резко отняла от таблички ладонь. – Та-дамм! – с тихой радостью объявила она.
Его лев теперь подкрадывался к ее мельнице. Сочетание было еще контрастнее, чем у дракона с птицей, но, вопреки всему, сработало на все сто. Правда мельницы, вся ее историчность, сохраненная в каждом отдельном перышке, теперь подвергалась угрозе. Это место для львов, словно предупреждала картина. Львов, состоящих только из букв и слов. Хотя, возможно, именно этот лев уже так давно терроризировал мельницу, что стал ее частью, одной с нею историей, и мог бы сделать одно исключение для вас, уважаемый зритель. Он все еще мог бы сожрать вас, а мог бы и не сожрать. Точно так же, как в «Драконе и Журавушке», все в этой картине – на ваш страх и риск. Не боитесь? Рискнете?
– Это… – выдавил Джордж.
– Ч-черт бы меня… – сказал Мехмет.
– Чтоб я… – сказал человек в костюме.
И назвал сумму еще более сумасшедшую, чем прежде.
– О боже! – воскликнула Кумико так, словно заметила его только теперь. И повернулась к Джорджу: – Он что, хочет у тебя это купить?
Не дожидаясь от Джорджа ответа, мужчина предложил еще больше – на этот раз уже совершенно заоблачную сумму.
Звонко хихикнув, Кумико посмотрела на Джорджа так, словно все они вдруг оказались персонажами какой-то комедии.
– Ну, и как же мы поступим? – спросила она.
Джорджу страшно, буквально до дрожи, не хотелось, чтобы лев и мельница исчезли с его глаз навсегда – тем более теперь, когда он увидел, как они живут одной жизнью на этой картине.
Человек в костюме снова удвоил цену.
– Продано! – не выдержав, крикнул Мехмет.
– Джордж? – окликнула его Кумико. – Мне пригодились бы эти деньги. На материалы.
Джордж попытался что-то сказать, но слова застряли в горле. Он попробовал снова:
– Как ты… – Он запнулся. – Как ты захочешь.
Несколько секунд Кумико смотрела на него.
– Я не настаиваю, – сказала она. И повернулась к мужчине: – Ладно! Тогда по рукам.
Пока Джордж в каком-то полубреду заворачивал «Мельницу и льва» в оберточную бумагу, человек в костюме расплакался, ничуть не стыдясь своих слез.
– Спасибо… – только и повторял он, получая от Мехмета наспех состряпанный товарный чек для оплаты товара кредиткой. – Просто спасибо…
– Сколько? – переспросила Аманда, когда снова заехала оставить с ним Джея-Пи.
– Признавайся, – объявил Джордж, подкидывая внука на руках, – ты всегда считал своего grand-père сумасшедшим из-за того, что он разрезает книжки?
– Desolè[9], – сказал Джей-Пи.
– Нет, я серьезно, пап, сколько?
– Она отдала мне половину. Я отказывался. Настаивал даже, но она сказала, что эти деньги мы заработали вместе и что без моего вклада у нее ничего бы не получилось, хотя это полная ерунда, Аманда, мой вклад составлял десятую, тысячную долю того, что было сделано ею.
– Но она все равно отдала тебе половину.
– Заявила, что, если я не возьму, это превратит искусство в ложь.
– Когда же, черт возьми, я смогу познакомиться с этой женщиной? – требовательно спросила Аманда.
Джордж не сразу понял ее и лишь через пару секунд осознал, что Кумико и Аманда действительно до сих пор незнакомы. Как-то так получалось, что эти две женщины в его жизни никогда не появлялись одновременно. Странно. Хотя, если честно, в компании с Кумико он сам забывал обо всех прочих жителях этой планеты – так, словно мог бы запросто без них обойтись. Он ощутил укол совести и сымпровизировал на ходу.
– Скоро, – соврал он. – Она предлагает устроить вечеринку с коктейлями.
– Вечеринку с коктейлями? Где?? В 1961 году?
– Кок-тейль! – сказал Джей-Пи, шумно отстреливая кого-то из пальца, как из пистолета.
– Ну, возможно, она слегка старомодна, – сказал Джордж. – Но это всего лишь идея.
– В общем, я хочу ее видеть. Женщину, которая за один день заработала твою месячную выручку.
– Я тоже немного участвовал. Я же сделал льва.
– Говори что хочешь, Джордж.
Был у Кумико и другой набор табличек – тех, что Джорджу она показывать не спешила. Их было тридцать две, рассказывала она, и все они тихонько дремали в уголке ее саквояжа – пять стопок, связанных вместе белой лентой, с проложенной между табличками бумагой, чтобы не царапались друг о друга.
– Это другой мой проект, покрупнее, – сказала она.
– Ты не обязана мне показывать, – пожал он плечами.
– Я знаю, – кивнула она с едва заметной улыбкой. – Но возможно, еще покажу.
Что она и сделала однажды субботним вечером в его типографской студии. Джордж вернул Джея-Пи Аманде после второй подряд субботы, проведенной ею за подсчетами автомобильных пробок то ли в Ромфорде, то ли в Хоршеме, то ли в еще каком захолустье с бабушкиным названием, и выдворил из студии Мехмета, который ненавидел работать в одиночку и клялся, что после обеда у него повторная проба на роль в бродвейском мюзикле «Злая», что показалось Джорджу чистым враньем, но он все равно отпустил пройдоху на все четыре стороны.
С Кумико он не виделся уже два дня. График их встреч оставался непредсказуемым. Теперь она завела себе мобильник, но на его звонки почти никогда не отвечала и чаще всего просто заглядывала к Джорджу в студию поинтересоваться, не желает ли он составить ей компанию сегодня вечером.
Он всегда отвечал «да».
В этот же день она зашла поздно, уже перед самым закрытием. Как всегда, с саквояжем в одной руке и белым плащом, неизменно переброшенным через другую, – не знаешь, какие сюрпризы еще преподнесет эта зима.
– Моя дочь очень хочет с тобой познакомиться, – сказал он, пока она открывала саквояж.
– Взаимно, – ответила Кумико. – Видимо, это станет возможно на вечеринке, о которой ты мне рассказывал?
– Да, – сказал Джордж. – А что, и в самом деле, давайте…
– Это нечто вроде истории, – прервала она его деликатно, словно не нарочно – так, будто вопрос о табличках, которых он еще не видел, был задан им секунду назад, а вовсе не пятью-шестью вечерами раньше.
Она полезла в саквояж и вместо того, чтобы показать ему свою новую работу с использованием фигурки, которую он недавно вырезал (кулак, в котором иссякла тяга к насилию, сжатый так, как люди стискивают последнее, что им дорого), извлекла на свет стопку табличек, перевязанную белой лентой.
– Нечто вроде мифа, – продолжала она, выкладывая пачку на конторку, хотя распаковывать не спешила. – Сказка, которую мне рассказывали в детстве и которая с годами переросла в нечто большее.
Но даже после этих слов она не пошевелилась, чтобы развязать ленту.
– Ты не обязана, – сказал Джордж.
– Знаю.
– Я подожду. Я же говорил тебе, что готов ждать чего угодно.
Она посмотрела на него очень серьезно:
– Ты наделяешь меня чересчур большой властью, Джордж. Это нетяжелая ноша, но рискует стать таковой, а я этого не хочу. – Она коснулась его руки. – Я знаю, что ты поступаешь так от своей большой доброты, но может наступить день, когда мы оба пожалеем о том, что ты не обращался со мною хотя бы немного небрежнее. И риск того, что такое возможно, должен оставаться всегда, Джордж. Там, где нет места для тяжести или боли, мягкость не имеет смысла.
Джордж судорожно сглотнул.
– Ну, хорошо, – сказал он. – Тогда давай посмотрю.
Приоткрыв губы, она округлила их в радостном удивлении:
– Ты уверен, Джордж? Моей первой мыслью было сказать тебе «нет». Но как здорово! Конечно, сейчас покажу.
Она развязала ленту и показала ему первую картинку.
Перья покрывали табличку почти полностью. Торчали в разные стороны, ныряли одно под другое и сплетались между собой, все – ослепительно-белые. И лишь одно перо на их фоне – также белое, но слегка иного оттенка – было обрезано, закручено и подшито в форме младенца.
– Эти работы – не для продажи, – пробормотала она, не решаясь показывать дальше.
– Да уж, – лишь проронил Джордж.
– Но что бы ты мог добавить? – спросила она. – Чего здесь не хватает?
– Всего хватает, – ответил Джордж, отслеживая каждый контур белого фона и каждый – немного иной белизны – изгиб силуэта младенца.
– Ты знаешь, что это неправда, – возразила она. – Потому я и прошу тебя над этим подумать.
Джордж исследовал картину заново, пытаясь отключить аналитический ум и поймать спонтанные образы, которые навевает его сознанию это изображение.
– Я бы добавил пустоты, – сказал он. – Пустоты из слов. Вот чего здесь не хватает… – Он поморгал, будто приходя в себя. – По-моему.
Она кивнула:
– И ты готов вырезать для меня из слов эту пустоту? И что-нибудь к другим работам – так же, как ты делал до сих пор?
– Разумеется, – сказал он. – Все что угодно.
Они вернулись к табличкам.
– Что же здесь происходит? – спросил он. – Ты сказала, это миф. Что за миф?
Она снова кивнула – так слабо, будто не собиралась отвечать.
Но все-таки заговорила, и это было началом истории.
– Она родилась от дыхания облака, – произнесла она.
И продолжила дальше.
В понедельник, проведя с нею выходные, вновь запутавшись в частностях, но, по большому счету, обретя безмятежность и познав усладу, Джордж повесил на стену в студии уже третью картину, которую они собрали вместе – и последнюю из тех, что не входили в ее «частное» собрание из тридцати двух работ.
Она использовала вырезанный им сжатый кулак – тот самый, в котором иссякла тяга к власти и мщению, который, казалось, сдался пред ликом неумолимой Судьбы – и совместила его с перьевым изображением щеки и шеи женщины, отвернувшейся от художника. Это сочетание было еще контрастнее, чем даже у «Мельницы и льва». Здесь угадывалась нотка насилия – кулак против лица, не важно, насколько он «мирный», но ощущение это быстро рассеивалось. Этот кулак теперь выглядел не кулаком, а нераскрытой пустой ладонью, уже отодвигающейся от лица той, кого приласкал в последний раз. Сама эта ласка словно предназначалась бережно хранимому образу – закрытая ладонь, которая потянулась в прошлое, чтобы ощутить его снова, но потерпела фиаско, что происходит со всяким, кто пытается уцепиться за то, чего не вернуть уже никогда.
«Это всего лишь картинка», – повторял про себя Джордж, пытаясь понять, куда ее лучше повесить. Так, чтобы лишить ее силы, ослабить ее влияние на него, избавив себя от постоянных спазмов в желудке.
Но он не успел. И слава богу.
Дверь за его спиной вдруг открылась. Сперва он решил, что это Мехмет вдруг стал беспрецедентно пунктуальным, особенно после выходных, то есть после всего, чем могла быть чревата «проба на роль в бродвейском мюзикле “Злая”».
– Рано ты сегодня! – сказал он, разворачиваясь к двери с третьей табличкой в руках.
Но это был не Мехмет. Это был мужчина, купивший их вторую табличку за сумасшедшие деньги. Причем в этот раз не один. Его сопровождала женщина – слегка пухлая, но с хищным взглядом профессионала. Короткая стрижка этой блондинки, ее серьги и строгая блузка с открытым воротом явно стоили дороже, чем холодильник Джорджа.
Но ее лицо… Его исказило отчаяние, а глаза ее покраснели так, словно она прорыдала все утро.
– Это он? – спросила она.
– Он, – ответил мужчина, оставаясь на шаг позади нее.
Женщина посмотрела на табличку в пальцах у Джорджа.
– Есть еще! – выдохнула она с каким-то странным облегчением.
– Чем обязан? – наконец спросил Джордж.
– Эта картина, – сказала она. – Та, что у вас в руках.
– А что с ней? – уточнил Джордж, поднимая картинку чуть выше и готовясь защитить ее, если понадобится.
А затем женщина назвала сумму, определить которую иначе как «заоблачной» Джордж бы просто не смог.
* * *
Когда Аманда окончательно, навсегда, разобралась с самыми нудными подсчетами пробок в графстве Эссекс за всю историю нудных подсчетов пробок графства Эссекс, забрала сердитого полусонного Джея-Пи с очередных субботних посиделок с дедом, который выглядел как сумасшедший и все время бормотал, что собирается заняться своим книгорезанием, а потом наконец вернулась домой после похода в два разных супермаркета, чтобы найти единственный сок, который Джей-Пи соглашался пить на этой неделе (манго, маракуйя и персик), в ее дверь постучали.
Она проигнорировала это, как всегда. Кто в наши дни стучится в дверь парадного хода? По большей части коммивояжеры, рекламирующие преимущества стеклопакетов, или фашистки с розочками на летних шляпках, желающие баллотироваться на предстоящих выборах, или же, как уже было однажды, мужик, вопрошающий на таком непролазном кокни, что никакая англичанка не смогла бы понять его до конца, не желает ли она купить свежей рыбы прямо у него из багажника. («Какой болван это купит?» – сказала ему она.) В любом случае, это не мог быть ни управдом – по крайней мере, не сегодня, когда идет футбольный матч, – ни почтальон, для которого уже слишком поздно, так что, когда постучали во второй раз, она проигнорировала это снова.
– Как думаешь, что случилось со свидетелями Иеговы? – спросила она Джея-Пи, пялившегося через очки «три дэ» в телевизор, который и понятия не имел о каком-то там «три дэ». – Что-то их не видать в последнее время. Как будто они исчезли, превратились в какой-нибудь миф… – Она сгребла еще одну кучку игрушек, чтобы убрать на место. – Хотя, уж конечно, не в такой миф, где сплошные сиськи с вакханалиями и девственницы трахаются с лебедями. – Она повернулась к сыну, который не отвечал ей, поскольку был всего лишь четырехлетним мальчуганом, сидевшим перед телевизором. – Как считаешь, каким должен быть миф свидетелей Иеговы, а, пончик? Подозреваю, там должно быть много маяков…
– Тихо, мама, – потребовал Джей-Пи. – «Вихляшки Завро»!
Что означало: катастрофически скоро скачается очередной видеоклип «Вихляшек Завро», в котором костюмированные динозаврики будут танцевать на завропляже под заврорадугой и выпрыгивать из своих завропрограмм на наши завромониторы. В своих танцах они и правда больше вихлялись, чем танцевали, но Джей-Пи был их преданным фанатом.
Снова постучали и что-то крикнули. Она выдержала паузу, с героем из мультика в одной руке и пожарной машиной – в другой. Открывать или не стоит? Но ведь и чертов торговец рыбой уже что-то. («Свежая рыба!», насколько она поняла, но какая разница?) Она выждала еще немного, но кто бы там ни был, в четвертый раз он не постучал. Затолкав игрушки в ящик, она вздохнула и решила, что в комнате достаточно прибрано, а потому можно приступать к осуществлению своих мечтаний: поскорей уложить своего красавчика сына в постель после еженедельного разговора по телефону с Генри и погрузиться в обычную субботнюю телемотину, прихлебывая чаек и перекидываясь саркастическими фразочками по твиттеру со своими шестнадцатью фолловерами.
– Вихляшки! – заорал Джей-Пи и вскочил на ноги, явно готовясь пуститься в пляс.
У Аманды затрезвонил мобильник. Она метнулась в кухню, чтобы вытереть липкие руки, прежде чем достать его из кармана.
К ее легкому удивлению, на экранчике значилось: «Генри».
– Что-то ты рано, – сказала она в трубку. – Он еще не…
– Ты дома! – произнес Генри своим обычным тоном – одновременно и колючим, и теплым. – Я слышу, как бубнит телевизор. А почему не открываешь дверь?
– Все так неожиданно, – пожал он плечами за чашкой с чаем. – Завтра вечером обратно на «Евростар»[10], а приехали мы с Клодин только из-за того, что ее мать застряла в отеле.
Аманда не донесла свою чашку до рта:
– Застряла?
Генри отмахнулся, точно галльский тиран, распускающий свой сенат:
– Для большинства люлей это удивительно. Но для матери Клодин…
Он снова пожал плечами, словно взваливая на них ношу, которой не избежать.
Джей-Пи при виде отца чуть из кожи вон не выпрыгнул: «Papa! Papa! Je suis tortillant! Tortiller avec moi!»[11]. И Генри охотно завихлялся вместе с ним, как заправский завропапа. Уложить после этого Джея-Пи в постель казалось почти невозможно, однако Генри вызвался сделать все сам – искупал сына в ванной и почитал ему на ночь сказку – «Le Petit Prince»[12], разумеется, – пока тот окончательно не вырубился. Аманда даже постаралась не раздражаться на самодовольный вид Генри, когда он справился с задачами, которые ей приходилось решать каждый день самой – без расчета на какую бы то ни было аудиторию.
– Так где же сейчас Клодин? – спросила она.
– Едет обратно во Францию, – ответил Генри, и Аманда подумала, что нет на свете ничего более французского, чем слово France, произнесенное французом. – Я отдал свой билет ее матери. Новый смогу купить только завтра.
– Чтобы спасти ее мать, понадобились вы оба?
Генри закатил глаза, словно моля богов о пощаде:
– Считай, тебе страшно повезло, что ты никогда ее не встречала. Твоя мать совсем другая – такая английская, такая милая… Я очень люблю Клодин, – сказал он, глядя в сторону, и потому не увидел, как Аманда вздрогнула. – Она напоминает мне гобой, на котором играют Баха, но ее maman… – Он отхлебнул из чашки еще глоток. – Извини за вторжение. – В его тоне не слышалось ни цинизма, ни скрытого намека. Он действительно был благодарен. – Я действительно благодарен, – добавил он.
– Всегда пожалуйста, – тихо ответила она.
Между ними повисла небольшая осторожная пауза.
– Могу я спросить, как ты?
– Можешь.
Он улыбнулся ей – так, что ее желудок упал куда-то в пятки. Она любила его, любила, любила – и ненавидела этого французского сукина сына в основном лишь за то, что любила его так сильно, но господи, как же она любила его, этого очаровательного ублюдка.
– Ну, и как ты? – спросил он снова.
Она открыла рот, чтобы ответить «у меня все прекрасно», но вместо этого из нее вдруг вывалилось:
– В последнее время реву, не переставая.
И, как ни удивительно, это было правдой. Она никогда не считала себя плаксой, но в последнее время… Да, разве что в последнее время. Ревела в беседах с отцом, ревела от малейших сантиментов по телику, ревела перед дверью лифта, когда тот закрывался прямо у нее перед носом. Все, что Аманду бесило, странным образом заставляло ее реветь еще больше.
– У тебя депрессия? – уточнил Генри не без нотки участия.
– Только если это слово означает перманентную злобу.
– Я думаю, тебе подошло бы название «амандеска».
Он задрал одну бровь – так, что, наверно, только француз обратил бы на это внимание, но по-прежнему дружелюбно. Этот спад напряжения в их отношениях явно был чем-то новым. Генри приезжал достаточно часто, чтобы Джей-Пи не забывал, как выглядит папа, но в первые пару лет после развода их общение больше напоминало обмен ядерными секретами между агентами двух враждующих государств, причем с ее стороны враждебности проявлялось, что и говорить, куда больше. Со временем, впрочем, постоянно злиться на него стало чересчур утомительно. Напряженная манера речи сменилась отрывисто-лаконичной, затем вежливой, а там и почти дружелюбной, что, кстати, оказалось труднее всего, ведь если она может оставаться с ним такой спокойной, значит, между ними больше ничего не искрит, не так ли? А ведь вся эта ярость, по крайней мере, говорила о страсти. От этой мысли Аманда нахмурилась, но Генри понял это по-своему.
– Прости меня, – сказал он, возвращая чашку на стол. – Я не хочу давать тебе повода кричать на меня.
– По-твоему, это все, что я делала? Кричала на тебя?
– Крика было много.
– Много. За что?
Он ухмыльнулся:
– И вот мы снова почти там же. Но прошу тебя, я здесь не затем, чтоб ругаться. Я приехал повидаться с сыном – и буду счастлив, если смогу это сделать в мирной обстановке. Договорились?
Аманда ничего не ответила, просто всосала последние капли остывшего чая со дна чашки, глядя при этом на него. Вот он перед ней – раздражающе загорелый, солено-перченые волосы подстрижены до линии роста, с каждым годом все выше. Отчего он, впрочем, выглядел еще сексуальней – в своей футболке «французского» покроя и с волосами на груди, едва заметно – так по-французски – выбивавшимися из-под воротничка.
– Если ты все время ревешь, это плохо, – сказал он, чуть склонившись на диване в ее сторону. – И для тебя самой. И для Жана-Пьера, если его мать постоянно грустит.
Аманда ненадолго задумалась:
– Я бы не сказала, что плачу от грусти. Скорее уж от злости.
– На самом деле разница невелика.
Он все еще был рядом, как и его запах – медового мыла, на которое он всю жизнь западал, сигарет, которых явно накурился по дороге сюда от метро, да и просто запах Генри – тот неповторимый дух, какой есть у каждого, соблазнительный или отталкивающий.
Соблазнительный. Или отталкивающий. Или соблазнительный.
Да будь он проклят.
Она подняла руку и коснулась его щеки. Кончики пальцев слегка уколола щетина.
– Аманда, – произнес Генри.
Он не отодвинулся, когда она приблизилась, не отшатнулся, когда она, не спрашивая, вторглась в его мир, и не отвернулся, когда она коснулась его губ своими.
Но затем все-таки отстранился:
– Это плохая идея.
– Твоя Клодин в двадцати пяти милях под водой! – выдохнула Аманда, все еще прижимаясь к нему, плохо соображая, что делает, и лишь стараясь сдержать подступившие слезы. – А мы с тобой слишком хорошо знаем друг друга. Можно послать к чертям все условности, которых терпеть не можем ни ты, ни я…
Он взял ее руку и поцеловал:
– Мы не должны.
– Но ты ведь думаешь об этом?
Улыбнувшись, он указал игривым жестом на свои брюки, которые натянулись в паху настолько туго, что сомнений в его физической заинтересованности не оставалось.
– И все-таки мы не должны, – сказал он. – Нам нельзя.
Она выждала еще немного, позволяя ему сдаться (именно «сдаться», о чем она и просила его – даже не затем, чтобы проверить его на прочность, а просто потому, что сама нуждалась в этом куда сильнее – так сильно, что если бы она падала со скалы в пропасть, то желала бы ему не спасать ее, а падать с нею, и только если бы они выжили – ну, тогда, так и быть, поимели бы еще по гребаной чашечке этого гребаного кофе), а потом откинулась на спинку дивана, улыбаясь как можно непринужденнее, словно только что позволила себе маленькую шалость, ничего серьезного, взрослые ведь тоже шалят по-своему, не правда ли, и не о чем тут сожалеть.
Ей пришлось закусить губу, чтоб не разреветься. Снова.
– Я люблю тебя, Аманда, – сказал Генри, – и, как бы ты ни возражала, знаю, что это взаимно. Но теперь у меня есть Клодин, и она способна любить так, что ей это стоит куда меньше, чем тебе.
– Не принимай близко к сердцу, – сказала Аманда, злясь из-за мрачности своего голоса и зная, что, как бы она ни старалась, чтобы он звучал жизнерадостно, ей все равно не поверят. – Подумаешь, похулиганили немножко в субботу вечером. – Она шмыгнула носом, отвела от него взгляд и отхлебнула из пустой чашки. – Чего от скуки не сделаешь!
Генри пристально посмотрел на нее. Аманда знала, что он борется с собой, пытаясь, с одной стороны, выглядеть благородно – есть у него эта склонность к помпезности, – но также стараясь остаться деликатным и не заставить ее смутиться, насколько это возможно. А поскольку это невозможно, оставалось только ждать, когда он это поймет.
– Я пойду, – сказал он наконец, вставая, но не отходя от нее.
Их притяжение неожиданно оказалось очень сильным: он стоит, она сидит, и мысли обоих – о непреходящей напряженности в его штанах.
Оба вздохнули.
– Merde[13], – прошептал Генри и стянул через голову футболку.
Позже, когда все было кончено, сидя на краешке дивана – в одних лишь трусах, теперь наизнанку, и с сигаретой в руке, – он указал на дверь в детскую:
– Я скучаю по нему. Вспоминаю каждый день.
– Я знаю, – только и выдавила Аманда.
Она не плакала, когда он ушел, не злилась и не тосковала. Просто смотрела, как на вечерне-субботнем телеэкране празднично одетые люди проживают свои праздничные жизни. И лишь когда пришла пора выключить всю эту дребедень и пойти к черту спать, вот тогда она и расплакалась.
Воскресенье пришлось убить на хлопоты по хозяйству: неделю не мытая посуда (к стыду, пришлось это признать), еще дольше не стиранное белье (это признать было еще стыднее, Джей-Пи бегал в одних и тех же джинсах уже третий день), плюс небольшой перерыв, чтобы покормить уток в соседнем пруду, что Джей-Пи согласился делать только в костюме Супермена с фальшивой мускулатурой.
– Утки, утки, утки! – закричал он, швыряя целой булкой в гуся.
– Кидай каждый раз понемногу, солнышко, – сказала она, наклоняясь, чтобы показать ему как.
Он смотрел на ее руки, почти задыхаясь от ненависти к хлебу.
– Мне! – сказал он. – Мне, мне, мне!
Она дала ему кусочки хлеба, и он швырнул их в гуся – все сразу.
– Утка!
Ей повезло, она знала это – и повторяла это про себя с раздражающим упорством. Она нашла няньку неподалеку от дома, которую может себе позволить, которую Джей-Пи, похоже, любит и на которую уходят почти все деньги, которые присылает на ребенка Генри. Ее мать может забирать его от этой няньки в конце дня, если у Аманды случаются переработки, и сидеть с ним, пока она не заедет к ней по дороге домой. Да и Джордж просто счастлив побыть с внуком в те редкие дни, когда это требуется.
И только посмотрите на него. Боже мой, только посмотрите. Иногда она любит его так сильно, что съела бы заживо. Положила бы между ломтиками этого засохшего утячьего хлеба и схрумкала вместе с косточками, как ведьма из сказки. Вокруг его губ застыли пятна от сока, он не боится ничего на свете, кроме лопающихся воздушных шариков, а его французский куда лучше его же английского. Она любит его так сильно, что взорвала бы к чертовой матери эту планету, если бы кто-нибудь осмелился его обидеть…
– Ладно, – прошептала она про себя, чувствуя, как к глазам опять подступают слезы. – Все хорошо.
Наклонившись, она поцеловала его в затылок. Он немного пованивал, ибо ванна сегодня планировалась позднее, но по-прежнему оставался собой на все сто.
– Мама? – спросил он и протянул ладошки, требуя еще хлеба.
Она сглотнула проклятые слезы (да что это с ней?).
– Держи, щёчкин ты мой. – Она протянула ему очередную булку. – Хотя на самом деле это не утка.
Пораженный, он уставился на гуся:
– А кто?
– Это гусь… Точнее, гусыня.
– Как гусыня Сюзи?
– Точно. Мы же читали про нее, я забыла.
– А почему она не белая?
– На свете живет много всяких гусынь, и все они разные.
– А почему гусыня, а не гусь?
– Если дяденька, то гусь. Если тетенька – гусыня.
– А если дяденька – лось? Значит, тетенька – лосыня?
– Я думаю, эта гусыня из Канады.
– Лосыня из Канады… – пробубнил Джей-Пи. – Что такое Канада?
– Это такая большая страна. Рядом с Америкой.
– А что там делают?
– Рубят деревья, завтракают и ходят в туалет.
Эта новость сразила Джея-Пи наповал.
– А это тоже гусыня?
Она посмотрела, куда он показывал. По пруду шагала вброд большая белая птица на длинных ногах. Перья на голове у нее были красными, а шея пригибалась к воде между ног – так, словно птица на кого-то охотилась.
– Не знаю, – призналась Аманда. – Может, аист?
И тут ее осенило…
Да нет, не может быть. Ведь Джорджу это приснилось, верно? Не могло же это случиться на самом деле. Да и сам Джордж не называл птицу аистом. «Журавушка» – вот как он ее называл. Но разве в Англии водятся журавли? Вряд ли. В любом случае, такой птицы ей видеть еще не приходилось. Такой огромной – и такой…
Джей-Пи кашлянул, и птица обернулась на шум. Ярко-золотистые глаза – безумные, как у всех птиц, – на секунду пересеклись взглядом с Амандой и снова уставились на воду.
Аманде почудилось, будто ее осуждают. Впрочем, в последнее время ей это чудилось постоянно.
– А папа придет покормить с нами уток?
– Нет, малыш. Папа уехал обратно во Францию.
– К своей Клодин, – сказал Джей-Пи, гордый своими познаниями.
– Точно, – кивнула Аманда. – К своей Клодин.
Джей-Пи посмотрел на гусыню, которую кормил. Та склевала последние крошки хлеба и теперь вытягивала шею, требуя еще – одновременно и робко, и нахально. Джей-Пи стоял перед нею руки в боки, поигрывая фальшивыми мускулами Супермена.
– Гусь… – сказал он вдруг. – Я – не гусь, мама.
– Нет, сынок, ты не гусь.
– Иногда я утка, мам, – пояснил он. – Но я никогда не гусь. Вообще ни разу!
– Почему ты так уверен?
– Потому что, если бы я был гусь, я бы знал, как меня зовут. Но если я гусь и не знаю, как меня зовут, значит, я не гусь, а утка.
– Ты – Джей-Пи.
– Я – Жан-Пьер.
– И это тоже, да.
Он сунул ей в руку свою липкую ладошку. (Почему? С чего бы она стала липкой, если не держала ничего, кроме хлеба? Или маленькие мальчики сами испускают липкую слизь, как улитки?) Аманда снова уставилась то ли на аиста, то ли на журавля и не отрывала от птицы взгляда, пока та не исчезла за кроной плакучей ивы, по-прежнему выискивая, чем бы поживиться в воде.
– Разве у рыб в это время года не гибернация? – спросила она и тут же закатила глаза, осознав, как глупо это прозвучало.
Ее все чаще посещала пугающая мысль о том, что она может превратиться в одну из тех матерей-одиночек, которые разговаривают в электричках со своими детьми так громко и отчетливо, словно просят, чтобы кто-нибудь, ну хоть кто-нибудь, поговорил с ними о чем угодно, кроме чертовых «вихляшек Завро».
– Что такое гибернация? – спросил Джей-Пи.
– Долгая спячка. В нее впадают, чтобы спать всю зиму.
– О, это я умею! Я тоже ложусь спать на всю зиму. А иногда, знаешь, мам? Иногда я и сам – зима! Je suis l'biver[14].
– Oui, малыш. Mais oui[15].
Когда этот день закончился и пришла пора укладывать Джея-Пи в постель, она вымоталась так, что даже не стала готовить ему завтрак на утро. Завтра она могла бы взять выходной – как компенсацию за все эти идиотские субботы, вымотавшие ей душу в провинциальных дебрях Эссекса, – однако начальница отдела кадров Фелисити Хартфорд дала ей ясно понять, что ее выходной – как золотой стандарт: стоит всего мира, лишь когда никто не просит его тратить.
Поэтому, вместо того чтоб готовить с вечера завтрак, она позвонила Джорджу и поболтала с ним о Кумико (с которой до сих пор так и не познакомилась, причем самой Аманде уже начинало казаться, будто Джордж осознанно скрывает свою даму сердца от собственной дочери), а также о бешеной сумме денег, которую Кумико вдруг предложила ему за картины, которые создала вместе с ним, – широкий жест, в искренность которого Аманда инстинктивно не верила, ведь это все равно что кричать на весь белый свет, будто ты выиграл в лотерею, даже не проверив номер своего билета.
– Ты помнишь птицу, которую спас? – спросил она. – Кто это был? Аист?
– Журавль, – ответил он. – По крайней мере, мне очень хочется в это верить.
– Это на самом деле случилось с тобой? Или тебе все же приснилось?
Он вздохнул, к ее удивлению, с явной досадой.
Она поспешила продолжить:
– Просто я, кажется, сегодня видела эту же птицу. В парке, когда гуляла с Джеем-Пи. Она была очень высокая и охотилась на рыбу в пруду.
– Да ты что? В парке за твоим домом?
– Да.
– О боже! Ничего себе. Нет, мне это не приснилось, хотя было очень похоже на сон… Ну и дела!
Затем она позвонила матери, рассказала ей об отце. О Кумико, о картинах, деньгах и журавле.
– Звучит как полная чушь, дорогая, – сказала ей мать. – Ты уверена, что все именно так и было?
– Он кажется очень счастливым.
– Он всегда кажется счастливым. Не факт, что оно так и есть.
– Только не говори, что ты все еще волнуешься за него, мама.
– Твоего отца достаточно увидеть один раз, чтобы волноваться за него всю оставшуюся жизнь.
Перед тем как забраться в постель и притвориться, что читает книгу, Аманда еще раз взяла мобильник и нажала «последние звонки». Генри значился третьим, сразу после матери и отца. Больше за все эти выходные она не общалась ни с кем. Она подумала, не позвонить ли Генри – удостовериться, что он благополучно вернулся домой, – но делать этого, конечно, не следовало по многим причинам. Да и что она ему скажет? И что ей ответит он?
Она отложила телефон, погасила свет.
А потом заснула. И видела сны о вулканах.
Утром в понедельник она всегда обрабатывала информацию, собранную за выходные, – общее количество автомобилей, время, которое каждый из них простоял в пробке, альтернативные варианты управления светофорами или возможные объездные пути, которые помогли бы справляться с заторами. Она больше не пыталась объяснить эту часть своей работы другим – с тех пор как однажды увидела вытянутые лица окружающих, пришедших в ужас от того, что она вообще может спокойно об этом говорить.
Впрочем, окружающие были тупицами, а она эту работу считала весьма интересной. И хотя сам сбор данных происходил не всегда быстро и гладко, находить решения для тех или иных проблем было весьма увлекательно. И она действительно находила эти решения, да к тому же делала это стильно и со вкусом – так, что даже Фелисити Хартфорд пришлось спрятать поглубже свою ненависть и пусть неохотно, но признать ее заслуги.
А вот Рэйчел – вообще-то ее непосредственная начальница – в последнее время начала вставлять палки в колеса.
– Ты еще не закончила анализ? – спросила Рэйчел, встав перед нею и упершись взглядом в ее отчет с таким видом, словно работа Аманды слишком скучна для визуальных контактов.
– На часах 9:42, – ответила Аманда. – Я всего сорок пять минут в офисе.
– Тридцать одну минуту? – поправила Рэйчел. – Или ты думаешь, никто не заметил, что ты опоздала?
– Я работала в субботу весь день.
– На подсчеты пробок достаточно и утра? Не могу представить, зачем убивать на это весь день?
Началось это сразу после чертова пикника. Внешне вроде бы ничего не изменилось – никаких размахиваний руками или заявлений о вечной вражде, – просто больше никаких приглашений вместе пообедать, резкость на грани грубости при обсуждении рабочих моментов, тотальное похолодание атмосферы. Но избегать встречаться с ней взглядом – это что-то новенькое, подумала Аманда. Видимо, их отношения с Рэйчел переходят в следующую фазу. Ну-ну…
– Как у тебя с братцем Джейка Гилленхаля? – спросила она, отворачиваясь к своему монитору. И краешком глаза успела заметить, что Рэйчел таки подняла на нее взгляд:
– С кем?
– Ну, с тем красавчиком из парка… – Аманда изобразила саму невинность. – Который залил тебя маслом с головы до пят.
– Уолли[16] – парень что надо? – ответила Рэйчел, и Аманда не без удовольствия отметила, как недовольная морщинка (и весьма глубокая) проступила меж бровей на ее безупречном лице.
– Как его зовут? Уолли? – уточнила Аманда, наверное, уже в третий, если не в четвертый раз. – Кого же это в наши дни называют «Уолли»?
– Абсолютно нормальное имя? – сказала Рэйчел. – Не то что у некоторых? Например, у какой-нибудь Кумико, которая даже не японка?
Аманда заморгала:
– Смотри-ка, запомнила… А с чего ты взяла, что она не японка?
– Еще б не запомнить? Ты же об этом только и трещишь? Как будто у тебя своей жизни нет? Жить жизнью своего папочки – это так печально, правда?
– Иногда, Рэйчел, я не понимаю, как ты умудря…
– Отчет, Аманда? – Зеленые глаза Рэйчел вспыхнули.
Аманда сдалась.
– Будет к обеду, – сказала она и выдавила широкую фальшивую улыбку. – Да! А может, заодно и пообедаем вместе? Что скажешь?
Рэйчел издала вздох не менее фальшивого сожаления:
– Это было бы классно? Но у меня уже другие планы? Значит, к часу отчет у меня на столе?
И зашагала прочь, не дожидаясь ответа. Мы могли бы подружишься, подумала Аманда.
– Нет уж, дудки, – сказала она себе.
– С дороги, жиртреска!
Локоть велосипедиста зашвырнул кофе Аманды на обочину тротуара, где поедали свои обеды из коробочек муниципальные строители и одна бизнес-леди, которая явно выбрала не тот день, чтобы выпить кофе со сливками. Бумажный стаканчик упал ей под ноги и расплескался, окатив бедняжку до самого бедра.
Женщина уставилась на Аманду, разинув рот. Испытывая одновременно стыд от того, что столько народу услышало, как ее назвали «толстожопой», и муки совести за кофе, пролитый на ни в чем не повинного человека, Аманда решила проявить инициативу.
– Долбаные велосипедисты… – возмутилась она, искренне сочувствуя своей жертве и надеясь, что та поможет ей свалить вину на другого.
– Ты стояла на проезжей части, – сказала женщина. – Что ему оставалось делать?
– Я надеялась, что он пропустит пешехода!
– Видать, твоя жопа оказалась для него слишком толстой.
– Да пошла ты! – бросила Аманда и двинулась прочь. – Кто вообще пьет кофе со сливками в январе?
– А кто будет все это чистить?! – крикнула женщина, стараясь поймать ее за рукав.
Аманда попыталась пробиться сквозь толпу мужчин и женщин, наблюдавших за их перебранкой.
– Ну, и чего ты добиваешься? – спросила она. – Чтоб меня арестовали за неоплату химчистки?
Прямо перед Амандой остановился элегантный индийский бизнесмен.
– Мне кажется, вам следует оплатить этой леди химчистку, – произнес он с сильным ливерпульским акцентом. – По-моему, так будет правильно.
– Да уж, – сказал еще один приличного вида мужчина. – Все-таки это ваша вина.
– Это вина велосипедиста, – настаивала Аманда. – Это он на меня наехал, а теперь рассекает за сто километров отсюда, уверенный в своей правоте!
Женщина в сливках схватила ее за плечо.
– Посмотри на меня! – крикнула она. – Ты за это заплатишь!
– Не волнуйтесь, – сказал ливерпульский индус. – Она заплатит.
Аманда открыла рот для атаки. И даже приготовилась, к своему удивлению, пригрозить этой женщине как-нибудь физически – возможно, даже залепить ей пощечину (а то и вмазать кулаком), если та не уберет свою долбаную руку с ее плеча. Все-таки Аманда была достаточно рослой и плечистой, чтобы всякие хамки не связывались с ней, а пошли бы и поучились хорошим манерам, иначе…
Но не успела она открыть рот, как обнаружила, что по ее щекам снова неудержимо текут слезы.
Все вокруг смотрели на нее, не желая прощать ей несправедливость, которой она наполнила их день, и молча требуя, чтобы она немедленно все исправила. Она вновь попыталась что-то сказать, как-нибудь объяснить этой женщине, что ей следует сделать со своими запачканными штанами, но из горла вырвалось только сдавленное рыдание.
– Господи, – прошептала она. – Да что это со мной?
Через несколько секунд, которые показались ей вечностью, Аманда обменялась с пострадавшей визитками – под высокомерно-торжествующими взглядами двух симпатичных парней. А затем оставила их ко всем чертям, сколько бы это ни стоило, со всем их ménage à trois[17], которого они так добивались, и провела остаток обеденного перерыва на маленькой лужайке возле офиса, лишь в последний момент, уже на скамейке, осознав, что осталась без кофе.
Это слезы злости, повторяла она про себя, вгрызаясь в сэндвич с салатом, приготовленный сегодня утром без майонеза, потому что иначе не успела бы завезти Джея-Пи к его няньке. Это слезы злости.
Впрочем, Генри прав. Разница невелика.
– У вас все в порядке? – спросил ее кто-то.
Незнакомка сидела на другой половине скамейки.
Аманда не заметила, как эта женщина туда села, но она тоже пила кофе с проклятыми сливками. Черт возьми, люди. На дворе январь!
Впрочем, на сей раз, слава богу, эти сливки потребляла женщина с добрым лицом, явно поколесившая по белу свету (Аманда сама удивилась, что подмечает такое) и вернувшаяся с неким знанием, которого Аманде, возможно, не приобрести до конца своей жизни.
– Долгий день! – сказала Аманда, смущенно откашлявшись. И вновь занялась своим сэндвичем.
– Ах, – сказала женщина. – Мифы говорят нам, что мир был создан за один день, и мы цинично считаем это метафорой, аллегорией, но в такой день, как сегодня, запросто может показаться, будто мы потратили все утро на сотворение Вселенной, а какой-то идиот все равно требует, чтобы после обеда мы собирались на чертово совещание.
Вместо ответа Аманда вежливо улыбнулась, чувствуя, как звоночки в голове начинают подсказывать ей, что, возможно, она делит эту скамью с сумасшедшей. Или все-таки нет? Эта странная женщина вроде бы знает, что говорит. И, несмотря на всю ее странность, сидеть с ней вполне уютно.
Странность, повторила про себя Аманда. Акцент у незнакомки и правда странный, то есть, несомненно, иностранный, но из какой она страны – сам черт не разберет. Скорее даже из какой-то другой эпохи. Аманда покачала головой. Видимо, все-таки Средний Восток. Или что-нибудь в этом роде.
– Мне очень жаль, – сказала женщина.
Но произнесла эти три слова не так, как обычно извиняются. Не так, словно ей и правда кого-либо жаль. Это «жаль» означало «простите».
Аманда подняла голову.
– Возможно, это прозвучит нелепо, – продолжала женщина, – но вы, случайно, не Аманда Дункан?
Челюсть Аманды застыла в полуприкусе.
– Жаль, если нет, – повторила незнакомка, на сей раз действительно с сожалением. – Удивительно, правда? Мы вроде бы не знакомы, но мне кажется, что когда-то уже встречались.
Пораженная Аманда резко выпрямилась:
– Кумико?
Ибо, что ни говори, это могла быть только она.
Велосипедист – скорее всего, тот же самый, черт бы его побрал, они же все выглядят как однояйцевые близнецы, с одинаково накачанными промежностями и чувством этического превосходства, – пронесся мимо скамейки так угрожающе близко к ним, что обе невольно отпрянули. Сэндвич Аманды шмякнулся на тротуар и распластался там, как случайная жертва уличного происшествия.
– Гребаные велосипедисты! – заорала она ему вслед. – Думаете, вы хозяева жизни? Думаете, вам все можно, да?
Поразительно. Ты мешаешь им ездить, даже если сидишь на долбаной парковой скамейке…
Аманда откинулась назад – без обеда, без кофе, без сил, – и вновь на глаза наворачивались слезы, слезы ярости, оттого что весь мир, похоже, разваливался на части, причем безо всякой на то причины, хотя ничего на свете не изменилось, кроме разве какой-то мелочи, которую она даже не смогла бы назвать, но которая отняла у нее то, что она считала собственной жизнью, и зашвырнула все это на высоченную гору, чтобы ей пришлось карабкаться туда – и в итоге обнаружить, что впереди лишь очередная гора, еще выше, и так с ней будет всегда, пока она жива на этом гребаном белом свете, и если это действительно так, то какой вообще в этом смысл – да и есть ли он, черт бы его побрал?
Под ее нос аккуратно подставили пару салфеток. Раздосадованная тем, как мгновенно и как далеко ее унес поток сознания, Аманда взяла из рук Кумико салфетки и вытерла слезы.
– Понимаю, – сказала Кумико. – Я тоже их ненавижу.
О чем она – Аманда сообразила не сразу. А когда поняла, разразилась очередными слезами.
На сей раз, впрочем, совсем незлыми.
* * *
– Печатная фирма «Дункан»!
– Это знаменитый художник Джордж Дункан?
– …
– Это вы, не так ли?
– …
– Да ладно, Джордж? Не скромничай? Я уже видела тебя в Интернете?
– Но у нас все закончилось. Я думал, что…
– Ничего не закончилось? Я видела, что ты выставил на продажу? На экране своего ноутбука? Так что ничего не закончилось, правда, Джордж?
– Я о том, что между нами все кончено. И ты это знаешь. Ты сама этого захотела. И тогда я с тобой согласился.
– Но это же было до того, как ты прославился?
– Прославился? Послушай, я просто…
– А эти цены, Джордж? Ты не слишком заламываешь?
– Это не наши сайты. И не наши цены. Мы даже не знаем, откуда это пошло. Оно как-то само взорвалось…
– «Мы даже не знаем»? Ты про себя и эту свою Кумико? Так ее звать, кажется? Кумико?
– Я сейчас повешу трубку, Рэйчел, и я не хочу, чтобы ты…
– Любовная парочка, творящая вместе шедевры? Как это мило?
– Тебе нужно избавляться от восходящих интонаций. Ты говоришь как имбецил.
– …
– Прости. Я только хотел…
– Иди в задницу, Джордж. Я всего лишь пытаюсь быть милой. И вести себя дружелюбно. Хотя ты и разбил мое сердце…
– А вот это неправда. Все эти тайные свидания. Клятвы о неразглашении. Ты совсем не походила на женщину, которая отлично проводит время.
– Так нечестно? Мы ведь оба секретничали, разве нет? Нет, я, конечно, могу рассказать обо всем Аманде, если ты этого хочешь?
– Это что, угроза?
– …
– Я вешаю трубку. Серьезно.
– Стой. Подожди? Прости меня? Я знаю, какой я бываю ужасной. Правда. Но…
– Но что?
– Но твоя жестокость невыносима, Джордж. Ты никогда таким не был.
– Прости, я…
– И как раз это не выходит у меня из головы. Ведь на самом деле ты не жестокий? Потому что жестокость – такая обычная вещь в наши дни, ты просто не представляешь. У меня по жизни с каждым мужиком словно состязание какое-то. Кто из нас гаже? Кто грубее? Словно каждый из нас с самого первого взгляда собирается доказать, как он крут. И все эти свидания на самом деле превращаются в это… как его…
– Ристалище?
– Вот! В ристалище! И единственное, что тебе разрешается, это показать сопернику, какой ты крутой, какой непобедимый и как жестоко ты смеешься над его слабостями. Вот ведь как. Ты смеешься над ним. Над тем, как он глуп? И пускаешься во все тяжкие, только чтобы он никогда не смог посмеяться над тем, как глуп ты сам? О сексе меня лучше не спрашивай, да?
– Да я и не собира…
– Потому что весь секс тогда – это сплошное притворство, не важно, удачный он или нет? Сколько бы ты старания и умения в это ни вкладывал? Что все просто «о’кей»? Что у тебя случалось и получше? Что все было не то чтобы «плохо», но пускай он особо не задирает нос?
– Рэйчел, я не понимаю, чего ты от меня…
– Это ужасно, Джордж. Я это ненавижу. Вот и с этим Уолли?
– Уолли?
– Каждую минуту одно и то же! Каждую минуту! Как в том кино про гладиаторов? Это изматывает. Я так устала. Я выжата как лимон. А с тобой было совсем не так.
– …
– …
– …
– Джордж?
– Я теперь с Кумико.
– Знаю. Знаю? Ну, то есть я в курсе, да? Твоя дочь об этом трещит на каждом углу? Так что я все знаю? Но просто я подумала. Подумала о том, как сильно мне тебя не хватает.
– …
– …
– Даже не знаю, что и сказать…
– Да не говори ничего. Просто я…
– Я теперь с Кумико…
– …скучаю по тому, кто…
– И я очень серьезно…
– …по-настоящему добр…
– …в нее влюблен.
– Ты был так добр ко мне, Джордж. Как, наверно, больше никто.
– Увы, о себе ты того же сказать не можешь.
– Я знаю, что была недобра к тебе…
– Нет, я о том, что ты была недобра к себе. Плохо с собой обращалась.
– Ты был первым, с кем я могла хотя бы предположить, что все вполне возможно, Джордж. А с этим Уолли я встречаюсь, и он, конечно, очень, очень обаятельный и так далее, но…
– Рэйчел, я должен…
– Но я все время думаю: он не такой милый, как Джордж.
– Это был мимолетный флирт, Рэйчел, и мы оба знаем, что это ошибка. Я слишком стар для тебя. Я слишком скучен для тебя, ты сказала это сама. И уж тем более я не такой обаятельный, как…
– Ну и что с того, если это правда? Иногда нам нужно и кое-что поважней.
– Ты хочешь сказать, это никак не связано с тем, что я теперь не один? И с тем, что я немного прославился?
– Ты снова пытаешься грубить, Джордж. Это тебе не идет?
– Мне правда нужно идти. Желаю тебе всего самого…
– Видишь? Ты же такой милый.
– Но я действительно должен идти.
– Я хочу повидаться с тобой.
– Рэйчел…
– Как в старые добрые времена?
– Нет, я не думаю…
– Я могла бы тебе о них напомнить.
– …
– Ты знаешь, о чем я, Джордж.
– Мне очень жаль, Рэйчел.
– Тебе будет жаль, если ты не позволишь мне…
– Мне очень жаль, что тебе так одиноко.
– Джордж…
– Я желаю тебе счастья. Я слушаю тебя и слышу, как твое сердце плачет, желая с кем-нибудь…
– Погоди хоть секундочку…
– …соединиться. По-настоящему соединиться.
– Да? Но я же…
– И мне очень жаль, что я этим кем-нибудь быть не могу. Никак не могу, прости.
– Джордж…
– Желаю тебе всего самого…
– Джордж…
– Но мне пора идти…
– Я беременна.
– …
– …
– …
– …
– То есть это, конечно, неправда.
– Джордж…
– Прощай, Рэйчел, и прости меня.
– Джордж, я только…
* * *
8 из 32
Она летает всю жизнь и даже дольше, приземляясь, когда растущая Земля призывает ее, и улетая дальше, когда зова не слышно. Ей одинаково радостно и в воздухе, и на Земле, и радость эта, несмотря на частые слезы, от особого ее предназначения. Повсюду, где бы ни приземлилась, она дарует освобождение от грехов, и ее прощение проникает в сердца, ибо за что мы все просим прощения, как не за обиды, уносящие радость?
Мир вступает в период юности, земля собирается по кусочкам в узнаваемую цельную форму, хотя и с болью, с извержениями.
Она не сторонится вулканов, когда те выплевывают лаву, узнавая в них ту же ярость воды – усилие, направленное изнутри наружу, то есть в никуда.
– Уже скоро, – говорит она вулканам, – уже совсем скоро все ваши длинные мускулы сплетутся внутри Земли, чтобы крепко держать ее в своих объятиях. Одна рука стиснет другую, другая третью – и вы сможете удерживать бремя жизни на ваших общих плечах. Осталось совсем недолго.
И вулканы верят ей, и успокаивают свои яростные потоки, и готовятся удерживать этот мир.
9 из 32
Все вулканы, кроме одного.
– А я не верю тебе, госпожа, – говорит ей вулкан, и его зеленые глаза искрятся каким-то злобным весельем, что сильно ее озадачивает. – Смысл вулкана в том, что он злой. А спокойный вулкан – это всего лишь гора, разве нет? Успокоить вулкан – значит убить его.
Губительная, пышущая жаром лава вытекает из него волна за волной, и обитатели этой совсем еще юной Земли разбегаются в ужасе от его огненного хохота. Она с отвращением отлетает подальше, делает круг и прилетает опять, чтобы снова показать ему свое отвращение. Так и общается с ним, летая кругами.
– Цель вулкана – погибнуть, – говорит она. – Разве не за это ты борешься?
– Да, госпожа, цель вулкана – погибнуть, – отвечает он. – Но сделать это с как можно большей злобой.
– Но ты не кажешься злобным, – говорит она. – Ты улыбаешься. Проказничаешь. В тебе так и плещет желание пофлиртовать.
– Во мне плещет радость, госпожа. Злобная радость.
– Разве такое возможно?
– Это именно то, что всех нас создает. То, от чего пылает магма этого мира. То, что заставляет вулканы петь.
– Так вот чем ты называешь разрушение? Песней?
– Именно так, госпожа. А песня никогда не лжет.
– В отличие от тебя, – говорит она и улетает прочь.
Вулкан посылает ей вслед целый сноп огнедышащей лавы. Но тот не достигает ее. Да и не должен.
– Ты еще вернешься, госпожа, – говорит вулкан. – Ты вернешься.
10 из 32
Она возвращается. Старше и мудрее. Старше теперь и мир, хотя у него, как ни удивительно, особо мудрости не прибавилось.
– Все извергаешь, – говорит она, облетая вокруг вулкана.
– А ты все прощаешь, – раздается в ответ из огненной колесницы, – там, где прощения не обещано.
– Ты стал посланником войны, – говорит она, не приближаясь к нему, поскольку уже успела узнать о вулканах побольше, – в том числе и о том, что в зону их действия лучше не попадать.
– Я теперь генерал, – отвечает вулкан.
Его огромное войско, заполонив собою весь мир, пожирает леса, города, пустыни, долины.
– Ты не погиб, как все остальные, и не превратился в гору.
– Нет, госпожа. В этом не было будущего.
Он поднимает хлыст – длинную цепь сияющего белого жара – и хлещет своих великих и страшных скакунов. Те оглушительно ржут, вздымая копыта. И превращаются в пепел фермы, мосты и цивилизации, пока его бесчисленная и ненасытная армия разливается пылающими реками по всей округе.
Какое-то время она летит рядом с ним, наблюдая в молчании, как он обращает в прах этот уголок Земли. Она ничего не спрашивает, он ничего не отвечает, лишь поглядывает иногда в ее сторону. Его зеленые глаза бдительно следят за ее полетом.
– Я прощу тебя, – говорит она. – Если ты об этом попросишь.
– Не попрошу, госпожа, – отвечает он.
– Почему?
– Я не нуждаюсь ни в чьем прощении, а также не признаю за тобой права его предлагать.
– Правом прощать наделяет нас тот, кто прощения просит.
Он улыбается ей, глаза его радостно сияют.
– Это не противоречит моим словам, госпожа.
11 из 32
Повинуясь странному желанию, в котором она не хочет себе признаться, она снижается и долго парит над самым войском вулкана. Оно атакует, но кто противник и где чья армия – не разобрать. Вся битва словно одна сплошная скотобойня, кишащая телами, плюющаяся огнем и кровью с единственной целью – сварить саму себя заживо.
Она снова взлетает повыше и описывает над вулканом последний круг.
– Прежде чем ты улетишь, госпожа, – говорит вулкан, – не скажешь ли мне свое имя? – Он опять улыбается, а в отражении его глаз виден мир, гибнущий от огненного террора. – Тогда я смогу назвать его, когда ты увидишь меня снова.
– Я больше никогда тебя не увижу.
– Как пожелаешь, госпожа, – говорит ей вулкан с поклоном. – Тогда я скажу тебе свое.
Он открывает рот и испускает рев, полный такой страшной боли и горя, что листья на деревьях жухнут, птицы падают с неба, а из трещин в земле, извиваясь, вылезает черная саранча.
– Но ты, госпожа, – добавляет вулкан, – можешь звать меня…
– Я не буду никак тебя звать, – говорит она, собираясь улетать, но все еще не улетая. И повторяет: – Я больше никогда тебя не увижу.
– Как пожелаешь, госпожа, – повторяет вулкан.
Он взмахивает хлыстом, но она улетает прежде, чем тот опускается.
12 из 32
– Отец? – зовет она, пролетая сквозь облака.
Она знает, что он не ответит. Он не ответил ни разу за все то время, пока старился мир. Она не знает, здесь ли он и слышит ли ее голос, ведь облака движутся, собираются и проливаются наземь дождем столько раз на дню – не говоря о жизни, прожитой этим миром, – что даже дочь облака не сможет отличить одно из них от другого.
Это облако может оказаться ее отцом. А может и не оказаться. Наверно, обычное облако. При чем тут ее отец?
И все-таки…
– Отец? – повторяет она.
И больше не говорит ничего, поскольку не знает, о чем его спрашивать. В ее голове – сплошные мысли о вулкане: споры, которых между ними не случилось, его поражение, которого она не добилась, и милосердное прощение, которое она могла предложить лишь в ответ на его последнее желание – освободить его, о чем он так и не попросил.
Она пролетает сквозь облака, позволяя каплям влаги остужать ее брови, мочить ее одежды и ощущая, как приятная прохлада растекается по мышцам, уставшим от полета.
Все это время ее отец наблюдает за ней – и шепчет ее имя, лишь когда она покидает пелену облаков и улетает слишком далеко, чтобы это услышать.
* * *
Джордж начал видеть странные сны.
Кумико по-прежнему не позволяла ему смотреть, как она работает, а также не пускала его за порог своей крошечной квартирки – что, впрочем, не особо его беспокоило, поскольку теперь она почти все свое время проводила у Джорджа, – однако ему начали сниться запертые двери, за которыми находилась она, он знал это, как знал и то, что замки были врезаны в эти двери исключительно по ее просьбе, которую он же сам и исполнил. Он мог бы заглянуть туда когда угодно. Но в этих снах они неизменно оставались запертыми. И Джордж трясся в агонии.
А еще ему снилось, что он обнаружил ее в потайной белой комнатке без замка, где она маскировала свое оперение под женскую кожу, подстригала длинные белые крылья, переделывая их в руки с пальцами, прятала за искусственным носом небольшой клюв и надевала коричневые контактные линзы на свои золотистые глаза. Увидев, что он подглядывает за ней, она заплакала – по нему и по всему, что им суждено было потерять.
А в других снах он видел пламя, которое било из-под земли, выплескивалось из трещин кипящей лавой и преследовало его, а она бежала за ним, и он никак не мог разобрать, убегает ли она вместе с ним или же, наоборот, ведет за собой это пламя, чтобы оно поглотило и пожрало его.
Проснувшись, он напрочь забывал все, что ему приснилось, но в душе оседала тревога, оседала и постепенно росла.
Первой покупкой на деньги, вырученные от продажи табличек, стал тяжеленный новый принтер для его студии.
– А вовсе не прибавка к моей зарплате? – с явной обидой спросил Мехмет, скрестив руки на груди.
– И прибавка к твоей зарплате, – сказал Джордж, наблюдая, как люди из службы доставки взгромождают принтер на место в углу.
– На сколько?
– На фунт в час.
– Всего лишь?
Джордж повернулся к нему:
– Полтора фунта?
Мехмет сделал оскорбленную мину, якобы собираясь протестовать, но тут же расплылся в удивленной улыбке:
– Ох, Джордж! И как ты умудряешься выживать в этом диком мире? Почему он до сих пор не сожрал тебя с потрохами?
– У меня все отлично, – сказал Джордж, снова завороженно глядя на принтер.
Блестеть эта супермашина, конечно, никак не могла: все ее поверхности были из пластика, а ролики выглядели как обычные шестеренки замысловатого шедевра промышленного машиностроения. И все-таки – господи боже! – на взгляд Джорджа, она просто блистала. И работала, само собой, куда быстрее, чем их старенький принтер, хотя это уже чисто технические детали. А вот цвета в распечатках стали гораздо живее. Оттенки и текстуры во всех их немыслимых комбинациях предлагались такие буйные, что было трудно не расхохотаться. Программы ее подлаживались под любые фантазии мгновенно, и ты просто не успевал за этим мгновением – она уже предлагала тебе именно то, что ты хочешь, за миг до того, как ты успевал это запросить.
Она была всем, чего только Джордж желал для своей студии.
И она стоила того – спасибо шедевру, что висел на стене прямо над нею. Шедевру, созданному в основном Кумико. Но, по ее же словам, вклад Джорджа был неоценим, и потому он должен был получить ничуть не меньше половины суммы, которую платили покупатели табличек.
Но даже это было очень и очень немало. После продажи второй таблички (сжатый кулак против женского профиля) женщине, которую привел самый первый их покупатель, они в течение недели продали третью, а потом и четвертую друзьям этих первых двух. Никто из новых клиентов (явно небедных и просто пугающе обаятельных) не приобретал их картинки в погоне за модой (да и откуда ей было взяться, ведь они появились буквально только что), напротив, все они словно находились в сетях какого-то наваждения, как и первые покупатели. Один из них, руководитель какой-то креативной компании в дорогом черном галстуке поверх дорогой черной рубашки под дорогим черным мягким пиджаком, при взгляде на последнюю их работу – перьевые лошади Кумико, несущиеся табуном с холма к реке из словесных волн Джорджа, – не сказал вообще ничего, а только прошептал: «О, да…», перед тем как вручить толстенную пачку банкнот скандализирующему Мехмету.
А потом кто-то – вроде бы из покупателей – подбил один из некрупных, но влиятельных журналов о современном искусстве взять небольшое интервью у Джорджа – а не у Кумико, хотя она и просила его обеспечить их работам как можно больше публичности, – как у «потенциально восходящей звезды», и уже до конца недели они не только собрали целую кучу заявок на еще не законченную на данный момент пятую табличку, но и получили от арт-дилеров приглашения на несколько деловых встреч и даже на одну презентацию.
От приглашений Джордж отказался – в основном потому, что Кумико не хотела вовлекать в их творческий процесс чужих людей, – но теперь это уже мало что значило. Слухи о них расползались, и Джорджу, похоже, даже не пришлось этому как-то поспособствовать.
– Ну и шумиху вы подняли! – весьма раздраженно сказал Мехмет после того, как они отправили пятую табличку почтой покупателю из Шотландии, которого даже в глаза не видели. – Бог знает из-за чего.
– Если бог и знает, – ответил Джордж, – то мне он про это не говорит.
Кумико тем временем не вмешивалась в коммерцию, предоставляя это Джорджу, и занималась творчеством уже в промышленных масштабах – задействуя любые фигурки, которые он вырезал из очередных книг, и комбинируя новые захватывающие композиции из элементов, которые, казалось, не были изготовлены только что, но существовали всегда и лишь ждали, когда же их соберут воедино, чтобы их древняя сущность проявилась в полную силу. Она работала над новыми картинами, но также добавляла вырезки Джорджа и к табличкам своей приватной коллекции – той, которой он до конца не видел. Эту коллекцию она держала в секрете и ничего оттуда на продажу не выставляла, но за всеми остальными ее работами уже выстраивались в очередь люди, расхватывавшие копии шестой и седьмой таблички всего через несколько часов после их завершения и предлагая за них совершенно безумные суммы. Безумные даже в сравнении с себестоимостью их распечатки на роскошном принтере, который конечно же могут позволить себе только самые приличные на белом свете издатели.
Это было божественно. Это было его. Это казалось почти нереальным.
– По-моему, как-то все… – Он повернулся к Мехмету: – Может, я чего-то не понял? Как это все получилось?
– Я не знаю, Джордж, – ответил тот. – И вряд ли кто-нибудь знает.
– Ты не находишь это странным? – спросил он Кумико, когда та намыливала ему волосы шампунем.
– Отклонись назад, – попросила она.
И когда его голова оказалась над раковиной, он продолжил:
– Все вдруг сбежались. Так внезапно. И стали хватать с таким голодом. Так и кажется, будто…
Он не закончил. Ибо так и не понял, что именно ему кажется.
– Я сама удивляюсь, – ответила Кумико, смывая шампунь водой из чашки.
После чего отжала ему волосы, усадила его на стуле ровно и принялась расчесывать мокрые пряди, держа наготове ножницы в другой руке.
– А я так просто ошеломлен, – сказал он.
Он почувствовал, как ее рука на секунду замерла в едва заметной нерешительности, прежде чем расчесать и подрезать очередную прядь.
– Ошеломлен в хорошем смысле? Или в плохом? – уточнила она.
– Даже не знаю. Просто… ошеломлен, и все. У меня не было ничего. Лишь хобби, которое тоже не значило ничего. Пустая трата времени. А потом вдруг появляешься ты… – Он посмотрел на нее. Она повернула его голову так, чтоб было удобней стричь дальше. – И все это появляется вместе с тобой. И…
– И? – Она подрезала еще один локон – ловко, точно заправский парикмахер.
– Да ничего, пожалуй, – смутился он. – Просто начали происходить все эти невероятные вещи. И продолжают происходить.
– И это лишает тебя сил?
– Ну… да.
– Хорошо, – сказала она. – Меня тоже. Я не удивляюсь тому, что ты сказал про голод. Мир всегда голоден, хотя часто не знает, по чему именно испытывает голод. И насчет внезапности ты прав. Это и правда весьма примечательно, согласен?
Она снова причесала его, готовясь еще подравнивать. Решение постричь его она приняла, не задумываясь. Он просто сказал, что собирается подстричься в местной парикмахерской, которую держали два брата-бразильца – поразительно молодых, по-заморски обаятельных и ужасно бестолковых, – и она тут же предложила: «Давай, я сама».
– Так где ты, говоришь, этому научилась? – уточнил он.
– В путешествиях, – ответила она. – К тому же это не сильно отличается от того, что я делаю с табличками, ты не находишь? Считай, это моя вторая профессия.
– Я бы никогда не осмелился кромсать твои волосы так, как кромсаю книги…
Он почти физически ощутил тепло ее улыбки, растекающееся за его спиной по маленькой кухне, пока он сидел на стуле со старой простыней, повязанной вокруг шеи, над расстеленной под ногами газетой, на которую падали обрезанные клочья его шевелюры. Он закрыл глаза. Да, он ощутил ее. Рядом с собой. Ее дыхание коснулось его шеи, как только она склонилась чуть ближе.
– Я люблю тебя, – прошептал он.
– Знаю, – шепнула она в ответ. Без малейшего упрека.
Ее знание доставляло ему удовольствие, и обычно этого было достаточно. Но теперь ему вдруг почудилось, что этого недостаточно. Он захотел спросить: «А ты меня?» – и тут же устыдился. Каждый раз, когда она отвечала так (впрочем, не очень часто), ему приходилось сдерживаться, чтобы не требовать от нее подтверждения.
Все-таки он очень, очень мало знал о ней. До сих пор.
С другой стороны, и он рассказал о себе далеко не всю правду.
Например, никогда не упоминал о Рэйчел, хотя в данном случае беспокоился больше о дочери, которую подобная правда сразила бы наповал, если бы вдруг, не дай бог, ей открылась. Не говоря уже о целом ворохе дурных привычек – из тех, какие обычно скрывают на ранней стадии любых отношений: чистка ногтей на ногах прямо в постели, бритье щетины когда и как попало, подтирание члена туалетной бумагой после того, как отлил, и так далее, – но даже в сравнении со всеми этими тайными грешками он знал о Кумико несравненно меньше, а точнее, не знал почти ничего. Это было необъяснимо, несправедливо, не…
Он отогнал эти мысли, выкинул из головы.
– Однажды я пытался подстричь Аманду, – сказал он. – Когда она была совсем маленькой.
Он услышал, как она хихикнула.
– И как вышло?
– По-моему, неплохо.
– Но только однажды?
– Ну, она была совсем крохой, обычное дело… – Любовь к своей непутевой дочери переполнила его, и он нахмурился. – Хотя Аманда никогда не была обычным ребенком. Забавная – да, она всегда была очень забавная, и мы с Клэр надеялись, что у нее все будет хорошо…
– Она мне понравилась, – сказала Кумико. – И рассуждает, на мой взгляд, очень здраво.
– Никак не могу поверить, что вы встретились вот так, случайно…
– Жизнь была бы неестественна без случайностей, Джордж. Например, я могла бы забрести и в другую типографскую студию. Но забрела в твою – и посмотри, какая каша из-за этого заварилась.
Он обернулся:
– То есть ты тоже считаешь, что заварилась каша?
Она кивнула и развернула его голову обратно:
– У меня не так много времени, как хотелось бы, чтобы рассказывать свою собственную историю.
– Да, – согласился он, вспоминая лишний раз о тридцати двух табличках, из которых видел далеко не все – девушка и вулкан, мир, который они создавали. А она еще даже не рассказала ему, как закончится эта ее история. – И тебя это не напрягает?
– Пока нет, – ответила она. – Но ты знаешь сам. История должна быть рассказана. Как еще прикажешь жить в мире, где нет никакого смысла?
– Как еще выжить бок о бок с необычайным? – пробормотал Джордж.
– О да, – сказала Кумико. – Именно. Необычайное случается постоянно. В таком количестве, что мы просто не можем это принять. Жизнь, счастье, сердечные муки, любовь. Если мы не можем сложить из этого историю…
– И как-нибудь это объяснить…
– Нет! – возразила она неожиданно резко. – Только не объяснять! Истории ничего не объясняют. Они делают вид, но на самом деле только дают тебе отправную точку. У настоящей истории нет конца. Всегда будет что-нибудь после. И даже внутри себя, даже утверждая, что именно эта версия самая правильная, нельзя забывать, что есть и другие версии, которые существуют параллельно. Нет, сама история – не объяснение, это сеть – сеть, через которую течет истина. Эта сеть ловит какую-то часть истины, но не всю, никогда не всю, лишь столько, чтобы мы могли сосуществовать с необычайным и оно нас не убивало. – Она едва заметно ссутулилась, словно истощенная собственной речью. – Ведь иначе оно обязательно, непременно это сделает.
Помолчав немного, Джордж спросил:
– А с тобой произошло что-нибудь необычайное?
– Конечно, – кивнула она. – Как и с каждым. Как и с тобой, Джордж, я уверена.
– Да, – согласился он, ощутив в этом правду.
– Расскажи, – улыбнулась она. Очень доброй улыбкой, видеть которую он, наверное, готов был всю жизнь.
Он открыл рот, собираясь было поведать ей о Журавушке на своем заднем дворе – историю, до сих пор вызывавшую в нем чувство неловкости, особенно после того, как Аманда отреагировала на нее так скептически; но, быть может, теперь настал момент рассказать о птице, чью жизнь он, возможно, спас, птице, появившейся неизвестно откуда и своим появлением обозначившей некий новый этап в его жизни, этап, который (он чувствовал это своим замирающим от страха сердцем) мог в любой момент завершиться.
Но вместо этого он, к своему удивлению, сказал:
– Когда мне было восемь лет, меня сбила машина. Хотя это лишь одна из версий этой истории…
И пока она подстригала его, он рассказывал.
– Жила-была одна леди, – начал Джордж, держа за руку Джея-Пи, когда они гуляли у пруда, – которая родилась от облака.
– Ну, так не бывает, – сказал Джей-Пи.
– Бывает. Она родилась в облаке. Вот в таком! – И Джордж выдохнул облачко пара в морозный воздух.
Глаза Джея-Пи засияли, и он тоже выдохнул облачко, а потом еще целую вереницу таких же.
– Значит, облака появляются от дыхания?
– Хотелось бы, малыш, но тут еще дело в том, что испаряется океан.
– Но я же, вот, выдуваю облака. Значит, это я их делаю!
– Возможно, да.
– Grand-père?
– Да?
– А когда пукаешь, тоже получаются облака? Джордж посмотрел на внука сверху вниз. Джей-Пи был абсолютно серьезен.
– Мама говорит, что, когда пукаешь, получается только вонючий воздух, и все, – продолжал Джей-Пи. – И что все пукают, даже королева, а еще что мое дыхание тоже иногда воняет так, как будто я пукаю.
– Ну что ж, пока звучит весьма логично.
– Но тогда получается, что если я могу выдуть облако изо рта… – Джей-Пи выдержал паузу, явно выстраивая умозаключения в своей маленькой голове. И, усмехнувшись, взглянул на деда: – Значит, я могу делать облако, когда пукаю?
– Это будет очень вонючее облако.
– Вонючее облако, в котором родилась твоя леди?
– Она родилась в таком облаке, из которого ей захотелось поскорей улететь.
– А ты не взял хлеба?
– Что?
– Для уток. – Джей-Пи указал пальцем на пруд. Несколько дрожащих от мороза гусей, которые почему-то не улетели на юг, смотрели на них с явной надеждой.
– Черт! – сказал Джордж.
– Это плохое слово?
– Нет. Это слово говорят бобры.
– У бобров плоские хвосты, – сказал Джей-Пи. – И огромные зубы.
– У тебя тоже когда-то был плоский хвост.
– Нет!!! – закричал ошеломленный Джей-Пи.
– Да, и мы все за тебя ужасно волновались. Но когда ты родился, он у тебя отпал.
– Когда я родился в облаке?
– Именно. В очень вонючем облаке.
– Je suis une nouille… – пропел Джей-Пи.
– Ты лапша?
– Нет! Я – облако!
– А… – сказал Джордж. – Тогда nuage.
– Но я так и сказал! – вскричал Джей-Пи. – Je suis une облако! – Он закружился, повторяя это снова и снова, но затем вдруг остановился. – Grand-père! – сказал он, пораженный внезапной мыслью. – Ты говоришь по-французски?!
– Да нет, – покачал головой Джордж. – Просто учил когда-то в колледже.
– Что такое колледж?
– Такая школа. В Америке.
Джей-Пи сощурился, производя в голове очень сложные вычисления.
– Значит, ты был американцем?
– Я и сейчас американец.
– Врешь!
– Вот так мне все и говорят. А теперь мне нужна твоя помощь. Не забыл?
– Высокая птица! – сказал вдруг Джей-Пи, поднимаясь на цыпочки и вглядываясь в даль поверх гусей, которые подобрались к самому берегу в надежде на то, что его кружение – прелюдия к кормлению хлебом. – Я не гусь, grand-père!
– Если будешь так кричать, спугнешь высокую птицу.
– Я не гусь! – прошептал Джей-Пи как можно громче.
– Верю.
– Иногда я бываю уткой.
– И в это я тоже верю.
– Я больше не вижу птицу, Джордж.
Джордж посмотрел на внука.
– Как ты меня назвал? – спросил он довольно резко.
Лицо Джея-Пи дернулось, губы скривились.
– Так тебя называет мама… – сказал он, и две маленькие слезинки скатились по его щекам.
– О, нет, Джей-Пи! – Джордж присел перед ним на корточки. – Я совсем не сержусь. Я просто удивился…
– Она зовет тебя так, потому что тебя любит. Она сама говорила.
– Все верно, малыш, так и есть, – сказал Джордж, обнимая внука. – Но я буду счастлив, если ты будешь звать меня grand-père. Знаешь почему?
– Почему? – шмыгнул носом Джей-Пи.
– Потому что ты, Жан-Пьер Лорен, единственный на свете человек, который имеет право так меня называть.
– Единственный?
– И неповторимый.
– И неповторимый… – произнес Джей-Пи, словно примеряя на себя это звание.
Они прошли еще немного по берегу пруда, но, кроме разочарованных гусей и нескольких спящих уток, так никого и не увидели.
Никаких журавлей. Ничего необычайного.
– А что случилось с леди из облака?
– Она повстречалась с вулканом, – ответил Джордж рассеянно, все еще вглядываясь в водную гладь. – Все оказалось непросто.
Он снова видел странные сны. О том, что он летает.
Мир состоял из висевших в воздухе островов, соединенных между собой шаткими мостиками или веревочными лесенками. Журавушка летела позади него, отставив назад свои длинные ноги. «Это очень по-журавлиному», – сказала она ему. Куски мира вертелись под ними, а они пролетали мимо плоских каменных блюдец с реками в форме колец и мимо шарообразных планеток, с которых ему махали счастливые Джей-Пи и Генри, оба одетые точь-в-точь как Маленький Принц.
– Людям не снятся такие сны, – сказал Джордж, приземляясь на скалу в форме поля для американского футбола.
– Ты хотел сказать «для британского футбола», – поправила его птица.
– Вовсе нет, – нахмурился Джордж.
Журавушка пожала плечами и отвернулась, как только он посмотрел на нее внимательнее.
– Что у тебя с глазами? – спросил Джордж.
– Глаза как глаза, – ответила она, не глядя на него. – Особенно когда во сне.
– Я как раз подумал – особенно когда не во сне.
Джордж шагнул ближе к ней. Она захлопала крыльями и попятилась.
– Что за манеры? – возмутилась она.
– У тебя глаза зеленые, – сказал Джордж. – А должны быть золотые.
Журавушка посмотрела на него в упор. Ее глаза и правда были зеленые – пылающие, с желтоватым оттенком серы.
– Да что ты знаешь о золоте? – произнесла она странным, каким-то не своим голосом.
– Кто ты? – спросил Джордж сердито, хотя и со страхом в груди.
– Вопрос, который нет нужды задавать, – ответила она.
Лава хлынула из ее глаз и фонтанами полилась в его сторону.
Он побежал. Точнее, попытался бежать. Его ноги с грохотом опускались на скалистую породу, унося прочь от раскаленной лавы, накатывавшей волнами, все ближе и ближе, но на самом деле он бежал на месте.
– Ладно, – сказал он. – Так и быть, это и правда сон.
– Нет, – ответил вулкан, поднялся под ним на дыбы, обнял его за шею пылающей рукой и поднял в воздух.
– Прошу тебя, – прохрипел Джордж, – остановись!
Но вулкан, не слушая, поднимал его все выше и выше, затягивая звезды клубами дыма и сполохами огня.
– Не остановлюсь! – ревел вулкан. – Я никогда не остановлюсь!
Наконец он размахнулся, зашвырнул Джорджа в небо – и тот понесся со страшной скоростью мимо плавящегося мира, мимо кипящих облаков, которые только что были озерами и океанами, мимо кричащих жертв в пылающих городах. Он летел, как комета, пока не увидел свою цель – белизну шелковистого оперения и мощные крылья, складывающиеся и распахивающиеся во всю их невероятную ширину.
Он врезался в них.
И это его уничтожило.
Он проснулся. Без крика, без подскакивания в постели с сердцем, разбивающимся о грудь. Никакого драматизма. Просто открыл глаза. Полные слез.
– Кумико? – проронил он в темноту своей спальни, зная, что сегодня Кумико ночует у себя и что он дома один. И все-таки он произнес еще раз: – Кумико?
Но никто не ответил.
– Я хочу тебя, – сказал он. – Боже, как я хочу тебя. И, как и всегда, устыдился собственной жадности.
Часть III
Аманда стала брать ее с собой на работу. Не каждый день, но частенько. Что, конечно, было не совсем разумно, если учесть, какие деньги за такие вещи готовы были платить люди, то для Аманды эта вещица означала нечто другое, более личное, хотя спроси ее что именно – она и сама бы толком не объяснила. В общем, носить ее на работу было рискованно. Ибо можно было даже не сомневаться: если кто-то увидит – начнутся расспросы.
Вот и сегодня утром, собираясь, она твердо решила ее не брать. Но, как случалось уже не раз, в последний момент передумала.
Это была обычная черная табличка – как и те, что она видела в студии отца, – на которой искусно вырезанные и аккуратно подстриженные белые перья слагались в пейзаж: линия горизонта, а высоко в небе – птица. Белая птица на белом небе, но явно отдельно от него, и, очевидно, она летит, но в то же время застыла.
Внизу, под птицей, располагалась отцова нарезка из книжных страниц, которую она (да что говорить, и сам он частенько) обычно называла «бессмысленной болтовней», однако именно здесь эта «болтовня» обретала некую новую силу, новый контекст. Слова эти были самыми обычными, простыми, приземленными, в том числе «плесень» или «баклажан», а в самом низу, почти не различимое, притаилось даже слово «задница», что Аманду почему-то особенно трогало, – все эти слова слагались в гору, мощную, настоящую и вечную, как сама Земля, словно фиксируя весь пейзаж на табличке и особо подчеркивая неподвижность птицы в полете. На этой картине царил покой – возможно, с намеком на то, что в покое этом таится некий изъян или что дался он очень непросто, но покой очевидный и несомненный.
Табличку эту Аманда спрятала в стол и теперь, открывая ящик и разглядывая, испытывала то же странное чувство, что посетило ее, когда она увидела этот пейзаж впервые: что она стоит на краю бездны, рискуя в любой миг упасть, и что, несмотря на головокружение и страх, именно в этом падении она, скорее всего, обретет свободу.
При взгляде на эту бездну у нее перехватывало дыхание.
Ибо это напоминало…
Ну да, всего лишь глупое слово, не правда ли? Хуже того, глупое понятие – то, что никогда не случается намеренно, ну если не рассуждать о «привязанности», но сама Аманда никогда не произносила этого слова вслух и никогда не думала о нем слишком долго даже в самых своих сокровенных мыслях.
Ибо это напоминало…
Да, черт возьми, это напоминало любовь. Или нечто вроде прощения, что иногда означает то же самое.
Набредая на эту мысль, она всегда напоминала себе – господи, да это же просто табличка. Да и сама Аманда никогда, никогда не считала себя персоной, которую так уж сильно трогают Шедевры Изобразительного Искусства (и это было чуть ли не постыдной, но правдой. Однажды она выдержала целый час в Лувре – бедного Генри этот подвиг сразил наповал. «Мы посмотрели на Мону Лизу, посмотрели на крылатую Нику Самофракийскую, а теперь я хочу блинчик с кремом». А дальше, она уже не помнит зачем, они поехали в Бельгию, где всякой подобной чепухи было еще больше, чем во Франции, только вместо блинчиков с кремом торговали вафлями с передвижных лотков. Все равно что платишь за свежий воздух, а тебе всучивают смог). И все же именно здесь и сейчас, в своей рабочей кабинке, Аманда наконец поняла, почему слухи об этих табличках разносятся так быстро и почему все отзываются о них так экспрессивно. Она едва сдерживалась, чтобы в очередной раз не зависнуть над этим пейзажем, то поглаживая его кончиками пальцев, то придвигая поближе к глазам и…
– Это еще что?
И прежде чем поднять голову, она принялась проклинать себя за глупость – за то, что притащила эту табличку туда, где ее смогла увидеть эта чертова сучка Рэйчел.
Табличка эта была подарком – непрошеным и неожиданным. Не успела она отойти от шока в то ненавистное утро – на скамейке в заброшенном пустом скверике с жиденькими кустиками и традиционной статуей всеми забытого мужчины на всеми забытой лошади, – как тут же разговорилась с Кумико. И как! Они обсудили ненавистных обеим велосипедистов («Самодовольные болваны, – сказала Кумико, нахмурившись, отчего стала еще симпатичнее. – Ведут себя так, словно это мы виноваты, даже если они прутся на красный и сбивают нас с ног!» – «И еще от них воняет, – добавила Аманда. – Они полагают, что раз переоделись в форму, то могут обойтись без душа…» – «А эти их складные железяки! – подхватила Кумико, к вящей радости Аманды. – Они забивают все проходы в электричках и ожидают, что все будут обращаться с ними как с родными!» – «Да ващще!»); всех этих сборщиков пожертвований с плакатиками в руках, из-за которых глядеть прохожим в глаза на Хай-стрит становится просто опасно («Да они просто выполняют свою работу», – сказала Кумико. «Но они еще совсем юнцы, – отозвалась Аманда. – И скорее всего, какие-нибудь потерявшие работу актеры». – «Ну, слава богу, хоть не приходится видеть их на сцене»); а потом Аманда, набравшись храбрости, даже поведала Кумико, что думает о мемориале «Животные на войне». Характерно, что Кумико о таком и не слышала, и Аманде пришлось объяснить.
– Похоже, кто-то выкидывает на ветер огромные деньги, – сказала Кумико.
Аманда чуть не закричала от радости.
А потом – слишком скоро – обеденный перерыв подошел к концу. Голодной, но, как ни странно, довольной Аманде пора было возвращаться в контору, и тут Кумико сказала:
– У меня для тебя кое-что есть.
– Это можно съесть? – уточнила Аманда, тоскуя по своим «погибшим» кофе и сэндвичу.
Разделить рис и рыбу Кумико она отказалась и уже начинала горько о том сожалеть.
– В принципе, можно и съесть, – улыбнулась Кумико и открыла свой саквояжик. – Но потом, боюсь, придется долго чистить зубы нитью.
И она вручила Аманде табличку.
– Я не могу это принять, – проговорила остолбеневшая Аманда. – Нет, правда, никак не могу.
– Тебе нравится? – застенчиво спросила Кумико.
Искренность, с которой был задан вопрос, тронула Аманду до глубины души. Она всмотрелась в табличку, в эту невероятную красоту, – и вдруг ощутила такой небывалый подъем, словно не разглядывала этот пейзаж, а жила в нем. Конечно же позволить себе принять столь ценный подарок она никак не могла, но ее сердце… о как сильно, как сильно оно хотело его…
– Нравится? – переспросила Аманда шепотом, не в силах отвести от таблички взгляда. – Нравится?
Она смотрела и смотрела. Отвела-таки взгляд, потом взглянула еще раз. Потом еще раз.
– Это похоже на… – прошептала она. – Похоже на…
Она помедлила в нерешительности, пытаясь выбрать между словами «любовь» и «прощение», но вдруг с удивлением поняла, что Кумико уже ушла. Небольшой тканевый мешочек, явно для хранения таблички, остался рядом на скамье.
Так неведомо откуда – может, ветер принес? – она получила позволение оставить подарок у себя.
Как ни странно, встретиться с Кумико снова оказалось весьма непросто.
– Она только что сидела прямо вот здесь, пап! – выпалила Аманда в трубку, позвонив Джорджу, как только поднялась со скамьи (но сперва, разумеется, быстро, но бережно спрятала табличку в мешочек – та уже начала притягивать взгляды людей на соседних скамейках). – Ну, то есть как такое вообще возможно?
– Не знаю, милая, – пробормотал он в самую трубку: похоже, в студии скандалил какой-то особенно недовольный клиент. – Но она тебе понравилась?
– «Понравилась»?? Да я бы на ней женилась!!
Джордж издал долгий вздох облегчения – это было так по-детски, что Аманде захотелось немедленно обнять отца прямо по телефону.
– Что у вас там происходит? Мехмет опять притворился, что не понял заказа?
– Пришлось снизить цену на очередную табличку, – сказал он чуть напряженно. В наступившей тишине Аманда услышала, как в студии оглушительно хлопнула дверь. – Мы должны были закончить одну сегодня, но в последний момент Кумико решила ее не продавать. Ну, клиент и рассвирепел, сама понимаешь.
– И часто она так? – осторожно спросила Аманда, неся мешочек с табличкой перед собой, чтобы не выронить в толпе по дороге в офис. – Ну, решает не продавать?
– Да нет, – ответил Джордж. – В первый раз, если точнее.
– Может, она решила, что в самой табличке что-то не так?
Удивленный вопросом, Джордж некоторое время помолчал.
– Н-не знаю, – сказал он наконец. – Эту я сам не видел. Она просто позвонила и сказала, мол, эта не для продажи, и все. В таких вопросах я стараюсь ей доверять. Она об этом ничего не говорила?
– Нет-нет, – пробормотала Аманда.
Не сводя глаз с мешочка перед собой, она слушала Джорджа, односложно отвечала на его вопросы о Кумико, борясь с непреодолимым нежеланием рассказать ему о табличке, которую ей подарили.
– Все это очень странно, – наконец сказала она и отключилась.
В следующий раз, решила она. Расскажу, но в следующий раз.
И ошиблась.
Несколько следующих недель Аманде не только не удавалось устроить встречу с Кумико, но и поймать отца, даже для того, чтобы он посидел с Джеем-Пи. Джордж то уезжал на выходные с Кумико в какие-нибудь горы (кто бы мог подумать?), то был занят по уши, вырезая очередные фигурки из книг или закупая для студии новое оборудование. Наконец он назначил дату для вечеринки, на которой собрался представить Кумико всем, включая некоторых покупателей табличек, особенно жаждавших с нею встретиться, и все уже предвкушали это событие, но Аманда жаждала большего, хотя и сама не смогла бы сказать чего.
– Он сказал, что зарабатывает столько, что скоро полностью погасит ипотеку, – поделилась она как-то вечером с матерью, которая восприняла эту новость как личное оскорбление.
– Как такое возможно? Они что и правда настолько хороши?
– Да, – ответила Аманда, глядя на свою табличку. – Да, правда.
– Наверно, я не должна расстраиваться, что Джордж зарабатывает больше моего теперь, когда мы развелись?
– Прошло уже девять лет, ма.
Клэр вздохнула:
– А кажется, гораздо меньше.
– Как там Хэнк?
– О боже. Я вовсе не ревную – и не хотела бы вернуться к нему теперь, когда он разбогател. Он милый, но… слишком уж милый, с какой стороны ни посмотри. А мне нужен мужчина, который умеет держать удар, иначе я превращаюсь в стерву, а кому это нужно? Я просто удивлена, вот и все. Удивлена, но все-таки рада. Конечно рада.
– Ты уверена?
– Дорогая, а тебе самой не хотелось бы, чтобы все получалось как надо? Разве тебе не стало бы легче?
– Хэнк при деньгах.
– Хэнк был при деньгах, когда я его встретила. Я не живу в кредит.
– И ты не ревнуешь.
– Перестань поддразнивать. Ты говоришь, что эта Кумико прелестна, и я тебе верю. Я счастлива за него. За них обоих. Ей с ним повезло.
– А ему – с ней, – твердо сказала Аманда.
И на секунду задумалась, что же хотела этим сказать.
* * *
Вернувшись домой, она повесила табличку на стену над телевизором – просто потому, что там был крючок, на котором держался старый плакат французского кино, находившийся там с таких незапамятных времен, что она почти перестала его замечать. Сняв плакат, она повесила табличку на его место.
– Что это? – тут же вытаращил глаза Джей-Пи.
Она собралась было ответить, но объяснить это в доступных для него выражениях показалось ей слишком сложно, и потому она просто сказала:
– Искусство.
– Ну ладно, – с уважением протянул Джей-Пи и даже не стал вываливать на нее лавину вопросов, к которым она морально готовилась. Просто посмотрел на табличку долгим задумчивым взглядом, а затем спросил: – А можно, я посмотрю «Вихляшки в джазовом веке»?
Аманда уставилась на него, соображая:
– В каменном веке?
– Я так и сказал!
– Валяй, ты знаешь, как включать.
Пока Джей-Пи ковырялся в пультах, запуская уже загруженных «Вихляшек» по телику, Аманда разглядывала табличку, думая о том, что, возможно, гора и птица на ней – это отец и Кумико. А возможно, и нет. А еще она подумала, что небольшая, в общем-то, табличка кажется в то же самое время странно огромной – больше гостиной, больше всей ее, Аманды, жизни; и чем дольше ее разглядываешь, тем сильнее мир таблички грозит перетечь сюда, в этот мир.
Время шло, а она так и не собралась рассказать об этом подарке ни одному из родителей. И судя по словам Джорджа, ему Кумико тоже ни о чем говорить не стала. Ничего не узнал он и от внука, хотя Аманда вовсе не собиралась просить малыша соврать, как-то само собой вышло, что никто об этой табличке больше не упоминал. Это стало их тайной, которую все негласно согласились хранить.
А сама Аманда просто продолжала любоваться этим пейзажем, и все.
За эти же несколько недель (еще до того, как заметила у Аманды табличку) Рэйчел стала до странного дружелюбной.
– Не хочешь с нами пообедать? – предложила она однажды, подходя к ней и таща за собой Мэй, как заправский буксир.
У Мэй отвисла челюсть.
– Серьезно?
– Серьезно? – эхом отозвалась и Аманда.
– Девушки в офисе, – заявила Рэйчел, – должны держаться друг за дружку? Чтобы обезопасить себя от всяких глупостей?
– Так ты серьезно? – повторила Мэй.
– Серьезней некуда, – отозвалась Рэйчел. – Мы все здесь взрослые люди?
– Спасибо, – сказала Аманда. – Но у меня свои планы.
– Ну, как хочешь, – бросила Рэйчел, и они обе ушли.
Но и это было еще не все.
– Мы завтра собираемся в кино, – объявила Рэйчел в пятницу утром. – Поржем над акцентом Энн Хэтэуэй? А потом опрокинем по паре коктейлей?
Аманда взглянула на нее с подозрением:
– Это что, приглашение?
На лице Рэйчел появилась злая, с издевкой, гримаса, но тут же исчезла.
– Слушай, – сказала она. – Ну, сколько раз я должна тебе говорить, что прошу прощения?
Аманда открыла рот, потом закрыла – и открыла снова.
– Один?
– Ну, так как? Пойдешь?
– Но у меня Джей-Пи…
– Ладно, расслабься. – И Рэйчел снова ушла.
Все было странно – в каком-то смысле еще хуже, чем в период их дружбы на почве взаимной ненависти. По работе Рэйчел муштровала ее, как и всегда, но странные приглашения от нее так и сыпались, и однажды Аманда сдалась, и все трое наконец отправились обедать в недавно открытую модную бургерную.
– Думаете, это настоящий эмменталь? – спросила Аманда, поднося к глазам бургер.
– Поверить не могу! Чтобы клали такой шикарный сыр на какой-то гамбургер?
– «Шикарный»? фыркнула Рэйчел. – Кто сказал «шикарный»?
Мэй чуть заметно смутилась:
– Кажется, я…
– Как у тебя с Уолли? – спросила Аманда, надкусывая бургер.
– Уолли – большой сосунок, – ответила Рэйчел, разрезая свою порцию надвое.
– У него – большой сосунок? – уточнила Аманда. – Или он сам такой?
Рэйчел шваркнула вилкой и ножом о столешницу – с такой силой, что вздрогнули даже за соседними столиками.
– Знаете что?! – почти заорала она. – Я, между прочим, порядочная!
Звенящая тишина повисла над их секцией ресторана. Мэй посмотрела на Аманду, потом снова на Рэйчел.
– Ну да, – сказала Мэй. – Ну, то есть ты в порядке…
– А кто говорит, что ты непорядочная? – спросила Аманда с явным интересом, хотя и не забывая откусить очередной кусок мяса.
– Я знаю, что со мной нелегко? Понятно? Но как еще по-другому? Если ты женщина и хочешь преуспеть? Да при этом и личную жизнь устроить… и не стать… не стать…
– Мымрой? – подсказала Мэй, потягивая через соломинку фисташковый милкшейк.
– Да, не стать мымрой! Вот я о чем?
– К чему ты клонишь? – поинтересовалась Аманда.
Рэйчел тяжело вздохнула, и в глазах ее вроде даже блеснули настоящие слезы.
– А ты еще не устала всех вокруг ненавидеть?
– Да с чего бы я всех ненавидела? – спросила Аманда.
– Еще как ненавидишь! – воскликнула Рэйчел. – Только и делаешь, что жалуешься на всё и на всех! Постоянно?
– Ну… – Аманда откинулась в кресле. – Не на всех…
– А кого ты любишь? Ну, скажи мне.
Рэйчел наседала на нее с такой неприкрытой яростью, что Аманда уже не столько отвечала, сколько дралась за свою жизнь.
– Я люблю своего сына так, что тоскую по нему, даже когда он сидит со мной рядом.
– О, вот и я тоже! – прониклась Мэй. – Моя дочка…
– Ребенок, – резко возразила Рэйчел, – не в счет.
– Отца люблю.
– Джорджа, – кивнула Рэйчел.
– Любила Еенри.
– Серьезно? – вытаращилась Мэй.
Аманда уставилась на свой бургер, уже почти без аппетита, вспоминая тот вечер, когда Генри заехал к ней, вечер, о котором он никогда не упоминал впоследствии, когда бы ни позвонил поболтать с Джеем-Пи.
– Да. – Она подняла на них взгляд. – И даже сильнее, чем думала.
– Ну что ж, тебе повезло, – сказала Рэйчел. – У тебя, по крайней мере, кто-то есть. А я так устала ненавидеть всех, и себя, и обеих вас…
– Эй! – сказала Мэй.
– Да ладно тебе! – фыркнула Рэйчел. – Я вообще не понимаю, что здесь делаю. А вы? Не знаю даже, зачем я вам все это…
Она замолчала, и ее лицо сморщилось в безобразной, по-настоящему уродливой плаксивой гримасе. Затем она вдруг вскочила – так резко, что кресло за ней упало. Беспомощно оглянувшись на него, Рэйчел рванула из ресторана наутек. Именно наутек,, подумала Аманда. Так, словно за ней гнались.
– Во дает! – сказала Мэй, поворачиваясь обратно к Аманде. – Думаешь, тебе стоит ее догнать?
– Не мне, – покачала головой Аманда. – Тебе.
Мэй признала, что так оно, видимо, и есть, сграбастала свою сумку и сгинула, не попрощавшись. А также не оплатив ни свой, ни чей-либо еще счет.
Аманда осталась одна и, прокручивая в голове их беседу, прикончила свой гамбургер. А потом – да пошло все к чертям! – и половину гамбургера Мэй.
На работе Рэйчел не только притворилась, что никакого срыва у нее не было, что неудивительно, но еще и продолжила свою кампанию по излучению вселенского дружелюбия, что несказанно поразило Аманду. И это было еще одно предупреждение, еще одна пауза, еще один повод, чтобы Аманда одумалась и перестала носить на работу свою заветную табличку.
И вот оно – происходит прямо здесь и сейчас: Рэйчел стоит перед нею, и ее глаза, точно лазеры, ощупывают наспех захлопнутый ящик стола.
– Ведь это была… – начала Рэйчел.
– Не твое собачье дело, что это было, – отрезала Аманда.
– Я еще ни одной в руках не держала.
– Не понимаю, о чем ты.
– Аманда…
– Чем я могу помочь тебе, Рэйчел?!
И тут он повторился снова, этот странный момент. Глаза Рэйчел вдруг словно вспыхнули, и она заколебалась. Затем опустила подавленный взгляд на документы в руках и медленно двинулась восвояси.
Кто ты такая, пронеслось в голове у Аманды, и что ты сделала с Рэйчел?!
Но, глядя, как Рэйчел уходит прочь, опускаясь, наверное, на самое дно своего поражения, Аманда поймала себя на чувстве, определить которое ей удалось далеко не сразу. Это была жалость. Еще хуже – сопереживание. Она вдруг увидела в Рэйчел попутчика, пробирающегося через этот ужасный, враждебный ландшафт, который сама Аманда уже слишком хорошо изучила: весь этот свод правил, который существует для того, чтобы ты никогда их не выучил до конца, а значит, был обречен на вечное изгнание, сколько бы ни притворялся, что это тебе до лампочки.
При этом для Рэйчел, возможно, все было еще хуже, поскольку она действительно зубрила эти чертовы правила долгие годы, она продвинулась благодаря им, чтобы теперь – если ее срыв в ресторане не случайность – обнаружить, как они бессмысленны и пусты. Что же в таком случае должно было произойти с человеком? Если она изо всех сил пыталась подружиться с Амандой (кто бы мог подумать?) и делала это так ужасающе неуклюже, что это могло означать? Ответ на это Аманде был хорошо известен. Она действительно не любила Рэйчел – все-таки их разделяли бескрайние океаны, – однако ей удалось различить у себя в душе мостик душераздирающего сочувствия, убегающий на ту сторону.
Рэйчел была одинока. Но если Аманда знала о собственном одиночестве чуть ли не с детства, то Рэйчел, похоже, лишь теперь очнулась от спячки и впервые осознала, что всю жизнь оставалась одна.
– Рэйч? – услышала она собственный голос.
Рэйчел обернулась – глаза на мокром месте, но все еще готовая защищаться.
– Что?
Голова Аманды зависла над ящиком стола – но нет, этого она не сможет. Как ни жалко ей Рэйчел, жалости недостаточно, чтобы делиться с ней этим, не сейчас, да и вряд ли когда-либо, только не тем, что принадлежит только ей одной.
И тогда она нашла лучший выход. Зачем она это делает, Аманда не смогла бы объяснить даже самой себе, и она жалела о каждом слове, срывавшемся с ее губ.
– Мой отец устраивает вечеринку, на которой познакомит всех с Кумико. Там, скорее всего, будет много ее произведений. – Она судорожно сглотнула, будто желая остановиться, но ее речь странным образом продолжилась. – Не желаешь ли заглянуть?
В одобрительной улыбке Рэйчел было много чего. Хватало там и благодарности, и радостного облегчения. Но все-таки больше всего (у Аманды упало сердце, когда она поняла это) там было торжества победительницы.
* * *
13 из 32
– Ты изменился, – говорит она.
– И да, – вроде бы соглашается вулкан. – И нет.
Она облетает, как всегда, по кругу небеса над его фабриками.
– Ты теперь – миротворец.
– Просто сейчас я не воюю, госпожа. А это не одно и то же.
– Но ты создаешь. Ты строишь, добавляешь что-то новое в этот мир…
– Этим и занимаются вулканы. Пока нас не приручат до состояния гор.
– Ты дразнишь меня.
– А ты насмехаешься, госпожа.
Она приземляется на заостренную крышу его фабрики. Черный дым, валящий из труб, не пачкает ей ни одежды, ни кожи. Просто облетает ее, не касаясь.
– Насмехаюсь? – переспрашивает она. – Разве?
– Мои мысли полны тобой, – говорит он. – Ты проникаешь в мои сны, но остаешься там, где до тебя не дотянуться.
– Ты проникаешь в мои сны, – говорит она твердо. – Но тебя там нет.
Вулкан улыбается, и она снова видит злобную радость в его сияющих глазах.
– Госпожа видит сны обо мне? – уточняет он.
Она опять улетает.
14 из 32
– Постой, госпожа! – кричит он вдогонку. – Мой дар для тебя!
Она подлетает к нему со спины – со стороны пригородных фабрик и шахт, вытеснивших народы, с которыми он когда-то воевал.
– Какой же дар я могла бы принять от тебя? – спрашивает она. – Ты – вулкан. Ты разрушаешь.
– И создаю.
– И разрушаешь снова.
– И снова создаю, госпожа. Ты ведь знаешь, что это правда.
– Но в чем же твой дар?
– Спустись еще раз, и ты получишь его.
– Ты опасен для меня.
– Как и ты для меня, госпожа. Если я обижу тебя, ты превратишь меня в гору. Мы оба рискуем. Оба либо выживем, либо погибнем. А я хочу выжить.
Она задумывается над его словами. И спускается ниже.
– Так в чем же твой дар?
– В нежданной истине, госпожа.
Он протягивает ей руку длиной в континент, предлагая туда спуститься.
И она делает это – на долю секунды быстрее, чем хотелось бы ей самой.
15 из 32
Вулкан извергается, заставляя мир расколоться надвое. Фабрики, города, деревни, народы проваливаются в трещины, расползшиеся по Земле. Небеса наполняются пеплом и пламенем. Реки лавы заставляют моря вскипать. Все погружается во мрак, пожар и хаос.
– Но ты, госпожа, – говорит он ей, стоящей у него на ладони, – остаешься цела. Я не способен обидеть тебя, видишь?
Он насылает на нее волну раскаленной лавы, но та расступается и оставляет ее невредимой. Он взмахивает рукой и закручивает вокруг нее огненный вихрь, но пламя даже не касается ее кожи. Он пытается прихлопнуть ее на ладони огненным кулаком, но тот останавливается прежде, чем задевает хоть прядь на ее голове.
– Я хочу уничтожить тебя, госпожа, – говорит он, – чтобы создать тебя заново. Но не могу, несмотря на все, во что мы с тобой поверили. – Он поднимает ее выше и выше над разрушенным миром к своим зеленым-презеленым глазам. – Ты понимаешь, что это значит?
– Понимаю, – отвечает она. – И мой ответ – «да», я буду твоей.
На ладони вулкана у нее под ногами прорастает трава.
16 из 32
Они решают создать мир заново. И назвать его их детищем – шутка, которая не нравится ни ей, ни ему, особенно когда их слова воплощаются в реальность. Он поднимает лаву, возводя новые равнины. Она посылает времена года, чтобы эти равнины остудить, засеять и озеленить.
Спариваются они яростно, но никак не могут насытиться. Его ладони хотят превратить ее в пепел и пар, а ее руки желают превратить его в груду камней, чтобы рассеять их по Земле. Но ни один из них не может причинить вреда другому. Он вынужден беспрестанно кипеть от ярости, она – столь же яростно прощать, но все усилия их бесплодны.
И все же они остаются вместе. На какое-то время.
17 из 32
Никто из них не перестает быть тем, кем был раньше.
Она подозревает, что он виноват в тех войнах, что портят лицо их детища, и каждый раз, когда он возвращается после отсутствия, от его лошадей пахнет огнем и кровью так, словно они доскакали до конца времен и повернули обратно.
Он же подозревает, что она дарует свое прощение другим, ибо, когда возвращается она, в ее застывших глазах читается удовлетворение, от которого она не спешит избавляться.
Он считает себя слишком могучим, чтобы ее ревновать. Она же считает себя слишком свободной, чтобы кто-либо ревновал ее.
Они оба не правы.
18 из 32
Когда он путешествует по этому новому миру, она следит за ним, держась на расстоянии, чтобы он не заметил, и наблюдая, как он рассылает по всей Земле войска за войсками, как строит фабрики, заволакивающие небеса черным дымом, как связывает все живые существа друг с другом – по их же согласию, – чтобы ими было легче манипулировать.
Он, в свою очередь, прячется в гейзерах и горячих источниках, путешествует по извержениям и землетрясениям, танцует на разломах тектонических плит и швах континентов, чтобы не упускать ее из виду и следить, как она общается с людьми, населяющими их новый мир, как все эти люди пытаются ее использовать, как она своим касанием дарует им прощение, освобождая от бремени в обмен на такую близость, которой они и представить себе не могли.
Этот мир – их детище – чувствует родительскую тревогу, как и любое дитя. Он морщится, истирается, загрязняется под их все менее внимательными взглядами. Иногда ему удается их пристыдить, напомнив о себе и своих нуждах, и тогда они платят ему своей заботой – перемириями, хорошей погодой, ясными лунными ночами и жаркими солнечными днями.
Но уже очень скоро их взгляды вновь обращаются друг на друга, и, как только это случается, мир понимает, что ему пора съежиться и как можно скорее заснуть.
* * *
– Мы готовы? – спросил Джордж.
– А даже если нет, так и что? – ответила Кумико, поправляя на нем галстук, который в том не нуждался, отчего ее жест вышел почти ироничным, вроде насмешки над бесчисленными черно-белыми домохозяйками из телерекламы, которые поправляют бесчисленные черно-белые галстуки своим бесчисленным терпеливо их любящим черно-бело-корпоративным мужьям.
Впрочем, это смотрелось еще и мило. Да-да, убедил себя Джордж.
– Представляю, как все удивятся, – сказал он.
– Хорошей вечеринки без сюрпризов не бывает. Так ведь люди говорят?
– Никогда не слышал.
– Значит, ходил не на те вечеринки.
Он наклонился, чтобы поцеловать ее, но тут раздался стук в дверь.
– Уже? – вздохнул он.
– Ну, должны же они прийти когда-нибудь, твои друзья.
– Но не твои?
По ее лбу пробежала легкая морщинка.
– Мне бы не хотелось, чтобы ты…
Стук повторился. Он с сожалением выпустил Кумико из объятий и пошел к парадной двери, чувствуя, как все внутри него продолжает звенеть, точно колокол. Остановившись перед дверью, он глубоко вздохнул.
И затем открыл.
– Дорогая! – поприветствовал он дочь.
Потом наклонился к внуку, который, запыхавшись, выдавал на гора потрясный анализ смены главных героев в стране Вихляшек Завро – и не поверил своим глазам, увидев, кто стоит за спиной у Аманды, несомненно в качестве гостьи, с бутылкой шампанского в руках.
– Ты ведь помнишь Рэйчел? – спросила Аманда тоном невинного младенца.
Вечер обещал быть бурным.
– Кто, скажи на милость, все эти люди? – спросила у Аманды Клэр, пришедшая с Хэнком.
В гостиной яблоку негде было упасть. Всю мебель оттащили к стенам, и, хотя на часах было только 7:40, вечеринка с каждой минутой все больше напоминала шумную дискотеку.
– Понятия не имею! – ответила Аманда, обняла мать и расцеловала Хэнка в обе щеки.
– Ну, как дела? – спросил Хэнк дружелюбно, как говорящий пес. – А Тотошка где?
– Помогает вешать плащи да куртки. В том смысле, что они для него тюлени, а сам он – пингвин.
– Пойду его найду, – сказала Клэр, стянув пиджаки с себя и с Хэнка.
И Аманда осталась один на один с отчимом – который, конечно, был ужасно мил, добр с матерью, приветлив с Джеем-Пи и вообще совершенно вменяем; но она в присутствии Хэнка четко осознавала, что разговаривает с единственным черным человеком в этой комнате. И что, помимо всех прочих проблем, теперь ей придется до конца вечера беспокоиться насчет того, не стоит ли извиниться перед ним за это от имени всей Англии.
– Итак, – сказал он. – Кто здесь наливает парням из Техаса?
– Мехмет, – не задумываясь, выпалила Аманда.
Хэнк уставился на нее:
– Это где?
– Кажется, на кухне.
– А как я узнаю, что он Мехмет?
– Он работает у Джорджа. Он из Турции.
Хэнк понял и положил ей руки на плечи:
– Тогда пойду выпью с ним за дружбу народов. Тебе чего-нибудь налить?
Она вздохнула, но успокоилась:
– Бокальчик белого вина. Ну, может, два.
– Только не за мой счет!
– О, нет! – Она стукнула по его бокалу обручальным кольцом и чуть ли не впервые осознала, что носит его до сих пор. – Странная здесь атмосфера. Только посмотри на них всех… – Наклонившись к Хэнку, она прошептала: – Думаешь, Джордж их всех знает? Или это просто, как их называют, люди искусства?
– Зачем же приглашать незнакомцев в свой дом?
Аманда понимала, что на самом деле Хэнк хотел спросить: «Зачем приглашать незнакомых в этот дом? Ей нравилось, что он немного сноб (что всегда так неожиданно в американце), и она понимала, о чем он.
Этот дом был чересчур маленьким, чересчур обветшалым и располагался слишком далеко от Зоны 1[18], что можно было легко понять по манере некоторых гостей одеваться, а также по удивлению, с которым они поглядывали на чрезвычайно неплоский экран отцовского телевизора.
Хэнк ушел в кухню, а к Аманде со второго этажа спустилась Клэр с Джеем-Пи на прицепе.
Судя по виду матери, в нее только что ударило небольшой молнией.
– Она сюда въехала, – сказала Клэр.
Аманда не сразу сообразила, что это значит.
– Кто?
Клэр понизила голос до полушепота:
– Кумико.
– Разве?
– Ты что, не знала?
– Нет. А ты как поняла?
Клэр смущенно нахмурилась:
– Покопалась в его гардеробе.
– Ну, мам…
– Чуть не половина вещей – женские тряпки. Так что либо она въехала сюда жить, либо Джорджу придется рассказать нам о себе кое-что любопытное. – Клэр окинула взглядом тесную гостиную, забитую людьми, и они услышали голоса вновь прибывших в прихожей. – Где она вообще? Как она выглядит?
– У нее каштановые волосы… – начала было Аманда, но не придумала, чем дополнить рассказ.
– Спасибо, родная, – сказала ее мать. – Ты значительно сузила мне поиски. Почти каждая женщина в этом доме подходит под твое описание.
Вечеринка быстро набирала обороты, и вскоре гости толпились в кухне и даже садике, несмотря на холодную ночь.
– Добро пожаловать! – повторял Джордж, разливая вино по бокалам, взятым напрокат. – Угощайтесь…
Женщина, которую прежде он никогда не встречал, пригвоздила его умоляюще-требовательным взглядом:
– Вы тоже не можете показать мне, где тут хозяин?
Джордж заморгал:
– Хозяин?
– Лично Джордж Дункан, – сказала она, отхлебнула вина и недовольно поморщилась. – Я приехала издалека специально, чтобы поговорить с ним о его выдающемся творчестве, а вместо этого торчу посреди огорода на морозе в каком-то… – она снова состроила недовольную мину, – в каком-то пригороде!
– Ну что ж, – ответил Джордж. – Я пошлю его к вам, как только увижу.
– Ну, то есть, – продолжала женщина, указывая сигаретой на его хлипкий шлакобетонный гараж, – он что, какой-нибудь комедиант? Или вы думаете, будто все это место – часть его искусства? – Вдруг оживившись, она повернулась к нему: – Вот как у Рэйчел Уайтред![19] Только вместо пустого пространства дома – сам дом как таковой…
– Да нет, – сказал Джордж. – Я думаю, он просто здесь живет.
Женщина фыркнула. И, повернувшись к мужчине, которого Джордж также никогда до сих пор не встречал, спросила:
– Вы тоже считаете, что он здесь живет?
– Не смешите меня, – сказал мужчина. – Когда же, интересно, вынесут новые таблички?
Кто-то взял Джорджа за локоть. Он обернулся. Кумико.
– Дом забит до отказа.
– Да что ты? – Он поднял руку, чтобы взглянуть на часы, и нечаянно расплескал вино из бутылки вокруг себя. Мужчины и женщины, чьих имен он не знал, отскочили с возмущенными криками. – Еще только восемь часов…
– Кто все эти люди? – прошептала Кумико.
Если бы он знал. Он вовсе не рассчитывал, что все обернется именно так, он приглашал только друзей, родню да еще несколько человек из этого нового мира, в котором они с Кумико вдруг оказались, – арт-дилеров, не устававших твердить, как тонко они чувствуют души Джорджа и Кумико через их таблички, – и все они должны были поместиться в его пускай небольшой, но уютной гостиной.
Он планировал скромную, совсем небольшую вечеринку.
А вовсе не такую.
– Видишь ли, парень, который купил самую первую табличку, спрашивал, можно ли прийти с другом, и, видимо, это разрослось как снежный ком…
Кумико с тревогой оглянулась на окружавшую их толпу, и даже сейчас она оставалась деликатной и мягкой.
– У нас не хватит мини-сосисок.
– Эти люди не похожи на любителей мини-сосисок…
– Джордж? – услышал он голос Рэйчел, которая выползла из-за его плеча, как отравляющий газ.
Джордж напрягся – так сильно, что это наверняка заметила Кумико. Он специально вышел в сад, чтобы держаться как можно дальше от Рэйчел и не оставлять при этом гостей. Свет из кухонного окна отразился в ее глазах, и они на секунду вспыхнули зеленым пламенем. Взгляд дьявола па фотографии, почему-то подумал Джордж.
– Так вы, должно быть, Кумико? – спросила Рэйчел.
– Да, – кивнула Кумико. – И никем другим я быть не могу.
Джордж вдруг понял, что впервые слышит, как она говорит с кем-то без своего обычного дружелюбия. У него засосало под ложечкой – не в последнюю очередь из-за ощущения, что во всем виноват только он сам.
Он подлил вина в свой бокал и осушил его одним махом.
– Не то чтобы они такие уж замечательные… – старательно проговорил Мехмет, пытаясь скрыть, что уже порядком пьян. – Понимаете, о чем я?
– Я видел их только на фотографиях, – ответил Хэнк, мастерски сооружая для Клэр порцию гимлета, – но, на мой взгляд, они весьма хороши.
– Ну ладно, я соврал… Конечно, они гениальны. А вы можете смешать мне такой же?
– Могу, но сдается мне, сегодня ты уже не очень твердо стоишь на ногах.
Хэнк терпеливо подождал, пока мужчина, застывший перед распахнутым холодильником, не заметит его и с извинением не отодвинется. Это была одна из особенностей этой страны, которая ему нравилась: внимательность. Люди здесь извинялись, если ты наступил им на ногу. Хотя он не исключал, что с ним они так вели себя чаще всего из-за его внешности. Хэнк достал бутылку белого вина и, задрав одну бровь, изучил наклейку.
– Ну, что делать! – вздохнул он наконец и все-таки потянулся за штопором.
– Да я вообще не должен здесь быть, – сказал Мехмет. – Из-за этого я пропускаю классную вечеринку.
Хэнк махнул штопором в сторону гостей, на удивление тесно набившихся в кухню:
– Многие назвали бы и эту неплохой вечеринкой.
– Джордж сказал, что я должен прийти обязательно, потому что именно я открыл дверь, когда она впервые пришла к нему в студию. – Мехмет посмотрел на него с хитрецой: – Так что, похоже, сегодня нам всем объявят кое-что важное…
– Вот как? – отозвался Хэнк без особого интереса, наливая себе чудовищного Pinot Grigio.
Ему было почти все равно. Джордж был неплохим парнем, но до сих пор круг его настоящих друзей – если не считать таковыми всех этих арт-дилеров и богатых бездельников, осаждающих теперь этот домишко в Бромли, – ограничивался парой-тройкой женщин да вот этим пьяненьким геем. Джордж не был джентльменом до корней волос, а Хэнк, хотя и не считал себя таким уж патриотом, чтобы носить ковбойские шляпы, все-таки был родом из Техаса. С другой стороны, старушке Клэр все еще нравился Джордж, и, если эти слухи верны, Хэнк будет просто счастлив сообщить их ей с пылу с жару. Это повеселит ее, а у него, старого дуралея, победно затрепещет сердце, когда это случится.
– Они теперь живут вместе, – сказал Хэнк, заткнул вино пробкой и вновь отпугнул того же мужчину от холодильника. – Или что-то вроде этого.
– Вы чувствуете? – сказал Мехмет. – Как будто надвигается что-то большое…
– Думаю, в твоем случае это похмелье.
– Да ладно вам! Я что, похож на пьяную натуралку в гей-баре?
– Даже не догадываюсь, что ты хочешь этим сказать.
– Что-то на горизонте. Что-то, к чему все вот это… – Мехмет передразнил жест Хэнка со штопором, указав на толпу гостей, – постепенно движется. Что-то большое. Прекрасное и, я не знаю, ужасное… – Он оперся о барную стойку. – Помяните мое слово.
– Непременно помяну. – Хэнк подхватил напитки и направился в гостиную.
– Эй, погодите-ка! – окликнул его Мехмет.
– Что?
– Аманда попросила вас пообщаться со мной, потому что я турок?
Хэнк задумался, потом сказал:
– Скорей она просто намекнула.
– Вот вы где! – воскликнула Аманда, заглянув в спальню Джорджа.
Кумико ела руками нечто похожее на рис из большого блюдца.
Аманда подтолкнула вперед Джея-Пи:
– Ничего, если он здесь немного поспит?
Кумико кивнула на груду курток и плащей, которыми завалили кровать:
– По крайней мере, не замерзнет.
– Восемь сорок три! – считал Джей-Пи цифры с электронного будильника у изголовья.
– А по-французски?
– Папа говорит, что время не французское. Что время всегда только английское.
– Так или иначе, солнышко, тебе давно пора спать. – Аманда утолкала его под чье-то длинное пальто, и он тут же натянул на себя еще несколько других, закутавшись до самого носа. – Не задохнись.
– Ладно.
Она повернулась к Кумико:
– Он выключится через минуту, вот увидите.
– Очень славный малыш, – сказала Кумико.
– Да. Спасибо.
Кумико ткнула пальцем в блюдце:
– А я вот наслаждаюсь минуткой покоя. Прячусь от гостей, чтобы вернуться на вечеринку отдохнувшей.
– Всем так не терпится вас увидеть. Всем этим чужим людям с деньгами.
– Не думаю, что это взаимно…
Обе улыбнулись, и Кумико не сказала ничего, только съела щепотку риса. Это была их первая встреча с тех пор, как Кумико подарила Аманде табличку, и Аманду буквально разрывало от желания рассказать ей все, что она сдерживала в себе так долго. Это напоминало ей дни, когда она возвращалась из школы домой до самой макушки напичканной новыми знаниями и ей так отчаянно хотелось поделиться ими с мамой и папой, что оставалось загадкой, почему она до сих пор не взорвалась и все это не вывалилось на обеденный стол вперемешку с кишками, мозгами и кровью. Она часто думала, не случается ли подобное с единственными в семье детьми; что, возможно, будь у нее братья или сестры, они бы давно выбили из нее подобный энтузиазм. Она погладила уже заснувшего Джея-Пи по макушке и спросила себя: в день, когда смерть постучит у ее порога, вернется ли он домой, чтобы рассказать ей о динозаврах или треугольниках?
Но с чего начинать разговор с Кумико? С вопроса, переехала ли она к Джорджу? Или что за люди собрались внизу и собираются ли все они теперь стать частью их жизни? Или откуда возникли образы на табличке, которую Кумико подарила ей, и почему они вселяют в нее такую беспомощную, больную, агонизирующую надежду? Или почему она плачет при одной только мысли об этом? И почему перестала плакать от мыслей о чем бы то ни было еще?
И где была Кумико так долго? Куда запропастилась? Где ее носило? Где?! И как можно так страшно скучать по человеку, которого до сих пор видел только однажды?
Когда же она открыла рот, все, что вырвалось из него, было даже не «спасибо за табличку», а просто:
– А что это вы едите?
– Это похоже на сладкий рисовый пудинг, – ответила ей Кумико, но подняла палец, упреждая ее кивок. – Только не то, что ты думаешь. Кое-что из моего детства.
– Рецепт вашей мамы?
Кумико покачала головой:
– Мама была не самым лучшим поваром. Хочешь попробовать?
– О нет, спасибо, – сказала Аманда, хотя не могла отвести от тарелки глаз. – А вы теперь живете с моим отцом?
Кумико выдержала паузу, чтобы прожевать кусочек «пудинга».
– Это ведь не страшно?
– Конечно нет, – сказала Аманда. – Неожиданно немного, но…
– Но что?
– Да ничего. Просто вы буквально… выбили его из седла. Нашего Джорджа.
– Надеюсь, как раз этого я не делала, – сказала Кумико, отправляя в рот очередную щепотку риса. – Джордж для меня – все равно что скала в океане.
– А вы при этом волны?
В ответ Кумико опять улыбнулась. Но тут же снова нахмурилась:
– Твоя подруга…
– Подруга?
– Та, которую ты сегодня привела.
Лицо Аманды скривилось, в глазах промелькнула тревога.
– Ну, она мне совсем не подруга…
– Правда?
– Мы вместе работаем. У нее случился нервный срыв, я ее пожалела и позвала в гости. Надеюсь, это не страшно.
– Срыв?
– Да. Словно кто-то завел ее изнутри, да так сильно, что треснули шестеренки. Очень странно. Извините меня. Я должна была у вас спросить…
– Не волнуйся, если поступила так по доброте. Точно не хочешь попробовать? Так и заглядываешь мне в блюдце.
– Все толстые женщины делают это. Смотрят на еду.
Лицо Кумико вдруг стало удивленным – и, как ни странно, сердитым.
– Ты – не толстая, – отрезала она. – Ты, которая говоришь правду даже себе во вред, как ты можешь этого не видеть?
– Я пыталась пошутить, – быстро сказала Аманда. – Я вовсе не думаю, что я…
– Вот этого я никогда не пойму, – перебив ее, продолжала Кумико. – Неспособность людей видеть себя отчетливо. Видеть то, чем они являются на самом деле, а вовсе не то, на что они боятся походить или, наоборот, походить мечтают. Почему вам никогда не хватает того, кто вы есть?
– Кому? Мне? Или всем вокруг?
– Если б вы могли видеть о себе только правду…
– Тогда б мы не были людьми.
Кумико вдруг остановилась – так внезапно, точно ей влепили пощечину, и, как ни странно, словно даже чему-то обрадовалась:
– Неужели? Ты, правда, так думаешь?
– Я думаю, быть человеком – значит сильно к чему-то стремиться, – ответила Аманда. – Сильно чего-то желать. Сильно в чем-то нуждаться. И почти всегда это есть в нас. Такая разновидность яда, который отравляет все вокруг.
– Но это сладкий яд?
– Иногда.
– Вот она! – продолжала Кумико. – Твоя честность. То, что я люблю в тебе больше всего.
– Хм… Наверно, вы единственное исключение.
Кумико снова протянула тарелку:
– Ну, пожалуйста, попробуй. Я ведь знаю, тебе хочется. Этот яд послаще многих…
Помедлив секунду-другую, Аманда присела на угол кровати и в нерешительности уставилась на блюдце:
– Это надо есть руками?
– Вот так. – Кумико набрала очередную щепотку и поднесла Аманде ко рту: – Ешь!
Аманда уставилась на еду, чувствуя, как это странно – есть из рук Кумико, хотя, в общем, не так уж и странно, не страннее всего остального, что только есть в Кумико, если уж быть честной с самой собой. Мало того, она даже обнаружила, что хочет этого – по-настоящему, без дураков. Поблагодарив кончики пальцев Кумико самым легким на свете поцелуем, она приняла губами щепотку риса.
…И ее немедленно унесло – неожиданно, куда-то в воздух: ураганный ветер свистел вокруг нее, далекая Земля внизу, древняя и еще молодая, то и дело взрывалась холодным паром, и сладость на кончике ее языка была легкой, как желание, как ресница, как брызги пены от прокатившей мимо волны.
И Кумико летела рядом с нею и предлагала ей что-то.
(Или она хотела, чтоб ей предложили.)
– Аманда?
Голос Клэр рассек воздух спальни, когда пальцы Кумико уже удалялись от губ Аманды (как и влечение внутри нее – странное, молочное на вкус влечение, не страсть, не для услады плоти и даже не для любви, но к чему?) и Кумико спрашивала:
– Тебе нравится?
Остолбеневшая Аманда глотнула:
– Не то, чего я ожидала.
– Всегда не то.
– У вас все в порядке? – спросила Клэр, пристально глядя на них.
– Абсолютно, – ответила Кумико. – А почему вы спрашиваете?
– Я… э-э…
– Я должна вернуться вниз, – сказала Кумико. – Даже если почти никого там не знаю.
Кивнув им обеим, она убрала блюдце, прошла мимо Клэр и спустилась по лестнице к мирно галдящей толпе. Амандой же овладела жгучая радость, и она раскраснелась, как после подъема в гору на велосипеде. Она выдохнула ртом, и томительный привкус на языке спутал и разметал ее мысли.
– Так это была она? – уточнила Клэр. – Что здесь, черт возьми, произошло?
Но не успела Аманда притвориться, что проверяет в постели сына, как необъяснимый жар стал подниматься по ее шее.
– Ты избегаешь меня, – сказала Рэйчел, загоняя его в угол патио, когда он захотел выйти с подносом опустевших бокалов.
– Конечно, я избегаю тебя! – отозвался Джордж. – А что мне еще остается?
Они стояли чуть поодаль от основной массы гостей, некоторые, слава богу, собирались домой – теперь, когда прошло уже два часа, но никто не показал им никаких произведений, не устроил аукционных продаж или чего еще там могли ожидать от вечеринки эти таинственные незнакомцы. И хотя о некоем выступлении Джорджа было объявлено заранее, никого из уходящих уже не интересовало ни оно само, ни его последствия. Хотя именно сейчас он согласился бы поторговаться с двадцатью из них, лишь бы не общаться с Рэйчел.
– Тебе не нужно ждать от меня неприятностей, Джордж? Если ты этого боишься?
– Да уж, этого я и боюсь, – признал Джордж. – Именно этого.
– Но тебе не нужно?
На секунду он повернулся и заглянул в ее лицо. Проклятый отсвет из кухонного окна снова заставил ее глаза вспыхнуть зеленым светом.
– Рэйчел…
– Послушай, я знаю, – перебила она. – Знаю, что ты с Кумико. И Аманда говорит, что ты поселил ее у себя, и этот педик из Турции так и намекает кому ни попадя о какой-то большой для всех новости…
– Рэйчел…
– Я просто говорю, что я знаю, понятно? – не унималась она. – И я ничего не задумала? Я же вижу, как ты к ней привязан? И что она должна подарить тебе то, что я не смогла? Все то, что я не смогла бы подарить никогда и никому? – Она вгляделась в холодный лунный свет поверх головы Джорджа, и он с удивлением обнаружил, что она сдерживается, чтобы не разреветься. – Я просто в последнее время запуталась, Джордж? Когда мы были вместе, я не умела дарить себя так же, как это получалось у тебя. У меня ни с кем это не получается? Вот почему ты ушел от меня, я уверена…
– Но это ты ушла от меня…
– А теперь еще эта новая экзотическая женщина, в которой есть все, чего нет во мне. Все, чем я хотела бы стать, это же ясно? Такая красавица…
– Ты красавица, Рэйчел, не притворяйся…
– Такая умная, одаренная…
– Как и ты.
– И так мила.
– …
– Понятно, что она сможет легко тебе открыться. – Теперь Рэйчел смотрела на него жестким, немигающим взглядом. – И отдать тебе взамен всю себя.
Во рту у Джорджа пересохло. Его губы что-то пробормотали.
– Что? – не поняла Рэйчел.
– Я сказал, она не отдает мне всю себя.
– Нет? Но мне показалось, вы оба такие счастливые?
– Мы и есть счастливые…
– Я думала, ты наконец-то нашел ту, которая идеально подойдет тебе, Джордж, со всем тем замечательным, что в тебе есть.
– Я и нашел.
– Но она от тебя что-то скрывает?
– Рэйчел, я не намерен обсуждать с тобой…
Она шагнула к нему вплотную. Он слишком поздно сообразил, что стоило отступить назад.
– Чем же тогда она лучше меня? – спросила Рэйчел.
Она сделала к нему еще шаг, и теперь ее запах, ее духи разбудили в нем самые разные воспоминания – о том, как он целовал эту шею, слишком юную для того, чтобы это значило что-либо важное для целующего мужчины вроде него. Ее дыхание слегка отдавало вином. Странный отблеск в ее глазах не угас, но она оставалась Рэйчел – прекрасной и брутальной.
– Я пытаюсь измениться, – зашептала она. – Не знаю, что со мной происходит. Я хочу отдавать. Ведь я никогда не отдавала себя, Джордж, только брала? А теперь, когда сама хочу отдавать, вокруг нет никого, кого бы я…
Она наклонилась, чтобы поцеловать его.
Он отпрянул, хотя, возможно, и не так быстро, как мог бы (подумал он тут же с чувством вины), поэтому она не столько поцеловала его, сколько ткнулась носом в его щеку. Повторять попытку Рэйчел не стала, но не успела она отступить назад, как он различил за ее спиной Кумико, вышедшую в садик его поискать.
– Джордж? – позвала Кумико.
Но в тусклых сумерках он так и не понял, увидела она что-нибудь или нет.
– Могу я попросить немного вашего внимания, господа? – произнес Джордж, встав в проходе между гостиной и кухней так, чтобы каждый мог его слышать; Кумико встала рядом.
– Давно пора, – услышала Аманда от человека, назвавшего себя просто Ив. («Уменьшительное от “Иван”?» – уточнила она, и он ей ответил: «Нет».)
В беседе с нею он рассуждал о «взаимодействии медийных и мед нужных динамик» в творчестве Джорджа и Кумико, полностью игнорируя насмешливо-непонимающее выражение ее лица.
– Мы с Кумико хотели бы поблагодарить всех, кто сегодня пришел, – сказал Джордж и обнял Кумико за плечо.
– Так это – Кумико? – прошептала неподалеку женщина в брючном костюме. – А я уж решила, что это его горничная…
– Мы приветствуем всех наших друзей и родных, – продолжал Джордж, салютуя бокалом в ту сторону, где стояли Аманда с Клэр и Хэнком плюс Мехмет в паре футов от них. – А также всех, с кем подружились сегодня… – Он выдержал паузу, откашлялся. – И хотим сделать маленькое объявление.
От напряжения, повисшего в комнате, воздух вот-вот затрещит, показалось вдруг Аманде, ибо все эти хорошо одетые незнакомцы совершенно синхронно вытянули шеи приблизительно на четверть дюйма.
– Неужели сразу серия? – услыхала Аманда очередной шепоток.
– Их не может быть много, – ответил кто-то. – Это все слухи!
– А что за серия? – спросил кто-то третий, и первые двое зашикали на него, требуя не мешать им слушать дальше.
– Знаю, некоторых из вас эта новость может шокировать, – сказал он, выразительно поглядев на Аманду.
– Он не сделает этого, – пробормотала позади нее Клэр.
– Чего именно? – не понял Хэнк.
И прежде чем Аманда поняла, что мать имеет в виду, Джордж произнес наконец самое важное:
– Кумико любезно согласилась стать моей женой.
– Почему ты ничего не сказал мне?! – прошипела Аманда, подскочив к нему на угрожающе близкую дистанцию.
– Всем спокойной ночи, – объявил Джордж гостям, половина из которых взирала на него с плохо скрытой досадой на лицах.
Он услышал легкое роптание, особенно среди тех, кто подошел к нему после выступления и прямо спросил, когда начнутся торги. Эти люди просто разуверились в мироздании, когда он объявил, что сегодня вечером не собирается вообще ничего продавать.
Хотя в их глазах, возможно, он просто набивал себе цену.
– Джордж, – не унималась Аманда, – ты чуть не довел мать до инфаркта.
Он несколько раз моргнул, прежде чем разглядел ее. Это было странно – он не думал, что настолько пьян.
– А с чего ей расстраиваться? – уточнил он. – Мы с ней в разводе вот уже…
– Почему ты не сказал мне? – повторила она так сердито, что на нее было страшно смотреть.
Она выглядела в точности так же, как в свои двенадцать лет, когда он и Клэр использовали свои невеликие сбережения на то, чтобы заменить на кухне совсем уж раздолбанную электроплиту, даже не представляя, как сильно Аманда рассчитывала на то, чтобы наконец сменить очки на контактные линзы – мечта, о которой они понятия не имели, пока Аманда не разревелась у них на глазах яростными и очень горькими слезами. Они нашли деньги на ее линзы уже через месяц, но окутавшее обоих облачко тревоги за столь трудную и непредсказуемую дочь с тех пор не рассеивалось. И он точно так же тревожился за нее и теперь.
Так почему же он не сказал ей?
– Я просто… – начал он. – Все происходило так быстро.
– О том, что она переехала к тебе, ты даже словечком не обмолвился!
– Она не совсем переехала. У нее по-прежнему есть свое жилье.
– А я успела встретиться с ней лишь однажды. Один раз!
– И сказала, что она тебе нравится. А теперь – спокойной ночи… Тебе не кажется, что вон тот тип показывает мне непристойные жесты?
– Да, она мне правда понравилась. Она такая…
Аманда застыла, уставившись на нечто, не видимое остальным, с задумчивой мечтательностью на лице. А Джорджа, к его удивлению, вдруг бросило в странный жар. Струйки пота растеклись по всему телу, словно талые ручейки в горах.
– Прости, дорогая, – сказал он. – Мне правда очень жаль. Но просто… У меня ее так мало, понимаешь? В ней столько всего непостижимого. А я становлюсь очень жадным даже до крохотной частички ее, если могу это заполучить. – Он опустил взгляд к бокалу, который, оказывается, еще держал в руке. – Я не сказал тебе, потому что хотел, чтобы это знание о ней было только моим. Частью только меня и больше никого. Извини, если это ужасно звучит, но она так…
– Я понимаю, пап, – произнесла Аманда неожиданно мягко. И посмотрела мимо него туда, где Кумико подавала пальто и куртки Хэнку, Клэр и пьяненькому Мехмету. – Я думаю, что понимаю.
Он нежно коснулся ее руки:
– Люблю, когда ты зовешь меня папой.
Она повернулась к нему, и он уловил в ее глазах такую боль, ее сердце, казалось, так безнадежно разбито, что ему немедленно захотелось обнять ее и больше никогда не отпускать из этого дома, но она лишь робко улыбнулась ему, и тут же это наваждение исчезло.
– Нужно собрать Джея-Пи.
– Привези его завтра, ладно?
– Хорошо, пап! – отозвалась дочь и двинулась вверх по лестнице.
– Аманда… – остановил он ее.
– Да?
– А твоя подруга ушла?
«Хороший вопрос…» – читалось у нее на лице.
– Наверно, кто-нибудь предложил ее подвезти… – Она пожала плечами. – Странно. Хотя вполне в ее духе.
Аманда продолжила медленно подниматься по ступенькам, а Джордж вернулся к последним из гостей, каждого из которых он, слава богу, прекрасно знал и по-своему любил.
– Ну, ты и темная лошадка! – сказала Клэр. – Впрочем, до настоящей темной лошадки тебе как до Луны, почему я и считаю все происходящее довольно печальным.
– Разве ты не счастлива за меня?
– Я просто в экстазе, дорогой. Даже не представляю, как тебе удалось привлечь ее внимание к своей персоне, но теперь, когда вы…
– Поздравляю! – сказал Хэнк, пожимая ему руку в той грубовато-жестковатой манере, которая, видимо, приберегается специально для бывших мужей своих нынешних жен. – Надеюсь, в следующий раз гостей будет чуть меньше.
– Да уж. Мы немного запутались, кто были все эти…
– Торчки от искусства! – встрял Мехмет. – Галдящие скворцы, которые налетают несметными полчищами невесть откуда, оглушают тебя за пару минут и уносятся обратно в свое никуда.
Повисла странная пауза. Затем Джордж произнес:
– Мехмет, это было немного…
– Я же говорил, приближается что-то большое! – сказал Мехмет Хэнку, плохо держа вертикаль. – И прекрасное.
– Ты говорил, еще и ужасное?
– Ну, – ответил Мехмет, глядя на Джорджа, – всему свое время.
– Боже! – выдохнул Джордж, заваливаясь на диван, когда последние гости ушли.
Кумико присела рядом:
– Вот мы и сделали это.
И все-таки – если только Джордж не выдумывал лишнего, что вполне вероятно, – какая-то неловкость повисла в воздухе между ними, нечто новое, словно теперь, объявив о своей помолвке родственникам и целой куче неизвестных придурков, они снова стали незнакомцами друг для друга. Он отчаянно надеялся на то, что Рэйчел тут ни при чем.
– А с твоей стороны не нужно никому сообщать?
Она устало улыбнулась ему:
– Я уже столько раз тебе говорила. Есть только я, и все. Сейчас, правда, есть еще и мы с тобой.
Он выдохнул, не открывая рта. Этот странный жар до сих пор не прошел. Пот проступал через майку, рубашку и расплывался темными пятнами на его блейзере.
– А мы с тобой действительно есть? – спросил он.
– Что ты хочешь сказать?
К своему удивлению, он чуть не плакал.
– Ты столько всего скрываешь от меня. Даже теперь.
– Не будь таким жадным, Джордж.
Он был поражен, что она сказала жадный – то же слово, что он употребил в разговоре с Амандой.
– Почему бы не радоваться тому, что у нас есть? – продолжала Кумико. – Даже будучи мужем и женой? Или ты не сможешь любить меня со всеми моими закрытыми дверями?
– Кумико, дело не в том, чтоб любишь…
– Есть вопросы, на которые мне трудно ответить. Прости.
Она выглядела очень несчастной, и он ощутил себя готовым на что угодно – убийство, разрушение, измену, – лишь бы она снова пролила на него свой солнечный свет.
– Ну что ты, – сказал он. – Это я должен просить прощения. На самом деле я просто неважно себя чувствую. Кажется, у меня жар…
Она перебила его почти нежно:
– Я закончила еще одну табличку.
Он сдал назад:
– Да что ты? Это же просто чудес…
– Вот она.
Кумико подошла к стеллажу и вытащила то, что было спрятано за рядом из книг:
– Я хотела показать ее на вечеринке, но не нашла момента.
Она вручила ему табличку.
– Это же из той истории… – прошептал Джордж, разглядывая все срезанные и собранные перья, все вырезанные и подобранные слова, и к глазам его вновь подступили слезы. – Кумико, это же…
Но все, что он мог, это смотреть.
Леди и вулкан устало кружили друг вокруг друга, рождая комбинации из перьев и слов, а мир под ними сжимался. И та нежность, с которой они друг на друга смотрели, та ярость и сердечная боль, готовые вот-вот выплеснуться, казались Джорджу просто невыносимыми. Он подумал, что должен срочно прилечь, чтобы справиться со своей странной лихорадкой, но все смотрел и смотрел на элегантную птичью фигурку леди-из-облака и на сверкающие зеленые камни, из которых Кумико сделала вулкану глаза.
– И что же? – спросил он. – На этом история заканчивается?
– Еще нет, – отозвалась она голосом, похожим на дыхание облаков. – Но уже скоро.
* * *
Аманде снилось, что она – гигантская армия, пожирающая Землю. Ее руки извиваются потоками солдат-муравьев и солдат-людей, разрушающих и растворяющихся в разрушенном, ее пальцы вытягиваются, чтобы схватить, кулаки сжимаются, чтобы ударить, а тело растекается от горизонта до горизонта, повергая в хаос и уныние все и вся на своем пути, подползая к городу, да, она подползает к самому городу и поднимает огромную руку, чтобы смести его одной могучей волной…
В последний момент она замирает, удерживаясь от разрушения, после которого уже ничего не восстановить.
Но тут же понимает, насколько ее нерешительность губительна для нее, ведь она уже исчезает, уже разваливается на куски, на кричащие от боли атомы…
Она проснулась – но не от страха, просто открыла глаза (не подозревая, что точно так же пробуждается от кошмаров ее отец). Протянула руку в постели, чтобы положить ее на спину Генри – это всегда помогало ей оправиться от неприятного сновидения, вернуться обратно на землю и наконец-то заснуть спокойно.
Но Генри, разумеется, рядом не было. Вот уже много лет.
Медленно вздохнув, она облизала пересохшие губы и постаралась не дать себе проснуться окончательно. Повернувшись, она почувствовала, что постель взмокла от пота, хоть выжимай. Вот уже неделю она боролась с этой странной недолихорадкой, в результате которой ее губы запеклись и пересохли так, что теперь, когда она зевнула, уголки рта пребольно треснули, точно в наказание от раздраженных богов.
И даже в лихорадочном забытьи она поняла, что заслужила это наказание. Несколько дней после вечеринки она ощущала беспокойство и сумбур – по крайней мере, у себя в голове. Она беспрестанно думала о Кумико, гадая, чем та занята, с Джорджем она сейчас или нет… и конечно же скоро ли они увидятся вновь. Это было нелепо. С одной стороны, походило на обычную вспышку любовной страсти, что было весьма удивительно для Аманды, ибо женщины никогда не привлекали ее – она даже понажимала нужные кнопки в голове, проверяя, работают ли ее чувства в этом режиме, но нет, и это как смутило ее, так и слегка разочаровало – ее влечение к Кумико было не физического свойства. Точнее, нет, оно было физическим, но не в этом смысле. Скорей уж оно напоминало голод, с каким Аманда набрасывалась на еду, когда была беременна Джеем-Пи, а ее организм неустанно твердил ей: выбирай – арахис, ананас или смерть. Точно так же – да, очень похоже – Аманда нуждалась в Кумико, чтобы поддерживать в себе жизнь.
Но это же уму непостижимо. Как непостижима и злость, что охватила ее, когда устроить очередную встречу с Кумико оказалось невозможно. Как и нарастающая ревность к Джорджу за время, которое Кумико проводит с ним. Она понимала, что рассуждать так нелепо и неразумно, но когда разум спасал нас перед лицом нужды?
– Пора нам научиться говорить людям «нет» по поводу табличек, – сказал он ей по телефону. – Это зашло слишком далеко, и мы попросили всех оставить нас в покое хоть ненадолго. Если честно, я только рад передышке. Все произошло слишком быстро.
– Да! – ответила Аманда с жаром, удивившим их обоих. – Именно об этом все и подумали. О том, как быстро все произошло.
Она поморщилась от того, как мелочно это прозвучало. Но извиняться не стала.
– Ну, не стоит так переживать, – сказал Джордж. – Надеюсь, ты не о женитьбе?
– Увы, Джордж, я именно о женитьбе.
– Но Кумико…
– Кумико прекрасна. Кумико великолепна. Таких, как она, я в жизни еще не встречала.
– Она…
– Но вы знакомы всего пару месяцев! – Собственный тон показался ей неоправданно резким. – Насколько хорошо ты на самом деле узнал ее?
Он выдержал паузу, и в нависшей тишине Аманда будто почувствовала, как ему неуютно.
– Я думаю, достаточно хорошо, – наконец сказал он.
– Ты думаешь?
И тут он не выдержал:
– Прежде всего, я думаю, что это не твое дело, Аманда. Ты слишком долго считала, что имеешь право вламываться в жизнь старика Джорджа и указывать ему, что делать. Так вот, ты ошибаешься. Мне сорок восемь, и я твой отец. Я встретил любимую женщину, собираюсь на ней жениться и не нуждаюсь ни в твоем разрешении, ни в твоем одобрении, все ясно?
Почти рефлекторно Аманда выдержала паузу, ожидая, что он извинится, как извинялся всегда, когда отчитывал ее, – пожалуй, на протяжении всей ее жизни.
Но на сей раз он не извинился.
– Мы едва знали Генри, когда ты вышла за него, и ты не слышала, чтобы мы жаловались.
– Ну, мама все же немного ворчала…
– И о вашем разводе мы узнали только после того, как он вернулся во Францию, так что не нужно мне говорить, что слишком быстро, а что нет.
– Это не одно и то же. Я была молода. Молодые люди иногда поступают так, когда ищут себя.
И тут он сказал ей самое подлое из всего, что когда-либо говорил, и еще более жестокое оттого, что оно было правдой на сто процентов:
– Со своей манерой разрушать все, к чему прикасаешься, Аманда, ты будешь искать себя до конца жизни.
За это он извинился немедленно, обвинив в своей несдержанности некую мифическую затяжную простуду, но было поздно. Ей показалось, будто ее пронзили стрелой навылет. Очень меткой стрелой. С тех пор они больше не разговаривали. Ничего особо драматичного – она была уверена, что снова заговорит с ним как-нибудь вскорости, тем более что она вовсе не собиралась мешать Джею-Пи видеться со своим заслуженно обожаемым grand-père.
Нет, сильнее всего Аманду ранило осознание того, что слова, которые она сказала Кумико на вечеринке, оказались правдой. Аманда действительно не могла насытиться даже тем, что уже заполучила. И это действительно был яд, причем совсем не сладкий.
Безумные сны ее добивали. Регулярные и настолько странные, что вся ее личность, казалось, распадается на кусочки. От снов этих она просыпалась в изнеможении. Возможно, всему виной была ее странная лихорадка, но боже мой! Она лежала навзничь, и ее мочевой пузырь довольно жестко напоминал ей, что, если б она не спала, ей стоило бы сходить в туалет – примерно такой же симптом, как у ее отца, о котором она никогда не знала. На электронных часах значилось безумное сочетание из трех цифр – 3:47. Через несколько часов на работу, ей нужно хоть немного поспать. Она вздохнула и встала, надеясь завершить все поскорее.
Но воспоминание о работе вызвало мысли о Рэйчел, и, шагая по коридору, она почти совсем проснулась. После той вечеринки Рэйчел стала еще более странной, пустившись в какой-то дрейф между абсолютным счастьем и полным безумием.
– Он слишком уж гладенький, – сказала Аманда в беседе с Мэй сегодня утром, когда они обсуждали звездящего телеактера, начавшего сниматься в реалити-шоу, действие которого происходит в джунглях. – Все равно что смотреть на смазливого мальчонку десяти лет от роду – кому это на фиг нужно?
И тут же обе вздрогнули от хохота, которым взорвалась сидевшая рядом Рэйчел. Они даже не подозревали, что она слушает.
– Это ты о Майкле Джексоне? – добавила она, наклоняясь вперед со слегка пугающей улыбкой.
– Не смешно? – ответила Мэй, немного напрягшись. – Он уже умер? И вообще он мне нравился?
– Господи Иисусе! – воскликнула Рэйчел, ошалело глядя на Мэй. – Как меня бесит, когда разговаривают вопросительными интонациями! – Она повернулась к Аманде: – Кстати, Аманда, твоя работа в Эссексе выше всяких похвал. Я уже сказала Фелисити, что это твоя заслуга.
И она засмеялась снова, отчего у Аманды в кои-то веки выпала челюсть примерно так же, как у Мэй.
Возможно, Рэйчел и правда переживала затяжной нервный срыв. Ее веселость не то что бы выглядела странно – скорее бедняжка сама напоминала неразорвавшуюся гранату. Все, что можно было делать, находясь с нею рядом, – это держать дистанцию и надеяться на лучшее.
Аманда шагнула в ванную, уселась на ледяной унитаз, содрогаясь от холода. Положила руку на батарею, пытаясь хоть немного согреться. Ванная комната, по странной прихоти архитекторов, располагалась в самом углу квартиры. Вместо того чтобы разместить здесь гостиную, и тогда из окна отрывался бы прекрасный вид, здесь устроили отхожее место, со всеми вытекающими – в прямом смысле слова – последствиями.
Свет включать она не стала, хотя надежда сберечь только самый минимум сознания таяла в темноте, в которой вагончик за вагончиком растворялся бесконечный паровоз ее мыслей и в которой с каждой секундой все больший холод пронизывал ее между ног. Чарующий лунный свет, проникавший в окошко, несомненно, добавил бы некоторую сумму к стоимости ее жилища, если бы, конечно, какой-нибудь романтик взялся оценивать его, сидя в ночи на этом унитазе. Еще немного – и при этом свете можно было бы читать.
Она справила нужду, подтерлась, слила и встала, натягивая повыше заношенные трусы-для-спанья-в-одиночку.
И вдруг застыла.
«Какого черта?» – пронеслось в голове, а потом ее развернуло над унитазом и вырвало во все еще утекавший водоворот.
Та-ак. Вот теперь она проснулась окончательно.
– Кроме шуток, – прошептала она, содрогаясь. – Какого черта?!
Она выждала в панике пару секунд – не стошнит ли еще? Сегодня вечером она не выпивала, не ела ничего сомнительного. Да, ее немного потряхивало, но никакой тошноты всю эту неделю, да вот и с…
Стоп.
Она заставила себя додумать проклятую мысль.
Да вот и Генри она заставила надеть резинку.
(Заставила?)
Да.
(Да?)
Она сползла спиной по стене. Да, конечно, заставила, они ж не идиоты, чтобы так рисковать, все было автоматически. Так ведь?
Когда были последние месячные? Цикл, конечно, у нее часто сбивается, да, но все-таки…
– Ладно, признайся: придумала себе страшилку! – прошептала она в освещенный лунный полумрак.
Она уже и не помнит, когда эти дела были в последний раз, но ведь они с Генри таки надевали эту чертову резинку. Без вариантов. Потому что так положено. Вот и все.
Она подождала еще немного, но больше ее не рвало. От резкого распахивания рта растрескавшиеся губы опять болели, и, прополоскав рот, она смазала губы кремом…
Именно тогда и раздался этот звук – возник и оборвался так неожиданно, словно кого-то ошпарили ледяной водой на морозе.
Аманда окаменела.
Вокруг повисла такая тишина, что она уже решила, будто придумала этот звук сама. И тут же разозлилась на себя: какой идиот станет придумывать звуки? Это, в свою очередь, напомнило ей одну из тех идиотских реплик в ужастиках, которые произносит жертва, прежде чем главный садист убьет ее медвежьим капканом.
Нет. Она определенно что-то слышала. Нечто громкое, снаружи дома.
Что же?
Крик какого-то зверя? Она бросила взгляд за окно, обрамлявшее полную луну. Из него открывался, увы, куда менее чарующий вид на автостоянку и оживленную улицу. Она жила на четвертом этаже, куда даже в тихие для города 3:47 утра никаким лисам просто не докричаться, да и звук этот совсем не походил на лисий крик. Лисы вообще подобны актерам немого кино – все так же прекрасны на вид, но с приходом экранного звука обречены на унизительное карканье.
Она приблизилась к окну – так, что стекло запотело от дыхания. Снаружи не было ничего, кроме спящих на парковке автомобилей в желтом свете единственного фонаря. По дороге за парковкой тоже никто не ехал, не было даже ночных автобусов, под чей регулярный рев она училась засыпать месяца три. Она наклонилась над ванной, чтобы выглянуть из другого окна, которое выходило на ту же парковку, только под другим углом, и на крышу здания, в котором располагались офисы сразу нескольких фирм-однодневок с сомнительными названиями.
Ничего. Все, что слышно, – только собственное дыхание да тиканье счетчика на батарее.
Чем же это могло быть? Надрывный звук, словно крик неизбывного горя. Или рыдание по любимому человеку, который уже никогда не ответит.
– Так, ну хватит, – одернула себя Аманда, дрожа от холода. – Это просто лиса. А не какая-нибудь оперетта.
По-прежнему ничего не происходило, и она вышла из ванной, остановившись лишь на секунду, когда в ее животе опять заурчало так, словно кто-то другой там, внизу…
Нет! Только не кто-то другой. И даже близко ничего подобного. Это обычная тошнота. Тошнота, и более ничего. Несмотря на все его траханья-с-бывшей-женой-пока-его-нынешняя-возлюбленная-играет-в-собственную-мамочку – что, конечно, не делает ему чести, – Генри все-таки человек ответственный и разумный. Он никогда и в мыслях не стал бы так рисковать. К тому же она сама видела, как он надевал…
Точно видела?
– О, ч-черт… – прошептала она.
Она попыталась вспомнить, как это все случилось, как и что проделывал Генри на ее диване, – и да, на самом краешке памяти всплыла картинка: вот он надевает на себя что-то, пока она расстегивает лифчик. Но весь эпизод показался ей слишком быстрым и сумасбродным, чтобы отчетливо разобрать, видела ли она это действительно – или же он просто возбуждал себя, как любой мужик, оказавшийся пленником ситуации, когда эрекция наступает не сразу? Да и откуда бы он его взял, этот чертов презерватив? В квартире Аманды резинок не было, а ему-то зачем таскать их в кармане, если он вот уже два года подряд живет со своей Клодин…
– Стоп, – твердо велела она себе. – Прекрати сейчас же.
Как ни досадно, она даже не могла позвонить Генри, чтобы все прояснить, поскольку с ним тоже поссорилась. Разумеется, из-за Джея-Пи. Генри хотел, чтобы сын приехал к нему в Монпелье на целые две недели. Он называл это «правильно познакомить Жан-Пьера с Францией».
– Ни за что, – заявила Аманда.
– Нельзя говорить «ни за что», Аманда, – сказал он тогда. – С этих слов не начинают подобные диалоги.
– Ему всего четыре. Когда мы выезжаем с ним на пикник, он просится домой, уже начиная с обеда. Когда он подрастет…
– Когда он подрастет, я стану ему чужим дядей. Я ему и так уже чужой…
– Это неправда. Когда он требует тебя, я никак не могу заставить его заткнуться.
– Вот видишь? Ты заставляешь его заткнуться!
– Генри, – зарычала она в досаде на себя. – Он слишком мал для двухнедельного путешествия.
– Хорошо, тогда неделя.
– Он слишком мал и для недели…
– То есть дело во мне. Ты должна это признать, Аманда. Ты сердишься на меня за то, что произошло.
И тогда она сказала, иронизируя над ситуацией:
– О боже! Ну почему мужики так бесконечно глупы, когда дело касается секса?
Несколько следующих минут они посылали друг друга как можно дальше на французском, после чего вопрос о Джее-Пи был сочтен «полностью решенным» с ее стороны и «подлежащим обсуждению» – с его.
Она заглянула в комнату сына. Еще слишком маленький для новой подростковой кровати, он разметался поперек нее поверх пухового одеяла с вихляшками Завро, но даже в такой позе не занимал и половины отведенного ему места. Она вошла и укрыла его одеялом.
– Се sont mes sandales, – пробормотал он, не открывая глаз. – Ne pas les prendre[20].
– He буду, малыш, – сказала она и поцеловала сына в лоб, стараясь не касаться его трещинкой на губе. – Обещаю.
Джей-Пи уткнулся в подушку с вихляшками Завро и провалился обратно в сон. В лунном свете он был прекрасен. На глаза Аманды опять навернулись слезы.
– Господи боже… – прошептала она.
Будь она и вправду беременна, это хотя бы объяснило эмоциональные срывы последних дней. Ее ревность к отцу. И то непостижимое, но жутко неприятное чувство, будто Кумико у нее отнимают. Это объяснило бы даже то пьянящее ощущение, возникшее у нее, когда Кумико угощала ее рисовым пудингом и кончики ее пальцев прикасались к губам Аманды, да и саму эту их связь, неожиданную… да, насколько полагает она сама, запретную и удивительную, которая потрясла ее до такой степени, что пальцы невольно снова и снова тянулись к губам, чтобы воспроизвести это ощущение вновь.
Это детский сад, это сумасшедший дом, но Аманде и правда казалось, будто женитьба Джорджа на Кумико лишает ее чуть ли не главного шанса в жизни. Дальше все будет только мельче, бессмысленней. Она все еще оберегала от посторонних глаз тот подарок Кумико, ту губительно прекрасную табличку (именно губительную, не правда ли, ведь она увидела ее и погибла), столь же ревностно, сколь и отчаянно. Теперь она прятала ее в ящике для чулок, больше никогда не брала с собой на работу и не рассказывала о ней никому, даже Джорджу.
Будь Аманда с собою честна (что не просто, ведь правда так неприглядна), она признала бы, что оберегает все это – табличку, ощущение от кончиков пальцев на губах, свою ревность – в слабой и тщетной надежде на то, что однажды Кумико еще поделится с нею своими непостижимыми тайнами. И возможно, точно так же и Аманда однажды поделится с нею своими – и обнажит перед нею изъяны, которые прячет под своим черепашьим панцирем и которые в итоге окажутся совсем не изъянами…
Но все это теперь стало невозможно, поскольку именно за Джорджа Кумико собирается выйти замуж. Какая бы тесная дружба их ни связывала, с Амандой Кумико никогда не будет обсуждать все эти невероятные вещи. И от этого на глаза опять навернулись слезы. Никаких логических объяснений. О господи, если бы все объяснялось беременностью…
– Мама? – позвал из кровати Джей-Пи. – Ты что, плачешь?
– Нет-нет, милый, – ответила она, тут же утерев слезы. – Это просто луна светит. Красиво, правда?
– Иногда я сам луна. Когда сплю.
– Я знаю. – Она поправила локон на его голове. – Вот почему ты такой голодный по утрам.
Он улыбнулся, закрыл глаза. Аманда постояла над сыном, убедилась, что он заснул, удостоверилась в том, что ни плакать, ни рвать ее больше не тянет, и поплелась по темному коридору к себе в спальню, путаясь в мыслях, от которых никак не избавиться.
Ведь что, если она и вправду?.. О, ч-черт, неужели?
Она приложила ладонь к животу, не понимая, что конкретно должна ощущать в этом случае. Было бы крайне, бесконечно сложно объяснять людям, почему Джей-Пи так похож на своего братика или сестричку, не говоря уже о Клодин, от которой пришлось бы скрывать эту тайну целую вечность…
Да уж. Это была бы катастрофа.
Которой не будет. Потому что она не беременна. И все. Залет по случайному сексу, о котором сама же и сожалеешь, случается только в кино…
Хотя, конечно, в этом были бы и свои плюсы. Она так безумно любила Джея-Пи, что если бы у него завелся братик или сестричка…
Она вздохнула. Сколько «за», столько и «против».
– Но ты не беременна, – прошептала она, забираясь под одеяло и сворачиваясь поуютней. – Не беременна. Не беременна.
И в эту секунду звук повторился.
На этот раз он был гораздо отчетливей – глубокий, протяжный и такой неземной, что она выскочила из постели и подбежала к окну.
Но ничего не увидела, кроме все тех же автомобилей. Ничто не двигалось – ни на свету, ни в тени, хотя в некоторых углах потемнее вполне могло что-нибудь шевелиться. Но ее сердце чуть не выпрыгивало из груди, потому что звук этот раздался никак не с земли четырьмя этажами ниже. Он раздался прямо за ее окном. За которым конечно же не было, не стояло, не висело ничего, что могло бы издать такой стон, такой зов, такое рыдание…
Откуда б оно ни раздавалось, несомненно одно: это действительно было рыдание. Точнее, плач в старинном понимании этого слова, каким отпевают покойников, – возможно, не такой древний, как Египет, но древний, как этот лес, который кажется спящим, пока оттуда не слышно ни звука. И плач этот раздавался прямо за ее окном, неизвестно – чей и по кому, но разрывающий душу так, что она больше не стала сдерживаться и разревелась в подушку, потому что на сей раз это было правильно – рыдать, не жалея слез.
Ведь что может быть печальнее этого мира со всеми его нуждами?
Ей снова снился вулкан, но теперь вулканом стала она сама, и сама же себя терзала – да, терзала, именно это слово она повторяла во сне, – его руками сжимала свою голую спину, его пальцами проникала в свой бунтующий пах, его ладонями стискивала свою грудь, откидываясь на холмы и города под шеей и чувствуя, как это важно, чтобы вулкан открыл глаза, чтобы она увидела его взгляд, но, как она ни умоляла его, он отказывался, и глаза его оставались закрытыми, даже когда он вошел в нее, и не успела она возразить, как он уже делал с ней то, что и должны делать все вулканы, – извергался, извергался, как самый настоящий изверг, и от этого каламбура она расхохоталась во сне, продолжая позволять ему делать с ней все, что он хочет…
Она не стала просыпаться в этот раз.
Видимо, просто не захотела.
* * *
19 из 32
И вот настает последний день.
Она летит за ним на очередную войну. Земля расползается по швам, выплевывая лаву, огонь и пар, которые тянутся за вулкановыми любимцами, а те заполняют узкие улочки города, убивая мужчин, насилуя женщин и выбрасывая на дорогу младенцев.
Она проходит через всю эту бойню с грабежом и мародерством, поскальзываясь в лужах крови. Она плачет по этому миру – их детищу, которое никогда не было их детищем, плачет по своему любимому чаду, боясь, что потеряла его навсегда. Ей не хочется знать, правда ли это. Для них обоих это правда, и слава богу.
Вот только достаточно ли этого?
20 из 32
Вулкан воюет везде и нигде – все вокруг указывает на его вездесущее отсутствие. Вместо него самого она находит маленького генерала его армии, которому кажется, что он ведет солдат в бой, хотя конечно же «ведет» он их ничуть не успешней, чем звук горна – убегающих в панике быков. Его подбородок перемазан кровью врага, которого он только что пожирал.
Завидев ее, маленький генерал бросает врага и отвешивает ей учтивый поклон.
– Госпожа, – говорит он.
– Ты знаешь, кто я?
– Все знают, кто вы, госпожа.
– Ты сражаешься за моего мужа.
– Да, госпожа. – Он указывает на распотрошенного врага, который теперь хватает собственные кишки и запихивает обратно в живот. – Но и он делал то же самое. Мы все сражаемся за вашего мужа, госпожа.
– И ты не устал? – спрашивает она, летая над ним по кругу.
Он смотрит вверх с удивлением.
– Устал, госпожа, – отвечает он, истощенный и разочарованный.
– Ты не ищешь войны? – спрашивает она, подлетая к нему сзади.
– Нет, госпожа.
– Ты ищешь прощения.
Несколько секунд он молчит, но когда она подлетает к нему с лица, он вытягивается в струнку, очень гордый собой:
– Как прикажете, госпожа.
– Должна ли я прощать тебя? – спрашивает она в нерешительности.
Маленький генерал расстегивает форму и обнажает свою грудь:
– Как госпожа пожелает.
Она приближается к нему. Его глаза ничего не скрывают. Но она все еще не уверена.
– Это не делается из злости, – говорит она. – Это делается только из любви.
– Госпоже поможет, если я заплачу?
– Еще как.
Маленький генерал плачет.
– Спасибо, – говорит она, пронзает его грудь двумя пальцами и останавливает ему сердце.
21 из 32
Он не умирает. И даже не благодарит ее.
– А теперь я выгрызу тебе глаза, – говорит она по-прежнему неуверенно.
– Только прошу, госпожа, поскорее, чтоб я не мучился долго, – просит он, и в его словах слышится правда.
Но слова эти предлагают иной способ мучения, нежели просто смерть.
Она наклоняется, все еще в нерешительности, чтобы выгрызть ему глаза, но в последний момент замечает.
Там, внутри них, глубоко в прошлом, задолго до юности и рождения генерала, задолго до истории с их-миром-их-детищем, приведшим маленького генерала туда, где он теперь есть, в этот город-скотобойню, на это поле брани, там, глубоко-глубоко, полыхает зеленое пламя.
22 из 32
– Мы с тобой одно и то же, госпожа, – говорит вулкан, выглядывая из генеральских глаз.
– Нет, мы разные, – возражает она.
– Мы разные – и мы одно и то же.
Она открывает рот, чтобы возразить ему, но вдруг обнаруживает, что не может.
– Ты предал меня со своим маленьким генералом, – говорит она вместо этого.
– И ты предала меня с ним же. – Он выбирается из генеральских глаз, разбрызгивая ошметки плоти по цементным стенам. На нее не попадает ни кровинки. – Но, как ты видишь, госпожа, я ничем не могу обидеть тебя.
– А я – тебя.
– Мы должны это прекратить, – говорит он. – Мы не можем быть вместе. Мы не подходим друг к другу. Наш общий финал – только в разрушении. Так должно быть, как и должно было быть всегда.
– Я не могу.
– Можешь, госпожа.
23 из 32
Он встает перед ней на колени, его глаза пылают серой и калием – горячей центра Земли и даже горячей центра Солнца.
И эти глаза плачут. Лавой, которой хватит, чтобы наполнить океан. Город вокруг них ужался до пепла и кипящего камня.
– Я предал тебя, госпожа, – говорит он. – С того дня, когда мы повстречались с тобой, и до секунды, когда я говорю эти слова, я предавал тебя. Так поступают вулканы, госпожа, и я не могу этого изменить – точно так же, как не могу обидеть тебя.
Небо чернеет. Мир под ним содрогается.
– Итак, госпожа, – говорит он. – Этот день пришел. Наш последний день. Уготовленный нам с того мгновения, когда встретились наши глаза.
Он вырывает плоть из левой половины груди, и Землю затапливают оползни и лава. Он показывает ей свое пульсирующее сердце, сочащееся яростью и истекающее огнем, точно кровью.
– Ты должна простить меня, госпожа, – говорит он.
– Я… – И больше не находит слов.
– Ты должна, госпожа, или я найду, как уничтожить тебя. Ты знаешь, что это правда. Мы не предназначены друг для друга.
– Мы предназначены только друг для друга.
– И это правда. Мы одно и то же, и мы разные, и каждая секунда, когда я не могу сжечь тебя, расплавить тебя, уничтожить тебя насовсем всей моей любовью к тебе, – это адская мука от невозможности проникнуть в тебя. А потому я буду и дальше разрушать наше детище – этот мир. – Он наклоняется к ней, и его обнаженное сердце бьется все быстрее. – Если только ты не простишь меня – однажды и навсегда, госпожа.
– Я не могу.
– Ты знаешь, что я говорю правду, госпожа.
– Да.
– Тогда действуй. Проткни мое сердце. Ослепи меня.
– Не могу.
Его глаза вспыхивают.
– Тогда ты не любишь меня.
24 из 32
Она вздыхает. И поднимает руку, чтобы пронзить его сердце.
– Вперед, госпожа, – говорит он, закрывая глаза. – Прости меня. Умоляю.
Ее рука зависает, готовая упасть, готовая завершить его мучения, которые – и она понимает это – так же тяжелы для нее, как и для него. Она любит его, и всё это невозможно. Она ненавидит его, и это тоже никуда не годится. Она не сможет с ним быть. Она не сможет быть без него. И обе ее руки горят, одновременно правые в том, что готовы перемолоть все клише, все заезженные шаблоны в дорожную пыль.
Но чего она не сможет – чего она не сможет уже потому, что это не имеет альтернативы, не сможет никак, ни за что, никогда, – так это простить его.
За то, что он любит ее. Обжигает ее. Желает ее. За то, что он заставляет ее мстить ему самим фактом своего существования.
Она не сможет простить его никогда.
Она никогда не избавит его от страданий. Как и себя.
Она опускает руку и дарует ему жизнь.
– Тебе нужно идти.
– …
– …
– Ты серьезно?
– Серьезно.
– Но сейчас три… нет, уже почти четыре утра!
– Я хочу, чтобы ты ушла.
– …
– …
– Ты очень тяжело дышишь, Джордж. Ты нормально себя чувствуешь?
– Пожалуйста, я прошу, чтобы ты…
– Но какая разница, уйду я сейчас или через пару часов?
– Рэйчел…
– Ты же сказал, что сегодня она у тебя не остается – она работает дома. Чего ты, как ни странно – и как ты сам жалуешься, – до сих пор ни разу не видел.
– Да, не видел.
– Какое в тебе странное сочетание силы и слабости, Джордж.
– У тебя изменилась манера речи. Ты заметила?
– Люди меняются. Люди – становятся.
– Люди… что??
– Ты вообще знаешь, почему я здесь? И зачем ты позволил мне прийти к тебе сегодня?
– Чтобы я смог тобой обладать.
– Чтобы ты… ох, ладно, ты победил. Странный вопрос, понятное дело. Хотя, впрочем, нет – на самом-то деле это я позволяю тебе мной обладать. Большая разница! И когда я так поступаю, я тоже владею тобой, разве ты не видишь? И разве не этого ты боишься с ней? Того, что ею ты не обладаешь.
– Все это совершенно на тебя не…
– А если ты не обладаешь ею, как она может обладать тобой? И разве это ей нужно? Ты ведь только об этом и думаешь, правда? Думаешь, с одной стороны, она, конечно, лучшее, что когда-либо происходило в твоей печальной маленькой жизни; но с другой стороны, а не пошла бы она к черту со всеми своими секретами и неуловимостью! Вот и пошли ее куда подальше. Ведь это ты разозлился на нее и поэтому позвонил мне, а не наоборот, ты не забыл?
– Рэйчел, я правда хочу, чтобы сейчас ты ушла.
– Но здесь вопрос глубже. Если она не позволяет тебе обладать ею, как она может хотеть обладать тобой? Ведь все, чего мы хотим, это кому-то принадлежать, разве не так, Джордж?
– Убери, пожалуйста, оттуда руку, прошу тебя. Я попросил тебя уйти.
– Но все дело в том, что…
– Слезь с меня.
– А ты заставь меня! Все дело в том, что я знаю, что именно ты чувствуешь. И прекрасно понимаю, каково это.
– Рэйчел, я сказал…
– Один последний разок, Джордж. Мы ведь оба знаем, что больше шанса не будет. Я на таблетках, так что о последствиях не беспокойся. Вот и все, это единственное, чего я прошу, один последний раз – и я уйду.
– …
– …
– …
– Но прежде, чем я это сделаю…
– Рэйчел!
– Я должна тебе кое-что сказать. Все эти годы я играла в обладание кем-нибудь, ты заметил? Постоянно старалась кого-нибудь удержать при себе. Но знаешь ли ты, какое это страшное одиночество, Джордж?
– Я…
– Нет, ты не знаешь. Ни черта. Тебе только кажется, что ты знаешь цену одиночеству, но ты не понимаешь. Потому что позволяешь другим обладать тобой. И всем вокруг именно это в тебе и нравится. Хорошо, если они пообладают тобой, а потом насытятся и пойдут себе дальше, но я сейчас не об этом. Я о том, что, когда они встречают тебя впервые, ты предлагаешь им себя, Джордж. Вот в чем дело. Ты раскрываешь им объятия и говоришь: вот он я, берите меня, обладайте мной…
– Рэйчел, ты плачешь?
– А ты – нет?
– Этот свет. Лунный свет. Он так странно отражается в твоих глазах…
– А если тобой обладают, то обладаешь ты сам, так устроено в любви. И что же ты собираешься делать с Кумико? А теперь чуть быстрее, Джордж, мы почти у цели…
– Рэйчел…
– Ты сам плачешь. Это хорошо. Ты заслужил. Вот чего я никогда не понимала в тебе, Джордж. Я думала, с тобой все будет так же, как и со всеми остальными идиотами, с которыми я спала. Такое вот обладание без обратной отдачи. Но с тобой… Я обладала тобой, Джордж, а ты обладал мной. И вот почему я не могу тебя простить.
– Рэйчел…
– И вот почему не могу с тобой расстаться.
– Я прошу тебя…
– И вот почему я. Сегодня здесь. И почему. Все это. И происходит. Еще… Еще!
– Кумико.
– Да, я знаю. Скажи ее имя. Я тоже скажу. Кумико.
– Кумико.
– Кумико.
– Кумико.
– …
– …
– …
– …
– Ну, вот и все, Джордж. Теперь просто поплачь. Ты предал свою любовь, и поплакать над ней будет правильно. Ну, а я пойду.
– Твои глаза…
– А что такое?
– Твои глаза.
– Это просто мои слезы, Джордж. Боюсь, мне еще долго не выплакать их до конца.
– …
– …
– Ты это слышала?
– Нет. Что?
– Такой звук, словно прямо за окном…
– Я ничего не слышала, Джордж. Как, впрочем, и ты.
Часть IV
Джордж вырезал свою последнюю фигурку.
Он поднял голову от стола. Последнюю. Какое странное слово. Разумеется, она не последняя, просто финальная, для последней таблички в серии Кумико – той, которой завершится сюжет истории. Она хотела закончить эту работу до свадьбы, но конечно же потом они оба еще много чего создадут…
Так что никакая она не последняя. И не финальная. Нет.
Он вытер со лба струйку пота и вернулся к работе. Не говоря уже о том, что изматывающая лихорадка заставляла его переживать все чересчур эмоционально, в последние дни Джордж не переставал ощущать какую-то зудящую тревогу. Это касалось и неожиданной помолвки с Кумико, и ее непрекращающейся скрытности (она все чаще пропадала у себя, желая поскорее закончить свою серию), и его ссор с Амандой, которую он всякий раз за что-нибудь отчитывал.
Но что самое тревожное – он переспал с Рэйчел. Он почти буквально не мог представить, что такое случилось в реальности, а не в бреду. Он и правда был в полубреду, когда позвонил ей, в полусне, когда она тут же примчалась в его дом-без-Кумико, в полудреме, когда они провели ту ночь в его постели. Секс у них вышел безрадостным, словно по принуждению, – так, должно быть, чувствуют себя наркоманы, когда кончаются последние крохи их зелья, но Рэйчел оказалась права. Он мог обладать ею (а она – им) ненадолго, но полностью, чего с Кумико у него никогда не случалось – да, видимо, случиться и не могло. Кумико была в принципе непостижима, сколько еще ему нужно для этого доказательств? Она слишком походила на персонаж из истории про богиню, и он испугался, и он разозлился, и…
– Болван, – прошептал он себе, располосовал бритвой страницу книги, над которой работал, и выкинул ее в мусор.
Он переспал с Рэйчел. Он переспал с Рэйчел. Он переспал с Рэйчел. Кумико не знала об этом, просто не могла бы узнать, к тому же он был почему-то уверен, что и Рэйчел не станет об этом болтать. Но какая разница? Урон уже нанесен.
– Неважно выглядишь, Джордж, – сказал ему Мехмет из-за конторки, где должен был заниматься изготовлением беджиков для конференции, но вместо этого забавлялся сочинением флаерса для какой-то театральной пьески, в которой ему каким-то чудом досталась эпизодическая роль.
Насколько понял Джордж, действие пьески строилось на интерактивном общении с аудиторией при полной мужской обнаженке, и ставилась она в каком-то дешевом клубе.
– У меня все в порядке, – соврал Джордж. – А то, чем ты занят, очень мало похоже на работу.
Мехмет пропустил это мимо ушей:
– Знаешь, мы все до сих пор ждем, когда ты объявишь дату.
– Какую дату?
Мехмет поперхнулся.
– Дату вашей свадьбы. Я полагаю, для нас это будет выходной?
– Да, скорее всего.
– Ты радуешься?
– Я работаю, Мехмет. И тебе рекомендую.
Мехмет отвернулся обратно к компьютеру:
– Даже не знаю, чего я дергаюсь…
Джордж поднял взгляд от стола:
– Ну, так не дергайся.
– В смысле?
– Ты мог бы найти себе и другую работу. Куда более тебе подходящую, чем печатная студия. Продавцом в театральной кассе, к примеру. Или гидом для туристов.
– Гидом для туристов… – почти выплюнул эти слова Мехмет.
– Ты знаешь, о чем я.
– Но что бы ты делал без меня, Джордж?
– Видимо, то же, что и с тобой. Только с меньшими проволочками.
Мехмет крутанулся в кресле и уставился на Джорджа:
– Ты что, действительно не понимаешь, а?
– Чего, прости?
– Кто все эти люди вокруг тебя. То, как они себя ведут.
– Что за ерунду ты несешь…
– Они преданы тебе, Джордж. Ты источаешь благонадежность. Лучший друг собственной дочери. Лучший друг своей бывшей жены.
– Не думаю, что лучший…
– И Кумико – достаточно красивая, талантливая и загадочная, чтобы покорить сердце любого мужчины на свете, – почему-то выбирает тебя. Ты когда-нибудь задумывался почему?
Джорджа бросило в жар – видимо, из-за лихорадки.
– Это не потому, что я благонадежен.
– Это потому, что ты вызываешь в людях благонадежность. Никто не хочет тебя подвести. Это, конечно, их слегка раздражает – и меня в том числе, – но они все равно не отстают от тебя, потому что хотят знать, что у тебя все в порядке. – Мехмет пожал плечами. – Ты нравишься людям. А они нравятся тебе, и это означает, что они стоят того, чтобы тебе нравиться, не так ли?
Пожалуй, это было самое милое, что Мехмет когда-либо ему говорил, и посреди всего этого безобразия Джордж даже ощутил приступ любви и доброты.
– Ты уволен, Мехмет.
– Что?!
– Я не сержусь на тебя. И даже не разочарован тем, как ты работаешь. Хотя, может, и есть немного. Но если ты останешься здесь, однажды тебе придется взвалить дела всей студии на себя, и это будет самое печальное событие на свете. Ты заслуживаешь лучшего.
– Джордж…
– У меня в банке тонна денег от этих чертовых табличек. Я выплачу тебе солидную компенсацию. Но тебе нужно браться за ум, Мехмет. Я серьезно.
Мехмет открыл было рот для возражений, но вдруг застыл:
– Насколько солидную?
Джордж рассмеялся. Что в последнее время случалось все реже.
– Рад был знакомству, Мехмет.
– Что, я должен уйти прямо сейчас?
– Нет. Конечно нет. Сперва закончи с беджиками для конференции.
Джордж вернулся к вырезанию, но руки очень быстро теряли былое проворство. Он посмотрел на первую табличку, которую они с Кумико создали вместе, все еще висевшую на стене над его столом. Дракон и Журавушка – опасность и безмятежность – смотрели на него со стены. Чудо первого шедевра. Как это ему тогда удалось?
И как ему, черт возьми, это сделать теперь?
Через день после вечеринки Кумико аккуратно расставила все таблички из своей «личной» серии на книжных полках в его гостиной – по кругу, так, чтобы вся история рассказывалась по порядку.
Мандала его души, составленная из ее табличек. Он сосчитал их. Тридцать одна.
– Осталось закончить всего одну, – сказала она.
– Конец истории, – отозвался он. – Будет ли он счастливым?
Она улыбнулась так, что у него защемило сердце:
– Смотря что ты считаешь счастливым.
Джордж обвел взглядом таблички:
– Все, как всегда, зависит от случайных обстоятельств, не так ли? И счастье каждого может улетучиться в любой момент.
Она посмотрела на него:
– Ты боишься, что у тебя можно отнять твое счастье, Джордж?
– А кто этого не боится?
Она задумалась, глядя на предпоследнюю табличку.
– Еще одна, – повторила она, – и конец этой истории.
Еще одна – и конец, думал он теперь, глядя на недовырезанную фигурку и гадая, какие кусочки бумаги куда и как добавлять и что, вообще говоря, постепенно из них получается. Эта фигурка предназначалась для последней таблички Кумико, которая, как всегда, отказалась сообщить ему, чего именно от него хочет. Впрочем, «отказалась», пожалуй, слишком сильное слово, скорей уж она просто избежала ответа, когда он об этом спросил, но с каждым днем его беспокойство усиливалось. Ибо это все больше походило на экзамен, который он может вот-вот завалить.
– Ты – художник, Джордж, – сказала она. – Прими это как данность. А если ты художник, ты поймешь, когда нужная форма появится из-под твоей руки.
– Но над чем работаешь ты? Если бы я знал…
– Лучше тебе не знать.
И тогда Джордж, к своему же удивлению, съязвил:
– Еде-то я уже это слышал…
Они не ругались после этого, но в воздухе теперь повисла холодная вежливость. Возможно, им и правда следовало бы наорать друг на друга, поссориться по-настоящему хотя бы однажды, чтобы в итоге либо окончательно расстаться, либо – и Джорджу это казалось наиболее вероятным, и вовсе не потому, что он сам жаждал этого, – сблизиться еще сильнее. Но вместо этого она (вежливо) настояла на том, чтобы уйти к себе, заявив, что ей крайне важно закончить работу прежде, чем она окончательно переселится к нему.
Он надеялся, что это отнимет у нее сутки, ну двое, но дни шли за днями, затем пролетела неделя, а Кумико все работала у себя и не спешила переезжать к нему насовсем. Мало того, неделя эта сопровождалась проклятой лихорадкой, а также сплошными неудачами в собственной работе, и вот в один ужасный, отвратительный вечер после того, как он прождал ее целый день, в его голову закралась одна-единственная, но смертоносная мысль о том, что она просто не любит его.
И мысль эту оказалось слишком страшно вынести в одиночестве.
Это не заняло и нескольких секунд, непостижимых и мимолетных, но он вдруг понял, что уже взял телефон и набрал номер Рэйчел.
– Джордж, – отозвалась она так, будто заранее знала, что ему нужно.
Примчалась она сразу же, невзирая на поздний час, и показалась Джорджу совсем немного, но все же безумной.
Но это не остановило его.
– Это для вашего большого проекта? – спросил Мехмет, выныривая из-за его плеча так внезапно, что Джордж подпрыгнул на месте.
– Боже, Мехмет, я чуть не порезался! – воскликнул он. – Какого большого проекта?
– Ходят слухи…
– Какие слухи? У нас просто небольшой перерыв, вот и все.
– Главное – заглядывать в правильные источники, Джордж, а с этим у тебя нелады. Но информация не перестает распространяться лишь потому, что ты этого не хочешь.
– О чем ты?
Мехмет вздохнул так, словно разговаривал с тупым учеником:
– Ваши таблички отлично продавались. Потом вы вдруг прекратили их делать…
– Мы не прекратили, мы просто…
– Я тебя умоляю. Как реагируют люди, когда не могут чего-нибудь заполучить? Они ведут себя как дети. Дайте, дайте, дайте. Если бы вам нужен был меньший спрос, вы бы изготовили уже миллион табличек, а не ноль!
Джордж вернулся к вырезанию:
– Я за всем этим не слежу. Нет никакого большого проекта. По крайней мере, для них.
Мехмет пожал плечами:
– Ну, и ладно. Может, хотя бы сам этот разговор подкинет вам какую-нибудь идею? Искусство – оно ведь на этом строится, правда?
Джордж вздохнул и потер пальцами виски. Ему действительно нездоровилось. Возможно, стоило бы на сегодня с работой покончить. Он вырезал и сам не знал что именно из заплесневелого томика «Золотой чаши»[21], найденного в лавке старьевщика и купленного всего за фунт. Книга эта, как он подозревал, могла бы послужить глубочайшей метафорой для его ситуации, если бы он сам или кто-либо из его окружения удосужился ее прочитать. Но все, что ему было известно о сюжете, он почерпнул из аннотации на задней обложке. Что-то там насчет золотой чаши, подаренной в знак любви, которую раскололи снизу доверху. Он оторвал обложку, выкинул в мусор и принялся терзать лезвием страницы, пытаясь представить, что могло бы понадобиться Кумико для последней таблички.
Но страница уничтожалась за страницей, а ничего не появлялось. Начал он, плохо соображая, что делает, с женских силуэтов – лиц, тел, то одетых, то нет, – а один раз даже вырезал женскую грудь с огромным соском – такую примитивно вульгарную, что тут же измял ее и ушел на обед, пристыженный и печальный. Да что это с ним?
Затем он перешел на фауну. Все-таки именно журавль свел их вместе, и если слово «последний» продолжало витать в воздухе, то, возможно, завершить эту серию животным было бы самым закономерным. Но все его птицы превращались в пингвинов, а все его пингвины становились выдрами. Тигры получались овцами, драконы – мотыльками, а от лошадей оставались только абстрактные геометрические фигуры с неубедительными конечностями.
– Вот ч-черт! – не выдержал он наконец, выкидывая результат, наверное, вот уже сотой попытки.
Еще одна – и он сдастся. Возможно, теперь уже навсегда.
Он вырвал последнюю (опять это слово) страницу вязкой джеймсовской прозы и попробовал прочесть ее в надежде хоть на какое-то вдохновение.
Воистину, она увидела его куда менее доверчивым, увидела, как он блуждает в закрытых сумеречных комнатах, передвигаясь с места на место, или же откидывается на глубоких диванах и разглядывает пространство перед собой сквозь дым нескончаемых сигарет.
Да, кажется, это и впрямь подходило для характеристики старины Джорджа, если учесть, как мало он знал о Генри Джеймсе. Он не сомневался, что текст должен быть блестящим, но это совсем не походило на особую артистичную стилистику, скорей выглядело как писательство в чистом виде. Рисование страницы. Вырезание без надрезов.
А затем – поскольку он все-таки оставался Джорджем – он вдруг ощутил острый укол совести за то, что думает так же, как его собственная дочь, и за то, что так недобр к давно умершему писателю, которого боготворят тысячи, ну или хотя бы сотни читателей и золотая чаша которого, несомненно, означала нечто настолько богатое смыслами, что наверняка могла осветить закрытые сумеречные комнаты его собственной жизни…
Он ненадолго закрыл глаза. Наверное, Генри Джеймс – последний в списке писателей, которых стоит читать, когда у тебя лихорадка. Он протяжно вздохнул, открыл глаза, перевернул страницу. И прочертил на ней бритвой долгий разрез.
Зачем же он звонил Рэйчел? О чем он вообще мог думать в те чертовы секунды?
Он провел бритвой еще одну линию, образовав грубый незаконченный треугольник.
Похоже, он сознательно решил тогда пожертвовать всем, только бы досадить Кумико, но досадить ей так, чтобы она по возможности никогда о том не узнала, и в итоге это, как и следовало ожидать, лишь исполосовало сердце ему самому.
Он проделал в странице еще два разреза, вынул получившуюся фигуру и отложил в сторону.
Он совсем не злился на нее, если честно. Он просто… заблудился. Остался один. Без нее, даже когда она оставалась рядом.
Он покромсал страницу еще немного над дыркой от вырезанного треугольника. Немного на этой странице, немного на той.
И виноват во всем был только он сам. Он никогда не спорил с Кумико, не требовал от нее ничего иного, кроме того, что она давала сама, а значит, у нее были все основания думать, надеяться, верить, что Джордж счастлив тем, что ему дано.
Надрез. Разрыв. Еще надрез. Еще разрыв.
И вот так – глупо, безумно – он ушел к Рэйчел, которая отдалась ему и которой отдался он сам лишь ради того, чтобы обнаружить…
Последний надрез.
…что отдавать всего себя – это слишком. Кое-что – и то уже много. А может, и в самый раз. Что его мир, мир шестидесятипятипроцентного мужчины, заполнился до краев и теперь шел на дно целиком.
Он хотел Кумико. Не было ничего иного, чего стоило бы хотеть и в чем стоило бы нуждаться.
И пожалуйста, пожалуйста, пускай она простит его, даже сама не зная за что. Все, чего он хотел от нее, – это прощения.
Прости меня, умоляю…
– А что, выходит круто! – сказал позабытый Мехмет, все еще стоявший рядом.
– Клянусь богом, Мехмет, – рявкнул Джордж, снова вздрогнув. – Я безумно счастлив, когда меня хвалят так неожиданно!
– Да нет, я серьезно, – отозвался Мехмет. – Очень мило.
Джордж посмотрел на то, что он сделал, на свой рабочий коврик, где различные фигуры слиплись в нечто большее. Его глазам хватило секунды, чтобы понять: вот оно, и этого нельзя не признать.
Он вырезал вулкан. Извергающийся вулкан.
Покрытый словами, добытыми из книги. Изрыгающий огонь, серу, пепел и смерть. Провозглашающий разрушение старого мира.
Но, как всегда, и рождение нового.
Вот то, что он искал. То, что требовалось.
Последняя нарезка.
Можно закончить эту историю.
Он поехал к ней домой прямиком из студии, упаковав вырезанную фигурку в прозрачный пластиковый футляр. Он больше не нервничал по поводу того, что она ему скажет, ибо знал, что его часть работы удалась. Это было совсем не похоже на те вулканы, что он вырезал до сих пор – невозмутимые, мирные, деклассированные увальни, которых она в своих работах никогда не задействовала, – и еще меньше на вулканы, которые делала она. И дело было даже не в разнице между пером и бумагой; этот вулкан родился из-под его пальцев неосознанно, это был вулкан Джорджа, и пускай золотая чаша Генри Джеймса удержит хотя бы несколько цветочков, и спасибо, если не протечет, потому что нынешний вулкан – это именно та необходимая Джорджу метафора, и вовсе не потому, что его огненная лихорадка извергалась подобно лаве.
Опускался вечер, когда он остановил машину у здания, в котором Кумико снимала жилье – квартирку, в которую его не пускали дальше порога. Что никогда не казалось ему странным до этих самых пор – так, лишний штрих к ее тайне, ну не хочет показывать, как она работает, не хочет даже держать его в собственной памяти, ибо это нарушит рабочий процесс. Он легко поверил в это, хотя ей никогда не возбранялось приходить на его рабочее место, в студию.
Он не позвонил ей загодя, тем более что она и так не отвечала на добрую треть его звонков, ну и ладно – возможно, пришло время Джорджу немного ее поудивлять. В хорошем смысле слова. Он припарковался, взял в руки вулкан и опять осмотрел его. Тот выглядел таким правильным, таким разверзнутым – точно прощение, покаянная мольба, исповедь о том, как эта женщина необходима ему; а она не сможет этого не понять – и добавит его вулкан к своей финальной работе, и завершит их историю, соединив их вместе навсегда. Он повернулся, чтобы открыть дверь машины.
И мир подошел к концу.
* * *
Из многоэтажного здания прямо перед ним выходила Рэйчел.
Рэйчел.
Которая не жила и близко от этого места.
Он смотрел, как она шагает от подъезда по тротуару в свете окон фойе и уличных фонарей. Как ищет в сумочке ключи от машины – без тени улыбки, какая-то странно смущенная.
А затем она подняла голову, словно что-то услышала, и уперлась взглядом в него.
Свет снова попал ей в глаза, и те вспыхнули зеленым пламенем, как только ее торопливый взгляд скользнул по его лицу. Рэйчел тут же притворилась, что не узнала его, хотя это было исключено. Опять заглянув к себе в сумочку, она пошла прочь, продолжив поиски ключа на ходу.
Но прежде чем она растворилась в ночи, он успел рассмотреть ее лицо в последний раз – и вновь поразиться, какое оно растерянное, если не разочарованное.
Подняв голову, Джордж взглянул на окна квартирки Кумико. Его желудок словно провалился в какую-то бездонную яму. Как такое могло случиться? Откуда Рэйчел узнала, где живет Кумико, если та с такой неохотой давала свой адрес даже ему? Они что же, встречались раньше? А может, даже давно знакомы? И о чем же они тогда друг дружке рассказывали?
Все кончено. Это ясно как день. И он сделал это своими руками, своим себялюбием, своей жадностью – не к деньгам, которые им принесло их искусство, но жадностью к самой Кумико. Он жаждал ее. Жаждал больше, чем она давала ему, и хотя эта жадность противоречила всем его лучшим качествам и всему, за что он нравился окружающим, он отчетливо ощущал в себе эту страсть. Он жаждал Кумико, а та никак не могла утолить его жажду.
А теперь здесь была еще и Рэйчел. В одном доме с Кумико и, скорее всего, в той же квартирке. Там, где самому Джорджу побывать так и не удалось.
Почему-то – необъяснимо, беспочвенно и жестоко – Джордж начал злиться. Он стискивал пальцами баранку, кривил рот в недовольной гримасе, а от лихорадки уже чуть не светился диким, яростным светом. Мир казался лживым, все вокруг только и делали, что дирижировали его жизнью, снова и снова, словно он такой бесхребетный, что ему все равно. Только ему не все равно. Далеко не все равно, черт бы вас всех побрал.
Он должен увидеться с ней. Это должно как-нибудь разрешиться. Так или иначе, чем-нибудь да закончится.
Он схватил вырезанный вулкан и выскочил из машины, хлопнув дверью так, что автомобиль закачался. Добежал до входа в подъезд и обошелся без кнопки домофона, придержав дверь для какой-то молодой мамаши, выходившей из дома с двумя детьми. Она взглянула на него с подозрением, но потом заметила фигурку вулкана в его руке и спросила:
– Кумико?
– Да! – коротко бросил он и рванул в подъезд мимо нее.
На кнопку лифта он нажал тридцать три раза, прежде чем двери открылись. Поднимаясь в лифте, он пританцовывал, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу и чувствуя, что злится совершенно несправедливо. Это он предал Кумико. Она не сделала ничего.
Но на самом-то деле разве это не ее преступление? В том, что она не сделала ничего?
Но да, в том-то она и виновна. Она сделала ничто: подарила ему весь мир, в котором ее не было.
Гнев бушевал в нем, готовый извергнуться в любую секунду.
Лифт распахнулся, он рванул по коридору прямо к ее квартире и забарабанил в дверь.
– Кумико! – кричал он. – Кумико!
Под его кулаками дверь подалась.
Он замер, глядя, как она открывается и мягко стукает о стену напротив. В квартире стояла тишина. Свет горел, но не было слышно ни звука, не наблюдалось никакого движения.
– Кумико? – позвал он.
Всего три шага, и он вошел внутрь ее квартиры, дальше, чем когда-либо до сих пор, что уже само по себе казалось нелепым, ведь нельзя же издеваться над собою так долго. Нечего удивляться тому, что женщины никогда не воспринимали тебя всерьез. Нечего удивляться тому, что собственная дочь смеется над тобой и обращается с тобой, как…
Он остановился и прижал ко лбу кулак, словно желая помассировать голову от боли. Откуда это в нем? Эта ярость, это самоистязание… Кто он такой, вот прямо сейчас?
Что с тобой, Джордж?
– Кумико? – спросил он снова, будто надеясь на ответ.
Он ринулся в кухню, вычищенную так безжалостно, словно ею никто никогда не пользовался, потом в такую же вылизанную гостиную, безликую, как номер в отеле.
И здесь она жила? Он повернулся кругом. Ее нигде не было. Никаких ее работ на стенах – то, что там висело, скорее напоминало индейские поделки для туристов, которые можно считать больше мебелью, нежели искусством; ни цветов в горшках, ни единого предмета одежды.
Как будто здесь вообще никто никогда не жил.
Дверей в гостиной было две: одна, приоткрытая, вела в идеально прибранный туалет, другая, плотно запертая, явно в спальню, которая, по идее, могла бы служить мастерской, поскольку больше никаких помещений в квартирке не предполагалось. Меж дверей висело узкое зеркало, и Джордж увидел там свое отражение, но с трудом понял, что этот свирепый оскал исказил его собственное лицо. Даже глаза выглядели странно, и он приблизился, чтобы вглядеться…
Вдруг в спальне кто-то вздохнул.
Он подошел к двери и прислушался, но оттуда больше не доносилось ни звука. Хотел снова позвать ее, но разве она не слышала его до сих пор? Он оглянулся и вновь увидел тесный коридор. А почему, собственно, входная дверь оказалась открытой?
Страх обуял его. Неужели что-то случилось? Уж не поэтому ли Рэйчел выглядела так стра…
Он ухватился за дверную ручку, повернул ее, ворвался в спальню – и…
И вот она перед ним.
Она сидит за мольбертом, на котором последняя табличка. Он видит перья, собранные и рассеянные по черному прямоугольнику. Работа еще не закончена, он видит это даже на первый взгляд, еще слишком много мест, которые нуждаются в завершении, пустого пространства, которое нужно заполнить.
Он почти не заходит в комнату, только чувствует эту белую пустоту, в которой нет ничего, кроме нее и мольберта, хотя как такое возможно?
Но то, что он видит в ней, тоже никак невозможно.
На ней халат из тонкого светло-розового шелка с фиолетовыми краями и широкими рукавами. Халат распахнут, она отбросила его до локтей, обнажив половину спины. Под халатом нет ничего, и, когда она поворачивается к Джорджу, ее пальцы прижаты к груди.
Из которой она выдергивает перья.
Потому что она никакая не Кумико, она – огромная белая птица, которая выдергивает из себя очередное перо, чтобы добавить его к другим, уже рассеянным по табличке на мольберте. Но это перо она не может никуда пристроить, словно не знает, как закончить то, с чего начала.
Он видит на ее коже раны от выдернутых перьев, видит, как подрагивают от боли ее длинные изящные пальцы – ее длинный изящный клюв – ее длинные изящные пальцы…
На самом кончике пера – красная капелька крови, полная силы и таланта, полная жизни и смерти.
Джордж смотрит в светло-карие глаза Кумико – ее золотистые глаза – ее светло-карие глаза. Он видит там удивление и испуг, видит, как она вся дрожит от осознания его присутствия здесь.
Но отчетливее всего он видит скорбь – такую бездонную, что едва не падает с ног.
Он понимает – мгновенно, – что не должен этого видеть.
Он понимает – моментально, что все обошлось бы и что будущее само позаботилось бы о себе, если б он сюда не пришел.
Он понимает – немедленно, – что теперь остается лишь дождаться конца.
* * *
Он проснулся на маленьком безымянном диванчике в маленькой безымянной гостиной Кумико. Она стояла перед ним, и халатик уже покрывал ее плечи, но был распахнут так, что было видно ее голую грудь.
Конечно же гладкую. И безо всяких перьев.
– Джордж? – спросила она. – Как ты себя чувствуешь?
Он посмотрел ей в глаза – и увидел там все то же понимание, все ту же тайну, которая так заставляла его желать оказаться там, где он мог бы смотреть на нее бесконечно.
– Что случилось? – пробормотал он.
– У тебя жар, – сказала она, приложив ладонь к его лбу. – И очень сильный. Ты ввалился ко мне в спальню и выглядел при этом ужасно, Джордж. Я испугалась и чуть не вызвала врача. Выпей вот это.
Он взял у нее из рук стакан воды, но пить не стал.
– Что я увидел?
Похоже, она смутилась.
– Я не знаю, что ты увидел. – Она запахнула халат поплотнее. – Но это тебя, кажется, здорово потрясло.
– Что здесь делала Рэйчел?
– Кто?
– Я видел, как она выходила из подъезда. Только что. Я видел… – Он запнулся уже в неуверенности.
Кумико нахмурилась:
– Это большое здание, Джордж. Куча людей входит сюда и выходит отсюда. Днем ко мне и правда заходила старая знакомая, но я тебя уверяю – та женщина ею быть никак не могла.
«Та женщина» было сказано так определенно, что Джорджа захлестнуло чувство вины, на фоне которого он даже не осмелился уточнять по поводу «старой знакомой», а просто сказал:
– Прости меня.
– За что? – спросила она.
Он сглотнул, ощутив, как пересохло в горле, и залпом выпил воду из стакана. Возможно, она права и все дело в проклятой лихорадке. Он никак не мог увидеть того, что ему померещилось в спальне. Так, может, и Рэйчел ему привиделась?
Вот только плохо это или хорошо – сам черт не разберет.
– Тебя так трудно узнать, – услышал он собственный шепот.
– Знаю, – сказала она. – И за это ты меня прости. – Ее лицо смягчилось. – Зачем ты пришел сегодня, Джордж?
– Хотел показать тебе это, – ответил он и указал на фигурку в футляре, которую Кумико уже положила на стол.
Она взяла футляр, посмотрела на фигурку через прозрачный пластик. Он начал было опять говорить, но взгляд Кумико застыл на фигурке, на словах, на обрезках страниц, на зигзагах и пустотах, из которых состоял его извергающийся вулкан.
– Это совершенство, Джордж, – сказала она. – Это именно то, что должно быть.
– Я просто сделал то, что ощущал. И даже не знал, что делаю, пока не закончил.
Она наклонилась, коснулась мягкой ладонью его щеки:
– Да. Да, понимаю. Я все понимаю. – Она встала, держа фигурку в руках. – Ты отдохни немного. Закрой глаза и поспи. Я скоро вернусь.
– Что ты хочешь сделать?
– Это финальный кусочек истории. Я должна закончить последнюю табличку.
Джордж прочистил горло, предчувствуя, что от ответа на следующий вопрос зависит чуть не вся его жизнь.
– А потом?
Но она лишь опять улыбнулась, и его сердце подпрыгнуло от радости на головокружительную высоту.
– А потом, Джордж, – сказала она, – я соберу все свои последние вещи и перееду к тебе. Мы будем жить как муж и жена. И будем счастливы до конца своих дней.
А затем она вышла, оставив его лежать на диване, с легким сердцем и явно спадающим жаром, и он все прокручивал в голове ее последние слова, поражаясь тому, что «до конца своих дней» в ее устах звучит слишком похоже на «никогда больше».
* * *
Аманда занесла над унитазом тест, собираясь на него помочиться.
Этот тест она купила, еще когда ее стошнило в первый раз, но пока не трогала его, зато теперь в результате можно будет не сомневаться.
Потому что если она залетела…
А что, если нет?
А что, если да?
В свои самые спокойные минуты – ну, по крайней мере, спокойнее, чем сейчас, – она продолжала напоминать себе, что пока ничего не случилось. Циклы Аманды никогда не отличались регулярностью, даже в ее четырнадцать лет, поэтому тогда отец с матерью решили, что без специальных лекарств ей не обойтись, но теперь, когда она, расставшись с Генри и родив сына, бросила принимать эти таблетки, все опять пошло как попало.
Так что пока вроде все в порядке. Все в норме. Да-да. Больше не было внезапной рвоты, несмотря на затяжную лихорадку и постоянную тошноту, которые, скорее всего, явились результатом какого-то сезонного гриппа, им болели все дети вокруг. Да-да. Грипп или другая подобная ерунда. Об этом ей сейчас и сообщит тест. Вот прямо сейчас.
Но.
Уже за полночь, в квартире снова темно и холодно, в окошко ванной заглядывает ущербная луна. Только что приснился очередной сумасшедший сон, из-за которого захотелось в туалет, и вот теперь она стоит перед унитазом и думает, сделать этот тест или нет.
Версия «или нет» кажется довольно призрачной. Этот чертов тест – бессердечно точный, исключающий любую двусмысленность, но его черные цифры на сером поле кажутся какими-то устаревшими, вроде тех, что встречались в тестах, по которым еще ее мать узнавала о своей беременности. Почему она не купила себе что-нибудь милое, с сиреневыми крестиками или розовыми плюсиками, вместо этого бездушного приспособления, на котором она, как на машине времени, унеслась в прошлое собственных родителей?
Однако ей по-прежнему хотелось в туалет – не важно, с тестом или без, – и к тому же становилось все холоднее.
На несколько секунд она закрыла глаза и проверила свои ощущения – просто отключила сознание и постаралась понять, чего же на самом деле хочет ее желудок, а не испуганный разум. И – да, хорошо, пускай ее немного подташнивает, но совсем не тянет сблевать, а значит, это банальный вирус и ничего более.
Не открывая глаз, она порылась внутри себя как можно тщательней. Забеременев Джеем-Пи, она поняла это по целому ряду признаков, самым невероятным из которых было чувство того, что подтверждать уже ничего не нужно. Гормональные бури, чувство внутренней наполненности – одно это говорило, что она беременна. До того как понять, заметив очевидные симптомы, она знала это на каком-то подсознательном уровне – так, словно ее организм уже свыкся с новым состоянием и ему абсолютно плевать, если разум запаздывает на вечеринку.
Она еще раз попыталась проникнуть в собственный живот, в бедра и в руки-ноги, в горло и в грудь. Изменения не происходят в одном лишь чреве; во время беременности все тело начинает хлопотать и суетиться, точно деревенская челядь перед визитом короля. Она рассылала по своим недрам гонцов и внимательно слушала их донесения.
Наконец она открыла глаза.
Села на унитаз, помочилась на тестовую палочку, будь она проклята, подтерлась – и собралась выждать, не вставая, положенные три минуты.
Она старалась сохранять разум предельно ясным, не думая ни о чем конкретном, просто мурлыча себе под нос что-то из «вихляшек Завро», какую-то их песенку, которую упоминала Клэр, какой-то поп-хит, что-то там насчет Африки. Джей-Пи обожал ее, потому что в ней было длиннейшее слово из всех, которыми он овладел до сих пор: «Serengeti»[22].
Но ее медитацию вдруг нарушил какой-то звук, сдавленный и далекий, и она невольно вспомнила о странном рыдании, которое послышалось ей однажды. Уже через секунду она была у окна и смотрела во двор. Но звук этот не прекращался и оказался совсем не тем, за что она его приняла, он даже раздавался где-то внутри.
Это звонил ее телефон.
Она скользнула глазами по тесту на краю унитаза, пока еще не показавшему какого-либо результата, и выскочила из ванной. Выругалась, ударившись большим пальцем ноги о дверной косяк, и ворвалась в спальню, где ее мобильник выдавал мрачный фолковый шлягер – мелодию рингтона.
Добежать она не успела – мобильник затих. Она повалилась на кровать и включила экранчик, чтобы посмотреть, кто звонил.
Рэйчел.
Рэйчел?
Рэйчел звонит ей – она бросила взгляд на часы – в 1:14 ночи?
А?!
Не успела она решить, случайность это или ошибка, как телефон затрезвонил снова – так внезапно, что она чуть не уронила его на пол.
– Рэйчел?! Какого ч-ч…
Она слушала секунд двадцать, и хотя голова просто разрывалась от вопросов, она не спросила ничего – просто вырубила связь. Еще полминуты ушли у нее на то, чтобы втиснуться в джинсы и теплый джемпер. А еще через минуту, кое-как обувшись на босу ногу, она вытаскивала Джея-Пи из постели, точно кулек, вместе с одеялом и простынями.
Прежде чем часы показали 1:17, она выскочила из подъезда с ключами от машины в одной руке и ребенком – в другой… и понеслась вперед так быстро, как только могла.
* * *
25 из 32
Ее рука не падает.
Вулкан открывает глаза, сначала зеленые от удивления, а затем разгорающиеся от ярости.
– Что ж, будь по-твоему, госпожа, – говорит он, встает и упирается головой в небеса. Его голос потрясает основы мироздания, когда он шепчет ей на ухо: – Я люблю тебя, госпожа, и теперь моя ненависть будет такой же великой, как и моя любовь. Такой же огромной, как сама Вселенная. Ты будешь наказана тем, что я никогда не перестану преследовать тебя, никогда не перестану мучить тебя и никогда не прекращу просить у тебя того, чего ты не в состоянии мне подарить.
– А я люблю тебя, – отвечает она. – И ты будешь наказан тем, что я буду любить тебя вечно.
Он наклоняется к ней:
– Ты никогда не сможешь отдохнуть. И никогда не найдешь покоя.
– Ты тоже.
– Разница в том, госпожа, – говорит он с гадкой улыбкой, – что я не отдыхаю с начала времен.
Она отступает на шаг назад. Потом еще и еще, потом отворачивается и бежит прочь от него, все быстрей и быстрей, пока наконец не взлетает и не уносится в небеса.
26 из 32
– Убегай сколько хочешь, госпожа! – кричит он ей вслед. – Я всегда смогу догнать тебя!
Но затем он хмурится.
Она не убегает от него. Ее путь пролегает наверх, к небесам, выше мира и за границу времен.
Но теперь она летит обратно.
Прямо на него.
Все быстрей и быстрей.
27 из 32
Она несется на него, как комета, как ракета, как пуля, которой выстрелили задолго до начала всех вещей. Он становится выше и готовится к бою. Она приближается, все быстрей и быстрей, раскаленная собственной скоростью добела.
Да, она и есть пуля, выпущенная из самой себя, наблюдающая, как сама же и подлетает к нему, к его до сих пор открытому сердцу. Застывая в полете, она смотрит со стороны, как она – пуля – несется вперед, рассекая воздух, все быстрей и быстрей.
И наконец впивается ему в сердце.
Она сбивает его с ног, и от его падения рождаются планеты, гибнут звезды и разрываются небеса.
Он повержен.
28 из 32
Но он не умирает.
На самом деле он смеется.
– Что ты наделала, госпожа? Ты хотела убить меня? Он садится и чувствует, как бьется его сердце. Сердце, в котором застряла пуля.
– Я застрелила тебя, – говорит она.
– Эта пуля безвредна для меня, госпожа.
– У этой пули есть имя. Имя, которое убьет тебя, когда придет время. Эта пуля называется Дозволение.
Он хмурится, его гнев нарастает.
– Госпожа говорит загадками.
– Пока эта пуля будет у тебя в сердце, – отвечает она, – там будет и часть меня. А пока там будет часть меня… – Она подлетает к самому его лицу, чтобы между ними не осталось недопонимания. – Тебе дозволяется обижать меня.
29 из 32
Воцаряется тишина, ибо у мира внизу от ужаса перехватывает дыхание.
– Что ты сказала, госпожа? – спрашивает вулкан угрюмо.
– Попробуй.
– Попробовать что?
– Попробуй обидеть меня.
Он смущен и сбит с толку. Но она продолжает дразнить его, летая туда-сюда прямо у него перед носом.
– Госпожа! – взрывается он и набрасывает на нее одеяло из лавы.
Она кричит от боли. Поворачивается к нему и показывает свои руки в волдырях и безобразных ожогах.
– Госпожа! – кричит он, приходя в ужас.
Но она отлетает туда, где ему ее не достать.
30 из 32
– Где же теперь твоя ненависть, муж мой? – спрашивает она. – Где твои муки, твои наказания? Ты можешь обидеть меня… – Она вызывающе поднимает голову. – Что же ты будешь делать?
Она поворачивается к нему спиной и улетает, не торопясь и не испытывая страха, просто улетает. Прочь от него.
Он дрожит, ибо начинает понимать, что она с ним сделала. Тот ужас, тот кошмар, который она с ним сотворила, куда страшнее любого прощения.
Он злится, и гнев его нарастает.
Она исчезает вдали – песчинка света в полночной мгле.
– Я догоню тебя, госпожа, – говорит он. – Я буду преследовать тебя до конца времен, и…
Но она не слушает.
А он не преследует.
Его сердце болит. Болит от любви. Болит от ненависти. От пули, засевшей внутри.
Его ярость растет.
– Госпожа! – восклицает он злобно. – Госпожа!
Он носится над землей, уничтожая все на своем пути, но это не приносит ему удовлетворения – ни вид людей, разбегающихся от него в страхе, ни руины городов, ни лесные пожары его совершенно не радуют. Он возвращается к горизонту. Она по-прежнему песчинка света в полуночной мгле, единственная звездочка в черном небе.
– Госпожа, – повторяет он.
31 из 32
Он долетает до леса и вырывает с корнями самое высокое дерево. И стискивает его в кулаке, пока оно не становится прямым и легким. Долетает до городов, плавит железо из их орудий смерти и мастерит наконечник стрелы. Из самых прекрасных птиц, каких ему удается найти и уничтожить, он делает этой стреле оперение. Свивает тетиву из самых тонких сухожилий мира, не обращая внимания на плач своего детища. И отливает лук из собственной лавы, остужая ее совсем немного, чтобы не утратила гибкости.
Изготовление этого оружия занимает у него мгновение и вечность, но она не исчезает с горизонта. Она все еще там, навсегда, как и пуля, застрявшая в его сердце.
– Это еще не конец, госпожа, – говорит он, прицеливаясь.
И пускает стрелу.
32 из 32
Стрела попадает в нее.
– О, любимый! – кричит она от боли и невыразимого удивления. – Что же ты натворил?
И падает, падает, падает обратно на землю.
* * *
Пожар начался так (1).
В верхней половине таблички яростно извергался вулкан из слов, выстреливая в мир глаголами, прилагательными и частицами, пожиравшими все, чего бы они ни касались. В нижней же половине, с какой-то намеренной парадоксальностью, с неба падала женщина из перьев. У нее было лишь одно слово – обрезанное снизу, чтобы скрыть его точное значение, – и это слово пронзало ее сердце насквозь. Она падала, печальная и покорная, хотя по ее позе можно было решить и то, что она уже завершила падение, брошенная на землю яростными руками вулкана.
Табличку эту Кумико поместила на полку в один ряд с остальными. В каждом углу комнаты она зажгла свечи, и таблички поблескивали в теплых отсветах пламени, точно миниатюрные солнца в храме древней богини.
– Странный вышел финал, – сказал Джордж. – Вулкан разрушил себя собственной яростью, так и не дотянувшись до госпожи…
– Возможно, такой финал даже лучше для них обоих, – заметила Кумико. – Хотя и печальный, да. Но в каком-то смысле это вообще не финал. Все истории начинаются до того, как начаться, и не заканчиваются никогда…
– Что же с ними происходит потом?
Вместо ответа она взяла его за руку, вывела из гостиной и утянула по ступенькам туда, где стояла их уже общая кровать. Это не было похоже всего лишь на плотскую страсть, но когда они оба разделись, она прижалась к нему всем телом и погладила его по волосам. Он заглянул ей в глаза. Отражая луну, те сияли золотистым светом.
– Кто ты? – спросил он ее. – Я тебя знаю?
– Поцелуй меня, – только и ответила она.
Так он и сделал.
А внизу, в гостиной, всё горели свечи, пламя подрагивало и плясало. Одна свеча, впрочем, оказалась с изъяном. Горела неровно, довольно скоро прогорела лишь с одной стороны, и воск растекся по старому кофейному столику Джорджа. И это было б еще полбеды, но сама свеча потеряла баланс и начала медленно заваливаться набок, все ниже и ниже.
Через какое-то время Джордж, вынырнув из океана невозможной нежности и блаженства, на секунду даже принесших осознание, будто счастье в его жизни вполне возможно, сел в постели. Кумико сонным голосом спросила, куда он.
– Надо бы задуть эти свечи, – ответил он.
Но было уже слишком поздно.
Пожар начался так (2).
Когда Кумико поместила на полку последнюю табличку, Джордж задул зажженные ею свечи, и они отправились в постель. Они любили друг друга медленно, почти печально, но с такой нежностью, что на секунду Джордж решил, будто они наконец-то преодолели то странное, мистическое испытание, которому он даже названия не мог подобрать, и благополучно добрались до спасительного берега. Он заглянул ей в глаза. Отражая луну, те сияли золотистым светом.
– Кто ты? – спросил он ее. – Я тебя знаю?
– Поцелуй меня, – только и ответила она.
Так он и сделал.
Позже они заснули, а потом Джордж, не просыпаясь, встал.
Он спустился по лестнице неуверенной походкой лунатика. В темной гостиной приблизился к самой первой табличке («Она родилась от дыхания облака…») и схватил ее с полки. Небрежно швырнул на кофейный столик. Потом схватил вторую табличку и швырнул ее туда же, на первую. Так он швырял таблички одну за другой, пока не дошел до последней, законченной только что. Ее он поместил на верхушку этой пирамиды из табличек, теперь уже перебитых и разлетевшихся на осколки, обрывки бумаги и перья.
Все так же в темноте он нашарил коробку спичек, которыми они зажигали свечи. Достал одну спичку, чиркнул и, хотя зрачки его тут же сузились от неожиданной вспышки, не моргнул, не сощурился и даже не отвел взгляда в сторону.
Он поднес горящую спичку к основанию груды. Вязкий пластик – основа табличек – сначала никак не хотел разгораться, но потом занялся слабым голубоватым пламенем, которое охватило бумагу, перекинулось на перья и стало разгораться все ярче, распадаясь на жадные огненные языки.
Отбросив спичку, Джордж повернулся, вышел из гостиной и начал подниматься по ступеням, пока пламя набирало силу.
Ничего из этих событий он никогда бы не вспомнил и никогда бы в них не поверил, расскажи ему кто об этом, с его нулевым опытом сомнамбулизма. Как бы там ни было, он поднялся в спальню, забрался под одеяло, положил голову на подушку, прижался к Кумико и снова закрыл глаза – так, будто никогда их и не открывал.
Пожар начался так (3).
Пока Джордж и Кумико спали наверху, таблички смотрели друг на друга с книжных полок в темной гостиной. Они рассказывали историю о госпоже и вулкане, которые были и меньше, и больше того, как их звали. История их была рассказана пером и бумагой, но сейчас только перья, казалось, подрагивали и шевелились, точно на слабом ветру.
Вот одно перо отцепилось от таблички и взлетело в воздух, танцуя и кружась в капризной спирали.
Вот уже и второе перо, с другой таблички, заплясало вокруг первого.
А потом третье, четвертое – и вскоре уже целая волна перьев хлынула с полок, вертясь и кувыркаясь, слипаясь вместе и разлетаясь опять, хватаясь друг за дружку, точно утопающие за соломинку. Постепенно они стали собираться в центре комнаты, между ними пробежали какие-то искры, будто маленькие молнии в грозовом облаке из птичьих перьев.
Внезапно по всему облаку пробежал световой разряд; все эти перья словно устремились к одной и той же точке пространства – и сложились вокруг этой точки в огромную белую птицу, с распахнутыми крыльями, гордо выгнутой шеей и головой, откинутой назад то ли в экстазе, то ли в ужасе, то ли в ярости, то ли в горе…
А потом она взорвалась. Рассыпалась на мириады искрящихся перьев, и все эти искры полились на шторы, на книги, на деревянную мебель, поджигая их, пока наконец…
Пожар начался так (4).
Вулкан открыл свои зеленые глаза и заглянул через пространство гостиной, через эту вселенную внутрь себя.
Горизонт вселенной рассказывал историю.
Вулкан сошел с последней таблички, чтобы прочесть эту историю, и, пока он читал, изумление в его глазах постепенно сменялось скорбью. Он читал, утирая огненные слезы, чтобы снова увидеть свою госпожу, чтобы понять, чем же все закончится.
Но чем он дольше читал, тем гнев его набирал все большую силу.
– Все случилось совсем не так, – сказал он. – Всего было гораздо больше, чем здесь рассказано!
От собственного гнева вулкан рос и становился сильнее, как всегда и бывает с вулканами. Луга и долины вдоль его склонов дрожали и распадались на куски, отступая перед ним, а он становился все больше и больше, выше и выше, и гнев все сильней раскочегаривал его бушующую топку.
– Ты соврала обо мне! – закричал он. – Ты отрицаешь правду!
Очень скоро он вырос таким огромным, что заполнил собою весь мир, заключенный в этой гостиной, народы спасались от него бегством, города, леса, равнины и океаны – все исчезало в проломах земли.
– Я этого так не оставлю! – ревел он, размахивая в ярости кулаками. – Я этого не потерплю!
И наконец он извергся, посылая огонь и пепел, и в этом безудержном катаклизме сгорела вся вселенная целиком.
Пожар начался так (5).
Дом спал в тишине. Ничто не двигалось, даже в спальне Джорджа и Кумико, где они лежали бок о бок под одеялами, перекрученными вокруг них, точно земная твердь после землетрясения.
В этой застывшей тишине входная дверь внизу медленно отворилась, и в дом неслышно кто-то вошел. И так же неслышно затворил за собою дверь.
Рэйчел прокралась в гостиную, сжимая в пальцах ключ, который Джордж вложил ей однажды в руку, хотя сам же о том забыл. Она стояла, вжав голову в плечи, и пыталась разглядеть таблички.
В последнее время ей было слишком не по себе. Казалось, целые пласты времени исчезали куда-то из ее дней, и она никак не могла вспомнить, куда она это время потратила; в те же часы, когда она четко понимала, что происходит вокруг, ее обуревал и изматывал целый клубок чувств. Она всегда знала, кто она, это было ее сильнейшим оружием, но однажды, после того как у них все закончилось с Джорджем, она проснулась – и больше не знала. Справиться с этим, жить с этим становилось все сложней, и избавления не предвиделось, как если бы на нее вдруг навьючили непосильную ношу, замедлявшую ее ход, а вся остальная жизнь проносилась мимо и оставляла ее далеко позади.
«Возможно, – думала она, поглаживая перья на едва различимых табличках, – возможно, я схожу с ума».
Какого черта, например, ей так приспичило увидеться с Кумико? Она ведь даже не помнила, откуда взяла ее адрес, хотя наверняка сама же Кумико дала его на той вечеринке. Но когда пришла, они с Кумико даже не поругались. Рэйчел спокойно – просто на удивление спокойно – рассказала Кумико о том, что переспала с Джорджем, что он сам вызвал ее и настоял на этом и что она выполнила его просьбу немедленно, желая этого и не думая о чувствах Кумико.
Кумико восприняла это без какой-либо внешней злости, разве что с легким нетерпением, как будто уже давно ждала этой новости, но та все запаздывала.
А потом Кумико открыла рот для ответа, и следующее, что Рэйчел могла вспомнить, – она уже стоит на тротуаре у подъезда и шарит в сумочке в поисках ключей. Что действительно очень досадно, поскольку ей до зарезу хотелось знать, что же Кумико ответила ей на все это, пусть даже сама Рэйчел и не помнила, что же именно заставило ее притащиться к Кумико домой.
А потом она подняла голову и увидела Джорджа в автомобиле.
О, какой стыд захлестнул ее. Непереносимый стыд. От которого ей стало так больно, что пришлось прореветь в своей машине еще добрых минут двадцать, прежде чем она смогла завести мотор.
Что также казалось очень нелепым. Столь абстрактная вещь, как стыд, никогда раньше особенно ей не мешала. Почему же он душил ее именно теперь и с такой силой, особенно если учесть, что Джордж сам все…
Нет, нет. Она же не сходит с ума.
Увы! Конечно же это еще одно доказательство ее сумасшествия.
И вот теперь она прокралась к Джорджу в гостиную – действие, столь же логично оправданное, сколь и бессмысленное, и, стоит признать, именно от подобной двойственности она страдала в последнее время все чаще. Как и от бесконечных снов, что ей снились, безумных снов, в которых с нею занимались любовью целые страны, она перелетала с места на место над какими-то невозможными пейзажами, ее сердце пронзали стрелами, господи Иисусе. И что самое жуткое – она невероятно от всего этого устала. Ей больше нечего дать, не говоря уже о том, что и раньше было совсем немного.
Она стоит в доме Джорджа, и гнев распаляет ее. Гнев за все, что случилось. За все, что перестало быть ей близким и пригодным для жизни. А также за то, что она не могла даже вспомнить, как сюда забралась. И зачем.
Ее глаза вспыхивают зеленым. Судорожным движением она хватает со столика коробку спичек.
И зажигает одну.
Пожар начался так. Или сяк. Или эдак…
Но он разгорелся.
* * *
Аманда глянула в зеркало заднего вида. Джей-Пи посапывал в детском автокресле, даже не проснувшись после того, как она вытащила его из кровати вместе с одеялом.
Лишь благодаря Джею-Пи все происходящее еще казалось реальным. Его настоящесть присниться никак не могла: исходивший от него запах молока и бисквитов, его вихор на макушке и – легкий укол стыда заставил ее нахмуриться – полоска клюквенного сока над его верхней губой, которую ей конечно же следовало отмыть, прежде чем укладывать его спать.
Снова сосредоточившись на дороге, она срезала угол так быстро, как только могла. Нет, если Джей-Пи здесь, то здесь и она сама. Хотя ничего больше ей не казалось реальным. Рэйчел (Рэйчел!!!) позвонила среди ночи, вынесла ей весь мозг своим визгом ужаса и тревоги, и в довершение – что осмыслить труднее всего и к чему еще предстоит вернуться в самом ближайшем будущем – оказалось, все это она проделывает из дома Джорджа.
Не сходится. Ни черта. Какого черта Рэйчел припарковалась у дома Джорджа? И почему именно она заметила пожар?
Но это, похоже, и самой Рэйчел не ясно. Она ведь так и сказала.
– Я не знаю, что я здесь делаю! – провизжала она. – Но приезжай немедленно!
Что-то в ее голосе заставило Аманду моментально поверить, что это правда – не манипуляция, не очередное безумное дерьмо в бесконечном Рэйчел-шоу. Ужас, звучавший в ее голосе, выплеснулся из мобильника и превратил кишки Аманды в ледяную глыбу.
И вот теперь она гонит машину по городу с такой скоростью, на которую та только способна.
– Да пошел ты! – крикнула она запоздалому ночному таксисту, проносясь прямо у него перед бампером.
Водитель показал ей два пальца, и она, не задумываясь, ответила ему тем же.
Отец жил не очень далеко от нее – милях в трех, не больше, – расстояние, которое в этом городе обычно преодолевалось за полчаса, но она промчалась по пустым улицам, точно крейсер, и обогнула холм, за которым стоял дом отца.
И тут же увидела огромный столб дыма.
– О, ч-черт! – прошептала она.
Дым валил вертикально, неколебимый ничем в эту ясную, безветренную, морозную ночь, точно рука, протянутая в небеса.
– Нет, – повторяла она, добивая последние повороты. – Нет, нет, нет, нет, нет!
И вынырнула из-за последнего поворота, чтобы увидеть…
Только не это.
На улице не было никого. Ни пожарных машин, ни соседей в ночных пижамах и шлепанцах, которые глазели бы на пожар.
Ни отца, ни Кумико.
Одна только Рэйчел, безумная, возле своей машины, а перед нею – горящий дом Джорджа.
Аманда остановилась посреди улицы – так резко, что завизжали тормоза.
– Maman? – раздалось с заднего сиденья.
Она повернулась к сыну:
– Слушай маму, Джей-Пи. Слушаешь?
Он прилип к окну, зачарованный видом пожара.
– Джей-Пи!
Перепуганный, он повернулся к ней.
– Милый, ты не должен вставать с этого кресла. Слышишь маму? Делай что хочешь, только не вылезай оттуда!
– Un feu[23], – сказал он, распахнув глаза еще шире.
– Да, и маме нужно выйти на минутку из машины, но я сразу вернусь. Сразу вернусь, слышишь?
Он кивнул и вцепился в свое одеяло. Проклиная себя за то, что оставляет его здесь, проклиная Рэйчел с неосознанным – хотя и осознанным, что уж там! – рвением за то, что именно она вытащила их с сыном сюда, Аманда выскочила из машины.
– ГДЕ ЭТИ ГРЕБАНЫЕ ПОЖАРНЫЕ?! – закричала она.
– Я уже вызвала, – ответила Рэйчел с каменной физиономией. – Едут.
– Но я не слышу сирен! Почему я добралась сюда раньше?
– Прости, я запаниковала, позвонила сперва тебе, а еще через минуту…
Но Аманда уже не слушала. Пламя вырывалось из окна гостиной и, похоже, подбиралось к лестнице в коридоре. Слишком много дыма. Просто невероятно много.
– ДЖОРДЖ! – завопила она. – КУМИКО!
– Они еще внутри, – произнесла Рэйчел за ее спиной.
Аманда обернулась:
– Откуда ты знаешь? И какого хрена вообще тут делаешь?
– Не знаю! – заорала Рэйчел в ответ. – И даже не помню, как здесь оказалась! Я просто была здесь, смотрю, а оно горит, вот я и…
Она вдруг заткнулась – с таким ужасом на лице, что Аманда не стала давить и повернулась обратно к дому.
Вдалеке послышался слабый вой пожарных сирен – слишком далеко, не успеют…
Она ощущала что-то странное. Куда более странное, чем сам пожар, который разгорался на ее глазах все сильнее. Соседи в ближайших домах наконец начали зажигать свет, но у нее было четкое ощущение, будто они проснулись от ее криков – и только потом заметили пламя.
Она вновь обернулась к Рэйчел. Та сильно смахивала на сумасшедшую. Аманда шагнула к ней, чтобы вытрясти все, что та знает, но внезапно внутри дома что-то оглушительно взорвалось. Что и где именно – не разобрать, но загрохотало на всю округу.
Дом заполыхал еще ярче и почти исчез из виду за всполохами огня и клубами дыма. Если Рэйчел права – а Аманда почему-то знала, что это так, – то ее отец там, внутри.
Джордж. И Кумико.
А пожарные, со своими завывающими сиренами, все еще слишком далеко, чтоб успеть.
Она схватила Рэйчел за шиворот так крепко, что та закричала.
– Слушай меня, ты, – прошипела Аманда, чуть не прижимая нос к ее носу. – Там, в моей машине, сидит Джей-Пи, а ты сейчас пойдешь и присмотришь за ним, и я клянусь жизнью, Рэйчел, если что-нибудь – хоть что-нибудь! – с ним случится, я воткну нож тебе в сердце.
– Верю, – ответила Рэйчел.
Отпустив ее, Аманда добежала до машины и сунула голову в окно:
– Все будет хорошо, милый. Эта тетя за тобой немножко присмотрит. А я сбегаю за grand-père.
– Мама…
– Все будет хорошо, – повторила Аманда.
Она наклонилась над сиденьем, на мгновенье стиснула сына изо всех сил, отпустила. А потом развернулась и побежала в полыхающий дом своего отца.
* * *
Когда до них дошло, насколько все плохо – сначала потянуло гарью, а потом из-под двери повалил плотный дым, – они уже были в ловушке.
Конечно, они все равно попытались бежать – Джордж все еще голый, Кумико в тонкой сорочке, – но не пробежали вниз и трех ступеней, как дым загнал их обратно.
– Не могу, – сказала Кумико из-за его спины, выкашливая слова с пугающей хрипотой.
В этом дыме было невозможно дышать – он походил на нечто живое, на полчища змей, которые пытаются заползти в горло, чтобы не просто задушить, но отравить и сжечь своей непролазной тьмой.
Джордж вдруг с предельной ясностью осознал, что имелось в виду, когда в новостях сообщали о смерти от задымления. Стоит вдохнуть это раз или два – и твои легкие больше не работают, а еще пару раз – и ты теряешь сознание навсегда.
Сквозь дымовую завесу он различил языки пламени, пожиравшего основание лестницы, так что для них уже не оставалось никакого спасения, даже попытайся они прорваться вниз.
Они отступили обратно в спальню, захлопнули дверь ради всех святых. От дыма и удивления тому, как быстро все происходит, в голове у Джорджа образовалась странная пустота.
– Надо прыгать в окно, – сказала Кумико почти спокойно, хотя по лбу ее текли струйки пота.
Температура в спальне повышалась с каждой секундой.
– Да, – согласился Джордж и подошел за нею к окну.
Они находились прямо над кухней, из окна которой валил сизый дым.
– Высоко, – сказала она. – И внизу бетон.
– Давай-ка я первый, – предложил Джордж. – Поймаю тебя внизу.
– Благородно, – сказала она, – да некогда.
И поставила ногу на подоконник.
Взрывом сотрясло весь дом. Рвануло, видимо, где-то в кухне. Кумико потеряла равновесие и упала назад, в объятия Джорджа. Оба свалились на пол.
– Газопровод, – произнес он.
– Джордж! – закричала она, глядя в глубь спальни.
Комната начала проваливаться, словно стремясь растаять и слиться с первым этажом, что было особенно страшно, ибо лишь в эту секунду Джордж понял, как сильно он рассчитывал на то, что хотя бы пол останется цел. Увы!
– Вперед! – закричала Кумико сквозь грохот. – Быстрей!
Но прежде чем они успели подняться, раздался звук, похожий на исполинский зевок, и дальняя часть комнаты провалилась. Стеллаж с книгами (в основном научно-популярными) рухнул в пламя, рванувшее снизу. По кренящемуся полу поползла вниз кровать.
Кумико вцепилась в подоконник, теперь уже лишь для того, чтобы удержаться над полом, уходившим из-под их ног. Сползавшая кровать застыла на секунду, словно о чем-то задумавшись, и языки пламени прорвались сквозь матрас. Перед глазами Джорджа промелькнуло адское видение – его гостиная, сожранная огнем, – и дым начал затапливать спальню гигантской приливной волной.
– Подтягивайся! – заорал Джордж.
Он все еще лежал на полу, от которого уже почти ничего не осталось. До полного обрушения оставались считаные мгновения. Он подтолкнул Кумико вверх, к окну, и она легко подтянулась; ногу на подоконник, руки на оконные косяки – и вот она уже готова к прыжку. Она в ужасе обернулась.
– Я сразу за тобой! – Он закашлялся, пробуя встать.
Но уже в следующий миг кровать рухнула вниз, унося с собой последние остатки пола. Джордж полетел за ней следом, но в последний момент смог уцепиться за какую-то рейку, все еще торчавшую под окном. Его голые пятки погрузились в бушующее пламя, и он закричал от боли.
– Джордж! – заорала Кумико.
– Прыгай! – заорал он в ответ. – Прыгай, у-мо-ля-ю!
С каждой произнесенной буквой его рот забивался дымом, один лишь вкус которого уже сводил с ума. Он пытался отдернуть ноги от пламени, чувствуя, как поджариваются его пятки, содрогаясь от боли, страха и слез, заливавших глаза.
Он посмотрел вверх, на Кумико.
Которой там уже не было.
Слава богу, успел подумать он. Хотя бы она спаслась. Благодарю тебя, Господи!
Он почувствовал, что уступает дыму – как быстро, как быстро! – его мысли мутнели, замедлялись, и мир вокруг исчезал.
Откуда-то издалека пришло осознание, что пальцы его разжимаются.
Откуда-то издалека пришло осознание, что он падает в бушующее пламя внизу.
Откуда-то издалека пришло осознание, что кто-то подхватывает его.
* * *
Во сне он взлетает.
Вокруг него клубится дым, а над ним распахиваются огромные крылья. Поначалу он думает, что эти крылья – его собственные, но это не так. Его несут, его держат – он не знает каким способом, однако держат крепко.
Крепко, но нежно.
Крылья распахиваются снова – неспешно, но так уверенно, что он больше не чувствует страха, хотя под ним ревет пламя, способное поглотить весь мир. Они проникают сквозь стену дыма, и неожиданно воздух становится чище, и снова можно дышать.
Он летит теперь сквозь чистый воздух – вверх и вперед, точно пущенная из лука стрела.
Он ничего не весит. Все камни падают с его шеи, как и мир, что остается внизу. Он глядит вверх, но не может различить, что же именно несет его.
Но даже во сне – он знает!
Длинная шея, алая корона на макушке и пара золотистых глаз оборачиваются к нему только раз, и те глаза полны слез.
Слез печали, думает он. Слез бездонной скорби.
И ему вдруг становится жутко.
Полет стрелы кончается, и он опять достигает земли. Касается ногами травы, целящей зеленым бальзамом его обожженные пятки, о которых он вспоминает только теперь, и вновь содрогается от боли.
Его нежно кладут на землю, и он издает долгий, протяжный стон.
Он зовет – и он плачет.
Оплакивая тех, кого больше нет.
До тех пор, пока длинные белые крылья не утирают его слезы и не гладят его по лбу и вискам мягкими, убаюкивающими движениями.
Он хочет, чтоб его сон прекратился.
Он не хочет, чтоб его сон прекращался.
Но все прекращается.
* * *
– Джордж?
Он открыл глаза, поморгал – и тут же затрясся от холода. Потому что лежал на заиндевелой траве садика на заднем дворе своего сгоревшего дома.
– Джордж, – снова позвали его.
Он поднял взгляд. Кумико. Он покоился в ее объятиях, а она стояла на коленях в траве. Хотя она, несмотря на тоненькую сорочку, похоже, холода совсем не замечала.
– Как же мы?.. – спросил было он, но тут же закашлялся и сплюнул на тревожно-черный асфальт.
А когда взглянул на нее снова, ее глаза горели золотом.
И блестели от слез.
У Джорджа перехватило горло, но уже не от дыма.
– Я знаю тебя, – сказал он, и это был не вопрос.
Она медленно кивнула:
– Да.
Он коснулся ее щеки, испачканной чем-то черным, напоминающим сажу.
– Тогда почему ты грустишь? – Он провел пальцем вниз, до ее подбородка. – Почему ты всегда так печальна?
Раздался грохот, и они оглянулись на дом. Пламя уже поглотило крышу, пожирая его жилище с потрохами.
– Таблички! – сказал он, откашливаясь. – Мы должны сделать новые…
Но Кумико ничего не ответила, и он вытер слезы, что текли по ее щекам.
– Кумико?
– Ты должен простить меня, Джордж, – с грустью сказала она.
– За что? Это мне нужно твое прощение. Ведь это из-за меня…
– Прощение нужно всем, любовь моя. И за все годы, что я себя помню, у меня не было никого, кто предложил бы его мне. – Ее глаза вспыхнули, хотя, возможно, только отразили пламя его горящего дома. – Пока я не встретила тебя, Джордж, – продолжала она. – Только ты это можешь. И только ты это должен.
– Не понимаю, – сказал Джордж, все еще лежа в ее объятиях, головой на ее коленях.
– Прошу тебя, Джордж. Прости меня. И тогда я уйду.
– Уйдешь? – Он сел, обескураженный. – Нет, ты не можешь уйти. Я же только нашел тебя!
– Джордж…
– Я не стану прощать тебя, если из-за этого ты уйдешь.
Она положила руку ему на грудь, словно успокаивая. И опустила взгляд. Он посмотрел туда же. Ее пальцы раздвинулись, между ними показались перышки – белые, как луна, белые, как звезды, белые, как желание.
И тут же исчезли.
– Я не могу остаться, – сказала она. – Это невозможно.
– Я не верю тебе.
– С каждой секундой мне все труднее, Джордж, – проговорила она, и перья вновь проступили меж ее пальцев. А затем опять исчезли.
Джордж с трудом выпрямил спину. В голове по-прежнему клубилась пустота – неудивительно, что ему виделись, точно во сне, все эти странные вещи. Языки пламени невозможных цветов – зеленые, фиолетовые, голубые. Ночное небо над ними, слишком ясное для зимней ночи. Звезды, такие острые, что можно порезаться, если к ним прикоснешься. Он коченел, как ледышка, и в то же время горел, как огонь. Этот огонь подливал в его кровь свежего гнева, гнева, которого ему хватит, чтобы…
– Нет, – сказала Кумико так, словно говорила не с ним. – Ты уже много чего натворил. Ты знаешь, о чем я.
Джордж заморгал:
– Что?
Но пламя внутри него уже унималось, и желание извергнуться иссякало, превращаясь в воспоминание.
Он нахмурился:
– Мои глаза сейчас были зелеными, так?
Наклонившись, она поцеловала его, и глаза ее блестели золотом, хотя он и заслонял собой ее лицо от горящего дома.
– С тобою я обрела покой, – сказала она. – Покой, в котором нуждалась так отчаянно и который, я надеялась, сможет продлиться… – Она отклонилась и посмотрела на дом. – Но он не сможет.
– Умоляю тебя, Кумико. Пожалуйста…
– Я должна уйти. – Она взяла его руки в свои. – Я должна освободиться. Мне нужно прощение. Я не могу больше делать вид, что мне не больно от всего этого.
– Но это мне нужно твое прощение, Кумико. Я переспал с Рэйчел. Хотя и сам не знаю зачем…
– Это не важно.
– Это самое важное из всего!
Он отнял руки. Казалось, само время остановилось. Почему его дом горит уже так долго, но никаких пожарных нет и в помине? Почему он больше не замерзает на этой заиндевелой траве? Почему Кумико говорит ему все эти странные вещи?
– Я узнал тебя, – сказал Джордж. – Это все, чего я хотел. Все, что я когда-либо…
– Ты не знаешь, кто я.
– Ты – леди-из-облака. – Он сказал это твердо и спокойно. – И та самая птица, из которой я вынул стрелу.
Она улыбнулась ему. Печальной улыбкой.
– Мы оба – леди-из-облака, Джордж. И я – твоя журавушка, а ты – моя. – Она вздохнула. – А еще мы оба – вулканы. Истории чередуются, помнишь? Они меняются и зависят от того, кто их рассказывает.
– Кумико…
– Я ошиблась. – Она стерла полоску сажи с его щеки. – Ты и правда знаешь меня, Джордж, и за это мне нужно твое прощение. Это знание уже занесло тебя не в ту историю, и оно погубит тебя. Поэтому ты и должен меня простить. – И она повторила голосом, полным печали: – Всем нужно прощение, любовь моя. Всем и каждому.
Он увидел, как она поднесла к груди руку и ногтем указательного пальца провела на коже черту. Кожа на груди расползлась, точно трещина в земле, и он увидел, как бьется ее сердце. Она взяла его руку и вложила в порез его пальцы.
– Кумико, нет! – еле выдавил Джордж с горечью, от которой перехватывало горло.
– Возьми его, – сказала она. – Возьми мое сердце. Освободи меня.
– Пожалуйста, не проси меня. – Он почти хрипел, и его собственное сердце чуть не выскакивало из груди. – Я не могу. Я люблю тебя.
– Это самое лучшее, что любящий может дать тому, кого любит, Джордж. Благодаря этому и возможна жизнь. Благодаря этому мы выживаем.
Ее сердце билось перед его глазами, поблескивая кровью, и пар от него поднимался в морозный воздух.
– Но тогда ты уйдешь, – сказал Джордж.
– Мне все равно придется уйти. Но так я уйду свободной. Пожалуйста. Сделай это ради меня.
– Кумико…
Но больше он не нашел что сказать. А еще ему показалось, будто он ее понял. Она любила его, но даже ее любовь не могла удержать ее на этой земле. Она просила у него прощения за то, что он ее знал, и просьба эта почему-то больше не казалось ему странной. Покуда ее история оставалась той, которую рассказывала она, а не той, которую требовал рассказать он, все шло хорошо.
Но он потребовал. Он слишком глупо и алчно жаждал узнать ее. И наконец узнал.
Теперь он знал ее.
Но разве любовь – ради этого?
Ради знания?
Да. И в то же самое время – нет.
И теперь она права: у него нет иного выбора. Кроме того, чтобы выбрать, как ей уйти.
Его рука замерла на ее груди в нерешительности.
– Не смей! – донеслось до них через садик.
Рэйчел стояла у самых ворот, и глаза ее светились зеленым так ярко, что Джордж различил это даже во мраке; казалось, они извергали пламя, бушевавшее у нее внутри.
Рядом с нею стоял Джей-Пи – всклокоченный, перепуганный, полузавернутый в одеяло с «вихляшками Завро» – и сосал свой крохотный большой палец.
– Рэйчел? – произнес Джордж. – Джей-Пи?
– Grand-père? – крикнул Джей-Пи. – А мама пошла…
– Не смей! – опять заорала Рэйчел и дернула Джея-Пи за плечи так резко, что он вскрикнул от удивления. – Ты не сделаешь этого!
Джордж попытался встать, но обожженные пятки ему этого не позволили.
Кумико поднялась на ноги позади него, уже безо всякой раны на груди (да ведь и не было никакой раны, правда? Просто он наглотался дыма…). Она встала напротив Рэйчел и вытянула руки так, словно собиралась драться.
Джей-Пи вырвался из рук Рэйчел и подбежал к Джорджу.
– Мама пошла в дом! – выпалил он с широко распахнутыми глазами.
– Мама… что?! – переспросил Джордж и оглянулся на пылающее инферно, откуда бы уже не выбрался никто и никогда. Он повернулся к Кумико и закричал: – Аманда там! Аманда в доме!
Но мир уже остановился.
* * *
Вулкан несется к леди через все поле их битвы, и за ним полыхает земля. Леди все еще страдает от раны – он видит, как кровь сочится из ее распахнутого крыла. Его радует, что она мучается, но это же и разбивает ему сердце.
– Ты не сделаешь этого! – говорит он ей. – Здесь решаю я, а не ты.
– Ты знаешь, что это неправда, – отвечает леди. – Что я отдала этот выбор ему. – Она хмурится. – Как бы ты ни старался убедить его делать по-твоему.
Вулкан ухмыляется.
– Это тело, – говорит он, показывая на свою униформу, – сопротивляется очень странными способами. Я вселился в него задолго до его рождения, но оно… – вулкан сверкает глазами почти в восторге, – поразительно сильное!
– Разве не пора освободить ее? – спрашивает леди.
– Разве не пора освободить его? – отвечает вулкан.
Леди смотрит сверху на Джорджа, застывшего в этом миге времени, со ртом, распахнутым в отчаянной мольбе, на которую, она знает, ей придется чем-то ответить.
– Он любит меня, – говорит леди, зная, что это правда.
– Это я признаю, – соглашается вулкан, и глаза его полыхают. – Хотя у него и была прекрасная возможность погубить любовь, которую ты вернула ему. Они великие разрушители, эти создания.
– И это говорит вулкан.
– Мы строим так же умело, как разрушаем.
– Ты не смог между нами встать. Хотя пытался.
– Но это неизбежно, госпожа. Узнав тебя, он влез в нашу историю, и мне стало гораздо легче навредить ему.
– Ты уверен? Думаешь, это так легко?
– Я уже начал. – Он указывает рукой на пожар, бушующий у него за спиной. – Мы с моим телом подожгли твой мир. Его мир. И это только начало того, что мы сделаем с тобой, госпожа.
– Ты уверен, что этот пожар устроили вы? Что все эти разрушения ваших рук дело?
Вулкан хмурится:
– Я не хочу выслушивать твои загадки, госпожа. – Он смотрит на Джорджа. – Наша история заканчивается не так. Ты знаешь это.
– Истории не заканчиваются.
– Ах, ну ты права, но также и не права. Они заканчиваются и начинаются каждое мгновение. Все дело в том, когда ты перестаешь рассказывать.
Он настигает ее. Теперь они ближе, чем в каких-либо вечностях до сих пор, – так, как и были близки всегда. Пожимая плечами, вулкан выходит из тела Рэйчел, сверкая зелеными глазами, и она падает на траву, покидая поле их битвы. Вулкан поднимает руку к груди и распахивает ее, обнажая гранитное сердце с кратером расплавленного свинца.
Пуля все еще там.
– Я хочу покончить с этим, госпожа, – торжественно объявляет он. – Ты победила меня. И, как я вижу теперь, побеждала всегда.
Он встает перед ней на колени.
– Победы не бывает, – возражает она. – Я никого не побеждала.
– Я только прошу у тебя того же, что ты просила у него, госпожа. Освободи меня. И прости меня наконец.
– Но тогда кто останется, чтобы простить меня? Не думаю, что он готов меня отпустить.
– Это вечный парадокс, госпожа. Те единственные, кто может освободить нас, вечно слишком добры, чтобы это сделать… – Он отводит назад голову, закрывает глаза и подставляет ей свое бьющееся сердце: – Ну же. Прошу тебя.
Она знает: ей можно не торопиться. Она могла бы растягивать их историю до бесконечности, но она также знает, что ей не выбраться из этого застывшего мгновения, пока их история не закончится раз и навсегда. Вулкан прав. Финал здесь может быть лишь один. Как и было всегда.
И поэтому леди рыдает, скорбя глубже, чем могут скорбеть небеса, и ее слезами наполняются океаны.
Вулкан молча ждет.
В конце концов, это совсем несложно. Она протягивает руку и для начала удаляет свою пулю из его сердца. Когда та выходит из него, он заходится воплем от невыносимой боли. Она сжимает пулю в кулаке, а когда опять разжимает руку, пули там больше нет. Он горько оплакивает эту потерю. Она вытирает ему слезы и ждет, чтобы он взял себя в руки, возвращая ему всю любезность терпения, которую он выказал ей только что.
– Госпожа, – шепчет он.
Затем она снова протягивает к нему руку и со вздохом, полным древнейшей скорби, пронзает пальцами его сердце. В ее руке оно тут же превращается в пепел, который уносит ветром.
– Благодарю, – говорит вулкан с облегчением гаснущего огня и умирающей лавы. – Спасибо тебе, госпожа.
– Кто же теперь возьмет мое сердце? – спрашивает она, глядя, как он поднимается и застывает, сливаясь с горизонтом и становясь обычной горой.
Возможно, он и ответил бы ей, но он уже камень.
* * *
Рэйчел упала на землю под ноги Джорджу. Он стиснул в объятиях Джея-Пи, оглянулся на Кумико, застывшую, словно камень. И опять прокричал ее имя. А потом еще раз.
Наконец она словно очнулась:
– Джордж?
– Аманда в доме! Она пошла нас спасать!
Кумико оглянулась на бушующее пламя.
– Да, – сказала она. – Да, понимаю.
На какую-то секунду она словно расплылась у него перед глазами. Никакого другого слова для этого Джордж подобрать не смог. Он предпочел бы отмотать время назад, нажать на паузу и проверить, нельзя ли назвать это ощущение как-либо точнее, поскольку он ощутил совершенно ясно, что с ней произошло что-то очень важное. Он не понял и никогда уже не смог бы понять, что это было, но именно это секундное расплывание, когда она была одновременно и здесь и где-то еще, и показалось ему финальной точкой их с Кумико истории. И длилась эта секунда, наверное, целую вечность, не меньше.
Но она прошла, не успел он и глазом моргнуть. Кумико вновь стала отчетливой – так же внезапно, как и расплылась, но когда она опустилась перед ним на колени, он почувствовал, что она стала какой-то другой, менее конкретной, словно никакие границы больше не отделяли ее от этого мира.
– Что это было? – спросил он. – Только что…
– Она в безопасности, Джордж, – сказала Кумико. – Аманда цела.
– Что? Откуда ты знаешь? Как ты вообще можешь…
Но она уже поднимала руку – и снова проводила ногтем по коже у себя на груди. Надрез разошелся, рана расползлась…
– Кумико, нет! – прошептал Джордж. – Что же ты натворила?!
Она взяла его голову в ладони. Из ее золотистых глаз струились слезы.
– Однажды ты спас меня, Джордж. А своей любовью спас еще раз.
Она приложила губы к его губам. Ее поцелуй был вкуса шампанского, полета, цветов, заново рожденного мира и мига, когда он впервые увидел ее, а она произнесла свое имя, и все это горело ярко, словно раскаленное солнце, так ярко, что он не выдержал и закрыл глаза.
А когда вновь открыл, ее уже не было.
– Почему ты плачешь, grand-père? – спросил Джей-Пи секунду и еще целую жизнь спустя. – И почему ты голый?
– Она ушла, – не смог не произнести это он.
– Кто?
Джордж вытер слезы:
– Госпожа, которая только что здесь была. Ей нужно было идти. – Он откашлялся. – И твой grand-père из-за этого очень, очень расстроился.
Джей-Пи заморгал:
– Какая госпожа?
– Ни хрен-н-нассе, – пробормотала Рэйчел, сидя на траве и явно пытаясь понять, как и за каким чертом ее сюда занесло.
Посмотрела на горящий дом, потом на Джорджа с Джеем-Пи – и, похоже, окончательно потеряла дар речи.
– Как самочувствие? – спросил ее Джордж.
Рэйчел восприняла этот вопрос очень серьезно и даже прижала подбородок к груди, словно проверяя, бьется ли до сих пор ее сердце.
– Ты знаешь, – наконец сказала она, – по-моему, оно еще есть. – Она встала, чуть покачиваясь, но успешно. – Мое самочувствие пока никуда не делось.
Она хихикнула. Потом еще раз.
– MAMAN! – заорал вдруг Джей-Пи, вырвался из объятий Джорджа и ринулся к шатающейся фигурке, вдруг каким-то чудом появившейся из черного хода полыхающей кухни.
(Из ЗАПЕРТОГО черного хода полыхающей кухни, подумал Джордж уже в следующую секунду.)
Аманда.
Ее лицо и одежда почернели от дыма и сажи, и лишь глаза отчаянно и комично белели из-под толстого слоя копоти. Она кашляла в кулак, себя не помня, но ковыляла прочь от горящего дома, похоже, целая и невредимая.
– Джей-Пи! – закричала она, перешла на бег и в безумном порыве подхватила ребенка на руки посередине лужайки. И, не выпуская его, тут же заковыляла к Джорджу: – Папа!
– Я не могу встать, – сказал он. – Мои ноги…
– О, папа… – только и выдохнула она, заключая и его в свои объятия.
Последние силы оставили Джорджа, он больше не мог сдерживаться.
– Она ушла, – простонал он. – Ее больше нет…
– Я знаю, – сказала Аманда. – Знаю.
– Больше нет… – повторил он.
И почувствовал, как правда этих слов пулей впилась в его сердце.
Он плакал, и Аманда сжимала его в объятиях, пока Джей-Пи, нацеловавшийся вдоволь с мамой, громко отплевывался от копоти, а Рэйчел стояла и смотрела на них.
– Спасибо тебе, – прошептала ей Аманда над головой плачущего Джорджа.
Рэйчел непонимающе уставилась на нее. Аманда кивнула на Джея-Пи.
– Ох, – сказала Рэйчел, отворачиваясь, чтобы уставиться на огонь. – Никаких проблем. – И повторила, как будто самой себе: – Вообще никаких проблем.
И тут возникли жуткий грохот, лязг и вой сирен – пожарная команда наконец-то приехала, врубила все свои шланги и принялась расстреливать пламя водой со стороны улицы, поднимая огромные тучи пара за домом в саду. Вполохи огня над крышей тут же исчезли, а дым повалил чуть ли не вдвое гуще.
– Подобраться туда пока не получится, – сказала Аманда, кивая на горящий дом, стена которого плавно обваливалась прямо на их глазах, и прямо на проезжую часть. – Придется подождать, пока они все не потушат…
– Un feu, – повторил Джей-Пи.
Чертов feu на этот момент горел уже так долго, что согрел их всех, и Аманда бережно сняла с Джея-Пи одеяло.
– Давай пока отдадим его grand-père? – предложила она.
– Он же совсем голый – радостно согласился Джей-Пи.
Она обернула одеяло вокруг Джорджа, скрывая его наготу.
– Все кончено, – сказал он.
– Я знаю, пап, – сказала Аманда. – Знаю.
– Ее больше нет.
– Я знаю.
Он взглянул на нее озадаченно:
– Откуда?
Но прежде чем она успела ответить, Рэйчел встряла:
– Аманда?
– Что?
– Ты можешь сообщить на работе, что я не выйду в понедельник?
– Ты издеваешься?
– Я прошу тебя, Аманда. Как друга.
Глядя на нее, Аманда опять закашлялась.
– Ладно. Пожалуй, сообщу.
– На самом деле, – добавила Рэйчел, поворачиваясь спиной к огню, – ты даже можешь сообщить, что я больше не выйду. Вообще.
Она пожала плечами, словно соглашаясь с собой, и это заставило Аманду на минуту задуматься, почему же Рэйчел теперь выглядела настолько по-другому.
Потому что теперь она выглядела свободной, вот почему.
Часть V
Никто не собирался беспокоить ее в ближайший час, коридор снаружи был временно пуст, и она могла бы легко отмазаться, сказав, что дверь заперла «случайно», так не пошли бы они все? И она повесила подаренную Кумико табличку на стену в своем новеньком кабинете – просто чтобы оценить, как та смотрится со стороны.
Та смотрелась… просто великолепно. Да и как иначе? Гора из слов, вздымающаяся на горизонте, и над нею в ночном небе птица из перьев – до боли прекрасные. Обе в вечной взаимной недосягаемости – и вечно в поле зрения друг друга. Картина и печали, и покоя, и Сотворения мира. Можно созерцать любовь и находить утешение.
По крайней мере, Аманда любила считывать это именно так.
Хотя, конечно, здесь, на этой стене, оставлять табличку никак нельзя. Слишком ценная, это – во-первых. Рыночная стоимость нескольких уцелевших, проданных ранее шедевров Кумико взлетела астрономически после ее смерти, и хотя у Аманды оставался всего лишь еще один, о его существовании она не рассказала никому, кроме Джорджа. Случилось это на поминках Кумико. Аманда беспокоилась, боясь реакции Джорджа на то, что она скрывала от него эту работу, но он сказал, что прекрасно понимает ее желание хранить это в тайне.
Для них обоих в этой табличке было слишком много личного; она была физическим воплощением того перекрестка, на котором их жизни пересеклись с жизнью Кумико. С кем же еще, кроме Джорджа, можно было разделить эту тайну? Кто лучше Джорджа понял бы ее?
Больше ни с кем, думала она, разглядывая «Гору и птицу» до тех пор, пока это можно было себе позволить. Лучше никто.
Наконец она вздохнула, сняла табличку со стены, убрала в мешочек, который подарила ей Кумико, и заперла в ящик стола. А потом опять открыла дверь кабинета, села за стол и посмотрела на пока еще не привычный пейзаж за окном.
Всего лишь грязный городской канал. Но это был ее старт.
После того ночного пожара, вот уже с месяц назад, Рэйчел не только уволилась с работы, но и пропала вообще. Как сообщила Мэй, квартиру свою Рэйчел опустошила, оставив там разве что горку одежды и чемодан, а попрощалась по телефону, очень коротко и только с ней, своей якобы «лучшей подругой».
– Что она сказала? – спросила Аманда у зареванной Мэй за обедом.
– Просто поверить не могу…
– Это я знаю, но что она сказала?
Мэй грустно пожала плечами:
– Сказала, что к ней пришло озарение и что она поверить не может, сколько времени своей жизни угробила понапрасну. Сказала, что хочет увидеть, что же там, за горизонтом, и больше всего на свете желает того же и мне.
– Ну, что ж. Очень мило.
Лицо Мэй перекосило страданием.
– Знаю! Но ты не считаешь, что она получила черепно-мозговую травму?
Похоже, Мэй не очень удивилась (если вообще это заметила), когда Аманде поступило предложение от Фелисити Хартфорд занять должность Рэйчел. Наверняка сама же Рэйчел все это и срежиссировала. Что ж, если так, то принять это предложение было не так противно.
– Как вы понимаете, Аманда, я делаю это лишь потому, что вы женщина, – сказала Фелисити. – Мы просто не можем себе позволить, чтобы у нас было четырнадцать директоров-мужчин, несмотря даже на явные преимущества других кандидатов перед тем, что я иронично называю вашими способностями…
– Я хотела бы свой кабинет, – заявила тогда Аманда.
Фелисити посмотрела на нее так, словно Аманда разделась перед ней до трусов.
– Прошу прощения??
– У Тома Шэнахана есть свой кабинет. У Эрика Кирби есть свой кабинет. У Билли Сингха есть свой…
– Но у большинства директоров их все-таки нет, Аманда. Никто не собирается наделять вас особыми привилегиями просто за то, что вы…
– Вы не ненавидите женщин?
Фелисити заморгала:
– Дорогая, какую необычайно странную вещь вы сейчас произнесли.
– Вы ненавидите всех. Что лично меня, в принципе, устраивает: я и сама не большая фанатка рода человеческого. Но на нас, женщин, вы нападаете чаще, ведь это забавнее, правда? Мы ведь деремся по-другому. Изощреннее.
– Я благодарю вас за смену темы, но…
– Так вот, предлагаю сделку. Вы даете мне отдельный кабинет, и я не подаю на вас в суд – что очень неудобно, так ведь? – и не предъявляю запись каждого слова, что вы произнесли до сих пор. – Аманда вынула из кармана мобильник и продемонстрировала Фелисити, что запись все еще включена. – А в качестве благодарности прошу вас ответить на один вопрос…
Лицо Фелисити окаменело.
– Ты не знаешь, с кем разговариваешь, юная мисс…
– Что вы думаете о мемориале «Животные на войне» в районе Парк-лейн?
– Таких соплячек, как ты, я просто съедаю на завтрак…
– Так что вы об этом думаете? – рубанула Аманда, чувствуя, как от напряжения этого гамбита у нее сжимается желудок.
Но внешне она оставалась абсолютно спокойной. И это было прекрасно.
Фелисити откинулась на спинку кресла в бессильной ярости. И с отвращением фыркнула – так, словно чертыхнулась.
– Я думаю, что это нелепейшее позорище, – сказала она, – которое устроили там богатенькие имбецилы, у которых…
– …денег больше, чем мозгов, – закончила за нее Аманда. – Это омерзительно – приравнивать золотистых ретриверов к павшим солдатам. Я, конечно, не имею ничего против золотистых ретриверов, но они поставили памятник даже сраным голубям!. И вся эта пакость занимает больше места, чем австралийский Мемориал павшим, поэтому совершенно очевидно, что мы, как страна, заботимся о голубях гораздо больше, чем австралийцы.
– Да, но… – протянула Фелисити, все еще не придя в себя. – Мы-то в чем виноваты? – Но, взглянув на выражение лица Аманды, удивленно улыбнулась: – Ах да! Понимаю.
Каждая женщина в их офисе только и отмечала в последнее время, насколько легче – если уж не совсем легко – стало работать с Фелисити. Все, чего Аманде это стоило, – обедать с Фелисити раз в неделю. Конечно, вытеснить сутягу Тома Шэнахана из его кабинета было не просто, но Фелисити блестяще справилась с этим и в то же утро оставила на новеньком столе Аманды пожелание удачи – открытку с эмблемой Восходящего солнца АНЗАК[24]. Как ни ужасно, Аманда стала подозревать, что это начало дружеских отношений.
* * *
– Я бы предложил какое-нибудь растение, – сказал ее новый помощник Джейсон, стоя в дверях.
Он был очень, очень хорош собой в том утомительно-фашиствующем стиле, который не вызывал в недрах сердца Аманды ни единого всплеска лавы. И похоже, взаимно: лет на пять младше, этот симпатичный негодяй определенно утягивал ее в какую-то сексуальную беспросветность.
Да ну и черт с ним! Люди в беспросветности намного интереснее тех, кто всегда на свету.
– Растения – для эмоциональных слюнтяев, – ответила она, не поднимая головы от стола и делая вид, будто продолжает работать над тем, чего еще и не начинала.
– Я заметил, – сказал он. – Для вас – бумаги.
Он положил документы на край стола. И застыл в ожидании. Она медленно подняла голову, пробуя себя в роли босса, указывающего подчиненному, что его присутствие более нежелательно.
– Мэй Ло напрашивалась на прием…
– И что ты ответил?
– Что вы, насколько я знаю, ужасно заняты, что на этой неделе у вас, похоже, свободного времени нет и что вы, в принципе, не устраиваете приемов. – Джейсон ухмыльнулся, и глаза его вспыхнули. – Она сказала, что поверить в это не может.
Весь месяц Аманда подыскивала предлоги для его увольнения, но сейчас просто откинулась в кресле и спросила:
– Ты кого-нибудь любишь, Джейсон?
В глазах его на секунду мелькнуло удивление, но он тут же ухмыльнулся:
– Осторожнее, мисс Дункан. Вы же не хотите, чтобы вас обвинили в сексуальном домогательстве?
– Я о любви, Джейсон. Не о сексе. Твоя реакция, к сожалению, очень много о тебе говорит. Я понимаю этот сарказм, но моя фамилия Лоран. Официально я этого не отменяла.
Теперь ему явно захотелось уйти.
– Это все, мисс Лоран?
– Ты не ответил на мой вопрос.
– Потому что это не вашего ума дело.
Она постучала по нижней губе авторучкой – анахронизмом, который Фелисити Хартфорд пыталась запретить по всей конторе, якобы потому, что в наше время вся работа должна выполняться в электронном виде, но на самом деле чтобы насладиться тем, как это всех достанет. Сама же идея принадлежала Аманде.
– Видишь ли, Джейсон, – сказала она. – Считать людей идиотами – не самая плохая идея. Потому что в целом, да, они действительно идиоты. Но не все. Вот где можно очень легко ошибиться.
– Аманда…
– Мисс Лоран.
– Ты ненавидел столь многих людей, что в итоге стал ненавидеть всех на свете. Включая себя самого. Но в том-то и фокус, пойми. Фокус, который помогает выживать. Для этого нужно кого-то любить.
– Ох, я вас умоляю…
– Не всех подряд, это бы тоже сделало тебя идиотом. Но кого-нибудь – обязательно.
– Мне нужно ид…
– Я, например, люблю своего сына, отца, отчима и бывшего мужа. Что в целом немного больно, ну да ничего, справляюсь. Еще я любила невесту моего отца, но она умерла, и от этого мне тоже больно. Но в этом и заключается риск любви. – Она подалась вперед. – А еще я люблю своих подруг, которых на данный момент у меня всего две: стервознейшая из кадровых стерв за всю историю подбора кадров и женщина по имени Мэй Ло. Не суперженщина, соглашусь, но она – моя. И если ты еще хоть раз позволишь себе заговорить о ней в таком тоне, я расплющу твою несомненно сияющую задницу об этот паркет так, что твоя походка будет веселить окружающих до конца твоей жизни.
– Вы не можете так со мной говорить.
– Я только что это сделала, – улыбнулась она. – Убирайся. Найди себе уже кого-нибудь для любви.
Он ушел, разъяренно фыркая.
Или все-таки не увольнять его? Может, было бы куда забавней держать его на поводке и наблюдать, как он пресмыкается?
О, боже, думала она. Ужасный из меня выйдет начальник.
Но продолжала улыбаться.
Отперев ящик стола, Аманда снова взглянула на табличку. Та по-прежнему трогала за душу – так же сильно, как и в тот день, когда Кумико вручила ей в парке этот самый невероятный из подарков.
Кумико, подумала она и положила руку на живот.
На свой все еще плоский живот. На свой небеременный живот.
Ибо из всех важных вещей, которые можно вообще обсудить, важнейшим было именно то, что сказала ей Кумико в недрах инферно.
Дым, пожиравший дом Джорджа, когда Аманда проникла туда, оказался чудовищем. Находиться в нем – все равно что утопать в кипятке, который при этом живой, яростный, агрессивный, который хочет убить тебя, – вот чем был этот дым от бушующего огня, не похожий ни на что иное, кроме себя самого.
– ДЖОРДЖ! – закричала Аманда, но успела сказать только «Дж…», и кашель скрутил ее.
Через два шага от входа она задыхалась, через четыре – ослепла. Но самое страшное – теперь, уже в доме, она не понимала, что делать дальше. Она ругала себя за все это нелепое геройство и боялась теперь до смерти – не только за отца и Кумико, но и за Джея-Пи, оставшегося снаружи без нее. Она не могла бросить его, но также не могла бросить отца умирать так бездарно, сгорать, как спичка, во всей этой агонии. Неспособность решиться на что-либо вбила ее в ступор и оставила всего несколько секунд на то, чтоб не сдохнуть.
И тут обвалился потолок.
Огромная балка рухнула ей на голову и сбила с ног. Мир провалился во мрак.
Чуть позже, в отрезке времени, который навсегда останется дырой в ее жизни, чья-то рука помогает ей подняться. Рука эта нежная, но сильная, ей невозможно сопротивляться. Аманда кое-как встает, ее голова раскалывается, а тело покрыто сажей и копотью, но, как ни странно, совсем не обожжено, несмотря на пламя, что бушует вокруг нее.
Она смотрит Кумико в глаза – золотистые и печальные, как рождение мира.
Кумико протягивает руку и кладет ее Аманде на живот.
– Ты не беременна, – говорит она. – Мне очень жаль.
– Я знаю, – отвечает Аманда. – Я сделала тест.
Огонь и дым ревут, но как будто чуть тише, образуя для них безопасный карман в своем вихре.
– Ты думала, это даст тебе связь, – говорит Кумико.
– Да, – отвечает Аманда печально. – Надеялась.
– Но ты и так уже связана. Со многими.
– Не так уж и с многими.
– Этого достаточно.
И Кумико поворачивается к телу на полу. Аманда смотрит туда же – и сразу понимает, кто это – или кто это должен быть, – но на секунду ей кажется, что это уже не важно.
Пламя еще бушует, но уже не так яростно, постепенно сникая и становясь все прозрачнее.
Кумико прижимает ноготь к груди Аманды, проводит по ее джемперу черту. Расползается ткань, а затем и кожа на ее груди. Аманда видит собственное сердце.
Оно больше не бьется.
– О, черт! – говорит она. – О, черт!
Ничего не отвечая, Кумико протягивает руку, извлекает сердце и взвешивает его на ладони.
– Это ритуал прощения, – говорит она, смыкая пальцы над сердцем Аманды. Между пальцев вспыхивает сияние, а когда она вновь раскрывает ладонь, сердца там больше нет. – И это.
Кумико чертит такую же линию на себе, и ее грудь распахивается, обнажая ритм ее золотого сердца. Она извлекает его из себя и плавным движением хочет погрузить во тьму раскрытой груди Аманды.
Аманда хватает ее за руку:
– Мне нельзя. Тебе нельзя…
– И все-таки мы это сделаем. Возьми мое сердце. Прости его. Сделав так, ты простишь нас обеих. И нет ничего, в чем мы обе нуждались бы больше.
Она снова движет рукой, и Аманда не противится. Кумико помещает свое сердце в грудь Аманды, и его золотое сияние пробивается даже сквозь шрам, когда Кумико запахивает рану.
– Но как же ты? – спрашивает Аманда, заглядывая в ее глаза.
– Все закончилось, – говорит Кумико. – Наконец-то. Я свободна.
Они оставляют на полу коридора тело, которое выглядит по-другому. Совсем по-другому, навечно. И Кумико ведет Аманду сквозь пламя, сквозь пылающие стены гостиной и кухни, хотя стены и кажутся нетронутыми огнем и главный враг – дым, не огонь.
Они добрались до края огня – туда, где открылась дверь в мир снаружи.
– Тебе нужно сделать лишь шаг, – сказала Кумико. – Только скажи себе «да».
Аманда вытянула салфетку из пачки на столе и вытерла слезы.
…Внезапно она обнаружила, что стоит снаружи дома перед черным ходом из кухни, вся в саже и копоти, но целая и невредимая. От удара балкой и дыма в легких она еле держалась на ногах, но при виде Джея-Пи словно очнулась от забытья. Она увидела отца, лежащего на траве. По-прежнему неведомо как появившуюся здесь Рэйчел. И вдохнула по-садистски морозный, но гостеприимно-свежий ночной воздух.
Пожарные приехали позже, и их командир с большим уважением в голосе сообщил, что на полу в коридоре было найдено сильно обгоревшее тело человека, погибшего от обрушения потолка или, возможно, от падения из комнаты второго этажа.
Аманда и Джордж плакали вместе. Как потом случалось еще не раз…
– Ты в порядке? – спросили ее.
Аманда плотно закрыла ящик стола и сквозь слезы улыбнулась Мэй:
– Да. Просто… Нахлынуло, сама понимаешь.
Мэй понимающе кивнула:
– Ну, и как тебе в новом кабинете?
– Спокойно. Как я и люблю. У тебя тоже скоро будет свой. Не зря ж я теперь раз в неделю обедаю с властью.
Мэй снова кивнула:
– Слушай, а давай вечером на час позже встретимся? У нашей сиделки сегодня урок кларнета, и я еще не решила, что надеть…
Джей-Пи гостил у отца во Франции; хотя его постоянные сессии с матерью по скайпу и убедили Генри, что даже неделя без дома – это слишком долго, Джей-Пи, несомненно, оттягивался там, как мог. Следующую такую же неделю они запланировали на лето. Поэтому Аманда и Мэй тоже решили гульнуть на всю катушку. Не то чтобы каждая из них ждала этого с нетерпением, но если все закончится дома, на диване с вином и теликом, кому плохо?
– Давай, – согласилась Аманда. – Но только не отмазываться! Мы все равно идем!
– Ну конечно, – ответила Мэй и ушла.
Аманде же сегодня предстояла еще куча дел. Оказалось, что Рэйчел на этой должности работала просто великолепно, и этого уровня Аманда решила ни в коем случае не опускать.
Но сначала она достала мобильник.
Даже раскрыв Джорджу тайну своей таблички, она все-таки не могла рассказать ему о своей галлюцинации в пылающем доме, о рухнувшем потолке и странном видении (или что это было), которое провело ее сквозь огонь наружу и спасло ей жизнь самым невероятным образом. И все-таки, набирая самый часто вызываемый номер на своем телефоне, она непроизвольно ощупала свободной рукою грудь.
Нет, никакого шрама там не было. Нет, она не верила в то, что внутри нее теперь бьется золотое сердце. И что из горящего дома ее вывел призрак Кумико.
Но, возможно, она допускала, что, когда в дом вошла Смерть, ее мозг вызвал Кумико, и та появилась, чтобы унять ее страх, чтобы выполнить все так, как нужно, чтобы дать ей шанс выжить.
А это уже нечто. И даже гораздо больше чем нечто.
И поэтому она захотела поговорить с отцом – ни о чем конкретно, просто услышать голос отца, погрустневшего и постаревшего даже за этот месяц. Она захотела услышать, как он зовет ее по имени. И как они оба произносят имя Кумико.
Она слушала гудок за гудком. Со своими пока еще не зажившими ногами он может долго добираться к столу, портфелю… или где там еще он оставил свой мобильник на этот раз. Не страшно. Она подождет.
Она хотела поговорить с ним – ну да, опять о любви. И о прощении. И о сердцах, которые бьются и разбиваются.
Наконец в трубке кликнуло.
– Милая! – обрадовался отец, и этой радости хватило бы на тысячу страждущих.
* * *
Мысля реалистично, он знал, что больше никогда ничего не вырежет. Да пока и не пытался, конечно. Слишком скоро, слишком недавно. Любой случайный взгляд на замусоленный покетбук в эти дни пребольно колол его сердце. Но даже если это уже прошло – а он знал умом, что так оно и есть, хотя и понимал, что знать и ощущать – вещи слишком различные, что и составляет, наверное, главную проблему всех людей его сорта, – он не мог представить себя снова вырезающим нечто, не зная заранее, что должно получиться в итоге. Любая нарезка конечно же без нее превращалась в ничто. В глупую поделку, которая не значила ни черта.
Другое дело – с ней. О, если бы с ней…
Он глубоко вздохнул.
Кто-то бережно похлопал его по плечу.
– Я знаю, Джордж, – сказал Мехмет, направляясь к выходу. – Отпусти себя.
Мехмет был ужасно занят: подобрал на свое место миниатюрную девушку из Ганы по имени Надин, которая только собиралась поступить в университет. На драматургию. Мехмет ее нанял. Джордж не нашел что возразить.
Их студия вернулась к прежнему незатейливому, но достойному бизнесу, хотя иногда сюда еще заглядывали люди с надеждой на лицах и слезами на глазах. Они уходили разочарованные, но лишь отчасти, поскольку Джордж давал им взглянуть на то, что весь мир считал последней непроданной табличкой: «Дракон и Журавушка» по-прежнему взирали на него со стены над рабочим столом, хотя стоили теперь больше, чем их студия со всеми ее потрохами.
После похорон Аманда рассказала ему о табличке, которую Кумико подарила ей: странно мирный, странно спокойный вариант того, что казалось финалом истории, такой же естественный, каким казались «Дракон и Журавушка» для ее начала. Эту табличку она показала ему в доме Клэр, в одной из задних комнат, и он все понял. И не принял от нее никаких извинений за то, что она держала это в секрете, потому что извиняться было не за что. На ее месте он поступил бы так же, и они сошлись на том, чтобы тайна оставалась тайной, которую они теперь будут делить на двоих.
– Я люблю тебя так, – сказал он ей, – что мое сердце готово разбиться. И даже мысль о том, что ты можешь быть несчастна…
– Я знаю, пап, – ответила она. – И это знание очень помогает мне. Правда.
Прозрение наступило сегодня днем, когда Мехмет оттащил его в угол и признался, крайне смущенный, в том, что оказался куда лучшим актером, чем Джордж когда-либо предполагал. Разумеется, именно он, Мехмет, распространил все эти слухи – как устно, так и на правильных сайтах в Сети – и наприглашал кучу ужасных людей на ту самую вечеринку в надежде на феноменальный коммерческий успех.
– Кто-нибудь должен был это сделать, Джордж! – восклицал он. – Ты же совсем не способен позаботиться о себе. Или ты теперь не рад, что получил столько денег?
Джордж даже не разозлился. Мехмет, пускай и по-своему, делал все это из любви, а Джорджу больше не хотелось отказывать никому, кто делает что-либо из любви к нему. Он даже позволил Мехмету запустить официальный сайт, посвященный табличкам, несмотря на то что продавать уже было нечего, просто как страничку памяти о Кумико.
Он посмотрел на «Дракона и Журавушку». Как и его дочь, он старался держать табличку как можно ближе к себе, принося ее сюда каждое утро и забирая домой каждый вечер – не столько ради ее безопасности, сколько для того, чтобы не разлучаться с ней ни на минуту.
Потому что Кумико ушла и оставила после себя лишь это.
Он никак не мог открыться в ответ на признание Аманды и рассказать ей, что же случилось – или, как он полагал, что случилось – тогда в саду. О том, как Кумико просила взять ее сердце, о том, как она вдруг расплылась и как поцеловала его, прежде чем исчезнуть. На самом деле все складывалось так, будто ее вообще там не было. Вот и Джей-Пи помнил только то, что Рэйчел привела его в сад, где его grand-père лежал на траве.
Но Джей-Пи не видел никакой Кумико.
Потому что Кумико, разумеется, погибла на пожаре, причиной которого, как полагали пожарные, скорее всего, явилась непогашенная свеча, на пожаре, после которого каким-то чудом выжили только Джордж и его дочь.
Каким-то чудом, повторил он про себя, постукивая пальцами по столу. Если не Кумико вытащила его на ту заиндевелую траву, то как он там оказался? Только чудом, больше никак.
Он все еще видел сны, хотя уже совсем другие, о том, что происходило на табличке Аманды. То были сны о мирно спящей горе и созвездии в форме летящей птицы. В этих снах он не мог коснуться ее, не мог говорить с ней, он мог лишь наблюдать за ней, вечной и недосягаемой. Это были сны о конце их истории.
Однако сны эти вовсе не были несчастливыми. В них конечно же было и горе, отчего он часто просыпался в слезах, но был и такой покой, словно битва, которой суждено длиться вечно, вдруг завершилась. Умиротворение. Освобождение – если не самого Джорджа, то хотя бы Кумико. С каждым днем после смерти она становилась все более независимым наблюдателем их истории. Их истории, которая становилась частью истории мировой.
Он поднял голову.
Наблюдатель. Тот, кто рассказывает свою версию истории. Тот, кто рассказывает все не так, как могла бы рассказать она. Не для соперничества, не для выяснения, у кого получится лучше, просто то же самое, но своими словами…
– Мистер Дункан?
Высокий мелодичный голос остановил локомотив его мыслей. Локомотив, к которому он еще непременно вернется. О да.
– Что такое, Надин?
– Я подумала, – смущенно сказала она, – нельзя ли мне в четверг выйти на работу немного позже?
– Насколько позже?
Она заморгала:
– Часа на четыре.
Джордж увидел, как Мехмет завертелся в кресле за конторкой.
– У тебя прослушивание?
Надин, похоже, обрадовалась:
– Ух ты! Как вы догадались?
– Шестое чувство.
– Отпусти ее, Джордж, – сказал Мехмет. – Слышал бы ты ее голос. Чистый саксофон!
– Хорошо поет?
– Ты просто не поверишь.
– Могу для вас спеть, – тут же вызвалась Надин.
– Не прямо сейчас, – сказал Джордж. – Да, можешь выйти позже.
– Спасибо, мистер Дункан.
Они пошептались о чем-то с Мехметом.
– Ах, да! – добавила она. – Мы тут нашли… Мехмет просил отдать это вам.
Она протянула поразительно тонкую руку – Джордж вдруг увидел ее на сцене во внерасово-внеполовой постановке «Оливера»[25] – и вручила ему нечто похожее на клочок бумаги.
Он взял его.
И чуть не свалился с кресла.
– Он упал с твоего стола, – сказал Мехмет. – Такой маленький. Наверно, просто сдуло сквозняком.
– Мы бы и не нашли его, если б я не уронила ту банку со скрепками, помните? – добавила Надин.
Джордж медленно кивнул. Банка, заказанная по ошибке, была производственного назначения, содержала десять тысяч скрепок, и, когда маленькие ручки Надин ее опрокинули, скрепки разлетелись по всем углам студии. Джордж уже смирился с мыслью, что теперь будет находить на полу эти скрепки до самого ухода на пенсию.
Но это были сторонние мысли, которые дрейфовали в его голове, пока он сидел, уставившись на то, что ему вручили.
Это был журавль из книжной страницы – точно такого же он вырезал в их самый первый день, и тот находился теперь на табличке, висящей у него над головой.
Но это было невозможно.
– Быть не может, – сказал он.
– Может, – отозвалась Надин. – Если делать уборку.
– Я не об этом, – сказал Джордж. – Я вырезал только одного. Кумико забрала его. И вставила в картину. Вот в эту. На стене.
– Видел я, как ты вырезаешь, – усмехнулся Мехмет. – Можешь настрогать миллион вариантов, пока не получится то, что нужно. – Он пожал плечами. – Не думаю, что так работают настоящие художники, но в твоем случае, видно, по-другому никак.
– С этим все как раз по-другому, – прошептал Джордж, по-прежнему не сводя глаз с журавля.
Этого он не вырезал. Он был абсолютно уверен. Тем более что этот был никак не похож на гуся.
Он заплакал – тихо, непроизвольно. Надин, уже привыкшая к этому за неделю работы в студии, положила руку ему на плечо.
– Мой отец умер, когда мне было двенадцать, – сказала она. – Легче со временем не становится. Но кое-что меняется.
– Знаю, – кивнул Джордж, сжимая Журавушку в пальцах.
Такую маленькую и совершенную. Вырезанную из страницы без слов, чистую и белоснежную.
Страница без слов, повторил он про себя.
– Мы же правильно сделали, что дали это тебе? – уточнил Мехмет, подходя к ним. – Мы нашли, и я подумал, что раз уж ты столько всего потерял в этом проклятом пожаре…
Выражение «столько всего» не совсем точно, подумал Джордж. После этого пожара у него не осталось вообще никакой одежды, ведь дом он покинул голым. Что еще хуже, он лишился своего телефона, в котором хранились все фотографии Кумико, что он успел наснимать. В ее же квартирке он не нашел ничего, поскольку все свои вещи она перевезла к нему.
От нее осталось лишь тело, которое они похоронили, от чего его пытался мягко отговорить сотрудник похоронного бюро – дескать, это «непрактично» и «слишком по-американски», – но, поскольку он так и не нашел никаких родственников Кумико, оспаривать это было некому, и он купил ей новое платье, новый плащ и нечто напоминавшее тот саквояж, что она всегда носила с собой, хотя тело ее обгорело настолько сильно, что ему так и не дали посмотреть на него. Он понятия не имел, одевали ее перед погребением или нет.
Он даже не смог поцеловать ее на прощание…
Хотя как раз это он вроде бы уже сделал.
– Я тебе уже говорил, – сказал Мехмет, пока Джордж молча плакал. – Возьми побольше выходных. Мы прекрасно тут справимся без тебя, а ты пока подлечи ноги, найди себе новое жилье и, я не знаю, хоть поскорби по-человечески…
Джордж задумался. А что, по-своему разумный совет. Клэр и Хэнк, неколебимые в своем желании помочь, забрали его из больницы и разместили в более чем роскошном номере гостиницы, которой Хэнк заправлял. И хотя у Джорджа после продажи табличек на счету в банке денег было немерено, они не согласились взять у него ни пенни, искренне предложив ему оставаться в гостинице сколько душе угодно. Он подозревал, что они, помимо всего прочего, просто не хотят спускать с него глаз, но неожиданно для себя обнаружил, что вовсе этому не противится.
По ночам было конечно же нелегко, но при свете дня приходилось еще тяжелее, пока он не начал снова ходить в студию на костылях, к удивлению скандалиста Мехмета. Несмотря на постоянное нытье, Мехмет прекрасно справлялся со всеми делами, и можно было не сомневаться, что он не подведет и дальше, пока Джорджу не станет полегче, тем более что сам Мехмет, похоже, не особенно торопился с уходом.
Но нет.
– Нет, – сказал Джордж, утирая слезы. – Мне нужно чем-нибудь заниматься. Я не могу сидеть и ничего не делать весь день. Я должен быть занят.
Колокольчик над дверью зазвенел, и в студию кто-то вошел.
– Идите к посетителям, – сказал Джордж. – Я справлюсь.
Мехмет и Надин смотрели на него еще несколько секунд, а потом пошли к посетителю, который выглядел как очередной заказчик маек для мальчишеских оргий. Краем уха Джордж еще услышал, как Мехмет преподает Надин ужасный урок того, как не надо обращаться с клиентом, но махнул в душе рукой.
Потому что снова смотрел на Журавушку.
Невероятно. Он не мог ее вырезать. Так ведь? Так. Во-первых, слишком искусно. Слишком изощренно, слишком точно, слишком похоже на журавля. Он на такое не способен. Это не может быть он. И это не может быть здесь.
Но и живой журавль в его садике, с крылом, пробитым стрелой, невозможен точно так же. Как и все это наваждение с табличками и их феноменальным успехом. Да что говорить, все, что связано с Кумико, сплошная невероятность.
Неужели он правда верит в то, что она – журавль? Верит, что она приходила к нему и приносила все это счастье, пока в нем не проснулась жадность и ему не захотелось узнать о ней больше? Неужели он действительно верит в то, что случилось в саду на пожаре? И в то, что именно этим заканчивается их история?
О, если бы любая история чем-либо заканчивалась. О, если бы каждый финал не становился началом.
Конечно же нет. Конечно, он в это не верит.
И – да, превыше всего, что он когда-либо чувствовал, – это правда.
Журавлик. Из бумаги. На которой нет букв.
И да, поверх всего, что он чувствовал, – то была правда.
Журавлик из бумаги. Из наконец-то небуквенной бумаги.
То было послание. И он знал о чем.
* * *
Он бережно отложил журавлика в сторону, стараясь не изогнуть его, не помять. Позже он поместит его под стекло, сохранит со всеми почестями, со всей бережностью, но сейчас выполнит только самое необходимое. Больше он не будет ничего вырезать, это ясно, это очевидно, но этот журавлик вырезан из страницы без слов. Из страницы без истории.
Из страницы, которая ждала наполнения.
Он схватил первое бумажное нечто, попавшееся под руку. Бесплатный блокнотик, рекламный подарок от поставщика. На каждой странице – название производителя и контактная информация. Он выкинул это к чертям. И продолжил поиски – открывал ящики стола, ездил в кресле на колесиках от стеллажа к стеллажу. В студии было много разной бумаги: от дешевой макулатуры до суперкачественных листов, на которых можно было спать и видеть разноцветные сны, но, к своему растущему удивлению, он нигде не мог найти нормальных записных книжек, даже разлинованных под студентов для конспектирования лекций. Или они уже ничего не пишут, подумал он, а вбивают все в свои лэптопы и записывают на смартфоны?
– Мехмет! – рявкнул он, удивив как молодежь, так и посетителя. – Где все наши блокноты?
– У меня есть, – сказала Надин. Нырнула за рюкзаком под конторку, достала оттуда зеленый блокнот и протянула ему. – Вот, купила для лекций.
– Ага! – торжествующе пропел Джордж. – Так вы все еще записываете?!
– Что ты собрался делать? – спросил Мехмет немного встревоженно, как человек, который давно знал, что Джордж сойдет с ума, но не был готов к тому, что это уже происходит.
– Ничего, ничего, – ответил Джордж и открыл блокнот на чистой странице.
Надин еще не использовала его. Пустяки, он купит ей новый. Спасибо, сказал он. И извинился перед посетителем. А потом жестами показал, чтоб его оставили в покое.
Он достал авторучку, занес ее над страницей и на секунду застыл.
А потом написал:
«Во снах она летает».
Его накрыло волной, и словно золотистый свет заструился сквозь его сердце.
Откуда-то издалека донесся телефонный звонок; одна из наименее занятых частей его мозга отметила это, но он решил об этом не думать.
Потому что это было то, что нужно. Да. Почему-то он знал это, как знал все о ней. Вот почему он знает ее. Вот почему она будет жить снова. Он расскажет ее историю. Не историю ее жизни конечно же, но историю их обоих – ту, которую знает он, единственную историю, которую он мог бы по-настоящему рассказать. Всего лишь взгляд одной пары глаз на кого-то со стороны.
Но именно это и правильно.
Во снах она летает, прочел он снова.
И улыбнулся.
Да, это начало. Одно из возможных начал, но почему бы и нет?
И он заставил авторучку поработать еще немного.
– Джордж! Это важно, – сказал Мехмет, вручая ему разрывающийся от звона мобильник.
Джордж поморгал пару секунд. Но это и правда был его телефон. Новая трубка, купленная уже после пожара. Ничего лишнего, какой-то непривычный рингтон и три необходимых для жизни контакта. Дочь, бывшая жена и помощник по студии.
Аманда, сообщил ему экранчик.
– Спасибо, – сказал он и взял телефон.
Его дочь звонила ему теперь раза по два на дню, как завелось у них после пожара. Но да, это правильно. Он всегда готов говорить с ней. Да что там готов – страшно рад, просто счастлив говорить с ней снова о Кумико, о записной книжке, которую он нашел только что, и о том, что снова хочет писать.
Но больше всего ему хотелось говорить о времени, которое только что миновало. О том времени жизни, о котором он вспоминал с болью, да, но и с наслаждением. Только Аманда поймет его так, как нужно, и хотя он никогда не скажет ей всей правды по телефону, возможно, он напишет об этом в книге.
И возможно, тогда Кумико, которую он знал, будет жить еще и еще.
Да, подумал он, и на глаза опять навернулись слезы.
Да.
И он поднес к уху трубку, чтобы поприветствовать дочь – человека с разбитым, но все еще радостным сердцем – и поболтать с ней об удивительном и чудесном.
Послесловие и благодарности
Оригинальная история жены-журавушки – неполная, кстати, ибо история Кумико рассказывается на 32 табличках, – это японская народная сказка, которую я знал всю жизнь, впервые услышав ее пятилетним белокурым мальчуганом от воспитательницы в детском саду на Гавайях. Ее звали миссис Нисимото, и я любил ее со всей пылкостью, на которую только способен пятилетний ребенок. Чудесный человек и прекрасный педагог, она рассказывала нам истории, у которых никогда не было конца, как и у этой – о журавушке, которую исцелили от ран.
История эта вдохновила не меня одного. Величайшая рок-группа на свете, «Декабристы», задействовала ее в своем альбоме, который тоже называется «Журавушка» (The Crane Wife). Эпиграф к этому роману взят из их песни «The Crane Wife 1&2», которую сочинил Колин Мелой. Если вы до сих пор не слышали музыки «Декабристов», я за вас беспокоюсь.
Вскоре после того, как я засадил Джорджа нарезать фигурки из старых книг, меня познакомили (совершенно случайно) с выдающейся работой женщины по имени Сью Блэквелл (). Сравнивать то, что делает Джордж, с тем, что делает Сью, это все равно что сравнивать живопись кончиками пальцев с полотнами Кандинского. Не хочу никого перехваливать, просто проверьте.
Спасибо Фрэнсису Бикмору, Джейми Бинг и всем обалденным ребятам из Кэнонгейта. Спасибо моему агенту Мишель Касс, которая не моргает озадаченно, какой бы безумный проект я ни затеял. А также спасибо вам, Эндрю Миллз, Алекс Холли и Дэнис Джонстоун-Бёрт.
Примечания
1
Джон Росс «Джей Ар» Юинг-младший (англ. John Ross «J.R» Ewing, Jr.) – вымышленный персонаж американского телесериала «Даллас».
(обратно)2
Невмешательство правительства в дела частных лиц, а также в бизнес и торговлю (фр.).
(обратно)3
«Дорога домой: Невероятное путешествие» (англ. «Homeward Bound: The Incredible Journey», 1960) – легендарный роман для семейного чтения канадской писательницы Шейлы Бернфорд (1918–1984) о похождениях двух псов и кошки, пытающихся добраться до дома. Дважды экранизирован в Голливуде (в 1963 и 1993 гг.).
(обратно)4
«Космический линкор “Ямато”» (яп. «Утю:-сэнкан Ямато», режиссер Кимура Такуя, 1974) – японский фантастический аниме-сериал в жанре «космическая опера».
(обратно)5
«Животные на войне» (англ. «Animals in War Memorial») – мемориал в Лондоне, посвященный памяти всех животных, которые «служили и погибли в британских и союзнических войсках в войнах и конфликтах во все времена».
(обратно)6
Huw Edwards (р. 1961) – легендарный журналист, диктор и комментатор корпорации Би-би-си, лауреат премии Британской академии кино-и телевизионных искусств (BAFTA).
(обратно)7
Обыгрывается крылатое латинское выражение «Carpe diem» – «Живи одним днем».
(обратно)8
Дедуля! (фр.)
(обратно)9
Прости (фр.).
(обратно)10
Поезд через Евротоннель, соединяющий Англию и Францию под проливом Ла-Манш.
(обратно)11
Папа! Папа! Я вихляюсь! Повихляйся со мной! (фр.)
(обратно)12
«Маленького принца» (фр.).
(обратно)13
Дерьмо (фр.).
(обратно)14
Я – зима (фр.).
(обратно)15
Да… Конечно (фр.).
(обратно)16
Уо́лли (англ. Wally) – уменьшительное от имени Уоллас (Wallace). В Великобритании может также означать «дурачок».
(обратно)17
Секс на троих, т. н. «шведская семья» (фр.).
(обратно)18
Зона 1 – центральная зона Лондона согласно карте местного метрополитена.
(обратно)19
Рэйчел Уайтред (англ. Rachel Whiteread, р. 1963) – английский скульптор и художница. Основной мотив ее работ, в которых отсутствует изображение человека и чего бы то ни было живого, замкнутое и необитаемое пространство.
(обратно)20
Это мои сандалии… Не забирай их (фр.).
(обратно)21
«Золотая чаша» (The Golden Bowl, 1904) – роман американского писателя Генри Джеймса. Действие происходит в Англии, в книге рассматриваются проблемы брака и адюльтера, а также сложные отношения отца с дочерью и их общей родней.
(обратно)22
Серенге́ти – национальный парк площадью 14 763 км2 в Танзании.
(обратно)23
Огонь (фр.).
(обратно)24
Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC, англ.) – Австралийский и Новозеландский армейский корпус (АНЗАК), сформированный для участия в Первой мировой войне.
Эмблема «Восходящее солнце» разработана в 1914 г. для участия корпуса в Дарданелльской операции, развернутой по инициативе У. Черчилля странами Антанты с целью захвата столицы Турции Константинополя и открытия морского пути в Россию.
(обратно)25
«Оливер!» (англ. «Oliver!») – бродвейский (1962) мюзикл Лайонела Барта по мотивам романа Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста» – первого романа в английской литературе, главным героем которого выступает ребенок.
(обратно)

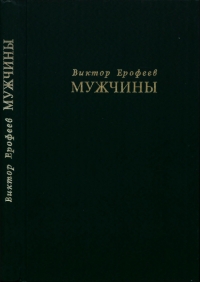

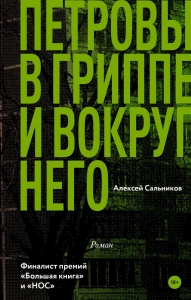






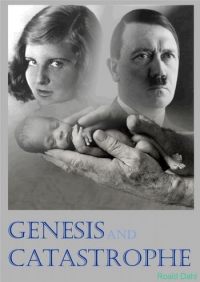

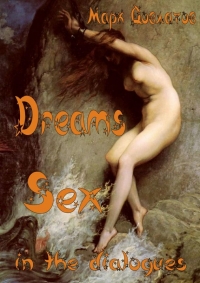
Комментарии к книге «Исчезнувшая в облаках», Патрик Несс
Всего 0 комментариев