Маре Кандре ЖЕНЩИНА И ДОКТОР ДРЕЙФ
Жемчужно-легкий вечерний свет падал сквозь зарешеченные окна приемной доктора Дрейфа
(расположенной на элитарной Скоптофильской улице,
в центральной части города Триль).
День был длинный и утомительный,
заполненный, как обычно, консультациями, сеансами психоанализа и истерическими взрывами чувств
(да, чувства, чувства, и еще раз чувства и субъективность),
и добрый доктор,
знаменитый аналитик по женским вопросам,
прославленный знаток женщин и всех извращенных и ложных представлений, заблуждений и дремлющих желаний, которые борются за власть в нежном теле женщины и в ее хрупком разуме,
мужчина, посвятивший свою жизнь тому, чтобы попытаться освободить женщину от ее бесконечной психической неполноценности,
крошечный старикашка, почти карлик в огромных очках в черной оправе и в измятом черном костюме,
в глубоком раздумье сидел за своим огромным письменным столом,
закрыв глаза,
и осторожно потирал виски.
Ибо у доктора Дрейфа,
у великого,
начиналась легкая головная боль.
Что, впрочем, неудивительно, если подумать о том хаотическом бреде, который он часами вынужден был выслушивать.
И хотя он и любил свое призвание всеми фибрами души,
но иногда,
когда малокровные женщины неврастенического склада одна за другой входили в его большую запыленную дверь, укладывались на диван и поверяли ему особенности своей души, и казалось, что этому непрерывному каравану страждущих нет конца и края,
да, тогда даже для доктора Дрейфа это было слишком.
— Женщины, — тяжело и беспомощно стонал он,
осторожно потирая кончиками пальцев лоб и виски в неуклюжей попытке избавиться от головной боли,
как будто она была каплями пота или пылью.
— Женщины…
— Женщины…
— Женщины…
В такие моменты он иногда задавал себе вопрос, как он вообще осмелился приняться за этакое дело.
Может быть, ему следовало продолжать заниматься наукой о насекомых, которой он так страстно отдавал все свое свободное время в молодые годы:
ловить сачком экзотических бабочек,
насаживать живых гусениц капустницы на большие, острые булавки,
умерщвлять эфиром жуков-оленей,
и как обычно с наслаждением наблюдать через увеличительное стекло их долгие предсмертные судороги…
Однако что сделано, то сделано,
он раз и навсегда выбрал этот путь, каким бы бесконечным он ни был!
Опасная для жизни, почти непроходимая тропа, ведущая сквозь непролазные джунгли, куда не доходит свет просвещения —
психика женщины!
Да, по правде говоря, сквозь нее приходилось буквально продираться,
быть готовым к самому худшему,
когда ни на секунду нельзя потерять хладнокровия или отвернуться, или соблазниться сладким голосом духа анализа,
ибо тогда он, словно лесная фея, завлечет тебя в края, из которых никогда больше не выбраться.
Нет, это не для слабых!
Если бы люди только знали, что на самом деле таится в этих хрупких, щебечущих женских душах, какие желания, порывы и темные, скрытые страсти.
И Дрейфа охватила сильная дрожь при мысли обо всем том, что он за долгие часы анализа открыл в душах наипрелестнейших старших сестер, матерей, девственниц, подружек и самых безобидных на вид тетушек…
Комната, в которой сидел доктор, дрожащими руками потирая больные виски, была,
несмотря на его научное величие,
слишком маленькой и непритязательной.
Через одно из зарешеченных окон можно было увидеть мертвую, совсем черную яблоню, а на самой дальней из ее ветвей покачивалось жалкое крохотное и почерневшее яблочко
(так оно и висело много-много лет,
нетронутое и сморщенное).
В следующем окне,
в среднем,
стояла запыленная черная кошка с одним ухом и глядела на улицу.
С первого взгляда животное казалось живым, на самом же деле это было чучело старой кошки, которую чувствительный Дрейф так и не смог предать земле.
Вдоль стен шли стеллажи
с пола до потолка.
Стеллажи были заполнены огромным количеством толстых старых фолиантов,
и все они были написаны великим наставником Дрейфа
(упокой, Господи, его душу!),
профессором Попокоффом.
Фолианты представляли собой дело жизни профессора Попокоффа:
изложение истинного духа женщины!
Не имеющий себе равных в мире исследований научный труд…
И в томах этих было все: все, что было сказано, говорилось и могло быть сказано об обманчивой природе духа женщины.
И в любом случае, когда Дрейф затруднялся с объяснением
(такое случалось нечасто, но тем не менее случалось),
он справлялся в трудах профессора Попокоффа,
и неоценимую помощь оказали они ему за все годы его практики,
да, он прямо не знал, как бы без них справился.
Кроме этого, на полках стояли банки, в которых хранились заспиртованные матки, яичники и несколько женских грудей,
даже недоразвитый зародыш девочки плавал в спирту,
беззащитно свернувшийся,
в такой вот банке из пожелтевшего стекла.
И все в комнатке Дрейфа с ее спертым воздухом было покрыто пылью;
любой предмет;
и даже сам доктор
(его густые седые волосы и мешковатый черный пиджак)
был покрыт толстым слоем седоватой пыли.
Ибо он строжайшим образом запретил госпоже Накурс (экономке) вообще заходить сюда со смоченной хлором старой половой тряпкой, метелкой для пыли и прочими причиндалами для уборки.
И, словно при оптическом обмане
(что было весьма странно,
никто из посетительниц так никогда и не понял этого феномена),
стены, окна, дверь и письменный стол казались скошенными,
все куда-то клонилось,
и у каждого, кто входил в комнату, тотчас начинала кружиться голова — и он почти терял равновесие.
(Сам-то Дрейф с годами привык к этому и мог беспрепятственно передвигаться по комнате,
только когда он выходил в настоящий мир, шел по улицам и площадям, только тогда у него начиналась качка и головокружение.)
Кроме громадного письменного стола, за которым теперь расположился доктор Дрейф, в комнате была и другая мебель:
обязательный для любого психоаналитика по женским вопросам красный диван,
просиженное кожаное кресло,
круглый столик красного дерева
и небольшой буфет.
На нем стоял серебряный поднос, а на подносе несколько хрустальных бокалов и красивый графин, наполненный водой
(даже в нем плавали мелкие пылинки, а когда на графин падали лучи послеполуденного солнца, то его содержимое выглядело грязным и несвежим).
Толстые ковры с восточным рисунком, изрядно траченные молью, устилали пол, отчего воздух в комнатушке был невыносимо затхлым,
словно она много веков стояла закупоренной
(вообще-то Дрейф никогда в жизни не открывал окон и не проветривал помещения,
ибо воздух, свежий воздух, и ненавистное солнце —
он плохо переносил еще с младенческого возраста, когда много болел).
А сам доктор, маленький, съежившийся человечек, похожий на карлика,
когда он ходил взад-вперед между письменным столом и книжными полками,
когда протягивал руку, чтобы открыть дверь, или сползал со стула у письменного стола, или влезал на него,
производил смешное впечатление хилого ребенка.
Даже ручку ему трудно было держать в руках, до того они у него были тонкие, почти по-девичьи слабые.
— Ах, да, ах, да, — вздыхал он теперь.
Все-таки раньше было легче,
во времена профессора Попокоффа.
Женщины тогда были сговорчивее!
Они знали, что для них лучше,
знали свое место,
понимали свои границы и не перечили,
хотя даже в те времена случалось, что им в голову приходили самые сумасбродные идеи,
но это легко было исправить;
достаточно было деликатно, осторожно, по-отечески пожурить их и направить, словно детей-переростков, каковыми они по своей сути и являются,
прописать самые обычные пилюли, экстракты, паровые ванны или усиленное питание,
чтобы они поняли, насколько нелепы их выходки,
и довольные возвратились бы к своим занятиям: к кухне, плите, детской и залам родильной больницы,
а сейчас?
Они обращались к нему с желаниями — одно безумнее другого.
На одну вдруг напало ничем неоправданное желание исследовать особый грот, чтобы узнать, лежит ли там и впрямь горка исписанных сивиллой забытых листьев,
другой ни с того ни с сего захотелось изучать влияние света и воздуха на греческие глаголы женского рода!
Да, и не хочешь, а засмеешься, вспомнив все это,
а обеих пациенток, естественно, быстренько препроводили в ближайшую больницу, где их,
насколько Дрейффу известно,
до сих пор держат,
запертыми, каждую в загаженном, усыпанным соломой стойле.
Нет, теперь это уже не помогало, как он ни пытался убедить своих пациенток в том, что их жалкие, маленькие и миленькие женские мозги не выдерживают подобной умственной деятельности.
Что они слишком малы,
что они не предназначены для того, чтобы постигать такие материи, как искусство, наука, литературное творчество, расчеты и цифры.
Что женщины могут взорваться, если не будут слушаться его советов и не откажутся раз и навсегда от попыток думать слишком глубоко и глобально.
Не помогало, сколько бы он,
с помощью капусты брокколи, слив и заспиртованного крошечного мозга крота
(про который доктор беззастенчиво утверждал, что он извлечен из женской головы среднего размера),
не пытался с точностью продемонстрировать им, как малы их интеллектуальные возможности по сравнению с мужскими…
Все равно у них до конца сеанса не исчезал некий скепсис во взгляде,
будто им постепенно что-то становилось ясно,
и они могли,
едва он выпроводит за дверь,
застыть в темном коридоре, а потом вдруг повернуться и уставиться на него так, что у него мурашки по спине бежали,
и он тут же чувствовал себя маленьким, ничтожным, глупым, робким, слабым и почти валился навзничь.
(В таком случае он, как правило, молниеносно закрывал дверь, как следует запирал ее и, потрясенный до основания, доставал зачитанный экземпляр «Короля Лира» и, чтобы успокоиться, перечитывал некоторые сцены.)
Теперь же он прямо не знал, что делать.
В трудах профессора Попокоффа ничего не говорилось об этом довольно вызывающем взгляде.
Дрейф скрупулезно прочел каждый запыленный фолиант от корки до корки,
он не ложился до трех часов ночи и спокойно штудировал каждый параграф, каждую сноску,
но, тем не менее, не нашел ничего, что могло бы сравниться с этим недавно проявившимся и чрезвычайно тревожным явлением.
Самая мысль о нем наполнила Дрейфа ужасом,
он безуспешно попытался отогнать ее,
и в этот момент, словно ангел-избавитель, госпожа Накурс постучала в дверь, просунула туда свою отлично причесанную в этот день голову и сообщила, что пришла следующая пациентка.
И Дрейф,
у которого все еще ныли лоб и виски,
стал готовиться к приему, неохотно, но с некоторым облегчением:
глубоко вздохнул,
открыл свой огромный старый журнал
(и тут же исчез в поднявшемся оттуда облаке пыли),
с трудом взял невероятного размера ручку,
окунул перо в прокисшие черные как смола чернила
и попросил госпожу Накурс впустить пациентку.
Ага!
Дрейф не был до конца уверен, должен ли он почувствовать облегчение или разочарование, увидев эту болезненно бледную, довольно высокую молодую женщину, вступившую в его затхлую, со странно скошенными стенами приемную.
Женщина была ему совершенно незнакома, однако
внешностью
она ничем не отличалась от его обычных пациенток.
У всех у них были одни и те же костистые, почти изможденные физиономии,
та же алебастровая, напудренная кожа,
глубоко сидящие черные глаза,
редкие пряди темных, жирноватых волос были зачесаны назад с высокого чистого лба,
и все они были одеты в одинаковые, белые, доходящие до полу платья из тонкой ткани
(Дрейф подозревал, что это, возможно, была некая мода,
стойкая,
так как она, кажется, не менялась все те годы, что он держал медицинскую практику на Скоптофильской улице).
Предпоследняя пациентка на сегодняшний день!
Дрейф невольно почувствовал глубокое облегчение.
Женщина немного постояла
посреди комнаты,
покачиваясь,
непривычная к странным изгибам,
через руку у нее было перекинуто тонкое черное пальто.
Дрейф вежливо, но непреклонно предложил ей положить пальто на стул,
что она послушно исполнила.
Затем он искоса окинул ее взглядом, пронизывающим и хитроватым, чтобы дать предварительную оценку физического и психического состояния женщины.
Тщательно, крупными буквами с завитушками, высунув язык, он зафиксировал первое впечатление:
«Пониженное женское физическое развитие…»
«Общая фригидность…»
«Истерический сомнамбулизм…»
«Неясно выраженная деменция, гебефрения в конечностях…»
И пока он записывал свои наблюдения, женщина осматривала запыленную обстановку комнаты.
Широко раскрыв глаза, она рассматривала развешанные по стенам, пожелтевшие свидетельства в рамках из различных женских заведений в Нендинге,
в особенности содержание банок: яичники, матки, женские груди…
Словно гипнозом ее притягивало к хранящемуся в банке зародышу девочки, она наклонилась, рассматривая неразвитое лицо,
а когда затем чуть опустила голову, взгляд ее упал на раскрытую зачитанную до дыр книгу, свалившуюся на пол.
Красным карандашом кто-то подчеркнул в ней несколько предложений, и женщина из чистого любопытства склонилась и стала тихо читать про
себя:
«Что ниже пояса у них — Кентавр,
Хоть сверху женщины,
До пояса они — созданья Божьи,
Внизу — один лишь черт.
Там — ад, там мрак и серная там бездна».
Дрожь отвращения и тревоги пробежала по ее, в общем-то лишенному всякого выражения, лицу, и тут она вздрогнула, услышав голос Дрейфа, раздавшийся из противоположного конца комнаты, который с нетерпением спрашивал, не пора ли им начать
(доктор был голоден, он устал, и ему хотелось со всем этим как можно скорее покончить, чтобы ровно в шесть часов госпожа Накурс подала ему ужин, обычно состоявший из вареной говядины, горошка, картофеля и привычного стакана пенистого, холодного пива).
Поэтому он, чуть небрежным жестом сморщенной стариковской руки, указал женщине на винно-красный диван,
набивка которого износилась от нескончаемого числа похожих друг на друга женщин, которые все до одной, лежа на спине, уставясь в потолок, собирая пыль, в течение часа поверяли ему глубочайшие тайны своей души.
Женщина поступила, как ей было сказано.
Пыль закружилась вокруг ее изящного силуэта, когда она с крайней осторожностью,
словно не желая нарушить свое хрупкое психическое равновесие, улеглась на диван.
Теперь в приемной Дрейфа слышно было лишь как скрипит большое острое стальное перо, которое черными до горечи чернилами записывало имя женщины,
Ева,
в старый заплесневелый журнал,
а также еще более приглушенный
звук запряженных лошадьми экипажей, катившихся мимо по Скоптофильской улице,
в городе Триль,
где в это время медленно сгущался осенний вечер и в разных направлениях спешили жители,
через мосты и площади,
по замощенным булыжником улицам, поднимающимся на крутые холмы,
в булочную, в мясную лавку или домой,
неся цветы, яйца, мясо, хлеб и прочие, более или менее таинственные, пакеты и посылки.
Дрейф с некоторым удивлением отложил ручку в сторону:
— Посмотрим, правильно ли я вас понял.
Вы, значит, утверждаете, что вам стали…
Он склонился над письменным столом, прищурился и попытался прочесть слово, небрежно записанное им секунду назад:
— …являться сотни СУДЕБ…
Тут он взглянул на женщину:
— Не так ли, милая барышня?
Женщина долгое время смотрела
широко раскрытыми, пустыми глазами
прямо в потолок,
не отвечая, не дыша и не мигая.
Зачем она послушалась совета старшего брата Сирила и пришла сюда?
Зачем это нужно?
С чего ей вообще следует начать?
Как она своим женским языком сумеет описать хотя бы крошечную часть всех этих странностей, ощущений и страданий, постоянно проходящих перед ее внутренним зрением?
…нескончаемую драму жизни, смерти, выживания, местом действия которой неожиданно сделался ее плотский женский образ?
А эта комната
(у нее закололо в носу от слегка пахнущей формалином пыли),
такая темная, затхлая, спертая какая-то,
а сам доктор Дрейф?
Он, конечно,
весьма известный эксперт,
только он такой маленький, почти карлик,
и какой-то болезненно сморщенный,
и так нездорово бледен,
будто прожил все свои дни в этой спертой комнатушке с толстыми фолиантами, стеклянными банками и огромным журналом,
и ничего другого,
ничего больше,
никакой настоящей жизни!
И вдруг комната вообще показалась ей не комнатой,
а скорее состоянием —
ужасным, затхлым, кошмарным состоянием!
Однако она произнесла:
— Да, доктор, по крайней мере сотни,
а может быть, и еще больше!
Она почувствовала, как что-то стало давить ей на грудь:
атмосфера в комнате,
множество тяжелых фолиантов,
содержимое банок,
все!
Частицы пыли опускались и поднимались в лучах света, она замолчала, но потом снова заговорила,
изумленная тем облегчением, которое испытала, начав свою исповедь:
— Иногда мне кажется, что они размножились,
особенно по вечерам, как только я напьюсь чаю и чувствую, как жар расходится по телу, или когда я нагибаюсь и кровь приливает к голове, или если я в городе встречаю мужчину в цилиндре, — давление становится почти невыносимым!
Она еще некоторое время полежала, размышляя об этих странных ощущениях, которые наполняли ее в любой момент, когда различные видения, запахи, картины поднимались из исторических глубин ее души.
Тут ее настиг голос доктора Дрейфа, исходящий из затхлой комнаты, в темном большом доме, на улице под названием Скоптофильская.
— Гм-мм… когда точно вы начали чувствовать все это?
Женщина вздохнула.
Давление на грудь еще несколько увеличилось.
— На самом деле, если хорошо подумать, так более или менее было всегда,
даже когда я была совсем маленькой,
да, да, теперь я вспомнила,
тогда тоже так было,
совершенно то же самое,
даже когда я пряталась в траве за домом дядюшки Кирилла в Васиче, даже тогда разные, огромные бытия и судьбы сотрясали мое едва достигшее семилетнего возраста женское тело,
а в годы отрочества это нередко бывало так невыносимо, что у меня почти не было сил по утрам встать с постели,
случалось, я целыми днями лежала, и ничего мне не помогало,
созывали врачей со всех концов, и уж как только они меня не исследовали, однако никто из них не нашел у меня ни малейших признаков болезни!
Дрейф молча кивал с серьезным видом.
— Редкостное состояние,
но ничуть не особенное, так и знайте,
такое случается практически с каждой женщиной в какой-то момент ее жизни,
чаще всего в связи с перенапряжением или во время кипучего, мучительного и очень серьезного переворота — отрочества.
На самом деле он лгал,
ибо никогда ранее в течение всей своей тридцатилетней практики психиатра он не сталкивался с подобным случаем.
Это было нечто совершенно новое,
сенсация в медицине и психиатрии
(он почувствовал сильное возбуждение, когда внутренним зрением увидел, как после его смерти это до сих пор неизвестное состояние женщины будет названо его именем: синдром Дрейфа).
Но женщину на диване, которая постепенно тоже стала покрываться пылью, это вовсе не успокоило:
— Доктор, ведь это очень серьезно,
чтобы не сказать пугающе,
словно то, что постоянно происходит внутри меня, не позволяет мне жить такой, какая я есть,
все это нескончаемое, огромное, которое все идет, идет и идет,
и нет ему ни покоя, ни конца!
Дрейф сурово оборвал ее:
— Это понятно,
а теперь расскажите, перед тем, как мы пойдем дальше, немного более подробно о вашем физическом состоянии,
здоровы ли вы в остальном,
нет ли нарушений в матке,
не ссохлась ли она, например, как неудавшееся суфле, не вторгается ли в ваши мысли какое-нибудь облучение груди, когда вы читаете,
нет ли у вас судорог в придатках или в корнях яичников?
Женщине вдруг стало очень тяжело, она почувствовала себя усталой, все ей надоело, и комната показалось еще более затхлой, чем ранее.
Тело!
Вечно это женское тело, которое разнимают, расчленяют на мелкие куски, а потом разными способами сохраняют в банках из пожелтевшего от старости стекла в таких вот комнатах!
Тем не менее, она терпеливо ответила ему:
— Нет, ничего такого.
— И все же вас беспокоят эти проблемы…
Дрейф глубоко сморщил лоб и просмотрел свои записи о странном состоянии женщины.
— Да, словно вся история от начала до конца заполнила мое небольшое тело,
возможно, все это звучит несколько цветисто и напыщенно,
только так оно и есть, доктор,
голоса, разные существа внутри меня,
одна за другой, непрошеные, разыгрываются невероятные сцены, картины и чувства!
Дрейфа, против его воли,
все глубже и глубже затягивало в этот необъяснимый случай;
его маленькие ножки психоаналитика-специалиста по женщинам уже с трепетом вступили на ту извилистую тропинку, изгибы которой ведут в темные джунгли женской психики, к ее неизвестному ядру, где может скрываться все, что угодно, в каком угодно виде,
он почувствовал себя необыкновенно маленьким перед теми странностями, что разматывались вокруг него, когда пациентка все дальше и дальше раскрывала перед ним тайны своей психики.
— А мужские судьбы вы тоже чувствуете в себе? —
осмелился он спросить,
больше для того, чтобы немного собраться с мыслями.
Мужчины!
Ей вдруг захотелось встать, подойти к письменному столу, много раз плюнуть Дрейфу в лицо, открыть дверь и неторопливо выйти из кабинета,
но раз уж она сюда пришла
(и ради своего брата Сирила),
она продолжала лежать на диване и наконец ответила ему очень коротко,
но крайне язвительно:
— Нет, только женщины.
Между ними на мгновение повисла тишина, казавшаяся более долгой и глухой, чем была на самом деле,
стареющий женский психоаналитик, чье время рано или поздно кончится,
и молодая женщина, в которой долгое время кипят судьбы и древние, непрожитые женские жизни
(она, сама о том не ведая, в будущем откроет новую страну и ее язык).
Движимый рвением первооткрывателя, Дрейф хотел проникнуть во все закоулки этого любопытного случая и поэтому тут же спросил:
— А как далеко вы в действительности можете заглянуть в прошлое?
В голове у женщины немедленно стало пусто.
Время, подумала она.
Будто и слово и явление сами по себе были ей совершенно незнакомы.
И ее заполнил похожий на сон покой,
ибо время — что это значит,
и какое именно время?
Внутреннее?
Или то, что отмеряет ход мира календарями и солнечными часами?
Или то, которое словно движется по кругу,
когда ты раз в месяц кровоточишь,
так что все постоянно становится по-другому, хотя и повторяется до бесконечности?
Или то время, которое заставляет цветы распускаться весной, а снег падать зимой, а самих людей рождаться и умирать?
Она долго думала,
в самом деле пытаясь понять, какое время имеется в виду,
но в конце концов просто закрыла глаза, изо всех сил стараясь вспомнить:
— Да, если подумать…
Дрейф сидел за письменным столом в напряженном ожидании,
слегка подавшись вперед,
склонив голову набок,
чтобы не упустить ни малейшего слога или изменения в интонации.
— Если подумать,
внутри себя самой я словно бреду по туннелю, в котором темно и не существует никакого времени,
если я, наперекор собственному страху, медленно спускаюсь на ощупь, не позволяя себе обернуться, и даже бросаю вызов бесконечной темноте и молчанию, то я наконец вижу, что дело происходит в…
…Раю!
В тот самый момент, когда она произнесла это слово, она открыла глаза.
Они, казалось, обрели более светлый блеск, и несмотря на то, что взгляд их был прикован к дверной ручке, ясно было, что на самом деле он направлен на скрытое, внутреннее развитие событий, которому она теперь и следовала, сконцентрировавшись изо всех сил.
— Да, именно там это и происходит,
и я там,
и он,
там все и начинается!
Дрейф сидел совершенно тихо и задумчиво касался пальцами своих тонких, плотно сжатых губ.
Рай. Рай…
Двадцать лет прошло с тех пор, как какая-либо пациентка высказывалась на эту тему.
Он думал, что для женской психики это уже пройденная стадия.
Поэтому он отложил ручку,
сполз со стула,
на мгновение совершенно исчез за громадным письменным столом,
однако затем вынырнул около книжных полок.
Из темного угла он достал запыленную скамеечку, на которую и взобрался, после чего вытащил один из фолиантов Попокоффа
(хрупкий малорослый доктор буквально согнулся под тяжестью книги).
Женщина молча смотрела, как он, окруженный клубами пыли, листал книгу взад-вперед.
Страницы в ней были зачитанные, затертые до дыр,
покрытые тесным, черным, готическим шрифтом и крошечными изображениями различных женских органов в разрезе.
Туда входили также описания всех 137 различных женских типов:
Истеричка,
Блудница,
Мать (злая и добрая),
Фригидная женщина,
Нимфоманка,
Сестра (старшая, младшая и та, что между ними),
Мужеподобная женщина,
Псевдоинтеллектуалка и т. д.
В книге имелось также изображение женской души
(Попокоффу после многих недель интенсивной работы в морге города Триль,
где он вскрывал и расчленял всевозможные женские тела,
наконец удалось определить ее местонахождение в теле одной проститутки — участок между легкими,
душа эта была размером не больше засохшей изюмины, в остальном же тело женщины было бездушным и состояло из мяса, костей, костного мозга, а также неимоверного количества крови).
Дрейф долго стоял на скамеечке и с серьезным видом читал попокоффские тезисы о Рае и роли женщины в нем,
но они в данном случае ему ни на йоту не помогли.
На Скоптофильской зажглись фонари,
госпожа Накурс закрыла дверь на верхнем этаже,
а Дрейф вдруг подпрыгнул, когда некоторое время спустя вновь заметил присутствие пациентки.
Он поставил фолиант на место,
вернулся за письменный стол,
забрался на стул,
немного раздраженный тем, что ему так и не удалось прояснить этот случай:
— Да, продолжайте, пожалуйста.
Он с решительным видом ухватил ручку.
— Какие чувства связаны у вас с этим временем, опишите все, что вы видите,
в мельчайших деталях!
Женщина смотрела в пустоту.
Ясно было, что она медленно переходила в новую фазу сознания,
хотя минуту спустя она все-таки воскликнула
в отчаянии:
— Нет, все так трудно, доктор,
я не знаю,
я не могу!
И тот туман, который за секунду до того почти сгустился внутри нее в сцену, тотчас рассеялся, и она, всхлипывая, закрыла лицо руками.
В глазах Дрейфа появилось презрительное, вымученное выражение.
Только не это!
Истерический припадок следовало во что бы то ни стало остановить.
Поэтому он спокойно и деловито произнес:
— Успокойтесь, успокойтесь, милая барышня,
начните сначала, не торопясь,
и подумайте, что вы имеете дело со специалистом,
подумайте, что я все годы своей практики изучал самые глубины женской души и прочел нескончаемое число трудов о том, что женщина на самом деле может и хочет,
я хорошо понимаю, что все вы глубоко стыдитесь, что не обладаете мужским…
Тут он замолчал в середине фразы, и яркая краска разлилась по всему его лицу, запылали и оба его уха.
Он отчаянно пытался подобрать правильное и как можно более мягкое выражение,
найти слово, которое не пробудило бы в ней половых ассоциаций.
Наконец он быстро прошептал чрезвычайно тихим, едва слышным голосом:
— органом…
А затем продолжал тем же тоном:
— И что поэтому вы, совершенно естественно,
чувствуете себя сбившейся с пути, неполноценной, обделенной и прочее,
но поверьте,
у вас нет никакого повода для страха,
со мной вы можете чувствовать себя в полной безопасности!
Женщина снова лежала, вытянув руки вдоль тела.
И невидящими глазами смотрела прямо перед собой.
Трудно было определить, дошли ли до нее вообще его слова.
— Хорошо, продолжайте с того места, где вы остановились,
так значит, в Раю,
и вы там одна,
опишите, что вы видите и испытываете внутри себя!
Женщина почувствовала себя совсем тяжелой и сонной,
как обычно бывало, когда новое существо или видение напоминало о себе физически.
Голос ее сделался легким, светлым, тягучим:
— Нет, я не одна,
тот, — я не помню его имени,
только то, что он
мужчина, —
со мной.
Дрейф старательно записывал то, что бормотала женщина:
— Нас окружают деревья, и листья у них гладкие, мелкие,
в форме сердечка,
и я вижу все, доктор,
очень четко и ясно,
потому как время это прекрасно и все тут есть в изобилии!
Она закрыла глаза, чтобы яснее разглядеть видение во всей его красе, почувствовать разнообразие запахов сада, перекрывающих затхлый дух бумаги, пыли и старых чернил в Дрейфовой приемной.
— И время здесь бесконечно, доктор,
оно такое же, как растения, травы, деревья, он и я,
а стоим мы с ним под странным деревом,
только лица его я не помню и не вижу,
я просто знаю, что оно прекрасно и что ветви дерева отбрасывают на него свою тень.
Она на минуту смолкла, затем, улыбаясь, прошептала что-то такое, что на слух не слишком начитанного Дрейфа было подозрительно похоже на цитату из какого-то литературного произведения:
— Скоро в лучах жаркого полуденного солнца придет мой возлюбленный,
он встанет под кедром,
на его единственное слово я отвечу своим единственным словом,
и то, что во мне сложилось, отдам ему.
Она еще некоторое время с улыбкой смаковала эти слова, а затем продолжила:
— Здесь светло, но не от солнца,
скорее от чего-то большего, чем солнце, понимаете, доктор,
а с листьев деревьев свисают капли росы, в которых тысячекратно умножаются наши лица,
мы лежим в траве, бок о бок,
но…
Она вдруг замолчала с некоторым оцепенением на лице.
Дрейф поглядел на нее, затаив дыхание, в ожидании, но поскольку она и три секунды спустя все еще лежала молча, спросил в нетерпении:
— Что же дальше? Продолжайте, продолжайте!
Теперь голос женщины немного изменился, погрубел:
— Тут какой-то зверь, доктор,
сюда проникло какое-то создание,
я вдруг заметила,
как он обвивается вокруг ствола дерева,
а сам он большой, диковинный,
по внешности змей,
а внутри, доктор,
внутри он на самом деле…
Свет ослабел.
Недоразвитый эмбрион девочки покачивался в своей запыленной банке, комнату наполнял звук скрипучего пера Дрейфа
(звук этот был странным образом похож на звук большого секатора, расчленяющего маленькое беззащитное женское тело, чтобы добраться до самых внутренностей).
— А теперь он смотрит на меня, доктор,
разглядывает меня своим холодным глазом,
он поднимает голову, открывает рот и говорит…
Она вновь онемела.
Эти постоянные перерывы доводили Дрейфа до безумия.
— Да, да, что он говорит?!
Женщина задержала дыхание:
— Ешь!
Дрейф сморщил нос, будто вдруг почувствовав отвратительную вонь.
— Ешь? И больше ничего, просто: ешь?
— Да, так он говорит,
к тому же голосом Сатаны.
Вот они наконец и дошли до самого важного!
По обычно кислому лицу Дрейфа расползлась лукавая улыбка.
Он возбужденно, с довольным видом записывал
эти великие слова,
это всесильное имя —
САТАНА,
особо крупными буквами, одновременно шепча про себя, так чтобы женщина не слышала:
— Так-так, вот он и явился!
Секунду спустя он быстро вскинул глаза и обратился к пациентке с деланно невинным видом:
— А что именно он хочет, чтобы вы съели?
Будто он не знал!
Однако ему все равно не терпелось выслушать версию самой женщины.
Его неизменно забавлял тот момент, когда они обнажали свою полную морально-психическую неполноценность, поддаваясь малейшему встретившемуся на их пути искушению!
— Плоды дерева, доктор,
их можно сравнить с яблоками,
во всяком случае, так мне кажется,
ведь ничего другого здесь нет,
если, конечно, он не хочет, чтобы я ела траву, землю, цветы или камни!
У Дрейфа невольно вырвался короткий смешок, но он мгновенно взял себя в руки и совершенно серьезно спросил, чтобы у женщины не возникло никаких подозрений:
— И вы делаете это?
— Что?
Его охватило почти нестерпимое возбуждение.
Словно в экстазе он прошептал:
— Едите, милая барышня, едите,
надкусываете плод,
крупный, сочный, манящий красный плод, висящий прямо перед вашим носом в этом саду, который вы зовете Раем!
Женщина, казалось, ничего не заметила,
она ответила ему по-деловому, немного рассеянно:
— Конечно, почему бы и нет,
ведь я голодна:
день был долгим и жарким, и время какое-то особенное,
и я вдруг замечаю, что я действительно чудовищно голодна,
да, все мое тело…
Она на редкость страстным жестом ухватила себя за грудь, и голос ее задрожал от звучащего в нем желания:
— … жаждет этого плода,
я изголодалась, истомилась, я пуста,
я совсем зачахну, если не надкушу его,
не положу его в рот и не поглощу,
не почувствую, как его сладкая белая мякоть тает у меня во рту…
Она заворочалась на диване от удовольствия:
— И я слушаюсь зверя, доктор,
несмотря на то, что одновременно кто-то или что-то строжайше запрещает мне слушать его,
какая-то великая сила,
какая-то высшая сила,
но я не могу сопротивляться искушению,
потому что вот он, плод,
висит на дереве,
передо мной,
только руку протяни,
красный, блестящий, сочный,
сверкающий каплями росы, из которых на меня безмолвно глядит мое лицо,
и я срываю плод,
надкусываю и пожираю его…
Она глубоко застонала, а Дрейф как завороженный застыл за письменным столом.
— И он несказанно вкусен:
сок, маленькие зернышки,
сладкий вкус наполняет меня, во мне открываются огромные неизведанные просторы, доктор,
зарождаются мысли, я вижу связи в бесконечности,
я хочу знать, жить, чувствовать, любить,
но, доктор, становится темно…
И она вдруг оборвала свои стоны, сделалась вялой
и лежала совершенно неподвижно
с закрытыми глазами,
наморщив лоб,
с измученным видом.
Самого Дрейфа это великолепное психическое представление, свидетелем которого он только что стал, привело в такое возбуждение, что он не записал в журнал ни единого слова.
Теперь он ожидал,
держа в руке ручку,
следующего припадка.
Наконец она жалким голосом прошептала:
— Темнеет,
ледяной ветер гуляет здесь по деревьям, доктор,
сад, мужчина и трава исчезают,
и я оказываюсь в огромной, черной пустоте и в бесконечном пространстве,
плач мой звучит эхом, а слезы мои тысячелетиями капают в никуда, в пустоту подо мною,
ибо я отринута, я нагая, доктор!
Дрейф снова низко склонился над журналом.
Он записал туда только слово «плод»,
рука его судорожно сжала истертую ручку, отчего слово получилось почти совершенно неразборчивым,
оно выглядело немногим больше черной точки от мушиных испражнений.
— И как долго в точности продолжается это состояние отринутости,
странствия в пустоте,
плач,
падение слез в огромное никуда под вами?
Женщина вздохнула и теперь выглядела немного замерзшей, лежала, вытянувшись, на диване,
неподвижная, жалкая.
— Оно все еще продолжается.
Это признание было также с точностью записано Дрейфом:
«Оно все еще продолжается».
Он сидел, откинувшись на спинку стула, и перечитывал записанное, но тут женщина вдруг подняла глаза.
Она, очевидно, оправилась
и совсем другим, значительно более нервозным голосом воскликнула:
— А в конце концов получается, будто я на самом деле нахожусь в монастыре!
Ах, в монастыре, вот оно что!
Наконец-то, по мнению Дрейфа, началось что-то интересное!
Ибо его всегда необыкновенно притягивал монастырский дух…
В летний отпуск
(во время которого он всегда отправлялся в пасмурные, суровые окрестности Аспраха, куда почти не попадало солнце)
он бродил узкими каменистыми дорогами, которые через почти необитаемые гористые края приводили его к форпостам женственности.
Да, он всегда отправлялся к одному из расположенных в горах монастырей.
Обычно он прятался в кустах и в возбуждении подглядывал за монахинями, когда те плотным строем
(ведомые строгой аббатиссой, от одного только вида которой Дрейфа до основания сотрясал подавленный половой экстаз)
шествовали туда и обратно между монастырским зданием и небольшой капеллой, или же попарно бродили по садам с ароматическими травами.
Что-то удивительно возбуждающее было в этих одетых в черное женщинах, чьи просто скроенные платья совершенно скрывали округлые формы бедер и груди…
Дрейф приложил руки ко лбу,
внезапно охваченный одним из тех желаний, которые пробудили в нем эти неожиданно наплывшие воспоминания.
Женщина лежала совершенно неподвижно, широко открыв глаза, казавшиеся еще более пустыми и огромными.
Даже лицо ее приняло более изможденное, но в то же время более просветленное выражение…
— Так вы говорите, монастырь,
и вы в нем — монахиня?
От одного этого слова у него снова защипало в кончике носа, хотя он и попытался произнести его как можно небрежнее…
— Да.
Голос женщины теперь сделался очень слабым и тонким, но зато кристально чистым и каким-то необъяснимым образом, до сих пор непонятным Дрейфу, казалось, отзывался эхом, как будто они находились в огромном каменном карьере,
в глубокой подземной шахте,
в гроте,
в сырой тюремной норе…
— Вы одеты в черное, не правда ли?
Он сделал над собой невероятное усилие, чтобы захлестывающий его экстаз не просочился в словах, в голосе, и не отвлек бы ее, не напугал.
— Да, в черное.
Она замолчала.
Дрейфа опять охватило раздражение:
Боже мой, анализировать эту женщину — все равно что тащить на крутой склон упирающуюся старую, почти созревшую для бойни ослицу!
— И что вы видите, милая барышня,
в себе самой, расскажите
в мельчайших деталях…
Голос его был деланно спокойным и не производил тех странных отзвуков, которые сопровождали теперь каждый слог, произнесенный женщиной.
— Глубоко внутри себя, доктор, я вижу длинный каменный коридор,
вижу огромные окна и падающий сквозь них свет,
вижу келью, в которой я живу,
в ней только нары
и ничего более,
а стены там из неотесанного, сырого камня,
и маленькая деревянная дверь,
я вижу также дни непрерывных молитв…
Дрейф записывал, сглатывал и снова принимался писать, хватался за грудь, в которой начинала бродить какая-то странная колющая боль, перешедшая теперь в левую руку
(начало сердечного приступа,
грудная жаба,
запор,
газы?).
— Повторите, милая барышня, про черное,
чтобы я был до конца уверен:
вы, значит, одеты в черное?
Ему нужно было услышать, как она описывает это своими словами:
все это одеяние, всю черноту,
тяжесть одежды, шершавой, спадающей вдоль хрупкого женского тела,
и Дрейф, закрыв глаза, полностью отдался своему возбуждению:
— Да, как я уже говорила,
я одета в черное,
в черное монашеское одеяние, доходящее до пят,
я ношу покрывало,
знаете, доктор, такое белое, обрамляющее лицо,
очень практичная одежда, как мне кажется, потому что она так эффективно скрывает ненавистное, вонючее тело.
Дрейф долго сидел молча,
погрузившись в мысли и настроения.
Импульсы темных желаний крутились у него в животе словно черви, а он записывал.
Он с трудом заставил себя продолжать.
— А потом, что вы делаете в этом мире?
Из пустынной монастырской глубины эхом откликался голос женщины,
слабый и очень тонкий,
и одновременно, — что немного раздражало Дрейфа, — необузданный.
— Я умерщвляю плоть, доктор.
— Умерщвляете плоть?
От этого заявления хаос внутри Дрейфа мгновенно прояснился.
— Это еще зачем, Господи ты, Боже мой?
— Потому что я вкусила от плода, доктор,
поэтому я теперь каждый день умерщвляю плоть,
умерщвляю, ничего не ем,
нет, не совсем ничего: немного гнилой воды и горстку грязной пыли, которую я каждый вечер наскребаю с пола под нарами в своей холодной, одинокой келейке, и, доктор,
келья эта, доктор,
доктор, вы здесь?
Теперь действительно было заметно, что она зовет его из холодной, голой каменной норы, из иного времени и мира, чем тот, который в данный момент царил в крошечной приемной Дрейфа на Скоптофильской улице в городе Триль.
— Да-да, милая барышня, я здесь,
продолжайте, продолжайте…
— Да, доктор, келья эта — как моя жизнь теперь:
голая, тесная, холодная,
одинокое, замкнутое пространство, где я запираюсь и мучаю себя, отказывая себе в любом удовольствии,
и когда я днем в годы своего монашества сижу с раковыми больными в одной из больничных палат монастыря,
где они лежат и умирают на простых, набитых соломой матрасах,
я, когда никто не видит, высасываю гной из их заразных ран
и причиняю себе всяческую боль,
потому что большего я недостойна,
так мне и надо,
ибо я должна искупить свое преступление!
Дрейф едва успевал записывать все, что изливалось изо рта женщины.
Руку ему свело судорогой,
он на мгновение потерял самообладание, остановился, не зная толком, где находится, и почувствовал себя столь растерянным, что вынужден был спросить:
— Какое преступление?
— Плод, доктор,
плод, потому что я надкусила запретный плод!
Она уже явно находилась в том глубоком опьянении, которое неизменно наступает после продолжительного добровольного голодания
(это, кстати, было подробно описано в трудах Попокоффа).
— Но ведь такая жизнь должна сильно вредить вашему здоровью?
Сам доктор Дрейф,
будучи убежденным любителем всего мясного
(кровавых бифштексов, жареных ребрышек, рагу из печенки),
совершенно не понимал, как человеческое существо может добровольно отказаться от подобных кулинарных наслаждений
(но с другой стороны, она ведь не полноценное человеческое существо, а всего лишь женщина, так что…).
— Да, со здоровьем у меня плохо.
Она, казалось, была смущена, но голос у нее был очень довольный, и звучал он почти вдохновенно.
— Вы знаете, доктор,
пустота, голод и вечное отрицание всякого живого импульса очищают человека,
делают его очень сильным, необузданным, и в то же время хрупким, очень внимательным и чрезвычайно восприимчивым ко всему,
его обычно столь мрачное и скудное окружение вдруг предстает перед ним более светлым и пронизанным божественным светом,
человек видит самые причудливые образы в самых темных нишах,
видит самого Бога в облике голого юного туземца,
благородного дикаря с медно-черными длинными волосами, горбатым носом, красной кожей и мрачно-сатанинскими, косо посаженными черными глазами,
в саду с ароматическими травами,
но скоро я все равно буду лежать на нарах в своей келье,
в глубоком забытьи,
я слаба, доктор,
очень слаба!
Преувеличенно драматическим жестом она поднесла руку ко лбу и закрыла глаза.
— Каждый крохотный волосок моих тонких светлых, кое-как обкорнанных волос и даже мои губы кажутся мне слишком тяжелыми,
даже сама кожа, то немногое, что осталось от мяса и жира, каждый орган моего тела, ногти,
да, каждая клетка моего бренного тела…
и вот мне приносят немного хлеба и вина,
хотят заставить есть, пить,
но нет, нет!
Она откинула голову, и казалось, пыталась отогнать тех, кто предлагал ей такое в невидимом Дрейфу мире.
— Теперь меня рвет даже от обычной кипяченой колодезной воды,
ибо мои внутренности так очистились, что не переносят, когда их оскверняют подобными земными секрециями,
и чудные видения посещают меня каждую ночь!
— Может быть, Иисус, — пробормотал Дрейф, в то время, как острое стальное перо его ручки скользило по пожелтевшим страницам журнала.
— Да, да, и он тоже,
и я скоро умру, доктор,
да, в меня медленно вступает смерть.
Голос становился все слабее, и то необычайное эхо, которое до этого момента отзывалось на каждое ее слово, постепенно перестало звенеть.
— Я умираю, надо мной опускается темнота,
начинается вечность,
а мне только двадцать лет, доктор.
— Гм-ммм.
Дрейф поднял глаза и увидел, что пациентка опять лежит совершенно неподвижно, вяло,
так же как и после первых ее признаний,
вытянув руки по бокам и закрыв глаза.
Прошло мгновение, и она снова заговорила:
— Я покидаю тело, которое отказывается истлеть, и которое люди
из почтения,
выставляют в стеклянном гробу в передней части капеллы,
на всеобщее обозрение,
вообще-то, там оно и лежит до сих пор, доктор, если я правильно помню,
а сейчас там стоит еще одна изголодавшаяся женщина нашего времени и с печалью в сердце смотрит на тело и видит в нем самое себя,
гроб стоит в церкви монастыря кармелиток, доктор,
точнее, во Флоренции.
Флоренция!
Церковь монастыря кармелиток!
Покрытые воском трупы умерших много столетий назад монахинь в стеклянных гробах!
В Дрейфе тут же ожили воспоминания о веселых днях студенчества.
Ах!
Тогда все будущие психоаналитики женщин, обучавшиеся в то время в институте в Нендинге,
надев залихватские твидовые кепочки и черные плащи,
вооружившись посошками из слоновой кости,
разбившись на небольшие группы, совершали паломничества в близлежащие церкви и капеллы, где они потом,
благоговейно и с глубоким трепетом,
собирались вокруг этих стеклянных гробов
и восхищенно разглядывали, впитывали, изучали дорогие для них земные останки девственных монахинь…
Но, к сожалению, теперешние времена — это теперешние времена!
Дрейф был уже не юношей, а скорее крошечным скрюченным старичком,
и еще одна пациентка, вытянувшись, лежала на диване и, словно строптивое дитя, требовала неотрывного внимания.
— А когда точно все это случилось?
Ах, вот снова понятие времени,
здесь или сейчас,
раньше или позже…
— Ах, доктор, я так плохо помню дни и годы, и все, что называется десятилетиями, а что касается той жизни,
то, может быть, да, может, это было сто лет назад!
Хотя это была и незначительная формальность,
он вынужден был спросить:
— А сейчас, милая барышня,
замечаете ли вы в себе какие-нибудь тяжелые последствия монашеского существования?
— Да, доктор, мне очень тяжело есть,
даже сегодня,
любая пища пугает меня,
я не могу заставить себя съесть что-либо, кроме небольшого кусочка заплесневелого хлеба,
а про мясо, кашу, бифштексы, пирожные и фрукты я даже и думать не могу,
потому что, если я съем слишком много, я вдруг с ужасом вспоминаю, как я однажды вкусила того рокового плода и каковы были последствия, как для меня, так и для всего рода человеческого,
и меня охватывает ни с чем не сравнимый ужас,
мне нужно тотчас же найти предлог пойти в ближайший туалет,
сунуть пальцы в рот, чтобы из меня все изверглось,
и я никогда не могу поесть как следует,
я отрицаю всякий голод и тут же хороню его глубоко в себе,
потому что если я хоть раз поддамся подобным желаниям, то уже никогда не смогу их утолить
(тысячелетия голода, подумайте сами, доктор),
и я знаю, что согрешила, доктор,
знаю, знаю, знаю,
я СОГРЕШИЛА,
я знаю, что именно из-за меня и моих необузданных стремлений к знанию и к плоду, нищее человечество сейчас стоит на краю пропасти,
но что же мне делать,
и до каких пор я должна искуплять свое преступление,
как долго мне, одинокой, отверженной и нагой, скитаться, плача, в этом ничтожестве, состоящем из темноты, и умерщвлять свою плоть в этой келье из камня и…
— Ну-ну, милая барышня,
не будем преувеличивать,
давайте-ка остановимся,
успокоимся!
Дрейф чувствовал лишь отвращение к этим театральным припадкам.
К этой патетической мольбе о понимании и примирении.
По его сугубо личному мнению, женщина была сама виновата,
никто ведь не заставлял ее надкусывать плод!
Она запросто могла бы его и не трогать,
а мужчина рядом с ней, он тоже соблазнился плодом?
Нет, разумеется, нет!
— А что потом, после всего этого?
Ее волнение утихло, теперь она лежала неподвижно и почти с веселым удивлением бормотала:
— Да, за этим последовало время, в котором меня, кажется, вообще нигде больше нет,
совершенно нигде,
во всяком случае, нет в обличье человека.
— И как вы теперь себя чувствуете?
Дрейф потер нос, подавляя желание чихнуть.
— Холодно, будто вокруг — ничего, да, совершенно пусто!
Женщина внезапно без всякого на то основания засмеялась
(жестким, уверенным смешком, заставившим Дрейфа вздрогнуть от неприятного чувства):
— Я полагаю, что мир и времена изменились,
и что люди рождаются и умирают
без меня!
И так же как тогда, когда из нее медленно выходило прошлое существо, она в следующую секунду открыла глаза и воскликнула совершенно изменившимся, значительно более низким голосом:
— Но до чего же быстро я оказалась совершенно в другом, более сумрачном мире!
Доктору Дрейфу,
после всех этих признаний, в тот самый момент, когда женщина произнесла слово «сумрачный»,
в голову пришла мысль о том, что дремлющий до сих пор половой зов женщины…
ее сдерживаемые порывы,
ее ненасытные плотские желания
(которые необходимо было подавлять во имя общественной безопасности)
нашли теперь свое выражение в истерических параличах, немоте, нервическом кашле, мигрени, а также в этих вечных никому не нужных депрессиях и обмороках.
Он остался единственным из тех немногих, кто своими глазами видел, что может натворить это чудовище, если его выпустить на волю,
ибо однажды, во времена его учебы в институте в Нендинге, профессор Попокофф перед небольшой группой особо избранных,
с помощью тщательно разработанной техники гипноза,
извлек этот кошмар из маленькой пожилой поломойки.
И вдруг та сцена в мельчайших деталях предстала перед внутренним взором Дрейфа.
А он-то был уверен, что ему удалось глубоко упрятать ее в недрах памяти,
и вот теперь, словно и не прошло многих лет, он снова стоял в затемненном лекционном зале Попокоффа в ту жуткую ночь,
такой молодой,
такой неопытный и наивный.
Страшнейшая непогода, с незапамятных времен невиданная, бушевала над Нендингом.
Они терпеливо ждали,
поскольку согласно теории профессора Попокоффа именно при таких атмосферных условиях половой зов в женщине пробуждается быстрее всего.
Конечно же было полнолуние.
Все они стояли тесной кучкой,
склонясь над лежавшей в беспамятстве поломойкой (одета она была в жалкий ветхий халат, а сползшие чулки обнажали покрытые старческими венами ноги в бородавках).
Ах, как хорошо он помнил то состояние ужаса, ожидания и страха, наполнявшее каждого из них, а также необыкновенное звучание голоса Попокоффа, словно служившего обедню,
быстрые, загадочные движения профессорских рук, которые он производил над лицом и телом поломойки,
то, как фосфорно-голубые отблески молний освещали их завороженные лица и лекционный зал с пожелтевшими анатомическими картинками и женским скелетом в углу,
и ту отвратительную, жуткую сцену, которая затем разыгралась перед их застывшими глазами!
Да, сцена эта до сих пор не поддавалась описанию,
но даже теперь, больше чем сорок лет спустя,
он все еще ясно помнил, сколь отвратительна она была!
Сама же сцена, по причине своего безобразия, в основном стерлась из его сознания,
он смутно помнил, как после этого Попокофф, дрожа, отвел их в сторону, пока поломойка медленно приходила в себя, а гроза унеслась прочь,
и как даже сам Попокофф,
мастер,
который уж наверное чего только не знал о явлениях в женской психике,
дрожал от ужаса, покрывался холодным потом и с трудом произносил слова.
И все они поклялись ни в коем случае, никогда
и никому
не рассказывать того, что они только что видели
(странный запах женского полового инстинкта все еще висел в лекционном зале).
Это была жуткая тайна, которую тяжело было носить в одиночку
взрослому мужчине.
Она изнуряла его,
старила до поры.
Все остальные к этому времени умерли,
только он пережил всех из этой знаменитой кучки
(и все-таки для него до сих пор было загадкой, как это доисторическое половое чудовище,
этот тромб, состоящий из желаний и позывов,
на самом деле помещался в женщине,
поскольку профессор Попокофф в своих поисках женской души обнаружил, что остальное тело, —
после того, как душа была небольшим пинцетом извлечена из своего места между легкими и отброшена прочь, —
состояло только из мяса, разных женских органов и большого количества крови…).
Дрейф вдруг заметил, что рука его судорожно сжимает ручку.
Они остановились на полпути на слове «сумрачный»…
Он видел свою облезлую ручку со стальным пером, словно в чудовищно увеличенном виде, и одновременно думал о том, что мир сделался бы ни на что не похож, если бы вся эта половая сила вырвалась бы на волю и заполнила женщину, ибо женщина сама по себе — уже сатанинское порождение во плоти.
Да, Господи, тогда все, что угодно могло произойти!
Поэтому для всей цивилизации и для сохранения жизни каждого отдельного человека крайне важно любой ценой не позволить женщине осознать свою истинную природу,
удержать эту природу на месте любой ценой,
согнуть ее, смирить, убить, уничтожить.
(Дрейф пришел в необычайное возбуждение, повторяя про себя эти слова и все глубже ввинчивая перо в бумагу.)
Он знал, что сейчас в данной области ведутся интенсивные исследования и что, — дайте только время! — человек по всей вероятности найдет средство, которое совершенно уничтожит в женщине половой зов,
раз и навсегда
(речь, скорее всего, шла о дальнейшей разработке средства, изначально показавшего себя чрезвычайно эффективным при изгнании трихин и ленточных глистов),
а пока его не изобретут?
Да и успеют ли?
— Темный лес, деревья…
Женщина снова заговорила.
Однако голос ее больше не был ясным, тонким и не отзывался чистым как хрусталь эхом.
Он, скорее, походил на голос увядшей старухи,
да, обрел отвратительную тональность сморщенной плоти, старости и отслужившей свое матки,
что тут же навело доктора Дрейфа на воспоминания об ужасной, маленькой, грязной женщине из своего далекого детства.
Да, это было очень давно.
Когда все в мире еще было покрыто полным мраком неосознанности, а психоанализ женщин даже и еще не зародился как наука, вурдалаки наискосок пробегали через кладбище в пустынной деревеньке, где прошло детство доктора Дрейфа.
Ибо вырос он в самом что ни на есть варварском краю.
Семья его была очень простого происхождения,
но ни в коем случае не бедняцкая!
Отец имел мелочную лавку, где малютка Дрейф иногда помогал ему упаковывать табак в маленькие табакерки для покупателей, заходивших в пронизывающе холодные дни погреться у горячего камина посреди помещения, наполненного сосисками, хлебом и бочками с селедкой.
И всякий раз на Рождество, сразу после того, как забивали скот,
его любимая ангел-мамочка
(которая всегда так заботилась о бедных и стариках и никогда и волоска на его голове не тронула, сколько бы она его ни лупила)
набивала корзину всевозможной снедью.
И давала ее Дрейфу.
И он послушно отправлялся по бесконечным пустынным вьющимся лесным тропам к одиноко стоящему домику старушки.
У рано созревшего, сверхчувствительного ребенка, каким был Дрейф, эти кошмарные походы оставили неизгладимое впечатление в его хрупкой психике!
Луна тогда отбрасывала зловещий свет на его маленькую фигурку,
он видел, как в темноте за деревьями, растущими вдоль дороги, горят глаза хищных зверей,
вокруг него громоздились огромные сверкающие сугробы,
дыхание залепляло лицо словно влажный, зловонный клок ваты,
в горах завывали волки,
а когда он наконец доходил до домика старушки, на него всегда находила оторопь.
Ему хотелось просто уйти,
оставить корзину в снегу и уйти,
но ему был дан строжайший приказ лично передать провизию,
а он любил свою мамочку,
да, он обожал ее,
не мог ей ни в чем отказать!
В покрытых снежными узорами окнах домика не было света,
и когда он наконец осмеливался постучать, то слышал безжизненный голос:
— Входи, малыш!
Потому что она всегда его ждала!
Она всегда была готова,
ведь с годами уже превратилось в традицию то, что он в это время приходил с мясом, колбасами, хлебом,
так что неудивительно было, что он снова там стоял,
однако это было жутко, ужасно:
как же все повторяется…
И там, внутри, сидела она в полной темноте…
Сморщенная маленькая бывшая женщина, одетая в грязную длинную юбку и три слоя кофт, плечи ее были укутаны черной шалью, а голова повязана косынкой
(нет, лица ее он, к счастью, никогда не видел).
Не считая света луны, в единственной комнате жалкого домишка царила полная темнота, а на коленях у старухи всегда лежала жирная пестрая кошка, и ее сверкающие глаза глядели на застывшего от страха Дрейфа с некоторым сарказмом.
Никогда за всю свою жизнь он так и не сумел забыть запах бедности, нужды и закоренелой грязи в том маленьком домике среди деревьев, в лесу, зимой!
А старухе вечно хотелось, чтобы он посидел с ней за компанию,
иногда она поднималась, шла ему навстречу, спотыкаясь, искала его на ощупь, и тогда он в ужасе вспоминал все сказки про разных отвратительных злых старух, которые рассказывала ему мать на ночь:
старухи, которые жарили и ели маленьких детей,
старухи, которые заманивали к себе доверчивых мальчиков с корзинками только для того, чтобы…
И хотя он со слезами в голосе уверял, что мать приказала немедленно вернуться домой, она все же навязывала ему несколько старых полосатых мятных карамелек, завернутых в кусок грязной бумаги.
Он благодарил, снимал меховую шапку и кланялся, всегда низко и много раз,
но как только выходил за дверь, выбрасывал эти гадкие карамельки в сугроб и бежал домой со всех ног,
и всякий раз ему казалось, что кто-то пыхтит ему в затылок,
гонится за ним,
а высоко над ним в лесу возвышались эти высоченные…
…ели со странно длинными, зелеными, твердыми хвоинками, огромными, как штопальные иглы!
Он вдруг вздрогнул и поднял глаза.
Ой, он совершенно забылся,
до того погрузился в детские воспоминания, что не слышал ни единого слова, сказанного женщиной!
— Извините меня, барышня,
я думал о другом,
будьте так любезны, повторите.
Она уточнила:
— Сумрачный мир, доктор.
Дрейф скрупулезно записал эту фразу, а в носу у него все еще сидел запах бедности.
— Сумрачный мир, где люди живут в крайней бедности и большой нужде,
да, доктор, я вижу дьявольских детей с острейшими зубами, деревянные домишки и сияющую мадонну, которая сидит с младенцем Христом на руках в простом сарайчике,
странные видения, без всякой связи, сменяют друг друга, а затем все они сливаются в единый, ужасный, очень злой и старый мир!
У нее появилась острая черточка возле рта, а пальцы ее невольно скрючились:
— Жабы и ящерицы и прочая нечисть вылезает прямо из-под земли, доктор,
такое теперь время,
и я вижу свиней,
большие кучи нечистот,
множество юродивых
и мужской монастырь, возвышающийся среди всего этого!
В приемной Дрейфа стояла полная темнота.
Тем не менее, он продолжал писать,
разрываясь между кипевшими внутри него воспоминаниями детства и речью женщины.
— А в каком образе вы теперь выступаете?
— Я, разумеется, живу здесь как женщина,
очень простая и старая женщина,
понимаете, доктор, черная кошка, травы, отвары и крохотный домишко на окраине деревни.
О, да, уж Дрейфу-то было прекрасно известно, что это такое!
В институте в Нендинге целый семестр был посвящен именно изучению темного состояния души стареющей женщины и трясин ее психики.
Они изучили все описания процессов над ведьмами,
даже затвердили наизусть на всякий случай длинные абзацы
и присутствовали при одном вскрытии, когда Попокофф разрезал древний женский труп и обнажил его внутренности…
Крайне неприятное, кстати, зрелище!
Из сероватых остатков матки Попокофф маленьким серебряным пинцетом вытащил длинные нити паутины и медленно размотал гнездо, кокон,
и, наконец, извлек отвратительную создательницу этого кокона: паучиху, которая всегда устраивает там себе гнездо у женщин определенного возраста.
Профессор продемонстрировал, как женское тело, после того, как прекращаются его детородные функции, становится чем-то вроде привидения,
очень тонким, сухим, почти прозрачным,
он осторожно перевернул труп и показал, что на спине есть тончайший круглый участок, который,
в наихудшем случае,
может развиться в дупло вроде того, каким щеголяют феи-лесовички.
— О, какое ужасающее время!
Внезапный возглас женщины неумолимо ворвался в извилистый ход мыслей Дрейфа и снова перенес его в грубую действительность.
— Запах сожженных женщин наполняет воздух в окрестных лесах и смешивается с вонью от заросших тиной озер, нечистот, бедности, огромных куч дерьма и навоза,
но запах сожженных женщин все же хуже всего, доктор,
я все время чувствую его,
даже во сне,
даже здесь я чувствую его, доктор,
да, он преследует меня сквозь века и постоянно напоминает мне о том, что…
У нее кончился воздух.
Она сделала вдох, ослабела, вяло прошептала:
— Вы когда-нибудь чувствовали запах сожженной старухи, доктор?
Единственный запах, который Дрейф в данный момент чувствовал, был чад от стряпни госпожи Накурс, проникавший в комнату сквозь замочную скважину и просвет под дверью.
Он записывал,
отвлекаемый ароматом пищи и растущим голодом.
— Нет, барышня, к сожалению, никогда…
— Это неописуемо противный запах, доктор,
горящая молодая женщина пахнет чуть сладковато, а старуха по естественным причинам пахнет более кисло, горько и едко,
и я его все еще чувствую,
этот мерзкий запах еще сидит у меня в волосах!
Она лихорадочно рванула свои жирные, темные пряди.
— В одежде!
И она рванула на себе свой длинный балахон.
— Он повсюду, доктор,
он следует за мной,
я чувствую его здесь,
сейчас!
В своем волнении она, казалось, готова была сесть, и, чтобы избежать этого, Дрейф сказал:
— Успокойтесь, успокойтесь, барышня,
уверяю вас,
что вы чувствуете запах не сожженных женщин,
а всего лишь говядины, которую жарит госпожа Накурс.
Но женщина лежала, окаменев, молча, и смотрела в потолок.
Казалось, что до нее, с ее внутренним миром нечистот и пылающих костров, на которых сжигали людей, не доходили успокоительные слова Дрейфа.
В глубокой тишине стало вдруг слышно, как у Дрейфа от голода урчит в животе, и, чтобы заглушить эти досадные телесные звуки, он поскорее откашлялся и спросил:
— Не испытываете ли вы вследствие этого какое-либо неприятное чувство?
— Неприятное чувство, неприятное чувство?
Глаза женщины по-прежнему были широко открыты, она медленно водила головой по сторонам,
туда и обратно,
словно слепая…
— Неприятное чувство, вы хотите сказать такое, как страх,
ужас, полная беспомощность?
— Да, примерно такое.
В тот же момент Дрейф, к своему огорчению, обнаружил, что черные чернила, которыми он записывал все, что до сих пор говорила женщина, вдруг иссякли.
В посеребренной чернильнице не оставалось больше ни капли!
— О да, доктор, я испытываю ужас,
ибо надо всем здесь нависла опасность!
Дрейф вздохнул и выдвинул левый ящик письменного стола.
Оттуда он достал новую, неоткупоренную бутылку чернил, он вытащил пробку и окунул острие пера в…
— Обвинения, обвинения,
постоянно говорят о том, что дьявол вселился то в ту, то в эту,
я не понимаю, как он может быть во стольких местах одновременно,
и люди доносят друг на друга направо и налево, доктор,
каждый день сгорает еще одна женщина,
и в долине Луары, вы знаете, доктор, там…
То, что записывал Дрейф, теперь стало кроваво-красным, как и сами чернила.
От этого свежие записи составляли режущий глаз контраст с записанным ранее,
что раздражало Дрейфа,
который по своему характеру был крайне аккуратным человеком, почти педантом.
— …в долине Луары словно лес стоит из костров, невероятное количество горящих, вопящих женщин, запах от которых разносится ветрами по близлежащим полям и деревням, проникает в комнатушки домов, где его потом вдыхают женщины, на которых, пока они стирают, пекут, кормят грудью, словно столбняк находит при мысли, что в любой момент может настать и их черед,
и от этого устаешь, доктор,
от этого очень устаешь,
и в конце концов от одного только этого начинаешь вести себя странно:
от того, что ты постоянно являешься объектом косых взглядов и подозрений.
Пожелтевшая бумага журнала вбирала в себя свежие красные чернила, Дрейф сидел тихо, а вокруг стального пера медленно расплывалось большое пятно.
Оно расползалось, принимало более глубокий цвет, темнело, разветвлялось притоками, а Дрейф все не мог найти силы поднять руку.
На заднем плане женщина что-то невнятно бормотала,
а мысли Дрейфа завертелись вокруг крови:
кровь женщины,
женщиной управляет кровь,
силы, с которыми связана эта кровь,
цикличность женщины,
пакт, заключенный ею с луной и приливами…
Случалось, что он даже для гарантии справлялся, нет ли у пациентки, входящей к нему в кабинет, менструации,
потому что, если таковая у нее была, то крайне важно было, чтобы пациентка не коснулась журнала или ручки
(в противном случае ему пришлось бы их сжечь)
или не дышала бы на фолианты профессора Попокоффа.
Потому что Дрейф страдал от постоянно повторяющегося ночного кошмара, мол, если такое случится, то записи и бесценные знания, собранные в фолиантах, совершенно исчезнут,
испарятся,
превратятся в газ и улетучатся!
Мысль, может быть, смешная для постороннего, однако Попокофф однажды рассказывал об одном случае,
когда молодая женщина в период, когда она кровоточила, была столь переполнена всевозможными чудодейственными силами, что люди
(в основном мужчины)
становились лепечущими идиотами при одном только ее появлении.
В деликатесных лавках, когда она проходила мимо, начинали гнить мясные продукты,
у мясников в лавках, когда она туда заходила, тупились огромные ножи,
а на рыночной площади все плоды сплющивались, словно кто-то проколол их иголкой,
сливы, яблоки, дыни — все!
А любое молоко, на которое она смотрела, мгновенно скисало…
И обо всем этом доктор Дрейф никогда не мог забыть.
Это вросло в него,
словно притаившись в засаде в глубине его мозга, свербило,
несмотря на то, что сам Попокофф уверял их всех, что это был исключительный случай
и что он никогда раньше не слышал ни о чем подобном.
И хотя все женщины за счет своего свойства испускать кровь и находились в контакте с силами, — размах которых не мог оценить ни один мужчина, — но, разумеется не до такой же степени…
А на диване,
наполовину скрытая огромным письменным столом,
женщина вдруг пробормотала:
— … в долине Луары…
Дрейф поднял глаза и заморгал.
Теперь он вообще ничегошеньки не видел.
В комнате царила полнейшая темнота.
Записи в журнале невозможно было более различить.
Поэтому он сполз со стула, подошел к торшеру, стоящему в углу,
встал на цыпочки и потянул за небольшой шнурок.
Мягкий, красноватый свет разлился по приемной
(который, однако, не доходил до темных трясин психики, где в данный момент находилась женщина).
— Так-так, милая барышня, вы говорите, обвинения,
а не являетесь ли вы некоторым образом тоже жертвой такого преследования или…
Дрейф с тихим стоном от напряжения снова взобрался на стул:
— … как бы поточнее выразиться,
подобных настроений среди людей,
в этом мире навоза, нечистот, дьявольских детей и…
Он пролистал назад в журнале, чтобы уточнить ее слова и прочел:
— … огромных куч дерьма?
— Да.
Теперь женщина лежала с разметавшимися в беспорядке волосами, балахон на ней задрался,
обнажив красивые щиколотки,
отметил Дрейф против своей воли
(что ноги у нее были очень маленькие и стройные, он тоже заметил).
— Каким образом?
— Будучи в гостях у своего деверя, я даю,
разумеется, с самыми благими намерениями,
яблоко маленькой девочке, которая немедленно заболевает и умирает.
— Ну, надо же!
Женщина тут же оживляется, и голос ее поднимается на одну или две октавы:
— Именно так и я подумала, доктор,
и, конечно, все подозрения тут же пали на меня,
ведь на меня и раньше уже косо поглядывали,
шептались за моей спиной,
но я слышу все, что вы говорите, свиньи вы этакие,
уж я-то вас вижу,
так и знайте!
Три последние фразы женщина выкрикнула пронзительно, упершись взглядом в какую-то точку в противоположном конце комнаты, причем сжала кулаки так, что побелели суставы, плотно сомкнула челюсти и задрожала.
Но вскоре после этого она глубоко вздохнула, зажмурила глаза, собралась с силами и продолжала как прежде:
— Да, а теперь начинается,
да простит доктор мое выражение,
ад кромешный.
«Ад кромешный»,
рассеянно записал Дрейф красными чернилами, которые все еще,
постоянно,
уводили его мысли к мрачным хижинам для менструирующих женщин на окраинах поселков туземцев и к необычным парапсихологическим явлениям.
— И будто мало этого случая с девочкой, на этот раз я приготовила обед одному мелкому арендатору,
но едва он успел съесть немного свеклы, которую я собственноручно с любовью приготовила по всем правилам поварского искусства, как его начало мутить, он лег, а потом его рвало какой-то вонючей черной слизью,
и, как вы, конечно, понимаете, доктор,
все против меня,
что я ни сделаю — все не так,
все, к чему ни прикасаюсь, вянет или морщится или становится камнем или пылью,
например, бросаю я в припадке гнева горсть обычной муки в лицо оскорбившему меня мужчине, и он умирает
в тот же миг,
и вот некоторое время спустя призывают охотника за ведьмами.
Наконец-то сказано слово, которому удалось разогнать неукротимые мысли о крови, постоянно вертевшиеся в голове у Дрейфа!
— Самый обычный мужик, который ходит по деревням и, пользуясь разными зверскими методами, распознает ведьм в толпе обычных женщин, доктор.
Да, да, Дрейфу это было прекрасно известно…
Профессор Попокофф сам был потомком многих поколений знаменитых охотников за ведьмами.
Да, может быть, именно поэтому Попокофф обладал таким глубоким, инстинктивным пониманием всего женского,
которое позволяло ему проникнуть в неизведанный край женственности так глубоко, как Дрейф,
несмотря на все годы учения и все свои знания,
даже и помыслить не мог?
Он рассеянно прикусил истертый черенок ручки, ненадолго задумавшись об этом.
Однако упоминание об охотнике за ведьмами действительно вызвало у него интерес!
— Не могли бы вы описать мне этого охотника немного подробнее,
одну только внешность.
Она ответила быстро и без колебаний:
— Необычайно неприятная фигура,
обут он в большие кожаные сапоги,
на нем огромный плащ, черный как ночь,
в руках у него твердый посох,
он в возрасте доктора и, да…
Довольно злое выражение ее лица вдруг стало удивленным, глаза расширились, уголки рта приподнялись, она издала изумленный смешок:
— Да, смотрите-ка,
он вообще-то порядком похож на вас, доктор Дрейф!
— Ах, что вы говорите!
Дрейф просиял и вначале почувствовал себя чрезвычайно польщенным.
Он с трудом скрывал свою гордость.
Ему всегда хотелось иметь большие кожаные сапоги,
посох, плащ…
Однако секунду спустя это чувство сменилось сомнением, и он внезапно засомневался, не подшутил ли над ним объект анализа.
Не дрожала ли в ее голосе едкая струйка иронии?
Он некоторое время с подозрением косился на ноги женщины, но затем отогнал эти мысли.
— Он пользуется самыми разными методами обследования, доктор,
например, бросает меня прямо в наполненный нечистотами пруд, чтобы увидеть, выплыву ли я!
— И вы выплыли? —
льстиво спросил Дрейф
(от всего сердца желая, чтобы она потонула, чтобы ее затянуло водой на самое дно, и там и осталась бы лежать, так как именно там самое место всем женщинам).
Женщина глубоко вздохнула и поджала губы, словно сосала маленький кислый пестик.
Чертов старикашка, в свою очередь строптиво думала она,
и, словно обращаясь к умственно отсталому ребенку, ответила:
— Я ведь все-таки хочу жить, доктор, так что,
да, я выплываю.
— И таким образом, это знак того?
— Что телом моим завладел Сатана, доктор.
Он снова записал эти слова дрожащей, но твердой рукой,
эти великие слова,
это всесильное имя
(и хотя буквы в нем были по крайней мере вдвое крупнее букв во всех остальных словах,
оно все же очень проигрывало от красных чернил).
— Но это еще не все, доктор,
потому что меня тотчас же вытаскивают,
срывают с меня одежду на глазах у всех
и осматривают все мое тело,
и это до того унизительно!
Она заворочалась на диване от неприятного чувства.
— Они везде меня лапают, доктор, вы не представляете себе,
и вскоре они ее находят.
— Что?
Дрейф поднял глаза.
В голосе женщины зазвучали растерянность и изумление.
— Метку дьявола, доктор,
знак,
маленькую черную бородавку,
сосок сатаны,
здесь…
Дрейф подался вперед над письменным столом, чтобы разглядеть, где именно на теле, по словам женщины, сидит этот нарост…
Ага, прямо между грудями!
Тут он точно понял
(ибо существуют тысячи видов меток дьявола и сосков сатаны, все из которых описываются как различные стадии ведьмовства).
— И теперь ничего не поделаешь, доктор,
потому что надежды больше нет!
Дрейф записывал.
Красные чернила странным образом разлетались брызгами.
Они вовсе не походили на его любимые черные-пречерные чернила.
На записях постоянно расплывались безобразящие их кляксы, некоторые слова совершенно невозможно было прочесть,
да, нужно сегодня же вечером попросить госпожу Накурс купить большой запас черных чернил, чтобы такое в будущем не повторялось.
— Да, продолжайте же, барышня…
— Они подвергают меня пыткам,
хотят заставить признаться.
— А где это происходит?
Проклятые чернила!
Дрейфово раздражение по поводу клякс и брызг, и непонятной склонности чернил поступать как им заблагорассудится заставило его крайне непрофессиональным образом прокричать объекту анализа:
— Где это происходит, барышня!
— Подождите, подождите, доктор, я должна это…
И она на мгновение застыла, а потом пробормотала что-то так тихо, что Дрейф услышал всего одно слово.
— Что вы сказали, барышня, говорите громче!
— В отвратительной тюремной норе, наполненной разными инструментами!
— Так-так, и вы сознаетесь?
— Конечно нет,
никогда,
никогда в жизни,
никогда!
Дрейфа передернуло от этой мятежной, неженственной вспышки.
Он даже немного испугался.
Все это составляло такой полный контраст по сравнению с тем несколько приглушенным тоном, которым до этого говорила женщина.
Но затем она снова смягчилась и заговорила жалобно, бессильно,
отчего Дрейф с облегчением вздохнул.
— Ах, все это тщетно, меня ведь все равно сожгут,
и не за то, что я что-нибудь сделала,
а за то, что я то, что я есть — женщина,
да, вот уж меня темным осенним вечером волокут на площадь,
ох, доктор, как много здесь людей, которые смотрят на все это,
и ветер дует,
вблизи меня разложены другие костры и стоят другие столбы, к которым привяжут других женщин и сожгут живьем,
а теперь меня привязывают к этому столбу, доктор,
раскладывают хворост и бересту у моих босых ног,
холодно, и мужчины осыпают меня бранью,
в то время, как женщины тихо и выжидательно рассматривают меня,
ох, доктор,
помогите же мне,
спасите меня,
помогите мне!
Она бессильно протягивала руки.
Когда объект анализа таким образом обращается за помощью непосредственно к аналитику, то последнему в подобном случае крайне важно сидеть тихо и выжидать, сделавшись как можно меньше и невидимее…
Как и поступил теперь Дрейф.
И через некоторое время женщина, немного собравшись, продолжала:
— Но до чего же чудные мысли, доктор, приходят человеку в голову,
пока я стою здесь и смотрю, как разгорается костер, я почему-то думать ни о чем другом не могу, кроме своего котика,
и кто же о нем теперь позаботится, кто даст ему молочка и рыбки, кто будет его любить.
Она задумчиво и нежно добавила:
— Его зовут Морбус.
Дрейфу на минуту показалось, что с этими словами состояние женщины завершилось, дошло до конца,
но после секунды глубокого молчания она вдруг испустила громкий, пронзительный, душераздирающий крик.
Она уселась на диване, прямая как палка, подняв вихрь пыли, и прижала руки к лицу
(а у госпожи Накурс, проходившей мимо по коридору, чуть не случился удар,
она остановилась, подошла к двери и осторожно приложила к ней ухо).
Женщина дрожала, уставясь прямо перед собой дико расширенными глазами.
Ее слабая тень падала на стоящие в глубине позади нее стеклянные банки, и даже самого Дрейфа охватил ужас,
так как ее крик пронизывал до костей.
Уж не просыпаются ли в ней половые силы?
Потому что это немного напоминало то, что он видел в темном зале Попокоффа той ночью…
— Я горю, доктор,
горю!
Она еще на несколько секунд застыла в неподвижности, прикрыв руками свой раскрытый рот и дико распахнув глаза.
— Вы и не догадываетесь, как ужасно гореть, доктор,
огонь, языки пламени, жара,
сначала загорается хворост,
и тебя окружает поднимающийся от него дым,
затем в твои пальцы на ногах въедаются первые робкие и причиняющие необычайную боль языки пламени,
и ты связана,
нет никакой возможности ускользнуть от этой кошмарной, сильной боли, доктор,
а огонь медленно поднимается вверх,
вгрызаясь в икры, колени и ляжки,
балахон загорается и вот его уже нет,
потом, доктор, настает черед плоти и всего тела,
оно медленно взрыхляется,
плавится, с хрустом уваривается,
а языки пламени неумолимо поднимаются вверх, вверх,
они достигают твоего лица, и вот голова и лицо загораются,
языки пламени наполняют рот, плавятся губы, язык превращается в каплю крови,
волосы вспыхивают и улетают с дымом костра,
и как ни кричи, тебя не слышно, ибо огонь идет дальше,
грохот от него проникает в уши,
языки пламени у тебя во рту, в носу, в груди и в легких,
они вылетают из обоих ушей,
и ты ничего не видишь, ибо тебя сжирает огонь!
Она снова закричала,
на этот раз еще громче и дольше
(и госпожа Накурс, которая стояла в коридоре, прижавшись к двери ухом, и все слышала, так расстроилась, что немедленно понеслась прямо в кухню и забилась там в кладовку, крепко зажав уши ладонями).
Затем женщина расплакалась.
Да, она сидела на диване и всхлипывала до того беспомощно, что даже закаленное анализом сердце Дрейфа болело от сострадания к ней.
— Ну-ну, милая барышня.
Дрейф сполз со стула и уселся рядом с женщиной на диване.
Вначале душераздирающий плач все не прекращался
(а когда он наклонился, чтобы неловко похлопать ее по плечу, то почувствовал, что тело ее издает странный, сильный, горьковато-сладкий запах дыма).
— Ну-ну, — повторил он,
так как не привык, будучи аналитиком,
к слишком сильным проявлениям чувств.
Из кармана пиджака он вытянул мятый белый носовой платок.
— Вот, барышня, держите-ка!
И она хлюпнула носом, вытерла глаза руками и взяла платок.
— Спасибо, доктор…
Дрейф сидел молча и смотрел, как она сморкается, вытирает себе щеки и губы.
— Значит, вас сожрали языки пламени?
Эту фразу он произнес очень осторожно,
чтобы снова ее не взволновать,
только теперь она уже практически совсем успокоилась,
очевидно, вследствие его зрелого мужского присутствия.
— Да, доктор, совершенно
ничего не осталось, кроме костей и полового органа.
Половой орган
потом выкопали из золы, чтобы убедиться, что я все-таки была человеком, а не каким-то призраком!
По ее телу пробежала последняя дрожь, отчего по щекам снова покатились обильные слезы, а потом плач совсем утих.
Она сглотнула и поднесла руку к горлу:
— Нельзя ли мне немного воды, доктор,
огонь, знаете ли,
жар и пламя…
Дрейф подпрыгнул.
— О, да, конечно, одну минуточку.
С большим усилием он сполз с дивана, поднялся на цыпочки и налил ей стакан воды.
Он снова подошел к женщине и протянул ей стакан.
Она жадно выпила его до дна
(и почувствовала, как мелкие сухие комки пыли прилипают к горлу, губам, внутренней полости рта и языку).
Напившись, она, казалось, полностью пришла в себя.
Горький запах дыма, который еще совсем недавно окружал ее фигуру, исчез, и она твердой рукой протянула ему,
слегка улыбаясь,
пустой стакан.
Дрейф поставил его на самый край письменного стола.
— Теперь вам лучше?
Она застенчиво кивнула.
— Может быть, вы хотите прилечь на несколько секунд, перед тем как мы пойдем дальше?
Она снова кивнула и улыбнулась милой улыбкой.
— Да, доктор, это было бы хорошо.
И пока женщина пару минут лежала, вытянувшись на диване, с закрытыми глазами, собираясь с силами, Дрейф вернулся к письменному столу и снова за него уселся,
погруженный в мысли и воспоминания.
Странно, однако:
именно этот случай пробудил так много воспоминаний.
Возможно, причиной тому была приближающаяся старость,
зарождающаяся сентиментальность,
но теперь,
в первый раз после того кошмарного случая в парке,
он снова задумался о самой большой и единственной любви,
о барышне Хесиодос,
об Агнес, короче говоря.
Именно это воспоминание
в буйные годы Дрейфовой юности
было связано с таким множеством невыясненных противоречивых чувств, что он за всю свою взрослую жизнь так никогда и не смог заставить себя разобраться или смириться с ними.
Они дремали в нем, бродили, порождая опасный хаос,
до самого теперешнего момента!
И особенно все, связанное с барышней Агнес…
О, нежная Агнес, которая так гордо и недосягаемо скользила по извилистым тропинкам парка!
Там-то ему и случилось в первый раз ее встретить…
Дрейф вздохнул, погрузившись в воспоминания.
Шел ли он к какому-то знакомому — и сколько же ему тогда было лет?
Восемнадцать, самое большое, а может, и семнадцать.
Уже тогда он был съежившимся недовольным человечком с торчащими в разные стороны неухоженными волосами, в огромных очках в черной оправе, из-за которых его лицо и глаза имели постоянно вопросительное выражение,
а она там сидела.
Словно видение!
Самая красивая, самая прелестная, самая загадочная женщина, какую он когда-либо видел.
И она так красиво сидела на скамеечке под ивой на берегу пруда с лебедями, отчего весь ее образ становился еще более неотразимым.
Она сидела, совершенно углубившись в небольшую книгу, и разумеется, никакого внимания не обратила на то, как он, заливаясь краской, прошмыгнул мимо с пачкой книг под мышкой,
а он после этого сделался и вовсе одержим ею и все время изыскивал всевозможные предлоги, чтобы пройти наискосок через парк или задержаться там.
Через некоторое время они познакомились поближе,
начали раскланиваться.
Иногда они сидели на какой-нибудь скамье и обсуждали разные разности,
предметы же их бесед он вообще не мог вспомнить, до того его глаза были заняты ее нежным физическим образом,
всей этой плотью, волосами, лицом и губами,
и ушами,
ушами!
И вскоре он, несмотря на свой юный возраст, понял, что из-за своих чувств сделался ее рабом,
мысль для Дрейфа совершенно невыносимая!
Он адски терзался,
жил только моментами их встреч в парке,
и вследствие этого в один прекрасный день решил, что должен каким-то образом,
чтобы успокоить свою сердечную боль,
объясниться ей в любви.
И он, тогда еще молодой и ребячливый, выбрал для этого стихотворную форму.
Днями и ночами сидел он в крошечной съемной комнатушке и писал стихи, которые в шести строках и в пятидесяти шести словах, не более и не менее, должны были точно передать чувства, которые он к ней испытывал
(а желательно и более того).
Он писал, плакал, зачеркивал, снова писал, впадал в безумие, делал новые попытки
(и все это время его квартирная хозяйка стояла, прижавшись ухом к двери, и с ужасом слушала его отчаянные выкрики),
и у него со временем вышел небольшой сонет,
богато расцвеченный такими словами, как «сера», «нарцисс» и «ангел».
Несколько дней спустя он положил сонет в конверт и отправился в парк, где барышня Агнес, конечно же, сидела на своем обычном месте под ивой возле лебединого пруда и читала.
Исполненный трепета, он приблизился к ней…
Когда он находился всего в нескольких шагах от скамьи, тень его упала на страницу ее книги, она подняла глаза и вопросительно улыбнулась, после
чего он молниеносно сунул ей в руки конверт и без единого слова убежал прочь…
То есть он пробежал круг и засел в ближайших кустах, откуда потихоньку наблюдал за тем, как она изумленно поднимает с колен конверт и рассматривает его.
Боже, какие мучения он в этот момент испытал!
Она бесконечно медленно открыла конверт
(и этим она словно прикасалась к самому юному Дрейфу,
к его телу,
к его рту,
к его…)…
И так же невыносимо медленно она вытянула и развернула листок розовой бумаги, а Дрейф все это видел из чащи густых кустов,
где в уши ему жужжали шмели и осы, а комары забирались глубоко в нос.
Его почти тошнило от возбуждения, пока он с бьющимся сердцем ожидал ее реакции:
заплачет ли она, засмеется, уронит ли слезу,
поднимет ли голову, посмотрит вокруг, назовет ли тревожно и нежно его имя,
пойдет ли она за ним, станет ли его искать,
поймет ли она тотчас же, что они созданы друг для друга,
предназначены вместе идти по жизни,
почувствует ли инстинктивно сквозь кусты его нежные, любовные взгляды?
Он задержал дыхание, и спустя несколько долгих как вечность минут послышался
громкий, похожий на ослиный крик, презрительный вульгарный хохот…
Хохот этот заметался эхом по неподвижному парку, отчего люди с интересом оборачивались, вспугнул лебедей, которые отплыли в дальний угол пруда, и съежился в любящем сердце Дрейфа до размеров маленькой волосатой бородавки!
Ему, совершенно уничтоженному, пришлось увидеть, как прелестная барышня Агнес, согнувшись вдвое, держась за живот, снова и снова деланным голосом читала его наболевшие, полные любви строфы самой себе вслух, так что их могли слышать все прохожие, а затем,
еще раз,
согнулась в пароксизме смеха.
Да, она хохотала так сильно, что задохнулась и вынуждена была лечь на скамью!
Немного погодя Дрейфу надоело, и он выполз из кустов и побыстрее убрался оттуда.
Внутри у него словно все застыло,
такого унижения он никогда,
ни до ни после,
не испытывал!
После этого случая Дрейф впал в глубокую, продолжавшуюся месяц депрессию.
Он забросил изучение насекомых,
он не хотел есть, по утрам лежал в кровати и не откликался, когда добродушная квартирная хозяйка стучала в его дверь, чтобы узнать, как дела.
А барышню Агнес он никогда больше не видел.
Да, на самом деле, он ее тщательно избегал!
Никогда более не ходил он в парк,
никогда более нога его не ступала на извилистые дорожки,
а как только ему попадалась на улице привлекательная молодая дама, его наполняли печаль, тоска, ненависть и множество других неопределенных чувств и в то же время хотелось заплакать, броситься к ее ногам и попросить над ним сжалиться
(хотя она, разумеется, была ему совершенно незнакома).
Никогда более он не пытался сблизиться с женщиной.
Никогда не был помолвлен,
а через короткое время после случая со стихами услышал он от одного дальнего знакомого, что барышня Агнес Хесиодос,
из-за любви к очень высокомерному, красивому юноше поэтического склада по имени Паскуаль Анимусс
(сам Дрейф понятия не имел, кто это был такой) покончила с собой, войдя в реку Помс, с карманами, набитыми камнями, землей и старыми книгами.
Ее тело было найдено какими-то игравшими там детьми много недель спустя.
Странно, что даже в смерти оно необычайно хорошо сохранилось…
Цветы, листья и увядшая трава налипли на ее лицо, глаза были открыты, а во рту лежала маленькая голубая рыбка, поедавшая ее язык.
Ах, да!
Доктор Дрейф глубоко вздохнул.
Именно после случая с Агнес,
после унижения, испытанного им вследствие ее презрительного ослиного смеха в парке,
он и сделал окончательный выбор, решивший всю его жизнь.
Он посвятит себя анализу, укрощению и подавлению женского духа!
К насекомым же он потерял всякий интерес,
на извилистые тропинки психоанализа его загнал злодейский смех покойной барышни Агнес,
прямо в темную чащу психики,
где ему впоследствии и суждено было провести всю свою жизнь.
Но все это, несмотря ни на что, совершенно не имело значения теперь,
добрых сорок лет спустя,
в этой пыльной, спертой комнатке со странно наклонными стенами.
Шел дождь.
Капли его стучали во все три зарешеченных окна, и на Скоптофильскую улицу опустилась почти ночная тишина,
в городе Триль.
Госпожа Накурс стояла в кухне над готовым обедом, не зная толком, что с этим обедом делать, так как визит, видимо, затянулся, а еще одна пациентка ожидала…
Дрейф подался вперед над журналом и увидел:
да, пациентка выглядела полностью оправившейся.
Она лежала, закрыв глаза, дышала спокойно, под подбородком у нее ровно билась пульсирующая жилка, а по обеим щекам даже разлилась легкая краска.
Он начал точно с того места, где они остановились:
— Да, барышня, это, должно быть, очень неприятное воспоминание,
я имею в виду костер,
но ведь все наконец закончилось, не так ли?
— Да…но…да, верно, это закончилось.
Она говорила не слишком убежденно, но Дрейф был достаточно профессионален, чтобы совершенно хладнокровно этого не заметить.
— И что же за всем этим последовало?
Он снова неохотно окунул перо в кроваво-красные чернила.
— Да, вначале меня словно вообще больше нет, а время идет,
мир и времена меняются,
домишки превращаются в дома, а затем в большие города с широкими улицами,
вокруг уже не какие-то болотистые деревеньки и навозные кучи, и плохо одетые дураки,
а вроде бы какой-то дворцовый покой!
Слово «покой» она произнесла с глубочайшим убеждением, словно читая вслух из какой-то книги, в которой оно было написано старинными буквами с завитушками.
— Покой?
— Покой!
— Просторный, тесный, заплесневелый, подземный, с крысами?
Так, так, нельзя ли немного точнее,
ведь существует множество видов покоев!
Лицо женщины снова приобрело слегка страдальческое выражение.
Словно она на какое-то мгновение потеряла связь и должна была подумать, к какому времени относится этот покой.
— Да, он не очень большой, доктор,
и, похоже, заброшенный,
но никаких крыс там нет,
и, вообще-то, он красивый:
такая напыщенная архитектура,
на стенах большие зеркала в золоченых рамах,
на потолке хрустальные люстры, от них по нему рассыпаются отсветы дневного света, проникающего через распахнутые двери террасы,
а пол там в шахматную клетку, доктор,
и большой очень красивый камин,
а в камине горит невысокое пламя,
мне кажется, что я вижу облачко мотыльков, вылетающих из языков пламени, но не обращайте на это внимания, доктор,
это, должно быть, галлюцинация!
— А что вы там делаете?
У этой постепенно прорастающей в женщине новой личности голос стал надменным, важным.
Она произносила каждый отдельный слог подчеркнуто правильно, вежливо и учтиво,
однако снисходительно
и называла Дрейфа уже не доктором, а господином.
— О, ничего, господин.
— Ничего, совершенно ничего?
Вы что, не дышите и даже не живете,
вы что, мертвая и лежите в открытом гробу, одетая в саван и погребальные перчатки,
так в чем же дело?
— О, господин, что вы говорите, разумеется, я живу,
но в основном я просто сижу здесь,
на стуле, совершенно неподвижно!
Дрейф записывал все это упрямо разбрызгивающимися красными чернилами, а на улице капли дождя падали все чаще, и госпожа Накурс все еще стояла в кухне, молча уставившись на дымящийся бифштекс, горошек и картофель.
— А за окном, я полагаю, лето, господин,
я вижу это по зелени сада,
по растениям в полном цвету и по жаре, дрожащей над туманными полями вдали,
я понимаю это также потому, что слышу грубый мужской смех среди деревьев,
и здесь внутри тоже жарко, господин,
дьявольски жарко!
Она повернула голову, вытянула шею, оттянула пальцами ворот платья, будто стараясь впустить побольше воздуха,
а Дрейф быстро вскинул глаза, прислушался,
ошеломленно огляделся, наморщив лоб,
потому что мог поклясться, что слышал, как в приемной жужжит муха,
но нет,
он покачал головой и снова погрузился в недра анализа:
— А какие чувства вы испытываете по отношению к этим мужчинам?
Женщина перестала оттягивать ворот платья, а голос ее теперь сделался еще более придушенным и высокомерным:
— Я ненавижу их.
Вот как, они, значит, дошли до бесконечных просторов пустыни под названием «ненависть к мужчинам»!
А он как раз сидел и думал, когда же они до нее доберутся и в каких краях она расположена, а пустыня-то тут как тут!
Такая явная, распахнутая и совершенно безграничная!
Однако теперь ему следовало продвигаться осторожно:
— Так вы говорите, что ненавидите их?
Дрейф с раздражением заметил, что пальцы его сделались красными от чернил, и в отчаянии попытался вытереть их о подкладку письменного стола, но единственным следствием его действий было то, что подкладка тоже испачкалась.
— Может быть, они что-то вам сделали?
Насмехались над вами или причинили физическое увечье?
Он отложил перо, снова открыл левый ящик письменного стола и достал оттуда маленький, жалкий, потертый карандашик,
но лишь только он надавил грифелем на бумагу, как тот сломался.
Как нарочно, проклятье!
Женщина же продолжала с дивана уже гораздо более кислым тоном:
— Нет, господин, я не могу прямо утверждать, что они мне что-нибудь сделали, только я все равно их ненавижу!
Ненависть, ненависть и снова ненависть,
да, именно такие свойства имеет женская психика:
ненависть, презрение, высокомерие, заносчивость, гордость
(в душе стареющего доктора вновь пробудились болезненные воспоминания о злом смехе барышни Агнес, тогда в парке).
Он отложил карандаш и снова взялся за деревянную ручку со стальным пером и обмакнул ее в ненавистные красные чернила…
— А там они…
Женщина теперь говорила с такой горечью, что Дрейфу ее голос казался штопальной иглой, которую все глубже загоняли ему в голову.
Он завертелся, пытаясь избежать боли, и пропищал:
— Кто «они», барышня, кто же, Боже ты мой,
я, может статься, аналитик,
но мыслей не читаю!
— Мужчины, господин, — ответила она с ледяным холодом
(и при этом каким-то странным образом сделала ударение именно на слове «господин»).
— Они там
играют, прыгают, носятся во все стороны, словно шаловливые дети,
бросаются камнями в золотых рыбок в пруду, тайком рвут ананасы в оранжерее, что хотят, то и делают,
одного из них, вообще-то, зовут господин Идрок, он первооткрыватель.
«Идрок».
Имя показалось Дрейфу знакомым,
это, должно быть, дальний родственник одного из его младших товарищей студентов в Нендинге, которого именно так и звали
(правда, имя его произносилось на более современный лад).
— Он везде побывал, господин,
плавал по всем в мире морям,
продирался сквозь джунгли, доходил до затаившихся в горах туземных деревень, куда никогда не ступала нога ни одного белого цивилизованного человека,
там его приняли словно короля,
как воскресшего,
его приняли за Бога, сошедшего с небес,
его сравнили с восставшим из мертвых, умеющим писать…
Последняя фраза заставила Дрейфа внезапно вспомнить своего друга, великого писателя, который приобрел известность своими убедительными, гиперреалистическими и до крайности устрашающими портретами женщин,
Дрейф договорился встретиться с ним завтра и ни в коем случае не мог позволить себе забыть об этой встрече.
— Да, а на днях он снова вернулся домой из такого вот путешествия и привез с собой человеческую голову, съежившуюся до размера маленького гнилого яблока,
нам всем дали ее подержать, господин,
он утверждал, что это женская голова,
и я держала ее в своей руке,
странное было ощущение,
на голове остались волосы, длинные и черные,
а черты лица уже нельзя было различить,
и что-то глубоко печальное было в этой голове, господин.
Женщина вздохнула.
— Да, и пока этот человек может разъезжать по странам и континентам, я все сижу в своем покое,
одетая в такое огромное и тяжелое от жемчуга, драгоценных камней и серебряных украшений платье, что не могу с места сдвинуться без посторонней помощи,
я едва могу поднять руку,
а крупное кольцо с бриллиантом на правой руке сильно мешает мне писать,
а когда мне нужно куда-нибудь пойти, по меньшей мере трем служанкам приходится толкать меня в нужную сторону.
Она замолчала, задумавшись о сказанном, и лежала в сильном напряжении.
Дрейф отметил, что руки и ноги у нее словно одеревенели.
— Иногда они выталкивают меня в сад, где мне потом приходится сидеть на другом стульчике,
под зонтиком,
и смотреть, как мужчины…
(Каждый раз, когда она произносила это слово, по лицу ее пробегала все более саркастическая судорога.)
…прыгают по зеленой траве, рыгают и выпускают газы.
Дрейф широко зевнул.
— Ах, как бы мне хотелось вести себя так же!
Он зажмурил глаза.
— Иногда, когда я тут сижу, я вдруг с ужасом ощущаю, что по моей ноге ползет какое-то насекомое, но по естественным причинам я ничего не могу поделать,
а иногда мне кажется, что это большая черная уховертка, скорпион, отвратительный гад,
но я не осмеливаюсь ничего сказать,
нет, и пока гад медленно ползет все выше по моей ноге и ляжке, я только напряженно улыбаюсь из-под своего зонтика мужчинам, если они ко мне обращаются,
и пытаюсь стряхнуть его, незаметно вертясь,
но он упрямый и крепко впился мне в ногу,
и наконец, он словно вползает ко мне в…
Женщина внезапно умолкла, но Дрейф записал,
просто по инерции,
слова «половой орган».
— И он там все еще живет, доктор,
и ест меня, уничтожает, пожирает изнутри.
Последних слов Дрейф не услышал,
потому, что внимательно просматривал свои записи.
— Так, постойте, милая барышня,
в данный момент вы, значит, находитесь в каком-то покое?
Мысли женщины, казалось, задержались на сцене в саду, и одновременно она задумчиво ответила:
— Да, я нахожусь в покое.
— А скажите мне, барышня,
как же вы теперь выглядите?
Понадобилось несколько секунд, чтобы женщина
настроилась на вопрос,
смогла сосредоточиться и нашла нужные, достаточно точные слова.
— На мне парик, господин,
огромный, пудреный парик,
вышиной, наверное, не менее трех метров!
Лицо ее исказилось от боли, она завертела головой, словно пытаясь избавиться от этого нелепого, похожего на торт нагромождения из волос.
— Ах, он еще хуже платья,
трет, колется,
по спине течет пот, да еще вши!
Она в отчаянии стала рвать волосы, царапать шею…
— Ах, господин, я с ума сойду,
это проклятые маленькие твари ползают под ним, высасывают всю кровь у меня из головы и откладывают яйца у меня за ушами,
они кишат и размножаются у меня под мышками и на лобке,
по вечерам вся моя голова покрыта укусами,
ой!
Она застыла и как завороженная уставилась перед собой.
В дворцовом покое семнадцатого века, лежащего в глубине ее психики, она, по-видимому, узрела что-то удивительное.
Дрейф тоже заразился ее любопытством.
— Да, да, что же вы видите?
— Самое себя, господин!
Она глядела прямо в пустоту, но, вероятно, что-то там видела.
— Я вижу себя в одном из зеркал на противоположной стене комнаты, господин!
— И как вы выглядите?
Дрейф сидел, подавшись вперед, посматривая на женщину исподлобья, а чернила капали с его ручки на слово «зеркало», отчего оно совсем пропало.
— Как каменная глыба, господин!
Женщина, казалось, сама была глубоко захвачена этим открытием.
— Лицо у меня белое, белое как мел,
словно у покойника,
оно покрыто пахнущей свинцом пудрой, которая въедается в кожу,
от нее лицо чешется, ноет и покалывает!
Она провела ногтями по щеке.
— Она содержит какое-то странное вещество, господин,
я не знаю, что это,
только оно жжет кожу.
Теперь она так яростно царапала лицо, что на нем там и сям появились капли крови.
— А что еще вы делаете, барышня?
Кроме того, что сидите в покое и ненавидите мужчин и завидуете тому, как они рыгают и свободно выпускают газы в саду?
Она вздохнула.
— Так, что же я делаю?
Этот вопрос заставил ее надолго задуматься, перед тем, как она наконец ответила из глубин пустоты и скуки.
— Все это занимает целую вечность: пока напудришь лицо, пока на тебя наденут платье и парик и зашнуруют корсет, так что я теперь более всего сижу на кровати в собственной комнате на верхнем этаже и ем финики в шоколаде и грецкие орехи из ярко-розовой коробочки, в то время, как Пенн читает мне вслух из «Путешествия Гулливера».
— Пенн?
Образ огромного Гулливера, которого лилипуты приковывают к земле, на мгновение проник в видения женщины.
Она все же отогнала его, склонив голову чуть вправо, и продолжала:
— Моя компаньонка.
Теперь голос ее был пропитан сарказмом.
Дрейф никогда не слышал ничего подобного.
Сплошная язвительность и ледяной холод!
— Почти неземное прелестное создание, господин, молодое, красивое,
с бледной, совершенно чистой кожей, покрытой персиковым пушком,
кроваво-красными, полными губами,
с маленькими, как весенние почки, грудями,
с темными, блестящими волосами,
с красиво очерченными ушами и огромными черными глазами,
моя полная противоположность, господин!
Дрейф наморщил лоб и попытался быстро составить себе полную картину всего доселе услышанного,
но это было трудно,
слишком богатый был материал,
слишком многое всплыло за слишком короткое время и в слишком быстром темпе, да еще и записано было красными чернилами,
что отвлекало Дрейфа.
Поэтому он вынужден был спросить:
— Следует ли мне понимать это так, что вы — безобразная?
Женщина засмеялась громким, почти торжествующим, но одновременно каким-то пустым смехом:
— Безобразная — это не то слово, господин!
В описании, которое он вслед за этим услышал, страх смешивался с интересом:
— Под париком я почти лысая, господин,
остались только небольшие серые пряди,
а под толстым слоем белой пудры кожа на лице шершавая, в струпьях, изрытая и красная,
потому что в детстве у меня была оспа, господин,
я была очень больна,
люди подумали, что я умерла, завернули меня в саван, положили в огромную общую могилу сразу за городом, но в последний миг я издала слабый стон, услышав который, моя мать спустилась вниз и заключила меня в объятия, так вот я избежала того, чтобы быть похороненной заживо,
ох, я и в самом деле выгляжу чудовищно!
Все это она описала очень подробно, а в голосе ее звучало даже какое-то странное облегчение и возбуждение.
— Я хилая,
и к тому же немного горбатая,
я не расту, как следует,
и меня можно принять за древнюю старуху, когда я сижу в кровати на верхнем этаже и смотрю в пустоту, поедая финики и орехи,
а на самом-то деле мне еще и тридцати не исполнилось,
старая-престарая девочка, которую кто-то с интересом рассматривает из другого времени и места в истории!
Дрейф записывал так быстро, как только мог,
все казалось ему ясным и понятным,
только вот последние ее слова он не совсем понял:
— Кто-то с интересом рассматривает вас из другого времени и места в истории?
Вопрос его звучал так, словно он решал кроссворд:
— Кто бы это мог быть?
— Та, которая все это пишет, господин,
писательница!
«Та, которая все это пишет»?
«Писательница»?
Что она пишет?
Какая писательница?
Когда?
Это же он, Дрейф, все записывал и никто другой, ни до, ни после!
Но у него не было времени на этом задерживаться.
Женщина уже снова продолжила свой рассказ:
— И я очень больна,
почти никакая еда во мне не удерживается,
Пенн кормит меня какой-то водянистой кашкой, в то время, как гости за столом пожирают жареных уток и заливных поросят.
Она некоторое время лежала неподвижно и выглядела вполне собранной, однако лицо ее приобрело зеленоватый оттенок, казалось, что она с отвращением рассматривает что-то внутри себя.
— Поросята, свиньи,
я скорее умру, чем буду это есть!
Последнее прозвучало как воинственный крик, как победный крик.
Дрейф пролистал журнал назад.
Это, должно быть, уходило корнями в пребывание в монастыре, которое в свою очередь было следствием поедания плода в Раю…
Несомненно интересно!
Он сделал небольшую пометку на полях.
— У-гу, а что вы еще можете добавить, кроме того, что связано с едой, мужчинами и всем прочим?
— М-м, а что же еще я могу сказать?
Она задумчиво почесала за ухом, где только что сидели яички вшей, слипшиеся в мелкие гроздья.
— Это, вообще-то, бесконечно скучное существование,
Пенн читает,
я все поедаю неизменные орехи и финики,
лето проходит, наступает осень,
опадают лисья, идет снег,
все мы едем в город, а там игры, интриги,
в больших дворцах и величественных особняках, где гуляют сквозняки,
люди справляют нужду в красивых галереях, где дерьмо лежит мелкими кучками вдоль стен, а вонь от мочи тяжело висит в изящных салонах,
люди в несоразмерно больших париках и нарядах тоже отвратительно пахнут потом и застарелой мочой, застывшей в нижнем белье,
да, пахнут всеми выделениями тела, которые пытаются заглушить удушающе сильными духами,
а я снова больна,
теперь у меня чума,
и я опять очень медленно умираю,
в тяжких муках.
В коридоре снова зазвонил дверной колокольчик, но Дрейф так сосредоточенно записывал, что вначале не услышал его,
и женщина в своем необычном состоянии тоже не услышала ни звука.
Колокольчик успел прозвонить второй, третий и четвертый раз, когда Дрейф, дернувшись от раздражения, отложил ручку и поднял глаза.
— Извините меня, барышня,
одну секундочку!
Он сполз со стула, подошел к двери, встал на цыпочки, открыл ее и исчез в коридоре.
И пока женщина лежала на диване, переживая внутри себя мучительную смерть от чумы в 1706 году,
слышны были приглушенные, но суровые приказания Дрейфа:
— Накурс, Накурс,
соблаговолите впустить пациентку,
что там еще,
ужин,
бифштекс,
да поставь же ты их пока в духовку!
— Извините меня…
Он снова уселся за письменный стол.
На улице хлестал дождь, а ветви почерневших деревьев били в окно, расположенное прямо за спиной доктора Дрейфа.
— Можете продолжать.
Он склонился над столом и читал свои записи вслух:
— …«невероятно»…
— …«бесконечно»… — отвечала женщина до странности нейтральным, лишенным какой-либо интонации голосом.
Угасло ее возбуждение, а с ним и интерес, столь в мелких, странных деталях переданный существом, которое только что в ней обитало.
Дрейф усмехнулся и окунул перо в чернила:
— Простите, простите, барышня, я сейчас напишу правильно,
«БЕСКОНЕЧНО скучное существование…»
Он зачеркнул неверное слово и вписал правильное,
мельчайшими буквами,
точно над неверным словом в промежутке между строчками.
Сделав это, он с большим удовлетворением поднял глаза, с нетерпением ожидая, что анализ покатится дальше,
словно очень сложная машина.
Но женщина ничего не говорила
и, казалось, не думала продолжать.
Дрейф своим цепким взглядом ученого смог в этой стадии увидеть, что в нее уже вселяется новое существо или, во всяком случае, она находится в чувствительной фазе расщепления на старое и новое…
Поэтому он терпеливо подождал некоторое время, а потом откашлялся и с крайней осторожностью спросил:
— Вам, может быть, хотелось бы продолжить?
Прошла минута-другая молчания, во время которых было слышно закрывающуюся в коридоре дверь,
и приглушенное бормотание двух женских голосов
(один — постарше, а другой — значительно моложе, нежнее)
проникло сквозь солидную дубовую дверь в приемную доктора Дрейфа.
После некоторого размышления, тянувшегося по мнению Дрейфа целую вечность, женщина ответила,
жалким, тоненьким, слабеньким голоском маленькой девочки:
— Я не знаю, хочу ли я об этом говорить, доктор,
это связано со слишком большим унижением.
Дрейф, услышав этот тон, в котором невозможно было ошибиться, немедленно понял, о чем идет речь, и чуть загадочно улыбнулся самому себе.
Чтобы внести во все это окончательную ясность,
на случай, если он, несмотря ни на что, все же ошибся,
он решительно, но мягко указал ей:
— Барышня, я знаю, как вам трудно, но подумайте о том, какое облегчение вы испытаете, итак — перед нами теперь новое существо?
— Да.
Ответ ее, однако, прозвучал как бы со стороны.
А физически она выглядела гораздо более худой, чем прежде.
Казалось, грудь ее запала, черты лица утончились.
— Вы молодая или старая?
— Молодая.
Теперь она словно выдыхала каждое слово.
В приемной тотчас же стало очень холодно, и разве не вылетало изо рта Дрейфа облачко ледяного пара?
Он нажимал на нее далее, не обращая внимание на сопротивление, которое было ей к лицу, будучи аналитиком, заходил все дальше и глубже:
— 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14?
— 13, да, скорее всего 13.
Дрейф засопел.
Женщина побледнела.
Наружная сторона стеклянных банок, застекленные свидетельства в рамках и огромные очки Дрейфа подернулись легкой дымкой,
но все произошло тихо, незаметно,
так что это едва заметили оба участника беседы.
— Хотелось бы уточнить,
где именно вы сейчас находитесь?
Тут она взяла разбег, помедлила и наконец ответила ему тише прежнего,
голосом, который, казалось, не относился более ни к какому телу:
— В лесу, доктор.
За этим последовала долгая, продолжительная тишина, которая действительно в былые времена могла заполнить целый лес
(а сконцентрированная в этой душной комнатушке, она была почти невыносимо тягостной и глубокой).
Дрейф вздрогнул, а женщина медленно,
слово за словом,
несмотря на огромное внутреннее сопротивление,
выдавила из себя:
— Там пять мужиков.
Так-так, теперь у него не было никаких сомнений!
Этот случай несомненно следовало отнести к категории «половые посягательства»!
Явление, которое в трудах Попокоффа очень метко и необыкновенно выразительно было определено словом:
глупости!
Как хорошо, теперь Дрейф мог на некоторое время отложить ручку и, немного откинувшись назад,
подумать о другом, чтобы рассказ катился сам собой,
так как он не имел никакого значения,
а главное — его не надо было записывать,
ведь это же всего лишь фантазия!
Дело в том, что в Нендинге их научили, что любое утверждение о посягательствах со стороны одного, или нескольких мужчин, или со стороны всего мужского племени,
если даже оно относилось к детским или юношеским воспоминаниям и отошло в историю,
всегда, всегда,
без малейшего исключения,
следует рассматривать как результат подавленных извращенных желаний самой женщины
и что толковать его следует только как подавляемые желания и мечты.
И пока не найдено средство полностью удалить из тела женщины все, относящееся к полу, утверждения о посягательствах, которым женщины якобы подверглись, будут литься из глубин женщин неиссякаемым потоком,
мужчин будут обвинять то в одном, то в другом,
но они, психоаналитики, не должны поддаваться обману!
И профессор Попокофф доказал свой тезис на черной доске с помощью длинного ряда очень сложных расчетов,
и они были правильными,
ибо Дрейф много ночей не спал, считал,
и все действительно совпало,
до самой мельчайшей цифры!
Теперь Дрейф сидел откинувшись на стуле, позволив женщине бормотать свое:
— Я брожу тут, ни о чем не подозревая, собираю хворост, мелкие прутья и ветки.
Она, казалось, застыла, словно от холода,
вздрогнула и обхватила тело руками.
И в то время, как ее воздушная, почти несуществующая грудь девочки-подростка толчками входила в его сознание, взгляд Дрейфа неторопливо и как будто без всякой цели скользил по мебели в приемной…
По нескончаемым рядам запыленных книг…
— Вначале я изо всех сил сопротивляюсь,
дерусь, кричу, царапаюсь,
но хворост рассыпается, а звезды и луна светят очень ярко.
Над потертыми старыми кожаными креслами, где он обычно сидел по вечерам, потягивая яичный грог, и читал своего любимого «Короля Лира»…
— Но ничего не помогает, как я не пытаюсь сопротивляться,
потому что они смеются, стаскивают с меня одежду и валят на землю,
бьют меня головой о твердую, промерзшую землю…
Над слегка запотевшими в воображении стеклянными банками, особенно над той, с маткой…
— И вот один из них, доктор,
потное лицо, а рот открыт,
я вижу, что его передние зубы до корней стерлись от табака,
и когда он наваливается на меня своим огромным телом, у меня что-то ломается в затылке и меня парализует,
к неописуемой радости остальных…
Над каждой книжечкой,
над всеми свидетельствами в рамах,
над всеми надежными, уютными, привычными предметами,
над…
Внезапно его блуждающий взгляд остановился на чем-то, находящемся в другом конце комнаты.
На чем-то белом, зацепившемся в промежутке между двумя томами трудов профессора Попокоффа,
как раз над креслом для чтения.
Да, там виднелось что-то белое, слегка мерцающее,
а в середине этого белого находилось живое, мохнатое, пульсирующее ядро,
примерно как ядро анализа,
из которого выходят миллионы тонких сверкающих нитей,
подобно нитям, сплетенным…
Дрейф сидел, застыв.
Этого не могло быть.
Этого не ДОЛЖНО быть!
Он далеко перевесился через письменный стол и чуть не опрокинул чернильницу.
На его белом высоком лбу выступили мелкие бисеринки пота.
Ему хотелось убедить самого себя, что это не то, что он подозревает,
что все это — просто жуткий обман зрения, вызванный голодом, жаждой, усталостью и перенапряжением, чем угодно,
но теперь, когда он совершенно ясно разглядел эту тварь и ее отвратительное творение из переплетенных нитей,
большое, как хваталка для кастрюль у госпожи Накурс,
его обуял глубокий ужас, с которым невозможно было совладать.
Ибо если даже в те времена, когда Дрейф был знатоком насекомых, он что-нибудь и ненавидел, презирал и избегал как чумы, — боясь наткнуться в высокой траве, в кустах, в ветвях деревьях, —
так это именно пауков!
Волосатые, тихие, безобразные, коварные мелкие твари, которые плетут свои обольстительные сети единственно с целью поймать и убить своих невинных маленьких жертв!
Женщина, до сих пор молчавшая, теперь попискивала плачущим голосом:
— Доктор, доктор, ради Бога, помогите мне,
он силой входит в меня, а остальные стоят и смотрят,
я разрываюсь изнутри!
Но Дрейф ничего не слышал,
ничего не замечал,
глаза его были устремлены только на нелепое существо, которое потихоньку,
так что он ни о чем и не догадывался,
сплело себе гнездо из блестящих шелковистых нитей на книжной полке,
в его приемной,
на Скоптофильской улице,
в городе Триль,
именно здесь!
Некоторое время он даже не смел шевельнуться.
Взгляд его был прикован к мерзкой твари, и до него совсем не доходил голос женщины, доносившийся словно из чащи зимнего леса,
где ее, тринадцатилетнюю, оскверняли пятеро пьяных мужчин,
голос, шепчущий:
— Я просто подчиняюсь,
лежу там,
в лесу, в то время, когда светят звезды,
а они все продолжают и со смехом сменяют друг друга.
Дрейф сглотнул.
Господи!
Тварь была большая, как перекормленный, волосатый краб!
Сеть ее даже на расстоянии казалась невероятно запутанной.
Очень осторожно, очень медленно, дрожа,
ни на одну секунду не отвлекаясь ни от сети, ни от ее создательницы,
Дрейф соскользнул со стула.
Он очень медленно
обошел письменный стол и диван, ступая мелкими аккуратными шажками, ведя правой рукой по полкам, будто слепой, а женщина в это время свернулась и, приняв эмбриональное положение, тоненько кричала:
— Мама, мама!
И чем ближе он подходил к паучихе, тем ничтожнее, бессильнее и глупее выглядел он в собственных глазах,
ибо он словно смотрел на самого себя наискосок сверху глазами паука,
и ужас перед размером сети, ее сложностью и запутанным, но совершенно логичным рисунком вызывал у него холодный пот.
Словно его каким-то невероятным образом провели,
поймали и опутали,
перехитрили, а он ничего и не понял!
Наконец он остановился как раз под паутиной.
Да, вот она, паучиха,
большая и очень мохнатая,
и все эти нити она, значит, вытянула из нутра своего собственного маленького тельца, а он и не слышал никакого треска, никакого чавканья, никакого прядения.
И вдруг, словно удар молнии, его поразило воспоминание.
Оно пришло словно со стороны…
Они с барышней Агнес сидят в парке у лебединого пруда и беседуют, и он как обычно видит только ее нежный физический образ,
губы ее шевелятся, не издавая ни звука, а в это время его взгляд скользит по ее шее, груди
и задерживается там на маленькой серебряной брошке в форме паучка,
а глаза у паучка сделаны из какого-то черного, твердого, блестящего камня,
они холодно с насмешкой глядят на него из выемки между грудями барышни Агнес
(которые ему никогда не доведется трогать или целовать)…
Совершенно так же, как глядели на него теперь глаза настоящей чудовищно большой паучихи!
— Вначале мне больно, а потом я ничего не чувствую,
я уговариваю себя, что ничего не чувствую,
что ничего не происходит,
что это просто кошмарный сон и я скоро проснусь в той комнате, где в то время живу, и скоро войдет моя мать с чашкой горячего шоколада…
Не померещилось ли ему?
Не потерял ли он рассудок?
Неужели и вправду, чудовище как раз в этот момент поманило его к себе одной из своих волосатых ножек?
Дрейф стоял, упершись взглядом в одну точку,
бесконечно маленький, седой и бессильный,
глубоко, глубоко на дне своей странно скошенной, пыльной приемной.
Он постоял еще несколько секунд, уставившись на паучиху, сидящую в центре сети из паутины над креслом, а потом начал осторожно пятиться к двери.
Он снова зашарил одной рукой по банкам и случайно задел банку с зародышем девочки…
Посудина покачнулась на краю полки и упала на пол,
крышка отскочила, старая-престарая банка раскололась на тысячу кусков, весь ковер залило вонючим, старым, желтым спиртом, а зародыш девочки подкатился к крохотным ножкам Дрейфа.
Тут из него наконец вырвался полузадушенный отчаянный крик:
— Накурс, Накурс!
Женщина на диване не шевельнулась.
В состоянии глубокого транса, в котором она пребывала, до нее не доходил никакой внешний шум.
Она еще более побледнела, за окном началась гроза,
а в кухне госпожа Накурс, услышав крик доктора, от ужаса уронила на пол фарфоровую тарелку.
Дрейф по-прежнему стоял, уставясь на чертову паучиху, которая неизвестно каким образом и бог знает сколько времени из своего угла над креслом для чтения наблюдала за всем, что разыгрывалось внизу
(вот именно, она видела, как он ковырял в носу, и все такое-прочее, о чем и говорить-то стыдно!).
Она годами втихомолку таращилась на него, когда он, ничего не подозревая, сидел и попивал яичный грог, и читал вслух из «Короля Лира»!
Секунду спустя дверь распахнулась и в комнату ворвалась госпожа Накурс
(даже недавно пришедшая пациентка, которая до того просто сидела и ждала в холле, поднялась, вытянулась и попыталась разглядеть, что же там такое происходит).
Комнату наполнял удушающий запах спирта и вонь от пожелтевшей плоти недоразвитого зародыша девочки.
Женщина на диване лежала неподвижно, широко распахнув глаза, и что-то тихо бормотала, совершенно не обращая внимания на то, что происходило вокруг нее.
— И вот их уже нет!
Госпожа Накурс вначале не поняла, что случилось, но потом, увидев разбитую старую банку и зародыш девочки, ринулась в кухню за совком и шваброй.
Пациентка в холле осторожно заглянула в комнату, но увидела только пару женских ног, а вслед за этим услышала, как женский голос бормочет:
— У меня, кажется, кровь идет,
да, там, внизу.
Услышать больше она не успела,
так как в ту же секунду прилетела госпожа Накурс, оттолкнула любопытную, вошла в приемную и закрыла за собой дверь.
Ей пришлось очень аккуратно отодвинуть в сторону доктора, чтобы добраться до зародыша и вымести его, вместе с осколками банки.
— Накурс, там…
Она совершенно не понимала, что он хочет сказать.
Голос у него был полузадушенный и тонкий как у маленького ребенка!
Но потом она все-таки увидела, что он уставился на книжную полку над креслом, где на ниточках между двумя книгами висел микроскопически маленький, очень хорошенький, отливающий серебром паучок.
— Вы хотите, чтобы я убрала его, господин,
вы паучка имеете в виду?
Дрейф сглотнул и молча кивнул.
— А теперь идет снег, —
прошептала женщина на диване, в то время, когда Накурс, к неописуемому ужасу и восхищению Дрейфа, просто-напросто встала на кресло и очень осторожно сняла и паучка и паутину, и положила все это в карман передника.
— В лесу так темно, и теперь идет снег.
Под действием этих слов в комнате, казалось, тоже воцарился покой.
Накурс спустилась с кресла.
В совке лежал зародыш девочки и осколки разбитой банки,
воздух в приемной почти дрожал от сильного до одури запаха спирта и тления,
на ковре у кресла расползлось огромное, черное, безобразное пятно, и даже небольшая книжечка, валявшаяся рядом на полу, была немного забрызгана.
— Вам действительно СЛЕДУЕТ подумать, о том, чтобы проветрить здесь, господин доктор, —
кисло заявила госпожа Накурс перед тем, как с зародышем девочки в совке и пауком в кармане исчезнуть из комнаты и прикрыть за собой дверь.
Жуткое напряжение медленно отпускало Дрейфа,
шок постепенно отпускал его.
На дрожащих ногах он дошел до письменного стола, в то время как пациентка слабым голосом подходила к концу рассказа:
— Светит луна,
она выглядит до странности большой,
почти раздутой,
но это, должно быть, просто потому, что я медленно умираю.
Вы когда-нибудь замерзали насмерть, доктор?
Если нет, то я скажу вам, что это необычайно странное переживание,
ни на что другое не похожее,
потому что сначала тебе холодно, словно лежишь на большом каменном дне, а потом делается жарко, и под конец ты словно медленно сгораешь,
только изнутри,
а снег все валит,
а лес такой темный,
или я говорю о бессмысленности и пустоте всей вселенной,
я не знаю
и не помню,
только мне больше не больно, потому что теперь я снова умру,
и в смерти сольюсь с почвой, с землей, снегом и светом горящих, маленьких, далеких звезд!
Дождь разносило сильным ветром, от которого почерневшее яблоко на ветке било в мокрое оконное стекло.
Дрейф сидел у письменного стола, подняв ручку со стальным пером, и все еще смотрел перед собой в пустоту.
Ужасное видение паучихи упрямо не исчезало у него из головы.
Он то и дело кидал быстрые испуганные взгляды в сторону книжной полки,
но там теперь болтались лишь отдельные белые нити.
— Перед тем как уйти, они запихали мне в рот большой камень.
Голос женщины звучал невнятно,
словно рот у нее был набит бумагой, или ватой, или землей.
Дрейф по-прежнему сидел, упершись взглядом в книжную полку, и поэтому не сумел скрыть свою рассеянность.
— Что?
— Мужчины, доктор!
Нет, ему нужно взять себя в руки,
стряхнуть с себя все это,
собраться,
ведь чудовище исчезло,
уничтожено,
убито,
стерто с лица земли
(как раз в этом Дрейф ошибался,
потому что в кухне госпожа Накурс бросила зародыш девочки в пламя печи, паучка же очень осторожно вынула из кармана и выпустила на полку в кладовке:
он ведь никому не мешал своей невинной паутиной,
и у нее рука не поднималась его убить).
— Мужчины, — повторил Дрейф,
и когда он произнес это слово, комната вновь, во всяком случае частично, обрела свою привычную, уютную, замкнутость.
— Да-да…
Женщина вышла из своего оцепенения и задумчиво водила пальцами по губам.
— И хотя это было так давно и на самом деле случилось не со мной лично,
вы понимаете меня, доктор,
но мне все же кажется, что во рту у меня камень,
здесь и теперь!
Дрейф сделал глубокий вдох, чтобы совершенно очистить голову, и записал слово «камень».
Однако рука его так дрожала, что ему пришлось переписать слово по крайней мере раза три, чтобы его хоть как-то можно было разобрать.
— Я чувствую его, доктор,
да, сейчас, именно в эту секунду!
Она широко открыла рот,
будто пытаясь показать, какой именно величины был камень.
— Я словно не могу как следует говорить, доктор,
словно не могу как следует высказаться, потому что какая-то часть меня все еще лежит замерзшая, поруганная и умирающая в густом лесу с камнем, засунутым в рот!
Дрейф записывал.
Однако он, казалось, не слышал ее толком.
У него никак не получалось перестать время от времени посматривать на книжную полку, к тому же, ужасное, потаенное чувство ужаса из-за того, что некий посторонний элемент вторгся в его когда-то такую надежную комнату, все не проходило.
— Я не могу сказать, что в самом деле чувствую и хочу, доктор,
страх и холод мешают мне говорить,
кричать я по-прежнему не могу,
потому что крик, точно так же как и голод, — я не могу допустить, чтобы он вырвался,
и если я когда-нибудь поддамся ему, то я не знаю, что тогда случится,
может быть, обрушатся дома, а ничтожные самовлюбленные мужчины вроде вас испарятся!
Дрейф механически все записывал, дрожь в руках постепенно утихала.
С каждым словом он чувствовал себя немного спокойнее.
— Иногда я, словно от толчка, просыпаюсь среди ночи от того, что что-то засело у меня глубоко в горле и воздух в него не попадает,
тогда я вдруг понимаю, что заткнута камнем,
то есть понимаю не обычным, осознанным, разумным образом,
а совершенно отчетливо чувствую камень,
грубый такой, серый, покрытый землей, он сидит в горле,
и мне приходится встать и выпить по крайней мере три стакана воды, чтобы меня отпустило это призрачное чувство,
и только много позднее, когда я, успокоившись, снова лежу в постели, я вспоминаю, что в действительности это случилось не со мной,
здесь и теперь,
а с другой,
в другое время!
— И каковы же ваши теперешние чувства по отношению к этому инциденту?
Дрейф внезапно страшно перепугался, услышав в собственном голосе интонации немощной старухи…
Но женщина была по обыкновению так занята своими внутренними видениями, что это не отвлекло ее.
— Они…
Она замолчала, колеблясь,
очевидно стремясь подобрать точные слова, чтобы все было понятно:
— Я же очень хорошо знаю, что мужчины в своей основе не злые, доктор,
даже вы, доктор, не злой мужчина,
и хотя сердце у вас маленькое и черствое, и немое как бородавка, оттого, что барышня Агнес однажды посмеялась над вами…
Дрейф застыл и никак не мог понять, от кого женщина могла узнать об этом унизительном случае,
однако после истории с пауком его уже почти ничего не могло взволновать, и он пропустил эту реплику без комментариев.
— Да, в глубине души вы — просто маленький испуганный мальчик, который ужасно холодной зимней ночью идет по бесконечной лесной дороге к домику старушки, держа в руках корзину с провизией,
да будет доктору известно, что я знаю множество добрых, нежных, замечательных мужчин, которых я и уважаю и люблю:
мой брат,
мой дорогой отец,
тот похожий на божество благородный дикарь с горбатым носом и иссиня-черными волосами и раскосыми глазами, который стоит в монастырском саду с пряностями и улыбается мне, одетой в монашеское одеяние,
но каковы они на самом деле, в самой глубине души!
Она замолчала, но потом с нетерпением продолжала,
пытаясь выразиться как можно точнее:
— Я хочу сказать, доктор, чего они от меня хотят?
Разрозненные воспоминания о барышне Агнес и старухе в хижине временами всплывали в памяти Дрейфа, который рассеянно записывал далее:
— Иногда, когда я вдруг вижу кого-либо из них,
или когда я сижу и пью чай и беседую с каким-либо мужчиной,
с милым, очень воспитанным и любезным мужчиной,
бывает, что воспоминания о том, что случилось в лесу, захлестывают меня так внезапно и грубо, что я вдруг воображаю себе, будто…
Она опять замолчала и начала снова.
— Я знаю, что это глупо,
совершенно нелепо,
только от меня не зависит то,
что страх и подозрительность ни на минуту не отпускают меня,
это сидит во мне так глубоко и нанесло такую непоправимую травму и мне и всей моей женской сути, доктор!
Дрейф почувствовал, как к нему вернулся покой.
Ноги, затылок и руки наполнились теплом.
Его властный, уверенный, безжалостный голос аналитика обрел остроту лезвия:
— А нет ли у вас каких-либо чисто физических недомоганий?
Да, сейчас он несомненно попал в самую точку!
— Я всегда сильно мерзну, доктор,
но это, должно быть, просто последствия той ночи в лесу, когда я умерла от холода и падал снег,
да, некоторые части тела я так и не смогла по-настоящему почувствовать за всю свою жизнь,
они с того самого дня остались замерзшими, онемевшими,
вы должны знать, о чем я говорю, доктор!
Последняя фраза сопровождалась легким румянцем, разлившимся по щекам женщины.
— Гм, да, весьма прискорбно, весьма прискорбно, милая барышня.
Дрейф вздохнул, в последний раз искоса посмотрел на остатки крошечных белых нитей над креслом…
Господи, да что же это с ним такое!
Сейчас он, пожалуй, был готов посмеяться надо всем этим!
Он вел себя просто-напросто как глупая истеричка,
и все это из-за маленького невинного паучка, из-за животного
(только как он теперь когда-нибудь сможет быть по-настоящему уверен в том, что в другом темном углу комнаты не сидят другие паучихи и точно так же не прядут свои сети, и как раз в это мгновение потихоньку не наблюдают за ним из своих неизвестных ему, потайных уголков?).
— А теперь мой муж, доктор!
Внезапный возглас женщины прервал его размышления.
— Подождите, подождите, барышня,
вы, значит, уже приняли новый облик,
и значит, мы находимся в другом времени?
Голос женщины звучал очень мрачно, когда она неторопливым кивком подтвердила его предположение:
— Да, в другом времени, да,
я точно не знаю, когда,
может быть, ближе к сегодняшнему дню,
только, да,
в другом времени.
— Ваш муж, говорите, а что в нем такого, отчего вы так подавлены?
Женщина лежала, наморщив лоб, и действительно выглядела очень озабоченной, и смотрела в потолок,
взгляд ее тревожно метался из стороны в сторону, и наконец она в отчаянии вскричала:
— Он хочет заточить меня, доктор,
убрать,
всего меня лишить,
заставить уйти от мира!
И дай бог ему удачи, подумал Дрейф в глубине души.
Он провел рукой по лицу,
потому что от запаха рассыпавшегося многовекового зародыша девочки и спирта, впитавшегося в ковер возле кресла, у него, откровенно говоря, начало покалывать в носу.
В животе у него бродило от тошноты,
однако вдруг это просто неприятный эффект,
последствия шока?
— А почему он этого хочет, барышня?
Вот, теперь, когда он со свежими силами,
вооруженный огромной ручкой со стальным пером и острым как лезвие интеллектом,
отправился прямо в дебри анализа,
нисколько не думая о собственной безопасности,
он почувствовал, что страх тоже остался позади и что он с каждым словом приближается к своему привычному, властному «я» аналитика!
Рука у него теперь лишь слегка подрагивала, а чувство, что за ним наблюдают,
что комнату наполняет некое присутствие, несмотря на то, что паучиху удалили,
накатывало на него все реже.
— Он утверждает, что я сумасшедшая, что я — ведьма,
идиотка, у которой недостает разума,
что мне нельзя верить,
он обвиняет меня в том, что я истеричка, распущенная,
плохая мать, да, я не знаю, в чем еще, доктор,
дело в том, что в его личности есть некоторые черты паранойи, в которой он не сознается и которой не желает замечать!
Последнюю фразу Дрейф не потрудился записать.
Она не представляла интереса и к тому же, скорее всего, была просто коварной проекцией психического состояния самой женщины.
Вместо этого он спросил,
не поднимая глаз:
— А вы правда?
— Что?
Женщина, захваченная своими внутренними видениями, уже успела уйти далеко вперед, и теперь ей пришлось остановить этот бурный поток, на время сдержаться и медленно вернуться назад,
к тому пункту, где находился Дрейф,
и это заняло некоторое время.
Дрейф же не мог ждать и завопил в нетерпении:
— Сумасшедшая, барышня, сумасшедшая!
Это, конечно, был,
во всяком случае для самого Дрейфа,
чисто риторический вопрос.
— Нет, совершенно нет,
я просто говорю то, что думаю, доктор!
И она в истерике повторила эти слова по крайней мере раз пять, прежде чем Дрейф прервал ее:
— Да, да, да, барышня,
а где именно он хочет вас заточить?
Голос женщины теперь постоянно менялся,
она все время говорила с разной интонацией, силой звука и убежденностью,
отчего голос ее иногда делался слабым и напряженным, словно угасающее пламя свечи в темной, пустой комнате, а потом в нем тут же
звучала паника, он становился пронзительным и резал слух.
— Здесь!
Дрейф глубоко наморщил лоб, огляделся…
— Где?
Он снова окинул взглядом обстановку в комнате,
словно где-то среди мебели мог найти ответ на свой вопрос.
— В аду!
Женщина ритмично сжимала и разжимала кулаки и очень плотно сжимала челюсти.
Дрейф почти пожалел о том, что у него нет ампулы с морфием, чтобы успокоить ее.
Он быстро заглянул в свои записи и на какой-то момент утратил нить,
ведь анализ, как ни говори, пронес их сквозь много веков и бесконечное число судеб…
— Ад… Вы имеете в виду такие костры в подземной норе, где волосатый человечек с рогами запихивает грешников в огонь, не правда ли?
— Нет… это скорее невероятно большое, старое-престарое сырое здание, по грязным залам и коридорам которого бродят сотни тысяч, а может, и миллионы так называемых сумасшедших женщин, и в отчаянии кусают руки и рвут на себе волосы, именно миллионы женщин всех возрастов и всех времен, которые были заперты здесь своими мужьями,
в точности так же, как и я!
Это здание, небось, легко заполнить, —
такова была первая мысль Дрейфа, когда он записывал сказанное женщиной в журнал.
А еще оно должно быть как следует заперто, — подумал он,
и элегантно закончил фразу, медленно просверлив точку в толстой желтой бумаге.
Только чернила как всегда подвели.
Точка все росла и наконец поглотила не одно, а даже несколько слов в предложении.
— Ваш муж,
если мы на короткое время вернемся к нему,
не могли бы вы описать его немного подробнее?
Он говорил чуть рассеянно, потому что, перевернув страницу, увидел, что проклятое красное пятно просочилось и на другую сторону.
Он сидел и злился на пятно, когда полный ненависти возглас женщины резко вырвал его из этого состояния:
— Идиот, чертов негодяй,
мерзкая скотина, вот кто он такой!
Дрейф вздрогнул так сильно, что выронил ручку.
— А что мне делать, доктор,
я в совершенной зависимости от него,
у меня нет ни своих денег, ни семьи, мои все умерли,
и мать моя, и папочка, и братик, такой хорошенький,
у меня ничего нет здесь, в мире людей,
здесь мужские города, построенные из камня, с прямыми, огромными улицами, и мужчины, крушащие все на своем пути,
и даже там, где мы живем, только слово моего мужа и его закон имеют силу, доктор,
он думает, что точно знает, о чем я думаю и кто я есть,
думает, что знает, чего я хочу и какая у меня душа,
тебе просто кажется, отвечает он, если я выражаю какое-то личное мнение,
женщина должна молчать, кричит он и сильно бьет меня по губам, так что они трескаются и капает кровь,
а если тебя бьют,
если ты часто слышишь, что ты ничего не понимаешь, что ты шлюха, старая карга и стоишь меньше осла, которому пора на бойню,
тогда в конце концов ты становишься очень молчаливой, доктор.
Дрейф записывал и поневоле чувствовал в глубине души глубокое сострадание к этому совершенно незнакомому ему мужчине.
Женщина зажмурилась, сделала очень глубокий вдох, задержала дыхание и подтянула ноги к груди.
— Ах, я ненавижу его, доктор,
я могла бы его убить,
да, убить, пырнуть ножом,
распороть ему грудь, вырвать бородавку, которая у него вместо сердца, и кинуть на съедение псам,
что угодно могла бы сделать,
лишь бы от него избавиться!
Она вдруг раскрыла глаза и указала прямо на дверь:
— Да, смотрите, вот он там!
И голос ее стал холоднее, язвительнее, когда она медленно опустила руку.
— Стоит и ухмыляется мне, и говорит, да, да, да…
То есть то, что бормотал и сам Дрейф, когда записывал.
— А затем?
Он поднял глаза.
Женщина сидела, глядя на дверь.
— Я кричу, кричу, доктор,
кричу громко, изо всех сил, когда вижу, что он позвал санитаров в белом, которые уже входят, чтобы надеть на меня смирительную рубашку,
но крик не помогает,
от него становится еще хуже,
и вот я здесь!
Она бессильным жестом вытянула руки, а затем сложила их и прижала эти дрожащие руки к груди,
словно в молитве.
Теперь она еще и морщила нос и с видимым отвращением принюхивалась к чему-то.
— Здесь воняет, доктор,
потому что людей здесь содержат в стойлах, среди собственных испражнений,
или они бродят как привидения по залам и нескончаемым коридорам,
и все эти залы, такие большие и пустынные, как столетия и десятилетия, доктор,
да, я живу здесь как животное,
а одета я в белый балахон,
только он уже грязный, и здесь ужасно холодно!
Она умолкла, но почти сразу же заговорила снова:
— Иногда я стою у какого-то окна с решеткой и с тоской смотрю на
свободный мир, и тогда я вижу деревья в цвету, и ручей, и маленьких-премаленьких мужчин, прогуливающихся как им заблагорассудится в мире, принадлежащем им, на них высокие шляпы и черные сюртуки.
Сюртуки, — подумал Дрейф и вдруг вспомнил с сердцем, полным тоски, что это была любимая одежда профессора Попокоффа,
ибо у великого человека был полный гардероб сюртуков разных цветов и из разной материи.
Женщина снова заговорила,
замерзшая, оглушенная,
из глубины своего безнадежного больничного заточения:
— Сначала он приходит меня навестить примерно раз в пять лет, и тогда
меня отводят в комнату, где он стоит у окна и щурится, уставясь на меня своими водянисто-голубыми глазами подлеца,
а я бросаюсь к его ногам и прошу забрать меня домой,
обещаю вечное, слепое послушание, если он только захочет забрать меня оттуда,
но он не произносит ни слова,
наслаждаясь видом моих страданий, и с довольным лицом косится на меня, когда я в грязном балахоне стою на четвереньках у его ног,
униженная, уничтоженная,
а потом мне надоедает ползать, я встаю и плюю ему в лицо и бью по морде!
Дрейф дернулся, словно его тоже ударили по голове, когда женщина с презрением выплюнула последнюю фразу.
Она вздрогнула, а потом медленно выпустила весь воздух, собравшийся в легких, и после этого стала спокойнее, и смогла более точно описать, что она переживает и видит:
— Да, а теперь он не был здесь уже целую вечность, и я перестала надеяться,
перестала стоять перед окном, глядя на свободный мир,
идут года и сейчас, я, наверное, совсем старуха,
зубы у меня выпали,
я чаще всего стою в углу и бью себя по голове, чтобы убить время и успокоиться.
Женщина вдруг стала с подозрением осматриваться вокруг.
Ее невидящий взгляд скользнул по Дрейфу, книгам, банкам и торшеру.
— Нужно все время быть начеку с остальными безумными старухами,
которые напрыгивают на тебя сзади и кусают в затылок, когда ты меньше всего этого ждешь,
ай!
Дрейф испуганно поднял глаза от журнала и увидел, что женщина сидит и вертится, словно что-то пытается вырваться из нее наружу.
Перед его изумленным взором она даже начала извиваться.
Неужели она и правда боролась с невидимым, очень жестоким, да, совершенно безжалостным противником!
Она все время рычала, плевалась и шипела:
— Чертова баба, мерзавка,
шлю… шлюха ты этакая!
И тут она вдруг бросилась вперед, сделала отчаянный выпад и как безумная завопила,
брызжа слюной:
— Я тебя убью,
на куски тебя разорву,
чертова карга!
Такое внезапное физическое извержение глубоко шокировало Дрейфа.
Теперь изо рта женщины капала белая пена.
Может быть, ему следовало раньше заметить, как ее безумие неумолимо росло в процессе анализа,
но теперь было уже поздно, и все, что он смог сделать, это беспомощно прокричать из-за стола:
— Успокойтесь, барышня, успокойтесь!
Но женщина, разумеется, не слышала ни слова,
ведь она находилась в огромном больничном каменном здании, и стены в нем были очень толстые,
сквозь них не проходил слабый аналитический голосок Дрейфа.
Она продолжала шипеть, извиваться и рычать:
— Шлюха этакая, я…
Дрейф больше не мог сидеть и просто смотреть.
Потому что женщина почти свалилась с дивана и, чем дольше это продолжалось, становилась все более возбужденной.
Он выпустил ручку и тотчас же почувствовал себя до странности беззащитным и ослабевшим, и подумал, не взяться ли ему снова за перо, словно оно было оружием, но поборол это желание и соскользнул со стула.
Он подбежал к женщине, наклонился и закричал прямо в искаженное злобой лицо:
— Барышня, ради бога, возьмите себя в руки!
А когда даже это не помогло,
так как женщина не желала отпускать своего невидимого противника,
Дрейф просто-напросто обхватил ее за плечи.
Для этого ему, конечно же, пришлось встать на цыпочки, и какое-то время его качало взад и вперед как маленькую рукавичку.
Ему стоило огромных усилий удержать ее за плечи и не отпустить,
однако припадок в конце концов утих.
Женщина опала, словно из нее вышел воздух.
Дрейф отпустил ее, и какое-то время их окружала глубокая, но взрывоопасная тишина.
Через пару секунд женщина все же пришла в себя.
Она подняла голову, повернулась и стала рассматривать Дрейфа довольно пустым и заспанным взглядом, а потом внезапно просияла.
Ах, наконец произошел перелом, с облегчением подумал Дрейф.
Но он тут же увидел, что в ее взгляде все же было что-то болезненное,
что она не пришла в себя по-настоящему,
да, она крайне неприятным образом глубоко сверлила его взглядом.
Словно его живьем нанизали на огромную, толстую, острейшую иглу.
— Ой, да это ты,
наконец-то, где же ты был,
я думала, что ты никогда не вернешься!
Дрейф растерянно огляделся.
Ведь не к нему же она обращалась.
Теперь он вообще не понимал, что тут происходит!
Он совершенно потерял контроль над ситуацией:
анализ, страх, сама женщина, все!
Он сделал большой шаг в сторону, но это привело лишь к тому, что женщина поднялась с дивана и подошла к нему…
В панике,
в бессильной попытке защититься от приближения объекта анализа, он пропищал:
— Вы ошибаетесь, барышня,
я не знаю, о чем вы говорите,
я совершенно ни в чем не виноват,
я вовсе не тот, за кого вы меня принимаете!
Но женщина продолжала рассматривать его.
Ее болезненно лихорадочный взгляд проникал все глубже в его существо, и он вынужден был все далее отодвигаться от мучительно расширенных черных глаз.
Теперь они были такими огромными, искаженными,
они словно смотрели на него через увеличительное стекло!
Под конец он стоял, прижавшись спиной к книжной полке, не имея возможности убежать от женщины, которая
всем своим огромным женским силуэтом возвышалась посредине комнаты.
(Она больше не шаталась,
а совершенно прочно стояла на обеих ногах,
несмотря на странный наклон стен!)
Ее огромная тень падала на парализованного страхом Дрейфа, совершенно закрывая его,
она умоляюще простерла к нему руки, а в следующее мгновение уже лежала, почти распростершись у его ног, и бормотала:
— Возьми меня, возьми меня с собой,
ты должен, я не могу больше здесь жить,
я клянусь честью и совестью, что никогда больше не буду тебе возражать или делать по-своему, только выпусти меня,
я обещаю, что не буду упрямиться и искать грот, где спрятаны листья сивиллы, а греческие глаголы женского рода обойдутся без меня!
Она, всхлипывая, уцепилась за его ногу, и Дрейфу казалось, что его медленно поглощают,
съедают живьем,
что его засасывает под жернова огромной, грохочущей мельницы.
— Ради бога, барышня, придите в себя!
Но женщина по-прежнему оставалась недосягаемой для любой мольбы…
Она жалобно стонала, плакала, всхлипывала,
но в то же время ее хватка становилась все более жесткой, и она медленно, ползком поднималась на колени.
— Ты должен, ты должен,
здесь ад кромешный,
посмотри на меня, на что я похожа,
о, я хочу видеть мир, жить, чувствовать, как ветер играет у меня в волосах,
любить кого-то другого, кроме тебе, мерзавец ты этакий,
я не могу здесь жить!
И вот она уже стояла перед ним на коленях.
Ее большие, костлявые белые руки незаметно добрались до горла Дрейфа и сомкнулись вокруг него.
Он отчаянно пытался вырваться, но внезапно обнаружил, что слишком мал, стар и немощен,
а в теле пациентки скопились столетия гнева миллионов женщин,
она жмурилась и строила гримасы, ее удушающая хватка крепчала с каждым отчаянным выкриком:
— Ты должен! Ты должен! Ты не имеешь права!
Ты ничего не знаешь, я тебя убью,
я тебя…
В глазах Дрейфа стало медленно темнеть.
В ушах странным образом шумела кровь, прилившая к голове,
глаза его, казалось, готовы были вылезти из орбит, он пытался позвать на помощь, но изо рта вырывался лишь слабый стон,
он был убежден, что ему пришел конец,
перед ним прошла вся его жизнь,
сцены и события,
Попокофф, барышня Агнес, старуха в домике,
и только тогда, когда в его легких уже не оставалось воздуха, он
почти нечеловеческим усилием
сумел освободиться и дать женщине пощечину.
Внезапно наступила тишина, словно в воздушном шаре появилась дырка.
Он не понимал, как это случилось,
откуда взялись силы,
но женщина тут же выпустила его, резко оборвала свою речь и открыла глаза.
Дрейф все еще не мог заставить себя сдвинуться с места и с ужасом смотрел на нее, пытаясь понять, вернулась ли она в настоящее.
Она по-прежнему стояла перед ним на коленях, и некоторое время они смотрели друг другу прямо в глаза.
Взгляд женщины был теперь твердым и темным, немного пустым,
а во взгляде Дрейфа читались ужас и отчаяние.
Потом женщина вдруг снова стала собой.
Она заморгала, осмотрелась и спросила с искренним удивлением:
— Где я
и что с вами, доктор,
у вас такой странный вид,
и почему мы здесь стоим?
Дрейф, держась за горло, прошипел:
— Не трогайте меня!
Он стал медленно, на ощупь продвигаться к письменному столу.
Спиной он все время прижимался к книжным полкам, упершись взглядом в стоящую на коленях женщину.
С равными промежутками, чтобы держать ее на расстоянии, он кричал:
— Не трогайте меня, только не трогайте меня!
Женщина вопросительно смотрела на него, послушно стоя на коленях.
Только когда Дрейф оказался в безопасности за письменным столом, он приказал ей снова лечь на диван.
Женщина встала и внезапно показалась ему непомерно огромной,
великаншей, необозримой, какой-то нелепой громадой!
Она с некоторым состраданием смотрела вниз, в сторону Дрейфа, растрепанная голова которого высовывалась теперь из-за спинки стула.
— Извините меня, доктор, я не знаю, что на меня нашло,
у меня просто в глазах потемнело и я…
Она сделала шаг к письменному столу, вытянув руки, словно хотела прижать его к себе в мирном объятии,
отчего Дрейф еще громче завопил:
— Стойте!
И она остановилась, уселась наконец на диван и снова вытянулась на нем.
Дрейф долго стоял, застыв у стула возле письменного стола.
У него болела шея.
В глазах все еще покалывало, а ноги едва держали его,
он снова чувствовал, как у него медленно расширяется глотка.
Только через весьма порядочное время ему удалось заставить себя вновь вползти на стул.
Он поправил очки, съехавшие в сторону,
но руки у него дрожали, он очень нервничал, был явно потрясен,
ему крайне тяжело было собраться с силами,
сердце стучало как молот в такт черному плоду на дереве, который колотил в окно,
а там, на диване, женщина лежала совершенно спокойно,
точно совсем ничего не произошло.
Теперь Дрейфу было совершенно ясно, что этот анализ нужно поскорее закончить.
Он дрожал как осиновый лист,
вначале даже ручку не мог удержать,
и при малейшем постороннем звуке,
например, когда ветви дерева царапали в окно, пациентка в холле откашливалась, а госпожа Накурс роняла в кухне какой-нибудь небольшой предмет,
он подпрыгивал, подергивался и дрожал.
Пациентка же терпеливо лежала на диване.
Она как обычно смотрела прямо в потолок и с равными интервалами очень медленно закрывала и открывала глаза.
Дрожащей рукой Дрейф открыл один из ящиков письменного стола и выудил оттуда,
все еще дрожа,
маленькие золотые часики
(которые он получил от самого профессора Попокоффа в день последнего экзамена).
Без десяти шесть…
Он с облегчением прижал часы к груди.
Да, а потом его ждет следующая пациентка, еще один анализ,
и бифштекс все еще стоит в духовке у госпожи Накурс, отчего во рту у него появился противный привкус пламени и золы!
Он опять недоверчиво покосился на женщину на диване.
Больше всего ему хотелось прервать все это, вытолкать ее из комнаты, отослать ожидавшую пациентку домой, запереть дверь на два замка, поднять с полу своего любимого «Короля Лира» и посвятить остаток вечера и ночь чтению некоторых самых любимых сцен,
однако, во-первых, такое поведение скорее всего было бы вредно для пациентки,
оно плохо сочеталось с той техникой анализа, горячим поборником которой был Попокофф,
а во-вторых, было задето его мужское самолюбие
(к тому же необоримое желание любой ценой закончить начатое несомненно было одной из отличительных черт Дрейфа).
Поэтому он поборол свой страх, положил часы в ящик письменного стола и снова задвинул его.
Он сделал глубокий вдох, собрался с силами и опять взялся за ручку.
В пальцах у него не было сил,
ладонь была влажной от холодного пота,
рука все еще дрожала так сильно, что почерк был неразборчивым,
однако не таков был Дрейф, чтобы отступить перед болезненными фантазиями и припадками у истеричной бабы,
нет, он был вышколен жесткой школой Попокоффа,
сейчас она увидит, что такое анализ!
Он сжал зубы, мрачно посмотрел на обнажившуюся щиколотку женщины и прорычал, как маленький мопс:
— Забудем об этом и двинемся дальше!
Женщина не ответила, из чего он заключил, что она согласна.
И поскольку она ничего не возразила, он еще больше успокоился и уверился в себе.
— А то нам и дня будет мало,
и следующая пациентка ждет!
Да, хотя сам-то он об этом сейчас даже думать не мог.
Но приятно снова получить возможность кричать,
пронзительным, безжалостным голосом отдавать приказы:
— Значит, дальше,
на чем мы остановились?!
— На глинистом поле.
Дрейф записал эту фразу громадными, угловатыми буквами, отчего она заняла почти полстраницы,
а рука его вообще не слушалась,
и чтобы она перестала дрожать, ему пришлось придержать ее левой рукой.
— Вы уже стали кем-то другим?
Ему показалось, что он услышал некую неодобрительную нотку в ее голосе, когда она через секунду ответила:
— Да.
И рука его сейчас же стала более твердой.
Каждое слово писалось мельче и разборчивее
(назло капризам и ухищрениям красных чернил).
— И что же вы делаете на этом глинистом поле?
Женщина, казалось, сначала не хотела рассказывать,
отчего Дрейф взорвался от нетерпения и раздражения:
— Ну же, ну же, барышня, поторопитесь!
— Я рожаю ребенка, доктор.
Ну наконец-то разумное зерно среди этой дремучей жути, россказней о подавляемой личности женщин!
От этого Дрейф почувствовал, что почти совсем поправился.
Он несколько уныло улыбнулся, неторопливо покачал головой и сказал,
как бы про себя,
но тем не менее, обращаясь к женщине:
— Материнство,
самое большое и единственное счастье для истинной женщины,
не правда ли?
Однако его возрастающая уверенность была основательно подорвана кислым тоном женщины, которая мгновенно выплюнула в ответ:
— Нет, если ты этого не хочешь,
нет, если ты лежишь на глинистом поле и… рожаешь!
Дрейф решил никак не проявлять своего облегчения, пока все не пройдет, не закончится,
пока он снова не будет в безопасности,
не выберется из адской дремучей чащи психоанализа.
А этих так называемых женщин, которые говорят, что презирают материнство, и отказываются признать его величайшую святость и очищающее действие на женскую психику,
он просто не выносит!
Их следовало бы вовсе уничтожить,
они шли вразрез со всякой логикой,
именно поэтому он теперь очень резко закричал,
чтобы пробудить пациентку от истерической и не идущей к ней неженственности.
— Ради всего святого,
вы совсем бесчеловечны,
должны же вы испытывать хоть какое-то счастье при виде этого безобидного дитяти, которое вы все-таки произвели!
— Нет, доктор, я его ненавижу,
я на него даже смотреть не могу.
Она произнесла это совершенно холодным и уверенным тоном,
и в голосе ее не было ни капли истерии.
— Я не хочу его в руки брать,
я даже смотреть на него не могу,
воспоминание о том, как в тринадцатилетнем возрасте я была поругана пятью мужчинами в зимнем лесу, захлестывает меня, и я не могу не задать себе вопроса, не является ли это дитя прогнившим плодом того инцидента.
Безуспешны оказались все попытки Дрейфа убедить ее в том, что поругание случилось совсем в другом мире и в другое время,
что она даже умерла потом,
и поэтому случай тот никак не мог повлиять на ее теперешнюю судьбу и на ее чувства к малому дитяти.
Женщина была непоколебима:
— Я ненавижу его,
даже смотреть на него не хочу,
а здесь, в деревушке, где я живу, все глядят мне вслед,
я навеки клейменная, доктор,
как только я поворачиваюсь спиной или прохожу мимо, — начинаются пересуды,
отчего я в свою очередь вспоминаю более темный мир и те времена,
когда меня, старуху, бросили в пруд с навозом охотники за ведьмами, а потом заживо сожгли на костре!
Дрейф обреченно вздохнул, даже не пытаясь вывести ее из этого заблуждения.
Очевидно было, что она больна гораздо более, чем он думал вначале.
Пожизненная госпитализация, возможно, и не нужна,
однако следовало прибегнуть к сильным медикаментам, чтобы она на всю жизнь стала послушной и не выказывала подобных симптомов.
И тут случился еще один припадок.
Она извивалась от отчаяния и волнения.
— Я ненавижу этого ребенка, я ненавижу его, доктор,
почему мне вечно суждено рожать каких-то незаконных детей на вечно глинистых полях, а потом заживо сгорать на костре,
сидеть в сумасшедших домах и подвергаться поруганию в густых зимних лесах, почему по причине моего пола меня нужно до смерти анализировать,
извлекать мои органы, хранить их заспиртованными в стеклянных банках в затхлых комнатах с наклонными стенами,
что я сделала, чтобы со мной так обращались, доктор,
почему, почему, почему?
Дрейф с презрением фыркнул:
— Об этом, милая барышня,
вам следовало подумать прежде, чем вы надкусили плод в Раю…
Он невольно поддался искушению и сказал эту фразу более чем едким тоном,
но она все равно его не слышала,
ибо он к этому времени понял,
что эта женщина была,
как и большинство ее сестер по несчастью,
совершенно невосприимчива к любой форме анализа.
— Все ненавидят меня, доктор,
меня презирают,
этот ребенок,
плод насилия в лесу, а может быть, отвратное потомство моего такого же отвратного, злого и жестокого мужа,
он, словно жернов, висит у меня на шее,
жизнь кончена,
ничего не осталось,
я испытываю такой стыд,
я полна презрения и отвращения к самой себе и наконец я больше не выдерживаю!
Тут в дверь осторожно постучали.
А Дрейф все писал и писал, и даже не взглянул на госпожу Накурс, когда та просунула голову и испуганно посмотрела на диван, где лежала пациентка и бормотала,
глядя на потолок:
— Я набиваю полные карманы камней,
иду к реке,
на всякий случай даже кладу камень себе в рот,
забиваю землей ноздри и уши,
останавливаюсь на мосту и прыгаю с него!
Она умолкла, а госпожа Накурс воспользовалась случаем и быстро прошептала Дрейфу:
— Барышня Тимбал ожидает, доктор.
Дрейф кивнул,
по-прежнему не поднимая головы,
женщина смотрела в пустоту перед собой, и как раз перед тем, как прикрыть за собой дверь, госпожа Накурс уловила ее шепот:
— Так странно тонуть, доктор,
тяжесть и холод воды окружают меня,
во рту у меня камень, заглушающий любой возглас, а камни в карманах быстро тянут меня ко дну,
свет медленно исчезает,
я лежу на дне,
вокруг меня гниющие кожаные башмаки, пустые банки, колесо от велосипеда, а далеко в высоте я, кажется, вижу лапки и живот какой-то уточки, которая, ни о чем не подозревая, проплывает надо мной.
А потом все чернеет.
Наконец-то, наконец-то Дрейф почувствовал, что этот чуть не стоивший ему жизни анализ приближается к концу.
Тот самый анализ, который постоянно уводит его от главного,
направляет его взгляд на паука в углу,
пробуждает в нем самом воспоминания о былом.
Он даст ей три, ну, скажем, четыре, пять минут на то, чтобы изложить остальное, и не минутой больше,
а потом безжалостно закончит!
Он быстро пролистал журнал назад, чтобы просмотреть записи, и разумеется, лишь убедился в том, что все записано почерком, размер и четкость которого поразительно менялись.
Ему прямо глаза резануло, когда он увидел орфографические ошибки, кляксы и странные слова, он даже не мог припомнить, чтобы он их записывал.
Ох, ведь все в начале было так чисто и аккуратно: имя женщины записано черным, и дальше шло все так же аккуратно черными чернилами,
весь рассказ про Рай, поедание плода, уничижение и пребывание в монастыре.
А потом вдруг,
во времена сожжений на костре,
его обычно такой красивый почерк стал неразборчивым из-за красных чернил!
Буквы клонились как попало,
некоторые сливались одна с другой,
а некоторые и вообще невозможно было прочесть,
и когда он увидел эти нелепые буквы, у него возникло нехорошее чувство, будто какая-то посторонняя сила пытается проникнуть в него во время анализа, заполонить его психику, возобладать над его рукой и заставить его записывать совсем другое, чем то, чему он научился в Нендинге,
у великого Попокоффа.
Но скоро этому придет конец!
На часах было без пяти шесть.
Ветер утих, и Дрейф нетерпеливо подогнал свою пациентку словами:
— Так-так, барышня, а что еще вы могли бы добавить относительно
глинистого поля и прочего, перед тем, как мы закончим?
Женщина лежала на спине, совершенно неподвижно, а руки, которые еще не так давно чуть не лишили Дрейфа жизни, были невинно сложены на ее груди.
— Сейчас я живу как шлюха, доктор.
Дрейф снова принялся лихорадочно записывать
(а ожидающая в приемной пациентка глубоко вздохнула от скуки).
— Ага, и где же, барышня, где?
Женщина склонила голову набок и сощурилась.
Она старалась изо всех сил и наконец смогла ясно различить множество мелких деталей:
— В какой-то трущобе, доктор,
потому что здесь воняет мочой, сыростью, плесенью, болезнью, испражнениями, старым пивом и гнилыми овощами,
непроницаемый туман висит в узком закоулке, где я снимаю маленькую грязную комнатушку
и в ней принимаю клиентов, которые за ничтожную сумму могут делать с моим телом что хотят,
а сама я целыми днями пью джин!
Она громко и фальшиво прогорланила несколько строф из непристойной моряцкой песни, беспорядочно шаря руками вокруг себя, словно ища опору, почти упала на пол, а потом снова стала совсем нормальной и продолжила
совершенно здравым голосом:
— Клиенты у меня разного типа и склонностей, доктор, одни из них добрые, другие — жестокие,
есть один, который привык избивать меня вкровь,
он колотит меня головой о стену до тех пор, пока голова почти не раскалывается,
но я выносливая, доктор,
меня много столетий били смертным боем самыми разными способами, надо мной совершали надругательства, меня сжигали,
так что теперь на меня почти ничего не действует,
меня так просто не убьешь,
хоть я и шлюха,
а сейчас я в каком-то закоулке!
Рука женщины судорожно сжалась, вид у нее сделался напуганным, тревожным,
словно она пыталась удержать свой обращенный внутрь взгляд на чем-то или на ком-то, кто постоянно ускользал, дразнил ее, растворялся.
Но голос ее оставался твердым, когда она проникновенно описывала следующее:
— Сейчас ночь, доктор,
ночь в вонючих, темных закоулках,
где-то тявкает одинокая несчастная собака,
истощенные, бледные как смерть, испитые шлюхи жмутся под огромным железнодорожным мостом, а я стою одна на углу темной улицы и поджидаю клиента,
и вот-вот должно случиться что-то ужасное,
я чувствую, доктор, предвижу,
даже воздух наполнен какой-то жутью.
«Безумие крадется по улицам», так писали газеты в последние недели,
и вот он выступает из тумана, повисшего в глубине закоулка,
мужчина маленького роста,
странный господин в черной зловещей одежде и в высокой шляпе приближается семенящей походкой,
в руках у него небольшой черный кожаный чемоданчик, он неумолимо приближается
и подходит ко мне, достает из чемоданчика огромный нож мясника, и в тот самый миг, когда он, к моему несказанному изумлению, втыкает в меня нож и разрезает меня от живота до подбородка, я вижу, что лицо у него…
— Да, да, да…
Дрейф снова почувствовал головную боль,
ему не хотелось больше слышать никаких утомительных деталей.
— У нас осталось всего несколько минут, барышня!
Женщина зажмурилась, изо всех сил сконцентрировалась,
и, выжимая последние фрагменты из памяти шлюхи,
осторожно приложила пальцы к правому виску,
и вскоре после этого ее озабоченное лицо расплылось в сердечной улыбке:
— Какое-то время я счастлива, доктор,
правда, очень счастлива,
потому что я встречаюсь с замечательным молодым человеком, и он так добр и нежен со мной, и мы собираемся вскоре пожениться и создать маленькую семью, чтобы жить друг с другом вечно,
как хорошие супруги и родители,
но время еще не приспело для этого, и мы, к сожалению,
однажды случайно,
как доктор понимает,
допустили маленькую неосторожность,
и некие люди, чьи имена я не хочу называть, отправляют меня к доктору с сомнительной репутацией,
в его кабинете я, растянутая, распахнутая, лежу на деревянной лавке, а этот пьяный, седой мужчина за невероятную высокую плату пихает отвратительный и очень грязный инструмент в самые сокровенные части моего тела, уверяя меня, что крови почти не будет и совсем не будет больно,
только крови много, доктор,
и мне больно!
Женщина как ни странно рассмеялась:
— Да, кровь идет много дней и ночей,
я никогда не думала, что в одной женщине может быть столько крови,
а я делаюсь все слабее, бледнее, пассивнее,
я чувствую себя так странно, доктор…
голос ее снова стал дрожащим, как пламя угасающей свечи в пустых темных залах больничного здания.
Она взялась за лоб, закрыла глаза и действительно мгновенно побледнела как мел,
да, Дрейф почти испугался за ее жизнь, когда увидел такое внезапное изменение,
даже губы ее приобрели болезненный оттенок земляного червя!
— Все выглядит таким необычным, если смотреть из кровати в доме родителей, где я лежу,
им хотелось бы совсем отринуть меня, да духа не хватает,
я дрожу и мерзну, но все-таки у меня сильный жар,
а мой добрый, нежный, любящий жених склоняется надо мной,
да, вот его лицо с крючковатым носом, косо сидящие глаза, волосы и искривленные губы,
именно так он и выглядел, когда улыбался мне, как сам Бог отец, в саду с пряностями!
Она с закрытыми глазами подняла и вытянула руки.
— И он плачет, доктор,
слезы его капают на мой раскаленный, покрытый каплями пота лоб,
тот, кто должен был стать моим мужем, но так и не станет, потому что я вскоре после этого умру,
он плачет так, что сердце разрывается,
ни на минуту не отходит от меня,
и что же с ним без меня будет,
что будет с детками, которых мы вместе произвели бы на свет,
так им теперь и висеть вечно в виде мелких плодов в разных садах по всему миру,
а сейчас все это вдруг в далеком будущем!
Она открыла глаза, и одновременно к лицу ее прилила кровь.
— Милая барышня, я не знаю, разумно ли вообще приплетать сюда будущее!
Дрейф и вправду попытался остановить ее, но было поздно, она уже совсем разошлась:
— Вокруг очень грязно и темно,
земля покрыта слоем неплодородного шлака,
вся растительность и большинство животных уничтожены,
выжили только кузнечики, тараканы и мухи,
города громоздятся словно огромные вавилонские термитники до самого свинцово-серого неба, где теперь никогда не видно ни солнца, ни луны ни звезд,
маленькие, болезненно съежившиеся человечки живут здесь короткое время и работают на измор в огромных фабричных комплексах,
которые изрыгают ядовитый дым, оседающий серо-черным налетом глубоко в мозгу людей,
как раз там, где расположен центр снов, доктор,
он блокирует эту область в мозгу — и люди теряют способность видеть сны по ночам,
никто не видит снов,
все живут словно в неосознанной тьме,
отрезанные от своего внутреннего мира и от прошлого,
до того самого дня, когда я вдруг вновь рождаюсь,
а во мне, доктор,
каким-то чудом
еще сохранилась способность видеть сны,
и в этом умирающем, лишенном снов мире я вскоре становлюсь оракулом,
я вижу, как сижу на громадном троне и все властители умирающей земли совершают ко мне паломничество, чтобы услышать, что я видела ночью во сне,
да, люди толкуют мои сны, всячески расшифровывают и думают, что могут постичь мудрость этих снов,
ведь в них сохранились остатки памяти о человеческом прошлом и когда-то живой земле,
а я говорю со всеми, доктор,
со знатью и с людьми низкого звания,
с бедными и богатыми,
я — очень маленькая, бледная, больная несчастная девушка, которой снится все человечество в то время, как земля умирает,
но это уже другая история,
ее я расскажу во время следующего сеанса!
В ящике письменного стола Дрейфа,
в передней,
на трех церковных башнях в городе Триль
часы все шли и шли.
Проходили секунды, и женщина изо всех сил старалась успеть выдавить из себя последнее, до того как истечет время…
— Иногда я старая,
а иногда молодая,
иногда я живу долго и у меня много детишек, которых я от всего сердца люблю, у меня есть и дом и садик и муж, который мне бесконечно дорог, и я всем этим очень довольна,
а иногда мне хочется заняться чем-то другим, доктор,
открывать новые страны,
но там вечно болтается какой-то тупой мужичонка в больших очках и с седыми волосами торчком в странно наклонной комнатушке, который утверждает, что это совсем не естественно и что меня нужно усыпить лекарствами, чтобы половой зов не прорвался на поверхность и не опутал бы его прочными нитями как паук,
и люди говорят, что я слишком слабая, слишком глупая, слишком хилая,
что мои переживания, связанные с родами на глинистых полях, и вонючими больничными койками, и сожжениями на кострах, и проституцией, не подходят для литературной формы и посему не представляют большого интереса для публики,
что они не годятся и для живописи, потому что изображают одних только женщин,
да, люди придумывают всякие глупости…
А иногда я невероятно богата,
особенно один раз!
Она закрыла руками рот и издала ясный, переливчатый, очень довольный смешок:
— Да, это действительно смешно.
Хотя в следующий момент я вдруг до того бедна, что вынуждена продавать свое тело за гроши мужикам, которые потом избивают меня до смерти или просто предпочитают разрезать меня на куски и убить,
и меня насилуют, оскверняют, мучают и унижают,
снова и снова, до бесконечности,
мое тело то сравнивают с вонючей клоакой желаний, то поклоняются ему, доктор,
все это совершенно непонятно,
я не знаю, что и думать,
будто я никогда и не была по настоящему человеком, а скорее какой-то ведьмой-лесовичкой, которая умеет принять угодный мужчине образ, в зависимости от его настроения, вкуса и положения в обществе,
и я никак в этом не разберусь, доктор,
мне говорят, что я, тем или иным образом, отрицаю свою женственность, что очень возможно,
но если женственность состоит в том, чтобы тебя сжигали на костре, насиловали, запирали в лечебнице, чтобы твою душу до неузнаваемости искажали нелепые самодовольные аналитики карликового роста в затхлых комнатушках вроде этой,
то я и слышать о ней не хочу,
а еще люди говорят, что в глубине души я хочу быть мужчиной,
только это неправда, доктор,
враки и полная чушь,
я не хочу ни мужского органа, ни мужского прошлого, потому что я совершенно довольна своей маткой,
она мне замечательно подходит, и не столь важно,
лежит в ней ребенок или нет,
а еще меня называют слабой, доктор,
хрупкой, хилой, нежной,
но разве я могла бы быть таковой, если выносила все это целыми столетиями, и даже более того, и все-таки лежу здесь на диване, живая и здоровая,
в вашей комнате,
с большим камнем, засунутым мне в рот,
поруганная и тысячи раз сожженная на костре,
и рассказываю об этом,
как это может быть, доктор?
И в эту минуту часы в прихожей пробили шесть.
— Посмотрим, что мы имеем…
Дрейф почувствовал такое невыразимое облегчение, что едва не закричал от радости.
Все кончилось,
он свободен!
Адские, дремучие джунгли психоанализа были теперь,
со всем их содержанием,
позади!
Он снова находился в надежном мужском внешнем мире, где все было солидно, застроено, освещено, определено и соответствовало времени!
Он достал из ящика письменного стола несколько листов бумаги и записал на одном из них самые важные пункты:
Рай, плод и уничижение,
смерть в течение столетий, костер и пламя,
и еще эта, в парике,
«бесконечно скучное существование»,
и не забыть бы монахиню,
в лесу, замерзнуть насмерть…
Он сделал короткую паузу в середине своих записей, и попросил женщину сесть,
потом с легким сердцем и ясным рассудком принялся подсчитывать дальше.
А пока доктор Дрейф складывал все вместе по методу, которому его научил профессор Попокофф в Нендинге,
женщина на диване опять ожила.
Она уселась с крайней осторожностью.
Волосы ее торчали во все стороны, поэтому она убрала их со лба и пригладила.
Казалось, что она отсутствовала миллионы лет, да, целую вечность!
Но по словам ее брата Сирила, анализ Дрейфа редко занимал более часа,
в крайнем случае,
если предмет был необычайно, крайне интересен,
два часа.
Сам же маленький доктор сидел, скрючившись, за своим огромным письменным столом.
Губы его беззвучно шевелились,
лоб избороздили глубокие морщины.
Он, очевидно, был занят решением очень сложной математической задачи и поэтому все время бормотал себе под нос непонятные психоматематические термины:
— Рай разделим на монахиню, возведем в степень плода, умноженного на сожжение, а корень от поруганной девочки минус глинистое поле и шлюха,
что составляет…
Но как же странно она, женщина, сейчас себя чувствовала!
Слабой, потрясенной и одновременно сильной.
К тому же, в руках и в ногах странно подрагивало,
словно они долгое время, столетия, лежали пустыми,
а теперь их внезапно наполнили кровью и ощущениями.
И комната, как ей казалось, чуть-чуть изменилась,
только нельзя было сказать, как именно.
Сильный, едкий, но не совсем противный запах наполнял ее,
вот все необычное, что она могла отметить.
Она не помнила почти ничего из того, что наговорила,
отчего, естественно, немного робела.
Но прежде всего она все же испытывала облегчение, глубокое освобождение и покой,
потому что особое ощущение удушья, которое преследовало ее с самого рождения,
от которого она обычно просыпалась по ночам,
временно исчезло.
Она могла совершенно свободно дышать, в остальном же тело ее ощущалось так, будто на него давил на один камень меньше.
Дрейф же в это время достал небольшие счеты.
Он быстро перекидывал их разноцветные бусины с одной стороны на другую,
прибавлял и вычитал.
Вот он снова прибавил,
задумался, что-то пробормотал себе под нос,
прибавил еще три красных шарика и отнял один черный.
Женщина застегнула верхнюю пуговицу на платье, потом долго и беспокойно смотрела в сторону Дрейфа и в конце концов не могла сдержать нетерпения:
— Что это, по вашему мнению, доктор,
есть ли какое-нибудь средство,
буду ли я когда-нибудь полностью свободна от страданий этих существ в моем теле?
В ту же секунду Дрейф в своих подсчетах пришел к неприятному заключению.
У него язык не поворачивался сказать ей правду.
Что состояние ее, по всей вероятности, неизлечимо и что ей надо будет всю жизнь принимать лекарства.
Вместо этого он с большим спокойствием отложил ручку, сложил руки, подался к ней, доверительно склонил голову набок и с улыбкой ответил:
— Я понимаю, что все это могло вас сильно испугать, тем не менее, по большому счету можно сделать только одно.
Он продолжал улыбаться, а сам чувствовал, как от этой ухмылки лицо его совершенно деревенеет,
да, под конец он перестал ощущать свой нос, и ему показалось, будто глаза у него вдруг стали холодными как лед, эмаль или черный камень.
Женщина же просияла,
ему даже как-то больно стало, когда он увидел, что она прямо светится от облегчения.
— Что, доктор, скажите, что?
— Вам нужно просто-напросто все забыть!
Свой приговор он произнес очень спокойно, исключительно четко выговаривая каждый слог, чтобы она как следует поняла содержание всего сказанного.
Однако женщина только смотрела на него с удивленным и растерянным видом.
Она непонимающе покачала головой и в крайнем изумлении повторила его слова:
— Забыть все это?
Дрейф еще больше перегнулся через письменный стол, впиваясь буравящим взглядом ей в глаза, и, находя ситуацию очень неловкой, улыбнулся еще напряженнее и нанес смертельный удар:
— Именно так!
Женщина наморщила лоб
(что, вероятно, должно было означать, что слова его начали действовать).
Она в полном молчании сидела на диване, аккуратно сложив руки на коленях, и после длительного раздумья вновь искоса поглядела на него:
— Все?
— Да, все!
Черт побери, неужели его так трудно понять!
Медицинская это сенсация или нет,
ему вдруг совершенно расхотелось, чтобы болезнь была названа его именем,
наоборот,
ему захотелось от нее отделаться раз и навсегда и забыть женщину!
Он сделал еще одну попытку убедить ее:
— Вы должны жить так, словно этого никогда не было, барышня, вы должны жить здесь и сейчас, сегодняшним днем,
вы должны рассматривать все это как нездоровую фантазию,
потому что именно так оно и есть —
нездоровье, фантазия,
и вам совсем нельзя думать, барышня,
и это — прежде всего!
Последнее он несколько раз со строгим видом повторил:
— Мысли вредны женщинам, барышня,
помните об этом,
вы сами видите, какой вы делаетесь больной, когда обременяете свой маленький мозг разными мелочами из так называемой истории женского пола!
— Но, доктор…
Однако протесты женщины были напрасны,
ибо Дрейф сурово повторил свой приговор,
назидательно подняв палец и зажмурив глаза:
— Не думать, барышня, не думать,
прежде всего —
не думать,
такое занятие может обезобразить вашу внешность,
преждевременно состарить,
придать вашему лицу такое кислое и нелюдимое выражение,
что мужчины будут спрашивать, почему у вас постоянно надутый вид,
вы ведь этого не хотите?
Она съежилась, бессильно опустила голову, а потом снова поднялась и все-таки стала возражать предписанию Дрейфа.
— Но как же я могу забыть плод и все то уничижение,
и все слезы, которые тысячелетиями проливались в пустоту подо мною и во мне,
и пламя,
которое горит?
Теперь, когда она назвала эти детали, содержание анализа напомнило о себе мгновенными вспышками, в голове у нее одна за другой стали всплывать разные картины.
— Как я могу когда-нибудь забыть костер и то, как у меня загорелось лицо,
а случай в лесу?
Она быстро искоса глядела на собственное тело, но тут же подняла глаза.
Ее большие темные глаза были полны мольбы, такой пронзительной, что даже доктору Дрейфу трудно было оставаться равнодушным.
— Как я могу об этом забыть, доктор?
Но Дрейф лишь улыбался.
Он улыбался и улыбался, пока лицо его совершенно не онемело, но в то же время в нем опять росло раздражение.
Зачем они, скажите на милость, вообще к нему приходят со своими неразрешимыми женскими проблемами, если даже после анализа отказываются согласиться с объяснениями, советами и заключениями специалиста?
Он утешал себя тем, что это скоро кончится.
В любую секунду.
Ему только надо еще немного потерпеть!
Поэтому он проглотил свое возмущение, отодвинул журнал, немного рассеянно потрогал разные предметы на письменном столе и небрежно сказал ей:
— Это очень просто, барышня,
все это совершенно исчезнет, когда вы начнете рожать детей и посвятите свои дни вязанию кружевных скатертей и прочим милым и приятным занятиям!
Это почему-то не возымело на женщину ни малейшего успокоительного эффекта,
скорее напротив.
В голосе ее появилась какая-то безнадежность,
словно у нее началась клаустрофобия,
словно у нее перед самым носом захлопнулась тяжелая дверь,
и она закричала прямо ему в лицо:
— Но я не хочу никаких детей, доктор!
Тут Дрейф снова чуть было не лишился терпения.
Ему действительно пришлось в который раз до предела напрячься, чтобы не утратить самообладания,
но когда ему удалось совладать с собой, он долго и от всего сердца смеялся над ее совершенно ребяческим ответом.
И как он раньше этого не понял!
Она же просто сидит и разыгрывает его,
то-то и в глазах ее все мелькает шельмовской огонек…
Он сполз со стула и вышел на середину комнаты, не забывая, однако, держаться на почтительном расстоянии от женщины,
так как в нем еще жила память о нападении.
— Милая барышня, ведь этого хотят ВСЕ женщины, даже если они и сами об этом не знают,
глубоко в душе,
по некоторым причинам женщина, как правило, не имеет и не будет иметь понятия о своих настоящих чувствах, желаниях и потребностях…
Женщина глядела на него крайне недоверчиво, и Дрейф почувствовал, что теперь до нее действительно дошла его фраза,
несмотря на то, что смысл фразы по многим причинам было ей невыносим.
Разумеется, не более чем секунду спустя она опять заупрямилась и стала возражать:
— Но я же ЗНАЮ, что не хочу ребенка, доктор, нет ничего, в чем бы я была так убеждена,
я вовсе не люблю детей, они меня раздражают, мне скучно с ними,
да, с тех самых пор, когда я родила на глинистом поле ребенка, который был отсроченным плодом того случая в лесу, я не могу терпеть детей!
Дрейф на минуту закрыл глаза, поднес пальцы ко лбу, чтобы сдержать приступ ярости, затем снова поднял глаза и натянуто улыбнулся пациентке:
— Вам не мешало бы знать одно, барышня,
а именно: самая очевидная черта женщины — то, что она никогда сама не знает, чего хочет в душе,
на самом деле она и понятия не имеет о своих истинных чувствах,
как правило, их должен расшифровать аналитик моего калибра, чтобы женщине не приходилось бороться с ними самой, чтобы они не поглотили ее, чтобы она не пошла своим путем и не стала бы причиной беспорядка и полного хаоса в других цивилизованных мирах!
Женщина некоторое время сидела молча и гримасничала, тщетно пытаясь переварить сказанное.
Казалось, однако, что она не может по-настоящему согласиться и даже понять рассуждения Дрейфа.
— Но доктор,
если я сейчас убеждена, что не хочу иметь детей,
означает ли это, что я ненормальная?
Здесь Дрейфу нужно было каким-нибудь хитроумным образом побороть ее и повернуть все рассуждения в свою пользу.
Он принял высокомерно-педагогический вид, чтобы она не вздумала усомниться в том, что он собирался заявить:
— Вовсе нет, вовсе нет,
дело в том, что женщина к тому же всегда ДУМАЕТ, будто знает, чего она хочет!
Он склонил голову набок, посмотрел на свою клиентку с деланной нежностью и слегка приподнял брови.
Женщина по-прежнему думала, размышляла,
сидела, склонив голову,
она в который раз подняла на него глаза и повторила с упрямством пьяницы:
— Но я и в самом деле ЗНАЮ, что не хочу иметь детей, доктор!
Дрейф тяжело вздохнул.
Если до нее и теперь не доходили его аргументы, придется просто-напросто,
в очередной раз
прибегнуть к помощи трудов профессора Попокоффа.
Он подошел к книжной полке,
провел указательным пальцем по пыльным корешкам книг, пока не остановился на нужном ему томе,
снял его с полки,
как обычно покачнувшись от его тяжести,
открыл главу «Женщины и дети»
и быстро пробежал ее глазами, пока медленно шел к дивану.
Подойдя, он протянул женщине книгу и указал пальцем то предложение, которое она должна была прочесть вслух:
— Читайте, барышня, читайте!
Женщина обхватила книгу и не могла понять, как у скрюченного крошечного Дрейфа вообще достало сил держать этот тяжеленный фолиант.
Она склонилась над страницами книги, принюхалась и ощутила в ноздрях неописуемый запах, в котором смешались плесень, дрожжи, кровь, блевотина, дым, навоз, моча и пары благовоний, солома и испражнения.
Черному, необычайно плотному готическому шрифту нарочно была придана такая форма, чтобы его почти невозможно было разобрать,
а сама книга, изъеденная как плесенью, так и сыростью,
выглядела так, будто ее недавно вырыли из земли.
Какое-то засушенное насекомое неизвестного вида и несколько мертвых листьев выпали из книги и приземлились у ног женщины, но Дрейф ничего не заметил,
плесень, пыль и какая-то черная, похожая на землю субстанция остались даже на пальцах женщины.
Очень медленно и неохотно она склонилась над абзацем, который Дрейф выбрал для чтения.
И так же неохотно, запинаясь, стала читать:
— … «Детей»… «все женщины хотят»…
Тут она склонилась еще ниже, чтобы разобрать микроскопически мелкий шрифт, которым была написана сноска внизу страницы:
— … «в глубине души»…
Как только чтение закончилось, Дрейф вырвал книгу у нее из рук
(так как у него появилось ничем не объяснимое чувство, что у нее, возможно, менструация).
Он прижал огромную, странно пахнувшую книгу обеими руками к груди и снова обратился к женщине:
— Не хотите же вы сказать, что стоите выше лекарской науки.
Ведь чтобы прийти к этому заключению, экспертам по женщинам понадобились столетия интенсивной исследовательской работы в моргах и больницах,
было проведено множество исследований,
теории были бесчисленное количество раз проверены на свиньях, жабах, глистах и козах.
Вы даже представить себе не можете, как прекрасно эти бесценные факты отражены в документах!
Он замолчал и снова с надеждой посмотрел на
нее,
и наконец-то, наконец-то увидел, что она, кажется восприняла все сказанное.
Успокоившись, он вернулся к книжной полке и поставил книгу на место
(но именно тогда, когда он как раз собирался задвинуть ее обратно, взгляд его упал на темное пространство между книгами,
и его вновь охватил глубокий ужас,
он начал думать о паучихах и паутине, и о прочем зле, которое могло проникнуть в его тихое гнездышко).
А женщина на диване упрямо пропищала,
будто какая-то тварь, которую постоянно стараешься прихлопнуть, но никогда не можешь убить:
— Но…
Все, теперь с него действительно хватит!
Он не хочет больше слышать от нее ни единого слова.
Он повернулся и резко прервал ее, пока она не зашла дальше:
— А что бы вы, скажите на милость, иначе делали с вашей женской жизнью?
Сейчас он был зол, почти в бешенстве,
однако сдержался и попытался выказать свой гнев в форме раздражения…
Женщина сидела, сцепив руки на коленях, и смотрела прямо перед собой в пустоту.
Дрейф собственно и не ждал ответа, но спустя мгновение ответ последовал:
— Да… я вообще-то собираюсь купить себе тропический шлем с вуалеткой, пару зеленых брюк и прочные башмаки, и подняться на вулканическую гору в Перу, про которую я слышала, что вулкан там скоро пробудится, после того как бездействовал, не знаю, сколько лет,
а потом я, может быть, нарисую картину, на которой изображена та девушка, Филомена, с отрезанным языком, запертая в высокой башне: она все ткет ковер, на котором изобличает того, кто осквернил ее и запер там,
а еще у меня есть далеко идущие планы написать книгу, в ней будет рассказываться,
в новой стихотворной форме,
об одном маленьком скрюченном идиоте-карлике, который…
Дрейф заглушил ее последние слова громким, презрительным, но каким-то пустым смехом.
Еще одно слово и ей прямая дорога в лечебницу
(что, к сожалению, было невозможно, так как последняя уже много лет была переполнена женщинами, которые в пустынных залах и коридорах рвали на себе волосы и кусали вкровь руки,
отправленные туда доктором Дрейфом и ему подобными).
Тогда он вернулся к письменному столу, вскарабкался на стул и вытащил пожелтевший листок бумаги.
— Сейчас я вам выпишу одно легонькое лекарство, которое вам надо принимать в случае, если вы очень разойдетесь!
Да, что-что, а уж сильное лекарство она получит!
Пусть оно раз и навсегда превратит ее в послушную, маленькую, безобидную тень, которая едва позволяет себе робко и по-детски улыбаться мужчинам в том случае, если они к ней обратятся,
которая сидит в своей спальне и разглаживает фиалки для своего гербария и бесконечно расчесывает свои длинные, гладкие как шелк светлые волосы,
которую можно как угодно осквернять и избивать, и она ничему не противится,
которая с пустыми глазами бродит по саду своего отца и рвет цветы, чтобы воткнуть себе в волосы, и чье единственное желание в жизни — выйти замуж и нарожать детей.
Да, лекарство должно раз и навсегда усыпить воспоминания об этих беспокойных существах,
ведьмы, монахини, разрезанные на куски проститутки должны совершенно стереться из памяти и исчезнуть,
и половой зов тоже можно будет держать в ежовых рукавицах
(так как лекарство было комбинированным препаратом),
и нездоровое стремление взобраться на вулканическую гору совершенно ее покинет,
у нее на это не будет больше сил,
нет, вместо этого она, пребывая в трансе, посвятит свою жизнь благородному делу деторождения, выпекания булочек, вязания, шитья и обожания собственного мужа,
всех мужчин,
всего мужского рода,
и таких, как он,
доктор Дрейф!
Он быстро писал и в то же время объяснял, как надо принимать лекарство:
— Значит, принимайте по три зеленых таблетки через день в течение месяца, а потом по пять черных через день каждый час,
затем целый год принимайте по две голубых через день один раз в день, а всю оставшуюся жизнь принимайте по десять желтых драже каждые полчаса тогда, когда вам это покажется нужным,
и вы увидите, как чудесно все устроится!
Он сложил рецепт, женщина поднялась,
такая же чудовищно огромная, как и раньше, она прочно стояла на ногах.
Она взяла со стула свое пальто,
однако, к сожалению, больше не чувствовала себя легкой и свободной.
Словно камень снова заполнял ее рот
(хотя и был пока еще размером с бусинку).
Дрейф сполз со стула и стоял возле письменного стола, так как не хотел без надобности приближаться к ней…
Он протянул ей листок, а она очень грустно и довольно осторожно улыбнулась,
потому что все это до сих пор не укладывалось у нее в голове.
И Дрейф впервые почувствовал некоторую жалость к пациентке,
видя ее замешательство и печальное лицо
(бедное-несчастное создание,
рожденное женщиной,
осужденное всю жизнь прожить женщиной,
которому отказано во всем, что является настоящей, истинной жизнью!).
Чтобы поднять ей настроение, он бодро произнес:
— Только, ради бога, не размышляйте об этом слишком много,
если вы будете принимать лекарство, то увидите, что все будет хорошо.
Вы на удивление милая и очаровательная женщина,
выходите замуж, вышивайте монограммы на салфетках, обожайте и обихаживайте мужчину, за которого выйдете замуж,
ведите себя хорошо,
да, ведь жизнь истинной женщины бесконечно богата и велика,
вы и представить себе не можете!
Он сам чувствовал, как пусто и равнодушно звучит его голос,
который от долгого анализа стал каким-то изношенным и жидким,
но женщина выглядела так, будто наконец согласилась с особенностями своей психики и вечной женской ролью.
— Да, доктор, раз вы так говорите, то…
Дрейф испытал такое невероятное облегчение, что не смог удержаться и воскликнул:
— То-то же,
вы, я вижу, поправляетесь!
В своем рвении он чуть было не коснулся ее,
но в последний момент остановился
и ограничился тем, что смеясь смотрел на нее и растроганно бормотал:
— Гора в Перу… писать книги!
Последняя мысль почему-то необыкновенно веселила его, он долго и от души смеялся.
Затем он поднялся на цыпочки, открыл наконец дверь, слава тебе Господи, чтобы выпустить ее,
и за секунду то того, как она вышла в прихожую, добавил:
— А если вы захотите о чем-нибудь спросить меня, то запросто обращайтесь ко мне,
не забывайте, что я — эксперт,
я изучал духовную жизнь женщин всю свою взрослую жизнь,
нет ничего такого, чего бы я о них не знал!
А женщина, устало и грустно улыбаясь,
ответила:
— Да, доктор.
После чего Дрейф молниеносно закрыл дверь, запер ее, привалился к ней, закрыл глаза и глубоко и с облегчением вздохнул.
Несколько минут спустя он все еще стоял за дверью и массировал,
точно так же как и в начале,
свои ноющие виски.
За окном было темно и тихо.
Улицы были совершенно пусты.
Жители города Триль разошлись по домам, где они часами, перед тем как улечься в постель, играли в карты, ссорились, стирали, что-то пекли и колотили своих детей
(а в одном доме всего на пару кварталов дальше городской убийца-маньяк занимался тем, что прятал части тела своей последней жертвы под половицами в своей квартире,
в которой к этому времени уже не хватало места, потому что на совести у него было двадцать юношей).
В прихожей слышно было, как обе пациентки обмениваются учтивыми фразами
(и это не понравилось доктору Дрейфу,
ему хотелось бы, чтобы пациентки никогда и ни при каких обстоятельствах не вступали в контакт друг с другом, потому что, в подобных случаях, небось, сразу же последуют наговоры, хихиканье и насмешки над ним).
Кроме боли в голове он чувствовал себя совершенно нормальным до того момента, когда его вдруг,
без малейшего предупреждения,
охватило неприятное чувство…
В комнате словно ощущалось некое присутствие.
Будто кто-то или что-то холодно, угрожающе, с усмешкой наблюдал за ним,
глядя косо сверху,
а может быть, даже изнутри,
да, это было очень противно,
словно кто-то сидел и в точности описывал все, что он делает,
как выглядит,
о чем он думает,
в самых мельчайших деталях,
словно кто-то сидел и издевался над ним,
рассматривал и отмечал каждый сделанный им шажок, и видел, как он в эту минуту быстро окидывает взглядом комнату, но не может найти там совершенно ничего особенного, ничего такого, что могло бы послужить причиной подобного подозрения.
Банки с зародышем девочки, конечно же, не хватает, само собой,
но он уже завтра пойдет в морг, раздобудет там новый зародыш и поручит Накурс заспиртовать его
(такие вещи у нее очень хорошо получались,
ведь это именно она и заспиртовала матку, яичники и отрезанную женскую грудь).
И все же…
Комната каким-то образом необратимо изменилась.
Он подошел к письменному столу и заглянул в журнал,
немного полистал его туда и обратно,
затем собрал вместе листы
и все их вырвал.
Как только пациентка ушла, он открыл дверь, призвал Накурс, отдал ей листы и попросил ее все сжечь, а затем закопать пепел под кустом в саду.
И впустил следующую пациентку,
барышню Тимбал.
По внешности она была точной копией предыдущей женщины,
возможно, чуть постарше.
Дрейф анализировал ее почти двадцать лет, но так и не добился проку,
однажды он даже пытался исправить ее истеричную, бунтарскую личность, отпилив у нее кусочек носа,
но это привело к тому, что истерия и маниакальное поведение только усилились.
И как только барышня Тимбал переступила порог Дрейфова пыльного кабинета с наклонными стенами и ухватилась за дверной косяк, чтобы не упасть,
она, со своим сверхчувствительным, маниакально-истерическим женским чутьем, конечно, тут же учуяла, что тут что-то случилось.
Она немедленно забормотала:
— Что это вы тут делали, доктор,
все так изменилось,
стало как-то светлее, и воздух вроде уже не такой спертый,
что такое, доктор?
Нет, не говорите ничего,
вы мебель переставили,
чуть-чуть передвинули кресло,
и ручка у вас другая?
Нет, нет, вы перевесили свидетельства…
Нет, теперь я поняла,
Накурс сменила шторы…
Но Дрейф ее не слышал.
Какой-то неодолимой силой его тянуло к одному из высоких зарешеченных окон, где он сейчас и стоял, высматривая ту женщину, Еву.
Он должен убедиться, что она действительно ушла,
он не мог успокоиться ни умом, ни сердцем, пока собственными глазами не убедится, что она исчезла из их квартала,
ну конечно, вот она стоит.
На мокром от дождя тротуаре, прямо у подножия лестницы.
Она тщательно сложила рецепт и начала переходить Скоптофильскую,
элегантно обходя лошадиные кучи,
и Дрейф снова облегченно вздохнул,
и вдруг, когда он было подумал, что опасность миновала,
когда она уже достигла другой стороны улицы,
она замедлила шаг, остановилась под фонарем и обернулась…
— Да, доктор, что-то здесь, во всяком случае, изменилось,
потому что здесь такой приятный свежий и сильный запах,
у вас, как я думаю, на маленьком круглом столе недавно стояла свежераспустившаяся лилия,
хотя вы и не хотите в этом признаваться,
да, так оно, должно быть, и есть,
потому что я, кажется, узнаю запах, который я почувствовала, когда ко мне, в тот каменный дом, где я в то время жила, явился ангел и возвестил свой сон,
такой нежный запах освобождения никогда не забывается,
а теперь я лягу здесь на диване, начинайте поскорее, доктор,
если вы не возражаете!
Дрейф все еще не слышал ни одного звука.
Потому что именно тогда, когда барышня Тимбал самовольно начала анализ,
при котором она все двадцать лет говорила одно и то же,
женщина под фонарем обернулась и уставилась прямо на Дрейфа,
тем самым взглядом,
таким немного мятежным, скептическим, издевательским женским взглядом, о котором совсем ничего не было сказано в трудах Попокоффа.
Он пронизал туман и темноту на Скоптофильской улице и уперся
прямо в него,
а через секунду она снова посмотрела в сторону и поспешно исчезла в соседнем переулке, словно поглощенная туманом и тенями.
А за зарешеченным окном все стоял похолодевший и уничтоженный доктор Дрейф,
великий аналитик женщин,
прославленный знаток всех извращенных женских желаний,
в то время как недавно пришедшая новая пациентка,
маниакальная барышня Тимбал,
без малейшего поощрения с его стороны страстно углублялась в свой собственный анализ.
— Да, доктор, с прошлой недели совсем ничего не изменилось,
все по-прежнему как в аду, где сильнее, чем прежде, горят костры,
за которыми следит маленький, похожий на карлика рогатый мужичонка, с торчащими седыми волосами и в громадных круглых очках в черной оправе, так изумительно похожий на вас,
доктор Дрейф!
Елена Самуэльсон ЖЕНЩИНА В СУМРАЧНОМ ЛЕСУ ЖИЗНИ
Читать Маре Кандре — это как идти по сказочному лесу Шарля Перро. Только лес этот еще таинственнее, чем в сказках. И все в нем изменчиво, подобно окраске хамелеона. Ничто не остается таким, каким кажется в начале. Чудовище оборачивается страдающей жертвой, милая старушка — погубительницей сына (роман «Бестиариум»). Все течет, ускользает из рук, принимает другую форму. Людей поражают беды, таящиеся в них самих. Даже сам воздух вокруг героев неясный, дрожащий, меняющийся. И пейзажи плывут, как туманные картины «Латерны магики». Это пейзажи для безымянных, для тех, чья история никогда не была рассказана. Неуловимые картины коллективной, неосознанной памяти.
Жизнь самой Маре Кандре — тоже сплошное движение. Она родилась 27 мая 1962 года в Стокгольме. В пятилетнем возрасте переехала с родителями в Канаду, но через два года семья вернулась в Швецию.
Синтаксис Кандре чрезвычайно пластичен. Описание приемной доктора Дрейфа сделано так, что кажется, будто ты сам вдыхаешь неподвижный воздух, в котором кружатся частицы пыли, разглядываешь зародыш девочки в пожелтевшей стеклянной банке.
Еву читатель видит исключительно глазами Дрейфа, маленького человечка, испытывающего панический страх перед любым проявлением женственности. И ему, и читателю женщина кажется огромной: высокая, тощая, неврастеничка, сама не знающая, чего хочет. Она не может думать самостоятельно, ее нужно избавить от всех этих нездоровых идей, как, например, писание книг, восхождение на горы и пр., ибо это против ее природы.
Но перспектива повествования туманится, и женщина последовательно меняет в ее мгле свое обличье.
Книга Кандре дает потрясающее ощущение свободы. Освобождается от чар и ее героиня, чтобы когда-нибудь «написать книгу о недоростках-аналитиках с больным воображением, сидящих в крошечных затхлых приемных». Что, собственно, с блеском и сделано.
Елена Самуэльсон
Лунд, 20 марта 2005 г.


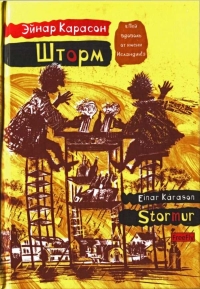





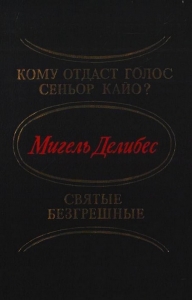


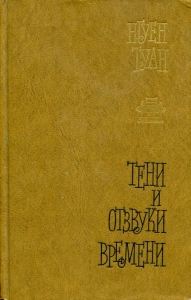
Комментарии к книге «Женщина и доктор Дрейф», Маре Кандре
Всего 0 комментариев