Владислав Сосновский Ворожей
© Сосновский В. 2016
Краткая историческая справка
В XXIII веке форма «ворожея» указывала и на женский, и на мужской род, определяя людей особенно женского пола, занимавшихся волшебством, колдовством, предсказаниями и пр. Чаще, однако, словом ворожей, ворожея называли предсказателей судьбы, знахарей, целителей. Это могли быть и русские, и нерусские: цыгане, угро-финны, татары и др. Изображения их встречаются довольно редко. Две иллюстрации, в которых присутствуют лики кудесников, можно найти в Соловецком лицевом списке Жития Зосимы и Савватия Соловецких (XVI–XVII в.) Эти окудники, ворожеи не имеют совершенно ясных отличительных особенностей ни в одежде, ни во внешности, – вероятно потому, что они воспринимались как истинно русские люди, а не как экзотические иноземцы в особых нарядах с колпаками на головах.
Таков простой русский человек, как следует из романа «Ворожей», и наш современный герой по прозвищу «Хирург».
Родился в Украине в 1947 году. В красивом и тихом по тем временам городе Днепропетровске, расположенном по обе стороны Днепра.
Из глубины детства помню скорбную, без крыши, дотла разрушенную немецкой бомбой шестиэтажку, стоявшую как раз напротив нашей полудеревенской хаты. На развалинах разбитого дома мы, ребятишки, играли в свои детские игры. Этот черный фрак мертвой развалины до сих пор ношу в больной памяти.
В остальном, все было прекрасно. Не существовало, как сейчас, никакого хаоса. Не было истеричных лжеправителей, ежедневно лгущих своему народу об угрозе России, об агрессии России. Мы были одной братской страной. Тогда цвела и одуряюще пахла акация, празднично наряжалась сирень, и люди, все вместе – украинцы, русские, евреи и др. – дружно, единой семьей отстраивали разбитый войной город.
В юности увлекался плаванием, греблей, парусным спортом. В школе более всего грела литература, география, астрономия. Эта любовь, скорее всего, и определила дальнейший жизненный путь.
После школы работал слесарем на заводе. В 1967 году призвался в армию. Служил в Киеве в войсках ВВС. Воевал в Чехословакии, если это можно назвать войной. Была оккупация. Хотя, все-таки война, где тоже гибли люди. Славяне.
Война добавила в мою жизнь строгость к самому себе, способность реально и быстро оценивать и людей, и ситуации, проявила чувство дружбы и, как, может быть, ни странно, романтики.
В армии начал писать первые очерки, рассказы, повести. Много читал и печатался в Киевских газетах и журналах. По окончании службы поступил в Московский Литературный институт им. Горького. Учился у известных писателей Юрия Нагибина и Бориса Бедного. После института работал редактором в журнале «Октябрь», а еще через некоторое время ушел к журналистам и в этом качестве трудился около двадцати лет. Тайга, тундра, отдаленные поселки, погранзаставы, побережья морей и океанов стали моим домом от Кольского полуострова до Колымы и Чукотки.
К 1983–85 году вышли три книги прозы в издательствах «Советский писатель» и «Молодая гвардия». Это повести и рассказы. Потом были Дальневосточные романы, опубликованные в России, изданные в Канаде.
Эта книга посвящается моей жене Надежде, которая всегда и везде была со мною рядом.
Современная русская проза
ВЛАДИСЛАВ СОСНОВСКИЙ для широкого читателя писатель новый, хотя его романы, повести, рассказы печатались и в России, и за рубежом. Это честная, интеллектуальная, прямая, а порою и жесткая проза, украшенная, к чести автора, изрядной долей юмора. От других писателей Владислава отличает то, что ему, как немногим, удается успешно «играть» в пограничных ситуациях. На грани жизни и смерти. Таким образом, проза Владислава Сосновского нередко соприкасается и с мистикой, и с сюрреализмом, и с особой экспрессией.
Будучи журналистом, военным, гражданским, Владислав прошел пешком, прогремел в поездах, пролетел на самолетах, вертолетах, прокатился на оленях, собаках от Кольского полуострова до Колымы и Чукотки. Так что ему есть, о чем рассказать людям.
Хирург Роман
Посвящается моему Отцу, который незримо участвовал в создании этого романа.
Часть первая
Осень сорвалась в один день. С предела своей обворожительной поры упала в омут сырого, серого тумана, мороси и дождя. И грустно стало наблюдать унылую любовь старухи-слякоти к молодому и глупому снегу. Вчера еще Бухта жарко пылала от солнца, и глубокое небо широко обнимало океан до самого окоема. Чайки кричали радостно, как весной. Их бельканто слышно было по всей округе. Сопки кровенились брусникой, и кто не ленился, тащил домой, согнувшись пополам, полные рюкзаки и ведра сочной, спелой ягоды. А сегодня хрипло запели деревья, и в необъятно грязных лужах начала промокать обувь. Все. Как злая дворняга, вцепилась в нежное тело мира ощеренная, косматая осень.
Ах, снег, снег!.. Метель-кручина. Словно во сне только что стояла за спиной в золотом сарафане красавица-осень, и – нет ее. Пролетела, что сон. Сухая, солнечная, синяя. То ли море тонуло в небе, то ли небо в нем. Навага и корюшка брали ошалело. По рекам еще бродил кижуч. Люди запасали на зиму грибы, ягоды, рыбу.
Был бы дом. На камне. Не на песке.
У Хирурга – всю жизнь на песке. Да и домом ли можно назвать. Сплошная казенка: общага, камеры, подвалы, чердаки… Хотя был, конечно, и дом когда-то. И жена, и любовь, и почет, и слава. Но когда все это было? С кем? У кого? Будто и не у него вовсе. Не с ним, а в чьей-то чужой, посторонней жизни. Сто лет назад. Да и звали ее как, жену? Господи! Как же имя-то у нее?
Хирург потер слезящиеся глаза оборванным рукавом грязной морской шинели с чужого плеча.
Серая бухта, укрытая снежным крылом, летела вверх, будто его собственная огромная душа, а обладатель той души сидел, скрючившись, под косым снегом на мокром валуне и силился разглядеть в памяти имя любимого некогда человека.
Как же?! Черт бы меня побрал! Оторвало имя, что лодку в бурю. Любовь-то угасла давно. Один пепел. Но хоть название пеплу.
Хирург забыл, когда в последний раз вспоминал о жене. А сегодня вот накатило, слез не прогнать, сопок не видно, лишь туманная пелена.
От напряжения он встал и пошел к морю, словно в нешумной волне его таился ответ на мучавший вопрос – тощая плоская фигура, как будто шинель сама поднялась и, волочась по песку, двинулась к воде.
Глухо и сонно вскрикивали чайки, пахло йодом, сыростью, снегом.
Сапоги – правый на размер больше – тут же промокли в запорошенных кучах водорослей. Хирург этого не почувствовал. Он шел за именем той, кому давным-давно, в другом мире и веке дарил цветы, чьи глаза целовал на Невском светлыми далекими ночами. Где она теперь? В какой галактике? Жива ли? Да ведь имя совсем простое. Про-сто-е… Хирург заскрипел зубами и сжал костлявыми руками виски. В голове стоял не проходящий гуд. И вдруг в шелесте накатившей волны он ясно различил чей-то шепот: «Га-ли-на».
Хирург уже не помнил, когда чему-либо удивлялся, но сейчас был поражен явлением сочувствия природы.
Галина! Галчонок!..
Она и похожа была на галчонка. Черноволосая, черноокая, юркая и застенчивая одновременно. Тогда там, на другой планете, в другом измерении, он – ведущий хирург одной из ленинградских клиник, доцент кафедры мединститута Дмитрий Валов, врач, имя которого по уникальным операциям уже знали не только в Союзе, влюбился как мальчишка. И в кого? В свою же студентку – банальнее не придумаешь. Тогда ему было проще залатать чужое сердце, чем справиться со своим. Хотя нужно ли ущемлять радостную боль, окрыленность, счастливую грусть? Он и не пытался этого сделать: ни к чему.
Операции проходили одна удачнее другой. Ему везло. В то время казалось она, Галина, подарила второе зрение. Он видел то, к чему были слепы другие, и потому действовал мгновенно, неожиданно и точно.
Но слава раздражала. Она была похожа на досадный грохот машин за окном.
Он работал день и ночь. И не уставал. Потому что был молод, талантлив, любил и был любим. И потому что это было его дело.
Клубился рой восторженных почитателей. По углам шептались завистники. Все шло, как и должно на пути звезды. Но кратка жизнь гения на земле, словно кто-то усердно заботится о ее недолговечности.
Тот злополучный день вошел в память, как копье.
Была весна пятьдесят первого. Ленинград трудно оживал после клинической блокадной смерти. Но оживал. Солнце, слепя глаза, купалось в масляных лужах. Торопливо летела громкая капель, словно таяла, не выдерживая тепла, глубокая небесная синь. Трещали воробьи, громыхали трамваи, набухали почки. Явились женские ноги, замелькали шляпки. Была весна…
Дмитрий только что закончил последнюю операцию, когда привезли его. Валов сказал: «Нет. Я не могу. Сегодня годовщина свадьбы. Есть другие прекрасные хирурги. Кроме того, – он посмотрел на часы, они показывали половину седьмого, – я с восьми утра за операционным столом». Те, кто привезли его, были в серых макинтошах. Они сказали: «Ты, вероятно, не понял, кого мы к тебе доставили. Это очень ответственный работник Аппарата».
Он сказал: «Я понял, но меня ждут. Есть другие. Замечательные врачи. Ничуть не хуже».
Дмитрий был искренен. Он любил жену и хотел этот день посвятить только ей.
Те, в макинтошах, и особенно один в яловых сапогах с тяжелым шрамом на щеке, стали кричать, обещая, что его, Дмитрия, могут вообще не дождаться, раз он так опрометчиво спешит. Что, видимо, он сумасшедший, если не понимает: кого они привезли. Неужели не ясно: других врачей и специалистов у них – пруд пруди, но тут нужен именно он, Дмитрий Валов. Что до ответственного работника, то ему, Дмитрию, не мешало бы знать ближайшее окружение товарища Жданова.
Он сказал: «Ладно. Черт с вами, хотя на ранги мне наплевать. Для меня все равны. Я ни для кого не делаю исключений».
И те в макинтошах, а один в яловых сапогах с тяжелым шрамом на щеке, остались ждать в коридоре, мрачно пережевывая его слова. Тот, в яловых, согнувшись, облокотился на правое колено и погрузил в ладонь квадратный подбородок. «Ну, мы ему мозги вправим, – сказал. – А, Федор?» И Федор, как человек, загнавший зайца в капкан, одобрительно хмыкнул: «Хирург!..» И бросил черную шляпу на соседний стул.
Фронтовой врач, постоянный ассистент Валова, ставший на войне совершенным старцем, хмуро ворчал, завязывая ему халат: «Ну не хулиган ты, Митька? Подлинный дундук. Разве так можно с ними? Они ведь, энкаведисты, церемониться не будут. Я их повидал, не приведи господи».
Дмитрий сказал: «Ладно. Хоть ты, Петрович, не бубни. А то вообще брошу все к чертовой матери. Пусть оперирует Левицкий. Отличный хирург. Что они лезут, словно врачей других нет, мать их… Могу я отдохнуть хоть один вечер?»
– На том свете отдохнешь, Митя, – нравоучительно пообещал военный лекарь. – А сейчас хватайся за дело. И собери все силы. Не дай бог, случится что: аппаратчик одной ногой уже по облакам гуляет.
– Ерунда, – отмахнулся Дмитрий. – Я его вытащу. Ему жить еще лет тридцать, как минимум. С такой мордой не помирают.
Петрович вздохнул.
– Глупый ты дурак, Дмитрий Александрович, – определил коллегу боевой врач. – Обломают тебе рога вместе с башкой. Я тебе точно говорю.
Аппаратчика он действительно вытащил. Тот очнулся. Его сразу перевели в спецбольницу. На спецобслуживание. И вот, лежа на спецкойке, ответственный работник выслушал повесть своих подчиненных, а особенно того, в яловых сапогах, о строптивом без всякой меры хирурге Дмитрии Валове.
– Ишь ты, падла какая, – не то удивился, не то обрадовался аппаратчик. – Тоже, гляди-ка, белая кость. Правильно говорил о них товарищ Жданов. – Тут он замолчал, припоминая, что именно изрекал товарищ Жданов по поводу левой интеллигенции, этих «смердящих подонках, троцкистах и зиновьевцах». – Надо поучить. Зелен еще соваться. Гляди-ка… Не таких гнули. Да, Вась? Поучить, конечно. Но… Не шибко: все же гибель он мне ликвидировал.
Год его «учили» в следственной тюрьме. После того, как переломали ребра, расплющили в дверном проеме фаланги пальцев, он понял: они сотворили самое страшное – лишили его дела жизни, того, к чему он себя так долго готовил, о чем мечтал, ради чего существовал. Все стало безразличным. Он впал в какое-то долгое забытье без конца и края. Были еще допросы, однообразные, с жестоким битьем, пытки – с кем связан, что замышлял? Почему сразу не приступил к операции? Это предательство всего Советского Союза. Всего партактива. Ты, по нашему разумению, изменник. Сволочь, недостойная не только стоять у операционного стола, а вообще числиться гражданином Страны Советов.
Потом были пересылка, этап, лагерь под Магаданом; холод, голод, смерть на расстоянии собственного дыхания, десять черных жутких лет.
Сменовластие прошло мимо судьбы Дмитрия Валова. Обдало, опалило ветром перемен, близкой свободы и улетело прочь.
Первое время Галина стучала, куда только было можно. Взывала, молила сообщить, как он и что с ним. Увы! Она билась в глухую стену. Ни проблеска, ни искры, ни тени надежды. Одно слово – враг народа.
В больнице ей тоже никто не мог или не хотел помочь. Кто отворачивался, кто опускал глаза, кто проходил мимо. В конце концов, Галя поняла: ей осталась лишь горькая, тяжелая память. Она жила с маленьким сыном, тоже Димой – единственная весть, которую смогла передать в тюрьму. Сын и только сын стал смыслом ее существования, теплым напоминанием о светлом и счастливом времени жизни.
Теперь Галина молилась за мужа, выпрашивая у Бога прощения и милости. Хотя, прощения – за что? Этот вопрос оставался без ответа.
А Хирург – иначе его ни в тюрьме, ни в лагере не называли – покорно взвалил на плечи крестообразную судьбу и нес ее, согнувшись, сквозь все тернии, выпавшие на его долю.
Двадцать лет лагеря прокатились по Хирургу, что горная лавина. Он вышел оглушенный и сам не мог объяснить, почему сразу не поехал домой.
Лагеря сменились скитаниями, случайными работами в тайге и Магадане, снова тюрьмой за отсутствие прописки, а стало быть – за нарушение паспортного режима, а значит – за бродяжничество и, стало быть… – за старые грехи. «Но за какие грехи, мать бы вашу!» – выстрадано вырывалось из самой души.
Ах, Магадан, Магадан!.. Обетованная столица горя. Сколько жизней зарыто в стылой земле Колымской трассы. Могли бы там лежать и его, Дмитрия, кости. Лишь чудом вынесла судьба. Уцелел. Значит, надо думать, кто-то охранял все эти страшные годы, чья-то любовь миловала, берегла. Только вот для чего? Кто он теперь, Дмитрий Валов? Изгой, бродяга, лист на ветру, мусор человеческий. Без семьи, без дома, без работы. Смешно сказать – хирург. Да было ли это когда-нибудь? Одно название. Словом, бич бичом – так тут называли шатающийся без дела люд. Конечно, он мог бы пойти в больницу, мог бы хоть чем-то быть полезен, но мысль о невозможности из-за покалеченных рук оперировать была, как осколок под сердцем – больной и невыносимой. В тюрьме и лагере он помогал страждущим и, кажется, не одного спас от гибели, но то было другое. К тому же в больницу принимали специалистов постоянного места жительства. Такового у Дмитрия не имелось. Да и диплом… Где он теперь?
Получить штамп о прописке можно было лишь, подрядившись на тяжелые строительные работы, для которых у Хирурга уже не хватало сил ни физических, ни душевных. С некоторых пор он признавал только сезонную работу в тайге. В небольших людских группах то ли геологов, искателей некоей подземной пользы, отождествляемой Хирургом с обнаружением добра, то ли с наемными косарями на покосах лесной травы, что тоже было благом свободного труда. Над душой не висели начальники, пусть отдаленно, но все же напоминавшие чем-то осточертевших лагерных службистов, отравленным мнимым над людьми превосходством при всех своих пороках и грехах.
В тайге вокруг стояла вечность, целительная тишина и покой. Тут Хирург знал, что ему делать, как, и работал с радостным сердцем, понимая суровый бесконечный мир, будто собственную судьбу Он наблюдал изо дня в день шапки ледников на вершинах синих сопок, голубое движение воздуха, гонимого упругим ветром, серебряный ток рыбы, стройно идущей на единственный в ее жизни праздник любви и смерти. Видел, как учит охотиться малыша мать-медведица и как честно, в равной схватке добывает право вожака круторогий красавец-олень. Все это свершалось по извечным законам. Но кто же тот мудрец-законодатель? Почему он забыл о людях: невинных, беззащитных, обездоленных? За что расплачиваются они? За какой тяжкий грех? За чей?
Хирург давно осознал: эта расплата – есть Высшее Повеление. Он догадывался, за что расплата, и видел, чувствовал мир людей как нечто глубоко несовершенное, уродливое, чуждое мудрости природы и потому постоянно скорбел за весь человеческий род.
Нет, не все сгорело в пепел в его душе от собственных и виденных страданий, и Хирург иногда плакал одной единственной, имевшейся для утешения, слезой, посылая в неведомое пространство грустную надежду на пробуждение людского разума и духа.
В такие минуты, как малый огонь, затерянный в мировой чаше, Хирург, словно сжигал себя для всего человечества, как бы избавляя и очищая его от наносного, ненужного, заплесневелого, ржавого, и дерево добра вырастало из него, осыпая всю землю светоносными лепестками с цветущих веток.
Но Хирург не удерживал в себе мыслей, понимая, что мысли – это облака, которые уплывают и приплывают. Это гости, что приходят и уходят. Нельзя уйти вместе с ними, потому что тогда можно стать их рабом. Можно в хороводе облаков потерять небо, которое и есть – чистый ум, который должен оставаться чистым всегда. Это Хирург знал точно.
Потом он снова трудился и наблюдал бурное течение времени, но снова, вспоминая людей, пользовался единственной полусухой слезой.
Так существовать было отрадно: ум и сердце точно находились рядом, в голубом воздухе, и их можно было время от времени трогать, как милые, близкие по жизни предметы, без чьего-либо постороннего вмешательства.
Но вот кончался летний сезон работ, и наступало унылое, долгое ожидание заработанных денег.
Сезонники сомнамбулическими тенями плавали в коридорах Управлений. Сидели на корточках вдоль стен. Нещадно чадили табаком. Гасили окурки о кумачовые стенды с фотографиями передовиков, спорили, ругались и проклинали все на свете: воловью работу, собачью жизнь, начальников, бухгалтеров, министров, правителей и медведицу-Дуньку, которая, как утверждали старожилы, раньше работала у старателей просто забавой, теперь же свободно гуляла по тайге, разоряя ежегодно то один, то другой стог косарей.
Многие сутки люди питались желтой слюной с прокуренных обвисших усов, продавали в поселке с себя вещи, чтобы согреть терпение спиртом и заглушить голод. В этом затяжном времяпрепровождении кое-кто терял равновесие, начинал производить дополнительный шум, ища соблюдения законности и элементарного уважения трудовых мозолей. Но то были, в основном, новички. Их, не получивших зарплаты, тут же загружали для экономии государственных средств в милицейские машины и отправляли, невзирая на доводы, в места более веселые – благо, на Колыме тюремные службы до сих пор на особой высоте.
Наконец, недели через три-четыре, измученный, отощавший, посеревший лицом народ приглашали к кассам.
Деньги были не то чтобы очень большие, но и не малые. В эту таежную страду Хирург и его бригада из двух, кроме бригадира, человек получила заработанное. Погода миловала – ни тебе ливней, ни засухи, словом, повезло. Был сначала в бригаде и четвертый – личность тихая, с виду почтенная.
Человек этот прибыл в тайгу в костюме, галстуке, с портфелем, где у него хранилось аккуратно сложенное, несвежее белье, походная механическая бритва, затертое-перезатертое, – так что и прочесть трудно, – Евангелие и детская наивная игрушка – резиновый заяц. Косарь этот, именем Василий, сойдя в тайгу с вертолета, молча просидел целый день на пне, облокотясь на свой драгоценный портфель, как бы размышляя, кто он есть такой на белом свете, а к вечеру отправился за выяснением или от любопытства в дебри. С тех пор его никто не видел, хотя и посылали на поиски вертолетную команду. И вот сейчас Василий снова обнаружился у касс. Был он потрепан, худ, но в том же костюме и галстуке и так же сидел в углу на какой-то ветхой коробке, облокотясь на свой дерматиновый портфель. Все также смотрел он с некоторым удивлением в пространство, словно спрашивал себя и окружающий мир: что из этой жизни может выйти.
Оказалось, Василий – странник, и к кассам его привел попутный интерес. Получать же ему было нечего. Хирург вытащил наугад из кармана денежную бумажку и подарил страннику, так как считал, что деньги не могут быть препятствием в части проявления добра. И прочие сезонники по примеру бригадира натолкали в портфель Василию кто сколько – пусть человек живет, путешествует и ищет ответы на тайные вопросы природы.
С первого же дня из-за своего повышенного интереса к философии, а точнее – к теософии, Василий немедленно приобрел кличку Гегель, и теперь люди, подарившие ему материальные средства, любопытствовали:
– Как же ты, Гегель, из тайги выскребся? Да еще в ночь тогда канул.
– Тайга – обитель, – откровенно мудрил Василий. – А в обители и во мраке – свет.
– Хм… О-би-тель, – напевно повторял вопрошатель, будто слышал это слово впервые.
– А вроде позвал кто. Голос был.
– Хм… Голос, – усмехался сезонник и скреб коричневым кургузым пальцем под фуражкой. – То у тебя, видать, глютики были, а не голос. Ошивался четыре месяца где?
– Сначала песцов харчевал одному буржую. Потом в Москву летал.
– В Москву-у? На кой она тебе, Гегель, Москва?
– Спросить.
– Чего спросить?
– Когда правда будет.
– Ну, и спросил?
Тут Василий сиял.
– А то… Спросил. А как же.
– Ну?
– Сказали – скоро.
– Кто сказал?
– Один военный в Кремле, – не выдал Василий.
– А тебе-то, правда зачем?
Василий хмурился.
– Без правды род гибнет.
– Чего? Какой такой род?
– Какой, какой, – недовольно бурчал Василий. – Российский.
– Российский, – задумчиво произносил работник тайги. – Это что тебе, сыр?
– Сам ты сыр, – обижался Василий. – А насчет правды я еще в ООН написал. Пересуде Куэльеру. Лично.
– Да, Гегель, – уважали Василия рабочие. – Видать, ты натуральный Гегель. Прописан-то где?
– Да где жа. На Колыме.
– И жена есть?
– Есть. Куда ей деться.
– Как же она тебя терпит? Ведь ты, Гегель, цыган.
– Она кроткая, – улыбался Василий. – Божественная женщина.
Сезонники полюбили Василия за то, что он дурачок, и пригласили отпраздновать с ними победу над сеном.
Праздновать решили в проверенном, не прохожем месте, в одинокой избе на берегу океана у Захара-полицая. В свое время Захара не расстреляли только за то, что он не зверствовал и даже умудрялся передавать кое-какие нужные сведения для подпольщиков. Однако в некоторых операциях не выдержал, поучаствовал поперек партизан. Потому в сорок шестом отправился на вечное поселение в колымскую, ледяную глушь. Тут Захар погоревал о проклятой войне и о своем, таком постыдном в ней участии. Но обжился. Зимой охотничал, летом подавался в рыбсовхоз. Была у него тут и жена, адыгейка, баба таежная, умелая, работящая. Ан вот взяла и ни с того ни с сего без всякого предупреждения померла. Так стал Захар на старости лет бобылем. К нему-то по давней дружбе и направлял Хирург свой праздничный отряд.
В пути выявилось, что пришлый Василий хромой на обе ноги. За свое всеядное влечение к правде и религии он, по его словам, в молодости отбывал кое-какой срок, нарвавшись на истинных марксистов. В лагере на философа обрушилось дерево, но благодаря счастливой звезде Василия, уклонилось чуть в сторону и пало только ему на ноги.
Хирург сразу определил дефект человека и взял с его плеч тяжелый рюкзак с провиантом и вином, позволив Василию нести менее громоздкие вещи плюс портфель с резиновым зайцем. Заяц, как обнаружилось, тоже являлся предметом идеализма, можно сказать, мистики, олицетворяя покорность и кротость. Но мистику Хирург почитал с давних пор за тайную энергию добра, так как сам, не имея инструментов, лечил лагерных больных одним желанием сердца, что целебным теплом стекало на страждущих с его изуродованных рук.
В ленинградской предвариловке Хирургу чуть было не вышибли мозги, отчего потом многое забылось. Он, Хирург, идя, тем не менее, окольным путем, по новой дороге, добрел до того, что есть на свете некая тайная музыка, которая сверху заряжает через позвоночную антенну одного человека, от того поет другому, от него третьему и дальше. И каждый пользуется этим неслышным хором как скрытым языком. Есть и тот, последний, кто тихо посылает мелодию обратно вверх, чтобы налить ее новой силой. Вот тогда, – понимал Хирург, – все происходит заново, и всякий человек, и все люди, согретые тайной музыкой, сплетены с ней, как цветы в венке. Жаль только, не все слышат ее, способную покоить и врачевать…
Вот этой ниспосланной рапсодией и действовал Хирург, что боевым скальпелем.
Из совхоза трое косарей и примкнувший Василий ехали на автобусе, который, как положено, опоздал минут на сорок. За это время сезонники успели хорошо пообедать, утешив, наконец, нервы и заполнив вакуум в желудке. В автобусе у них образовался один общий, братский ум и коллективная память, которой все трое и примкнувший Василий стали шумно пользоваться как орудием дружбы и симпатии. Остальной народ в машине был добровольный, старательский, закатившийся в большинстве своем из теплой Украины и потому – горячий, громкий и беседолюбивый. Все они были кто с мешком, кто с ящиком, где находились разные слесарные инструменты – то ли запчасти, то ли просто молотки-кувалды.
За окном начиналась метель. Белой пылью играла по обочинам поземка. Тяжелые сопки, обросшие редеющей к вершинам древесной шерстью, сидели, съежившись, в снегу. А в автобусе было жарко, накурено и весело. Пахло бензином, овчиной, железом.
– Павло!
– Шо?
– А ну, отгадай загадку, – хитро приглашал своего товарища один щирый магаданец.
– Давай, – согласился тот.
– От-таке маленьке, пухнасте, хвост, четыре ноги, два уха и гавкае… Шо оно такое? Га?
– Тю… – удивленно выразился испытуемый, – та собака ж.
– Та ты, наверно, знав, паразит, – изумился затейник.
Этот человек, добротный, мордатый, в меховом полушубке, громко смеялся от своей шутки густым, раскатистым смехом, сдвинув для прохлады волчью шапку на затылок. И остальные его друзья солидарно радовались тому, что можно скрыть за чушью глубинную боль жизни.
Хирург поставил этому явлению диагноз – всепоощряемая глупость, явление, приобретенное в результате государственного уродства.
Нет, он не винил людей за поверхностный ум. Не было никакой тайны в том, что не от хорошей жизни сорвались они с родных вишневых, тополиных мест Украины и бросились в замороженную Колыму. Они хотели жить сегодня, а не в призрачном завтра; жить, работать, растить детей и не знать ущерба ни в чем. Они и работали, любя свою землю, с утра до ночи, а получали гроши, на которые и купить-то было нечего. Так и перебивались, томясь и мучаясь от тоски окружающего. Одни начинали любить вино, другие, уже не поднимая головы, тянули по унылому кругу свою лямку, третьи, плюнув и перекрестясь на все четыре стороны, подались на Север. Эти работяги не ведали толком ни собственной истории, ни любопытных наук, чего и добивался социализм, и только хваткий ум, выгода да еще доля рисковой удачи держали их в далекой колымской земле. Многие привыкали, прожив на Севере с десяток лет, и уже не могли вернуться в родные края.
Все это Хирург знал и сочувствовал неизвестным старателям теплым сердцем: «Бедолаги, прости, Господи. А что сделаешь – жизнь такая: дурнем легче. Дергай ручки бульдозера или крути баранку, а остальное – катись оно все к такой-то матери».
Правда, в своем деле приисковые рабочие были мастерами. А что не велось разговоров о душе, всеобщем благе – так кто в этом виноват?
В этот сенокосный сезон Хирург набрал в бригаду таких же бичей, каким был и сам. Внешне все они здорово походили на бродячих псов и запах имели соответствующий.
Один из собригадников в прошлом значился боцманом рыболовного судна, потому и кличку получил соразмерную – Боцман. Его списали на берег за кулачную расправу, которую тот учинил над замполитом корабля, застав политического командира в своей постели с собственной женой. Тогда судно стояло на ремонте. Боцман заступил на вахту, но сердце ныло, что-то чувствовало проклятое сердце, да и слухи шелестели по кораблю, и он попросил товарища подменить его на пару часов.
В тот вечер замполит успел удрать от остолбеневшего корабела в окно – благо, был первый этаж. Жена, зная недюжинную силу мужа, в страхе выскочила следом. Боцман же – здоровенный детина с кулаками, похожими на амбарные замки – всю ночь просидел сиднем, тупо повторяя одну лишь фразу: «За что?» Он любил жену, хотел от нее детей, а вышло вон как.
На следующий день замполит сам вызвал боцмана к себе в каюту, чтобы, видимо, уладить как-нибудь конфликт по-хорошему. Боцман был человеком добрым, и он, было, уже принял извинения командира, простил его: бес попутал парня. Но замполит, обрадовавшись, что дело так легко замялось, перестарался, посоветовав боцману в окончание разговора выгнать жену к чертовой матери, раз она такая шлюха. Вот этого боцман стерпеть уже не мог. Он вытащил замполита на палубу и тут, на глазах у многих моряков, одним ударом совершил корабельному политработнику серьезное увечье головы. Боцмана списали, судили, и он вычеркнул из жизни пять муторных, тяжелых лет. На флот он больше не вернулся. Жена канула в пространство, наскоро продав причитающуюся ей половину дома, который боцман купил, когда они поженились. Продала каким-то свинарям. Те тут же развели на всем подворье чавкающее мясо, захватив под жилище для свиней боцманский сарай.
Вернувшись из заключения, боцман махнул на них рукой – делайте, что хотите: дома почти не бывал.
Пока он сидел в тюрьме, у него умерли мать с отцом, жившие под Калугой, и Боцман стал подобен ветру: один на весь белый свет, лети на все четыре стороны. Но из всех четырех сторон, куда можно было кинуть взгляд, Боцману милее была та, что располагалась в направлении океана. Там, между пучиной и небом, обжилось его сердце, а в перекатах волн и видениях дальних берегов пребывала душа.
Сейчас Боцман потерял из слуха веселых старателей. Он просто не мог их слушать: между озябших сопок вдруг показалась бухта с живой серою водой Охотского моря, а дальше, за горизонтом, – Боцман знал это памятью, – проживал огромный влажный организм могучего Океана, который испытывал моряков и кормил людей. Уж кому-кому, а Боцману была известна сила и строгий характер Океана, и за то старый моряк уважал и любил неоглядную гладь беспредельного моря, которое считал своей второй родиной. Ни одного дня не бывало оно одинаковым, и каждые сутки дышало по-разному, создавая очередную тайну природы. И эта постоянная новизна всегда поражала Боцмана, заставляя верить, что Океан – огромное живое существо с тяжелым и грозным нутром.
Иногда Боцману снилось, будто и он родился в океане, только в другом, но столь же мощном Океане под Калугой. Там он питался душистым ветром лугов, леса, пением птиц, криком петухов и сочувствием всему живому. Но зачем он покинул ту первую родину – одному Богу было известно.
– Эх, ма… – вздохнул Боцман вслух. – Какие ветры в тебя дуют, мать ты моя, Россия? – посочувствовал он всей окружающей земле.
– Какие надо, такие и дуют, – бесшабашно откликнулся нечаянный старатель. – Что у тебя, дядя, мыло во рту? Сидишь, как птица. Россию вспомнил. Россию вынесет. Не боись. Мне вон на той неделе жена письмо спустила. У них в детском саде, где она работает и сынок при ней, наводнение произошло. Представляешь ты, у них там, паразитов, ночью труба лопнула. Всех и залило к чертям в один час. Дети мокрые, а считай – зима на носу. Ну, слов нет. Поубивал бы к хренам тех слесарей. Представляешь ты, ну как с ними бороться? Зла не хватает. Женка пишет, Андрюха, сынок, воспаление грудей схватил. Ты представляешь, мать их…
– Они же, холеры, ремонт по десять лет не совершают, болт им в спину. Вот оно и… А как же, – посочувствовал еще один золотоискатель. – Не только труба, потолок рухнет.
– О то точно, – подтвердил мордатый. – Сидят в конторах, как умные Маши. Бумажки пишут, разговоры делают, а люди страждают. Ух, и ненавижу эту шваль. Покрутишься с ними – поневоле на Север утечешь.
– А ты где проживаешь? – поинтересовался у пострадавшего Василий.
– Какая разница, – почему-то обозлился на Василия золотодобытчик. – Везде одно и то же, – политически обобщил он. – Кругом одна труха. А ты – Россия…
– Дура ты подкильная, – беззлобно осерчал Боцман. – Вот это тебе и есть натуральная Россия, когда всем на все наплевать стало. На людей, на лес, на море, на все. За что боролись, на то и… Между прочим, на материке дома на тротуары валятся, террористы по стране гуляют. А ты тут в песке золотом роешься, все рубли хочешь сгрести.
– А ты-то что же не двигаешь в свою Россию? – совсем перестал веселиться старатель.
– Во-первых, не в свою, а в нашу, – резонно заметил Боцман. – А во-вторых, мне нельзя отсюдова сдвигаться. Я тут скоро помирать начну.
– Чего тебе помирать? – вдруг включился Василий. – Вон ты мощный какой. Служить надо, – как-то официально-менторски определил он.
Боцман недоуменно посмотрел на него и почему-то вспомнил: осень, лиловый прыщ на щеке молоденького караульного, зеленый тюремный забор и – свобода…
Выйдя на волю, Боцман организовал в своей жизни такой порядок: с утра обычно работал либо в порту, либо на овощебазе, либо в каком другом месте, где государство как раз сильно нуждалось в таких оглушенных жизнью шаромыгах, платя им за тяжелый, в грязи и вони, труд гроши. Там Боцман, благодаря медвежьей силе, катал огромные бочки, таскал мешки, швырял ящики, сгребал зловонный мусор отходов, чтобы заработать на нехитрый ужин. Вечерами после работы он часто отправлялся на пустынный берег и начинал, глядя в океанский простор, долгую, единственно желанную трапезу забвения и грезы.
Имея в кармане волчий билет, Боцман посетил однажды отдел кадров пароходства. Его встретил какой-то новый, незнакомый человек с гранитным, неподвижным лицом. Изучив документы Боцмана, начкадров поднял на него холодные, враждебные глаза.
– Ну, и кем бы ты хотел? – спросил он, сверля старого моряка металлическим взглядом со своего гранитного лица.
– Боцманом, – сказал Боцман, уже понимая, что ему тут ничего не светит.
– Может, сразу капитаном? – поинтересовался распорядитель флотского состава.
Боцман устало посмотрел на специалиста по кадрам, чем-то сильно напоминавшего ему начальника тюрьмы и, отняв у него свои документы, не то риторически, не то обобщенно спросил:
– Сколько же вас, мудаков, на свете? А? Мама родная!
С тех пор он уверовал: будущее для него закрыто на замок. «Все. Баста, – сказал себе тогда Боцман, – отрезано и забыто».
Но то, что решил он забыть, как ни старался, забвению не давалось, ныло и болело. Трудно было смириться с тем, что, видимо, не придется уж больше пошататься по скользкой, уходящей из-под ног палубе среди воющей штормовой непрогляди. Не случится схлестнуться с ней, а, победив, ощутить себя заново рожденным. Конечно, остались друзья, морские волки, которые ради Боцмана прижали бы любого, кто помешал бы ему снова жить по-людски, но он был не из просящих о помощи. После визита в отдел кадров у Боцмана появилось ощущение, что он вообще весь заляпан дерьмом. Как мог он, гордый, свободный человек, войдя в кабинет этого каменного истукана, содрать с головы шапку и униженно попросить разрешения пройти к столу? Шапка – бог с ней. Но остальное – тон разговора, задушевный голос, переминание с ноги на ногу у стола… Как, когда его так переломили? Боцман презирал и ненавидел себя за это. Он ненавидел тюрьму, весь ее сатанински выхолощенный порядок и уклад, после которого люди выходят либо калеками, униженными, заглушенными, либо – уродами, способными на равнодушное убийство и насилие. Себя Боцман втайне считал душевным калекой и возврата к здоровым не видел. А кто мог определить степень его инвалидности и оплатить ее? Никто.
Поэтому, уединившись на берегу океана, он раскладывал на камне небогатый свой ужин и устремлялся сердцем туда, где крошечными игрушками то появлялись, то исчезали корабли. Под крик чаек и шум волн этот вид грел его душу. Боцман незаметно уплывал в другой, настоящий мир любви, воспоминаний, где все было мило, все имело значение и высокий смысл. Хоть и обозначалось на языке Колымы самыми простыми и грубыми словами.
Была, правда, на берегу одна женщина – Настя, у которой Боцман иногда покупал водку, так как в последнее время с этим делом стало совсем туго. Что поделаешь – указ Горбачева. Правительство поменялось. Новое – решило быть трезвым и прекратить выпивки, желая личным примером показать народу, как существовать правильно. Народ же оставался разного отношения к сложившейся жизни. Иные пока не желали становиться как правительство в силу многих причин. Однако, раз «верха» осенила здоровая идея, унесшая жизнь дородных, долголетних виноградников, то опустели винные магазины, отчего неожиданно повсюду возникли спекулянты, не боявшиеся никого и ничего. Спиртное поднялось на уровень основного дефицита.
Настя работала в ресторане, а потому проблем с водкой для нее не существовало. Боцмана она знала. Когда-то он был лучшим другом ее мужа, инспектора рыбоохраны, убитого в тайге три года назад неизвестно кем. Поэтому для Боцмана в любое время дня и ночи была припасена пара бутылок.
Сразу после работы Боцман, переодевшись в оставшуюся от старых времен приличную одежду, частенько отправлялся к Насте, получал спиртное по ресторанной цене – больше она никогда с него не брала, хотя откровенно приторговывала, – и дальше уже следовал на берег моря.
Однажды Настя пригласила Боцмана по старой памяти в гости, устроив что-то вроде вечеринки на двоих. Она жила одна в двухкомнатной квартире мужа, от коего сохранились лишь охотничье ружье, висевшее на гвозде в спальне, – теперь это была комната сына, – несколько рубах из хорошего шелка, свадебный костюм. Его Настя иногда нюхала в минуты печали и тоски, не пытаясь сдерживать поминальные слезы. Рядом с задумчивым, хрипло поющим, когда его открывали, шифоньером с ее вещами, вещами мужа и сына, которого Настя недавно проводила в армию, висела семейная фотография в рост. Виктор, черноволосый, остроскулый и строгий, как ворон, Настя, совсем молоденькая в светлом платье, счастливо улыбающаяся, с тугой косой на груди и трехлетний сын Алешка, коротко стриженный, курносый, с игрушечным автоматом и сбитыми коленками.
Насытившись запахом мужа, наплакавшись и настрадавшись в теплой глубине памяти, Настя затем ритуально долго простаивала возле портретного слитка прошедшей жизни, уже спокойно вспоминая, что Алешка в тот день был простужен, соплив, что потом вернулись из фотоателье домой, уложили сына спать, а сами сели праздновать третью годовщину свадьбы. Выпили по рюмке коньяку и вдруг, не сговариваясь, лишь натолкнувшись друг на друга жадными глазами, сбросили с себя одежду прямо на пол и кинулись, как сумасшедшие, в прохладный постельный омут, в сладкий хмель любви, единственной и теперь несбыточной. Припомнив все до мельчайших подробностей, от рваного шрама на бедре Виктора – свидетельство одной из схваток с лесными бандитами, колючего подбородка, крепких мышц и деревянных ладоней, Настя обычно вздыхала и трогала маленькую трещину на стекле в правом верхнем углу портрета.
Такими были у нее моменты запредельного общения с любимым некогда человеком. Домой к себе Настя никого не водила. Боцман был первым, кого решилась она пригласить.
Настя долго, с удовольствием стояла под душем, трогала полные, крепкие груди и радовалась, что они у нее не провисшие, как у напарницы Натальи, таскавшейся по всему Магадану неизвестно где и с кем.
Настя насухо вытерлась, повязала густые длинные волосы и подошла к зеркалу. Посвежевшее лицо было молодо и румяно. Глянцево блестел атласный лоб и, как свежая черника, тихо горели глаза. Яблочно налитые груди ее вершились упругими бледно-коричневыми сосками – их так любил целовать Виктор. Голубовато-мраморный живот не имел складок и стекал книзу в плавные округлости бедер. Настя подумала, что в свои тридцать восемь она еще хороша – Бог не обидел, – что она еще может любить и быть любимой и что Петр, старый друг Виктора, которого она сейчас ждала, будет ее вторым мужем, а это красивое тело против зеркала станет принадлежать ему Сегодня же. В этом Настя не сомневалась. Она помнила, как Петр появился в их доме впервые. Его рук, его мягкого баса, всего его было так много, что казалось, комната состоит из одного Петра. Неуклюжий, неловкий, он сразу свалил дорогую вазу и потом не знал, куда себя деть, но добрее глаз и улыбки Настя не видела никогда ни у кого, даже у мужа. Она была спокойна и уверена в том, что даст счастье этому горемычному человеку.
Настя сняла с головы полотенце и стала расчесываться, как вдруг глаза ее словно обожгли два кричаще ярких седых волоса. Остро, пронзительно засквозило на сердце и, наспех выдернув седину, Настя какое-то время смотрела на две легкие серебряные нити, впервые так близко, так явно шептавшие ей о том, что не столь непогрешима и долговечна женская краса. Тем сильнее захотелось, чтобы скорее пришел Петр, но до его прихода оставался еще час.
Настя набросила густо-красный махровый халат, сделавший ее похожей на тропический цветок, и вышла из ванной. Цветок этот проплыл по комнате и застыл у балконной двери. За окном стояла густая морось. Растирая крем на руках, Настя смотрела в сторону, через балкон, вдаль улицы. По ней темными, мутными пятнами, как моллюски в аквариуме, нахохлившись, торопились по своим делам прохожие. И глядя на них, она, истосковавшись за долгое время одиночества, с нежностью представила, как придет Петр, промокший, озябший мужчина, пахнущий морем и табаком. Настя поможет ему снять сырую одежду и проводит в тепло, в уют.
А Боцман таскал в этот промозглый день мешки с луком на овощной базе, пропитанной тошнотворно-сладким запахом гнили, и все соображал, с чего это Насте приспичило звать его к себе на вечер – вроде бы и праздника никакого… Она так и сказала: «Приходи, проведем вечерок. Поужинаем». Сказала и прочно вогнала в Боцмана тревогу. Внутри у него стало так неуютно, словно он замарался какой-то ложью.
Боцман давно отвык от женщин, общения с ними, отвык от ласк, поцелуев, потаенных слов. Настя же напомнила ему даже не самим приглашением в гости, а каким-то едва уловимым наклоном головы, всплеском небрежно откинутых волос, особым теплом голоса, что существует некая, уже забытая Боцманом магнитная сила, имя которой – Женщина. И вот этой неожиданной, позабытой данности женщины Боцман откровенно испугался.
И после работы, в тяжелом предчувствии чего-то недоброго, Боцман поплелся к Насте, орошая всю улицу запахом лука и табака. Он не желал никак и ничем нарушить святость памяти друга и уж совсем не желал встреч с его (не приведи Господи!) оскорбленной им, Боцманом, душой. Этого он не допускал даже в мыслях, хотя когда-то – вдруг всплыло в памяти – Настя ему очень нравилась.
Боцман нес в подарок два одинаково важных в хозяйстве предмета – полмешка отборнейшего лука и апельсин, подаренный ему начальницей смены за то, что Боцман без подъемного крана поставил на место завалившийся контейнер.
Настя была в восторге, словно видела и лук, и апельсин впервые. Боцман от ее радости позабыл немного свои тревоги и потеплел. Но тут оказалось, что придется снимать сапоги, и его прошиб холодный пот: Боцман уже два дня спал в своей хибаре, не разуваясь.
Выручила Настя. Она повелительно затолкала Боцмана в ванную, наказав хорошенько прогреться в горячей воде. Боцман, куда деваться, разделся, отлепил от ног портянки и залез в ванну, которая была для него, что детский горшок. Кое-как устроившись, он открыл душ, намылился и ощутил под током теплой воды блаженство, какое испытывал когда-то после вахты на корабле.
Неожиданно вошла Настя, принесла, как старая жена, свежее белье. Деловито и привычно взглянула на Боцмана, словно это был не голый Боцман, а какой-нибудь привычный по жизни дубовый шкаф.
Боцман враз сник – ему стало ясно: он влип. Какое-то время Боцман тупо наблюдал утекающую, будто собственную жизнь, воду. Затем встал, вытерся и, не взглянув на чистое, намотал грязные портянки, оделся и вышел из ванной.
Настя встретила его в дорогом платье и золоте. Стол дразнил деликатесами. Была Настя красивая и жалкая. Она взглянула на Боцмана и с холодком в сердце догадалась: ни радости, ни счастья не будет. Боцман тоже провалился в вязкий сугроб тоски.
Они обреченно сели за стол, вспомнили Виктора, бывшего мужа Насти, и Боцман, обойдя приличия, вылил в себя фужер коньяка. Помолчали. Говорить Боцману было не о чем: не о тюрьме же рассказывать. О чем говорить? И так на душе хмарь одна.
– Я пошел, – вдруг сказал он, поднимаясь. – Спасибо тебе, сестра, – неожиданно вырвалось откуда-то изнутри. – Одна ты у меня осталась, и порушить нашу дружбу я не могу. Не имею права.
– Присядь, – жестко приказала Настя, не глядя на него. – Куда ты пойдешь? Причаливай, моряк, ко мне. Жизнь – дрянь. Счастья нет. Все лезут с грязными лапами. Тошно. Витя был хороший. За ним я цвела. Но нет его. У судьбы свои расчеты. Ты, Петя, тоже хороший. Я знаю. Останься. Я еще тебе детей нарожу. Какие наши годы? Тебе сорок да мне тридцать восемь. Жизнь уходит, Петя. Живи у меня.
– Не могу, – сознался Боцман. – Витя как брат мне был.
– Витю не вернешь! – закричала Настя. – Как ты не можешь понять? Он там, а мы здесь. Нам жить полжизни. Ты здоровый, сильный мужик, я еще молодая, крепкая баба. Оставайся, Петя. Работу тебе приличную найдем – меня все знают. Ведь пропадешь, умрешь от водки, а горю не поможешь.
– Витя там, – повторил раздумчиво Боцман. – Но мы-то здесь. Как же будем потом в глаза ему смотреть? Что же я, тварь какая-нибудь, что ли? Погань последняя, а не человек? Совесть-то у меня есть, наверное.
– Какие глаза, – безнадежно махнула рукой Настя. – Что ты плетешь?
– Не обижайся, сестра, – нахмурился Петр. – Все равно у нас с тобой ничего не выйдет: я в тюрьме все себе отморозил. Якорь заржавел совсем. Женщина как таковая меня больше не интересует.
– Якорь – ерунда, – грустно улыбнулась Настя. – Якорь твой я бы враз починила. Работал бы как часы. У меня бабка – цыганка была. Секреты помню. А вот совесть… Тут твоя правда. Совесть не купишь, не продашь. Раз Господь одарил – это навек.
Ах, судьба… Вот и просиживал Боцман на берегу океана, вспоминая всю свою переломленную пополам жизнь. Порой ему так явственно виделись и бушующее море, и корабль, на котором он отходил более тринадцати лет, и зависшая, надутая рыбным серебром, сеть, что Боцман вскакивал и кричал в неведомое пространство, словно был на палубе своего судна:
– Майнай трал! Осторожно, мать вашу! Не раскачивай, зелень подкильная! Держи! Держи, в бога душу!
При этом ветер распахивал полы его куртки, развевал уже отросшую, хорошо тронутую сединой бороду, делая Боцмана похожим на смотрителя всего океана.
Вот за этим вдохновенным занятием и застал однажды Боцмана Хирург.
Сам он брел берегом моря, чтобы слышать крики чаек, внимать запаху приближавшейся весны и глядеть поверх ледяного поля залива в синюю вечернюю даль, словно она могла поведать ему о чем-то сокровенном и осуществимом.
С утра Хирург трудился – собирал пустые бутылки, потом поел в забегаловке харчей – тарелку супа и порцию жидкой порошковой картошки с куском резиновой трески, и теперь от происходящего пищеварения душа у него работала хорошо и нежно. Кроме того, в карманах шинели остались еще на ночь краюха хлеба и банка кильки в сладком томате.
Из города он поспешил убраться, так как недремлющие милицейские машины сновали туда-сюда и в любой момент могли определить его как зловредного бродягу, несмотря на солидную, до пяток, шинель, подаренную как-то Хирургу одним бесшабашным залетным моряком.
Заезд в милицию грозил гражданину Дмитрию Александровичу Валову серьезными судебными осложнениями за пренебрежение к существующему в Магадане положению об обязательности прописки в пограничной зоне.
Хирург на эту зиму «прописал» себя в канализационной, тепловой люк под энергостанцией. Там, правда, не было необходимых удобств – света и прочего, зато имелись горячие трубы, возле которых можно было спокойно ночевать на одолженных у сторожа фуфайках, не боясь, что тебя выскребут милицейские работники, – а с ними разговор, конечно, короткий. Это Хирург знал хорошо и потому старался не попадаться им на глаза.
– За что судим? – задавался единообразный вопрос.
Но разве объяснишь – за что…
На ночь в гремящих, жестяных от мороза куртках влезала в канализацию еще пара мытарей с серыми морщинистыми лицами. Это были тихие, ночующие люди с черными, словно обугленными ногтями. Они спали прямо на трубах, накалявшихся к ночи, как утюги. Тогда мытари сползали на цементный пол и спали сидя на корточках.
Хирург, забывая о себе, смотрел на них и удивлялся: кому до этого народа есть дело? Кому? А ведь люди же!..
Питался Хирург редко. Порой ему хватало булки хлеба на неделю. Он клал ее вместо подушки под голову и спал, уверяя себя, что пища войдет в него через прикосновение и запах.
Как ядовитая змея, постоянно грозящая опасностью, проползла зима. И уже запахло весной, а с ней – не такой уж далекой свободой.
В конце весны бичи выползали из нор. Теперь их никто не трогал. Везде нужны были сезонные рабочие – в геологических партиях, в рыболовных товариществах, на таежном сенокосе, да мало ли где.
В это время толпы грязных, оборванных людей двигались колоннами к дверям разных контор и Управлений. Им не доставало только знамен.
Хирург предпочитал сенокос. Он как-то приспособился хватать своими культяпками косу и орудовал ею не хуже, а то и лучше других. Так он трудился уже несколько лет, и даже вертолетчики, пролетая над таежными участками покосов, привычно говорили: «Подходим к Хирургу».
Сам же Хирург с нетерпением ждал этого времени и все чаще уходил к морю – посмотреть на Восток, скоро ли оно явится оттуда, время сезонного труда. Берег, как правило, был пустынным, лишь рыбаки, похожие издали на муравьев, носились ватагами по льду за косяками наваги и корюшки от лунки к лунке, наматывая с ладони на локоть длинные лески.
И вдруг – фигура на прибрежном валуне, командующая неизвестно чем.
– Аврал! На камбузе пожар! Все наверх, мать вашу! – извергал Боцман не своим голосом, воображая, видимо, какую-то роковую ситуацию.
Хирург присел позади корабела, восхищенный поэзией морской работы. Но «пожар» под напором смотрителя моря был погашен, и командующий далеким матросами, утерев со лба пот рукавом бушлата, сполз с капитанского мостика. Обнаружив неожиданного человека в морской шинели, Боцман облизал пересохшие губы, поскольку уже вдоволь наорался после того, как спустил в трюм своего организма полкило водки, сплюнул от остолбенения и, наконец, пришел в себя.
– Братишка! – заревел он с новой силой, схватил Хирурга что куклу и стал, дыша спиртом, целовать прямо в губы.
Ноги у Хирурга висели над землей, а Боцман прижал неведомого человека к себе и все целовал, целовал его, как родного сына, исключительно, конечно, из-за морской шинели. Наконец, он поставил Хирурга на каменистую почву и, улыбаясь во все свое бородатое лицо, прослезился.
– А ведь я тебя помню, – все больше любил Хирурга Боцман. – Мы с тобой на «Быстром» ходили. Капитан у нас еще Семенов был.
– Это я тебя помню, – вздохнул Хирург. – Мы с тобой под Сусуманом в одной зоне страдали. Правда, я уже досиживал, а тебя только приодели в казенку. Корпус у тебя заметный, вот ты на память и лег. Сейчас узнал. Тебя, кажется, Боцманом, что ли, звали.
– Точно, – помрачнел моряк. – Одно название осталось. А тебя-то как? Чегой-то не узнаю, прости. Дым в голове.
– Меня-то?.. – Хирург помолчал, подумав, кто он действительно такой есть на белом свете. – Меня Хирургом кликали. Тоже одно название, прости, Господи.
– Да, да, да, – просветлел памятью Боцман. – Обличье твое, видишь, истерлось, а может, и не видел я тебя никогда. Я там первое время вообще никого не видел. Сам знаешь… А вот рассказов о тебе слышал много. Как ты переломанными клешнями зеков спасал. Покажи клешни-то.
– Что я тебе, экспонат? – обиделся Хирург.
– Ладно, не серчай, – повинился Боцман. – Стакан держать можешь? У меня еще пузырь есть.
– А у меня килька в томате, – сорганизовался Хирург. – И хлеба ломоть.
– Ну вот, – обрадовался Боцман. – Видишь, брат, мне тебя сам Бог послал. А то я одним сырым ветром закусываю. Да вот луковица была.
Боцман в два приема расковырял банку каким-то заточенным для вскрытия спиртного гвоздем, откупорил бутылку и протянул Хирургу стакан и, когда тот взял его, Боцман содрогнулся – кисть была расплющена, пальцы вывернуты, и непонятно – как, за счет чего они действовали. Боцман заскрипел зубами и налил Хирургу полный до края.
– Твари, – сказал он неизвестным палачам. – Разве можно так уродовать человека? За что?
Хирург, поевший пищи за неделю один раз, прожевал после водки пару килек, покачался немного, глядя, как начинают летать сопки, и лишь успел подумать, что, может быть, это весна поплыла с Востока, прекрасная, нежная весна.
Боцман поднял его, павшего на песок, усадил к себе на колени как дитя малое, отряхнул шинель и от бесконечного горя жизни бесслезно зарыдал одним горлом, глядя в застывшую, глубокую синь бухты.
В тот вечер, когда Хирург ушел от жизни в тихое беспамятство, Боцман малость покачал его на коленях для собственного успокоения, потом взвалил тюремного лекаря во всей его морской форме к себе на плечи – Хирург был вдвое легче портовых мешков – и не спеша двинулся домой.
Конечно, в таком навьюченном состоянии по городу Боцман пробраться не смог бы. Поэтому, дойдя до порта, он остановил пограничную машину и, указав на Хирургову шинель, объяснил, что сей морской пограничник по причине усталости от службы нуждается в немедленной доставке к месту проживания. Лейтенант, сидевший рядом с молоденьким водителем, почуял от Боцмана нетрезвый ветер и посочувствовал морскому охраннику границ, сказав: «Давай, кидай его взад, на корму».
Хирург очнулся в тихой незнакомой комнате на приличной кровати среди, как ему показалось, очень хорошей и даже пугающей обстановки. Здесь была та самая кровать, на которой царственно, под настоящим ватным одеялом возлежал Хирург, две табуретки, тумбочка, являвшаяся одновременно и столом, и газовая печка. То есть комфорт полный. Кроме того, на стене висела шикарная афиша, прочно прибитая ржавыми гвоздями. Афиша изображала каких-то грузин с гитарами. В углу на стуле со спинкой стоял огромный, как собачья будка, старый телевизор с бархатным слоем пыли на экране. Все это было для Хирурга чем-то вроде московского «Метрополя».
У него нехорошо заныло под ложечкой: куда это занесла нелегкая?
И вдруг страшный ужас пронзил лекаря. Он понял, что на нем нет шинели. Хирург вскочил, как от разрыва бомбы, но обнаружилось: шинель аккуратно висит позади кровати на качественном, прочном гвозде. От мгновенной усталости духа Хирург снова упал на постель, чтобы сердце вышло на ровный ход.
Было тихо, только со двора все время раздавались какие-то чавкающие звуки. Хирург встал и осторожно подкрался к окну. По истоптанной грязи подворья ходила и паслась какой-то дрянью из нескольких, выставленных в ряд корыт, толпа жирных, неторопливых свиней. Среди них возилась с ведром здоровенная, сама похожая на одну из чушек, тетка лет семнадцати.
Хирург вообще перестал что-либо понимать. Он трудно вспомнил, что встретил Боцмана, что они выпили на берегу, что он, Хирург, съел две кильки, что был синий вечер с далекими огнями кораблей. Но откуда взялась свинарня? Этого он понять не мог.
Слава богу, на тумбочке обнаружилась записка. «Пошел на работу Буду поже. Никуда не совайся. Харч промеж окон. Боцман. Смотри, не вылазь».
Хирург стал думать, успокаиваясь: до вечера далеко. Что бы ему такое сделать? Чем бы стратегически полезным заняться? Но ничего не придумал. Из «харча» имелся кусок сала, видно, соседского, и соленый огурец, так что готовить было нечего. Выходить из дома Хирург не помышлял, раз хорошим человеком никуда не велено «соваться». Тогда он лег на кровать и уснул до вечера, потому что не помнил, сколько лет назад нормально, по-человечески ночевал.
Вечером пришел с трудовой вахты Боцман.
– Ты тут, – обрадовался. – А я целый день боялся: не дай бог утечешь.
– Зачем? – сказал Хирург. – Записка ясная. Что ж я тебя подводить буду.
– Правильно, – сразу успокоился Боцман и кинул по привычке забрызганный рыбьей чешуей бушлат на газовую печку. Затем он смыл хозяйственным мылом с рук полведра мазута с сажей, умыл бороду и вытерся внутренней частью своего универсального бушлата. И расцвел.
– Порядок, – удовлетворился Боцман общим положением. – Давай будем рубать.
Из той же внутренности бушлата он извлек бумажный сверток, в котором оказалось килограмма два селедки.
– В порту сегодня был, – объяснил селедку Боцман. – Ребята дали. Говорят – бери ведро. Жалко, ведра нету. А то бы засолили.
Вдвоем они кое-как пожарили рыбу на сале и сели за тумбочку. Тут, во время ужина, Боцман и учинил Хирургу строжайший допрос, из которого выяснил его канализационное местожительство и кое-что в общих чертах из прошлой жизни. Хирург же в свою очередь тоже проведал о следователе кое-что в общих чертах, поскольку в здешней местности не принято было говорить о себе больше нужного, как бы ты человека ни возлюбил. Тут действовал закон особой мужской скромности.
– Так, – вынес приговор Боцман. – Будешь жить у меня. Мол, брат из Находки. Своим свинарям-соседям скажу, чтоб не цеплялись. И баста. Понял? А дальше видно будет. Может, я тебя официально пропишу, как какую-нибудь родственную личность.
До самой поры сезонных работ так и жили они по приказу Боцмана вместе.
Хирург похорошел, приосанился, даже между кожей и костью у него образовалась от постоянного питания легкая жировая прокладка. Весь этот период он тоже без дела не сидел.
Однажды Боцман привел с собой портового грузчика, здоровенного, краснолицего дядю, который внутри был калека. Много лет его жгла, точила и не давала житья язва желудка, и потому, хоть он и имел красивое мясистое лицо, но лик его был таким кислым, словно он навсегда объелся клюквой. Хирург усадил грузчика на собственную кровать и мягким, задушевным голосом родного брата попросил поведать ему, какое жизненное неустройство испытывает пострадавший. Грузчик сгреб с головы шапку и открылся Хирургу, будто на исповеди.
– Тогда будешь делать все как, я скажу, – постановил Хирург. – Иначе катись к чертовой матери.
Грузчик недоуменно посмотрел на Боцмана, мол, не Христос ли это, но согласился.
– Ладно, – сказал Хирург. – Тащи свой матрац – станешь жить при мне три недели, чтоб я тебя видел глазами. Короче, я тебя тут госпитализирую. На работе бери отпуск или как ты там сможешь – твое дело.
Через три недели бывший калека, веселый и отощавший, так как Хирург не давал ему ничего есть и только поил медвяной водой да палил язву через культяпки силой своего сердца, вышел на улицу и вдруг радостно подпрыгнул, напугав проходившую мимо старушку.
На следующий день грузчик отправился в поликлинику, где его давно знали как хронического больного. Врач посмотрела нутро пациента специальной японской камерой и удивленно спросила: «Вы чем лечились? Поразительно. Даже прежних рубцов нет». – «Ничем не лечился», – ехидно ответил здоровый грузчик, взял шапку и, выходя, хлопнул дверью так, что посыпалась штукатурка.
Вечером он принес Хирургу коньяку и денег. И немало денег, поскольку много лет доверялся врачам, а все, оказалось, без толку.
От такой материальной благодарности Хирург наотрез отказался, покрылся волнением и нечаянно взмахнул рукой, отчего вдруг ветхая его рубаха взяла и разошлась на спине от шеи до самого низа.
«Хорошо», – согласился грузчик, отметив неопровержимый факт негодности Хирурговой одежды. Забрал деньги, а коньяк оставил, сказав: «Хотите – пейте, хотите – бейте». И ушел.
На другой же день этот неугомонный грузчик принес Хирургу полное обмундирование, начиная от унтов и кончая лисьей шапкой, опять сказав: «Хочешь – выбрось, но это я тебе дарую от чистого сердца». И исчез теперь уже окончательно.
Делать нечего – пришлось Хирургу принять.
Дареную синтетическую шубу Хирург носить не стал, не изменив своей драгоценной шинели. В унтах, морском пальто с медными пуговицами и огромной огненно-рыжей лисьей шапке он сделался похожим на золотопромышленника-декадента. Некоторый народ оборачивался, чтобы запечатлеть необычное одеяние отставного, по всей видимости, моряка, а иная зоркая молодежь понимала Хирурга как новую моду. Милиция теперь подходить к нему опасалась. Хирург это сразу почувствовал и разгуливал по городу бесстрашным шагом.
Вслед за грузчиком явился согбенный рыбак, в обличье которого было полное нежелание жизни. Он принес Хирургу свой давний радикулит. Рыбака Хирург в стационар не положил, а велел являться на амбулаторное лечение. В первый же день Хирург раздел рыбака догола, вывел на мороз и окатил из ведра ледяной водой. Затем крепко растер его нутряным свиным жиром, который Боцман по приказу целителя попросил у соседей как лекарство. Потом Хирург положил рыбака на тощий матрац, расстеленный для жесткости прямо на полу, накрыл одеялом, оставив пустой лишь одну поясницу и начал ходить по ней босыми ногами, а после – толочь ее культяпками.
Больной выл так, что во дворе пугались свиньи и прятались от рыбака в свинарник. Зато после жестоких экзекуций Хирург чуть отдалялся от страждущего, садился на колени и начинал колдовать руками над недужим местом, как бы давя на него через расплющенные, вывернутые пальцы неведомой силой. Тут измученный рыбак сразу засыпал, посапывая, будто ребенок.
Через десять дней повеселевший, полностью разогнутый работник моря, зная, что Хирург денег не берет, выволок из такси бочонок красной икры, заявив на яростные возражения лекаря: «Не ори. Видишь, сам нес через весь двор, целых тридцать метров. Значит, ты меня качественно починил. А назад я бочонок не попру. Хоть стреляй». Сел в машину и укатил.
Затем с визитом была полная дама лет тридцати. Может, сорока. У дамы где-то что-то «свербело», а где – она и сама не знала.
Хирург сразу поинтересовался ее личной жизнью, замужем ли она и как часто испытывает женские радости наедине с мужчиной.
Выяснилось: дама не замужем, но у нее есть жених, трудящийся на флоте, и потому, конечно, женские радости ей приходится испытывать нечасто. Тут посетительница уже прониклась к Хирургу доверием и созналась, что такое положение ее, откровенно говоря, не устраивает, и она беспокоится – не станет ли изменять будущему супругу вследствие сложившейся ненормальной ситуации, в то время как женские радости ей требуются чуть ли не каждый день.
Хирург задумался. Ему не приходилось сталкиваться с чем-то подобным. Где у дамы свербит, было понятно, но как ей помочь – он затруднялся. Однако недужная пациентка в порыве откровения донесла целителю, будто жених плюс ко всему не всегда ее удовлетворяет, и это обстоятельство неожиданно облегчило задачу.
Хирург тут же полюбопытствовал, в каком положении фигур строятся любовные отношения. Дама несколько смутилась, покраснела, высморкалась в надушенный платочек и, наконец, созналась, что ее суженный, хоть и моряк, но фантазией ума не отличается и норовит по праву мужчины расположиться всегда сверху, не понимая, что эту позицию, равно как и прочие, иногда не вредно уступить и женщине. Дама же – существо слабое и противиться не может, так как она приличного воспитания. Не дай бог работник моря что-нибудь заподозрит: все-таки, ей уже не двадцать.
Хирург сказал: «М-да-а…» и посоветовал даме отбросить всякий стыд как предрассудок, предаться с женихом самому вольному воображению и привлечь к этому плаванию любви непосредственно моряка, сделав его капитаном дальнего странствия. К сему Хирург добавил некоторое практическое руководство на случай обвальных штормов, грозных ливней или, напротив, полнейших, томительных штилей. Ну а в случае чего, Хирург посоветовал сослаться на рекомендации врача.
Дама удалилась со счастьем тайной надежды в глазах, не предложив ничего, кроме «мерси» и позволения снова явиться через некоторое время. Для консультации.
Хирург был доволен: хоть что-то сделал бескорыстно, однако, ложась спать, обнаружил под подушкой деньги. И немало денег.
– Ты бы мог миллионером стать не хуже моих свинарей, – невпопад высказался Боцман.
Хирург помолчал и горестно вздохнул.
– Эх, Петя. Хороший ты человек, а тоже во тьме. Дурак, прости, Господи. Я вот и за тебя скоро возьмусь. Ты разве не видишь глазами: эти миллионеры… – Тут Хирург захлебывался от избытка ярости. – Это же все рабочие дьявола! Им нужно больше, больше, еще больше. Есть у них честь, совесть, человечность? Они бегут по головам и трупам, слепые и безмозглые. Бегут до первого поворота, за которым и встречная машина, и пуля в груди, и просто рак мозга или печени. Или смерть ребенка. За все придется отвечать, Петя. А ты говоришь – миллионером… Их только пожалеть можно. Да и то – нельзя, потому что в жалости есть осуждение. А кто мы такие – судить? Сатана берет их и машет зеленой бумажкой перед носом, и они цепляются, забывая, что Иисус говорил: «Если потеряешь себя, то достигнешь. Если будешь цепляться за себя, то потеряешь…»
– Ты это наблюдаешь? – показывал Хирург расплющенные руки. – Твои свинари животных на деньги переводят. А те… – Он заскрипел зубами и посмотрел в черное окно. – Те – людей… За власть. Вся Колыма костями, как горохом, засеяна.
– Это – правда, – согласился Боцман и тут же политически засомневался: – Но тогда получается, я плюралист, а ты нет.
– Шел бы ты к такой-то матери, – злился Хирург. – Где ты слово это дурацкое отковырял?
– В газете. Где же еще, – сознался Боцман. – На обеде сижу, газету читаю, а тут начальник смены, Степан Семенович, сильно культурный человек: всегда «Огонек» под мышкой носит. Я его в лоб и спросил, мол, что за слово. Он мне сразу и растолковал. Это, говорит, когда и нашим, и вашим. Вот и выходит: значит, я – сука, а ты – прямой человек.
– Молодец, хоть тут разобрался, – одобрил Хирург.
Так и прожили они в дружбе и общем согласии до теплых дней, до времени явления бичей из-под земли, как грибов. Настала пора сезонки, и Боцман сказал:
– Вообще-то я думал к рыбарям податься, но раз с твоими граблями сети не потаскаешь – пошли косить сено. Это тоже работа знакомая.
– Сволочь ты, – растрогался Хирург и обнял Боцмана. – А я все думаю, боюсь спросить, вдруг ты чего затеял со своим морем. Мне тут, сам видишь, опасно. Народ пошел валом. Отказать я не могу. А участковый узнает – крышка. Пойдет Хирург опять зэков лечить. Только я уж оттуда не выберусь. Властям разве чего докажешь? Не имеешь право на частную практику – и все тут. Опять же, прописки нет, да еще в погранзоне. Нужно мотать отсюда, куда глаза глядят. Хоть к тебе в Калугу, хоть ко мне в Питер. Сейчас перестройка. Такое время – везде всех за людей признают. Везде, только не тут.
При этих словах друга Боцман помрачнел.
– Нет, Дима, – признался он. – Я от моря не отвернусь. Весь я здесь. Оно во мне, море. Понимаешь? Проводить – провожу. Тебе, понятно, лететь нужно. А сам я… Ты уж прости.
– Ладно, – пресек Хирург душевную боль. – Заработаем денег, дальше видно будет.
Боцман посмотрел на Хирурга каким-то внимательно ласковым взглядом и вдруг спросил совершенно неожиданно:
– Слушай, Дима, тебе сколько лет?
Последовала немая пауза, в течение которой Боцман взирал на Хирурга как на некое нежное и в то же время туманное явление.
– Я, откровенно говоря, хотел поинтересоваться, – продолжил моряк, – да все неловко было. Иногда гляжу – тебе восемьдесят, не меньше. А иной раз, извини, конечно, ты – салага салагой. Ну, пятьдесят. Самое большое. Это как?
Хирург вздохнул. Он давно уже перестал обращать внимание на плывущие в бесконечность собственные годы. Большая их часть прокатилась как товарняк, оставляющий в душе лишь полынный осадок и тоскливую сумятицу истрепанных чувств.
– Шестьдесят с хвостиком, Петя, – задумчиво сообщил Хирург, уставившись в одну точку – Порой кажется, что мне двести, триста, а то и все пятьсот. Что я старый, как остров Спафарьева. Но, видно, было и есть много такого времени, которое я, в силу своей судьбы, еще не прожил. Вот почему подчас меня как бы снова перебрасывает в молодость. На такой волне и живу, – грустно улыбнулся Хирург.
– Про что и разговор! – обрадовался Боцман. – Разве кто против? Живи, пожалуйста, – разрешил он.
…Автобус круто повернул, и пассажиров кинуло вбок, аж кувырнулся и загремел позади какой-то ящик с железом.
– Эй ты, косорукий! Ты что, дрова везешь? – взорвался еще один собригадник Хирурга – Борис. Он вообще имел свойство моментально воспламеняться. При этом вспыхивало все: глаза, щеки и даже губы, обрамленные легким, темным пушком. Восточное лицо его было красиво гордой, упрямой, но какой-то злой красотой. Он был четвертым в их бригаде. Хирург вдруг ясно вспомнил день их знакомства.
…У дверей Стройуправления, набиравшего, в основном, бродяжий народ на сенокос, стояли трое: Хирург, Боцман и странствующий Василий, который для дальнейших продвижений в пространстве Земли тоже нуждался в средствах, и он решил на время приостановить свое шествие по планете, прикрепясь для денег к какой-нибудь сенокосной бригаде.
Был май, но океан еще дышал холодом. Солнце ныряло из тучи в тучу, и налетавший порывами ветер развевал пепельно-рыжее пламя бороды Боцмана.
Подходили к Хирургу и тот, и этот, но ни тот, ни этот не производили на бригадира впечатления людей, способных справиться со всем объемом тяжелых летних работ. И тут появился Борис. Он подошел самоуверенной, неспешной походкой человека, знающего себе цену. Модный черный плащ, белый шарф, аккуратная стрижка, твердый взгляд, крепкие плечи, на вид – лет двадцать пять.
– Мне сказали, ты бригадир, – обратился он к Хирургу – Я тот, кто тебе нужен. Вырос в деревне. Могу косить, таскать, стожить, баню поставлю. Избу, если надо, срублю, словом…
Хирург его взял. Сомнение мелькнуло лишь в том, что Борис был не из бичей, но анкета не требовалась, и потому взял. Бичи шли на сезонку от нужды и во спасение. А этот? Что-то тут было не то. Однако дело сделано.
…Океан исчез за поворотом, и Боцман задремал. Дремал так же путник Василий, склонив от усталости существования набок голову, самолично тронутую тупыми ножницами, отчего волосы его наталкивали на мысль о стригущем лишае. Обругав шофера, угомонился и разомлел Борис. Посапывали старатели. Лишь Хирург, несмотря на однообразное течение природы за окном автобуса, обрел какую-то нежную ясность воспоминаний. Целитель словно бы возвращался душою назад, в те благостные росистые утра пролетевшего таежного лета, когда солнце еще дремало за спинами замшелых сопок, а он и его ребята уже швыркали мокрыми ножами кос среди пахучей болотной травы. С каждой отсечкой зубчатая стена леса приближалась на один шаг, вспыхивала синим огнем гряда дальних гор, а грудь наполнялась густым свежим воздухом. Ранние птицы размывали темно-зеленые тени, дробили их тонкими хрустальными трелями. В то короткое время тяжести, покоя и влаги перед восходом солнца тугая волна неведомого, таинственно прекрасного плыла по всему окрестному миру, благословляя живущих на земле достойно встретить и достойно прожить каждый нарождавшийся день.
Перед тем, как взять в руки косу, Хирург обязательно возносил от сердца молитву, сочиненную им еще в лагере, улетал для приветствия и благословления к небесному Отцу сквозь неведомые миры и лишь затем, вернувшись, брал приготовленный заранее, отточенный, привычный инструмент.
Потом на местах покосов вырастали острые, позолоченные солнцем, копешки, стоявшие стройными рядами, как молодые солдаты. Эти жарко дышащие после просушки копны укладывали на две длинные жерди-волокуши, впрягались в них за неимением лошадей сами и тащили по кочкам, обливаясь потом, тяжелый груз к местам будущих стогов.
Работа, прямо скажем, была не из легких. Но Хирург вспоминал о ней с любовью и почтением. В лагере ему приходилось трудиться и бухгалтером, и учетчиком, и завскладом, что не требовало особого физического упорства, но тюремный труд, какой бы он ни был, не приносил памяти счастья и с нею не уживался. Напротив, таежная работа прочно откладывалась в сердце, как нечто дорогое и незабвенное.
Хирург вспомнил, как перед самым нерестом горбуши, когда обнаружился хищный, похожий по окрасу на тигра голец, неподалеку от их стоянки стала появляться счастливая, но строгая мамаша-медведица с веселым медвежонком, за всякую проказу лупившая свое чадо чисто по-человечьи – лапой по заднице.
Целитель выбирал время, когда медведица с малышом удалялись к речке на охоту, и относил к их лежбищу в стогу сена то сгущенку, то банку тушенки.
Иногда приходили лоси и смотрели на людей большими ореховыми глазами, таившими мудрость, спокойствие и осторожность.
Была у Хирурга и давняя подружка – черная белка, с которой он приятельствовал уже несколько лет, расставаясь лишь на долгую Колымскую зиму. Хирург дарил ей подарки: крупу, сахар, конфеты и разговаривал с нею, неуемно сновавшей с ветки на ветку, о ее, беличьей, и о своей собственной жизни. Сейчас эта живая память грела его сердце под дружный аккомпанемент храпевших старателей.
В автобусе жарко пахло бензином, металлом, вином и сигаретным дымом. Сопки что древние мамонты – медленно ползли одна за другой, утверждая неколебимость вечности. Сколько миллионолетий торчали они тут, на этой земле – одному Богу было ведомо. Но каким ветром нанесло сюда вселенскую пыль, осевшую в стылой Колымской земле в виде пустого праха тысяч людей, растаявших здесь без следа? Какой волной выкатило к подножьям сопок малые песчинки в образах Боцмана, Василия, его самого, Хирурга? А главное – зачем? Что явилось целью? Ведь просто так ничего не бывает.
Под лучами мыслей Хирурга покатые, стесанные пирамиды гор превращались, сохраняя очертания, в голубой дым, в котором он с интересом разглядывал некие причудливые очертания, таинственную материализацию памяти, где люди, события, даже медитация с прошлым и будущим обретали чудесную органическую плоть.
«Поразительно! – восхищался Хирург. – Посредством одного голого воображения можно сотворить целую Вселенную, вдохнуть в нее жизнь и затем наблюдать за нею, как, должно быть, сам Господь наблюдает за нами, созданными по его же подобию. Не эта ли та самая игра, которую затеял вселенский Мастер с нашей жизнью?»
Вот в бугристой толще синей сопки Хирург обнаружил Боцмана, большого бородатого увальня с доброй, непорочной душой, и ему стало тепло, как возле печки. Но за что Петру выпала такая тяжелая доля?
«Игра, – убеждался Хирург. – Игра. И смысл ее в испытании. Останешься ли чистым? Не запятнаешь ли себя чем-либо?»
…Путешественник-Василий понравился Хирургу своей откровенной смешной заумью и таким же забавным полубичевым походным видом – потертый, старый костюм, галстук, портфель, кирзачи.
Борис был крепок, молод, к тому же, как выяснилось, хоть и не сочеталось с его лощеной наружностью, из средневолжских крестьян.
– Для справки, бригадир, – пояснил себя Борис, когда документы были оформлены. – Работал в кабаке, за стойкой. Ну и кого проводить… Всякое. Случилось – конец смены, клиент один стал выделываться: то ему не то, это не так. И глаз уже мутный. Я его за шкуру и на выход. Он в дверях уперся. Не ментов же мне звать. Словом, надо же было ему, дураку, виском в батарею. Потом «скорая», больница, следствие. В общем, мне посоветовали исчезнуть хотя бы на время. Не везет мне с дураками. Из дома вот так же покатил. Треснул на танцах одного дурня – у того челюсть с петель и сотрясение, а мне бакланка. Весь трешник отмотал. Но больше как-то неохота к этим волкам. Век бы их не видеть. Да что тебе говорить. Ты сам-то, дядя, я гляжу, не хуже меня знаешь: по глазам заметно.
– Меня твоя биография не увлекает, – сказал Хирург, поняв, с кем имеет дело. – Главное, чтобы ты справился.
– Не дрейфь, бригадир. Работа знакомая. Силы – на двоих. Веришь, в зоне даже руки по косе скучали.
– Ладно, Боря, – поразмыслил Хирург. – Может, при нас еще и выровняешься. На ринг пойдешь работать, в крайнем случае, а не в казино.
Борис метнул колючий взгляд.
– Я сам решу, куда пойти.
Насчет деревни Борис сказал правду, но наполовину. В деревне у него жили дед с бабусей, и он в детстве на все лето отправлялся к ним. Там, с дедом, научился и косой водить, и коней пасти, и телят принимать и еще многое другое. Отец был русский – Дмитриев Николай, а мать – татарка, Нигматулина Саида, женщина по-восточному красивая до очевидной прелести, поэтому, когда во время второй беременности Саида чем-то таким женским заболела и при помощи неизвестной знахарки тихо померла, отец – Дмитриев Николай – сильно, без меры горевал. Работал он слесарем по ремонту автомобилей, так что деньги водились. И деньги эти отец употреблял на горе. Борьке в то время было шесть лет. Нет, в течение дня отец держался до того момента, пока не укладывал сына спать, а уж потом открывал шкафчик, где всегда стояло лекарство от беды да фотокарточка жены-покойницы.
Так сын рос, отец попивал, а время разводило их в разные стороны. Далее, по мере мужания сына, Дмитриев Николай мог уже позволить себе идти с работы на нетрезвых ногах. Отчего же – парень взрослеет, свои интересы. Ему-то, отцу, что одному делать? Дмитриев же Борис действительно взрослел и гулял по всей округе. Не было такого места, куда бы не распространялась его горячая натура, не было такого пацана, который не знал бы, не испытал на себе Борькины кулаки. Две стихии слились в нем – восток и запад – и дали ум, силу, хитрость, ловкость, талант, но и рвали его на части. Он мстил всем без исключения. Мальчишкам, девчонкам, учителям, старшим, младшим. Кошкам, собакам, воробьям и воронам. Мстил за смерть матери, за пьянство отца, за невозвратность деревни, за свое одиночество, за первую любовь, за упреки учителей, за дождь, пыль, град, гром и ветер. Душа его пребывала в постоянной странствующей тоске, ей было тесно в сильном теле; она росла быстрее его и потому все время рвалась, как рубаха не по росту, то в одном, то в другом месте.
Борис штопал ее скрытыми ночными слезами, далекими мечтами, рукопашными схватками и кровью.
Учился он легко, как бы в пересменке между шальными выходками, уличными боями и любовью, еще не сказанной, еще потаенной, но уже стучавшейся в нем, как сердце.
Его ежедневно одергивали, говоря, что он не смеет выделять среди сверстников ни ума, ни чувства, ни натуры, что учиться нужно по программе, а сверх этого – скорее плохо, чем хорошо. Тогда Борис уходил на улицу. Улица раскрепощала, ничего не требовала, давала свободу.
Любовь… Она кралась за ним по пятам. Борис убегал, уходил, улепетывал. Но она все равно настигла его и обрушилась сразу, внезапно, будто из-за угла. Любовь оказалась сильнее. Этого он пережить не мог и вышел к ней один на один. И проиграл.
Теперь кураж налился еще большей мстительностью за оскорбленное достоинство. Так и прокатились, прогремели, как колеса по мостовой, школа, техникум, тюрьма, ресторан, деньги, деньги… И вот – опасность нового срока.
Борис сразу забрал из ресторана документы и ушел «под воду».
…Автобус мерно покачивало, ровно урчало его железное нутро, и Боцману привиделось, что он на родном «Быстром» – отдыхает после вахты в собственной каюте. Он даже расплющил сонное око, желая проверить действительность, врет она или нет. Обнаружилось: врет, и Боцман, затворив глаз, снова погрузился в свой кубрик.
Начальник хозотдела Управления, формировавшего сенокосные кадры, имел спокойное, неподвижное имя – Мебель Эдуард Семенович и поперек имени буйную, штормовую энергию, про обладателей которой говорят: в попе шило.
Не в силах совладать с рабочей страстью, Мебель бросался от одного дела к другому, от того к третьему, четвертому, пятому, и так – изо дня в день. В результате полностью не выходило ни первого, ни последнего. Зато с утра до вечера он мелькал повсюду: в кабинете директора, на складе, в траншее, мастерской, на подножке грузовика, на пожарной вышке, еще где-нибудь, где был не только не нужен, но даже вреден, так как всегда вносил лишь смуту и неразбериху. У Эдуарда Семеновича от постоянного лишнего движения и зуда в голове царил полный хаос. Отгрузки, погрузки, ремонт квартир, гвозди, бланки, скрепки, отчеты, доклады, жалобы, вопросы, ответы и многое другое одновременно варилось в государственном мозгу Мебеля, хотя на вид Эдуард Семенович ничего особенного собой не представлял. То есть, не имел какой-либо державной внешности, лишь средний рост, залысины, очки. Ну был бы это человек громадной величины, или владел боевым шрамом на лбу, на худой конец – гордился бы величественными густыми бровями, так нет же. Мебель и без всяких необходимых большому деятелю примет умудрялся тайно и явно разваливать все Управление.
Хирург по прежним годам знал все великие достоинства начальника АХО, поэтому на следующее после оформления документов утро вышел на середину хозяйственного двора, огляделся окрест и, завидев на одной из складских крыш мятущуюся фигуру со сверкающим на солнце стеклом, сразу направился туда.
Когда Хирургова бригада походила к складу, Мебель стоял к ней спиной, примеряя стекло к чердачному окну.
– Ну-ка гаркни ему, – сказал Хирург Боцману. – Семенычем зовут. А то я голос простудил.
Боцман «гаркнул», да так, что Мебель вздрогнул, словно его тронули электричеством, и выронил будущее окно себе под ноги.
– Слезай, – махнул рукой Хирург. – Потом подберешь. Разговор есть.
Эдуард Семенович, как человек интеллигентный, начальственный, поправил очки, галстук, отряхнул от стекла брюки и слез по лестнице вниз. Тут он сказал Боцману несколько непечатных выражений, которые сразу всем понравились, кроме блаженного Василия.
– Держи, – обязал Хирург и протянул Мебелю бутылочку с какой-то темной жидкостью. – Помню, тебя чирии всегда сзади грызли. Будешь мазать на ночь, как выскочат. Теперь к делу. Через неделю, я слышал, лететь. Значит, займись сегодня только нами. На твоей шее сенокос. Выдай, пожалуйста, продукты, все, что положено. Мы их свалим в какую-нибудь комнату под замок и будем спокойны за дальнейшую жизнь. А не то ты сейчас опять закатишься порхать по крышам, как воробей, а нам, дурням, лови тебя, прыгуна, прости, Господи. Народ из-под земли на перестройку вышел, а ты, извини, как скакал по складам десять лет назад, так и теперь сигаешь, что горное животное. Никакого в тебе усовершенствования.
– Я рад, Хирург, снова видеть тебя на своем участке, – торжественно поприветствовал Эдуард Семенович Мебель народного лекаря. Спасибо тебе за снадобье. Смотри-ка, не забыл. Но вот что хочу сказать. Хоть ты, Хирург, и образованный, культурный бич, а не понимаешь, что если бы я не перемещался в воздушном пространстве отсюда туда и обратно, то в своем дерматиновом кабинете давно бы уже бросил кони. Верно, нет?
– Разумно, – согласился Хирург.
Высказав свое рассуждение, Мебель улыбнулся из-под толстых очков мелкими глазами. У него на лице-то и было, что очки, крутой нос и губки, словно у девушки.
– Все вещи в труде, – невпопад процитировал Василий и библейски оправдал вездесущую политику начальника: – Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, – прочитал он по памяти. – И нет ничего нового под солнцем.
Эдуард Семенович в тревоге снял очки и внимательно посмотрел на своего будущего сенокосчика, словно на Колыму приземлилось НЛО.
– Какая-то у тебя нынче межпланетная бригада, – сказал он Хирургу, обозрев теперь уже и Бориса, и Боцмана.
– У нас нынче духовный сенокос намечается, – пошутил Борис. – Вот отец Василий соблаговолил принять участие. Приезжай, Эдуард Семенович. Проповедь послушаешь. В церкви, поди, отродясь не был?
– Тут и храмов-то, на Колыме, днем с огнем не сыщешь, – посетовал Василий. – Вот где дьяволу раздолье. Тут уж он наигрался, наелся и напился.
Мебель снова опасливо посмотрел на путешественника Василия, поскреб пальцем стриженый затылок, но согласился уделить подопечным рабочий день, оставив на произвол свои драгоценные крыши.
У продуктового склада выстроились в очередь и другие сенокосные бригады исхудавших оптимистов. Хирурга они встретили гулом братского приветствия.
Продукты получали на весь сезон, на все короткое Колымское лето.
Хирург с Мебелем уселись проверять наличествующий провиант по амбарной книге. Боцман же, Василий и Борис приняли на себя тягловые обязанности – перетаскивать мешки с ящиками в личный, отведенный Эдуардом Семеновичем, сарай. Правда, Василий застрял на втором витке в чужой бригаде – попроповедовать, и вскоре вернулся уже не Василием, а Гегелем. Это имя-звание ему выдал один бродяга-философ, учившийся когда-то в Московском Университете. Остальные бичи поняли, что Гегель – это забавная кличка некоего чудного мудреца и одобрили новое звание Василия.
Небо в тот день распахнулось настежь и солнечной синевой напоминало опрокинутое ввысь море, подпираемое со всех сторон заснеженными верхушками сопок. Не хватало лишь криков чаек.
Боцман, обратив на это явление флотский взор, затосковал.
– Чуешь, Митрий, – окликнул своего нынешнего непосредственного начальника Боцман, – что-то мы с тобой давно на берег не ходили.
– Сегодня сходим, – пообещал Хирург. – Как раз Ивана полечим и сходим.
Иван был таежным пожарным и страдал геморроем. Эти данные Хирург с Боцманом получили нечаянно от самого больного, находясь в пивном баре.
Хирург любил тайгу, и ему нравилось, что существуют люди, которые ради ее спасения могут кидаться с вертолета в огонь вниз головой. И он взялся помочь герою, тут же вытолкав его в шею из пивнушки и запретив вообще в ближайший месяц прикасаться к спиртному. «А лучше забудь про это навсегда», – добавил он.
Забыть навсегда Иван отказался, но воздержаться от алкоголя месяц сподобился потерпеть.
Только к вечеру бригады получили продукты и необходимый инструмент. Могли бы справиться и раньше, однако Мебель, терзаемый внутренними бурными реакциями, вдруг вскакивал, бежал куда-то за лопатами, косами и топорами. Но на полпути решал, что нужно проверить, как протекает ремонт водопровода, прибыла ли машина с шифером, а если прибыла, то идет ли разгрузка, объявился ли рабочий Фокин, которому два дня назад на ногу упал станок, и много других мыслей выстреливало в неуемном мозгу Эдуарда Семеновича в сторону от сенокосчика. Те в долгие часы отсутствия Мебеля сидели на ящиках у склада, изводили табак и нещадно крыли начальника. Эти люди, измученные безалаберным существованием и бездельем, уже не могли дождаться вылета в тайгу. В который раз они мечтали начать новую жизнь среди лесной тиши и покоя, чтобы потом, окрепнув нервами, телом и финансами, вырваться все же из-под земли наружу и стать такими же, как все, нормальными, не хуже, а может быть, и лучше других. Но вот появился Мебель и, пропустив мимо ушей рокот гнева, как ни в чем не бывало, снова начинал выдавать продукты, потом опять куда-то срывался – и так целый день.
– Баламут, – беззлобно определил Эдуарда Семеновича Боцман. – Я бы за это время уже червонец где-нибудь на ужин уцепил.
– Про что и разговор, – скучающе отозвался Хирург.
К вечеру день постарел и начал закрываться от света тяжелой, седой тучей. Дохнуло холодом, и весна вмиг была проглочена неожиданно налетевшим, пронизывающим ветром. Это еще больше злило сезонников.
– Все, – подхватился Борис. – Не могу больше, мужики. Пойду, а то я сейчас нашему Мебелю очки расплющу. Нельзя мне на новый скандал нарываться. Пойду. Вы уж как-нибудь без меня доберете, что нужно. – Сказал и вскоре скрылся за воротами.
– У него внутри какой-то червяк проживает, – догадался Боцман.
– Досада в детстве была, – определил Хирург. – Злой он на весь мир. Это тяжелая болезнь.
– Томление духа, – классифицировал Василий. – К тому же кровь густая. Видишь ты, какая Атлантида у человека.
Эдуард Семенович явился в тот момент, когда у склада стоял уже зубовный скрежет. Зато в руках он нес ведомость, а в кармане – каждому мелкое денежное вспоможение. Народ сразу потеплел и «трухлявый Мебель» стал нежно именоваться Семенычем.
– Это на конверты, нитки и носки, – дал установку Эдуард Семенович, вручая хрустящие купюры.
Получившие аванс срывались, как со старта, на полную дистанцию до самых дверей винного магазина. Гегелю тоже хотелось рвануть за всеми, но его новые друзья – Хирург с Боцманом – никуда не торопились.
– А вы что же? – поинтересовался проповедник. – Разговеться не желаете?
– Желать-то мы, конечно, желаем, – признался Хирург. – Но опасаемся: Господь накажет.
Гегель поковырял сапогом землю и неуверенно сообщил:
– Сирых Господь наказывать не должон.
– Точно не должон? – проверил Боцман.
– Не должон, – робко подтвердил Василий.
– Ну, тогда разговеемся, – согласился Хирург. – Только ты, Вася, не стремись никуда, шагом иди. Для нас с Боцманом отдельная торговля работает. Так что не трепещи. Успеем.
Втроем они заехали домой, где их ждал Иван. Хирург попросил Боцмана с Гегелем покурить в свинарнике. Сам же тщательно исследовал нижнее заболевание пожарного – геморрой – и дал ему практические рекомендации, весьма отличавшиеся от тех, которые таежный солдат получал раньше. Пожарный даже слегка посомневался, можно ли методом Хирурга излечить болезнь. Но тот сказал: «Делай и не мычи. А будешь мычать – ходи в поликлинику до самой смерти». И велел явиться через неделю, так как потом целых четыре месяца он, Хирург, будет проживать в тайге, а с заболеванием к этому времени желательно покончить.
– Ладно, – убедился пожарный. – Я тебе верю почему-то. Ты – людей, мы – лес лечим. Считай – одно дело. На-ка вот. Закусите с Боцманом за мое здоровье, – сказал он и положил на тумбочку пожарный мешочек. – Тама лосятинка вяленая, рыбех пара. Словом, так… закуска.
Хирург уже понял: с этим народом спорить бесполезно. Слава богу, Иван денег не совал. И на том спасибо. В лагере за бескорыстную помощь Хирурга просто уважали и ревниво берегли, делились сахаром, чаем, табаком. На воле же люди благодарили от щедрот, и тогда старому лекарю его работа казалась кощунственной, особенно когда за нее деньги предлагали. Тут у Хирурга набухали нервы и больно щемило сердце. Он отчего-то внушил себе или так было на самом деле, что за любое благое деяние люди должны получать ровно столько, чтобы существовать и совершать свою работу дальше. А что сверх того – гной и гибель духа. А с ними и тела, и человека.
…Дорога пошла вверх, на изгиб сопки. Водитель переключил скорость, и мотор, вздохнув, рванул вперед с новой силой ровной натуги. Обернутая пеленою метели, машина осторожно пробиралась к перевалу.
Старатели с сенокосчиками спали, словно казаки после сечи. Хирург разомлел от тепла, но мысли текли ясные, чистые, теплые.
Хирург думал о том, что наконец-то возьмет билет на самолет и унесется в другой мир совсем иной жизни, жизни, которую считал уже навечно потерянной, запредельной и несбыточной. Там были его детство, юность, любовь, слава. Туда должен был явиться он со всем своим знанием мира, людей, со всем своим нажитым грузом, рожденным из долгих страданий и мук. Кроме того, где-то в том далеком мире был его сын, не однажды приходивший к Хирургу во сне, и повстречать сына, заглянуть в его глаза было чуть ли не последней мечтой Дмитрия Валова. Словно в глазах сына он мог увидеть самого Бога. Хирург вдруг ясно вспомнил жену свою, как некую горячую звезду, и свет ее через воображение согрел его сердце нежной, щемящей тоской.
Впрочем, Хирург мало обольщался, полагая, что в том дальнем мире вряд ли кто ждет его и бросится навстречу с распростертыми объятьями. Но думать об этом и мечтать было хорошо, несмотря на любой исход возвращения.
Может случиться, его и не примут вовсе, рассуждал Хирург. Что он такое для той жизни? Высохший лист, брошенный ветром в чужое окно, письмо, пришедшее не по адресу, и уж, конечно, не лебедь среди зимы.
Но верить в чудо хотелось. Хирург вообще научился верить в чудо, которое, по его отчаянно убежденному мнению, может быть тайно даровано человеку в знак поощрения чистой жизни при общей гематоме судьбы.
Разве не чудом было, что, спасая чью-то жизнь, он столько раз за все свои бесконечные годы выходил на битву со смертью с голыми, да еще увечными руками, и в большинстве случаев – побеждал.
Хирург без ножа рассекал гнойные раны и без иглы зашивал их, вправлял суставы и сращивал кости, заживлял язвы и выводил из комы, останавливал удушье и боль сердца. Кто наделил его такой способностью – Хирург догадывался. С некоторых пор он уверовал: ни одно доброе деяние не остается без щедрой награды, равно как и любое злое воздается сторицей. Ему ниспослано было особое зрение, и однажды Хирург понял это, словно увидел молнию среди ясного неба.
Было седьмое ноября тысяча девятьсот очередного невероятно долгого и страшного года. Стоял солнечный морозный день. Снег возле бараков, утоптанный ногами зэков, звонко повизгивал под сапогами начальника лагеря и его свиты. Жирные вороны сидели на черных нитях колючки, время от времени стряхивая в воздух серебряную пыль. Морозным белым войлоком был покрыт сигнальный рельс, подвешенный на толстой заиндевевшей проволоке.
Начальник лагеря шел вдоль строя заключенных в сопровождении двух вспомогательных службистов, глядел с хмельной поволокой в глазах на обнаженные по поводу праздника стриженые головы.
«Хозяин» не испытывал к подвластному ему серому человеческому материалу никаких чувств. Он просто совершал ритуальный, праздничный обход, потому что так было положено.
У заключенных в честь седьмого ноября был выходной, и они терпеливо мерзли, ожидая, когда, наконец, кончится эта официальная чушь.
Ночью начальника донимали сильные боли внизу живота и в пояснице, но к утру немного утихли. Сейчас, после стакана водки, рези исчезли совсем. «Хозяин» с благодушным бесстрастием пропускал сквозь взгляд худые изможденные лица и думал, что часа через два приедет к нему в гости старый друг, полковник Величко, офицер соседней воинской части, привезет жену и подростка-сына. Они двумя семьями сядут за стол и по-человечески отпразднуют день рождения великой Страны Советов.
Хирург чувствовал, как немеют у него пальцы ног, деревенеют обмороженные уши, но горя по этому поводу не испытывал: привык. Его беспокоил стоявший рядом доходяга Ильин. Он был из тех, кто в какой-то момент не выдерживают и сдаются, и тогда силы вытекают из них, как через пробоину. К тому же Ильина донимал жестокий радикулит, и Хирург понял, что у него сейчас могут отказать ноги. Ильин, напрягаясь изо всех сил, тихо постанывал и скрипел зубами. Ему и переминаться с ноги на ногу нельзя было, так как любое перемещение отдавало болью в пояснице, поэтому Ильин, окончательно застыв в долготерпении, держался за жизнь одним лишь святым духом, который в последние месяцы, как видно, жалел бедолагу и все сомневался выпорхнуть из него в пространство. Хирург тоже сочувствовал горемычному Ильину и положил ему на больную спину свою заледеневшую руку, чтобы послать по ней лечебное электричество – пусть Ильин согреется и досуществует до своей лежанки.
Но то ли рука у Хирурга была слишком холодной, то ли Ильин уже выработал свой жизненный запас, потому что в момент, когда «Хозяин» поравнялся с ним, Ильин вдруг рухнул в самые ноги начальника лагеря, заголив кончик торчавшей из валенка алюминиевой ложки.
«Хозяин» брезгливо вытащил из-под заключенного начищенный сапог и раздосадовано приказал: «Встать!»
Ильин немощно зашевелился, завозил локтями, пытаясь подняться на колени, и сильнее оголил торчавшую из сапога алюминиевую ложку.
– Он болен, – сказал Хирург и посмотрел в пустые, запорошенные желтизной собственной болезни, глаза начальника лагеря. – Его срочно в санчасть нужно.
Ильин употребил последние усилия и мертво распластался на снегу.
– Убрать, – равнодушно и как бы даже разочарованно приказал начальник лагеря подчиненным, – в шестой барак.
Шестым бараком был неотапливаемый сарай, куда складывали до захоронения мертвых.
– Тут кажный лично решает: жить ему дальше или нет, – добавил «Хозяин», глядя на Хирурга.
Вспомогательные службисты бодро, празднично кликнули конвойных и те, ловко подхватив Ильина, быстро потащили его прочь.
Сутулый ворон вспорол тишину жестяным криком и слетел с ограды, стряхнув целое облако искрящейся морозной пыли.
– Вот так, – щурясь от солнца, задумчиво произнес начальник лагеря. Он спокойно наблюдал, как тащат конвоиры ненужное больше никому тело человека. – Кажный живет столько, сколько хотит.
Хирург ощутил противный озноб, какой всегда испытывал, когда не мог повлиять на жестокие явления жизни. Его снова, в который раз, опалила жаркая горечь, что все не так совершается в мире. Не так! Кто дал право этому обрюзгшему майору с провисшими веками глаз судить и выносить приговор больному, но не безнадежному еще человеку? Кто позволил «Хозяину» быть хозяином чужой судьбы?
«Мразь. Подонок и мразь», – подумал Хирург и снова заглянул в лицо начальника лагеря. И вдруг поразился тому, что он все знает о нем. И не столько об извивах его прошлой жизни, карьере, прошитой суконными нитками предательств, жестокости и лжи, – хотя все это тоже мгновенно промелькнуло перед Хирургом, – сколько о его физическом состоянии. Хирург, потрясенный, увидел каким-то новым, необычным зрением, что «Хозяин» болен страшной и уже неизлечимой в данных условиях болезнью почки – пиелонефритом. В глазах начальника он прочел, что жить ему осталось считанные дни. Хирург невольно стал опускать взгляд вниз, вдоль тела «Хозяина», и оно разошлось, как под скальпелем, обнажив поросшие жиром ткани и отворив больную почку с двумя крупными, неправильной формы зеленовато-опаловыми камнями, один из которых прочно закрыл мочеточник.
– Вот так, – повторил «разрезанный» Хирургом начальник лагеря. – Кажный живет, сколько хотит.
Заключенные понуро молчали, удрученные происшедшим с Ильиным, напомнившим, что жизнь тут не стоит ломаного гроша.
И тогда Хирург произнес чьим-то чужим, неведомым голосом:
– Тебе самому осталось ровно три дня.
Раздвоенный «Хозяин» медленно склеился и вонзил в Хирурга ржавые от болезни глаза.
– Это что, бунт? – процедил начальник лагеря.
Снова дико заорал ворон и взмахнул крыльями на крыше одного из бараков.
– Во-о, – показал жестом Хирург, привыкший к немногословному, и натуральному обращению и постучал кривым кулаком по своей стриженой голове. – Кровью мочился? – спросил он склеенного начальника и, видя по выражению ошарашенных глаз, что угадал, окончательно заключил: – Три дня осталось. А может, и того меньше: водка свое сделает.
– В изолятор! – заревел начальник лагеря. – На полную катушку!
Конвойный оторвал Хирурга от строя, как кору от дерева, потащил в одиночку, и Хирург, перебирая занемевшими ногами, волочился за ним, что тряпичная кукла.
«Хозяин» смотрел на второго за сегодняшний день отверженного и ощущал, как противный, панический страх наполняет его, будто едкий дым. Действительно, ночью он испугался того, что пошла черная моча. Были так же и схватки, от которых хотелось залезть куда-нибудь по стене сквозь потолок, но утром все кончилось, и он блаженно заснул. А уж когда принял ради праздника стакан вкусной брусничной водки – и вовсе забыл о мучительной боли, благо, не знал никогда никаких болячек. Стало быть, съел чего-нибудь, вот и болело. Но кровь! Откуда этот лепило знал о крови?
«Хозяин», конечно, располагал сведениями о самодеятельном лекаре, но всерьез их не принимал. Колдует – ну и черт с ним. Лагерь кому хочешь голову сдвинет. За десять лет работы он, слава богу, нагляделся. Кого здесь только не было. Одно слово – сволочь, не желавшая жить по заветам вождя.
Среди них, правда, встречались такие, перед кем терялся даже «Хозяин». Рассуждения некоторых смельчаков из той массы, которая пополняла лагерь, о чести, свободе, вере повергали его порою в задумчивость, но служба заставляла начальника лагеря стряхивать с себя ненужный, вредный мусор, и он снова возвращался из опасных умственных путешествий к своей размеренной жизни целым и невредимым. Охота, рыбалка, семья, а люди за колючей проволокой – преступники, враги народа, и весь разговор. Ему случалось участвовать и в расстрелах – такая работа. Иначе нельзя. Есть закон, защищающий народ. А он кто? Слуга и закона, и народа.
И вот какой-то преступник сулит ему смерть. Ему, потомственному трудяге, сыну деревенского бедняка, коммунисту с девятнадцати лет, офицеру внутренних войск. Три дня!
Начальник лагеря хотел было двинуть равнодушно смотревшего на него зэка с торчащими в разные стороны костями скул, двинуть так, чтобы брызнула по сторонам кровь с этого отвратительного лица с оттопыренными ушами, но гаркнувший еще раз над самой головой ворон заставил его вздрогнуть. «Хозяин» грубо выругался и пошел прочь. Праздник был испорчен.
Хирурга, содрав с него ватник, конвоиры затолкали в холодную одиночную камеру, где можно было только стоять да неуклюже сидеть на корточках. Грубые пупырчатые стены этого каменного хранилища были покрыты зеленоватой наледью, освещенной отвратительным желтым светом тусклой, не выключавшейся лампочки.
Хирург не имел в себе ни злости, ни страха, поняв, что ему предстоит очередное испытание. Он лишь подумал, а затем и представил себе беднягу-Ильина, лежащего среди трупов, его белое, обнесенное инеем лицо в легком пару последнего дыхания. Хирург посмотрел вверх, сквозь серый потолок, и попросил Господа приютить горемычную душу товарища, дать ей покой и вечную свободу. Затем он закрыл глаза и окунулся в долгую глубокую молитву, совершая таинство высокой беседы. Тут он доверял Богу всего себя без остатка, отряхивал пыль озлобленности, досады, горечи и внимал голосу, ровно идущему из запредельного далека. Господь открывал ему суть истины, которая заключалась в любви, а стало быть, в милосердии и прощении. Хирург, не беспокоясь больше о теле, оставлял его, как одежду, перед погружением в теплую воду.
Тело теперь не терзалось ни холодом, ни голодом, ни звуками скребущихся и что-то постоянно грызущих крыс, ни печалью, ни болями.
Такую хитрость тайного исчезновения Хирург практиковал давно, переняв многие мудрости от одного славянина, прибывшего на Колыму из Астрахани, где он был задержан на пути из Тибета в Киев за распространение зловредных учений о душе и некоторых фантастических свойствах нематериального мира. Славянин сей, именем Виктор, гостил в лагере недолго, так как сильно горевал, что его слишком отодвинули от престольного града Киева и лишили встречи со святыми мощами в Печорской лавре. Был он силен и могуч, как былинный воин Илья Муромец, с одним лишь дефектом – не имел второго глаза, который ему случайно выбили когда-то в Астраханском НКВД. Однако это не помешало Виктору, посеяв в Хирурге зерна запретных знаний о незримых энергиях и возможностях человеческого духа при общении с Богом, однажды удалиться сквозь Колыму и кордоны в направлении древней столицы славян.
После встречи с Виктором Хирург стал смотреть на многие вещи совсем иначе, нежели этому учили марксисты-дарвинисты, и начал упражняться в духовном соединении с Богом и людьми. С людьми получалось поначалу неважно и редко, поскольку не многие были подготовлены к таким разговорам. Да и некогда было. А вот с Богом!.. Тут Хирург постепенно достиг большого совершенства. Он и людей выучился понимать и видеть лучше рентгеновского аппарата даже безо всяких предварительных переговоров.
Сейчас Хирургу предстояло вытерпеть пятнадцать дней, то есть, как назначил «Хозяин» – «полную катушку». Обычному человеку такая перспектива радости не приносила. Многим она стоила здоровья, рассудка, а иным и жизни.
Хирург же, имея вольное мышление, не однажды посещал карцер БУРа, но на удивление выходил оттуда в целости и сохранности, чем немало радовал заключенных и внушал лагерному начальству опасливое почтение.
В этот раз Хирург отдыхал от тела ровно день. Когда конвойный загремел ключами, зэк Дмитрий Валов путешествовал в заоблачных, никому неведомых далях.
– Бегом собирайся и до «кума», – уведомил рябой военный с заспанным мятым лицом и бросил Хирургу в руки отобранный ранее бушлат.
Хирург сидел на дощатых нарах кондея, которые откидывались на ночь, скрестив валенки ступнями под себя, колени врозь, как сиживал, бывало, тибетский Виктор. Лежать было невозможно: холод мгновенно заползал под тощую одежду, вылизывал кости до бешеной дрожи в теле. Хирург это знал и потому ночевал сидя, как свечка. Он убедился, что в таком положении стынь его не проймет, и холод действительно обходил Хирурга стороной, въедался зеленоватой наледью в стены, вылеживался до серой седины в углах цементного пола, высасывал последнее тепло из слепой, не выключавшейся лампочки.
– Шевелись. Чего сидишь? – удивился солдат.
Хирург только сейчас почувствовал, что вовсе остыл, одеревенели ноги, а руки стали чужими. Он встал и встряхнулся. Ничего, все в норме.
– Швидше, швидше, – поторопил нестрого ключник и зевнул долгим, толстым звуком, что тюленем скользнул по голому колодцу камеры и уполз вдоль гулкого коридора. В коридоре пахло мочой и мокрым цементом.
Хирург кое-как напялил замасленный бушлат, просунув негнущиеся руки в дыры рукавов, потрогал остаток трехсотграммовой пайки в потайном кармане фуфайки и подпоясался долгой веревочкой. Тело еще действовало отдельно от него, а душа неохотно и медленно просачивалась в лекаря, будто в замерзшую лунку.
Он еще не мог сообразить, как долго торчал в карцере. Судя по куску хлеба в триста граммов, который принесли один раз – это Хирург помнил – прошло меньше суток. «Чего им нужно?» – спросил Хирург самого себя. Но тут вдруг сознание, находившееся во временном отпуске, прочно улеглось на свое место, и Хирург ясно понял, зачем вызывает его к себе «кум».
На выходе из БУРа рябой военный надзиратель передал Хирурга другому конвоиру, который грелся на КПП в полушубке и серой со звездой шапке, завязанной на подбородке двумя черными шнурками. Тут же сидел, развалясь, начальник режима – высокий, худой, как жердь, старлей, уже хлебнувший спирта за все социалистические народы.
При появлении Хирурга начальник режима весь напрягся, глаза его, всегда больные лютой ненавистью к зэкам, сейчас были растеряны и грустны. Он сидел на стуле, далеко вперед вытянув ноги в сверкавших хромочах.
Хирург остановился на пороге.
– Михалыч помирает, – сказал начрежима треснувшим, слабым голосом горюющего человека, но тут же вскочил, яростно заиграв тощими, острыми скулами. – За мной! – скомандовал старлей и широкими нетвердыми шагами направился из жарко натопленной комнаты наружу.
Конвоир молча пропустил Хирурга вперед и последовал за ним.
Они вышли в прозрачный черный лед полярной ночи. Воздух был крепок и тягуч, словно имел в своем составе горчицу. Над в перекрест освещенной прожекторами, пустынной территорией лагеря таинственно кипело в серебре зеленовато-фиолетовое марево северного сияния, словно там, вверху, само счастье свершало какой-то особый полет над многострадальной землей.
– Красота, – восхитился Хирург нелепости природы и присел для разминки ног, но задний конвойный заботливо стукнул его в затылок прикладом карабина, сказав:
«А ну не балуй, гад!»
Хирург после удара уткнулся культяпками в снег и выплюнул нечаянно вышедшую из носа кровь. Старлей не обратил на это происшествие никакого внимания, так как уже подходил к стоявшему неподалеку грузовику.
– Зубило, – определил Хирург своего охранника, вытирая кулаком кровь. – «Хозяин» тебя сейчас закопает на три метра в мерзлоту, если увидит на мне хоть каплю. А ты, сволочь, испортил мне весь мундир. – С этими словами он отвернулся от прибитого такой наглостью военного защитника и с оглушительным хрустом снега зашагал в направлении желтоглазой машины, нервно урчавшей у штабного барака.
«Хозяин» жил в вольном поселке недалеко от клуба, мимо которого каждый день утром и вечером ходил Хирург в общем строю – возводить новую ТЭЦ. Там он освоился стропальщиком, приспособившись цеплять тяжелые шлакоблоки кривыми своими пальцами, но работал споро, к тому же в отряде Хирурга всячески оберегали от непосильного труда. Он мог бы обжиться в больничке: чисто, тепло. Однако Хирург раз и навсегда отказался от выгодных предложений, решив нести крест до конца и полагая, что в качестве врача он как раз полезнее будет в самый гуще народа.
Сначала Хирурга оценили в лагере как дурака, и повар – толстый татарин – однажды хлопнул его по лбу половником за протянутую как бы не в очередь миску. Но, когда вечером того же дня татарин обварил себе кипятком лицо, позвали не кого-нибудь, а Хирурга. Когда же через пару недель у повара сошли с лица коричневые с розовой окаемкой бугристые пятна ожогов, которых ему не сносить бы до самой смерти, к Хирургу стали относиться иначе. Теперь очередь перед ним молча расступалась, и Хирург получал свою порцию могары, изрядно приправленную от благодарного татарина жирной подливой, без всякого препятствия. С тех пор брать пищу без очереди было единственной привилегией целителя, какую он себе позволил. Один из зэков даже просветлел умом и высказался среди товарищей: «Он ворожей».
Хирург влез в кузов грузовика. Напротив уселся конвойный со шнурками на подбородке, держа карабин с отомкнутым, холодно сверкавшим штыком – серая тень при оружии. Впрочем, Хирург уже не думал о нем. Он представил себе, что сейчас должен будет спасать человека глубоко ему ненавистного, спасать палача, против которого восстает вся его душа. И дело даже не в том, что «Хозяин» был управляющим дьявольской машины лагеря. В конце концов, сколько таких лагерей и сколько управляющих. Хирург терзался мыслью: не станет ли пособником мерзости и грязи. Ведь помоги он сейчас начальнику лагеря – наверняка окажется в его милости и чести. Даже если Хирург отвернется от всех благ, которые могут повиснуть на нем независимо от его воли, он возвратится от «Хозяина» с клеймом. Как ни крути. Возможно, его и поймут те, с кем разделил Хирург свою долю, но грязь прилипнет навечно. Это уж верно. Но по сути даже не эти громоздкие мысли пугали Дмитрия Валова. В нем, как заноза, засело желание убить «Хозяина». Отомстить за всю кровь, за всю боль свою и многих других. В случае исполнения задуманного, Хирурга не страшили последствия, то есть, чем это могло ему грозить. Что ж, он пытался спасти, но не смог – слишком серьезная болезнь. На все воля Божья. Притом Хирург понимал, что таким «благотворительным» способом он не решит никаких проблем. Не перевернет мир, не опрокинет зло. На место нынешнего «Хозяина» придет другой. Точно такой же, а может, еще хуже. И все же дума о некоем возмездии не давала ему покоя, саднила, как свежая рана. Кротким не был Хирург никогда, несмотря на вразумительные беседы с небом, и умел, в случае надобности, достойно ответить на зло. Потому-то, вспоминая загубленного «Хозяином» Ильина, он скрипел зубами, а мысль о единственно возможном личном правосудии стучала в его висках вместе с пульсирующей кровью.
Чтобы свершить это правое дело, на которое толкал Хирурга тайно проживавший в нем внутренний боец, заключенному Валову за № 3-971 не требовалось никаких усилий. За исключением одного: не вмешиваться в действо Божьего суда. Пусть он вершится, этот суд, и он, Хирург, будет в нем вроде присяжного заседателя, согласного с приговором. А приговор… уж тут ясно – какой.
С другой стороны, что-то подсказывало Хирургу, что он не имеет права не употребить способности, дарованные ему свыше. Более того, Хирург вдруг понял, что сейчас именно он станет главным действующим лицом драмы. Точкой пересечения двух взглядов: просящего – снизу и благословляющего – сверху. Но сколько Хирург знал из практики – благословление приходило к нему всегда.
Хирург снова посмотрел в небо. Оно все так же безмятежно дышало волшебной сменой лилового, жемчужного и лазурного.
«Нет, – решил Хирург, глядя в тайную отчужденность бездны. – Я не стану помогать «Хозяину». Есть высший суд, но есть и земной. Не больший ли грех спасти убийцу, чем проводить его с миром. Он заслужил то, что заслужил. Кто будет отмывать от крови его руки? Я?! Не могу! Не хочу! Не буду!»
Машина резко затормозила у избы, воспалено горевшей из деревянных глазниц желтыми окнами.
Хирург прошел через жаркие сени навылет и остановился лишь в горнице перед красивой, нарядно одетой женщиной со смиренно-печальным лицом. Поодаль торчал, как истукан, пожилой перепуганный военный, полковник Величко. В углу, обняв дебелого, прыщавого подростка, сидела его супруга, рыхлая, затянутая в чопорное безвкусное платье, баба с копной растрепанных, похожих на верблюжью шерсть, волос.
В другом углу, прижавшись друг к другу, словно озябшие, ютились две розовые девицы, видимо, дочери «Хозяина».
Посреди комнаты торжественно стоял, покрытый белым, праздничный стол с богатыми закусками, графинами и рюмками, за которым с отеческим прищуром наблюдал со стены забранный в строгую рамку Иосиф Виссарионович Сталин.
Хирург снова посмотрел на печальную женщину и поразился тому, как могла эта бархатная бабочка с пушистыми ресницами влететь в жуткий ледяной створ, обтянутый сплошной колючей проволокой. Из какой она жизни и чья воля привела ее сюда?
Хирург смешался оттого, что из него на мгновение выветрилась вся философски выверенная определенность в отношении к начальнику лагеря. Перед ним стояла непонятная, убитая горем, прекрасная женщина, непостижимым образом являвшаяся женой палача. Объяснить это было невозможно.
Хирург потер окоченевшие руки и, еще раз оглядевшись по сторонам, строго сказал:
– Таз.
– Что? – произнесла печальная женщина голосом, родившимся из мягкого велюра ее платья.
– Таз, – повторил Хирург, уже задушив эмоции. – Мне нужен таз горячей воды.
И две девицы, вспорхнув, кинулись в сени. Вскоре полковник Величко лил по приказу Хирурга на его искалеченные, обветренные руки горячую воду, чтобы согреть пальцы, а потом и водку, взятую прямо со стола. Затем Хирург вытер спирт досуха и подумал о том, что неистребимую грязь, оставшуюся под ногтями, он теперь уже, наверное, унесет в могилу.
Наконец, его проводили в спальню, где, разметав подушки, в поту и жару лежал больной. Спекшиеся губы его чернели, лоб, простиравшийся до самого затылка, был влажен. От усердия в службе виски начальника лагеря подернулись сединой, и не было сейчас в нем ничего, что еще день назад могло внушить страх и подобострастие, какое внушают вожди и вождики на разных ступеньках власти…
Хирург обернулся, и все присутствовавшие, набившиеся в комнату за его спиной, под взглядом целителя вытолпились назад, в гостиную, осторожно прикрыв за собой дверь.
Какое-то время Хирург отрешенно и бесстрастно смотрел на распластанное тело «Хозяина», как Бог на прибывшего грешника, и вдруг неожиданно спросил:
– Ты все понял?
Начальник лагеря облизал потрескавшиеся губы, ища в узком, горячечном сознании хоть какое-то место для вопроса загадочного лекаря, но так и не найдя ни места, ни ответа, затворил веки и хрипло соврал:
– Да.
«Хозяин» не мог уразуметь, ни тем более знать: любое деяние подлежит строгому надзору, а любое зло обернется еще большим злом, горем, недугом, смертью самому или детям, или близким. Он, впрочем, и не подозревал, что творит, полагая, будто всю жизнь совершал и совершает необходимое правомочное дело. В конце концов – не он судья, а лишь самозабвенный исполнитель закона, который неведомо кто придумал, но поскольку придумано свыше, то ни осмыслению и уж тем более обсуждению не подлежит.
– Плохо, – констатировал Хирург. – Ни хрена ты не понял. Ладно. Вели немедленно перенести Ильина из шестого барака в санчасть. Если, конечно, еще живой.
Хозяин болезненно наморщил лоб, тяжело соображая, чего именно желает этот заключенный вымогатель, наконец, беспомощно продиктовал:
– Покличь начальника режима.
Когда худющий старлей вытянулся на пороге, Хозяин из последних сил, как мог, передал ему распоряжение Хирурга. Начальник режима козырнул, сверкнув острыми скулами, и щелкнул при повороте сапогами. Тут-то его и уцепил за плечо Хирург двумя корявыми пальцами.
– Привезете Ильина в санчасть, – напутствовал старшего лейтенанта Хирург, – пусть твои мордовороты трут его снегом до жара в теле. Ясно?
Начальник режима взглянул на Хирурга, как на говорящий столб, и уже на выходе не выдержал, прошипел: «Умоешься еще, сука. Поплачешь, Менделеев».
– Нечем, родной ты мой, – посетовал Хирург. – Нечем уже ни плакать, ни умываться.
Он вновь поворотился к командующему лагерем, не испытывая к нему ни сочувствия, ни ненависти, словно перед ним лежало железное корыто, готовое вот-вот лопнуть неизвестно от чего. Однако Хирург подсел к недужному, откинул одеяло и машинально задрал ему до груди белую нательную рубашку. То, что он увидел, потрясло его до самых мизинцев. На месте солнечного сплетения больного темнело родимое пятно, напоминавшее своими очертаниями далекий Австралийский материк, к которому с детства Хирург имел трепетное влечение. Точь-в-точь такое же родимое пятно, на том же самом месте было и у матери Дмитрия Валова.
– Господи! – сказал Хирург вслух, чего голосом никогда не произносил раньше. – Что это?
А по извивам его мозга уже неслось, летело, обгоняя вопрос: «Се – брат твой. Кто бы он ни был, прости его. Се есъмь твой брат! И вы все ветви Дерева. Ты не судья».
Хирург прослушал это сообщение и вздохнул, утомленный мгновенным путешествием сквозь глыбу времени и шелестящего пространства к Истине, которая лежала в нем же самом.
– Ну вот, – произнес Хирург, ощущая в себе тугую волну прозрения. – Если я создан по образу и подобию и могу проникать во все, даже в Истину, значит, я – во всем и все – во мне: и черное, и белое, и высокое, и низменное. И дьявол не может быть чем-то отличным от меня. Он тоже моя часть, боящаяся только одного – света Истины, добра и любви, что исходят от Бога. Вот где разница между Светом и Тьмой. В человеке есть и то, и другое. И если я принимаю Бога и иду к нему – во мне должен быть только Свет.
Хирург снова взглянул на страждущего, словно желая удостовериться: в том ли он, Дмитрий Валов, времени-измерении, не мать ли его родная перед ним. Лицо «Хозяина» вдруг исказилось под ударом жестокой боли, и он завыл на весь дом дурным голосом. Хирург увидел: медлить нельзя.
Лоб начальника лагеря покрылся мелким потом, а глаза лихорадочно заметались по комнате в поисках убежища от страданий. Тогда Хирург испросил благословления сверху и посредством трения раскалил себе руки, нагнетя в них такую мощь личной энергии, что они стали как бы тихо потрескивать. Затем он закрыл глаза и медленно просочился внутрь больного, словно вошел в некую тайную лабораторию, где вот-вот должна случиться авария. Зная, куда двигаться, Хирург мгновенно очутился в переполненном отработанной жидкостью резервуаре, выход из которого плотно закрывал, наподобие пробки, увесистый булыжник. Розовые стены резервуара напоминали срез живого листа, испещренного набухшими ветвями томящейся крови. Не переставая поступать, вода грозила через некоторое малое время с грохотом взорвать всю эту переполненную до отказа биологическую фабрику.
Хирург поспешил заключить камень между шипящих во влаге, раскаленных рук и приказал ему рассыпаться в первоначальный песок, из которого он и был сотворен. Камень заерзал на месте и вдруг лопнул, образовав облако бурой мути. Жидкость хлынула в освобожденную воронку, увлекая за собой бесчисленные песчинки грехов заведующего лагерным наказанием. Хирург же, возбужденный шумом водопада и скрипом песка, двинулся теперь ко второму источнику опасности, находившемуся непосредственно в почке больного.
Проплывая мимо трубчатых лабиринтов работающих устройств человеческого тела, он снова, в который раз, восхитился сложнейшей до непостижимости организацией жизни. Спустившись в тазобедренную впадину, Хирург благоговейно оперся на бугристый остов позвоночника, и некоторое время посвятил размышлениям о том, как в этой замысловатой трубе, издававшей ровное гудение неведомых энергий, прячется и ночует загнанная, изуродованная душа начальника лагеря. Хирург хотел было выйти на поиски заблудшей, несчастной субстанции, но кто знает, сколько бы на это потребовалось времени; ведь за встречей неминуемо бы последовала беседа, а она могла затянуться надолго. Хирург оставил эту затею, лишь заглянул в заполненную жидким мозгом позвоночную полость и свистнул в нее, чтобы, может быть, на другом конце кто-нибудь ему ответил. Но там, на другом конце, осталось тихо. Вышло, свистнул Хирург безвозвратно. Он еще послушал ровную тишину позвоночника, но не огорчился безвозвратностью свиста, ибо это означало, что его звуковой сигнал проник в такие глубины сознания подопечного, откуда ожидать ответ можно было лишь через многие поколения.
А душа начальника лагеря, спеленатая плотной паутиной идеологических химер, беспросыпно спала в отдельном отсеке уже не один десяток лет.
Иногда, правда, от слишком жестоких внешних событий вздрагивала, как от далекого взрыва, и затем словно бы зябла в своей одинокой каморке. В такие минуты начальник лагеря, уставший от беспрерывной карательной деятельности, чувствовал себя неуютно, много пил и ел на ночь жирное, накапливая в себе очередное твердое соединение.
Хирург всепроникающим, горячим зрением обнаружил этот факт и решил все-таки напоследок навестить бедную душу Хозяина, дабы провести в этом задраенном наглухо бункере профилактические работы. Но пока необходимо было справиться со вторым камнем. Хирург просочился непосредственно в почку, однако вместо привычного целительного действия руками неожиданно решил применить изобретенное тут же новое средство. Впервые в медицинской практике Хирург надумал проникнуть в самое нутро камня и уже там совершить его разрушение.
Он немного поплавал над зловредным напрессованием в состоянии невесомости, копя в себе сознательную уверенность в том, что проникновение в камень не сложнее плевка, а затем с силой вошел в него, как в масло, чуть было не проскочив камень насквозь. Здесь было тесно и неуютно, а главное, безынтересно, и Хирург не захотел тут задерживаться.
«Что есть сия незыблемая твердь? – огляделся он по сторонам прочных стен. – Всего лишь нелепое напластование обусловленных причин, которые, если их старательно поскрести, по сути своей нематериальны. Выходит, искомый булыжник не физическое тело, а форма искривленного сознания пострадавшего. Его скопившиеся грехи».
С этой мыслью Хирург уперся руками в стенки камня и напрягся так, что на лбу у него выступил рабочий пот. Камень затрещал и посыпался в разные стороны. Теперь Хирург брал мелкие кусочки и растирал их между ладонями в пыль, дабы они могли наконец беспрепятственно выйти наружу. Когда это было сделано, лекарь подумал, что хорошо бы перекурить, поразмыслить о вечном, но обстановка не соответствовала, и Хирург приступил к завершающему этапу операции.
Он вынырнул из обезвреженной почки, проплыл мимо нежных извивов кишечника, отметив, что и здесь не мешало бы провести серьезный ремонт, миновал витиеватые нагромождения двенадцатиперстной и очутился на стыке двух реберных конструкций в солнечном сплетении всех жизненно важных путей организма. Именно тут и покоилась в глубокой спячке душа распорядителя лагерного порядка.
Хирург снял шапку и присел на корточки в знак почтения перед бесконечностью. Обернутая в какие-то жуткие лохмотья, свитые из праха и пепла, душа начальника тихо спала, сложившись калачиком, и не обнаруживала признаков жизни.
Хирург различил в себе трепетное, смешанное чувство, какое, бывало, испытывал прежде перед великими работами гениев-творцов. Он понял, что в данный момент разглядывает вечность. Он даже понюхал, как она может пахнуть. Но вечность запаха не имела. Тогда Хирург отщипнул от лохмотьев на память лоскуток пепла, на котором еще можно было прочесть обрывок обугленной фразы, «…колесиком и винтиком» – повествовала перегоревшая строчка. Хирургу показалось, что он уже где-то читал подобное техническое сочетание, но вот где – вспомнить не смог. Значит, к вечности, то есть к самой душе, весь этот зловредный мусор отношения не имел.
Более того, Хирург обнаружил, что под спудом накопившегося праха здесь ровно трудится некий световой источник и очищение, и освобождение этого источника есть самое, может быть, сокровенное дело всей его Хирурговой жизни.
Он осторожно, слой за слоем, соскреб ногтями со световой сферы гниль и плесень химер, аккуратно собрал все это до последней крошки, чтобы рожденная душа человека жила в первобытной чистоте, и сунул мусор в карман бушлата.
Все нутро начальника лагеря озарялось теперь ясным, мягким светом, который может проистекать от любви и добра и горит изначально в каждом кротко и трепетно. Перед целителем было одновременно и ничто и все, весь путь без первого и последнего шага.
Хирург решил проверить душу подопечного и попробовал проникнуть в нее рукой, но рука прошла насквозь через светящийся шар, похожий на небольшую круглую молнию.
– Ишь ты, – восхитился Хирург. – Цаца какая. А вот, к примеру, можешь ты мне чистосердечно ответить: в чем же при нашей собачьей жизни все-таки смысл и суть всего?
Молния превознеслась в размерах и полностью заполнила все пространство начальника лагеря, поглотив заодно и Хирурга.
– Ты и есть суть, идущая к сути, – был тихий ответ ниоткуда. – Читай небо. Там смысл.
Хирург задумался над мудреностью слов посторонней души, знавшей некую редкую тайну.
– Ладно, – сказал он наконец, напяливая потрепанную зэковскую шапку. – Свети на здоровье. Ты теперь чистая.
Целитель приземлился на свое место, туда же, где сидел, в человека по лагерному прозвищу Хирург, и открыл глаза.
Пред ним возлежало доброе, мясистое тело начальника лагеря. Но, представьте, оно имело теперь, в отличие от прежнего, голубые глаза влюбленной девушки. Вся кровать под начальником была мокрой от извергнувшейся внезапно жидкости. Зато лоб его атласно блестел, и щеки свежо розовели, как у садовника. При виде столь неожиданных перемен Хирург смутился.
– Ты чего, брат? – как можно грубее спросил изверга лекарь, ибо испугался: с такими очами заведующий наказанием заведомо обречен был на гибель.
«Хозяин» вздохнул и улыбнулся, чем поверг Хирурга в полное смятение, так как в лагере на протяжении многих лет вообще редко кто улыбался. Что же до начальников, то этого здесь не делал никто и никогда, словно на улыбку у них существовал особый, тайный запрет.
Но более всего Хирурга поразило неожиданное исчезновение у «Хозяина» родимого пятна, столь схожего с родимым знаком матери целителя. Этому явлению Хирург определения не нашел, а потрогал, изумленный, то место на теле подопечного, где располагался загадочный абрис, чем вызвал у больного дополнительный прилив нежности. «Хозяин» заключил в свои руки изуродованную кисть Хирурга и попытался ее поцеловать. Хирург выдернул, как из мерзости, руку и окончательно понял, что совершил непоправимое. Новая болезнь начальника лагеря ему была уже не подвластна. Впрочем, подвластно теперь Хирургу было все, но обращаться с новорожденными он за свою жизнь так и не выучился.
«Хозяин» поворочался в мокрой постели и кротко спросил:
– Ты что, ворожей? Как ты это сделал?
– Это не я, – сказал Хирург. – Это сделал Бог.
– Бога нет, – произнес от «Хозяина» осколок его кривой памяти.
– Бог есть, – сказал Хирург. – Он один и есть. А все остальное, может быть, лишь игра Его воображения.
– Есть? – удивился «Хозяин», будто услышал это слово впервые.
Хирург взял со стола полстакана спирта, приготовленного для медицинских манипуляций, и одним глотком выпил содержимое до дна.
– Будь здоров. Не кашляй, Михалыч, – сказал он начальнику лагеря и, тяжело поднявшись, вышел из комнаты.
– Ну что? – спросила печальная женщина, жена «Хозяина».
Хирург посмотрел на нее долгим взглядом и вымолвил, чувствуя, что пьянеет: «Живите, раз Бог дал такую судьбу. Живите».
Именно этот день, когда Хирург совершил уникальную в своей жизни операцию, ознаменовался выпадением из сатанинской цепи лагерных устройств одного звена.
Начальник лагеря встал на ноги довольно быстро. Хирург еще несколько раз навестил «Хозяина» в его домашней больничной палате. Но эти посещения, организованные по велению начальника лагеря, имели уже не столько лечебный характер, сколько философски-риторический. «Хозяин» словно начал учиться жить заново, задумчиво выслушивая каждый раз рассуждения Хирурга о добре и зле, о чести и справедливости, о том глубинном понимании Бога в самом себе и во всем окружающем мире, каким к настоящему моменту обладал целитель, пройдя личную школу горя и страданий.
Душа выздоравливающего, очищенная Хирургом от мерзости и грязи, живо впитывала необычные уроки, и в уме нового непорочного «Хозяина» стали рождаться светлые утопические идеи переустройства общества.
В иные моменты богословских или общественных бесед начальник лагеря вскакивал, горячился, как юноша, предлагая немыслимые проекты, сутью которых было превращение системы отвратительных лагерей в череду садов-оазисов.
Тут ничего уже не боявшийся Хирург пугался: творение его рук, его гениальное создание гуляло по краю обрыва. Но как, посредством какой операции установить в человеке золотую середину мудрости – целитель не знал.
Приступив снова к привычной деятельности, начальник лагеря начал с того, что отдал приказ о немедленной реконструкции и расширении больничного корпуса. Контролировать работы и паче заведовать больницей безоговорочно назначил Хирурга. К этому было отдано распоряжение о строительстве клуба с библиотекой и обширной теплицы, которая могла бы снабжать зэков свежими овощами от цинги и прочих зловредных болезней.
В свой кабинет начальник лагеря – Кривошеев Иван Михайлович – наказал доставить из Магадана каких-нибудь комнатных растений типа фикус, например, а также произведений известных художников на все четыре стены, плюс любую певчую птицу для полного ощущения природы в совокупности.
Иван Михайлович мечтал высадить по теплу на территории лагеря декоративные японские ели, которые он видел однажды в теплом летнем городе Находке, и, конечно, кусты жимолости. А как же. Без кустов – никак. Чтобы заключенные в часы отдыха могли по теплу, конечно, сидеть посреди кустов и елей на скамеечках с книжкой в руках.
Был также Кривошеевым наложен строжайший запрет на экзекуции, мордобой, мат, а главное – применение оружия.
Псарня теперь использовалась исключительно как зверинец. Отменялись так же унизительные обыскивания, оскорбления и никому ненужные многократные проверки личного состава.
На входе в лагерь был вывешен основной социалистический лозунг: «Человек человеку – друг, товарищ и брат».
Всех нарушителей гуманного указания велено было заключать для перевоспитания в отельную камеру сроком от пяти до десяти суток. Это наказание распространялось и на солдатско-офицерский состав, невзирая наличные награды и былые заслуги.
После обеда теперь полагался час отдыха, и в этот отведенный час зэки спокойно возлежали на нарах или разгуливали по лагерному плацу, приветствуя проходящего ненароком «Хозяина», как приветствовал встарь своего царя простой люд:
– Здоров, Иван Михайлович!
– Слава Богу, – улыбался в ответ начальник лагеря. – И вам всем желаю здравия.
Страх, тот самый, мерзкий, уничтожающий страх стал выветриваться из лагерной зоны, и даже удивленная природа в этом месте Колымской земли дала послабление: морозы осели, минус покатился к плюсу. Везде гулял смертельный холод, а в лагере Кривошеева разместилось тепло.
Иван Михайлович прочувствовал это явление и, вызвав Хирурга специально, таинственно сообщил:
– Все. Я тут, Дмитрий Александрович, построю церкву. Ты наблюдаешь, что происходит?
– Наблюдаю, – ужаснулся Хирург необратимости российского размаха.
Выходило, что действовать умело и мудро, попав в начальственное кресло, в этой стране не умел никто. Стоило человеку обзавестись портфелем или, что еще хуже, погонами на высоком посту, как им тут же овладевала страсть неуемной деятельности. Причина же заключалась, конечно, в идее. А поскольку ни единый на посту не мыслил себя без идеи, то вот она-то, голубушка-идея, и распахивала своему родителю двери во все концы.
До тех пор, пока Хирург не совершал над начальником лагеря свою беспримерную операцию, Иван Михайлович слепо служил другой оглушительной идее строительства социализма, весело и браво замешанной на рабстве и крови. Этой звенящей идее служили миллионы. Служил, понятно, и Кривошеев, принимая ее за светлую, а главное – очистительную.
Хирург, вооруженный высшей энергией добра, мало того, что спас «Хозяина» от жадной смерти, но открыл ему глаза на себя и окружающий мир. И вот теперь «Хозяин» – Кривошеев Иван Михайлович – свежим, рвущимся умом и чистыми руками рьяно взялся за дело, чем ввел Хирурга в полную тоску, так как дело заведомо обречено было на гибель.
Уголовка, почуяв волю, откровенно захватила власть, и шестой барак пополнился окровавленными трупами, пока Иван Михайлович размышлял, как бы устроить в лагере спортивный праздник. Страх, побродив за воротами, снова вернулся под ошалелые крики воронья.
Вечером после резни, учиненной уголовниками, «Хозяин» явился в больничный корпус, где с некоторых пор целитель проживал как вольный человек.
Они молча и мрачно пили чай, ибо события дня провозглашали, что зло – явление более таинственное и глобальное, чем может показаться на первый взгляд. Добрая же мысль о том, что если тебе проткнули ножом один бок, нужно подставить другой – рассыпалась в прах.
– Что же делать, Дима? – спросил после тягостного молчания «Хозяин» и впервые в жизни заплакал.
Хирург допил кипяток, поскольку не знал, что ответить начальнику лагеря. И тут его осенило.
– Найди виновных и отпусти их на все четыре стороны, – посоветовал лекарь. – Лагерь твой решил жить по-новому, а они не хотят. Пусть идут. Добывают в тайге питание голыми руками. Едят друг друга. Пусть зло истребляет зло. Потому что добро этого сделать не может: жила мягкая.
Виновных оказалось шестеро. Их вывели перед строем, выдали по распоряжению Хозяина хлебный паек на сутки, а затем сопроводили за ворота.
Через две недели вернулись четверо. Ободранные, отощавшие; они стояли перед лагерными воротами, прося свидания с «Хозяином».
Иван Михайлович простил повинных, обязав их, опять же по подсказке Хирурга, следить за порядком. С тех пор в лагере стало тихо.
«Хозяин» поблагодарил целителя за ум и снова ринулся в действие, употребляя себя без остатка на утопию лагеря-сада.
По завершению строительства теплицы он празднично доставил в лагерь духовые инструменты и в один день организовал из зэков оркестр, руководить которым взялась Кривошеева жена, так как по далекому образованию была музыкантом, и все время супружеской жизни томилась полной общественной бездеятельностью и угнеталась.
Теперь по утрам и вечерам зона орошалась победными звуками маршей. Зэки начинали тускло сознавать: да, они рождены, чтоб сказку сделать былью. Но сильнее всех сознавал это начальник лагеря. Под гром оркестра он ликовал. Забывались заключенные, и выл на всю окрестную тайгу собачий зверинец.
Конечно, Ивана Михайловича, как всякого русского, который любит быструю езду, понесло. Он уже трудился вместе с зеками на строительстве свинарни, грелся в лагерном кругу на солнышке и читал взахлеб Пушкина до изумления и слез гордости за отечественную культуру.
Что и говорить: кто-то выкидывал в этом месте земли, на этом крохотном клочке такие коленца, что оставалось только диву даваться. И все из-за уникальной операции Хирурга по очищению человеческой души.
«Вот действительно, фокус так фокус», – удивлялся целитель своей работе и не знал, радоваться ему или печалиться.
Во всей лагерной фантасмагории Хирург принял правильную позицию. С солнечноликой отрешенностью Будды взирал он теперь на происходящее. Мол, деется – и пусть. Так угодно. А между прочим, Тот, кому было угодно, резвился вовсю, ибо Тот, чьих рук это было дело – Вечный Ребенок, мудрость которого непонятна и старцам. Единственное, чем огорчался Хирург, так это тем, что он поступил не научно. То есть, совершая свое гениальное действо, не задумывался о последствиях. А последствия были весьма предсказуемы. Что, если спросить себя, в том страшном мире могло рождать доброе сердце и чистая душа? Только то, что подлежало полному и неминуемому уничтожению.
Вот об этом целитель и не подумал, находясь в межреберной долине Хозяина, там, где обитала его высшая субстанция – душа.
Но тогда получалось, нет смысла заниматься подобной душеспасительной работой.
«Как же, Господи?» – удрученно спросил небо Хирург.
«Пример. Только твой личный пример веры и служения», – был ответ.
А тем окаянно чудным временем, когда вокруг лагеря полыхали пятидесятиградусные морозы, в зоне майора Кривошеева вышла на прогулку первая кучерявая травка и кое-где высунулась для огляда местности мать-и-мачеха.
Хозяин налился здоровым соком и весь сиял и румянился от своей благородной кипучей деятельности, за что вся прежняя охрана окончательно возненавидела Ивана Михайловича, но учинить расправу над ним опасалась из-за всеобщей народной к нему любви.
Для народа Кривошеев стал кем-то вроде крестьянского Ленина. Этот Ленин-Кривошеев развел на заднем подворье кур (благо, погода позволяла), свиней, мечтал о крупном рогатом, притащил из области штук пять гармоней, столько же баянов и двадцать балалаек с дудками. Лагерь стал напоминать гражданский трудовой балаган, нежели военно-карательное учреждение. Сами понимаете – как тут этого Ленина не любить! Любили.
Мало того, Иван Михайлович надумал вообще реорганизовать вверенную зону в коммуну всеобщей любви и братства, чтобы и остальное человечество впоследствии могло оглянуться на себя со стыдом и укором.
Для организации любви и братства предлагались тезисы, разработанные лично Иваном Михайловичем, его женой – Надеждой Кондратьевной Кривошеевой и двумя соучастниками составления – директором мукомольного комбината Лобовым, отбывавшим наказание за подготовку поджога склада в Свердловской области, и механиком Савелькиным, проходившим по делу съедения партийных документов Брянского горкома партии.
Тезисы были обширными и насчитывали сто тридцать восемь пунктов и девяносто семь подпунктов. Куда там настоящему Ленину! Поэтому народ и возлюбил Ивана Михайловича больше живота своего.
В тезисах, например, назначалось каждому:
1. Любить Бога всегда, везде и во всякое время.
Рекомендовалось:
2. Проснувшись, обнять и троекратно поцеловать близлежащего.
3. Иметь думы светлые, лба не морщить.
4. Улыбаться спокойно, благородно, без кривизны.
5. От уха до уха не ржать.
6. По территории лагеря ходить, обнявшись, по двое. (В крайнем случае – по одному, но любя всех).
7. Работать по принципу: лучше меньше, но лучше, чтоб не отвлекаться от любви и братства.
8. Мужеложство запретить навсегда.
9. Песни петь с любовью и ощущением братства внутри голоса.
10. Любить друга, как брата.
11. Любить брата, как друга.
12. Женщину любить так, чтобы она уже ничего не могла сказать, а только рожала население взахлеб.
И так далее. Сто тридцать восемь пунктов и девяносто семь подпунктов.
Тезисы сразу утвердили на лагерном вече, которое стало непререкаемой, полуанархической в лучшем смысле, формой общественной жизни.
Иван Михайлович Кривошеев стоял на специально сколоченном деревянном помосте и с пафосом провозглашал народу означенные пункты. Позади него красовались, сияя и ликуя, соучастники – поджигатель Лобов, пожиратель Савелькин и Кривошеева Надежда Кондратьевна.
При них имелось знамя коммуны, на котором изображалось, по предложению Надежды Кондратьевны, сердце, символизирующее всемирную любовь и согласие.
Знамя двумя руками гордо держал пожиратель партдокументов Савелькин, и было видно, что он еле сдерживается от счастья.
И, между прочим, все заключенные, переминаясь с ноги на ногу, тоже еле сдерживались солидарно с пожирателем, демонстрируя, что вот до каких высот может довести великая идея, когда человек уже не принадлежит себе, а только ей, идее.
В сию пору всеобщего лагерного восторга трудно было даже вспомнить, что когда-то Иван Михайлович стрелял по такому же народу из нагана, без счету пил горькую и носил в почке за грехи два тяжеленьких камня, которые и уничтожил Хирург, вмешавшись в Божий промысел и суд.
Хирург, глядя на одеревеневшую от счастья толпу, теперь понимал, что вся его затея с операцией была ненаучной и алогичной. Потому что человек революции Кривошеев, возродившись, мог зачать лишь новую революцию.
Тогда выходило – врач не нужен вообще.
«Так прикажешь понимать?» – снова задирал Хирург голову вверх.
«Все ты сделал верно, – услышал целитель. – Свое делай всегда. Всякий пусть творит свое. Что дадено. Остальное…» – и тут прозвучал тот далекий, пугающий, раскатистый смех, который Хирург уже слышал не однажды.
Ликовавшие от любви держались друг за друга и смотрели в нечаянный весенний Колымский мир мокрыми глазами. Общий восторг был так велик, что в те минуты никто, ни один из зэков не помышлял о том, что не мешало бы вернуться, раз уж такая выдалась свобода, к заждавшимся и горюющим родственникам. Что вся эта эйфория любви – чушь и зов очередной глупости. Но никто, как водится, не очнулся.
Один Хирург стоял и слушал, как тревожно бьется сердце да брешут в зверинце скучающие собаки.
Прозрение наступило на следующий день. По доносу коммунных братьев Кривошеева, которые клялись любить его до гроба, в зону с инспекторской проверкой явился начальник системы лагерей перековки и переплавки полковник Взбердыщев.
Это был человек почти двухметрового роста, отлитый из какого-то неизвестного пупырчатого железа где-то в дебрях Урала. Лицо Взбердыщева, а вернее сказать, фасадная часть верхотуры его туловища не имела никакого движения кожи. Для сообщений работала одна лишь дырка рта, извергавшая, в основном, шум такой брани, какой заключенные не слыхали отродясь.
Ввиду торжественного повода, весь лагерь был выстроен во фрунт.
Иван Михайлович шел рядом со Взбердыщевым вдоль строя и подмигивал заключенным, мол, все в порядке, ребята, пронесет.
Полковник вдруг остановился. Железная его голова переваривала какую-то думу. Дума переваривалась долго, так, что аж всем надоело. Наконец, отворив на голове дырку, Взбердыщев заорал, глядя на всех сразу мутными стеклянными глазами:
– Почему тепло?! Кто разрешил?!
Но, не дожидаясь ответа, поворотился к ближайшему заключенному, который, забывшись, стоял без шапки от любви к теплому воздуху, и нанес бедняге такой сокрушительный удар, что тот, не успев потерять радости братства, рухнул замертво.
Затем Взбердыщев на неспешном танковом ходу приблизился к теплице, уже дававшей первые стрелки зеленого лука, и тяжелым нажимом корпуса сокрушил десятиметровое в длину сооружение. Это действие сопровождалось непрерывным потоком бранного клекота из дырки на голове.
В течение дня проверяющий полковник трудолюбиво разорял и крушил Хирургову больницу, изломал сцену, с которой пели баяны с дудками, гонялся за курицей, но не поймал, зато разорвал двух свиней и, похлопав ладонь о ладонь, двинулся к машине, но на полпути остановился, долго стоял, мысля думу, вернулся и показал Кривошееву огромный, с хорошую гирю, кулак.
– Держись, сука, – пообещал Взбердыщев загробным голосом Вия и укатил.
Мир любви и братства был пробит пушечным выстрелом навылет.
На лагерь лег туман тоски, тревоги и уныния. Но ненадолго. Спустя некоторое время «Хозяин», потрясший зону дерзкими нововведениями, превращавшими лагерь в вольное поселение пострадавших людей с разрешением многих неуставных свобод, был люто зарезан «соратниками по борьбе за светлое будущее».
Злодеяние отнесли на счет одного опасного политического каторжанина, который, на удивление, знал о коммунизме гораздо больше, чем должен знать рядовой гражданин общественной ячейки, не говоря уже о заключенных.
Мнимый злодей был как бы пойман на месте преступления бдительной стражей, скручен и избит так, что, когда его вывели для показательного расстрела, узнать в лицо этого человека не мог никто. Бедняга, привязанный к столбу, даже не выразил радости по поводу вынесенного приговора.
Похороны начальника лагеря превратились в помпезную литургию в честь торжества великих идей.
«Хозяин», теперь уже бывший, добротно возлежал в собственной избе на жертвенном алтаре и, будучи превращен в национального героя, серьезно выслушивал сквозь вечный сон стенания близких и клятвенные уверения соратников в святой преданности делу.
Его портрет, одетый в красный и черный шелк, красовался для гордости на стене, чуть поодаль от портрета вождя всех времен и народов.
Зэки дружно выдолбили в вечной мерзлоте могилу, и гроб с телом народного страдальца торжественно опустили на место последнего пристанища. Над могилой вырос сверкающий во все стороны металлический обелиск с пятиконечной звездой, и люди отныне знали, что здесь покоится павший от коварной руки врага майор внутренних войск Кривошеев Иван Михайлович, честно отдавший все силы, жизнь и кровь до последней капли борьбе за освобождение пролетариата.
Все воротилось назад. Зона стала прежней, и даже холода снова ворвались на территорию лагеря.
Распутанная Хирургом душа прежнего «Хозяина», путешествовавшая над теми местами вместе с дружественной душой убиенного политкаторжанина, кротко улыбалась в течение отпущенных сорока дней нелепой мудрости земной жизни.
Хирург с печальным интересом наблюдал за происходящими событиями, проницая сквозь стены барака и расстояние зоны. Он уже умел видеть даже то, что будет. Поэтому Хирургу иногда становилось смертельно скучно и страшно от своего всепроникающего таланта. В то же время он понимал, что все охватить и всем овладеть абсолютно не сможет никогда. Лишь это обстоятельство и сохраняло смысл дальнейшего существования.
Заприметив как-то плывущую над бараком наподобие облака душу начальника лагеря, Хирург медленно вытянул руку и мысленно погладил старую знакомую, словно добрую собаку. Душа начальника, как бывшая пациентка, передала целителю некое тепло, в коем содержалось вполне внятное послание из другого мира.
Хирург прочитал таинственное тепловое письмо и задумался.
В послании сообщалось, что все происшедшее за последнее время в лагере должно было случиться именно так и не иначе. Возмездие, которое замышлял Хирург, реализовалось посредством его справедливого замысла, соединенного, правда, с замыслом еще более справедливым, но исключавшим участие самого Хирурга. И что если камень в почке – результат одних неправильных или порочных действий, то ужасная и бесславная смерть – итог действий других, еще более тяжких и необратимых. Не видит этого лишь слепой или человек столь же растленный.
Кроме того, вместе с письмом Хирург получил подробный формуляр, напоминавший десять заповедей, толково разъяснявший, как необходимо действовать целителю в том или ином случае и какими духовными или энергетическими инструментами пользоваться. Вместе с заоблачным посланием Хирургу, по сути, вверялась целая операционная, оснащенная всем необходимым снаряжением, изобретенным неизвестно когда и кем.
После отбоя, укрывшись грубым сукном, целитель составил опись драгоценного инвентаря и, покончив с этой кропотливой работой, поразился сложнейшей простоте наличного имущества.
«Вот теперь, – подумал он, – я могу все». – Подумал и услышал далекий раскатистый смех, долетевший из глубокого ущелья Вселенной.
В этот момент верхний сосед Хирурга по койке, отбывавший восемнадцатый год наказания за умышленную организацию единоличного хозяйства с покушением на колхозного быка, уведенного им из общественного стада для нужды собственной коровы, тихо заплакал, как он аккуратно плакал перед сном последние пять лет, очевидно, осознав, наконец, великое зло содеянного.
– Семеныч, – позвал Хирург.
Но сосед не внял. Тогда Хирург без позволения крестьянина вытряхнул его из собственного тела и отрегулировал в нем разбитую вдребезги нервную систему.
С этого дня Семеныч стал засыпать сухим, решив, что все слезы, какие были, он в своей жизни уже вылил наружу.
Еще раз в течение неспешных сорока дней от кончины «Хозяина» целитель встречался с бывшим управляющим, затерянным в сумрачных дебрях лагеря.
Как-то, перед окончанием рабочей смены, Хирург завернул за угол свежевыстроенной стены, расчерченной пушистыми лентами промерзшего между блоками раствора, чтобы справить малую нужду, и наткнулся на человека, который что-то тихо выковыривал гвоздем из шершавой, словно побитой оспой поверхности.
Человека целитель опознал сразу. Перед ним сидел на корточках в одной нательной рубахе бывший «Хозяин» и, не боясь сорокаградусного мороза, сосредоточенно портил будущую ТЭЦ. Рядом с аспидом вдоль стен и там, и сям прилежно трудилась целая диверсионная группа из десяти-пятнадцати призраков, выполняя такие же загадочные действия.
– Михалыч, – по-человечески опешил Хирург, будто это был не прежний злодей, а его родной дядя. – Ты зачем тут… Опять совершаешь?
– Чудновского помнишь? – спросил, не оборачиваясь, «Хозяин». – Станислава Николаевича. Мы его здесь кончали. Возле этой стенки. Чудновского с товарищами. Видишь, пульки застряли.
С этими словами бывший начальник лагеря действительно выковырял из стены пулю, и она, превратившись в синюю бабочку, стала порхать над ним, излучая слабое фосфорическое свечение.
Хирург поднял голову и увидел множество таких же мерцающих насекомых, безмятежно реявших над серым склепом недостроенного корпуса. Это было похоже на сон, на какое-то далекое кино. Но более всего Хирурга опалило то, что из каждой, очерченной белым, плиты шлакоблока за работающей бригадой приведений строго наблюдала живая пара внимательных человеческих глаз.
Через мгновение целитель пришел в себя, но справить нужду в этом месте не решился, так как поверил в обнаруженный десант больше, чем верил настоящей реальности, каковая уже давно не укладывалась ни в какие рамки нормального понимания.
Другой случай заставил Хирурга убедиться в том, что все происходящее вокруг – только зыбкая сфера, некая жуткая изнанка истинного существования, искаженным отражением которого в виде дикого абсурда и является его жизнь, как, впрочем, и жизнь всех остальных лагерных обитателей.
К примеру, в лагере трудился, неся свой крест, некий заключенный, Семен Ефимович Воронцов, по отцу – Фронт. Подтверждая боевую фамилию, Семен Ефимович добровольно участвовал в войне, хотя для этого ему пришлось оставить кафедру Московского университета. Он прекрасно владел двенадцатью языками, несколько знал просто хорошо и многие понимал внутренним чутьем.
Благодаря удивительным лингвистическим способностям, в армии Семен Ефимович немедленно возглавил интернациональное ядро, а вскоре был назначен командиром батальонной разведки. И вот тут господин случай сыграл с ним злую шутку.
Однажды, хватанув после удачного боя с дивизионным командиром спирта за будущие победы, Воронцов, никогда не пивший водки, получил затмение, которое рассеялось в немецком блиндаже. Еще не придя в себя, Семен Ефимович крепко обижался на незнакомых людей, используя новый военный язык, какой он постиг на войне. Очнувшись, Семен Ефимович перестал ругаться и поразил фашистов редким знанием в первоисточниках Шиллера и Еете на немецком. В тот момент его спасли три обстоятельства. Во-первых, будучи полукровкой, он относился к евреям, внешне на евреев совершенно не похожим. Во-вторых, Семен Ефимович носил благородную фамилию матери и по документам значился как старший лейтенант Воронцов. В-третьих, командир советской разведки, конечно, вызвал у врага несомненный интерес по всем статьям, и немец решил немедленно отправить задержанного в штаб. Однако мотоцикл, на котором двое автоматчиков повезли самовольно явившегося в нетрезвом состоянии красного бойца, нечаянно налетел на свою же мину, оставив в живых только Семена Ефимовича.
Вот с такой подпорченной репутацией и небольшим ранением плеча Сеня Воронцов-Фронт доставился в родной батальон.
Пристально рассмотрев проступок Семена Ефимовича и исследовав имевшиеся до войны места командировок в Париж, Дрезден и Варшаву для изучения произведений искусств, суд покарал гражданина Воронцова всеобщим презрением и назначил ему, как врагу народа, заслуженную трудовую вахту на ближайшие двадцать лет.
Семен Ефимович плакал на суде и предлагал во искупление собственную кровь. Но кровь его никому не понадобилась, так как Воронцова требовалось перековать.
После путешествий по бескрайним просторам России и пересыльным тюрьмам Семен, занимавшийся на воле западным искусством, неожиданно полюбил русский народ. Полюбил его самобытную культуру, своеобразный уникальный язык, традиции, шутки, поговорки и даже незлобный матерок.
Но особенно возлюбил Семен Ефимович великого вождя мирового пролетариата Иосифа Виссарионовича Сталина.
В то время когда глаза колонны, топавшей на работу, источали тоску и уныние, Сеня Воронцов лучился какой-то загадочной полуулыбкой, сопровождаемой шевелением губ, что означало рождение новой оды вождю.
Благодаря феноменальной памяти, Семен своих стихов никуда не записывал и знал все наизусть. Оды его были так длинны, что его никто не мог дослушать до конца, поскольку у заключенных для подобных занятий не хватало ни времени, ни сил, ни желания. К тому же Сенины оды, сочинявшиеся им с тех пор, как он слегка пошатнулся умом, пахли столь приторно сладко, отдавали такой помпезностью и вместе с тем раболепием, что трудно было представить, как сей человек когда-то занимался высокой, по большому счету, литературой.
Ежедневно Семен наливался звонкими стихами, словно неким духовным веществом, которое распирало его изнутри. Тогда он время от времени не выдерживал внутреннего поэтического давления, выставлялся перед отбоем всей своей тощей фигурой посреди барака, растопырив ноги в драных вонючих обмотках, и начинал долгую, заунывную аллилуйю Сталину. Других произведений он в лагере не писал.
Сошлись коммунары под сенью Кремля, – читал Семен, вздымая костлявые кисти к черному потолку.
– В Москву их послала родная земля. На славной трибуне наш друг и отец, Наш Сталин великий, отрада сердец. И плещут ладони, и возгласов гром, И души раскрыты пред ясным вождем. Ему свое сердце народ отдает, И Сталин – Великий, как солнца Восход. Он радость для сердца, он свет для души Правдивые речи его хороши. И жду с нетерпеньем счастливого дня, Когда в члены партии примут меня. Предан наш народ Отчизне, Дорога ему держава. Сталину, творцу бессмертной жизни, — Слава! Слава! Слава!И это бывало только началом, только запевом к бесконечной, напудренной и разукрашенной песне, уходившей в стынь глубокой ночи, в храп и стоны зэков.
Поэта Воронцова вызывали даже к начальству и там учиняли ему экзамен на предмет выявления в стихах крамолы. Но все бессмертные творения Семена были настолько идиотически искренним панегириком вождю, что командующие лагерным наказанием отступали в тыл.
– Вот ты говоришь: «Когда в члены партии примут меня»… – пытал Семена начальник режима и задал роковой вопрос: – А ты хоть понимаешь, что такое коммунисты?
– Коммунистом можно стать лишь тогда, – смело ответствовал испытуемый, – когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество.
– Это почему? – морщили лбы экзаменаторы.
– Ленин.
– Что Ленин?
– Так говорил в своих сочинениях Владимир Ильич Ленин.
– Гм, – сказал начальник режима, глядя в бумажки на столе. – Значит, ты читал Ленина?
– Так точно! – радостно, по-военному докладывал Семен.
– Какие же ты знаешь сочинения?
– «Империализм и эмпириокритицизм», «Лучше меньше да лучше», «Как нам реорганизовать рабкрин»… еще?
– Ладно, – удовлетворялось начальство. – Иди. Но смотри, твою мать, чтоб это… чтоб не дай бог там что-нибудь… Понял?
– Так точно, – успокоил начальство Семен.
Заключенные, правда, не противились Сениным излияниям: под их монотонную мелодию легче засыпалось. Впрочем, была и другая причина. Однажды некто Панюшин, отбывавший наказание за то, что оставшись во время одного из боев в орудийном расчете один, как ни старался, будучи раненым, не смог вытащить пушку из болота, а потеряв сознание так же, как и Семен, попал в плен. Бежал, был пойман, изорван собаками. Но лишь только поправился, бежал снова, пересек линию фронта и рыдал, словно ребенок, на плече первого, встретившего Панюшина, красноармейца.
Рыдая в гимнастерку русского бойца, капитан Панюшин думал, что самое страшное позади, главное – он среди своих. Но свои оказались разными. В НКВД посчитали, что будет правильнее, если этот самый капитан прочувствует свою вину где-нибудь на Колыме, тем более манеры и тон подсудимого солдата выплескивались за рамки чинопочитания. Рваные раны от собачьих клыков и осколочное ранение не доказывали судьям факта пожертвования Панюшиным в пользу Родины последней капли крови.
В лагере Панюшин был замкнутым, угрюмым человеком, редко произносившим что-либо. И вдруг среди ночи, как гром, прозвучал его голос.
– Заткнись, падаль! – резко выкрикнул Иван Панюшин. – И умолкни вместе со своим Сталиным.
Утром начальник отряда, человек, имевший на лбу волосы до самых бровей, хрипло перечитал список вверенных ему заключенных, но на фамилии Панюшин запнулся и, достав карандаш, жирно вычеркнул с ехидной ухмылкой его в своем кондуите.
Больше командира боевого артиллерийского расчета Ивана Сергеевича Панюшина никто никогда не видел.
Кроме Хирурга.
Хирург давно уже понял и утвердился в мысли, что человек – лишь маленькая частичка в огромной системе природы и космоса. Он знал также: частичка эта неразрывно связана многими нитями со всем окружающим и заоблачным миром, питающим ее и мощной энергией, и живительной силой, исходящей от некоего высшего разума, который люди и называют Богом. Ведомо было Хирургу и то, что после смерти человек не перестает существовать совершенно. А оставив свое тело как пустую личину, и загадочный, продолжающий действовать в качестве памяти о прижизненных делах земной след, душа – суть человеческая – переходит в иные сферы новых миров, о которых ни Хирургу, ни еще кому-либо знать не дано. Однако он, Хирург, после продолжительных философских бесед с тибетским Виктором поднялся на такую ступень знания, когда мог видеть и немо разговаривать с существами, прежде обладавшими людским обликом.
Явившийся Хирургу после отбоя по призыву лекаря Иван Панюшин ясно поведал Дмитрию Валову о том, что обнаженное тело его, получившее шесть пуль автоматной очереди, брошено в таежный снег неподалеку от лагеря на съедение волкам. Но не это главное. А главное то, что Россия платит и еще долго будет платить за те кровавые грехи и богоотступничество, которое она совершила в семнадцатом году. Содеяла это не по своей вине, ибо давно приняла Христианство как единственное Царство Божие, а по вине иродов, сгрудившихся у трона и вторично распявших Христа. А вот оплачивать долги придется всему народу. «Но все-таки, – известил призрак русского воина Ивана Панюшина, – именно на Россию будет смотреть весь мир, так как сохранился в ней и возродится родник духовности божьей в самом высоком смысле, несмотря ни на что. Этим лишь и спасется земля наша. Ибо спасение – это жизнь с Богом и в Боге. А если сие поймут дети и дети их детей, поймут, что кроме любви друг к другу, ко всему окружающему, ко всей Вселенной и Богу нет чувства выше – Россия расцветет, как жасминовый куст, а вслед за ней и вся земля. Иначе – конец мира».
«Ты же, Хирург, делай свое дело, как делал, – наказал Панюшин. – Отдай всем страждущим свое сердце и жизненную силу, и энергию ради исцеления нуждающихся в твоей помощи. Не так ли поступал и Христос, посланный Господом для спасения человека, для прозрения его духа и веры? Неси, Хирург, свой крест тихо и смиренно. Помни: Господь знает, думает о вас, а в нужное время даст и свободу, и искупление, какими бы тяжкими они ни были».
С этими словами бывший боец легко просочился сквозь потолок барака и растаял во мгле, где он теперь проживал.
Хирург некоторое время лежал в глубоком размышлении о словах Панюшина и вдруг неожиданно и, как ему показалось вначале, некстати вспомнил, что и его собственный отец в свою пору ревностно защищал завоевания Великого Октября, служа в войсках НКВД, пока не погиб в одной из перестрелок с «белогвардейскими бандитами».
Хирург вздохнул и первый раз обратился к Богу совершенно осознанно и направленно, с искреннею молитвою о милости и прощении России и всего имеющегося при ней человечества.
Для себя Хирург не просил ничего, только по жесткой, одеревенелой от морозов щеке его медленно ползла одинокая, скорбная слеза.
Вспомнив сейчас последнюю, необычную встречу с Панюшиным, Хирург толкнул в бок дремавшего Боцмана.
– Ты чего, Митя? – поворотил к нему Боцман привядшую ото сна, густо заросшую трехмесячной бородой физиономию.
– Я думаю, Петя, – сказал Хирург, – за что, спрашивается, мы сидели в тех клятых лагерях? А?
Боцман ошарашено поморгал и, не будучи в состоянии ответить сразу на неожиданный вопрос, озадаченно покашлял в кулак.
– Ну как, стало быть, за что? Один – за то, другой – за это, – вразумительно высказался старый моряк. – Я, ты знаешь, чуть башку не снес замполиту. Это ж тебе не шутки. Мне еще повезло, Дима. Я, можно сказать, промахнулся. А попади тогда ему прямо в носовую часть – труба. И ему, ну и мне, конечно. Так что, Дима, я сидел правильно. Что я, палач какой-нибудь? Имел ли я право казнить того шелудивого замполита, когда он, в принципе, и не виноват, если разобраться. Виновата, понятно, моя жена. Но Бог ей судья, и она, вероятно, свое получит. А вот ты, Митя, за что страдал – тут я теряюсь… Да и сколько же вас было там таких, безвинных? Мама родная…
– В том-то все и дело, Петя, – сказал Хирург, – все мы получали свое. За грехи наши. И даже, скажу тебе больше – за грехи предков наших. И близких, и далеких.
– Ну, это ты загнул, Митя, – засомневался Боцман. – Причем тут…
– Причем – не причем, а так оно и есть. Поверь мне. Как-нибудь я тебе растолкую, что к чему.
– Да, – задумался Боцман. – Может, ты и прав. Тебе виднее. Ты, Дима, человек научный. А мне до твоего маяка не доплыть.
– Доплывешь, Петя. Доплывешь. Маяк, он на то и маяк, чтоб на него держаться. Так или нет?
– Так-то оно так, – неопределенно согласился Боцман. – Только уж больно оно все мудрено получается.
– Мудрость, Петр Трофимович, – сказал Хирург официально, – есть свет, истекающий из всех страданий наших. Так-то.
Боцман с некоторой тревогой взглянул на своего друга.
– Это тебе, случаем, не Гегель лекцию прочел?
Хирург улыбнулся.
– Гегель до лекций не дорос. Гегель – Фаэтон. Бродячая звезда. Какие лекции? А вот мне бы и впору, да знаний нужных нет. Маловато. Несмотря на весь мой лагерный опыт. Знаний – с ноготок. Вырвусь отсюда – начну все сначала. Учиться начну. А знаешь, чему?
– Чему?
– Науке постижения Бога. В себе и во всем. Нас этому не учили. А это, как выясняется, главная наука.
– Не поздно?
– Что не поздно?
– Учиться, говорю, не поздно?
Хирург вздохнул.
– Этому, Петя, учиться никогда не поздно.
– Эх-хе-хе, – загрустил Боцман. – Чувствую, улетишь ты скоро в свой Петербург, и останусь я один, как якорь на дне моря. Давай, что ли, дернем по маленькой от тоски.
– Послушай, Петя, – сказал Хирург. – Я больше, приеду в Питер, пьяной капли в рот не возьму. Нельзя быть с Богом и хлестать водку. Мысли должны быть чистыми, как горная речка. А мы что? У нас мозги иной раз, будто портянки нестиранные. Позови меня больной в такой момент, что я с ним буду делать? Чем помогу? Вот ты, к примеру. С виду мужик здоровый, а селезенка, я вижу, у тебя барахлит. Тут вот… – Ткнул Боцмана в левый бок своей культяпкой Хирург. – Вот здесь болит иногда?
– Случается, – сознался Боцман. – Только мне, Митя, на все это наплевать. Пропал у меня интерес к жизни. Понимаешь? Пропал. Раньше была работа по сердцу. Жена. К чему-то стремился, книжки читал. Матросов любил. Не жил, а летел куда-то. Веришь? Да и купюры водились. Тоже, между прочим, не последнее дело. У меня о водке тогда и размышления не было. Купить мог – чего хотел. Да и цены, кстати сказать, стояли божеские. В отпуск – дуй хоть на золотые пески Варны. А сейчас что?.. Нет, Дима, ты себе как хочешь, но я хлебну, – решил Боцман и достал из рюкзака бутылку. – Не сложилась. Куда мне рыпаться: пятый десяток покатил. Такое чувство, будто торчу на причале, а пароход мой – вон он… скоро за горизонтом скроется. Тоска, Дима. Тоска серая. Глотнешь горькой – вроде теплее на душе. И пароход как будто недалеко. Глянешь – матросики по палубе бегают. С ними и сердце оживает. Так что богу – богово, а меня ты тут не убедишь. Как идет – пусть идет. И чему быть – того не миновать. Я ни перед кем не в долгу. Сам за себя в ответе. Да и годы не те – начинать сначала.
– Не нравишься ты мне, Петя. Ох, не нравишься, – в сердцах объявил Хирург. – Что ты сопли распустил? Вспомни, как жил в тайге три месяца. Един был со всем миром и душой спокоен. Не пил же там? Не пил. Никто не пил. И все на людей стали похожи. Потому что жили по-божески, чисто. Разве мне легче, чем тебе? Вот прилечу я в Питер. Кто я? Что я? Кому там нужен? Найду ли сына, жену? Да и признают ли они меня? Может быть, там давно другая семья. И все-таки, я верю, Петя. И молюсь. Нужно верить. Не опускать руки, как ты это делаешь. Есть у тебя дорога – иди по ней до конца. Крест на плечах – неси смиренно. Поставь цель – вернуться на корабль. И дано тебе будет. Так говорил один мой приятель из Тибета. Не забывай только обращаться к небу. Помни: ты человек и рожден для радости. А печаль твоя и хандра неутешная передаются всему миру. Близким твоим, далеким, вон тому дереву, сопке этой, океану. Все мы – одно целое. И если плохо тебе – плохо еще кому-то. А от радости твоей оживает Земля. Радость же приходит, когда, несмотря ни на что, добьешься своего. Вот тогда, Петя, почувствуешь себя человеком.
Водитель переключил скорость, и автобус пошел на взлобье перевала с новой силой.
Пассажиры дремали, похрапывали.
Боцман закупорил бутылку, засунул ее обратно в рюкзак и отвернулся к плывущему в редкой метели окну.
– Откуда ты взялся на мою голову, – сказал он в никуда. – Так было просто: вот мешки, вон ящики. За углом магазин. А теперь сиди, думай. Разбередил ты мне раны, Дима.
– Это не страшно, – ответил Хирург. – Думать, как показывает опыт, всегда полезнее, чем шастать по магазинам. Сие тебе как врач констатирую. И вернуться на корабль помогу. Есть у меня одна мыслишка.
В тот день, когда исчез Гегель – Смирнов Василий Николаевич, Хирург не находил себе места.
Нужно было обустраивать лагерь. Боцман с Борисом стучали молотками, натягивали палатки для хранения вещей и непортящихся продуктов. Мастерили в вагончике, стоявшем на берегу шумной, быстрой речки Лайковой, деревянные нары, а лагерный лекарь все ходил из стороны в сторону с бесполезным в его руке топором, не понимая: зачем, почему и куда устранился их загадочный собригадник.
По опыту Хирург знал, что эти места, сплошь покрытые дремучей тайгой, насквозь прошиты неумолчными речками, питавшимися ледяной водой таявших на сопках снегов, многочисленными протоками и ручьями болот. Пройти сотню верст по такой местности до Магадана мог только человек бывалый, выносливый, зоркий, для которого и примятая трава, и надломленная ветка, и откровенный след, и крик птицы были своего рода сообщением о том, как поступать в той или иной ситуации.
Смирнов же Василий Николаевич, облаченный в старенький, заношенный костюм, нестиранную рубаху, повязанную под воротничком аляповато-ярким галстуком, при затертом дерматиновым портфеле, в коем болталась электробритва, ветхое Евангелие и резиновый заяц, походил больше на заблудшего бухгалтера, нежели на матерого таежника.
– Ну чего ты маешься, в натуре? – угадал мысли бригадира Борис. – Никуда твой очарованный не денется. Хотя зачем ты взял его, никак не пойму. Я таких чумовых знаю. Завалился, как Ванька рязанский. Посидел на пенечке, покумекал – работа тяжелая, комарье, гнус пойдет. Помаши-ка тут косой на болотах… Нет, думает, это не по мне. И пошел втихую. А пойдет он, я тебе говорю, берегом Лайковой аж до Охотского моря. От одной стоянки косарей до другой. Мебель, небось, таких косильных бригад набросал по реке штук двадцать. До самой столицы Колымского края. Так что не боись: везде ему, придурку, и харч, и ночлег, и все прочее. Это чучело и мишка обойдет, и волк с рысью от хохота сдохнут. Другое дело – погреб некому копать. Тут я сейчас упер бы его лопатой в землю. Да и кухню ладить некому. Баню ставить. Не на неделю прикатили. Дрова к вечеру пилить. Работы навалом. Руки, сам знаешь, на вес золота. Четверо – не трое. А он, курва, в самый такой момент взял и сдунул. Но ладно, бугор, не бери в голову. Не вешаться же теперь. Справимся. Жалко, конечно, клешни тебе переломали те твари – Боцман рассказывал – ну ничего, переживем. Не убивайся, Хирург. Как-нибудь потихонечку все организуем.
– Да, скоро горбуша пойдет, – невпопад присоединился к разговору Боцман. – Икра будет.
Тайга по обе стороны реки стояла тихая, стройная. Неслышно умывалась неярким колымским солнцем. Но из дебрей ее тянуло чем-то диковато жутким, первобытно далеким.
– К вечеру дождь будет, – сообщил Хирург. – Надо поторапливаться с палаткой.
Борис оглянулся по сторонам.
– С чего ты взял? Небо кругом чистое.
– Вон ту сопку видишь? – показал Хирург топором. – Я ее Шаманом назвал. Так вот, если Шаман сидит в серой заячьей шапке из облаков – быть дождю. Тем более ветер оттуда. Ежели соболь на макушке снежный сверкает – солнце до заката. Словом, живой прогноз. Ну а сейчас чего мы наблюдаем?
– Серый на голове, – подтвердил Борис.
– То-то и оно, – вздохнул Хирург. – Представляешь, каково Гегелю будет? До ближайшей стоянки, не зная короткого пути, он не дотянет.
– Так ему, козлу, и надо, – вспылил Борис. – Пусть помокнет, раз мозги кривые.
– Мозги, Боря, у всех кривые, – открыл Хирург. – Главное, какие мысли в них имеются. А дурными словами в чей-то адрес бросаться нельзя, Боря. Они, эти слова, к тебе же и вернутся. Бедой, болезнью, переломленной судьбой и прочей неприятностью.
– Получается, много ты налил на кого-то слов таких? – с намеком на Хирургову долю спросил Борис.
Хирург поднял с земли толстую ветку, положил на пень, с которого недавно отделился в тайгу Гегель, и одним ударом пересек ее надвое.
– Нет, Боря, – сказал он. – Слов дурных я ни на кого за свой век особенно не обрушил. Потому и здоровье пока – тьфу-тьфу – слава богу. А жизнь переломилось – тут другое. Как-нибудь я тебя с Боцманом соберу и прочту между вами лекцию. Эта тема сильно глубокая. Признаться, мне и самому в ней многое неясно, но кое-что я все-таки понял. И Гегель, думаю, ушел неспроста. У него, видно, была своя причина, отличная от той, Боря, какую ты выставил. Если к ночи занепогодит – придется искать. Собаку, и ту жалко потерять. А уж человека…
– Вот интересно, Хирург. Чем ты меня берешь? Не могу просечь. Все внутри вроде бы противится тебе. А что-то шепчет в душе: прав он, прав. Святой ты, что ли? Или колдун?
Действительно, Хирург не ошибся. К исходу дня солнце еще не успело спрятаться за сопки, обливало тайгу теплым последним светом, а со стороны Шамана низко поползли лохматые пепельные тучи, ощупывая сивыми лапами верхушки старых сосен.
Стало сумрачно и тревожно. Вода в реке почернела и только на перекатах она по-прежнему вскипала и пенилась белыми вихрастыми бурунами. Чайки, налетевшие в ожидании нереста, притихли на островах, изредка оглашая помрачневший лес вещуньями криками. Предвещали же они непогодь, возможно, затяжную, какими и славится короткое колымское лето.
Хирург прослушал последние новости птиц и решил с утра, не откладывая, отправляться на розыски Гегеля.
Вертолет, вызванный для обнаружения беспутного косаря, впустую покружил над тайгой, да так ни с чем и вернулся на базу.
Тучи начали сеять холодной моросью, но складские палатки уже стояли и кухню успели укрыть полиэтиленом, спрятав под двойной крышей немного сухих дров. Но там кашеварить не стали.
В вагончике растопили чугунку и на ней приготовили японский порошковый картофель, щедро заправленный свиною тушенкой: с утра не держали во рту ни крошки.
Борис достал припасенную в городе бутылку рисовой водки и разлил ее в алюминиевые кружки.
– Ну что, мужики, – произнес Хирург и немного подержал кружку, обхватив ее с двух сторон корявыми пальцами обеих рук.
В свете керосиновой лампы морщины на его лбу и проямины на щеках стали глубже, худое лицо заострилось, и весь он сейчас напоминал старейшину древнего рода. – С началом сезона!
– Бог в помощь, – поддержал его Боцман.
Глухо чокнулись незвонким железом и, обнюхав хлебушка, набросились на еду.
Тихо шелестел по крыше за окошком дождь. Чутко вздрагивал желтый лепесток пламени за стеклом лампы. Пахло сосновыми дровами и керосином. От печки, водки и пищи враз стало жарко.
Обросший бородою, Боцман являл собою дремучее чудище, и ложка в его лохматой лапе казалась не больше булавки.
В свете дня борода старого моряка имела вид осанистый и даже как бы ухоженный. Сама собою разделенная на подбородке на две равные части, она плавно застилала лицо его рыже-золотой порослью с пробитыми сединой в концах скул витыми кольцами. В сумраке же была какого-то пугающего цвета обожженной меди, а вся его всклоченная после работы голова представляла некий далекий ветхозаветный образ.
Глядя на размытые очертания реки за небольшим окошком наскоро обустроенного жилища и думая свою неведомую думу, Боцман неожиданно решил вслух:
– Завтра побреюсь к чертовой матери. Начинать новую жизнь – что с якоря сниматься: надо с чистой мордой.
– Вот комары обрадуются, – засмеялся Борис. – С твоей лысой фотографии им до самой осени крови пить, не перепить.
– А я думаю, ребята, – вмешался Хирург, – придется мне с утра выходить Гегелю наперерез.
– Правильно, – поразмыслив, поддержал друга Боцман. – Все равно никакой работы не будет. Я чаек слушал. Говорят, сырость с неба дня на три, не меньше.
Борис покачал головой.
– Неугомонный ты дядя, бригадир. Но я, если ты не против, пойду с тобой. Найдем твое чудо, хоть посмеюсь над этой мокрой курицей.
Хирург хотел было что-то сказать, но промолчал.
– А мне чего делать? – пробасил Боцман. – Не оставлять же лагерь.
– Ты к вечеру как раз только и побреешься, – прояснил Борис.
– Слушай, Боря, – надорвал тишину лагерный целитель, – скажи мне: за что ты людей не любишь?
Борис помедлил с ответом, закурил питерский «Беломор», выданный сенокосчикам на все лето.
– Как тебе сказать… Не за что их любить пока. Не видел я в жизни ни от кого ничего хорошего. Человек по природе своей злой. Злой, как волк. А ты должен быть еще злее – иначе сотрут в порошок, растопчут и ноги об тебя вытрут. Рви свое – тогда будешь жить. Вырвал побольше – тебя уважают, кашляют перед тобой, кланяются. А не вырвал – ты вошь, гнида. Всякая кляча копытом раздавит. Ты – никто и никому не нужен. Хоть люби человека, хоть не люби. Он к тебе все равно задницей повернется. Если нет ничего в кармане, так и будешь катать с места на место, от берлоги к берлоге, потому что ты – голь перекатная. И цена тебе – один деревянный, да и то – стесанный. А все эти «возлюби», «снимай рубаху», «не укради», «не прелюбодействуй» как раз на такую рвань и рассчитаны. Поскольку им ничего другого не остается. Люби ближнего и все. Может, он корку какую подбросит. А женщин иметь – в кошельке ветер гуляет. Конечно, философия не новая, но как я успел заметить, Хирург, весьма прочная. И в наше время, поверь мне, самая предпочтительная. Соглашайтесь, не соглашайтесь, меня с нее не сдвинешь. Жизнь научила кое-чему. Человек же сам по себе – такое изобретение, что ему все мало. Есть дом – нужна «тачка». Есть «тачка» – подавай дачу. Имеется дача – причаль к ней яхту. И чтоб в ней – красотка. И так без конца. Но здесь-то и зарыт интерес. Жизнь – бой. Будешь изворотливым, сильным – победишь. Нет – извини, подвинься. А любовь – это, Хирург, лирика. Без запаха и цвета. Ее не потрогаешь руками, чего она такое и сколько стоит… Вот прикинь, я на Ривьере, – есть за бугром курорт такой. Выхожу из длинного белого «Форда» в белом костюме с сигарой во рту. И меня сразу все любят. Предлагают и то, и это. А я, усевшись в плетеное кресло, лишь выбираю и то, и это. А почему? Потому что люди мне нужны только как средство достижения своей цели. И я передвигаю их, словно фигуры на шахматной доске. А если я буду любить их, как ты говоришь, то никогда не стану ни Фордом, ни Рокфеллером, ни Лениным-Сталиным. Это – дважды два. «Мы всходим на корабль и происходит встреча, – говорил один французский поэт, – безмерности морей с предельностью мечты». Вникните в эти строчки и поймете, что я прав. Предельность мечты! Есть черта, за которой все обнажается, будто под твоим скальпелем, Хирург. А ты говоришь – любовь. Ты, кто лучше других знает: проведешь по коже этой штукой, и вот они – печень, почки, легкие и прочие предметы. Где она тут, любовь? В желудке, селезенке, кишках? Где она?
На Хирурга тогда навалилась какая-то тяжелая, плотная тишина, в которой издала последний, тихий крик и скомочилась на дне лампы, обожженная кинжальным лезвием пламени, неведомая, мелкая комаха.
– Знаешь, Боря, – с налетевшей тоской произнес Хирург. – Скажу тебе притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И вот он рассуждал так: что мне делать? Некуда мне собирать плодов моих. И сказал: вот, что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие. И соберу весь хлеб и все добро моё. И скажу душе моей: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Бог сказал ему: «Безумный! В сию ночь душу возьмут у тебя, кому же останется то, что ты говорил?» Так вот, не случится ли с тобой то же самое? Средства, какими ты намереваешься пользоваться, не от Бога взяты будут. И не на любви к ближнему хочешь построить дом свой. Твоя философия – философия застывшей лавы, которая всеми силами будет пытаться забыть, что под нею клокочет огненная стихия. Кроме того, помни: ты – русский, и в твоей душе обретается древняя страсть путника, ищущего Града Божьего, для которого безмерная ширь и воля важнее всего. Это проснется рано или поздно. Тебя же сейчас обуяла алчность, тогда как великое приобретение жизни – просто быть, жить и уметь радоваться этому. Алчному же – хоть весь мир отдай, он все будет говорить: «Мало!». Так рассуждают протестанты. У них нет Бога как такового. То есть он есть, но, скорее, в качестве идола, пред которым можно покаяться в чем угодно. И он простит и предательство, и ложь, и намеренное убийство. А дальше можешь делать все то же самое. И лгать, и убивать, и предавать. Покаяния, искреннего, православного покаяния у них, у наших заокеанских друзей нет. Да и ты сейчас не русский, вспорхнувший за золотой бабочкой. Рабство ты уже ощутил на собственной шее. Что же, теперь будешь мазать этим дерьмом других? Худо, Боря. Не о таких людях, как ты, мечтает Россия. Не о таких, Боря. А теперь спи. Ну тебя ко всем чертям. Надоел ты мне. – Хирург устало поднялся и вышел по ноющим, старым доскам вагончика наружу, в мокрую, налитую запахом хвои, темень. Сейчас он казался себе таким же обожженным мотыльком с подгоревшими крыльями, оставшимся лежать на донышке лампы. Не было ни сил, ни желаний. Рядом глухо урчала река. Из глубины леса вырвался и тут же задушено стих далекий звериный крик.
Хирург вздрогнул. Невольное чувство хрупкости всего живущего овладело им. В который раз! Он вдруг испытал отвращение ко всякого рода суетной деятельности. Кто придумал, что праздный ум – мастерская дьявола? Напротив, чистый ум или праздный ум – мастерская Бога. Конечно, черные силы поселяются в уме, обуреваемом безудержной деятельностью. И Борис не исключение. Он молод, он бежит и проваливается то в одну, то в другую яму. Соблазнов много, а ум, как кочерга. Ему нет покоя. Он весь в суете. И вот уже дьявол начинает руководить им. Он никогда не скажет: «Остановись!», «Расслабься!», «Поразмысли». Он говорит: «Действуй! Делай, что угодно, но действуй. Двигайся! В жизни надо успеть!»
На самом деле, стремиться успеть не нужно, потому что именно тогда и не успеешь. Все великие осознали: неспешный ум позволяет божественному войти в него. И быть в нем нетленно. По природе ум пуст, но он содержит в себе все, что нужно.
Иисус сказал: «Если будешь цепляться за себя, потеряешь…»
Хирург невольно, словно по чьему-то велению, обернулся и посмотрел в направлении Шамана. На том месте, где стояла белоглавая сопка, мреял огромный мутно-золотой равносторонний треугольник с легкими красными шарами по углам. В центре же эта геометрия имела ясно различимый зрачок, недвижно взиравший на Хирурга испытующе строго. Под этим взглядом Дмитрий Валов вдруг почувствовал, как усталость и немощь слетели с него, будто шелуха, а тело стало легче птичьего пера. Оно, тело, медленно поднялось от земли и легко взмыло над тайгой косо вверх. Но кроме этого, Хирург с удивлением обнаружил, что и речка Лайковая, на берегу которой он только что стоял, тоже движется вместе с ним в окруженном звездами пространстве. Наконец растаяли звезды и в абсолютной мерцающей пустоте оказались лишь Хирург, серебристая река и загадочный треугольник с живым оком, все так же глядевшим на лекаря с прежним неколебимым вниманием. Хирург неожиданно увидел себя как бы со стороны. Пугающе большим и прозрачным было его тело. Река уходила в бесконечность. Течение ее стало спокойным и плавным. Треугольник теперь занимал всю оставшуюся часть окружающей площади, если таковая вообще существовала.
Хирург увидел, как сначала произошло некое сияние, наподобие северного, а затем Река беззвучно вспенилась легким серебром. Из Нее родились два солнечно-прекрасных, разнополых существа и, взлетев, как боги, они растворились в бесконечности.
– Радуйся боли! – услышал целитель запредельный голос. – Ибо она есть предвестник рождения и дана как очищение и покаяние. Радуйся заблудшему, поскольку ты способен вывести его из мрака. Радуйся искушению, потому что оно дает тебе возможность и силы противостоять. Имея же эти силы, все низкое сделаешь высоким. Радуйся темному, потому что можешь пролить в него свет. Не беги от этого. Не бойся смерти. Смерть – лишь новое рождение. Следуй за любовью и добром, тогда тебе дано будет, а в жизни – достигнешь. Радуйся!
При этих словах большой, боковой образ целителя неспешно наполнился сначала цветом млечным, затем серебряным и, наконец, золотым.
Хирург физически почувствовал тяжесть в затылке и хотел, было, снять фуражку в знак искреннего почтения пред ровным, могучим и мудрым голосом, но головной убор остался в вагончике, в обычном деревянном вагоне, оббитом обычным ржавым железом. Целитель растеряно обернулся, но ничего не смог различить позади себя. Накатившаяся ночь уже поглотила лес, едва обозначив вверху лишь кромку его ровной стены, а заодно и таежный дом, оставив только бледный конфорочный огонь окошка. Простужено дышало моросью низкое небо. Хирург потрогал покалеченной рукой мокрые волосы и понял, что снова на земле. Он опять поворотился к Шаману, но там была сплошная черная мгла. Где-то рядом все так же неусыпно мурлыкала и кипела в перекатах старая подруга – речка Лайковая.
Хирург поднял голову к небу и медленно, вкусно вдохнул родниково чистый, влажный воздух, ощутив, что вместе с хвоей, речной свежестью в нем растворено еще эхом звучащее: «Радуйся!»
– Ну ты даешь, командир, – попенял Хирургу Борис, когда за тем захлопнулась дверь теплушки. – Мы думали, не уснул ли ты часом где-нибудь под кустом. Живот, что ли, схватил?
– Догадливый ты парень, Боря. И это в тебе – золотое качество, – ответил Хирург и начал стаскивать с себя волглую фуфайку.
Боцман поднялся и открыл настежь дверь. Дым от выкуренных папирос волной стал выливаться в бездонную ночь, а та вмиг наполнила вагон лесным еловым ароматом, хорошо приправленным запахом реки.
– Что ни говори, – сказал Боцман открывшейся ночи, – а море пахнет лучше. Сильней пахнет. Сильней.
– Я не против, – сказал Хирург Борису. – Пойдем завтра вместе. В тайге-то бывал?
– По-настоящему – нет. Так… на экскурсии.
– Вся наша жизнь – экскурсия, – философски заметил Боцман.
– Это точно, – согласился Хирург, – большая экскурсия.
Автобус, наконец, заполз на очередной подъем и остановился. Дальше дорога была ровной, но вдали виднелся глубокий спуск перед новым, спирально кольцевым витком вверх.
Слева, завернутая в метельное покрывало, сонно стояла тайга. Справа же, в низине, покоилось гранитно-седое плато океана.
– Перекур! – крикнул шофер. – Кому побрызгать – выходи.
Разбуженный народ зашевелился, потягиваясь и зевая.
– Половину отмотали, – сказал кто-то.
Хирург, оторвавшись от воспоминаний, взглянул на местность.
«Пожалуй, что так», – подумал он, припомнив, как года два назад по этой же дороге подвозил его один «веселый» водитель. И именно в этом месте, изумленный видом открывшегося моря, чуть было не свернул, чтобы прокатиться к нему по обрыву.
Старатели с сенокосчиками дружно выстроились у обочины, возглавляемые шофером, одетым, как бросилось в глаза, в черный морской китель с двумя рядами золотых пуговиц.
– Ну, дядя, на тебе кнопок, что на гармошке, – рассмеялся Борис. – Хоть Камаринскую шпарь.
Добытчикам понравилась незлобная Борисова шутка, и они басовито погудели, как шмели, продолжая поливать невысокий снежок.
– А я, слышь, это… – оживился имевшийся у приисковиков личный Гомер. – Еду раз с Киева у Белую Церкву…
– Так, хлопцы, по местам, – скомандовал морской шофер. – Я и так опаздую. Не тянет, холера. Посадют на рухлядь – и колупайся с ей.
Расселись. Машина теперь побежала по ровной дороге легко, ухватисто. Народ достал курево и проветрившийся, было, салон вновь наполнился густым, тяжелым дымом.
– Ага. Дело было летом, – продолжал свое повествование сказитель и поправил на круглом, румяном лице пышные соломенные усы. На голове у него блином лежала белая фуражка, из-под козырька которой весело и озорно светились быстрые рыжие глаза.
– Еду. И как раз же по дороге кум живет. Километров пятнадцать. А время у меня было, что я мог и назавтра вернуться. На мне пиньжак. Ага. При Сталине носили такие. И пугвицыж, конечно, золотые.
Заворачую до кума прямо во двор. А как-то так получилось: давно перед тем не виделись: то работа, то – то, то – это… Жинка кумова давай сразу доставать огурцы соленые, сало. Курку зарезала. Самогона четверть. Все как положено. Ага. Сели в садочке. Вечереет.
Разговариваем. Раз и приходит соседка. Женщина – я тебе говорю. Вдовая. Жаром от нее, как от печки. Села рядом. Ага. Села. Я аж сомлел близом с ей. Грудей у той соседки – мама родная. Что два гарбуза за пазухой. Такая прорва тела в женщине. Видать, она тем своим телом мужа и укатала. Здоровый такой хлопец был, Федя. Я его знал. Комбайнер. И вдруг помер. Говорили – сердце. Ну, правильно, какое сердце ту прелесть выдержит. Слоном надо быть. Но при этом та самая вдовая соседка – Лида имя – сильно образованная гражданка. Одну стопку, другую, третью. И давай смеяться над правительством, министрами, над военными. Главное, мы с кумом замечаем – правильно смеется. Ага. И все она тебе знает: и за Михайлу Сергеевича, и за Лукьянова, и за Пугу. Где, что, когда, с кем. В общем, туда-сюда. Еще по чарке. Тут энтоя самая Лида песняка как вдарит. На всю деревню. Чуть уши не полопались. Ну и кум мой с жинкою рты пооткрывали – голоса показуют. Вот это, думаю, контора. И сам заспивал, аж слезы бежат. Ага. Еще выпили. Давай теперь по брундуршафту целоваться. Тут вдовая Лида мине смехом и говорит, что это, мол, у тебя, Степа, пиньжак такой модный, а сама пугвицы золотые пальцами трогает. Хочешь, говорит на ухо, я тебе массаж через энти пуговицы исделаю. И заливается горлом – меня прямо в пот кинуло.
Старатели, радуясь за друга, погагатывали, одобряли положение.
– Ага. Говорю: зачем массаж? У меня, говорю, уже есть. Я ж с пьяных глаз решил, что массаж – телевизор такой. На хрена, говорю, мне массаж, когда у меня «Рекорд» стоит. Считай новый.
Тут у Лиды моей чуть груди с кофты не выпали – так она зашлась вся. Ну умирает, «Рекорд», так «Рекорд». Лишь бы стоял. А я спьяна никак не пойму, на что она намекает, заливаючись. Сам же горю, как пожар. Ага. И тут только до меня дошло, когда она головой своей пышной в колени мине упала от смеха, а локоть ейный будто нечаянно в самое мое твердое место и уперся. Меня аж током вдарило. Вот это, думаю, массаж.
В салоне снова раздался взрыв хохота. Гомер же невозмутимо прикурил погасшую сигарету, словно вокруг него ничего не происходило.
Старатели, смеясь, гордились товарищем. Им было приятно, что неиссякает в мужике былая казацкая сила.
– Ага. Ну что? Туда-сюда, – продолжил Степа-сказитель. – Уже ночь легла. Жинка кумова каже: я тебе, Степа, у сарае на соломе застелю. Ты ж, помню, любишь на соломе. Люблю, говорю, а у самого уже, чую, язык из глины. Не годится, думаю. Надо еще чарку спустить. Выпили мы с Лидою. Она все заливается смехом. Вот баба веселая! Я смотрел, смотрел на нее, и сам стал. Смеюся – не знаю, чего. Пять раз уже бегал в огород отлить. Прибежу, слышишь – обратно смеюся. Аж в животе колет. Ну контора! И так мы с той вдовицей довеселилися аж до самого сарая. Кум с жинкою уже спать полягали у хате. А мы с Лидой гогочем, что те гуси. Ага. Она и шепчет як бы смехом: зараз я тебе тут массаж и сделаю. Аж бегом. Слышишь? И як повалила меня на ту солому, як придавила усем своим телом, усеми своими грудями – я и затонул под ними, что подводная лодка. Ага. Так с нею бултыхалися в том сарае всю ночь. Ну что? Утром прокинулся – где штаны, где пиньжак – еле нашел. В голове соломы больше, чем волос. Ага. Туда-сюда. С кумой попрощался, поехал. А сам же ж чуть живой. Вечером вертаюсь до дому. Жинка каже: что ты, Степа, такой зеленый, як детский понос. Ну, ничего, каже, зараз помоешься, я тебя покормлю, та пойдем спать-отдыхать. Ох, и приласкаю ж тебя! Во я соскучилася, аж не могу. Ты, говорит, где-то ездишь там, а мне тут – страждай. Иди, мойся скорее. Ну, думаю, все. Мине – каюк. Бо жинка дуже горячая на это дело. Тогда, говорю, наливай стакан самогона: сильно я заморился на работе. Но если, хлопцы, вы думаете, что на этом усе кончилося – глыбоко ошибаетесь.
– У меня раз тоже было, – отозвался еще один рассказчик, но Хирург его уже не слышал.
Еще толком не рассвело, когда они, Хирург с Борисом, отошли от стоянки. Низкие тяжелые тучи все так же орошали тайгу водяной пылью. Лес стоял настороженно тихий, тревожный, повитый лишь едва слышным, травным шелестом дождя.
Сначала шли узкой, хорошо убитой в прежние годы тропинкой, петлявшей, как ящерица, по берегу речки Лайковой. Борис то и дело спотыкался с непривычки, громко матерясь в спину Хирургу. Хирург не выдержал. Остановился.
– Ты чего? – осторожно спросил вполголоса Борис.
– Слышишь? – сказал Хирург и показал в сторону реки.
Борис прислушался.
– Что?
– Речку слышишь?
– Ну.
– Лес?
– А что?
– Тебя все слушает, Боря. А ты ругаешься. Тем более по матушке. Это вообще ни в какие ворота. Кто только придумал такую пакость? Нельзя, Боря. Нехорошо. Беду накличешь. В тайге надо ходить тихо. Уважительно. Медведь в двух шагах от тебя пройдет – ветка под ним не хрустнет. А ты шумишь. Не нужно. Тайга этого не любит. Ты же книги мудрые читал. Разве они матом написаны?
– Ну вот, – поморщился Борис, – началось… Понеслась пропаганда.
– Это не пропаганда, Боря. Это здесь закон жизни. Все злое вернется к тебе двойным злом. Доброе сделаешь – добро и получишь. Вот что запомни.
Борис промолчал, достал пачку папирос, предложил Хирургу.
– Спасибо. Натощак не курю. Это все равно, что на живую рану кислоту лить.
– А-а… – махнул рукой Борис. – Пока что здоровья хоть отбавляй.
– Не отбавлять нужно, чума. А прибавлять, – усмехнулся целитель и окинул взглядом экипировку напарника.
– Эх, дундук я старый! – всполошился Хирург. – Как же недосмотрел?
– Что еще? – стал оглядывать себя Борис.
– Ты куда кирзачи напялил, корова? Нам болотами ходить, вброд переправляться, а ты… Вроде не маленький. Ну-ка, бегом. Переодень болотники. Хорошо, недалеко ушли.
Когда Борис скрылся за кустами, Хирург закурил.
– Вот чума, – пожаловался природе. – Детский сад, ей-богу. Никакого понятия.
Он присел на мокрое лысое бревно, и в своей запахнутой плащ-палатке с капюшоном сам стал похож на переломленный бурей или старостью острый ствол дерева.
«Как же ты дойдешь, Витя? – вспомнил тогда последний разговор с Тибетским Виктором перед его побегом из лагеря. – И куда идти? Погибнешь. Тайга на сотни, а то и тысячи верст».
Виктор в ответ засмеялся.
«Вера выведет, Дима. Как-нибудь, с Божьей помощью. А идти нужно все время на юго-восток. Это проще простого. Доберусь до Амура, а там до материка уже рукой подать. Во Владивостоке – на пароход и прощай, Колыма. Но не вздумай, Дима, идти за мной. Вот ты не дойдешь. Мало в тебе еще высшего знания. Новый Завет, который я тебе пересказал – это только начало. Крепись, Дима. Говори с Богом, как я тебя учил. И настанет твой день. Настанет!»
Тогда начинался июль, и Колыма открыла двери недолгому лету.
На следующее утро после прощального разговора в лагере обнаружили оглушенного охранника без автомата. Он то терял сознание, то его мутило и рвало. Видно, Виктор не рассчитал силы удара, и у военного охранника произошло сотрясение мозга. Плюс ко всему у пострадавшего оказалась сломанной челюсть, потому сказать что-либо вразумительное он был не в состоянии.
Организовали погоню с собаками, но у первого же болота она застряла: вода. Кругом стояла, текла, журчала и бурлила вода.
Хирург часто, на протяжении многих лет пытался вызвать для беседы образ Виктора, но тщетно. В том качестве, в каком являлись к нему души умерших, Виктор не приходил, из чего Хирург сделал заключение, что духовный учитель жив, здоров, а его Вера и умение посредством высшего знания находить с природой общий язык, в конце концов, вывели Виктора к животворной реке Амур.
Конечно, побег из лагеря, в который упекли Хирурга и еще тысячи подобных ему страдальцев, был безумием, равным самоубийству. Но тем сильнее победа Тибетского странника грела Хирурга, восхищала до скрытой от всех ночной улыбки, ибо та победа была явным доказательством неограниченных возможностей человеческого духа, о коих и проповедовал Хирургу Виктор.
Целитель, сидя на голом, как колено, бревне, так увлекся своими теплыми мыслями, что не сразу оценил посторонний шум позади себя. Когда же чуждый звук заторможено достиг его слуха, Хирург насторожился. Тот, кто произвел за его спиной неожиданный шорох, не мог быть Борисом. Борис ожидался на тропинке, с другой стороны. Хирург осторожно обернулся. Ему почудилось, будто среди сосен мелькнула тень какого-то крупного животного. Но пасмурный сумрак утра еще так плотно лежал в тайге, что разобрать что-либо было невозможно. Тем не менее, Хирург поднялся и, тихо ступая, пошел навстречу Борису – мало ли. Медведя и лося в тех местах водилось предостаточно. Один резиновый сапог чуть поскрипывал, и Хирург поднял палку, чтобы, опираясь на нее, скрадывать противный, ненужный звук. Он прошел метров двести. Здесь тропа резко огибала раскидистый куст, а дальше пересекала небольшую, уже поросшую мелкой травой поляну.
Хирург бесшумно добрался до куста и замер: в пяти метрах от него, чуть присев на задние лапы, задом к целителю стоял медведь, совершая рядовое житейское дело опорожнения. Хирург почувствовал слабость в ногах: с другой стороны поляны вот-вот должен был появиться Борис. Что могло произойти дальше, Хирург не знал. Сердце громко застучало внутри целителя, и он испугался, не выйдет ли внутреннее биение наружу, не услышит ли его зверь. В это мгновение из чащи кустарника с противоположной стороны вынырнул Борис. Он двигался быстрым шагом, что-то напевая себе под нос.
Медведь, не прекращая своего дела, поворотил к нему морду. Их разделяло не более тридцати метров, когда Борис заметил зверя и остановился, напряженно вглядываясь в то, что увидел. Медведь приподнялся и встал на все четыре лапы. Наступило то жуткое, нервно-выжидательное мгновение, упустить которое Хирург не имел права. Он выскочил из-за куста с рвущим тишину криком и ударил медведя палкой. От неожиданности и испуга тот рванул в сторону и, уже убегая, обиженно заворчал. Вскоре он скрылся в тайге, а Хирург почувствовал усталость во всем теле, словно отработал целую смену в лагере. Он сел прямо на мокрую траву и достал папиросы.
– Кури, – предложил подошедшему Борису.
Тот присел рядом. Закурили, пряча от сырости папиросы в кулак. Дым плотно и тяжело поднимался вверх, но тут же таял и растворялся в мороси. Теперь, когда внезапное напряжение схлынуло, Борису стало весело.
– Надо было мне тоже штаны скинуть да присесть рядышком. А ты его палкой, словно это барбос какой.
Успокоено посмеялись.
– Но вообще-то, лихо ты его, Александрович.
– Рыба еще не пошла. Голодно ему. Здесь всего можно ожидать. Хорошо, что боятся они неожиданного, резкого шума. Вот я и поорал слегка. Видишь, почуял он тушенку нашу, к лагерю двигался. К Боцману, конечно, не сунулся бы, а палатку с продуктами разворотить – это для него плевое дело. Собачку бы нам. Да где ее взять?
– Мебелю закажи, он доставит. Только вместо собаки из-за своей дырявой башки козу какую-нибудь слепую притащит.
– Это верно, – согласился Хирург. – Такое за ним водится. В прежние годы Мебель раз в две недели прилетал обязательно. Как, мол, дела? Что нужно? Почту привозил, газеты, журналы. Тут ничего не скажешь. Но насчет дела – действительно беда. Все просьбы запишет в блокнотик. Аккуратно, правильно. Но потом, как пить дать, перепутает. Первый с пятым участком, шестой с третьим и так далее. Понятно, если у человека сплошной склероз и дым в голове – не до хорошего.
Ладно. Мебель Мебелем, а двигаться нужно. Философа необходимо найти. Как нам без философа?
Теперь шли, зорко осматриваясь по сторонам. Впрочем, уже достаточно рассвело. Тропка приползла к обрывистому краю Лайковой и здесь струилась почти по самому его срезу.
Местами берег поднимался довольно высоко, местами же плавно стекал к реке, образуя волнистые песчаные отмели, по которым прибегали в Лайковую быстрые, веселые ручьи, расцвеченные на дне мокро-золотыми кристаллами колчедана.
Сама же река Лайковая имела внутри себя довольно крупный, основательный галечник, и перебираться через стремительные перекаты ее было не так-то просто и безопасно. За перекатами то здесь, то там устрашающе громоздились под выступами берегов завалы из бревен с торчавшими, как боевые копья, отточенными водой, окостеневшими стволами.
На одном из бродов Борис круто оступился, черпанув сапогом ледяной воды. Хирург протянул ему свой посох, но тот, чертыхаясь, выбрался на противоположную сторону самостоятельно. Стащил мокрую резину, вылил из сапога воду.
– Не простудишься? – обеспокоился Хирург.
– Не страдаю, – уязвлено ответил тот.
– Смотри. А то костер разведем, подсушишь портянки, – не унимался целитель.
– Обойдется, – пробурчал Борис. – С костром много возни будет. Не та погода – костры жечь. Все сырое. Время только потеряем. Вот перекусить не мешало бы: живот к спине прилипает. Километров семь уже, небось, отмотали.
Борис был явно в азарте их путешествия. Он действовал быстро и ловко. Сильными, точными движениями крепких рук выкрутил мокрую портянку, аккуратно сложил ее и засунул в боковой карман рюкзака. Из нутра же его достал сухую и привычно, в три приема намотал портянку на ногу.
– Вот и все. Давай поедим, бригадир.
Хирург отрешенно подумал, что когда-то и ему было столько, сколько Борису, и он тоже обладал такой же силой и ловкостью. Когда все это было? Возможно, сын его сейчас столь же хваток и селен.
«Конечно, как иначе», – поразмыслил Хирург, и ему снова, до боли в сердце, захотелось увидеть сына. Они наскоро перекусили и снова двинулись в путь. Чтобы сократить его, нужно было пересечь топкое болото, и Хирург строго наказал Борису идти след в след. Сам же, помолившись перед тихим, мертвым полем, осторожно стал пробираться вперед, перешагивая с кочки на кочку. Топь жадно чавкала под ногами, раскачивалась, как застывшее, студенистое озеро. Сапоги утопали во мшистой, зыбкой почве, которую и землей назвать было трудно.
Хирург несколькими тычками палки проверял место своего будущего шага и лишь затем опускал ногу на зеленый обманчивый холмик, всякий раз рождавший потревоженное комариное облачко.
Уже совсем рассвело. Дождь прекратился. Окутанная туманом, тайга стояла напряженно-тихая, безмолвная, будто сама слушала и выжидала кого-то.
Комары назойливо вились над головой, липли ко лбу, щекам и Хирург подумал: лето, вот и настало последнее Колымское лето. Отчего же он раньше не решался улететь на материк или, как говорили здесь, на «землю»? Ведь прошло уже немало времени со дня его освобождения из лагеря.
Все дело было в том, что раньше ему некуда и не к кому было лететь. Искать в Питере родных или знакомых казалось бессмысленным. И лишь недавно, весной, Хирург случайно услышал по радио выступление одного из своих любимых в прошлом учеников, а ныне профессора, заведующего Петербургским кардиоцентром, Гавриила Станиславовича Кренча. Ошибки быть не могло: ни имя, ни отчество, ни фамилия Гаврика, как называл его когда-то Хирург, не попадали в число распространенных. Более того, Кренч, человек необыкновенной честности и порядочности – таким он помнился Дмитрию Валову – в докладе о последних достижениях в области хирургии сердца упомянул своего учителя, то есть его, Хирурга, трагически пропавшего в годы Сталинских репрессий неведомо куда.
Хирург в момент радиопередачи находился в пищеприемной столовке, где хлебал щи из квашеной капусты. Когда он нечаянно услыхал фамилию Кренча, то выронил ложку, и она с оловянным бряканьем свалилась на пол. Сам же целитель, ничего не видя, почти наощупь пробрался в туалет, запер себя в кабинке на крючок и впервые за много лет залился мокрыми настоящими слезами.
Теперь ему было, куда и к кому лететь.
«Ты услышал меня, Господи! Услышал!» – шептал воспитанный в бескомпромиссном атеизме лекарь и растирал по морщинистым щекам, покрытым седою щетиной, соленую влагу.
Но об этом происшествии Хирург не доложился никому, даже Боцману, суеверно боясь спугнуть всплывшие на горизонте, заветные очертания новой жизни. Он, разумеется, не знал, что может сулить ему встреча с бывшим учеником. Одно было ясно: вспыхнула, наконец-то зажглась звезда надежды, и Хирург с нежностью поселил ее у себя в душе.
Они прошли уже больше половины болота. До леса оставалось каких-нибудь метров пятьсот, как вдруг пронзительно тонко, неистово заверещала какая-то неведомая птаха. Хирург поднял глаза и в следующее мгновение едва сумел увернуться от пикирующего прямо ему в голову кулика. Он успел подставить руку и отбить птицу, остро ударившую его в локоть длинным, с иглу, черным клювом. Кулик снова взмыл вверх и зашел на вираж, готовясь к новому броску. Его верная подруга, сидевшая, как видно с птенцами прямо по курсу непрошенных гостей, продолжала отчаянно кричать.
– Вот это истребитель! – восхитился за спиною Хирурга Борис. – Дай-ка я его охреначу палкой в следующий раз.
– Стой, где стоишь, и не дергайся, – предупредил напарника Хирург. – Не вздумай даже замахнуться, корова. Обойдем стороной. Видишь, гнездо у них там.
– Он же тебе сейчас башку насквозь прошибет, – не унялся Борис. – Заметил – клювище, как у орла. Только острей.
– Не прошибет. Всего-то, пташка болотная. Было бы чего бояться, – отозвался Хирург, почувствовав, как сапоги его от долгого стояния на одном месте стали медленно погружаться вместе с кочкой в воду. Он кинул быстрый взгляд влево, затем вправо, но и с одной, и с другой стороны стояли, покрытые жутковатой зеленой ряской, черные, бездонные ямы.
Кулик тем временем заходил к точке нового пике.
Хирург погрузился уже почти до колена.
– Ты что, адмирал, решил затонуть здесь? – спросил Борис наигранно весело, но в голосе его сидел страх.
Кулик, описав над путниками небольшой круг, на мгновение замер в воздухе. Его возлюбленная в этот момент тоже затихла.
Хирург взглянул на следующую по курсу кочку, затем на провальную яму справа и вдруг четко и ясно услышал внутри себя голос, произнесший одно только слово: «Иди!»
И он ступил в болотную зыбь, даже не проверив ее посохом.
…– Да, хлопцы, – продолжал неистощимый Гомер. – Як шо вы думаете, что на том кончилося – глыбоко ошибаетеся. Только, значит, моя жинка угомонилась, ага, дня через три звонок у двери. Мы ж у поселке живем. Ага. Звонок. Жинка – открывать. А я з малым сыном возюся. Бачу – Лида вдовая стоить. Мол, привет от кума. И уже кошелки на стол выгружает. И уже гогочет-заливается. У меня все аж захолонуло внутри. Вот, думаю, чертова баба. Моя говорит: что ж ты, Мыкола, не зустричаешь гостью, а сама так поглядае на меня, что жутко у пузе. Я думаю: значит, она, стерва, допыталася у кумовой жинки адреса и вот тебе – здравствуйте, я ваша тетя. Тут Лида моей уже какую-то кофточку подарила. Уже бежит до малого. Ага. Хватает его и давай танцювать по хате. А у моей яичня на кухне шкворчит. Вот это, думаю, контора.
Старатели любили жизнь во всех ее проявлениях и потому повесть сказителя-земляка воспринимали с большим интересом и волнением.
– Ну и шо? – не утерпел кто-то, когда Мыкола намеренно долго затягивался папиросным дымом, а затем так же блаженно-долго пропускал его сквозь густые пшеничные усы и те еще какое-то время слегка дымились после очередной затяжки.
– Да-а… – вздохнул Мыкола, вспоминая, как видно, критический момент своего прошлого. – Ну шо? Сели за стол. Все чин-чином. Ага. Кинули по стопке. Закусываем. Лида, мол, как тут у вас, у городе. Шо, мол, почем? Сколько сало? Тряпки? Туда-сюда, в общем, бабские разговоры. Я трошки успокоился. Но вижу, что-то тут не то. Что ж, думаю, насчет сала, что ли, она узнать приехала? А моя Валька спрашивает: «Ну и как там кум? Что у него нового? Как жизня протекать?» Ага. И тут вдовая Лида открывает вот такие коровьячьи глаза и говорит: «Тю… А что, Мыкола не рассказывал?» Моя смотрит на нее… Ага. Потом, слышишь, на меня. И говорит. Медленно так говорит: «А что он должен рассказывать?» Ага. Та падлючая Лида (я уже видеть ее не могу!) обратно каже: «Тю… Так Мыкола ж был у нас. Еще неделя не прошла». Валька моя говорит: «Шо? Ах, ты, твою мать, давай, докладуй». А что мине докладувать? Я сидю, курю. Кажу: «Ну был у кума. Выпили пару пляшек. Шо ж усе тебе докладувать?» А сам чую: подступает хана. Ага. Вдовая Лида, гадская, говорит: «Э-э-э, говорит, кум – кумом, а дело в другом. Дело в том, что промеж нами с Мыколой сильная любовь произошла». Я аж очи вытрещил. «Любовь, – говорит моей жинке. – Сильная, Валя, любовь меж нас. И думаю, – каже, – Мыколе надо перебираться до меня». Я – прямо язык проглотил. А Валька моя смотрит на меня, глаза блещат. Она ж баба огненная. Щас, думаю, убьет к едреной фене. «Какая, – говорит, – промеж вас любовь была?» А сама сковородку за ручку трогаить. «Да ты шо, – кричу, – Валя, дурная? Ты ж бачишь, Лидка белены объелася». Тут уже Лидка как заорет: «Это я белены объелася?! А хто мине у соломе любовные признавания делал? Хто укрывал белым пиньжаком с пугвицами? Га? Хто жениться обещал?» И как заревет, что корова на родах. Ага. Тут моя Валька той сковородкой мине под самый глаз як засветит, аж колбаса к стене прилипла.
Гомер закурил новую папиросу, ожидая, когда поутихнет новый взрыв хохота.
– Ну? – не выдержал теперь старатель в волчьей шапке, сотрясаясь и пунцевея от превратностей жизни.
– А что? – продолжил после паузы пострадавший Гомер. – Захватила моя жинка ту вдовую Лидку, кошелки ей в руки, кофточку туда затолкала. Забирайся, каже, чтоб и духу твоего не було. И, забудь, каже, дорогу. Ага. Лидка ревет. Малой мой ревет. А я за глаз держуся. Ох и контора… Неделю ходил перебинтованный. Такой синяк выскочил – аж на полморды. Начальник колоны да и усе кругом говорять, слышишь, ты где это, Петренко, говорять, воевал? И гогочат. А я что им скажу? Смейтесь, говорю. Не приведи Господи вам такое.
– Ну а жинка?
– Что жинка? Недели две не подпускала.
– А потом?
– Потом?.. – Мыкола улыбнулся. – Постель усех мирить.
…Хирург шагнул в черный омут, но на удивление нога его не только не провалилась, напротив, он словно выбрался на более прочное место, где вода едва достигала щиколотки.
Кулик совершил еще одну пикирующую атаку, однако на сей раз она была больше предупредительной, чем боевой.
Забрав вправо градусов на тридцать, Хирург с Борисом благополучно достигли леса. Куличиха успокоилась, и вокруг вновь воцарилась дремотная тишина.
– Вот так, Боря, – сказал Хирург, сделав небольшую передышку. – Никому не делай и даже в мыслях не желай зла – и по морю пройдешь.
– Я не Христос, – ответил Борис. – На мне грехов, что на твоем кулике перьев.
– Да ты никак Библию читал? – приятно удивился Хирург.
– Я, между прочим, крещеный, – сказал Борис. – И Библия была моей первой книгой. Но становиться Христом или, что еще хуже, кланяться ему, походить на него – не желаю. У меня своя дорога. И кончим этот бесполезный разговор.
– Дорога у тебя, конечно, своя, – огорчился Хирург. – Жаль только, не ту дорогу ты выбрал.
– Да откуда вы все знаете: ту – не ту. Главное, она моя, понимаешь, моя! – вскипел Борис. – Кругом одни учителя… куда ни плюнь.
– Никаких моралей, Боря, я читать тебе не собираюсь, – возразил Хирург. – Но ведь ты умный парень и знаешь: есть черное и белое, огонь и вода, свет и тьма, добро и зло. Так устроен мир. И между этими категориями нужно что-то выбирать. Серединное состояние приводит к растерянности, да оно тебе и не подойдет: ты не из тех, кто довольствуется половиной или живет в сговоре с совестью. Твой бунт – естественное состояние: молодой, пылкий. Я лишь прошу, бунтуй со смыслом. Думай. Всегда думай, к чему он может привести, твой бунт. Вот представь, например: сшиб ты палкой того кулика. Кто птенцов кормил бы? Да и куличихе бы сердце порвал. В результате малыши могли погибнуть, а значит, нарушилось бы равновесие в природе. Ведь для чего-то нужен ей кулик, раз она его народила. Зря в мире ничего не бывает. А сотвори ты эту беду, убей птаху лесную – и я не уверен, прошли бы мы с тобой наше болото. Зло, я тебе говорил, всегда аукнется. Так что держись добра, Боря. Это мой тебе совет.
С этими словами Хирург набросил на плечи рюкзак, загасил сапогом окурок и двинулся в путь.
Дальше они пробирались узкой, едва заметной тропкой и когда снова вышли на берег Лайковой, неожиданно из-за туч на них плеснуло солнцем. Трава, кусты, деревья вспыхнули хрустальной росой и повисшей на ветках капелью. Тайга ожила, проснулась и стояла солнечно озаренная, сверкающая, словно совершала счастливую, благостную молитву. Вода в реке помолодела, набросила на себя легкую серебристо-лазоревую одежду, и Хирург оценил это явление как счастье. Ибо иного не знал, а лишь видел или угадывал его где-то далеко за горизонтом. Но то было другое. Здесь же Хирург, сливаясь с красотой мира, не мог даже объяснить ни восторга, ни радости, которые рождались в его сердце, а только пил эту красоту, как священную влагу, упоенно повторяя: «Благодарю тебя, Господи!»
Борис воспринимал рожденную природу по-своему. Ребячливое солнце утра, прыгнувшее из-за сопки на волю, раззадорило его. Оно, словно до отказа, налило каждую мышцу, каждую клетку озорной, упругой силой. Борису захотелось пробежать по берегу километра два-три, а затем с разбега бросить разгоряченное тело в ледяную воду Лайковой и плыть в ней долго, до самого океана. И чтобы удержать внутреннюю, горячую стихию, утихомирить ее, во всяком случае, не обнаружить перед Хирургом, он стал небрежно насвистывать модную мелодию.
Теперь по пути Хирург все чаще начал осматривать мокрую траву, ища в природе следы пропавшего философа. Но то ли дождь за ночь пригасил их, то ли Гегель шел другой дорогой – следов не было.
«Так ли мы идем, отче?» – мысленно обратился к небу старый лекарь, привыкший к заоблачному общению.
«Так», – услышал он краткий ответ и через несколько шагов увидел четкий, не размытый след сапога. Однако было странно, что нигде раньше Хирург с Борисом не обнаружили чужих отпечатков. Значит, Гегель шел тайгою. Зачем?
Хирург вспомнил: он ни разу не задавал странствующему философу этот интересный вопрос и тронул сидящего впереди Гегеля за плечо.
– Слушай, Вася, ты зачем в тайгу нырнул, когда от нас ушел? Двинулся бы берегом. Все равно ведь потом к реке выбрался.
Философ поморгал сонными глазами, снял шапку, погладил редкие волосы и тут лишь до него дошел смысл вопроса.
– А я это… – повернулся он к Хирургу. – Я же говорил: голос был.
– Что же, голос тебе указал лесом идти? – серьезно заинтересовался Хирург, так как голос и для него был явлением знакомым.
– Точно. Так и указал. Ступай, говорит, Василий, в дебрю. Тама путь. Я и пошел. А уже потом ноги сами к Лайковой вывели.
– И часто тебе голос бывает?
– Какой там часто, – вздохнул Гегель. – Если б часто, сидел бы я дома да только его и слушал. А так приходится ходить по свету. Нет-нет и услышишь среди жизни, куда дальше. – Странствующий Василий ближе наклонился к Хирургу и понизил слышимость почти до шепота: – Голос мне однажды знаешь, чего заявил? Ходи, говорит, Василий, в миру. Тама тебе надлежит. Вот я и хожу.
– А польза в том какая?
Гегель улыбнулся.
– Как же это, извини меня, какая? Голос зря не скажет. Беды я не сею. И Он это знает. Хожу, молюсь за всех несчастных. Видно, в том моя есть железа' жизни. Понимаешь, это дело?
– Да, – признался Хирург. – Это дело я как раз очень хорошо понимаю.
– Ну вот, – тихо просиял Гегель. – Любо мне это. А то есть, которые не понимают. Я им все по-человечески объясняю, из Евангелия. Бывает – слушают, бывает – хлеба дадут, а бывает… – Философ запнулся и помрачнел. – Бывает – лицо набьют. Люди разные. Но я не в обиде. Бог им простит. Потому что хочешь – не хочешь, а зерно я зароню. Почва, правда, говорится в Книге, разная попадается. Ну да мне почву не выбирать. Голос сам указывает.
– Значит, ты истину знаешь? – спросил Хирург, с интересом разглядывая странствующего проповедника, словно впервые.
– Знаю, – испуганно, но твердо заявил Гегель. – Отчего же? Евангелия при мне. А истина одна. Возлюби Господа всем сердцем твоим и познаешь любовь к миру. Потому что все сотворено Богом единым.
Хирург еще больше полюбил Гегеля.
– Кто же тебя научил всему?
– А никто. Дал один старичок книгу. Читай, говорит, сынок. А то зубы выпадут, как у меня, а ума не прибавится. Я и стал. И такие мне ворота открылись! Веришь – иной раз плакать хочется, как голос услышу.
– Верю, – сказал Хирург и спросил Гегеля: – Зачем же ты тогда вино пьешь, раз истину знаешь и по Божьему напутствию жизнь свою ладишь?
Проповедник вздохнул.
– Грешен. Слаб и грешен. Вино пью от голода и боли. Иной раз за слова мои хлеба не дают, а вином угощают. С вином теплее. Боль тише. Много боли принимаю, на людей глядя. Как живут они неправильно, неисправно. Есть, которые имеют многое, а все им больше надо. Лгут, ругаются, злятся, беду творят. А та беда да на другую как в стопочку складывается. Глядишь, где-то земля лопнула, народ на народ пошел. Кровь льют. Почва терпит, терпит – да и вспыхнет пожаром. Так недолго и всем миром всполохнуть. И как люди того не понимают – диву даешься. А все от незнания законов. Вот я и накручиваю моталку от человека к человеку, из леса в лес, из города в город. Иначе пропадем всем народом. Будет вой и зубовный скрежет. Доходит до тебя эта иллюстрация? Любить нужно – не любят. Едят – пузо трещит. Убить – убьют. А уж поизмываться, на шее чьей-то поскакать – хлебом не корми. Обманут, обворуют…
– Ну, это уж ты больно мрачно, пожалуй.
– Что ж, мрачно… так и есть. Нет, не думай, я людям верю, иначе б ногами не ходил везде и голос не слушал. Только силен дьявол. Силен. Особенно теми владеет, которые в темноте. Вот они и черпают грехов, что икры из миски.
Помолчали, ожидая, пока уляжется сказанное.
– Давай хлебнем, – предложил путешествующий Василий.
– Вы что, сговорились? – осерчал Хирург. – Молвишь одно – норовишь другое. Это как?
– Слаб, – повторился Гегель. – Слаб и грешен. Как вина нет, я об нем не горюю. А как есть – в сердце мне словно туманом кто дышит.
– А голос?
– Голос? Не пей, говорит, Вася. Проповедуешь и допускаешь. Что же получается? Знаю, виноват. Только нет-нет, а не совладаю.
– Не годится, – сказал Хирург. – Надобно совладать.
…К вечеру, отмахав еще добрый десяток километров, Хирург с Борисом достигли искомой стоянки.
Здесь обосновались пятеро косарей, у которых все уже было слажено; кухня и три заботливо окантованных дерном палатки, погреб и даже туалет. Сразу чувствовалось, что мужики тут умелые, и руки у них растут из нужного места.
Хирурга встретили радостно. Каждый из пятерых крепко обнял его то ли по-таёжному, то ли по какому другому дружескому обычаю. С Борисом же поздоровались вежливо, но прохладно, мол, что за птица еще посмотреть надо.
Вскипятили чайник. Каждому была выдана алюминиевая кружка, на дне которой горкой лежала щедро насыпанная заварка. Затем налили в кружки кипяток, и эту крутую смесь еще некоторое время подогревали до кипения на костре. Лишь после такой процедуры косари считали таежный чай готовым к употреблению и пили полученную горечь без сахара мелкими глотками с особым кайфом. Теперь можно было начинать разговор.
– Вот что, ребята, – сказал Хирург бородатым мужикам. – Вы знаете: четверо нас прилетело. Но один парень, ни с того, ни с сего, удалился по неизвестной надобности в тайгу. Следы привели к вам. Что скажите?
– Правильно, – отозвался один пожилой Магаданский бродяга, переодевшийся, по случаю работы в тайге, в новенькое ХБ и пограничную с накомарником шляпу. – Мимо нас он никак не прошел бы. Конечно, был тута. Как же. Переночевал. А сегодня утром двинулся далее. Васька – имя?
– Василий, – подтвердил Хирург.
– Значит, он. Только знаешь, Васька этот маленько тово…
– Чего? – попросил разъяснить Хирург.
– А того, что у него шишка на голове. И главное, растет она не наружу, как бывает у людей, а вовнутрь.
Борис рассмеялся.
– Видишь, – сказал он Хирургу. – Посторонний человек, и тот сразу обнаружил, что у пастыря нашего с крышей не все в порядке.
– Ты, Боря, пей чай и помалкивай, когда старшие беседуют, – порекомендовал Хирург. – Тут твои комментарии не требуются.
– Ладно, – обиделся Борис. – В принципе, мне на твоего Гегеля наплевать. Он для меня никто. Пустое место.
– Ну, дальше, – поинтересовался Хирург у старого бича. – Как это ты шишку выявил?
– Да как… Очень просто. Васька твой, едреныть, нарисовался вчера под вечер. Ну мы-то его видели в твоем отряде перед отлетом. Спрашиваем: ты, мол, зачем тут забрел, едреныть? Заблудился, что ли? Нет, отвечает. Я здесь каждую дорогу наизусть знаю. Что же тогда, едреныть? Почему? Чего, мол, тебе тайгой колесить, когда твои мужики, небось, сейчас кровавые мозоли набивают? И тут, едреныть, как он понес ахинею, у нас у всех ухи засохли. Мол, какой-то голос ему, дураку, вещал: иди по реке через людей и проповедуй Бога. Мы с ребятами переглянулись, думаем: худо дело. Белочка, то есть горячка, человека цапнула. Я его спрашиваю: ты, едреныть, когда, мил-человек, пил последний раз. Последний раз, отвечает, принял стаканчик вместе со всеми. Как положено. Перед отлетом. Но, мол, вы не думайте, я не какой-нибудь алкогольный пропойца. Я, говорит, веру имею и должен эту веру, едреныть, людям донесть, потому что я, мол, существующий православный христианин россейский. Носитель истины и света. А вы (это мы, значится) вы, говорит, темное стадо и живете во мраке, едреныть. Потому я сейчас буду вас просветлять на примере Бога нашего. Мы обратно с мужиками переглянулись, думаем, едрена корень, кого только на Колыму не заносит. И главное, уставшие, как собаки, а тут эта холера еще выползла из леса. А Васька ваш все свое гнет. Вот ты, мне говорит, едреныть, в Бога веруешь? Тут я совсем озверел. Пошел ты, говорю, знаешь – куда. Чего ты в душу лезешь? Веруешь – не веруешь… Какое твое дело? И что мне до твоего Иисуса? Я сам себе Иисус: всю жизнь крест тащу, какой тебе, придурку, и не снился. Ну и, конечное дело, понесло меня по кочкам… бога твоего, кричу, в гробу видал в белых тапочках. Что-нибудь, едреныть, он мне хорошее по жизни сделал? Хоть я все детство свое деревенское в церкви провел. Смотрю, у Васьки вашего морду всю перекосило, он и говорит мне: стало быть, ты есть природный фарисей и отступник. Ах ты, думаю, гад… Это я – фарисей?! Ну щас я тебе скулу сворочу, едреныть. И только было собрался треснуть его по роже, гляжу, он слезами залился, как дитя малое. Я, конечное дело, сразу и обмяк. Тут только до меня и докатило: шишка у человека в голове. Здесь ничего не поделаешь, едреныть. Не доглядел ты его, Хирург. А я, видишь, обнаружил болезнь. Правда сказать, исключительно через эту нашу паскудную беседу. Смекаешь, какой бывает в человеке тайный нарост?
– Ну и дальше? – хмуро спросил Хирург.
– Дальше? Что ж, мы народ россейский, таежный, едреныть. Видим, мужик в беде. Не горюй, говорим. Утри сопли – не баба. Перед нами реветь не нужно. Мы этого не переносим. Обидеть не хотели, тем более Бога твоего. Только у нас свое, а у тебя, стало быть, свое. Подвигайся, говорим, Вася, к столу, поешь, поночуй, а завтра двинешься, куда тебя голос завет, раз уж у тебя такая путина судьбы. Вот он, значится, взял портфельчик свой дурацкий, едреныть, поклонился, перекрестился. Спаси Бог, говорит, за приют. Ну, что. Мы ему харчей накидали в заплечный мешок. Ступай, мол, едреныть, ежели ты планетарный ходячий. Только по дороге, я говорю ему, ключ поищи. Какой ключ, спрашивает. Атакой, объясняю, что к людям, когда входишь – ключ надо иметь. Потому что, мол, ты сразу темным стадом нас окрестил, едреныть. Сам пойми, кому это дело понравится. Понятно, все остальные твои слова в дурь превратились. Ясно, мы такое обращение не уважаем. Он постоял, подумал, едреныть, потом говорит: простите, наверное, вы правы. Я теперь у Бога буду прощения просить. Ну и все. Побрел дальше своей дорогой. Больше мы Василия твоего блаженного не видели. Малый-то он, видишь, неплохой, едреныть, но шишка дурная у него в голове имеется.
– А у кого она не имеется? – вдруг высказался Борис. – Человек к вам с Богом пришел, а ты ему чуть рожу не расквасил. Выходит, что вы все темное стадо и есть. Нет бы, посидеть с ним, поужинать, а там уж за чаем и выяснить, что к чему.
Бывалый в пограничной шляпе от Борисовых слов аж поперхнулся.
– Ты кого привел? – спросил он Хирурга, откашлявшись.
Целитель растерялся. Он и сам не ожидал в разговоре такого зигзага.
– Извини, Хирург, – покаялся лесной работник. – При всем нашем к тебе почитании мы твоему сопляку, едреныть, должны немножко мозги поставить на место. Правильно я говорю, мужики? – обратился он к своей бригаде.
Те молча, отложив чаевничать, начали подниматься.
Одним прыжком Борис вскочил на ноги и пружинисто встал в боевую стойку.
– Вот что, ребята, – сказал он. – Я могу положить всех вас вокруг костра за три минуты и отвечаю за свои слова. Но мне неудобно перед Хирургом. Я не хочу, чтобы он болел и переживал за нашу разборку, а потому – лучше кончим это дело миром.
– Верно, – опомнился Хирург. – Неужели драться будем, Саша? – спросил он таежного соседа. – Как-никак – столько мы с тобой… Все лето впереди, мало ли. Ваша беда – наша беда. А рассоримся – что хорошего. Ты это знаешь, не первый год вместе. На друга моего не обижайтесь: молодой, горячий.
– Добро, едреныть, – трудно согласился Саша, усаживаясь на прежнее место. Расселись и остальные воины.
– Благодари Хирурга, – высказал Борису еще один сенокосный работник, коренастый, кряжистый, по-кабаньи сильный человек. – Нам начхать на твою куньфу или еще чего. Будь у тебя хоть десять черных поясов, хоть обмотайся ими с ног до головы. Все равно зарыли бы тебя где-нибудь в тайге и ни одна курва не узнала бы, куда ты делся. Утоп в болоте, заблудился, мишка задрал. Кругом – вечность, а у тебя голова дурная.
Борис смолчал. Могло, конечно, быть и так, как разъяснил ему крепыш. За время, проведенное на Колыме, он уже знал крутой нрав северян, знал, что в случае чего они церемониться не станут.
– Значит, – сказал Хирург после затянувшейся напряженно повисшей над таежниками паузы, – с Василием у вас общего лада не получилось?
– Черт его знает, – отозвался один косарь в нахлобученной по самые глаза шапке, которую, похоже, он не снимал никогда, даже во время ночлега. – Может, он действительно с добром шел. Но нет у него той жилы – к людям войти. Понимаешь – нет. И вся песня. Ну а ежели нет – не наша вина. Пойми, пожалуйста, эту ерунду.
– Вы и баню поставить успели? – неожиданно спросил Хирург таежного соседа Сашу, так как заметил, что во время разговора с любителем шапок тот постоянно вздергивался и почесывал то спину, то грудь, то интимные места.
– Баня с прошлого года сохранилась, – сообщил Саша. – А что, помыться желаешь?
– Дай ему ножницы и бритву, – указал Хирург на чесавшегося. – Пускай все с себя состригает и сбривает. Остальным – срочно топить баню. Иначе вы все вшами покроетесь с ног до макушки. А ты, – обратился он к страдавшему от паразитов, – скидай все барахло и то, каким еще пользовался, в ведро – кипятить. Вместе с шапкой. Язв на теле нет?
– Вроде, нет, – испуганно ответил вшивый сенокосчик.
В этот момент Саша принес ножницы и бритву.
– Ну и вот, – сказал Хирург больному. – Действуй. Ступай к речке и удаляй с себя все волосы, какие есть. Понятно? Удаляй до полного голого состояния. Затем – в баню. Хлещись веником до седьмого пота. Уразумел? Не дай бог, заразишь мне тут кого-то. Шкуру спущу, – припугнул Хирург.
Но этого уже и не требовалось. Страдавший вшами на бегу судорожно сдергивал с себя одежду. Остальные принялись колоть дрова, носить из ручья воду, растапливать в баньке печь. К вечеру, распаренные, краснолицые, посвежевшие, омытые ледяной ключевой водой, мужики собрались в теплушке на веселый ужин. Усталость от былых трудов слетела с бичей вместе с многомесячной грязью, как старая мертвая кожа. Все теперь сидели разомлевшие, словно родные братья, в состоянии полного покоя и блаженства. Бывший носитель вшей был особенно радостен и не переставал восхищаться стратегическими действиями Хирурга в отношении нательных гадов.
– Сам бы я навряд от них, сволочей, избавился, – напевно басил он. Всю зиму страдал. Один раз, – ну уже невмоготу было, – сунулся в поликлинику, а там – тетка, врачиха, в золоте вся и зубы рыжие. Как заорет на меня! Катись, кричит, отсюдова! От тебя псиной воняет. Да еще вшей притащил. Я, конечное дело, сказал ей пару ласковых, потому что перед этим «Лесной воды» стаканчик выпил. А тут – мусорок откуда ни возьмись. Кинули меня в каталажку. Сутки просидел, вот и все лечение.
Выбритая голова этого, наконец излечившегося, по имени Афанасий, была теперь круглой и чистой, как полная луна. Он торчал у печки, помешивая кашу из концентратов, так как в наказание за тайный провоз в тайгу зловредных насекомых был назначен бригадиром Сашей регулярным поваром на весь сезон. Но Афанасий ничуть не огорчился, ибо посчитал приговор справедливым и даже лояльным. Главное – он избавился от страданий и, слава Богу, еще не успел поделиться вшами с кем-нибудь из родной бригады.
После ужина и горячего чаю всех мгновенно сморило, и вскоре лесной народ оглушал тайгу звериным храпом.
С рассветом Хирург с Борисом стали собираться в обратный путь. Было ясно, что следовать за Гегелем – дело пустое во всех отношениях. В любом случае, догнать его не представлялось возможным, потому что странствующий Василий шел верно, быстро и, похоже, нигде задерживаться особо не собирался. Это во-первых. А во-вторых, и в собственном таежном хозяйстве дел было по горло. В-третьих же, Хирург понял и удостоверился, что Гегель перемещается в пространстве не просто из любви к процессу движения самому по себе, но несет в своей чудачьей православной голове определенную благую христианскую идею, посредством которой намеревается очистить и спасти человечество. И в этом, видимо, находит оправдание своего появления на свет Божий. Ну а раз так, решил Хирург, то и пусть. Не каждый день встретишь среди мучеников жизни таких одержимых бродяг со светлой и чистой идеей души.
Соседи теперь уже прощались одинаково тепло и с Хирургом, и с Борисом, приняв его, несмотря на краткую ссору, за своего. И это тоже обогрело старого целителя, еще раз убедив его в том, что в корне своем добр, широк и незлопамятен русский мужик.
Пострадавший от вшей Афанасий, в кипяченой, еще сырой шапке, подарил в знак дружбы Борису зажигалку, сказав: «Пользовайся, земляк. Не чужие теперь. В одной бане колошматились. Вещь, – указал на подарок, – японская, долгая. Я тебе скажу: она и сырой костер запалит, в случае чего».
Борис улыбнулся, расстегнул дождевик, фуфайку, снял с пояса потаенный охотничий нож и протянул Афоне.
– Бери. С этой штукой смело на медведя можно идти. Сам делал. Сталь – высший класс. Борис нажал на кнопку и широкое вороненое лезвие мгновенно высверкнуло в его руке.
– Ухты!.. – восхитился Афанасий, но принять дорогой подарок колебался.
– Бери, бери! – настоял Борис. – Нож дарить, говорят, нельзя. Значит, я тебе так даю. Как деловой предмет. Чисто по-дружески. Дальше этим инструментом спокойно можешь голову брить.
– Что же ты себе думаешь, – сказал Афоня, – обнажая в довольной улыбке белые, ровные зубы, – я теперь до гроба лысый ходить буду? Мне еще жениться охота. На лысых бабы не особо клюют. Сам понимаешь.
– Да ты глянь на себя! – пошутил Борис. – Ты же орел! Второй Котовский. Я за тебя, приедем, любую магаданскую красавицу сосватаю.
– Ладно – врать, – совсем обрадовался «Котовский». – Туда еще дожить надо…
Пятеро таежных косарей еще долго стояли на берегу, провожая путников, шедших по краю крутого обрыва навстречу вихревой, быстротечной реке Лайковой.
Шли молча узкой тропкой. Хирург, как и раньше, впереди. Борис сзади.
Погода прояснилась. Легкие облака беспечно, словно на чьем-то дыхании, плыли в неведомую даль, то меняя очертания, то и вовсе рассеиваясь под теплыми лучами выглянувшего солнца.
«Шаман», видимый с любой стороны, сиял снежной вершиной, и Хирургу казалось, что вот это и есть Вечность. Безмолвная тайна мира, которую не выразить никакими словами, не передать чувствами, ничем не измерить и не оценить до конца. Прекрасная, неохватная Вечность, равная, может быть, той самой, куда отправляемся мы, отбыв свой срок страданий, печалей, радостей, всего того, что на земном языке называется жизнью, которая, возможно, и сосредоточена лишь в одной яркой вспышке этого неповторимого таежного утра, слитого воедино и с первым поцелуем, и снежинками на ресницах любимой, и рождением ребенка, и радостью спасения человеческой жизни.
И, глядя на умытую, сверкающую тайгу, на облитые золотым светом сопки, Хирург неожиданно пришел к заключению, будто нет у человека долгого вчера, именуемого прошлым, потому что прошлое – пролетевший сон, так или иначе отсеявший всю горечь бытия, но оставивший драгоценные крохи, какие уносятся душою в последний день за пределы мира.
Нет и завтра. Потому что завтра – иллюзия, недостижимый горизонт, столь же манящий, сколь и призрачный. К тому же – никто не знает, что с ним будет завтра.
Есть только сегодня! Вспышка размером в целую жизнь. Величина огромная, как космос, и в то же время необыкновенно малая, схожая с крупинкой пыльцы на крыле бабочки.
И что же?..
«За время этого ослепительного, но краткого сияния так много можно успеть содеять добра и так преступно мало мы успеваем сотворить его, – подумал Хирург. – Неужели Тот, Высший, непостижимый Разум был заинтересован в том, чтобы я сумел сделать гораздо меньше, чем мог?»
«Неужели тебе так было угодно, Господи?» – мысленно спросил Хирург, глядя в голубой прогал между облаков.
«Ты нужен был там, где ты был нужен», – прозвучал ответ внутри целителя.
И Хирург понял: все правильно. Значит, так назначено судьбой, а роптать и жаловаться – грех и слабость. Он пожалел об этом и достал пачку папирос.
Они остановились покурить как раз в том месте, где под обрывом натащило и сбило в одну ощеренную груду с заточенными водою остриями старые, голые бревна.
– Не дай Бог попасть в такой залом, – сказал Хирург. – Года два назад бурей навалило.
– Да уж, – согласился Борис. – Будешь, как селедка на вилке.
– Вот что, – сказал Хирург, щурясь от яркого солнца. – Не принимай мои прошлые, поучающие слова как некую мораль или хоть какое-то подобие морали. Упаси меня Бог от нравоучений. Мне всегда кажется, что я как врач должен что-то преобразовать в людях. Но не уничтожить, пойми. Не разрушить. Ничего нельзя разрушать, потому что тогда распадается целое. Это, кстати, беда цивилизации. Она постоянно что-то разрушает, и от этого человек становится неврастеником. Целое нужно беречь. Тогда все попадает на свои места. Я не хочу чему-то говорить «нет». Не хочу раздваиваться и чему-то говорить «да», а чему-то – «нет». Бог дал нам этот мир, чтобы мы принимали в нем все. И хорошее, и плохое. Видишь, с позиции обывателя или стража порядка мы – бродяги, мусор, шелуха, нарушители. Тем не менее, мы люди. Никто из нас не выбирал свою судьбу, хотя многие сделали ее собственными руками. И все равно, никто не вправе порицать нас, тем более говорить нам «нет». Я не создавал гнев, жадность, алчность и не могу это уничтожить. Могу лишь предостеречь с высоты своего опыта. И, наверное, поступаю неправильно, потому что каждый должен иметь свой личный путь. Потому что, – рассуждал уже как бы сам в себе Хирург, – небес можно достичь, когда пройдешь все круги Ада. Так что не обижайся, Боря. Иногда меня заносит, старика. Все полно смысла: наше бродяжничество, страдания, твои устремления к шикарной жизни… Без этого нет просветления. Так устроен мир.
Река впереди, перед завалом, была шире, глубже, но именно здесь, в этом месте, где сгрудились бревна, она резко сужалась, распадаясь на две ветки, одна из которых почти полностью перекрывалась остроконечным, словно поваленным, забором.
Течение тут казалось быстрее, яростнее. Вода зло кипела и бешено набрасывалась на упрямую преграду, но порушить ее, видно, была не в силах.
– Куда дальше, бригадир? – спросил Борис.
Хирург огляделся. Вокруг все также безмятежно сияла тайга, будто ей не было никакого дела до всего, что творится в мире.
– Дальше, Боря, дойдем вон до того мыса, – показал Хирург на изгиб берега в полукилометре от них, – а уж там станем перебираться на другую сторону. Там, перед переправой, посидим, подумаем каждый о своём. И – вперед.
– Это еще зачем?
– Что – зачем?
– Ну это… сидеть, думать.
– Традиция такая, Боря. Знаешь, среди сопок есть одна с очень крутым, тяжелым перевалом. Так вот сопка эта называется: «Подумай». Все шоферы, перед тем как въезжать на нее, останавливаются, закуривают и размышляют обо всей своей прожитой жизни, поскольку никому не известно – будет она, жизнь, за перевалом или нет. А нам предстоит перейти опасный брод. Что-то вроде той сопки. Сколько лет хожу через него, но никогда не знаю: доберусь ли до другого берега. Течение бешеное, и глубина почти до промежности. Вот и бредешь, как по минному полю. Сорвешься – понесет прямо на залом. Словом, получится из любого из нас, как ты сказал – селедка на вилке. Можно, конечно, обойти брод, да уж слишком далеко. И не к лицу нам.
– Это верно, – согласился Борис. – Гегель прошел, а мы что – хуже?
– Я тоже думаю – не хуже, – сознался Хирург. – Среди этой местности есть еще одна горка с очень веселым наименованием. Называется сопка: «Дунькин пуп».
Борис улыбнулся.
– И вправду, забавно. Через почему же такое наречение вышло?
– А через потому, что когда-то, впрочем, еще сравнительно недавно, по тайге бродило изрядное множество мойщиков золота. Да и с приисков нижние трудящиеся утаскивали драгметалл гораздо свободнее, чем теперь.
– Как понять – «нижние»? – поинтересовался Борис.
– Нижние – значит, рядовой, чернорабочий народ. Сегодня, в основном, тащат верхние. До которых не доберешься – мафия, политики, инкапитал, банки, в общем, известная свора. Так вот, эти нижние да вольно шатающиеся мойщики на перевале одной сопки, в которой проживала некая вдовая бабенка Дуня, меняли золото на спирт. И вот каким интересным образом. Была она, Дуняша эта, как говорили, баба сочная, аппетитная, а кроме того, имела большой, глубокий пуп. Сколько помещалось в это телесное углубление золотого песка, столько же и отмерялось пришельцу спирта. Вот с тех веселых пор сопку и прозвали «Дунькин пуп». Такая, во всяком случае, существует исторически притягательная легенда.
Пятьсот метров до брода путники одолели будто за одну минуту: ноги налились противным холодком страха, который проглотил время и обнажил черту неизвестности.
Ширина реки была здесь не больше двухсот метров. Но и этого оказалось достаточно, чтобы Хирургу с Борисом сесть на траву и, глядя на пенящиеся буруны, немного поразмыслить о жизни, которая могла быть продолжена лишь на противоположном берегу, а на этом она казалась зыбкой и хрупкой, как ветка ивняка.
– К тебе, Хирург, прикасалась когда-нибудь смерть? – вдруг как-то по-детски спросил Борис.
Хирург помолчал, подумав, что у него не хватило бы пальцев на руках и ногах, а может быть, и волос на голове, дабы сосчитать, сколько раз он реально ощущал ее ледяное дыхание, и коротко ответил:
– Бывало.
– У меня тоже, – понимающе признался Борис. – Один раз в Волгограде я попал под парус, перевернулась яхта. Никак не мог вынырнуть. Всплываю, а сверху парусина. Еще раз ныряю – и опять эта проклятая тряпка. И так раза четыре. Началась агония. Какие-то красные круги перед глазами. И словно молния, мысль: «Это конец». И вдруг неожиданно вынырнул. Чуть не захлебнулся воздухом. Лег на спину и начал дышать. Ты не представляешь, бригадир, какое это было счастье: просто лежать на воде, смотреть в небо и дышать. Дышать и знать, что ты жив, что смерть только лизнула тебя, будто сказала: живи, но всегда помни, я есть, я рядом. Потом, правда, еще раз один фраер финкой махнул… сломал ему руку. На том и кончилось.
– В общем, так, Боря, – сказал Хирург, поднимаясь. – Бери палку: она здорово помогает, когда равновесие теряешь. Пойдешь в трех-четырех метрах строго за мной. Ноги держи на ширине плеч. Если меня сорвет, даже не пытайся помочь: погибнем оба. Береги себя. Я же, в крайнем случае, выгребу вон на тот островок. А там уж переплыву на другой берег. Ты же иди прямо, держась на большую сосну. Если сорвешься – что есть мочи греби на тот же остров. У тебя сил хватит. Лишь бы не утащило под бревна, под те копья, где мы недавно были. Все ясно? – спросил Хирург, заправляя полы плаща в штаны.
– Ясно, – ответил Борис, постепенно осознавая, что переправа – дело не шуточное.
Хирург подошел к кромке воды, посмотрел в небо. «Благослови, Господи, – прошептал он. – Спаси и сохрани. Ради сына». Перекрестился, вошел в реку и сразу почувствовал, как ледяные струи железным обручем сжали резину сапог.
По сути, достаточно было пройти половину брода, и опасность осталась бы позади. Но именно шумные, бурлящие сто метров могли стать роковыми. Хирург понимал это, тем более что вся его жизнь прошла под каким-то зловещим ореолом смерти. Потому он двигался осторожно, выверяя каждый шаг, ибо даже столь малое пространство нового шага либо приближало, либо могло внезапно оборвать встречу с сыном. Кроме того, за ним шел Борис, которого смерть грозила поцеловать второй раз, но уже навсегда. И этого Хирург боялся не меньше, чем нелепой потери своего будущего. Он медленно пробовал носком сапога каждый булыжник, – прочно ли он улегся между другими, можно ли на него надеяться, и лишь потом опускал на камень всю ступню, обязательно страхуя себя упором палки в дно ниже по течению.
Вода уже поднялась гораздо выше коленей, и теперь требовалось особое внимание, которое до острой боли напрягало все клетки, все тело, превратившееся в один электрически гудящий ком. Хирург сосредоточил всю свою энергию на ногах, представив себе, что они – две чугунные тумбы, способные неспешно, но несокрушимо передвигаться, будь перед ним хоть Ниагарский водопад. И действительно, в какой-то момент он почувствовал эту свою несокрушимость. Шаги стали увереннее и тверже, несмотря на усилившийся поток воды. Хирург успокоено уверовал: они с Борисом пройдут. Пройдут непременно. Борис шел сзади и, глядя на Хирурга, делал все так же как он. После двадцати, тридцати оставшихся позади метров он тоже успокоился, и переправа перестала представлять для него некую смертельную опасность, о которой так серьезно предупреждал его накануне старший попутчик. Борису казалось, что телом он владеет в совершенстве и никакая потеря равновесия ему нисколько не грозит. Быстрое течение и зыбкое дно реки лишь возбуждали в нем физическое противоборство, походившее на игру или соревнование со стихией. Подумаешь, какие-то двести метров брода! Он мог бы пройти их, если бы не едва передвигавшийся впереди Хирург, минут за пятнадцать-двадцать. Не больше. Но приходилось волочиться сзади. Это раздражало Бориса.
– Командир! – резко позвал он Хирурга, стараясь перекричать шум Данковой. – Нельзя ли быстрее?!
Хирург, сосредоточенный на каждом шаге, вздрогнул от неожиданности окрика, обернулся и потерял равновесие. В следующую секунду он ощутил, как властная, могучая сила реки сорвала его с места, подбросила на волне и стремительно понесла вниз, в узкий рукав Данковой с тем завалом бревен, ощерено маячивших вдали острыми копьями.
Изо всех сил Хирург стал грести к острову, разделявшему реку на две части, но мешал плащ, мгновенно вырванный водою из брюк и неумолимо тащивший к роковому месту. Расстегиваться и сбрасывать накидку не было времени. Мешали и сапоги, которые теперь стали тяжелее железа. К тому же ледяная вода сводила мышца до судорог. Но у Хирурга не оставалось выбора: краткое время жизни стало очевидным. Напрягая все силы, он отчаянно греб и греб руками в направлении острова. Иногда ноги Хирурга цеплялись за дно, однако в этом не было спасения. Его тут же срывало снова на глубину и беспощадно сносило в узкий коридор смерти.
Оценивая расстояние до острова, скорость Лайковой и свои силы, Хирург понимал, что он не успеет не только доплыть до берега, но даже попасть в маленькое пространство реки между завалом и островом.
И все-таки, он греб из последних сил.
Хирург полностью положился на Бога, потому что Бог в работавшем еще сознании Дмитрия Валова не должен был оставить его в беде, не мог бросить Хирурга в лапы смерти. Так и не повидавшего сына. Ведь он, Дмитрий, жил чисто, не творил зла, нес свой тяжкий крест, сколько мог, и совершал в жизни только добро даже там, где, казалось, совершить его уже было нельзя.
Сейчас, в последние мгновения перед вспышкой, которая должна была отсечь от Хирурга его бессмертную душу, он различал перед собой в смешавшейся кипени воды, в кратких всплесках острова, в голубых проблесках неба лишь одно – облик сына, не однажды являвшийся к нему среди горьких лагерных снов. Сына, которого никогда не видел, а только представлял себе по своему же юному образу. Иначе, казалось Хирургу, и не могло быть: одна кровь, одна плоть, и потому Хирург работал покалеченными руками за пределами сил и возможностей. Лишь на миг он вспомнил о Борисе, подумал, как он там один. Но эта сверкнувшая мысль мгновенно растаяла, потому что думать о чем-либо или ком-либо было уже некогда. Это была неистовая, смертельная схватка с каким-то невидимым чудищем, неумолимо тащившим Хирурга на когтистые острия мертвых деревьев. Хирург чувствовал, что проигрывает, что ему не вырваться, и что кончина близка, как никогда прежде. Но и никогда прежде ему не хотелось так жить, как сейчас, когда в душе все последнее время щемяще ютились и надежда, и вера в будущее.
Хирург в последний раз взглянул, где он, и уже с каким-то смиренным спокойствием согласился на проигрыш. Сил больше не было.
Его несло в самую гущу завала, до которого оставалось не более ста метров, равнявшихся примерно пяти минутам жизни.
Вихрем пролетело в мозгу Хирурга все его прошлое – сплошная череда мук и страданий, постоянная извечная борьба добра со злом. «И вот он – финал», – успел холодно и равнодушно подумать Хирург.
…Целитель вздрогнул от визга тормозов и очнулся. Морской шофер остановил автобус и открыл дверь. В салон просунулось непонятное существо в черном осеннем пальто и нахлобученной на глаза собачьей шапке с отвернутыми мохнатыми ушами.
Подобранный посреди тайги человек с трудом взобрался по ступенькам и, кивнув сидевшим на первом сидении сонным старателям, хрипло сказал:
– А ну, подвинься, рыбаки!
Старатели молча повиновались, поскольку запорошенное снегом явление неожиданно оказалось женщиной. Обыкновенной старухой с выбившимися из-под шапки прядями седых волос. Вдобавок бабуся была пьяна, а из кармана у неё произрастала початая бутылка водки, заткнутая свернутой из газеты пробкой.
– Тебе докудова, тетя? – полюбопытствовал морской водитель в кителе, выглянув из-за своей загородки.
Старушка окинула его туманным взглядом и объявила низким голосом:
– Езжай прямо, моряк. В поселке я выйду. Понятно тебе мое положение?
– Понятно, – сказал водитель, передернул со скрежетом рукоятку передачи скоростей и нажал на газ.
– Ни хрена тебе не понятно, – с грустью посетовала старая женщина и вдруг громко, на весь автобус запела:
Опорожнена чарка На пути от сумы до тюрьмы, Конвоир да овчарка, Да беспамятный снег Колымы.– Где ж ты гостевала, бабушка? – поинтересовался один из пассажиров, когда старушка оборвала свою песню.
– Да где жа? – удивилась выпившая странница, словно все должны были знать, где тут, посреди тайги, можно напиться. – На лесопилке. С Федькой мы хлопнули три бутыл… Не-е, вру. Две хлопнули, а третью он мне в дорогу в карман дал, Федька.
– Что же, праздник, какой? Или так… со встречи?
– Праздники… Я уж забыла, какие они есть, праздники-то. В сорок втором, девчонкой еще, партизанила, вывела весь отряд из окружения. За это – вон чего… – Бабуся красными от холода пальцами расстегнула пальто, встала и, держась за поручень одной рукой, другой отвернула полу одежды и показала всем гранатово сверкнувший на груди орден «Боевого Красного Знамени». Села, не застегнувшись. Бутылка с самодельной пробкой при этом вот-вот грозила вывалиться из кармана. Один из старателей, заметив возможную для женщины неприятность, заправил ей бутылку поглубже.
– А то упадет, – оправдался он.
Седая старушка с любовью посмотрела на него, как на сына, и предложила:
– Хочешь выпить, рыбак?
– Нет, – смущенно отказался заботливый старатель. – Мне нельзя. Я, видишь ты, на работе нахожусь.
– Правильно, – одобрила бабушка. – На работе не пей. На работе только лодыри пьют. Да… вывела их из окружения: местная была, всякую тропинку в лесу знала, – продолжила новая пассажирка. – Потом – ранение. Госпиталь. Бло-ка-да, – произнесла она, словно вглядываясь в какую-то далекую страну – Фронт. – А потом… – Старушка громко вздохнула. – Потом Колыма. – Она махнула рукой. – Чего рассказывать? У каждого свое. Теперь – вот живу в поселке. На Клепке. Почему – Клепка? – видимо, не впервой удивилась отгостившая у какого-то Федьки бабуся. – Не Заклепка, не Приклепка, а именно – Клепка. Черт ее знает. Живу. Пять котов. Один полосатый – Матрос. Второй – Борька-проказник. Третий – Иуда: все норовит к соседям сбежать, но хороший, ласковый, пушистый, как заяц. Четвертый – Мишка: спокойный, спит весь день. Пятый – Барбос: все стащит, чего не оставь. Бичи у меня ночуют, прячутся. Куда им деваться? У каждого свое горе. Участковый, гадина, с облавой ходит. Я, говорит, тебя, Николаевна, посажу когда-нибудь. А я ему пошел ты на… отсюдова. Я уж насиделась в своей жизни, слава тебе, Господи. Ты меня еще стращать будешь, паскуда. А он: если б, говорит, не орден да преклонные годы, давно бы ты у меня за решеткой песни пела. А ну их всех к такой-то матери! Век мой пролетел, сгорел, как свечка. То война, то тюрьмы с лагерями. Реабилитировали. Ну и что? На хрен мне их реабилитация? Слава богу – пенсию платят. И ладно. Мне и котам хватает. Вот такие дела, рыбаки. На Клепку приедем, автобус там полчаса стоять будет. Пойдем ко мне, ребята! Погреетесь. Котов моих посмотрите. Выпьем по чарке. У меня еще диколончик дома есть. Согреемся. А потом уж я спать лягу, а вы дальше поедете. У каждого свое. Обложусь котами и буду спать. Вот и весь праздник, рыбаки. Ты говоришь – жизнь. А была ли она у меня, эта жизнь? Не было ее, голуби мои, чайки морские. Не было. А раз не было – уже и не будет. Понимаете мое положение? Ничего вы не понимаете! Ну и слава богу, что не понимаете. Не нужно это вам понимать.
Старатели пригорюнились. За какое-то короткое время перед ними тяжелым комом прокатилась, шелестя муками и болью, чужая судьба. А за простыми словами седой женщины таился некий печальный, грозный смысл, рождавший в сердце каждого сострадание и стихийное противление. Но кому? Чему? Никто не знал.
Это чувство было хорошо знакомо и Хирургу. Он тоже испытал грусть оттого, что в какой уж раз не смог подействовать на рок событий. Для чего явилась на свет божий эта безвестная Николаевна? Конечно, не для того, чтобы воевать, ни за что сидеть в тюрьмах и долбить каменную почву в страшных советских лагерях.
«Но кто же тогда, Господи, – молча спросил Хирург, – вправе так распоряжаться судьбой этой женщины и многих других, загубленных на корню судеб и жизней?»
Ответа не последовало. Хирург понял, что на такой непростой вопрос однозначно ответить нельзя.
Старушка задремала. Снег на ее шапке и пальто превратился в капли блестящего бисера. Нижняя губа орденоносной партизанки набрякла, отвисла, лицо опухло, сморщилось, стало отталкивающе безобразно, и трудно, казалось, представить, что когда-то эта женщина была юной, прекрасной, созданной для любви и счастья.
…Хирург вынырнул из-под бурлящей волны и увидел ощеренные копья голых деревьев уже метрах в двадцати от себя. «Это конец», – подумал он. Но не было ни страха внутри, ни ужаса, ни ощущения жуткой неотвратимости, просто холодное понимание черты, за которой пустая тьма.
Лекарь машинально отвернул лицо, чтобы хоть его не обезобразило, и в следующее мгновение почувствовал резкий толчок в плечо. Толкающий предмет с силой еще раз двинул Хирурга в сторону искомого острова, и целитель осознал, что это Борис каким-то неведомым образом оказался рядом и вытолкнул Хирурга в сторону мимо острых бревен в узкую протоку.
Потом они некоторое время лежали на песке и молча смотрели, как движутся над ними быстрые, безразличные ко всему облака. Затем Хирург мысленно зашивал Борису рваную рану на плече, – все-таки зацепила его подводная пика, – а когда рана перестала кровоточить, лекарь достал из внутреннего кармана всегда хранившееся, но сейчас промокшее снадобье и наложил из него повязку на ссадину Вскоре Борис уже и не помнил о боли.
– Как же ты поймал меня? – благодарно разговаривал спасенный лекарь. – Я уж думал: крышка. Не справлюсь.
– Я тебя берегом настиг, – возбужденно объяснял Борис. – Выскочил назад, догнал тебя и сиганул с обрыва. Хорошо – там высоко было. Иначе не успел бы. Ты аккурат в самую середку завала рулил.
– Вот, Боря, тайга нас и породнила, – заключил Хирург, собирая костер для просушки. Он думал теперь о том, что кто-то с некоторых пор неусыпно заботится о нем, и о том, чтобы его встреча с сыном все-таки состоялась.
…Неожиданно из-за сопки выплыл поселок Клепка, врезавшийся в тайгу несколькими испуганными, кучно сжавшимися пятиэтажками, нахохлившимся угрюмым клубом, где размещались одновременно и местное управление лесом, и столовка, и спортзал. Вокруг пятиэтажек, как свора серых, бездомных зверей, тесно сидели какие-то амбары, сараи и хозпостройки.
Весь этот облезлый городок являл собою вид унылый, неприютный, непостоянный, выстроенный для мигрирующих контрактников, которые лишь на время надевали на себя ярмо скуки, тоски и однообразной работы с утра до ночи.
Впрочем, весь день тут был похож на вечер, сонно глядевший несколько часов на мир, и затем сразу превращавшийся в ночь. Правда, летом здесь все преображалось. Зеленела тайга, шумели реки, шла рыба, наливалась краской, расползалась во все стороны брусника, полыхали безумным огнем между сопок закаты. Но лето было коротким, за ним снова наваливалась саднящая тоскою стынь.
– Приехали, рыбаки! – радостно воскликнула, очнувшись, старушка и стала поправлять мокрую шапку.
– Чего это ты, мать, все нас «рыбаками» кличешь? – потягиваясь, спросил один из золотодобытчиков. – Мы, между прочим, тут все старатели, в основном.
– Какие вы старатели? – усмехнулась орденоносная партизанка. – Все вы рыбаки. Понятно? Все хочете золотую рыбку споймать. Э-э-эх! Дураки! Колыма – черная страна. Тут сам Сатана живет. Напели вам про золотые горы, а вы и уши развесили. Жена твоя где?! – крикнула героическая старуха в лицо одному приисковому труженику.
– Как где? – опешил работяга. – Дома. Под Харьковом. Где ж ей быть?
– Вот так, – убежденно заключила опытная бабуся. – Она – там, а ты – здесь. Чего с ней происходит в жизни, ты понятия не имеешь. Вернешься, а там другой «рыбак» сидит. Тоже умный. А еще лучше – отморозишь себе завтра почки на прииске… не приведи, Господи, конечно! – и приедешь к ей без аппарата. Нужен ты ей такой со своим карманом? Вот и будите мучиться. Сам станешь искать, с какого моста удобней с камнем на шее спрыгнуть. Вот почему я вас всех «рыбаками» зову. Молодые, в голове – тырса.
– Ладно, тетка, – обиделся краснолицый в волчьей шапке. – Из тебя «зеленый змий» никак не выползет. Мы тут сами разберемся, чего нам делать и где жить.
– Стоим двадцать минут! – провозгласил морской шофер, когда все высыпались наружу. – Можете сбегать в столовку, пообедать.
– Пошли, хлопцы, – позвал краснолицый старатель, и вся его бригада дружно двинулась за ним.
Борис потоптался и тоже направился следом. Обернулся.
– Извините, ребята. Жрать хочу, как удав.
– Что же… – растерянно молвила старушка. – Так ко мне никто и не пойдет?
– Почему не пойдет? – возразил Хирург. – Мы пойдем. – Он взглянул на оставшихся Боцмана с Гегелем. Те согласно улыбнулись с христианской готовностью уважить пожилую женщину.
– Вот я вижу, – сказала страдалица-Николаевна, – вы не рыбаки. Вы свой народ. Мучимый.
Квартира ее находилась на первом этаже ободранной климатом пятиэтажки. Нижняя часть двери была не однажды отворяема или бита сапогами, о чем повествовали множественные черные отметины.
Легендарная бабуся долго ковыряла ключом пострадавший от облав участкового замок. Наконец, дверь со старческим скрипом открылась, и гости очутились в полупустой, зловонной комнате, где одиноко, каждый предмет сам по себе, стояли: железная кровать с никелированными шарами, какой-то угрюмый комод да кухонный стол, усеянный крошками и луковой шелухой.
На кровати мирно отдыхали все пять котов, которые с появлением хозяйки разом спрыгнули с засаленного байкового одеяла и стали тереться о ее ноги, выражая общим урчанием голод, любовь и долготерпение.
– От бляди, – нежно выразилась Николаевна и поласкала каждого кота рукой по голове. – Соскучились.
Она достала из внутреннего кармана газетный сверток с кошачьим питанием, состоявшим из рыбы, добытой, вероятно, у Федьки на лесопилке, и понесла его на кухню, приговаривая по-матерински:
– Сыночки мои, пойдемте. Мама вас покормит. Мама не забыла. Как можно?
Хирург с товарищами застряли на пороге, так как сесть было некуда. У стола валялся лишь один опрокинутый на бок табурет. Кроме того, в комнате, прямо на полу, отвернувшись от света, у батареи спал средь бела дня неведомый лохматый человек в старой фуфайке, грязных штанах и рваных ботинках.
Гости сразу поняли, что именно за такими постояльцами охотился у Николаевны участковый.
Вернувшись с кухни, хозяйка вытащила початую бутылку и выставила ее на стол.
– Закусить, правда, нечем, – оповестила она, поднимая табурет. – Луковица одна есть. Подвиньте эту рухлядь, – показала Николаевна на сундук. – Сейчас стаканы принесу.
Тогда Боцман, освоившись, вытащил из рюкзака полбревна колбасы, собственноручно засоленного в тайге кижуча, банку красной икры и пару бутылок светлого вина. Гегель, до красноты надувшись лицом, двигал к столу допотопный сундук, а Хирург потрясенно застыл у единственной примечательности квартиры – фотопортрета на стене. На нем были изображены два прекрасных юных лица – парня и девушки. Хирург был поражен тем, что он где-то совсем недавно видел этих людей. И вдруг вспомнил. Словно горячим ветром обожгло память. Конечно! Именно эти два солнечно озаренных существа родились из серебряной пучины речки Лайковой, протянувшейся в бесконечном пространстве космоса, когда Хирург путешествовал в горных высотах по призыву Шамана. Там и услышал заветное: «Радуйся!»
Он и верил, и не верил глазам.
– Нравится? – спросила с грустной улыбкой Николаевна, присоединившись к созерцанию портрета.
Хирург молчал. Он никак не мог прийти в себя, потеряв в минуту ясность того, что же все-таки в жизни явь, а что призрачное мимолетное видение.
– Это вы? – заворожено произнес Хирург.
– Я, мил-человек, – вздохнула старушка. – Кто жа? Я да Сашенька мой. Как раз перед войной снялись. Весь фронт прошел, Сашенька-то. А в сорок шестом лучшего его боевого друга арестовали ни с того, ни с сего. Саша пошел друга защищать. Ну, видать, разгорячился. Бросил им на стол партбилет. Рванулся с того собрания и случайно зацепил тумбу, на которой гипсовый Сталин стоял. Вождь вдребезги. И все. И покатился мой Сашенька на Колыму. Ну а я… Я с горя им такое письмо накатала, что и сама следом поехала. Больше мы никогда не виделись.
– Как же зовут вас? – горько спросил Хирург, так и не привыкший за долгие годы лагерей спокойно переносить сердцем чужую беду.
– Мария, – ответила женщина. – Была Мария. Маринка. Машенька. Теперь вот – Бабой Маней кличут. Участковый, зараза, теткой обзывает. А какая я ему «тетка», когда я вся в заслугах перед Родиной. И муж мой единственный, Сашенька, на фронте восемь раз раненый был. Восемь! А сгинул неизвестно где. Может, живой остался. Но разве теперь сыскать его? Мне уж не под силу. Чую: помру скоро. Время выпило из нас все соки. Есть я, и нет меня. Понимаешь мое положение?
У Хирурга вдруг резко заболело в груди. Он сел за стол и стал смотреть в окно, занавешенное снежной занавеской. Потом закрыл лицо руками и начал слушать, когда выйдет боль. Но боль не выходила. Хирург пошел и лег рядом с ночевавшим на полу человеком, чтобы посмотреть сквозь закопченный потолок, куда можно пристроить свою неожиданную грудную болезнь, просочившуюся по хорошо известному российскому каналу сопереживания чужой судьбе.
– Пусть отдохнет, – посочувствовала Хирургу баба Маня и содвинула собственный стакан со стаканами Гегеля и Боцмана. – Тоже, видать, намаялся в жизни.
При звуке стекла неизвестный у батареи зашевелился и сел, поворотив к присутствующим молодое, но запухшее лицо.
– Иди, Мишка, позавтракай, – позвала баба Маня. – Ко мне, видишь, приличные люди зашли. Не то, что ты, обыватель. Спишь целый день, как мои коты.
– На все промысел Божий, – процитировал Гегель, оправдывая Мишку.
Обыватель поднялся, молча налил себе вина, молча выпил, но к еде не притронулся, пока Боцман не подвинул к нему колбасу.
– Пожуй, – сказал он. – Ты когда ел в последний раз?
Мишка не ответил. Тупо и лениво перемалывал пищу Видно, ему по какой-то причине было еще не до еды.
– Дурни мы грешные! – неожиданно высказался Гегель. – Искушаемся, ленимся, обижаем друг дружку, а Храма Христова, состроенного им в три дня, принять не хочем. Не хочем и все.
– Правда твоя, – согласилась старушка, пьянея на глазах. – Не хочем. А почему? Вот Мишка. Нужен ему Храм? Он, оболтус, кочует по жизни, куда ветер свистит. Где нальют, накормят – тама ему и тепло. Тама ему и Храм. А нет – дальше покатился.
– Чего ж это мне Храм не нужен? – язвительно возразил Мишка. – Был бы Храм, я, может быть, блаженным каким устроился, – съюродствовал он. – Осел бы. Не пил. Женился бы. Книжки читал. А то болтаюсь, что червяк: ни соскочить, ни уползти. Кругом менты. Сколько же я у них стены вытирать буду? Ночую, где попало. Ни отдохнуть, ни помыться. От меня уже на версту псиной несет – люди шарахаются. Разве это приятно? Да я их и сам обхожу, людей, потому что стал, как пес бродячий, тетя Маруся. И все мы, бичи, как псы. Никому до нас дела нет. Кто хочет, камнем пульнет. Кто хочет, пошел на хрен скажет. Ментов же хлебом не корми: дай только палками по хребту погулять. Вот и уходит народ от мира в тайгу. Там и дом, и Храм, и молитва. А еще, тетя Маруся, у вас тюрьма Храмом была. Тюрьма да лагерь. Там вы лучшие годы в молитвах провели. Вам ли не знать это, тетя Маруся?
Героическая бабушка не ответила. Глаза ее стали стеклянными и неподвижными. Под веками, собрав на щеках паутину морщин, провисли синие мешки.
Бывшая партизанка медленно выбралась из-за стола, кое-как добрела до кровати и рухнула среди своих питомцев-котов.
Хирург лежал на деревянном полу и смотрел в серый, со следами неведомых пятен, потолок. Грудь жгло каким-то тихим пламенем, словно на изрытое ранами сердце насыпали соли.
Хирург закрыл глаза, достал из себя главный внутренний механизм – сердце – и поместил его в пространство воображения. Затем он провел профилактические меры, промыл, прочистил основные сердечные части, устранил в ходе душевной беседы обнаруженные дефекты и водворил орган на место.
Открыл глаза. Огня в середине тела больше не было.
Хирург поднялся. Еще раз полюбовался портретом, но теперь уже спокойно, даже радостно. Было в этом любовании лишь чувство детского, легкого удивления: как мог он в космосе встретить этих людей совсем молодыми, юными, неповторимо прекрасными. Хирурга вдруг озарило. Значит, он виделся с двойниками Марии Николаевны и Александра, и там, между звезд другого мира ему была уготована необыкновенная фантастическая встреча с ними. Все это казалось очень интересным и грело Хирурга каким-то новым открытием. Он готов был поиграть, подвигать рычажками мыслей, чтобы образовать некое, неведомое ранее, логическое построение, но неожиданно дверь от удара распахнулась, и на пороге возникло нечто в милицейской форме.
Оно, нечто, на мгновение застыло в маленькой прихожей, но тут же продвинулось в комнату, в зону света.
На руке милиционера был намотан поводок, на поводке вместе со служителем правопорядка вошла в комнату большая, грозного вида овчарка, которая тут же обнаружила преступное сборище многочисленных котов и залилась по этому поводу остервенелым лаем. Коты же отнеслись к свирепому псу не более чем к передвижной тумбочке, недостойной никакого внимания, и даже не шевельнулись.
Милиционер рявкнул на свою собаку, и она раболепно сомлела.
– Тэ-ак, вашу мать… – протяжно выразился блюститель порядка. – Пьянствуем?
Почти риторический, идиотский вопрос, произнесенный церемонным начальственным голосом, немо провис в воздухе. Но ненадолго.
– Сено отмечаем, – спокойно объяснил Боцман и, поворотясь к милиционеру спиной, налил стакан вина. – Прицепи свою лохматую шмындру к дверной ручке, – приказал он милиционеру – Присядь. Выпей, согрейся. Чего ты скачешь вокруг трех домов да еще с собакой? Смешной ты, мент, ей-богу.
«Мент» действительно был смешной: маленького роста, с рябым лицом, рыжими до красноты волосами, курчаво торчавшими из-под шапки с кокардой, – он совсем не походил на образ усатого охранника порядка с квадратной челюстью и пудовыми кулаками, какими переполнены были колымские управления внутренних дел.
Смешной милиционер не сдался и в панибратство не вступил.
– А ну, выметайтесь отсюда, – грозно наказал он. – Не то собаку спущу. Уморили бабушку и сидят. Сенокосчики.
Хирург отрешенно смотрел на служителя правопорядка. Сколько же перевидал он их разных: и мужественных, и подлых, и скользких, и продажных, и неподкупных… Но без них тоже нельзя – будет разбой и анархия. Хотя договориться с ними иной раз просто невозможно: «выметайтесь» и все.
Неожиданно все уладил Боцман. Он взял со стола кусок колбасы и, подойдя к ощетинившейся милицейской овчарке, поднес его к собачьей морде. Мясной продукт исчез в одну секунду, и овчарка теперь глядела на Боцмана влюбленными глазами.
– Если бы ты спустил собаку, сынок, – сказал Боцман смешному менту, – я бы порвал ее, как грелку. Слава богу, у тебя хватило ума не делать глупостей.
С этими словами старый моряк достал денежную бумажку и засунул ее милиционеру в карман.
– А сейчас иди, прогуляй животное. Видишь, оно писать хочет. Насчет нас не волнуйся. Пообедаем и поедем своей дорогой. Заметил, во дворе автобус отдыхает? Иди, сынок. Иди, – приговаривал Боцман, подталкивая милиционера к двери. – Здесь накурено, а ты, судя по всему, спортсмен. Тебе тут вредно. Здоровье поломаешь. А оно одно, здоровье-то.
– Так бы и сказали, – вдруг переменился охранник порядка. – Автобус – это понятно. Только не задерживаться. Чтоб ни одного человека. Мне только вас не хватает.
– Ладно, сынок. Ладно, – все приговаривал Боцман. – Иди, купи себе что-нибудь для согрева, а то замерзнешь вместе со своей собакой. Нам жалко будет. Звать-то тебя каким именем?
– Сашка, – улыбнулся и вдруг стал совсем юным служитель порядка. И добавил доверительно: – А фамилия мне – Цемашко. Вот и выходит, хлопцы, что я скоморохом уродился: Сашка Цемашко. Кругом все смеются. Вот я и пошел в милицию: тут я при оружии, при фуражке, при собаке и, конечно, посреди начальства. Да и сам я, как ни крути, а все ж-таки тоже начальник поселка. Там – это, тут – таво, мало ли, какие бывают приключения. Вот, значит, вы тут, к примеру, объявилися. Бог вас знает, что вы за люди…
– Ну давай, начальник, дуй на службу. А хочешь – выпей на посошок, чтоб тебе там зорче было врага углядеть.
– А наливай, – махнул рукой и сдался Сашка Цемашко. – И правда, стужа окаянная.
– Эх ты, Цемашко, Цемашко, – молвил по-отечески Хирург. – Мальчишка еще, а выкаблучиваешься. Пришел бы как человек, сел за стол и поговорили бы о том, о сем. Людей уважать надо, Саша. Ты же врываешься с собакой, как вепрь. Нехорошо.
Цемашко хотел было обидеться, потому что не знал, что такое вепрь, но его уже грела изнутри водка, и он лишь напялил шапку с кокардой, еще раз напомнил, чтоб не задерживались, и удалился восвояси.
Собригадники посидели еще некоторое время, празднуя победу над сеном, но вскоре дурным голосом заревел сигнал автобуса, и братство стало собираться в дорогу.
Попросился в компанию и залетный, оторванный от жизни Мишка, посетовав, что не имеет в кармане средств на всяческие дальнейшие передвижения. Для Хирурга и его друзей это не имело никакого рокового значения. Мишку взяли, тем более что последние годы он был человек пеший, таежный и умел питаться ветром, запахом елки, словом, был неприхотлив, смекалист, а главное – в тайге ориентировался, по его словам, как в собственной квартире. Но ко всему этому, как выяснилось в пути, Мишка прикоснулся лишь недавно, а вначале он был столичным студентом МГУ, филологического факультета. Как он попал в колымские бичи, объяснить воздержался. Так, мол, случилось. Видно, для него это были нелегкие воспоминания.
Несмотря на грязную одежду, Мишка был человек чистоплотный. У тети Мани он принимал ванну дважды в день и брился до гладкого лица, но спать, однако, ему приходилось на полу у батареи. Деваться ему действительно было некуда. Да еще въедливый участковый Цемашко донимал. Мишку взяли в бригаду, и одним наличным философом стало больше. Хирургу нравилось такая диспозиция. Он любил образованных людей, а тут – МГУ..
«Пусть шествует, – внутренне одобрил Мишку Хирург. – Земля, она только мудрости учит, потому что от Бога произведена. И все на ней само по себе мудро. Все-таки неправильно, что человек набирается ума лишь под конец жизни. Вот если бы изначально, с детства учился он разуму здесь. Среди вечной природы и уж потом подкреплял свой ум разными науками, тогда только был бы толк. Настоящий, прочный, нерушимый никакими поветриями».
Героическая старушка осталась ночевать среди тихих, ласковых котов, а четверо путников, выложив на стол немного продуктов и часть общих денег, осторожно прикрыли за собой дверь.
Молодой, но настырный участковый, как и положено ему было, бдительно дежурил со своей кареокой овчаркой недалеко от дома.
– Экий неуклонный, – восхитился Гегель.
«Неуклонный» неожиданно радостно помахал путникам рукой, как добрый друг, провожающий старых товарищей в дальнюю дорогу.
Боцман усмехнулся:
– Вот тебе и Сашка Цемашко, начальник Клепки.
– Зерно злого семени посеяно в сердце Адама изначально, – изрек Гегель, как всегда невпопад. – И сколько нечестия народило оно доселе и будет нарожать до тех пор, пока не настанет молотьба. Рассуди с собою, сколько зерно злого семени народило плодов нечестия!
Люди, пришедшие на посадку, переглянулись, но поняли, что Гегель выпивший, и пытать его, о чем он вещает, не стали.
Народ, сытый, раздобревший, залезал в автобус. Гомер так и сыпал анекдотами, но теперь смеялись более спокойно и сдержанно.
От походной пищи у старателей в животах было тепло, но бурчливо: все же столовка не ресторан. Однако душа, обласканная пропитанием, теперь жила удобней и радостней.
И вот снова они ехали в ширь пространства между сопками и океаном, пластавшимся справа серым, распаханным полем. Вдали, посреди грозного океанского поля, маячили корабли, и казалось, совсем недалеко от берега параллельно автобусу двигается сигарообразная подводная лодка.
У Боцмана от этого маринистского пейзажа пылало сердце, и он внутренне ликовал от происходящего вокруг соразмерного порядка жизни.
Гегель тихо шептал себе: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск с лица огня, тако погибнут бесы от лица любящих Бога и знаменующимся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся».
При сем речении Гегель благостно озарялся светозарною улыбкой и становился похож на блаженного.
Мишка против всех сытых и довольных уныло глядел в заметаемый снегом мир, и непонятно было: то ли в его теле живет какая-то тоска, то ли жжёт его некая идея, и, конечно, вполне возможно, махал ему синим платочком далекий и теперь уже призрачный МГУ, в котором, вероятно, могла остаться милая его сердцу сероглазая студентка. Все это могло быть и так, и этак и еще как-нибудь… – то никому не было ведомо.
Борис, как и прежде, занял вакантное место впереди и, будучи рядом с шофером, принялся доказывать ему, какой у того позорный пиджак: морской – не морской, водительский – не водительский, а так – рвань с помойки. На то обиженный водитель остановил машину, открыл дверь и наказал Борису выметаться ко всем чертям, поскольку «пиньжак» ему достался от погибшего на этой же трассе брата, а уж какого он теперь вида, пиньжак, – ему глубоко начхать: морской он, летный или какой другой.
Пиджак этот был дорог шоферу как память.
– Поэтому, – сказал командующий автобусом Борису, – дергай отсюда, пока я тебе монтировкой башку не отшиб.
И тут впервые Борис стушевался, спасовал. И не потому, что испугался монтировки. Он понял, что задел за живое.
– Извини, командир, – сказал. – Я не знал о брате. У меня у самого двоюродный братишка остался лежать в Афгане. Так что прости. Вот возьми часы командирские в знак примирения. И мундир твой я теперь почитать буду больше любой шмотки. Прости. По глупости сболтнул. Не обижайся.
– Хорошо, – согласился отходчивый шофер. – Черт с ним, с пиньжаком. Будем еще ссориться из-за барахла. А часами не бросайся. Тоже мне, Рокфеллер нашелся.
Дальше катились в каком-то молчаливом полусне. Каждый думал о своем. Гегель теперь молился обо всех страждущих: людях и континентах. Борис втайне досадовал на себя за то, что судьбой ему, что ли, назначено задевать и обижать всех, кого ни попадя.
Он искал причину Собственно, причину, как ему казалось, Борис знал, но корни, глубинную суть ее никак обнаружить не мог. На поверхности все как будто выглядело понятным, однако в какой-то темной глубине мозга стоял плотный непреодолимый мрак. Борис злился, что не в силах ворваться в эту бескрайнюю бездну, о которой знал по книгам, и которая называлась подсознанием, но сделать ничего не мог. Он полагал, что, может быть, Хирург владеет тайной проникновения в подполье сознания, хотя и эта мысль вызывала в Борисе большие сомнения, а стало быть, обращаться к целителю по такому весьма серьезному поводу вряд ли имело смысл.
Золотодобытчики снова мирно похрапывали после обильных столовских харчей.
Хирург вспоминал своего учителя, горячего ходока с Тибета, прошедшего насквозь даже Колымский лагерь, вспоминал и, как всегда, глубоко волновался. Собственно говоря, Тибетский Илья Муромец – Виктор – не был Хирургу учителем в привычном понимании этого слова. По сути, он ничему не учил целителя, а как бы перелистывал перед ним страницы интереснейшей книги, в глубинах которой была сокрыта Истина.
Хирург, имевший высшее медицинское образование и немалый хирургический стаж, с открытым ртом и пересохшими губами слушал Виктора, потому что тот словно выводил его на грань освобождения и своей душевной вибрацией заставлял трепетать все существо лагерного лекаря. Виктор будто бы подносил кубок с напитком Истины к самому рту Хирурга, и тогда Хирург ощущал ее вкус. Истина была рядом, она обволакивала своим запахом, и целитель растворялся в нем, даже тогда, когда казалось, что рассказы Виктора выходят за пределы реального и захлестывают границы здравого разума. Хирург, общаясь с пешим искателем Града Божьего, все больше понимал: Истина как раз и кроется за гранью реальности, а здравый ум – понятие весьма условное. И тогда он начинал верить Виктору, верить его фантастическим версиям, притчам и историям. Виктор как будто благословлял Хирурга на собственные поиски, и лекарю виделось, будто он – семя, пускающее ростки к небу, а заключенный Илья Муромец переполнен Богом. В такие минуты прошлое начинало овладевать настоящим, настоящее будущим, а будущее прошлым. Круг замыкался, и получалась некая цельная система, безграничная и в то же время способная уместиться в одной точке. В точке, излучающей вечную энергию жизни.
Виктор говорил весомо и неспешно, что свойственно всем крупным людям, ничего не навязывал, ни к чему не принуждал, ни к чему не призывал. Очевидным было лишь его желание выговориться, отдать все, что накопил. Он был похож на большую переспевшую грушу, вот-вот готовую сорваться с ветки.
– Видишь ты, – говорил пеший путешественник, пережевывая пайку черного хлеба. – В Тибетских монастырях монахи живут по триста, четыреста лет и умирают «по желанию», когда начинают осознавать, что выполнили свою земную миссию, когда они приходят к тому, что стали течением, что достигли слияния с Вселенной. Что вернулись в точку. Шумеры жили еще больше. Гораздо больше. Но тогда Земля еще была экологически благополучной. Вообще-то мы появились на планете очень здоровыми, мобильными, высокоразвитыми существами. Не от какой-то человекообразной обезьяны, как втолковывали нам идеологи марксизма-ленинизма, потому что они были политиками, а стало быть, воинствующими. Им выгодно было представить человека подобием животного, способного управляться либо с серпом, либо с молотом, внушить ему при этом, что он – общественная единица, колесико в едином механизме. Социализм уже был в Египте, Месопотамии и других точках Земли. Это понятно? На самом деле, развитые цивилизации из соседних галактик вывели нас искусственно. Много тысяч лет тому назад они уничтожили динозавров и прочих всепожирающих особей и завезли из созвездия Девы так называемого Снежного Человека как биологическую базу для акклиматизации. Но первые люди были выведены на Венере и Фаэтоне в их планетарных магнитных полях, и уж затем началась миграция на Землю. Это понятно?
– Понятно, – отвечал околдованный Хирург, находясь в какой-то холодящей прострации.
– Ну вот, – удовлетворялся Виктор. – Примерно сорок тысяч лет тому назад человек расселился по всей планете. И все было бы хорошо, если бы вдруг через Черную Дыру в нашу галактику не зашли на мощных кораблях другие высокоразвитые существа из другого мира. Началась настоящая война. Понятно?
– Понятно, – ответствовал лекарь деревянным языком, поскольку понятного было крайне мало.
– Все эти «новые» уничтожили жизнь на базовой планете Фаэтон и пустили ее гулять по космосу. Они же «опечатали», так сказать, Венеру. А пропуск особой энергии через Бермуды едва не уничтожил нашу планету. Начался Великий Потоп, погибла Атлантида. В это же время была подведена на орбиту вокруг Земли Луна. Раньше-то она находилась в тригоне – Марс, Луна, Фаэтон. Понятно?
Хирург проглатывал застрявший в горле ком и снова открывал рот. Все, что сообщал лагерный товарищ, было чем-то невероятным. Но с другой стороны, абсолютные достижения цивилизации в свое время тоже казались чем-то невероятным.
– И вот, значит, эти бермудяне или, как они себя называли – гейзидяне, основали базы в разных точках с центром в Египте и занялись собственной акклиматизацией.
Эти новоявленные поселенцы были менее мыслящими, более «общественными», в общем, готовыми к первобытному социализму. Слаборазвитый личный план, способность размышлять категориями рода, а не индивидуума – все это привело к тому, что мы имеем сейчас, Дима. Понятно? Ты, конечно, хочешь спросить, откуда и где я добыл эти знания, тем более что со стороны они похожи на бред и фантазии больного ума. Но тайны, открываемые тебе, не бред и фантазии, Дима. И не всякому бы я их открыл. Видишь ли, в юности меня часто преследовал один и тот же сон. Словно не было в моей жизни ни горя, ни одиночества, и не сожгли в Белоруссии, в родной хате моих родителей фашисты, а меня, мальчишку, не отправили затем в детский дом. Снится мне, будто иду я, молодой и красивый, в какую-то чудесную горную страну и даже слышу прочитанное где-то название той страны – Шамбала. Чей-то голос зовет меня из глубины сна. Такой сильный и властный, Дима, что однажды я встал утром и пошел по земле пешими ногами. Так допутешествовал до Алтая. Много встречал интересных людей, сообщавших мне неведомые вещи и о Боге, и о Вселенной. Истина, Дима, произрастает и должна произрастать из точных, многократно проверенных фактов. Это бесспорно. Есть всемирно признанные переводы клинописных текстов на глиняных шумерских, аккадских, вавилонских таблицах. Есть переводы «Ригведы», «Аюрведы», «Авесты», «Бхагават-Гиты», «Святорусских вед», «Велесовой книги». Это первоисточники. Они созданы за тысячелетия до Рождества Христова. Вот лишь часть из этих первоисточников: поэма шумеров «Энума-Элиш», «Атрахасис», «Сказание о Еильгамеше». В «Энума-Элиш» записаны (с подачи бога Энки) «семь дней творения», создания Солнечной системы. Этой поэме четырнадцать тысяч лет. Она была создана до потопа. Вот тебе шумерский, аккадский, вавилонский текст «Энума-Элиш». «Он распростер черный балдахин над безвидной Таимат – планетарная прародительница Ки – нашей Земли, – повисшей в пустоте. Он разделил воды по плотности их. Скрепил одни осколки (льда) под сводом небесным и выставил их внутри, словно часовых, подобно щиту неба. А водную свиту Таимат согнул в дугу и создал великий Внешний Пояс, подобно браслету». А вот «Ветхий Завет». Книга Бытия. Перевод с иврита. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста. И создал Господь Небесный свод, отделив воды, которые над сводом от вод, которые под сводом небесным». Подобных примитивно кастрированных аналогов множество. Нагорная проповедь Христа появилась после десяти скрижалей Завета Моисея. Это, можно сказать, манифест гармоничного сожительства людей в процессе распространения христианства. Но вавилоняне, аккадцы, ассирийцы, персы сформировались за тысячелетия до рождения Христа. Шумеры как цивилизация – еще раньше. Их культура – это коллективный разум, возникший в междуречье как бы ниоткуда, точно взрывом. Он-то, этот коллективный разум, и оплодотворил последующие цивилизации совершенством мышления и жизненной мудростью. «Авеста» Заратуштры (6291 год до нашей эры), сына жреца Старошаста и матери Догды, впоследствии была записана золотом на ста воловьих шкурах в Иранском городе Ориане. Это учение о добре и зле, основанное на законе мироздания: Благая мысль, Благое слово, Благое дело. Как-то на Алтае я наткнулся на прохожего старичка. Помню, был он маленький, сухонький, с белой бородкой. Понравилась ему моя фигура, и показал он на гряду дальних гор. «Там Шамбала», – сказал. Я был поражен тогда, и стоял, как вкопанный, как оглушенный, а старичок растаял, словно его и не было. И тогда я понял: мир наполнен печалью и горем. И все-таки мир прекрасен. Есть луч солнца, и нужно следовать за ним. Не упускать из вида. Потом я был на Тибете, в Индии, Непале, снова на Тибете, прошел путь Христа. И не существовало для меня границ, потому что, если очень чего-то захотеть, то осуществится. Я узнал, что все сведения о происхождении человечества тысячелетиями в строжайшей тайне хранились и по сей день хранятся жрецами всевозможных храмов, монастырей и святилищ. А потому ничему не удивляйся и не отторгай, так как отторжение грозит разрушить целое, разрушить единство. А это страшно. Это то, что совершили наши правители. Ну вот. О прошлом… Гейзидяне, обосновавшись на земле, стали широко практиковать соединение с животными в искусственных условиях на Луне и Марсе, поскольку там поле притяжения намного слабее земного. Так появились Сфинксы, Кентавры, Сатиры и прочие собако и птице-люди. Понятно? Вот тогда и разошлась по всему свету легенда, что мы, в основе своей, произошли от того или иного животного. Но это не миф. И если человек точно знает своего тотемного зверя, ему легче управлять собственным характером и даже контролировать подсознание, которое помнит все от самого начала. Разумеешь ты это, Дима? – спрашивал российский путешественник Виктор.
Хирург ошеломленно молчал, но ему начинало казаться, что он действительно все это и разумеет, и видит.
– Таким образом, – подводил итоги странствующий философ, – на сегодняшний день есть две категории людей. Одни – их большинство – энергетически плохо сбалансированы, безграмотны, ленивы, малоподвижны умом и телом, недолговечны. Они быстро набирают биомассу, так как много едят, мыслят категориями рода, силы, власти, вседозволенности. Их дух спит. В результате энергетическая сфера разрушается и происходят необратимые процессы, которые и приводят к ранней смерти. Духовно они развиваются на общем поле Земли и Солнца. Другие, потомки самых первых, те, которых осталось немного, до сих пор связаны с прародителями и питаются их энергетикой. Им бы расти, множиться, но с одной стороны мешают естественные земляне, с другой – гравиструктура нашей галактики. Эти-то, первые, сориентированы не на Солнце, Марс и Сириус, как большинство, а через Венеру – на созвездие Ориона и далее – на созвездие Девы, на Галактику родителей. Это, я думаю, более чем понятно, – заключил очередное сообщение Виктор уже глубокой ночью. – А поскольку мы с тобой, Дима, не относимся к тем, кто «умирает по желанию» – будем чтить Создателя и жить по его законам, так как ничего мудрее десяти заповедей, Книги Екклесиаста и выше Песни Песней не придумано.
Хирург вспомнил, как после этой своей очередной лекции Виктор достал из-под матраца Библию и подарил ему «Храни ее, – сказал. – Эта книга стоит всех остальных».
Где и как достал Виктор сие редкостное по тому времени и месту произведение, как схоронил среди обилия бдительных глаз – тоже осталось загадкой.
Библией Хирург дорожил, будто зеницей ока, но уберечь ее все же не удалось. Ее, в конце концов, украли. На самокрутки.
Мелькнула за белой сопкой серая краюха океана, вспорхнула с ближней сосны потревоженная птица, и Хирург снова услышал голос российского бродяги.
– Говори с Богом, Дима. Он даст тебе все, что нужно. Он напоит энергией, посредством которой сможешь лечить недужных. Помни, что ты появился здесь не просто так. Такая тебе была уготована судьба. А потом – откуда мы знаем, что есть на самом деле действительность? Но… к Священному Писанию относись с почтением. Хотя, скажу тебе: Библия – не догма. Она живет и развивается. Человек же – явление столь глубокое и непознанное, что никакие религии до конца им овладеть все же не могут. Потому что те люди, которые были вначале и те, которые после, так или иначе ассимилировались друг в друге. Понимаешь это? А Шамбалу я все-таки нашел. Это обитель высоких Душ и Учителей. Самого же места никто точно не знает: ни я, ни кто-либо другой. «Шам» на санскрите – «спокойствие». Будь внутренне спокоен, Хирург. Принимай все, что дает тебе жизнь. Ненависть – это всего лишь другая сторона любви. Гнев – изнанка сострадания. Насилие и ненасилие – не есть две разные вещи, раз и то и другое дано Богом. Выбирай лишь, что соответствует духовному кодексу, что тебе ближе. Помни об ответственности. Но ничего не отторгай. Все имеет свои причины. Любовь переходит в ненависть, ненависть – в любовь. Гнев неожиданно превращается в сострадание, а сострадание – в гнев. Это вечная игра черного с белым. И так же как в белом есть весь спектр цветов, включая черный, так в черном – все цвета, включая белый. Ненависть может в любой момент выскочить на поверхность в другой, уже более отвратительной маске. Мы все время с чем-то сражаемся. Разве при этом можно быть самим собой, быть раскованным и естественным? Поэтому мы напряжены, натянуты, всегда готовы к борьбе, всегда в страхе. Если же посмотреть внимательно, то изначально внутри человека нет врагов. Их создают безграмотные учителя. Они говорят: не смей, нельзя, это плохо, выбрось, уйди, не трогай и прочее, и прочее… Мы вдруг ощущаем, что окружены врагами, нам становится жутко, потому что мы теряем связь с красотой мира и жизни. Человек совершенен, и нельзя позволять кому-то исправлять его. Ты, Дима, можешь делать его здоровее, лучше, крепче, но лишь за счет того, что подаришь человеку энергию и прольешь свет, где он отсутствует. Вот из этого и исходи.
…Такие воспоминания завладели Хирургом, и он плыл в теплоте автобуса сквозь снежную пелену, словно в полусне своего ума. А Колымский день, между тем, уже прокрался за черту двух часов, и это означало, что время скоро покатится к вечеру, сумрачному, беззвучному вечеру и лишь хруст снега будет нарушать тишину вековой тайги.
Лес стоял раскидисто, широко, бездонно, и пройти сквозь него было не просто.
Ехать оставалось уже недалеко. Хирург начал потихоньку собирать вещи. Смел с сидения крошки, затянул потуже рюкзак, одернул свою любимую шинель. Он вообще, как бывший официальный врач, любил повсюду порядок, чистоту и соразмерность применительно к любой обстановке.
В тюрьме Хирург волей-неволей стал личностью общественной, и единые для всех правила въелись в его кожу и душу, хотел он того или нет, проведя там не один год.
Хирург вытер об испод шинели ложку, завернул остаток рыбы и засунул все это в портфель Гегелю – скоро перепутье, где нужно выходить.
Товарищи мирно дремали, укачанные извилистой дорогой. Целитель взглянул в лобовое стекло и заметил на обочине человека с поднятой рукой.
Гостеприимный водитель остановил машину, и заснеженный путник забрался внутрь салона. Он был высокого роста, чуть сутулый, с длинными, почти до коленей руками, за плечами торчал громадный цветастый рюкзак. Новый пассажир имел на себе хорошую дубленку, джинсы, заправленные в толстые армейские бутсы, на голове кричаще сидела явно чужая, черная зэковская шапка.
Путник снова оказался женщиной, что обнаружилось, когда пассажирка одним махом сорвала с себя присыпанный снегом головной убор и сбила с него снег о высоко зашнурованные ботинки, наверное, сорок третьего размера.
Девушка была по-чукотски черноволоса, с грубоватыми чертами, но блеснувшая жемчужная улыбка сделала ее лицо милым и теплым.
Очнувшиеся старатели сразу поняли, что незнакомка не из здешних: местные не улыбались. С чего бы им так счастливо улыбаться?
Похоже, она была не из хохлов, не из белорусов, не из орочей, да и на чукчу смахивала не так чтобы очень. Вообще не ясно было, какого она роду-племени.
– Хэлло! – вдруг изрекла незнакомка и сразу представилась всё с той же очаровательной, белозубой улыбкой: – Я есть Люси из Монреал. Канада.
Приисковый народ остолбенел и начал немо переглядываться. Совсем недавно проникнуть в пограничную зону Магаданской области было делом весьма непростым, а тут – Канада… Первым, однако, опомнился Гомер.
– Люська! – радостно закричал он, словно встретил, наконец, родную сестру, которую не видел лет двадцать. – Ты что это, значит, со Штатов движешься? Во времена настали! Ходи на все четыре стороны. А мой братан, слышишь, в Лондоне на базаре осетром торгует. Куда проник, змей. Молодец! Сейчас только так и надо. Ты, Люся, слышь, падай где-нибудь. Сиддаум плиз, как говорится. А ну, подвинься, хлопцы! Видите, человек бог знает, откуда прет.
Люси при помощи Гомера сняла рюкзак и присела рядом с Борисом, не переставая белоснежно улыбаться.
Борис протянул ей руку и тоже улыбнулся:
– Борис Сергеевич. Вольный художник и Магаданский поэт всех времен и народов.
– О, поэтри! – подпрыгнула от счастья Люси. – О'кей!
– Значит, – пересел поближе Гомер, – ты к нам по делу? Или так… путешествуешь? Выходит, Люся, ты шагаешь из самых Воссоединенных Штатов всей великой Америки. И куда же, извиняюсь, конечно, по какой-такой части? По торговой или еще какой? Куда, стало быть, едешь? Мы, видишь ты, Люся, народ любознательный, на все имеем свой интерес. Не в обиду, конечно.
– О, вэлл! Иду в Москва, – сообщила радостно Люси, ничуть не меняя ослепительной улыбки на резко вырезанном, почти мужском лице.
В своей добротной шубейке зарубежная пассажирка казалась даже слегка беременной, но это обстоятельство внушало золотодобытчикам некоторое дополнительное уважение к долговязой Люси.
– Значит, в Москву, – поразмыслил старатель в волчьей шапке.
– Уез, уез, – восторженно закивала канадская путница.
– И для какой же надобности? – бдительно допытывался добытчик. – Ты говори прямо. Мы народ понимающий.
Лицо канадской гостьи вдруг стало серьезным и торжественно возвышенным.
– Я есть бахай, – произнесла Люси с особой значительностью.
– Ну-у… – протянул красномордый в волчьей шапке.
– А я – Рахаим, – весело откликнулся один золотодобытчик из Азербайджана.
– Цыц, – оборвал кавказца мордатый, – стало быть, зовут тебя Люся, а фамилие твое, как я понимаю, Бахай. Так или нет?
– Ноу, ноу, – замахала руками Люси. – Менья зовут Люси Честер. Но я есть бахай. Бахай – это вера. Религия. Немного, совсем молодой религия. Сто пятьдесьят лет. Бахаулла – пророк. Посланец Бога. Он много страдал в тюрьма. Много люди пошли за ним. Много люди казнили. Бахаулла гнали из Родина, из Ирана, но Бог охранил его. Бахаулла хотел, чтобы люди на вся земля стали как одна семья. Чтобы все религии были братья и могли вместе молиться каждый по своему верованию. В Индии есть Храм Бахай. Каждый может прийти там, соединиться братьями и сестрами и говорить молитву по своей вере. Потому что все – ветки одного дерева и Бог у всех один. Так сказал Бахаулла. Так сказал его сын – Абдул Баха. Кто верит Бога, меня будет понимайт.
Старатели сидели оторопевшие. Возразить было как будто нечего. С другой стороны, канадская проповедница была вестницей чего-то нового, и это обстоятельство пеленало ее в какую-то туманную тунику.
– Как же получается, – задумчиво наморщил свой философский лоб Гегель. – Христос приходил спасать человека. Принял на себя его грехи. Ну, конечное дело, наставлял народ, чтобы как правильно было. А этот, как его, Бахаулла… Он же, по-первости, мусульман какой-нибудь. Так или нет? Как он меня, российского, православного ходока может обратить в свой невообразимый для нас буддизьм?
– Да, – солидарно поддержал Гегеля Гомер, – как? Вот это нам непонятно. Ты, Люся, тута лучше не крути, а выкладывай все чин-чинарем.
Люси снова озарилась белозубой улыбкой на темнокожем индейском лице и, жестикулируя тонкими коричневыми руками с длинными пальцами о белых ногтях, похожих на перламутровые ракушки, молвила мягким, чуть хрипловатым голосом:
– О'кей! Я понимай, что вы хочешь выражать. Христос пришел спасать душу человека. Андестенд? Бахаулла пришел спасти все человечество. Понимайте?
Гегель задумался. Остальные пассажиры напряженно чадили папиросами в некоторой тревоге мысли.
«С одного боку, – думал Гегель, – все правильно и красиво. Кругом одни братья и сестры, общий хоровод и всемирный карнавал. А с другого конца – отцовская, материнская вера. Православие, традиции, церковь, чудотворные иконы, таинство брака и смерти, обряды, праздники. Куда это девать?»
Вообще-то он, этот Бахаулла, вроде бы мужик симпатичный и при соображении, а с другого края – для российского мозга не совсем гож. Потому – сомнение. А главное – Божий Зрак».
Однако при всех общих осторожных размышлениях Гегелю новая теория вполне полюбилась. Он давно мечтал прекратить тьму мракобесия на земле, восстановить общее равенство и общую любовь. Потому что так и будет какой-нибудь бедуин убивать русского, а русский – немца, белый американец – негра, и так без конца. Исключительно из соображений разности веры.
«Нет, – решил Гегель. – У Люси слово верное, истинное».
– Как же ты до Москвы собираешься добраться? – обеспокоился целитель. – Дай-ка, я тебя осмотрю как врач. Все ли у тебя в порядке?
Люси улыбнулась, веря Хирургу, и распахнула шубейку – гляди, мол, на мне изъяну нет.
Хирург на расстоянии провел рукой вдоль тела девушки и, убедившись, что та действительно здорова, спросил:
– Что же, так дальше на перекладных и будешь пробираться?
– Как? – не поняла Люси.
– Я говорю, далыпе-то – снова ногами, на машинах?..
– О, уез. Ногами. В России во многих городах уже есть бахай. Мы все друзья. Но мне надо в Москву. Я буду там жить и развивать веру. Сейчас иду ногами.
Люси неожиданно громко рассмеялась, и вслед за ней автобус тоже взорвался хохотом.
– В Москву ногами! Ну ты даешь, Люська! Мало у нас дурочек, так еще Америка подкинула.
– Не надо, братья, – останавливал старателей Гегель. – Человек сурьезный, и линия у нее правильная. Вот я – крещенный христианский элемент, а чую, линия у этой американской гражданки правильная и точная. Потому, если оградами городиться: исламы от католиков, католики от христиан, христиане от иудеев, то вот она, кровь, и будет литься, как вода.
Автобус затормозил на развилке по просьбе Хирурга.
– Эх, женился бы я на тебе, Люська, – сказал Борис, надевая рюкзак на плечи. – Не будь ты такая смешливая – ей-богу, женился. Мотнули бы мы в твою Америку. У тебя дом есть?
– Дом?
– Ну да. Вилла есть?
– О, вилла! – радостно закивала Люси. – Вилла есть. Ферма есть.
– Вот видишь, – Борис с сожалением похлопал Люси по плечу. – Вилла есть, ферма есть. «Форд» есть? Ну надо же, – огорчился Борис. – Все есть, а баба не та. Не судьба, Люся. А впрочем, адресок оставь. Мало ли, какой выйдет варьянт. Жизнь – штука переменчивая. Кто знает, чего из всей этой бахай может выйти.
– Все, – сказал Хирург. – Будем выбираться.
– Счастливо, Люся, – стал прощаться Борис. – Может, когда свидимся! – И спрятал бумажку с адресом в карман бушлата.
Прощались и остальные. Прощались с попутными старателями дружески, громко, навсегда. И с Люси прощались навечно, потому что Бахаулла Бахауллой, а пути-дорожки расходились по разным направлениям.
Мишка в знак памяти и общей симпатии к Люси и ее вере подарил зарубежной путешественнице вырезанного из кости оленя, отчего та пришла в дикий восторг, тут же извлекла из своего заплечного мешка мелкий транзистор-магнитофон и вручила его бывшему студенту МГУ в знак неразлучной дружбы и братания. Кроме того, Люси раздала всем попутчикам круглые зеленые значки с белым голубем в центре. Внизу же значка полукругом было написано: «Мы люди планеты», что под лучами веры Бахай должно было означать – «Все люди – братья». Старателям, конечно, обозначенная на сувенире мысль вряд ли пришла бы в голову, но привнесенная с Американского континента, она чудесным образом воспламенила золотодобытчиков, и те сразу осознали, что да, в самом деле, они не кто-нибудь там, а именно – «люди планеты».
Все промысловики немедленно прикрепили бахаистские значки на замусоленные фуфайки и почувствовали необычную гордость, как, примерно, матросы с крейсера «Варяг».
Пятеро сенокосчиков спрыгнули в рыхлый и глубокий снег обочины, а «Варяг», фыркнув бензиновым сладковато-противным дымом, вскоре скрылся за поворотом сопки.
– Ты, Мишка, не жалеешь, что за нами пустился? – поинтересовался Боцман настроением личного состава. – Может, у тебя дела какие-нибудь в Магадане, а ты вдруг отчалил.
– Мне все равно, Боцман, – весело ответил Мишка. – Я странник по жизни, и к этому имею в сердце интерес. Куда дунет, туда и иду. Меня, дядя, селедкой не корми, дай только постранствовать. Так что, если я вам не в тягость…
– Да чего там, – отозвался Борис. – Странствуй, пожалуйста, раз у тебя крыша в эту сторону сдвинута. Нам-то что?.. Впятером веселее.
Двинулись вглубь тайги. Мороз был небольшой, но снегу навалило много. Даже по старой, нахоженной тропе идти было трудно. Первым таранил сугробы Боцман. При его росте, напоре, мощи и широте эта работа казалась легкой. Вслед за ним по разворошенному, разбитому снегу шагать было уже проще.
Шли молча, необремененно и радостно. Страда позади. Позади болота, тучи гнуса, комарья, воловья лямка от восхода до заката. Шутка ли, по болотным кочкам волоком на себе тащить мокрые, тяжелые кучи скошенной травы. И так всё лето, изо дня в день до дрожи в ногах. Восемь стогов, восемь хат – целая деревня, воздвигнутая втроем. Это многого стоило. Но с другой стороны, спроси кого-нибудь, нужна ли такая трудовая битва ради каких-то «бешеных» денег, которых хватит, чтобы долететь до материка, да и там немного на первое время – никто не ответит. Пожмут плечами и всё. И всё! Что же привораживало? Что держало в дикой тайге рядом со зверьём, посреди непредсказуемой стихии, где ты – песчинка, которую может сдуть в любую минуту. Это похоже на то состояние, когда стоишь на берегу с длинной палкой в руках. На палке – загнутый стальной крючок. Под ногами струится река, по реке в четыре этажа идет на нерест рыба, стройно, осмысленно, по своим извечным законам. Но ты над ней, как Бог: ты можешь выдернуть крючком любую рыбу, и она не будет знать, кто это сделал. То же самое может произойти с человеком в тайге; буря, гроза, ураган, нежданный зверь… И останется лишь гадать, кто «выдернул» тебя.
Все-таки, что же на самом деле держало здесь всех этих людей?! А вот что! Полная свобода. Воля и тайга. Красота ее, подобная вечности, словно сам Господь возложил ладонь свою на это странное место. Возложил, но как-то осторожно, будто не решаясь нарушить собственных законов Колымы. А ведь это мог быть благодатнейший край на всём Дальнем Востоке. Однако вечность обладала тут величием Смерти. Возможно, потому-то и завораживала людей навсегда.
– Молодец Люська! – неожиданно восхитился Мишка. – Надо же – притащиться из Америки, чтобы топать до Москвы, а по дороге сеять добрую идею. Здорово! Не каждый мужик на такое решится, а тут баба. Одна самоличная американская тётка шагает себе по России, и ведёт её Дух того, что несет она в сердце. Вот это, ребята, мощная сила! И кто он такой, этот Бахаулла! Если уж какая-то девчонка тащится через полмира с его именем – это не так просто. Со стороны – вроде бы утопия: соединить все религии, все народы в одно общее государство. Но если поразмыслить, не к тому ли мы стремимся в конечной цели. Естественно, это будет не завтра и даже, я полагаю, не через сто лет. Потому что все религии имеют свою иерархию, свою власть. А кому охота делить власть? Вот тут и зарыта собака. Люська что ж… Она – героиня. Наивная американская Жанна Д'Арк. Её либо сожгут, либо загрызут крысы от власти. И все-таки она мне симпатична, потому что дело её – правое. Ей-богу!
– Дурак ты, Мишка, – разгорячился Борис. – Это что же получатся: я, хоть наполовину и татарин, но всё ж таки христианин, буду целоваться с каким-то жидком и молитву с ним творить? Кто Христа распял? А, Мишка? Своего же еврея-проповедника и пророка. Кто? Вот и выходит: они все воры и предатели. И обниматься я с ними не желаю.
– А ты смирись, – высказался Гегель. – Смирись и прости. Сам-то Христос что говорил: «Все люди перед Богом равны». И ещё: «Ударили по одной щеке – подставь другую».
– Вот, видишь? – показал Гегелю кукиш Борис. – Щас подставлю другую, ага! Не дождешься. Моисей вообще свою жену родную, можно сказать, всем царям подставлял. Вот, мол, сестра моя, спите с ней, она сладкая. И что же Господь? Господь тех царей покарал неизвестно за что, а Моисея, наградил, дал ему лучшие земли Палестинские. Как всё это можно расценить? А тут, на Колыме, ты, Гегель, много, кроме Мебеля, евреев видел? Да и сам Христос почему-то не на Чукотке проповедовал. Так или нет, Гегель? Это ты тут бродишь, как чумной. Никто тебя не видит и не слышит. А взял бы и пошел, как Люська – до самой Москвы и дальше, аж до какой-нибудь Сант-Яги. Только с чем ты пойдешь? У Люськи хоть идея, а у тебя, Гегель каша в голове. Гречневая. Тебе, прежде чем рот открывать, нужно сесть на пенёк, обложиться книжками и постичь, чего желаешь произнести людям. А ты вечно долдонишь, сам не знаешь, что. Оттого тебя иной раз и в морду стукают. Так или нет, Гегель?
Проповедник-Василий удрученно молчал. То, что говорил Борис, в основном было верно и выходило – возразить Гегелю нечего. Выходило – прав Борис, и Гегель, обозлившись на себя, на кривизну своих свершений, глубоко задумался.
– Скоро выйдем на большую вырубку, – прекратил философский бой Хирург. – Там идти будет легче. Там дорога есть. Она хоть и по кочкам скачет, а всё же двигаться по ней удобней.
Теперь шли молча, тихо. Снег еще не взялся морозом и не издавал никаких звуков.
Хирург вспомнил, как ровно три года тому назад, тоже после сенокоса, по этой же тропе шел он с Богданом к нему домой. Так же неспешно брели по первому снегу, не нарушая вселенской таежной тишины. Богдан был не из болтливых и, в основном, подавал голос, лишь, когда его спрашивали.
В этот год болела жена Богдана, и Хирург зазимовал у приятеля, чтобы поставить женщину на ноги. У неё, не имевшей детей, началась тяжёлая женская болезнь. Богдан долго мучился, прежде чем обратиться к Хирургу за помощью. Но беда заставила.
К весне Богданова жена забыла, где у неё болело и что она, теряя с каждым днем силы, собралась, было, уже помирать.
Хирург же всю зиму помогал Богдану по хозяйству, ходил на охоту, жил вольно и хорошо. Упивался лесной тишиной, дальними полетами мыслей и думал о том, что вот так и нужно существовать: слушать лес, реку, голос неба. Он был совершенно спокоен, и ему казалось, что здесь его Шамбала.
Но по весне Хирурга снова потянуло в тайгу, да и приживалой быть уже не мог. Расставаясь, он знал, что вернется. К настоящему другу нельзя не вернуться.
И вот теперь с радостью в сердце Хирург вёл свой праздничный отряд в гости к старому товарищу, потому что у них с Богданом сложилась добрая традиция встречаться каждую осень. Что до остальных, Хирург знал, его друзья всегда будут друзьями Богдана. Тут действовал старый таёжный закон.
– А у нас в деревне сейчас крёстный уже поросёнка шмалит на соломе, – неожиданно сообщил Боцман и вздохнул широко, мечтательно.
– С какой такой радости, – отозвался Борис. – Вроде праздника не намечается.
– Это у тебя не намечается, а у крёстного – день рождения. Сегодня у него, а завтра у жёнки его. Туда уже вся родня стекается, пироги пекут. Для начала, конечно, в церковь. Потом баня с веничком. А уж вечером – все розовые, в чистых рубахах, чинно, благородно – всем гуртом за стол. Вот тут тебе и поросенок жареный, и огурчики соленые, картошечка, капустка и песни с плясками до утра. Девки румяные. Яблочки, а не девки.
– Что же тебя, дурня, извиняюсь, конечно, сорвало с родных мест, раз ты такой, что ни на есть, любитель народного быта? – усмехнулся Мишка, не зная, что этот же вопрос однажды уже обрушивал на Боцмана Хирург.
– Во-первых, – как всегда деловито начал Боцман, – я сильно не уважаю никаких оскорблений и в случае невоздержания могу нанести оскорбителю кое-какое физическое увечие. Во-вторых… – Тут он обернулся и стукнул себя в грудь. – Я – боцман! Моряк! И с раннего детства мечтал стать моряком. Это тебе понятно? Пацаном ещё, помню, батя повез меня в город, на рынок. На счастье своё или на беду – увидел я там морского офицера в фуражке, в белом кителе с золотыми пуговицами, с кортиком на боку Офицер шел с девушкой, очень красивой девушкой и всё время улыбался ей, а она улыбалась ему Вот тогда я понял: ничего меня не свернёт; ни комбайны, ни трактора, которые я, кстати, тоже сильно любил, ни заводы, ни стройки и ничто другое. Запало мне в душу, что буду я только моряком. И всё тут. Кроме того, чтоб ты знал, студент, всякий натуральный человек уже в утробе матери находится полностью в морской воде. Там он первоначально развивается и получает истинные сведения об устройстве будущей жизни. Верно, я говорю, Хирург?
– Верно, – улыбнулся Хирург, обнаружив у Боцмана удивительные познания.
– Ты, Михайло, может быть, даже не подозреваешь, – продолжал научное сообщение моряк, – что на восемьдесят процентов состоишь, как все остальные студенты и прочее человечество, исключительно из морской воды. Но в отличие от настоящих моряков, другие этот неопровержимый факт почему-то забывают, а то и вовсе не знают до конца своих печальных дней. Понятно тебе такое положение? – спросил Боцман словами недавней старушки.
– Чего ж тут непонятного, – согласился Михайло. – Это как раз очень даже вразумительно.
– Ну вот, – продолжил повествование Боцман. – Попросился я служить на флот, а потом так там и остался. До того зловредного дня, когда я замполиту вот этим кулаком чуть голову не отбил. А дальше уж всё наперекосяк пошло. Ну и черт с ним. Как будет – так и будет. На всё воля известно чья. Так что, я – моряк! – гордо заявил Боцман. – Слушай сюда, бродяга.
Боцман остановился, приобрел вдохновенный вид и, набрав воздуху в свою морскую грудь, стал читать стихи:
– Никем по свету не гонимый, Я в этот порт явился сам В своей любви необъяснимой К полночным северным судам.– Ах, Магадан! Магадан! – пожалел город моряков Боцман:
– Я полюбил чужой полярный город И вновь к нему из пристани вернусь За то, что он испытывает холод, За то, что он испытывает грусть. Я прежний сын морских факторий Хочу, чтоб вечно шторм звучал, Чтоб для отважных был он – море, Чтоб для уставших – свой причал.– Ну Боцман, – сказал Мишка. – Я в шоке. Не ожидал.
– Та, то не я, – опустил голову Боцман. – То Коля Рубцов за меня постарался. Тоже моряк был. Своего рода.
Вышли на лесную дорогу. Шагать стало действительно легче.
– Да, поросеночка жареного сейчас бы не помешало, – согласно с Боцманом помечтал Борис. – С перчиком, хреном. Да, Петро?
– Ложись! – вдруг рявкнул Боцман и плюхнулся в незамерзшую жижу дороги.
Вся команда, ещё не понимая, в чём дело, стадно попадала кто где.
– Не шевелиться и молчать, – прохрипел Боцман лежавшим товарищам.
– Чего там, Петя? – тихо спросил упавший рядом с Боцманом Хирург. – Метель – ничего не вижу.
– Шатун, Дима. Вон вдали темное пятно движется. Хорошо, ветер в нашу сторону. Иначе он бы нас всех в куски порвал. Что мы имеем: топор ржавый, пару ножей. Это для него – семечки. Так что будем лежать, покуда не исчезнет. Другого выхода нету, Дима. Поколдуй, прогони его, а то он так и будет шастать вокруг, пока, не дай бог, нас не обнаружит.
– Попробую, – сказал Хирург. – Вот только я руку себе здорово рассадил, когда упал. Кровь так и хлещет. Камень какой-то попался острый. Смотри, вроде небольшой, а тяжелый, как железо.
– Камень, Митя, потом поглядим. Сейчас гони медведя от беды к такой-то матери. Иначе мне придется самому с ним в бой вступать. Тут уж неизвестно, что из этого выйдет. Кто кого в этой битве сломает. Медведь, тем более шатун – не заяц и даже не волк. Сам знаешь.
Хирург облизал кровь с ладони и, держа в руке зловредный камень, сначала сотворил обычную молитву, а затем мысленно, властно приказал зверю сгинуть в гущу тайги, чтобы добыть там своё пропитание, раз уж у него такая нездоровая для медведя в эту пору бессонница.
Затем целитель набрал из воздуха защитного эфира и выстроил из него для всей команды прочную стенку, чтобы зверь уж никак сквозь неё не мог пробраться.
Медведь постоял некоторое время, поводил в разные стороны мордой, нюхая воздух и как бы внимая голосу Хирурга, а затем повернулся и побрел в чащу, как того и требовал народный лекарь.
Через десять минут праздничный отряд, мокрый и злой, вылез из-за кочек, кляня пургу, болота, медведя и гнусную жизнь.
Хирург хотел было выбросить тяжеленький камешек, который как раз умещался в кулаке, но Боцман потребовал освидетельствования.
– А ну, Дима, покажи эту железяку, – попросил он. – Средний камень тяжелым быть не должон. Дай-ка я его проанализирую. На чего ты там напоролся? Давай я тебе рану слегка водкой спрысну, а то, хоть ты и лекарь всенародный, но дезинфекция, сам знаешь – дело до первой степени важное. Вон, гляди, вся клешня в крови. Открой руку, покажи булыжник. Что ты его зажал, как щегла. Эта каменюка тебе, можно сказать, руку обратно изувечила, а ты вцепился в неё, будто мёртвый.
У Хирурга в тот момент в голове стояла какая-то туманная пелена, подобная внешней метели, и он не соображал, что с ним происходит, отчего он намертво зажал в окровавленном кулаке проклятый камень, где, в какой точке земли в данный момент находится он сам, и какие слова исходят от Боцмана. Возможно, Хирург употребил слишком много энергии для изгнания бессонного, праздношатающегося медведя, может, ему в голову вошла некая «пробка» и закупорила все имеющиеся мысли, а может, старость, рожденная унылыми прожитыми годами, тронула его костлявой рукой и на мгновение отодвинула в сторону общее сознание.
– Ты чего, Дима? – испугался Боцман.
Уже все товарищи обступили очумелого Хирурга, а он всё стоял на болотной кочке, как памятник, с возможной пробкой в мозгу и зажатым в руке булыжником, который был тяжелее обычного камня.
Тогда Боцман произвел единственно верное, на его взгляд, но по-своему лечебное действие. Он просто размахнулся и вкатил Хирургу жесткую оплеуху исключительно в терапевтических целях, чтобы привести дорогого друга в реальное состояние.
Хирург упал задницей в лужу. «Пробка» при этом из мозгов выскочила. Он помотал головой и горько засмеялся.
– Представляешь, Петя, – взглянул он на Боцмана. – Мне показалось, что вся эта просека увита колючей проволокой, а там впереди – кирпичная стенка. И вот я стою и размышляю, как же мы проникнем сквозь кирпичи к Богданову дому. Да ещё медведь этот клятый у стены бродит. А из кирпичей – глаза. Одни глаза из кирпичей глядят. Затмение какое-то, Петя, ей-богу.
– Да, – посочувствовал Борис. – Пора тебе, Хирург, на воды ехать. В Сочи, скажем, или Цхалтубу какую-нибудь. Намаялся ты здесь, бедолага. Пора, дядя, отдохнуть тебе. Не то крыша съедет – на место не поставишь.
Хирург наконец разжал пальцы и отдал камень Боцману. Тот мельком оглядел его и быстро сунул камень Хирургу в карман шинели. И тут же распорядился:
– Боря, иди не спеша впереди. Остальные – за ним. Я пока перевяжу Хирургу клешню. Вот ведь как расковырял руку из-за шатуна поганого. Так что потихоньку двигайтесь и ухом чутко прислушивайтесь, как бы этот людоед опять не объявился. Тогда нам придётся военные действия открывать. Сруби, Боря, где-нибудь рогатину хорошую да пару кольев затеши. Инструменту против медведя у нас не имеется никакого. Понимаешь команду? Вот и действуй. А я Хирурга починю и присоединюсь немедля.
– Ладно тебе бубнить одно и то же, – остановил Боцмана Борис. – И так всё ясно. Не первый день в тайге. Пошли, ребята.
Трое осторожно двинулись по дороге вперёд, оглядываясь по сторонам и наводя ухо на каждый шорох.
Боцман не пожалел водки, промыл другу рану. Затем снял бушлат, свитер, исподнюю рубаху и, оторвав от неё нижнюю часть шириною со средний бинт, перевязал Хирургу руку.
– Вот теперь на палубе порядок, – удовлетворился Боцман.
Во всё время этих медицинских операций Хирург упирался и отбрыкивался. Мол, прекрати, Петя, заниматься ерундой, на что Боцман многократно и однозначно отвечал: «Цыц!».
Когда же лечение было закончено, Боцман по-отечески потуже замотал шарф на шее Хирурга, поплотнее нахлобучил ему на затылок роскошную его лисью шапку и лишь затем, умиротворившись «полным порядком на палубе», спросил:
– Ты, Дима, знаешь, что у тебя в кармане лежит?
– Что? – с неожиданной тревогой в сердце поинтересовался Хирург.
– Вот ты, Дима – классный, чудодейственный врач, но извини меня, дурак. У тебя в шинели, Дима, самородок золотой, каких, прости, в музеях – раз-два и обчелся. Поверь мне, я в этом толк знаю. Не один десяток лет на Колыме торчу. По приезду в Магадан сбросим камень ювелирам, и полетишь ты в свой Питер как капитан – в белом кителе. Сыну своему не то, что «Волгу» – пароход на эти деньги купишь, Жене… ну, я не знаю – платье бархатное. Вишневое. И возьмешь ты её под белый локоть, пойдешь с ней в театр какой-нибудь. Или в ресторан хороший. Закажешь «Шампанское», как человек. Вспомнишь меня, Хирург. Жизнь нашу собачью. Выпьешь «Шампанское», Дима, и обязательно хлопни тот бокал об пол. На счастье. Чтоб уже ничего в твоей жизни не было наперекосяк. Чтоб хотя бы в старости ты пожил без вывертов. Без ментов и скитаний. Одним словом, Господь наградил тебя, Дима, за твои напрасные страдания. За все мытарства. А главное, за то, что ты никому, ни одному человеку, сколь я помню, не отказал в помощи. И делал все в основном бескорыстно. Ну, что совали тебе невзначай, так это так водится. Да и то сказать, ты злился всегда при этом до прыщей. Вот тут, Дима, и собака закопана. Такое у меня внутри существует размышление.
Боцман ощутил, что ему весьма понравилась его собственная речь, продиктованная, конечно, исключительным обстоятельством падения Хирурга на золотой самородок. О себе он в этот момент не думал вообще. Боцман вдруг налился необыкновенным внутренним счастьем и, напрочь позабыв о медвежьей опасности, заорал на всю тайгу любимую песню про то, как «раскинулось море широко, и волны бушуют вдали…»
Шедшие впереди осторожные попутчики, похожие на минеров, с рогатиной и копьями, в изумлении обернулись, решив, что заплечный Боцманский мешок со спиртным стал на одну бутылку легче. Однако никто из них не подозревал, в чем истинная причина боцманского веселья на самом деле.
Хирург после сообщения Боцмана брел позади всех в явном смятении чувств.
С одной стороны, картина, изображенная другом-Петром, была по душе. Действительно, мысль о встрече с сыном и женой в нормальном человеческом виде, в хорошем костюме, при немалых материальных возможностях грела его, щемила сладкой тоской.
С другой же, Хирург презирал себя за эти, как ему казалось, преступные помыслы. Всю жизнь он не то, чтобы ненавидел или не любил деньги, но относился к ним с пренебрежением, считая их весьма вредным материалом, препятствующим развитию Духа. А Дух-целитель в какие-то моменты отождествлял с Душой и ставил Его выше всего на свете, выше жизни тела и даже Судьбы. Он жалел людей, подверженных заразной болезни обогащения любыми путями. Не презирал, а именно жалел, потому что презирать – означало бы судить. Судить же Хирург не имел для себя никакого права. Он православно полагал, что в мире есть только один Судия, и этот закон был для него непреложным.
И вот Хирург переступал с кочки на кочку, трогал в кармане холодный самородок и ощущал внутри себя тугие разнородные волны. В какой-то момент целитель уже готов был выбросить проклятое золото прочь, чтобы не мучиться, не болеть сердцем, не думать, что будет дальше, а чего не будет. В конце концов, ведь мог же он, падая, упереться рукой пятью сантиметрами дальше. Или ближе. И все! И не было бы раздумий, разговоров, бесед с совестью, лишних потуг и каверзных порывов. А может, размышлял Хирург, это еще одно страшное испытание?
«Господи! – взмолился лагерный лекарь. – Чем я так провинился перед Тобой? За чьи грехи я плачу? Ну не вижу я за собой ничего такого, что могло бы опорочить меня в Твоих глазах. Разве не помогал я страждущим или, может, оскорблял, предавал кого-либо? Зачем Ты сунул мне в руку кусок этого дерьма, который и выбросить невозможно, потому что в нем – свобода, и держать при себе гнусно, так как он пахнет ядом и смертью? Зачем?»
А впереди, разбивая метель, широко шагал Боцман и весело, с хрипотцой, орал:
– Товарищ, мы едем далеко, подальше от родной земли…
И странно, от этого хмельного, хриплого пения Боцмана ледяные колючки, проросшие в душе Хирурга, таяли, вяли, превращаясь в некие цветы, обволакивающие теплом и покоем. Злость на все неслучайные совпадения стихала, и Хирург уже трогал минеральное золото в кармане без лишнего напряжения, оставив судьбу этого вредоносного куска до своего определенного часа. Хирургу даже показалось, что камень обладает собственным сердцем, и сердце это начинало все больше теплеть.
Хирург на ходу достал самородок и вгляделся в его очертания. С одного бока природа изваяла минерал в виде кроткой овцы, и лекарь улыбнулся – надо же, золотое руно. Противоположная сторона была вылитой львицей.
Такое неожиданное сочетание снова повергло Хирурга в некие мистические размышления:
«Умно ли было со стороны всевозможных стихий поселить рядом в одном золотом ломте столь разнородных по происхождению животных? По какой причине произошла такая совместимость? Не то львица взялась охранять беззащитную овцу, не то кудрявый овен какой-то чудодейственной овечьей мудростью сразил свирепую львицу до степени добровольной покорности. Таким образом слились они вместе нос к носу в одном камне и так застыли на вечные времена».
Выходило, что золотой слиток изображал тот самый сказочный рай всеобщего, увы, несбыточного теперь единства, какой изначально прочитывался в Великой Книге. Выходило так же, что затея с походом к товарищу, в прошлом, бандеровцу-Богдану, была отнюдь не случайной. Хирург вообще не признавал случайностей. Он полагал, что всё в мире имеет свои закономерности, свои причины, и потому ничего случайного быть просто не может.
Вот катились они в автобусе и повстречали пьющую, героическую в прошлом партизанку, проживающую под опекой участкового Цемашко. И вдруг эта боевая старушка превратилась в юное, прекрасное существо из прошлого, которое совсем недавно Хирург созерцал, находясь в космическом путешествии. Случайно? Конечно, нет. Целитель понимал, что в этой неслучайности сокрыт определенный, глубинный смысл.
Или, к примеру, просочилась в автобус очаровательная Люси, пешая бахаичка из Канады. И вот неожиданно привнесённые ею идеи единства всего живущего отлились и застыли неким символом в золотом самородке.
Явь, сотканная из метели, стрельчатого леса и заснеженной дороги, обернулась бродячим медведем, повергших всех на землю, да так, что Хирург упал покореженной своей рукой на этот самый золотой, острый камень.
«Всё происшедшее, – размышлял целитель, – конечно, было не случайно. Всё это было рассчитано, выверено до одного сантиметра, до широко мелькнувшего видения моря ли, сопки, до внезапно скользнувшей новой мысли, до взлёта чайки или лесного чуждого крика».
Что делать с самородком он не знал, несмотря на все радужные перспективы Боцмана. Однако камень странным образом сделался для него чем-то вроде любимой собаки, которая, тем не менее, тихо грызла его совесть, как старую кость, и в то же время нежно лизала душу и воображение.
Боцман, покончив с песенной повестью о печальной доле морского кочегара, вышел затем на широкий берег Байкала, где разгуливал буйный ветер «Баргузин». Дальше, опять же в хриплой песенной форме, старый моряк доложил, что «тот, кто рождён был у моря, тот полюбил навсегда белые мачты на рейде, в дымке морской города…». Какой должна была прогреметь следующая морелюбивая ария, слушатели узнать не успели, потому что Борис, шедший впереди всех, вдруг остановился и громко, видимо, от внезапного испуга выкрикнул: «Медведь!»
Тот вышел с левой стороны просеки, примерно оттуда, куда и зашел, и прорисовался среди поредевшей теперь метели отчетливо и недалеко.
Накликал-таки Боцман зверя своими разудалыми песнями.
Медведь шел угрюмо и спокойно, словно зная, что сила на его стороне. Уверенность лесного хозяина была очевидна: он был мускулист, собран и набирал шаг в направлении растерявшихся людей.
Все одновременно почувствовали оцепенение и тяжесть в ногах. Хирург ощутил дрожь в коленях, но совладать с собой не мог, так как хорошо знал, что представляет собой дикий шатун.
Медведь двигался к вольной бригаде со своими дремучими, недвусмысленными планами, невзирая ни на погодные условия, ни на праздник сенокоса, ни на что-либо другое. Шатун, испытывая страшный голод, желал мяса и крови. Однако никто из сенокосчиков не хотел делиться ни тем, ни другим. Первое оцепенение прошло, и Боцман четко скомандовал:
– Все к лесу! Быстро! На просеке нам с ним не справиться. Боря давай рогатину. Гегелю и Хирургу – колья.
И уже на бегу моряк сообщал дальнейший план боевых действий.
– Когда он поднимется на задние лапы, я возьму его на рогатину. Хирург с Гегелем воткнут с двух сторон колья и тогда, Боря, ты самый резкий, ты нырнешь под него и вспорешь ему ножом брюхо снизу доверху. Ты, Михайло, зайдешь сзади и, что будет силы, разнесешь топором череп. Вот и весь план. Иначе он всех нас порвет в куски.
Выскочили на опушку леса, и Боцман, тяжело дыша, сказал:
– Все. Баста. Биться будем здесь. – Он накрепко перехватил рогатину громадными своими ручищами и стал ждать зверя.
Медведь приближался легкой рысью.
– Я не смогу, – бледнея, объявил Борис.
– Что не сможешь? – холодея, спросил запыхавшийся Хирург.
– Нырнуть под медведя не смогу. Боюсь, ребята. Не хочу врать. Боюсь и всё.
– Мурло ты, – прохрипел Боцман. – Боксер недобитый.
– Я нырну, – сказал твердо Мишка. – Пусть Борька сзади с топором.
– Сзади-то не убоишься? – ехидно уколол Гегель.
– Ты-то уж молчи, херувим несчастный, – огрызнулся Борис. – Ладно, ребята. Я нырну. Это – так… минутная слабость. Всё будет по плану Боцмана. Он верно рассчитал.
– Ну смотри, – крикнул Боцман. – Сдрейфишь, тебя же первого закопаем.
Вся боевая рать с надлежащим оружием спряталась за спиной Боцмана, а вернее – за сосной, у которой, как Дмитрий Донской, намертво встал бесстрашный моряк.
Наблюдая за тем, что живая пища теперь никуда не разбегается, лесной великан замедлил ход, только глаза его стали как бы мельче и злее.
Мужской отряд напрягся в ожидании смертоносного сражения, которое для каждого могло закончиться трагически. Всем известно, что медведь – свирепый, сильный и ловкий хищник, и справиться с ним очень даже не просто. По отдельности бойцы имели натруженные за лето от кос, пил, молотков и топоров деревянные ладони и железные пальцы, способные гнуть гвозди, но сейчас всякий испытывал некую грустную жалость по всей, может быть, напрасной или непрожитой жизни, словно смотрелся в разбитое зеркало. Отступать было нельзя, медведь покачивался на тяжелых лапах уже в десяти шагах.
– К бою! – как-то по-пиратски скомандовал Боцман, будто собирался брать приближавшееся судно на абордаж.
Пройдя пару шагов, шатун встал на задние лапы, поднял передние и, как огромный мохнатый человек, со свирепым хрипом пошел на Боцмана.
Тот отважно принял его на рогатину, уперев двухконечную вилку прямо в шею зверю. Медведь взревел и передними лапами попытался сломать боевое оружие Боцмана. Рогатина затрещала, но так как была изготовлена из свежего дерева, не переломилась, хотя Боцману потребовалось немало усилий, чтобы удержать царя Колымской тайги в том же положении.
Эта первая боевая атака добавила медведю ярости, а моряку – злости и отваги. В тот момент он даже забыл обо всех остальных и готов был сражаться с ревущем зверем один на один. Бороться с ним и задушить собственными мощными руками, которыми когда-то в порту переносил пятипудовые мешки, словно кульки с конфетами.
– Ах ты, зелень подкильная! Медуза ржавая, – объяснял Боцман зверюге его истинный облик и шел на него, тесня ближе к дереву, за которым уже затаился с топором и ждал своей боевой секунды Мишка.
Оценив некоторое превосходство ситуации, словно два брата, выскочили из-за спины Боцмана Гегель с Хирургом и, соответственно плану командующего сражением, кольнули разом с обеих сторон медведя острыми пиками. Вот это, как потом понял Боцман, было его тактической ошибкой. Особого вреда, а тем более ранения, ни Гегель, ни Хирург медведю не причинили, лишь раздразнили зверя до бешенства. Он рванулся в сторону кроткого и неуклюжего евангелиста, достал того лапой, глубоко разодрал щеку и оторвал пол-уха.
Боцману стоило невероятных усилий, чтобы удержать медведя и снова поднять его на задние лапы. Зверь почуял кровь, слюна пеной вздулась у него вокруг рта. От него несло потом и псиной. Медведь попытался еще раз сломать рогатину, и та хрустнула сильнее, чем в первый раз. Но в этот момент Борис, словно кошка, нырнул под древко рогатины, под лапы шатуна, в доли секунды вспорол ему брюхо снизу до ребер и в следующую секунду кубарем вылетел прочь. Медведь взревел так неистово и дико, что даже у пострадавшего Гегеля содрогнулась какая-то внутренняя жила, напрямую соединенная с сердцем и душой. Гегель прижимал рукой окровавленное ухо и с ужасом взирал, как шатун обеими лапами схватился за живот, пытаясь соединить две рассеченные части. В этот роковой момент, затаенный в засаде, Мишка нанес смертельно раненому животному сильный удар топором сзади по голове.
Шатун медленно, будто в полусне, стал поворачиваться к Михаилу и вяло поднял лапу для мщения. Но Михаил, несмотря на гуманное образование, вторым ударом совершил медведю безжалостную, сокрушительную пробоину прямо в виске.
Животное издало жалобный крик, очень похожий на детский, и замертво рухнуло на землю, оголив пожелтевшие от возраста зубы. Стеклянные глаза его быстро заносило снегом.
Гегель отошел в сторонку, присел на кочку и зарыдал навзрыд горячими слезами, катившимися по окровавленным щекам на шею, которая содрогалась от внутренних всхлипов. Он плакал не от боли разорванного уха, а страдал оттого, что в первый раз пришлось участвовать в самом откровенном, жестоком, немилосердном и беспощадном убийстве. И это ему, Гегелю, то есть, Василию Андреевичу Панкову, который с детства обожал всякую козявку, бабочку и птицу и ненавидел отца, когда тот, случалось, рубил курам головы.
Слава богу, отец вовремя понял ребёнка и стал поручать убиение домашней скотины шурину, проживавшему на другом конце деревни, так, чтобы сын ничего об этом не знал.
Сам отец был человеком набожным, регулярно посещал церковь, шествуя туда вместе с женой и маленьким Васей, за пять километров, в любую погоду Василий хорошо помнил, как однажды зимой, в далеком детстве, на пути из церкви их всех троих, отца, мать и его самого, встретила стая волков. Тогда отец приказал встать на колени и молиться, не обращая внимания на лютых зверей. И странное дело, волки расселись вокруг и словно бы слушали и приобщались к общей молитве, а затем отправились восвояси, ничуть не тронув богомольцев.
Однако кроме десяти библейских заповедей да нескольких молитв отец ничего не знал, и в глубину богословия проникать умом не пытался, считая это дело слишком мудреным для личного разума. Есть Бог, есть корни, молитвы, посты и праздники. А что сверх того, то для избранных: монахов, священников, святых и прочего божьего народа. Вот почему Гегель и получился Гегелем, знающим ровно столько, сколько знал родной батька.
Василий Андреевич понимал, что есть-существует некий огромный, милосердный, но и карающий Разум, то есть – Бог, вместилище всей взаимной природной любви. Однако это всемирное чудо Гегель понимал так: имеется на свете основная глубокая середка, как бы навроде женщины, проникая в которую испытываешь безумие в виде общего восторга. И самое замечательное, что в ответ тебе рождается и дается взаимообразная любовь, не имеющая определения на людском языке.
Такую глубинную «середку» мыслитель видел во всем: в цветке, дереве, человеке, сверкнувшем олене, в белой звезде среди голубого раннего неба, в луне, солнце и во многом другом, что, в целом, он называл Богом, тепло уважая Его за то, что Он есть, что Он разлит во всем, что Он является той самой глубинной «середкой», куда можно безоглядно провалиться вместе со всей своей наличной любовью к миру.
Потому сейчас, когда убитый насмерть шатун валялся на снегу с распахнутым настежь брюхом, а вокруг него в радиусе полуметра снег протаял от теплой медвежьей крови, да и все бойцы, сидевшие молча кто где, оказались заляпанными темными, свекольного цвета пятнами, Гегель не смог по-мужски удержать душевного страдания.
Боцман курил, разглядывая содранные в бою ладони и водворяя съехавшую отдельную кожу на прежние места.
Хирург достал из-за отворота шапки припасенную на все случаи жизни иголку с ниткой, окунул ее в бутылку со спиртным, из которой Боцман промывал ему пораненную о золото руку, подошел к Гегелю и погладил его в утешение, как слабого, испуганного ребенка по голове. Зная втайне, что тем самым он восстанавливает в тоскующем человеке энергетическое равновесие, а стало быть, сообщает спокойствие горюющим нервам. Действительно, от действий целителя Василий Андреевич Гегель утих и перестал содрогаться горлом и телом. Тогда Хирург, опять же как бы в утешение, заставил проповедника выпить целый стакан сорокаградусной жидкости. Дальше лекарь приказал Боцману держать пострадавшего, пьянеющего на глазах Гегеля за тело и голову, чтобы тот не дергался и не производил никаких вибраций. И со словами: «Терпи, казак» быстро пришил ему, как оторвавшийся ворот, кусок болтавшегося по воздуху уха.
Операция была содеяна быстро, умело и четко, так что опьяневший Гегель ни понять, ни ощутить произошедшее просто не успел. Три глубоких царапины на щеке проповедника Хирург, не изменяя традиционного лечения, промокнул тампоном, смоченным лечебной брусничной водкой.
Оздоровительные манипуляции выполнялись Хирургом настолько виртуозно, что православный адепт закусывал во время операций бутербродом с икрой, впрок заготовленной в пору нереста горбуши, взирал мокрыми глазами на узорчатые метельные миражи, причудливо самоткущиеся над черным лесом и теплел сердцем. Его Господь снова возвращался к нему.
Когда Хирург в окончание медицинских действий осторожно обрезал лишнюю нитку, неожиданно над просекой появилось мутное от слабой метели багряное солнце и ободряюще глянуло на воинов. Гегель, наконец, улыбнулся. Жизнь продолжалась.
К этому времени Борис с гуманистом-Мишкой отняли у медведя ненужные ему теперь лучшие съедобные куски. Получился целый мешок дополнительного деликатесного провианта. Остальное оставили волкам, лисам да росомахам. Эти тоже, небось, не откажутся от свежей медвежатины.
Хирург обнаружил так же израненные руки Боцмана и заставил вытянуть их горизонтально. Однообразно, как и Гегелю, промыл их брусничной настойкой, а затем исключительно посредством личного воображения спаял лопнувшие куски ладоней. Через десять минут Боцман к огромному собственному изумлению смог спокойно и безболезненно сжимать и разжимать кулаки. Моряк думал, что дело с болячками затянется не меньше, чем на месяц. Во всяком случае, в течение этого месяца за весла он сесть не смог бы. А сейчас Боцман уже трудно различал, где, в каком месте у него съехала на ладонях кожа и обнажилось красное, горевшее огнем, мясо.
– Ты, Хирург, знаешь – кто! – восхитился Боцман. – Паразит ты и больше никто, – определил друга старый моряк. – Вот сейчас попразднуем у Богдана, и лети в свой Питер. Или прямо в Москву. К чертовой матери. Что ты болтаешься здесь, как пес? Ты чудеса творишь! Тебе среди людей быть надо. Найдешь товарищей, учеников, семью… Все будет нормально. А тут что? Мишка правильно сказал: «Все мы псы бродячие. Но самое интересное, Хирург, нам это нравится. Пусть мы порой холодные, голодные, битые, израненные, зато мы – ветер, шквал и живем одной свободной волей. Куда хотим – туда летим. Потому что мы – стая бродячих псов. Все равно что уток стая. Нас отстреливают, ловят, изводят, а мы снова возникаем. Не тут, так в другом месте. Как щетина на морде».
– Врешь ты все, – сказал Борис, завязывая мешок с медвежатиной. – Псы – это псы. А люди – это люди. Вот ты, Боцман, больше всего на свете мечтаешь снова стать боцманом, а не болтаться тут холодным и голодным. Я, честно говоря, хотел бы строить самолеты. Или даже летать. Получать хорошие бабки и жить как человек. Мишка мечтает снова залезть за университетскую парту. Как ни крути. Про Гегеля, правда, ничего не могу сказать. Может, ему и в самом деле на роду написано бродячее житье. В таком случае Василию тоже учиться надо, потому что у него опилки в голове, а теперь еще при оторванном ухе. Он толком-то не знает, чего от Луки, а чего от Матфея и чем отличается грех от прегрешения. Что он людям может принести без знаний? А ты, Боцман, врешь, как пацан, себе и другим. Да, сейчас мы псы. Но никто из нас не желает быть псом до конца. Что ты, Боцман, глаза опустил, как девушка? Или я неверно говорю?
Наступило общее молчание. От слов Бориса прежняя жизнь путешественников стала медленно тонуть, словно подбитый корабль. И наблюдая еще недавно живое, а нынче тонущее судно, на коем находилась вся горемычная команда, «псы» пригорюнились, хотя особых причин для печали как будто не было.
Суровая битва с медведем окончилась сокрушительной победой, но радости не было ни у кого.
– Пошли отсюда, – сказал Хирург, глядя на распластанный труп зверя, уже хорошо припорошенный снежным покрывалом – зимней могилой – до самой весны. Могилу, конечно, разроют, разгребут голодные обитатели тайги, но это уже будет их дело.
– Давайте опустим по глотку за упокой. Живое существо все-таки, – сказал Мишка. – Что-то муторно на душе. Будто дурное предчувствие печет. А с чего бы? Вроде, поводов не предвидится. Зверюгу сразили. Каждый вел себя достойно. С чего, казалось бы, в хандру впадать. Попразднуем и разлетимся в разные стороны. У каждого свои планы. Своя дорога. Главное, не забывать друг друга. Как-никак, хлебнули немало. Авось, когда-нибудь свидимся.
Помянули.
И снова тронулись в путь, прихватив теперь, как первую необходимость, рогатину и колья. Было даже удобней: на палки подвесили сзади мешки с рыбой, медвежатиной и спиртным. Нести их таким образом оказалось гораздо легче.
Гегеля освободили от всякой ноши, так как его после операции впору самого нести было. Он со своим пришитым ухом бесстрашно нырял вниз головой с каждой горбатой кочки. Проповедника, слегка матерясь, поднимали, ставили на ноги, но он, видимо, утомившись в битве, потеряв немало личной крови и окончательно опьянев, снова выбирал кочку повыше и с нее штопором входил в жижу болота.
– Мы так до завтра не доберемся, – высказал Мишка Хирургу. – Что с ним делать?
– Может, его к двум палкам привязать, – предложил Борис. – И понесем учителя на плечах. Как фараона. Не то он себе самостоятельно еще одно ухо оторвет.
Хирург развязал свой рюкзак, вытащил какой-то целебный пакетик, какие самолично изготавливал, сохраняя в них собранные за лето корешки, травы, кору деревьев, толченые сосновые иголки, измельченные шишки, сушеные ягоды, чей-то помет и бог знает, что еще. Затем он заставил Гегеля проглотить содержимое пакета, зажевать этот порошок снегом и немного посидеть на павшем бревне. Сидя, философ пошатался минут пять, а затем, что молодой олень, рванул в кусты. Там он издал неприличный звук и вздох облегчения.
– Дрыщет, – дал заключение Боцман.
Потом проповедника рвало до бледности лица. Все это время товарищи верующего терпеливо курили горький питерский «Беломор», сочувствуя пострадавшему Христову воину.
Наконец, Гегель заправил выходной пиджак обратно в ватные штаны, застегнул верхнюю фуфайку, снова пожевал свежего снега и вышел из укрытия совершенно трезвый.
– Ну вот, – удовлетворился Хирург. – Теперь похож на человека. Я же тебе говорил: «Духовным лицам пить вредно».
– Вредно, – согласился позеленевший Гегель. – Но иногда хочется.
– Это – да, – солидарно констатировал Борис.
До конца болотистой, кочковатой дороги никаких событий не произошло, не считая того, что Гегель, невзирая на трезвое состояние, сумел снова провалиться по пояс в какую-то яму и снова весь боевой отряд, дружно и цветасто матерясь, вытаскивал страдальца.
Боцман сподобился выдать измотанному вконец глашатаю свои собственные запасные портянки.
Гегель переоделся, с трудом встал на ноги и неожиданно взмолился:
– Оставьте меня, братья. Не могу я шествовать далее. Уморился. Покажите, куда двигаться. Я посижу, помолюсь и приду.
– Ну-ка, поворотись ко мне спиною, путник, – приказал Гегелю Хирург.
Василий покорился.
Целитель поднял руки к небу, напитался горячей силой, а затем движением рук сверху вниз, вдоль позвоночника, наполнил тело философа резервной мощью и укрепил в нём власть духа. Хирург проделал это действие ещё несколько раз, пока не ощутил лёгкое покалывание в пальцах и осознал, что необходимую энергию Гегель приобрёл. Тогда Хирург намотал на свои искалеченные руки всю зловредную накопившуюся «грязь», которая всосалась в кровь и мышцы теософа, не давая ему покорять мировые пространства. Отняв у богоносца отрицательное отягощение, Хирург выбросил его прочь, вдаль. Сполоснув руки для очищения в болотной воде, как учил его тибетский странник, Хирург велел Мишке повесить на Гегеля пятидесятикилограммовый мешок с икрой и рыбой.
– Теперь он у нас на финише первым будет, – заверил целитель и помог взгромоздить на философа тяжелый рюкзак.
И вот произошло очередное чудодействие, хотя к тому уже все стали привыкать. Богопослушный Гегель, ставший вследствие отросших за лето усов и бородки до смешного похожим на Ленина в сибирской ссылке, пустился вперед так, что остальные едва поспевали за проповедником, неповторимо походившим на строгого, но справедливого вождя пролетариата.
В конце просеки самый резвый и крепкий Борис, весь мокрый, крикнул Гегелю, ощущая, что явно проигрывает дистанцию:
– Эй ты, лось! Стой! Пусть остальные подтянутся. Перец, что ли, Хирург тебе в зад воткнул?
Богослов остановился. Остальные находились на расстоянии одной папиросы: пока они подтягивались, Борис успел её выкурить.
Гегель, напоминавший мудрого вождя мирового пролетариата, стоял молча и глотал метельный снег. Табак он отрицал.
Словно атомный ледокол, пыхтя, причалил к стоянке Боцман.
– Тебя из церкви выгонят, если будешь так гонять. Как моторный снегоход стал.
– Хирург всю твою личность прочистил, так ты и обрадовался, – добавил подоспевший Мишка. – Проповеднику подобает вести себя чинно, благородно, степенно. А ты что вытворяешь? Тайга – не стадион. Тут надо ходить рассудительно.
Лицо у Мишки было жарким – хоть прикуривай.
Когда подоспел Хирург, от него валил пар, что от рабочей лошади. Он осторожно снял рюкзак и, отдышавшись, объявил Гегелю:
– Мы на тебя, богомолец, скинем сейчас ещё пару мешков. Вот тогда посмотрим, каким ты станешь чемпионом.
– Сам не понимаю, – извинился Гегель и сдвинул шапку на затылок, обнажив мокрый лоб и зашитое ухо. – Какая-то лёгкая сила понесла меня – остановиться не мог.
– Я из-за тебя, шального, чуть было весь наш весёлый запас не расколотил, когда упал на бегу между кочек, – запыхавшись, упрекнул Гегеля Хирург. – Ты зачем поскакал, будто кенгуру? Некрасиво так, Вася. Господь чему учит? Он учит помнить, любить и заботиться о любом и каждом. А ты, Вася, забыл все господние заповеди и помчался, как литерный поезд. Из-за тебя, понимаешь, товарищи твои чуть было лёгкие не порвали. Может, это лечение моё имеет такое реактивное свойство? Но не думаю.
– Виноват, – осознал Гегель. – Честное слово, не знаю, что приключилось. С чего меня так потащило. Будто бы снова голос был.
– Голос – это хорошо, – одобрил Хирург. – Только ты, Вася, всё равно не забывай, что не один. Шествуй плавно, иначе тебе может выйти какое-нибудь наказание. К примеру, убежал бы так, что тебя и не видно, а тут следующий шатун навстречу. Вот он бы обрадовался. Ты такой шустрый, живой. Медведь тебя и проглотил бы в одну секунду. Мы бы только косточками твоими полюбовались. Так что, Вася, помолись и выпроси прощения. Иначе, я тебе напоминаю, бедой какой-нибудь тебя свыше покарают, а мы и помочь не успеем.
Гегель сел на пенек и глобально, по-ленински, задумался.
Перекурили и снова двинулись в путь. Стало смеркаться, но идти было уже недалеко.
Проповедник теперь плёлся позади всех, осторожно пропуская под ногами болотные кочки, разговаривал с Создателем, винясь и сокрушаясь.
Хирург шёл впереди, потому что по окончании просеки он один мог разглядеть заваленную снегом, едва различимую тропинку Валов помнил, как однажды ночью по этой же тропе они шли с Богданом и целый час не могли попасть к нему домой, хотя были буквально в двух шагах.
Дело было летом. Стояла жара. Тучи гнуса висели над тайгой. Лишь с заходом солнца, когда мошкара оседала в зелени ночевать, можно было вздохнуть свободно.
В том году сенокос определили относительно недалеко от Богданова дома, конечно, по таёжным меркам. Как-то ненастье оставило всех без работы на несколько дней. Богдан взял ружьё и ушёл в тайгу. Вернулся через два дня с мешком лосятины. Вот тогда и отправился Хирург вместе с Богданом к нему домой – мясо доставить.
К вечеру из-за синих туч вынырнуло умытое, румяное солнце, но вскоре малиновый овал его скрылся за вершиной черной сопки.
Они вышли на тропу и остановились. Дальше идти было невозможно. Сменившая солнце огненно-золотая, полная луна уселась на верхушках деревьев и стала слепить путников, будто мартеновское жерло.
Ровно час мучились Богдан с Хирургом, не в силах нащупать ногами тропу. То и дело сбивались, проваливались в золотые чащи, снова ощупью искали тропинку и слепли, слепли от безжалостной золотой луны.
Тяжелые, мокрые мешки с лосятиной промочили одежду, мешки прилипали к спине, и казалось – какой-то злой дух в золотом плаще витает над ними, хохочет и сталкивает с тропы.
Хирург диагностировал это явление и понял, что над ними летает загубленная лосиная душа. Он сотворил молитву и попросил у Бога прощения. Тогда луна сдвинулась с места. Они с Богданом обернулись и увидели дом.
…Вскоре возникла большая поляна с тремя аккуратными и тоже завьюженными стогами сена для имевшихся у Богдана пары лошадей и коровы Нюшки. В конце поляны, за которой, не успев еще замерзнуть, шумела речка, приютились, как родные в бедовое время, деревянная изба, срубленная Богданом в послевоенную опальную пору, да три такие же старые деревянные пристройки – амбар и два сарая.
Издали пахнуло сеном, навозом и уютным сельским теплом.
– Вот и пришли, – сказал Хирург.
Тут же к путникам понеслась свора Богдановских собак, оглашая тайгу разноголосым лаем. Но Хирурга они знали и, подлетев вплотную, завиляли хвостами. Целитель развязал мешок с медвежатиной и, отрезав каждому псу по большому куску, угостил «Лаек» к их общему удовольствию.
Теперь они дружелюбно, размахивая хвостами, провожали странников до самой избы, на пороге которой их уже поджидал хозяин.
Богдан был несуетливым, крепко сбитым стариком с грустными, как у собаки, добрыми глазами. Он стоял на крыльце в расстегнутом овчинном полушубке, мохнатой собачьей шапке и улыбался во все свои пушистые, седые усы.
Когда-то стоявший на пороге хозяин был высоким статным красавцем с соломенными волосами. Была и красуля-невеста, звонкоголосая, тонкая, как лоза, чернобровая Олеся. Война порушила всё, и покатился Богдан Ковач на Колыму, где и познакомился с Хирургом, выкапывая большую яму для умерших заключенных. Были голод, холод, общая для всех горка на выживание. Они вскарабкались. И с тех пор надолго не расставались.
Хирург каждый год непременно навещал лагерного друга. Богдан и сам бы приезжал к целителю, который как-то спас его от верной гибели. Но отыскать Валова было почти невозможно. Где его искать? Одно слово – лист на ветру. Попробуй, найди.
Друзья обнялись, а лайки, пятеро лохматых замечательных псов, успокоено расселись вокруг крыльца наблюдать встречу старых товарищей.
– Проходите в хату, – пригласил Богдан после короткого знакомства. – Ты в этом году задержался, Дима. Жду, жду, думаю – когда появишься. Заскучал. Знаешь, Нина умерла. Год уже. Всё не могу привыкнуть. Летом поработал в рыбсовхозе, и снова один, – рассказывал Богдан, провожая гостей через сени, где стояла мудрая колымская корова.
В горнице хозяин усадил гостей за стол, покрытый чистой, вышитой скатертью, оставшейся, видно, как дорогая память от прежней хозяйки. Ценя эту вещь, Богдан сразу же стащил белое льняное покрывало, обнажив добротно сколоченный, дощатый стол. Гости, похожие на купцов, воротившихся из заморских странствий, восседали на длинных деревянных лавках. Лавки эти да и стол изготавливались Богданом для многочисленных детей, общих семейных сборов, где правили бы мир и любовь. Но и тут судьба обошла его. Детей не получилось, жена умерла. А может быть, ему суждено было терпеть пожизненное наказание в ответ на службу в полиции. Ведь на его глазах расстреливали, вешали, сжигали живьем в собственных хатах односельчан и соседей из ближайших деревень. Наблюдая всё это с дрожащим сердцем, он сделать ничего не мог, потому что любовь его единственная на всю жизнь, Олеся, была дочерью человека, ставшего деревенским старостой, то есть главного полицейского начальника. Однако Олеся погибла во время работы в поле от шальной пули. Богдан стал белый, как лунь. Он решил уйти в партизаны.
Однажды вечером Богдан навестил полицейских «братьев» в одной из деревенских хат и перебил из автомата всех до одного, включая четверых немцев, занимавшихся распитием самогонки. Этой же ночью Богдан ушел к партизанам. Его история впечатлила лесных солдат. На следующий день партизанские разведчики всё подтвердили, но имевшие связь с отрядом нквдэшники бывшему полицейскому не поверили. Вскоре Богдана переправили за линию фронта, а далее – на Колыму, чтобы вместо опасной партизанской деятельности заниматься более полезным трудом строительства Колымской трассы. Правда, здесь люди гибли значительно чаще, чем на отдельных фронтовых участках.
– Значит, в рыбсовхозе трудился? – переспросил Хирург, освобождая рюкзак от множественных бутылок качественной водки. – Когда же ты успел стога поставить?
– При желании, Дима, всё можно успеть. Сам понимаешь. Трудно, конечно, стало: один теперь. Один – не двое.
– Это верно, – вздохнул Боцман, реально оценив, что и он скоро может остаться в единственном числе.
– Давай, хозяин, какой-нибудь чан и сковороду. Мы по пути случайно медведя завалили. Недалеко, кстати, от твоего дома. На просеке, – похвастался Борис. – Так что – вот он, целый мешок мяса. Такого же ни в одном ресторане не подадут.
– Медведя?! Молодцы! – похвалил Богдан. – Моего ж медведя кончили! Он тут всё время вокруг хаты околачивался. Всё до коровы подбирался, гад. Я в него раза два с ружья пулял. Но темно было. Видать, не попал.
– На просеке валяется, – сообщил Мишка. – Сходи завтра, шкуру сними. Мы с ним так навоевались, что уж лень было возиться. Ружья-то, видишь, нету у нас. Пришлось так сражаться. А медведь, сам понимаешь, не коза. Борис – герой у нас. Нырнул под зверя. В одну секунду брюхо вспорол до самого горла.
– Схожу, – обрадовался Богдан. – Шкура, она вещь со всех сторон полезная. А сковородка – тама, за печкой висит.
Борис подбросил в печь дров, нарезал ломтями мясо и уложил куски на жаркую чугунную сковороду.
Достали и другие припасы из мешка: икру, рыбу Богдан добавил вяленой оленины, брусничного морса и запотевшую бутыль свежего молока.
– Вот это да! – восхитился Борис. – Сколько ж мы натурального молочка не пили! Верно, Гегель? Теперь дуй на здоровье для излечения ран.
Стол вышел на славу. С настоящим хлебом, который Богдан умел искусно выпекать лично сам.
Рюмок в таких колымских жилищах не имелось. Поэтому все выпили по полстакана за прошедшие радостные события: победу над сеном, медведем, благополучную дорогу и за удачную рыбную страду Богдана.
По второй опрокинули за здоровье и будущее полное счастье, хотя такового ни у кого, похоже, не предвиделось.
Закуска была отменная, и проголодавшиеся в пути и в бою пешие сенокосчики черпали икру из огромной миски столовыми ложками и рвали зубами Богданову оленину, как лютые звери.
– Поглядели бы на нас сейчас с очереди в магазине на поселке – слюной подавились бы, – сообщил Богдан. – Тама, окромя хозяйского мыла, прошлогодней камбалы и ржавой селедки, ничего нема.
Поспела медвежатина. Выпили, не чокаясь, по предложению Богдана, за всех невинно сгинувших в сталинских лагерях Колымы.
– Вот так, мать бы их… Доперестраивались, – разматывал обиду на демократов Мишка. – Открыли ворота, и поползла из-за бугра всякая шелуха. Правильно. Они с долларами тут короли. Качай, черпай, бери, грабь. Девчонки наши русские, самые красивые в мире, и те стали американские: без зеленой бумажки не подкатишься. Меня из университета за драку выгнали, как Боцмана с корабля. Любил я девчонку одну. До смерти любил. До помрачения какого-то. Два часа не вижу, с ума схожу. Не жил, а летал. Учиться было легко, в радость. Потому что с ней весь мир в радость был.
Все задымили табаком, предчувствуя невеселый поворот радужной Мишкиной повести, иначе не оказался бы он среди «псов» на Колыме.
– Да. А тут начал виться вокруг неё идиот один с соседнего факультета. Такой весь лощенный, из «новых русских». Замшевый пиджак, джинсы за сто баксов и всё такое. В университет на «Форде» своем приезжал. Красивый, гад. Такой красавчик рекламный. Гляжу, Светка моя садится к нему в тот самый поганый «Форд» и исчезают они от меня в гущу Москвы. Вечером прихожу – нет её в общаге. И в одиннадцать нет. И в двенадцать. И в час ночи нет. И в три. Короче, продалась моя Светка за «Форд», за квартиру, за баксы, за шмотки. Правильно. Кто я такой? Школяр в заплатках. А ведь такая любовь была. Думал, до гроба вместе. И так мне продажная столица опротивела – слов нет. Поначалу Москва не городом – мечтой была. Бульвары, музеи, театры, концерты… Все доступно. Все твое. Жизнью моей, сердцем моим Москва была. А сейчас – проститутка. Больше никто. И так мне, ребята, обидно стало – сказать трудно. За то, что со мной случилось, с Москвой, со всей державой!.. Светку спрашиваю: «Ты что, влюбилась? Если влюбилась, я всё пойму и уйду в сторону». – «Нет, Миша, – говорит, – прости меня. Я любила тебя искренне. И теперь люблю. Но мы не будем вместе. Я уже сошлась с другим, потому что выросла в семье с достатком. В нищете жить не хочу. Не буду. А мы с тобой, по сути, нищие. Тебе, – говорит, – предречено нищенство. У тебя это на лбу написано. Я вижу». Хотел я влепить ей тогда… не смог. Слава богу, сдержался. «Шкура ты продажная», – только и сказал.
Боцман налил ещё по глотку водки для подогрева разговора и вдруг осознал, что чья-то боль для него – гостья за дверью, от которой никуда не денешься.
Мишка продолжал.
– Подкараулил я тот белый «форд». Выходит Светкин красавчик, а с ним ещё два «носорога». «Оставь Светку, – прошу. – Ты её просто купил, а я люблю. Не могу без неё жить». – «Уйди, – говорит, – свинья. Раз я купил, значит, она моя». – «Что ж, логично, – отвечаю. – И насчет свиньи ты верно угадал. Родился я в год свиньи. По знаку же – овен. Это такая гремучая смесь, от которой у тебя сначала лопнет переносица, потом челюсть, потом рёбра, потом ещё чего-нибудь. Опыт по этой части у меня богатый: в Чечне я не в спортивных рукопашках бился, а в настоящих – боевых, да и школа спецподготовки за плечами. Поэтому, ребята, – говорю, – вы сейчас примите некоторое страдание, потому что издеваться над собой вам, жирным рожам, я не позволю никогда». Гляжу, один рванул к машине: за монтировкой или ещё зачем. Дожидаться его я, конечно, не стал. Этих двоих уложил рядышком, что родных братьев. У Делона оказалась какая-то слабая внешность, поскольку у него действительно лопнул нос и отскочило сразу четыре зуба. Оглянулся. Где третий с монтировкой? А он, гад, умней всех вышел. Его и в помине уже не было. Но они мне отомстили не физически, а морально. Делон оказался сыном проректора, и уже через день на доске объявлений висел приказ о моём освобождении от дальнейшего обучения. И более того, меня ждала тюремная койка. Однако тут всё уладила Светка. Уговорила их, не знаю, правда, кого именно, не возбуждать уголовки. Словом, дело замяли.
– Мне кажется, Миша, Господь тебя пощадил, – снова пьянея, поразмыслил Гегель.
– Пощадил, – усмехнувшись, согласился Мишка.
– Ну и какое дальше было развитие? – заинтересовался Боцман свежей историей. – Как ты в Магадане-то очутился?
Мишка задумался. Закурил.
Богдан встал, принёс миску и тряпку. Тряпкой обстоятельно смел со стола рыбную чешую, а крупные очистки собрал в алюминиевую посуду, сказав:
– Лупшайки сюда кидайте. Собакам угощение будет.
Все сразу прониклись уважением к Богдану, поняв, что он с младенчества посредством, видимо, строгого материнского воспитания приучен к чистоте и порядку.
В доме ароматно пахло табаком, горячим деревом, тонким сосновым дымом и жареным медведем. Уютное тепло вошло в пустоту напряженного и выстуженного дорогой тело каждого гостя. Путники разомлели и раскраснелись, как после бани. Окна мутно занавесила мягкая метель. Мудрое животное в сенях выразило свою мысль одним долгим, протяжным мычанием, от которого все испытали мгновенное путешествие в дальнее детство с яркой цветочной поляной и стоящей посреди неё мирной солнечной коровой.
Общее счастье порхнуло где-то под потолком, и Гегель произнес от имени лесных братьев:
– Хорошо-то как, Господи! С какого края ни взять – всё милость Твоя кругом.
– После того, как меня отчислили, – решил закончить свою трагедию Еврипид-Мишка, – думаю: что делать? Домой, в Новгород, нельзя: у матери сердце порвётся, отец с ума сойдёт. Так всё удачно складывалось. Я с войны живой вернулся. Раненый, правда, но живой. Пошел слесарем на завод. По вечерам в институт готовился. Наконец поступил в МГУ. Матушка с батей гордые ходили, что два передвижных памятника. А тут – на тебе… Такая история. Вот тогда и решил я рвануть к родному дядьке, в Магадан. Думаю, поплаваю, в море схожу. Я же, в принципе, люблю настоящую мужскую работу, такую, чтобы мышцы трещали. Дядька, хоть и пенсионер, а старый моряк. В Магаданрыбпроме всех знает. Ну шутка ли – всю жизнь морячил. Вот я и нацелился к нему. Прилетаю, а у дяди беда: жена умерла. И он по этому поводу пьет без остановки, как бродяга. Что получается: он со своим горем, я со своим. Из кабаков не вылезаем. Капитал-то дядя нажил, а куда его теперь пристроить? Сын за границей где-то трудится. Вот мы и гуляли. Широко, по-русски, по-купечески, можно сказать. Смотрю, деньги тают, как медузы на песке. Дядю по утрам трясёт, еле стакан ко рту подносит. Да и самому, чувствую, уже опохмеляться нужно. До армии вообще не пил, спортом занимался. Да и в университет поступил, тоже не выпивал. А тут… Ни о какой работе, понятно, не может быть и речи, когда мой моряк до магазина дойти не в состоянии. А в Управление шагать – нужен вид достойный и голова ясная. Не, думаю, пора эту пакость прекращать. Спать не могу: дерусь с «духами» все ночи подряд. Вообще бросил пить, дядю в больницу определил. Думаю, пусть подлечат человека. Через пару недель встанет на ноги. Всё будет нормально. Убрал в квартире, вылизал каждый угол. Бутылок сдал мешка три, деньги-то на исходе. Через пару дней навещаю дядюшку. Меня спрашивают: «Вы кто такой?» – «Как, кто такой, – говорю, – племянник». – «А другие родственники есть?» – «Больше, отвечаю, нет никого». А у самого сердце заныло: уже догадался, в чём дело. Ступайте, говорят, к главврачу, оформляйте документы и забирайте дядю. Он сейчас в морге. Вчера ночью сердце остановилось. Ничего не смогли сделать. Слишком он усердствовал последнее время в борьбе с «зелёным змием». Поник я головой: мне бедолагу и похоронить не на что. Нынче работники ритуальных услуг такие огромные деньги требуют. Наживаются на людском горе, а морды – у каждого с пол-арбуза. Отправился я в Магаданрыбпром к самому главному. Ну тут, что говорить, они молодцы, всю организацию похорон взяли на себя и сделали честь по чести. Потом приглашали на курсы или в школу моряков, не помню, что у них там. Но я отказался.
– Как? – выпучил глаза Боцман. – Море – это знаешь, что такое? Море – это… – Боцман набрал полную грудь воздуха, чтобы выразить полностью всё, что он испытывал к самому великому, на его взгляд, чуду природы. Но не нашёл нужных слов и лишь выдохнул неоплодотворённый мыслью ветер с восхищением и грустью невозвратной мечты.
– Я всё-таки учиться хочу, Боцман, – объяснил свое не морское направление Мишка. – Понимаешь?
Боцман не понимал. Он всё смотрел на Михаила, как на человека, который вот-вот сорвётся в пропасть.
– В самом деле, – продолжал своё откровение Мишка, – на МГУ, что ли, мир клином сошёлся? Пойду в Литературный институт. Буду книжки писать. Я уж напечатал одну повесть в журнале. Значит, Господь крылом тронул. Ну вот. Дальше что? Дальше по рекомендательному письму от начальника Рыбпрома поехал на Олу. Посёлок такой рыбацкий. Поработал лето на рыбе. Немало заработал денег. На дорогу хватит. Правда, застрял на обратном пути на Клепке отметить с друзьями, как водится, окончание сезона. Расположились у старушки-Николаевны. Человек семь нас было. Она рада: ей одиноко одной. После обеда меня живот прихватил. Я – в туалет. А в этот момент знакомый вам всем птеродактиль-участковый подогнал к подъезду автобус с бригадой ментовских орлов с пушками. Как было в тридцатые годы, так и сейчас. Ничего не изменилось. Всех ребят погрузили в машину. Ментам хорошо: и деньги отберут, и план выполнят. Вот так я один и остался. Не догадались они в туалет заглянуть. Так мы с вами и пересеклись. Значит, до аэропорта трасса у всех общая. А там уж кто куда. Так я понимаю наше положение.
– Стало быть, ты у нас писателем будешь? – сказал Хирург, ощущая широкую радость за человека, которого он поначалу принял за рядового алкогольного бича. Теперь же его сознание оттаяло от прежнего заблуждения, и Хирург инициативно разлил новую порцию красного брусничного напитка, чтобы провозгласить тост за установление всеобщего братства, примерно такого, о каком поведала бахаичка-Люси, начавшая новый отсчёт своей жизни от неведомого пока полностью, но мудрого Бахауллы.
– Про нас-то напишешь, писатель? – спросил Борис с какой-то едва ощутимой, тайной издёвкой, особенно в слове «писатель».
Но писатель-Мишка ответил крайне серьёзно и даже немного торжественно, словно это был вопрос экзаменационного билета.
– Обязательно напишу. Но сначала – про Чечню. Про наши страдания, нашу кровь, погибших ребят. Про ложь и грязь политиков… Про всё. Мишка захлебнулся и замолчал. Ему трудно было говорить про это. Мог, наверное, только писать.
– Честно говоря, – всё же начал он снова, – немного страшновато: получится ли из меня настоящий писатель?
– Что так? – спросил Хирург.
– Злой я стал, как зверюга. Сам посуди. Сначала война. Иногда по ночам просыпаюсь – бегу отмывать руки от крови. А что на улицах сегодня делается? Большая часть голодных, остальные – жирные, сытые, так и хочется порвать на части. Писатель, по моим понятиям, должен быть добрым в душе. От Бога должен быть в сути своей. А я – злой. Злой бродячий пёс. Сын своего времени. Боюсь чистых страниц. Они душу требуют, а там горечь одна и злость. Можно ли с этим писать книги? Вот у меня какие мысли.
– В Бога тебе нужно уйти, – оживился похожий на раненого Ленина Гегель. – И возлюбишь всех. И всем простишь. Рука твоя радостью нальётся, а через неё – вся голова и вся оболочка от начала до последних мизинцев.
– Это я понимаю, – согласился Мишка. – Только как связать всё при нынешней жизни?
– Мысли, говоришь, тяжелые? – молвил задумчиво Хирург. – А ты, сынок, не привязывайся к ним. Смотри на них отстранённо, как на облака. Сегодня они хмурые или даже страшные. А завтра глядишь – светлые, лёгкие. Но тебя не трогают ни те, ни другие, потому что ты спокойный, сторонний наблюдатель. Это трудно, однако нужно научиться. Иначе не выжить. Иначе ты будешь только тою же хмурой тучей. Радуйся, что ты можешь видеть и то, и другое, что тебе дано, может быть, описать и то, и другое. Вот тогда в душе твоей воцарится равновесие, и ты сможешь писать, что видишь и чувствуешь своей чистой кровью. Понимаешь? Пойми, будь добр сердцем и поднимись над миром, как поднимались Шекспир, Толстой, Свифт. Сможешь подняться – станешь писателем. Не сможешь – увы… К тому же писатель сродни мудрому учителю, который не навязывает, не обучает, а показывает, как происходит всё в жизни, вдохновляет и зажигает учеников своим предметом, сродни опытному психологу, который не даёт конкретные советы, а подводит человека к самоанализу, к ответственному, самостоятельному выбору в той или иной жизненной ситуации. Сродни художнику, который может передать разноцветье красок окружающей природы и богатую палитру человеческих чувств. И этому всему надо всю жизнь учиться, потому что сама жизнь разнообразна и безгранична, и в этом самосовершенствование писателя. И тогда он будет интересен читателям. А если произведения автора не находят своего отклика в душах читателей, то тогда напрасен весь его труд. Но мне кажется, Миша, ты сможешь определить свой путь.
Писатель-Мишка обнял Хирурга.
– Спасибо тебе, мудрец ты мой дорогой. Спасибо тебе. Я всё понял, – растрогался Мишка, боевой солдат и вдруг зарыдал, как юный мальчик, у которого оборвалась первая любовь.
– Ну, ну, не надо, – взаимно обнял солдата Хирург. – Всё придёт со временем. Всё придёт.
– Зелень ты подкильная! Медуза, – выразил писателю своё отношение Боцман, несмотря на всеобщее Мишке сочувствие. – Чего ты стремишься обратно в Москву. Что там забыл? Чему там научат? Иди на флот, я тебе говорю! В море! В океан! Жить будешь трудно, красиво! Жизнь поймешь! Тогда напишешь. Там – школа. Ясно тебе, морда! Войну прошёл, а сопли распустил. Килька недожаренная.
– Извините, мужики, – опомнился Мишка. – Просто хотелось откупорить душу, а не перед кем. Вот кожура и лопнула.
– Пошли, проветримся, – предложил Борис, чтобы разрядить ситуацию. – Что-то жарко стало.
– В чём пойдёте? – сказал Богдан. – Я все сапоги, все портянки на верхнюю печку засунул, пока вы настольным приготовлением занимались. Вон пара валенок сухих стоит у порога. Можете сходить, побрызгать по очереди.
– Тогда я первый, – кинулся Борис. – Досиделся – аж щёки надуваются.
– Забери объедки собакам, – напутствовал Боцман. – Они ж понимают наш праздник, тоже ждут своё.
Хирург, дотерпев до своей минуты, вышел на крыльцо, ощущая жар тяжёлого войлока валенок. Он бросил лайкам дополнительное питание, которое не успел захватить Борис, и двинулся к лесу, восхищаясь вселенской тишиной тайги, в которой, тем не менее, шла своя особенная жизнь. Грелись где-то у костров усталые геологи, лесорубы, рыскали звери, добывая насущную пищу, сонные деревья устремляли в ночную высь заснеженные ветви, и тихо брёл куда-то ветер, заметая следы, да стряхивая с разлапистых веток лишний снег. Природа Колымы не была уже пугающей, голой, так как приоделась в лёгкую пушистую шубу.
Хирургу было хорошо. Он чувствовал надёжность в кругу друзей и надеялся, что в ближайшие дни плавные крылья авиа перенесут его совсем в другой мир, в другую жизнь, в которой он во что бы то ни стало отыщет своих близких, учеников, коллег, а главное – сына. От этих мыслей в нём самозарождалось и яркой свечой горело счастье. Горело на всю округу, которую Хирург жадно впитывал в себя и размещал посредине памяти, потому что с лёгкой грустью осознавал и слышал, как часы в этом месте планеты отсчитывают последние минуты его Колымской эпопеи. Было ясно, что сюда он вряд ли когда-нибудь вернётся, и душа его, память его, переполненные этим горестным и прекрасным местом Земли, унесут его, это место, навечно в дальние поля забвения и покоя… Но есть ли они для Хирурга, эти поля забвения и покоя? Пока он существует, в нём будет жить память, и от неё никуда не деться. Поэтому Хирург вбирал в себя всё окружающее, словно дышал целебным воздухом.
Оставляя за собой глубокие, ровные следы, Хирург дошёл до края поляны и с удивлением обнаружил пережеванный некогда ледником одинокий гранитный валун, покрытый пушистой снежной шапкой. «Когда и как затащило сюда этого сторожа Богдановской брусники?» – подумал Дмитрий Валов. Он потрогал камень сверху, желая обнаружить его специфическую шероховатость, но вдруг рука его наткнулась под снегом на какой-то железный, хозяйственный инструмент. Хирург зацепил железо кривыми пальцами и достал обыкновенное зубило, каким рубят проволоку, расщепляют трудные поленья или выбивают надписи на жёстких плоскостях. Подчиняясь сильному волнению, зову души, лекарь очистил камень со всех сторон от снега. На одной из сторон, обращенной к дому, неясно прочитывалась пальцами какая-то надпись. Хирург достал спички и выявил содержание. «Гурцало Екатерина Петровна» – гласила надпись. Далее следовали год рождения и год смерти. Гурцало – была фамилия Богдана. Следовательно, дальнейшая эпитафия понятно кем была высечена. «От тут она хотела лежать. Спи спокойно посреди тайги» – лаконично повествовала дальнейшая строчка.
Хирург снял шапку и постоял некоторое время в состоянии печальной пустоты. «Не долечил я тебя, Катюша», – укорил себя лекарь вслух и поймался на том, что он слукавил, ибо долечить жену Богдана было нельзя – так распорядилась судьба. Но об этом знал лишь целитель, и догадывалась сама Катерина.
Хирург собрался было идти в дом, но пальцами правой ноги сквозь войлок валенка почувствовал ещё один небольшой камень. Он нашарил его рукой и поднял с земли. Вероятно, это был скол с гранитного памятника. Обыкновенный, ничем не примечательный кварцит, похожий, тем не менее, размером и даже формой на золотой самородок, отягощавший карман Хирурга. Целитель извлёк кусок золота из шинели и сопоставил находки. Внешне они казались родными братьями. Однако один из них не представлял ровно ничего, тогда как другой был царём геологических чудес земли, драгоценнейшим из металлов.
Хирург ухмыльнулся. Внешнее сходство и внутреннее различие двух камней навело на мысль, что и в мире людей происходят те же процессы: малополезного материала полно, а вот золото – большая редкость.
Он положил бесполезный кварцит в другой карман и зашагал к дому, имея в голове чудную, как ему показалось, новую идею.
Пройдя мимо успокоенной дневным жеванием мудрой коровы, Хирург подвесил в горнице, на прежний гвоздь свою бесценную шинель, воссел на своё место и выставил в центр стола для всеобщего обозрения золотой самородок.
Боцман взглянул на друга, как на полоумного, подозревая, что тот изобрёл некую необычную шутку, не представляя, однако, размеров её опасности.
– Прошу налить! – выпятив по-воробьиному грудь, заказал целитель.
Конец первой части
Часть вторая
– Как вы думаете, что это такое? – произнес Хирург, когда Богдан выполнил его просьбу и налил по сто граммов. – Погляди, хозяин. Ты ведь, кажется, специалист.
Богдан взял в руки драгоценный металл, повертел его, рассматривая на свет, взвесил на ладони и положил на место.
– Трястя его маму знае, – сказал он на своём западноукраинском языке. – Но сдаётся мине, грамм триста пятьдесят чистого золота будет. А може, и больше. Я работал на руднике. Видал самородки, но такие не попадалось, – доложил лесной житель и безразлично черпанул ложкой икры из миски.
Хирург внимательно обозревал присутствующих. Боцман доедал кусок медвежатины. Он, Боцман, напряжённо соображал, какой театр может из всего этого разыграться, а потому неотрывно смотрел на свой стакан. Со стороны было впечатление, что это золото глубоко безразлично для него. Впрочем, так оно было на самом деле.
Богдан жевал хлеб с икрой, уставясь в чёрное окно, и как будто думал про свою умную корову.
Гегель впился в камень зорким ленинским глазом, словно это был не драгоценный металл, а гидра мирового империализма.
Мишка-писатель глядел спокойно и чему-то улыбался, хотя дело выходило серьёзное, и непонятно было, чему тут можно улыбаться.
Борис, сцепив руки, нервно захрустел пальцами, и этот хруст громкими щелчками вспыхивал в наступившей внезапно тишине, будто взрывались мелкие воздушные шарики. Он заворожено приклеился глазами к самородку лягушачьего цвета, и видно было: ничего другого для Бориса сейчас не существует.
Наконец, Борис опомнился, закурил, оглядел товарищей и, насколько возможно, изобразил равнодушие. Но он не был актёром, и маска безучастности ему не удалась.
Хирург остро почувствовал вкус к необычной игре, какой не чурались любители розыгрышей во все времена.
Целитель с едва уловимым прищуром продолжил задуманный спектакль.
– Я предлагаю вам выпить за самое дорогое, чем мы богаты. За нашу свободу! Какой бы она ни была – запрещённой, гонимой, лёгкой, тяжёлой – любой. Вот это… – Хирург поднял самородок кривыми пальцами. – Цепи. Они обвивают, сковывают человека по рукам и ногам так, что он выживает лишь в исключительных случаях. В основном же – сильный, красивый, вольный – он погибает в духовном плане, опьянённый большими деньгами, становиться живым трупом. Погибает душа его. Он движется. Шевелит руками, ногами, но смертельное опьянение не проходит. Мы слишком долго были нищими, чтобы трезво и спокойно смотреть на большой капитал. Стало быть, все эти «новые русские», олигархи, гребущие под себя – трупы. Так выпьем, друзья, за то, что, как я замечаю, нам с вами это не грозит. Выпьем за нашу свободу! А с самородком – решим позже.
Все встали по такому значительному поводу, дружно со стеклянным звоном содвинули стаканы.
Какая-то недобрая тишина провисла над столом. Закусывали и старались не смотреть друг другу в глаза. Каждый провалился в собственные раздумья, в лабиринт безличных соображений о том, что же это на самом деле – свобода. Для чего? Или от чего? А может, во имя чего? И могут ли деньги перерезать ей горло? Если да – то почему?
Хирург резко прервал размышления сенокосчиков.
– Я вот что предлагаю, мужики, – сказал он. – Сейчас мы дружно оденемся, обувка, думаю, просохла, пройдём на берег речки и солидарно захороним эту дрянь, – указал он на самородок, – в быстрой воде.
Целитель взял золото и ещё раз рассмотрел его с обеих сторон. Лев и овца объединено глянули на него из тысячелетнего далека. Валов добродушно улыбнулся, любя мудрость жизни, и спросил Богдана, решив провести общий опрос относительно драгоценного металла.
– Нужен тебе этот камешек, Богдан?
Богдан вспомнил свою встречу с Хирургом, когда они выполняли землеройную работу по устройству общей могилы для тех, кто не сумел выжить вместе с ними, и, крепко ругнувшись, ответил вопросом на вопрос:
– Та на кой хрен оно мине сдалося?
Целитель решил, что первому, кто пожелает владеть драгоценным камнем, он отдаст самородок навечно, и потому продолжил:
– Ты, Боцман, что скажешь?
Моряк уже обиделся на Хирурга с того момента, как только тот начал разыгрывать свою карту, то есть достал для всеобщего обозрения золото. Он-то, Боцман, мечтал, чтобы всё, обнаруженное целителем богатство, принадлежало ему самому. И только ему! Потому что Хирург был для одинокого Боцмана больше, чем друг. Поэтому он бросил на целителя взгляд чужого человека и недовольно произнёс:
– А пошёл ты знаешь – куда?
– Ясно, – догадался Хирург.
– Тебе, Гегель, нужно золото? – попытал богомольца начальник сенокоса.
– Упаси, Господи! – испугался православный таёжник, трижды перекрестился и надел шапку, чтобы следовать к месту торжественного захоронения орудия Сатаны.
– Боря? – спросил Хирург с внутренним напряжением, так как Борис был единственным человеком, в ком целитель сомневался.
– Мне наплевать, – театрально обронил Борис и тут же возненавидел себя за короткую слабость, после которой возврата уже не предвиделось. В руках Хирурга было то, о чём Борис мечтал всю жизнь. Стоило сказать: «Дай мне», и целитель без сомнения отдал бы ему золото, тем более учитывая, что Борис, рискуя собой, летом спас Хирургу жизнь. Единственная возможность вихрем пронеслась мимо. Борис с ужасом осознал невозвратность происшедшего и услышал, как громко гремит сердце прямо в висках. Борис люто ненавидел сейчас всё и всех. Фраер. Дешёвый фраер, твердил он себе. Все здесь соврали. Каждый соврал. Или купился, как я. И всё это проделал Хирург. Ложь! Все хотят, чтобы в кармане шелестело. А они сказали – нет. Гады! Этим «нет» они и его заставили сказать: «мне плевать». Конечно, Борису было не плевать. Далеко не наплевать. Твари! Псы! Они будут счастливы объедкам и драным телогрейкам. И ставить себе это в заслугу. Псы бродячие! А всё – Хирург! С его душеспасительным колдовством. Христос хренов! Ненавижу! Вот, чем отплатил он за всё добро. Он заворожил всех своими добродетельными речами. И они со мною вместе превратились в ослов. Тупоголовые кретины! Будьте все прокляты!
– Я? – засмеялся Мишка на очередной вопрос Хирурга. – А чего, я, пожалуй, взял бы.
У Бориса заледенело всё нутро. Он почувствовал, как тупо ноют нервы.
– Взял бы. Чего не взять? Сколько же это денег вышло бы? Трудно и прикинуть. Только я же всё брошу к ногам дуры-Светки. Безумие какое-то. А потом – дармовые деньги… От них одна беда. Это я уж знаю совершенно точно. В лучшем случае их потеряешь. Такие деньги – искушение. Простая проверка – много в тебе тёмной силы или нет. Посему я присоединяюсь к тебе, Хирург, и надеваю фрак, чтобы присутствовать на торжественных похоронах великого драгметалла. Такое в моей жизни вряд ли когда-нибудь ещё будет. Так что – по коням!
– Ещё один Иисус, – тихо процедил Борис. Сознание его опрокинулось под откос и летело, кувыркаясь, вниз без всякого разумного мышления.
Одевались шумно. Толкаясь и гогоча, испытывая ребячий, рисковый восторг.
Борис решил было поначалу не участвовать в идиотской, как он считал, демонстрации, но какая-то немощная надежда проскользнула в искорёженный обидой ум, и Борис заёрзал, не решаясь ни на то, ни на другое.
– Чего ты скользишь по скамейке, как селедка, – укорил его поведение Боцман. – Давай, надевай бушлат. Все уже, не видишь что ли, в готовом виде.
Шли гуськом по занесенной тропинке вслед за Богданом. Снег прекратился, и ночь стояла тихая, чистая, как мечта. Звёзды над головой пахли ёлкой. Боцман снова запел про Чёрное море.
Борис плёлся позади, судорожно изобретая способ, как уговорить Хирурга переменить решение в его пользу. Он не представлял, не мог даже вообразить, что через несколько минут станет очевидцем жуткого зрелища, когда целое состояние полетит в тартарары, в ледяную воду, которая через энное количество лет превратит самородок просто в песок. Большей глупости придумать было нельзя.
И Борис решился. Бог с ними со всеми. Бог с ней, с гордостью. Он переживёт унижение. Хирург не может отказать. Не должен. Просто нужна веская причина, потому что основной момент упущен. Но как Борис ни пытался придумать основание для запроса, с каждым шагом всё яснее ощущал себя каким-то тупым предметом, бесплодным, неспособным к рождению какой-либо простой и гениальной идеи. И, сплюнув от злости, Борис решил: будь, что будет. Скажу, передумал. Самородок мне нужен. И весь разговор. Чего тут мудрить?
Ночь непроглядно и плотно сидела в чаще, но на поляне было лёгкое сияние. Сапоги одноголосо и негромко похрустывали неровным хором.
На берегу от реки стало ещё светлее. Словно путники явились сюда зимним ранним утром.
– Вот здесь мы и произведём захоронение зловредного металла, – торжественно объявил Хирург, остановившись на высоком пригорке над рекой, негромко поющей всё туже однообразную песню.
– «И за борт её бросает!» – проголосил Боцман хриплым, табачным басом, уже успокоившись и махнув рукой на свое кино, в котором он видел Хирурга в белом капитанском кителе, в окружении своей счастливой семьи. Боцман знал о некоторых причудах целителя – пусть делает, что хочет: друга не обсуждают. Хотя, честно говоря, Боцману было жаль такой развязки.
– А ну, погодь кидать ту каменюку, – попридержал Хирурга Богдан. – Момент, сам понимаешь, серьёзный. Я фляжку захватил. Зараз усем по трошку накапаю, – говорил он, наливая из захваченной плоской бутылки в свою алюминиевую кружку. – Чтобы никто не имел огорчения и не превратился из-за этой золотой железяки в какой-нибудь огарок.
Кружка поплыла по кругу.
Боцман, похожий в эту минуту на судовой дизельный агрегат, лихо опрокинул, как в топку, глоток горючего и весело крякнул, навсегда закрепляя своё отрицание бесовского металла.
Хирург выпил неспешно, с почтительным удовольствием оттого, что все проявили к потоплению золота братское единодушие.
– Будь оно проклято, как война, – сопроводил ритуал Мишка и наподобие Боцмана разом уничтожил свою дозу.
– Прости нам грехи наши, – обратился Гегель туда, откуда недавно сыпал снег. – Сказано: пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь. – За сим он перекрестился и сделал несколько глотков, придерживая снизу ленинскую бородку, словно она в тот момент могла отвалиться прочь.
Борис, получив согласно очереди кружку, всем своим нутром почувствовал её, – как раскалённый металл, который обжигает ему не только пальцы, но и душу, сердце, мозг. Он выплеснул содержимое на снег и, глядя Хирургу куда-то в середину туловища, далёким, чужим голосом медленно выдавил из себя, будто из засохшего тюбика:
– Я передумал. Отдай мне золото, Хирург.
В наступившей тишине, омытой лишь шумом реки, Борис снова услышал тугие толчки крови в висках.
– Я знал, что это произойдёт именно с тобой, – помедлив, сказал Хирург. – Честно говоря, даже удивился, когда за столом ты выдал: «Нет. Мне наплевать». Удивился и обрадовался. Подумал, с нами ты понял главное в жизни: ни перед кем и ни перед чем не переламываться, всегда полагаться только на свои вольные крылья, на которых несёт судьба. Даже если тебя убьют, твои крылья останутся с тобой. Вот, например, эта девушка, Бахай. Она что… курсирует пешком по планете за таким же куском золота? Нет, она пьёт из родника Всевышнего и несёт в руке свет Его. И Гегель пьёт из родника и несёт свой свет. А ты хочешь напиться из грязной лужи, от которой почернеют мозги и всё тело покроется струпьями. Знаешь, когда я нашёл самородок, подумал, что всё правильно: всю жизнь я лечил и спасал людей, несмотря на то, что сам был распят. Вот оно, благодарение. Вот вознаграждение за все муки и за все испытания. Но можно ли вот этим куском оплатить то, что я пережил. Нет! Всё золото мира не сможет утолить нашей печали. С другой стороны, всё золото мира сгорит в пепел перед тем Духом, который родился в этой печали, среди нашего горя. Я подумал: нет, этот самородок не мог послать Господь. Значит, камень от Лукавого. А что от Лукавого, не нужно ни мне, ни тебе, ни Боцману, ни Гегелю, никому. Не горюй. Ты молод, здор…
– Хватит! – закричал Борис. – Я сыт вашими проповедями по горло. Исусики несчастные. Какая-то бахаичка – ободранная кошка. Путешествует одна. Свет несёт. Дурь это. Она глупая, но вы-то, мужики, здравые люди и знаете – всё на Земле решает монета. Ну если отпелись, отпились, в штанах мягко и вам уже ничего не нужно, отдайте этот кусок мне! Деньгами не бросаются!
– Вот тут ты не угадал, – сказал Хирург. – Очень даже бросаются. Ты первый и начнёшь. Сдашь самородок и начнешь бросаться. И не просто бросаться станешь, а широко, показушно, у всех на виду Чтоб пыль золотая поднялась и всем глаза выела. Полетят твои деньги направо и налево. На машину, дачу, яхту, сомнительных девочек. Помнишь, как ты мечтал о белом фраке в Рио? Вот оно, Рио! – Хирург достал камень и повертел его перед Борисом. – И ведь не подумаешь ссудить хоть часть какому-нибудь детскому дому. Или слепым инвалидам. Храму, наконец. Ведь так, Боря? Правда? В Рио полетишь? Нет, друг ты мой шальной. Не полетишь ты ни в Рио, ни в Англию с Францией, ни в Канаду, ни в Китай. Дурных денег я тебе не дам. Заработаешь самостоятельно, тогда – куда пожелаешь лети. Жить будешь головой и руками. Хочешь – учись, хочешь – трудись. Найди себя в этой жизни, Боря. Словом, я тебе прописываю здоровый образ жизни и таким образом ставлю на правильный путь. Парень ты крепкий, сильный. Чего тебе мараться о какое-то дерьмо, пусть оно трижды золотое.
– Эх, корова, – добродушно обратился целитель и к Борису, и к одноименному животному, которое, как давно уже заметил Хирург, внимательно наблюдало за ними из темноты неба. – Смотрите!
В следующую секунду камень, добытый Хирургом из кармана морской шинели, провис над бурлящей рекой и, издав хриплый шлепок, скрылся под волной. Теперь трудно сказать, рассчитал ли целитель скрытый накал беседы или нет, только через мгновение с зубастым выкриком «пидор!» Борис выхватил из сапога короткую молнию ножа, и тут же Хирург начал медленно валиться в снег, ощущая огромную тяжесть, словно на него обрушился самосвал.
Лекарь летел, как ему казалось, не меньше века, а корова всё наблюдала за ним со спокойным вниманием. Но Хирург не потерял чистоты сознания. Ему почудилось, будто в то необыкновенно долгое время падения в его слух ворвался непонятный звук, похожий на удар большого камня о воду.
Целитель помнил вспышку ножа, хотя боли не чувствовал. Лишь огромный груз вдавил его в землю настолько, что он вот-вот мог задохнуться. Хирург попробовал пошевелить ногой или рукой и понял, что на нём лежит чьё-то громадное тело. Наконец, сознание его включилось: его привалило к родной, трижды проклятой Колымской земле грузное тело Боцмана. Старый моряк упёрся в лицо Хирурга косматой бородищей и почему-то рычал от смеха, разя наповал густым перегаром.
– Слезай, – шевельнулся Хирург.
– Где там наш убивец? – поинтересовался Боцман, вставая с друга.
«Убивец» вылез на берег метрах в тридцати от места трагедии. То, чего не видел Хирург, слету накрытый Боцманом, было так.
Солдат-Мишка, вооруженным непрестанным военным зрением, в долю секунды обезопасил Хирурга точными боевыми ударами бывшего десантника, после чего крепкий, но неопытный в рукопашках «убивец» плавно улетел в набежавшую волну шумной реки.
Таким образом, была атака со стороны Бориса, была защита и отражение со стороны бойца-писателя-Мишки, было прикрытие Боцманом, который кинулся закрыть собой друга и, наконец, были двое наблюдателей – Богдан и Гегель.
Таёжный проповедник, в ту минуту ещё больше похожий на Ленина, видимо, по аналогии опасения за весь мировой пролетариат, стащил шапку и крестился, хваля Господа за то, что Он удушил-таки гидру злодейства.
Борис вылез из воды и стоял, дрожа, на берегу, не решаясь двинуться ни в какое направление.
– Топай сюда, «дух»! – крикнул ему по старой привычке воинственный десантник, подбрасывая с несколькими переворотами нож Бориса. – Продолжим обучение.
Но «дух» отчего-то никуда не спешил. Он стоял на одном месте, трясся и больше ничего не предпринимал. Похоже, было, что в тот момент у него ни одной мысли не осталось. Борис дрожал, как осиновый лист.
Тогда Хирург сдвинулся с места и пошёл к нему Никто не слышал, что говорил Борису целитель, но видно, то были какие-то необычные слова утешения, проникшие в самое сердце парня, как если бы родной отец унимал сына в горе, потому что назад они шли, обнявшись. Вернее, обнимал Бориса Хирург. Борис очистительно рыдал, никого не стесняясь, а целитель похлопывал его по плечу, приговаривая: «Ну, будет, будет. Всё хорошо».
Так и дошли они до самой избы в сопровождении опустошенных товарищей, молча шествовавших позади. Товарищи понимали, что Хирург в излечении человека применил особый метод, в результате которого очень даже просто мог не вернуться назад. Понимали и не знали, как к этому относиться.
В избе целитель заставил Бориса стащить с себя всю одежду, накрыл выданным без особой охоты Богдановым тулупом и, приказав выпить пол стакана водки, усадил у печи.
– Видишь огонь в щели между конфорками? – спросил Хирург.
Борис удивлённо поднял на него глаза.
– Смотри в одну точку. Представь, что тело твоё ничего не весит, а сам ты – никто, пылинка с крыла бабочки. И ты всё увидишь, и всё поймёшь без всяких слов.
Что понял Борис и куда улетел он, глядя на огонь между конфорками, тоже никто не знал, потому что, когда Хирург достал настоящий самородок и положил его на стол вместо брошенного в реку обычного камня, Боря даже не обернулся.
– Да, – сказал Дмитрий Валов потрясённой публике, – в речку я закинул посредственный минерал. Почем зря Господь не делает ничего. И если послал нам кусок золота, значит, решил наградить поощрением за страдания и тяжкую работу во все наши проклятые годы. Отказываться от этого поощрения – грех. Вот если бы какой человек оторвал от себя, от своей семьи, от детей – мы бы не взяли. Правда, Гегель?
– Упаси, Господи, – испугался Гегель и проверил, на месте ли пришитое ухо.
– Правильно, – одобрил Гегеля Хирург. – С этого человека мы бы не взяли ни шиша. Хотя бы даже за крупную услугу. А вот это – Целитель взял самородок в руку. – Могло валяться на земле ещё сто, тысячу лет без всякого пригляда. Могло вообще быть зарыто в почву навечно какой-нибудь безумной стихией. И никто бы ничего об этом золоте никогда не узнал. Но Ему было угодно толкнуть меня непосредственно на золотой булыжник. Да так, чтоб я даже поранил руку и обратил на это внимание. И я взял камень, словно кто-то сказал: «Возьми!»
– Значит, голос слетел? – ошалело спросил Гегель.
– Слетел, Вася, – подтвердил Хирург задумчиво. – Слетел. А потому, учитывая, что все мы двигались единым отрядом, деньги, вырученные за самородок, поделим по-братски. Что до спектакля, который тут разыгрался в полную силу, то за него – простите. Я его затеял, а каждый сыграл свою роль. Вот и вся комедия.
Мишка вдруг захохотал так громко и так заразительно, что все невольно тоже сначала поплыли в улыбке, а затем сорвались на дружный общий хохот.
– Ну, Хирург! – кричал в восхищении Мишка, хлопая руками по коленям. – Ну, Шекспир! Был бы ты помоложе – я бы тебе фотографию испортил за такие спектакли. При других обстоятельствах неизвестно, чем бы всё это закончилось.
– Ну! Давайте укладываться спать. Мне завтра с утра в совхоз надо сходить, – оповестил гостей Богдан.
Все улеглись. Кроме Бориса. Он, проникнув сквозь конфорочную щель, в жаркую страну огня, плыл на волне странного путешествия в прекрасную даль, не подозревая, что его поводырем, его Вергилием является Хирург. Борис не слышал товарищей и вообще не ощущал себя. Прежние мысли рассеялись, как бродяги-облака, и теперь было лишь чистое небо ума, в котором Борис спокойно наблюдал за своей сутью.
Неделей спустя, в Управление Магаданрыбпрома вошли трое аккуратно подстриженных, тщательно выбритых мужчин в кожаных пальто, белых рубахах и галстуках, украшавших под пальто дорогие костюмы.
У дверей Управления остались двое в таком же обмундировании, что делало их, всех вместе, похожими на банду гангстеров.
Один из оставшихся снаружи был молодым парнем с тёмными усиками над верхней губой. По тому, как смотрел он в чистое, солнечное небо, как с лёгкой улыбкой разглядывал прохожих, видно было, что жизнь для него сейчас безмятежна и прекрасна, а сам он полон надежд и планов. Лёгкий мороз лишь прибавлял ему радости бытия.
Второй был копией вождя мирового пролетариата. Этот «новый» Ленин в кожаном пальто, белой рубахе и модном галстуке задумчиво расхаживал у крыльца Магаданрыбпрома, держа под мышкой облезлый портфель с оторвавшейся ручкой, и что-то начитывал про себя, словно повторял ранее заученное стихотворение или преждевременно готовился к апрельскому выступлению на броневике.
Трое вошедших вовнутрь остановились у двери начальника Управления.
– С Богом, – благословил Хирург Мишку с Боцманом.
– Всё будет нормально, – сказал Мишка, уже соприкасавшийся с начальством по поводу своего дяди.
– Твоими бы устами… – сказал Хирург и подтолкнул посетителей в кабинет.
Когда Богдан с Мишкой скрылись за дверными створками, Хирург закрыл глаза и вызвал к себе начальника Управления на личную беседу.
Какое-то время он внимательно рассматривал незнакомого моряка, работавшего в морской форме при наземном кабинете, а затем нестрого распорядился:
– Давай, дядя, прими Боцмана на флот. Видишь, человек без моря, что дохлая селёдка. Нельзя так.
Потом Хирург открыл глаза и прочитал на стене: «Здесь были матросы Санька и Моня».
Целитель посмотрел в пространство, где сейчас находятся Санька с Моней, и обнаружил их на плавбазе, занимавшихся уборкой палубы.
– Шпана, – обозначил их Хирург. – Какие порядочные люди пишут на стенах? Чтоб это было в последний раз.
Те завертели головами, и вдруг непонятное, беспричинное вроде бы чувство вины заставило Саньку с Моней бросить швабры и устроить перекур.
Прошло ещё немного времени, в течение которого Хирург расхаживал по коридору и, глядя на свои новенькие, сверкающие ботинки, видел, как Боцман, волнуясь, выкладывает начальнику, будто на исповеди, всю свою историю.
«Молодец, – похвалил Хирург. – Скрывать ничего не нужно».
Кроме того, Хирург видел среди своих шагов новый Магадан и поражался переменам, которые притащила на крутом горбу молодая старуха-перестройка.
По городу бродили бездомные люди и собаки. Но теперь до них никому не было дела. Милиция, бдительно следившая ранее за передвижениями бомжей в пространстве пограничной зоны, сейчас, как и многие остальные, думала только о том, как бы исхитриться и вернуться на материк. В магазины люди стали ходить, словно на экскурсию: покупать нечего, а то редкое, что лежало на витринах, больно било по карману, так как зарплата месяцами не выплачивалась всем категориям трудящихся. Выходя из пустых гастрономов, наругавшись на все четыре стороны, народ шествовал мимо вырытых летом, а теперь никому ненужных трубопроводных траншей, в свои жилища, чтобы, обсудив на общей кухне житейские проблемы, попытаться найти выход из лабиринта, который выстроили по всей стране впередсмотрящие на очередном витке российских государственных экспериментов.
Предприятия останавливались. Экономика разрушалась на глазах. Только торговый флот да золотоносная промышленность, несколько ужавшись, стребовали самостоятельности и стали торговать с Западом на валюту.
Всё это, несмотря на отмену милицейского контроля, ввергло Хирурга в горькую печаль, ибо он понял, что священная война блистательной перестройки зацепила не один Магадан, что она ледяным шквалом окатила всю огромную Россию.
Неожиданно открылась дверь побочного кабинета, и из него вышла молодая девушка с ворохом папок. Проходя мимо, она улыбнулась Хирургу и поздоровалась с ним. От этого целитель почувствовал, что красота и оптимизм человеческий не угасают ни при каких обстоятельствах, и ему ужасно захотелось лететь, лететь в Питер. К друзьям, к семье, к сыну.
В этот момент отворилась, наконец, дверь начальника. Из неё выплыли Мишка с Боцманом. У Боцмана же был такой вид, словно он не донёс до места назначения портовый мешок и держит его на плечах. И вдобавок ему вырвали перед этим зуб.
– Ну? – спросил Хирург Боцмана.
– Порядок! – радостно крикнул Мишка и потряс в воздухе боевым кулаком.
– Я тебя не спрашиваю, – сказал целитель. – И так видно, что порядок. – Ну? – повторил он краткий вопрос Боцману.
Тот протянул Хирургу листок бумаги, который он держал свернутым трубочкой с выражением умалишенного.
Хирург развернул листок. Это было направление на рыболовное судно.
– Боцманом? – удостоверился целитель, хотя в направлении сие было указано.
– Боцманом, – тихо, словно боясь спугнуть это чудесное слово, ответил Пётр.
Хирурга вдруг обожгло смешанное чувство радости и тоски. Он впервые реально и близко ощутил дыхание разлуки. Он был рад за Боцмана, за то, что старый моряк достиг мечты и снова выйдет в океан, где его душа в беспредельности пространства будет испытывать счастье жизни, а не горе существования. Целитель был рад, что Боцман нашёл и вернулся к своему Богу. Иначе бы он просто погиб где-нибудь, обнявшись с бутылкой. Но печаль расставания была чуть ли не сильней радости. Сколько пережито вместе? Сколько выстрадано? Увидятся ли они когда-нибудь вновь?
Хирург повернулся и зашагал к выходу. Боцман догнал его и схватил в охапку, как малого ребёнка.
– Неужели всё наладится, Дима? И я пойду в океан? В океан, – шептал он, а его жесткая, обветренная щека при этом мелко дрожала.
– Поставь меня на пол, Петя, – сказал Хирург чужим голосом. – Рыдать в учреждении я тебе разрешения не давал, и вдруг сам закатился сухими слезами отчаянно и упоенно.
Первым отбыл из столицы Колымы Гегель. В гостинице, где остановилась на краткое время вся команда, он сбрил ленинскую бородку и из вождя превратился в нормального человека.
Его провожали от автовокзала. Гегель по указу Хирурга снова должен был посетить имение Богдана и вручить тому его часть денег, вырученных за самородок, поскольку камень найден был на его территории. Дальше раб божий Василий намеревался достичь своего дома в небольшом поселке Колымы, затерявшемся среди таёжных далей. Там нужно было обогреть жену, выяснить, праведно ли она проживает, не отошла ли в какой грех от веры, проверить прочность жилой постройки, позимовать, сжигая себя длинными вечерами в святейшей учёбе, а уж по весне, может быть, снова отправиться в народ с божественными проповедями Добра и Любви.
На вокзале Гегель был тих, спокоен, потому что мысли его не цеплялись за земное, но улетали к Богу и там находили свой приют.
Когда подошёл автобус, Василий поклонился лицом до земли, осенил каждого православным крестом и троекратно, как подобает по русскому обычаю, расцеловал, напутствуя смиренно: «Храни тебя Господь». И, уже сидя в машине, Василий солнечно улыбался всем, без всяких усилий отгоняя и печаль, и тоску расставания.
Вторым улетал в Волгоград Борис. После почти криминального происшествия на берегу таежной речки он стал как бы другим человеком. Он, кажется, понял, что дармовые деньги никогда не приносят ни счастья, ни удачи, а только ослепление и беду.
А потому всю неделю перед отъездом морозными вечерами, когда зажигались звёзды, он выходил на свежий воздух, в огромный мир своего прекрасного, молодого одиночества и, глядя ввысь, совершал далёкие путешествия в направлении безбрежной, неясной ещё до конца, но уже чистой мечты.
Когда объявили посадку, Борис сдержанно попрощался со всеми, Хирурга же обнял и сказал целителю прямо в глаза:
– Прости меня. Я хочу, чтобы ты не вспоминал и не думал обо мне плохо.
Хирург обнял его.
– Лети спокойно, сынок. Ты был и всегда будешь мне как сын.
– Вот возьми, – сказал на прощанье Борис и протянул Хирургу тугой конверт. – Тут вся моя повесть к тебе. Вскроешь, когда самолет поднимется в воздух.
Медленно падал пушистый снежок.
Борис растворился в толпе отъезжающих.
Сигарообразный «ТУ» вырулил на взлётную полосу, и Хирург сказал про себя: «Прощай, мальчик. Всего тебе… Будь счастлив. Добейся».
Хирург открыл конверт. Внутри, обёрнутые в плотную бумагу, лежали три сухих веточки брусники. Была записка: «Ты хороший мужик, Хирург, но вся твоя антимеркантильная философия – чушь. Пришло новое время. Тем не менее, я люблю тебя и всех вас. Буду искать свой самородок. А деньги, конечно, мне пригодятся. Твой Борис».
Мишку проводили весело. Знакомство с ним было коротким. Он не успел влиться в бригаду, стать её кровью. А потому, провожая, шутили и смеялись до самого конца.
– Лети, писатель, – сказал Боцман, прощаясь. – Захочешь поработать, приезжай ко мне – матросом.
И Мишка улетел, растаял, как облако, словно его и не было.
Настал черед прощаться старым друзьям. До отлёта Хирурга оставалось два часа.
– К океану не успеем, – грустно заметил Боцман.
Хирург ласково посмотрел на товарища:
– Ты, Петя, теперь будешь постоянно жить среди океана. И даже ночевать там же. Действуй умело. Желаю тебе семь футов под килем и чтоб никаких вертикальных потоплений.
Боцман басовито рассмеялся, посчитав слова друга за шутку.
– Ну что же, давай посидим за столом, – предложил моряк. Указав на ресторан. – Выпьем по маленькой на прощанье.
– Пошли, – согласился Хирург. – И сегодня же я бросаю пить навсегда. Ничего хорошего от питья не бывает. Только дым в мозгах да разрушенное здоровье.
– Это верно, – согласился Боцман. – Мне в море тоже не до этого будет.
В припудренном зале ресторана сидела троица с наголо бритыми головами из тех, кого в последнее время стали почему-то называть «новыми русскими», хотя русского в них не было ни на ноготь. Каменные уголовные лица, знакомые друзьям по лагерям, яркий зарубежный порножурнал, торчавший из кармана одного из «новых», и две девицы, перемазанные помадой и краской, вызывали отвращение.
В почти пустом зале, как часовые, прохаживались официанты.
Хирург с Боцманом уединились в дальнем углу, чтобы не пускать в свой прощальный мир никого.
– Два бокала хорошего вина, – сказал Хирург вспорхнувшему официанту. – Блюдце красной икры и пару салатов с крабами.
– Шикуешь, – нестрого пожурил товарища Боцман.
– А-а, – махнул рукой Хирург. – Когда ещё такое придётся.
– Я, Дима, женюсь, наверное, – неожиданно сообщил моряк. – Есть тут одна женщина, Настя. Хорошая женщина. И тоже одна. Вот на ней и женюсь. Не то приду из плаванья, а в доме пусто. Что за радость. Не дай Бог, снова к бутылке потянусь.
– Правильно, – оторвался Хирург от личных мыслей, которые уже утащили его раньше времени в старый Ленинград с дребезжащими трамваями и заводскими гудками, с конной милицией, выстрелом Петропавловской пушки и многим другим, что хороводом кружилось в голове целителя.
– Правильно, – одобрил Хирург, так как знал Настю не понаслышке, а этот факт Боцман запамятовал. – Настя – подходящая натура. В ней для жизни всё есть. Я не раз наблюдал, как она тебя обозревала. Так что женись. Только не сейчас. Объяви ей, что женишься, как вернешься из похода. Пусть поживёт в радости ожидания. А ты сходи, поплавай, повоюй со стихией, надышись своей мечтой, чтоб у тебя уже нигде ничего не свербело. И женись. У меня к тому времени, глядишь, тоже чего-нибудь образуется. Бросишь письмо «до востребования». Я возьму да и прилечу на свадьбу.
– Я теперь без счёта буду жить, – радостно признался Боцман.
Его после вина переполнило уважение ко всему живущему, тому, что шевелится или находится в раздумье. Его распирала любовь к движению.
– У тебя, Дима, на голове такой лоб красивый, – зафиксировал Боцман, расчувствовавшись. – Пусть они там тебе клешни починят, и тогда ты своей головой ещё не одну сильную операцию совершишь.
Возвышавшуюся над всеми провожающими фигуру Боцмана было долго видно в иллюминаторе самолёта, пока машина не тронулась с места.
Дмитрий Валов ощутил в себе вселенскую пустоту, потому что время шелестело в нём всё назад, назад и назад, перелистывая страницы жизни…
И он подумал, что, может быть, несмотря на годы, ещё вернётся сюда.
В пору цикория и ромашки…
И нереста кеты.
В пору, когда его уже никто не будет знать, а только он запомнит всех своей теплой памятью. Навсегда. Навечно.
Дом в океане Роман
Лети по ветру, как птичье перо. Вбирай все, что тебя окружает. Это и есть Учение. Поклоняйся Воде и Огню, двум стихиям, из которых рождается все. Тогда ты будешь счастлив. Если, конечно, ни за что земное не зацепишься. А зацепиться очень просто. И опасно.
Из напутствий моей хорошей знакомой. Богини Артемиды.«Нет, это ненормально, – писал мне мой друг. – Ненормально – еще мягко сказано. Точнее – это безумие. Сидеть в кабинете редакции журнала, плыть по течению и мнить себя писателем. Ты понимаешь, что так не достигнешь. И ни к чему не придешь. Понимаешь, Ванья?! Вот вчера я стоял на балконе. В доме напротив женщина мыла окно. И солнце так сверкало в стекле под ее пальцами… От увиденного я был просто в кайфе. И написал об этом стихи. «Женщина в доме напротив мыла окно. Солнце сквозь пальцы ее тихо струилось. Женщина в доме напротив мыла окно. Больше в тот день у меня ничего не случилось». А сегодня уже нет ни женщины, ни того сверкающего окна. Туманом даль заволокло. Заволокло все то, что прежде равнялось смыслу и надежде. И так влекло… Осталась лишь очарованная память. Время идет. Бежит вприпрыжку, Олег. Время не будет тебя ждать? Задумал – делай! Для того чтобы писать, жить нужно иначе. Жить нужно широко, горячо, активно. Не забывай, ты ответственен не только перед собой. В противном случае, будешь сочинять дешевые детективы или высосанную из пальца фантастику. Конечно, бывают исключения. Виктор Розов, например, сидел всю жизнь на своем высотном этаже и писал талантливые пьесы. Но это исключения. Поэтому иди в жизнь, в народ. Не представляешь, как это интересно и нужно. И тебе, и всем».
Так написал мне мой старый друг. С тех пор, как мы однажды повздорили относительно времени и писательского ремесла… – нет, не поссорились, но повздорили крепко, – мой друг Андрей стал называть меня Ваней. В этом другом имени было не только осуждение того, что я простак и ленивец, но и едкое указание, что настоящего имени у меня еще нет.
Конечно, он имел право на такое письмо, на такие слова. Он, который ходил Северным морским путем, обозревал мир с вершины Тибета, писал стихи о Сахалине, а сейчас вместе с охотниками бродил по тайге Дальнего Востока.
А я, вспоминая слова Андрея, торчал у своего окна. И тоже был на грани написания стихов.
Шел тихий снег. Я стоял и смотрел с высоты седьмого этажа, как внизу копошится в радости зимы мелкая ребятня. Ребятишки съезжали с горки во дворе кто на чем – на лыжах, на санках, на каких-то пластмассовых салазках, на портфелях и просто на штанах. Съехав вниз, тут же бросались наверх, чтобы снова и снова, в который раз, глотнуть неповторимый глоток детства. Глядя на неутомимую детвору, я испытывал легкую грусть: со мной такого уже никогда не будет. Радостная зимняя бабочка порхала там, внизу, роняя с крыльев снежную пыльцу. А я стоял, словно на другой планете, и наблюдал свое улетевшее прошлое. Но ведь все еще будет. И радость, и печаль, и нечаянная любовь к человеку, женщине, дереву, крику птицы, шелесту волны, дыханию цветка или собаки. Все еще будет. Какие мои годы? Но сейчас на душе было неуютно. Какая-то хмарь висела над головой. Душу казнило давнее письмо Андрея.
Я подошел к шкафу. Старому шкафу с вертикальным прямоугольным зеркалом, тронутым по углам золотистой, как луковая кожура, ржавчиной. Открыл поющую тонким голосом дверцу. И вдруг почувствовал себя этим шкафом. С темной нафталиновой пустотой, из которой проступают призраки поношенной одежды. Ну да, увидел я – ты и есть этот допотопный шкаф с зеркалом, тупо глядящий на противоположную стену, где уже сто лет тикают, салютуя умершим лепесткам времени, старинные часы. Девочка на картине с глазами, полными ужаса, все никак не убежит от ползущей за ней грозовой тучи. Криво висят книжные полки, под которыми тихо покрывается вселенской пылью рабочий стол хозяина. И тоже непонятно – есть ли хозяин или его нет вообще.
Вот таким допотопным шкафом, так уж случилось, я стал навязчиво ощущать себя в последние месяцы. С этим, конечно, нужно было что-то делать. С этим нужно было кончать. Нужно было на что-то решиться. Но решиться, оказалось, не просто. Я спрашивал себя: почему? Однако вышло, что есть вопросы, на которые нет ответов. Их нужно пережить.
Какое-то время я подолгу ходил вдоль помпезного здания на площади Неизвестности, не в силах совершить то, что намеревался совершить.
А намеревался совершить я некоторый поворотный шаг в своей судьбе. Некую серьезную перемену, в результате которой череда событий моей прежней, не очень-то длинной еще жизни согласно улеглась бы в памяти под замок. Новая же виделась мне исключительно как второе рождение, где искрились миражи, туманные дали, буйные грезы, обвалы, штормы или просто беседы при ясной луне на краю пространных океанов.
Итак, я раскинул карты.
Что было?
А была армия. Краткая, по сравнению с Отечественной, война. Война в Чехословакии, где тоже убивали. Хотя и не война это вовсе была. Обыкновенная, банальная и глупая, если разобраться, демонстрация силы. Показуха – кто главный в Варшавском пакте. Потом Литературный институт. Работа в редакции журнала. Женитьба. Семья из двоих. Все-таки вехи!
Снова работа в редакции. Но уже с прицельной, по наущению супруги, перспективой дальнейших продвижений.
Было унылое копание в чужих рукописях в ущерб собственным устремлениям. Опять же – ради карьеры! Ради положения, престижа, имиджа и прочей ерунды. В итоге – ради пустоты и внезапного ужаса – жизнь проходит мимо. А престиж, положение, дутая слава – рассыпающиеся звуки, прах на ветру. Ничто!
Наконец, был развод, унылая волокита размена и разъезда.
Вся эта череда невеселых событий вдруг разрушилась и раскатилась, как клюква по полу: в мое после институтское бытие я вынужден был, – так получилось, – терпеть жизнь. Мучиться, но терпеть. Мысли были далеко, а накатанная дорожка респектабельности не прельщала. По ней я не мог прийти к главному.
Долгое время я жил в состоянии гнетущей тошноты от невозможности делать только свое дело, мне лишь дарованное Богом. И дарованное ли на самом деле? Вот это и предстояло выяснить.
Таким образом, тошнота стала невыносимой, результатом чего и явился развод. Я понял: нужно рвать все путы, обвивавшие меня, как лианы, которые снились по ночам. В них я засыпал и в них просыпался. Мне ничего не оставалось, как решиться сжечь все мосты. Но решиться было, конечно, трудно. Тогда предстояло расстаться с Москвой.
Москва была моим детством, юностью, моей любовью. Моим настоящим и будущим. Она родила меня, взрастила, обогрела и предложила логичный восходящий путь. Как добрая великосветская мамаша. Но именно от этой уравновешенной логики меня и воротило. Она, эта логика, оборачивалась солидностью, чином, достатком и мягкими домашними тапочками, в то время как моя душа и ноги требовали сапог. Кирзовых, яловых, меховых, болотных – каких угодно, но сапог. Душа просила безмерности морей и необъятности далей, просторов и широт. Но главное, конечно, людей. Тех моих дальних близких, у которых я мечтал получить ключи от своих грядущих книг.
Этого не могла понять моя бывшая жена. Людей для нее было предостаточно и в столице.
Что ж, я решился.
И все-таки, прежде чем войти в серое строгое здание, надумал выкурить прощальную сигарету. Последняя зацепка, тлеющий рубеж между прошлым и будущим.
Пуская в пространство голубой дымок, я бродил вдоль здания ЦКВ (Центрального Комитета Впередсмотрящих), где трудился мой хороший приятель, которого в душе я считал своим другом, – хотя мы были недолго знакомы, – и от которого зависела моя дальнейшая судьба. Наконец, время истекло, сигарета обожгла пальцы, и я прошел сквозь дубовые двери навылет, потому что мосты уже с треском полыхали за моей спиной. Разумеется, предварительный звонок, пропуск…
Дальше я шел по мягкой ковровой дорожке, и неуемный дух югенда обдавал меня со всех сторон летящими, деятельными тенями молодых функционеров в обязательных строгих костюмах при обязательных серых и черных галстуках. Видимо, такая форма символизировала монолит и единообразие, каких требовала государственность.
В своем кабинете мой приятель был увешан телефонами, как папуас бусами. Говоря с кем-то, он кивнул, указывая на стул, и в этом кивке было одновременно и приветствие, и какая-то личная, добрая тень приязни.
Мы улыбнулись друг другу глазами, и я стал изучать кабинет, ожидая, когда закончатся телефонные диалоги.
Над т-образным столом, за которым в поте лица трудился, вещая во все трубки сразу, мой знакомый, висела огромная карта России. Она висела там, словно в ожидании меня. Пользуясь внутри себя отвлеченной идеей вольного полета, я на самом деле не знал толком, куда конкретно, в какие края и веси хотелось бы мне кануть.
Я подошел к карте и с трепетом стал вглядываться в огромное зеленое тело страны, испещренное реками, морями, озерами, грядами гор и хребтов. Все это будто ожило под моим взглядом, но нужно было выбирать. Забайкалье, Охотское побережье, Чукотка…
– Ну? – спросил мой приятель, что-то стремительно записывая в блокнот. – Что привело?
– Бухта Провидения, – сказал я, очарованный неведомым поэтичным названием.
Валентин остановился строчить и поднял на меня чистые серые глаза. У него было молодое лицо, серые глаза и серебряные, седые волосы. Видно, пробираться сквозь идеологические чащи оказалось делом нелегким.
– Зашли меня в Бухту Провидения, – попросил я. – Месяца на два, на три. Впрочем, не знаю. Как получится. Может, и годы там пройдут. Все осточертело, Валя. Нужен свежий воздух и собственная книжка.
– Понял, – без лишних слов сказал Валентин и стал с виртуозной стремительностью дописывать начатое. Среди низкопоклоннической, чиновной братии он был исключением. Он был настоящим. Встречались и такие. За это я ценил и любил Валю.
Он закончил писать и подвинул к себе красный модный телефон. Уселся поудобнее. Набрал длинный междугородний номер.
– Володя? Кириллов тебя отрывает. Москва! Москва, говорю, тебе в ухо стучит! Очнись! Что у вас там, в Желтом, – так он называл Магадан, – ночь, что ли? Ну вот. Наконец-то. Да, Кириллов. Слушай! Я посылаю к тебе парня. Писатель. Молодой, можно сказать, творческий кадр. Примешь его. Поможешь устроиться. В газете, на радио, на ТВ. То ли у вас, в Городе, то ли на Чукотке. Тебе на месте виднее. Я пишу в командировке: Магадан, Певек, Анадырь, Бухта Провидения. Пускай сам выберет. Да, месяца на два, на три. Но, может, и больше. Пусть повоюет с бурями, побродит по тайге, покатается на вертолете, на собачках. Хлебнет, понятно. Как положено. Но это ему и надо. Ясно тебе? Ну, вот. Так что жди гостя.
Дальше под бешеный аккомпанемент моего сердца Валька столь же стремительно накатал командировочное удостоверение. Смотался куда-то для согласования и через десять минут вручил мне официальную бумажку.
– Дуй в бухгалтерию и вперед, – улыбнулся он.
Я пожал Валентину руку с чувством теплой искренней благодарности, ибо он открыл мне двери в желанную, неведомую жизнь.
Теперь я шел по Москве со смешанным чувством ностальгии и любви. Родная столица уже зажигала огни, прихорашивалась, красила губы, сверкала витринами, но это было словно вне меня.
Цветные пульсирующие квадраты, ромбы, овалы, треугольники толчками били в глаза. Мелькали прически, фигурки девушек, дорогие авто. Неоновые вывески чеканили город голубым.
Вечерняя Москва дышала горячо и возбужденно, но ее вожделенные вздохи меня больше не трогали. Я шел среди шика и лоска зовущих, припудренных улиц, однако душа и мысли были далеко. Не верилось, что придет время, и снова вернусь к своей вечно юной и остро любимой Москве. Но сейчас я оставлял ее без сожаления. Даже с какой-то мстительной радостью, словно она чем-то насолила мне, обманула или предала. Нет. Разумеется, ничего подобного не было. И все же… Что-то в моей дорогой столице казалось подернутым фальшью. Как ни крути, она была цинична, лицемерна и продажна со всем ее шикарным лоском.
Продажны были холеные девицы у Большого Театра, надутые метрдотели, чинные швейцары, служащие исполкомов, директора, критики и даже, случалось, министры.
Я покидал государство-Москву и мало сожалел об этом. Я не любил государственность. Меня ждала страна чистых рек, озер, снежных вершин и редких – я был в этом уверен – редких людей.
Понятно, я не был чем-то иным, отличным от всего организма столицы. Я не был даже ее атавизмом. И вульгарные нимфы, изображавшие интеллект, – ах, Вы читали Джойса? – и сытые лакеи в дверях ресторанов, и чиновники от литературы, и лощеные физиономии некоторых моих знакомых в «Мерсах», и те, подкравшиеся к верхним этажам власти… – все это было моим миром, но миром, которому хотелось плюнуть в рожу. Конечно, была и другая Москва – со всей ее уникальной, неповторимой историей, которая подспудно билась в каждой русской душе, и за которую русичи, не задумываясь, отдавали жизни. Вот эту Москву я увозил с собой, она грела меня и, как икона, освещала изнутри.
Свекольного цвета заря залила дальний край Старого Арбата, но звезд не было: их гасили бесчисленные огни реклам. Да и пришло бы тут кому-то в голову смотреть на звезды…
Я шел к метро. В переходе орал колючую песню лохматый бард. Блюститель правопорядка прохаживался мимо него с наигранным равнодушием.
Перед входом в метро я купил две ярко-красные гвоздики и одну оранжевую с легкими, как крылья бабочек, лепестками. Можно было – розы, но розы почему-то никогда не приносили мне ни радости, ни счастья. Даже в первые дни любовной экзальтации с женой. Когда мы устраивали себе некое подобие семейной идиллии. Со свечами, розами элегической музыкой и ненасытными утехами двух разыгравшихся зверей. Я, глядя на тяжелые бутоны с застывшими, как слезы, каплями влаги, точно знал, предчувствовал – ничего хорошего не будет. Ничего. Потому что в ее устах, впрочем, и в моих тоже – что лукавить! – слово «люблю», заветное слово, было фальшью.
Жене моей нужно было уютное гнездо, автомобиль, модные салоны, моя карьера, высший свет, деньги, заграничные туры, наряды, возможность блеснуть… В эту трясину занесло и меня.
Наш брак был сделкой. Обыкновенной расчетливой сделкой, хотя и негласной. Мы не обговаривали ее. Я предполагал только одно: условия для работы. Ирине нужно было совсем другое. Вот так, не договариваясь, мы и договорились.
Я поставил цветы на стол. Они пахли тонким, едва уловимым запахом, мне показалось – запахом снега.
Потом тщательно вымыл восемнадцать метров моей комнаты, коридор и кухню, – всю квартиру, доставшуюся после развода и разъезда с женой, собрал в чемодан необходимые на долгое время вещи, вынул из бара приготовленную заранее бутылку «Старого замка» и уселся за стол.
Передо мной ворохом лежали начатые рукописи, недописанные рассказы, заметки, отрывки, словом, голые заготовки былых времен. Кое-что я отобрал и сложил в ящик. Затем принес ведро, открыл настежь окно, в котором тихо догорало золотое сентябрьское небо, и начал медленно, лист за листом, сжигать в цинковой яме исписанные бумажки – оставшийся мусор. Дым плавно потек в безветренное пространство вместе с какими-то вехами моей жизни.
Когда с этим было покончено, я налил бокал янтарного вина.
Все. На прошлом лежал крест.
Я отпил пару глотков, напомнивших мне лучезарную Молдавию, где когда-то гостил у институтского друга и смаковал такое же прекрасное вино под цветущей яблоней в окружении улыбчивых нарциссов и тюльпанов. Достал командировочные документы, толстую пачку денег, на которые предстояло облететь чуть ли не все северо-восточное побережье Чукотки, и благоговейно развернул голубой авиабилет, звавший завтра в девять утра взойти на трап самолета.
Тогда я мысленно покликал Валентина, и он вошел ко мне сквозь стену, но уже, слава богу, без телефонных трубок, без напряжения и нервозности, на которые обрекала жаркая идеологическая деятельность. Седой, светлоглазый человек с чистым, крепким рукопожатием.
Я обнял его, и он сказал:
– Найди то, что хочешь найти. И вот что… В тех краях обитает розовая чайка. Отыщи ее. Говорят, она приносит удачу. Я бы сам рванул с тобой. Но я увяз, Олег: дети. Трое пацанов. Мне не вырваться. Так… разве на короткое время.
Я помолчал, понимая, что Вале действительно сложно, и снова посмотрел на зарево за окном. Когда обернулся, Валентина уже не было.
Я отпил еще вина и вдруг набрал номер отца, и отец, – он был дантистом, – немного заспанным, как всегда, голосом ушедшего в себя человека без всякого удивления воспринял весть о предстоящем мне долгосрочном путешествии на край света.
– Чукотка… что ж, это интересно, – сказал он, размышляя о чем-то своем. – Ну напиши, как там…
– Напишу, – пообещал я, не будучи уверен, нужно ли это отцу: у него давно уже была своя жизнь, у меня – своя.
Больше звонить, казалось, некому. Впрочем, ютилась в памяти одна знакомая, и я набрал ее номер.
– Да-а-а, – протяжно мурлыкнула она. – Олежка! Давно ты не объявлялся. Я уж и забыла, какой ты. Веришь, одно время тосковала по тебе. Но ведь ты летучий. А мне нужен кто-то, кто был бы со мной каждый день, каждую ночь. Ты же меня знаешь. А ты… хороший парень и больше ничего. Прости.
– Я не к тому, – сказал я, пожалев, что позвонил. – Завтра улетаю. Надолго. Года натри.
– Улетаешь, – с неожиданной грустью произнесла Вера.
– Да. Улетаю на Чукотку.
– На Чукотку? – с удивлением и ужасом переспросила моя старая подружка, словно Чукотка была для нее чем-то вроде Юпитера или Марса. – Зачем на Чукотку? Ты всегда был каким-то ненормальным, Олег. Люди едут в Грецию, в Штаты, в Сочи, наконец. А тебя несет на какую-то Чукотку. Зачем?
– Это долго объяснять, – сказал я, желая уже повесить трубку и понимая: звоню не по адресу. – Хочу отыскать розовую чайку.
– Что?
– Это такая чукотская шутка. Не обращай внимания.
– Хочешь – приезжай, – пригласила Вера. – Я сегодня одна.
– Как-нибудь в другой раз, – сказал я. – Всего тебе. Может, звякну из Бухты Провидения. Прощай.
– Ты псих, – прозвучало напоследок, и в трубке послышались пунктирные гудки.
Я поставил бутылку в шкаф, решив, что года через три допью. Оглядел свое холостяцкое жилище. Все было культурненько, все пристойненько: диван, шкаф, торшер, стол, пишущая машинка, книжные полки. Что еще мне было нужно?
Все это теперь долгое время обещало покрываться вселенской пылью.
Я заказал на утро такси, завел будильник и лег спать.
В аэропорту я выволок из багажника машины свой огромный чемодан, пишущую машинку и направился к вокзалу.
Каково же было мое удивление, когда у входа в здание аэровокзала я увидел бывшую супругу. Конечно, она поджидала меня. Другая версия отпадала.
Утро было прохладным.
Она стояла, ежась от холода, потерянная и жалкая. Словно не произвела после нашего развода выгодной рокировки, не вышла вторично замуж за респектабельного господина, не сбросила старую и не облачилась в новую кожу.
Одета Ирина была как всегда с изыском. Длинное велюровое пальто, широкополая шляпа, кожаные перчатки. Не хватало только вуали.
Поджидая меня, она размышляла о чем-то своем. Я оторвал ее от мыслей уже на подходе. Шлепнул чемодан у самых ее ног. Лишь тогда Ирина очнулась.
– У меня такое ощущение, – сказал я весело, – мы где-то встречались.
Ирина грустно улыбнулась, и я подумал, что мою бывшую жену зацепил осколок ностальгии. Впрочем, меня самого немного смяла эта неожиданная встреча.
– Как ты разведала, что я улетаю?
– Вчера вечером позвонила твоему отцу. Просто так. Узнать о здоровье. И он мне два часа рассказывал о Чукотке, Беринге, Крузенштерне и о том, что ты отправляешься в те края и, может быть, если повезет, увидишь розовую чайку. Мне захотелось тебя проводить. Меня поразила эрудиция отца в отношении Беринга, Чукотки и прочего. Он об этом никогда не говорил. Теперь стало понятно: мы не знаем о близких того, что лежит на самой поверхности.
Порыв Ирины проводить меня был просто по-человечески трогательным.
– Ты позволишь тебя поцеловать? – спросил я. – Дружеским поцелуем.
Ирина подставила щеку. Затем мы прошли сквозь стеклянные двери на регистрацию.
Со своим толстым чемоданом я долго толкался в очереди, наконец, сдал его в багаж и подошел к Ирине, взволнованно теребившей в отдалении пуговицу на пальто.
– Все. Я исчезаю, – сказала она.
– Да, но… – смешался я. – До отлета еще уйма времени. Поболтаем.
– Нет. Мне просто хотелось посмотреть на тебя. Когда теперь увидимся? Может быть, полюбится Чукотка – возьмешь и останешься навсегда. Найдешь очаровательную чукчанку, женишься и забудешь про Москву Ты никогда ею особо не дорожил. Океан, экзотические красавицы, розовые чайки… – это так романтично. Да и мне, честно говоря, легче знать, что ты далеко. Кстати, вот, возьми. Не хочу лишних воспоминаний.
Ирина достала из сумочки мою старую армейскую фотографию и вручила мне, словно личную визитную карточку – немного надменным жестом.
– Все. Прощай. Ищи розовую чайку и будь счастлив.
Она натянуто улыбнулась и пошла к выходу слегка разболтанной походкой независимой женщины, хотя это, понятно, было лишь прикрытием тоски и одиночества. Я повертел фотографию в руке. Нужно ли было в такую рань мчаться из Москвы, чтобы вернуть ее мне? Вспомнил время и место, где фото было сделано, и сунул карточку в карман. А место как раз и было в Чехословакии, в Праге. Там мы с друзьями сфотографировались возле горячо дышавшего танка – на вечную память. Сейчас эта фотография радужных чувств у меня не вызывала. Честно говоря, я всегда испытывал какое-то чувство вины за этот Чехословацкий поход. Но что я тогда мог сделать, безусый еще советский солдат. И все-таки появление Ирины показалось мне более чем странным.
В сигарообразный «ТУ» загружалась разномастная публика, заранее освободившаяся от мешков, тюков, баулов и чемоданов. Похоже, все возвращались из отпусков – начало сентября, самое время. Это был загоревший, улыбчивый народ, состоявший, в основном, из беседолюбивых, любознательных и простодушных украинцев.
– Тю, Галя, шось я не пойму. Чи у нас разные места?
– Ты шо, дурный, Петро? Осё, дывысь, сороковое. А оце – сорок перьвое. Якшо б вы з Мыколою вчера литру не выпили, ты б усё сразу поняв.
– …Дима, возьми у стюардессы пакет. А то я рыгаю у полете.
– …Женщина, извиняюсь, это мое сидение.
– Нет, вы посмотрите на него! Я тут всегда сижу, а он говорит – его сидение. Вон свободное. Сажайтеся туда. Я вас умоляю. Ну надо же – его сидение…
Мое место, к счастью, оказалось у окна, и уже вскоре я мог наблюдать, как сначала, при взлете, все быстрее и быстрее побежала навстречу полоса леса, затем оторвалась и осталась внизу. Легкий страх подпрыгнул где-то внутри, но через несколько минут успокоено улегся. Взлетели.
Возникли ветки дорог, игрушечные машины, дома со спичечный коробок, ржаво-рыжие квадраты выкошенных полей. И раздолье. И ширь до самого окоема. Россия!
Самолет вздохнул и понесся вверх набирать высоту. Снова ожил, зашевелился страх. Даже не страх, а маленький, вредный страшок. Машину, словно дымом, окутало влажным туманом, от которого дрожащими слезами заплакали окна иллюминаторов. Но вскоре мы вынырнули в солнечное пространство, где уже внизу громоздились причудливые гряды белоснежных облаков-айсбергов с чисто голубым и лучезарным над ними небом.
Я взялся за крестик на груди и вознес светлую молитву за весь мир подо мною, за всех, кто остался позади. Я пожелал им тепла и покоя, потому что сам сейчас был обласкан этим.
О том, что будет впереди, думать не хотелось. Неведомая планета Чукотка ждала меня, я несся к ней на всех парах и знал: будущее – горизонт, за которым никогда не узнаешь, что тебя ожидает. Для начала нужно хотя бы долететь до Желтого Города, Магадана. Почему Желтого? Потому что он имел на себе печать былого сумасшествия и стал в тридцатые годы имперской столицей горя.
И все же дух дальних странствий грел мне душу, какими бы эти странствия ни были, а «Бухта Провидения» звучало во мне, как музыка.
Вскоре снежные дюны, барханы и айсберги облаков стали усыплять меня, наполняя тем легким эфиром, на волне которого можно унестись как угодно далеко. И я плавно выскользнул из самолета прямо на Тверской бульвар, где обычно мы встречались с Ольгой. Было нечаянное, шальное и веселое знакомство прямо налету, на бегу, в метро, на эскалаторе. Затем мы ехали на электричке и уже держались за руки, уже любили друг друга глазами, уже дышали друг другом и не могли надышаться. Проезжали свои остановки с наигранным «ах» и снова сливались в одно целое. Нас несло течение. Теплый Гольфстрим. Мы не в силах были вырваться. Да и нужно ли? Все смотрели друг другу в глаза, касались руками и не могли расстаться. Никого не существовало кроме нас с Ольгой.
Ее летящая фигурка волновала меня всякий раз до самых косточек, до обморока, до невозможности жить без этого чуда. Летящим было все: платье, волосы, руки, сумочка навскидку, ноги. Каждый раз мы влетали в долгий, одуряющий поцелуй, будто не виделись всю предыдущую жизнь. Тонули в каком-то обжигающем, горячем омуте.
Потом мы шли, обнявшись, по слегка хрустящему песку старинного Тверского бульвара вниз, к Суворовскому, и все имело значение: освещенные фонарями синие листья деревьев, полянка тюльпанов напротив Пушкинского театра, скамейки, на которых сидели люди, как в лодках, свесив ноги с бортов, встречные прохожие, глядевшие на нас с особым вниманием. Они казались нам важными и смешными. А дедушка Тимирязев смотрел со своего пьедестала в неведомую даль и видел, конечно, там чудесные сады. И звал с собой.
Мы бесцельно шатались по Остоженке, проникаясь дворянским духом XIX века, где нам встречались чопорные господа в цилиндрах и загадочные дамы в темных вуалях, где стучали по булыжной мостовой ухоженные модные кареты, а в окнах именитых особняков горел золотой свет многочисленных свеч.
Красная площадь, Манежная, Новый Арбат слепили живыми картинами Кандинского, Малевича, Лентулова. А позже, ближе к ночи, мы забирались в мою скромную комнатушку, которую мне выделяла как студенту-дворнику администрация института. Забирались, чтобы насладиться, друг другом и приблизиться к тому, что в те невозвратные времена считали любовью. Тогда я целовал родинки на ее плече, вдыхал запах волос, и Ольга обвивала меня руками, чтобы принять, раствориться во мне. Время теряло границы. Но через день-два я снова стоял с цветами на Тверском и все повторялось. Снова плыли навстречу переулки древней Москвы, повитые цветными огнями и шепотом истории…
Меня тронули за плечо, и я открыл глаза. Симпатичная стюардесса держала поднос с прохладительными напитками. Я взял бокал с хрустальными пузырьками и посмотрел в иллюминатор. Ватные горы все тянулись за бортом самолета, напоминая очертаниями то чудищ, то зверей, то людей, будто бы переселившихся из ниоткуда в сии далекие пределы.
…Потом Ольга исчезла. Растворилась в небытии и моей памяти. Я знал, что она прилетела в Москву из Петрозаводска, – так она сказала, – погостить к тете, что была наполовину финка. Но по своей безалаберности не удосужился поинтересоваться ни адресом тети, ни ее телефоном, ни северным местонахождением моей возлюбленной. Мы просто договаривались о следующей встрече, и этого было достаточно. И вот однажды я прождал ее в условленном месте два часа. Сумерки уже поползли по бульвару писать лиловые тени, а я все бродил сиротливо с алыми розами, и задумчивый Пушкин сочувственно поглядывал на меня с высокого постамента.
Наконец, я понял, Ольга не придет. Более того, меня вдруг пронзила мысль, что она не придет больше никогда. Я выбросил розы. Мне как напоминание они были больше не нужны. Действительно, Ольга больше не появилась. Я даже не знал, где ее искать. Какое-то время чувствовал, что в моих жилах вместо крови течет тоска, и если я случайно пораню руку, то на коже выступит черная капля. А ведь она, Ольга, существовала еще где-то кроме моей памяти. Но где?
Ирина свалилась на меня, как град, от которого некуда было деться. Все произошло так стремительно, что я не успел опомниться.
В редакцию, в которой я работал сразу после института, занимая должность старшего редактора, вошла молодая, красивая, если не сказать – роскошная женщина в дорогом платье и тонких, изысканно-причудливых золотых кольцах с крохотными алмазами.
Удостоив кратким приветствием, она положила мне на стол рукопись с непоколебимой уверенностью, что ее сочинение будет непременно опубликовано в нашем журнале, носившем мягкое, но весьма претенциозное осеннее название «Октябрь».
Посетительница села напротив, закинув одну красивую ногу на другую, и бесцеремонно закурила дорогую сигарету.
Я развязал тесемки добротной картонной папки и на титульном листе прочел гриф главного редактора, жирно начертанный красным карандашом: «В печать!»
Это был приказ лично мне. Я знал – Главный рукописей почти не читает, а строит политику журнала исключительно на основании весомости и иерархической значимости тех, кто предлагал лично ему, то есть, журналу, свои творения. Самотек, даже талантливый, отлетал, как шелуха, получая стандартные вежливо-строгие отказы. Мол, литературно-художественный уровень вашего произведения не соответствует высоким требованиям журнала.
Я понял, что очаровательная незнакомка спустилась к нам с «верхних» этажей, с которыми всегда заигрывал Главный, изображая при этом гордую независимость. Взаимообразно Хозяин журнала печатался, где только было можно. И – везде сразу.
Это была мафия от литературы, в которой каждый каждому грел руку. Я ненавидел себя за соучастие, но что я, так называемый тогда «молодой специалист», мог сделать один против бетонной стены…
Моя посетительница закурила дорогую, душистую сигарету.
Демонстративно мстительно я достал пачку «Примы» и в голос, не без иронии, прочел название повести: «Сладкий обман».
– Интересно, – сказал я. – И насколько же он сладкий?
– Вы сами-то пишете? – с врожденным чувством превосходства спросила Ирина. Я уже знал ее имя, которое значилось над заглавием повести.
– Разумеется, – решил поерничать я, развалясь в стареньком кресле. – Я пишу во всех жанрах. Романы, повести, рассказы, пьесы, очерки. Кроме того, эссе, литературные портреты, стихи и письма. До мемуаров, правда, пока не дошло.
В ее глазах вспыхнул живой огонек, какой бывает у женщин, которых заинтересовал мужчина.
– А знаете, что, – врастяжку сказала Ирина с едва заметной улыбкой в уголках чувственных губ, – вы очень милый мальчик. Но вы действительно будете писать мемуары, сидя в этом же кресле. А я могу сделать из вас писателя. Настоящего писателя. Понимаете?
Я не нашел, что ей ответить, чувствуя только каким-то шестым чувством, что под восхитительной оболочкой моей посетительницы спрятан танк, способный проломить любую стену, разумеется, при помощи папочки, – это мне тоже было уже известно, – одного из видных секретарей Союза Писателей.
– Поэтому, – продолжила Ирина, поправляя роскошные каштановые волосы, я буду ждать вас сегодня в Доме Литераторов в семь. В фойе.
– Я не успею переодеться во фрак, – сказал я, сопротивляясь чему-то, чего еще или уже не понимал.
– Это неважно, – небрежно бросила она и погасила душистую сигарету в моей пепельнице. – Главное, вам назначает свидание женщина. И, смею заметить, красивая женщина. Не так ли?
– Ну, это как посмот… – смущенно промямлил я и понял, что проиграл главную фигуру.
– Вот и прекрасно, – произнесла Ирина, поднимаясь. – Значит, в семь. У меня есть к тебе, Олег, целый ряд хороших предложений, – уронила она запросто, словно мы были сто лет знакомы.
С этими словами Ирина вышла, оставив эфирный шлейф из тонких французских духов. До меня дошло, что она с самого начала, еще перед входом в отдел прозы, все обо мне знала.
…Неожиданно образовался провал между снежных гор и внизу высветился облитый солнцем, цветистый гобелен земли, повитый легкой, прозрачной туникой облаков.
Я был счастлив своей свободой. Я ощущал собственные крылья, был одновременно и птицей, и лесным кабаном в небесах обетованных. Ради этого стоило сжечь все мосты.
…Без пяти семь я вошел в фойе Дома Литераторов. Высокомерно строгая церберша на входе с пренебрежением исследовала мои редакционные документы. Неожиданно кто-то крепко схватил меня за руку.
– Это со мной, Раиса Марковна, – с обворожительной улыбкой объяснила Ирина служительнице муз.
И та, делано улыбнувшись в ответ золотыми зубами, вернула мне мою книжицу.
Свет люстр обрушился на нас, как слепой дождь. Глядя на неотразимую мою спутницу, на ее роскошное вечернее платье, плавно обтекавшее стройную фигуру, на сверкающее колье, окружавшее темную ямку на шее, я вдруг с грустью понял: моя Оленька навсегда удаляется в космические дали. Мирно укладывается на самое дно моей больной памяти.
В Доме писателей демонстрировался модный итальянский фильм, и потому народу в вестибюле было битком.
«Как на балу у Воланда», – почему-то подумалось мне.
– Что будем делать? – спросил я. – Фильм?
Ирина оторвалась от очередной собеседницы. Те то и дело отвлекали ее пустыми разговорами, завистливо-лживыми комплиментами.
– Фильм? – переспросила она. – Я смотрела его пять раз. – И, как бы между прочим: – Один раз – в Риме. Мы с отцом раньше много путешествовали. Представляешь, в Монте-Карло я случайно выиграла кучу денег! – засмеялась Ирина. – Нет, Феллини гениальный режиссер, но нельзя же смотреть одно и то же бесконечно. Сейчас мы идем в ресторан и обсуждаем некоторые деловые предложения. Мне кажется, тебе они будут интересны.
Она взяла меня под локоть и упруго, так, чтобы я почувствовал, прижалась грудью.
– Посмотрим, – независимо заявил я, но не смог не обласкать взглядом ее лицо и волосы, которые действительно были хороши.
– Посмотрим? – широко открыла глаза Ирина. – Ну, Олег, ты просто наглец. Но это как раз мне и нравится, – вкрадчиво сказала она и тут же чуть кокетливо: – Я даже немного влюбилась. Но не вздумай задирать нос. Я гордая, как памятник Долгорукому.
– Это заметно, – сообщил я и улыбнулся.
– Но-но, – игриво погрозила Ирина окольцованным пальчиком. – Выпадов не терплю.
– Ладно, – смирился я. – Обидеть не хотел. Только во мне гордости не менее твоей. Уживемся ли?
Она развернула меня за плечи лицом к себе и, глядя прямо в глаза, призывно тайно, по-женски, пообещала:
– Уживемся. Я хороша во всех отношениях. Поверь мне.
Последнее почему-то неприятно резануло меня, и я спросил:
– А есть ли в твоем сердце Бог?
Она испуганно театрально поглядела куда-то поверх моей головы.
– Помилуй, дорогой. Я крещеная. В детстве. В Елоховском монастыре.
Я промолчал, но подумал, что крещение – это, наверное, еще не критерий.
Кафе на нашем пути было битком набито разностильным творческим народом. Тут были именитые, известные, мэтры, неизвестные, разные. Занятыми оказались все столики. Мы остановились посреди шумно гудящего, занавешенного плотной пеленой табачного дыма писательского улья, как неприкаянные. Ирину мгновенно потянули за все столы сразу, видно, она была здесь своим человеком. Но Ира открестилась от всех предложений.
– Пойдем в ресторан, – сказала она. – Я хочу праздника. А здесь не поговоришь.
Мы прошли в чопорный, но внушавший уважение старинный «Дубовый зал», который посещали зубры от литературы или те, кто мог похвастаться свежей книгой и в связи с ней – хрустящими купюрами.
В моем кармане очень кстати лежала только что полученная зарплата, но все равно порог ресторана я перешагнул с некоторой робостью.
Ирина заметила мое замешательство и, садясь за отдельный, крытый белой скатертью, аккуратно сервированный столик со стоячими конусами матерчатых салфеток, как бы невзначай уронила:
– Не волнуйся, я плачу. У меня – день Ангела.
Вспорхнувший официант принял заказ, и вскоре на столе выросла бутылка «Шампанского», рыбная закуска – нарезанная янтарными ломтями семга – лоснящаяся горка апельсиново-красной икры и мясо с грибами в глиняных горшочках, от которых шел чудесный, аппетитный дух. Как у собаки Павлова, у меня стала выделяться слюна.
– Итак, сначала к делу, – сказала Ирина, когда я разлил золотое вино, рождавшее со дна бокалов мелкие веселые пузырьки.
– За тебя, – по-гусарски произнес я, все больше очаровываясь красотой своей спутницы, несмотря даже на ее «Сладкий обман», оставшийся лежать на моем редакционном столе.
– За нас, – поправила меня Ирина с недвусмысленным блеском в глазах.
Мы выпили и я, голодный после рабочего дня как крокодил, стал деликатно ковырять пергаментные ломти рыбы.
– Не валяй дурака, – сказала Ирина. – Я же знаю, ты голоден. Ешь, как подобает мужчине. Ешь и слушай. Завтра переводом ты оформишься в издательство Н, заведующим отдела прозы. Будет интересная работа. Прекрасные командировки. А главное – гораздо больше свободного времени. Ты сможешь писать, Олег. Понимаешь, писать! Чего при нынешнем твоем положении тебе по-настоящему не удастся никогда. Так и будешь копаться в чужих бумажках. Я читала твои рассказы в «Юности», «Литературной России» и поняла: ты – талантливый человек. И я хочу помочь тебе. Искренне помочь.
Я посмотрел на Ирину, на ее сияющие глаза, и вдруг кто-то во мне сказал:
– Что ж, я согласен.
– Ну вот и чудненько, – загорелась Ирина. – Наливай! Выпьем за твое будущее. А оно, я тебе обещаю, станет блистательным. Если, конечно, ты будешь хорошим мальчиком.
– Хороший мальчик – это не про меня, – сказал я, уставившись в тарелку, но Ирина пропустила мою реплику мимо ушей.
Мы выпили за мое будущее.
Ирина управлялась с ножом и вилкой с особым изяществом, отведя мизинец правой руки немного в сторону.
Дубовый зал был действительно дубовым. Из дуба были сработаны стены, дубовые столбы подпирали лестницу на второй этаж. Было ощущение, что сидишь в уютной дубовой бочке.
– Хороший мальчик – это не про меня, – повторил я. – Понимаешь, я – кабан. Свободный, вольный кабан, которого обходит даже уссурийский тигр. И я, милая моя, люблю рыть землю, пардон, собственным рылом. Заставить меня делать что-либо по указке – занятие безнадежное. Поэтому будущее будущим, но я хочу, чтобы ты знала и учла все это наперед.
– Не ершись, Олеж, – поморщила свой атласный лобик Ирина. – Ты умный парень и дальше сам разберешься, как быть. Завтра в двенадцать прозвенит звонок твоему Главному, и мы начнем шахматные перестановки, а с ними – новую жизнь. Но это завтра. А сегодня у меня праздник. Понимаешь, Олег, праздник! Я хочу танцевать. Я так давно не танцевала. Пригласи меня на танец.
У меня был неизвестно откуда взявшийся комплекс боязни посторонних глаз. Тем более в полупустом зале никто не танцевал. Поэтому я натужно поднялся, ощущая неловкость и напряжение.
Ирина же, напротив, не испытывала никакого неудобства. Она вообще обладала завидной для меня способностью не замечать никого вокруг, и потому, легко обвив мою шею руками, смотрела мне прямо в глаза. Ее же смородинные очи излучали томление, жажду и любовь. Эти флюиды передались мне, и я ощутил колючий озноб одновременно с горячим желанием обладать ею. Я успел с тоской подумать, что моя Ольга теперь уже навсегда оторвалась от меня и возврата к ней не будет никогда.
– Поцелуй меня, – сказала Ирина.
Я выполнил ее просьбу. Стесненно, но все же выполнил и сказал:
– Знаешь, я, кажется, влюбился в тебя.
– Все. Едем ко мне, – прошептала Ирина, прижавшись тесно и жарко.
По-европейски обставленное двухкомнатное гнездышко Ирины находилось в самом центре Москвы, в Сталинском доме за спиной Юрия Долгорукова, охранявшего на своем боевом коне приближенных к власти.
…Глядя на бархатный, чуть тронутый цветом осени ковер земли под брюхом самолета, я вспомнил сумасшедшую первую ночь в квартире Ирины, ее горячие с придыханием стоны: «Ты мой! Мо-ой! Я тебя никому не отдам». Потом краткая расслабленность отдыха и снова пылкие объятия, тягучие стоны «Ты мо-ой!», словно я мог быть в тот момент еще чьим-то.
На следующий день я владел солидным кабинетом и штатом сотрудников.
Отец Ирины, известный писатель, секретарь Союза, зашел лично поздравить меня и пожелать успехов на новом поприще.
– Поработаешь, осмотришься, – сказал он голосом шефа, – а дальше… возможно, твое директорство будем отмечать в «Праге», – пошутил Виктор Вольфович, похлопывая меня по плечу. – Так что дерзай, – улыбнулся он и пожал мне руку слабым пожатием слабой писательской кисти. – Все рукописные поступления будешь поначалу согласовывать лично со мной. Ну а я… сам понимаешь. Пока самостоятельности не нужно. Присматривайся, вникай, обживайся. У издательства свое направление, свои планы, свои авторы. Это ты должен хорошо себе уяснить. Понятно?
– Понятно, – сказал я, уразумев, что попал в гетто, стал частью истинно мафиозной системы, которой нет дела до талантливых людей, бьющихся лбом о бетонные стены элитных журналов, издательств и читающих свои произведения на кухне неведомо кому, в никуда.
– Понятно, – сказал я, ощутив, что во мне родился бунтарь. Зверь-младенец, который через неопределенное время разорвет всю эту затхлую паутину на части. Во всяком случае, перекроит работу хотя бы одного издательства.
Конечно, я представлял себе, какая сноровка подпольщика от меня потребуется. Но я был молод и горяч.
Затаив в себе дерзкие планы, я принял шумную свадьбу, где среди дорогих подарков были ключи от дачи в Барвихе и новенькая «Волга» от папы Ирины.
Моя мать, прилетевшая издалека, тихо сидела в уголочке кухни, похожая в скромном, неброском платье среди разряженных гостей на служанку.
Тягучая боль от этого несоответствия разливалась во мне.
«Ну ладно, – скрипел я зубами, – посмотрим».
С Ириной было сложнее. Получалось, я вел двойную игру. Ее слащавые опусы, на которые приходилось закрывать глаза, как будто не мешали упиваться ею ночами. Днями же, на работе, мне приходилось играть роль тайного разведчика, обязанного быть предельно собранным, не имеющего права на ошибку.
Так или иначе, я вынужденно следовал до затаенной поры всем требованиям литературной мафии, непререкаемым и установленным ею на долгие времена.
– Почему ты не издаешь свою книжку? – спрашивали меня маститые, панибратски похлопывая по плечу. – Пора, дружок. Пора выходить на орбиту.
Они поверили мне и считали: я с ними заодно. Что я – свой.
– Рано, – отнекивался я. – Моя книга еще впереди. Я слишком придирчив к себе.
– Ну-ну, не опоздай. Время скоротечно.
«Сладкий обман» Ирины вскоре был напечатан вне очереди.
Она влетела ко мне в кабинет, сияющая, со свежим номером журнала.
– Поздравь, – сказала она и, откинув назад роскошные шоколадные волосы, подставила душистую щеку для поцелуя.
Я коснулся губами ее щеки, ощущая, как недобрый мстительный зверек шевелится у меня внутри, потому что банальнее и пошлее повести Ирины трудно было придумать.
Черный ворон с омерзительным, торжествующим криком слетел с ветки дерева за окном.
– Поздравляю, – сказал я холодно.
– Ты, кажется, не рад? – врастяжку произнесла Ирина, и в черничных с прозеленью глазах ее блеснул злой огонь.
– Отчего же, – пожал я плечами. – Танки идут ромбом. Это, как установлено знатоками, победная тактика. Треугольником, ромбом, тетраэдром, – не знаю, еще чем. Ромбом ломятся многие. Ромбом пытаешься двигаться и ты. А понимает ли Ирина Снегирева, что ее опус «Сладкий обман» – слащавая однодневка, о которой завтра никто не вспомнит. Или рождение в писательской семье дает тебе непременное право тоже быть писательницей? И никем другим. Наследственной писательницей. Генетической, так сказать.
Я знал, что сорвался, что не имел во исполнение своих планов права на срыв. Но во мне сидел дикий, клыкастый кабан, и остановить его было невозможно.
Повисла жуткая, тяжелая пауза. Ирина закурила.
– Ладно. Прости меня, – решил унять я бешеный топот своих копыт. – Ты прекрасный, грамотный редактор. Ты чувствуешь любое произведение на вкус. Можешь дать единственно верный совет, как сделать, чтобы работа автора засияла, даже если она почти безнадежна. Но стоит тебе самой сесть за стол, куда все улетучивается: тонкое осязание, обоняние литературы, ее фосфорические переливы, выдержанность стиля. Ведь у тебя талант, редкий талант прекрасного редактора! И как ты им распоряжаешься? Ты его просто не замечаешь. Он тебе не нужен. Ты – писательница! Садишься и, как из тюбика, одним махом выдавливаешь на страницы какую-то пресную кашу, которую лицемерно хвалят и, морщась, едят твои знакомые. Да и то – чайными ложками. Давясь, но улыбаясь при этом: ах, как вкусно!
– Да, мальчик, – процедила Ирина с металлом в голосе. – Ты набираешь темп. И речь у тебя литая, и место соответствующее. А не забыл ли ты, кто посадил тебя в это кресло. Ты кто такой, чтобы обсуждать меня, Снегиреву? Сам-то что написал? Ничтожество.
Этого я стерпеть не мог. Меня подбросило прямо к Ирине, и я жестко ударил ее по щеке, не отдавая себе отчета, не понимая, как могло случиться, что я впервые в жизни ударил женщину. Это было против моих правил. Но случилось. А что случилось, того не вернешь.
– Дрянь, – бросила Ирина и вышла из кабинета на танковом ходу, пробив насквозь две кожаные двери.
Я сознавал, что, укоряя Ирину, грызу себя. Что-то не ладилось у меня с моей собственной рукописью в последнее время. Редакционные игры отнимали много сил и времени. Служение муз не терпело суеты, и потому внутри стояло тошнотворное ощущение, словно мне пришлось проглотить грязную портянку.
Я подошел к окну. В белесых небесах, среди деревьев, приютилась моя тонкая, прозрачная Оленька. Лучезарная, неповторимая.
– Что же ты наделала? – спросил я. – Зачем ты бросила меня? На кого?
В ответ Ольга грустно улыбнулась и растаяла, как снежинка.
Я так и не понял – был ли это святой образ Богоматери или образ моей единственно любимой по-настоящему женщины. А может быть, и то, и другое вместе.
…– Отстегните ремень, – улыбнулась мне стройная стюардесса и помогла справиться с железной пряжкой. – Мы давно взлетели.
…В тот вечер я домой не пошел. Прихватив пару бутылок вина, колбасы, хлеба, консервов, я доехал на тряском троллейбусе до общежития Литературного института и при помощи своего внушительного удостоверения проник в комнату старого приятеля, пятикурсника Николая Родинова, безуспешно пытавшегося когда-то опубликовать в журнале «Октябрь» свою замечательную, талантливую повесть. Но кто был для Главного редактора Николай Родинов? Никто. Пустое место. Рукопись была отклонена, несмотря на все мои старания поместить тогда повесть на страницах издания. В ходу были «Сладкие обманы» и всякая производственная чушь от придворных Союза Писателей. Более того, из-за Николая Родинова у меня с Главным произошла настоящая ссора. Настоящий, можно сказать, бой. Скандал, который мог лишить меня и работы, и места на литературной сцене. Да и вообще – будущего. Танкист, – так про себя я называл командующего журналом, – танкист был мэтром. Он был фронтовиком. Военным писателем. И неважно, что его унылую прозу мало кто читал. Он был на Олимпе. Он был в чести у Руководства. Танки носились по его страницам знаменитым ромбом. И это было в чести Наверху. Впрочем, он и сам был Руководством. А кто был я? Сопливый редакторишка. Вчерашний студентик. В принципе, как и Родинов – тоже никто.
Мы с танкистом сцепились. И довольно серьезно. Я сказал, что он устроил из журнала концентрационный лагерь, в котором это можно, а это нельзя ни в коем случае. Обитель, которая, по сути, является кормушкой для фронтовых бездарей. Да, они воевали. Да, они заслужили почет, уважение, славу. Но это не значит, что они все могут считать себя писателями. Я сказал, что они занимают страницы издания, которые тоскуют по истинно талантливым, одаренным людям. Пусть и не воевавшим. Я сказал, что тут, в журнале танкиста, за спиной каждого талантливого человека стоит КГБ.
Главный побагровел и спросил:
– Ты вообще знаешь, на кого ты поднял руку?
– Догадываюсь, – сказал я.
– Нет, – сказал Главный, – ты даже не догадываешься. Мальчишка. Ты поднял руку на коммунистов. В первую очередь – на меня.
Я сказал:
– Нор-маль-но. Никогда бы не догадался.
Но с какой стати я стал бы это делать? С какой стати? Мой дед был коммунистом и воевал на Курской дуге. Отец форсировал Днепр у Киева и сражался за Харьков. Дошел до Берлина и дрался в логове фашизма. А вы кто такой, танкист-Ананьев? Кто-то другой? Не такой как мой дед и отец, и еще много миллионов иных бойцов? Главный побагровел и сказал:
– Я могу растереть тебя в порошок, но не делаю этого только потому, что у тебя еще молоко блестит на губах!
Веки его дрожали. И вдруг он буквально заорал на всю редакцию:
– Иди работай! Сопляк! Тебя сейчас спасает лишь то, что ты молодой специалист. Иначе!..
– Иначе, – сказал я, – поехал бы на Колыму?
И вышел. Потом мы довольно долго еще были в состоянии холодной войны, и я чувствовал, за мной остро приглядывают, пытаясь поймать на чем угодно. Но время как-то само собой тихо погасило пожар.
Я знал, рукою моего друга Николая Родинова водит Бог, и потому решил восполнить былой пробел, навестить своего товарища в его жилище. В общежитии.
Негромко постучавшись и услышав бурчливое: «войдите», я отворил дверь.
Коля сидел в одиночестве на неубранной койке. Рядом размещалась деревянная тумбочка, покрытая сальной газетой, на которой лежала полузасохшая селедка и кусок черного хлеба. Коля ужинал.
Мой приход он воспринял с какой-то суетной растерянностью, словно я был представителем власти или администрации.
Наскоро заправлялась кровать, сметались со стола крошки, заерзал по полу веник.
– Извини, Олег, – виновато сокрушался Коля. – Весь день работал, – оправдывался он, собирая с пола и подоконника исписанные листы бумаги. – Где перепечатывать – даже не знаю. А главное, на какие шиши.
Николай был похож на рабочего у станка, сметающего стружку, и я подумал, что именно такие работяги, забывая о себе, и делают настоящую литературу.
– Не суетись, – сказал я. – Мой визит чисто дружеский.
Зная по себе житье студентов, я открыл дорогой кейс, подаренный Ириной в связи с моим новым назначением, и извлек оттуда консервы, колесо «Краковской», хлеб и вино.
Николай открыл рот.
– Тебя сам Бог послал. А я сижу – в брюхе бурчит, в кармане тишина. Ребята селедки дали, хлеба кусок. Тем и жив, слава Господу. Сам знаешь. Россия вся такая. Святым Духом только и держится.
– Да, – согласился я. – Ждет, ждет она своей весны, а ее все нет и нет.
– То-то и оно, – вздохнул Коля.
Я достал деньги и положил на тумбочку.
– Возьми на первое время. Напечатаешь, что нужно.
– Ты чего? – испугался Николай. – Мне отдавать нечем.
– Сочтемся, – сказал я. – Не горюй. И не гордись.
– Дело не в гордости. Ты же меня знаешь. Я завтра закачусь куда-нибудь – неделю не сыщут. Повесть затоскует, завянет без меня. Это ведь невеста. Кровь моя. Крик мой. А с деньгами я охрипну, Олег. Кто меня услышит?
– Тебя и так не больно слышат, – посетовал я.
– Это верно, – согласился Коля. – Носил недавно одну вещь в толстый журнал. Ну и что? Не соответствует она, видите ли, высоким требованиям. Всякая фальшивка соответствует, а моя повесть не соответствует. Наблюдаешь, какая ахинея.
Я вспомнил бездарных литературных мафиози, трясших жирными боками на моей свадьбе, и представил их рядом с талантливым, отощавшим Колей Родиновым, ребра которого выпирали, как замерзшие под кожей канаты.
Мы выпили с больной, но упрямой надеждой на будущее.
– Вот что, – сказал я и взял деньги с тумбочки. – Вздумаешь закатиться куда-нибудь, как ты говоришь, отыщу под землей и набью морду лица без всякой пощады. Деньги я тебе даю на жизнь и перепечатку рукописей. Ясно? А сейчас собери-ка все, что у тебя есть на сегодняшний день, включая старые публикации. Попробуем сделать твою книгу. Если, конечно, меня не вышибут раньше времени. Я, понимаешь ли, утром поскандалил весьма круто с женой, а именно ее отец, небезызвестный тебе Снегирев, посадил меня на место заведующего отделом прозы издательства Н. Но ведь как посадил, так может и убрать. Правда, до этого, я думаю, не дойдет. Не в его интересах. Поэтому шевелись, доставай все свои творения.
– Так ты теперь?.. – вытянулся в лице Коля.
– Да, я теперь. Посему соображай, что могло бы войти в книгу.
Я снова услышал топот своих тяжелых копыт, не без радостного задора сознавая: меня не остановить. Даже Ирина была уже не в счет.
– Это первое, – сказал я. – Второе. Нельзя ли у тебя сегодня заночевать? Не хочу скандала с женой. Тем более на ночь.
– Ради Бога! – обрадовался Николай. – Напарник мой по комнате, понимаешь ли, нашел себе какую-то даму и ютится под крылышком. Так что койка свободна. Белье чистое. Живи на здоровье, – захлебывался он, доставая из тумбочки одну за другой толстые папки.
Я тепло позавидовал этому тщедушному российскому отшельнику. Его рукописей набиралось на две солидные книги. Моих собственных сочинений было вдвое меньше, но я не считал их пока чем-то особенным.
Под бодрящее вино мы отобрали с Николаем ровно столько, сколько было нужно для добротного издания, и я, горя от азарта и нетерпения, уложил рукописи в свой кейс.
– Жаль, не успел с последней повестью, – сокрушался Коля. – Она – кровь моя. Позвонил бы раньше, я бы поднажал.
– Не все сразу, – похлопал я его по плечу. – Важно начать.
Вечером в комнату Николая ввалилась веселая толпа гениев, поэтов и поэтесс, хорошеньких, молоденьких и глупых. Кто-то снова бегал за вином и полуночная темень, чернильно занавесившая окно, обнажила голую лампочку, внимательно слушавшую нетленные поэмы юных дарований.
Рубцова среди них не оказалось, и у меня вскоре стали смыкаться глаза, так как подобные турниры мне были хорошо знакомы с моих личных студенческих лет.
Николай выпроводил гостей, и мы замертво упали на стандартные железные койки.
Утром я сбегал в душ, а в десять был уже на работе, выпив по дороге чашку кофе.
Я не стал согласовывать рукопись Николая с отцом Ирины. Самовольно вписал ее в план издательства, чуть оттеснив всю высокопоставленную очередь. Вызвал редактора, в котором обнаружил общность взглядов, и вручил ему папку Н. Родинова.
Этот вызов мог мне дорого стоить. Но копыта, мои вольные копыта гремели с неудержимой силой.
Около двенадцати в кабинет вошла Ирина. Она нервно бросила свое ладное тело в кожаное кресло и закурила чуть дрожавшими пальцами длинную черную сигарету.
Я мельком взглянул на жену и понял: ее танк получил сквозную пробоину.
– Ну и где ты ночевал? – спросила она голосом, над которым нависли слезы.
Я писал письмо одному автору и, не отрываясь от текста, ответил:
– У друга. В общежитии Литинститута.
– Понятно, – вздохнула Ирина, будто вернулась с похорон. – Может, у подруги? Там много хорошеньких девочек.
– Сладкими обманами не занимаюсь, – съязвил я. – Не так воспитан.
С угольными дорожками слез на румяных щеках Ирина вскочила с кресла, подлетела ко мне и, присев на корточки, уткнулась в мои колени.
– Прости меня, Олеж! Прости! – вовсю зарыдала она горько и самозабвенно. – Знаю, что я бездарность. Все сожгу к чертовой матери. Плевать на это словоблудие. Мне нужна любовь. Только твоя любовь, Олег. Не представляешь, как мне было вчера одиноко. А ты развлекался с какими-то потаскушками. Я знаю, знаю! – Била она меня в истерике кулачками по коленям. – Прости меня и вернись. Слышишь? Вернись.
Изрядная доля сентиментальности, которую перебросила в меня моя мать в момент моего рождения, окатила мое сердце болью. Положив руки на вздрагивающую голову Ирины, я вздохнул и примиренчески сказал, целуя ее волосы:
– Ладно, Ириша. Уймись. Все будет хорошо. Я тоже был неправ.
…Самолет дал боковой крен и, словно выдохнув лишний воздух, провалился в атмосферную яму, заморозив на мгновение у пассажиров селезенку, но тут же снова вздохнул и вознесся ввысь. Все дружно и облегченно охнули, ценя неповторимость жизни.
…Вернувшись вечером с работы, я с порога ощутил – к моему приходу Ирина готовилась с особым тщанием. С кухни пахло жареной курицей, из дальней комнаты звучал мой любимый концерт «Битлз», да и сама Ирина выпорхнула навстречу свежая, прихорошенная, сияющая, будто не было между нами никакой распри. Напротив, везде царило ощущение праздника.
Ирина повисла на мне, обвив мою шею локтями так, чтобы не запачкать лоснящимися от стряпни руками ни мои волосы, ни костюм. Орошенная французской косметикой, она поцеловала меня долгим многообещающим поцелуем и прошептала:
– Я очень люблю тебя. Сама не знаю. Такое со мной впервые. Давай никогда не ссориться. Это невыносимо больно.
– Согласен, – сказал я, ощущая, как начинаю таять под ее чарами. – Я тоже люблю тебя. Но если, – взыграл во мне природный огонь Овна, – ты еще раз хоть когда-нибудь напомнишь мне, кто посадил меня в редакторское кресло, я перестану оставлять в этом доме свои следы.
– Не злись, – еще раз нежно поцеловала меня Ирина. – Не забывай, я тоже кентавр, и когда срываюсь, иду напролом, а значит, вполне могу наделать глупостей… Все! – мигом перестроилась она. – Марш в ванную. Ужин почти готов.
Раздеваясь, я успел заметить: на столе в гостиной, в изящной вазе стояли в томном ожидании три бархатных вишневых розы, а рядом с ними красовалась нарядная, в золотом переднике, бутылка Шампанского. Атрибуты примирения были налицо.
Я залез в ванну, и некоторое время лежал в теплой воде, давая расслабление телу и нервам. Но стоило мне закрыть глаза, и Ольга снова возникла передо мной, как некий укор или материализация моей больной совести.
«Зачем ты ушла? – в который раз спросил я. – Все было бы чище в моей жизни. Проще, чище и светлее. Пусть был бы я беден, как Коля Родинов, но с тобой я был бы Ветром, способным переносить каплю росы или бабочку за черту горизонта и видеть то, что недоступно другим».
«Не осуждай меня, – сказала Ольга. – Я не могла не уйти. Это крест. – Она протянула мне маленький золотой крестик на тонкой, почти невесомой цепочке. – Носи его. И неси. И мы будем всегда неразлучны».
«Кто же ты? – спросил я, не открывая глаз. – Богоматерь? Ангел?»
Но образ моей тайной любви уже растаял, не осталось и следа.
Ощутив легкую тяжесть в ладони, я открыл глаза и обнаружил в руке настоящий золотой крест, продетый в настоящую золотую цепочку.
Я надел его на шею вместо серебряного, вылез из ванной, и кто-то во мне произнес:
«Яко Боготечную звезду, честную икону Свою тебе показала еси, Владычица Мира».
«Зачем же ты соединила меня с другой?» – спросил я сквозь потолок дальнюю высь.
«Наблюдатель да наблюдает, – был краткий ответ. – Делай, что делаешь. Твори добро на пути своем и воздастся тебе».
В дверь уже стучала Ирина.
– Ты не уснул там часом? Ужин стынет. И я соскучилась.
«Что ж, – подумалось мне. – Значит, так угодно Наблюдателю».
Я брызнул на себя из одного из многочисленных флаконов, приобретение которых было страстью Ирины, набросил халат и вышел из ванной.
– М-м-м… – вожделенно простонала жена, уловив исходящий от меня запах любимого ею одеколона. – Я бы прямо сейчас сорвала с тебя халат, – призналась Ирина. – Но ты голоден, милый. Желания – на замок. Садись за стол.
И снова пришла безумная ночь, со вздохами, стонами и криками блаженства от Ирины.
Но Ангела с нами не было. Я понял, что Его никогда и не будет. Надлежит либо смириться, либо оборвать все сразу.
Утром Ирина веселым щеглом порхала по квартире, готовила на кухне завтрак, заливаясь модной, противной мелодией.
Я лежал в кровати и с тоской думал о дальних странствиях, – не командировках с авторучкой в руке, а о каких-нибудь таежных переходах, сплавах по быстрым рекам или восхождениях на снежные вершины. Однако всего этого не предвиделось ни в каком обозримом будущем, и мне подумалось, что, как бы ни была высока моя миссия борца за настоящую литературу, я могу и не выдержать.
Потянулись долгие резиновые дни, которые я старался заполнить до предела, завалив себя работой, потому что считал заплечный крест святым. Я чувствовал некий долг перед теми, кто достоин и нуждается и, конечно, перед Наблюдателем. Перед теплой и далекой, как мечта, Ольгой.
Вечерами я добирался до своей рукописи, зависая иногда над нею до утра. Тут я перемещался в другой мир, где все – прошлое, настоящее, будущее, живые и выдуманные герои – сливались в некий плотный сгусток, текуче разливавшийся по страницам. Эта образная магма по воле воображения застывала на бумаге и становилась реальностью.
Ночи, гуттаперчевые ночи, прошитые цветными огнями эротической сетчатой лампы, напоминали батут, на котором мы с Ириной были похожи на ловких спортсменов, кувыркавшихся и так, и сяк.
Иногда мне казалось, что я люблю жену, потому что изысканнее в любви, нежнее и темпераментнее женщин не встречал.
И все же… Того единства тела и души, какое было с Ольгой, с Ириной не получалось. Я понял, что в «танках» не могут рождаться волшебные, неповторимые слова.
…Я заглянул в круглое окошко иллюминатора. Внизу, под благодушным сентябрьским солнцем, мирно лежало обширное российское пространство, которое уже обожгла очередная революция-перестройка, рассекла тело земли на кровоточащие части, где жители остались без работы и средств к существованию, с одним только голодным страхом загнанных зверей.
Однако пока что рычаги и поршни старой машины дышали, двигались, следуя во многом ущербной, но отлаженной деятельности, уже опаленной жадным дыханием демократов Запада и Востока. Россия, как добрая баба, лежала в сиянии солнца и все ждала в извечном томлении своего единственного суженого, кем бы он ни был. Социализм зримо осыпался, как дом в землетрясении.
…Разрыв с Ириной произошел внезапно и закономерно, очевидно, по воле Наблюдателя, карающего за грехи наши.
Я давно, чуть ли не с первых дней, заметил, что госпожа Снегирева любит блеснуть в обществе, поиграть, пококетничать и тем обратить на себя внимание. Но мне нравилось и даже льстило, когда мужчины откровенно любовались ею, хотя я и предполагал, что это любование рано или поздно может перейти черту.
В тот злополучный день я должен был улетать в плановую командировку к известному писателю, чтобы обговорить с ним и подписать договор на его книгу.
Взят был билет на самолет. Ирина собрала мне вещи в дорогу. С утра, попрощавшись с женой, я с небольшим багажом отправился в издательство, откуда к пяти вечера должен был ехать в аэропорт. В том городе, куда я летел, меня уже ждали. Но часов в одиннадцать прозвенел междугородний звонок, и сестра писателя срывающимся от волнения голосом сообщила, что мой автор с обширным инфарктом попал в больницу, стало быть, командировка откладывалась. Как мог, я постарался успокоить горюющую женщину, пожелал скорейшего выздоровления писателю и повесил трубку.
Какое-то время я сидел, погрузившись в некое печальное безмолвие чувств и мыслей, ощущая лишь тоску от скоротечности бытия. Потом я подумал, что нужно спешить с собственной рукописью, ибо никому не ведомо, что с тобой будет завтра и что числит за нами Наблюдатель. Затем я позвонил в общежитие Литературного института и попросил передать Николаю Родинову, что вышла верстка его книги и ему необходимо прибыть в издательство, дабы вычитать свежие страницы.
В четвертом часу явился запыхавшийся Коля в старом, на последнем издыхании, свитере. Весь он был взлохмаченный и напряженный.
Я попросил секретаршу принести нам кофе и, обняв Николая, искренне радуясь за друга, вручил ему верстку.
Секретарша принесла кофе, подозрительно глянула на Николая и с вежливым «пожалуйста» поставила поднос на стол.
У Коли сильно дрожали руки, он чуть не пролил кофе на одежду.
– Пил? – бестактно спросил я Николая в лоб.
Он посмотрел на меня с сожалением, как на чей-то искореженный велосипед, брошенный за ненадобностью у дороги, и неожиданно треснувшим голосом сказал:
– Зачем она умерла?
– Кто? – холодея, произнес я, поскольку глаза у Николая были безумны.
– Нина. Моя героиня. Мне так не хотелось, чтобы она умирала.
Я понял, что предо мною сидит один дух человека, а сам Коля Родинов совсем недавно погибал и принял смерть вместе со своей героиней. Потому-то столь трагически сильны были его страницы, написанные не чернилами, а кровью.
– Так распорядился Наблюдатель, – вздохнул я и вылетел на мгновение в форточку, чтобы остыть, под редкий и неспешный снежок за окном.
Николай наконец-то взглянул на меня, как на что-то реально существующее, и поинтересовался, в смущении опустив глаза:
– Мне говорили, я могу получить какой-то аванс, а то у меня уже нет денег на хлеб.
Горький стыд резко брызнул мне в лицо за свой начальственный вопрос: пил ли Николай. Скорее всего, он почти не ел несколько дней, и потому дрожат его руки.
– Значит, ты не получал денег после подписания договора? – всполошился я, ощущая на себе ядовитую плесень вины еще и за то, что не довел в нужный момент Николая до желанного для него окна кассы. Круг моих авторов хорошо знал эту проторенную дорожку. Я выпустил из вида, что Коля среди них – белая ворона.
– Тогда я не смог, – как бы извиняясь, сообщил Коля. – Попал, видишь ли, в больницу с язвой. Хорошо, успел дописать повесть.
– Прости, не знал… – мертвым голосом признался я, ощущая себя полным подонком. – Ты бы хоть позвонил из больницы.
– Там был один телефон, и тот – с оторванным ухом.
Я представил себе больницу, в которой лежал Коля, и не в силах больше держать груз собственной вины, резко сказал:
– Пойдем!
Мы прошли в бухгалтерию, и я попросил выплатить Николаю Родинову аванс.
Коля, похожий на сомнамбулу, механически расписался в ведомости, видимо, совершенно не задумываясь о том, какие цифры в ней обозначены, и под чем подписывается. Лишь когда он открыл конверт, поданный кассиршей, с крупной надписью: «Родинову Николаю Александровичу» и достал кругленькую сумму, Коля выпучил глаза сначала на деньги, потом, безмолвно, на меня. Взгляд его говорил: не ошибка ли это?
Я похлопал его по плечу и улыбнулся.
– Все в порядке, Николай Александрович. Теперь поехали со мной.
Я усадил новоявленного писателя, оглушенного невиданной суммой, в подарочную «Волгу» и мы покатили сначала в агентство аэропорта, где я сдал билет на самолет, а затем, по моему предложению, остановились возле попутного магазина «Мужская одежда».
Через полчаса Николай вышел оттуда элегантным красавцем, чей вид красноречиво говорил о достатке и положении в обществе, и пока мы дошли до машины, я заметил, как заинтересованно смотрят на Николая женщины. Все старое тряпье мы просто затолкали в мусорную урну.
– Теперь на почту, – попросил Коля. – Пошлю немного тетушке в деревню.
Больше у него никого не было. Воспитывался Николай в детдоме.
На той почте, откуда Коля выслал деньги родственнице, мы положили большую часть суммы на его первую сберегательную книжку.
За дверью новой, необычной для Николая жизни, где он всего стеснялся: своей новой дубленки, галстука под ярким шарфом, блестящих туфель и норковой шапки, всего своего импозантного вида, который требовал иной походки, осанки, иных жестов и взглядов, за этой тяжелой, скрипучей дверью меня вдруг обуяла жгучая радость победы. Николай Александрович Родинов воссел на трон, хотя и сидел на нем, как на золотом ведре. Я видел, что ему до зуда в теле хочется содрать с себя все новое и облачиться в прежнюю, поношенную одежду, в которой ему было и уютнее, и теплее. Дух простоты неброских полей, темных изб и серых озер с детства насыщал кровь этого человека, и выветрить его было невозможно. Просто тогда Родинов не был бы Родиновым.
– А не отметить ли нам это событие? – запинаясь, спросил Коля.
Я улыбнулся.
– Конечно, Николай Александрович. Вот только закатим мою кобылку в гараж. Иначе я не смогу поднять за тебя бокал.
– Так это твоя? Личная?
– Моя, – вздохнул я с чувством постоянно шевелившихся внутри неловкости и горечи, словно мне случилось где-то украсть мою «Волгу», а не получить в подарок.
– М-да, – многозначительно выразился Коля. – Я тоже себе какую-нибудь куплю со следующей книжки. Путешествовать люблю – хлебом не корми. В детстве, бывало, уйду куда-нибудь за поле, за речку, в лопухи. Они теплые от солнца и дорожной пыли. Хорошо! Ничего не нужно. А вот сейчас нужно. Мечтаю дом купить в деревне. Это – прежде всего.
Я закрыл машину в гараже, и мы с Николаем отправились в Дом литераторов, дабы справить там праздник его посвящения в писатели.
Дом тонул в ярком свете люстр, но люди в нем были похожи на чопорные тени, обремененные неясными мыслями. Они таинственно переговаривались о чем-то, якобы, значительно возвышенном, на самом же деле – пустом и никому не нужном. Обитатели Дома жили в ногу со временем, не спеша, сыто и уютно кормя себя до отвала закулисными играми и литературными сплетнями. Разумеется, это не касалось больших имен и тех безызвестных, кто делал настоящую литературу вопреки всему.
Николай решил шикануть и предложил ресторан.
Проходя мимо кафе, я заметил в углу Ирину. Она сидела к нам спиной в окружении мужчин, тех, кто в свое время дарили льстивые поздравления по поводу «Сладкого обмана».
Один из обожателей наливал ей «Шампанское». С неприятным чувством я поскорее проскочил небольшой зал кафе, чтобы не быть замеченным. Не хотелось привлекать чье-либо внимание к нашему с Николаем торжеству. В конце концов, это был только наш праздник, его и мой. Его, потому что Наблюдатель не пожелал обнаружить имя Николая Родинова лишь после его смерти, как это часто и бывало в российской литературе. Мой же – оттого, что я в нужный момент не спасовал и отстоял рукопись Николая перед монстрами издательского бизнеса. Понятно, известную роль сыграло то, что я был мужем Ирины Скворцовой, не пожелавшей в связи с браком менять фамилию. Как же, она была Скворцова! Мое же имя не говорило ни о чем. И все-таки я вырвал талантливую книгу. Впрочем, после этого сам Скворцов, будучи все же неплохим писателем, по-отечески похлопал меня по плечу, похвалив мою твердость, настойчивость и самостоятельность. Но его похвалу я принял пока за холодный весенний ветерок, лишь только шептавший о грядущей весне. Так или иначе, вышедшая живая верстка будущей, уже неотвратимо набиравшейся книги никому доселе неизвестного Н. Родинова, книги с теплым названием «К солнцу и назад» явилась первым подснежником, ясным напоминанием о том, что весна все-таки существует, что она есть и ее можно дождаться.
Мы с Николаем нырнули в дубовую бочку известного ресторана и, выбрав столик в дальнем углу, уселись друг против друга. Мне не особенно нравилось, что Николай избрал помпезный и чопорный Дом Писателей, но это, по большей части, был его праздник. Его право голоса в данном случае значилось первым.
Коля делал угощение. Он заставил официанта призадуматься, что бы такое поизысканнее, повкуснее, а главное – побольше нам принести. Вскоре стол был завален всякой снедью на пятерых с коньяком и «Шампанским».
В новом, дорогом костюме за обильным столом Николай был похож на молодого купчика, отощавшего в дальних походах за прибыльным товаром.
Я был рад, что он обрел наконец некую раскованность и свободу личных проявлений, и ни в чем ему не препятствовал. Я понимал: человеку хоть раз в жизни нужно почувствовать себя вольной, сильной птицей, готовой к любым перелетам.
Коля лихо выстрелил пробкой и разлил «Шампанское» по фужерам. Руки его уже не дрожали. Он перестал быть рабом обстоятельств.
– Ну что же, Николай Александрович, – торжественно сказал я, поднимая бокал. – При твоем нынешнем виде тебя иначе и называть как-то неудобно.
– Да брось ты, – смутился Коля. – Честно говоря, в этих шмотках я себя ощущаю мужиком в юбке. Все пялятся. Не привык.
– Чепуха. Привыкнешь, – сказал я. – Главное, чтобы из тебя не выветрился Господь. Вот за это и хочу выпить. Чтобы твоя вольная прописка в мире не поменялась.
Коля на мгновение задумался. Голубые глаза его подернулись грустной поволокой, сотканной, конечно, из дождей, цветов и серебряных туманов детства.
Мы звонко чокнулись, и я искренне добавил:
– Я очень рад за тебя, Никола. Теперь ты на коне. Не сходи с орбиты ни при каких обстоятельствах. Ты был распят, а сегодня воскрес. Вникни в это. Удачи!
Николай выпил и набросился на еду, как коршун. В общежитии он питался дареным табаком и случайной селедкой.
– Знаешь, как меня называли в детдоме?
– Откуда мне…
– Родиной. Родина, сегодня ты моешь полы. Дай фонарик, Родина. Или: спроси у Родины, он знает. Правда, смешно?
Я улыбнулся и пожал плечами.
– Я всегда все знал, Олег. Потому что любил читать и сочинять. Луна у меня была рыбой из Черного моря. Туманы ползали на корточках, а ветер ночевал в дальних стогах. Словом, чуть что – спроси у Родины.
Коля рассмеялся, и я с удовольствием отметил, что весь он засиял какой-то новой краской. Пробудился и засверкал.
– Потом я ходил по Оке матросом на маленьком катере. Со спичечный коробок. Но мне нравилось. Нравилось, что на мне тельняшка. В ней я шастал на танцы. Влюблялся, дрался – все в тельняшке. Нравилось лежать на палубе и смотреть то на облака, то на звезды. Славно было. Я даже радовался, что один-един на всем белом свете. Но это, конечно, была больная радость… Если вдуматься, хорошо ли, что человек один? Вот она, куча денег в кармане, а мне даже некому что-либо подарить. Любил девчонку одну с нашего курса, но она, – видно, судьба такая, – уехала как-то на летние каникулы и больше не вернулась. Прислала письмо подружке, мол, влюбилась по уши и вышла замуж. Уже беременна. Стало быть, зачем ей институт, литература? У женщин все по-другому. Иногда мне кажется, что я до смерти буду один. Может, нам так назначено? А?
– Не будешь ты один, Коля, – сказал я в утешение, зная, что вру, что именно Николай Родинов и ему подобные обречены на вечное одиночество.
– Мне, слышишь, монах один в метро сказал ни с того, ни с сего. Сидели друг против друга, он все смотрел на меня, а как стали выходить, тронул за плечо. «Путь, – говорит, – твой тернист. И будешь ты на дороге своей один с посохом. Как странник. До самого конца».
Мы помолчали. Я окинул зал, но больше странников не увидел. Впрочем, и сам Николай сейчас мало был похож на такового.
– Слушай, – вспыхнул Коля. – Давай я тебе что-нибудь подарю.
– Мне подаришь свою книжку, когда выйдет. А больше ничего не нужно.
– Нет, – заявил Николай решительно. – Книга – само собой. Но есть еще одна вещица… – Он залез во внутренний карман пиджака и извлек из него костяную фигурку монаха с посохом. – Возьми. Это я. Будет трудно – кликни. Я приду на помощь. Этот человечек всегда был со мною. Пускай теперь живет у тебя. Мне от этого будет тепло.
Он поставил согбенную фигурку путника посреди стола и, очень довольный своим подарком, предложил, наливая коньяк:
– Давай выпьем за тебя, Олег. Что говорить, если бы не ты… Жевал бы я сейчас черный хлеб с огурцом, а рукопись моя тяжелела от пыли. Жду и твою книгу. Ты даже не знаешь, как жду ее! Желаю тебе скорее издаться. За это и выпьем.
Я поднял рюмку.
– Скорее делается, знаешь, что?
– Знаю, – рассмеялся Николай.
– Что касается меня, – подумал я вслух, – то моя личность не при чем. Так распорядился Наблюдатель. Я лишь оказался инструментом в его руках. Выходит, заслуга моя невелика.
– На-блю-да-тель, – медленно произнес Николай и утонул в этом слове. – Да, да…
Часам к десяти в «Дубовом зале» стало шумно. Писатели разрумянились, раскрепостились.
Николая слегка повело. Его истощенный организм не мог сразу насытить себя пищей настолько, чтобы не дать алкоголю затуманить голову. Коля неожиданно для меня пересел к стайке окололитературных девиц и стал показывать верстку будущей книги. Вскоре высокий, худой официант белым аистом важно понес за тот столик две опаловые в золотых обертках бутылки «Шампанского».
Я знал, это не показуха или желание выпятиться, блеснуть. Родина с детства привык делиться всем, что у него есть. Его непосредственность была естественной, как дождь. В детстве Коля жил по законам коммуны и не обладал чувством собственника. Он не понимал, как его деньги могут быть только его деньгами. Само по себе, мне казалось, это было прекрасное, истинно христианское качество, но оно, тем не менее, таило в себе ту опасность, что Николай в недалеком будущем снова мог оказаться у своей пустой тумбочки с огурцом в руке. Поэтому я встал и, извинившись перед нежным полом, попросил Николая на два слова.
– Вы обещали меня проводить. Не забудете? – кокетливо спросила новорожденного писателя одна из трех нимф за столом.
– Как можно? – удивился Коля. – Хорошенькая, правда? – захотел он моего участия.
– Вот что, Родина, – сказал я, когда мы снова уселись на свои места. – Я мечтаю, чтобы ты работал и не знал ни в чем ущерба, чтобы не заезжал ни в больницы, ни куда похуже. Не транжирь деньги, они еще пригодятся. Дверь в издательство тебе уже открыта. Там ждут твоих новых рукописей. Я не ханжа, но будь осторожен. Впрочем, делай, как знаешь. Твоя дорога – это твоя дорога. Люби, обжигайся, тони, воскресай, но помни о Наблюдателе. Он возложил на тебя святой крест. Стало быть, с тебя больше спросится. Вот так-то, Родина. Выпьем на посошок. Тебя, как я понимаю, ждет романтическое продолжение, а мне хочется пройтись, подышать. Удачи!
Мы выпили. Я взял со стола задумчивого монаха, повертел в руке, ощущая под пальцами его ребристую, костяную бороду. И встал.
– Спасибо тебе, – сказал Николай, поднимаясь, и тепло обнял меня.
– Ах, Коля, Коля, – вздохнул я. – Ты, наверное, ничего не понял. Разве не сделал бы на моем месте то же самое?
Я снова прошел мимо кафе. Ирины уже не было. Вынырнув из писательского аквариума наружу, я с удовольствием глотнул сухого морозного воздуха.
После короткой мокрой оттепели капризный февраль выстудил и застеклил весь наличный асфальт тротуаров и дорог, сверкавших под огнями лиловых фонарей, лаковым блеском. Таким же лаком были покрыты машины, проносившиеся мимо с тихим шипением диких кошек. Снег повсеместно уничтожался всеми имевшимися средствами как некое опасное вещество, и потому стеклянные улицы выглядели худыми, голыми и неуютными. Теплый, сырой ветер, пьяно шатавшийся среди дня по площадям и скверам, улегся ночевать в Подмосковных лесах, дав ход подколодной стуже, которая, как осторожная змея, тихо и коварно заползла в город, валя наземь прохожих со своего скользкого панциря. Но в окнах домов мирно горел свет, там семейно пили чай, обнимались или просто любовались друг другом, не думая об уличном холоде, а в углах жилищ сыто дремали животные, и все было, как должно быть.
Деревянный милиционер в черной деревянной шинели деревянно ходил взад-вперед, наблюдая в пустоте порядок, а я шагал к Никитским воротам, чтобы потом завернуть на Тверской бульвар, где уже неподалеку ожидал меня Юрий Долгорукий на своем боевом коне.
Я шел по стеклянной столице с бодрящей легкостью молодости, которую, казалось, в те минуты ничто не могло омрачить. И все же какой-то тайный мышонок покусывал меня изнутри.
Я достал подаренного Николаем странника, еще не зная, что он говорящий, и, остановившись под лиловым фонарем, вгляделся в маленькие, взыскующие глаза, пронизывавшие неким печальным укором пространство и время.
«Приготовься к черте», – тихо сказал костяной путник и я, ошеломленный, громко спросил:
– Что?
Деревянный милиционер прекратил маршрутное движение и поворотился в мою сторону, но, не найдя врага, двинулся по своей огневой линии прочь.
Я спрятал фигурку монаха и вдруг понял, какой зверек возился в моей душе. Это было одиночество, которое, как и в Николае, всегда жило во мне, а путник, подаренный другом, теперь охранял его как нечто особое и самоценное.
Но почему он сказал: «Приготовься к черте»? Об этом нужно было подумать. И я думал на протяжении зеленого от стекла Тверского бульвара и небольшую часть синей Тверской улицы, пока не уперся ключом в замочную скважину своей квартиры, в доме за могучей спиной Юрия Долгорукова.
Входная дверь открылась мягко и тихо. В прихожей было темно. Я не стал зажигать свет. Из спальни через решетчатую дверь матового стекла в коридор оранжевыми, желтыми и красными бабочками влетали цветные блики, рождаемые вращающимся ночником с журнальной столика Ирины. Оттуда же, из спальни, вразвалочку брел по комнатам старенький, седой блюз. Значит, Ирина не спала.
Я снял куртку и решил заглянуть к ней.
Картина, открывшаяся мне, была именно тем, что предвосхитил говорящий монах, сказав: «Приготовься к черте».
Два нагих тела лежали в усталости отдыха. Одно из них было телом моей жены.
Внезапная боль ударила мне в сердце, будто там, внутри, взорвалась граната.
Я много раз видел в кино подобные сцены и тот пожар ужаса, который охватывал мгновенно все три стороны пресловутого любовного треугольника, но то, что этот пожар может жарко лизнуть и меня, никогда себе не представлял.
Первой реакцией Ирины было желание закрыться от позора и стыда. Она потянула на себя одеяло, прикрывая свои прелести. Незнакомый мне мужчина, не шевелясь, лежал в шоке. Глаза, по которым порхали цветные тени, выражали полную растерянность и беспомощность. Это можно было понять, и я сочувствовал его глупейшему положению.
На стене висело, как бутафория, охотничье ружье Вадима Вольфовича, отца Ирины, какими он время от времени пользовался для развлечения, убивая уток, лосей и кабанов.
Я зачем-то снял оружие с гвоздя и переломил стволы.
– Олег! – в агонии дико закричала Ирина.
– У меня условие, – сказал я шершавым сухим голосом. – Завтра ты позвонишь отцу и все расскажешь сама.
– Хорошо, – сдавленно произнесла моя улетающая в безвестность жена и залилась отчаянными рыданиями, скорее всего от досады, что ее танк бездарно подорвался от собственной бабьей дури на неожиданном минном поле.
Я защелкнул стволы и, повесив пустое ружье на место, отправился в свою комнату Седой блюз догнал меня и похлопал по плечу: «Не горюй. Что ни делается, все к лучшему».
Не раздеваясь, я лег на диван и погрузился в пустоту отчужденности, боли и бессилия.
С улицы доносилось кошачье шипение машин, время от времени оставлявших на потолке серые тени призраков, а я валялся на диване и казался себе продырявленной тыквой, из которой медленно вытекали соки жизни. Я понимал, что эта боль была болью уязвленного самолюбия, но она же являлась и расплатой за мой первый шаг под звуки марша Мендельсона во Дворце бракосочетания. Княгиня Ольга не хотела отпускать меня.
И вдруг меня ударила мысль: «О чем я печалюсь?» Ирину я не любил так, как Ольгу, а стало быть, подменить истинную любовь просто страстью было нельзя и, конечно, то, что случилось, должно было случиться. Рано или поздно. Однако могло и не случиться: мог появиться ребенок. Один, другой… И тогда я вынужден был бы выйти с белым флагом. Значит, Наблюдатель сознательно разыграл весь этот фарс. Чтобы я уяснил себе: в жизни все должно быть настоящим.
Что лукавить, я зацепился за земное. Вместо того чтобы полностью отдаться книге – своей единственной пока верной жене – стал в свободное время, – замечу! – не без удовольствия взявшись за руль собственного автомобиля, порхать на дачу, дабы там, забыв о самом главном, пилить, строгать старые, купленные по дешевке доски и приколачивать их к полам, стенам и потолкам в надежде создать из всего этого свою уютную Чукокколу или Абрамцево, куда могли бы наезжать художники, музыканты, писатели и прочий любопытный народ. С моей работой вполне могли бы справиться умелые работяги, во множестве слонявшиеся по дачному поселку. Но меня подогревало какое-то деревенское, барское сознание того, что в будущем я смогу сказать: «Вот. Все это сделано своими руками». За этими словами, как следствие, стояло – все мое. Частенько, утомившись в работе, я оставался ночевать непосредственно на стройке личного коммунизма. Возможно, тогда уже на моей голове появились первые роговые отростки. И поделом!
Одна из темных сущностей столицы потихоньку засасывала меня как линь приманку. Вдруг появилась горячая, санкционированная Ириной блажь – покупать модные рубашки, костюмы, куртки, галстуки и прочее шматье. В котором, если подумать, я совершенно не нуждался. Кроме того, меня охватила страсть – менять старую радиоаппаратуру на суперсовременную. Я завалил комнату кассетами настолько, что пришлось покупать специальную тумбу. Пузатую дубовую тумбу с баром и подсветкой, высмотренную где-то самой Ириной.
Зачем все это было нужно, в то время как по мне тосковало, ждало ласки и любви единственное мое сокровище – моя незаконченная рукопись.
Вот за это я и получил то, что получил.
Осторожно защелкнулся замок в коридоре: Ирина, наконец, проводила своего фаворита. Мне показалось, на обратном пути она несколько дольше задержалась у моей двери. Я напрягся, ожидая, что сейчас начнется слезный театр раскаяний, деланных жестов, клятв и прочей чепухи, какой мне меньше всего хотелось. Но, тяжело вздохнув, она прошла к себе, так и не решившись войти. Ее танк пылал ярким факелом. Ирине сначала нужно было что-то делать с боевой машиной. Поэтому она прошла мимо меня. Я почувствовал, что какая-то гранитная плита лежит на груди. И мне вдруг горько показалось, что уже ничего хорошего я в жизни не увижу. И не узнаю. И не почувствую. Не замру от запаха первого снега и скачущей по нему толстой вороны. Не нальется мое сердце бешеным счастьем от трепета паруса под упругим ветром. Не прикоснусь больше, как к иконе, к губам женщины. Не зарыдаю от восхищения. Не удосужусь… Не смогу… Не стану…
Я достал путника и поскреб ногтем его костяную бороду.
– Что скажешь, монах?
Глядя сквозь мою оболочку и прочие миры, странник помолчал и тихо молвил:
– Вернись на дорогу.
«Ладно, – подумал я. – Из кювета нужно выбираться».
В сером потолке неожиданно мелькнула Ольга, взмахнула белым крылом и закрыла мне глаза. Я унесся в далекую страну другой, прошлой жизни, где в неизвестном году летоисчисления строил храмы, вытачивал амулеты, ловил бабочек, гонялся за ветром – тем и был счастлив.
Потянулись унылые, тоскливые дни переговоров, увещеваний, резонных доводов, но мои копыта гремели в лесных чащобах уже далеко от Москвы, и потому я был непреклонен.
Вадим Вольфович, сцепив руки за спиной, задумчиво мерил мою комнату неспешными шагами, встряхивая время от времени седой, породистой гривой: от наших проблем у него болела голова.
– Ну хорошо, – басовито говорил он. – Развод – это понятно. Но как же машина, квартира, дача?
Похоже, внешние атрибуты нашей с Ириной жизни его волновали больше внутренних аспектов. Сам он был женат четыре раза и научился смотреть на вещи практически.
Я объяснил, что мне не нужно ничего, кроме крыши над головой.
Ирина все это время была похожа на монашку, которая дала какой-то повинный обет молчания. Носила скромные одежды, ходила тихо с печальной покорностью судьбе, словно пребывала в тоске и скорби после похорон близкого человека. Она даже, как мне показалось, нарисовала себе соответствующий образ и вдохновенно играла роль Магдалины.
Через месяц напряженного сосуществования, когда я приходил домой только ночевать, нам шлепнули в паспорта штампы о разводе в том же районном ЗАГСе, где, казалось бы, совсем недавно Ирину и меня осыпали цветами. Еще через неделю Вадим Вольфович вручил мне как бы по ходатайству издательства ордер на квартиру в Измайлово.
Я переехал в однокомнатное жилище, выходившее окнами восьмого этажа на старинный Измайловский парк, простиравшийся до самого окоема.
Багаж мой был невелик, и мне это нравилось. Письменный стол, диван, шкаф для одежды, пара стульев, четыре книжных полки, пишущая машинка, картины друзей и старенькая гитара.
Ковры, хрусталь, позолоченные рамы, богемское стекло, кухня из «Гжели», японская аппаратура и многое другое осталось жить за широкой спиной основателя столицы, плюс машина и, как собака на длинной цепи, дача в Барвихе.
Меня особенно радовало, что теперь мои окна не упирались в каменное брюхо противоположного дома, а открывали волнующий вид лесного простора, вселявшего в душу покой и умиротворение.
Вот за это я готов был расцеловать Вадима Вольфовича, но монах, стоявший теперь на книжной полке рядом с иконой Христа, напомнил мне, чьих рук это дело. Тогда я сходил в церковь и, стоя среди мягкого золота свечей, вознес в знак благодарности Наблюдателю долгую светлую молитву.
В издательстве, правда, ситуация наэлектризовалась. Над моей головой запахло грозою во всех коридорах, кабинетах и углах. Прежняя Снегиревская броня рассыпалась в прах. Теперь я был просто Олег Никитин и больше никто. Я стал не уверен даже, смогу ли где-нибудь издать свою книгу: магнаты были в одной связке. И тут во мне вспыхнула ярая кабанья злость. Я оголил клыки, уперся покрепче и заявил, что не сдамся.
Наступила зловещая тишина, в которой кто-то с коварной бдительностью наблюдал за каждым моим шагом, следил из-за угла, рылся в белье и проверял моральный облик. Я превратился в сущего подпольщика, умеющего заметать следы, скрываться от погони и путать сыщиков, выполняя при этом свою работу с особым тщанием и скрупулезностью. Я не имел права на ошибку.
Опала постепенно стала рассеиваться. Магнаты смирились, решив, что опасности во мне не больше, чем в огурце. Они простили разрыв с семьей Снегиревых. Но это прощение мне стоило дорого.
Обо мне с Ириной пошли гулять пошлые истории и анекдоты, конечно, не в мою пользу.
Однажды утром я обнаружил на двери своего кабинета прикнопленный «дружеский» шарж, очень похоже и язвительно едко изображавший мою личность, украшенную большими ветвистыми рогами.
Взбешенный, но трезво взвесивший все «за» и «против», в сей же день я отправился к Вадиму Вольфовичу и положил свой портрет ему на стол.
Он улыбнулся уголками губ, но промолчал.
– Это произведение было на двери моего кабинета, – объяснил я. – Если вы лично не прекратите омерзительную травлю, которая началась в издательстве после нашего с Ириной развода, то… – Снегирев сурово вскинул поверх очков густые брови, – кто я был такой, угрожать магнату?
– То… что?
– На мое счастье, – сказал я, обнажая клыки, – наша достославная бюрократическая машина работает так энергично, что я до сих пор не выписан с прежнего места жительства и не прописан на новое. А это значит: пока что я могу отказаться от новой квартиры и подать в суд на раздел всего нашего с Ириной наличного имущества.
Снегирев снял очки и встряхнул благородной серебряной гривой.
– Послушай, Олег Геннадиевич, – произнес он голосом человека, получившего крепкий удар. – Я всегда уважал тебя как человека и талантливого литератора… – Голос звучал искренне. – Поверь, мне очень горько, что все так вышло. – Он повернулся ко мне спиной и, подойдя к окну, продолжил: – Горько и больно оттого, что моя дочь выросла бездуховной потаскушкой, такой же пустой, как ее шляпки. История с тобой, между нами, не первый случай. Всегда хотел сына – не получилось. Наверное, плачу по счетам. – Снегирев повернулся ко мне лицом, правое веко крупно дрожало, и я пожалел, что ворвался к нему с обнаженной шашкой. – Прости, я не ходок за кулисы и не знал, что злые языки выползли так далеко. Сегодня же обрежу все до единого. Работай спокойно. И вот что. Я тебе не враг. Заходи. Просто поговорить, посоветоваться. Или в случае нужды. Поверь мне, сынок, я не желаю тебе зла. А Ирину оставь. Пусть живет, как знает. Бог с ней. Он ей и судья.
Забрав портрет, я вышел опустошенный. Все перемололось: боль, гнев, обида, тоска и напряжение последних дней превратились, как после мясорубки, в однородное сырое вещество, которое лучше всего было выбросить прочь. Но сначала я должен был совершить еще одну акцию.
После развода друзья показали мне любовника Ирины. Это был известный карикатурист. Вот с этим дарованием я и мечтал встретиться, уже точно зная, чей рисунок оторвал от кнопки на двери своего кабинета.
Карикатурист был завсегдатаем Дома Писателей, жуиром и волокитой, этаким современным гусаром Александровских времен. Странно, что я не узнал его в собственной постели. Но, во-первых, я обнаружил преступника погруженным в полутьму, а во-вторых, мне было наплевать, кто именно лежит с моей женой.
Я увидел его сразу в маленьком нижнем кафе в окружении друзей и подруг, среди которых находилась Ирина. Однако остановить меня было уже невозможно.
Я протянул ему злосчастный листок и коротко спросил:
– Твоя работа?
Обладатель острого глаза повертел рисунок на вытянутой руке так, чтобы видели остальные, и с легкой ухмылкой сказал:
– Ничего получилось, правда? – привлек он окружающих и отхлебнул вина.
– Я спрашиваю, твоя работа? – повторил я свой вопрос.
– Ну моя, – сказал он и, не роняя ухмылки, посмотрел мне в глаза.
В следующую секунду гусар с грохотом опрокинул стул и неподвижно развалился на полу: сработали навыки, приобретенные мною в спецшколе погранвойск.
Я взял со стола свой портрет, скомкал его в кулаке и, перешагнув через дохлого художника, вышел из кафе. Однако уязвленный карикатурист догнал меня на улице, пылая от сатисфакции. Но догнал на свою беду лишь затем, чтобы снова улететь в подворотню.
Глубоким вечером позвонила Ирина.
– Ты был великолепен, – хрипло сказала она, и я почуял, что моя бывшая жена изрядно выпила. – Этот художник – подонок, а я – грязная шлюха… – Ирина заплакала. – Ах, Олег! Если бы можно было вернуть все назад. Как бы я любила тебя. Мне так плохо. Приезжай. А? Если не приедешь, я сегодня умру. Пожалуйста, приезжай. Давай начнем все сначала. Прости меня, человек на то и человек. Он ошибается, кается, рождается заново.
Скрипя зубами, я поднял глаза к потолку и увидел летающих кошек с растопыренными когтями, готовых вот-вот вцепиться в мою душу. Тогда я повесил трубку. Потому еще, что за пять минут до звонка Ирины монах неожиданно сказал мне со своей полки: «Уходящий не возвращается, а идущий не оглядывается. Иди ровно». Через пару минут звонок прозвенел снова. Ирина жалобно спросила:
– Ты не хочешь со мной говорить?
– Нет, – сказал я. – Говорить больше не о чем.
– Ты не один? – загробным голосом спросила прошлая жена.
– Послушай, – сказал я, все больше злясь на ее пьяный лепет. – Навсегда забудь мой номер и что я вообще существую на земном шаре. Нет меня. Нет! – крикнул я и выдернул шнур из розетки.
Когда-то я полагал, что свою судьбу мы выстраиваем собственными руками. Выбираем ее, как лучшее из лучшего. Как, к примеру, самый красивый цветок из букета. Но в какой-то момент понял: судьба – это игра Наблюдателя с нами. Только игра. И нужно быть хорошим, внимательным игроком.
Ирине Маэстро подложил ножницы, которыми она умудрилась отстричь цветку голову. Может быть, из желания поинтересоваться: не появятся ли на месте одного бутона два. И эту игру она проиграла, не имея мудрости увидеть или угадать, что на мертвом стебле не вырастает ничего.
Словом, я выключил телефон и погасил свет, но заснуть не мог. Дошло до того, что я оделся и вышел на улицу с красивым весенним названием – Первомайская. Одинокий трамвай, озаренный внутренним светом, пробежал мимо меня, громыхая железными ногами.
По головам домов и магазинов струились электрические волосы реклам.
Ничья собака пришла и села рядом.
Тихонько кашлянул в моем кармане монах. Видимо, простыл в последнюю оттепель.
Я погладил неизвестную собаку и угостил ее случайно завалявшейся конфетой. Но конфету она принять постеснялась, лишь крупно задрожала в ответ всем своим тощим телом, глядя на меня глазами, полными последней надежды. Это было выше моих сил. Вдруг остро захотелось выпить.
– Пошли, собака, – сказал я и, не оборачиваясь, поплелся к дому.
Собаке я наплескал в миску теплой воды из чайника и покрошил туда мягкую булку, колбасу и пару кусков оставшейся от ужина печенки, подумав, что, видимо, напрасно это делаю, так как все равно придется расстаться: мои планы уже оплодотворились идеей пошататься по свету Нужно было лишь завершить две-три работы и тогда, по моим предположениям, я смог бы рвануть за ветром на все четыре направления. Поэтому пригреть животное, чтобы потом носить тоску и грустную память о нем, мне не хотелось. Я решил утром распрощаться с дворнягой, выпустив ее в привычный мир.
Собака была женского пола, ела аккуратно, но без остатка. Поев, она скромно отошла к двери и улеглась на коврик, поглядывая на меня печальными агатовыми глазами.
Я отвернулся, поражаясь тому, как они все понимают. Потом налил фужер коньяка и залпом выпил, чтобы заглушить шевелившуюся, как сердце, внутреннюю боль. Через пятнадцать минут я плавно опустился в мягкую траву сна и очнулся лишь тогда, когда затрещал будильник.
На следующей неделе вопросы моей выписки и новой прописки были безотлагательно решены, понятно, не без помощи Вадима Вольфовича. Не без этой же помощи, надо сказать, отношение ко мне в издательстве заметно переменилось. Все стали подчеркнуто, вежливы, заботливы, а сам я даже получил какую-то неожиданную премию.
Так или иначе, словом, все мало-помалу нормализовалось.
Вскоре я закончил свою рукопись и беспрепятственно сдал ее в параллельное издательство.
С Ириной мы виделись редко, приветствуя друг друга легкими кивками головы: она, как всегда – несколько свысока и надменно, тем более что теперь Снегирева чаще всего сталкивалась со мной, держа под руку своего нового мужа, занимавшего, по слухам, какой-то видный пост в правительстве. Это был вальяжный, чопорный мэн с важным, пустым лицом.
Танк Ирины после ремонта выглядел вполне пристойно, однако глаза моей бывшей супруги все же хранили следы прежних пробоин.
Но вот настал мой черед.
В тишине кабинета я достал подаренного Родиной монаха, дернул его за бороду, и он негромко, но внятно приказал:
«Ликуй!»
Мне стало смешно.
– А я что делаю?
Через пять минут мое заявление об уходе по собственному желанию лежало на столе директора издательства.
Он удивленно поднял на меня глаза.
– Что-то случилось?
Я улыбнулся.
– Ровным счетом ничего. Меня привело к вам мое состояние.
Директор еще выше поднял брови.
– В народе такое состояние называется: в попе шило. А если конкретнее – хочу побродить по земле. Пожурналиствовать. Я же, по сути, нигде не был. Лаперузу хочу. Тайги, речек. Океанов хочу, Владимир Александрович. Вот, собственно, и все.
Директор погрузил подбородок в ладонь и задумался.
– Лаперузу, говоришь? – наконец, хмуро произнес он. – Черт бы тебя побрал, с твоими океанами. Не издательство, а клуб кинопутешествий какой-то. Кого я, по-твоему, своим замом сделаю? Ну нет нормальных людей, – ворчал директор, подписывая заявление. – Паразиты все какие-то. Вот лично ты не паразит? Еще какой! То-то и оно. Теперь сиди, ломай голову, кому доверить учреждение.
Я снова улыбнулся.
– Я вернусь, Владимир Александрович.
– Вернусь, клянусь, – продолжал театрально дуться директор. – Конечно, вернешься. Куда денешься. Ладно уж. Плыви, моряк. Что за напасть такая – кругом одни моряки. Вернешься – сразу ко мне. На ковер. Понял?
Я согласно кивнул.
– И это… – сказал Владимир Александрович, подавая мне подписанное заявление. – Черкни, что ли, где ты там будешь болтаться посреди Лаперузов. Чай – не чужие.
Самолет вонзился в густую облачность, как нож в сахарную вату, и словно перестал быть самолетом. Теперь он казался беспомощным металлическим насекомым, слепо ползущим по вязкой тине тумана. Облака горячим паром клубились за стеклами иллюминаторов, отчаянно рыдавших дрожащими слезами.
Туман за круглым окошком обладал снотворно-паралитическим действием, и я, не выспавшийся в последнюю ночь, в скором времени снова утонул в тягучем, глубоком сне под небесами обетованными.
Теперь спал я долго, потому что, когда проснулся, подлетали к Желтому Городу. Самолет плавно, но все же с небольшими провалами снижался, рождая в пассажирах щекочущий радостный трепет. Облака хлопали по крыльям машины, как мокрые простыни.
Океан, открывшийся под облаками, ударил ослепительной, необъятной синевой. Я почувствовал, как раскаляются внутри меня плавкие предохранители.
Рыжие бугры сопок тянулись по берегам залива застывшими драконовыми хребтами, меж которыми стайками ютились игрушечные поселки.
Самолет совершил над открывшейся лагуной крутой вираж, и пассажиры снова замерли от сладкого ужаса, но через пару минут он вышел на ровный ход и понесся над горностаевыми шапками сопок, заросших снизу бурой таежной щетиной.
«Вот оно! – кричало все во мне. – То, что было за горизонтом».
– Подарок от Наблюдателя, – сообщил монах из внутреннего кармана пиджака и тихонько постучал меня в грудь костяным посохом.
Вскоре машина твердо прыгнула резиновыми ногами на бетонную полосу и быстро побежала между сопок к белой коробочке аэровокзала.
Я прошел по салону деревянными ногами и ступил на трап, упиравшийся подошвами в почву другой планеты.
Предварительные мои знания об этой земле зиждились на том, что первопроходцами здесь были отважные казачьи отряды, пробиравшиеся сквозь дремучую, непролазную тайгу в поисках благодатных мест для новой России, да бесстрашные мореплаватели, коим Петровскими наказами велено было обнаруживать неведомые края и утверждать в них российские пределы. Тут ходили на древесных парусниках Крузенштерн, Лаперуз, Седов и прочие твердые люди.
Затем, во времена великого вождя всех народов И. В. Сталина, эта земля наполнилась тысячами одушевленных призраков, долбивших во искупление несуществующих, по большей части, грехов каменную почву вечной мерзлоты для светлого будущего Великой трассы. Призраки имели полезный строительный материал – собственные кости. Ими и умащалась печально известная дорога.
С тех пор минуло не так много лет, и призраки, возможно, еще бродили в глухих таежных чащобах.
Упругие ветры рассеяли и замели прах павших на строительстве коммунизма. Лишь память, горькая память о них еще жила в сердцах близких, в вещах и предметах в бесчисленных уголках планеты.
Я сошел на землю и вдохнул наполненный солнцем, прозрачный сентябрьский воздух, имевший тонкий аромат хвои, водорослей и йода Дальневосточного моря, жившего за близкими горами.
В ожидании автобуса я извлек из кармана костяного спутника, но он не обнаружил при виде новых мест ни радости, ни печали, словно пребывал тут вечно. Впрочем, вечно он пребывал везде. Подобно всем великим мудрецам мира монах смотрел сквозь глубину времени и пространства без всякого выражения лица. Что же творилось у него внутри, было известно одному Богу.
– Ну, дядя, что скажешь? – спросил я его весело.
– Наблюдай, – молвил путник. – Раз ты по образу и подобию.
– Что и делаю, – рассмеялся я.
Усевшись в удобное кресло автобуса, я вспомнил суетные коридоры далекого Олимпа, направившего меня сюда, географическую карту на стене кабинета Валентина и города, обозначенные в моем командировочном удостоверении. В котором из них остановит судьба на последующие три года?
В любом случае, я был близок к тому, о чем мечтал.
Суровый лес стоял по обе стороны дороги, озаренный лишь на опушках лимонными лиственницами.
Народ в автобусе не обладал столичной надменностью и неким чувством превосходства. Он был прост, широк и дружелюбен.
– Эй, паря, – тронули меня за плечо сзади. – Опустишь стаканчик?
Я вежливо отказался.
– Новенький, – определил меня предлагавший.
– Новенький, – согласился его товарищ. – Ничего. Обтешется. Все мы когда-то были новенькими. А выйдет на палубу или сядет в бульдозер – вся с него материковая шелуха сразу слезет. Ну, будем, Петро.
Мои незнакомые друзья громко чокнулись за моей спиной простым стеклом грубых стаканов. И чокнулись с ними женщины из соседнего ряда, Катя и Нина. А вскоре все четверо напевно и звучно сообщали автобусу, что «По Дону гуляет казак молодой».
Солнце в тот день горело тихо и благостно, словно в природе был скромный церковный праздник. Все вокруг грелось в теплой щедрой осени и даже не верилось, что где-то неподалеку зимой случаются шестидесятиградусные морозы, царит долгая темень и гуляет по небу фантастическое Северное сияние.
Под веселые песни южан автобус долго катился между сопок, а Желтый Город все не появлялся. Наконец, он все-таки явился, ничем, на первый взгляд, особенно не отличаясь от множества подмосковных городов, за исключением, пожалуй, того, что окружали его мохнатые горы, за которыми совсем близко, по всей видимости, скрывалось холодное море, плавно переходящее в бескрайний Тихий океан.
Но стоило сойти с автобуса и сделать несколько шагов по новой Дальневосточной земле, как ты начинал понимать, что перед тобой другая планета, другой воздух, другие люди, другое солнце. Все другое.
Гостиница, где на мое имя уже был забронирован номер, оказалась рядом с автовокзалом. С двумя грузными чемоданами – один был набит любимыми книгами, другой теплыми, по причине Севера, вещами, плюс пишущая машинка – я не спеша добрел до серого здания гостиницы.
Моя маленькая, но уютная комната располагалась на третьем этаже. Она соседствовала с еще одной, смежной, разделяясь с ней общим небольшим коридором.
Я распаковался, достав сначала, как говорят в дороге, предметы первой необходимости, да расчехлил пишущую машинку, так как на новой земле меня вдруг обуяла неуемная писательская лихорадка, острая жажда, требовавшая немедленного утоления.
Рассеянно разбросав вещи и опрокинув впопыхах стул, я бросился к письменному столу. За мягким шлепаньем клавиш, в играх со своими героями не заметил, как окно занавесил сумрачный вечер, включивший огни противоположного дома и двух домов по бокам. Вид получился ничем не отличавшийся от моего прежнего, московского. Но мне было хорошо. Я видел, что меня прорвало и теперь понесет неудержимо. На столе будут веером лежать свежие страницы.
Я зажег свет, потянулся, похрустел онемевшими суставами и услышал негромкую музыку, порхавшую в соседнем номере. Там же, в этом номере, каменно обозначались чьи-то грузные шаги, словно в той комнате ходил большой снежный человек в тяжелых, с железными подковами, сапогах. Здоровое любопытство толкало меня посмотреть на соседа, но усталость от перелета и смены времени диктовала свое. Наспех ополоснувшись в душе, я с блаженством залез под одеяло, ощутив свежесть гостиничных простыней.
«Завтра пойду к океану», – решил я, смыкая веки, и тут же провалился в глубокий омут, где сначала встречался с теми, кто жил в моей новой повести, а затем погрузился еще глубже. Там уже не было никого и ничего.
Утро заползло ко мне в номер чем-то вроде золотого бегемота на стене, рожденного солнцем и причудливой занавеской.
Погода, слава Богу, не поменялась. Похоже, здесь наступило Дальневосточное бабье лето.
«К океану! – утвердился я. – Все остальное потом».
К «остальному» относилась встреча в городском комитете впередсмотрящих с человеком, которому звонил из Москвы Валентин. Этот человек, Владимир Придорожный, должен был, как я понимал для себя, изложить план моих дальнейших передвижений в пространстве Дальневосточной земли. К «остальному» относилось так же знакомство с Магаданом, Желтым Городом, – такое название я почему-то прочно утвердил в своем сознании, – с редакциями газет, радио, телевидения, где, возможно, мне надлежало в дальнейшем работать. Но все эти радостные встречи я решил немного отодвинуть, так как первенство все же держал океан. О нем я знал лишь из книг и кинофильмов. Что же такое океан на самом деле – пока оставалось тайной. И потому меня тянуло на побережье, как магнитом.
Я прошел в буфет, заказал кофе и пару бутербродов. За мой столик подсел широкоплечий, кряжистый человек, большеголовый, хитроглазый, с серебряной шкиперской бородкой, без усов. Он поставил на стол фужер коньяка и кофе, а за бутербродами отошел еще раз. Разместившись, шкипер достал платок и густо, по-мужицки высморкался так, что некоторые посетители обернулись.
– Протянуло в машине, холера, – пожаловался он мне. – Не машина, а дрянь какая-то. Дует со всех концов.
– Ничего, – сказал я и кивнул на его фужер. – Коньячок подлечит.
– Вот я и говорю, – согласился шкипер. – Может, опрокинешь за компанию? Я возьму.
– Дела, – отказался я.
– Дела – это святое, – понял шкипер. – Тогда будь здоров.
Он залпом опустошил фужер, запил кофе и принялся за еду.
– Ты, я гляжу, с материка. Что новая копейка. Свежего человека сразу видать. Руки у тебя гладкие.
– С материка, – подтвердил я, смакуя непривычное словоупотребление «с материка» и мельком взглянул на ручищи соседа с бугристыми венами, с крепкими коваными пальцами.
– Я тут, слышишь, восемь лет тарабаню. На прииске, – доложил шкипер. – Хочешь, поехали ко мне. Деньги хорошие. Но и работа, конечно… Бульдозером владеешь?
– Спасибо, – улыбнулся я. – Я – по другой части.
– Ну что же, – пожалел шкипер и протянул мне каменную лапу. – Всего тебе.
Я поднялся к себе в номер и остановился над столом с рассыпанными странницами.
«Океан, океан… – это, братец, не «Сладкий обман» – кружилась надо мной язвительная по отношению к бывшей жене строчка. Вдруг какая-то властная сила пригвоздила меня к столу, а руки, будто руки робота, зарядили в машинку чистый лист бумаги. Я снова перенесся в другой мир, действительный и в то же время далекий от действительности.
Затрещала машинка, и все прочее отлетело в сторону. Холодное море, плавно переходящее в бескрайний океан, в этот день меня так и не дождалось.
Я снова очнулся под вечер, когда в номере соседа послышались множественные мужские голоса и грохот сапог, словно к нему явилась по приказу боевая рота солдат.
Шум докучал мне, но я уже «разбежался», и остановиться было не так-то просто. Однако голоса становились все громче, возбужденнее, они проникали в мой мир, как опасные шмели, подгрызали его и, раздосадованный, я вынужден был прерваться.
В эту минуту дверь моей комнаты отворилась, и на пороге вырос огромный, что слон, капитан пограничных войск. Видимо, пограничный военный, оказавшись на новом рубеже, бдительно обследовал незнакомую зону и, обнаружив на объекте постороннюю дверь, решил поинтересоваться, нет ли тут какой-либо опасности государственным рубежам.
– Ты что тут делаешь? – искренне удивился боевой пограничник, привыкший, судя по всему, к тишине и безлюдности территории. Хотя бог его знает – к чему он привык.
– Как что? – отчасти смутился я. – Живу и работаю.
Пограничник в недоумении поднял густые брежневские брови. Между козырьком его военной фуражки и переносицей образовался ряд тяжелых морщин.
Я сидел на своем стуле вполоборота к капитану и чувствовал себя в дурацком положении, ибо слово «работа» в понятии многих людей естественных, обычных профессий не вязалось с тем, чем занимался я.
– Не понял, – сказал капитан и шагнул в мою комнату, желая разобраться конкретно.
– Пишу книгу, – уточнил я, неопределенно указав на машинку и отпечатанные страницы.
– Подожди, – задержал меня защитник границ и сдвинул фуражку на затылок. – Так ты, получается, писатель?
– Вроде того, – смущенно улыбнулся я.
– Ни хрена себе, – сказал капитан и оглянулся, ища боевой поддержки. Но дверь позади бойца была закрыта, поддержки не предвиделось. Тогда пограничник решил стоять до конца.
– И откуда же ты прибыл? – продолжил допрос майор.
– Из Москвы, – сознался я.
– Врешь, – остолбенел морской боец. – Так у нас же ползаставы – москвичи, – гордо отметил он. – Кто из училища, а есть – из Академии пограничной службы. На Ленинградке. В смысле, на Ленинградском шоссе.
И вдруг двухметровый военный, сгреб меня вместе со стулом и легко, словно плюшевую игрушку, понес в соседний номер.
В комнате, куда приволок меня капитан, за импровизированным столом тесно сидели человек пятнадцать военных, отмечавших, как выяснилось позже, день рождения своего товарища, моего соседа по номеру, майора Александра Николаевича Желунова. Тем более именины, оказалось, совпали с десятилетием его службы в качестве офицера пограничных войск и окончанием Академии.
– Вот, – показал присутствующим свою находку мой гость-пограничник, держа меня, как фараона, вместе со стулом на весу. – Я вам писателя притащил. Товарищ тоже из Москвы. Обнаружен в соседнем номере. Окопался там, понимаешь, а мы ни ухом, ни рылом.
– А ну, сдвинься, ребята! – раздались голоса. – Сажай писателя в середку. Прибор москвичу! Рюмку земляку! Тост! Пусть писатель скажет тост! – это уже командовал сидевший рядом со мной розовощекий молоденький старлей. – Нашему дорогому Александру Николаевичу, – он указал на серьезного, подтянутого майора, – сегодня стукнуло тридцать два. Десять лет Александр Николаевич охраняет границу. Поэтому, писатель, давай, соверши, пожалуйста, краткую, но красивую речь.
Я был, застигнут врасплох. Все случилось неожиданно. С бухты-барахты. Но речь совершить надлежало.
Я сказал, что дело, которым занимаются мои новые друзья, пожалуй, одно из самых нужных и святых на земле. Что может быть важнее защиты Отечества, сердце которого – Москва. Того Отечества, что за твоей спиной. Что может быть важнее защиты отцов, матерей, братьев, сестер, жен, детей и всего остального российского населения.
Я сказал, что это тяжелая, но достойная мужская работа сильных духом и волей ребят.
Я признался, что очень рад тому, что оказался среди простых с виду мужиков, а на самом деле – отважных и наверняка героических людей, которые, конечно, делают все, чтобы Держава росла, трудилась и отдыхала спокойно.
И, разумеется, я пожелал Александру Николаевичу в расцвете его, почти Христова, возраста крепкого здоровья, долгих лет, отваги и мудрости на его славном поприще.
Все войско дружно позвенело стаканами, и соседствующий со мной бойкий старлей по имени Шура приказал мне налегать на еду без всякого ненужного стеснения, так как в Москве такой пищи не сыскать и в хорошем ресторане.
Действительно, даже по московским меркам закуска была редкая и обильная. В центре стола в большой миске ало лоснилась икра. Из двух больших кастрюль торчали оранжевые, как корки апельсинов, клешни крабов величиной с кулак. Какие-то неведомые мне конусообразные моллюски грудились за неимением посуды на обычном столовском подносе. Я уже не говорю о рыбе: нерке, кижуче, гольце, копченой корюшке и палтусе, каких не пробовал и в столице.
– Бери, писатель, ложку и копай икру прямо из тазика, – направил меня златовласый, похожий на Есенина, капитан, с другой стороны. – Небось, в сердце Родины не каждый день выпадает такое питание.
Разговор, – сначала чинный и деловой, в первую очередь, конечно, о границе, о дальних заставах, которым всего трудней, – становился более горячим и азартным.
Мне было любо слушать своих новых товарищей. За их рассказами я четко видел эти небольшие, затерявшиеся среди сопок, пограничные кордоны, часто ютившиеся, как я понял, прямо на берегу моря. Видел этих же ребят, в основном, моих сверстников, денно и нощно несущих тяжелую службу в дождь, снег, мороз, бураны по всей полосе восточных рубежей.
Очень ясно видел я их боевых подруг. Их жен, похожих, как мне казалось, на самоотверженных жен декабристов. Видел их ребятишек, подраставших среди суровой природы, что дикие грибы. Даже видел пограничных собак, ревностно выполнявших, как и люди, свои нелегкие обязанности.
Бойцы опасного фронта хорошо ели и неплохо выпивали, заставляя и меня следовать их воинской традиции. И я, куда деваться, конечно, следовал. Уж я, понятно, дал себе волю к общему удовольствию всей пограничной дружины. Уж я, естественно, напробовался и икры, и крабов с моллюсками, – не тех, перемерзших или консервированных, какие доставляют в столицу, а свежих, душистых, только что из моря. И кижуча попробовал, и нерку, и необычайно вкусных устриц с боевым тоже названием – трубач. Словом, откушал изрядно. Что и говорить.
Под конец вечера все мы, обнявшись, дружным хором пели о том, что «На границе тучи ходят хмуро. Край суровый тишиной объят. А на высоких берегах Амура часовые родины стоят».
Часовые родины заботливо проводили меня в мой номер, и я в сердцах обещал каждому подарить свою книжку, как только она выйдет в свет.
Проснулся поздно. Солнце стояло высоко. Золотой бегемот уже куда-то уполз со стены и выветрился по своим делам. Друзья-пограничники оставили на моем столе адрес воинской части, куда бы я мог приехать как журналист и поведать миру о жизни рядовых прикордонных застав. Кроме записки великодушные бойцы в память о нашей теплой встрече навалили на стол «скромные» подарки: двухлитровую банку икры, банку залитых янтарным маслом, очищенных крабов и разной рыбы – большой целлофановый мешок.
Я выглянул в окно. Одинокий желтый лист, принесенный ветром Бог весть откуда, тихо сползал по серой щеке дома напротив.
Ни о какой, конечно, работе в этот день и речи идти не могло: после праздника тяжело ломило голову; и я решил, что лучшим средством выздоровления будет чашка крепкого кофе и наконец-то – экскурсия к океану.
Кофе и свежий прохладный ветерок привели меня в порядок. Я прошелся немного пешком по центральной улице. Затем, по указке одного из прохожих, сел в автобус и благополучно докатился до конечной остановки, как мне и было велено попутным гражданином. Вскоре Он предстал передо мною – Его Величество Океан. Во всей своей шири и необъятности. Во всей синеве и безмерности, в которую хотелось тут же пуститься на каком-нибудь ветхозаветном паруснике.
Я вышел на берег. Бухта, окаймленная бархатно-темными горбами сопок под скромной, линялой голубизной осеннего неба была покойна и величественна. На самом же горизонте она, Бухта, венчалась чудом повисшего над водой острова. Это было некое оптическое преломление, но остров действительно висел над водой моря, словно сам Господь держал его за волосы. Такое мне не могло и присниться.
И, конечно, запах! Неповторимый запах океана! Густо насыщенный йодом, рыбой, водорослями и мокрыми досками причалов. Но в этом смешанном дыхании, если потоньше прислушаться, жил еще запах парусины, весел, цепных якорей, пота, тельняшек, смолы, сетей, песка, соли и – черт знает – чего-то еще морского, но уже неразличимого.
Мягко и тихо шелестели прозрачные волны, а над головой верещали, улюлюкали и гаркали чайки, словно сентябрь был не предвестием зимы, а знамением весны – времени птичьих игрищ и свадеб.
Каменистые берега были пустынны, и это придавало океану еще больше значительности, романтики, а сопкам – строгости и величия.
Я вынул из-за пазухи костяного мудреца и повернул его к морю, чтобы он тоже полюбовался вместе со мной на другую планету.
Опершись на посох, скиталец полюбовался, но выражение ума оставил неизменным.
«В океане узри каплю… – молвил мой спутник. – В капле услышишь дыхание океана! И готовься!» – к чему-то добавил он. Но к чему? Впрочем, все мы к чему-то готовимся на нашем пути.
Спрятав монаха, я пошел по песку к дальней оконечности сопки. На берегу из-за отлива густо обитало живое население моря. Мокро блестели водоросли и диковинные соцветия. Наподобие ящериц ползали серебристые рыбки. Толстые, похожие на пиявок, черви наблюдали жизнь суши из-под камней. Киселеобразные медузы с коричневыми крестами на спинах грелись и таяли на солнце, как куски льда. Иные задумчиво покачивались в прибрежной воде. Черная, измочаленная о камни доска тихо переваливалась на волнах. На ней сидел красный, словно мухомор, краб и пучил на меня удивленные шарики глаз. Я шел по далекому, затерянному миру и не хватало только, чтобы из-за сопки высунулся какой-нибудь птеродактиль.
Солнце стало припекать, и мне пришлось расстегнуть куртку. Потом распахнул ее пошире, с радостью отдав себя соленому морскому ветру.
Полы куртки хлопали, как крылья.
Я брел, прислушиваясь к тайному шуму волн, и мокрый песок чуть повизгивал у меня под ногами. Вспомнил суетную Москву и неожиданно загрустил. Все-таки я любил город моего детства и юности, каким бы он ни был. Москва словно была одухотворенным существом, неотделимым от меня. Будто это была моя душа, или сердце, или память… не знаю – что… но это была моя живая, пульсирующая часть. Я вдруг вспомнил, как чуть не погиб в толпе на похоронах Сталина, а потом, гораздо позже, мы с мамой стояли у его же гроба в Мавзолее. Мама плакала. У меня же почему-то бледное лицо с серебряными усами не вызывало ни капли сострадания. Гораздо милее, как ни странно, мне был тогда Ленин. Хотя много позже я понял, что то были близнецы и братья, с тайной враждой друг к другу, потому что не бывает в мире искренней любви между тиранами.
Вспомнил, как катались мы на лыжах на Воробьевых горах, как я чуть не утонул в Новодевичьем озере, провалившись на тонком льду. А спас меня каким-то чудом однорукий калека в солдатском бушлате. Вспомнил Парк Культуры, скрип коньков на ледяных дорожках. Тогда льдом был покрыт весь Парк, и можно было кататься где угодно. Веселые, румяные лица девушек. Пирожки с ливером за четыре копейки. Улыбки, смех неизвестно отчего. Ах, как все это было давно и прекрасно. Ну и, конечно, вспомнилась юность, студенчество и моя первая настоящая любовь к канувшей в безвестность Ольге. Ах, Ольга, Ольга!.. Что бы я отдал за встречу с тобой!
Неожиданно посреди бухты вынырнула черная туша подводной лодки. Из нее высунулся для обозрения окружающего порядка мелкий по чинам командир, напомнивший мне моих недавних друзей-пограничников. Вот такие, стало быть, Илюши Муромцы и проживают здесь между сопок, носятся в облаках и охраняют мир под водой.
Я пошел назад. Идти было легче. Ветер дул в спину, и моя куртка работала, как парус. Вода действительно стала быстро прибывать, оттесняя меня все ближе к подножию сопок. Крестообразные медузы еще отдыхали на песке, еще сновали у камней пешие крабы, и береговые рыбы смотрели в пространство недвижными выпученными глазами. Но все это морское население ожидало прихода своей стихии. А она, стихия, уже неумолимо надвигалась, шипела волной и лизала мои ботинки. Море густо, но сдержанно рокотало, словно дышала диковинная раковина. Шел прилив.
Я поторопился, однако по тому, как ощутимо сокращалось расстояние между морем и сопками, понял, что не успею пройти и половину пути. Приметные камни были уже под водой. Пришлось, хочешь – не хочешь, карабкаться на сопку. Острые ее скулы вонзились в песок, и я изрядно потрудился, прежде чем выбрался на дорогу. Тут была обычная, петлявшая между гор, шоссейка с редким по случаю выходного дня транспортом.
Я решил добраться до порта пешком, а после – проторенной дорогой доехать на автобусе.
Распрекрасные пролетели два дня, и один из них – в объятии прозрачно-золотой дальневосточной осени. День, правда, еще не кончился, и я шел по безлюдному шоссе с набитыми карманами впечатлений. Навстречу лишь время от времени шумно вылетали неурочные грузовики. Легковых авто здесь не было вовсе. Это еще раз напоминало об отдаленности моего местонахождения.
Внезапно наплыла шальная синяя тучка, и из нее косыми звездами посыпался крупный дождь. Он с шелестом побежал по асфальту, пеленая лагуну легким туманом, а вдали, – сверху хорошо было видно, – сонно дремал Город, разбросав свои жиденькие постройки по всему берегу.
Туча пронеслась также быстро, как и появилась. Снова землю осенило улыбчивым солнцем, и дальние дома загорелись ярким червонным золотом окон. Дышалось легко и свободно. Пахло дождем, йодом и хвоей.
«Ну, веселись!» – с какой-то издевкой крикнул из моего кармана молчаливый монах.
Я остановился, достал из пиджака костяного путника, вгляделся в его глаза, окруженные сеткой мелких морщин.
– Ты разве не рад? – спросил я монаха.
«Я всегда рад, – ответил странник. – Ибо сказано: радуйся! Но я всегда умеренно рад».
– Смешной ты, – сказал я. – Может ли быть в радости умеренность? И нужна ли она?
«Умеренность нужна абсолютно во всем, – ответил костяной путник. – Найдешь ли ты в созерцании неумеренность?»
Больше монах ни о чем не хотел говорить со мной.
Я опустил странника в его жилище, во внутренний карман, и задумался. Что-то он не договорил. На что-то намекал. Но вот на что, пока было неясно. Тем более настроение у меня было такое, словно я только-только вымылся в бане. Пропарился веничком и сбросил с себя всю грязь.
Вскоре лента дороги выпрямилась, и уже различим был порт с длинными причалами, ютившими рыболовные суда, портовыми постройками и подъемными кранами, похожими на железных жирафов.
Через некоторое время я благополучно втиснулся в автобус, набитый моряками в черных шинелях с горящими медными пуговицами. Все они были в элегантных фуражках с желтыми кокардами, в той стройной форме, которая с детства вызывала во мне жгучий восторг. Моряки были народом степенным, выдержанным, держались с чинным достоинством, напоминая о традициях и славе российского флота. Служители моря имели на себе печать какого-то старого дворянского уклада. В самой форме, в строгой горделивой осанке, почти изысканном виде было нечто, дышавшее Очаковскими временами, словно за этими ребятами в автобусе стояли Ушаков, Нахимов, Корнилов.
Я выбрался на своей остановке, прямо на улице имени вождя революции, и проводил нахимовцев теплым взглядом. Впрочем, весь вечерний город полнился моряками: военными, гражданскими и прочим неизвестным составом. Жители неторопливо обтекали меня, завершив трудовой день. Тут, в Городе, неистребимо пахло далью и близостью океана.
Я поднялся в свой гостиничный номер, сбросил куртку и подумал о том, что завтра необходимо явиться в Городской Комитет, встретиться с Владимиром Придорожным, которому звонил из Москвы Валентин и в распоряжение которого я был командирован.
«Нужно попроситься у Придорожного, – подумал я, – слетать к морякам-пограничникам, чтобы описать их будничную, но героическую работу». Подумал и обрадовался этой мысли, потому что я помчался бы уже к своим, знакомым людям.
Нужно было подготовить документы. Я полез в куртку, где в одном кармане лежал паспорт с писательским билетом, в другом же хранился бумажник с деньгами на облет всей Чукотки, включая Певек, Анадырь, Бухту Провидения, а также командировочное удостоверение, в коем и были обозначены все перечисленные пункты. Я раскрыл паспорт. В нем лежала фиолетовая двадцатипятирублёвая бумажка, а из-за уголка прозрачной обертки бодро смотрел на меня некто в военной форме, кем и был я энное число лет тому назад. Это была моя фотография, которую по неведомой, таинственной причине доставила на аэродром бывшая жена, Ирина.
Паспорт с билетом писателя в бумажник не помещались, и я спрятал их в карман.
Кабинет первого секретаря городского комитета впередсмотрящих мало чем отличался от прочих кабинетов начальников этого ранга. Простор, воздух, чинный, крытый зеленой замшей, стол. Портрет вождя, ежики кактусов на подоконниках, атласные желтые шторы.
Принял меня Владимир Александрович Придорожный, надо сказать, хорошо. Тепло принял. Как родного. Даже вышел после звонка секретарши на середину кабинета с ласковой широкой улыбкой. В преддверии наших общих плодотворных дел горячо пожал руку. Это был, судя по всему, человек энергичный, деятельный, любящий во всем порядок, а потому строго соблюдающий соответствующие предписания и инструкции.
Придорожный имел молодое, но мясистое лицо, светлые голубые глаза и мягкое, под костюмом, чиновничье тело работника аппарата.
– Та-ак, – основательно сказал он, снова усаживаясь в начальственное кресло. – Значит, вы к нам надолго. Так меня, во всяком случае, Кириллов информировал. Месяца на три, значит?
– Может, думаю, и больше, – неожиданно поразмыслил я.
– Это хорошо, – одобрил Придорожный. – Очень, понимаете, хорошо. Богатые впечатления. Настоящая работа. Хорошо! У нас тут, знаете, всякое бывает. И такие люди как вы…тем более, сам Кириллов поручился.
– Так вот, – решил прервать я лишнюю демагогию. – Вот мои документы. А вот приглашение от пограничников, с которыми я нечаянно познакомился в гостинице, и о которых хочу написать первый свой очерк у вас.
Василий Придорожный внимательно изучил мои бумаги и вдруг мягко улыбнулся.
– Что ж, я очень рад. Это наша, можно сказать, передовая застава. Закажу вертолет и тут же вам позвоню. Завтра, думаю, послезавтра. Они – наш заслон, эта застава. С браконьерами, скажу вам открыто, ничуть не церемонятся. Те их боятся, как огня. Вот и будет вам боевое, можно сказать, первое крещение.
Действительно, через день, утром, в моем гостиничном номере прозвенел звонок Василия Придорожного. А через пару часов я уже трясся в гулком вертолете над желтыми осенними сопками и серым плато Охотского моря.
Тот самый майор, чей юбилей мы шумно праздновали в гостинице, встретил меня со всей военной серьезностью, без лишней помпы и заискивания.
Был он худ, высок и строг. Черноволосый, с острым носом, он чем-то сильно походил на молодого ворона.
На территории заставы стояли три казарменных помещения для солдат и трехэтажный домик, где жили семьи офицеров. Была здесь и школа, совмещенная с детским садом и медпунктом. В офицерской трехэтажке пустовала свободная комната, в которой хранился кое-какой хозяйственный инвентарь: метлы, ведра и лопаты. Тут же стояли стол и новенькая софа. Метлы с лопатами по распоряжению командира быстро убрали, и в моем распоряжении остались диван, стол и даже маленький телевизор. Больше мне ничего не было нужно. Я был счастлив, тем более что за окном, неподалеку, высилась настоящая мохнатая сопка, недалеко от которой ютилось деревянное строение, определено похожее на склад. Вот сюда, в эту пустую пока офицерскую комнатку, и поселил меня на время строгий, но радушный Александр Николаевич. Словом, это был настоящий, скромный, военный городок.
– Не отель, конечно, – сказал майор, окидывая взглядом подсобную комнату. – Но существовать можно.
Вкратце изложив мне, чем занимается погранзастава, – а это, в основном, была борьба с браконьерами и нарушителями российских территориальных вод, – майор закурил.
– В общем, обживайся, осматривайся. Изучай обстановку… – Так, наверное, он говорил всем новеньким, особенно, как я понял, офицерам. – Три дня назад, – продолжил майор мрачно, – у нас ЧП было. Паренек один, рядовой, стоял ночью на посту, и с ветки на него, представляешь, неожиданно росомаха прыгнула. Он и выстрелить не успел. Перегрызла шейный позвонок. Вот и все, Олег. Никакой войны не надо. Такие дела. Я сегодня писал письмо родным, а сердце кровью обливалось. Мальчишка совсем. Только служить начал… – Майор помолчал в тягостном раздумье. – Словом, походи, посмотри. Погляди на наше житье-бытье. На сопках брусники тьма. Но будь осторожен: зверья полно. Медведей много. Правда, они сейчас сытые. Не опасные. Хотя если медведица с малышом, тут ухо надо востро держать. Медведи с лосями иногда на заставу заходят, поднимают всех «в ружье». Но тут уж никуда не денешься. Оружия дать не могу, сам понимаешь. Однако ты уже не мальчик. В тайге-то был?
– Да как-то не приходилось, – сознался я.
– Ну ничего. Гляди под ноги, на следы, на свежесломанные ветки. Тут это – карта жизни. И далеко не забредай. Собачку я тебе дам. Свою. Познакомлю. Подружитесь. И нож охотничий. На всякий пожарный. Потом прокатимся на сторожевом катере. За сопкой речушка есть замечательная, сходим на рыбалку. Форели – хоть сачком черпай. А хариусы на хвостах танцуют. Думаю, какие-никакие, а впечатления будут. Сфотографируемся напоследок. – Майор встал и улыбнулся. – Ну, все. Прости, дела, служба. Обедать приходи в офицерскую столовую. Она на первом этаже. Вечером зайду, чайку попьем. Ну, бывай. – Александр Николаевич круто повернулся и уже на выходе задержался, посмотрел на часы. – Часа через полтора пойдем, познакомлю с собачкой.
Собак на погранзаставе был целый питомник. Штук десять, не меньше. Это была отдельная спецоборудованная постройка. В одной из утепленных клеток проживал друг командира заставы – лохматый пес Фред. Он приветливо завилял хвостом, лишь только увидел хозяина. На меня Фред сначала поглядел косо и подозрительно. Мы с майором вошли в собачье жилище, и Александр Николаевич приказал своему верному другу сесть, усмиряя его радостные прыжки. Ко мне пес отнесся индифферентно, лишь кратко обнюхал и снова вернулся к хозяину, уселся у его ног, преданно глядя в глаза. Собачьим умом Фред, видимо, понимал, что я не какой-нибудь посторонний, а свой, нужный для чего-нибудь человек. Однако стоило мне развернуть припасенный майором для нашего близкого с собакой знакомства и дружбы пакет с сочными костями с мясом, как Фред без лишней скромности, но после разрешения хозяина за пять минут расправился с едой и подал мне в знак дружбы до гроба увесистую лапу.
– Это Олег, – объяснил Фреду Александр Николаевич. – Будешь его провожатым. Понял? – спросил командир.
Фред лизнул меня в щеку, и это означало, что наша дружба состоялась.
– Теперь надевай на него ошейник, возьмешь у дневального ведро, и дуйте на сопку за брусникой. Она как раз будет кстати к вечернему чаю. Да и варенье сварим. В Москву повезешь.
Я засмеялся.
– До Москвы оно вряд ли доживет.
– Ну это дело твое, – улыбнулся в свою очередь майор.
Солдаты относились ко мне с некоторой опаской, как, примерно, к залетевшему на отдых генералу, и я заметил – сомневались, отдавать мне честь или нет. Однако ведро у дневального я получил, и мы с Фредом весело помчались к сопке. Уже на нижних этажах ее роились целые заросли кустарников с жесткими, резными, темно-зелеными листьями, в которых таинственно горели крупные красные ягоды.
Дальневосточный лес чем-то напоминал Подмосковный. Тишина, голубые прогалы неба в верхушках деревьев, влажный сосновый запах. Грибы, ягоды. Только-вот не было берез да где-то неподалеку ощутимо пахло морем. И робкая дрожь от ветерка в ветвях лимонных лиственниц.
На свой риск я снял с Фреда ошейник, и он немедля рванул в заросли, но тут же и появился вновь – проверить: на месте ли я. Мне стало понятно: Фред никуда не исчезнет. Он охранял меня, и все время был поблизости.
До оскомины я наелся брусники, набрал полное ведро, и Фред благополучно довел меня до заставы.
Вечерело. Небо над океаном вспыхнуло всеми оттенками алого и красного, – красками, каких я никогда не видел. Словно огромная алая птица с бело-розовым опереньем неспешно пролетала над синей гладью моря.
Возле офицерского корпуса барахтались в песочнице мелкие ребятишки, может быть, будущие пограничники. Их уже забрали из детского сада, и они резвились, наслаждаясь теплом осени, «на всю катушку».
Я вошел в свою комнату, и та сразу наполнилась запахом брусники.
Для полного вечера было еще рано. Тогда я вышел наружу и стал наблюдать, как солдаты занимаются спортивной подготовкой. Голые по пояс, они стояли в очереди на турник, хотя турников было несколько разных, по росту. Но лишь у одного бойцы, открыв рты, с восхищением смотрели, как некий маленький воин, похожий на казаха или узбека, – видно, мать солдата была из краев дынь и урюка, – отключив ум, лихо пользовался одной лишь молодой мышечной силой. Он вращался вокруг перекладины как некое механическое существо, что на спортивном языке называлось – «крутить солнце».
– Давай, Жбанов, жарь еще, – подбадривал его ротный сержант. – Жарь без остановки. Жарь! Молодец! Вот как надо. Учитесь, салаги!
Чуть поодаль вели рукопашный бой сразу несколько пар. Бились серьезно. У одного бойца была разбита губа и по лицу текла кровь. Но он, видно, этого не замечал.
– Мужчинами становятся, – тронул меня за плечо похожий на Есенина молоденький лейтенант, Шура, который в гостинице сидел за столом рядом со мной. – Завтра стрельбы, – добавил лейтенант. – Придешь?
– А как же, – сказал я. – Стрельбы – дело святое.
– Это правильно, – одобрил Есенин и зашагал прочь деловым, военным шагом.
В копилке моих впечатлений стрельбы не были чем-то таким уж особенным. Полигон за пределами гарнизона, четкие команды офицеров. Нестройный треск автоматов. Затем – подведение итогов. Отметили метких. Пожурили мазил. Словом, все это было давно мне знакомо по своей, далекой теперь уже службе.
Затем я наведался в школу. Познакомился с директором. Это был молодой, приветливый, веселый человек, физик, с массой собственных идей, помешанный на Николе Тесле. Он взахлеб говорил о каких-то генераторах, о передаче мощной энергии на расстояние, о приручении шаровой молнии, природы которой не знает никто. Кроме, разумеется, него самого. В общем, примерно час в его кабинете мне скучать не пришлось. Но вдруг, в завершение нашей легкой и необременительной беседы директор, Иван Алексеевич, погрустнел. И признался откровенно, что, мол, все хорошо и жизнь удивительно прекрасна, но вот невеста его ехать с ним, как он выразился – «к черту на рога», наотрез отказалась, и уже два года он мучается, стоически терпит, но несет свою судьбу, как крест. Мы помолчали, потому что это уже была отдельная и, надо признать, печальная, чуть ли не трагическая история.
В общем, этот день прошел, можно сказать, без ярких событий. Правда, выйдя из школы, я увидел, как ушел в дозор пограничный наряд и от причала, поднимая белую волну, браво отчалил на обход территории дежурный катер. В душе моей появилась неожиданная гордость: все-таки четко работали нужные механизмы страны, и можно было не сомневаться – Россия в надежных руках. Тем более вдали, на рейде, стояли два воинственных крейсера. Один из них, как я узнал позже, назывался «Орел», а второй – «Победа». Около восьми вечера в мою дверь постучали. На пороге появился Александр Николаевич, громадный улыбчивый капитан, Виктор Семенович, который внес меня в гостинице вместе со стулом в комнату пограничников. Еще пара лейтенантов. С ними была миловидная женщина, жена командира заставы, Ольга Ивановна, учительница математики в местной школе. Они принесли неизвестно откуда взявшиеся цветы, торт, «Шампанское» и пакет со всякой, опять же, экзотической едой. Оказалось, у Ольги Ивановны был день рождения. Дома у командующего заставой шел ремонт, и мои новые друзья решили сотворить маленький праздник у меня. Условности вроде – согласен ли я, удобно ли и т. п. – здесь были вычеркнуты напрочь. И это мне очень понравилось. Даже Ольга Ивановна без лишних слов достала пакет с картошкой и устроилась в углу за ее чистку. Пограничники были в рядовой одежде, в костюмах и галстуках. Я был в одной рубашке, – тот день был довольно жарким, – и хотел, было, тоже преобразиться, но военные меня остановили – брось, мол. И так хорошо.
Все вместе мы подвинули к дивану письменный стол и расставили принесенную офицерами посуду. В центре тихо горели гвоздики. Я обрадовался, что не розы, которых не любил, и это еще больше сблизило меня с моими новыми знакомыми.
– Откуда цветы? – задал я, как мне показалось, наивный для военных вопрос.
– С Москвы, – рассмеялся капитан, – с Измайлово. А ты думал – на сопке растут?
Вскоре на моей двухконфорочной плите уже булькала, кипела картошка, и уже выпили мы за здоровье именинницы по бокалу «Шампанского». Я, извинившись, спросил Ольгу Ивановну, как отважилась она ехать за мужем в такую даль. И она чисто по-русски, по-женски махнула рукой:
– Ах, Олег Геннадиевич, с милым хоть на край света. Вот когда я сидела в Москве, а Саша мотался где-то под пулями в Афганистане… потом Камбоджа, Алжир… Вот это было, – она покачала головой, – врагу не пожелаешь. А тут… – Ольга Ивановна широко улыбнулась. – Рай земной. Море, сопки, воздух, любимая работа. Опять же муж не где-нибудь, а рядом.
Александр Николаевич при словах жены, я видел, хмурился, но молчал.
– А потом, ведь я упорная, как Софья Ковалевская, – продолжала супруга командира. – Софью Васильевну Вы, наверное, знаете, в России ее вообще никуда не пускали. Тогда женщинам в высшие учебные заведения доступ был закрыт. И Софья брала частные уроки у педагога Страннолюбского. Потом заключила фиктивный брак с Ковалевским, который в конечном итоге стал фактическим, и уехала в Гейдельберг, где изучала математику и занималась наукой. Затем переехала в Берлин и давала частные уроки. На основании трех работ Геттингенский университет заочно присудил ей в 1874 году степень доктора философии. Представляете? В этом же году Софья Васильевна вернулась в Россию, однако Петербургский университет снова не предоставил ей места. Поэтому на шесть лет она отошла от научной деятельности и занялась литературой, публицистикой. Она ведь была еще и писательницей. Написала повесть «Нигилистка», драму «Борьба за счастье». Не читали?
– Нет, – сознался я. – Как-то еще не удосужился.
– Прочтите. Очень любопытные вещи. Но главное, – горячо продолжала Ольга Ивановна, – Софья Васильевна написала замечательную научную работу: «О вращении твердого тела вокруг неподвижной точки». За эту работу Парижская Академия Наук присудила ей высокую премию. За вторую работу премию присудила ей уже Шведская Академия. И знаете…
– Ну ладно, – прервал жену Александр Николаевич. – Мы, Оля, собрались тут не для лекций. – Видно, он дома уже насладился эрудицией жены по самую макушку. – Давайте выпьем, чтобы в борьбе за счастье Родины, которую охраняют наши ребята, мы победили. Хотя счастье – вещь зыбкая, и никто на самом деле не знает, что это такое. Тогда, я думаю – за благополучие и стабильность России. За ее фактическое здоровье.
Мы выпили за «фактическое» здоровье России, хотя среди пограничников, да и вообще многих людей никто еще точно не знал, что Советский Союз уже серьезно болен. Подозревали, конечно, многие, но толком не знал никто. Не знали и того, что уже вскоре тело Союза станет похожим на панцирь черепахи, разделенный на отдельные сегменты. И свои же танки начнут крушить Белый Дом. Люди провалятся в ужас безработицы, нищеты и неуверенности в завтрашнем дне. А впереди этого безумного движения будут стоять хитромудрый мужчина с фиолетовым пятном на лбу, а затем – бравый седой парень с вечно поднятой рукой со сжатым кулаком: «Вперед, Россия!» И – полупьяной улыбкой.
А мои пограничники что, оберегавшие Родину. Какое им было дело до закулисных Кремлевских игр. Да наплевать им было, честно говоря, на эти игры! И так, забот хватало.
Мы выпили за «фактическое» здоровье России.
– А я до армии, – врезался в разговор капитан, – трактористом был в совхозе. Под Рязанью. Любил это дело. Придешь с рассветом, – мечтательно вспоминал Виктор Семенович, – стрижи уже чирикают. Земля пахнет. Хорошо. Оттуда и служить пошел. Как раз в погранвойска. На заставу. На Кольском полуострове. А Танька моя, дурочка, ждала меня в Рязани.
– Почему дурочка? – спросила Ольга Ивановна. – Ты же ее сюда привез.
– То-то и оно, что сюда. Но она ведь мечтала, что я из армии вернусь. Снова сяду за трактор. Дом, хозяйство, корова. А видишь, чего получилось. Пограничником стал. Командир части уговорил в училище пойти. Ну я и пошел. А Танюшку потом забрал. Со слезами, правда, но забрал. Сама посуди, Оля. Куды мне без ее. Без Танюшки.
– А чего же ты (с Виктором мы уже перешли на «ты») без жены пришел. Постеснялись?
– Какое стеснение, – возразил капитан. – Тут это не практикуется. Просто с детями она осталась. Малой, Насте, всего полгода.
– А у нас с Николаевичем уже трое, – похвасталась жизнелюбивая Ольга Ивановна. – И все – мальчишки. Все пограничники.
Вдруг раздался стук в дверь.
– Войдите! – начальственно крикнул майор.
На пороге появился тот самый маленький солдатик, Жбанов, который, я видел, вертелся на турнике, что привязанный.
– Чего тебе? – спросил Александр Николаевич. – Случилось что?
– Товарищ капитан, – по-уставному сказал Жбанов Виктору Семеновичу. – Разрешите обратиться к товарищу майору.
– Ну, обращайся, – разрешил капитан.
– Товарищ майор, – продолжил цепочку военных обращений Жбанов. – Разрешите обратиться к Ольге Ивановне.
Александр Николаевич помолчал, недоуменно глядя на солдата, и разрешил.
– Ольга Ивановна, – добрался, наконец, Жбанов до нужного человека. – Я это…
– Что? – испуганно спросила наша Софья Ковалевская, то есть Ольга Ивановна.
– Я разбил бином Ньютона, – в свою очередь испуганно сообщил Жбанов.
– Как это? – медленно поднимаясь, поинтересовалась Ольга Ивановна.
– А так, – просто объяснил Жбанов. – Сломал вдребезги. Кроме того, у Эвклида нашел ошибки.
– Ты, Жбанов, вот что, – сказал командир заставы, – завтра явишься отдельно к Ольге Ивановне и все объяснишь, какой там у тебя бином с Ньютоном, чего ты там разбить умудрился. Короче, все по форме, как положено. И составь объяснение, доказательства. А то получается, ты как бы из созвездия Девы свалился. Тут все дураки. Один ты – умный гений. А сейчас – кругом и шагом марш.
– Так жгет же все внутри, товарищ майор! – взмолился Жбанов. – Аж чешусь весь.
– Кругом, я сказал, – повторил майор. – Иди, чешись в казарме. Нашел время врываться.
Жбанов вышел и тут же влетел назад.
– Товарищ майор, пожар! – крикнул он.
И тут завыла сирена тревоги. Все выскочили во двор. Я схватил куртку и бросился следом.
Действительно, горела деревянная постройка, которую я поначалу принял за склад. А это и был, на самом деле, склад с продовольствием. Горела одна его торцевая сторона. Горел подсохший кустарник вокруг. Огонь с хрустом грозил броситься на тайгу, но, слава Богу, путь ему преграждал довольно большой ручей, обтекавший сопку и вливавшийся в море.
Все население заставы, в основном, мужское, конечно, но были и женщины, немедленно вступило в сражение. Солдаты знали по боевому расчету, кто чем должен орудовать в стихийном случае пожара. Поэтому никакой суматохи не было. Все действовали слажено и точно. Кто лопатой, кто огнетушителем, кто ведром с водой, которую черпали прямо из ручья. Было крайне важно спасти склад и отсечь огонь от тайги.
Лично я сражался ведром и носился от склада к ручью и обратно, как угорелый. На крыше стояли двое бойцов и им на веревках подавали воду. Другие поливали стену внизу. Офицеры вместе с солдатами воевали с кустарником. Червонные отсветы пламени вспыхивали то в деревьях ближайшей тайги, то в ручье, то вообще – в грузной мохнатой сопке.
Я видел, как капитан, Виктор Семенович, и несколько пограничников по его команде кинулись внутрь горевшего сарая с лопатами и огнетушителями. Другими словами, в самое пекло. Через некоторое, довольно долгое время капитан вынырнул из сарая с двумя канистрами и оттащил их подальше. Куртка на его плече горела, и он погасил огонь водой из ручья. Назад бежал тяжело, но напевая: «Так громче музыка играй победу…» В канистрах, оказалось, был керосин.
Так воевали с огнем всю ночь. Когда застава победила пожар, уже начинало светать. Бледно-розовая полоска окаймляла восток океана, по сути – весь горизонт. Было уже довольно светло. Начальник погранзаставы приказал всем построиться. Войско стояло чумазое и перепачканное. Но в битве никто особо не пострадал. У кого-то были мелкие ожоги, и тех Александр Николаевич немедленно отправил в медпункт, где велось особое дежурство.
– За мужественный, самоотверженный труд, – сказал майор, – всем бойцам от имени командования выражаю глубокую благодарность. Вы спасли заставу, спасли здешнюю уникальную природу. Я горжусь вами. Кто виноват в случившемся, будем разбираться позже. А сейчас – мыться и отдыхать. Благо – сегодня воскресенье.
– Не надо разбираться, – прозвучал чей-то унылый голос в строю. – Я виноват. – Признавшийся солдат вышел из шеренги. – Я был дневальным во второй роте и пошел на пустырь сжечь мусор. Но, видно, не до конца погасил костер. Это мне урок на всю жизнь.
– Как фамилия? – спросил майор.
– Щепкин, – ответил честный охранник границ.
– Зайдешь ко мне, Щепкин, к двенадцати часам, – приказал майор. – Молодец, что признался. Значит, у тебя с совестью все в порядке. Но учти: все равно будешь наказан по всей строгости.
Склад был спасен, хотя одна из его стен смотрела на мир черным лицом с дырой обугленной глазницы.
Я вернулся в свою комнату и увидел, что куртка моя тоже вся перепачкана сажей, и нужно было, отоспавшись, постирать ее как-нибудь – с помощью, например, Ольги Ивановны. Мыла-то у меня был маленький кусок, а порошком и вовсе не пахло. Я бросил куртку на стул, умылся и, упав на диван, тут же провалился в кромешный сон.
На следующий день перед постирушкой куртки, рубашки, брюк я вдруг обнаружил исчезновение из внутреннего кармана куртки бумажника с деньгами, приготовленными на облет всей Чукотки. Карман был широким, а портмоне – увесистым и скользким. Из-за жары куртка была все время расстегнута. Я часто нагибался, собирая бруснику, а уж про суматоху на пожаре, про мою активную деятельность с ведром и говорить нечего. Тут уж и сам Господь не мог удержать портмоне. Интересно, что целым и невредимым остался костяной монах, лежавший рядом с бумажником. Но то ли странник зацепился за карман своей, чуть вытянутой с посохом рукой, то ли просто лежал на боку, упираясь ногами и головой в углы своей обители, то ли была тому еще какая-то мистическая причина, однако подарок Николая был цел, а финансы мои, все мои надежды на дальнейшие путешествия испарились. Полдня я бродил по месту пожарища, еще дышавшему легким дымком, осматривал каждый сгоревший кустик и даже поднимался на сопку, где, предположительно, собирал бруснику. Но все тщетно. Бумажника не было нигде. Лишь в голове, – и это, я думаю, тоже неспроста, – стучали молоточком Лермонтовские строчки: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, Французу отдана…»
Однако, что же мне было делать с моей бедой, я совершенно не знал. Александру Николаевичу говорить о потере денег категорически себе запретил. Он, конечно, начал бы суетиться, собирать в счет своего долга у кого попало, и наверняка нашел бы. Но, во-первых, сумма командировочных была достаточно большая. Во-вторых, у майора имелась своя, не маленькая семья. И хочешь – не хочешь, а пришлось бы с потерями для жены и детей как-то выкручиваться. А я? Когда я еще смогу вернуть деньги? Неизвестно. Поэтому в отношении потери бумажника Александру Николаевичу я решил не открываться.
На следующее утро мы с начальником заставы уже мчались, как он и обещал, на боевом катере по территориальным водам России. Сырая, костлявая осень пока не торопилась. День стоял теплый, даже, я бы сказал, жаркий. Сердце моря было спокойно и билось ровно. Моряки ходили по палубе в летней форме, а иные и просто в тельняшках. Я на время забыл о своих печалях, и с восторгом смотрел на снежно-белые буруны под носом катера, на океанскую ширь, на синие сопки вдали, видимо, питавшиеся под солнцем цветом моря. Смотрел на узкую, от края до края, черту горизонта. Все это вселяло в меня радостное ощущение счастья, хотя начальник погранзаставы на дне рождения жены, да и, вспомним, сам Александр Сергеевич Пушкин говорили, что счастья нет. Но, находясь на боевом катере, я вопреки авторитетам утвердился в мысли, что иногда оно, счастье, нет-нет да случается.
Мы с майором осмотрели весь корабль: машинное отделение, радиорубку, капитанский мостик, строгие пушки, камбуз и прочие, более мелкие вещи. И все-таки Александр Николаевич, будучи как пограничник человеком внимательным, зорким и проницательным, заметил, видимо, какой-то кислый блеск в моих глазах.
– Что-то случилось, Олег, – неожиданно то ли спросил, то ли утвердил он.
– Да нет, – соврал я и с натяжкой улыбнулся. – Просто много впечатлений.
– Брось, – сказал майор. – Я вижу.
Я опустил голову и признался, что потерял ночью, на пожаре портмоне, а в нем – важные телефоны, адреса, визитки, записки.
– Ну не расстраивайся, – поверил майор. – Эту беду, я думаю, ты переживешь. Люди теряют близких, любимых, друзей. Жизнь, наконец. А бумажки… Черт с ними. Восстановишь как-нибудь. Кроме того, я дам команду, мои бойцы поищут. Если найдем, вышлем тебе бандеролью в Желтый. На Главпочтамт. До востребования. Потому что, какие у тебя будут в дальнейшем адреса – неизвестно. И вот что… Пожар особо не расписывай, пожалуйста. В штабе, конечно, и так узнают. По шапке я получу. А если еще вспыхнет пресса… С другой стороны – о чем я? О рядовых буднях заставы – скучно. Ладно. Пиши, как получится. Врать не надо. – Майор стукнул меня по плечу. – Не вешай нос, писатель. Никогда, слышишь, не вешай нос. Ни при каких обстоятельствах.
После полудня с крейсера «Орел» пришло сообщение о том, что наши водные границы пересекло японское рыболовное судно. Это известие, в свою очередь, передал на «Орел» самолет-разведчик. До места нарушения японцами российской границы для нашего катера было далековато. Тогда крейсер снялся с якоря и на полном ходу двинулся в тревожный квадрат. Позже мы узнали, что японская шхуна-нарушитель была остановлена. К ней, а вернее, к рыболовной компании, которой она принадлежала, применили штрафные санкции, а саму шхуну, но уже без улова крабов, препроводили в родные края.
– Вот такие дела, – сказал Александр Николаевич вечером, когда мы пили чай с моей брусникой. – Тут, Олег, это событие рядовое. Такие вещи случаются довольно часто. То свои браконьеры, то чужие. Но это наша прямая работа. Нарушать границу не дадим никому. Однозначно.
В завершение моей краткосрочной командировки мы с майором обошли сопку, протопали в резиновых сапогах километров десять и расположились на берегу не широкой, но быстрой таежной речушки, дно которой было словно бы выложено яркими рубиновыми камнями; так оно горело, просто пылало из-под воды красным цветом.
– Это они под водой такие красивые, – остудил мой восторг майор. – А вынешь – обыкновенный, даже тусклый розовый кварцит. Зато форель здесь… – он чмокнул губами. – Сейчас сам увидишь.
К крючкам наших удочек были аккуратно и крепко привязаны кусочки козьей шерсти. Видимо, она имела особый запах.
– Это я в позапрошлом году с материка привез. Целый пакет, – сообщил Александр Николаевич. – Но можно ловить и на обыкновенное птичье перо.
Мы забросили удочки, и буквально через пять минут майор вытащил крупную серебряно-голубую рыбину. Потом такая же форель попалась и мне. Через час у нас уже был почти полный целлофановый мешок форели и хариусов.
– Ну, хватит, – сказал майор. – А то с браконьерами воюем, а сами. Жадничать нельзя.
Вечером мы – начальник заставы и еще два офицера-пограничника – ели уху, какой я сроду не пробовал, пили брусничный чай, шутили, вспоминали Москву. Позже пришел двухметровый капитан, Виктор.
– Кстати, – сказал один из офицеров-москвичей. – У иконы Казанской Богоматери интересная история. В 1579 году в Казани разразился страшный пожар, уничтоживший почти весь посад. Но дочери казанского стрельца Матрене во сне явилась Богородица, и Матрона указала место на пепелище, где находилась ее икона. На этом месте восьмого июля откопали икону, ничуть не пострадавшую. «Она сияла светлостью, – говорит летописец, – будто была писана новыми красками». Первым поднял икону священник Ермолай. И начались чудеса. Перед иконой прозрел казанский слепой Никита, и прочие. Но она даровала и духовное прозрение. Самое первое чудо от иконы – Ермолай стал самовидцем. Пятьдесят два года было тогда иерею Ермолаю, но время словно не коснулось его. Ермолаю, в свою очередь, явился образ будущего святителя и патриарха Гермогена, все святительское служение которого приходилось на тяжелые годы смуты. Роковой 1605 год Гермоген встретил в сане митрополита. 20 июня 1605 года в Москву въехал Григорий Отрепьев. А князь Богдан Вельский, опекун сыновей Ивана Грозного, торжественно поклялся, что Отрепьев – это, якобы, убиенный царевич Дмитрий. И что интересно, мать убиенного царевича Марфа Нагая признала в убиенном царевиче своего родного сына. Вот такая исторически привлекательная легенда. Ну, дальше было много чего. За год не расскажешь. И оккупация Москвы поляками, история с Мариной Мнишек, Семибоярщина. Восстание ополченцев, Минин и Пожарский. В общем, ложкой не выхлебать.
– Ну ты, Ваня, прямо этот у нас… профессор, честное слово, – пробасил пограничник-тракторист Виктор. – Тебе – лекции читать. Интересно говоришь. Я, признаюсь, книжки читать не люблю, а слушать люблю. Молодец, Иван. Молодец, ей-богу. Где ты только ума набрался?
– Имеющий глаза да увидит, – улыбнулся Иван.
– Вот такой у нас русский офицер, – с гордостью сказал мне, именно мне, Александр Иванович, чтобы я запомнил эти его слова на всю жизнь.
И я, откровенно говоря, запомнил.
На следующее утро я уже снова трясся в вертолете, но уже в обратном направлении. В пустом кармане теперь хранилась сделанная на прощание общая фотография с гостеприимными пограничниками. А рядом, на сидении, лежал пакет с подарками – рыба, икра, крабы. Плюс банка с брусничным вареньем, специально для меня сваренным радушной Софьей Ковалевской, то есть Ольгой Ивановной. Без этого бойцы опасного фронта просто не могли.
Я стал просматривать, как в кино, все свои новые впечатления. И вдруг остановил камеру, увидев себя в распахнутой куртке, развеваемой божественным дальневосточным ветром, развеваемой, – заметьте! – с нарочного соизволения Наблюдателя и не без согласия, конечно, подлого монаха. Вот откуда его подколодный вопрос: «Веселишься?» Мне стало понятно, кого ношу в кармане. Монах мог бы хоть как-то предупредить меня, остеречь как-то. Но куда там!.. Он ведь проводник и пособник. Ну допустим, мудрец. Допустим, провидец. Но ясное дело, и шишига тоже отчаянный.
Так-так-так.
Значит, вот он я, голубчик полосатый, стою себе на солнышке на легком ветерке. Нет, не стою, а двигаюсь мелким шагом, собираю бруснику. Кланяюсь ей на каждом шагу. Что дальше? Дальше – пожар и те же бешенные наклонные действия.
Внутренний карман куртки был, как я уже говорил, широким, портмоне – тяжеленьким, пухлым от денег на облет всей Чукотки, к тому же гладким на ощупь и, стало быть, скользким. И вот, спрашивается, чего бы ему, бумажнику, в наклонном моем состоянии да при хорошем порыве ветра не вывалиться наружу Все условия созданы. Он, понятно, взял и вывалился. Он, теперь стало ясно, мог вывалиться где угодно: на берегу ли, на сопке. Какая разница! Возможно, валяется себе бумажник под вековой лиственницей, и над ним тихо покачиваются красные ягодки брусники. Все это могло быть и так, и эдак, и еще как-нибудь.
Я вдруг почувствовал, что жаркое мое сердце тихо шипит и испаряется, словно капля на утюге.
– Господи, за что? – уныло спросил я пустоту. Хотелось отвернуться от мира и забыть все на свете.
– За что? – повторил я и достал из кармана пиджака костяного монаха. – Ответь, путник.
Монах был прохладным на ощупь, безразличным и потусторонним.
– Ответь! – крикнул я в порыве ярости, готовый вышвырнуть странника куда угодно.
«За что?» – неверный вопрос, – молвил путник. – Правильный вопрос: «Во имя чего?».
Меня словно окатили ведром холодной воды. Я задумался. Действительно, глупо спрашивать, за что ты наказан. Это и так ясно – грехов хватает. Другое дело, во имя чего совершается с нами то или иное. Опять же, лишь Наблюдатель знал, что предназначено. Но разве скажет Высший, ради чего случилось то, что случилось. Ради чего я сидел опустошенный, тяжело придавленный отчаянием, с тягучей головной болью, невидящими глазами и колючими толчками сердца. Сидел один, как приговоренный, на другом конце земли, не имея рядом ни родных, ни близких, ни даже знакомых – никого! Не было уже и друзей-пограничников.
В чаще острых и гулких мыслей мне вдруг подумалось, что боль моя – знамение чего-то, и вскоре может явиться нечто новое, неожиданное и яркое. Но что же мне теперь нужно было делать – сообразить я не мог.
Наконец, я добрался до гостиницы. Глянул в окно. В каменной бочке двора торжествующе дико орала ворона. Затем взмыла вверх с куском какой-то черной тряпки. Как с флагом.
Я не в состоянии был находиться в пустой зловещей комнате и, наскоро одевшись, выскочил на улицу. Все было враждебным. Пугающе двигались навстречу люди, глядя на меня осуждающими, презрительными глазами. Больно бил желтый свет фар. Небо укрылось непроницаемой могильной хмарью. Рухнули мечты, лопнула снежная Чукотка, улетела в неведомое пространство Бухта Провидения. Еще, слава Богу, стояла теплынь, но через неделю вполне мог пойти снег – не Ялта. Гостиница была оплачена по воскресенье, и уже завтра мне надлежало продлевать плату или переселяться неизвестно куда. Денег оставалось ровно на один день самого скромного существования. При всем моем понимании высших задач и конструкций, замысленных Наблюдателем, утешение не приходило. Я рванулся было позвонить в Москву Валентину, но был воскресный день, а его домашнего телефона у меня не имелось.
Голова тупо ныла, от голода сосало «под ложечкой», все вокруг было беспросветно мрачным. Как меня угораздило взять с собой бумажник? Непростительная глупость. Безрассудство. Расхлябанность. Несобранность и свинство по отношению к себе же. К своей мечте. Наконец, к будущей книге. Непочатые ее страницы так и останутся непочатыми. Запряженные в сани лайки понесутся по девственному снегу без меня. И вертолеты полетят над голой тундрой без меня. И пограничные катера помчатся вдоль берегов без меня. Все теперь без меня. Словно я умер и меня больше не будет. Но как же тогда светлый осенний день, океан, сопки, брусника, форель и корюшка?.. Пограничники, грохот моих кабаньих копыт, который, должно быть, еще звенит над прибрежной дорогой.
«Нет, – сказал я себе. – Все правильно. То, что свершилось, вероятно, должно было свершиться. Значит, так задумано. И нечего раскисать, пускать слюни. Не барышня. В конце концов, ты жив, дышишь, ловишь воздух ртом. Жадно дышишь, потому что любишь жизнь такой, какая она есть. И принимаешь в ней все: и хорошее, и плохое. Поскольку без одного нет другого. Все остальное – ерунда. Унынию – бой. Самый жестокий. Так как уныние, словно ржавчина, тихо разъедает веру, а без нее человек слеп и может запросто угодить в любую яму».
Я принял эти ниспосланные мысли как лекарство и поблагодарил за них Наблюдателя, потому что не кто иной, но Он был со мною. Он, так или иначе, был моим проводником. Моим Вергилием. И моим хранителем.
Не скажу, что тяжесть мгновенно слетела с моих плеч. Но она стала оползать, как, вероятно, талый снег с весенних сопок. Что ж, и на том спасибо. Во всяком случае, я облегченно вздохнул и ощутил зверский аппетит: как-никак, с утра не держал во рту ни крошки.
Неподалеку призывно-ярким огнем горело какое-то общепитовское заведение: то ли столовка, то ли пивнушка, то ли кафе – выбирать мне особо было нечего, на двадцать пять-то рубликов. Впрочем, на еду хватало.
Называлось заведение по-весеннему тепло: кафе «Ласточка», и я нырнул под крылышко этой стремительной, юркой птички.
Это было именно заведение. Кафе – не кафе. Столовка – не столовка. Заведение. Войдя сюда, человек обретал полную волю. Он мог заказать поесть и выпить, но если не нравились цены, то никто не препятствовал сбегать в ближайший магазин за дешевой бутылкой, а еду, при желании, не возбранялось принести даже из дома. Чем, как видно, в полную ширь предоставляемой свободы и пользовались посетители. На всех, почитай, столах по причине близости океана стояла чуть ли не обязательная банка красной икры, на газетках алела аккуратно нарезанная кета-горбуша, кое-где горками топорщилась лаковая скорлупа крабов. Одним словом – чем богаты… Стаканы, конечно, полнились магазинным разливом. Но бутылок нигде не было. Законность посетители уважали.
Я взял две порции котлет с жидким порошковым пюре, а на сдачу продавщица любезно предложила бутылку пива, которое тут же для удобства потребления перелила в пивную кружку, сказав, что бутылки на столах «не положены».
Я сел за пустой столик и, невзирая на благочинных прихожан, в одно мгновение проглотил первую порцию, чтобы потом спокойно посидеть со второй, поразмыслить о свалившемся на меня бремени. Что, мол, с этим бременем теперь делать и как его с наименьшими потерями куда-нибудь поскорее сбыть. Мысли мои, однако, были весьма туманны. Я запивал их мелкими глотками из кружки, но радужных картин не наблюдал.
Так, видимо, прошло немало времени, за которое я более или менее отрепетировал предстоящую встречу с главой впередсмотрящих Города – товарищем Придорожным. Должен же он, в конце концов, понять мое положение, посочувствовать и как-то посодействовать, чтобы это, прямо скажем, кислое положение как-нибудь поправить. Мало ли что с людьми случается на белом свете. Ну, виноват. Ну, потерял командировочное, деньги. Но не вешаться же мне на самом деле. Пускай я не поеду, как замышлялось, ни в Певек, ни в Анадырь, ни в чудесную Бухту Провидения, но наверняка и тут может найтись любая журналистская работа. Конечно, работа должна найтись. Как иначе? Не возвращаться же мне назад на дохлой кляче. Да и с чем? На что? На какие, главное дело, шиши? Нет! Все должно утрястись. Как-никак – из Москвы! Звонок Валентина Придорожный выслушал самолично. Зная же чиновничье-военную структуру подчинения нижних этажей верхним, я полагал, что товарищ Придорожный, уже ответив однажды на распоряжение Валентина «есть!», не нырнет в кусты, не умоет руки. Однако, как сложится все на самом деле, преждевременно судить было трудно.
Больше всего меня, понятно, мучило то, что я подвел Валентина. «Писатель твой, – скажут ему, – просто разгильдяй. А ты, дорогой товарищ Кириллов, безответственный человек и плохой, близорукий работник. Мы, понимаешь, доверяем тебе особо важную вахту работы с молодыми, так сказать, кадрами, а ты, Кириллов, допускаешь немыслимый в твоем положении недогляд. Это, товарищ Кириллов, – скажут Валентину, – мягко говоря, преступно. И, откровенно, чревато…»
Вот так, наверняка, обойдутся из-за меня с Валентином. Если не хуже. Не приведи, конечно, Господи.
Я представил себе официальный кабинет с тяжелым дубовым столом и сияющим портретом вождя на стене. Представил седовласого юношу – Валентина, понуро стоящего перед сытыми партийными бонзами, вынужденного раболепно выслушивать «правильную линию», хотя кроме разгильдяя меня у него и дома хватало забот с подрастающим поколением. Да и на всех живущих вокруг и рядом Вале было далеко не наплевать.
Эти думы корежили мне душу и, видимо, физиономия моя отражало то, что творилось внутри, как зеркало, потому как неожиданно кто-то тронул меня за плечо.
– Можно присоединиться? – спросил хрипловатый мужской голос и, не ожидая ответа, обладатель голоса присел за мой столик.
Парень был чуть старше меня. Темно-русый, скуластый, с промоинами на щеках и пронзительно синими, словно сделанными из дальнего моря, глазами. Он устроил на колени целлофановый пакет и не спеша достал из него имевшуюся провизию: красную икру, которая уже перестала меня удивлять здесь, рыбу, сушеный картофель и пачку сигарет. Все это мой сосед разложил по-хозяйски аккуратно, степенно, удобно, собираясь, видимо, отдыхать в «Ласточке» до закрытия. На меня он не взглянул ни разу. Потом встал и отправился к стойке за пивом. И уж когда поставил на стол две кружки янтарного напитка, произнес:
– Я сидел за дальним столиком, в углу, и все наблюдал за тобой. Извини, конечно. Наблюдал, поскольку все физиономии, в основном, знакомые. Из тутошних. А ты, я вижу, фигура новая. – Сосед открыл банку с икрой. – Угощайся. У нас, обрати внимание, пустыми в пивнушку не ходят. Не в упрек, конечно. Копай икру. Не стесняйся. И вот, стало быть, гляжу я на тебя и вижу: что-то с человеком не то. Что-то точит тебя, терзает. Будто сосет что-то изнутри. Так или нет?
– Сосет, – признался я. – Это верно.
Поделиться своей бедой мне было не с кем, и от этого тяжесть казалась еще тяжелее.
– Вот я и вижу, – утвердился сосед. – Будто корку сухую жуешь да все не прожуешь никак… Гена меня зовут, – открыл знакомство парень.
Я тоже представился и ощутил в пожатии крепкие костистые пальцы проницательного Гены. Ненароком подумал, что парень похож на следователя. Какого-нибудь местного Порфирия Петровича. Однако убиенной старушки за мной не числилось, и я не утерпел открыться, тем более этот неожиданный, природный следователь обладал столь мужественным, открытым лицом, столь выразительными чистыми глазами, такой хрипловато сочувственной теплотой в голосе, что не открыться ему в моем положении было просто невозможно.
– Сосет, – повторил я угрюмо. – Вообразите себе…
– Давай на «ты», – грубо прервал меня Гена. – Не люблю официоза. До Петра I и царям говорили «ты». «Здравствуй, Алексей Михайлович! Как ночевал?»
– Ладно, – согласился я. – Ну так вот. Прилетел из Москвы с командировкой на всю Чукотку – Певек, Анадырь, Бухта Провидения. Я – журналист, Гена. Хотелось пошататься по Северу. Написать об этом книжку. Прилетел, и первым делом – в командировку к пограничникам. Там, на сопке, собирал бруснику. Бумажник был во внутреннем кармане: деньги, удостоверение командировочное. Куртку расстегнул – тепло было. Потом у них пожар случился. Загорелся продовольственный склад. Тоже набегался со всеми до отвала. Нагибался, понятно, каждую минуту. Вернулся в гостиницу – пустой, как дудка. Ни командировки, ни денег. Выронил где-то бумажник, когда нагибался. Хорошо, паспорт в другом кармане лежал, сохранился. Вот такие, Гена, кислые пироги. Не до веселья. Завтра уже нечем за гостиницу платить. Двадцатка осталась. Что делать – ума не приложу. Ни знакомых, ни близких. На другом конце земли…
– Денег-то много потерял?
Я назвал сумму. Гена свистнул.
– Точно потерял? – взыскательно спросил новый знакомый. – Это Желтый Город. Тут публика разная, тебе еще не известная.
– Потерял бумажник – это ясно, – повторился я.
– Что собираешься делать?
Я пожал плечами.
– Вот что, журналист, – медленно проговорил он. – Я думаю, как помочь. Надо же выбираться тебе. Так или нет?
– Завтра отправлюсь к начальству, – сообщил я, не вполне уверенный в успехе. – Что решат – Бог знает.
– Они ничего не решат, – туманно выразился Гена. – Они хвосты, а решает голова. Отошлют тебя к тем, кто послал. Вот те и будут решать. Скорее всего, вылезать придется самому. Поэтому я и прикидываю, чем помочь. Давай, одним словом, завтра встретимся здесь, в это же время.
– Тебе-то, извини, что за охота? – спросил я уже чисто из журналистского интереса.
– Охота – пуще неволи, – еще загадочнее выразился «следователь». – Колыма – планета суровая. Тут каждый – волк-одиночка. Но если человек в беде, нужно спасать. Это святое.
Он встал и, не оглядываясь, развально-небрежной походкой направился к выходу.
Я поблагодарил Наблюдателя хоть за какую-то крупинку надежды и удалился ночевать, неся в себе целый куль впечатлений, словно весь день мне снились яркие, волнующие сны, а вот теперь я проснулся и вспоминал их все разом. И даже пытался истолковать пролетевшую явь, словно сон.
Утром с тяжелым сердцем я отправился к Придорожному. Василий встретил меня, как и в первый раз – начальственно, но широко. Вышел на середину кабинета. Встретил уже как старого приятеля.
– Ну рассказывайте, – не терпел он. – Как застава? Какие впечатления? Надеюсь, очерк получится хорошим.
– Все замечательно, – сказал я. – Но случилась беда. На заставе произошел пожар. Загорелся склад с продуктами. Я помогал его тушить. Ведром черпал воду из ручья. Нагибался. Пожар погасили. Но в какой-то моменту меня, видимо, выпал из куртки бумажник со всеми деньгами на облет Чукотки и командировочным удостоверением. Кроме того, собирал бруснику – тоже нагибался. Одним словом, бумажник потерян. Искал везде. Не нашел. Как быть – не знаю. Понятно, дальше мне лететь не на что. Но может быть, пока и здесь найдется какая-либо работа? А очерк о пограничниках, я уверен, получится хорошим. Что теперь делать, ума не приложу, – повторился я. – Осталась одна надежда – на вас.
Придорожный нахмурился и тупо уставился в стол, постукивая авторучкой о какую-то деловую папку.
– М-да, – вздохнул он. – Положение.
– Вот именно, – сказал я понуро. – Глупее не придумаешь.
Придорожный встал и подошел к окну – поразмыслить, как быть.
За тем окном в тихом золоте листьев так же, как и вчера, грелась осень. Она неспешно и плавно переселилась в день сегодняшний, и я подумал, что море на берегу, должно быть, столь же безмятежно спокойно и элегично. И оно, море, ничего, конечно, не может потерять, и нет над ним, кроме Бога, никаких начальников.
– Может, здесь, в городе найдется какая-нибудь журналистская работа, – снова выразил я слабую надежду.
– М-да, – ничего не обещая, произнес Владимир Александрович. – Я должен согласовать с руководством. Сами понимаете – дело нешуточное.
– Понимаю, – ответил я убито и почуял беспощадную уверенность в том, что здесь мне ничего не светит.
– Значит, так, – приступил к делу Придорожный. – Я сейчас свяжусь с кем надо. Позвоним в Москву. Ну и что-то будем решать. В общем, зайдите после обеда. Часа в три.
До трех часов была еще уйма времени, и мне захотелось снова навестить океан. Я сел на тот же автобус, с теми же немногочисленными моряками и благополучно, теперь уже без бумажника, докатил до порта. Я вернулся к океану, как к старому мудрому другу. И он впустил меня в свою ауру. В обитель света, шелеста волн, запаха и покоя.
Я снова брел по песку среди медуз и крабов, среди диковинных водорослей и кочевых серебряных рыбешек. Солоноватый дух океана врачевал мои раны. Нервы успокаивались. Передо мной стояла Вечность, рядом с которой все земное казалось пылью, прахом былых времен, а боль моя – промелькнувшей судорогой, не стоящей воспоминаний.
Я пил терпкий йодистый воздух, трогал рукой холодные волны, видел вдали парящий, сказочный остров и мне хотелось жить тут всегда. Иметь какой-нибудь бревенчатый, пахнущий сосною дом, какую-нибудь хибару вон за тем синим утесом, выходить каждое утро к морю, чтобы слушать его голос, полный мудрости и печали. Поскольку все проходит. И все остается. И как было, так и будет вовек. И нет прошлого. Нет будущего. А есть только одно ослепительно сияющее сегодня. Все остальное – суета сует.
Тем не менее, я невольно поглядывал по сторонам: вдруг случится чудо – и бумажник мой обнаружится где-то под камнем. Пусть мокрый, пусть обтрепанный, но мой, потерянный. Ведь я уже был тут. Увы… Сбыться тому было уже не суждено. Понятно, хотелось перепрыгнуть во вчера. Уж я бы, пожалуй, куртку не расстегнул. Или, еще лучше, оставил бы портмоне в гостинице. На кой, спрашивается, черт я взял с собой бумажник! Однако и эти самоедские рассуждения на древнем бреге теряли свою силу и власть. Бог с ним, со всем. Что случилось, то случилось. Как будет, так и будет. Никто не в силах что-либо повернуть вспять. Потому что все произошедшее разыграл Наблюдатель.
Я перестал заглядывать под камни, отдавшись теплому сентябрьскому солнцу, вылинявшей голубизне небес, легкому бризу и шуму волн – несмолкающему дыханию океана.
В ходьбе по песку я утомился и присел на гладкий, со всех сторон облизанный водою валун. И так сидел, глядя на горизонт и слушая бельканто чаек долго-долго, потому что вода, после огня, вторая завораживающая стихия, смотреть на которую можно бесконечно.
Около трех часов я снова вошел в кабинет Придорожного. Он уже не встречал меня радостно, как в первый раз посреди своих апартаментов. Он даже не поднял головы, когда я появился. Лишь хмуро, строго указал на стул. Придорожный рассеянно посмотрел на то место, куда я должен был сесть, как на гроб без покойника. Туманно вернулся к бумаге, на которой что-то перед этим писал. Я понял: дела мои пахнут керосином.
Придорожный мучился между мною и каким-то официальным текстом. В конце концов, мне надоела затянувшаяся пауза.
– Ну и какое вышло решение? – спросил я жестко, потому что океан вселил в меня покой и твердость. И сопротивление камням на дороге. В чем, собственно, я был виноват перед этим маленьким императором? И почему должен кланяться ему в ножки? Люди, случается, теряют все, что угодно: дружбу, любовь, жизнь, наконец. Так говорил майор, Александр Иванович. И был прав. Что в сравнении с этим несчастный бумажник?!
Придорожный положил авторучку и с ненавистью, которая совсем не клеилась к его широкому, доброму лицу, посмотрел на меня в упор. В свои молодые годы он, оказалось, уже овладел способностью смотреть на людей начальственно пренебрежительно, уничтожающе, в упор. Так, я уже знал, смотрят на противника перед тем, как нажать на курок.
Я выдержал его взгляд. Он лишь разозлил меня, и я услышал, как где-то неподалеку опять гремят мои кабаньи копыта.
– Решили, что со мной делать? – еще раз спросил я с некоторой иронией.
– Решили, – металлическим голосом сообщил Владимир Александрович. И тут его сорвало: – Не понимаю, – бросил он, грузно поднимаясь, пунцовый от внутреннего возмущения. Галстук его съехал набок. – Как можно так безответственно относиться (тут Придорожный вознес вверх толстый палец) к заданию Центрального Комитета. Я бы даже сказал: безобразно относиться! – Рабочая страсть воодушевляла Придорожного, воспламеняла его ум четкой поучительной ясностью профессионального демагога. – Вас, понимаете, направил Центральный Комитет, а вы после ответственного задания заявили о пропаже документов и денег. Предстояла, понимаете, такая серьезная работа в культурном, так сказать, плане воспитания молодежи. А вы, откровенно говоря, пустили все коту под хвост. Какое после этого, понимаете, может быть наше доверие. Я представляю, конечно, можно посеять авторучку, очки, десятку. Но три тысячи! Это уже, понимаете, слишком. Вы подвели в первую очередь товарища Кириллова, который, конечно, поручился. Подвели меня, так как я уже связался с людьми на местах. И, понятно, подвели себя. Поэтому никакой речи о дальнейших командировках быть не может. Наш второй секретарь товарищ Морозов так прямо и сказал: «Речи быть не может!» Понимаете? Мы связались с Москвой. Товарищ Кириллов очень огорчен. Очень. Одним словом, Москва сказала: «Отправляйте назад». Вот и все. Так что шлите телеграмму родственникам, родным. Пусть высылают вам на дорогу денег. И улетайте.
Придорожный померил ногами расстояние от стола до подоконника и повернулся ко мне лицом. Лоб у бедняги взмок от взыскующего усердия. Страсть еще не остыла в нем, и впередсмотрящий секретарь вспыхнул новым негодованием.
– Скажите спасибо, что вас еще не судят за растрату, хотя деньги, так или иначе, придется возвращать. Не дети, понимаете. Да в прежние времена знаете, что полагалось бы вам тут за такие вещи?!
Я поднялся, утомившись внимать дидактическому пафосу Придорожного.
– Послушай, сынок, – сказал я. – А не пошел бы ты…
И вышел, жестко хлопнув дверью. Меня тошнило от кучи чиновничьего дерьма, которое вывалил на меня «друг, товарищ и брат» – ясноликий Придорожный.
Я вылетел на улицу этаким взъерошенным петухом, но совершенно опустошенным.
Дул пронизывающий ветер и по небу неслись сизые тучи, наползая время от времени на солнце, отчего город то мгновенно погружался в темень, то снова вспыхивал ярким светом.
Я шел неведомо куда. Так просто шел себе и шел, потому что конкретного пункта не было. Командировка моя, как теперь было очевидно, рухнула. Сгорела дотла. Место проживания отсчитывало последние часы. В кармане оставались жалкие гроши, а Москва была ой, как далеко. Да и что ей, Москве, до меня? Я должен был вернуться на белом коне, а возвращался, получалось, на дохлой кляче.
Ноги сами вывели меня к центральному телеграфу. Я решил на последние деньги позвонить Валентину. Конечно, нужно было позвонить. Во-первых, потому, что звонить больше было некому. Во-вторых, еще тлела во мне последняя надежда – а вдруг. Вдруг что-то изменится, повернется вспять. Ведь он, Валентин, там, у кормила. На капитанском мостике. Хоть и не сам капитан, но все же.
Соединился с Москвой я неожиданно быстро. Слышно было на удивление хорошо. Как из соседней комнаты. Сбивчиво, перекатываясь через волнение, я начал повествовать Валентину о своей горемычной доле, но он прервал меня, так как ему уже была известна моя история. Не жестко перебил меня Валентин, не убийственно строго, не укоряюще. Скорее, сочувственно прервал. Как руку подал. И вот этого я никогда не забуду.
– Чем сейчас занимаешься? – спросил Валентин после нескольких теплых, утешительных слов, которых теперь и не припомнить.
– Горюю, – сказал.
– Брось, – посоветовал Валя. – Плюнь на все. Главное – ты жив, здоров. Лично я помочь с вылетом не могу: семья, дети. Сам понимаешь. Но там, в Желтом, в Союзе Писателей, есть поэт – Ваня Плетнев. Он ходит первым помощником капитана на сейнере «Славный». Найди его и передай от меня привет. Он что-нибудь придумает. В крайнем случае, шагай в порт. Ты парень крепкий. Платят, я думаю, там неплохо. Погрузишь чего-нибудь и вернешься. Опять же – впечатления. Не падай духом. На Придорожного не серчай. Он – фигура мелкая. С него потребуют, он ответит: «Есть!». И больше ничего. Так что держись! Не вешай нос! Опять же, не забудь насчет чайки. Все. Обнимаю. Звони.
Я вышел из телеграфа облегченно радостным. Гора, висевшая на плечах, обрушилась в телефонной будке. Глотнул свежего воздуха и вдруг почувствовал, что голоден, как последняя дворняга. У меня оставалась еще какая-то мелочь. Из соображений экономии купил бутылку кефира и булку.
Пока я рвал зубами мягкий хлеб, в голове моей переворачивались два румяных Валиных варианта: либо идти в Союз Писателей на поиски поэта-моряка, либо прямиком шагать в грузовой порт, чтобы предложить себя в качестве тягловой силы. Второе мне было милее. Моряк, тем более поэт, Ваня Плетнев, конечно, – я был в этом уверен, – не остался бы безучастным, как зомбированный секретарь Придорожный, у которого все было или «положено» или «не положено». Но мне не хотелось никому быть обязанным. Ни от кого не хотелось зависеть. В отношении порта, правда, тут же назревал насущный вопрос: где ночевать? Проживание в гостинице кончилось. Поэтому, как ни заманчивее казался порт, предпочтительнее по всем пунктам выходил Ваня Плетнев. На совсем уж худой конец оставался Гена из «Ласточки».
Вечером я должен был забрать вещи из гостиницы и куда-то переселиться. Вот в этом и заключалась вся загвоздка.
И вот для начала я направился в Союз Писателей, где надеялся отыскать помощника капитана дальнего плавания, хотя этот самый, необходимый мне помощник, поэт Ваня Плетнев, очень просто мог находиться в данный момент в далеком плавании, где он одной рукой обеспечивал страну рыбой, а другой – писал маринистские стихи.
Городской Писательский Союз располагался в каком-то административном здании среди массы контор одиночных организаций, на дверях которых красовались замысловатые вывески. Наконец, в одном из коридоров я нашел то, что мне было нужно. Хорошенькая девушка с полными губками и густо накрашенными ресницами, исполнявшая здесь обязанности дежурной или секретарши, оживилась с моим появлением, ибо она явно скучала на своем ничего не производящем производстве.
Она, эта дежурная секретарша, сразу закурила для пущей важности и, разглядывая меня от волос до ботинок, ласково объяснила, что Ваня Плетнев сейчас в плавании и ожидается не раньше октября. Что до остальных, коих не так и много, все, естественно, в отпусках, на материке. Поэтому у писателей мертвый сезон. Она вздохнула, кокетливо поправив локон медно-рыжих волос. Вот и они с мужем, как только он не сегодня-завтра вернется из геологической экспедиции, и дня не задержатся в Желтом. Потому что, во-первых, тоска, а во-вторых, на юге бархатное лето в разгаре, и их уже заждались.
Теперь вздохнул я. Тучи надвигались вновь.
– Стало быть, никого? – безнадежно спросил я.
– Ну почему? – наморщила лобик хорошенькая дежурная. – Поэтесса Нина Шабалина здесь. Но она уехала к маме, в Ягодное. Есть еще Николай Аркадьевич Рыжов. Правда, он заядлый таежник, и как только сходит снег, его из города ветром выдувает аж до нового снега. А вы кто же будете? – полюбопытствовала труженица литературы.
– Мы будем Никитин Олег Геннадиевич, – дружелюбно улыбнулся я. – Проездом из Москвы. Сотрудник издательства Н. Не слыхали?
– Да, да, конечно! – с театральным пафосом соврала секретарша.
– Хотелось повидать кого-нибудь из писателей, – соврал в свою очередь я и поправил галстук, собираясь уходить. – Жаль, не судьба. Рад был познакомиться, – еще раз улыбнулся я, так, впрочем, до конца и не познакомившись. На секунду задержался в двери. Была одна заноза, которая не давала покоя, ныла, как рана, и я обернулся.
– Раз уж у нас с вами случилась такая очаровательная встреча, – выдавил я из себя, что из засохшего тюбика, так как дальше речь должна была пойти об одолжении, а одалживаться я ненавидел, но ничего не оставалось, как продолжить, и я продолжил: – У меня к вам огромная просьба. Мне предстоят поездки по области. Нельзя ли оставить у вас на время кое-какие вещи? Буквально на несколько дней. Пребывание в гостинице закончилось. Я оказался в затруднении.
– Ради Бога! – воскликнула дежурная так, словно всю жизнь ждала этой минуты.
Я облегченно вздохнул, подумав, что ложная скромность часто бывает только во вред и что, к счастью, не перевелись еще на свете такие вот добросердечные Анжелы Ивановны – так звали, как выяснилось, хорошенькую секретаршу.
Я волок к Анжеле Ивановне пудовые чемоданы и с ощущением благодарной радости ловил языком капли пота, катившиеся с висков прямо по щекам.
Сбросив вещи в комнату отзывчивой Анжелы Ивановны, я поцеловал ей ручку, рассыпался в комплиментах, при этом был совершенно искренен и выразил сожаление, что она столь рано вышла замуж, пусть даже за отважного северного геолога.
Я был красноречив, а Анжела Ивановна цвела на глазах, напуская на себя ту самую ложную скромность, от которой, как выяснилось, нет никакой пользы. Расстались мы близкими друзьями, во всяком случае, отношения наши сложились в самой мажорной тональности.
Теперь я неторопливо брел развальной походкой портового грузчика, воображая себя не меньше, чем Куприным, которого в свое время знала и любила вся трудовая публика Черноморского побережья. Тут было другое море, другие, может быть, люди, но плечи и руки нужны были такие же. Руки и плечи я имел крепкие и потому был твердо уверен в своей пригодности к такому делу как разгрузка-погрузка портовых судов. Ну покатаю бочки, потаскаю мешки, ну поворочаю-поношу ящики и коробки. Кроме мышечной пользы и бодрости духа – никакого вреда. Заработаю себе и на Анадырь, и на Певек, и на Бухту Провидения. Самостоятельно. Набью железные мозоли и полечу. Без всякой дармовой лафы и придворных демагогов. Значит, так решено Наблюдателем. И, скорее всего, Он все выстроил и определил верно.
Я вытащил дорожного своего путника, костяного философа и вопросительно посмотрел на него, мол, что скажешь, дружище. Философ, как и всегда прежде, глубокомысленно наблюдал за какой-то основной точкой в пространстве и вдруг изрек: «На всякий случай запомни, что слово «характер» происходит от древних терминов «отметить» и «запечатлеть». Иные же отождествляют слово «характер» со словом «клеймо», которое вавилонские кирпичники ставили на каждый выделанный кирпич. У каждого из них было свое клеймо. Поразмысли над этим знанием. Гори всегда, везде и никогда не угасай». Тут мыслитель замолчал, и я благодарно спрятал его в карман, так как понял, что мой друг все-таки не безучастен к моей судьбе и, сидя в темном полотняном убежище, переживает о ней и подпитывает мою энергию.
В порту меня приняли по-мужски. По-деловому. Без объятий и хлеба-соли товарища Придорожного. Рабочие, конечно, им были нужны.
С меня немедленно стребовали документ, предварительно оглядев физиономию: не имеется ли на ней следов крепких напитков. Этого не наблюдалось, и тогда береговой начальник кадров, человек в морском бушлате, с густыми морщинами на лбу, при красивых серебряных усах, стал листать мой паспорт. Портовые работяги по случаю обеденного перерыва сидели вокруг него. Проштудировав документ от корки до корки, кадровый начальник сдвинул фуражку на затылок и озадаченно хмыкнул. Похоже было, мой мандат чем-то его существенно не устраивал.
– Ты это… – сказал врастяжку распорядитель грузчиков и прочих морских сил. – Откудова, говоришь, прибыл?
– Из Москвы, – ответил я, холодея, так как начал улавливать, что на моем пути возникло какое-то новое препятствие. Какая-то очередная, жуткая преграда.
– Видали! – объявил комиссар по кадрам остальным портовым трудягам, заинтересованно смолившим речморские папиросы «Беломорканал», красноречиво напоминавшие о нашей великой истории. – Он, понимаете, из самой Москвы приперся сюда грузчиком. Всю жизнь мечтал. Там что, в Москве, нечего грузить стало?
– В чем дело? – спросил я, скрипнув зубами. – Берете, нет?
Командующий кадрами протянул мне мой паспорт.
– Езжай, сынок, к себе в Москву и там грузи хоть черта лысого. А тут, паря, погранзона. Особая прописка требуется. Это целое дело. Это тебе необходимо контракт заключать на работу в порту и все такое прочее. А ты, я чувствую, не затем приехал, и тут – залетный комар. Короче, без штампу о прописке в пограничной зоне тебя, мил человек, только в тюрьму примут. Тама любят таких дураков. Ты вообще кто такой?
– Писатель, – сказал я зло, ощущая плавный полет по волнам общего идиотизма.
– Ну вот, – огорчился земной моряк. – Писатель, а дурень. Никак не поймешь: без штампу ты тут г на палочке. Иди, сядь на сопке и пиши, хоть запишись. Но чтоб тебя никто не видел. Ясный компот?
«Компот», конечно, был предельно ясным. Правда, идти писать на сопку я, понятное дело, не стал, а стрельнул у одного трудящегося грузчика «Беломорканальскую» папиросу и присел на валявшийся пустой ящик, чтобы на нем, на этом ящике, придумать какую-нибудь новую мысль, которая явилась бы реальным воплощением того, о чем поведал мне в последнюю встречу монах. Но шансов, честно говоря, для рождения такой нематериальной продукции имелось крайне мало. Оставалась последняя соломинка – уголовный Гена, до встречи с которым было еще часов пять.
Как-то все на беду не складывалось с самого начала. Не прозвенел будильник перед отлетом в Москве, и я вскочил с постели чисто по биологическому ощущению времени. Затем (с чего бы это?) неожиданные проводы бывшей жены. Что это было, я никак не мог взять в толк. Демонстрация неостывших чувств? Или просто прощальная встреча. Да еще с вручением моей старой, дурацкой фотографии. Все это выглядело более чем странно. Действительно, зачем она ехала божьей ранью в такую даль, в аэропорт? Затем – потеря денег, документов. Наконец, отсутствие кого-либо в местном отделении Союза Писателей. Невозможность устроиться на работу Какой-то во всем этом чуялся непростой заговор, какая-то, прямо скажем, чертовщина. Все, конечно, было известно Наблюдателю. Но разве Он скажет, в чем тут суть, и какую очередную игру затеял. Что-то Он, понятно, как конструктор наших судеб, в отношении моей доли выхитрил, а вернее, вымудрил. Это было ясно. Однако в данный момент не утешало. Желудок снова ныл от голода.
Я докурил папиросу. Желудок снова прилипал к позвоночнику, а финансы, как говорится, пели арии. Бесцельно побрел по территории порта. На судах, стоявших у причала, шумела трудовая жизнь. Россыпью белых искр сверкали огни газосварки. Вовсю пульсировала погрузка-разгрузка. Молодые ребята ловко таскали по трапам кислородные баллоны. Мотали умными головами подъемные краны. Словом, шла та буднично веселая жизнь, на которую у меня до зуда чесались руки, и от которой тошнило, потому что я был бессилен что-либо сделать. Мало того, что мною, как последним идиотом, были потеряны деньги и документы – теперь я стал как бы опальным бродягой и шатуном. Интересно, чем мог порадовать меня мой новый знакомый Гена. Я уже ни во что не верил. Надежды таяли, как медузы на песке. Что сулил мне дальше Наблюдатель, предположить было просто невозможно. Со мной случилось то, что называется: влип. Конечно, бывает и хуже, значительно хуже, но сознание этого бодрости не приносило. Даже понимание того, что безвыходных ситуаций не бывает, сейчас никак не грело, ибо впереди была черная ночь среди белого дня.
Куда я шел, не знал. Шел, чтобы производить в жизни хоть какое-то движение. Но брел в совершенную пустоту.
На трагической моей дороге лежали различные предметы бытия, производства и флотских принадлежностей: галька, камни, железные останки неизвестно чего, куски корабельных трапов, ржавые тросы, переломленный пополам якорь, дохлая ворона и другие поразительные вещи, которые текли сквозь мое сознание, как мутная вода. Вдруг я остановился и услышал сердце: передо мной лежал целый даже никем не надкушенный бублик с черными крапинками мака по всей окружности. Его, этот бублик, кто-то, скорее всего, потерял. Или просто бросил от сытости, чтобы не засорять карман. Прямо скажу, во мне смешалось множество ощущений. Неловкость, стыд, печаль, брезгливость, злость, ненависть к року и щенячья благодарность к брошенному куску. Во всяком случае, слюнные железы, независимо от моих ощущений, заработали мгновенно, сразу.
Я воровато оглянулся. Сзади, шагах в двадцати, за мной следовал походкой здорового, сытого человека беспечный морской рабочий.
«Вот морда, – подумал я о портовом трудящемся. – У него-то, небось, все в порядке. И деньги в кармане и паспорт с пресловутой пропиской за пазухой». Подумал и стал ждать, пока этот добротный парень не пройдет себе мимо своей благополучной походкой. Мне нужно было, чтобы он прошел, потому что при нем поднять бублик, который валялся у меня под ногами, я не мог.
Я засунул руки в карманы и стал насвистывать какую-то мелодию, словно в жизни было все расчудесно. Словно я просто любовался окружающей портовой суетой. Рабочий, скорее всего, из грузчиков, прошел мимо, внимательно поглядев на меня, как на явление художественного свиста.
Как только морской грузчик потерял ко мне любопытство, я схватил бублик и быстро сунул в карман. Теперь нужно было, чтобы работяга устранился подальше. Когда же он отдалился на нужное расстояние, я вытащил находку и впился в нее зубами, предварительно стряхнув пыль и возможную грязь.
Бублик оказался не первой свежести. Правду сказать, старый, совершенно окаменелый. Может быть, его потеряли еще в прошлом году. Может быть, потеряли именно в тот момент, когда я сидел с Николаем Родионовым в ресторане и ел бутерброд с красной икрой, запивая его «Шампанским». Я пил «Шампанское», а кто-то уже бросил мне сухой бублик. Да. «Чудны дела твои, Господи, – подумал я. – Кому-то не хватает еще одного бриллианта на груди, а кому-то – черствой корки на земле».
Бублик я растянул до вечера, так как других перспектив получить случайное пропитание не предвиделось.
В означенное время я снова вошел под теплые своды кафе «Ласточка». Гена, будучи верен своему слову, уже поджидал меня за дальним столиком.
Все было как вчера, словно оно и не перерождалось в сегодня. Та же полная продавщица за стойкой. То же пиво. Те же на столах банки с икрой.
– Подкрепись, – предложил Гена, считая, видимо, приветствие лишним атрибутом общения. Однако предложение подкрепиться было как нельзя кстати.
Я выпил кружку пива, поел рыбы, икры и на душе повеселело.
– Расклад такой, – доложил Гена, пока я уплетал закуску. – Сейчас двинемся к Сергею Ивановичу, моему знакомому. Бывший моряк. Можно сказать, морской волк. Но волк в отставке. Проще говоря, на пенсии. Полгода назад схоронил жену. Ну и, сам понимаешь, горюет человек. Ясное дело: прожил с женой всю жизнь, а тут – один. Я говорил с ним о тебе. Он согласен. Более того. Тащи писателя, кричит, не раздумывая. Буду только рад. А то, говорит, хоть вой от тоски. Комната у него, правда, в коммунальном коридоре. Барак. Деревяшка. Зато – на самом берегу, что тоже в смысле впечатлений вполне романтично. Да тебе, впрочем, выбирать не приходится. Поживешь. Оглядишься. Прикинешь, что к чему. Так, на волне общей регенерации и выплывешь из ямки. Скажу тебе честно, твоя ситуация – комариный укус по сравнению с тем, что пережил я. Так что не горюй. Господь опустил – наверное, было за что – Господь и поднимет. Он милостив. А сейчас, видимо, простая проверка: кто ты есть на самом деле. Вот и все. Вся, можно сказать, философия. Ладно. Допивай и пошли.
Действительно: залив, берег, барак. По темным вечерним хребтам сопок – золотые ожерелья огней. Синее морское плато в черной бугристой раме.
Сергей Иванович был в спортивном костюме и тапках на босу ногу. Он вышел нам навстречу довольно твердо, несмотря на затяжное горе. Отрекомендовался капитаном второго ранга. Широко, но искусственно улыбнулся. Видно, беда зацепила его не на шутку. Хозяин был худ, бледен, со впалыми щеками, на голове имел жидкий, взлохмаченный волос.
В захламленной комнате стоял затхлый дух. На столе торчала бутылка водки, несколько пустых сиротливо ютились в дальнем углу.
– Рад. Очень рад! – засуетился прежний моряк. – Прошу вас прямо к столу. У меня пельмени на подходе. Гена сказал, что… Вот я и… Конечно, когда так… Когда случается… Не знаешь вообще, как… Одним словом, живите. На здоровье. И мне хорошо. Хоть кто-то рядом. Потому меня, знаете, мысли одолевают. Грешен я перед Анечкой моей, Царство Небесное. Ох, грешен! Мамочки мои! Походы, заграницы, карнавалы, женщины… Тогда ведь мы не знали, что есть грех. Откуда в человеке… Да вы присаживайтесь. Вот сюда, пожалуйста. Прямо к столу. Сейчас выпьем, закусим. Я так рад. Ей-богу. Именно что… Ведь как бывало… Она все терпела, Анечка моя. Святая была. Почему человек не чувствует, что нельзя этого делать. А вернее, чувствует, но делает. А? Как вы считаете? Я сейчас много понимаю. Да. Анна Федоровна святая была. Истинно святая. Все прощала. Да и как не прощать. Ведь не мы судьи. Как можем?.. Но вы располагайтесь. Чувствуйте себя… Доставайте рюмочки в шкафу, а я уже несу пельмени. Замечательные. Из кижуча. Сам готовил.
Сергей Иванович удалился.
– А что сделаешь, – сказал Гена. – Горе. Посочувствуешь. Потерпишь. Куда деваться. Потом что-нибудь придумаем.
Деваться и впрямь было некуда. Мы дружно горевали с пострадавшим моряком ровно неделю. Неделю я аккуратно по просьбе капитана утром и вечером посещал продовольственный магазин, чтобы запастись провиантом для закуски и спиртным на помин души рабы Божьей Анны Федоровны. Днем отправлялся к океану и бродил по берегу часами, так как ничего другого горюющей, тяжелой головой придумать было нельзя. Отказ же от спиртного Сергей Иванович воспринимал как личное оскорбление и более того – оскорбление светлой памяти святой Аннушки. Тут выбора не было.
Я садился у подножья сопки и рассматривал причудливые города, возникавшие на гладкой поверхности моря. В эти далекие города черными щепками заплывали корабли. Окрестную тишину надрывали чайки. Весь мир пах йодом и канатами.
После завтрака Сергей Иванович, нагоревавшись с утра, ложился отдыхать. В изголовье его стоял портрет незабвенной Анны Федоровны, красивой, моложавой женщины с пышными льняными волосами. Моряк некоторое время туманно смотрел на портрет, чтобы, видимо, напитать свою память дорогим образом, а затем закрывал глаза до вечера. Мне ничего не оставалось, как исчезать восвояси.
К концу дня мы затевали, как правило, общий ужин, и я в который раз выслушивал долгую повесть капитана о его удивительной, трудной и страстной любви. Иногда Сергей Иванович заговаривался, нес околесицу, каялся и плакал, уткнувшись мне в грудь. Я, вздыхая, утешал его ладонью по редким волосам.
Из комнаты своей моряк теперь выходить почти перестал, и ноги его начали отвыкать от земли. Он-то опрокидывался на диван, глядя подолгу на портрет нежной супруги, то что-то невнятно бормотал в постоянном покаянии, то просто засыпал, оглашая комнату нездоровым, каким-то истерическим храпом. Количество пустых бутылок увеличивалось, а надежды мои на благополучный исход нашего знакомства пропорционально таяли, как апрельский снег.
Я таскал с берега всякие диковинные предметы: коряги, камни, крабьи панцири и клешни, деревянно-высохших рыб.
Сергей Иванович одобрял мои находки.
– Значит, ты любишь море, – патриотично радовался он. – А я, видишь ли, в первую очередь люблю, если морем интересуются. Знаешь, океан – это целый мир. Космос! Это – ум земли. Мыслеформа! Вот. Я тебе, если хочешь, могу столько про океан доложить, во всю свою бурную жизнь не опишешь. Но зато, во-первых, можешь стать как Новиков-Прибой. Это не как-либо. А потом, помнишь, был такой художник Айвазовский? Анечка моя очень обожала Айвазовского. Мы с ней, когда в Феодосии жили, в санатории, чуть не каждый день в его галерею хаживали. Ну и, в-четвертых, конечно, то, что я тебе расскажу, это жизнь. Понимаешь? Людям всегда любопытно за жизнь читать. Не какую-нибудь чепуху-фантазию, а за жизнь. Это – в-третьих. А в-пятых – выпьем. Помянем мою Анечку. Спаси ее, Господи!
Мы снова в несчетный раз поминали пресвятую Анну Федоровну и я, пропуская мимо слуха уже известные слова капитана, думал, что надо каким-то образом выбираться из этой поминальной литургии и что добром она не кончится.
Так и вышло. Добром не кончилось.
Как-то поутру бывший моряк проснулся особенно хмурый. Он, конечно, выпил накануне немало горькой и поэтому, пробудившись, сильно хворал.
Я тоже пошевелил наждачным языком и с тоской пронаблюдал, как Сергей Иванович чуть не разбил себе зубы о стакан с водой, пытаясь затушить пожар внутри организма. Капитан, кряхтя, пошаркал по нужде во двор, а вскоре влетел в комнату, словно за ним гналась шайка бандитов, и порывисто затворил замок на все повороты. Глаза его метались по сторонам, отражая ужас мозга. Носки на пенсионере флота как всегда отсутствовали.
– Там это… – в страхе сообщил бывший моряк.
– Что? – не понял я.
– Воробьи на бельевых веревках.
Я удивленно поднял брови.
– Ну и?..
– В милицейских фуражках.
– Кто?
– Воробьи. Ты что, не понимаешь? А в коридоре – паук. Вот такой вот. – Сергей Иванович развел руками во всю ширь. – Да при нем две крысы. Как две собаки. Надо отбиваться. У тебя граната есть?
Стало ясно, что дело плохо.
– Есть «лимонка». Сейчас принесу, – сказал я. – Сиди здесь, Иванович. Никуда не двигайся. Не то съедят.
– Хорошо, – согласился капитан, нервно озираясь. – Только быстрее. Вон, смотри, мохнатая лапа под дверь уже лезет.
Я выскочил на улицу и бросился к ближайшему телефону.
Через полчаса прикатила машина. Из нее вышли два не очень интеллигентных санитара в белых, но отвратительно грязных халатах. Они привычно грубо взяли заслуженного моряка под локти и потащили через двор.
– Вон они! – закричал Сергей Иванович, радуясь своему тайному зрению. – Воробьи в ментовских фуражках! А ну, кыш, мусора!
Работники больницы сонно переглянулись и кинули боевого капитана в зеленые воронки с красным крестом. Вскоре вся спасательная команда скрылась за поворотом. Теперь заинтересовались соседи, с любопытством наблюдавшие проводы горемычного моряка, и полюбопытствовали, кто я есть такой.
Я отрекомендовался.
– Собутыльник, – определила меня тощая, как велосипед, дама неопределенных лет с каракулевой шерстью вместо волос. – Собутыльник, – подтвердила она, повернув каракулевую голову, видимо, к своему мужу, тучному малому с неподвижным лицом. – Мы комнату закроем, – обратилась дама ко мне. – Сергей Иванович оставил нам на всякий случай ключи.
– Сделайте одолжение, – расшаркался я. – Потом можете даже лечь на пороге.
Взяв заплечную сумку, я вышел из дома несчастного мореплавателя. Куда, однако, я вышел, снова было неведомо. Погодные условия в этот день, надо сказать, значительно отличались от тех, какие были, к примеру, на Гаити или хотя бы в нашем Крыму. Поверху шел резкий холодный воздух, таща по небу рваные лохмотья серых туч. Внизу, на земле, усердный ветер дотошно рылся в кучах мусора, аккуратно сгребал дорожную пыль и заботливо швырял все это мне прямо в лицо.
Привыкшее к каверзам природы население быстро облачилось в плащи и куртки. Только я, одетый в добротный костюм, напоминал выскочившего за сигаретами служащего. Демисезонная одежда пока что хранилась у Анжелы Ивановны.
Неожиданно из верхнего воздуха просыпался колючий дождь. Улица стала неуютной.
Я нырнул в ближайший магазин. Тут пахло хлебом, рыбой и колбасой. Можно было, конечно, постоять у мутного широкого стекла витрины, полюбоваться в тоске на черные зонтики летучих прохожих, можно было, сглотнув слюну, вспомнить лучшие времена, хорошие рестораны, но голодный, грузный кабан завозился во мне, и я, цокая копытами, прошел к директору магазина. Мне никогда не доставляли удовольствие подобные аферы. Однако что было делать?
Дальше все происходило по спонтанной схеме авантюрной импровизации. Писательский билет, максимум благожелательности, обаяния, улыбок, обещаний объективно осветить в прессе работу торговой сети Города и особенно магазина №…, возглавляемого прекрасным директором (Ф.И.О.). Несколько деловых вопросов, записей в блокноте, легкий, скользящий намек на нечаянный голод, случившийся вследствие обилия работы, и вот мы уже сидим с директором, милейшим человеком – Аршаком Васгеновичем Симоняном. Пьем коньяк, закусываем крабами и копченой курицей. Забегая вперед, скажу, что Аршака Васгеновича я не обманул. Но в тот день встреча с человеком из далекой Армении была последним приятным событием.
Спасаясь от непогоды, остаток дня я провел в читальном зале, где, забившись в дальний угол, просто уснул, сморенный коньяком, дождем и печалью.
Учтивая служительница осторожно потрогала меня за плечо, когда в читалке уже никого не осталось.
Я вышел в темноту и сырость чужого и, как мне представлялось, враждебного города.
Моросил дождь. По мокрой дороге шуршали машины. Нахохлившиеся, сутулые прохожие торопились в свои жилища. Из-за висевшей в воздухе влаги из окон шел тусклый свет и тут же, на выходе, поглощался моросью, не дававшей электричеству разгульно разлиться по всей округе.
Внезапно я вспомнил об Анжеле Ивановне, но искать ее участия было уже поздно.
Голод снова подгрызал меня изнутри. Костюм мой напитался сыростью. Знобило.
Я заглянул, конечно, в кафе «Ласточка», но единственного друга-Гены там не было. Тогда я решил добраться до окраины города и перебыть до утра в какой-нибудь пустой постройке или брошенном сарае.
Я сел в автобус и покатился все равно куда. До конечной остановки.
Конечная остановка была голым пустырем на берегу залива, на другой стороне которого слабо мерцали, как далекие звезды, огни чуждого города. Вокруг пустыря смутно вырисовывались береговые хибары с неясным, словно от керосинок, светом в окнах. Сигареты у меня кончались, но я закурил и пошел к тем угрюмым хатам. Наверное, с десяток из них мрачно проводили меня в темноту, глядя в ночь подслеповатыми, желтыми глазами.
Во тьме я разглядел на берегу несколько перевернутых лодок и подумал, что, в крайнем случае, придется переночевать под одной из них. Проситься на ночлег я себе запретил. Пить беду решил до конца. Тут у меня что-то заклинило.
На краю улицы стоял пустой дом. Я это почувствовал как-то сразу. Почувствовал, что в нем никто не живет.
Эта хибара стояла особняком. На отшибе. Как чей-то большой забытый сарай. В окнах было темно, и забор отсутствовал.
Я осторожно пробрался к заброшенной хате. Толстая деревянная дверь была чуть приоткрыта, и стоило едва коснуться ее, как она легко поехала на меня с мягким сырым скрипом.
Я шагнул в темное нутро жилища, и в лицо мне ударил тяжелый мокрый запах провалившегося погреба, видно, древесные полы были изъяты отсюда хозяйственными соседями.
Я зажег спичку. Действительно, полов в хате не было. В дальнем углу темнела какая-то куча, как мне показалось, из наваленных мешков и старых фуфаек.
Спичка погасла. Я зажег новую спичку, подошел ближе. И обмер. Поверх той кучи лежал труп. Усопший был мужчиной средних лет. Одежда его сливалась с тряпьем, и я понял, что умерший был из бродяг.
Спичка обожгла пальцы. Я не без дрожи в руках воспламенил еще одну.
Не мигая, труп сосредоточенно смотрел в пустоту ночи, словно видел сквозь темный потолок нечто никому неведомое. Подпухшее лицо его оттеняли бугры щек, резко очерченные во мраке белым пламенем спички.
Меня пробил озноб, захотел поскорее покинуть это зловещее место. Но труп неожиданно спросил влажным загробным голосом, не поворачивая мертвой головы: «Хочешь здесь жить?»
В одну секунду меня вынесло наружу Дверь, по-моему, я снял с петель, но сейчас установить точно это невозможно. Сколько я бежал и куда – на плечах истории.
Я остановился, потому что ноги уже подкашивались. Предо мной возникла серая пятиэтажка, и я нырнул от холодной мороси в вонючий подъезд, так как деваться больше было некуда. К тому же, пока я бежал, мне все время казалось, будто кто-то прилипчиво гаденько хихикает у меня за спиной.
Я взлетел на пятый этаж, и устало сел в угол, прислоняясь сразу к двум стенам. И тут же провалился в тягучий, муторный сон, набитый мертвецами, погонями, кровью, затонувшими деньгами и прочей дрянью. Очнулся от скрежета железной двери где-то на нижнем этаже.
К полудню я снова бродил по территории порта, поскольку испытывал острую необходимость быть среди трудящихся людей. Голод все сильнее терзал меня, и я глушил его последними сигаретами.
На унылом пути моем мне повстречался морской грузчик, который был в числе наблюдавших мое критическое положение в отделе кадров под открытым небом. Я сразу узнал его. Да и он, вероятно, тоже признал меня. Во всяком случае, проходя мимо, он как-то особо пытливо взглянул на мою особу. Я остановился. С тайной надеждой посмотрел ему вслед.
Вдруг морской грузчик обернулся и позвал меня. Я пошел навстречу портовому рабочему, так как он стоял и ждал меня на пути к причалу.
– Пойдем со мной, – скомандовал работяга. – У меня на тебя вся информация в голове есть. После беседы с кадровиком ты теперь личность известная. Так что топай следом, писатель. Я тебя селедкой снабжу. Суп, правда, вчерашний, однако на баранине. Вполне толковый суп. С томатом, с рисом. Навроде харчо. Смекаешь? – улыбнулся рабочий флота. – И всякий другой раз, если в пузе пища кончится, дуй прямо ко мне без разнообразного стеснения. Спросят – скажешь: до Гаврилыча. И весь хрен до копейки. А каюту я тебе сейчас покажу. Насчет где ночевать, тоже научу. Понял меня? Так что не дрейфь. На корабле переспать нельзя: погранцы посторонних ловят, как тараканов. Зато есть надежное место на причале. Обратно скажешь: от Гаврилыча с судоремонтного парохода «Сиваш». А трудности… что ж… Жизнь прожить – не море переплыть. Чего-нибудь в результате существования образуется. Понял меня? Это тебе, как я кумекаю, испытание послано. Как, мол, крепкий ты мужик или нет? Чего уж там с тобой приключилось – меня, в принципе, не касается. Но чую, какой-то вышел у тебя вывих. Не бочки же ты сюда катать летел? А, Москва? Наши мужики так и говорили: чего-то, говорят, на него свалилося. Так – нет?
– Ясно, не бочки, – сказал я, поняв, что меня тут уже все раскусили, как сухой круглый бублик, который я еще недавно держал рукой в кармане, словно драгоценный камень.
Мы взошли по трапу на железную палубу судоремонтного парохода «Сиваш», по бортам которого люди в фуфайках с треугольниками тельняшек бодро таскали на плечах кислородные баллоны. Тут шла веселая трудовая жизнь. Трещали электроды, гремели молотки, из нижних трюмов, приспособленных под мастерские, пел неустанный электрический хор. Словом, кругом царило счастье труда.
Мы с моим рабочим приятелем прошли по чему-то шаткому, под чем-то пролезли, через что-то перепрыгнули, спустились, нырнули, проследовали и очутились в темном металлическом коридоре, где и находилась каюта моего спасителя.
Дверь открылась с радостным визгом тюремной камеры, и мы оказались в небольшой железной комнате с двумя круглыми окнами-иллюминаторами, сдвоенной, – одна над другой, – кроватью, железным столом, железным стулом и вешалкой. Вся эта роскошная мебель была для прочности навечно привинчена к полу.
Мой проницательный друг снял фуфайку, бросил ее на нижнюю койку и, наконец, представился. Звали его Семеном, а рука силой сжатия напоминала разводной гаечный ключ.
– Падай куда-нибудь, – радушно предложил Семен. – Отдыхай. Открой только форточку. Душно, как в кастрюле. А я порулю за харчом. Ну и селедки, конечно, тебе запасу, Москва. Ты сроду такой не пробовал, – улыбнулся он и исчез за дверью с тюремным сопрано.
Я открыл иллюминатор. В лицо мне ударил свежий, йодистый запах моря. За бортом кричали чайки про свою птичью жизнь и усатый, строгий морской котик все нырял в пучину недалеко от парохода, совершенно не пугаясь индустриальных звуков. Вдали маячили такие же сопки, с которых я совсем недавно собирал урожай брусники и, возможно, где-то там тихо покоился мой бумажник, от упоминаний коего у предводителя впередсмотрящих товарища Придорожного делались на лице нервные судороги, а у меня нехорошо ныло под левым ребром. Не потому что я жлобствовал или скорбел по поводу утраченных денег, а потому, что помнил Валины слова о розовой чайке. Я действительно бредил ее найти. В самом прямом и, возможно, переносном смысле. Ибо она, розовая чайка, почти такая же редкость, как бивни мастодонта. Но… Бумажник мой был там, а я – здесь. Точек соприкосновения между нами не предвиделось. Без этих же точек ни о каких розовых не только чайках, а даже бабочках и стрекозах не могло и речи идти.
И все-таки я надеялся, что Наблюдатель просто шутит, просто играет со мной, как с котенком, но, в конце концов, утомится и представит мне на блюдечке чудо-птаху с нежно-розовым оперением, с опаловым ожерельем вокруг шеи, черным клювом и черным жемчугом внимательных глаз. И серо-голубыми крыльями.
Собственно говоря, даже не в этой птичке было дело. Дело было в чудесной материализации мечты. Дело было в долгом изнурительном поиске, а затем в волшебном, ослепительном мгновении встречи, которое могло распахнуть двери Открытия и Прозрения.
Я не смел обижаться на Наблюдателя за то, что Он не дал мне пока возможности встречи. Может быть, таким образом, я отрабатывал темные грехи свои. Отрабатывал болью и страданием. Но это нужно было понять. Тогда я вряд ли сознавал, что происходит.
Море за окном лежало ласково-безмятежное, как женщина после добрых сновидений. О чем оно думало, море?
Дверь каюты открылась с бодрым, металлическим «а-и-и» и на пороге появился Семен, держа за бока и без всяких вспомогательных тряпок горячую кастрюлю. Целлофановый куль с селедкой торчал у него из-под мышки.
Харчо Семен торжественно водрузил на стол, неподвижный на случай обвальных штормов – не всегда же «Сиваш» был в унизительном для морского судна положении корабельной мастерской. Так, во всяком случае, я подумал.
Селедку Сеня аккуратно разделал на чистой газетке, а затем нарезал ее, как колбасу, поделил хлеб. К трапезе все было готово. Во время всех Семеновых манипуляций я сидел, молча, выделял слюну и тут же, из-за обилия, проглатывал ее. Но вот, наконец, можно было приступать. И мы очень даже просто взяли и приступили.
Понятно, что и харчо и, тем более, селедка казались мне божественной пищей.
– Ты что, на самом деле писатель? – решил узнать первым делом Семен.
Я кивнул, не имя возможности ответить с набитым ртом, и вытащил для пущей убедительности писательское удостоверение.
Сеня развернул красную книжицу и аж присвистнул.
– Ни хрена себе, – округлил глаза мой новый приятель. Сам он был похож на чубатого Донского казака, и надень на него соответствующую форму, повесь на пояс шашку, приклей усы – Семен был бы вылитым Шолоховским станичником. Этаким Разметновым.
– Я думал, брешешь, – даже огорчился Сеня, однако взор его с этого момента стал уважительным. – Ну и как же ты тут? – безлично потерялся Семен. – Чего тебе в порту делать? Хотя, конечно… – размышлял он. – С другой стороны – понятно. Если, к примеру, не присутствовать, то какой разговор. И, разумеется, если человек без понятия, то он все равно, что гвоздь без шляпки. А когда с понятием, всегда читать удобно. Потому что сам все прошел. Сам, как говорится, и хлебнул, и глотнул. Тогда, конечно, сразу видно: жила у него крепкая. Я, знаешь, недавно читал одного писателя. Шаламов фамилия. Слыхал?
– Слышал, – сказал я.
– Вот это, я тебе доложу, настоящий писатель. С другой стороны, не сидел бы он по тюрьмам да лагерям, был бы из него писатель – это еще надо посмотреть. Вот и ты, я теперь кумекаю, не просто так тут ошиваешься. А? – хитро подмигнул мне Семен. – Только у тебя промашка с пропиской вышла. Да и время такое. Будь сейчас, к примеру, весна – пожалуйста, фрахтуйся, куда хочешь. Хоть с геологами, хоть с рыбаками, хоть на сенокос, хоть на прииск. Люди везде нужны. Даже без всякой прописки. А нынче – наоборот. Люди вертаются кто откуда. Не ко времени тебя принесло. – Семен вздохнул и отложил ложку. – Однако знаешь, – вдруг загорелся он, – сильно мне хочется тебе помочь. И я-таки, наверное, тебе помогу. – Сеня задумался. – Я-таки, наверное, подкачусь до Ивана Ивановича, начальника парохода, когда из отпуска вернется. Может, и договоримся. Он мужик самостоятельный, и жила у него, что надо. Может, возьмет он тебя на «Сиваш». Только, боюсь, это для тебя не выход. Будешь с утра до вечера железо таскать. И вся песня. Что напишешь? Пойти, действительно, куда-то в тайгу или с рыбаками, на прииск – это я понимаю. А здесь – тоска. Да и деньги плевые поначалу. Так что не знаю. Смотри сам. Меня, видишь, время держит. Восьмой год на пароходе. Понятно, северные накрутки и все такое. Опять же, семья в городе. Но, в общем, на первых порах помогу, чем смогу, Москва. Не горюй. Поболтаешься тут до вечера, а вечером сведу тебя на причал. Там заночуешь. Только держись, писатель: на причале народ употребляющий. Втянут – станешь бичом и поселишься тут на веки вечные. Заместо пальта модного начнешь обноски донашивать и шапку с одним ухом. Зато, конечно, не спорю, обзор будет богатый. От парфюмерной лавки к океану и обратно.
Семен закурил, погрузился в клубы дыма и завис в нем, устремленный сосредоточенным умом вдаль безбрежного пространства.
Пока что, выходило, карты на руках у меня были без козырей. Я смотрел в ту же, Семенову сторону, без особого энтузиазма, ощущая лишь неразборчивое счастье сытого человека.
– Может, я тебя потом на этой койке поселю, – мечтательно указал на верхнюю кровать Сеня. – Напарник мой прошлой весной сгинул. Пошел по заливу за вином, а лед уже хлипкий был. Вертался и прямо у парохода провалился вместе с сумкой. Одна черная дырка осталась. До сих пор койка пустует. Вот я и размышляю.
Я взглянул на указанную койку и мне не особенно, откровенно говоря, захотелось поселяться на ней после короткого, но содержательного рассказа Семена. Однако с потерей бумажника я выронил вожжи, и меня понесло каким-то буйным ветром, шарахая обо все, что попадалось на пути. Выбирать не приходилось.
Так, в мире и согласии, мы с Семеном закончили обеденный перерыв и по железным лабиринтам снова выбрались наружу, на рабочую поверхность судоремонтного парохода «Сиваш», где Сеня должен был приступить к своим трудовым обязанностям, а я предоставлялся вольному движению до шести вечера – так распорядился Семен. В шесть он заканчивал рабочую вахту и дальше готов был сопроводить меня на некий таинственный причал, где я мог бы подпольно укрыться от строгого надзора пограничников. Каким-то неведомым чувством я чуял, что с этих оговоренных шести часов начнется новый этап моей жизни, тем более что я переходил на необычное положение нелегального человека, почти что, можно сказать, революционера своей жизни.
До шести было еще далеко, и я снова побрел по берегу, но уже в противоположном своему первому, невезучему, направлении. Внутри ерзала противная нудьга от безвестности будущего, оттого, что оказался в глупейшем положении и оттого, что все это Наблюдатель свалил на меня неведомо зачем. Поэтому те чудеса, которые океан выкатывал под ноги в первый день, сейчас не радовали. Солнце казалось слепящим пятном, синь неба – застиранной до линьки джинсухой, сопки – унылыми горбами земли. Так среди тоски и потерявшей краски, поблекшей осени я добрел до назначенных Семеном шести часов и вернулся к пароходу.
Сеня уже расхаживал по берегу. Черные казацкие кудри его вздымал ветер, как перья ворона. Он вручил мне куль селедки, – пропитание на вечер, и мы погрузились в автобус, сначала в один, потом в другой и таким макаром добрались еще до одной чудесной бухты. Бухта имела имя отважного адмирала Александра Ивановича Нагаева, автора первых карт Берингова моря, человека, обнаружившего эту самую бухту в Тауйской губе Охотского моря в восемнадцатом веке.
От автобусной остановки мы спустились на берег и остановились. Вечер покрыл окрестные сопки темной шерстью. Солнце перед уходом в сумрак взмахнуло медно-золотым крылом и так замерло где-то за горизонтом. Вода моря от усталости дневной работы налилась глубокой синью и сонно шептала о чем-то прибрежному миру. Пахло водорослями и мокрыми досками.
ДАКИНИ
Я на минуту закрыл глаза и увидел отчеканенный светом заходящего солнца черный Нагаевский швертбот. Он недвижно застыл на рейде, а на капитанском мостике стоял сам Александр Иванович Нагаев, зорко вглядываясь в очертания неведомой земли. Дубленая ветрами и солью океана кожа лица, строго-элегантная форма русского офицера. Нагаев посмотрел на меня, улыбнулся и я открыл глаза. На душе потеплело. Какой-то неясный свет забрезжил впереди.
Указанный Семеном причал представлял собою длинную, уходящую в море дощатую пристань для катеров, буксиров и прочих малых судов. При нем же, при этом причале, имелась бревенчатая изба, в которой мне и надлежало пребывать до какого-нибудь личного определения. Вдоль береговой улицы ютились жилые деревянные постройки, похожие на стаю серых, улегшихся отдохнуть бездомных псов. Прибрежные строения, в спешке без любви и толка набросанные руками пришлых людей, не имели ни красоты, ни уюта. Лишь сама бухта, обладая собственной душой, излучала тепло и ласку. Морская вода как будто была легкими большого организма и дышала надводным воздухом. Из-за окоема за всем подведомственным пространством неба внимательно наблюдал мудрый зрак горячего светила. Остальная земля, повитая бугристыми мускулами сопок, казалась мощным, дородным телом. Однако несколько поодаль от дощатого причала ясно в свете вечера обозначался новый, бетонный и неподалеку – было видно – велось строительство каких-то современных, изящных сооружений.
Причальная изба располагала двумя просторными комнатами. В первой на вечные времена была установлена доисторическая мебель – фанерный шкаф для рабочего инвентаря и два ветхих, в растрепанной бахроме, темных дивана. На диваны, правда, по старости лет они уже не тянули, но за раскладные лежанки сходили. На одной из тех лежанок ночевал с оглушительным храпом без учета времени какой-то человек. Лицо его было заботливо спрятано под грязным полотенцем.
В другой комнате, можно сказать, рабочем кабинете стояли: стол, штук пять разномастных стульев и еще три таких же, как в прихожей, «венских» дивана, на одном из которых восседало четверо посетителей с папиросами в зубах. Вся публика, включая дежурного за столом при вахтенном журнале, напоминала только что, час назад, освободившихся из заключения людей с шикарными, сделанными в зоне бронзовыми зубами. Они, словно освободились, и по этой причине были веселы, беззаботны и радовались вольной жизни.
При нашем с Семеном появлении вахтенный за толом вскинулся и, сильно прихрамывая на одну ногу, пошел Семену навстречу.
– Какие люди! – изумился он и обнял Семена, что родного брата. – У тебя, Николаевич, совесть при себе или нет? Ты когда, подлец, последний раз заглядывал?
Я присел на свободное место и стал с любопытством наблюдать счастье давно не видевшихся людей.
– Чудно, – сказал Семен. – В одном городе проживаем, а видимся раз в полгода. Как максимум.
– То-то, что чудно, – согласился его товарищ. – А ведь мы с тобой и в море ходили, и в тайге горевали и среди сопок чуть не сгинули… А, Сеня? А видимся теперь только по большим праздникам. Ну, проходи, брат мой лихой, проходи.
Не спрашивая, – видно, так было заведено, – вахтенный достал еще два стакана и налил вина Семену и мне.
Пить я не хотел. Не было ни повода, ни настроения, но вырядиться белой вороной было нельзя, меня бы не поняли, и я принял стакан из рук вахтенного.
– Друг мой, писатель с Москвы, – объяснил меня Семен. – Ну, будем живы!
Выпили. Закусили жареным палтусом, который в Желтом продавался, как картошка – на каждом углу.
– Приехал, представляешь ты, по своим делам парень, а через несколько дней, потерял портмонет. А там – гроши, документы, – кратко изложил Семен мою историю. – В общем, остался хлопец без ничего. Пусть он у тебя поживет, осмотрится. Может, сам куда приобщится-причалит, а нет, я его на «Сиваш» определю. Надо помочь хлопцу. Разве мы с тобой кого бросали в беде?
– Та какой разговор? – развел руками вахтенный. – Нехай живет. Ради Бога. Что я, против? Единственное: с пол-одиннадцатого до одиннадцати погранцы ездят с проверками. В это время придется хорониться. А так… койка свободная. Ночуй, пожалуйста. В беде, Сеня, мы действительно никогда никого не бросали. Только разве это беда? Вот когда мы с тобой на оторванной льдине путешествовали – то была беда. Или, помнишь, на Колыме нас весной на лодке несло среди бревен. Думал тогда, до берега не дорулим. А это – не беда, земляк, – обратился вахтенный ко мне. – Жизнь выведет. Не бери в голову.
Мне ничего не оставалось, как не «брать в голову» и ждать, пока «выведет жизнь».
Вахтенный дежурный имел редкое имя Север и хромую от служебного повреждения ногу, через которую Севера списали из флота в подсобные охранники берегового причала. Об этом я узнал позже.
В морской хате было жарко, накурено и как бы даже уютно.
После напряжения последних дней я сразу разомлел, и голова моя погрузилась от вина в теплый туман.
Шла неспешная беседа в форме ненавязчивого дознания: кто я, откуда, чем занимался в Москве и восхитил ли уже мир каким-нибудь художественным произведением. Получился длиннющий рассказ с множеством подробностей и деталей. Но посетители, пуская в потолок для тепла клубы элегического дыма, слушали внимательно, с интересом, останавливая меня лишь затем, чтобы снова поднять стаканы за здоровье присутствующих.
Когда я добрался до главного, то есть, до моей литературной деятельности, в комнату вошла молодая женщина. Я обомлел: пришелица была точной копией моей пропавшей Ольги. Такие же длинные, веером по плечам, льняные волосы, высокий атласный лоб, тонкий нос, вразлет соболиные брови и чуть припухшие, чувственные губы.
Одета вошедшая была просто и вместе с тем достаточно изысканно. Длинный светлый плащ, небрежно брошенный на плечи, был распахнут настежь, обнажая ладный черный костюм, обтекавший тонкую, стройную фигуру.
От этого явления у меня перехватило дыхание.
Впрочем, сказать «вошла» было бы неверно. Она не вошла, она прямо-таки влетела, легко, порывисто, раскованно. На белых крыльях плаща. Так нечаянно влетает в помещение радостная птица и замирает перед нелепой посредственностью четырех обшарпанных стен.
Гостья замерла у стола, будто вспоминала, зачем она тут, и вдруг снова рванулась в прихожую. Оттуда ее вынесло в служебное помещение уже без плаща. В руках были ведро и тряпка.
Она смела со стола весь мусор, переставив бутылки со стаканами на подоконник, тщательно протерла дерматиновую поверхность под вахтенным журналом, поставила ведро в углу прихожей и уж затем с улыбкой фокусницы, готовящей для зрителей нечто неожиданное, извлекла из шуршащего целлофанового пакета пузатый кактус, проживавший в небольшом глиняном горшочке.
– Север! – крикнула она весело. – Ты когда-нибудь видел такое существо?
Она держала горшочек с кактусом в двух соединенных ладонях, словно воробья.
Север с выражением лица добрым, простодушным, но всезнающим, глянул на товарищей.
– Вот вам, пожалуйста, наша Чайка. Любуйтеся, – заявил он всей аудитории. – Ей в цирке выступать. А цирка нету. Она и чудит, где можно. Су-ще-ство… – передразнил он Чайку. – Сама ты – существо. Прошлый раз какую-то дудку притащила. Это ж не подзорная труба. Через дудку океан не пронаблюдаешь. Сама-то, слышите, два часа дула. Сидит и дует, как чумная. Все уши засохли. Замуж тебе надо, девка. Сразу блажь слетит. Смотри, какая ты ягодка.
– Берешь ёжика? Тебе несла, капитан, – перебила Севера Чайка. – Сними свои дурацкие бутылки. Я его тут, на окошко поставлю. А про дудку ты зря, командующий. У дудки тоже душа есть. В свисточек дунешь – она, душа, и поет тебе нежно. – Чайка двинулась было к окну, но остановилась в квадрате закатного солнца, окрасившего ее волосы алыми струями. Сердце мое подкатило к горлу и застонало там протяжно и больно.
– Нет, – сказала вдруг Чайка. – Я передумала. Ты, Север, прокуришь ёжика. Станешь окурки в него совать. Он умрет. Я бы домой взяла, но моя мамаша кипятком его ошпарит. Ты это знаешь. Я его вот ему подарю. Он сохранит, – сказала Чайка и протянула мне цветок. – Ты же Ветер, правда? Откуда прилетел?
Я принял цветок смущенно и растерянно, не зная, что ответить. Как ответить? Да и нужно ли вообще отвечать? Но Чайка присела передо мной на корточки и взяла меня за руку. Чуть выше запястья, горячей сухой ладошкой.
– Я все знаю, – снова заговорила Чайка. – Откуда ты и кто. Ты так долго не прилетал. Так долго, – вздохнула она. – А я все ждала, ждала Очень ждала.
– Мне трудно было вырваться оттуда, – честно признался я, и вдруг почувствовал, что меня вот-вот сорвет в пропасть: я узнал Ольгу Но почему начальник причала назвал ее Чайкой?
– Мы сами раскидываем для себя сети. Всегда и везде, – произнесла Чайка. – Хотя их можно сжечь одним только взглядом. Нужно лишь знать, откуда должен проистекать этот взгляд.
Я опустил голову, боясь смотреть Ольге в глаза. По сути, это я предал ее. Вот, где она ждала меня. А я повернул все вспять. Вот почему Наблюдатель и устроил мне самую суровую порку именно здесь, где обитала Чайка. А может, Он затем и привел меня сюда?
Север, наблюдавший вместе с другими странную сцену нашего «знакомства» с Чайкой, вдруг расхохотался весело и громко.
– От артистка! – тер он слезящиеся от смеха глаза. – Ну прямо народная артистка! А ты не бери в голову, Олег! Она у нас эта… Как ее… Любка Орлова. Ей-богу! Клава Шульженко. Не меньше. Голову кину под якорь. Чтоб мне не сойти с этого места. Одно слово – Чайка!
– Я все знаю, – сказала Чайка, совершенно не обращая внимания на восторженного Севера, и тихонько погладила мою руку. Ты был на сухой земле, где нет моря. Где много людей, пыль и дым.
– Прости меня, Оля, – сказал я.
Она удивленно посмотрела на меня и снова тихонько сжала руку.
– Меня зовут Чайка. Все остальное – твое воображение. Понимаешь? Каждый прожитый день становится нашим воображением.
– Ладно, ребята, – призвал Север питейную компанию. – Нехай молодые беседуют, а мы выпьем за ихнее хорошее здоровье. Будешь, Москвич? – обратился капитан причала ко мне.
– Выпей, – разрешила Чайка. – В том беды нет. Ты же не из пьющих. Выпей, а то тебе отчего-то трудно говорить со мной.
Я взял стакан, потому что со мной действительно происходило черт знает что.
– Почему тебя тут зовут Чайкой? – спросил я.
– Потому что я – Чайка, – улыбнулась Ольга. – Разве ты не видишь?
Мне ужасно захотелось потрогать ее волосы, длинные, густые, блестящие, как после дождя. Мягкие, душистые волосы. Такие, какими я их знал когда-то.
– Потрогай, – разрешила Чайка. – Ты ведь хочешь?
Я обомлел во второй раз, не понимая, кто передо мной:
ведунья, весталка, колдунья?
– Твой Ветер – писатель с Москвы, – выдал меня Север.
– Я знаю, – спокойно ответила Чайка, глядя мне в глаза.
Север снова засмеялся.
– Ну артистка! Я б сам на тебе женился. Ей-богу. Но, во-первых, я для тебя старый. А во-вторых, я на чайках не женюся. Меня больше на коров тянет, – как-то по-солдатски пошутил капитан. И оглушительно засмеялся.
Вся комната шумно порадовалась находчивому Северу.
– Ладно, ребята, – высказался мой провожатый – Семен. – Мне пора отчаливать, а то хозяйка ругаться станет. Вы хлопчика моего не обижайте. Пусть освоится, а дальше видно будет.
– Нехай осваивается. Тут ему спокойно будет, – заверил Север. – А ты, Сеня, гляди, не забывай. Может, мы по весне сядем с тобой на льдину и поплывем, куда глаза глядят. А, Семен? – снова громко расхохотался Север.
– Пойдем, – тихонько позвала Чайка. – Тут накурено и тошно. Пойдем, подышим морем. И ёжика возьмем. Пусть тоже подышит.
Мы вышли вчетвером: я, Чайка, Семен и «ёжик». Был тихий, лазоревый вечер, густо залитый на закатном горизонте огненным половодьем.
– Вещи твои где? – спросил Семен.
– В канцелярии Союза Писателей, – ответил я. – Завтра заберу.
– Тогда завтра ко мне их перетащим, – решил Сеня. – Здесь вещи хранить не нужно. Причал есть причал. Сюда народ разный шастает. Ко мне завтра отвезем. Я зайду после вахты.
Мы пожали друг другу руки, и Сенина фигура вскоре растворилась в синем сумраке вечера. Дальние дома на другой стороне залива еще бодрствовали, весело пылая золотом окон, отражавших закат. Но ближние строения уже погасли и не чувствовали природы. В них, тем не менее, горело скучное электричество, освещая обыденную, планомерную жизнь обитателей.
«Ёжика» я нес в целлофановом пакете, и все думал об удивительном перевоплощении Ольги, о ее новом странном имени и о пророческом совете Валентина найти розовую чайку. Может быть, разговор шел именно о ней?
Чайка взяла меня под руку. Мы спускались к морю. Собственно говоря, спускаться-то было – всего один пригорок.
– Ну рассказывай, – попросила Чайка. – Как ты плыл из Москвы?
– Я летел, – поправил я.
– Нет, Ветер. Ты плыл, – возразила Чайка. – Летать – это совсем другое.
Я вдруг ошарашено понял, что это совсем не та Ольга, которую я знал и любил в Москве. И в то же время это была она. Это был ее двойник, какой-то поразительный слепок с исчезнувшей Московской княгини. Еще я понял, что говорить с Чайкой на обычном языке вряд ли возможно. Она не подпадала под общий разряд нормальных людей. Потому, наверное, была не Лида, Вера, Наташа, Надя… Она была Чайка. Она отбросила одежду обычных имен и выбрала себе изящное и дорогостоящее – Чайка. Однако не родители же назвали ее так? Хотя попробуй, найди имя Север. Тут была какая-то загадка.
Мы спустились к морю, к нешумным его волнам. Вода у берега была глубокого сине-зеленого цвета, а дальше, к горизонту, цвет высветлялся, плавно переходя в чисто-голубой. Пахло йодом, парусиной, мокрым деревом, всем тем, что могло сопровождать отважных корабелов.
– Ну вот, – вздохнула Чайка. – Это мой океан. А там, вдали – мой дом. Дом в океане.
– Я знаю, – сказал я на ее языке. – Я тебя видел на второй день, после того, как приплыл на самолете. Ты летала вон там, над той далекой сопкой.
– Правильно, – согласилась Чайка. – Я всегда летаю над той сопкой. Впрочем, это не сопка. Это Мара. Старый окаменевший кит Мара. Когда я родилась в первый раз, он уже тут лежал. Мара каждый день пьет из моря, и тогда вода уходит. Ты видел, что вода время от времени уходит?
– Видел, – сказал я. – Но времени нет.
Чайка откинула розовые от солнца волосы и посмотрела на меня удивленно.
– Да, – сказал я, сгорая от желания обнять ее. – Времени нет. Есть пространство, в котором живут люди, птицы, звери, звезды, деревья, цветы.
– А знаешь, летаю не я, – неожиданно призналась Чайка. – Летает моя сестра. Моя вторая тонкая оболочка. Мое подсознание. Но чаще всего по ночам.
Мы немного прошли по берегу среди засыпавших или умерших медуз и рыб.
– Я тоже хочу обнять тебя, Ветер. Тебя так долго не было, – сказала Чайка, глядя в песок. – Разве ты не знал, что я жду тебя? Жду и тоскую. Потому часто летаю вслепую и могу разбиться.
– Эфир не может разбиться, – сказал я и прикоснулся губами к ее алым волосам. Они были шелковые, густые и мягкие. И солоно пахли морем. – Я бредил тобою еще там, далеко. Знаешь, почему?
– Почему?
– Потому что ты – Розовая Чайка.
Так мы стояли, обнявшись. Я смотрел на догорающий костер заката, на тлеющие, но еще более яркие его краски и чувствовал неожиданную, нежную любовь к этому необычному существу, – как назвал Чайку Север. А она уткнулась мне в грудь и замерла. И вдруг я уловил мгновенное исчезновение веса в обнимаемой мною женщине, словно в моих объятиях остался один только плащ.
Я тупо ощутил свое одинокое тело, и полынный холод страха вырос во мне, как черный цветок. В голубом воздухе залива мне бросился в глаза четкий абрис птицы, пересекавший надводное пространство между сопками.
Я быстро отстранил от себя Чайку. Вместо глаз у нее были лишь пустые, темные впадины. Цветок во мне распустился полностью. Тогда я снова привлек тело Чайки к себе, жутковато догадываясь, что она все же должна вернуться в пустую оболочку.
И она вернулась через какое-то время. Вздохнула и прижалась ко мне тесно и горячо.
– Как там? – спросил я, кивнув на залив, и чувствуя, что задаю глупый вопрос.
– Это нельзя передать словами, Ветер, – вздохнула Чайка. – Так свободно. Легко. Над морем тихо. Оно дышит спокойно и сонно. Можно плавно парить, не шевеля крыльями. Нужно только чуть-чуть направлять полет. Понимаешь?
– Нет, – резко сказал я. – Ты выпорхнула так стремительно – я был просто в шоке. Мне стало жутко без тебя. В следующий раз предупреждай. Ладно?
– Предупреждать?.. – изумилась Чайка. – Разве можно предупредить о том, что сейчас с тобой произойдет? Можно ли сказать: через минуту я буду счастливой. Или: я сейчас полюблю этого человека. Или: сейчас услышу свое сердце. Что-то взрывается во мне, и тогда, независимо от себя, я уже лечу, уже слышу грохот сердца, уже люблю. Разве можно предупредить об этом? Наступает момент, когда ты хочешь пить, и ты пьешь. Но ты же не говоришь никому: ребята, я сейчас, захочу пить.
Чайка посмотрела мне в глаза и улыбнулась.
– Ты странный. Когда тебя тянет писать, разве предупреждаешь кого-нибудь: вот сейчас напишу рассказ.
– Иногда предупреждаю, – сказал я.
– Кого?
– Самого себя.
– Но так нельзя, – ужаснулась Чайка. – Тогда ты напишешь не то, что хочешь. Потому что всем руководит Учитель. Он дал тебе дар быть Ветром, а мне Чайкой. Если бы я думала, что сама себя сделала птицей, я бы никогда не взлетела. Он говорит мне: лети, и я лечу. Тебе же говорит: пиши вот это. И ты пишешь, разматывая тот клубок, который Он тебе подарил. Вот отчего часто получается, что от себя начинаешь писать о том-то и о том, а в результате получается совсем иное. Я не знаю, в какой момент Он скажет мне: лети. Но уж когда говорит – это праздник, о котором я не могу никого предупредить. Даже тебя. Впрочем, у вас это называется вдохновением. И вот скажи, можешь ты о нем кого-либо предупредить?
Я что-то промямлил, чувствуя: Чайка права.
– Ты смешной, – засмеялась она и потрепала меня по волосам. – Всегда помни, что ты – Ветер и никто другой. Тогда все будет как надо. Каждому Учитель подарил его единственную Книгу, в которой Он же и помогает перелистывать страницы. Просто нужно уметь читать. Внимательно читать. Но многие ленятся. Или просто не хотят учиться.
– Послушай, – сказал я, переставая что-либо понимать. – Ведь это ты прилетала ко мне в Москву. Жила у тети, не дав мне ни адреса, ни телефона. Как я мог найти тебя, когда ты исчезла? Растворилась в пространстве.
– Все это тебе приснилось, Ветер. Вся наша жизнь – сон, – загадочно произнесла Чайка. – Но никто и ничто не исчезает бесследно. Когда ты очень захотел, то нашел меня. Правда, тебе помог Учитель.
Я набрался смелости и расстегнул верхнюю пуговицу на костюме Чайки. Затем вторую. Чайка спокойно смотрела мне в лицо. Я расстегнул третью пуговицу и оголил левое плечо. Там должна быть родинка, которую я любил целовать в своей дворницкой комнате на Тверском бульваре.
Я оголил левое плечо и обомлел: на том же самом месте, где у Ольги была одна родинка, теперь рядышком ютились две. Я приник к ним губами, потому что почувствовал, как тяжелая волна покаяния прокатилась по мне от макушки до пяток. Конечно, это была моя Ольга, но уже в каком-то другом качестве.
Я застегнул пуговицы и поправил плащ на плечах Чайки.
– Если бы я не была Чайкой, – как ни в чем, ни бывало, сказала моя перевоплощенная Ольга, – может быть, я была бы кротом, видела бы только землю, а вернее, чуяла бы ее и умела слышать, кто и как ходит на поверхности. Я знала бы другое. Но я чайка, и мне подарено видеть больше. Мне самой неизвестно, откуда я знаю, что ты прилетел из пыльной Москвы, что ты – Ветер и тоже хочешь летать над землей, что ты должен написать хорошие книги, что нас с тобой ждет любовь и здесь, внизу, и там, наверху, что мы всегда будем вместе, даже если разлетимся в разные стороны. Потому что у нас один Дом. Дом, сотворенный из рассвета и заката.
– Дом в океане?
Чайка внимательно нежно посмотрела на меня, но ничего не ответила.
Костер на горизонте догорел, оставив в небе тихий малиновый жар. Одна из сторон бухты, обжитая, зажгла электричество. Ровное, сверкающее ожерелье огней повисло на шее большого кита Мары, который пил, по словам Чайки, для пропитания воду из лагуны. Стало прохладно, и я запахнул Чайку в полу своей куртки. Она вдруг встрепенулась, достала из пакета кактус и подняла его к закату.
– Видишь свою страну, Ёжик? – обратилась она к цветку и так, держа его в руках, постояла какое-то время. Ветер легкими пальцами теребил ее медно-золотые в свете заката волосы.
– Говорит, что видит, – сообщила мне Чайка.
Я неожиданно понял. Их две. Чайка и Ольга – две родинки на плече Чайки. Она нигде и ни в чем не играла. В Чайке не было даже кокетства: ни в жестах, ни в интонациях, ни в действиях. Она жила в другом мире. Я мечтал войти в этот параллельный мир и стать его живым существующим жителем.
Чайка снова спрятала «Ёжика» в пакет и подала мне.
– Потом поговоришь с ним, – сказала она. – Он очень интересный. Он умеет выравнивать энергию Чи. Я приду завтра. Сейчас мне пора.
Я попытался поцеловать Чайку, но она юрко выпорхнула из моих рук и тут же растаяла во мгле. Оглянувшись на Бухту снова, я вдруг подумал, что это, наверное, она и есть – моя Бухта Провидения. А другой, пожалуй, и не нужно.
Мне захотелось узнать, о чем мыслит костяной путник. Я извлек его из кармана, потрогал пальцами ребристую бороду и тонкую палочку посоха.
– Что скажешь, схимник? – спросил я. – Как тебе нравится вся эта птичья история.
«Оторвись и лети за ней, – сказал странник, который, я подозреваю, когда-то был волхвом и любил глядеть на звезды. – Откроется тебе многое, – значительно добавил он. – Откроется тебе, что такое целостность, которая есть нечто большее, чем просто соединение. Соединение – это только сверкающий опыт прозрения, внезапная вспышка чего-то, что не происходит само по себе. Например, ненависть, зависящая от эго, неожиданно встречается с любовным качеством эго. Они оказываются рядом. Тогда любовь перестает существовать. И ненависть тоже. Почва взрывается. Возникает поток, несущий тебя к истине. Вот что происходит. Понимаешь?»
Я пожал плечами.
«Ничего, потом поймешь. Главное, не заострять внимания на открытии истины. Важен прорыв сквозь правду и ложь. Этот прорыв и есть любовь. Она подобна нити в четках, бегущей сквозь бусины. Истина лежит вне уровня сбывшихся надежд. Так что лети за Чайкой. Она – Дакини. Божество, покоряющее пространства и проникающее во все. Она откроет тебе тайны мироздания. Хотя она тоже женщина, – добавил костяной путник после некоторого раздумья. – А всепроникающее Божество и есть любовь. Дакини».
– Да, – сказал я и погладил небритый подбородок Ёжика.
«Только не приземляй ее. Пусть летает», – предупредил меня странник и ушел в себя, в свое бесконечное философское путешествие.
Я вернулся с «Ёжиком» в причальную избу, где еще витал и бился во всех углах дух Чайки. Прежние гости все так же сидели на своих местах с папиросами в зубах. Правда, немного раскрасневшиеся. Как после баньки. Было их четверо в ряд, а на столе возвышалось новое вино.
– А, писатель! – обрадовался Север Иванович, начальственно восседавший за столом дежурного. Был на нем черный с золотыми пуговицами морской китель с расстегнутым в пределах допустимого воротом. И там, у горла, вниз от шеи, горделиво обозначался треугольник тельняшки. Морской картуз с лаковым козырьком сидел на голове чуть набок, освобождая рвущиеся на лоб черные с проседью кудри капитана недвижного причала. По нему совершенно не было видно, что он пил спиртное, тогда как гости сидели уже порядочно осоловелые.
– Видел пространство? – весело поинтересовался Север.
– Видел, – улыбнулся я, выставляя Чайкиного «Ёжика» на подоконник.
– Ну и как тебе? – искал единомыслия капитан.
– Глубокое, – сказал я.
– Что глубокое? – не понял Север Иванович.
– Пространство глубокое, – пояснил я свое впечатление от зрительного исследования бухты.
– А-а, – достиг смысла моего определения Север. – Конечно, глубокое. Оно знаешь, чего? Оно, когда шторм, еще глыбже бывает, – восхищенно сообщил начальник причала. – Прямо, слышишь, дух захватывает.
Я вспомнил штормы Айвазовского, их застывший в красках, но очень впечатляющий, жуткий размах и сказал:
– Посмотрим.
– Вот-вот, – поддержал Север. – Смотри ситуацию кругом. И мотай на шею. Потом напишешь. Тут, слышишь, я тебе доложу, есть чего написать. Зуб на отрыв даю.
Капитан закурил и подвинул мне стакан.
– Наливай. У нас тут каждый сам себе наливает. По возможностям. Как чувствуешь. Хочешь – выпей. Хочешь – не пей совсем. Твое дело. Мне лично – с вином веселее, а другие как пожелают. Тут никто никого не неволит. А не то – выпей. Посидим, побалакаем.
Я плеснул себе в стакан и присел рядом с Севером. Мне хотелось, честно говоря, порасспросить капитана о Чайке. Потому я и выпил с ним для задушевности и закусил все тем же резиновым палтусом.
– Чайку проводил? – сам вышел на разговор Север.
– Проводил. А как же, – ответил я, втайне радуясь, что разговор начался именно с того, с чего мне хотелось. – Только куда я ее проводил – неизвестно. Она взяла и нырнула в темноту, в ночь, можно сказать. Канула в один момент. Я рта открыть не успел.
Север добродушно засмеялся. Засмеялись и охмелевшие гости.
– Артистка, – повторился в определении Чайки капитан причала и по-простецки поскреб затылок, сдвинув морской картуз на глаза. – Она, я чувствую, мозги тебе еще поштурмует. Но ты, писатель, слышишь, не обижай ее. Девка она наша, морская. А что чудит, так это знаешь, неизвестно – отчего. Хотя, что тут неизвестного. Трагедия у нее в детстве была. Можно сказать, дикая штормяга, ей-богу. Слышишь, на все двенадцать балов. Батя у нее на прииске работал. Разнорабочим. Но это так. Второе у него было назначение. В основном, ходил с ружьем в тайгу. Сильно хороший охотник был. За то его и ценили. За то и держали. Даже кличку ему на прииске дали – Санька-охотник. Вот он зимой пойдет, завалит пару-тройку лосей, мишку из берлоги отковыряет. Ну и там… по мелочам – соболя, горностаи женам начальства на воротники. Те и рады. Да и на прииске всегда мясо. Всем хорошо. Ну вот. Зимой, стало быть, он там, в тайге трудится-промышляет, а как сезон кончается – домой. Деньги большие. Пил без передышки. Да вон, Степа его знал. Помнишь, Степ, Саньку-охотника?
– Чего? – сказал окаменевший от вина невзрачный мужичок в рабочей фуфайке, похожий на старую дворнягу.
– Я говорю: Саньку-охотника помнишь?
– А чего? – заинтересовался захмелевший Степа.
– Чего-чего! – раздражился Север. – Саньку-охотника помнишь?
– А чего ж. Помню, – доказал Степа.
– Ну вот, – удовлетворился, наконец, капитан. – Этот Санька-охотник, слышишь, как раз и был отцом Чайки. Он, значит, приезжал после зимнего сезона с кучей набитых карманов и начинал гулять. Причем, знаешь, все ж гуляют по-разному. Санька был буйный. Он крушил все в доме. Потом, правда, шел и снова покупал прежнее имущество. А то почем свет жену колотил. Того я, врать не буду, своими глазами не видел. Я тогда еще в море ходил. Но вот Степа знает. Вот он перед тобой с красной мордой сидит. Да и все тут эту историю наизусть знают. Потому что… А потому что у этого идиота, Саньки-охотника, была такая страсть: пьяный хватал дочь, а ей тогда аккурат лет пять-шесть было. Ну, ребенок же, понимаешь – нет? Ну вот. Брал он ее, значит, и тащил на берег. И знаешь, зачем? Учил по хмельной лавочке чаек стрелять. Вот, видать, она, Чайка, и насмотрелась, и начувствовалась. Ребенок же!
Север налил себе еще вина, не спеша выпил.
– Ну вот. Однажды этот Санька, значит, тяпнул спозаранку и давай, как водится, колотить все в доме. Бьет посуду, лупит жену. Гуляет, одним словом. Да так стукнул Ольгину мать, что та, бедная, залилась кровью и свалилась без сознания.
– Ольгину? – переспросил я, леденея.
– Ну да. Ольгину, – подтвердил Север. – Настоящее имя-то Чайкино – Ольга. Это потом она в Чайку переделалась. Мол, Чайка я и Чайка. И все тут. Так и прозвали потом. А когда, значит, мамаша рухнула, а Санька уже не знал, чего еще в доме сокрушить, выходит из другой комнаты Ольга, маленькая тогда, помню, белобрысая; выходит с двустволкой и в упор, слышишь, прямо в упор лупит из винта папашу дорогого. Ну что. Схоронили Саньку. Отстрелялся в своей жизни. Мать слегка тронулась головой, а Ольга долго лежала в больнице. Лежала, лежала, затем вышла. Но вышла уже Чайкой. Вот такой тебе, писатель, образовался девятый вал. Ты, брат, выпей. Сидишь, как замороженный.
Я выпил вина. Имя Ольга парализовало. Все тут было для меня не просто так. Но что именно, предстояло еще узнать.
– Дальше у Чайки, – продолжил Север, – все вроде бы восстановилось. Помогала тетка. Но с тех пор Чайка стала не такая как все. Как бы не от мира. Живет тут неподалеку. Со своей придурковатой мамашей. Вот что человек натворил. Санька этот, охотник. Двух людей искалечил, и сам на тот свет ушел. Работает Чайка в библиотеке. Или в музее. Краеведческом, что ли. Точно не скажу. А к нам даже не помню, как стала она захаживать. Придет, бывало, сядет на лавочку, уставится в одну точку и сидит. Ну, нам-то что? Сидишь и сиди на здоровье. Матюгнуться, правда, неудобно. Посмотришь на нее – больно. Красивая девка, красавица, можно сказать, и такое несчастье. Подкатывался к ней один хмырь. Чуть было не завалил где-то. Прибежала вся зареванная. Я, конечно, мозги ему слегка встряхнул. Чуть было, честно говоря, вообще не вышиб. С тех пор никто не суется. А к тебе, – Север хмыкнул, – надо же! К тебе пошла ластиться. «Ветер!» – передразнил он Чайку. – Не обижай ее, писатель. Она славная девочка. Только сильно ранимая.
Начальник причала посмотрел на часы и поднялся.
– Так, братва! Вразбег! Сейчас погранцы приедут. Мне тут чисто должно быть. Да и вам неприятности ни к чему. Все. По домам.
Братва, похожая к этому часу на серые, разбитые валенки, кое-как послушно вышаркалась наружу. Север так же поднял с дивана человека с полотенцем и выпроводил его восвояси.
– А ты погуляй где-нибудь туточки, – дал мне напутствие капитан причала. – Понаблюдай из подворотни. Как машина уедет – вертайся обратно. Они долго не задерживаются. Покурят и покатят дальше – служба.
Я вышел на улицу. Она тускло освещалась редкими фонарями и неярким светом желтых окон. Было холодно и неуютно. Вдоль улицы дул пронзительный, зябкий ветер. Запахнувшись поплотнее, я побрел безлюдным переулком неведомо куда. Дорога вела в гору, а ветер налетал то боковой, то встречный, зло, швыряя в лицо горсти колючей пыли.
Я вспомнил свою добрую, тихую квартиру в Измайлово и подумал, что хорошо бы сейчас плюхнуться в теплую ванную, чтобы мурлыкала музыка, а затем, напившись чаю, улечься на чистые простыни с томиком Лескова. Но Наблюдатель распорядился иначе. Он бросил меня в Желтый Город, лишил денег, крова… правда, надо отдать Ему должное – соединил с Чайкой. И это было самое большое мое приобретение.
С одной стороны, Наблюдатель закалял меня, как кочергу, окуная в воду из пламени, а с другой – жаловал необыкновенными людьми, какими были Семен, Север и, конечно, Чайка. Что еще будет впереди – то было пока неведомо. Одно лишь казалось ясным: все было заранее спланировано и текло по четкому, выстроенному сценарию. Мне вообще подумалось, что я какой-то внештатный актер в театре Наблюдателя, нагруженный личной, ответственной и далеко не легкой ролью. С той лишь разницей, что роль эту мне не нужно играть. Эту роль необходимо просто жить.
Я подумал еще, что, возможно, где-то рядом, может быть, даже в этом доме с крашеной, коричневой дверью уже спокойно спит Чайка, разбросав по подушке чудесные свои волосы. Мне захотелось посмотреть на нее такую. Просто посмотреть. Но вдруг ощущение сильной тревоги наждачно зашевелилось внутри, словно кто-то следил за мной или крался по пятам.
Я оглянулся. Никого не было. Однако тревога уже поселилась во мне и гулко била крыльями где-то внутри.
Я снова оглянулся – никого.
Прошуршали «Жигули», высветив обшарпанные двери подъездов, и снова стало тихо. Я глянул на дом, у которого стоял, и мне показалось, в одном из окон мелькнула тень Чайки.
У фонаря я посмотрел на часы и, пораженный, застыл, как вкопанный. Часовая и минутная стрелки двигались гораздо быстрее, чем обычно. Тревога нарастала, и неизвестно было, что происходит.
Отчаянно резко вскрикнула где-то женщина. Лампочка на фонаре неожиданно погасла. Я был не в силах пошевелиться, чувствуя, что надо мною что-то или кто-то висит… что-то невидимое, бесшумное, но вполне ощутимое явно висело надо мною! Наконец, лампочка на фонаре снова вспыхнула, и во мне мгновенно все улеглось, словно я мчался по ночной, опасной дороге, но вот промелькнул финиш.
Я повернул обратно и у следующего столба снова посмотрел на часы. Было ровно одиннадцать. Стрелки двигались нормально.
– Да, – сказал я вслух. – Чудны дела твои, Наблюдатель.
Назад я добрался довольно быстро, так как шел по склону вниз. К тому же куртка моя работала парусом: ветер дул теперь в спину. Издалека я увидел, что военный «ГАЗик» стоит у причальной избы, но вскоре от обители Севера отделилась фигура, хлопнула дверца автомобиля, и машина с ровным, затихающим рокотом укатила прочь.
Я взошел по ступенькам в причальную хату и закрыл за собой дверь на массивный, голосистый засов, лязгнувший напоследок высоким дискантом.
– А, писатель, – снова обрадовался Север, но уже вяло, утомленно. Без прежнего энтузиазма. – Проходи. Присаживайся. Я сейчас.
Он подметал мокрым веником грязь, накопившуюся за целый день от посетителей. Подметал, бормоча при этом недовольство.
– Где они бродят, черти? Скудова столько пыли? Вроде, сухо еще на дворе, а мусору – три кила. Ты смотри, что делается: таракану пролезть негде.
Окно было открыто настежь для воздуха. Мой «Ежик» переместился от холода на стол.
Капитан причала покончил с хозяйственными работами, затворил окно и еще раз строго осмотрел подведомственное помещение.
– Ну вот, – удовлетворенно сказал Север. – Палуба в порядке.
Он достал из стола полбутылки вина.
– Давай допьем остатки – ночевать веселей будет, – порекомендовал капитан причала и поднял стакан.
На руке его, на тыльной стороне ладони, красовался вытатуированный якорь, на пальцах же, на каждом из четырех по букве, значилось сокровенное, видимо, имя – Люба. Видимо, эта Люба была, надо думать, дамой сердца капитана в его отчаянные молодые годы. И он уже утвердил имя на собственной коже как неотторжимую память.
Север, конечно, был моряк, а потому пользовался привилегией запечатлевать на собственном теле любые морские символы и знаки. Ни одному слесарю, к примеру, не придет в голову пожизненно изображать на своей руке молоток или гаечный ключ. А моряку – пожалуйста. Хочешь – корабль. Хочешь – русалку. А хочешь – целую подводную лодку с названием, к примеру – Люба. А что? Очень впечатляет.
Мы выпили еще понемногу, и капитан причала доложил обстановку.
– Завтра с утра, слышишь, тут будет народ всякий ошиваться. Строители. Новый причал надумали возводить. Каменный. Так что тебе придется до обеда погулять где-нибудь. А в обед, часа в три, приходи. До вечера побалакаем. Вечером меня сменит Михайлович. Я тебя передам ему по смене. Будешь сутки с ним куковать. Он старенький, Михайлович. Военный в прошлом человек. Надежный. Я за тебя все ему объясню. Ну а потом, снова моя очередь. А ты, значит, книжки пишешь? – неожиданно спросил капитан.
– До книжек пока не дошло, – признался я. – В журналах печатался.
– Ну, это ничего, – успокоил меня Север. – Поболтаешься здесь – не одну книжку напишешь. Я тебе говорю. Раз ты уж до журналов докатился, значит, книжка будет. А как же! Закон моря. Ну, давай спать. Выбирай любой диван, в шкафу – одеялы. Бери и ложись. Одеялов два бери, а то к утру задубеешь. Ногам зябко уже.
Всю ночь я летал с Чайкой над заливом, над повисшим в воздухе островом, еще над какими-то голубыми островами.
Утром Север тронул меня за плечо: «Пора»!
Я поднялся, чтобы умыться. В причальной хате хорошо, по-домашнему пахло жареной картошкой и рыбой.
Север пожарил картошку на сале и сразу пригласил меня на завтрак.
– Давай, Олег, – сказал он. – Сполосни морду и присаживайся. Я, слышишь, картошки на всю осень два мешка запас. Так что не пропадем. Ну а селедка здесь не переводится. Ее здеся, что грязи, честное слово.
Он достал из прихожей две серебристых толстых сельди, и мы стали с божьей милостью питаться.
Вскоре раздалось снаружи шарканье сапог, надрывный кашель от чьих-то забитых табаком легких, незлобный хозяйственный матерок, и я понял: пришли строители.
Я набросил куртку и вышел на крыльцо. Яркое солнце брызнуло в глаза, а свежий океанский ветер ударил в лицо, дохнув разгульной, упругой силой.
Далекого острова в то утро видно не было. Он скрывался за пеной разыгравшихся волн. А может, просто отправился полетать по воздуху. Почему бы и нет? В этих местах я перестал чему-либо удивляться.
Я прошел с полотенцем к океану. Сегодня он шумел мутно-зеленой волной с прожилками тонких водорослей.
Я бросил куртку с рубахой на песок, снял брюки, трусы и голяком плюхнулся в обжигающе ледяную воду.
Море выстрелило меня обратно, как из пушки. Зато я был бодр, свеж и готов к тому, что мог преподнести на сей раз Наблюдатель.
Строительство новой кирпичной пристани велось примерно метрах в пятистах от существующей деревянной избы. Велось основательно, с той российской неторопливостью, которая присуща вдумчивому, можно сказать, творческому подходу к делу. Четыре дня рыли канаву под каменный бут. Затем неделю бутили мелким и крупным камнем, добытым прямо на берегу. Еще неделю заливали бетоном. Только после этого каждый каменщик сначала неспешно выбирал, а затем оглядывал кирпич со всех сторон, постукивал его мастерком, проверяя на прочность, и уж потом употреблял в производство. Но и перед этим рабочие долго курили и, размахивая руками, что-то доказывали друг другу. Потом курили по второй, и лишь затем приступали к делу Похоже, новый причал мог встать на ноги лет через пять, в лучшем случае.
Я доложил Северу в очередной раз о своем отбытии, и он одобрил меня:
– Правильно. Погуляй по Магадану. Не ахти, какой городок после Москвы, но все-таки новые места – всегда интересно. Дойдешь до Дворца культуры, афиши почитай. Я лично всегда люблю афиши читать. Вдруг там что?.. Может, кино, какое. Как раз сходите с Чайкой. Денег я тебе выделю. Но раньше обеда, слышишь, не вертайся. Тут прораб будет шмыгаться. Противный мужик. Начнет штормить, чего доброго, а нам этого не нужно. Понял меня?
– До Бухты Провидения далеко лететь? – спросил я невпопад.
Север сдвинул морской картуз на переносицу и привычно поскреб затылок.
– До Бухты далече будет. Тебе, почитай, всю Чукотку треба пересечь. Только хто ж тебя туда пустит? Документы – тю-тю. Так что сиди уж теперь здеся, писатель, и не рыпайся. Посовайся туда-сюда. Может, работу, какую сыщешь. На овощебазу загляни. Что по Трассе. Найди на складе Марусю. Скажешь, от Севера. Авось помнит, – улыбнулся Север чему-то своему, тайному.
И я сразу покатился на эту самую, горемычную Колымскую Трассу. Теперь она обустроилась. По обочинам выросли жилые кварталы со стеклянными магазинами. Мужики мирно пили пиво у пивной палатки. Громадные, как дома, самосвалы неслись по дороге, разгоняя пыль и оглашая окрестности страшным грохотом. А ведь когда-то здесь была одна таежная глушь и тишина. Вереницы смертников с ломами и лопатами тянулись к своему последнему пределу в неведомую даль. Лишь лай собак, окрики охранников да тупое тюканье металла о каменную, промерзлую почву вспарывали таежную глухомань необъятной Колымской земли.
Я словно бы увидел эту шевелящуюся колонну, и мне стало не по себе, стало вдруг ужасно стыдно. За кого? За что? За Россию? Так ведь она всегда была такая. Бездорожье, лай собак и просеки на костях. Сколько заключенных тут полегло, посчитать было невозможно.
Я нашел обозначенную Севером овощебазу, но Маруся оказалась не одна. Их было целых три. Первая подозрительно оглядела меня, мою белую рубашку и подсунула какой-то ящик ногою глубже под стол. Имя Север она слыхом не слыхивала и отправила меня в цех номер три.
В третьем, вонючем, скрежещущем цеху другая Маруся все допытывалась, что, собственно, мне надо, а узнав, что просто нужна работа, спровадила меня в цех номер пять. Тут-то и оказалась нужная Маруся, непосредственно знавшая Севера Ивановича.
Все промелькнувшие Маруси, видно, принимали меня при белой рубахе и ярком галстуке за какого-нибудь важного инспектора и прятали в столы тайный провиант. Я смеялся и уверял их, что я просто такой неудачный человек, однако начальницы цехов все равно чего-то опасались. Лишь одна из них, последняя, услышав имя Север, сказала: «Подожди. Погуляй часок».
Я гулял и «часок», и больше, наблюдая, как серые грузчики в грубых фуфайках месят сапогами грязь у транспортеров, по которым текли то плетеные сетки с капустой, то с луком, то с морковью, орошая зал приторно сладким, отвратительным запахом гнили.
Грузчики, не глядя на меня, хватали сетки деревянными пальцами и заполняли этими сетками решетчатые контейнеры, которые потом закатывали в подъезжавшие машины.
Мне стало тоскливо ждать неизвестно чего, и я сказал последней Марусе, что приду завтра в соответствующей одежде, надеясь, что у Севера найдется таковая.
Последняя Маруся согласилась и предупредила, чтобы я не опаздывал, пришел к восьми утра.
Я снова вышел на убитую машинами Трассу Скорби с мирным, производственным движением транспорта, словно бы не имевшую никогда никакой истории. Дорога и дорога. И будто не падал тут никто от истощения. И никому не стреляли в затылок за ненадобностью немощной силы. Нынче все выглядело обыденно, по-городски.
Я прошел мимо автовокзала, окруженного новенькими, сверкавшими автобусами. Напротив автовокзала высилось современное здание Главпочтамта. В лучах солнца оно смотрело в мир сквозь громадные квадратные очки темных стекол, напоминая вальяжного упитанного чиновника.
Внутри этого здания, тем не менее, располагался самый разночинный народ. Сюда захаживала и местная интеллигенция поинтересоваться прессой или просто услышать чей-то близкий голос из какого-нибудь далекого города на «материке». Бродили здесь в пустых раздумьях о дальнейшей, туманной судьбе и обтрепавшиеся бомжи, прислушиваясь без зависти к чужой жизни. Заезжал и всякий транзитный народ из орочей, чукчей, хантов. Эти подчас радовали окружающих экзотическими одеждами, шкурами, унтами, торбасами. Вид они имели диковатый, и в отсутствии тайги ли тундры маялись в неприютности города, томились в ожидании автобусов, сбившись в какой-либо угол.
Занесло сюда и меня. Ноги идти не хотели, упирались, пытались проскочить мимо входа, но я все-таки настоял. Конечно, нужно было позвонить Валентину. Беда бедой, а выпутываться было жизненно необходимо.
Овощебаза. Лук с картошкой и капустой меня не пугали: этого добра я перегрузил в студенческие годы великое множество. Но меня ждали в редакциях.
Затем я сюда и летел. Однако отсутствие командировочных документов отрезало мне вход куда-либо. Без них я был никто. Грузчик лука и капусты. И это, откровенно говоря, висело на мне тяжелым грузом.
Поэтому, пересилив ноюще гнетущий стыд, я опустил одну из последних монет в телефон-автомат и тут же, как пор заказу, услышал бодрый голос Валентина.
Я стушевался, имея внутри себя непреодолимое желание повесить трубку Но Валентин призывно повторил:
– Слушаю. Говорите.
– Привет из Желтого, – тускло промямлил я.
– Олег! – закричал Валентин. – Как ты?
У меня что-то больно оборвалось внутри.
– Как ты существуешь?! – кричал Валентин голосом родного брата. И этот голос разлил во мне горькое тепло. – Что нужно? – не унимался Валя.
– Спасибо тебе, – осмелел я. – Существую кое-как. Был на погранзаставе. Пришлю тебе очерк. Но вот, если сможешь, вышли мне дубликат командировочных документов. Без них я, сам понимаешь, тут г на палочке. Человек без роду-племени.
– Ладно! – закричал Валя. – Держись! Документы постараюсь добыть. Через неделю загляни на почту. Что нужно будет – звони, горемыка. Не вешай нос.
Я повесил трубку и, окрыленный, выскочил на улицу. Мир вокруг снова обрел краски, шумел и переливался. Жизнь явила смысл, который содержался во мне самом, и я понял, что главное – не терять его и не раскисать.
«Господи, – прошептал я. – Будь со мной»!
Теперь во мне рождались новые проекты, не исключавшие, впрочем, недельную разминку на овощебазе. Я наметился, получив документы, отправиться в редакции газет, на радио, на телевидение, слетать по их заданиям куда-нибудь в тайгу, к морякам или пограничникам, сделать серию очерков и передач, что и легло бы в основу будущей книги. Помимо всего, мне мечталось написать о Чайке, но пока я не знал – как. Нужно было побольше пробиться в ее фантастический, цветистый мир, а это было не так просто.
Итак, я повернул к писателям, чтобы забрать свои вещи и не причинять никому беспокойства и жизненных неудобств. Повернул, вернее, к Анжеле Ивановне. В последнюю нашу встречу пришлось перенести вещи к ней домой. Повернул потому, что ни с кем из литераторов до сих пор знаком не был.
Секретарша встретила меня как старого приятеля – солнечно ласково. Она вся лучилась каким-то радостным светом и каждый удобный раз не забывала заглянуть в зеркало. Я обратил на это явление особое внимание и полюбопытствовал, не вернулся ли из экспедиции ее драгоценный геолог.
– То-то, что не вернулся, – театрально опечалилась Анжела Ивановна. Глаза, губы и щеки ее пылали от макияжа. – Все никак не доберется… – вздохнула прекрасная Анжела Ивановна. – То у них, знаете, пробы, что ли, не те, то погода, то – то, то – это. Словом, доля наша такая, бабья – ждать. Ничего не поделаешь. А вы располагайтесь. Отдохните с дороги. В ногах правды нет. Чайку? Кофе? Может, с коньячком?.. Устала я, Олег Геннадиевич, – сказала Анжела Ивановна, садясь рядом со мной на диван. – Сил больше никаких. Зимой – одна. Летом – одна. Жить-то когда? Когда любить? Вот и спит моя змея Кундалини непробудным сном. – Секретарша вдруг нежно погладила мои волосы. – А ты красивый. От баб, видно, отбоя нет. Опять же – Москва. – Анжела достала бутылку дорогого коньяка и две рюмки. – Не бойтесь, сегодня муж не вернется. Передали по рации – дождь там у них. – Провела тонким пальчиком по моему носу.
– Да, – сказал я, ощущая, как проваливаюсь в тошнотворно сладкое болото. – Кундалини – это серьезно. Вы тут время даром не теряете.
Она налила две рюмки. Мы выпили. Коньяк был хорошим. Мы выпили, и Анжела прошла в ванную.
Я огляделся. Комната как комната. Набитая чучелами медведей, рысей, волков и прочей таежной живности.
Анжела вернулась в наполовину распахнутом ярком халате все с той же обворожительной улыбкой. Теперь она села мне на колени и одарила долгим, сладким поцелуем. Понятно, чем бы все это кончилась, если бы за спиной прекрасной секретарши вдруг не мелькнул образ Врубелевского Лебедя с глубокими печальными глазами, знающими тайну мира. Весь ужас состоял в том, что это была не Лебедушка Врубеля, а Чайка, окруженная мелкими крестами таинственной сирени.
Я вскочил, как ошпаренный, схватил свои вещи и неожиданно застрял в прихожей.
– Прости, Анжела, – остановился я, понимая всю нелепость своего положения. – У тебя на телевидении, на радио никого нет знакомых? – Глупее вопроса трудно было придумать.
– Ну как же, – отозвалась несчастная секретарша и достала из пачки сигарету. – Полно знакомых. Кто тебе нужен?
– Да я надумал сделать пару передач. Ладно, загляну через недельку. Прости.
– Через недельку будет не нужно, – вздохнула Анжела.
Я вернулся, нежно поцеловал секретарше ручку и вышел из ее гнездышка прочь.
Согнувшись под тяжестью громадного чемодана, набитого книгами и всяким барахлом для северных широт, я стал медленно продвигаться в сторону причальной избы, так как время уже отовсюду пахло обедом.
В другой руке я нес пишущую машинку, в которой тоже, казалось, был уложен с десяток кирпичей.
Наконец, взмокший, я выбрался на береговую дорогу. В конце ее уже виднелась береговая хата. Легкий ветер дул с моря, и мне сразу стало легче.
Два бича шли навстречу и, не испытывая никакого стеснения, свинчивали головки с флаконов «Тройного» одеколона. Один из них оказался пророком, потому что, проходя мимо, взглянул на меня, возвел кверху указующий перст и произнес:
– Скоро все пойдет прахом! Понял меня?
– Да, – подтвердил его товарищ помоложе. Видно, он был учеником пророка. – Все покатится к чертовой бабушке.
Я поставил вещи для передышки на землю, размышляя, что имели в виду питейные друзья. Но тут из-за угла, с какой-то боковой улицы, неожиданно выкатился на полном ходу и резко повернул в мою сторону трактор с прицепом, груженным доверху строительным кирпичом. Прицеп завально наклонился на обочине, но каким-то чудом все же удержался. Я понял, что двое в кабине, не изменяя сложившейся традиции, конечно, тоже изрядно подзаправились то ли во время, то ли прямо перед обедом.
Предположение мое все более подтверждалось, так как машина то натужно взвывала и пьяно вылетала на середину дороги, то снова увиливала к невысокой обочине.
Я наблюдал за победным строительным движением, не обещавшим ничего хорошего.
– Дай им Бог добраться в целости! – прошептал я. Но, наверное, поздно попросил, а может, Наблюдатель имел с ними свои счеты, потому что в следующую секунду прицеп сильно занесло и он, оторвавшись, с грохотом опрокинулся вместе со всем кирпичом и человеком, сидевшим сверху, в канаву. Сам трактор Наблюдатель пощадил, оставив его приглушенно тарахтеть на дороге. Однако и он, трактор, был в таком положении, что вот-вот мог запрокинуться набок.
Я подошел со своей поклажей поближе. Из кабины вылезли два очумелых рабочих и, уставившись на груду стройматериала, молча любовались происшедшим.
– Ё-ка-ле-ме-не, – оцепенело, восхитился толстый, как бочонок, рулевой. – Как мы с тобой, Петя, не сковырнулись?
Не толстый, а наоборот, очень даже тонкий, но нервный Петя начал махать руками, матерясь и костеря своего напарника.
– Говорил, твою мать, не пей по полному, жирная морда. Так нет же, накатил по стакану! Я, Женя, не понимаю: ты мужик, или у тебя в башке помойная яма. Главное – пятьсот метров осталось до того вонючего причала и – на тебе… Сергеевич из тебя сейчас селедку сделает. Враз похудеешь.
– Что же делать, ё-ка-ле-ме-не? – не мог выйти из оцепенения толстый Женя.
– А Ванька! Он же там, под грудой! – заорал тонкий Петя.
– Ё-ка-ле-ме-не – окаменело, произнес толстый.
Двое работяг бросились спасать третьего. Но, слава богу, он, барахтаясь, и сам уже вылезал из-под завала.
– Ну вы, мужики, это… – произнес третий собригадник со свежей ссадиной на лбу – Ваня. – Так же можно было запросто и к Господу съездить! Понимаете – нет?
– Живой! – радовался Женя. – Молодец! Ну, хоть обошлось.
– Обошлось, не обошлось, – не унимался тонкий. – Говорил же, мать твою, не пей по полному, жирная морда!
– Вот что, ребята, – сказал я. – Ловите грузовик, и пусть вытаскивает вашу задницу. После накидаете кирпич назад. А то как водку лопать – мозги есть, а как выкарабкиваться, ума не хватает.
– Че-го? – в один голос изумились потерпевшие и дружно двинулись в мою сторону с воинственным видом.
– Ты откуда тут такой, хрен моржовый?
– Я – корреспондент газеты, – сказал я и сверкнул редакционной, книжицей. – На причал ехали? – почему-то строго спросил я, хотя и сочувствовал бедолагам.
– На причал, – притухли пострадавшие.
– Так и напишем, – не мог я унять своей строгой страсти.
– Может, не надо, начальник, – взмолился Женя. – Выгонят же. Трое детей. Куда потом?
Я постоял в раздумье.
– Вы же всю Россию под откос пустите, – осудил я происшествие.
– Та не приведи Господи! – перекрестился тощий Петя. – Давай миром. Виноваты, конечно. Ну что сделаешь? Говорил ему, дураку, не наливай по полному.
– Ладно, – сказал я. – Завтра лично буду контролировать всю вашу деятельность. А сейчас ловите машину, вытаскивайте и грузите прицеп. Ясно?
– Ясно! – обрадовались выпившие строители и побежали на перекресток.
Меня охватил дух прохиндейства: я решил спасти перепуганных трактористов, несмотря на их очевидную вину. Мне показалось, они вполне осознали случившееся, сами себе учинили суд и вынесли приговор. Поэтому я поднял вещи и двинулся к пристани.
В причальной хате было, как всегда накурено, натоптано проштампованными следами грязи, из которых кое-где торчали окурки «Беломора». От вчерашней Северовой уборки не осталось и следа.
По избе ходил какой-то серый человек в сером плаще, серой кепке и серых от глины сапогах. Единственное, что у него было не серое, так это папка пожарно-красного цвета, из которой торчали серые разлинованные акты. Я понял, что это и есть тот самый прораб, о коем с некоторым подобострастием упоминал Север.
Нужно было брать инициативу в свои руки, тем более что сам Север оказался в растерянности от моего появления.
Зная, что именно такие мелкие руководители больше всего пасуют перед крупным начальством, я грохнул свои чемоданы в угол и деловито произнес:
– Так. Строим, значит?
Серый человек оторопело посмотрел на Севера. Север – на меня.
Я извлек из сумки солидный черный блокнот и присел за начальственный стол Севера. Затем достал редакционное удостоверение, на котором с обратной стороны крупными золотыми буквами было выбито: «Пресса», и начал неспешный допрос. Начал, конечно, с фронта работ. Мол, что, где и как уже произведено, поскольку это ляжет в основу журналистского материала.
Серый человек сбивчиво, заикаясь, доложил мне, что поставлена арматура и опалубки и даже кое-где возведен цоколь и там, на этих местах, вот-вот начнется кладка кирпича, который подвезут с минуты на минуту. Но хрен его знает, где он, чертов трактор, задерживается. С утра выехал, а все нет. И представился:
– Сысоев Игорь Сергеевич. Прораб стройки.
– Это непорядок, – сказал я и постучал авторучкой о блокнот. – Вы понимаете, что это, в определенном смысле, нарушение плановых работ?
– Дак у нас, в России, без безобразиев ничего ж не делается, – чистосердечно признался прораб. – Этот причал уже давно стоять должен, а он все строится.
– Вот-вот, – поддержал я серого человека. – Поэтому меня и попросили ускорить процесс. Поскольку кругом – одна демагогия. Правильно, Игорь Сергеевич?
Прораб пожал плечами.
– Кстати, – я внимательно посмотрел на командующего строительством. – Ваша как фамилия? Запамятовал.
– Сысоев, – робко произнес Игорь Сергеевич в повторение уже названной фамилии.
– Так вот, – сказал я наставительно. – С завтрашнего дня, даже… – Я посмотрел на часы. – С сегодняшнего я, как представитель прессы, лично буду контролировать ход стройки. Прибыл я из Москвы, и меня интересует все, что касается порта и около портовых сооружений. Думаю, я излагаю понятно. Жить, чтобы не отрываться, я буду непосредственно на объекте. Если, конечно, Игорь Сергеевич, вы не возражаете.
– Что вы! Что вы! – замахал руками Игорь Сергеевич. – Как говорится, верный глаз – делу лад. Правда, тут без удобств.
– Мы, журналисты, народ неприхотливый, – подмигнул я Северу.
– А вот и кирпич везут! – радостно воскликнул прораб, выглянув в окно. Ставь похлебку, Север, – наказал он капитану причала. – Гость с дороги.
Лишь только серый прораб скрылся наружу принимать кирпич, Север ухмыльнулся.
– Ну, ты даешь, писатель! Ловко ты его. Я, честно говоря, думал: сейчас война начнется. К нему, к Игорю Сергеевичу, на броневом катере не подъедешь. Он на тебя таких торпедов напустит, не учухаешься. А ты его обрил по всем статьям.
Я взял веник, смочил его и подмел всю нанесенную грязь. Открыл дверь. Свежий морской ветер в одну секунду выдул папиросный туман.
Трактористы довольно быстро вытащили свой злополучный прицеп, замотали борта проволокой и таким образом доставили, хоть и не весь целый, но долгожданный кирпич.
В открывшемся за дверью пространстве мне было хорошо видно, как обнаружив от одного из трактористов нетрезвое дыхание, Игорь Сергеевич без всяких предупреждений влепил тому хорошую оплеуху, на что тракторист нисколько не обиделся, а только повинно склонил голову.
– Виноват, Сергеевич. Чего говорить.
– Виноват, – осерчал Сысоев. – Тут с Москвы, понимаешь, комиссия прикатила, а ты водку жрешь, – кричал прораб так, что в форточку все было слышно.
Кстати говоря, прораб и тощему напарнику рулевого хотел было двинуть по физиономии, но промахнулся: уж больно плоское у того было лицо.
– Короче, с завтрашнего дня, – предупредил Игорь Сергеевич, – будете работать, как часы. Чтоб все мне было вовремя: и раствор, и кирпич, и прочий организационный материал. Ясно?
– Куда яснее, – согласились выпившие трактористы. – С завтрашнего дня – ни грамма.
Север ликовал. Он варил какую-то бурду из кетовых голов, добавив для навара пару кусков палтуса.
Пахло вкусно. Когда приготовления были закончены, я, серый строительный кардинал, Север и еще какой-то не употреблявший мастеровой взялись за ложки.
– Значит, с Москвы прибыли, – удостоверился прораб, желая завязать общий разговор-беседу, и с особым почтением изучил мое редакционное удостоверение.
– Да, – подтвердил я, отхлебывая уху. – Я так полагаю, дело мы наладим без всяких проволочек, а затем дадим хорошую статью о том, как слажено, ведется обустройство порта. И вы, Игорь Сергеевич, будете в этой статье центральной фигурой.
Прораб заскромничал. Он даже улыбнулся, чего я, честно говоря, от него не ожидал.
– Ну уж вы скажете. Наше дело какое: ложь да клади. Остальное решают кадры.
– Кадры будем поднимать, и воспитывать, – наставительно указал я.
– А как их воспитаешь? – взыграло ретивое у кардинала. – Он тебе, кадр, сегодня кладку ложит на все сто пятьдесят процентов, а завтра на работу не выйдет – запил. Вот и воспитывай.
– Ничего, – сказал я. – Под объективом фотоаппарата пусть попробует влезть на стену с пьяной физиономией. На всю страну видно будет.
– Вот это нравственно, – рассмеялся Игорь Сергеевич. – Это вполне сурьезно.
По правде, затеянная мною нудно-производственная афера начинала надоедать. Затеял же я ее прежде всего из-за Чайки. Мне так хотелось быть ближе к ней, не скитаться по углам и хорониться от пограничников, на которых рано или поздно я все равно мог бы нарваться запросто. Кроме того, я пообещал себе помочь оскандалившимся трактористам. И помог. Это меня грело.
За обедом, за разговорами о Москве, о том, о сем прошло немало времени, в течение которого Игорь Сергеевич Сысоев постоянно вскакивал и посматривал в окно – как там совершается строительно-трудовой процесс. Наконец, он зорким начальственным глазом углядел-таки на участке какой-то хозяйственный непорядок и пулей вылетел на подворье. Плевать он хотел на чистоту, нашлепал на полу новые бульдозерные следы грязи и был таков. Для него, видимо, все помещения предназначались для подсобных рабочих строений.
Не употребляющий то ли помощник, то ли правая рука прораба тоже выскочил следом, оставив еще кучу грязи.
Я вздохнул и посмотрел на Севера.
– А что сделаешь? – понял меня Север. – С другой стороны, все само собой и уладилось. Правда, тебе, хочешь, не хочешь, а придется поболтаться тут, на стройке коммунизма. И, кстати говоря, хочешь, не хочешь, написать статью с фотографией, чтоб было все солидно, как полагается. Ну и про меня чего-нибудь такое накатай. Мол, заведующий старым причалом, Север Иванович Калюжный, явился, так сказать, зачатком нового фундаментального строительства причального сооружения. Ну и все такое. Мне тебя учить не надо. А зацепился ты за меня я знаю, почему, – сощурил глаза Север и сдвинул на брови свой морской кепарь.
– Ну? – спросил я, уже догадываясь, что скажет Север Иванович Калюжный, зачаток нового причального сооружения.
– Чайка тебя приворожила.
Я улыбнулся. Что ж, он был прав, капитан причальной избы. Я и впрямь ждал, и не мог дождаться той драгоценной минуты, когда явится, ворвется, влетит Чайка. Ее еще не было, но я уже чувствовал, предощущал упругие крылья на своих плечах. Она словно витала где-то рядом, и мне казалось, что кто-то время от времени то и дело заглядывает в окно темно-сиреневым глазом.
Я вытащил из горшка с кактусом два изломанных, спекшихся окурка и выбросил их в форточку, как мерзость. Погладил жесткие иголки цветка, чуть плеснул на него водой и шепнул «Ёжику»: «Потерпи. Она скоро придет».
– Ты чего там бормочешь? – поинтересовался Север, охорашивая свои густые, кустистые усы у круглого, тоже морского зеркала, висевшего, должно быть, неким символом внутри красного спасательного круга на одной из стен.
– Я бормочу, – сказал я, – что если кто-нибудь воткнет еще хоть один окурок в Чайкин цветок, будет иметь дело непосредственно со мной.
Север развернул в мою сторону намыленную щеку с торчащим моржовым усом, пыхнул в воздух пеной и сообщил, указав на растение пальцем.
– Это сугубо точно. Это, между прочим, флотский подход. А я, прости, не обратил внимания. Можно сказать, проглядел.
– Ты уж будь добр, – попросил я старого морского волка. – В обиду цветок не давай. Он, как-никак, из Чайкиных рук.
Север надел для пущего вида безотлучную фуражку и согласился со мной.
– Правильно. У тебя, Олег, душа в голове находится. Пойди-ка, погляди, что у них на строительстве происходит. Пощелкай фотографическим аппаратом для острастки. Пусть они прочувствуют, что мы здесь не как-либо, и ведем зоркое наблюдение. А то этот чертов причал еще три зимы сооружать будут.
Я выполнил просьбу Севера и, тщательно измарав по самые щиколотки московские выходные туфли, пощелкал, где надо фотоаппаратом и навел на Игоря Сергеевича не то, чтобы страху, но вдохновил его на какую-то еще более бдительную деятельность.
Кирпич, как и следовало ожидать, оказался на четверть колотым и битым, но опытные каменщики так ловко выкладывали стены, так изощренно замазывали и зашпаклевывали трещины и щели, что никакой придирчивый глаз не мог к чему-либо придраться.
В комплекс пристани входил уже выстроенный, длинный мол для легких судов, катеров, тралов и прочих незначительных лодок. Понятно, при всем этом предполагалось наличие административного здания, где размещался бы начальник, некоторые подчиненные, бухгалтерия и, разумеется, вахтенный смотритель океана, наподобие Севера. А может, и сам Север Иванович Калюжный.
Игорь Сергеевич не мог не подойти ко мне.
– Ну как? – спросил он с некоторой тревогой в голосе, словно я был экспертом, и от меня требовалась информация об общем состоянии объекта.
Я, оттопырив фотоаппарат на брюхе, показал ему большой палец, поднятый вверх, и сказал:
– Порядок! – Тем более дублированный пакет документов от Валентина из Москвы я вот-вот надеялся получить.
Приезжали и важные представители комиссий, знакомились, осматривали и тоже положительно кивали головами.
Так что Игорь Сергеевич, удовлетворенный, стоял рядом со мной, оглядывая поле сражения, как, примерно, Багратион рядом с Кутузовым.
Тем временем солнце укатилось за сопки, а небо над горизонтом моря разнесло веером оранжево-лимонные краски, приподняв в воздух хорошо видимый теперь далекий остров еще одного первооткрывателя здешних мест – отважного мореплавателя Спафарьева.
Я дотошно расспросил Игоря Сергеевича обо всем, что касалось строительства, и около шести часов мы по-деловому, но уже тепло распрощались с ним.
Собрали инструменты и разбрелись по домам строители, покурив напоследок. В шесть пришел на дежурство сменявший Севера, сутулый от возраста старик – Михайлович, с добрым, круглым и масляным, как оладий, лицом.
Михайлович имел на себе штатский пиджачок, под которым надежно и толсто сидел крепенький свитерок, любовно связанный, по всей видимости, дорогою женой, какой-нибудь Васильевной или Николаевной. Однако, несмотря на всю любовь и заботу безвестной жены Михайловича, последующий героический вахтенный принес на одной своей щеке огромный, раздутый флюс, почти скрывавший даже его правый глаз.
Север остолбенел. Передать боевое, можно сказать, дежурство в столь ненадежные руки капитан причальной хаты явно опасался.
Север, конечно, как культурный моряк, ничем не выказал своей тревоги по поводу захворавшего флюсом Михайловича, но какая-то внутренняя жила ответственности за общее дело флота точила Севера и не давала покоя.
– Справишься со службой, Михалыч, при такой, я извиняюсь, морде? – поинтересовался капитан причальной избы после некоторого раздумья, совершаемого под обшагивание помещения.
Михалыч махнул рукой, дескать, эта болячка – ерунда в сравнении с масштабом общего, мирового подъема. Тем более:
– Бог поможет! – сказал он одной стороной лица.
– Это – да, – согласился Север и стал укладывать вещи в походный рюкзак. – Между прочим, – сказал он Михайловичу, – тут на нас Московского корреспондента свалили. Для описания строительства. Будет состоять при помещении. Зовут – Олег, – указал Север на меня. – Так что в случае чего, может, пособит чем.
И тут влетела Чайка. Стремительно, словно бы с воздуха, резво, мгновенно, как и положено птице. Полы ее распахнутого плаща развевались, будто далекие облака над морем.
Я нечаянно сел на перевернутое ведро.
– Вот и я, – объявила она радостно и стала разворачивать какой-то сверток ватмана.
Сверток оказался картиной, выполненной гуашью и грифелем. Картину Чайка быстро прикнопила к стене заранее приготовленными кнопками, предварительно оборвав дебильно назидательные плакаты по технике безопасности, изображавшие лица сумасшедших, сующих руки в оголенные провода или беспечно беседующих под оборвавшимся крановым грузом.
Произведение Чайки являло собой некую космогоническую модель мира, где было все, что только можно себе вообразить: звезды, люди, птицы, рыбы, неведомые животные, цветы в раструбах сплетенных тел и сама Чайка, точь-в-точь такая, какую я видел ее за спиной Анжелы Ивановны, – печальная, Врубелевская. Чайка с надеждой взирала на все окружающее из дальней туманной стороны.
Взлетали изломы морских волн, и в них реяли прозрачные Афродиты. Мир вокруг словно бы рождался заново. Графика же, напротив, жестко и цепко тянула черные щупальцы к хрупкому кресту рождения и нежности мироздания.
Тут шла отчаянная борьба Добра со Злом. Это был крик, рыдание, удар о скалу. Песня свирели. Всплеск. Штиль. Буря и радуга. И тревожный взгляд самой Чайки из купели лилового лотоса.
С одной стороны, это была какая-то «Герника» моря, с другой – умиротворенность Богоматери, подернутая знаком вселенской тоски Чайкиных глаз.
Я уставился в пол и не мог поднять голову, ибо считал, что во всем, происходящем передо мною, виноват только я.
Отчего-то в груди у меня стало нестерпимо жарко, а ладони и ноги загорелись, словно пробитые гвоздями.
Михайлович покоренно долго вглядывался в изображение, мигая маленькими акварельными глазками, а Чайка уже летала по комнате с веником, щебеча и целуясь время от времени с мохнатым «Ёжиком».
Когда Михайлович, наконец, обернулся, оторвался от необычного мира, в который он нечаянно проник, я оторопел. Меня словно парализовало. От огромного, багрового флюса на его щеке не осталось и следа. Лишь по тому месту, где пунцово-синяя опухоль только что надуто оттопыривалась, текла мелкая слеза.
Север же тихо изумился и вышел восвояси молча, даже не дав мне на прощанье никаких напутствий.
Было ясно, что рукой Чайки водил Наблюдатель.
Я сорвался с места и, подхватив легонькое, воздушное, почти невесомое тело Чайки, крепко, благодарно поцеловал ее в губы.
– Прости меня за все, – сказал я.
– Тебе нравится картина? – спросила Чайка, сияя.
– Нравится – не то слово, – прошептал я ей на ухо. – Ты – волшебница. Я люблю тебя. Ты умеешь превращать страдание в радость. А это – великий дар. Я учусь у тебя писать. Ты говоришь мне: стой, Олег. Не держи одной рукой другую. Действительно, зачем? Человеку и так доступно все, и он способен проникать, куда захочет. Посредством любого своего эфирного тела.
– Ты кое-что начинаешь понимать, – улыбнулась Чайка.
– Можно создавать целые миры и жить в них вольно и свободно. Совсем не так, как среди людей.
– Ты не прав, Ветер, – возразила Чайка. – Среди людей можно жить так же вольно и спокойно. Нужно только иногда быть пустотой, чтобы слышать разумный Голос внутри себя и питаться им.
– Ты умеешь? – спросил я и тут же пожалел об этом, потому что в следующее мгновение Чайка осторожно отстранилась от меня и грустно сказала:
– Нет. Еще нет.
Она отошла к окну и стала смотреть на закат. По ее худеньким вздрагивающим плечам я понял, что она плачет.
Я подошел сзади и обнял Чайку.
– Прости меня, – сказал я. – Просто я слишком долго жил среди грохота, шума, суеты и стал деревянным.
В знак прощения Чайка, не оборачиваясь, пожала мне руку. Так, молча, мы смотрели на догоравшие краски неба.
– Ты слышишь Баха? – спросила Чайка и я, пораженный, чуть отпрянул от нее, потому что в ту минуту действительно слышал Баха.
Михайлович чувствовал себя при нас неуютно. Он, конечно, запутался в происходящем. Положим, Чайку Михайлович знал, но кто такой я, и какие у нас с Чайкой внезапные отношения – он терялся. Он ерзал за столом, перетряхивал ящики, шуршал старыми газетами и, в конце концов, вообще выветрился наружу.
Чайка повернулась ко мне. Лицо ее было сухим.
– Пойдем, – сказала она и взяла меня за руку. – Потанцуем.
– Что? – сказал я.
Она улыбнулась, обозначив, маленькие, темные ямочки на щеках. Я вдруг понял, что дороже ее у меня больше нет никого на свете.
– Скажи, – попросил я, боясь ее темных сиреневых глаз, страшась своего вопроса, на который могло и не быть должного ответа. – Это ты прилетала ко мне в Москву?
Чайка провела пальцами по моим волосам и спокойным бархатным голосом ответила:
– Конечно, я. Разве ты не понял сразу? Вспомни, как мы бродили с тобой по Остоженке, Арбату. А потом забирались в твою маленькую дворницкую комнату и слушали призрачный скрип шагов Андрея Платонова. Твоя комната была напротив его. Что ты так смотришь на меня? Ведь тебе уже известно, стоит лишь очень захотеть найти того, кто тебе нужен… и чем больше это желание, тем больше чувствуешь, что уже рядом, близко. Будь то Москва или другой конец света. Все равно.
– Но зачем же ты тогда исчезла. Улетела?
– Я не улетела. Меня унесло. Никто в этом мире не волен делать только то, что хочет. Можно лишь придерживаться своей дороги. В небе ли, на земле. Всем руководят там, – она указала на потолок. – Думаешь, мне хотелось расстаться с тобой?.. Ведь я очень любила тебя. Но Учитель распорядился по-своему. Он решил проверить, какой ты. А ты сломался. Даже не пробовал искать меня. Он, Учитель, проложил для тебя удобную с виду тропку. Ты пошел по ней и чуть не утонул. Тогда Смотритель вытащил тебя и дунул в спину И вот мы снова вместе. Потому что уже повенчаны Им. Почему ты как будто ничего этого не понимаешь?
– Но ведь я мог совсем утонуть, пропасть в том чертовом болоте! – вскипел я.
– Не мог, Ветер. Просто не мог, – сказала Чайка, уже утомляясь объяснять мне элементарные, как ей казалось, вещи.
– Но почему?!
– О Господи! – взмолилась Чайка. – Не заставляй меня говорить то, что я не могу.
– И все-таки! – стукнул я кулаком по подоконнику.
– Потому что ты – Проводник. Проводник Его энергии. Смотритель наблюдает за тобой.
– Что? – спросил я, чувствуя, что глупею в Чайкиных глазах с каждой минутой.
Она устало вздохнула и снова спросила:
– Мы идем танцевать?
Мы вышли на порог и нос к носу столкнулись с Михайловичем и вчерашними бражниками, воодушевленно направлявшимися в гости к сторожу причала, приобретя в ближайшем магазине винный запас.
Чайка озарила их теплой улыбкой.
– Привет, ребята!
Те дружно загудели в ответ.
– Вот, – показал бутылку один из выпивох. – Михайловича полечить собрались. У него видела, какая физиономия была? Мы рядом живем, старика еще с утра обследовали. А тут вон какой фокус, – человек с бутылкой положил руку на плечо сторожа. – Флюс как ветром смело.
– Ну полечите, – улыбчиво разрешила Чайка. – Только аккуратно. Не то Коля, – кивком указала она на тщедушного, в заплатах, мужика, озаренного изнутри тихим светом восторга от всего окружающего, – опять где-нибудь лицом упадет. Мне его жалко.
– Упаси, Боже, – разом забасили «ребята». – Мы смирно. Потихоньку.
Спустившись к океану, мы с Чайкой вошли в шатер, сотканный из лилово-золотых красок догорающего вечера. Море было мягким и ласковым, как кошка. Едва урча, оно терлось о береговые камни, полизывало песок и чуть раскачивало в черной позолоте воды беспризорные доски, принесенные неведомо откуда.
К вечеру океан жадно дышал хвоей сопок, подмешивая в густой еловый запах дух подводных владений – йода, рыбы, водорослей и затонувшего дерева.
Мы шли по влажному песку, и я старательно смотрел под ноги, чтобы не наступить на мелкого краба, рыбешку или распластанный кисель отдыхавшей от морской деятельности медузы. Всего этого добра тут шевелилось предостаточно.
Было по-летнему, не по времени тепло.
Чайка сняла плащ и перекинула его через руку, оставшись в простом рабочем костюмчике, который для меня казался дороже платья миллионерши, поскольку так ладно и тесно облегал ее стройную фигуру. «Ёжик», живший на подоконнике старой причальной хаты, незримо переселился ко мне в грудь и начал нежно и томительно трудиться, шевеля всеми своими иголками.
Чайка же, кроме того, сняла туфли, так как идти на каблуках по песку, конечно, было неудобно, и стала для меня маленькой босоногой богиней, моей прежней, утерянной было студенческой любовью.
Настоящее имя Чайки – Ольга – я боялся называть, дабы не потревожить ее больной тяжелой памяти, так как, по случаю, знал теперь страшную историю детства Чайки.
Я и в своей памяти хранил один жуткий урок, который жил во мне, как незаживающая, время от времени саднящая рана. На черте четырех ли, пяти лет, – сейчас трудно сказать точно, – отец, аккуратно навещавший меня по субботам после развода с матерью, решил, видимо, совершить некий акт просветительства, некую, может быть, попытку моего приобщения к истории Отечества. Он повел меня в Днепропетровский исторический музей. В этом городе жили наши родственники. По светлым, прохладным залам строго здания я любил потом бродить в одиночестве.
Вокруг музея, проще говоря, на его подворье вырастали прямо из земли привезенные со всех окрестных степей древние скифские изваяния – каменные бабы с обвисшими руками и обвисшими грудями. Видно, у скифов это был символ мудрости и материнства. Сотворенные в незапамятные времена, они тускло и как-то устало смотрели в бесконечность, сразу внушив мне несокрушимый детский страх. Широколицые и плоскогрудые, с размытыми временем глазницами, они были для меня и живыми и неживыми идолами чего-то темного, неведомого и ужасного.
Я стоял перед одной из них, как перед гремучей змеей, не в силах пошевелиться. Мне помнится, я понимал все же, что это всего-навсего куски камня, но человеческий облик творил в моем воображении грозную работу всех тайных сил, которые тогда оживали во снах, внезапных криках и неожиданных ночных рыданиях.
Отцу, однако, моя замороженность показалась забавной и он, – необдуманно, конечно, – подлил керосину в огонь.
– Если дотронешься до статуи, – сообщил он мне будто по секрету, – сам станешь каменным.
Это было новое, в череде моих детских ужасов, открытие. Правда ли? Может, отец просто шутит. Я уже знал, что взрослые иногда шутят тем или иным образом. Но я верил отцу больше, чем кому-либо, хотя он был со мной всегда серьезен, тактичен и педантично суховат, как иной школьный учитель, которого побаиваешься, но свято полагаешься на каждое его слово.
И все-таки любопытство детства не знает границ. Моя рука осторожно потянулась к застывшему в вечности скифскому изваянию для проверки факта.
Я стоял на краю пропасти с вытянутой рукой и после слов отца боялся пошевелиться. Эта моя борьба с самим собой, очевидно, длилась бы довольно долго. Но отец не вытерпел и легонько подтолкнул меня. И случилась молния. Мои пальцы коснулись тела древней скифской бабы. Тела страшилища.
Никогда после я не испытывал ощущения ужаснее того, давнего. Меня словно окунули в кипящее масло, и я обварил себе все, что только можно было обварить. Поэтому по сей день испытываю резкую неприязнь ко всему гранитному, особенно, к гранитным памятникам.
Однако чего стоила эта моя детская трагедия в сравнении с Чайкиной?
Олей назвать ее у меня больше не поворачивался язык.
И так мы брели по пустынному берегу синего океана под разлетевшимися во все стороны малиновыми перьями недвижных облаков.
– Вот это – мой дом, – сообщила Чайка и указала на весь окружающий нас простор.
– Неплохо, – признался я. – Мне нравится.
– Правда?! – обрадовалась Чайка и побежала вперед, размахивая сумочкой точь-в-точь, как когда-то на Тверском бульваре.
Она добежала до покатого валуна, похожего на большой, позеленевший у подножья, гриб и сложила на его макушку и плащ, и сумочку. Затем легко, естественно, как птица, обронившая перо, сбросила на валун костюм и всю остальную одежду, крикнув мне:
– Раздевайся! Будем танцевать!
Я смутился. Со мной ничего подобного не случалось. Воспитан я был не скажу, чтобы аскетично, но довольно строго, в основном, бабушкой, которая всю жизнь жила в суровом времени боевых перемен, даже когда они кончились.
Поэтому я стоял, как пень, перед одеждой Чайки и не мог решиться на что-либо, несмотря на то, что уже был однажды женат, да и с самой Чайкой мы хранили теплую память о наших горячих и нежных ночах в моей маленькой дворницкой комнате. Хотя была ли дворницкая? И Ольга-Чайка. Кто знает?
И вдруг какой-то ребячий восторг подбросил меня, толкнул в спину Я скинул с себя все, что на мне было, и пустился догонять Чайку.
Если бы можно было просмотреть происходящее на берегу на видеопленке, то это выглядело бы примерно так: синие горбатые сопки, застывшие в раздумье по обе стороны зеленого залива, охряно-золотая полоса прибрежного песка и на фоне догорающих углей над горизонтом – две резко очерченные фигуры, два танцующих молодых тела. Думаю, со стороны это было красиво. Но это было красиво не только со стороны. Это было прекрасно для нас самих, потому что в те минуты ничего и никого в мире не существовало.
Мы то кружились в вальсе – тогда я высоко подбрасывал Чайку в воздух, а она, радостно вскрикивая, взмахивала руками, и сиреневые искры вспыхивали в ее глазах; то вдруг она вырывалась и танцевала одна, напевая что-то ласковое, грудное.
Танцевала сначала медленно и плавно, грациозно раскачиваясь, словно цветок под легким ветром. Потом движения ее становились быстрее, но тоньше, изящнее. Свой танец Чайка совершала с закрытыми глазами, как будто возносила древнюю языческую молитву.
Наконец, вихрь всего тела остановил Чайку на самой кромке воды.
Сам я все это время тоже вытворял какие-то непроизвольные телодвижения, и горячее чувство восторга не покидало меня. Но ни одной преступно-жадной мысли, даже тени вожделения не возникало во мне в те мгновения. Был лишь приступ любви, восхищения и боли оттого, что невозможно так ярко, как есть, поместить все видимое в сердце навечно.
Она остановилась на краю моря и протянула к закату ладони с длинными пурпурными перстами. Потом приподнялась на цыпочки и шагнула на воду.
Я перестал танцевать и, кажется, дышать.
Затем Чайка осторожно, как по канату, но легко, уверенно пошла по воде, и точеное тело ее озаряла червонная полоса над океаном.
Мне хотелось что-то крикнуть ей, остановить, что ли, но голос не работал, и ноги мои больше не двигались. Я ощутил какой-то священный озноб и зачарованно замер.
Она шла по воде все дальше и дальше. Я же, заколдованный, все стоял на одном месте и не мог пошевелиться.
Так я проводил Чайку почти до середины залива. Потом зрение потеряло ее из вида, лишь одинокая птица плавно летела на противоположный берег.
Сколько я проторчал на одном месте, сейчас сказать трудно. Вдруг кто-то тронул меня легонько за плечо. Я обернулся. Передо мной, улыбаясь, стояла Чайка. Льняные волосы ее ниспадали на грудь, а лицо горело каким-то новым, неведомым светом. Она прильнула ко мне, и я вернулся на землю.
Мне показалось – это был сон. Но это не было сном.
Чайка молчала, и я слышал, как бьется ее сердце.
Назад мы шли в темную сторону вечера. Я обнял Чайку, так как становилось прохладно. Холодом дышали скалы, песок, море.
Я обнял Чайку еще и потому, что до острой боли в груди любил ее, а мысль о том, что нам придется сейчас расстаться на ночь, жалила, как обгоревшая рана. Мне не хотелось ни о чем расспрашивать Чайку, я лишь отчаянно боялся минуты прощания. Понимал, это глупо: завтра снова увидимся, но ничего не мог с собой поделать.
Вскоре впереди замаячила причальная изба. Печаль моя подкатила к самому горлу. Стала еще гуще.
– Можно я сегодня буду ночевать у твоей двери? – непрошено вырвалось у меня.
Чайка рассмеялась громким, переливчатым смехом.
Боль, словно яд, разлилась по всему моему телу.
– Утром я принесу тебе косточку, – весело пообещала Чайка, и мне подумалось, что как раз перед причалом я умру от тоски.
Совсем уже недалеко от причальной избы, глядевшей в ночной океан яркими желтыми глазами, Чайка остановила меня. Сердце мое прекратило бой, а вместо него механически работало уже что-то другое.
– Я не могу с тобой проститься, – сказал я чужим, шершавым голосом. – Особенно сегодня. Мне так много хочется тебе сказать… спросить… я хочу любить тебя! Как в прошлой жизни. Помнишь?
– Мы не расстанемся, – сказала Чайка. – Мы пойдем ко мне. Я тоже умираю от любви. Тем более ты так надолго исчез. Я все молила и просила Смотрителя послать тебя, вернуть. Но Он испытывал нас. И вот наконец… В Городе нет ни одной церкви, а у меня такое огромное желание постоять перед иконой в тишине свечей Храма. Поэтому Океан и весь мир над ним – единственный мой Храм. Мой Дом. Я птица, а у птиц своя церковь. Когда летала сегодня, то видела Смотрителя и поблагодарила Его крыльями. Он улыбнулся в ответ. Значит, благословил. А потому мы пойдем ко мне. Только вот… – Чайка запнулась.
– Что? – испуганно спросил я и взял Чайку за плечи, так как предыдущие ее слова и обещание быть вместе всю ночь снова запустили в галоп мое сердце. Я ожил и чуть было не крикнул что-то в предощущении нашего с Чайкой единства. Но вдруг какое-то зловеще опасное: «Вот только…»
– Что? – легко встряхнул я Чайку. – Что-то может нам помешать?
Она опустила голову и, превозмогая очевидную внутреннюю тяжесть, с трудом произнесла:
– Моя мать… Понимаешь, она немножко, как бы лучше сказать, не в этом мире. Я тоже довольно часто уношусь из него, но, возвращаясь, понимаю, что происходит вокруг. Моя мама не возвращается. И не понимает. С ней это с тех пор, как я убила отца. Я его застрелила, когда была еще совсем маленькой. Застрелила от страха. От ненависти. Хотя откуда у ребенка может быть ненависть? С тех пор – это мой вечный крест. Отец пил. Я до сих пор помню: весь дом был засыпан осколками и зелеными бутылками, в которые залезали мухи и там умирали от яда. Но кроме того, что отец постоянно и бесконечно пил, он все крушил в доме – стулья, посуду, стекла, а главное, жестоко бил маму Ко всему, пьяный, он водил меня на берег и учил убивать чаек. Другим я его не знала. У него было ружье, из которого он расстреливал птиц. Просто так. Ради забавы. Однажды он в очередной раз сильно избил маму. У меня началось затмение. Плохо помню, как все случилось. Только я сняла с гвоздя его проклятое ружье и выстрелила. Отца похоронили. Мне было шесть лет. С тех пор мать ушла в свой мир. Меня воспитывала тетя, мамина сестра. Если бы не она, не знаю, что бы со мной было. А когда мне исполнилось семнадцать, умерла тетя, и я начала ходить по воде, а потом научилась летать. Пришла взрослость.
Чайка замолчала и снова прильнула ко мне, поскольку во время рассказа я все держал ее за плечи на вытянутых руках, словно она могла снова вырваться и улететь.
– Теперь ты все знаешь. Тебе решать. Видишь, какие у меня родители. Может, после всего ты не захочешь быть со мной. Но я должна была все сказать. Вот откуда выдуманная Карелия и мое внезапное исчезновение. Тогда, в Москве, я боялась тебе признаться. В восемнадцать я влюбилась и хотела выйти замуж, но когда парень узнал мою историю, то перестал встречаться со мной, а вскоре женился на другой девушке. Поэтому мы остановились. Чтобы ты выслушал и решил. Я не должна и не могу обманывать тебя.
Перед моими глазами мир поплыл и превратился в жидкий кисель. Я крепко прижал Чайку к себе.
– Ёжику не говори, – сказал я. – Я все давно знаю. Но не отрекусь от тебя. Никогда.
Чайка благодарно уткнулась носом в мое плечо.
– Я верю, – сказала она тихо. – И верю в предопределение. Я знаю много людей, идущих своим путем, потому что они имеют силу мысли Учителя. Лишь те, кто бросаются из стороны в сторону, ни к чему не приходят. Их влечет на Север, на Юг, на Запад, на Восток, но по дороге из-за новых соблазнов они меняют решения и потому остаются ни с чем. Человека же развитого, умеющего оценить и впитать весь мир, можно сравнить с путешественником, который твердо знает, куда идет. Ничто не силах отклонить его от намеченной цели. Смерть может уничтожить его тело, но его духовная энергия, его энергетический слепок останется сосредоточенным и живущим в этом мире. Я – женщина и хочу любить, родить ребенка, но в то же время меня зовет вода, небо и свобода, которая похожа на спокойный огонь. Я не могу изменить им. Без этого мой мир погаснет и потеряет идею красоты. Сама красота еще ничего по себе не значит, и только человек может оплодотворить ее стремлением к рождению овеществленной идеи красоты. Прости, – засмеялась Чайка. – Начиталась я в своей библиотеке. Мелю, что на язык попадет. Но если люди, – начала говорить она взахлеб, – сознательно лишают себя страстей, любви, желаний, тревог, разочарований и выходят за пределы страданий – то больше не рождаются в этом мире. А если я хочу возвращаться! Хочу рождаться еще сотни, тысячи раз – ведь мир так прекрасен. Другого нет и не будет. Впрочем… – Чайка опустила голову. – Я знаю, что ничего не знаю. Хочу только любить тебя. Любить всегда и везде. Во всякое время. На земле, под землей, в космосе. Где угодно. Пусть это будет эгоизм, сон наяву, чувственные желания. В конце концов, все вокруг – только состояния сознания. Кроме этого существуют морфемы космического сознания, они не имеют форм, конкретного местонахождения в пространстве, но пронизывают всю вселенную. Раз так, значит, и во мне все это есть. Есть все эти формы, которые сейчас направлены только на одно – любить тебя, а стало быть, и весь мир. Каждый человек – божество. Плохой он или хороший. Добро и Зло едины. «Нет ничего ни хорошего, ни плохого; это размышление делает все таковым», – так сказал Шекспир. Я же, будет тебе известно, женское божество – Дакини, покоряющее пространства, открывающее тайны мироздания и вдохновения. А это и есть любовь. Вот и все, мой милый. Тебе же Господь подарил «крылышкующее золотоперо», как говорил Хлебников. Пиши свою книгу без первой и последней страницы. Пусть она будет шумом ветра и рождается на других планетах, растет и обрушивается, как могучее дерево под ураганом, пробирается в заповедные долины и вдруг в самый ошеломительный момент заговаривает с миром всеми своими корнями.
Я стоял, открыв рот, не зная, что сказать.
Чьи-то громкие и твердые шаги оторвали нас друг от друга. Вскоре из густых сумерек выросла перед нами фигура Семена.
– Ага, – обнаружил нас Сеня. – Вот вы где! – И сунул мне новый пакет с селедкой. – Айда, заберем вещи, а то у меня времени в обрез: сегодня ж футбол, – объяснил он свой праздник. – «Динамо» – Киев, «Спартак» – Москва. У меня и посмотрим. Телек не ахти какой, но показывает.
– Спасибо, – поблагодарил я. – Вещи отнесем. А футбол – извини, я к нему равнодушен.
– Понятно, Москва, – сказал Семен и улыбнулся, глядя на Чайку. – Понятно. Что ж, дело молодое. Футбол тут ни причем. – И вдруг взорвался: – Что значит – равнодушен?! Такого не бывает!
Мы вошли в избу, где в клубах дыма восседала вся теплая, лечебная компания. Предводитель прихожан с жаром пытал вахтенного сторожа Михайловича.
– Вот ты мне скажи, – требовал он от старого воина. – Отчего вымерли мамонты?
Михайлович, не имея точных сведений, молчал, лишь удивленно взирал на вопрошателя голубыми туманными глазками. Молчали и остальные, за отсутствием необходимых фактов.
– Нет, вы мне все-таки скажите, – наседал знаток древней истории, так как, похоже, обладал собственной теорией.
– От пыли, – подсказал наклонной головой очарованный Коля.
Голова его, надо сказать, в отличие всего прочего населения росла не вертикально, как у обычных людей, а параллельно плечам. Поэтому лицо он постоянно держал чуть набок и вверх, чтобы видеть окружающих, и чтобы те тоже могли любоваться Колиным восторгом от жизни. Конечно, тут Чайка была права, падать такой головой вниз было крайне опасно. Но Коля, видимо любил бытие во всех его проявлениях и потому отчаянно рисковал, берясь за стакан с вином.
– Вот! – обрадовался историк. – Примерно правильно. Только не от пыли, дорогой ты мой Коля. А от грязи. Ледники тогда течку дали, ну и воображаете, какая кругом грязища пошла! Мамонты и увязли. Как им при своих тушах передвигаться в такой почве?
Под этот нескучный умственный разговор мы с Семеном нагрузились моими вещами и двинулись к выходу. На пороге я поставил чемодан и вернулся к Михайловичу, предупредил его, что, возможно, сегодня не вернусь, а останусь ночевать у Семена, чтобы дежурный знал это и не волновался.
– Валяй, – согласился Михайлович. – Мне-то что… Пограничников провожу и в койку. Если вдруг вернешься, стучи громче: я сплю прочно, как в могиле.
Семен для перевозки моего имущества прикатил личный «Москвич» с оторвавшимся на какой-то зловредной кочке глушителем. Поэтому, стоило нам стронуться с места, как машина начала тарахтеть на весь город не хуже боевого вертолета.
– Это что, – успокоил нас с Чайкой Сеня. – Я однажды двести километров на траве ехал.
– Как так – на траве? – не понял я.
– Обыкновенно, – просто объяснил Семен. – Пробил, представляешь себе, шину, а запаски не было. Что делать? Тогда вместо шины травы в скат напихал. Так и доехал потихоньку. Смекалка. Без нее на транспорте ты – голый пень.
Худо-бедно, грохоча, фыркая и чихая, минут через двадцать мы все-таки добрались до Семенова дома.
Жил Сеня обстоятельно. Квартиру имел персональную, состоявшую из двух комнат и при них все полагающееся: жену – Веру и трех ребятишек, двух девочек – Катю с Наташкой и сына Вовчика, который, не имея никакого стеснения, в отличие от благовоспитанных дочерей, сразу вышел вперед и смело представился: Вовчик. Протянул мне, а затем и Чайке маленькую ладошку.
Мы с Чайкой умиленно застыли в прихожей, но Вовчик, человек лет шести, строго оборвал приступ нашего умиления.
– Что, так и будете стоять тут? – взыскующе спросил он. – А ну, проходите в зал! – И потащил Чайку за руку в комнату.
– Генерал, – сказал Семен. – Чистый вояка. Ты его спроси, кем он хочет быть, и он тебе сразу продиктует – генералом. Одним словом, Вовчик в доме главнокомандующий. Он знаешь, как моих девок воспитывает, хоть они и старше. Что ты! По струночке ходят. Я сам у него в сержантах числюсь. А ты говоришь!
Я не говорил ничего. Только стоял и радовался такой семейной идиллии.
Мы с Семеном стали рассовывать мои вещи по разным углам и антресолям, сооруженным хозяином лично, а в это время главнокомандующий Вовчик уже рьяно наезжал на Чайку всей своей военной техникой: танками, самолетами, кораблями, сопровождая движение машин голосовой имитацией соответствующих моторов.
Потом жена Семена – Вера позвала пить чай, и мы дружно уселись на кухне за стол.
Розовощекие, чернявенькие Катя с Наташкой, похожие на Семена, все хихикали, перешептываясь о чем-то своем, но Вовчик немедленно унял их и вынес последнее предупреждение. Дочери тут же угомонились хихикать и приняли вид благочинный, воспитанный, сделавшись похожими на картинных Венециановских девчушек.
– Сахару берите по три кусочка, – наставительно предупредил командующий. – А то на всех не напасешься. Пирогов – по два, чтоб хватило.
Вдруг Вовчик повел носом и, выпучив глаза, строго выпалил, глядя на сестер.
– Спрашиваю в последний раз: кто пукнул?
Бедные сестры загорелись краской и с ужасом посмотрели друг на друга.
Мы от души посмеялись над маленьким диктатором, а Вовчик невозмутимо продолжал:
– Значит, вы писатель из Москвы? – испытующе спросил меня маленький сын Семена. Видно, отец уже оповестил его, кто я такой.
– Я не то, чтобы просто писатель, – сказал я, решив поиграть с Вовчиком. – Я сочинитель. Понимаешь такое дело?
Генерал озадачился.
– Вот ты же, когда выставляешь свои войска: танки, корабли, самолеты, – представляешь себе действия противника, как они могут напасть на твой флот или артиллерию. Так или нет?
– Ну да, – поморщив лоб, ответил главнокомандующий Вовчик.
– Значит, ты тоже выдумываешь или сочиняешь ход боевых действий. Правильно?
– Правильно, – согласился генерал.
– Стало быть, ты тоже сочинитель вроде меня. Только я все записываю на бумаге, а ты держишь внутри головы.
– Понятно, – определил Вовчик. – Значит, у тебя память дырявая. Потому ты все и записываешь.
– Но-но, – погрозил раскрасневшийся от чая Семен. – Говори да не заговаривайся. Писатель пишет не для себя, а для нас с тобой. Чтобы мы могли прочитать и научиться кое-чему. Или узнать, чего не знаем. А ты сразу – «память дырявая». Соображать надо, с кем говоришь. Это тебе – не Сережка из соседней квартиры. Вот у кого память дырявая, так это, в первую очередь, у тебя. Ты мамке мусор почему не вынес до сих пор?
Вовчик почесал затылок и стал виновато вылезать из-за стола.
– Ладно, уж, сиди, – остановила командующего мать. – Попьешь чаю, тогда…
– Я сам, – сказал Семен. – Темно уже. Пусть ему стыдно будет, вояке. Допивай чай и марш в свою комнату, азбуку учить. Сочинитель.
– Так ему и надо, – в один голос обрадовались картинные сестры. – Командир кислых щей! – Видимо, они тоже натерпелись от Вовчика.
Мы с Чайкой благодарно и тепло распрощались с дружным семейством, и вышли на лестничную клетку.
Внутренние стены Хрущевской пятиэтажки были старательно размалеваны самодеятельными художниками, оставившими для радости созерцания шедевры графики в виде скелетов, черепов, мужских-женских органов и трехглавых змеев с обязательными надписями под ними. Под скелетом: «Ромка, ублюдок, умри»! Под черепом: «Витька, не лезь к Инке»! Под мужским органом: «Видишь, Светка, это твой конец»! И так далее.
В подъезде пахло мочой, въевшимся в стены дымом и гнилью. Все это не могло ускользнуть от зрения Чайки. Она вдруг остановилась и закрыла лицо руками.
– Что с тобой! – испугался я.
Как электрическим током ее ударило бурными рыданиями.
Я не знал, что делать, и стал встряхивать Чайку за худенькие плечи. Но она ничего не могла ответить, лишь конвульсивно вздрагивала всем телом.
– Чайка, Чаечка, – бормотал я. – Что случилось?
Я прижал ее к себе, противно ощущая свое бессилие и, пытаясь успокоить, гладил по голове, как маленькую девочку. Но все было тщетно. Какие-то безысходно горькие слезы горячим потоком лились из Чайкиных глаз, тело билось в мышечной дрожи, а я взбудоражено думал, что, может быть, нужно сбегать к Семену и спросить воды. Однако устраивать там переполох тоже не хотелось. Поэтому я, как мог, все успокаивал Чайку, надеясь, что приступ скоро пройдет. А главное, мне неведома была причина столь бурной реакции на что-то. Но вот на что? Хоть я и догадывался, все же не находил ответа. Мало ли мерзостей пишут в парадных и туалетах.
Наконец, рыдания стали стихать, и Чайка, всхлипывая, тихо попросила:
– Не смотри на меня. Я некрасивая.
Через некоторое время Чайка затихла, отвернулась от меня и начала вытирать лицо платком.
Я молча стоял позади, тяжело переваривая в себе тревогу, боль и сострадание, словно побывал на чьих-то похоронах.
Но вот Чайка повернула печальное лицо и взяла меня под руку: «Пойдем».
Мы спустились по лестнице мимо похабной картинной галереи и вышли наружу, в свежую прохладу вечера. Я боялся о чем-либо спрашивать Чайку, чтобы не обжечь случайно ее неостывшую душу, но мысль о том, в чем же все-таки крылась причина столь неожиданного горя, не давала мне покоя.
– Как ты? – спросил я осторожно.
Она не ответила.
– Прости меня, – не выдержал я. – Что же стряслось? Было так славно: чай, пироги, вышитая скатерть, милые ребятишки…
– Зачем они вырастают? – грустно спросила Чайка, и в этом был ответ на мой посторонний, близорукий вопрос. Я понял, какая трагедия сотрясла ее душу. Я понял в прозрении, что там, где обычные люди плещутся, как рыбы, в привычной воде, Чайка видит глубинный смысл бытия.
«Зачем они вырастают? Дети».
Вот отчего все вспыхнуло в ней буйным, опаляющим пожаром. Она перелетала зрением через время, и могла в капле почуять весь океан. И содрогнуться от его могучей, неотвратимой силы.
– Что поделаешь, – бескровно произнес я. – Так устроена жизнь. Хотим мы того или нет. Все имеет начало и конец. А между ними – свое развитие. Прекрасно детство и, видимо, нет ничего прекраснее его. Но прекрасна и юность со всем ее идиотским максимализмом, ушибами, ранами и новым рождением. Прекрасна зрелость, так как это пора неудержимого творчества. И даже старость, несмотря на хвори и увядание, прекрасна своей мудростью и полным согласием с природой. Я, конечно, говорю прописные истины, но…
– Ты прав, Олег, – вздохнула Чайка. – Мне тепло с тобой. Ты похож на доброго учителя, который говорит: «Смотрите, дети, вот это буква А. А вот совсем другая буква – буква Б». Не подозревая, что в Б уже есть А. Частичка А. Когда же мы произносим Я, то больше, чем в другой букве, слышим А. Потому что круг замыкается. Ребятишки Семена с Верой – это А. Широкое, теплое, напевное, самостоятельное. Это нежные, зеленые побеги. Но я вдруг увидела в них взрослые, сучковатые растения, совсем не похожие на первые ростки. И мне стало больно. Зеркало не может сказать: это хорошо, а это дурно. Оно просто наблюдает и отражает, никого не осуждая, не виня и не хваля. А я не могу стать зеркалом. Мне мешает ум. Он возбуждает чувства. Чувства зажигают эмоции. Я плачу или смеюсь, рыдаю или кричу от счастья. Я не могу подавить их. Мои эмоции слишком бурные. Иногда – неистово бурные. С того момента, когда я нажала на курок, и отец упал замертво. Порой какие-то события жизни, самые, казалось бы, незначительные подбрасывают меня и швыряют о скалы. И я ломаю крылья. Это очень больно. Честное слово. Не сердись на меня. Я сама впадаю в панический ужас оттого, что кто-то плачет. Просто не знаю, как быть. Но если, случается, плачу я, то не могу остановиться: у меня очень нервная система.
Город уже погрузился в ночь по самую макушку Сопки и океан пропали в сумраке. Лишь дух океана был ощутим и цепко держался за что-то в окружающем воздухе. Этим духом насыщались деревья, спящие птицы, а открытые форточки окон вдыхали его в людские жилища.
Мы шли не спеша и надолго замолчали. Я с горечью подумал, что ничего у нас сегодня с Чайкой не выйдет. Не получится ни жаркой любви, ни счастья, ни обожания. Ее крылья были надломлены, и Бог знает, сколько надлежало Чайке терпеть свою боль.
Под светом тусклых фонарей мы остановились на перекрестке. Вся радостная плоть жизни, предощущение чего-то большого, значительного, запредельно жаркого неожиданно треснуло, надорвалось и с этим, казалось, ничего нельзя было поделать.
– Что ж, – сказал я, – давай прощаться. – И тоска ядовито ужалила меня. – Эту ночь Наблюдатель, как видно, приберег для следующего раза.
– Нет, – порывисто возразила Чайка. – Ты нужен мне сегодня. Вон, посмотри, на дереве сидят толстые вороны, но мы не можем всю жизнь стоять возле них. Рано или поздно пройдем мимо. Мы плывем по течению. Иногда цепляемся за что-то, за какие-то скользкие коряги, но это не значит, что нужно тут же выскакивать на берег и сидеть, цепенея от ужаса, пока не пройдет шок. Если бы я была одна, возможно, мне захотелось бы так и сделать. К счастью, ты рядом. Я в твоем теплом поле. Поэтому мои крылья заживают гораздо быстрее. Так лечил Гиппократ. Поверь, я уже не чувствую боли. Остался лишь горьковатый осадок. Как пепел. Пока мы дойдем, надеюсь, рассеется и горечь. Все проходит. Ты прав. И возвращается. И снова проходит. Сейчас ты мне нужен. Так распорядился Учитель. Я хочу лежать рядом, гладить твое тело, прикасаться к нему губами. Тогда я забуду все боли сразу.
Я обнял Чайку и чуть приподнял ее легкое птичье тело.
– Я люблю тебя, – сказал я с молитвенным ощущением того, что сейчас говорю эти слова искренне и чисто. – Просто обмираю от любви. Так, наверное, цветочный луг обмирает в предчувствии грозы.
– Напиши об этом, – попросила Чайка. – Знаешь, почему? Потому что я чувствую то же самое. Как перед полетом или прогулкой по воде. Представь, за две-три минуты ты пересекаешь огромное пространство. Под тобой бушует океан, поют горы, урчат реки. Ты слышишь все звуки мира. Это нельзя передать словами: они бледнеют в сравнении с тем, что происходит на самом деле. Но ты все равно напиши. Ты обязан найти нужную речь и нужную мелодию.
– Попробую, – сказал я и опустил Чайку на землю. – Скажи, почему ты иногда называешь меня Ветром?
– Потому что, когда женщина находит своего мужчину, он становится для нее ветром, а она обретает крылья. Он становится для нее рассветом и росою, которая питает ее листья.
Я улыбнулся.
– Еще немного и мы начнем говорить стихами.
Между нами провисла какая-то чуткая, нежная тишина.
– Пойдем, – позвала Чайка и взяла меня под руку. – Знаешь, я часто ловлю себя на том, что гораздо больше понимаю птиц, собак, кошек, медведей, с которыми встречалась в тайге. Я понимаю деревья, цветы, траву. Иногда мне кажется, я слышу, чего они хотят, о чем думают. Я вижу как рыбы, медузы, крабы смотрят на меня, беседую с ними и нахожу общий язык. С людьми сложнее. В лучшем случае, мы делаем вид, что понимаем друг друга. Ты, Ветер, исключение. Поэтому я люблю тебя. Но мне пока неизвестно, чем ты живешь, о чем мечтаешь, о чем сейчас пишешь. Мне хочется все о тебе знать.
– Ты охотишься по ночам? – неожиданно спросил я.
Чайка оторопело остановилась.
– Что?..
– Вот видишь, – сказал я, – а говоришь, что понимаешь меня.
Чайка растерялась.
– Да, но при чем тут? Какая охота?
– При том, что ты вовсе не Чайка. Ты мудрая-премудрая сова. Иногда, правда, ты бываешь растрепанным воробушком. Или воробушкой. Как сегодня. Полчаса назад.
– Господи, – облегченно вздохнула Чайка. – Как ты меня напугал. Я такая дуреха: все воспринимаю впрямую. Мне подумалось, не принял ли ты меня за колдунью или шишимору.
– Конечно, принял, – рассмеялся я. – Ты самая лучшая шишимора на свете.
– Ладно, – согласилась Чайка. – Пойдем скорее. Как бы моя мама не натворила чего-нибудь без меня. Она непредсказуема. С ней может случиться, что угодно.
Мы ускорили шаг. По улицам Города стал носиться злобный, пронзительный ветер, завывавший в подворотнях, словно в трубах. Я обнял Чайку для ее тепла, и вскоре мы добрались до нужного дома.
Это была облезлая трехэтажка с отвалившимися от стен кусками белой штукатурки, на месте которых зияли черные дыры. Дом навевал тоску и думы о первых поселенцах столицы горя и страданий. Следы разрухи и неприютности бросались в глаза даже ночью, слабо озаренные тусклым светом подслеповатых фонарей.
– Вот здесь мое гнездо, – с горечью сказала Чайка, когда мы поднимались на второй этаж. – Только прошу тебя: ничему не удивляйся и не придавай значения. Делай вид, что все нормально. Что все так и должно быть, как есть.
Мы прошли длинным и душным, источающим тошнотворные запахи, коридором с общей, семей на пять, кухней и уперлись в деревянную, цвета жухлой травы, дверь.
Чайка, чуть помедлив, словно на что-то собиралась, негромко постучала. С внутренней стороны раздались шаркающие шаги. На пороге появилась косматая, неряшливая женщина в тапках на босу ногу, в неправильно застегнутом, запачканном пищей, халате, отчего одна пола его была выше, другая ниже. От нее исходил запах аммиака, смешанный с запахом всех бродячих псов Желтого Города. Она смотрела на меня, не мигая, розовыми подслеповатыми глазами. В руках у нее была свечка, хотя в комнате горел свет.
– Это мой друг, – объяснила меня Чайка. – Он прилетел из Москвы, и некоторое время поживет у нас.
Мать придирчиво, как мне показалось, оглядела мою личность с ног до головы острыми, нервными глазами, потом взяла пуговицу на моей куртке, давно державшуюся, откровенно говоря, на честном слове, и без труда оторвала ее прочь, выговорив дочери хриплым гортанным голосом:
– На вот, пришей. Совсем не смотришь за мужем. В кого ты такая уродилась, черт тебя знает. – И пошаркала в свою дальнюю комнату. Но перед дверью обернулась: – А ты проходи, Витя. Чего стоишь. Я селедки нажарила. Поешь, Витя. Ольга, она не соображает ничего. Одним чаем живет. А ты, Витя, мужчина. Тебе питаться нужно. Устал, небось, землю ковырять?
– Идите спать, мама. Мы сами разберемся, – терпеливо и мягко сказала Чайка.
– Ну-ну, – посомневалась косматая мама и вдруг улыбнулась, обнаружив редкие остатки зубов: – Только разве ты разберешься?
Наконец, дверь за матерью закрылась. Чайка вздохнула, и я понял, как тяжела и безрадостна была ее жизнь. Как, должно, неприютно, тоскливо и безысходно чувствует она себя дома, будучи совсем одинокой.
Ощутимая тяжесть легла мне на плечи. Я снова обнял Чайку, подумав, что, возможно, случившаяся с ней трагедия, гнетущее противоречие с семьёй взамен подарило ей крылья и особо чуткую ко всему окружающему душу.
– Люби меня, – сказала Чайка. – Так хочется, чтобы кто-то тебя любил. Одно время, я была еще девочкой, во мне жила по-женски теплая, но больная зависть к Деве Марии. Я мечтала зачать от святого Духа. Теперь понимаю, это шевелилось ожидание тебя. Если ты будешь любить меня, я рожу тебе дочку, Веточку.
– Почему Веточку? Какую Веточку? – испугался я.
Чайка засмеялась.
– Это имя такое – Вета. Веточка. Разве ты не знал?
Я облегченно вздохнул.
– Веточка. А что? Красиво. С маленькими почками на груди. Как у тебя.
– Да, – улыбнулась Чайка. – Ты хочешь?
– Конечно. Я буду любить ее как тебя. А может, и больше. Что бы ни случилось.
– Что может случиться? – в никуда спросила Чайка. – Разве разлюбишь? Или понравится другая. Ты же ветер. Ты гуляешь на просторе и волнуешь сине море.
«Ёжик» снова пробрался в меня и толкался внутри горячим носом.
Чайка зажгла свечи и погасила свет. И вдруг на одной из стен туманно и тонко, словно в дымке, появился ее автопортрет. Тело было полуобнажено, в волосах запутались цветы одуванчиков. Тут она была той нежной семнадцатилетней Афродитой, которую я видел на берегу океана. Легкий розовый цвет красил ее плечи и грудь. На портрете Чайка была прекрасной юницей. Здесь она казалась вечной.
«Вышла из мрака с перстами пурпурными, Эос», – это Гомер сказал о ней, подумалось мне. Вот почему я не заметил портрета при свете дурацкой казенной лампы. Конечно, Дакини должна была выйти из мрака. И вышла. Чтобы ослепить меня. Я не мог оторваться от портрета. Но сама Чайка почему-то обиделась.
– Раздевайся и ложись. Ты даже не взглянул на меня, когда я сбрасывала одежду.
Чайка уже лежала под одеялом, разметав по подушке облитые ярким янтарем свечей шелковистые волосы.
Подобострастно и неловко я присел на край кровати, только и сумев вымолвить: «Ах, Чайка моя, Чайка»!
– В кармане твоего пиджака есть фотография, – вдруг сказала она. – Дай мне ее.
Нет нужды говорить, я вздрогнул в очередной раз, потому что действительно – рядом с костяным путником в кармане забыто лежала моя армейская фотография, врученная напоследок бывшей женой в аэропорту перед отлетом в Желтый Город.
Я достал снимок и протянул Чайке, не спрашивая ни о чем, так как начинал понемногу привыкать к ее причудам и тайному зрению.
Чайка слегка приподнялась, оголив худенькие плечи, вертикально перехваченные тонкими кружевными полосками ночной рубахи, внимательно всмотрелась в карточку. Затем встала в рост, бросив на стену большую, громоздкую тень, и сшагнула на пол. Быстрым движением взяла спички, которыми зажигала свечи, и воспламенила край снимка.
Фотография сначала медленно, а затем мгновенно и целиком вспыхнула в алых пальцах Чайки. Она подбежала к форточке и выбросила листочек пламени в воздух.
Я безмолвно наблюдал за происходящим, понимая, что за всеми действиями Чайки кроется особый смысл.
– Она заговоренная, – объяснила свой поступок Чайка и, видя, что до меня не совсем доходят ее слова, добавила: – Твоя бывшая жена при помощи кого-то закляла фотографию. С этим заклятием она верила, что рано или поздно ты к ней вернешься. А я не хочу тебя отдавать, Ветер. Ты – единственный, кем и для кого я могу жить. Считай меня эгоисткой, колдуньей, вздорной сумасбродкой, но я не хочу тебя отдавать. Не хочу!
Чайка подошла и обвила мою шею руками.
– Разве только ты сам скажешь мне, что уходишь. Я не стану тебя осуждать: ты – ветер и сам не знаешь, где будешь завтра. Куда пошлет тебя Наблюдатель. Просто тогда я тоже улечу куда-нибудь. Навсегда.
– Эта фотография несла бы тебе только беды и неудачи, с которых, кстати, и началось твое путешествие. Вспомни! Пир с пограничниками, а потом потеря всего. Карточка была заговорена на полный провал, крах и крушение устремлений. Твоя слепая жена не учла только, что на пути может появиться кто-то зрячий. В остальном, ею все было задумано верно. Вместо белого коня ты вернулся бы в Москву на старой кляче. Разбитый, нищий и больной. И вот тут бы она тебя обогрела и снова, бедненького, поставила на ноги. Тогда бы ты уже от нее никуда не делся. А может, просто потешилась бы над твоей горемычной судьбой. Так что запомни, на свете есть силы, способные управлять даже явлениями природы, в частности, такими, как ветер. Теперь, надеюсь, тебе понятно, что твоя супруга не зря приезжала на аэродром, чтобы проводить в дальнюю дорогу. Сейчас ты в безопасности, и дальше все у тебя будет хорошо, милый. Поверь мне. Чайка знает, о чем кричит.
– Честно говоря, – сказал я, пораженный, – мне иногда становится с тобой страшновато. Тебе все известно: что было, что есть и будет.
– Я не могу знать все. Особенно то, что касается нас с тобой. Иначе жизнь потеряла бы смысл. В этом и заключается мудрость Смотрителя. Но теперь, мне кажется, будет все хорошо. Просто Учитель открывает иной раз для меня тайную дверь в совсем другой мир, в котором обзор гораздо больше. Тогда я замечаю то, чего не видят другие. Мне думается, это связано с моим страшным детством, унылой, одинокой юностью, с огромным железобетонным крестом, который я тащила на себе всю жизнь. Поэтому, я думаю, Наблюдатель и взялся опекать меня. Я постоянно слышу Его присутствие. Учитель движет моими мыслями, шагами, крыльями. Вот почему, ступая по воде, я не проваливаюсь, а летая, не разбиваюсь о скалы. Знаешь, я даже чувствую – Он благословляет нашу близость. И уже готовит чистую Душу для будущей дочки. Или сына.
Мы помолчали, обнявшись, ощущая приближение чего-то таинственного и прекрасного.
Свечи тихо и призрачно освещали снизу живой портрет Чайки, и мне показалось, что она вот-вот сойдет с него.
– Если Он подарит нам, – сказала задумчиво Чайка (она теперь сидела в ночной рубахе среди застывших волн одеяла, как лилия в белом пруду). – Если Смотритель…
– Он обязательно… – сказал я. – Он не может не подар…
– Иди ко мне, – сказала она.
Я подошел и положил руки на плечи Чайки, на худенькие костяшки, на которых она всю жизнь несла жуткую, тяжеленую ношу.
…И настала ночь. Долгожданная, крылатая ночь. Она тепло и нежно приняла в свои объятия, радушно впустила к себе, в ласковую темень, зыбко освещаемую желтым заоконным фонарем.
Я успел услышать лишь дробный бег будильника по столу. Дальше все звуки исчезли, затонули в шуме нашего полета.
Широкая радость покаяния тронула меня своею веткой. Словно легкий бриз дальних дрожащих струн прокатился по мне.
Мы с Чайкой играли друг на друге, будто на невидимых чутких инструментах, вздрагивая от неожиданных созвучий, и вслушивались в них, как в новоприобретения. Прогибаясь и постанывая от восторга.
Нас плавно несло по долине, и мы трогали все растения и цветы, попадавшиеся на пути.
Я нашел губами набухшие почки грудей Чайки, не переставая при этом плыть пальцами по шелковой коже, угадывая округлый живот и упругие бедра.
Я проваливался в мягкую траву ее душистых волос и, выныривая, нырял снова, исступленно повторяя одни единственные, заполнявшие всю мою суть слова: «Я люблю тебя»!
И снова припадал к груди Чайки.
А рука уже нашла чуть жестковатую, курчавую травку ее лобка, ее маленького вселенского треугольничка, и Чайка содрогнулась с кошачьим извивом и счастливыми судорогами:
– Боже! Как хорошо! Неужели так будет всегда?
Я поцеловал кончик ее уха.
– Теперь так будет всегда. До самых березок.
– Растяни эту прелюдию, чтобы я в ней растворилась без остатка, – попросила Чайка.
Растянуть прелюдию, сознаюсь, было нелегко: я слышал, как уже кипит и вздрагивает во мне кровь, ощущал, как дрожат руки, и что-то натужно рвется во внешний мир. Но пообещал.
И тогда Чайка, не спрашивая, влекомая лишь порывом желаний, сама начала целовать меня: лицо, шею, грудь и ниже… пока ее маленькие, сухие ладони крепко не обняли мой орган, мой изнывающий, жесткий ствол.
Я почувствовал осторожные, обжигающие прикосновения Чайкиных губ, ласковое движение языка и острый, но тоже осторожный обхват зубов.
Мне показалось, я умираю. Или уже умер. Во всяком случае, все, что происходило, осуществлялось в некоем другом мире, другом измерении, под властью иных сил, не связанных с сознанием. И только подсознание тихонько хихикало где-то внутри. Но всему этому не было названия. Да и существует ли оно вообще?
Всепроникающее божество – Дакини, которое изобрели и о котором знали лишь древние индусы – властвовало над нами во всю свою силу.
Наигравшись, и достигнув какого-то своего предела, Чайка, наконец, горячо выдохнула:
– Иди ко мне!
Я вошел в нее со всей страстью истомленной плоти. Неистово, жадно, безумно, то взлетая, то проваливаясь в бездну. Это был шторм, в котором меня бросало из жизни в смерть, и в новое рождение. Я перешагивал в другой мир и проваливался в вечный полет. И снова возвращался.
Когда же моя раскаленная лава низверглась в Чайку, она горько и отчаянно заплакала.
– Что ты? Что с тобой? – испугался я.
– Я не могу! – исступленно рыдала Чайка и горячие слезы падали мне на плечо. – У меня не получается. Я не кончаю. Как только подступает то, что испытал сейчас ты, и что, естественно, должна испытывать каждая женщина (так я думаю), перед моими глазами вырастает отец с ружьем в руке. Такой, каким он был, когда стрелял по чайкам. Понимаешь?
Я содрогнулся, но все понял. Я понял, что в подвалах разума Чайки с малых лет стоял, стоит и еще, возможно, долго будет стоять человек с карабином. Это он одним пьяным выстрелом пересек ее нервную систему. Потому-то Чайка и не достигала того, чего должна была достичь. В ней жил палач, приговоривший ее к отрицанию мужчины. Не зря Чайка хотела дочку, а не сына. Я осознал, что Наблюдатель не случайно свел нас и сделал так, чтобы я все понял. Мне нужно было спасать Чайку. Я любил ее и не мог предать, бросить, отвернуться. Нужно было увести Чайку еще дальше, в долину, чтобы она позабыла обо всем, и ее распятое тело исчезло из вида.
Успокоив Чайку поцелуями, я начал все сначала. Я решил довести ее ласками до того состояния, когда Чайка забылась бы полностью, а ее желание, ее неутоленная жажда сорвала пудовый замок, и жизнь хлынула бы в нее, как в открытые шлюзы.
Я целовал ее волосы, целовал, едва касаясь губами, шею, грудь, живот, спину, руки. И начинал все заново, шепча о своей любви. Затем все повторялось по обратному кругу. Наконец, под моими поцелуями Чайка снова заплакала. Но это были слезы упоения и счастья. Она позвала меня к себе, но теперь я не спешил. Я снова целовал ее трепетно и нежно. Дышал Чайкой, как морским ветром, как синим воздухом над океаном. Я упивался ею, словно редким цветком. Нашим домом был Дом в океане.
И настал момент, когда Чайка закричала, чтобы я вошел к ней. Я вошел и был тем, кем был от рождения – огнем. И Чайка достигла.
Она крепко обняла меня и прошептала: «Теперь у меня есть знание. Я вся распахнута».
Так, обнявшись, мы уснули до утра, забыв про былые горести и печали.
Утром я проводил Чайку до библиотеки, где она работала.
Мы вошли в прохладное помещение с устоявшейся тишиной и плотным запахом книг. Ровные, почти до потолка, стеллажи строгими рядами стояли позади служебного стола – рабочего места библиотекаря, то есть непосредственно Чайки. Перед столом, как положено, тянулся от стены к стене барьер мореного дерева с небольшим проходом внизу для персонала.
В то утро персонал состоял из двух человек: седовласой педантичной старушки в очках, в темно-синем платье с белым воротничком, – видно, заведующей библиотеки и, собственно, Чайки, надевшей для соответствия должности рабочий синий халат, который придавал ее виду особый шарм. Так, во всяком случае, мне казалось. Тем более что под этим строгим халатом ощутимо угадывалось во всей своей наготе прекрасное тело Чайки, еще час назад сводившее меня с ума.
Интеллигентная старушка учтиво поинтересовалась, не хочу ли я записаться, и какого рода литература меня интересует. С таким же учтивым наклоном головы я ответил, что, разумеется, первым же неотложным делом по прибытии в Город была для меня запись в библиотеку. Что же касается рода литературы, я сказал, что меня по большей части интересуют книги о животных, путешествиях и любовно-приключенческие романы, предпочтительно, отечественных авторов. Например, Тургенева, Толстого и Достоевского.
Старушка, не отпуская вежливой улыбки со своего педантичного лица, покрытого сеткой мелких морщин, одобрила мой выбор, поправив меня лишь в части того, что у названных мною авторов произведения более философические, нежели просто любовно-приключенческие.
– Это ничего, – сказал я. – Философия тоже греет мне душу, начиная от стоиков до самых последних мистиков.
– Ну что ж, – согласилась заведующая, слегка задумавшись и уронив на мгновение благочинную улыбку – Я полагаю, у нас вы найдете для себя все необходимое. А поможет вам Олечка – наша сотрудница, – указала она на Чайку и скрылась в своем кабинете.
Я важно протянул Чайке руку.
– Тогда давайте знакомиться. Владлен Постепенский. Прошу любить и жаловать.
Чайка закатилась звонким рассыпчатым смехом, так что начальственная бабушка высунулась, недоумевая, из своего кабинета.
В это же утро на вахту в причальной избе снова заступил Север. Он встретил меня в тельняшке, морском картузе, с веником и совком, полным рыжих окурков.
– Наблюдаешь, как палубу загадили, сволочи, – добродушно пожаловался смотритель бухты. – Вот и пускай их, паразитов.
– Наблюдаю, – посмеялся я. – А что сделаешь, такая публика.
– Да, – вздохнул Север. – Одно слово – сухопутка.
В сей же день я тщательно допросил начальника строительных работ Сысоева Игоря Сергеевича, и он, потея и вытирая лоб платком, дал, как мне показалось, сбивчивые показания относительно всех отрицательных и положительных сторон производственной деятельности коллектива на означенном производственном участке. Но чего-то он явно не договаривал, мой прораб, и это меня настораживало. Однако я подробно зафиксировал в блокноте откровения Игоря Сергеевича, затем вывел его наружу, непосредственно на объект, и сфотографировал на фоне строящегося причала с захватом океана.
С выпученной воробьиной грудью, вскинутой головой, тронутым сединою хохолком Сысоев имел вид величественный, державный и чем-то здорово смахивал на Суворова. На второй снимок поместилась его бригада вместе с начальником старой пристани, бывшим морским волком – Севером.
Затем я вернулся в причальную избу, присел к окну и погрузился в долгое созерцание моря. Передо мной была Вечность, чей голос звучит и в тишине, и в громе, и в шуме дождя.
Я сидел долго, но вдруг сквозь вечность тишины и тихого шарканья веника Севера Ивановича пробился хрипловатый голос прораба.
– Диспозиция, значит, такая, – решительно сообщил командующий текущим строительством и выложил передо мною на подоконник чертежи, сметы и проекты будущих построек. – Чего-то я сразу постеснялся, – признался Игорь Сергеевич. – Но должен вот что сказать. По-моему, Геннадиевич, они тут затевают какое-то темное дело. Поверь мне. Не первый год сапоги об стройки рву.
– Темное, говоришь, – сказал я и взял в руки красочные проекты, где на суше, вокруг самой пристани, значились: административное здание, экстравагантный ресторан, бассейн, финская баня, казино, какие-то ангары и прочие сомнительные объекты, ничем и никак не названные. Сам же длиннющий причал представлял собою странное изваяние, напоминавшее школьный пенал, в боковых створках которого спокойно могли разместиться и складские помещения неизвестно для чего, и солидный бар, и даже просторные гаражи.
– Ты понимаешь, наше дело, конечно, какое, мать их, – выразился командарм, – мы уже давно перешли на «ты» и на простой рабочий язык. – Есть проект, гроши, план, тогда чего: клади да ложь. И вся песня. Кстати, сваи еще в прошлом годе заколотили, ну и перекрытия, понятно, площадки на них подъездные кинули. Все, как предписано. Только для чего все это? Не пойму я, честно говоря. Монте Карла какая-то. Казино, главное. Нужно оно простому рыбаку? Чего-то тут не то, Геннадиевич. Да и деньги на все, какие брошены. С ума сойти. Помнишь, бонзов пузатых, которые тут по берегу гуляли? Вот, может, они для каких-то своих интересов затеяли всю эту дребедень. Это как раз очень может статься по нашим временам. Я лично так догадываюсь: гаражи – под японские машины, склады – для рыбы, икры, крабов. А может, здесь и золотишком пахнет, наркотиками. Словом, дело темное, Геннадиевич. Я чую. Так что ты московскими мозгами прикинь, что к чему. Проверить все нужно, а может, и обратиться куда следовает.
– Ладно, Сергеевич, – встревожился я. – Ты пока не суетись. Держи язык за зубами. И ни с кем своими домыслами не делись, упаси тебя Бог. Дело, похоже, тут действительно пахнет керосином. Ты бдительный человек и честный. Но не суйся пока, куда не нужно. Игра, может быть, очень опасная. Береги себя. Валяй Ваньку, «клади и ложь». Я постараюсь все проверить. И запомни: разговора у нас с тобой не было. Мне придется на время исчезнуть и придумать что-нибудь, если все действительно так, как ты говоришь. Суда к причалу уже подходят?
– Подходят, разгружают чегой-то. Прямо в нижние помещения. Только ж у них охрана. Близко не подберешься. Перегружают с борта, сам понимаешь, на борт. На другие катера, на машины, и – поминай, как звали.
– Ну вот что, Сергеевич, – снова предупредил я. – Ходи могилой. Строй ресторан, баню. Обо мне слыхом не слыхивал. Ну, мол, был какой-то прохиндей, говорил, что писатель. Да сгинул, черт его знает, куда. Бомж, скорее всего. Переночевать-то надо где-то, вот и наплел форсу с три короба. А русский мужик, он ведь проще репы: выпей да ложись. И вся песня. Да и какой он писатель! Бомж, и все тут. Его и не видел больше никто потом. С тобой, Игорь Сергеевич, я свяжусь, когда нужно будет. Понял меня? – Командарм кивнул. – А то нас совместно быстро раскусят и подвесят, знаешь, небось, за что.
– Знаю, – пригорюнился прораб. – Кстати, завтра здесь будет Главный инженер. И, между прочим, чуть не забыл сказать: во внутренних помещениях причала трудятся наемные бомжи, безработные и прочие бесцельные люди. Во-первых, дешевая рабсила, а во-вторых, им, бомжам, наплевать, кто там и чего замышляет. С ними заключают официальные договора на определенный срок. Вроде бы за хорошие деньги. Они и живут там все это время. В Город не выходят. Но куда этот народ девается по истечении срока – никто не знает. Наших работяг туда не пускают. Кумекаешь, как хитро задумано?
– Это интересно, – сказал я, почуяв какой-то охотничий азарт. – Очень интересно.
Быстро сфотографировал документы и, нахлобучив фуражку на глаза, вышел из избы.
Север колол во дворе дрова, и я рассказал начальнику моря всю историю: ему я мог доверять, к тому же предупредил, как и Игоря Сергеевича, чтобы он вместе со своими постояльцами помалкивал, а если что – меня видел всего лишь однажды. И то – с пьяных глаз. Друзей своих разгони на время к чертовой матери под любым предлогом. Чтобы и духа их не было. Понял меня?
– Понял! – кивнул Север. – Я в тебя верю. Ты наш, морской человек. У тебя, случаем, из родичей никто в моряках не был?
– Дело не в родичах сейчас, Север Иванович. Ты мне скажи, есть у тебя в лесу укромное местечко, где бы я мог пожить некоторое время. Ну и ружьишко не помешало бы. Дело, видишь, серьезное.
– Есть, – шепотом сообщил Север. – Но сведу я тебя туда завтра, после смены. Ружье имеется. Карабин. Штука надежная. Сам знаешь. Ну и харчишек кое-каких соберу на первое время. Ждать меня будешь утром, в десять. У Лысой сопки. Ховайся за камнями. Если все нормально, я стану свистеть про Черное море. Известна тебе такая мелодия?
– Слышал, – сказал я и похлопал Севера по плечу. – Спасибо, капитан.
После информации прораба, в которой я не сомневался, мне действительно нужно было действовать. И чем скорее, тем лучше. Но с чего начать, я пока не мог взять в толк. Подкатиться к Главному инженеру было рискованно: он сам мог числиться членом банды. Да и документы, надо думать, у него все были в порядке. Таким образом кроме переполоха, усиленных мер предосторожности, а вполне возможно, и гибели прораба, – иначе от кого бы я получил информацию! – я ничего бы не добился. Кроме того, за спиной Главного инженера наверняка стояли мафиози повыше рангом. Не для себя же Главный строил казино, сауну, бассейн, ресторан с девочками и мордатыми охранниками.
– Думай, – сказал я себе. – Думай и ищи тех, кто реально мог бы разгромить все это змеиное логово.
У меня словно бы начался период большой спячки, в которой, однако, мысли не гасли, а напротив – пылали, как факелы. Пока что я имел два надежных заслона, две базы поддержки. Это – Валентин в Москве и те пограничники, с которыми я подружился в гостинице, и которые обещали любую помощь. Существовала еще надежда на прокурора. Но Бог его знает, кто был этот прокурор, и кто за ним стоял. Кому он непосредственно подчиняется, прокурор. И все-таки я решил пока не торопиться. Иначе всех можно было спугнуть, а Игоря Сергеевича просто потерять. А с ним – и Севера Ивановича. Да и себя, впрочем, тоже. Но самое главное, все бы осталось на своих местах.
Например, документы. Откуда я мог что-либо знать о них, получить подробную информацию? Понятно, сразу высвечивался прораб, Игорь Сергеевич. За ним – Север Иванович, какие-то прихожане. Словом, вся цепочка.
Впрочем, были громкие сообщения в прессе о чудесном преображении Города. О строительстве, например, культурно-развлекательного и спортивного комплекса с одобрения и поддержки самого мэра – Владлена Георгиевича Величко. И даже – губернатора области. Ну, и прочая чепуха. Можно было, конечно, сыграть и на этом. Но вся игра с информацией, вполне очевидно, держалась на зыбком песке.
Перед закрытием библиотеки я зашел к Чайке, однако вид мой не вызвал в ней ни радости, ни счастья.
– Что-то случилось?
Пришлось и для Чайки распахнуть всю историю на полную катушку.
– Господи! – воскликнула она. – Я так и знала. Понимаешь, я все знала. Только не придавала этому значения. Когда летала над пирсом, думала, зачем это они в торце причала сделали для катеров такой треугольный въезд, чуть ли не на четверть судна, въезд, отороченный резиновыми шинами. Теперь понимаю, что на боковинах подходящего транспорта имеются выкидные двери-трапы, по которым можно быстро разгрузить все необходимое внутрь причала. Но я боюсь, Ветер. Я теперь боюсь всего, что касается нас с тобой.
Я погладил ее по голове.
– Птичка моя дорогая. Не нужно в жизни ничего бояться, если знаешь, что вынимаешь, – пусть даже голыми руками, – добро из огня. Пойдем к Семену. Мне требуется проявить пленку и сделать фотографии официальных документов строительства. А ты сегодня с высоты полета снимешь камерой ночного видения все секретное, что сочтешь нужным. Рабочих, грузы, охрану, людей в каютах катеров.
Я твердо посмотрел Чайке в глаза.
– Нельзя, чтобы убивали птиц. Так или нет?
Она опустила голову.
– Хорошо, я сделаю все, что ты хочешь. То есть, я хотела сказать: все, что нужно. Я могу даже тихо подойти по воде к причаленным судам и записать на магнитофон все, о чем они говорят наверху. Но откуда камера?
Я обнял Чайку.
– Даже не знаю, как бы я жил без тебя. До тебя меня вообще не было. Честное слово. Только умоляю: будь осторожна. Предельно осторожна. А камеру хорошие люди оставили на память. Пограничники.
Чайка улыбнулась.
– Что мне может грозить? Я же буду Духом. Совершенно бесплотным Духом.
У Семена, к счастью, нашлось все необходимое: он учил сына фотографировать.
Я осуществил идею справедливости: сделал нужные снимки. Но это было лишь начало.
Вечером, когда начало темнеть, мы с Чайкой сели в автобус и доехали до ближайшей сопки. С нее-то, потемну, снаряженная необходимой аппаратурой, она и спорхнула в синюю темень, решительно и сухо поцеловав меня на прощание в щеку. Я видел лишь, как Чайка взмахнула руками и растворилась в тлеющих, словно уголь, огнях Города, у подножья которого и хоронился таинственный причал.
Я сел на камень и поднял ладони к черному небу. Затем соединил их и коснулся макушки, желая, чтобы вся скверна, былая и настоящая слетела с меня. И совершил поклон Наблюдателю.
– Господи! – произнес я. – Душа моя, сердце мое, душа и сердце Чайки принадлежат Тебе. Войди в них. Будь с нами. Помоги нам, ибо мы совершаем благое дело. Огради нас от всего злого и неправедного. Прости заблуждения, ошибки. Дай нам руку в трудный час. Спаси и сохрани Чайку. Аминь.
Я много чего еще говорил Наблюдателю о себе, о Чайке, о нашей с ней любви друг к другу и к Нему, создателю Всего. Просил и снова просил о милости к нам. Я не чувствовал ни холода, ни голода, потому что тоже парил над землей. Иногда мне казалось, что вот-вот наступит утро, но звезды все также ровно горели над землей, а море тихо пело где-то внизу мягкими губами нежный блюз.
Не знаю, сколько я пребывал в таком состоянии, словно отделившись от тела, и все витал над ним, как над темным фиолетовым идолом, над тем скифским изваянием, которого когда-то, в детстве, очень боялся.
Я просил Наблюдателя простить меня за все недоброе, что я мог совершить в своей жизни, простить и вытравить из меня пять смертоносных ядов: похоть, гнев, лень, зависть и эгоизм.
Таким образом, я очищался и был где-то рядом с моей Дакини, с моей Чайкой.
Я вымаливал Наблюдателя простить мне мою гордыню, ибо знал, что, как сказал пророк Давид: «Господь гордым прогневится, а смиренным даст благодать». Почему-то я верил в это.
С другой стороны, размышлял я, как можно в данной ситуации быть смиренным, когда перед тобою на чьих-то костях и крови пляшет сам Сатана. Однако я пришел, чтобы вершить суд. Но имею ли на это право?
«Не суд ты пришел вершить, а действовать ради справедливости. Для спасения людей от смерти и от страшных грехов алчности, – сказал мне из кармана костяной, мудрый путник. – Это разные вещи. Не путай ни себя, ни других. Не гляди на волну. Смотри на весь океан. Для этого нужно иметь мудрость и силу. Когда тебе предстоит что-либо совершить, говори: «я хочу», а не «я должен». Торжествует всегда истина. Ложь – никогда».
Неожиданно я услышал над собой тихий шелест, словно бы слабый ветер коснулся спящих деревьев, и вскоре рядом со мной очутилась Чайка. Она вся дрожала.
– Ты совсем озябла, – испугался я и плотно обнял Чайку, чтоб она скорей согрелась.
– Я не озябла, – сказала Чайка. – Это отход от прежнего состояния. Когда я летаю или хожу по воде, то «задуваю свечу», и меня не существует. Понимаешь? Происходит угасание всех чувств и страстей. Остается лишь моя сконцентрированная, незримая оболочка. Мой Дух. Но потом снова приходится возвращаться. А переход из одного состояния в другое влечет за собою вот такую дикую дрожь. Но ты не волнуйся. Это сейчас пройдет.
Наконец, Чайка стала «согреваться». Дрожь утихала, а вскоре прекратилась совсем.
– Возьми, – сказала Чайка и протянула камеру ночного видения, подаренную мне когда-то гостеприимными пограничниками и маленький, со спичечный коробок, магнитофон. Эту покупку я позволил себе еще в Москве.
– Это ужасно, – тяжело вздохнула Чайка.
– Да, – сказал я. – Наверное.
– Ты себе не представляешь, как это все ужасно. Просто отвратительно.
– Нет, – согласился я. – Не представляю.
– На магнитной ленте материала мало. Даже не столько мало, сколько он, по большей части, просто пошлый, грязный и, в принципе, несущественный. Хотя, наверное, твои друзья разберутся лучше. Тут разговоры о сексе, о деньгах, дешевые песенки, плеск коньяка, поцелуи, вздохи, стоны, крики вожделения, словом, прости меня, сплошная дрянь. На некоторых судах – настоящие бордели. А вот на видеопленке – поинтересней. Знаешь, кого мне удалось заснять через иллюминаторы кают? Заместителя мэра, главного инженера строительства с молоденькими шлюшками, кое-кого из милицейского начальства и городской Управы. Куча денег на столе и все для этого случая причитающееся. Я имею в виду дорогой коньяк, закуски и прочее. Кстати, девчонки не наши. Я их в Городе не видела. Осторожные… начальники, – произнесла Чайка с сарказмом. – Вот такие дела, Ветер. Ты оказался прав. А вернее, прораб твой – Игорь Сергеевич. На складах причала – икра, крабы, трубач и рыба, начиненная золотом и наркотиками. Это я увидела внутренним зрением. Кроме того, японские автомобили, компьютеры и оружие в некоторых процессорах. Откуда, как они туда доставляются, пока не знаю. Думаю, перегрузка идет в море по ночам. Потом катера подходят к причалу и перебрасывают весь криминальный товар на склады. Внешне – все очень пристойно. Оргтехника, бочки с рыбой и все. Ничего запрещенного. На всю продукцию – соответствующие документы с солидными подписями. Видишь, как все просто. Бочки маркированы. На тех, где есть зашитые золотые рыбки, наклеены маленькие китайские иероглифы, означающие «желтый песок». В клешнях крабов – тоже золото. Здесь иероглифы переводятся как «желтый краб». Рыба и крабы, нашпигованные наркотиками, имеют на себе китайские закорючки, переводящиеся как «дух». Причем, золотых рыбешек, – в основном, кета, горбуша, – не более пяти, десяти в бочке. Попробуй, отыщи их среди пятидесяти или ста штук. Вот такие фокусы природы, Ветер. Охрана серьезная. Все вооружены. Так что дело ты затеял, как теперь говорят, крутое.
– Ладно, – сказал я, призадумавшись. – Разберемся.
Хотя и понимал: тут потребуется целая армия. Да и действовать нужно было быстро, оперативно и жестко.
– Пойдем домой, – предложил я. – Ты совсем устала и все-таки продрогла, как меня ни утешай разными там перевоплощениями.
У нее дома, пока Чайка готовила ужин, а мамаша пела что-то невразумительное из своей комнаты, я сел за стол и стал снова думать. Значит, и главный инженер, и зам. мэра, может, и сам мэр, – почему бы нет? – в одной команде. Возможно, что и губернатор получает от этой веселой деятельности какие-то дары… В каком качестве – я, конечно, не мог себе представить. Это требовалось проверять и проверять. Но и за ними мог стоять кто-то еще. У меня, честно говоря, руки чесались. Я чуть было не схватил лист бумаги. Да, все у них отлажено. Погрузка-разгрузка в море. Хитроумные подходы к причалу. Автофуры. А дальше – грузовые самолеты, необходимые разрешения за высокими подписями, штампы – все в их руках. О каком-то криминале никому и в голову не могло прийти. Ловко. Ловко и широко. Но кто-то же есть самый главный среди них. И он-то, наверняка, в Москве. А над ним, вполне может быть, кто-то, кто, возможно, еще дальше Москвы.
Я почесал затылок. Задачка была с десятью неизвестными.
Почему-то вспомнилась ничья собака, которую я приютил на вечер перед отлетом в Желтый. Вспомнились ее грустные, даже печальные глаза. Похоже, она все знала наперед, эта бедная, ничья собака. Потому и смотрела на меня, как в последний раз. А может, и вправду – в последний? Уж больно в глубокую ямку ты провалился, Олег Геннадиевич. Поверит ли тебе после всего Валентин? Поверят ли Валентину? И чем смогут помочь пограничники? У них свое начальство. А вдруг это начальство в дружбе со всей мэрией, губернатором? Скажут – клевета. Наглая журналистская клевета. И все. И останешься ты один против целого мафиозного войска. Что тогда?
– Буду биться, как Робин Гуд, – сказал я в запале и стукнул кулаком по столу. – Стану громить их по одному. Да так, что они в страхе сами начнут себя истреблять. Тут важно лишь разработать тактику.
И вдруг я рассмеялся. Громко и неудержимо. Я стал похож на отца, у которого никогда не иссякала масса потрясающих, фантастических идей.
– Ладно, – сказал я. – Нужно немного подождать.
Чайка принесла ужин и положила передо мной листок с китайскими иероглифами.
– Вот это, – объяснила она, указав на крючки древней цивилизации, – означает «желтую рыбу», то есть, как я тебе уже говорила – рыба с золотом. Кстати, я подумала, золото они могут скупать по дешевке у бродячих мойщиков драгметалла. Даже делать им заказы, а потом скупать. Это, – ткнула пальцем Чайка в другие закорючки, – желтый краб. Тоже золотой. А вот и наркотики. Просто и непритязательно – дух. Есть много пустых бочек. Только с морепродуктами. В этом и заключается весь хитрый смысл всех партий товара. Опознать ценную тару можно только по китайским маркировкам. Соображаешь, как хитро придумано даже с политической точки зрения. Мол, не Япония, не Сингапур, не Индия, не Индонезия, – хотя дешевое золото могут везти именно оттуда, – а дружественный Китай.
– А ты откуда китайский знаешь? – вдруг удивился я.
Чайка улыбнулась.
– Сосед был китаец. Такой морщинистый, как кора дерева, старик. А я любила рисовать. Чертить на песке всякие каракули. Вот он от нечего делать, и научил меня кое-чему.
– Да, – вздохнул я. – Ты действительно – Дакини. Всепроникающее Божество. Я люблю тебя, Чайка, – добавил я и обнял ее. – Люблю, ты даже не знаешь – как.
– Политика – это мерзость, – задумчиво произнесла Чайка. – Я ненавижу политику. Особенно в период выборов. Театрализованный спектакль. В котором каждый все знает. Но те, кто выдвинулся, опьянено дрожат: а вдруг – Я. Вдруг Господь, который выше бытия, снизойдет и укажет на меня пальцем. И тогда… они закрывают глаза и словно видят Божье сияние. Они, в большинстве своем, млеют, но не оттого, что принесут какую-то пользу в совершенствовании мира для блага людей. Они млеют оттого, что смогут иметь яхты, деньги, женщин и рыб, начиненных золотом. Они действенны, потому что это для них «яркая заплата на старом рубище певца». Другими словами – слава. Они на самом деле презирают певцов, художников, музыкантов. Грохот дешевых оркестров, площадные вопли, снова рев, от которого воздух начинает пахнуть гнилью. Вот, кто такие выдвиженцы. Они будут действовать и днем, и ночью, не сознавая, что их действия лишь прореха в совершенстве бездействия, страшный пробел в истинном обращении к Богу, которое и есть – Покой.
В девять утра я появился на пороге заспанной Анжелы Ивановны. Она была огорчена и раздосадована тем, что вышла ко мне в неприглядном, как она считала, виде: старенький халат, растрепанные волосы, не накрашенные губы и прочий неосуществленный до конца макияж. Но под напором моих улыбок, комплементов и просьб немедленно отправиться в редакцию, чтобы послать в Москву по факсу сообщение чрезвычайной важности, довольно быстро сдалась.
Вскоре я уже печатал Валентину следующее послание: «В Желтом орудует настоящая, очень серьезная мафия. Корни, возможно, ведут в столицу. Предмет оборота – оружие, икра, крабы, рыба, начиненная «левым» золотом и наркотиками. Факты достоверные. Подтверждение – тщательная проверка и мое полное ручательство. Нужна бригада спецов. Профессионалов. Чем скорее, тем лучше. Дело требует крайней оперативности. От этого зависят человеческие жизни. Твоих людей я найду в Центральной гостинице под видом группы поэтов. Желательно, в течение ближайших трех дней. Верь мне, несмотря на мою глупую оплошность в самом начале командировки. Дело весьма сложное, опасное и ответственное».
Такую же примерно почту я отослал на погранзаставу своим друзьям-пограничникам, предупредив, что от них поначалу требуется лишь присутствие, потому что дальше они будут работать под началом оперативников из Москвы. Я просил их тоже поселиться в Центральной гостинице в качестве группы, скажем, санэпиднадзора. Об остальном узнают в свое время. Им мною назначались те же три дня. К экстренному сообщению прилагался Московский телефон Валентина. Для подтверждения и уверенности начальства.
Все. Мне требовалось расстегнуть воротник, так как от напряжения стало жарко.
Муж Анжелы Ивановны в тот день снова канул в тайгу, поэтому она посчитала, что имеет право сесть мне на колени и одарить долгим сладострастным поцелуем. Что она и совершила.
Наконец, я осторожно отстранил ее и в знак благодарности нежно погладил по голове.
– Ты – чудо, – сказал я. – Где я был раньше?
В десять я сидел у лысой сопки. Мне не пришлось ждать долго. Север Иванович появился из-за огромного валуна и был похож на рыбака-инвалида, так как сильно хромал. Одет он был соответственно, по-рыбацки. Резиновые сапоги, хаки куртка, рюкзак, за спиной – чехол с удочками.
Остановившись недалеко от меня, он огляделся по сторонам и стал громко насвистывать про свое любимое Черное море.
Я вышел из-за камня.
– Что с тобой? – спросил я, имея в виду раненую ногу.
– Посклизнулся через ту чертову медузу, – ругнулся Север. – Сидела б себе в океане, жевала водорослю. Так нет же, выползла, как нарочно, прямо под ноги. Я, конечно, и сковырнулся через нее коленкой об каменюку. Ну ладно. Пройдет. Первый раз, что ли? Пошли. Тут есть одно укромное место. Пещера. Про нее мало кто знает. Я завсегда там останавливаюсь, когда на рыбалку хожу. Главное, перед ней, перед той пещерой, густой кустарник растет. Сразу и не найдешь, где вход. А внутри – хорошо. Сухо, тепло. У меня там на всякий случай все припасено. И дрова, и фуфайки, и одеяла, и картошка, и котелок. Даже рыба вяленая на веревке висит. Словом, полный морской порядок. Не будь я Север. Кстати, я вахтенный журнал тебе захватил. Пустой. В запасе имелся. С авторучкой. Думаю, вдруг захочешь написать чего-нибудь. Что пользы без толку сидеть. Правильно? Тем более высовываться тебе пока никуда не нужно.
Я поблагодарил Севера Ивановича.
– Ты прямо провидец какой-то.
– Да ладно, – отмахнулся Север. – Чего там. Дело понятное.
– Дойти-то сможешь? – спросил я, так как мы стали подниматься на взгорье сопки.
– Дохромаю. Уже недалеко. Там отдохнем. Позавтракаем. Ты меня перебинтуешь, потому что в «Таверне» – так я окрестил эту катакомбу – у меня даже весь медиментарий имеется. А как же иначе? Понимаешь такую чепуху?
– Понимаю, – сказал я и перевел его руку на свое плечо.
Вскоре мы действительно очутились перед густой чащей кустарника, словно нарочно посаженой Севером Ивановичем для полного сокрытия входа в «Таверну». Я подумал, что никогда бы не догадался о тайной пещере. Сто раз прошел бы мимо и остался ночевать на берегу океана. Но это я. Кто я был такой для пустынных, диких мест. Так – прохожий путешественник. Без опыта и зоркого глаза. Север же прожил тут тысячу лет и, конечно, знал каждую тропку, каждый куст, каждое дерево. А на медузе споткнулся, усмехнулся я про себя. Вот так в жизни и бывает. Все под Богом ходим. Кому – сосулька на голову, кому – шальная пуля, а кому – медуза под пятку. А ведь мог же мой проводник стукнуться виском о камень. И все. И нес бы я бездыханного Севера Ивановича на плечах аж до самого порта. Пока не свалился бы сам. Потому что так был воспитан неведомо даже кем, скорее всего, армейской, боевой дружбой и потому, что таковы были здешние таежные законы.
У Севера Ивановича в его «Таверне» все было оборудовано «по уму». Были стеллажи с запасами еды: консервы, крупа, сушеная рыба. Накрытый железной крышкой, стоял бачок с питьевой водой. Так я и забыл спросить, откуда он его приволок. Были запасные удочки, какой-то инструмент: топор, пила, молоток, гвозди и прочее. В одном углу – куча нарубленных дров для костра, в другом – доски, выловленные Севером, скорее всего, из моря среди прибрежных валунов после шторма. Было кострище, выдолбленное в скальной породе посреди пещеры. Кострище, как крупные черные бусы, окружали специально подобранные для общего тепла округлые камни, тоже, видно, принесенные с берега хозяином пещеры.
Имелся стол, сколоченный из тех самых, штормовых досок, слегка закопченная керосиновая лампа с алым цветком пламени внутри и широкая лежанка, собранная опять же из путешествовавшего где-то, но потом просушенного и оструганного дерева.
На одной из стен «Таверны» красовался даже какой-то старый календарь, обозначавший цифрами два давно уже улетевших года. Но дело было, конечно, не в цифрах, и не в канувших, как осенние листья, годах. А в том было дело, что цифры на календаре располагались на фоне солнечного, лазурного моря, словно на волнах единственной, прекрасной жизни. Это, понятно, и привлекло Севера в первую очередь.
Я перебинтовал Северу ногу из «медиментария». Здорово все-таки рассадил он себе колено. Однако Север Иванович не переживал, сообщив, что дома у него имеются сушеные еловые иголки да некоторые лечебные корни, и что через те иголки с корнями в виде отваров с примочками он послезавтра уже забудет, на какое колено свалился.
Далее Север вытащил из чехла с удочками охотничий карабин и с особой серьезностью вручил его мне вместе с мешочком патронов.
– Штука боевая, – сказал он, указывая на оружие. – Но все равно не вылазь, пока не прибудут твои. Чайку предупредил, чтобы она не совалась больше на причал? Береженого бог бережет. Сам знаешь.
– Предупредил, – сказал я, но что-то остро кольнуло меня в сердце. – Оповестил, мол, несколько дней меня не будет. Отлучаюсь по делам.
– Ладно, я за ей пригляжу на всякий случай, – пообещал Север. – А ты отдыхай. Пиши себе на здоровье. Руки-то, небось, соскучились? Да и в уме тоже какая-нибудь интересная каша уже закипает. А, Олег? – улыбнулся Север.
Я обнял его, просто не зная, как благодарить иначе.
Мы недурно позавтракали печеной картошкой, рыбой и солеными огурцами, появившимися в свое время из рюкзака Севера Ивановича. Затем он икнул, хлопнул себя по ляжкам, символизируя, видимо, морской порядок и стал собираться в обратный путь. Провожать себя Север запретил. Он хоть и отчаянный был моряк, но осторожный.
– Послезавтра загляну. К вечеру. Побалакаем, – пообещал Север и скрылся на выходе, в чаще кустарника.
Я взял карабин, осмотрел его, вдавил обойму из десяти патронов и, загнав один в патронник, поставил оружие на предохранитель. Затем спрятал карабин в удобное для возможной опасности место. Потом достал из походной сумки толстую записную книжку, куда уже давно привык записывать разные мудрые мысли, изречения великих и скромные собственные заметки. Подсел ближе к лампе и открыл свой кондуит на первой странице. Неведомо, когда, в какие далекие годы, моей рукой там было начертано: «Великая Родина, все духовные сокровища твои, все неизреченные красоты твои, всю твою неисчерпаемость во всех просторах и вершинах – мы будем оборонять. И не только в праздничный день, но в каждодневных трудах мы приложим мысль ко всему, что творим о Родине, о ее счастье, о ее преуспеянии» (Художник, поэт, публицист, археолог, философ, директор художественной школы – Николай Константинович Рерих).
– Да, – сказал я. – Будем оборонять.
И подумал, что три дня терпения – не пять лет Великой Отечественной. Нужно ждать. Просто ждать и дождаться.
Но я не дождался. Вернее сказать, не вытерпел смотреть на мигающий язычок огня в лампе, как на красную бабочку, прилетевшую в «Таверну» из другого мира.
Я пробрался сквозь кустарник и очутился лицом к лицу с Его Величеством Океаном. Свежая струя ветра, словно одна из незримых рук окружающего мира, теребила мои волосы. Океан в этот день был тих, покоен и молчалив. Синий лик его, будто в зеркале, отражался в безоблачном небе. Неожиданно я вспомнил, что такое же ясное синее небо было в то теплое утро, когда мы с Максом, моим старым другом, художником, проснулись на соседних деревянных лавочках в парке Подмосковного города Жуковского.
Первое, что я увидел над собой, расплющив глаза, было что-то фиолетовое, тонко пахнущее, свисавшее прямо на глаза. Это была ветка набухшей, но еще не распустившейся полностью сирени.
Стоял май. Прекрасный май недавней, казалось, юности. В конце аллеи уже висело румяное солнце, золотя бездонный купол небес и коротенькую, мушкетерскую бородку Игоря.
– Просыпайся, Максютин, – сказал я. – Мир полон красок, а твои кисточки мокнут, как приговоренные, где-то на столе и тоскуют по работе.
– Какая работа, – тяжело сказал Макс, не открывая глаз. – Сейчас нужно либо пиво, либо путешествие. Мы, помнится, собирались вчера к твоему институтскому товарищу в Кишинев. Он выпускает книгу стихов, но кто, кроме меня, ее проиллюстрирует? С другими картинками это уже будет другой Виктор Чудин. Он у меня, можно сказать, вырос на руках. Я, может быть, его, если хочешь знать, грудями кормил.
– Так чего же ты лежишь?
– Вспоминаю и думаю.
– Что вспоминаешь?
– Как заехал вчера к тебе. Как отмечали мы в парке всю ночь исключительный факт принятия меня в Союз Художников. Гитару твою вспоминаю. Песни. Клево было.
– А думаешь о чем?
Макс наконец открыл глаза.
– Думаю?.. – Он помедлил с ответом. – Думаю о том, где можно в пять утра взять денег на бензин?
– Ну и где же?
Макс рывком поднялся и встал на ноги.
– Решили ехать – надо ехать. Ничего нельзя откладывать на потом. Потом – вещь очень зыбкая. И хрупкая, как спичечный домик. Дунешь – и нет его.
– Ты посмотри на себя, – сказал я, улыбаясь.
– Что такое? – спросил Игорь, оглядывая слегка помятую одежду.
– Ты весь блещешь и сияешь. В тебе еще искрится вчерашнее «Шампанское».
– Пошли, – твердо сказал Макс. – Есть одна идея.
На углу улицы мы остановились у телефонной будки.
Макс набрал номер. Трубку долго не поднимали. Игорь терпеливо ждал. Наконец, сонный женский голос проговорил:
– Господи! Пять утра. Кто это?
Было хорошо слышно, потому что пустынные улицы еще спали, досматривая последние сны.
– Таня, – сказал Макс, – положи руку на сердце и скажи честно, не кривя душой: ты – художница?
– Ты паразит, Макс, – с жестяным шелестом прозвучало в трубке. – Таких паразитов еще поискать.
– Танюша, – спокойно, врастяжку проговорил Игорь. – Я тебя в предпоследний раз спрашиваю: ты – художница?
– Художница! Художница! – как на пытке закричала подружка Макса. – А ты, наверное, пьян, если звонишь в такую дикую рань.
– Я совершенно трезв, Татьяна, – сказал Макс. – Просто я приглашаю тебя в путешествие до Кишинева и обратно на моем чудесном «Кадиллаке» марки «Жигули». Отечественное производство. Лучший в мире автомобиль. Такое предложение бывает раз в жизни. Это, представь себе, больше, чем банально – позвать тебя, например, замуж. Прокатиться просто так через пол страны… Кому сказать – не поверят. Короче, одеваешься мухой, берешь денег на всю поездку, потому что мы пропились со всем Союзом Художников вдрызг. Потом сочтемся. Через пять минут мы с Олегом ждем тебя у подъезда. Машина уже подана. Поняла?
– Поняла, – уже спокойнее ответила Таня.
Мы выбрались из телефонной будки. Закурили. Машина, на которую Игорь имел доверенность от отца, уехавшего в санаторий, действительно была уже подана, так как никуда и не отбывала с того места, куда Макс по-джентельменски доставил вчера вечером Таню после праздника домой.
– Эй вы, обормоты, привет! – раздался радостный голос откуда-то сверху.
Мы задрали головы. Облокотившись на перила балкона второго этажа, стояла Таня в ночной рубашке – сияющая, облитая весенним солнцем.
– Спускайся, ангел, – сказал Макс. – Крайне мало времени. К тому же у нас болят две головы, и нам нужно движение, чтобы их насквозь продуть и освежить.
Таня сладко и пружинисто потянулась, подняв руки вверх, так, что нам стали видны ее голубые трусики, и скрылась в комнате.
– М-да, – сказал Макс. – Путешествие начинается.
Через пару минут Таня вышла из подъезда в джинсах и белой пушистой кофточке. В руке она держала небольшую дорожную сумку. Сунув Максу кошелек, Таня открыла заднюю дверь и рухнула на сидение.
– Езжайте. Я буду досыпать. Пока ничего интересного не предвидится. Выберетесь на трассу, разбудите.
– Вселенная – есть движение. Вращение, подобное сбиванию масла. Когда оно будет сбито – всему настанет конец. Наступит период покоя. Потом произойдет толчок новой энергии, и все возобновится снова, – глубокомысленно произнес Макс. Так из него выходил хмель. – Поэтому нужно спешить, – добавил он. – Но не спеша. – И повернул ключ зажигания.
– Господи! – сказал я, стоя над обрывом, плавно стекавшим по сопке к самой воде моря. – Вот Океан. Небо. Солнце. Какой Храм еще надобен человеку?
Таню мы разбудили уже за Тулой. Небеса неожиданно просыпали на землю сверкающий золотой дождь. Лента дороги стала черной, а по бокам ее начали вырастать мокрые, распустившиеся тут, южнее Москвы, сиреневые сады, если не сказать – леса. Они были ничьи, эти сады. Никто не огораживал их заборами. Кусты были похожи на большие, застывшие фиолетовые, лиловые, розовые, белые костры, вольно вдыхавшие весеннюю, позолоченную солнцем влагу.
Трасса пошла вниз, и мы стали догонять какой-то старенький, кряхтящий грузовик, на лавках которого, подставив себя «слепому», теплому дождю, тесно сидели колхозницы, исключительно в белых платочках.
В приоткрытые окна нашей машины ворвался нежный запах цветов и мокрой травы.
Макс не стал обгонять грузовик, остро вглядываясь в обветренные, веселые лица молодых женщин. Наблюдая за ним сбоку, я спросил:
– Закидываешь сети?
– Как не закидывать, – зажегся он. – Ты только погляди: начищенная, как сапоги макаронника, дорога, обалденных цветов сирень и посреди – иконные лица теток в белых платочках на грузовой доходяге. И зеленые поля, и та дальняя лимонная роща. Тут тебе все: Врубель, Петров-Водкин, Левитан. А вон и шоколадные лошади на лугу.
– Да, мужики, – задумчиво произнесла с заднего сидения Таня. – Это надо писать.
– О чем и речь! – воскликнул Игорь. – Конечно, писать, Танюшка! Обязательно! А пока вбирай все мелочи, все подробности, все цвета и выражения лиц этих крестьянских мадонн. Ну, не жалеешь, что пустилась в путешествие?
– Да ты что! – горячо откликнулась Танюшка. – Всю жизнь мечтала.
– Значит, художница, – констатировал Макс. – А говорила: пять часов. Несусветная рань. Кто рано встает – тому Бог дает. Так или нет?
На какое-то мгновение мне показалось, что весь Океан до самого окоема покрылся чудесными сиреневыми кустами. У меня зачесались руки. Я пробрался в пещеру, сел к столу и открыл чистый вахтенный журнал, принесенный Севером.
Передо мной лежала желтая разлинованная страница, на которой я аккуратно вывел название новой повести. За этим названием лежало все: наше давнее, стремительное движение на юг, где обитали мои герои: Макс, Танюшка, приблудившийся к нам отшельник-Мишка, поэт Виктор Чудин, дремучие экологические партизаны, которые приняли нас за диверсионный отряд, заражавший окрестный скот ящуром, и многое другое, о чем мне хотелось рассказать, тем более что однажды мы все вместе чуть было дружно не погибли на повороте одного Утеса-Великана. И тем более что передо мной тогда разгорелась печальная и нежная, как ветка сирени, любовь отшельника-Мишки и случайной жительницей степи, приютившей нас на ночь. Но это была уже совсем другая история. За ней я потерял время и очнулся лишь, когда начали слипаться глаза.
Я прикрутил в лампе фитиль, на котором в такт моим бегущим строчкам только что танцевала алая бабочка огня, и в полумраке, освещаемом, как глазом циклопа, дотлевающим кострищем, добрался до лежанки Севера Ивановича. Тут, весьма кстати, обнаружился вполне упитанный матрац, и я, укутавшись в душные телогрейки, пахнувшие морем, бензином и рыбой, мгновенно провалился в черную, не имевшую никаких сновидений тьму. Последнее, что успел унести с собой – был спокойный, бархатный шепот волн.
Проснулся я поздно. Часы показывали одиннадцать. Значит, и заснул, надо думать, уже далеко за полночь.
Я поднял голову и оглядел каменную берлогу. Впереди, словно там была занавеска, колыхался прикрытый кустарником выход из пещеры.
Я выбрался наружу, вдохнул сырой воздух океана и, сладко потянувшись, совершил утреннюю зарядку, к которой привык с юности. Она издавна наполняла меня бодростью и силой на целый день. И не только физической.
Море в тот день слегка волновалось. По сопкам ползла влажная тревога. Небо было затянуто войлочно дымящейся облачной массой, похожей на волчью шкуру.
Я, тем не менее, прогулялся по окрестности, собрал немного брусники для чая и вернулся в «Таверну». Так, или примерно так поступали, вероятно, мои далекие предки-кроманьонцы, жившие тридцать тысяч лет назад. Собирали поутру ягоды, коренья, целебные травы, рассаживались вокруг костра и пили перед охотой таинственный отвар из какого-нибудь магического сосуда. Глядели на лики первобытных божеств, начертанных на стенах пещер, и, возможно, произносили с горящими глазами первые молитвы, вверяя себя духам и теням покровителей.
Я разжег погасший костер, и яркий свет стал брызгать по сторонам пещеры, сопровождаемый громким треском пересохших сучьев. Поставил на огонь чайник и, вооружившись фонарем, стал исследовать стены каменной берлоги Севера. Однако, кроме вздрагивающего под танцем костра, слюдяного блеска кварцита с золотыми вкраплениями колчедана, ничего не обнаружил. И вдруг в самом углу, низко над полом, проявилась едва заметная надпись, словно человек писал лежа, да и то слабой рукой. Надпись была сделана угольком. На большее, видно, не было сил. Она гласила: «Время пришло. Нужно уходить! ОН сказал мне это изнутри. Вспоминайте меня, но без скорби. Я обрету покой. Надеюсь на милость. А тебе, дорогой друг, суждено снова возводить что-либо на пепелище, и душа твоя будет обожжена разорением и грехами нашей дорогой родины. И пороками всего человечества. Иван Чайка».
Я застыл перед этой скрижалью, как соляной столб.
– Господи! – вырвалось из меня. – Что это?!
Не слишком ли много совпадений и мистики? Кто был этот Иван Чайка? Почему снова – Чайка? Как он сюда попал? Для чего? Без причины не бывает следствия. Куда ушел? Когда все это было? Не предвестие ли – эта надпись?
Я провел по строчкам пальцем, и они вдруг исчезли, словно их никогда не было. Лишь тусклые слюдяные вспышки с золотыми крупинками сернистого колчедана. Эта стена, как, впрочем, и другие, напоминали космос, озаряемый из-за моей спины нервными, порывистыми и горячими сполохами костра.
Тучная, плотная тревога, как некое живое существо, заползла откуда-то извне и заполнила всю тайную обитель Севера Ивановича.
Я сел к столу, зажег лампу и провалился в глубокую бездну между временем и пространством. Помню лишь, был шелест, похожий на шелест листьев при сильном ветре. Потом я понял, этот шум исходил из моей головы.
Сидя на обыкновенном табурете, сколоченном Севером, скорее всего из морских досок, и глядя на легкую дрожь пламени за стеклом керосинки, я будто летел куда-то, так никуда и не улетая. На мгновение мне показалось, что Я – маленькая биологическая клетка – медленно присоединяюсь к безгранично-огромной клетке-душе всего мира, среди которых мои родные, близкие, далекие, предки, друзья, знакомые, все женщины и мужчины, звери, рыбы, птицы, весь мир, вся вселенная, которая и была Богом. Моим постоянным Наблюдателем. Так произошла наша первая встреча. Во всяком случае – мне на мгновенье так показалось.
В пещере круглые сутки царствовал вечер. Или ночь. Особенно если горел костер.
Я сидел и слушал шелест листьев и дальний шум океана. Неожиданно из этого внешнего шума и слюдяных бликов гранитных стен родилась Чайка. Глаза ее были цвета такой темной сирени, которую мы с Максом видели, подъезжая к Курску в нашем памятном путешествии. Цвет этот разительно контрастировал с пепельно-русыми волосами. Легкой поступью, такой же, какой Чайка передвигалась когда-то по воде моря, она прошла по залу «Таверны» с истинно королевским величием. «И, как амброзия, дух божественный пролили косы»… Так сказал о ней Вергилий. Теперь я знал, кого имел в виду древний поэт. Своими движениями она напоминала богиню, ту, которая стала моей живой иконой. Так, видно, захотел Наблюдатель. Он играл, делая из нас кого угодно. Что ж, Создатель, конечно, имел на это право.
Подойдя ко мне, Чайка присела на вторую, такую же, как у меня, морскую табуретку, подала мне сухую маленькую руку, и мне почудилось, будто я взял крыло птицы, ощутив легкое бархатное пожатие.
Лицо у нее было небольшое и скорее округлое, чем худощавое, с грубоватым в бликах костра румянцем на щеках. Рот чувственный, но волевой. Губы алые, влажные, чуть приоткрытые для слов или поцелуев. Подбородок небольшой, твердо вырезанный. Густые льняные волосы, разделенные темным пробором пополам, как всегда ниспадали на плечи. Талия у нее была тонкая, а грудь – высокая и упругая – казалась еще выше, благодаря глубокому дыханию. Голубое атласное платье, которого я раньше никогда не видел, было с большим вырезом, открывавшим точеную мраморную шею и приподнятые полушария груди.
Да. Чайка походила на Богиню, ради которой можно погибнуть, не сожалея ни о чем. Для меня она была сейчас воплощением Той, кому люди молятся и взывают о прощении и милости.
Но вся ее красота крылась в глазах. Я неожиданно обнаружил это, несмотря на немалое время нашего знакомства. Обнаружил, когда Чайка решила сделать цветок пламени в лампе чуть больше. Она слегка повернула плоский железный вентиль, и алая бабочка огня вспорхнула, затрепетала яркими крыльями. Зажигая лампу сильнее, Чайка чуть нагнулась к ней, и я почти полностью увидел ее склоненную грудь, но веки были опущены. Потом, когда цветок зримо расцвел внутри стекла, она подняла голову и посмотрела прямо на меня. Я вдруг впервые оценил, что глаза у Чайки темно-сиреневого, глубокого цвета, в какой солнце, бывает, красит на закате полоску неба весенним, свежим вечером. Однако что-то еще было внутри этих прекрасных губительных глаз, что-то таинственное и невыразимое. У меня словно отнялся язык. Я не мог сказать ни слова. Лишь чувствовал, что глупо краснею. Во рту пересохло. Я понимал, что никогда не смогу разгадать тайну глаз Чайки. Это было равно тому, как если бы я вдруг увидел наяву глаза Джоконды. Воровские и обольстительно сумасшедшие.
Грудным, мягким голосом, который, мне кажется, я буду помнить и в других мирах, Чайка сказала:
– Тут у тебя славно. – Она огляделась по сторонам, словно желая еще раз удостовериться. – Да, славно. Очень славно. Рукой можно потрогать Покой и Вечность. Я так рада, что ты здесь. Здесь можно обрести знание и достичь…
Я провалился сквозь время и пространство еще глубже.
– О чем ты? Я ничего не понимаю, – сказал я голосом, донесшимся до меня из бездонного колодца.
– Две птицы сидели на одном и том же дереве, – медленно произнесла Чайка, глядя, как трепещут краплаковые крылья огня в лампе. – У каждой из них были золотые перья. Сидевшая наверху была безмятежно спокойна, величественна и утопала в своем собственном блеске, тогда как сидевшая внизу трудилась без устали, то и дело поклевывая плоды дерева, иногда сладкие, иногда горькие. Вкусив особенно горького плода, она взглянула вверх, на свою величавую подругу. Однако, вскоре вновь стала по-прежнему клевать плоды дерева, позабыв о сидевшей наверху птице. И опять случилось ей отведать горького плода. После этого она вспорхнула и очутилась на несколько веток ближе к своей подруге. Это повторилось несколько раз, и таким образом она, наконец, добралась до того места, где сидела ее подруга. Как только она достигла ее, то моментально утратила сознания своего «Я». В тот же миг ей стало ясно, что никогда не было двух разных птиц, что это она сама была той горней птицей, безмятежной, величественной, утопающей в собственном блеске.
– Я иду сквозь твою притчу, как лодка сквозь туман. Хотя понимаю, правда, смутно смысл твоей мысли, – сказал я. – И видишь, уже не спрашиваю, как ты попала сюда.
– Вот и хорошо, – ответила Чайка. – Не трать много слов. Попытайся почувствовать дух, затаенный в глубине твоего «Я». Тогда, может быть, Наблюдатель откроет тебе Истину, которая и есть знание. Все остальное – неведение. Все, что надлежит постигнуть – это Бог, ибо ОН – все. И истина, и знание, и поток энергии, наполняющий тебя силой над всеми силами, с которыми, между прочим, ты вскоре столкнешься, приняв от них очередное проклятие. Зло везде и всюду проклинает Добро. Потому что, как ни крути, а все-таки оно слабее, так как в основе Зла живет кажущееся, – мнимое «Я» – тело. Жадное, алчущее, ненасытное. Затем – ментальное «Я», ошибочно принимающее тело за самое себя, что приводит к ослеплению. Но против них существует третье начало – Добро, Любовь – которое и есть Бог, незапятнанный, свободный и всесильный. Скажи мне, что тебя сейчас волнует? – неожиданно спросила Чайка.
Мне пришлось открыться.
– Я совершенно растерян, – сознался я. – Мне никогда не приходилось иметь дела с бандитами. Просто не знаю, с чего начать. На кого положиться. Единственное, что я могу – написать разгромную статью с фотографиями, документами. Статью, основанную на конкретных, ужасающих фактах. Тогда этим вурдалакам никуда не деться. Не успеют. Не смогут уничтожить все в один день. Честно говоря, я сижу здесь в ожидании профессионалов, настоящих ребят, примерно таких, с которыми я когда-то вместе воевал. Но у меня зудят руки. Так хочется написать статью.
– И тут же получишь пулю в лоб. Зло не терпит, когда вмешиваются посторонние. Тем более журналисты.
– Но пойми, тогда уже преступление будет раскрыто. Все бандиты сядут на скамью.
– Во-первых, не все, – возразила Чайка. – Останутся самые главные. И «братки», которые вполне могут отомстить. Убить – не убьют, потому что не знают, чем ты располагаешь еще. Какими документами, фактами и так далее. Но страдания можешь принять по самую макушку. Статья должна появиться, когда уже хорошенько поработают твои ребята. Они же дадут тебе дополнительный, более широкий материал. Вот тогда возьмешься за перо. – Чайка посмотрела на меня взглядом не прощающим, но просящим прощения. – И ради меня, ради Бога не думай о славе. Это искушение, которое принесет скорбь. Куст из леса ошибок. Со многими шипами. А пока жди, Олег, и поразмысли о том, что я тебе сказала. Породнись с духом, затаенным в твоем «Я». Когда придет час, Наблюдатель сам тронет тебя за плечо. Можешь не сомневаться. Возможно, за этим Он и забросил тебя сюда.
Я вздохнул и закрыл глаза ладонями.
– Твоими бы словами…
Так прошло некоторое время полной тишины, если не считать ревматического похрустывания веток в костре.
– А Иван Чайка был первой, подстреленной моим отцом, птицей, – услышал я бархатный голос моей дорогой птахи.
Когда я убрал ладони с глаз, Чайки уже не было.
«Сложная штука – жизнь», – подумал, достал своего костяного спутника и поставил рядом с тихо горящей лампой.
«Есть три вещи, которые нужно перешагнуть, прежде чем ты окажешься на свободе, – чуть слышно произнес бородатый философ. – Первая налагает на нас цепи, в коих мы ищем знания и счастья. Вторая опутывает оковами желаний, третья сжимает вследствие ложного миропонимания и лености. Поэтому сначала нужно уничтожить оба низших начала силою первого стремления, а затем предоставить все Наблюдателю. Тогда ты окажешься на воле».
– Мудрый ты, мудрец, – сказал я. – Но куда прикажешь деть любовь к Чайке! Ведь это даже не желание, а некий светлый поток, который течет из самого сердца. Без него, без этого потока, не нужно мне никакой свободы.
Путник вздохнул и устремил свой проникающий взгляд вглубь пещеры, туда, где, быть может, хранилась Истина или незримо сидел сам Господь, сияя невидимым светом.
Я лег на кушетку, на голый матрац, и предался размышлениям о том, какой резонанс могут иметь мои правозащитные действия. Конечно, если все пройдет, как задумано, будет сенсация, бум, взрыв вулкана, который сожжет многих из тех, кто оплел этот город паутиной мерзости и зла. Меньше всего, правда, мне хотелось думать о том, что после написания статьи я могу стать этаким национальным героем, отважным правдоборцем, о коем станут говорить и слагать народные песни. Этого мне действительно не хотелось. Но и в тени остаться – тоже не получится. Хотя, признаюсь, роль победителя грела изнутри. Во всяком случае, Чайка уж точно стала бы мною гордиться. Впрочем, что лукавить, без таких поступков мир просто заплесневел и покрылся бы гнилью. Так было во все времена от начала бытия. Были подлецы, негодяи, но были и те, кто боролся с ними и побеждал, порою – ценой собственной жизни. К слову сказать, я никогда не занимался ничем подобным столь открыто, как собирался поступить сейчас. Но теперь, лежа на деревянных нарах среди замызганных фуфаек, я понял под дальний шум океана, что смогу это сделать и налился решимостью.
Вскоре вахтенный журнал капитана причальной избы стал покрываться быстрыми, нервными строчками будущей статьи. То рождались первые наброски. Но я уже видел весь материал в целом.
Ближе к вечеру послышался шорох кустов. Сквозь них явно кто-то пробирался.
Я схватил свои записи, выдернул из-под матраца карабин, задул лампу и спрятался за выступом пещеры, недалеко от входа.
Через некоторое время в светлом проеме «Таверны» появилась осторожная тень человека. Тень остановилась, словно вглядываясь в темноту.
Я напрягся и положил указательный палец на курок. Вдруг то, что было тенью, знакомо кашлянуло, и я узнал Севера Ивановича.
– Ты бы хоть посвистел про Черное море, – сказал я. – А то крадешься, как злыдень. Я мог и пальнуть, между прочим.
– Это верно, – согласился старый моряк. – А ты чего, из пугливых, что ли?
– Из осторожных.
– Правильно, – одобрил Север. – Бдительность – прежде всего.
Мы снова зажгли лампу и сели у стола. Провисло какое-то неожиданное со стороны капитана долгое молчание. Он медленно крутил вентиль керосинки, делая огонь то ярче, то слабее. То вдруг достал папиросу и начал разминать ее в дубовых пальцах, просыпая табак прямо на пол. Потом прикурил от пламени светильника, воткнув свои казацкие усы в стенку стекла. Затем печально посмотрел на меня и вздохнул.
– Что случилось? – спросил я, ощущая, что сердце мое словно положили в морозилку, и оно тихо начало превращаться в ледяной камень. Недоброе предчувствие мгновенно заполнило меня, как едкий дым. Я понимал: все не может пройти гладко. Так не бывает. Воротилы тоже не дураки. Обо что-то рано или поздно они могут споткнуться, насторожиться и действовать. На поражение. Игра с огнем исключала сантименты. Но больше всего я боялся за Чайку.
– Что… случилось? – повторил я.
Север встал. Прошелся по своей гранитной берлоге и вернулся на место. В глаза мне он старался не смотреть, чего раньше никогда не было.
Я помню сумеречную рыбацкую обитель, трепет пламени, плясавший на морщинистом лице капитана, лаковый блеск козырька его фуражки, клубы дыма, поднимавшиеся вертикально вверх над горячей верхушкой керосинки и печально-горестный взгляд Севера, устремленный куда-то сквозь меня.
– Ну! – крикнул я. – Что ты тянешь?!
– Игоря Сергеевича убили, – глухо выдавил из себя смотритель океана.
– Что? – сказал я, ощущая, как некое горькое вещество заполняет пустоту моего тела, где мечется, не находя пристанища, обледенелое сердце.
Север бросил окурок на пол и загасил его сапогом.
– Как это случилось? – бесцветно спросил я, отпустив глаза бродить по неведомому погосту. И жестко подумал: началось.
– Очень просто, – сказал Север. – Кто-то легонько толкнул прораба со строительных лесов. Вроде бы – невысоко. Четвертый этаж. Но ты же знаешь, внизу камни, железки разные. Словом – сразу. И насмерть.
Мы натужно помолчали, размышляя каждый о своем.
– В то утро приходил главный инженер, – продолжил Север Иванович. – Они, главное, с прорабом, – я из окна наблюдал, – ходили по объекту. Чего-то вроде бы мирно обсуждали и вдруг Сысоева, вижу, как с петель сорвало. Ты же его знаешь. Он, чуть чего, молчать не будет. Да, холера. Стал руками махать, вытащил бумажки из портфеля. Тыкал в них пальцем. Даже кричал чего-то, будто он тут самый важный начальник. Главный на него бельмы вытаращил и, смотрю, обомлел весь. А Сергеевича понесло по кочкам. Слюной брызжет. Ногой в грязь топает. В бумажки тычет. В общем, я чую – худо дело. Правда, конечно, о чем они там гуторили – никто ж не знает. Потом гляжу, главный стал на Игоря орать. Тот, понятно, чего-то в ответ. Со стороны, вроде, обычная рабочая перепалка. Но мы-то с тобой знаем, в чем там могло быть дело. Ну вот. Покричали, поорали, охрипли и разошлись в разные стороны. Сергеевич бумажки в портфель затолкал, как в мусорное ведро, ей-богу, и пошлепал – только брызги в разные стороны. Это, я тебе говорю, вчера было. Утром. А после обеда Санька-каменщик в причал до меня залетает, глаза навыкате: «Сергеевич разбился»! Все туда кинулись. Ну что тебе сказать? Лежит, лицо серое. Голова – набок. Из-под фуражки на камень целая лужа крови натекла. Черная такая. Будто сейчас вижу. Но что я тебе, как следователь, должен сообщить: того вонючего портфеля, с которым прораб ни на секунду не расставался, при нем не было. Да и с лесов он сам упасть не мог. Тридцать лет порхал по ним, что воробей, а тут сорвался. Мазута все это. Ну, понятное дело, «скорая», менты. Что да как – а никто ничего не видел и не знает. Все говорят: только что метался здесь и вдруг свалился на самые остряки. Может, сердце. Потемнело в глазах. И все. Был человек, и нет его. И вот еще, – разговорился Север. – Вечером является до меня в дежурку главный инженер. На причале ж, конечно, никого. Я же всю гущу народа разогнал к такой-то матери. От греха. Достает, значит, бутылку коньяка, шею платком вытирает, мол, жарко ему. Давай, дескать, помянем Игоря Сергеевича. Хороший был человек. Дело знал. Жил тут, можно сказать, на стройке. Кем его теперь заменить – ума не приложу. Ну что? Помянули. То, сё. Как дела? Я возьми и ляпни сдуру, а может, со злости. Какие дела, говорю. Дела у прокурора. А у нас так, делишки. Как брызнул он глазами на меня, что волк из логова. Аж в пузе холодно стало, хоть я, ты знаешь, не стеснительного десятка. Правда, главный сразу взял себя в руки. Наливает еще по одной. А что мол, Север Иванович, никого тут в последнее время чужих, прохожих не было? Не заметил ли чего особенного? А то, я знаю, ты – душа добрая, русская, одним словом. Всех приютишь, накормишь, напоишь. А это иногда, скажу тебе откровенно, опасное дело. Вот, погиб Игорь Сергеевич. А мне, чистосердечно признаться, не верится, что он сам упал. Столько лет по этим лесам прыгал и – на тебе. Что-то тут не то, Север Иванович. Да и портфель его с документацией на строительство куда-то пропал. Факт? Факт. Документация – бог с ней. Есть копии. Но портфель-то исчез. Кому он нужен? Тут, я краем уха слышал, писатель какой-то шлялся. И вроде бы – из Москвы. И вроде бы ты его тут даже угощал, развесив уши. Было такое? Ну, ты, говорю, Андрей Андреевич, скажешь тоже. Писатель! Обыкновенный бич, каких тут полным-полно. Ну, зашел человек. Простудивши был. Я, конечное дело, налил ему для сугрева. Его, понятно, развезло. Он и пошел плести, что, мол, писатель. Что книжку хочет написать. И все такое. Выпимши. Какой с него спрос? Да и какой он писатель? Мальчишка. Бродяга. И все. Я говорю: если ты такой писатель важный, на вот тебе бумагу, карандаш. Нарисуй мне стихотворение. На память. Прямо не сходя с этого места. Так он, Андрей Андреевич, пыжился, тужился, двух предложений не написал. Я, говорит, теперь пьяный. Завтра напишу. А назавтра сгинул в отдаление. Никто его более не видел. Да я, Андреевич, если хочешь знать, человека за версту угадаю. Кто писатель, а кто – попутный дурак, грузчик случайный, не пришей рукав. Если бы действительно был какой-либо подозрительный тип, я бы, клянусь морем, тебе-то уж, Андрей Андреевич, в первую очередь сообщил. Не первый год мы с тобой тут за ручку здоровкаемся. Да, говорит, и чешет затылок. А вот Сысоев мне другой намек делал про этого писателя. Ты знаешь, говорю, Андрей Андреевич, хоть о покойниках плохо не говорят, но Сысоева, чего скрывать, тоже иной раз заносило с фантазиями – то вправо, то влево. А почему? «Почему?» – «Потому что все – люди. Понимаешь, такую ахинею? Один прямой. Другой с поворотом. Вот так». – «Да, – говорит. – Может, ты и прав. Дай бог». Однако смотрю, поверил вроде, поскольку рожи наши на этом берегу уже приелись друг другу. Ну и черт с тобой, думаю. Самопроизвольно налил больше пол стакана и делаю предложение: давай, Андрей Андреевич, выпьем, не чокаясь, за то, чтобы упокоил Господь душу трудяги, хорошего человека, отца троих детей, Игоря Сергеевича Сысоева. Выпили. «А как он выглядел?» – спрашивает. «Кто?» – «Писатель». – «Да… – говорю. – Невзрачный такой. Курносый. В фуражке. Волос темный, врать не буду. Морда грязная. Да я его и не разглядывал-то особо. Одно слово – бич. Они все одинаковые. Псиной пахнут».
Север поправил фуражку и прикурил новую папиросу.
– Ну что? Почадили табаком и главный, задумавшись, побрел своим путем. Так что учти, Олег, огонь разгорается не по дням, а по часам. Чайку я отослал сегодня к своим родственникам в Брусничное. Упиралась, как ослица. Не поеду, мол. Должна тут быть. Но со мной разве сладишь! Затолкал в автобус и ручкой помахал.
– А не могли за тобой наблюдать? – встревожился я.
– Что ты! Я, прежде чем к ней явиться, весь город лабиринтами прошел. Остальные братья сидят, как мыши, по норам. А кто в тайгу подался. На рыбалку. Или на поиски смысла. Тебе, думаю, в гостиницу к своим соваться тоже не след. Бандюки теперь, мне кажется, везде свои посты расставили. В гостиницу я направлю Семенову жену. Она как раз в Доме Культуры работает. Кому, как не ей, встречать гостей из Москвы.
– Тем более – поэтов, – добавил я.
– Вот! – обрадовался Север. – Хорошо придумал. Она, Сенькина жена, и назначит вам встречу во Дворце, в укромном месте.
– Тогда слушай меня внимательно и запоминай все точно. Что я тебе скажу – передашь Семену. А он уж – своей жене. Вместе с документами, среди которых – мои подробные объяснения происходящего в Городе. Эти документы, с кассетой и фотографиями, она пусть передаст главному в «группе поэтов». Мне действительно соваться в гостиницу нельзя. Могу погубить дело. Вычислят, и все рухнет. Хотя копии компромата будут лежать вот здесь, в этой расщелине. – Я взял фонарь и показал Северу, в какой именно расщелине. – А теперь полюбуйся на снимки. Ты такое еще не видел.
Север долго рассматривал знакомые лица заместителя мэра, главного инженера строительства, еще каких-то «шишек» из городской Управы, милиции и сказал только одно слово: «Мразь». Затем добавил: «На чем уж там сорвался Игорь Сергеевич, чего сгоряча наплел, теперь останется тайной. Но как ты добыл эти фотки»?
– Потом. Потом, дорогой мой Север Иванович, я тебе все расскажу. Тебя-то не могли они взять на мушку? Устроить слежку, например. Вот сейчас, кто вместо тебя дежурит?
– Ты что же, меня совсем за лоха держишь? – рассмеялся Север. – На причале дежурит военный старичок. Михалыч. Я с ним договорился. А выследить меня никак не возможно. Я тут каждую доску в любом заборе наизусть знаю. В парадное дома зайду, а выйду на другом конце города.
– Ты прямо герой Севастополя, – сказал я.
– А то, – удовлетворенно хмыкнул Север.
– И все-таки будь осторожен. Прошу тебя. Как отца.
– Ладно, – растрогался капитан. – Ладно. Завтра Семенова жена пойдет к твоим «поэтам», пригласит их во Дворец Культуры. Будет назначена встреча с тобой. Об этом я тебя сразу извещу.
Я еще раз проверил в папке документы, фотографии и передал ее Северу Ивановичу. Он спрятал папку под полу морского кителя и застегнул для ровного вида морскую форму на медные пуговицы.
– Все. Жди. Теперь уже скоро, – сказал Север и скрылся в чаще кустарника.
Я взял карабин и вышел наружу, чтобы проследить безопасность движения капитана. Уже темнело, но было еще достаточно хорошо видно и лес, и отдельные деревья, и даже смутные очертания порта вдали. Однако, как я ни озирался, как ни напрягал зрение, Севера Ивановича среди обширного пейзажа обнаружить так и не смог. Он был хитрее любой колымской лисы, и даже, попав в капкан, мог запросто перегрызть себе лапу, как это часто делают лисы в тайге.
Спал я в ту ночь нервно и тревожно. То мне чудились каменные скифские бабы, идущие на меня густой толпой под предводительством главного инженера, такого же пустоглазого цементного чудовища. Он что-то говорил, шевеля тяжелыми губами, но слов его я разобрать не мог. То представлялись похороны Игоря Сергеевича. Смутный свет над лиственницами кладбища, открытый гроб, серое, безжизненное лицо прораба, рабочие с лопатами и вороны, кружившие над пропастью могилы. То врывались в мой зыбкий сон бандиты в черных масках, и друзья-пограничники отчаянно бились с ними в рукопашных боях. То вдруг влетала в пространство сна чайка с человеческим лицом, льняными волосами и розовом оперении. Она садилась на ветку дерева и, глядя мне в глаза, говорила: «В этом мире будь всегда дающим. Отдавай все, что можешь. Не думай о том, как бы получить отданное обратно. Или возместить его. Жертвуй всем и всегда, чем только можешь, и не помышляй о награде. Вся планета – сплошной рынок. Сборище торгующих. Покупающих и продающих. Даёт от сердца своего один лишь Господь. Будь подобен ему и познаешь любовь».
Она снова учила меня.
Потом мое тело словно разделилось на двух близнецов. Один из них – бесплотный и невесомый – прощально взмахнув рукой, взмыл вверх и исчез в неизвестности. Другой, – кем, очевидно, и был я истинный, – тут же провалился в глубокую пустоту без видений и звуков.
Наконец, я проснулся. Ветер, как крыло океана, глухо шевелил листья кустарника на входе в «Таверну». Где-то у меня за спиной.
Я лежал лицом к стене. Еще не открывая глаз, каким-то шестым чувством уловил, что в пещере не один, тем более меня сразу ударил запах дорогих сигарет. Мысли лихорадочно, словно по тревоге, сбивались в некое тугое, ментальное вещество.
Я все понял. Осторожно потрогал пальцами то место, где должен был находиться карабин. Там было пусто. Это исследование поставило все на свои места. Значит, меня выследили. Но сначала, конечно, все-таки выследили Севера. Сам он привести сюда никого не мог. Под любыми пытками. В этом я был больше чем уверен. Я почувствовал затылком, что позади меня сидят бандиты, и сказал себе: медлить нельзя. Нужно было срочно использовать самый крайний, изобретенный мною, вариант. Накануне, на всякий непредвиденный случай, я соорудил из ветоши и случайно найденного целлофанового мешка с гречкой аккуратный пакет, достал из фонарика батарейки с лампочкой, подсоединил их напрямую, подоткнул ветошью и замотал целлофаном. Получилось подобие взрывчатки с постоянно и смутно горевшей внутри лампочкой. Этот пакет я прикрепил к плоскости стола изнутри. Там он должен находиться и сейчас. Его обнаружить бандиты вряд ли могли. Во всяком случае, это была последняя и единственная надежда. Тем более что «гости» почему-то не разбудили меня сразу. Вторая составная пакета лежала, накрытая фуфайкой, у меня под ухом. Я, слава Богу, натрогал ее щекой. Это была детская, электронная игрушка «Тетрис» по складыванию различных геометрических фигур в некое единое целое. Плоская игрушка величиной с ладонь для развития фантазии и логического мышления. Не знаю, чем она привлекла мое внимание в Москве, но я приобрел ее и везде таскал с собой, забавляясь время от времени, – в основном, в транспорте. При включении ее загорался красный огонек, высвечивался бледно-голубой экран, на котором и нужно было конструировать посредством различных кнопок необходимое геометрическое единство. Теперь требовалось собраться, заглушить бешеный топот сердца внутри тела и идти в атаку. Так уже случалось со мной прежде. Я на секунду сжал себя в кулак, произнес мгновенную молитву и медленно, как учила меня Чайка, выдохнул лишний, наполненный страхом, воздух.
Все. Теперь я был готов к действию. Мне не составляло большого труда осторожно продвинуть на пять сантиметров руку внутрь фуфайки, нащупать «Тетрис» и включить красную лампочку начала игры. Затем я неспешно повернулся и сел на лежанке с работающей игрушкой в руке. Лампочка призывно мигала, экран голубел.
То, что я увидел, не оказалось для меня неожиданностью. Двое громил сидели у стола, разглядывая при свете керосинки документы и фотографии из папки, которую я накануне отдал Северу. Третьему, за неимением табурета, пришлось согбенно стоять, со склоненной над чертежами головой. Один из них имел золотые очки, и я подумал, что он – командир в этой группе. Все они были в коричневых кожанках, что навело меня на мысль о единой форме организации. Хотя мысль эта скользнула как предположение.
Север Иванович тоже был здесь. Он сидел, перевязанный веревками, в отдалении, на полу, с разбитым в кровавую кашу лицом. Север взглянул на меня. Взгляд его просил лишь одного – прощения. Что-то он не досмотрел, недоучел, ошибся.
Мне надлежало сыграть роль. Ярко, раскованно, феерически. И в то же время – предельно жестко.
При виде некоего работающего пульта у меня в руках пришельцы опешили. Я сбил их карты, сорвал самоуверенность и поломал сатанински выхолощенный сценарий. Этим нужно было немедленно пользоваться, и я наигранно учтиво спросил:
– Что же вы отвлеклись, господа? Или вы уже все изучили?
Гости замерли. Последовало оглушительное молчание. Но его тоже нельзя было затягивать. И я с той же наглостью продолжил.
– Вот эта игрушка, – указал я на детский «Тетрис», о котором бандиты, слава богу, не имели никакого представления, – нажатием одной кнопки может всех нас дружно вознести на небеса. А тут останется одна сплошная каменная могила. Вот ты, дядя, – обратился я к стоявшему бандиту, – нагни голову и посмотри под крышку стола.
Стоявший глянул на того, кто имел золотые очки, потом снова на меня.
– Я непонятно выразился? – спросил я.
Стоявший нагнулся и посмотрел под стол. Что-то конкретно разглядеть там, я знал, невозможно: свет лился только по верху. Снизу же можно было увидеть лишь очертания пакета с работавшей внутри его от батареек лампочкой. На этом строился весь расчет.
– Руками трогать не рекомендуется, – добавил я. – Можно остаться без рук и без головы. В одной красивой куртке. На голое тело.
Стоявший выпрямился и прибито сообщил очкарику:
– Там взрывчатка.
Второй, сидевший, тоже заглянул под стол для расследования, но, разогнувшись, подтвердил показания товарища.
– Точно, – сказал он. – Этот может подкинуть нас всех сейчас к потолку. Не доглядели.
– Плохо, Миша, – занервничал очкарик. – Очень плохо.
– Вот, – уже спокойно сказал я. «Утка» сработала. – Поэтому, мужики, слушайте внимательно сюда. И запоминайте. Нам с Севером Ивановичем терять нечего. Мы свое дело сделали. Документы, которые перед вами – копии. Оригиналы уже уплыли в нужные места. В местную прокуратуру и даже в Москву. Оперативные бойцы с часу на час будут в Городе. Ваши координаты им известны. Это понятно по фотоснимкам. Поэтому я предлагаю такой мирный консенсус, как говорил Михаил Сергеевич. Или вы, повернувшись к стене, добровольно кладете на стол оружие и, таким образом, остаетесь живы. Или я нажимаю на кнопку Ты как, Север Иванович, не против? – обратился я к капитану причальной избы.
– Гаси их, гадов! – сверкнул очами Север из-под окровавленного чуба.
– Тогда делаем так, – сказал я и резко повысил голос: – Встать! Лицом к стене! Считаю до трех. Как понимаете, у нас тоже другого выхода нет. Раз… – Я сделал небольшую паузу.
Бандиты, переглянувшись, медленно начали подниматься.
– Лицом к стене! – сорвался на крик я.
Гости подчинились.
– По одному – оружие на стол! Крайний справа!..
Как тяжелую кость, очкарик, не поворачиваясь, бросил на стол пистолет «Стечкина».
Босыми ногами я бесшумно подошел к столу и взял его.
– Все оружие! – скомандовал я из другого конца пещеры, где уже освобождал от веревок Севера. – Учтите, Иванович сейчас будет проверять. Тому, кто утаит хоть патрон – пуля. Без всякого суда и следствия.
Очкарик поднял штанину и достал из армейского ботинка еще один пистолет.
Уже более спокойно я продолжил разбойные действия по захвату бандитского оружия, прихватив вдобавок свой карабин. Север заканчивал разматываться от веревок. От основного узла я его освободил при помощи ножа.
Третий тоже положил два пистолета. Я передал их старому моряку и, вытерев пот со лба, бросил на лежанку «Тетрис». О том, что это элементарная «утка», бандитам пока знать не нужно. Наверняка на входе, за кустами, прятались их друзья – страховочная команда. Их тоже необходимо заманить в пещеру и обезвредить. Только тогда можно было считать мою личную операцию законченной. Да и то – условно. Мало ли что могло вспыхнуть на тропе войны?
– Можете повернуться, господа, – пригласил я гостей.
Север уже дохромал до лежанки и восседал на ней, как жестокий каратель, наставив на бандитов оружие.
– Ну, ты молодец, Пушкин, – выразился очкарик. Значит, он уже знал, кто я. Конечно, не без помощи главного инженера. Не поверил-таки он Северу, хитрый лис! – Надо было тебя сразу со шконки сдернуть. Осечка вышла. Дали поспать писателю. Недоучли твоей предосторожности. На свою голову. К нам бы тебя.
– К вам уже не получится, – сказал я, словно сожалея.
Очкарик вздохнул.
– Ладно, Пушкин. Давай договариваться. Ты же культурный человек. Мы даем вам денег и разбегаемся в разные стороны. Вы нас не видели и не слышали. Тайга большая.
– Почему бы и нет, – слукавил я. – Только для начала мы с тобой сейчас выйдем наружу, и ты скажешь своим друзьям, тем, которые за кустами, на стреме. Мужики, скажешь, мы обо всем с писателем добазарились. Прячьте пушки и ко мне. Запомнил? Одно лишнее слово, и ты, и твои друзья – покойники.
– Ну правильно, – сказал очкарик. – Ты сейчас всех затащишь в эту конуру. Потом вы с другом выйдете отсюда на хрен и нажмете кнопку.
Я рассмеялся.
– А договор? А деньги? Сам же сказал – культурные люди.
Север сидел, таращил на меня глаза и ничего не понимал, но ломать игру не решался.
Очкарик задумался над моими словами.
– Ну а чтобы ты был совершенно спокоен, – тут я взял «Тетрис» и положил на стол. – Пускай пульт пока будет у вас. Это чтобы у всех штаны были сухими.
Дальше я надел ветровку, сунул в карман пистолет, другой разрядил и бросил очкарику.
– Сними куртку, а «пушку» сунь за пояс, чтоб видно было, – приказал я. – Все. Пошли. И запомни: лишний звук и – у меня война за плечами. Осечки не дам. Чуть что, грохну прямо из кармана.
– Ладно, – сказал очкарик. – Все ясно. – И восхитился: – Ну, ты Станиславский, блин.
– Идешь чуть впереди, – распорядился я. – Север, держи оставшихся на прицеле. Услышишь выстрелы – стреляй без промаха.
Мы вышли на вольный воздух и стали продираться сквозь кусты. Очкарик впереди, я сзади. Ветки хлестали по лицу, и я отводил их левой рукой, потому что правая постоянно была на курке оружия. Море внизу было стального, холодного цвета. Я лишь мельком бросил на него взгляд, как на что-то очень далекое, словно детство.
Наконец, кустарник кончился. Мой пленник прошел чуть вперед и поднял руку.
– Пацаны! – крикнул он. – Мы с писателем обо всем добазарились. Прячьте пушкари, все ко мне.
Из-за деревьев, метрах в тридцати, вышли четверо и направились к нам.
– Молодец, – похвалил я очкарика. – Значит, договоримся.
Эти бандиты тоже были в коричневых кожанках, и я утвердился в мысли, что кожанки – их униформа. Но такие коричневые куртки в городе мелькали на каждом шагу. Значит, бандитские должны чем-то отличаться. Свою куртку мой пленник по моему велению оставил в пещере. Сейчас он стоял в одном свитере с пустым пистолетом за поясом. Выявить особый знак отличия по его одежде я не мог. Но он должен был существовать. Так, во всяком случае, мне казалось.
Я видел, как покачиваются на фоне тайги жестокие бандитские рожи. Беспощадность и злость были плотью и кровью этих людей. Были их работой и развлечением. Но я видел даже больше. Я видел, как расстреливали они, отвозя в море, складских работяг, а затем вытаскивали у них заработанные деньги. Потому тех рабочих никто потом и не встречал. Как насиловали молоденьких девочек, а после тоже убивали. Видел, как грабили, жгли, взрывали. Это четко было написано на их звериных лицах. Мне до жгучей боли захотелось положить всех бандитов у сопки Севера, – так я про себя прозвал ее. Но, во-первых, бой я уже выиграл. А во-вторых, я был не Судья. Поэтому мне ничего не оставалось, как предупредить очкарика, чтобы тот до поры не произносил больше ни слова. Когда же его друзья приблизятся, ему нужно лишь повернуться и шагать сквозь кусты назад, в пещеру. Остальное – дело мое.
– Кроме того, – тихо сказал я, – меня всегда интересовали деньги.
Очкарик чуть заметно улыбнулся и прошептал:
– Ладно. Сговоримся, Пушкин. Не прогадаешь.
– Ну и славно, – согласился я. – Пошли. Войдем, сядешь к столу, на прежнее место.
Бандиты были уже в десяти шагах. Они шли цепью. И вдруг я случайно увидел этот знак отличия. Он неприметно с виду красовался на левом рукаве каждой куртки и представлял собою тот же, нарисованный черной краской, китайский иероглиф, переведенный мне Чайкой как слово «дух».
«Вот оно что, – подумал я. – И тут, значит, «духи». Ладно. Черт с вами».
Мы тронулись в обратный путь. Я боялся лишь одного: Север, оглушенный болью и ненавистью, мог сидеть в той же позе с пистолетами в руках. Спасало только то, что моряк находился в относительной темноте, а вновь пришедшие со свету не сразу могли все разглядеть. К тому же они, как и прежде, оставались примерно в десяти шагах позади и, значит, я мог успеть закрыть Севера собою, став перед ним.
Я почувствовал, что сегодня Наблюдатель помогает мне. Ибо все было рассчитано и сыграно с ювелирной точностью.
При входе очкарик покорно направился на свое место. Север действительно сидел как прежде, направив на противника два ствола. Я немедленно стал перед капитаном, закрыл его своим корпусом и пригласил вновь прибывших пройти внутрь. Трое из них прошли, а один, сняв короткий автомат, грамотно остался на входе. Этого предвидеть мне не удалось. Тогда я прямо из кармана ветровки выстрелил в бдительного охранника и заорал, чтобы все подняли руки. Двое начали медленно поднимать, но третий дернулся в попытке достать оружие. Тут-то его и настигла пуля Севера Ивановича. Я подошел к оставшимся двоим сзади и разоружил их.
– Вот теперь и поговорим, – устало сказал я и присел рядом с капитаном причальной хаты.
– Сколько ты хочешь бабок? – спросил очкарик.
– Видишь, ты уже привык, что все продается и всех можно купить. Но посмотри на этого человека, на Севера Ивановича. Посмотри, что вы с ним сделали. Сможешь ты его купить после этого? Даже не советую начинать торговлю, потому что – знаю! – он тебе сразу дырку во лбу сделает. Со мной тоже бесполезно беседовать на эту тему: я волю люблю, дядя. А деньги – это тюрьма. Тем более грязные деньги. Выкупанные в крови. Правильно я говорю, Север Иванович?
Север выплюнул сгусток крови и хрипло выругался.
– Заразы. Я, клянусь морем, всех бы их тут кончил, гадов. Бесплатно. Мать их… Чего ты с ними цацкаешься?
– Не надо, Север Иванович, – попросил я капитана. – Остынь. Успокойся. Смотри, ребята молодые, крепкие. Пусть еще потрудятся на строительстве светлого будущего.
С этими словами я вытащил из ветровки пистолет, отошел от Севера на два-три метра, чтобы у него было пространство для обзора, и приказал:
– По одному ко мне! При подходе – поворот на сто восемьдесят градусов. Руки за спину. Будем забинтовываться. И без фокусов. Тут адвокатов нет.
Бандиты находились в угрюмом ожидании моих следующих команд. Они уже понимали, что попали в капкан, и вырваться можно только к Господу Богу.
– Первый, – показал я на одного из товарищей очкарика.
Это был рослый малый с крепким, накачанным телом, крепкими длинными руками и злыми, ненавидящими меня глазами. Я подумал, что в рукопашном бою, возможно, проиграл бы ему. Он походил на пружинистого, изящно упругого тигра, готового к мгновенному броску. Но направленное с двух сторон оружие делало свое дело, и бандит, согласно команде, покорно двинулся ко мне. В полутора метрах он остановился, и глаза его еще ярче вспыхнули ненавистью.
– Повернись спиной, – повторил я. – Руки на задницу!
Секунду он еще постоял, прожигая меня лютым взглядом, и вдруг, как кошка, подпрыгнул, пытаясь нанести внезапный удар ногой в голову. Но, слава Богу, я все это уже проходил и, резко присев, прошил его снизу доверху оглушительным выстрелом. Спортсмен рухнул к моим ногам, словно сброшенная с машины говяжья туша.
Теперь яростью налились мои глаза, как бывало в моменты боя.
– Ты, – коротко указал я еще на одного бандита.
Он посмотрел на очкарика, вздохнул и тяжело проговорил:
– Миллион зеленых. Устроит?
– А это тебя устроит? – Я показал ему фигу.
Одолжив у одного из пленных куртку с иероглифом, я надел ее на себя, затем перевязал всех оставшихся по рукам и ногам кусками Северовой веревки. Сложил у стены. Всех, кроме очкарика.
– Тебя как зовут? – спросил я командира бандитов и закурил.
– Толя, – выдавил командующий с трудом, словно это было тяжелое признание.
– Как настроение, Толя?
Он посмотрел на меня рассеянным взглядом человека, потерпевшего полный крах.
– Что от меня нужно?
– Вот это уже деловой разговор, – оценил я догадливость атамана. – Из всего происшедшего понятно, вся ваша организация сейчас на чрезвычайном положении. Литературно говоря, прибежал великий шухер. Везде свои посты. Свои засады. Свои люди. Свои кордоны. Ты проведешь меня, Толя, туда, куда мне потребуется. Опять же, без фокусов. Я их не терплю. Ты в этом убедился.
– А если нет?
– Если нет, ляжешь вон там. Рядом со своими дружками. Но тогда ты потеряешь все льготы и поблажки, на которые пока можешь рассчитывать. Думаю, у тебя не капуста в голове. Впрочем, могу обойтись и без твоей помощи. Но это отнимет время. А его-то как раз крайне мало. Скажу тебе вполне ответственно: не сегодня-завтра вся ваша организация будет в сетке. Вы сгорели. Усекаешь, Толя? Так что думай. Минута на размышление.
– Согласен, – сдался атаман.
Я понял: до Чайки они добраться не успели, и облегченно вздохнул. Иначе все могло бы иметь для меня совсем другой оборот. Молодец все-таки Север Иванович. Я был ему бесконечно благодарен.
– А вот это… – Я взял «Тетрис». – Забавная детская игрушка. Купил когда-то в Москве в «Детском мире». Могу подарить на память. Будешь развлекаться в свободное от работы время. Под столом – мешок гречневой каши с лампочкой.
Атаман застонал, словно его стукнули дубиной по голове.
– Остаешься заглавного, капитан Калюжный, – обратился я к Северу. – Умойся и сторожи эти бревна. Я буду через пару часов. Как себя чувствуешь? Выдержишь?
– Выдержу, – зло сказал Север. – Не такое случалось.
Дальше все шло как по сценарию. Мы с бандитом-Толей проникли в гостиницу. Конечно, в холле сидели люди в коричневых куртках с иероглифами, но при виде «своих» снова, как и до нас, углубились для собственного развития в чтение популярных журналов.
В номере нас уже ждали. Группа «поэтов» состояла из пяти человек. Скромные костюмы, белые рубашки, галстуки.
Главный – высокий, сбитый, с железным рукопожатием – улыбнулся мне и сразу перешел к делу, приняв моего напарника, Толю, за своего. Но я прервал нового знакомого, Алексея, объяснив происшедшее два часа назад и то, что означает на наших куртках китайский иероглиф. Объяснил, что нужно срочно вытащить из пещеры задержанных бандитов, а с ними и героя-моряка Севера Ивановича Калюжного. Что в холле скучают еще четверо в коричневых кожанках с маркированными рукавами.
– Ясно, – коротко среагировал Алексей и тут же набрал номер телефона.
На другом конце сразу взяли трубку.
– Полковник Платонов, – по-военному, стальным голосом отрекомендовался Алексей. – Быстро машину и команду спецназа к гостинице. В холле бандиты в коричневых кожанках. На левых рукавах – китайский иероглиф. Действовать внезапно, молниеносно и тихо. Возле гостиницы могут быть дополнительные посты, поэтому примите грамотные меры предосторожности. И «скорую помощь». Есть пострадавшие.
Он положил трубку и той же, что и по телефону, боевой скороговоркой продолжил, обращаясь ко мне:
– Операция по захвату складов детально разработана, согласована с местными органами. Назначена на сегодня… – Он посмотрел на часы, потом на загрустившего Толю. – Но это тебе знать не обязательно. Равно как и участвовать. Ты свое дело сделал. Спасибо. Кое-кто уже арестован и дает показания. Со спецназовцами поедешь в пещеру, заберешь своего моряка. Дальше оставайтесь с ним в этом номере и ждите нашего возвращения. В холодильнике есть все, что нужно. Кстати привет тебе от Валентина. Привет и наилучшие пожелания, – снова улыбнулся Алексей. – Статью твою о пограничниках, кстати, он напечатал в «Комсомольской правде». Я читал. Мне понравилась. Но вопросы потом.
«Привет от Валентина…» Это сообщение я проглотил, как глоток хорошего вина.
Валентин не отрекся. Он поверил. Он остался другом.
– Между прочим, – сказал я. – Тут по моей радиограмме должна еще быть группа местных пограничников.
– Мы уже в связке, – ответил Алексей, разглядывая документы из моей папки, из-за которой Север вполне мог лишиться жизни. – Уже работаем вместе. Они в номере напротив.
– Оперативно, – похвалил атаман-Толя, развалившись в кресле.
– А ты как думал? – сказал Алексей. – Это – наша работа. И потом, за нами Россия. А за вами – что? Ну что, скажи мне?
– Какая Россия? – бросил вызов командир бандитов. – Где она? Одни обломки.
Внезапно дверь распахнулась, и на пороге появился спецназовец в черной форме.
– Товарищ полковник! – вытянулся он.
– Вольно, капитан, – сказал Алексей. – Садись, докладывай.
Боец присел на стул и подозрительно посмотрел сначала на Анатолия, затем – на меня. Конечно, его смутили наши куртки.
Алексей развеял его сомнения.
– Этого, – показал он на атамана, – передадите милиции. Пускай отдохнет до нашего возвращения. Обращаться бережно и нежно. Сам знаешь, капитан. Учить не надо. А это, – тронул меня за плечо полковник, – наш человек. В ближайшее время действуйте по его команде. Что с бандитами?
– Двоих аккуратно сняли возле гостиницы. Остальных – в холле.
– Все тихо? Без шума?
– Конечно. Секунда – дело. Мы же профи. А они кто? Шушера с большой дороги.
– Ну не скажи, – задумался Алексей. – Словом, действуй. Олег по дороге все расскажет: что, чего, куда и как. Раненому – помочь. Если нужно – срочно в больницу. Бандитов – в участок. Все. Действуй.
– Мне бы хотелось заснять окончание операции, – сказал я Алексею. – Сделать несколько снимков для статьи.
– Ну что ж, – сказал он. – Статья – дело хорошее. Вернешься, жди. В нужное время я тебе позвоню. Аппаратуру подготовлю. Так что – вперед.
Когда мы добрались до пещеры, все было по-прежнему. Север сидел на своем месте с двумя пистолетами в руках, но сознание его угасало. Похоже, он даже не слышал, как целый отряд, шурша ветками, пробирался сквозь кустарник. Лампа чуть тлела. Керосин в ней заканчивался. Вся «Таверна» тонула в чадящем запахе исчезавшего горючего. Связанные бандиты лежали там, где и лежали, как брошенные мешки. Спецназовцы развязали им ноги и вывели прочь, к ожидавшей неподалеку машине. Я подошел к Северу и тронул за плечо. Голова его упала на грудь. Он потерял реальность в своем рассеянном к той минуте обозрении и опрокинулся спиной на лежанку. Его тоже вынесли наружу на носилках. Врач «скорой» осмотрел Севера и сделал ему укол. У него была сломана пара ребер.
– Сильный удар каким-то предметом по голове. Возможно, сотрясение мозга, – дал доктор предварительное заключение. – Мы заберем его в больницу.
Я вернулся в гостиницу. Администрация меня уже знала и с некоей таинственностью вручила ключ от номера «московских поэтов».
Я вошел в номер. Комната была пуста. Я свалился от усталости и гнетущей опустошенности на диван. Мои новые знакомые, возможно, занимали уже боевые позиции, а может быть, вели реальный бой. Глаза закрылись сами, и я лишь успел подумать: что было бы со мной, если бы я не потерял бумажник. Вероятно, буднично засыхал в какой-нибудь дыре с внешне красивым и поэтичным названием «Бухта Провидения».
В тот же вечер меня разбудил звонок Алексея. Я, конечно, ждал его даже во сне. Однако когда затрещал аппарат, мне показалось, что я спал всего десять минут. Тем не менее, словно ошпаренный, я вылетел из гостиницы и помчался по указанному адресу. Города я не видел. Его просто не было. Была одна прямая, как тоннель в мировом пространстве, улица, по которой я бежал к автобусной остановке, хотя проще, возможно, было бы найти такси. Потом, подпрыгивал от нетерпения среди спокойно ожидающих людей, топтался в нехотя подошедшем транспорте и, наконец, добрался до места.
То, что мне довелось увидеть и запечатлеть, было финалом операции. Лежащие на земле и ведомые к милицейской машине бандиты, угрюмые проститутки. Несколько вальяжных сановных лиц в наручниках. Случайные трупы сопротивлявшихся. Их было мало, поскольку все подразделения сработали быстро, слаженно и четко. Теперь можно было считать, что материал от первой до последней страницы, в основном, у меня в руках. Конечно, назначено было следствие, и его результаты должны всплыть не сегодня и не завтра. Но основа всего уже лежала на моем письменном столе.
На следующее утро я помчался в больницу к Северу. Он встретил меня радостной улыбкой, будто участвовал не в опасной борьбе с преступниками, а в массовой ликующей демонстрации, и там, в горячей толпе, получил случайные травмы. Голова его была перебинтована.
– Ну что там, Олег? – спросил он. – Раздолбали паразитов?
– Раздолбали, – ответил я. – Ты-то, Север Иванович, в каком самочувствии после битвы?
– Я-то! – снова радостно улыбнулся старый моряк. – Я-то как огурец. Лучше, чем был. Во-первых, повоевал за Рассею от всей моей души. А во-вторых – трезвый образ жизни. Вот уже которые сутки. Тоже польза здоровью. Что на причале? – хозяйственно поинтересовался начальник морской избы.
– Не был пока, – сообщил я. – Но думаю, Михалыч твой исправно несет свою вахту в нужном боевом порядке.
– Да. Надо выбираться скорей отсюдова, – озабоченно сказал Север. – Объект нельзя оставлять без присмотра. Михалыч, конечно, военный человек. Однако ему сколько годов? Сломается в бессменной работе. Опять же, за Чайкой надо ехать.
– Ты, Север Иванович, лежи себе до полного здоровья, – наказал я. – А за Чайкой – дай адрес, я и сам смотаюсь.
Вошла медсестра. Она держала шприц вверх иглой, как свечку. – Ха! – воскликнул Север. – Да кто же тебе там ее выдаст?! Я же наказал сеструхе, чтоб никому, ни под каким предлогом. Понимаешь такую ерунду? Там все строго. Да и кум, чего доброго, огреет тебя чем попало… на всякий случай. Нет. За Чайкой я сам покачусь. Ты уж потерпи чуток.
– Готовимся не спеша, – продиктовала сестра Северу, и по тому, как герой, кряхтя, поворачивался, со стоном оголял зад, я понял, что состояние его не так уж радужно. Сломанные ребра – это мне было известно по собственному опыту – дело весьма затяжное.
Я вздохнул, жалея Севера, и оттого еще, что свидание с Чайкой откладывалось на неопределенный срок.
К полудню я обогатился от Алексея дополнительными подробностями и фактами относительно заказчиков и исполнителей прогремевшего, как гром, дела. Хотя знали о нем пока немногие.
Глубоким вечером моя машинка поставила точку в пылавшей страстью и справедливым гневом статье.
Утром я отдал один экземпляр Алексею для Валентина, тепло попрощавшись с ним и его друзьями: в этот день все они улетали. Второй, иллюстрированный былыми и последними фотографиями, отнес в редакцию центральной газеты.
Редактор – человек средних лет, тощий, сухой и строгий, как ворон, внимательно прочитал страницу за страницей, медленно просмотрел фотографии и вдруг как-то остро взглянул на меня.
– Послушайте, – сказал он. Волнение переполняло его. – Это же взрыв. Сенсация! Почему я вас не знаю? Хотя, подождите. Никитин, Никитин. Это не вы писали о наших пограничниках в «Комсомолке»?
Мне пришлось сознаться.
– Конечно, вы не местный, – догадался редактор. – Где же вы сейчас живете?
Я вздохнул, так как понял, что мне в десятый раз придется излагать свою злополучную историю с потерей командировочных и прочей чепухой. Но деваться было некуда, и я поведал все с самого начала, не забыв упомянуть и морскую избу, и тайную пещеру, и героев битвы – погибшего Сысоева с раненым Севером Ивановичем Калюжным. Впрочем, часть этого рассказа была в самой статье.
Редактор снова взял мою рукопись и уставился в первую страницу.
– Все это очень серьезно. Тут упоминаются такие имена… Мне нужно все проверить.
Я вынул из кармана заготовленную заранее бумажку и подал редактору.
– Вот телефон начальника одного из отделов по борьбе с организованной преступностью, город Москва. Но сейчас он здесь. Звоните теперь, потому что через пару часов его группа улетает.
Редактор немного подумал, видимо, собираясь с мыслями, а затем набрал номер. Представившись, он затем долго и напряженно слушал, что, очевидно, сообщал ему Алексей. Положив трубку, постучал карандашом по моей статье и, в раздумье, сказал:
– Хорошенькие дела. Где же вы, извиняюсь, обитаете в вашем положении?
– На этом самом причале и обитаю, – снова вздохнул я.
– Хорошенькие дела, – повторил редактор, изучая мое удостоверение, и набрал номер телефона. – Я загибаюсь без толковых сотрудников, а они бросаются людьми, как рыбьей чешуей.
– На связи, – послышался в трубке мужской голос с офицерской интонацией.
– Николай Иванович, зайди ко мне, – распорядился руководитель газеты. – Вот деятели, – продолжал возмущаться редактор. – К нам прибыл, можно сказать, писатель. Ну мало ли, что могло случиться. Конечно, деньги серьезные. Но ведь все бывает в жизни. А выбрасывать с бухты-барахты человека за борт – это уж, ей-богу, ни в какие рамки…
Дверь отворилась, и в кабинет вошел невысокий, круглый парень с веселыми, живыми глазами. Верхнюю губу его покрывали густые усы, росшие из-под носа, как два диких куста. На нем был толстый цветной свитер, в руке – папка, из которой торчал готовый к действию карандаш.
– Познакомьтесь, – предложил нам редактор, и мы, назвав себя, учтиво пожали, как положено, друг другу руки. – Мой заместитель, – объяснил в дополнение заведующий газеты. – Талантливый журналист, поэт, романтик, охотник, рыбак, словом, я думаю, подружитесь.
Последняя фраза дохнула на меня теплым ветром, обозначив какие-то, пока еще неясные, перспективы.
– Представь, Николай Иванович, нам прислали из Москвы молодого специалиста. С ним тут случилась беда – потерял командировочное, деньги. Но вместо того, чтобы помочь, они, – я имею в виду горком молодежи и небезызвестного тебе Владимира Придорожного, – они выбрасывают человека на улицу, голого и босого! А он, вопреки всему, вжился, окопался, как крот, и посмотри, какую бомбу нам притащил.
Николай Иванович сочувственно поглядел на меня.
– Кому это, Михаил Степанович, может нравиться, кроме Придорожного? – ответил вопросом на вопрос заместитель.
– Вот я и говорю, – нервно отозвался Михаил Степанович. – У меня не хватает людей. Нужно послать человека на Олу, в Ягодное, в Медвежий, а Придорожному наплевать. Он формалист и перестраховщик, и я ему заявлял это непосредственно в лицо. Он всего боится. Как бы его лично что-то каким-то боком не коснулось. Устранился и все. Так легче. Но мы-то люди другие. Нам главное – дело. А беда, – еще больше взволновался редактор и даже закурил. – Беда может случиться с каждым. Нас с тобой, Коля, снесло волной, и мы тонули в ледяной воде. Это не беда? Беда. А моряки спасали. Рискуя жизнью. В статье Олега люди погибли, но не поступились ни совестью, ни честью.
– Придорожный не моряк, – резонно проявил свою мысль Николай Иванович. – Он в шипящую волну вряд ли кинется.
– Я тоже не моряк, – хмуро сказал Михаил Степанович. – Не в этом дело. Бог с ним, с Придорожным. Он нам не бревно на дороге. Бери статью Олега о новом причале. Подготовь, пожалуйста, и сразу засылай в набор. На первую полосу. Выбери лучшие и подходящие фотографии. И второе. Доставь человека к телевизионщикам. У них есть свободные комнаты. Пусть устраивается. Я позвоню, куда следует. Пока доберетесь, там уже будут знать, что к чему. Куда парня поселить. Живет, понимаешь, как бич. И в то же время, – он показал на статью, – что творит, подлец!
– Пойдем, – сказал мне Николай Иванович и ласково улыбнулся, будто родственник, давно ожидавший моего приезда.
– Завтра ко мне, – распорядился вдогонку редактор. – Обсудим дальнейшую жизнь. Работы – не заскучаешь. И у нас, и на телевидении. Так что готовься.
В здании телецентра нас уже действительно поджидал пожилой хозяйственник в строгом черном костюме, по виду – отставной военный, о чем говорила офицерская рубашка и крокодильего цвета галстук, оставшиеся, как видно, от службы в рядах. Плюс – на ногах хозяйственник имел парадные офицерские туфли, обладавшие, как обнаружилось, оглушительным, резким скрипом.
– Кто сопровождающий? – первым делом осведомился встречавший и, выяснив кто есть кто, предложил следовать за ним.
Под задиристый визг обуви нашего гида мы прошли длинным, с несколькими поворотами коридором и выбрались в унылый, запертый со всех сторон двор. Тут стоял усталый, заляпанный грязью автобус, на боку которого, тем не менее, гордо пылали синим огнем крупные буквы «ТВ».
В другом подъезде мы поднялись на второй этаж, и хозяйственник, наконец, открыл дверь. Здесь была небольшая, уютная комната, ничуть не хуже гостиничной. Имелся письменный стол, диван, шкаф для одежды и громадный, как собачья конура, телевизор.
Я был в смятении. Я был в восторге. Я был вне себя от нечаянно свалившегося счастья. Я был втайне благодарен Наблюдателю за те испытания, что Он выбросил, словно острые камни, мне под ноги.
Мне были вручены ключи от нового жилища, которое неизвестным способом и при помощи неведомо чего выбил для меня редактор городской газеты. Жизнь, таким образом, понемногу восстанавливалась. Я понял, что ни в какой, самой трудной ситуации нельзя поддаваться отчаянию. Потому что тяжелое, как нам порою кажется, положение – всего-навсего новый ракурс, новый угол зрения, который предоставляет Господь, давая возможность острее потрогать обстоятельства нервами, сердцем и умом.
Мое окно теперь выходило на живую городскую улицу с мокрыми, посыпанными дождем прохожими, мокрым асфальтом, автобусами и деревьями. Но этот унылый вид сейчас не вызывал во мне грустных ассоциаций. Жизнь, облаченная, правда, в блестящий дождевик, снова воскресла.
В тот же день я перетащил по свежему адресу свои вещи, обжил шкаф и подоконник, выставив на него любимые книги. Пишущая машинка от прочистки и протирки сияла, как выставочный «Форд».
После мытья пола и починки вешалки я плюхнулся на диван и блаженно закрыл глаза. Передо мной возникла быстрая горная речка, что текла к далекому океану. Сам я тоже тек к синему морю по этой быстрой реке на утлой, долбленой лодке. Впереди уже маячили бурные белые пороги, как вдруг зазвонил звонок.
Я решил, что, может быть, хозяйственник Аркадий Афанасьевич забыл мне о чем-нибудь рассказать, сообщить о чем-нибудь хозяйственно важном, и поднялся открыть дверь.
На пороге стояла Чайка, держа перед собою, как веник, сбитый мокрый зонт. На голове у нее была белая шапочка с красным ободком, делавшая Чайку похожей на девочку-подростка. Теперь я знаю, что мне показалось в тот момент. Мне показалось, будто пред мои очи явилась наша с Чайкой будущая дочка – Веточка. Но тогда я просто замер, как полоумный, в изумлении открыв рот.
Чайка солнечно улыбнулась и шагнула в мои счастливо приобретенные апартаменты. Зонт она раскрыла и поставила на пол спицами вверх, чтобы он высыхал.
– Ты доволен? – спросила Чайка, очерчивая рукой мое жилищное пространство, словно это она, а не кто другой устроила так, что телевизионный хозяйственник вручил мне ключи от моей новой квартиры.
– Послушай, – сказал я, не зная, о чем говорить, поскольку все мои мысли спутались, как если бы меня стукнули чем-то тяжелым по голове. – Я ужасно рад тебе, но. Как ты вырвалась? Как ты узнала? Это фантастика! Нет! Я ничего не понимаю!
Чайка сняла шапочку, плащ, туфли и устроилась на диване, подобрав под себя ноги. Откинула назад свои чудесные с масляным блеском льняные волосы плавным движением руки.
– Если ты откроешь одно ухо, – сказала Чайка и тень знакомой мне улыбки – улыбки вещуньи – коснулась ее губ, – то услышишь звуки. Если откроешь оба и хорошо вслушаешься – услышишь слово. То самое, которое было Вначале. И слово это может войти в тебя и стать твоим орудием, потому что оно есть мысль, посредством которой мы созданы. Понимаешь?
Честно говоря, я понимал слабо.
– Когда же услышишь слово, будешь общаться с Учителем постоянно. Он дает эту возможность. И тогда, стоит закрыть глаза, сразу увидишь то, что захочешь увидеть. И это будет явь. Я захотела услышать, и мне дано было слово. И слово стало моей мыслью. А мысль была горячим желанием поднять тебя к облакам. Чтобы ты полетел. Стал ветром. Понимаешь? И так моя мысль вела тебя до самого порога этой квартиры. Все очень просто. Сегодня ты получил ключи от дома, а завтра получишь работу и полетишь в те края, о которых мечтал.
– Ты колдунья? – спросил я, ощущая сухость во рту. Какой-то безотчетный страх окутал меня, отчего повлажнели ладони. Я вдруг испугался аномалий. Мне они были не нужны.
Чайка вздохнула.
– Я не виновата, что мне дано то, что дано, – медленно выговорила она, глядя в серое и мутное от дождя окно. – Скажи мне, было трудно?
– Да нет, – соврал я. – Просто…
– Я была у Севера Ивановича, и он рассказал мне, какой ты герой. Как здорово ты придумал эту штуку с взрывчаткой. Что если бы ты это не придумал…
Я рассмеялся.
– Да, теперь об этом можно вспоминать со смехом.
– Я так скучала. Скучала – даже не то слово. Я томилась. Не находила себе места. Все это время почти не спала. Я была с вами. Если бы вы погибли, я бы тоже не осталась жить.
– Мы и не погибли, потому что ты была с нами.
– Поцелуй меня, – попросила Чайка.
Я выполнил ее просьбу нежно и самозабвенно, как если бы целовал свое личное дитя.
Потом Чайка, сморенная, задремала. Я укрыл ее грубым солдатским одеялом, которое мне было выдано телевизионным хозяйственником вслед за ключами от квартиры.
Какое-то время слушал, как бегает мышиными лапками по жестяному козырьку за окном дождь, и думал о том, что никогда в жизни мне не было еще так хорошо.
Затем я оделся и тем же витиеватым коридором, тем же замкнутым тюремным двором выбрался на улицу. Я зашел в магазин и купил на оставленные мне Алексеем деньги все, что нужно было для нашего с Чайкой победного, праздничного ужина. Я купил рыбы, икры, полюбившегося мне трубача, «Шампанского» и бутылку рисовой китайской водки. Мне очень жаль было, что с нами не будет Севера, но тут уж ничего нельзя было поделать.
В тот вечер мы с Чайкой провалились в обморочно сладкий, бездонно тягучий омут. Мы умирали и воскресали, вздрагивали от ослепительных молний, парили под жарким солнцем и разбивались об острые скалы. В какой-то момент Чайка вдруг закричала неожиданно новым, неистовым птичьим голосом: «Люблю тебя!», и я почувствовал, как под ее ногтями на моей спине выступила кровь.
Лишь утром я ощутил зябкую колючую грубость казенного одеяла, которым всю ночь согревались мы с Чайкой.
Она открыла глаза и улыбнулась мне незнакомой доселе, ласково нежной, какой-то материнской улыбкой. Я понял, что никогда в жизни не смогу разлюбить Чайку. Я прижал ее к себе, спрятал на груди, словно маленькую птичку, и услышал, как благодарно живет и толкается ее теплое сердце, согласно и трепетно.
Через три дня случилось два знаменательных события. Во-первых, каким-то чудом выписался из больницы Север Иванович. То ли он добровольно отказался от дальнейшего лечения, то ли действительно чувствовал себя уже в порядке. Сие так и осталось за чертой всеобщего знания. Во-вторых, была напечатана моя статья. Эти происшествия обрели на причале форму народного праздника. Завсегдатаи и бродяги, как ветераны какого-то общественного движения, собрались все сразу. Все они были чисто выбриты и светло торжественны. Глаза их полнились веселой, младенческой радостью. Газета имелась у каждого. Кроме того, статья висела в центре доски объявлений, где сроду ничего не было, кроме двух жутких плакатов по технике безопасности. Теперь же со щита кирпично-пожарного цвета на всех взирала бравая команда строителей во главе с погибшим героем-Сысоевым и лихим моряком прежних странствий, а ныне начальником старой причальной избы – Севером Ивановичем Калюжным.
Север Иванович, кстати говоря, получился на фотографии лучше всех, здорово смахивая на переодетого моряком Чапаева. И, разумеется, праздник победы увенчался широким официальным застольем, как тому и положено быть по старому русскому обычаю. К застолью неожиданно подключилось даже некоторое начальство, и все сразу поняли, что вот теперь-то дело строительства нового причала пойдет так, как нужно. В правильном пойдет русле. При этом выходило само собой, что виновником всех коренных изменений, уж так получалось, был я. Моя, можно сказать, глубокочтимая персона.
Понятно, я был притчей во языцех, понятно, меня поместили в центр стола, меня обнимали, перехваливали, похлопывали по плечу, а начальство приглашающе разрешило бывать на причале в любой момент моей драгоценной жизни. Даже поднят был тост в честь нового почетного члена ассоциации малого морского транспорта, то есть – непосредственно меня.
Признаюсь, никогда прежде так тепло не млело мое сердце, потому что результат моей работы был вот он, передо мною, весь на виду. Но особенно почему-то дорога была мне гордость Севера. А он действительно гордился мною так, словно я был, по меньшей мере, Юрием Гагариным и одновременно – собственным сыном Севера Ивановича Калюжного. Я видел точно, что стал второй любовью Севера. После, конечно, моря.
Север почти ни с кем не разговаривал, а все смотрел на меня, приоткрыв рот, словно боялся что-либо упустить из того, что я мог изречь. Когда же я действительно что-то изрекал, глаза Севера Ивановича загорались необычайной радостью и подобострастием. Вообще-то, если бы это кто-то заметил со стороны, наверняка расхохотался бы. Но никто этого не видел. Все были заняты общественно важным событием – судьбоносным поворотом в строительстве нового причала.
Разумеется, помянули теплым и грустным словом прораба, Игоря Сергеевича Сысоева, а начальство торжественно поклялось помочь семье погибшего, состоявшей, тем более, из вдовы и троих детей.
Такая перемена в отношении ко мне Севера была для меня необыкновенно трогательной и, может быть, бесценной.
Впрочем, он и раньше относился к моей личности с нежным, хотя и грубоватым почтением. Нынче я превратился для него в какого-то чуть не президента, вице-адмирала мирового флота и бог знает, кого еще, пред кем не снять морской фуражки просто невозможно.
В тот знаменательный день, несмотря на уважительные взгляды Севера Ивановича, я как-то незаметно и здорово наклюкался, чему не препятствовало даже начальство, которое, впрочем, и само немало подогрелось. Словом, праздник удался. Правда, Северу Ивановичу пришлось тащить меня, несмотря на поврежденный корпус, чуть ли не на себе к месту моего нового жилища. Остаться на прославленном мною же причале я почему-то наотрез отказался. Впрочем, в телецентре меня должна была ждать Чайка.
Север волок меня по темным сырым улицам, ухватив под мышку железной своей лапищей.
Чайка действительно уже ожидала моего появления, сиротливо стоя у подъезда, так как ключей у нее не было. Нужно ли говорить, какое с моей занесшейся писательской стороны это было свинство.
Север бережно сдал меня, что называется, с рук на руки и лишь после того, как дверь за нами защелкнулась, удалился восвояси с чувством исполненного долга.
Помню, Чайка раздевала меня и снимала мокрые ботинки, потому что всю дорогу сыпал мелкий, промозглый дождик, а ноги мои не выбирали пути. Потом уложила в постель, и я тут же провалился в глубокую черную яму.
Утром она варила кофе и не укорила меня ни единым словом, лишь глаза у Чайки были полны тяжелой грустью, и от этого мне было в тысячу раз стыднее, чем если бы она вылила на меня ушат брани.
Я должен был идти в редакцию, но чувствовал, что не в состоянии вести какие-либо переговоры. Тогда я позвонил Михаилу Степановичу и сухим деревянным языком соврал, что немного простудился и явлюсь завтра.
– Что ж, – сожалея, вздохнул редактор. – Выздоравливайте. А то у меня для вас горит срочная командировка. Я пришлю с нарочным баночку брусничного варенья.
– Не надо! – испуганно крикнул я. – У меня все есть. Только день отлежаться.
– Добро, – согласился Михаил Степанович, который, конечно, догадывался или точно знал об истинной причине моего нездоровья. – Но завтра ко мне ровно к девяти.
Я с облегчением повесил трубку, словно мне вырвали больной зуб.
Тогда Чайка тоже позвонила в свою библиотеку и тоже сказалась больной, чтобы помочь мне «отлежаться». И вот за эту дружескую поддержку я готов был целовать Чайке руки, ноги, носить на руках и поставить ей памятник в центре Города. Она напоила меня каким-то травяным отваром, и через пару часов я был в полном порядке. Но Чайка уложила меня в постель. Я снова спал безвестное время. Когда открыл глаза, комната была пустой. За окном все так же дробно топтался дождик. Вдруг отворилась дверь, и на пороге появилась она, как всегда приветливо ласковая и легкая. Было в ее лице нечто покойно радостное и благодарное за что-то всему миру. Впрочем, это было ее обычное состояние.
– Собирайся, – скала она. – Мы идем на вечер поэзии. Меня пригласили почитать свои стихи.
Еще одна неожиданная страничка открылась для меня в книге Чайкиных талантов. Жизнь продолжалась, будто и не было смертельной опасности, раненых, погибших.
Для проверки готовности населения к стуже на улицы выкатилась настоящая осень. Прямо над крышами домов она тащила косматые тучи, орошавшие прохожих мелким дождем. Холодный воздух заселялся в город прямо с океана. Трепал полы плащей, лез под одежду, и я с грустью подумал: вот и кончилось безбрежное, золотое лето.
Мы шли, обнявшись, под шуршащим от дождя зонтом Чайки на автобусную остановку. Шли быстро, почти бежали, чтобы превозмочь непогоду и поскорее скрыться от сырого дыхания осени.
Наконец, втиснулись в автобус. Пассажиры тесно прижали нас друг к другу. Во мне снова вспыхнуло желание. Чайка почувствовала, поняла его, взглянула на меня, и глаза ее возбужденно, обещающе заблестели.
– Ты хулиган, – сказала она. – Но мне это нравится.
Дворец Культуры, где Чайке в числе прочих поэтов надлежало читать стихи, являл собою утонувший в осени стеклобетонный корабль, чем-то напоминавший типовой аэропорт.
В вестибюле Чайку ожидала стая звонких знакомых, бросившихся на нее всей гурьбой, как только мы вошли. Это были, в основном молодые почитатели музы, шумные, неуемные, поджигавшие все на своем пути горящими восторженными глазами. Они буквально унесли Чайку за кулисы на своих вдохновенных руках, и я в одиночестве отправился слоняться по коридорам, так как до начала выступлений было еще минут двадцать.
На стенах висели картины местных художников, обожавших, как видно, свой край и ваявших исключительно океан, прибрежные скалы и яркие закаты. Были здесь и портреты капитанов, рыбаков с задубевшими, пропитанными солью и спиртом лицами.
Что говорить, конечно, мне не терпелось увидеть Чайку в новом, необычном качестве выступающей поэтессы. Но какое-то сложное чувство волнения, смешанного со страхом, ерзало внутри, не давало покоя. Я представлял себе воздушную, хрупкую Чайку в фокусе сотен глаз и не знал, как прозвучит ее голос со сцены, как примут ее зрители и чем может обернуться неудача.
Понять стихи Чайки, скорее всего, было непросто. Мир ее красок, ощущений и символов мог обрушиться, как ливень. Все ли угадают, что этот ливень сотворен из снов, фантазий и радуги между ними…
С высоты своего полета Чайка видела многое. И скорее всего, пела то, что видела. Но как к этому отнесутся те, кто внизу? Поймут ли? Оценят?
С таким чувством тревоги и волнения я пробрался в зал. Народу собралось довольно много. Температура моих опасений поползла вверх. Наконец, шум стих, и занавес из синего бархата поплыл в разные стороны.
Веселым, подпрыгивающим шагом вышел отутюженный ведущий и радостным голосом затейника объявил о начале вечера, в программе которого значились выступления бардов, поэтов, певцов, пляски и всяческое веселье для отдыха.
Но вот явился первый поэт и прочел зрелую, хорошую поэму. Я же, к своему удивлению и радости, узнал в стихотворце Гену из «Ласточки», который первым в этом городе вызвался мне помочь.
Зал благодарно зашумел аплодисментами. Две остроносенькие девушки рядом со мной так горячо били в ладони, что я понемногу начал успокаиваться. Потом прозвучало несколько славных песен местных авторов, и нудьга во мне совсем улеглась. Я уловил тональность вечера и подумал, что в этой аудитории светлые призраки стихов Чайки будут приняты как должно.
Наконец, вышла она. Издали совсем маленькая. Русоволосая Дюймовочка. Я попросил Наблюдателя поддержать Чайку, помочь и вдохновить. Но этого и не требовалось. В ней не было и тени растерянности или волнения. Казалось, она вообще не знает ни того, ни другого.
Чайка вышла к микрофону, словно из другого мира, и предстала перед всеми, облитая светом рампы, чтобы поведать об иной стране, измеренной ее собственными крыльями.
Она смотрела куда-то поверх зала и читала незнакомым мне голосом неизвестные стихи. Вдруг я услышал, как бьется мое сердце где-то в середине горла, потому что Чайка неожиданно раздвоилась. Одна ее половина, один эфирный слепок оторвался от дощатого пола сцены и взлетел над зрителями, другой же остался внизу, продолжая ровное стихочтение. А вернее – стихосозидание. Похоже, в те минуты я забыл, что легкие нуждаются в кислороде.
Смысл несложно сложных стихов Чайки заключался в том, что человек рожден для радости, а не для удовольствия, ибо радость – в отдаче, а удовольствие – в получении. Что знание в нас самих, а не снаружи. Что все свойства мира хранит и малая частица чего угодно, и если научиться слушать и видеть даже ничтожной долей, можно постичь тайны своих возможностей. А они безграничны. Бездонны. Как глаза рыб, полет птиц или цветение розы от начала до бесконечности.
Когда оранжевые пальцы заката Сотрут с неба остатки дня, Стая птиц, оторвавшись от берега, Силой крыльев разомкнет горизонт, Разбив небо на осколки надежд. И в просвете между «было» и «будет» Проступит «есть» — Ясный путь к ущелью вечности. Там, в пустоте без времени, птицы, Сумевшие застыть на острие мгновенья, Смыкавшего нежную ночь С холодом бесконечности… Увидят всё!..И так далее. В этом стиле.
– В разладе совесть с красотой И рана эта – крест извечный… Красивых фраз До нас, При нас И после нас — Что капель в море. Откуда ж в мире столько горя И столько боли каждый час?..– отвлеченно закончила Чайка и снова возникла перед микрофоном в едином образе.
На какое-то мгновение у зрителей перехватило дыхание, а мне почудилось, что весь зал состоит из одного меня, смущенного, растерянного, захваченного ностальгическим страданием от утраты чего-то большого, сильного, но погибшего на выходе из детства.
Так или иначе, через минуту публика решила, что понимает то, что нельзя понять, и горячо зааплодировала, словно рукоплескала падающей звезде, пропадающей в никуда.
Оставшиеся выступления текли мимо меня. Я будто бы увяз в густом киселе смутных и беспредметных воспоминаний. Очнулся, когда в зале почти никого не осталось. Выбираясь, заметил на одном из сидений забытый кем-то носовой платок с кружевной розовой каймой. Представил себе его владелицу, сентиментальную зрительницу туманных лет, и эта случайно оставленная вещь каким-то странным образом снова соединила меня с Чайкой.
Но самой Чайки нигде не было. Я искал ее за кулисами, в коридорах, в фойе, и тревожное чувство покалывало меня, как заноза. Я даже постоял невдалеке от женского туалета, но в здании слышались чьи-то последние шаги, похоже, дамская комната тоже пустовала. Тогда я метнулся в раздевалку.
Сонная вахтерша в толстых очках вязала зимний шерстяной носок. Она удивленно взглянула на меня. Вешалка была почти пуста. Отдельно одиноко висела моя куртка.
Я облачился в нее, не ведая, что делать дальше: выходить ли в осеннюю слякоть, или еще раз пройтись по этажам. Какое-то шестое чувство заставило сделать несколько шагов в направлении коридора и там, в сумрачной его глубине, я увидел Чайку, сидевшую на подоконнике в смятой, придавленной позе.
Я бросился к ней, грохоча ботинками, как утюгами, по звонкому паркету, ощущая – что-то произошло. Но что?
На мое появление Чайка не отреагировала никак. Упавшие на грудь волосы закрывали ее лицо, но я почувствовал – Чайка плачет. По полу и подоконнику были рассыпаны деньги. Я перестал вообще что-либо понимать. Осторожно взял ее за плечи. Сквозь волосы темнел кончик уха.
– Что случилось? – как можно бережнее спросил я.
Глядя в пустоту, она убито произнесла:
– Они дали мне деньги за выступление. – И наконец, подняла на меня полные муки глаза. – Скажи, Олег, разве можно за стихи брать деньги? Закат из янтаря и крови не требует с нас ничего.
Что мог я ей ответить? Я прижал ее к себе и она, уткнувшись в мою куртку, разразилась горестными грудными рыданиями. Но эта тоска была еще чем-то, кроме сожаления о денежном эквиваленте поэзии.
Потом мы молча шли по мокрому асфальту темных улиц под маленькой, уютной крышей зонта. Ветер стих. Пахло хвоей и сыростью. Океан каким-то своим эфирным телом бродил по улицам, и не ощутить его было нельзя.
Каждый думал о своем. Мне было и хорошо, и грустно. Хорошо оттого, что я держал Чайку за худенькое плечо, и в этом плече моя рука угадывала ее всю, как дочку. От кончиков волос до самых мизинцев. Моя ладонь жила своей жизнью.
А грустно потому, что мысли и чувства Чайки, как, впрочем, и мои тоже, выплескивались за рамки уродливых предписаний общества. Но с этим ничего нельзя было поделать.
«Разве можно за стихи брать деньги?»
Вопрос был весьма непростой. Знала ли Чайка, что первые гонорары от литературы ввел в России Пушкин? Да и нужно ли было ей это знать? Она летала, даже когда читала стихи. Не грешно ли получать за это мзду? Не получали ее ни Хлебников, ни Рубцов, ни Ван Гог, ни Пиросмани, ни многие другие странствующие по миру певцы, художники, музыканты, к коим благоволил Господь, одаривая путников редким талантом, но лишая взамен всех мирских благ.
Мы остановились у провально темного подъезда Чайки. Она боялась надолго оставлять мать одну. Кто знает, какая мутная мысль могла посетить ее туманное сознание. Мать уже пыталась однажды послушать, с каким звуком работают вхолостую газовые горелки.
Чайка подняла на меня все еще печальные глаза, и я понял, что сегодня нам не лежать, обнявшись. Каждому нужно было побыть наедине с собой.
– Знаю, – произнесла Чайка. – Поэты, музыканты, художники тоже должны покупать хлеб. Но я так не могу.
– У Михаила Светлова, – сказал я, – есть шуточные, но горькие строчки, произнесенные как бы от лица его жены: «Миша, напиши стихи. Мне нужны боты».
– Грустно, – сказала Чайка. – Поцелуй меня.
Мне было жаль расставаться с Чайкой, но труба странствий была сильнее. Она звала, и ее звуки бродили уже где-то в крови. К тому же я знал, что расстаюсь с Чайкой ненадолго. Недели на две. Мне нужно было побывать в таежных бригадах сенокосчиков и написать о том, как прошла у них летняя страда. Чайка положила мне руки на плечи.
– Я буду ждать тебя, – сказала она печальным голосом, и у меня защемило сердце.
– Война кончилась, – бодро сказал я и легонько встряхнул ее за плечи. – Выше хвостик!
– Знаешь, что? – задумчиво спросила Чайка.
– Что?
– Вбирай все, что тебя окружает. Это и есть учение. А больше ничему не учись. Лети по ветру, как птичье перо. И тогда ты будешь счастлив. Если, конечно, ни за что не зацепишься. А зацепиться за земное очень просто.
На следующее утро я уже трясся над тайгой в гремящем вертолете. Словно боевой танк, несся он над лесами, реками и болотами, пугая своим рокотом вольные стада оленей, которые убегали от небесного шума неведомо куда.
В тот день дождь кончился, и нижнее пространство время от времени озарялось потоками солнца, и тогда душа моя пела и ликовала, ибо, наконец, начало осуществляться то, о чем мечтал я в далекой столице.
Сверху вся вода в тайге казалась расплавленным оловом, и вся она, рождавшаяся на снежных вершинах сопок, стремилась к Великому Океану.
Я вынул из кармана неотлучного странника и дал ему полюбоваться открывшимся необъятным видом, но вид сей, как, впрочем, и остальные, не выразил в его обличье никаких эмоций: костяной путник был, что называется зеркалом в той полной мере, о какой мы говорили когда-то с Чайкой. Он умел лишь вбирать и отражать. Монах был монахом, имевшим, возможно, душу, но не обладавшим и тенью сердца, хотя одно без другого было немыслимо. Для меня это казалось самым странным и непостижимым явлением, потому что даже звери обладали и тем и другим. Монах же имел лишь направление мысли, о чем и оповещал меня неоднократно посредством ниспосланной ему свыше энергии. Конечно, ему-то уж, монаху, зацепиться за что-либо было просто невозможно.
Два часа лета вытрясли из меня все внутренности. Я, понятно, налюбовался и тайгой, и голубыми сопками в снежных шапках, и бесчисленными извивами синих рек, но к концу полета меня, откровенно говоря, начало подташнивать. Соседи мои, трое эвенков или орочей – я не умел еще сходу определять национальности северян – и с ними две женщины с девочкой-подростком, летевшие, видимо, в свой таежный поселок, напротив, чувствовали себя превосходно. Будто сто двадцать промелькнувших минут были для них началом кругосветного путешествия, глаза их светились радостью, о чем-то они беспрестанно лепетали на своем древнем языке, а я натужно улыбался, точно понимал их лесную речь.
Среди прочих существовал в окрестностях Желтого города такой вид работ – таежный сенокос. У меня было задание: выяснить, как справляются с ним сенокосчики, какие у них трудности, и какая, в случае чего, нужна помощь.
Был между моих спутников еще один человек – такой кругленький, ушастый и вертлявый субъект. Он то и дело совался ко мне, пытаясь что-то объяснить, сообщить, обозначить, показывая рукой вдаль всего надземного мира. А лез он ко мне по двум причинам. Во-первых, ему доподлинно было известно, кто я и с какой целью пересекаю таежную ширь. Во-вторых, и это самое главное, ушастый в очках по имени Ефим Андреевич с редкой, похожей на кличку фамилией Бубырь был, как оказалось, главнокомандующим всех сенокосных бригад на том участке, куда мы летели. А стало быть, начальником многих дремучих болот, где люди Бубыря, как отважные воины, все лето сражались с непролазной травой среди туч гнуса и комарья. Тот народ, в основном, состоял из бродяг-бомжей, которые рады были после окаянной трущобной зимы вольно потрудиться в тайге, заработать денег и разлететься в лучшие края.
Где бродяг не хватало, Ефим Андреевич доукомплектовывал бригады молодыми рабочими того предприятия, где трудился сам в качестве заведующего хозяйственным отделом. Бомжей он подыскивал заранее, подкармливал их, обещал малахитовые горы, а затем забрасывал десантом в тайгу. По четыре, пять человек на стоянку, снабдив их продуктами на все лето. Раз в месяц он навещал подопечных, привозил по паре бутылок водки, почту и так… мелкие гостинцы. Работяги на него не обижались, хотя, как выяснилось позже, особой любви не питали. Сам же Бубырь в таких поездках загружался рыбой, икрой и следовал дальше, в другие бригады.
Вот такой попался мне провожатый с краткой рыбьей фамилией – Бубырь.
От грохота машины и крика Ефима Андреевича, – а ему, чтобы ввести меня в курс дела, приходилось буквально орать мне в ухо свою информацию, – у меня вот-вот должен был лопнуть череп. Но, к счастью, один из орочей или чукчей вдруг радостно объявил:
– Однако подлетаем к «зеленке».
«Зеленкой» называлась новая, второго покоса болотная трава, которую косили до самого снега. Иногда даже под ним.
Вертолет стал снижаться, и я с облегчением вздохнул, увидев внизу игрушечные домики маленького таежного поселка. Впрочем, среди этих домишек, похожих, скорее, на амбары или сараи, стояли четыре-пять каменных четырехэтажек. Неистребимое наследие Хрущевского ума осело даже здесь, в тайге.
Наконец, наша летная машина зависла над ржавым посадочным квадратом.
Я перевел дух.
– Приехали, однако, – сообщил мне тот же улыбчивый ороч и стал натягивать на себя громадный рюкзак. Женщины также споро и без суеты собрали свою поклажу.
Я поблагодарил пилотов и не без ломоты в ногах выбрался наружу.
– Про нас не забудь черкнуть! – крикнул мне молодой парень, один из пилотов.
Видно, они тоже знали, кто я такой.
Второй пилот, постарше, шлепнул молодого по затылку.
– Не лезь к человеку. Он сам знает.
Итак, я выбрался из вертолета со своим провожатым, маршрут которого странным образом, хотя, если разобраться, и не совсем странным, совпадал с моим.
Мы ненадолго задержались в оперативном Управлении, где ничего оперативного не наблюдалось. Люди, как оказалось, которые сутки сидели вдоль стен на корточках в ожидании зарплаты. Зарплата же не предвиделась, на что мой провожатый, ловкий, с большими ушами, просто сказал: «Ерунда. Обычная история». Но работягам у стен с малыми, последними надеждами, конечно, думалось иначе. Они истощались и чернели лицами от питания одной махоркой, продавали с себя одежду, чтобы хоть как-то продержаться.
Бубырь поморщился оттого, что я отметил этот, откровенно говоря, вопиющий факт. Более того, я понял, что мой прямой долг – выяснить, отчего косарям, отработавшим на жутких болотах весь летний сезон, не платят положенных денег. С такой незамысловатой целью я направился к начальнику этого «оперативного» Управления.
Начальником оказалась пышная дама в золотых кольцах и серьгах, которая, изучив мое редакционное удостоверение, с ловкостью профессионального демагога объяснила, что по распоряжению горкома финансовая система Управления лесного хозяйства производит расчеты сенокосчиков по окончании всех работ повсеместно. Пока что экономисты производят подсчеты и ждут, когда соберется весь наличный коллектив бригад. Но вот когда он соберется, наличный коллектив, сказать трудно. Поэтому тем косарям, которые закончили покосы раньше других, придется подождать.
На мой резонный вопрос, на что же передовикам существовать, пока подтянутся остальные, начальница в красивых желтых кольцах пожала плечами. Я сказал, что выясню в горкоме, чье это распоряжение не выдавать зарплаты тем, кто ее уже заработал и что все это похоже, по крайней мере, на ахинею и бред.
Начальница с какой-то тайной обидой поджала губки, молвив, мол, конечно, это мое право, но идти против горкома…
Мне стало ясно, что тут кроется какая-то махинация и какой-то тайный сговор к общей выгоде управленцев.
Я снова прошел по коридору мимо сидевшего вдоль стен угрюмого народа с окаменевшими от кос жилистыми руками. Косари чадили махрой из газетных самокруток. Чем питался таежный люд и где ночевал – было неведомо. И никого не интересовало.
Мне стало не по себе и почему-то стыдно смотреть в глаза работягам, словно я был перед ними в чем-то виноват. За это ли мы чуть не погибли с Севером в его пещере?
И я, конечно, пересилив стыд, все разузнал.
Андрей Ефимович Бубырь ждал меня на выходе, попыхивая дорогой сигаретой. Настроение его, судя по всему, оставалось безмятежным, хотя он и выслушал крутые русские слова в свой адрес, проходя по тем же коридорам, что и я.
Неподалеку два отощавших косца в рваных обносках разливали по стаканам одеколон. Ефим Андреевич спокойно наблюдал происходящее явление.
– Ну и как все это называется? – разозленный, спросил я.
Бубырь с какой-то жалостью поглядел на меня, как, примерно, на потенциального в недалеком будущем покойника, вздохнул и огорченно ответил:
– Это, дорогой мой, называется система. Ладно. Пойдем к вертолету. Нужно навестить оставшиеся бригады.
Я зло и понуро двинулся следом, но предупредил Бубыря, чтобы он впредь не называл меня «дорогим», так как никаких близких, а тем паче родственных отношений за нами не числится.
– Ты не кипятись, – как-то грустно взмолился Ефим Андреевич. – Думаешь, мне самому легко смотреть на всех этих бедолаг? А что я могу? Ну вот скажи, что?
Мне подумалось ненароком: что действительно мог изменить в системе начальник болот? С этой пучеглазой и многорукой ведьмой – системой – вряд ли мог справиться и я. Но попытаться я был обязан.
И снова мы тряслись в гулком вертолете, но теперь уже Бубырь молчал, словно камень, лишь уныло и тускло смотрел в иллюминатор.
В какой-то момент мне показалось, будто рядом с вертолетом, чуть сбоку, нас сопровождает Чайка, посылая мне энергию и силы, что вполне могло быть на самом деле. Впрочем, это видение было и призрачным, и эфемерным, и вскоре то ли иллюзия, то ли явь исчезли. Я остался один на один со своими мыслями, которые уже свивались в клубок будущего очерка и даже рассказа. А Бубырь… он и был бубырь – малая рыбешка-проводник, тогда как акулы с огромными зубами и аппетитами спокойно плавали в центре системы, куда мне и надлежало проникнуть по возвращении. Я уже все понял, как и что здесь происходит.
Ефим Андреевич доставлял, куда надо весьма условные сводки о проделанной косарями работе, и ему перепадало от акул свое вознаграждение. Это удобнее было совершать, когда собирались все сезонники разом. Вот тогда, в общей неразберихе, можно смело урвать свой куш.
Я понял Бубыря, а Бубырь уразумел, что его раскусили, и теперь, видимо, соображал, как вынырнуть из мутной воды.
– Учти, Андреевич, – перекричал я грохот мотора, – мне придется вести свой учет: где, на каком участке сколько чего сделано. Потом сверим с твоими сводками, которые ты уже передал в Управление. Не возражаешь?
Бубырь таинственно улыбнулся уголками губ.
– Но это двадцать километров тайги по обе стороны реки. Пешком. А вертолет более суток я держать не могу.
– Не волнуйся, – сказал я ласково. – С летчиками я договорюсь.
– Ну-ну, валяй, – со злой усмешкой напутствовал меня Бубырь.
Мне стало ясно, что пока я буду путешествовать, он все равно надует меня, свяжется по рации с Управой и исправит все необходимое. Я понял, что уже сделал промашку, потому что мне нужно было сразу затребовать все бумаги у золотолюбивой дамы. Тогда Ефим Андреевич уже ничего не смог бы сделать.
И все-таки я переиграл Бубыря. Я попросил летчиков сесть прежде всего на стоянке с рацией и получил всю необходимую информацию из первых рук. Теперь он плелся за мной, как побитый, когда мы приземлились на берегу реки возле одной из бригад.
Стоял уже вечер, и солнце выглядывало из-за синей сопки малиновой краюхой. Над шумной неумолчной речкой плыл легкий, прозрачный, как вуаль, туман. Густо пахло прелью.
Четверо бородатых мужиков вышли из жилого вагончика – встречать воздушную машину. Они, конечно, ожидали Бубыря одного и, увидев меня, насторожились. Но я легко сходился с людьми, тем более в моем рюкзаке лежало несколько бутылок на все случаи, а тут, в тайге, эти случаи очень уважали.
Вскоре мы сидели за общим столом и вели мирную, дружескую беседу, из которой я выяснил и записал: где, сколько и в какое время поставлены стога. Оказалось, очень важно: в какое именно время собраны хаты из трав – стога. Июньские они или, скажем, августовские. От этого зависели цены. Вот тут Бубырь и мог делать свое черное дело, выдавая одно за другое, а кроме того, как бы не замечая в своих записях некоторых, поставленных с таким рудом, травяных домов.
Ефим Андреевич, кстати сказать, попав в явный капкан, сидел молчаливый и понурый. Даже сезонники обратили внимание на выражение лица начальника болот.
– Ты чего такой тяжелый, Андреевич? – поинтересовался бригадир. – Выпей водочки и не горюй. Норму мы почти выполнили. Стога добиваем. Видишь, дождик был. Отдыхали. Делов-то на три-четыре дня. Так что не волновайся. Мы тебя никогда не подводили. Ты знаешь. Теперь в газету попадешь за наш ударный труд. Спросят: кто организовал? А корреспондент напишет, вот он – командир всех таежных бичей, Ефим Андреевич Бубырь. Красиво? Красиво. Давай, ложи свою папку и подвигайся к столу. Чего ты ее держишь, как дитя?
Ефим Андреевич вздрогнул от последних слов подчиненного косаря, но вместо ответа судорожно посмотрел на часы, и от водки с кижучем отказался, сообщив, что, мол, нам с корреспондентом еще надо успеть в бригаду Геннадия.
– Ну вот, – досадовали лесные рабочие. – Привез человека с Москвы и тут же крадешь. Ни посидеть, ни поговорить…
– Надо, ребята. Надо, – нервничал Бубырь.
Я тепло распрощался с бородачами, которые, понятно, как и все северяне, не могли обойтись без подарков и насильно засунули в мой мешок пару банок икры и двух чудесных, серебряных нерок. А Бубырь от всего показушно отказался и даже побежал, смешно подпрыгивая, к вертолету. Что-то он задумал, мне почудилось, этот хитрый Бубырь. Какую-то, мне подумалось, он затеял пакость. Нужно быть настороже.
Мы залезли в кабину в знобкой прохладе наступавшего вечера. Сумерки уже проснулись и тихо выползали из тайги к реке. Но наверху, над лесом, день еще был в силе, воздух держался прозрачным и чистым.
– Добраться бы до темноты, – театрально бодро крикнул мне Ефим Андреевич, словно не было для него никакой грозной опасности, а между нами не висела напряженная неприязнь.
Летели мы недолго. Вскоре внизу, на небольшой поляне, показался такой же, как и предыдущий, вагончик и рядом с ним – две подсобные палатки, где обычно хранились продукты и всевозможный рабочий инвентарь. Тут же, обычно, ютилась под навесом небольшая кухня. За редким перелеском высились, похожие на украинские хаты, четыре стога, кучно стоявшие в дружбе и согласии, словно там жили добрые, мирные хуторяне.
Вертолет плавно и осторожно опустился на малый клочок таежной земли и еще долго зачем-то работал мотором, может быть, проверяя свою дальнейшую прочность.
За это время мы с Бубырем уже достигли вагончика, но он оказался пустым. Не было никого ни в палатках, ни в округе.
– Пойду, пошукаю кого-нибудь, – дернулся Ефим Андреевич. – Посиди в домике. Я мигом.
В жилище таежников я присел на скамью у деревянного стола и стал оглядывать их неприхотливый быт. Пара кос в углу, фуфайки на стенах, тут же на гвозде – вязанка вяленой рыбы, три лежанки с матрацами, покрытыми грубыми одеялами, керосиновая лампа на столе, стопка оловянной посуды. Вот, собственно, и все, не считая сорокалитрового бидона, из которого шел спиртной дух свежей браги, какую сезонники готовили из томатной пасты.
Я повернулся к маленькому окошку. Сквозь него была видна бурливая река с белыми бурунами на перекатах, украшавших водное движение. Вечер быстро таял, мягко рождая ночь.
Я достал рукой керосинку, пахнувшую слабой гарью и красившую внутренность вагончика теплым домашним светом. Подвинул к себе.
В этот момент вошел коренастый, заросший густой щетиной мужик и молча остановился напротив меня без всякого удивления.
Я поздоровался, но он ничего не ответил, имея в глазах какую-то свирепую, грубую думу.
– Ну? – строго спросил пришелец. Свет лампы графично красил его заросшую физиономию бронзово-грязным цветом.
– Что – ну? – не понял я.
– Тебе известно, что Фима Бубырь – человек?
Я засмеялся.
– Ясно – не корова.
Но засмеялся я напрасно. Потому что в следующую секунду заступник Бубыря схватил со стола нож и несильно воткнул его мне в горло, но так, что я почувствовал, как поползла по шее тонкая змейка крови.
– Запомни, газетная сука, – разъярял себя защитник «человека» – Фимы Бубыря. – Ты прилетел в тайгу, и тут я могу быть тебе и прокурором, и судьей. Проткну сейчас этой железкой, отнесу в ближайшее болото и все. И нет тебя вместе с твоими расследованиями. А там ищи, свищи: пошел пописать, оступился, сгинул в топи, заблудился, медведь задрал, речка унесла… Да мало ли что!..
Я сидел в оцепенении, не шевелясь, но заметил с самого начала грозного монолога Бубыревского воина, что кто-то ещё появился и тихо стал за его спиной. Меня тронула мысль о сговоре.
– И если ты хоть строчку напишешь против Фимы, – продолжал его посланник (теперь это было очевидно), – я тебя, паскуду, под землей найду. Понял меня? – спросил сенокосный бандит и чуть сильнее воткнул жало ножа.
Я не успел ответить, потому что услышал позади своего врага тупой удар, словно отбивным молотком по куску мяса, и заступник Бубыря вдруг сморщился, что-то невнятно залепетал, как бы стесняясь, и начал тихо опускаться на пол. Наконец, рухнул и распластался во весь рост, широко раскинув руки. Над павшим телом напротив меня стоял Гена с топором. Тот самый Гена из «Ласточки», который первым в городе предложил мне свою помощь и который потом читал во Дворце Культуры поэму перед выступлением Чайки.
– Привет, писатель! Мир тесен, – улыбнулся Гена как старый друг, и бросил топор в угол. – Не бойся, я его тихонько. Обухом. Давай, помоги. Вытащим дядю на траву. Пусть проветрится. Я давно подозревал, что они с Бубырем что-то химичат, но не мог к ним подобраться. Ты же их, как я понял, раскусил. Молодец. Будешь писать – пиши все как есть. Ничего не бойся. Этот лох, Паша, из блатных, вроде бы крутой. На самом деле – просто шваль.
Мы взяли блатного Пашу под мышки и вытащили из времянки наружу. Ноги его при этом сначала волочились по полу, а потом прыгали по ступенькам, как у тряпичной куклы.
Итак, Паша лежал неподалеку, отдыхая от блатной страсти и, еще не придя в себя, закашлялся каким-то хриплым, наждачным кашлем.
– Вот видишь, – успокоил меня Гена. – Отойдет. Я этих блатырей поганых повидал, слава Богу. Пойдем, надо тебе йодом шею смазать. Он, гад, весь твой воротник испортил. Стирать надо.
– Спасибо, вовремя ты подоспел, – благодарно сказал я.
– Да ладно, – отмахнулся Гена. – Мне вертолетчики сообщили: мол, корреспондент к вам. Вот я и пришел поглядеть. А тут на тебе… Ты, да еще в такой ситуации. Я даже замер на пороге. И оказалось, очень кстати замер, хотя и подверг тебя испытанию. Зато, прослушав Пашину пламенную речь, окончательно всё себе уяснил.
Пока Гена производил лечение, я рассказывал бригадиру, каким образом Бубырь обкрадывал косарей, а блатной Паша, стало быть, служил ему прикрытием.
– Я так и предполагал, – задумался Гена. – Конечно, когда они специально собирают для расчета все бригады сразу, у кассы вырастает такая толпа, что люди не разбираются, за что и сколько им платят. Лишь бы скорее получить. Вот тут и зарыта собака. За июньское сено платят как за августовское, срезают минимум по полстога с бригады, чего-то набрасывают на продукты. Таким образом, набивают себе карманы. А бывший бродяга… Будет ли он выяснять или спорить, если сзади сто человек: «Давай, отходи!» Вот и напиши, Олег. Обо всем этом обязательно напиши. А факты мы соберем. Обкатаем все бригады и соберем. Помчимся прямо сейчас, – загорелся Гена. – Лодка на берегу. До ближайшей стоянки – час. Ребята еще не спят. Как раз успеем. Вертолет отпустим. Пусть прилетит за тобой на нижнюю стоянку через пару дней. За это время управимся. Не побоишься ночью на резинке по дикой речке?
– Побоюсь? – переспросил я, ощущая внутри радостный холодок. – Всю жизнь мечтал!
В сей момент из мрака открытой двери в светлой куртке и светлых штанах, как апостол, явился Ефим Андреевич Бубырь.
– Вот ты где! – наигранно возликовал он, преданно глядя на бригадира собачьими глазами. – А я тебя ищу, ищу по всему участку Бегаю, бегаю – вся рубаха мокрая.
– Сейчас она будет еще мокрее, – обрадовал Бубыря Гена. – Друг твой – Паша – уже лежит за бараком, скучает по тебе. Теперь и ты ляжешь со своим корешем, – объявил Бубырю свой приговор бригадир и взял командующего покосами за ворот жилистой деревянной рукой.
Бубырь испуганно и часто заморгал из-под толстых очков крупными, навыкате, глазами.
– Не надо, Гена! – взмолился Ефим Андреевич. – У меня дети!
– А воровать у своих же ребят – надо? Запускать на корреспондента бандита-Пашу – надо? Видишь, как ты действуешь? Я тебя, Фима Бубырь, сейчас на гвоздь за жабры подвешу, и будешь висеть, сохнуть до синего цвета.
– Не трогай его, – упредил я Гену, боясь, как бы на него не свалились неприятности. – Мы ему не судьи. Пускай летит домой и лежит под одеялом. А дальше видно будет.
Мы проводили поникшего Ефима Андреевича к вертолету, и я попросил пилота вернуться за мной на нижнюю стоянку через два дня. Кроме того, я попросил пилота-Сашу позвонить в редакцию и сообщить, что у меня собирается интересный материал о местных махинациях, поэтому придется задержаться на некоторое время.
Вертолет, дробя таежную тишину, словно внутри нее хранились куски металла, взмыл вверх, сверкнул огнями, как летающая тарелка, и вскоре исчез из вида. Но отдаленный рокот еще долго был слышен вдали, пока его не заглушил шум реки.
Тайга тихо спала и мирно дышала опьяняющей хвоей, когда откуда-то из-под земли поползли черные клочки туч, глотая звезды и время от времени покрывая фиолетовую луну живою серебристо-серой коркой.
Мы с бригадиром вернулись в вагончик – запастись в дорогу провиантом и теплой одеждой. Пострадавший Паша уже очнулся и сидел у лампы за столом, запивая печаль больной головы брагой из железной кружки.
– Очухался? – спокойно спросил Гена, снимая со стены рюкзак для провизии.
Блатной Паша ничего не ответил, лишь издал невнятный звук, похожий на мычание, что означало: голова его еще не кипит от радости.
– Я тебе в следующий раз башку вообще напрочь отобью, – пообещал бригадир. – Потому что у тебя она прикручена задом наперед. Завтра закончишь здесь все стога. Осталась ерунда. На день работы. Понял меня?
– Понял, – покорно ответил недужный Паша.
– Ну, вот и хорошо, – сказал мой защитник. – Значит, мозги еще шевелятся.
Мы с Геной переоделись в болотники и фуфайки, так как по тайге пронзительно и остро разливался холод, принесенный рекою со снежных вершин сопок. Подтащили резиновую лодку к воде.
– Бери весло и залезай вперед, в нос, – как-то весело наказал бригадир. – В случае чего, помогать будешь. Но только по моей команде. Особенно на перекатах. Там нас будет кружить, как на карусели. Речка – не подарок. Так что держись. Тем более ночь кругом. Рулить буду я. Если что – не мандражируй, а хладнокровно борись. И будь спокоен. Доберемся. Не впервой.
Гена немного отвел лодку от берега и легко запрыгнул на корму. И тут же в неясном свете луны нас стремительно понесло вниз по течению.
– Ощущаешь?! – еще радостнее крикнул мой провожатый.
– Ощущаю! – отозвался я, чувствуя горячую щекотку азарта и риска.
Всё прошлое было ничто в сравнении с этим ночным полётом по волнам дикой, шальной реки. На мгновение я вспомнил о Чайке и понял её восторги после небесных путешествий. Теперь по-настоящему осознал. Потому что сейчас сам испытывал то же самое.
Мы неслись вперед, обдаваемые ледяными брызгами, лавируя между островами и перепрыгивая через перекаты, а лес то пятился в стороны, то подступал вплотную в протоках, но всё убегал, убегал и убегал прочь.
Душа моя слилась с сердцем, переместившись куда-то в голову, и постоянно вздрагивала от ликующей радости, от ощущения полного слияния с дикой природой.
«Лети по ветру, как птичье перо, и тогда будешь счастлив», – вспомнил я напутствие богини Артемиды. И вот они, эти слова – воплотились.
Внезапно мы наскочили на мелководье, и я чуть не вывалился за борт. Нас закружило на месте, камни заскрежетали о днище, словно хотели прогрызть его.
– Отталкивайся от дна! – закричал рулевой-Гена.
Изо всех сил я начал вонзать весло под гладкие, отточенные быстрой водой, булыжники, и вскоре мы снова неудержимо неслись в сторону океана, ныряли под волны и взлетали на бурунах. Это было не плавание, а настоящий ночной полет, но острее и упоительнее его я никогда ничего не испытывал.
– Залом! – вдруг крикнул Гена. – Заводи вправо! Быстро!
Я стал бешено работать веслом. По спине потекли струйки пота.
Действительно, через несколько минут с левой стороны промелькнуло скопище ощеренных и острых, как копья, бревен.
Я перевел дух. Мимо пронеслась вполне возможная наша погибель.
– Отлично! – одобрил мою работу рулевой. – Осталось немного. Скоро будем на месте.
«Место» оказалось пологим берегом, засеянным мелкой галькой, и Гена легко вырулил прямо к руслу скромного ручья, нежно питавшего, как и сотни прочих, резвую, неуемную речку.
Лодку с легким шелестом днища мы оттащили подальше от опасной воды, которая жила своей непредсказуемой природной жизнью, периодически проявляя необузданный характер.
– Утром проснемся, а речка вздуется метра на два. И такое бывает, – объяснил капитан.
Домик новой бригады стоял недалеко от берега и желто тлел маленькими оконцами. Значит, косари, как говорил Гена, еще бдели, скорее всего – чаёвничали…
Мотора мы не имели, причалили тихо, как диверсанты, и потому никто для встречи не обнаружился.
– А знаешь, – признался я Гене, пока мы складывали вещи. – Я слышал твоё выступление во Дворце Культуры. Твою поэму. Мне понравилось. Это я искренне говорю.
– Правда? – обрадовался бригадир.
– Конечно, правда. Врать мне зачем? Какой смысл?
– У меня таких поэм с десяток накопилось. Ну и стихов разных.
– Покажешь в городе, когда вернемся? Если все остальное на таком же уровне, отошлем в Москву, сделаем книжку. Это я тебе обещаю. По дружбе.
– Хорошо бы, – сказал, пусть и с некоторым сомнением, Гена и поскреб затылок. – Если родился ребенок, хочется, чтоб он жил.
– Будет жить! – заверил я бригадира тоном врача, сделавшего удачную операцию.
– Здорово, ветераны! – бодро приветствовал Гена таёжных братьев, войдя в обитель бывших бродяг, которые и впрямь сидели у коптилки за столом и хлебали крутой чай. – Принимайте гостей.
Мы развесили нательное бельё на печи для просушки и в одних трусах подсели на скамью к чаевникам. Я достал приготовленную на все случаи жизни бутылку водки, и трудящиеся тайги загудели, как шмели.
И покатился длинный разговор о насущном: о сенокосе, подлюге-Бубыре и его верном друге – блатном Паше. Затем – о Москве, политике, ценах, футболе и, конечно, о бабах.
Утром мы обошли все делянки, и я подробно переписал наличные стога с учетом времени их создания. Тут же, сверяясь с уже имеющееся у меня информацией, все поняли, где и насколько обкрадывал людей хитромудрый Ефим Андреевич Бубырь.
Примерно то же самое произошло и в других бригадах.
Через два дня Гена проводил меня в Желтый.
Статья получилась хлесткая, колючая. Я писал её с таким ощущением, будто по коже всех людей, которых я обязан защитить, течет холодная змейка крови от Пашиного ножа, а за спиной блатного стоит и спокойно наблюдает за происходящим сквозь толстые очки маленький генерал большого таежного сенокоса – Ефим Андреевич Бубырь.
Через некоторое время Фиму Бубыря вместе с его отчаянным другом Пашей перевели на жительство за тюремный забор, золотоносную начальницу Управления тоже определили в места поскромнее. И сняли с должности кого-то в Горкоме. Но самым главным и радостным для меня было то, что сезонникам начали, наконец, выдавать зарплату и именно ту, какую они заработали.
Встреча с Чайкой была настолько желанной и нежной, будто я воевал лет десять и вот, слава Богу, вернулся к родной жене.
Неожиданно, откуда-то с моря, твердо и уверенно в город вошли холода. И, похоже, вошли надолго.
Я получил гонорар и новую командировку на золотой прииск, но перед отъездом решил навестить Севера.
Капитан причальной хаты был как всегда на посту. Он сидел в одиночестве при полном морском параде, изучая вахтенный журнал. Обнаружив моё появление, Север зашелся в широкой улыбке и двинулся навстречу.
– Здорово, герой! – высказал он своё приветствие и пожал мне руку железными пальцами. – Я теперь ни одной твоей газеты не пропускаю. Читал и последнее сочинение. Крепко ты их рубанул.
– Обычная статья, – сказал я. – Резкая, конечно. Но ничего особенного. Это моя работа. Такая же как у любого другого. Такая, как у тебя, например.
– Дурак ты, – осерчал Север. – Тебя за такую обычную работу свободно шлепнуть могут как котенка. Понимаешь – нет? Требуй, чтоб начальник тебе наган выдал. А вообще я тобой горжусь, – снова улыбнулся во все свои казацкие усы Север. – Я как-то с самого начала почуял, что в тебе наша, морская железа жизни существует, – повторил он давние слова Семена. А может, Семен когда-то выразился определением Севера. – Значит, штормов ты не боишься, и это мне в тебе нравится больше всего. Ну, присаживайся и доложи своё путешествие, – пригласил Север и достал из шкафа привычную бутылку вина.
До самой середины зимы я мотался по командировкам. Ездил на прииски, летал к оленеводам, катался на собачьих упряжках, бывал у рыбаков и даже опускался в океан на подводной лодке. Работал в газете, на телевидении, выступал по радио. Но с пышнолицым вожаком Владимиром Придорожным при встречах, – а они теперь были частыми, – принципиально не здоровался, просто не замечал, как будто вместо него шел один голый воздух.
Чукчи подарили мне унты, охотники-орочи – шапку из рыси и собачью шубу, – отказ здесь равнялся кровной обиде.
В каждой поездке я безумно скучал по Чайке. И по Москве. Но эти предметы жизни везде незримо были рядом. Мой же неотлучный друг – костяной путник – провозгласил однажды: «Твой час!»
Да, это был мой час, тот самый, о котором я когда-то тосковал в столице, чувствуя себя деревянным шкафом с поношенной одеждой.
Но вот однажды, вернувшись из очередной командировки, я первым делом помчался к Чайке. Дверь мне открыла коридорная соседка и почему-то шепотом сообщила, что мать Чайки от какого-то своего тайного интереса вышла из окна наружу с третьего этажа. Жила она после этой прогулки минут десять, а потом превратилась в мертвое тело. Что у Чайки произошёл приступ, и она стала крушить в квартире всё подряд. Тогда приехали те, которые в белых халатах, и увезли её в психиатрическую больницу.
Мать похоронила общественность, а Чайка до сих пор в лечебнице.
Я рванул в редакцию к Михаилу Степановичу, потому что только он, редактор центральной газеты, мог помочь мне вызволить Чайку из сомнительного и опасного, на мой взгляд, заведения. Её могли для усмирения заколоть какой-нибудь дрянью, сульфидином, например, отчего бы она уже навсегда перестала быть Чайкой.
Захлёбываясь и глотая воздух, я сбивчиво поведал Михаилу Степановичу всю Чайкину историю и, конечно, то, какое я к этому имею отношение.
Редактор тут же позвонил куда-то, – в этом городе он знал всё и всех, – выяснил, где находится Чайка, под чьим она контролем и коротко сказал мне: «Поехали. Быстро».
Мы сели в редакционный «Жигуль» и через пятнадцать минут, которые показались мне вязким часом, были на месте.
Сам вид больницы вызвал во мне отвращение и ужас. Перед нами вырос четырехэтажный каменный монстр в желтой облезлой шкуре с зарешеченными мутными глазами и ощеренной пастью такой же зарешеченной входной двери. Во чреве этого монстра и томилась под видом лечения моя единственная, моя неповторимая розовая Чайка.
Я почувствовал, как неожиданно у меня ослабли ноги, и сказал Михаилу Степановичу, что подожду на улице: мне действительно не хватало воздуха и щемило сердце. Да. Сам я вряд ли мог что-либо сделать. Кто я был Чайке? Муж? Брат? Сват? Кто?!
Я закурил и, глядя в небо, стал просить Наблюдателя помочь мне, помиловать Чайку и дать Михаилу Степановичу ту власть, которая позволила бы ему вырвать Ольгу из лап рачителей душевного здоровья, которые сами, как мне было известно, зачастую нуждались в лечении.
Я курил одну сигарету за другой, потому что время в моем ощущении опьянело и свалилось замертво; а когда оно очнется, это чёртово время, было неведомо.
Я припомнил все, что у нас было с Чайкой, от самого начала. От нашего летучего и счастливого знакомства в московском метро до последней встречи. Припомнил всю её нежную, ласковую, трепетную женскую суть, её чудесное тело до последней родинки, её фантазии, полеты, слова и напутствия. И – молился, молился, молился.
Дверь больницы отворилась неожиданно резко. Из неё не вышли, а буквально вынеслись трое мужчин в белых халатах и две женщины в том же одеянии. Впереди всех был Михаил Степанович. По выражению его лица и лиц остальных я понял, что произошло нечто ужасное. Внутри у меня всё обуглилось в предчувствии какого-то страшного приговора, и я пошел навстречу врачам на каменных ногах.
– Её нигде нет, – сообщил Михаил Степанович, тяжело дыша. – Обыскали всю больницу.
– С утра была на месте, – добавил медработник, видимо, главврач. – Не понимаю. Ничего не понимаю. Отсюда невозможно сбежать! Это не тюрьма. Отсюда немыслимо…
– В милицию я позвонила, Юрий Юрьевич, – услужливо выпятилась одна из медсестер.
– Не понимаю, – повторил Юрий Юрьевич. – Сбежать практически невозможно.
– Сбежать невозможно, – врастяжку сказал я, ощущая, как весь мир вокруг превращается в пепел. – Но она – Чайка. Ей под силу просто улететь.
– Что? – сказал второй врач.
– Как, значит, улететь? – спросил Юрий Юрьевич…
Вечером я пошел к океану. Широкое поле залива было укрыто ровным снежным покрывалом.
Я долго смотрел на это поле, не имея внутри себя никаких мыслей. Лишь тугая, тяжелая тоска по-тюленьи ворочалась во мне, терзая одним и тем же вопросом: где ты, моя Чайка?
И вдруг я четко увидел посреди залива большие песочные часы, – Клепсидру, как называли такие счетчики времени древние греки. Нижняя их часть была заполнена зыбучим материалом. Лишь малая толика песка оставалась в верхнем прозрачном конусе. Когда же последние крохи просочились вниз, из-за дальней темной сопки протянулась чья-то громадная рука и перевернула часы для нового действия. Тогда с той же сопки слетела крупная розовая птица и уселась поверх древнего механизма, поглядывая на меня острым внимательным глазом.
– Ты хотел владеть? – услышал я знакомый птичий голос. – И быть свободным? Но владеть и быть свободным невозможно. Радуйся тому, что есть вокруг. Каждой ветке, прорисованной в небе, голубому излому льда, черте окоема, неведомой дали. И чайке, однажды пролетевшей над тобой с радостным криком.
Я достал костяного путника.
– Как мне найти в этой круговерти Чайку? – спросил я старца.
«Твое желание – есть луч, – сказал костяной странник. – Луч превратится в мысль. Мысль – в образ. Образ – в реальное воплощение. Так было создано все в этом мире. Жди встречи!»
Я пригляделся к древним часам. Песок в них был утекающим, безмолвным временем.
Розовая чайка спокойно сидела на верхней планке хрустального конуса, опущенного острием вниз. Как большие, добрые звери, по обе стороны залива очарованно застыли синие сопки.
И мне показалось на мгновенье, что все это: и сопки, и чайка, и часы, и залив, и сам я в том числе – лишь легкое отражение чего-то далекого, нездешнего, робкий снимок с какой-то старой, ветхой картины. А может, на самом деле так и было.
МОСКВА
Конечно, я нашел Чайку. Вернее, она снова нашла меня. Я был на берегу и мысленно бродил по острову Спафарьева, который, помните, я говорил, висел над морем. На самом горизонте. Тут меня и обнаружила Чайка. То ли на берегу, то ли на самом острове. Не уверен точно. Не стану описывать, что это была за встреча. Вскоре мы вернулись в родную и дорогую нам обоим столицу. Через некоторое время родилась дочка-Веточка, как и хотела в прошлом Чайка. И я, могу похвастаться, теперь чуть ли не каждый день гуляю с ней, с Веткой, по Измайловскому парку, часто вспоминая эту, выше описанную, необыкновенную, согласитесь, историю.
«Вот и все, – сказал мне однажды костяной монах, снова стоявший на моей книжной полке рядом с иконой Христа. – Теперь у тебя есть дом, жена и дочка. Но запомни: истинным твоим домом всегда будет Дом в океане».
Больше за всю мою жизнь костяной путник не проронил ни слова.
Конечно, полагаю, всем хотелось бы, чтобы на самом деле так мой роман и закончился, к общему, надо думать, удовольствию.
– Однако, – сказала моя старая знакомая, Богиня Артемида: в одной руке – лук, в другой – копье. За плечами – колчан. – Ты, я наблюдаю, неплохой сочинитель и даже, бывает, искусный враль. А главное – безумец перед богами. И это мне нравится. Лети же по ветру, как птичье перо. Помнишь, я говорила тебе в самом начале. Лети, но ни за что земное не цепляйся. Прощай.
– Прощай же и ты, прекрасная Артемида, сестра Аполлона, дочь Зевса и Латоны, ненаглядное чадо царя Кадма.
Понятно, дочь Зевса Артемиду, я никогда не видел. Мелькнул лишь ее тонкий девичий абрис. Иначе я превращен был бы в оленя и растерзан ее собственными собаками. Можете не сомневаться – так бы оно и было.
Проводник Повесть
Они выплеснулись неожиданно из темной чащи кустарника.
Вылетели на солнце, вспыхнули, обожженные счастьем бесшабашного, упоительного галопа, и понеслись наперегонки, рассекая траву и цветы.
Рыже-золотым клубком катилась по зеленому лугу Джулька, словно кто-то сильной рукой запустил ее из сиреневых чащоб, а рядом с нею ошалело летел похожий на небольшого волка радостный Джулькин избранник – Боцман.
Иногда Джулька прямо на бегу, на всем их бешеном спринте умудрялась лизнуть Боцмана в щеку, умудрялась обнять его лапой или просто коснуться шерсти, что тоже было проявлением любви. И Боцман совершал то же самое.
Если бы вы стояли на пригорке, а перед вами искрился, рассыпался и сверкал беспорядочный цветочный луг, по которому носились голова к голове две дворняги, вы бы сразу поняли: они любят друг друга. Они действительно любили и были неразлучны.
А началось дело с того, что Боцман, давно, видимо, положивший на вислоухую красавицу Джульетту свой острый собачий глаз, задыхаясь от счастья, проник в подъезд Джулькиного дома и, уже не в силах объясняться в чувствах, просто овладел ею. Они замерли в потоке блаженства и так стояли, ощущая любовь.
Но тут раздался оглушительный крик консьержки.
Собаки сразу поняли, что эта тощая тетка со скатавшимися клоками вместо волос ничего подобного никогда не испытывала, и решили не обращать на нее внимания. Тогда консьержка, сбивая каблуки, понеслась на третий этаж к Борису Борисовичу, хозяину Джульки, и, брызжа слюной, стала кричать, что внизу происходит жуткая гадость.
Борис Борисович с Тамарой Петровной только что приступили к завтраку, и тут эта идиотическая консьержка… Тамара Петровна сказала:
– Сходи, Лапа. Посмотри, что у них там.
– Где наши лыжные палки, Лапуля? – растерянно спросил Борис Борисович.
– Не знаю, Лапа. Наверное, там, в углу. Не помню. А зачем палки?
– Возможно, их придется хлестануть. Знаешь, как бывает у собак.
– А-а… – поняла Тамара Петровна. – Тогда порыскай возле шифоньера.
В углу, возле шкафа, был своего рода склад уникальных вещей. Тут, одно на другое, было заботливо навалено все самое лучшее. С мусорки. Кофты, рубашки, пиджаки, туфли, игрушки, коробки, радиоблоки, баян, телевизор, ящик с ржавыми болтами, лыжи и, конечно, палки всех сортов.
Борис Борисович подтянул походные джинсы и, выбрав нужную палку, пошел к консьержке, которая уже топталась на пороге, словно перед ней закрыли двери туалета.
Они спустились на первый этаж и обнаружили влюбленных, стоявших в той же блаженной позе. Борис Борисович терпеть не мог издевательств над животными, но, чтобы консьержка закрыла, наконец, рот, хлестанул Боцмана по заднице. Любовь сразу прервалась. Боцман пулей вылетел из подъезда. Однако на Бориса Борисовича по благородству сердца не обиделся. Во-первых, потому, что его, случалось, бивали и сильнее. Он порою неделями отлеживался в подворотнях. А Борис Борисович… это так, ерунда. Просто вежливо подсказал, что для любви нужно было найти более подходящее место. Это – во-первых. А во-вторых, не осерчал Боцман и потому, что Борис Борисович, все-таки, имел непосредственное отношение к Джульетте и это, конечно, надо было учитывать.
Потому-то через три дня, когда Борис Борисович, нагруженный, как путешественник, рюкзаком с пустыми бутылками влезал в троллейбус, Боцман тут же верноподданнически прошмыгнул рядом и уселся у его ног. Он, Боцман, действительно был похож на волка-подростка. Густая черно-серая шерсть, острая волчья морда и все понимающие, себе на уме, мазутно-сливовые глаза.
– Ну? – спросил Борис Борисович Боцмана, который преданными очами глядел на хозяина Джульетты, можно сказать – духовного отца любимой Джульки. – Что будем делать, жених?
Боцман понял: на этот серьезный вопрос нужно как-то отреагировать и в знак примирения подал Борису Борисовичу лапу.
– Это – само собой, – сказал Борис Борисович. – Но от алиментов не отвертишься.
Борис Борисович не испытывал к постороннему дворовому псу неприязни за содеянное с Джулькой. Что ж, дело житейское. Кроме того, Борис Борисович любил всякое живое существо во всех его проявлениях, но, правду сказать, никаких прожектов относительно приставшей дворняги не строил, несмотря даже на протянутую в знак примирения лапу.
Так ехали они в троллейбусе, позвякивая пустыми бутылками, довольно долго и далеко. Глядели друг на друга, и каждый думал о своем.
Наконец, Борис Борисович выбрался из транспорта с гремящей ношей и направился к пункту приема посуды, размышляя по пути: хватит ли ему вырученных денег на вино. А пес уже преданно бежал рядом, словно Борис Борисович давно был его любимым хозяином.
На бутылку денег хватало.
Борис Борисович торопился вернуться назад, чтобы в родных стенах обрести необходимое спокойствие и блаженство тела. Он напрочь забыл о собаке, втиснулся в переполненный троллейбус, и дверь за ним с лязгом захлопнулась. Боцман остался стоять на остановке в чуждой, далекой стороне. Почему Борис Борисович с первой же встречи окрестил его Боцманом – один Бог ведает. Лишь когда они сели с Тамарой Петровной за стол, Борис Борисович вспомнил о собаке и засовестился.
– Бросил я его там одного, Лапуля, – переживал он. – Ведь это далеко. Он там чужой. У них, у собак, с этим строго. Чужой на территории – враг. Покусать могут запросто.
– Не убивайся, Лапа, – успокаивала мужа Тамара Петровна. – Они договорятся. По своим законам. Что ж, ты должен был его на такси везти?
– То-то и оно, – вздохнул Борис Борисович.
– Я не помню, Лапа, – с некоторой тревогой молвила Тамара Петровна. – Ты сегодня ходил хрусталь сдавать? Вроде бы я собирала тебе сумки.
Борис Борисович не обиделся на такую вопиющую забывчивость супруги. Он уже привык и смирился с тем, что Тамара Петровна, женщина еще молодая, – всего сорок два, – выглядела теперь попутной старухой. Она в последнее время ничегошеньки не помнила, склероз останавливал ее посреди комнаты с тряпкой ли, мылом или какой-нибудь ценной вещью с мусорки, ибо на полпути она уже не ведала, куда двигалась по какой-либо надобности и зачем.
– Ну как же, Лапуля… Ты что забыла? – возразил Борис Борисович.
Он и сам, сильно поседевший в последнее время, походил на молодого старика, хоть лет ему было чуть больше, чем Тамаре Петровне. Сознавая свою преждевременную старость, а может быть, даже ощущая незримые весла лодки, неуклонно несущей его в направлении реки Стикс, Борис Борисович, сдавшись течению, мирно называл себя дедом, хоть детей, а стало быть, и внуков у них с Тамарой Петровной не было.
Одет Борис Борисович, надо сказать, был, с некоторым изыском, но с чужого плеча, – что добывал в походах к мусорным контейнерам. Иногда, впрочем, попадались вещи добротные, почти новые. Тогда Борис Борисович с Тамарой Петровной радовались и недоумевали: до чего же люди бесятся с жиру, выбрасывая добро. А выбрасывали много чего.
Бориса Борисовича со временем обуяла даже какая-то нездоровая страсть к таким экспедициям, и он тащил в дом все, что ни попадя. Даже, откровенно говоря, то, назначения чему не знал вовсе. К примеру, под кухонным столом стояло электрополотенце, какие вешают в туалетах вокзалов, аэропортов, гостиниц и прочих заведений. Но Борис Борисович уже забыл и вокзалы, и аэропорты, а потому, обнаружив электросушилку, долго вертел непонятный предмет в руках, размышляя, какую бытовую пользу он мог бы принести. Так и не установив назначения полотенца, решил, что на него, как на мелкую скамейку, удобно будет ставить ноги во время, скажем, чаепития.
Тамара Петровна одобрила и похвалила находку мужа, сказав:
– Да, Лапа. Очень хороший ящичек. С зеркальцем. Но может быть, он имеет какое-нибудь интересное свойство?
– Не без этого, Лапуля. Но ты же знаешь, я в этих предметах, что сапожник в аптеке. Поставим под стол, и будем держать на нем ноги для отдыха.
– Правильно! – обрадовалась Тамара Петровна. Она уже давно, потеряв свои умственные ориентиры, привыкла соглашаться со всем, что говорил и делал Борис Борисович.
Понятно, так было не всегда. Когда-то, лет десять назад, Тамара значилась в оркестре народных инструментов талантливым музыкантом и очаровательной, остроумной, даже ироничной женщиной. Попасть к ней на язычок не сулило жертве ничего хорошего. Потому-то у Тамары было немало недругов, завистников и просто врагов. Но в большинстве, ее уважали и считались с нею как с перспективной творческой единицей.
Борис любил ее.
Он тоже работал в этом оркестре, где считался виртуозом баяна и балалайки.
Тамара была для Бориса не просто любовью. Она была для него какой-то горячей страстью. Безрассудным самозабвением. Они были молоды, удачливы. Жизнь несла их под белыми парусами в просторный океан, где гулял легкий ветер шальной удачи и реял на горизонте серебряный бриз успеха и славы.
С этим, знаменитым тогда оркестром, которым командовал вместе со своей женой дирижер Виктор Александрович Степанов, Тамара с Борисом объездили полмира.
Они жили ясно, жадно, широко, не думая ни о деньгах, ни о служебных лестницах, просто дышали жизнью, как дышат, наслаждаясь, легким морским воздухом. Нью-Йорк, Париж, Лондон, Токио были только вехами признания и любви друг к другу. Кипучая, захватывающая деятельность на высоких волнах российской музыкальной культуры составляла все их существование.
Конечно, это была работа. Работа с утра до ночи. До крови из носа. Однако о другой жизни они не помышляли. Репетиции, выступления, концерты, путевые приключения. Рестораны, банкеты, экзотические места шумно неслись навстречу, как несутся перелески, озера, мосты навстречу летящему поезду. И казалось, это будет вечно. Но вечно так бывает редко.
Тяжелые тучи уже нависли над Борисом с Тамарой. Над Тамарой, конечно, из-за ее острого язычка. Над Борисом из-за того, что он от хмельной любви к миру, музыке и Тамаре не однажды, очарованный жизнью, выкатывался, дыша вином, в стерильный воздух очередной гостиницы. А выкатываясь, как назло, сталкивался лоб в лоб, – розовощекий, с блестящими, восторженными глазами, – с руководителем оркестра и, тем паче, с его неотлучной цербершей-женой, у которой не было других обязанностей, кроме как надзирать за моральным обликом каждого музыканта. Поговаривали даже, что она, Капитолина Марковна, стояла на службе в КГБ. Кто знает. Может быть, так оно и было на самом деле.
Однажды в Неаполе ожидали вылета в Москву.
Солнце плавило окна аэропорта до жидкого стекла. Машины взлетали в синем дрожащем мареве. Люди сомнамбулическими тенями плавали в зале ожидания, как рыбы в аквариуме.
У Бориса тупо ныла голова после вчерашнего банкета. Он направился в бар, чтобы выпить рюмку «Мартини», но путь ему неожиданно преградила Капитолина Марковна.
– Вы куда? – более чем строго поинтересовалась ненавистная церберша.
Борис Борисович, нужно сказать, был человеком добрым, но хамства и наглости в отношении к личной свободе принять в смирении не мог и, мгновенно ощутив от вопроса Капитолины Марковны тугую волну негодования, зло прошипел ей на ухо:
– Иду сделать пи-пи, дорогая наша блюстительница. Могу я пописать без свидетелей?
Жена командующего оркестром отпрянула от Бориса так, словно он имел на теле, под итальянской ослепительно белой рубашкой, вредных, опасных насекомых.
Вот эти две ответные, не совсем, скажем, культурные фразы Бориса и решили всю дальнейшую судьбу музыканта. Его и, понятно, Тамары.
По возвращении в Москву Степанов неожиданно затеял конкурс на профпригодность, то есть на соответствие, иными словами, того или иного оркестранта своему музыкальному месту. Борис тогда обреченно понял: этот спектакль разыгрывается исключительно для него.
Из балалаечников состязались трое. Ветеран Белов, Борис Борисович и молодой, никому не известный, – кроме, конечно, Степанова, – парень – Шмаров Анатолий, недавний выпускник Гнесинского училища.
Анатолию Шмарову предложено было сыграть две не особенно сложные, тем более – основанные на народной тематике пьесы Римского-Корсакова. Ветеран Белов отыграл то, что сто раз уже исполнял в разных концертах. Отыграл лихо, браво, широко, с ветеранской печатью качества.
На пюпитр Бориса легли ноты Шумана, Рахманинова и Ждановича. Сыграть этих композиторов с листа – дело куда как непростое. Борис еще раз утвердился в мысли, что его хотят утопить, а вместо него посадить вот этого розовощекого, с легким пушистыми усиками паренька, Анатолия Шмарова, который, скорее всего, был либо чьим-то сыном, либо непосредственно родственником самого Степанова или его постылой жены, Капитолины.
В битву Борис, тем не менее, все же вступил. Шумана с Рахманиновым он сыграл достаточно легко и моложаво. С интонациями и чувством, гармонично, грамотно, профессионально. А вот со Ждановичем, сочинения которого Борис никогда, прямо скажем, в глаза не видел, а музыка являла собою сухие тренировочные упражнения, трескучие переборы гамм, нелепые переходы с тональности на тональность, было столь же сложно, сколь и опасно.
Честно говоря, Степанов внутри себя не хотел расставаться с Борисом: он любил и ценил одаренных музыкантов. Но жена… что поделаешь, учинила настоящую истерику. Со всем причитающимся. С валерьянкой, закатыванием глаз, с банально традиционным, наконец: «я или он». Чем уж так насолил ей Борис, сказать трудно. Однако командующий оркестром сдался. При таком раскладе у Степанова выбора не было. Опять же, Шмаров Толик, племянник Капитолины. Его нужно, хоть умри, куда-то устраивать. Одним словом, Борис Борисович был обречен.
Он вытер перед Ждановичем пот со лба и перевернул страницу нотной тетради. Борис чувствовал, рука его не дрогнет, инструмент не подведет. Он сейчас закипит, запоет, заплещется. Но где гарантия, что даже он, профессиональный музыкант, не собьется на умопомрачительных вариациях. Какое-нибудь колено предстоящей пьесы нужно проигрывать два, три, пять, а то и десять раз, чтобы овладеть им в совершенстве.
Борис посмотрел в ряд жюри, на Степанова. Посмотрел, как гладиатор на патриция, большой палец которого обращен вниз. Степанов отвел глаза в сторону. Борису все стало совершенно ясно. Но он решил сражаться до конца. И, конечно, проиграл. Где-то, понятное дело, сбился, споткнулся, упал. Впрочем, выиграть было невозможно. Степанов знал, чем свалить человека, даже музыканта-профессионала. И свалил.
Двери оркестра захлопнулись. На другой же день они захлопнулись и для Тамары, поскольку ни ее душа, ни сердце, ни, тем более, язык не могли вынести открытого геноцида в отношении Бориса.
После переездов, гастролей, выступлений наступило неподвижное, гранитное затишье, которое и Борис, и Тамара молча слушали, оглушенные наступившей тишиной.
С самого утра они закрывали еще необжитую, пахнущую пылью и одиночеством квартиру Тамары и отправлялись к Крылатским холмам, которые высились неподалеку от их дома.
Тогда был июль. Пестрое разнотравье густо застилало всю овражную часть возвышенностей и церковное подножье до самого святого источника, что струился в низине круглый год из далеких глубин времени. Словно бы целые века журчали в прозрачном ручье, обнажая крупинки чьих-то далеких судеб, которые прозрачными тенями бродили по вечерам в лиловых сумерках. Колокольный звон медным эхом отдавался в вечности.
Борис с Тамарой садились обычно в густую, мягкую траву под дремотными березами, доставали вино, еду и начинали долгое, до темноты, путешествие в прошлое, к пролетевшим поездкам, концертам, приключениям и счастью. Теперь все было позади: и концерты, и приключения. И счастье. Вот так, если поглядеть со стороны, грустно и бездарно пролетали дни, а за ними недели и месяцы жизни.
Незаметно стряхнули скромницы-березы с тонких, чеканных веток золотые листья. Над крестами церкви Пресвятой Богоматери нависли тяжелые, пепельно-черные тучи. От гребного канала подул тягучий мокрый ветер и косою моросью двинулся на город бесконечный, унылый дождь.
Борис с Тамарой водворились в зимнюю квартиру. Теперь они наблюдали сквозь заплаканные окна многоглазую, равнодушные стену противоположного дома. Под вечер он зажигал мутно-желтые огни, освещая тени трудовых людей, торопившихся сквозь кислый дождь в свои теплые жилища. Сумрак застывал, как желе, подернутый серой рябью однообразия и скуки. Крылатские холмы в это время походили на каменное кладбище, оглашаемое порою стонами порывистого ветра.
Борис, заметим, иногда спускался за коньяком. Как за спасением. В магазине, располагавшемся на первом этаже их дома, его с Тамарой уже все знали. Продавщицы думали-гадали, судили-рядили: чем это можно в музыке таким заниматься, чтобы частенько пить дорогое вино.
О средствах пока музыканты не заботились. Пока что от былых концертов и выступлений денег было достаточно и они, деньги, широко шли в распыл, не омраченные жалостью утраты.
Иногда под настроение Тамара пела. Она вдруг надевала лучшее платье из своего обширного гардероба и начинала исполнять, словно в концерте, какой-нибудь старинный русский романс. Голос у нее был чистый и мягкий, грамотный, без тени ошибок и фальши.
Борис всегда слушал с удовольствием. Слушал внимательно, но несколько предвзято. Как, скажем, член жюри.
– Чего это ты, Лапуля, в си бемоль миноре очутилась? – в среде музыкантов это была трудная и противная тональность.
– Разве? – удивлялась разрумянившаяся Тамара. – Мне казалось, это чистая си.
– Нет, Лапуля, си бемоль.
– Ну ладно, – соглашалась Тамара. – Тебе видней. У тебя, Лапа, абсолютный слух, – без иронии, с гордостью и обожанием говорила Тамара.
Дождь не кончался. Сонно текли дни, однообразно слетая в никуда ненужными листками календаря. Размытые и водянистые, как глазницы домов, дни не оставляли по себе воспоминаний, укладываясь в памяти бледными пустыми пятнами. В крови своей они не имели гемоглобина времени, и потому просачивались в подсознание безликими, уродливыми тенями с цементными, мокрыми зрачками.
– Знаешь, Лапуля, – сказал как-то Борис, погруженный в мрачные раздумья. – Я, пожалуй, убью их. И Капитолину. И самого Степанова. Они не достойны жизни. – Он взял рюмку и посмотрел сквозь нее на свет лампы. – Интересно, сколько сейчас может стоить оружие?
Тамара, неподвижно глядевшая до этого в черное зеркало окна, встрепенулась и в ужасе закрестилась. Она была верующая.
– Что ты, Лапа! Господь с тобой. Ты что нехристь какой?! Все лето под Храмом просидел и вон чего удумал. Ты убьешь, – совсем отрезвела Тамара. – Тебя посадят, а я тут совсем умру. Да и можно ли о грехе таком думать? – жарко высказалась она и заплакала.
Борис поднялся, прижал Тамару к себе, погладил по волосам.
– Ладно, воробей. Ладно, – утешал он. – Это я так… От горя нашего. Ты же знаешь, я червяка не обижу. А эти сволочи… посмотри, что они с нами сделали! Куда мы катимся? Мы же, Тома, летим с тобой в пропасть. И столкнули нас туда они, Степанов со своей мымрой. Вот я и подумал: им не место на земле.
– Ах, Боря, Боря, – всхлипывала Тамара. – Разве не понимаешь – ты не судья. В этом мире один Блюститель. Он их и накажет. Никуда не денутся. А мы… что – мы?.. Господь и нам подаст руку. Вот увидишь. Все будет справедливо. Каждый получит по делам своим. Конечно, я тоже была виновата. Людей подзуживала, злословила. Гордыня меня душила. А ведь это грех, Боря. Большой грех. Может, – я иногда думаю, – за то мы и наказаны с тобой, Лапа.
Нынче отставные музыканты перестали замечать время, дни и месяцы. Часы в их доме в недоумении застыли и больше не заводились. Борис с Тамарой с некоторых пор забыли даже, кем доводились друг другу, забыли, что в былые времена их связывали и нежность, и любовь, и общие устремления. Да и вино прежде было лишь радостным дополнением к основной, постоянно обновляющейся, феерической жизни. Сейчас она обрела вид тусклого однообразия, медленно перетекающего из одного утра в другое. Из одного вечера в следующий. Трезвые минуты вопили им в уши визгливыми голосами обрушившейся трагедии и, имея тонкий музыкальный слух, и Борис, и Тамара не в силах были совладать с этими звуками. Они, звуки, словно бы сливались в одну долгую какофонию из визга трамваев, надсадных криков электропоездов, топота людской массы в метрополитене, сочных ударов топора мясника, грохота разбитых стекол… Сверкающие, колючие звуки.
По утрам, пока Борис неспешно одевался, справлял туалет, брился, Тамара хлопотала на кухне, изготовляя обычно замешанные на воде блины, которые при остывании, перед принятием в пищу, стоило бы отбить молотком. Готовить она не умела. Они с Борисом привыкли к ресторанам, кафе, бистро и по поводу приготовления еды не знали прежде никаких забот. Но Борис на Тамару как на хозяйку не обижался. Во-первых, потому что жалел ее и считал, что Тамара пострадала из-за него. Во-вторых, он всегда жил только музыкой и, как большинство музыкантов, был абсолютно неприхотлив. И в-третьих, после разлада со Степановым Борису было все едино, чем питаться.
Так прошелестела метелями одна зима, другая. Жизнь листала их, как серебряные страницы заиндевевшей книги. Из искрящихся ночей пробивались порою волшебные звуки цыганских скрипок и гитар, повенчанные хрустальным звоном разыгравшихся бубенцов. Нежным комом бешено уносились прочь недели и месяцы, унося на своих крыльях пепел былой славы и мастерства.
Однажды по весне, когда по всей округе зашумела сирень, и от Крылатских холмов потянуло обворожительной прохладной свежестью, Тамара вышла на залитый солнцем балкон и молвила в восторге: «Как хорошо!»
– Все! – твердо сказал Борис. – Больше ни капли. Начнем сначала. Какие наши годы.
Отныне репрессированные музыканты, отбыв в лесу золотых свечей заутреннюю в Церкви Пресвятой Богородицы, спускались, дыша густой зеленью, в низину холмов, к чистому целебному источнику, и Тамара успевала набрать букетик ландышей. Через неделю-другую она посвежела, разрумянилась и вся засверкала былой радостью, негой и желанием. Борис в сладком защемлении сердца тут же отметил этот неоспоримый факт. Он и сам окреп, поправился, мешки под глазами исчезли, а зрачки налились солнечным весенним светом. Их ночи с Тамарой наполнились прежней любовью. Мир снова стал чудесным. Тикали заведенные часы. Одуряюще пахла сквозь открытые окна свежая зелень.
К лету Тамару осенило.
– Собирайся, Лапа, – наказала она Борису. – Поедем в деревню. Чего тут московскую пыль глотать?
В глухой деревушке под Тулой у Тамары жила родственница, всемирная старушка о восьмидесяти годах. Она, эта старушка, сама себя так называла окружающим, – всемирной, – из соображений, очевидно, общей схожести всех старушек планеты, и жила в счет будущей жизни.
– Я, оказывается, уже была прежде. В ранние века, – сообщала она односельчанам после прослушанной однажды передачи по радио. – И потом рожусь опять. А вы как думали? Рожусь. Рожусь. Молодой. Красивой. Хтой-то сызнова в меня зерно вбросить. Так оно и будет без конца-края, – пророчествовала старушка, баба Наташа.
Вот к этой просвещенной родственнице и надумала ехать Тамара, раз уж коньяку, слава богу, дали отбой.
Сборы были недолгими. Борис, правда, узнав, что деревню огибает тихая рыбная речушка, да лежат посреди леса два серебряных озера с карасями, тут же помчался покупать удочки.
Тамара вдруг обнаружила в себе практическую жилку. Она позвонила в заинтересованное агентство и оно, агентство, уже через час выставило на порог ее квартиры солидную пару, мужа с женой, молодых ученых, готовых за приличную сумму снять хоромы Тамары Петровны на все оставшееся лето. До глубокой осени.
– А что, Лапа, – объяснялась Тамара. – Тебе к зиме верхнее пальто надо? Надо. И мне шубку. Мы-то с тобой, как птички, все больше по теплым странам порхали. Нам зимняя одежда не нужна была. Теперь приходится заботиться.
– Верно, воробей, – соглашался Борис. – Ты у меня умница, Лапуля. Мне бы и в голову не пришло, что можно на нашем отъезде еще и денег заработать.
– Я уж давно сообразила, – радовалась Тамара. – Только боялась, ты рассердишься.
– С чего бы это, Лапуля? – удивлялся Борис. – Все ты исключительно верно придумала. Бочка-то у нас не бездонная. Поступлений никаких. Благо, в последние годы славно платили. А так бы нам с тобой одно оставалось – в метро с протянутой рукой. Или веревочку куда приладить. Кому мы нужны, народники, в век шоу-бизнеса?
– Господь с тобой! – Испуганно крестилась Тамара. – Выбрось из мыслей веревочки всякие. И не вспоминай вовек. Вот, что я тебе скажу: вернемся из деревни – будем работу искать. Хватит лодырничать. Подумаешь, трагедия. Да что, на Степанове свет клином сошелся? Все будет хорошо. Ну что ты сидишь?
– А что?
– Поцеловал хотя бы.
Всемирная старушка, баба Наташа, встретила гостей радостно. Все ее застывшие от старости чувства вдруг воспламенились, запылали в душе ярким огнем счастья.
– Ай молодцы, что приехали! – всплескивала она руками. – Уважили. Вспомнили старую. Живите на доброе здоровье. Места усем хватить. Каково сердечно. А мужик у тебя справный, – без лишнего стеснения разглядывала баба Наташа Бориса. – Гладкий мужик. Только тонкий маленько. Ну это не беда. Мы его тута поправим. Огурчики, помидорчики пойдуть. Вот он у нас и взопреить.
Они расположились на втором этаже, в ладной, уютной мансарде, под окнами которой уже пылал белым цветом вишневый сад. Вдали видны были бархатно-зеленые поля, окруженные со всех сторон таинственной, темной стеною дрожащего в солнечном мареве леса.
Борис открыл окно и сердце его прямо-таки забилось, зашлось, защемило счастливой тоской детства, когда хочется всего сразу… Словно тебя накрыли легкой золотой парчой. А в руках живет и толкается горячей кровью трепетно-нежное тело мира.
– Знаешь, Лапуля, – признался Борис. – Я сейчас смотрю на все это юное, какое-то торжественное рождение земли, смотрю – и слышу музыку.
– Тут везде музыка, – согласилась Тамара. – И в саду, и в лесу, и в поле, на озере. Мне кажется, – добавила она, – ты еще не все слышал, мы еще не безнадежны.
– Надо же, проехали полмира, – сказал Борис, не в силах оторваться от вида за окном, – но мне вдруг подумалось: все прошлые впечатления не стоят и одного здешнего дня, одного взгляда на такую вот затерянную русскую деревню. Весна, деревня, цветущий сад. Какая-то теплая мелодия юности.
– Да, милый, – сказала Тамара и вздохнула, словно сожалея о потерянном в тех заморских поездках времени.
– Тула, Калуга, Ярославль, Новгород – все русская земля, – пространно сказал Борис. – Здесь, а не где-нибудь, душа Петра Ильича Чайковского наливалась восторгом и печалью, тоской и счастьем. Все это переплелось под его пером и стало бессмертным.
– Да, Лапа, – тихо сказала Тамара. И, помолчав, добавила: – кстати, нотная тетрадь, даже три, лежат на дне клетчатого чемодана. Это к тому, что если тебе срочно понадо…
Борис быстро повернулся и благодарно поцеловал Тамару в губы, а затем жарко выдохнул:
– Любимая моя. Ты не знаешь, как я… какие у меня внутри… Ты моя единственная. Милая моя. Хорошая.
Речка была недалеко. Борис на потеху местным жителям начал бегать по утрам в одних шортах на берег, где уже сидели с самодельными, выструганными до костяной белизны удочками деревенские мальчишки.
Он бросался в прохладную, плавную воду, плыл и возвращал себе былую, юную силу. Удил рыбу и частенько возвращался с вязанкой крупной серебристой плотвы. Попадался полосатый окунь, лещ, щука. Дни казались одним светлым праздником.
Женщины, баба Наташа с Тамарой, встречали солнце, копаясь в огороде. Две согбенные фигуры, два повернутых на запад, оттопыренных зада среди сверкавшей от росы зелени напоминали о старине и вечности.
Дом всемирной старушки был старше хозяйки, но держался еще ровно, молодцевато и даже как-то хвастливо, возвышаясь над соседскими избами. Нижний этаж его состоял из просторной зимней комнаты с широкой, топившейся дровами русской печью и двух летних террас. Второй, подкрышный, где обосновались Тамара с Борисом, представлял собою обширную, пахнущую деревом и старыми тряпками мансарду. Тут баба Наташа имела склад из двух доисторических сундуков, березовых веретен, прялок, кос, икон и древних книг с маслянисто-желтыми, как осетрина, страницами. По углам, молчаливо насупившись, сидели в полумраке четыре почтенных, пожилых дивана. На одном из них и ночевали теперь опальные музыканты.
Днем в мансарде было душно и неуютно. Монотонно зудели мухи, и от жары было трудно дышать. Зато ночью дневное тепло выветривалось до самого утра, а в окне, как в стоячей черной воде, покоились, что хрустальные яблоки, совсем близкие звезды, с которых на Бориса постоянно слетали нежные, запредельные мелодии, плывущие от неведомых, искрящихся созвездий. Хаос, вражду, ложь, убийства, жажду власти, тлен и гниль настоящего – все смывали они, поселяя в душе завещанные Богом любовь к миру и вселенский покой.
Зимнее летнее помещение вечной бабы Наташи имело ту же антикварную мебель, доковылявшую до насущных дней из глубин истории: две кровати-лежанки, да шкаф, да стол, да сундук с приданым для малой внучки, да еще один стол с тарелками-кастрюлями и, конечно, предмет современности – огромный, как собачья конура, ламповый телевизор. Стены украшались коврами над каждой кроватью. Один являл собой традиционный восточный орнамент на красном фоне. Другой изображал забаву праздных дворян – княжескую охоту на оленя. Борис смотрел на эту животрепещущую картину, где рогатую жертву настигала стая гончих псов, и слышал лай собак, топот копыт да козий голос близкого рожка. Так ясно ощутим был далекий приют одинокой избы на краю бездны.
По ночам дом просыпался. Он вздыхал, кряхтел, и шуршал чем-то в подкрышных углах.
«Домовой», – в сладком ужасе шептала Тамара и, тихонько смеясь, теснее прижималась к Борису. Однако все шорохи и скрипы вскоре перебивались оглушительным волшебным боем соловьев. Ночные птицы радостно захлебывались в тягучих признаниях своим возлюбленным, таившимся в фосфорической, цветущей мгле.
Эти звонкие, яркие, как одуванчики, голоса, чердачные скрипы, ровное дыхание сосен, свежий аромат полей, плеск воды и щебет ранней птахи – все это были трепетные голоса родины, которые Борис бережно помещал в сердце для ощущения будущих мелодий, точно зная, что ни в каких Бразилиях и Америках ничего подобного не сыщешь. «Вот уж верно говорят: “Что Бог ни делает – все к лучшему”», – думалось Борису Не уволь их Степанов из оркестра, бегали бы они сейчас, обливаясь потом, по чуждой территории с пудовыми чемоданами так, может быть, и не узнав ни запахов, ни красок, ни звуков родной земли.
В начале лета, после весело прокатившихся гроз, луга и лесные поляны взошли густым разнотравьем. Тамара неожиданно открыла Борису свои знания растений.
– Вот эти белые блюдечки на крепких высоких стеблях, – просвещала она, – тысячелистник. Запаха в нем нет, но трава очень полезная. Вот, смотри, желтые свечи – зверобой. Травка замечательная. От всех болезней. Можно заваривать как чай. Синие свечки – шпорник. Эти розовые – дикая мальва. Вот подмаренник. А вот, гляди, Лапа, белые, как снежок – поповник. Сколько их тут! Мамочка родная! – вскрикивала Тамара, как девочка, ощущая приплывшее из далекого детства счастье и забывая обо всем на свете.
Борису бывало стыдно, что он не знает названий диких трав и цветов своей родины, но и он светлел душою за Тамару, которая порхала в пестром разноцветье, как вольная бабочка.
В каждом походе она набирала огромные букеты, и дом всемирной старушки теперь походил на какой-нибудь цветочный павильон, купавшийся в густом запахе лугов и лесных угодий.
В это время Борис с Тамарой любили друг друга как никогда прежде: такими насыщенными и сверкающими были их дни и ночи. Все звуки, запахи, краски, невольно собранные с раздольного поля, таинственного озера, задумчивого леса, сливались в единую, нежную мелодию, которой оба – и Борис, и Тамара – беззвучно пользовались как инструментом любви и страсти. В ласках своих они словно пели друг другу сокровенную песню сердца. Время отмерялось жарким боем в висках и петушиными криками звонких кочетов, мирно дремавших до поры в синих сумерках деревенских подворий.
Борис тайком добрался-таки до нотной бумаги. Как-то поутру он проснулся в радостном, счастливом настроении. Тамары не было. Скорее всего, она с бабой Наташей совершала извечный, кропотливый труд по прополке огорода.
Толстое, румяное солнце сидело, как рыжая кошка на заборе дальней рощи.
Борис достал клетчатый, похожий на шахматную доску, чемодан и извлек из него нотную тетрадь. Он перевернул обложку и посмотрел на чистую разлинованную страницу. Сильная, как упругий ветер, мелодия шумела в его голове еще с ночи. Но она летела не от леса и поля, не от цветочного луга и реки; она спускалась откуда-то сверху, с горних высот, от той ясной звезды, что еще бледнела в глубоком небе поодаль от проснувшегося, умытого солнца. Однако мелодия, проникавшая в Бориса, имела в каждой ноте и запах теплой хвои, и легкий шепот берез, и травяной шорох дождя, и закатный свет пурпурных облаков. А кроме того, слетевшая музыка содержала в себе все пережитое: счастье побед, горечь изгнания, боль, опустошение, одиночество, жажду любви и смерти.
Борис ощутил все это сразу, содрогнулся, как от озноба, ибо то, что он почувствовал и услышал сейчас, необходимо было вынести на чистый лист бумаги. Он же, этот лист, сияя дразнящей белизной, был заведомо гениален. И Борис испугался. Испугался собственной растерянности. С ним никогда такого не было. Конечно, он сочинял прежде и пьесы, и песни, и композиции, но то, что слышалось нынче, было объемнее, значительнее, строже и весомее.
Борис взял карандаш, но коснуться бумаги все не решался. Он откинулся на стуле и замер. Музыка невидимой бархатной птицей летала под самой крышей.
Борис, как чуткий охотник, притаившийся за кустом, напряженно слушал мелодию, боясь спугнуть хоть одну ноту. Наконец, сверкающая серебристым огнем, птица уселась на отбеленную деревянную прялку и требовательно взглянула на музыканта опаловым глазом. Борис очнулся. Он коснулся бумаги и начал жадно записывать, выносить на тонкие нотные строчки все услышанное. Сладкое упоение охватило его. Черные точки нот, перехваченные стремительными штрихами, то резко взлетали вверх, то падали вниз, утверждая ниспосланную кем-то музыкальную тему. Кто посылал ее, кто одаривал – было понятно, и это понимание окрыляло, оно-то и давало ощущение высшего блаженства. Нездешнее единение с тем щедрым Дарителем, имя которому – Бог. Впервые Борис так жарко и так явно ощутил близость мирового пространства, сплетенного с цветистыми красками родной земли. Фосфорический сонм роящейся звездной мглы вбирал в себя нечто загадочное, праздничное и в то же время туманное, непостижимое и потому печальное. Все это клубилось и пылало огненными соцветиями в распахнувшихся настежь окнах слуха. Бориса ударила, обожгла чья-то мощная, как молния, сияющая энергия, и он, не выдержав крика сердца, уронил на страницы нечаянные слезы счастья. Это была гроза, гром, ужас бешеного бега под чугунными тучами вместе с радостью ощущать на себе первые капли дождя.
До этого момента музыкант-Борис, исполняя чужие произведения, конечно, испытывал светлые, яркие минуты восхищения тем или иным композитором. Однако постичь во всей глубине, что значит создать самому, услышать всем существом, ощутить в себе горячую кровь Бога и в счастливом страхе понять: именно эта кровь проливается на страницы, Его страницы, – вот этого всего Борис, конечно, прежде не испытывал. Теперь он знал это. Теперь он знал, что есть высший труд, рожденный вдохновением, той властной силой, которая именуется творчеством. Она, как груженый товарняк, проносилась мимо, грохоча и железно вздрагивая на стыках новых озарений, обдавая раскаленным дыханием огненной лавы, чтобы, пролетев будто ураган, оставить слуху тишину, шепот травы и щебет высокой птахи. Все сие и был Бог. И данное Им. И Жизнь. И счастье. И слава. Падение. Любовь.
Борис оторвался от исписанных страниц в счастливой усталости. Откинулся на спинку скрипучего стула, осознав вдруг, что работа только начинается, а все происшедшее – космический зов, протянутая сверху, бесплотная рука, перламутровый остров в синем океане, серебряный крест, провисший в небесах.
Солнце стояло уже высоко. Пуховые облака легкой чередой вселенских невест тихо плыли мимо распахнутого окна. По извилистым морщинам старого подоконника задумчиво двигалась божья коровка. Красное платьице в черную крапинку. О чем она думала? Какую слышала музыку?
Внизу напевно заскрипела половица. Борис вдруг заметил, что стал придавать особое значение всему. Раньше просто осязал, чувствовал, слышал. Теперь же окружающее наполнилось особым, светящимся смыслом. И восторженный вскрик половицы, и нарядная божья коровка, и трещины на старом подоконнике говорили другими, новыми голосами, в которых слышался музыканту неведомый ранее, глубинный хор жизни.
Борис поднялся, подошел к окну и, сплетя руки за головой, вдохнул свежий, юный запах утра.
– Как хорошо! – очарованно произнес он и вдруг снова услышал звуки мелодии, – продолжение того, что записывал. Точно ужаленный, уже не раздумывая ни о чем, Борис бросился к столу, ибо с тревогой и страхом понял – дарованное свыше так же текуче, как далекие облака в голубых небесах.
Тамара застала мужа сидящим за столом, с упавшей на руки головой. Он рыдал. Плечи вздрагивали. От этого вздрагивала старинная, бог весть откуда взявшаяся китайская статуэтка. И качала головой. И вздрагивала авторучка на очередной исписанной странице. Повсюду: на столе, полу и подоконнике были разбросаны засыпанные мелкими нотными знаками свежие листы.
Тамара бросила на диван, принесенный с поля пышный букет и подошла к Борису. Она, конечно, поняла: он начал работать; но что вызвало трагические слезы – ей понять было трудно. А точнее сказать – невозможно.
– Ну что ты, Лапа? Что ты? – нежно теребила она волосы Бориса, испытывая щемящую боль. – Перестань, а то я сама заплачу.
Борис повернул к ней мокрое лицо и, не стесняясь влаги на щеках, жарко заговорил.
– Представь, Лапуля, я никогда не знал, что такое настоящее счастье. Ты – это другое. Земное, ощутимое, реальное, близкое. Ты – это прекрасно! Это любовь. Радость встреч. Тоска расставаний. Огонь и прохлада. Цветы, ветер. Страсть, нежность, ласка – все это ты. Единственная, очаровательная, волшебная, неповторимая. Но счастье!.. Даже там, в Нью-Йорке, помнишь? Когда у нас был потрясающий успех. А потом в Париже, Риме, Токио… нам казалось – мы счастливы. Обожание, деньги, шикарная жизнь. Весь мир под ногами. И все же, то не было счастьем. Я это понял вот здесь, за этим дубовым, допотопным столом. То была слава. Ее сладкий яд. Шипенье «Шампанского» и парчовая змеиная кожа на плечах полуобнаженных женщин. А слава, как сказал поэт – лишь яркая заплата на ветхом рубище певца. Нет! Счастье здесь. За этим шатким столом. В тиши затерянной, убогой деревни. Убогой, но чистой и святой. Все почему-то понимают Достоевского буквально. Да, красота спасет мир. Она – критерий и мерило. Но что за этим стоит – мало кому приходит в голову. Когда-то давно, еще на первом курсе Консерватории, я натолкнулся в «Фаусте» на одну фразу. Там, у Гете, есть персонаж – ведьма Фаркиада. И вот она говорит: «Стара и все же не стареет истина, что красота несовместима с совестью».
Тамара улыбнулась, видя творческий запал во всем состоянии мужа и, ласково погладив его по щеке, отошла к цветам. Их нужно было подрезать и поставить в вазу.
– Так вот, представляешь, Лапуля, – все больше распалялся Борис. – Красота несовместима с совестью. Можешь ты расшифровать сию мудрость?
Тамара прервалась орудовать ножницами, немного подумала, наконец, сказала:
– Не знаю, Лапа. Честно сказать, не знаю. Так, сразу не донырнуть. Это какая-то глубинная мысль.
– Вот! – обрадовано воскликнул Борис. – Я носился с этой фразой, как дурень со ступой. К кому только не приставал. И к друзьям, и к преподавателям, и к профессорам. И все либо витали в облаках, упражняясь в софистике, либо также пожимали плечами. Прошло несколько лет. И вот однажды, гостя у школьного друга в деревне Тверской губернии, – там у него жили родственники, – я сидел под вечер на опушке леса вместе с другом, Олегом, и местным пастухом, – таким, знаешь, неказистым с виду мужичком, всю жизнь прожившим возле скотины среди поля и леса. Помню, очень живописно заходило солнце и густо, ароматно пахло клевером. Золотое поле, золоченые верхушки сосен и налитое горячей медью озеро. Красиво, правда? Сидим, закусываем. Грибы, сало, мокрый лук. Бутылочка, как водится, при нас. Болтаем о том, о сем. И вдруг мне показалось, как-то мудро разговаривает этот пастух. Я возьми и спроси его, мол, как ты, Егорыч, расшифруешь такое философское слово, что «красота несовместима с совестью? И вот этот самый Егорыч, ни минуты не размышляя, отвечает: «Чего ж тут расшифровывать»? Вон, гляди, красно солнышко, лес синий, озеро с карасями. Красота все это. Красота от Бога. Святая. Безгрешная. А совесть всю жизнь бьется в искуплении. Ибо там не то сделал, тут не так ступил. Опять чего-нибудь нарушил. И выходит тебе, что красота, беспорочная, несовместима с совестью. Вот такое, мол, получается расшифрование. Словом, Лапуля, одним росчерком народный мудрец Егорыч все поставил на свои места. Открыл то, что не могли профессора. Поэтому, я думаю, Федор Михайлович под красотой, конечно, имел в виду, в первую очередь, святость, чистоту и безгрешие, присущие истинной красоте. А понял я это здесь, в этой комнате, когда записывал то, что скатилось на меня с небес. Видишь, какой тут божественный кавардак, – указал Борис на разбросанные страницы. – Все это – счастье. Это работа. И я доведу ее к осени до конца. Для меня это очень важно, Лапуля. И серьезно. Ответственно. В этом, может быть, смысл жизни. Понимаешь? Может, и лучше, что Степанов репрессировал нас.
– Может быть, – туманно согласилась Тамара. Она принесла вазу, поставила в нее букет, расправила для большей прелести цветы и спросила в никуда: – Почему Господь не дает нам детей?
– Что? – сказал Борис, разглядывая последнюю страницу.
От этих пор все в доме переменилось. Внешне перемена казалась вроде бы незаметной.
Все шло своим чередом. Женщины, встречая солнце, копались в огороде. Неспешно бродили по двору, поклевывая почву, куры. Гремела цепь колодца. Лаял на кого-то дураковатый пес Жора, прозванный так из-за своего хронического крокодильего аппетита. Но все стало приглушеннее, тише, осторожнее потому лишь, что теперь с раннего утра и до позднего вечера в скрипучей комнате второго этажа сидел Борис и, ловя из воздуха музыку, помещал ее на нотную бумагу.
Музыканты знают, что без инструмента композитору работать весьма непросто, а порой – и вовсе невозможно. Однако у Бориса был, что называется, абсолютный слух, хотя при этом ему нужна была хотя бы относительная тишина. Тамара, разумеется, это понимала, и свое понимание сообщила всемирной старушке, бабе Наташе. Старушка трудно представляла себе, что можно выловить из атмосферы. И все-таки, уважая тайные процессы от Бога, прониклась к Борису глубоким почтением за его немыслимую деятельность, стала ходить, говорить и ворочаться тише, даже храпеть по ночам прекратила.
Борис, несмотря на отсутствие инструмента, работал пылко, с упоением и восторгом оттого, что в мире существует некий, никому не видимый кокон, из которого рождается чудесная бабочка – музыка, и ему, Борису, дозволено эти священные роды принимать. Незримый и запредельный процесс этот был хрупок, нежен, трепетен, но тем слаще и дороже он казался творцу, который видел, слышал и чувствовал на пальцах своих пыльцу от крыльев того прекрасного махаона. В его руках, руках музыканта, трепетал и вращал лиловыми глазами младенец озвученного Святого Духа. На Бориса пролилось золотое молоко неба, приправленное красочными звуками Вселенной. От этого вполне можно было сойти с ума или оглохнуть. Только первозданный иммунитет давал Борису силы выдержать счастье обладания.
Отныне он бегал по утрам не для праздного удовольствия с рыбалкой и пространным наблюдением за деревенскими мальчишками. Но вдали все же виделись травянистые призраки Мусатовских нимф, а где-то вдали время от времени вспыхивал кнут погонщика-пастуха.
Теперь Борис, наскоро омывшись в озере после галопа по бархатно-пыльной дороге, торопился, как воробей, под крышу – к заветному столу, где в одно мгновение все сущее отлетало прочь, а мир превращался в гармонично звучащее пространство, которое следовало лишь аккуратно переносить на бумагу.
Женщины в течение дня ходили на цыпочках, говорили шепотом, не гремели, не звенели и не бренчали. Все громкие работы отныне производились во дворе, в дальней беседке густого сада. Да и то – осторожно, в пол шума.
Всемирная старушка строго наказала бестолковому Жоре: «Ты, Антихрист, изыдь в будку и сиди в безмолвии. Не то я тебя, дурака, доской заколочу навечно. Тявкаешь на каждого жука без всякой мысли. А тута люди музыку делають».
Иной раз, правда, главная мелодия давала работе перерыв. Что-то у них там случалось наверху. Какая-то большая перемена. Звуки вымирали и, как Борис ни старался, ни одну ноту достать из небесного омута не мог. Тогда, разумно понимая такое положение, он собирал написанное, благоговейно складывал листы в пухлую стопку и шел в поле, в лес, где сердце его наливалось дополнительным восторгом от вида живых, тепло дышащих цветов, ветряного шума листвы и озабоченных голосов птиц, уже кормивших потомство.
Борис садился на пень и рассматривал траву, пытаясь услышать и ее звучание, наблюдал шевеление муравейника, который тоже имел свою трудовую песню. Неожиданно в этот разноголосый хор вклинивался скрип березового ствола, дятел начинал выстукивать однообразно музыкальное соло и в чаще пела милую арию кукушка. Все это тоже имело значение и снабжало Бориса особой радостью отдыха. Насытившись деятельной природой, он опять торопился под своды своей мастерской, зная точно – перерыв закончился, и ему снова будут даны жаркие темы и горячие звуки для ковки необыкновенного произведения. А что оно станет необыкновенным, Борис не сомневался. Иначе, зачем тронул его перстом тот верховный Даритель? Зачем проник со свирелью в самое сердце волшебный Пан? Для чего обвили Бориса пышными волосами зеленокудрые феи?
Вечерами, теплыми, прекрасными вечерами, когда после захода солнца стихали птицы и начинали, может быть, от скорби по Светилу, нежно и печально пахнуть цветы, щедро рассаженные повсюду всемирной старушкой, Борис в счастливой усталости спускался в сад. На столе, покрытом белой, вышитой по краям скатертью уже стоял зеленовато-медный самовар со слабыми отблесками на боках последней, алой зари. Под голубыми звездами они усаживались за нарядный стол, и Борис, встретившись нечаянно с взглядом Тамары, с ее легкой, обещающей полуулыбкой, испытывал новые токи, движение иной энергии, которая горячила кровь радостным предчувствием пылкой чудесной ночи.
Баба Наташа всякий раз тешила их рассказами из деревенской и личной жизни.
– Я когда бывала молодая, – повествовала веселая старушка, – на мене кажный раз жар находил. Как какой-всякий парень с под бровей поглядить, мене тут жа у пыл кидаить. Аж вода по спине тикет. Прямо спасу не знала. Что ты!.. Девка я была красивая, но окаянная.
– Как это?
– Да так. Жалости до их, кобелей, никакой не имела. Потому чего жа было бы, когда у мене внутри организма духовка такая имелась. У, мил, что ты… Уж потом, когда мы с Колей моим на строительстве схлестнулись, когда я сама-перьвая до его бечь была готовая, тут уж, конечно, я контроль стратила. Но слава Богу, Коля мой, правду сказать, не такой-сякой, кривой был. Не кинул мене, как бываить. А бываить, милый, что ты! Бабы зубами подушки порвуть, порвуть да и в прорву. Под воду. Или еще куды. Вот, знаешь, у нас на деревне была одна…
И потечет, покатится за полночь длинная история про «ту одну», что была на деревне»… Все сильнее пахнут цветы сквозь прохладу мглы, все ярче горят в черных проемах ветвей серебряные звезды да трескучий от мотыльков оранжевый фонарь бархатно освещает таинственную, мохнатую зелень сада.
А потом наступали ночи. Трепетные, безумные, страстные. Словно из другой жизни. Будто в этой жизни таких ночей, такой любви быть не могло. Но она была, их любовь. Тонула в одуряющих синих облаках флоксов и вспыхивала под звуки свирели все того же лукавого Пана. И звезды, кипящие в сиявшей парче, роились над головами, а чуткая тишина глотала счастливые стоны. Пахло сеном недалекого стога. Тихо мерцало призрачное убежище на берегу мирового океана.
Так незаметно подкралась осень. Пожилая листва стала опадать под лучами усталого, безразличного солнца. Она тут же высыхала и хрустела под ногами.
Пошли сначала легкие, потом затяжные грибные дожди. Сад опустел, но провис яркими тяжелыми плодами. Баба Наташа каждый день приносила по корзине влажных от росы, крепких грибов. Она их солила, мариновала, жарила и тушила. Весь дом пропах лесом.
Борис, наконец, поставил точку. Вывел на обложке первой тетради название своего сочинения – «Сад» и откинулся со вздохом облегчения на скрипучем кресле. Разумеется, работа была еще далека от завершения. Но основное казалось сделанным. Две части симфонии лежали на столе. Еще можно было что-то добавить, поправить в закрывшихся тетрадях, но пришло опустошение. Счастливая усталость, какая, видимо, бывает у женщин после родов. Впервые за все время Борису захотелось выпить. Но он отогнал и мысль, и желание прочь. Нужно было собираться в дорогу. В Москве же предстояли встречи с издателями, музыкантами, руководителями оркестров. Требовалось выглядеть так, как выглядел Борис к исходу лета – гладким, посвежевшим с атласной кожей лица и светлым, спокойным блеском глаз.
Уже хотелось новизны. Музыкальных новостей, столичного шума, толкотни в кулуарах, концертов, грохота аплодисментов и даже – сплетен. К тому же Борис с Тамарой привыкли к перелетам, переездам, сменам мест и обстановок. Но в то же время до боли жалко было покидать места, так ярко одарившие их счастьем, вдохновением и любовью.
Баба Наташа тяжело загрустила. Она подходила к окну, упиралась локтями в подоконник и подолгу наблюдала, как гоняет ветер по дороге сухие, дурашливые листья или уходят в пелену мутного дождя землистые деревенские избы. Говорила она теперь совсем мало. Даже веселую новость о том, что соседский козел покрыл овечку, а та как ни в чем ни бывало принесла двух ягнят, поведала не улыбнувшись, так, словно это было вполне рядовое событие.
Вечерами она, помельчавшая в последние дни телом, усаживалась с вязанием к столу. На ней постоянно был черный в красных цветах, – тоже, видимо, всемирный – платок. Как-то, не глядя ни на кого, баба Наташа грустно спросила:
– Адрес-то хоть оставите?
Тамара поспешила успокоить ее.
– Не то помру, – объяснила всемирная старушка. – Чтоб соседи знали, куда телеграмму отбить. Они-то похоронют, но вдруг и вы захочете почеломкаться на прощание.
Смотреть на бабу Наташу, конечно, было больно. С отъездом Тамары и Бориса она оставалась совсем одна. Муж умер давно. Два сына погибли на восточной границе. Дочь осела где-то в Соединенных Штатах, даже не сообщив координат.
Тамара с Борисом утешали беспокойную старушку как могли, – ей о ту пору стукнуло, слава богу, восемьдесят семь годков. Но утешения утешениями, а час разлуки наступил. Баба Наташа выволокла из-под подпольного погреба, ударившего всех могильной сыростью, кучу банок с солениями, варениями, приправами и, несмотря на яростные сопротивления Тамары, затолкала банки в сумку, которая тяжелой ношей легла на плечи Бориса.
Выйдя заранее, они долго ожидали маленький деревенский автобус. Прохладное солнце серебрило волосы всемирной старушки, бабы Наташи. Борис подумал, что в его «Саду» наверняка есть ее голос. Радостным, жизнеутверждающим лучом блуждает он где-то среди прочих звуков. Старушка была задумчива, но светла и беспечальна.
– Что тама, интересно, за тем окоемом? – спросила она своих родственников и всю окружающую природу.
– За горизонтом есть другой, – туманно ответила Тамара.
– Другого нет, – убежденно ответила баба Наташа. – Это кажется, что он есть. На самом деле – черта только одна. Понимаешь такую глупость?
– Смотрите, – сказал Борис. – Вон тот жучок на дальней дороге – наш автобус.
– Ну, – весело сказала баба Наташа. – Храни вас Господь!
Она поцеловала Тамару с Борисом сухонькими губами и обратила прищуренные в сетке морщин глаза к неяркому, усталому солнцу.
Московская квартира встретила хозяев застоявшимся запахом пыли, обойной бумаги и линолеума. За окном моросил мелкий, сонный дождь, словно шептавший: «Все, ребята. Счастье кончилось». И сразу явилось печальное ощущение, будто никуда не уезжали, и никакого чудесного лета не было вовсе. Однако властная энергия деревенской жизни еще жарко питала каждого, а потому, коротко взгрустнув, стали разбирать вещи.
Вечером, когда Тамара белым приведением удалилась в ванную, Борис выключил все электроприборы, источавшие звук, решив выявить, чем отличаются московские каналы связи с Дарителем от деревенских. Он долго настраивался на волну, прислушивался, но кроме какофонии, визга, рычания и железного стука за стеной ничего выявить не смог. Каналы столицы сплошь были забиты звуковым хламом и мусором.
Борис с нежностью провел по своим тетрадям, храня в душе ласку воспоминаний о травах, птицах и цветах глубинной родины. Сейчас ничего не было дороже этих воспоминаний. Даже экзотика дальних странствий казалась в сравнении мелкой и пустой, так… сувенирные погремушки. Чего-то дорогого сердцу в них не ощущалось. Борис пожалел всех городских композиторов и поразился мужеству и стойкости этих людей.
Следующий день он посвятил тому, что еще раз, теперь уже с баяном, прокатился по своим записям и, не найдя в них ничего, кроме радости былого контакта с Создателем, подарившего ему столько звуковых соцветий, к вечеру осторожно, словно боясь кого-то спугнуть, закрыл последний нотный альбом. У него было ощущение, словно он только что видел радугу над парным озером возле дома всемирной старушки и она, эта радуга, все еще сияла в воображении всеми цветами спектра.
Борис снова услышал вкрадчивый шум листвы, бархатный шепот трав, безудержный грохот ливня и оглушительный, рвущий небо на части треск молнии, а затем властно строгий рокот грома, услышал серебряно-тонкий перезвон крупных, как яблоки, звезд, которых никогда не было, да и не могло быть в городе. Услышал те близкие сердцу звуки, какими полнилась душа и нотные тетради.
Поутру Тамара достала дорогой, купленный в Париже костюм супруга, выгладила рубашку и галстук. Борис преобразился. В деревне он ходил в старых спортивных штанах, при надобности – в фуфайке и сапогах. Да что говорить – ходил часто голым до пояса и босяком. Как местный Санька-пастух.
Сейчас Борис выглядел изысканным денди с обложки журнала, словно никогда этот костюм и не снимал. Тамара в последний раз прошлась по нему щеткой и перекрестила на удачу.
Борис ехал в метро с легким ощущением того, что создал хорошую вещь, что в его кейсе помещается талантливое произведение, и ему везде должны быть рады. Правда, число мест, где должны быть рады произведению для народных инструментов, в последнее время резко сократилось, но все же Борис надежды и оптимизма не терял. Он заехал в канцелярскую контору, сделал несколько копий своего создания и развез нотные папки по известным прежней памяти адресам. Были встречи со старыми друзьями, воспоминания студенческих лет, сожаления о том, что так нелепо закатилась для Бориса Степановская звезда, рухнули щит и крыша Бориса Борисовича. Был краткий, ничего не означавший праздник в кафе и обещания как-нибудь помочь. Но говорившие сетовали на то, что сместились музыкальные ориентации, родились иные акценты, и вообще музыка стала другой, повесив на себя цветистую табличку: «Шоу». Однако друзья звали «не вешать нос». Что написал, то написал, и с этим бывшие сокурсники обещали что-нибудь сделать, хотя Степановская рука, узнай он, Степанов, чье это произведение, перекроет ему кислород везде, тем более такие места, где могло бы звучать произведение Бориса, можно нынче по пальцам пересчитать. Если даже кто-то и согласится на исполнение, то, оглядываясь все на того же пресловутого Степанова, взяв на себя достаточную смелость. Впрочем, есть, конечно, самостоятельные, независимые руководители оркестров. Дирижеры, которым плевать на авторитеты, на Степанова, на весь мировой потоп. «Так что, – уверяли старые друзья, – надежда умирает последней».
Однако, возвращаясь домой, Борис вез в себе тупую, ноющую тревогу. Солнечный его оптимизм после встречи с друзьями заметно померк, будто в ясный день нечаянно налетели тяжелые серые тучи.
Почти все приятели имели вальяжный, респектабельный вид пристроенных конъюнктурщиков. Их слова звучали утешительно, но лживо. В речах товарищей к неожиданному удивлению своему Борис услышал даже некое скрытое злорадство: вот, мол, слетел по собственной глупости на полном скаку с белого коня – теперь ковыляй позади всех на старой кляче до конца дней своих.
Борис знал, никуда не денешься, таковы волчьи законы больших городов: Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Москвы, но все же верил, что палитра, которой одарил его Господь в глубине родины, сделает свое дело. Клавиры он разослал. Оставалось ждать.
Остаток осени Борис с Тамарой проводили на Крылатских холмах. В погожие дни спускались к гребному каналу, наблюдали черную, холодную воду осенней реки да рваные пепельно-синие облака, постоянно грозившие близким дождем. Когда все же дни заволакивало долгой, туманной моросью, Тамара садилась за фортепиано и снова, в который раз проигрывала отдельные части из сочинения Бориса.
– Ах, Лапа, – восторженно вскрикивала она иногда, – какой тут у тебя получился изумительный переход! По стилистике, по мысли, по работе на основную тему. Так вкусно. Пальчики оближешь.
Борис не мог не признаться себе, что тает от этих слов. За ними виделся восторженный зал, свет рамп. Аплодисменты. Цветы. Но иногда Тамара останавливалась исполнять, некоторое время сидела в раздумье и вдруг говорила:
– А вот здесь я бы сыграла иначе, Лапа.
Тогда Борис стремительно вскакивал, подлетал к пюпитру и горячей, нервной скороговоркой произносил:
– Нет, Лапуля. Ты ничего не понимаешь. Здесь должно звучать именно так, как написано.
– Ну хорошо, Лапа. Хорошо, – обиженно соглашалась Тамара. – Что ты так раздражаешься? Никто не собирается тебя перекраивать. В конце концов, это твое дитя. Ты и мать, и отец. Просто я высказала свое мнение. Могу я иметь личное мнение? Я бы сыграла, например, вот так.
– Нет! Нет! И еще раз нет! – упрямо сопротивлялся Борис. Однако ночью, когда Тамара уже спала, подкрадывался на цыпочках к нотной тетради и исправлял исписанные листы, как советовала жена. У Тамары был отменный музыкальный вкус.
Потянулись долгие дни ожидания. Чтобы как-то убить время и не увязнуть в тоске хмурых, как осенние тучи, предчувствий, Борис раздобыл каталог столичных музеев и выставок, составил план посещений и торжественно объявил об этом Тамаре. Она приняла его радостно, как некое новшество жизни, тем более что они действительно ни на выставках, ни в музеях не были бог знает сколько времени. Каждый заново открывал для себя и Третьяковку, и Пушкинский, Архангельское, Абрамцево, Воронцовский и Шереметьевский дворцы. Не говоря о храмах и монастырях.
Вечерами Борис с Тамарой старались попасть на лучшие симфонические концерты, не обходя, впрочем, ни джазовых, ни эстрадных. Попутно Борис закидывал сети насчет работы, замечая, как стремительно тает золотая кубышка их накоплений. Но с работой было туго. Каждый раз, когда об этом заходил разговор, Борис чувствовал себя человеком, попавшим в липкую паутину. Нет, она, конечно, была, работа. Можно было пойти баянистом в Дом Культуры или даже преподавать курс баяна в музыкальной школе. Но для Бориса, после Степановского оркестра, подобные работы были оскорбительно низкооплачиваемы. Впрочем, один знакомый научил, как можно использовать оставшийся капитал, то есть, как выгодно получать с него приличные проценты и не забивать себе голову разной ерундой, каковой считал он поиски работы. Он, этот знакомый, похожий внешне на жука-короеда, не понимал, конечно, что руки и душа Бориса до боли скучают по инструменту, по оркестру, по той живой деятельности, к которой он как музыкант готовил себя всю жизнь.
Тем не менее, Борис поступил так, как научил его знакомый бизнесмен. Теперь по определенному договору Борис с Тамарой должны были каждый месяц получать от своего помещенного в «дело» капитала приличную сумму для беспечального, в общем, существования. Однако втайне Борис твердо решил подходящую работу все же себе отыскать.
Иногда супруги устраивали себе дни полного расслабления. Борис в шутку обозначил их в календаре двумя буквами: «В.У» – время утех. Он покупал к удивлению знакомых продавщиц бутылку «Шампанского» в «родном» магазине, и они с Тамарой целый день не вылезали из постели, которая превращалась для них в цветущую сиреневую аллею, в благоухающий эдемов сад. Тут они занимались любовными утехами, в которых каждый позволял себе то, на что хватало фантазии. Любовь была своего рода искусством, театром двух актеров, вымыслом и реальностью, воображением и явью. Они доводили исполнение своих ролей до магниевого накала, до исступления, до слез и восторга, до взлетов и падений. Борис с Тамарой улетали на другую планету, где все было впервые. Они не знали никого, и никто не знал их. Лишь призрачный Вергилий вел серебряными тоннелями в светлую страну молний, вспышек и озарений. Насытившись нежностью и страстью, любовники пили «Шампанское» и, хохоча от счастья, разрисовывали друг друга гуашью во всех местах. В завершении Тамара повязывала цветную ленточку на орган мужа и умирала от восторга, тем более что сам по себе размалеванный фаллос с бородатой мордочкой и пышными усами уже представлял собою картинное произведение. Потом они включали музыку и танцевали, похожие на двух экзотических папуасов. Разгоряченные, снова бросались в постель и так без конца. До самой ночи. Тамара готова была продолжать любовные игры до утра, втайне надеясь на заветное зачатие. Но Бориса, к незлобной грусти жены, на такие подвиги уже не хватало, в отличие от первых лет совместной жизни. Ко времени сна он мягко тонул и пропадал в цветущих садах далекой деревни среди шорохов, скрипов и голосов старого подслеповатого дома.
Примерно через месяц Борис стал звонить по искомым адресам. Там, где познакомились с его симфонией, отзывы были хвалебные, даже восторженные, однако воплощение произведения в жизнь пока не представлялось возможным: на сегодняшний день оно было «несовременным». Сочинение родилось, как сказали Борису, «в другой музыкальной плоскости».
Это была ахинея, которая не укладывалась в голове. Что значит, «несовременная симфония»? Разве шум дождя, рокот грома или шелест листвы может быть несовременным? А запах цветов, щебет птиц, таинственные голоса ночных бабочек относятся к какой-то музыкальной плоскости? Чушь!
Борис, однако, решил не отчаиваться, поскольку то были первые, не самые важные отзывы. Остальные рецензенты просили подождать еще немного.
Наконец, Бориса пригласили на беседу в оркестр, на который он полагался больше всего. Дирижер, подтянутый пожилой человек с седою, аккуратной бородой очень подробно и профессионально разобрал произведение. В результате похлопал Бориса по плечу и сказал, протягивая тонкую, холеную руку с золотым перстнем:
– Вы, Борис Борисович, талантливый человек. Поздравляю. Вещь получилась замечательная. Всегда знал: Россия никогда не оскудевала и не оскудеет на истинные таланты. Но, к сожалению, сейчас я не могу включить ваше сочинение в свои планы. Над ним нужна еще серьезная работа, репетиции. А мы через неделю уезжаем на гастроли. Надолго. Так что… – Руководитель оркестра развел руками, но при этом тепло улыбнулся. – Загляните через пару-тройку месяцев. Возможно, что-то прояснится. Кстати, мне звонил Григорьев Женя, ваш сокурсник. Он в восторге от симфонии. У него есть какие-то конкретные предложения. Правда, он работает в эстраде. Но это, я думаю, ничего не меняет. Свяжитесь с ним. Может быть… чем судьба не шутит?
– Спасибо, – сказал Борис. – Господь не зря придумал надежду. Она всегда греет. Впрочем, бывает – и напрасно…
– Не отчаивайтесь, – улыбнулся дирижер. – Ваша вещь не пропадет.
Женя Григорьев встретил Бориса у себя дома. Встретил с распростертыми объятиями, кинувшись с порога ему на шею.
– Ну Боб, – басил Женя Григорьев, – ты скотина. Где ты, подлец, пропадаешь? Мы тут, можно сказать, блины на воде печем, а он залез в какую-то деревню и творит. Творит! Нет, Боб, я не спорю. Ты – Гений. Гений! Не возражай. Особенно вторая часть у тебя, вот эта темка: ду-даб-даб-ду, бда-бда. Проходи. Садись. Коньяк, виски? Ты не представляешь, я зашиваюсь на пошлятине. Бездарности смердят вокруг, как трупы. А у тебя – родниковая вода. Девичьи какие-то напевы. Чистота, свежесть. Ей-богу, я плакал, когда играл. Ну не сволочь ты, скажи? Публика задыхается от яда и копоти. Музыка пахнет Чернобылем, Чечней, а он сидит себе и чистит цветные перышки. Нет, таких, как ты, Боб, надо убивать и посыпать известью. – Женя выхватил из пачки сигарету. – Писать гениальные вещи и скрываться! Ну не гад? Гад самый натуральный. Дай я тебя поцелую.
Борис сидел в смутной тоске и меланхолически улыбался. Женя Григорьев говорил не умолкая. Впрочем, сколько его помнил Борис, он всегда говорил не умолкая.
– Ты, Боб, себе не представляешь, как трудно сейчас с хорошими вещами, – продолжал Женя, запахивая полы халата. Он встретил Бориса по-домашнему: в халате и тапках на босу ногу. – У тебя же этих хороших вещей – кладезь, сволочь ты такая. У меня все есть: студия записи, исполнители, аранжировщики, текстовики. Нет только хороших вещей. Тебя, одним словом, нет. Между прочим, помнишь Дашеньку Медынскую, вокалистку? Она недавно приезжала из Омска. Какая женщина стала, я тебе доложу… Неделю мы тут с ней радовались встрече. Да. Ну, в общем, у меня к тебе такое предложение. Даже не спорь. Разбиваем твое сочинение на небольшие части. По темам. Я приглашаю текстовика. Есть у меня один прыткий парнишка. Делаем целый концерт для любого исполнителя. Всем хорошо. Все в шоколаде.
– Не понял, – сказал Борис. – Что значит, разбиваем? И кто такой текстовик? Это теперь так называется поэт?
– Ты знаешь, что, Борис, – поморщившись, сказал Женя. – Ты в своей деревне натурально оброс мхом. Тебе надо ходить с черным зонтиком и в калошах. Да, текстовик – это поэт, если хочешь. Разве принципиально? А разбиваем сочинение потому, что целиком, да еще в народных инструментах ты его нигде сегодня не реализуешь, дурак неизлечимый. Народные мотивы обязательно оставим. В них-то как раз изюминка. А все остальное, Боб, послушай меня, нужно делать так, как я говорю. Я на этом уже, честное слово, трех собак слопал. Давай, дружище, соглашайся. И начинаем работать. Хочешь, можем рок-оперу сварганить. Хоть это и сложнее.
Борис тяжело поднялся.
– Разбить, как ты говоришь, цельное сочинение, значит – обратить его в пепел. Расчлени ты на части «Утро стрелецкой казни». Или «Явление Христа»… разруби Бетховена, Баха, Чайковского – что будет? Эскизы. Фрагменты. Но цельное, то, что остается в веках, исчезнет, Женя. Без цельного пропадает гармония. Отлетает душа. А без души и появляется то, что ты выпускаешь в своей студии грамзаписи вместе с прытким текстовиком. Дай мне мои тетради, и я пойду к чертовой матери. Никогда, даже на краю могилы не соглашусь я разбить, как ты говоришь, на части то, что так бережно собирал воедино, что благословил Господь и что дорого сердцу как ничто другое. Опять же – текстовик! От одного этого слова меня тошнит и выворачивает. Так, не ровен час, и Пушкина кто-то назовет текстовиком. Почему бы нет? Поют же романсы на его стихи. В общем, неси тетради. Я пойду. Крайне приятно было познакомиться с новым Евгением Григорьевым, – съязвил Борис. – Я помнил тебя совсем другим.
Женя вздохнул.
– Я так и знал, Боб, что у нас ничего не выйдет. Ты всегда был идеалистом. Им и остался. Но сегодня романтики-идеалисты вымирают, как мамонты. Оглянись вокруг. Тут не деревня. Тут другая жизнь, Боб. Впрочем, я тебя не осуждаю. Даже завидую. Белой завистью. Ты сумел не замараться. Дай Бог удачи. Будь настойчив. Бейся во все двери. Разбей себе лоб, руки. Только так чего-нибудь добьешься. Твоя вещь, конечно, должна звучать с большой сцены. Во всем объеме. Не думай, я все понимаю. Не забудь пригласить на премьеру, – сказал Женя, вынося Борису его нотные тетради. – Прощай. Но если надумаешь… или прижмет…
В остальных местах Бориса так же – хвалили, но для воплощения в жизнь его произведения называли громадные суммы, которые требовались на оплату музыкантов, оркестровку, аренду залов и прочее. У Бориса с Тамарой таких денег не было. Работу тоже никто предложить не мог. В любом оркестре был комплект.
Встреча и разочарование в последнем месте, на которое, правду сказать, уже мало надеялся Борис, поставили точку в его дальнейших походах. Он вдруг почувствовал, что никому со своей симфонией не нужен. Все тетради, полные солнца, тепла, шепота трав, цветов, грозы, любви и печали могли лететь по ветру или набираться пыли на деревянных полках. Ворвалось время бездарных мелодий, мещанских соцветий и дешевых, пустых текстов, то бишь – стихов. При том Борис не был ханжой. Он любил джаз, рок, достойную эстраду, но не безликие, водянистые суррогаты, подменявшие и то, и другое, и третье.
Борис вышел из здания, где состоялась его последняя встреча, где рухнули оставшиеся надежды, где его проводили тусклыми улыбками сожаления, как провожают клоуна, завершившего грустную репризу.
Стоял сухой солнечный день – предвестник близких холодов и окончания осени. Ночами уже подмораживало. Об этом говорили по утрам листья, впечатанные в стеклянные лужи.
Борис бесцельно шел по Тверскому бульвару, не ведая, что теперь ему делать и как дальше жить. Люди тенями обтекали его, торопились по своим делам, шуршали разбитым ледком машины, а Борис двигался в неизвестную даль. Что скажет он Тамаре? Как вынесет ее взгляд, полный жалости и тоски. Ему вдруг остро захотелось в ту далекую деревню. В обитель всемирной старушки, бабы Наташи, где был он так незабываемо счастлив от своего слуха и творчества. Где любовь окутывала их с Тамарой, как запах цветов и шум дождя, где целая вселенная спускалась по его руке на нотные страницы, где сам Орфей по наущению Господа пел ему те мелодии, которые он нес сейчас в бесполезном, никому не нужном портфеле.
Как сомнамбула, не замечая никого и ничего вокруг, Борис спустился в метро, доехал до Крылатского, терпя какой-то надсадный гул в голове и, выйдя наружу, остановился в раздумье возле «родного» магазина.
Ярко и радостно сияло солнце. Люди, озаренные прозрачным светом, казались веселыми и беспечными. У палатки молодежь шумно пила пиво, сверкая золотыми бликами на бутылках.
Борис почувствовал тупую боль в сердце. От легкой всеобщей радости ему вдруг стало до отвращения тошно, будто весь этот наличный народ шел в этот яркий день мимо его умершего ребенка, не замечая и даже не желая замечать ни горя, ни скорби родителя. Люди, обласканные дневным теплом, шли по своим делам с покупками и без, застегнутые и распахнутые, с обнаженными по поводу солнца прическами. Никому, конечно, и в голову не приходило, что в портфеле одиноко стоящего человека лежат обугленные нотные тетради, а сам он, этот человек, насмерть замерзает от нестерпимой тоски и обиды.
Ладно бы, сказали, что его произведение не удалось, что это плод досужего ума и слуха, что оно – просто пустая, бездарная меломания. Так нет же. Взахлеб и, кажется, искренне хвалили. Но на самом деле сочинение Бориса, как оказалось, никому не нужно. Похоже, ни в настоящем, ни в будущем. Сам сатана смеялся ему в лицо с какой-то бешеной, дьявольской карусели.
Борис потоптался на одном месте, ибо его посетила мысль о том, что, может быть, стоит зайти в церковь, помолиться, послушать вещее многоголосье хора и тем утешиться, развеять печаль. Но мысль была далекой и слабой, как ранняя звезда.
Продавщицы значительно переглянулись, оценив респектабельный вид знакомого музыканта, его голландское, черное пальто, белую рубашку, галстук, кейс, и одна услужливо подалась навстречу Борис, стараясь не смотреть на девушек, приобрел бутылку коньяка и спешно вышел на улицу Однако идти трезвым на суд Тамары… ну пусть не суд, но все же укор, – ему не хотелось. Последовало бы, как он подумал, немое обвинение в бесталанности. Это уж наверняка. Кто-то неведомый подтолкнул его в спину мимо своего подъезда. Войти в дом к любимому, близкому человеку с печатью неудачника, к человеку, ради которого, честно говоря, Борис писал то, что написал, он сейчас, после всех огорчительных встреч и свиданий, был не в силах.
Борис спустился вниз, к Крылатским холмам, к святому ручью, легким, переливчатым голосом своим, напоминавшим дальний, деревенский, и присел на пустынную лавочку. Неподалеку, у источника, толпился в очереди народ, наполнявший бутылки, фляги и канистры драгоценной влаги.
Борис отвернулся от публики. Ему сейчас нужно было побыть только одному. Он сел спиной к очереди, лицом к Храму Пресвятой Девы Марии, который стоял, сверкая крестами на вершине холма, прямо напротив.
– Чем же я прогневил тебя, Господи?! – спросил Борис, глядя на голубые церковные стены. – И ты, Дева Мария, почему не заступилась, не помогла, не защитила то, что исходило от Ваших пределов? Или правду говорят, что наступил век Антихриста?
Но ответа он не услышал. Тихо и прощально благостно сияло солнце, ярко, до боли в глазах, горели в синеве неба церковные кресты. Маленький человечек, ловко подпрыгивая, спускался по тропинке с вершины холма.
Борис ощутил вдруг абсолютную пустоту в голове, в сердце, во всем теле. Пустоту и полное безразличие ко всему. Он откупорил бутылку и отхлебнул из нее добрый глоток. По телу покатилась теплая волна. Горячий туман стал обволакивать и слух, и мысли, и зрение. Церковь с сухим шелестом чуть накренилась вбок, накренились кресты, и Борис неожиданно увидел, что мимо золотых крестиков тихо проносится маленький, серебряный, за которым тянется тонкий белый шлейф, обшитый по краям тонкой кружевной бахромой. Он так обрадовался самолету, словно вернулся в детство, когда, случалось, лежал на горячей крыше и с восхищением наблюдал летевшую под облаками крохотную машину На какие-то минуты Борис забыл обо всех болях и обидах. Он представил себе летчика у штурвала, и ему захотелось туда, в кабину пилота, чтобы взглянуть на всю плоскость мира сверху. Увидеть мелкие, рассыпанные по земле города, угадать их голоса и звуки.
Борис вспомнил, как, возвращаясь после успешных гастролей по Соединенным Штатам, они с Тамарой, молодые, красивые, удачливые, перелетали через океан. Сияло такое же яркое, беспечное солнце, и то ли два неба было в обозримом пространстве, то ли два океана – внизу и вверху. Казалось, жизнь не имеет конца, и звучит одной долгой прекрасной мелодией. В согретой памяти всплыла красочная, будто никогда не засыпающая Бразилия с ее чарующе веселыми карнавалами, не знающими ни времени, ни условностей, ни стеснения. Тогда, припомнилось Борису, Тамара, выпив игристого вина, все порывалась выйти на улицу в одном купальнике. В конце концов, все-таки вырвалась и чуть не потерялась, танцуя в толпе. Но там почти все были так одеты, и на женщину в самом легком одеянии обращали внимание лишь постольку, поскольку это была пылкая, темпераментная и веселая красавица. В то время Борис сам сходил от Тамары с ума и, глядя на нее, отплясывавшую под бой барабанов, вскоре забыл обо всех окружающих.
На волнах плотных воспоминаний и мыслей он перенесся в недавнюю деревню, в гости к всемирной старушке, бабе Наташе.
«Гуляешь, милый?» – улыбнулась старая знакомая.
«Гуляю», – ответил Борис.
«Ну гуляй. Гуляй. Только не забывай, что тама, – показала она на церковь, – смотрять на тебе. А так, чего ж… погуляй, развейся. Делу время, потехе – час. Час! – повторила она назидательно. – А так чего ж… другой раз и погулять надоть. Только гляди, гульба – напиток. Не обжигися».
Борис мысленно обнял всемирную старушку и прошел в цветущий сад, в безмолвно ликующий праздник весны. Он остановился посреди нежных бело-розовых яблонь и замер: все они вместо запаха источали звуки, стройные ряды его симфонии. Этого Борис вынести уже не мог. Он закупорил бутылку, спрятал ее в кейс и стал усердно подниматься на вершину холма. Крутая тропинка струилась косо вверх среди пожухлой, ржавой травы, уже побитой ночными морозами. Ногам Бориса требовалось немало усилий, чтобы удерживать равновесие, но он с упрямым упорством взбирался все выше и выше по направлению к Храму. Однако перед дверью остановился. Над входом в церковь висела небольшая икона, изображавшая Деву Марию с младенцем на руках, и Борис, столкнувшись с ними глазами, опустил голову. Войти в Храм не решился. Он осенил себя православным крестом и произнес внутри себя произвольную молитву, в которой просил юного Христа и Пресвятую Деву простить его и помочь вынести сочиненную симфонию на большую сцену, поскольку все звуки и темы были продиктованы небом. В ответ Борис словно услышал голос, произнесший некое непроизвольное утешение. «Запасись терпением. Жди. Твое время придет», – молвил кто-то в небесах.
Борис, удивленный, еще раз осенил себя крестом и пошел от Храма прочь. В нем снова загорелась надежда, хоть он ей и не вполне верил. Мало ли что может послышаться?
Тамара сразу поняла, в каком состоянии муж и что с ним случилось, однако виду не подала.
– Раздевайся, Лапа. Мой руки. Будем ужинать, – сказала она неестественно веселым голосом и быстренько скрылась на кухне, чтобы никак не выдать своего смятения и растерянности.
Борис сразу обмяк. Ему все мгновенно опостылело: и висевший на крючке халат, и домашние тапочки, и шляпа, попавшая в паутину вешалки. Это показалось глупым и пошлым. Но раздевшись, он прошел в ванную, снял рубаху и облил себя для свежести холодной водой. Затем Борис водворился к Тамаре на кухню, мрачно достал нотные тетради и початый коньяк.
– Сегодня, Лапуля, – с пафосом произнес он, – состоятся торжественные поминки по лирическому музыкальному произведению Бориса Борисовича Ганина «Сад».
Тетради с громким хлопком шлепнулись на стол. Тамара, стоявшая у плиты, резко обернулась.
– Не смей так говорить! – сорвалась она на крик. – Ты не имеешь права. Ты только проводник того, что дадено было свыше, и не тебе хоронить рукопись. Твой «Сад» уже тебе не принадлежит! Понимаешь? Нельзя опускаться до такой степени.
– А до какой степени можно опускаться? – язвительно спросил Борис, исказившись в лице, словно Тамара одна была виновата в неприятии и холодном равнодушии к поющему «Саду» Бориса.
– Ладно, Лапа. Давай успокоимся, – сказала примирительно Тамара и обняла мужа. – Мы никогда с тобой не ссорились. Неужели теперь, скажи, после того, как ты создал замечательную вещь, позволим себе такую глупость. Не поминки, а рождение… Почему бы нам не отметить рождение твоего, нет, нашего «Сада», – весело предложила Тамара. – Я тоже, согласись, косвенно принимала участие. Ведь мы, Лапа, по-настоящему и не праздновали это событие.
Она достала рюмки и накрыла стол.
– А потом ты возьмешь баян и будешь играть. Ты, по сути, ни разу не вынимал инструмент после Степановской опалы. Я так люблю твою игру. Сделай нам праздник, Лапа. Вместо похорон. Твое время придет. Верь только. Как я. И оно придет.
У Бориса начало быстро и горячо таять сердце. Защипало глаза. Он хрипло кашлянул и полез за сигаретами.
– Правильно, Лапуля. Давай праздновать. Черт с ним со всем. А то, представляешь, Женька Григорьев, – ты его должна помнить, – предложил разбить «Сад» на части. Пригласить текстовика – слово-то, блин, нашли! – и сделать эстрадную программу. Текстовик, – не унимался Борис. – Засранцы. Назвать поэта текстовиком. Однако ничего не поделаешь – время такое, – ерничал музыкант. – Все в порядке вещей. Вот и «Сад» мой никому не нужен. Хвалят, нравится, а никто не берет. В ходу другое. «Шоу» в ходу. Модное «Шоу». А я не модный. И не хочу им быть. Не так воспитан. Парадокс. Кошмар какой-то. Умом это понять невозможно. Тут вся бездна России. Умру, тогда, может быть «Сад» зазвучит. Изуверская, жуткая традиция – замораживать дитя до смерти родителя. Это же противоестественно. Оно, дитя, должно жить сразу, как только родилось.
– Конечно, Лапа. Конечно, – соглашалась верная Тамара. Но ты уймись переживать. Мы ведь решили, сегодня будет праздник. Давай лучше выпьем за твой «Сад». За твой цветущий звуками «Сад».
Борис, наконец, улыбнулся. Он снова прочел в глазах Тамары и нежность, и страсть, и зов любви.
– Что бы я без тебя делал? – сказал Борис и с тихим хрустальным звоном коснулся своей рюмкой рюмки жены. – Все-таки Господь меня пощадил.
Тоска и печаль на серых парусах отлетали прочь.
Через некоторое время Борис с Тамарой весело вспоминали былые гастроли, всемирную старушку, ее роскошные цветники и домового, который – видимо, от возраста – все охал по ночам, хрустел и поскрипывал при ходьбе.
Потом Борис достал после долгого перерыва баян и стал играть по памяти одну из частей своего произведения. Тамара смотрела на мужа затуманенным взором и думала все ту же сакраментальную думу о том, как было бы хорошо, если бы сейчас с ними сидел некто третий, маленький родной человек, который любил бы Бориса так же как она. Вот так же слушал его музыку, восхищался и ценил его талант. Но за что-то Бог наказал. После первого неудачного аборта врачи признали, что Тамара больше не сможет беременеть, оставив ей горькую, далекую, почти бесполезную надежду. Получилось, что и ребенка они принесли в жертву международной цыганской жизни, гастролям, поездкам, свету рамп и дутой славе, которая оборвалась в один день. Тамара смахнула нечаянную слезу: она отдала бы все на свете за то, чтобы почувствовать внутри себя священную тяжесть, услышать, как толкается и растет под сердцем живое существо. А Борис решил, что это его музыка способна довести человека до слез. Он прервался играть, поставил баян на стул, подошел к Тамаре и прижал ее к себе.
– Ничего, Лапуля, – сказал он, гладя Тамару по голове. – Все равно мы их победим. Я напишу друзьям в Штаты, в Европу, разошлю ноты, и тогда посмотрим.
Тамара, подогретая вином, растроганная музыкой и собственным тайным горем, оборвалась вдруг в горячие рыдания.
– Ну что ты, Лапуля. Что ты, – успокаивал Борис. – Черт с ними, не расстраивайся. Не стоят они того. Наше время придет. Вот увидишь. Степанов еще сам прибежит и будет просить «Сад» к исполнению. Слава Богу, что мы с тобой вместе. Что у меня есть ты. Это такое чудо. Больше, чем вся музыка мира. Не плач, Лапуля. Главное – мы любим друг друга. Все остальное – тлен.
Борис играл, и от его игры глаза Тамары наливались грустным счастьем. Она снова срывалась на плач, и Борис опять утешал ее, целуя мокрые щеки.
Проснулся Борис рано. За окном стонал ветер и, оголтелый, носился из стороны в сторону первый снег.
Тамара еще спала. Ощущая тоску в сердце, Борис постоял у окна, тупо наблюдая метельный хоровод неожиданно влетевшей в город зимы, и прошел в ванную. Побрился, надушился французским одеколоном, затем набросил пальто и вышел на улицу. Колючий ветер ударил в лицо. Подхватил, рванул полы одежды. Борис поднял воротник, потуже натянул шапку.
От работы туч, ветра и снега повсюду стояли какие-то тревожные сумерки, в которых, нахохлившись и накренясь, люди сражались со стужей, чтобы попасть в лоно своего труда и производства, где было тепло, сытно и надежно. Лишенный места рабочей деятельности, Борис воевал со стихией для другой цели. Он шел просто так. Просто, чтобы идти куда-нибудь.
Пробившись сквозь наждачную метель, Борис дошел до угла и повернул назад. Теперь идти было легко: спина работала парусом. Борис шел быстро, почти бежал и был этому весьма рад – уж очень хотелось проветриться до конца.
Уже почти подойдя к дому, Борис вдруг резко остановился, словно на его пути возникла некая преграда, некое препятствие, преодолеть которое было не так просто, и требовалось размышление о том, как это препятствие все-таки осилить. Преградой же оказалась обыкновенная дворняга, сидевшая обочь дороги и крупно дрожавшая всем своим тщедушным телом. Собака была лохматая, всклокоченная, ветер порывами взбивал на ее морде шерсть, и тогда проступали маленькие, как две смородины, глаза, излучавшие невыразимую тоску и страдание. Вот об эти глаза и споткнулся Борис. Мимо них он пройти не мог, ибо собачья боль была прямым отражением собственной. Борис подошел, погладил псину по мокрой, занесенной снегом голове. Дворняга, вконец окоченевшая, даже не шелохнулась. Она уже не интересовалась ни жизнью, ни людьми и, похоже, если бы пришлый человек сейчас прибил ее чем угодно, она была бы даже рада. Тогда Борис сунул собачонку под пальто и понес домой.
Тамара все еще спала. Борис устроил собаку на кухне и положил ей в миску пищи, но та к еде не притронулась. Она лежала в углу у батареи и икотно вздрагивала, будто ее пробивало электрическим током от головы до хвоста.
Дворняга была рыже-белой масти, вислоухая, тощая, – это хорошо проглядывалось даже под густой шерстью, – с длинным, свалявшимся и грязным хвостом. По тому, как она аккуратно, с изяществом улеглась, как с грациозным кокетством, несмотря ни на что, лежала, словно говорила спрятанными под шерстью глазами: «Ах, какая я несчастная», Борис тут же определил: перед ним – дама и сразу безоговорочно полюбил ее.
– Ну что, золотая моя, – сказал Борис. – Как же мне тебя называть?
В этот момент в кухню заплыла сонная Тамара и замерла с широко открытым ртом.
– Боже мой! – наконец проснулась Тамара, обнаружив постороннюю живность у себя на кухне. И не просто живность, а, можно сказать, милое несчастное существо, которое не могло не вызвать в женском сердце сострадания. Тамара тут же кинулась ласкать и гладить собаку по голове, приговаривая: «Ты моя хорошая. Бедная. Замерзла, маленькая. Что же ты ей, Лапа, мокрую шкуру теплым феном не высушил?
Борис, отогревшийся дома в тепле, сидел и умиленно улыбался на действия жены.
– Ты лучше скажи, Лапуля, как мы ее наречем? – поинтересовался он.
– Джулечкой и назовем, – не задумываясь, отозвалась Тамара, тоже мгновенно определившая, что перед нею – существо женского рода.
Дворовая собачка, словно в благодарность за ласку, тепло и участие, приподнявшись, лизнула Тамару в губы.
– Ах ты, Господи! – еще больше очаровалась хозяйка. – Джульетта. Вылитая Джульетта.
– Давай, Лапуля, искупаем новую жительницу дома и, можно сказать, нового члена нашей семьи, – предложил Борис. – Все-таки, теперь не так одиноко будет.
– Это верно, – вздохнула Тамара, и в сердце ее снова промелькнула тень тоски по ребенку. – Чего же ты налил, Лапа, Джульетте поесть? – укорила мужа Тамара. – Разве собаки едят рассольник, маринованные грибы, салат с аджикой?
– Я думал, что получше, – оправдывался Борис.
– Думал. Думал, – осуждающе произнесла Тамара. – Сейчас откроется магазин. Сходишь и купишь Джульетте мяса с косточкой. Видишь, девочка настрадалась, даже подняться не может. Купи тортик. Все-таки у нас сегодня встреча гостьи. Потом мы Джульетту искупаем. Будет она у нас чистая, красивая и веселая. Правда, Джуля?
Джульетта, несмотря на тяжелое состояние, тем не менее, внимательно слушала, прядая вислыми ушами, важный для нее разговор. Морда ее лежала на вытянутых лапах, но с последними словами Тамары: «Правда, Джуля», собака, уже чуть обогревшаяся, подняла забавную свою физиономию и приветливо застучала по полу хвостом, преданно и влюблено глядя на Тамару сквозь лохмы шерсти, свисавшей на глаза. Черный пятачок ее вытянутого носа был чуть больше одного из глаз, и этот нос Джульетты смешно жил своей, отдельной жизнью. Словом, все вместе так умиляло новых хозяев, – хотя, вполне вероятно, старых не было вовсе, – что Борис наскоро собрался и отправился в «родной» магазин. Там он закупил для собаки все, что рекомендовала жена.
Обойдя все углы, Джульетта освоилась, поела и стала совсем своей. При помощи Бориса Тамара вымыла собаку шампунем, смыв с нее ведро многолетней грязи, и замызганная дворняга, обсохнув и распушась, стала похожа на благородную колли, правда, необычной масти.
– Вот, – ликовала разрумянившаяся Тамара, – что можно сделать, имея доброе сердце. Правда, Лапуля?
Появление Джульетты музыканты праздновали неделю. За это время собака совсем обжилась и даже лаяла на шаги соседей в коридоре, чем приводила хозяев в полный восторг. Ночью она спала на выделенном Тамарой мягком коврике, днем же могла позволить себе валяться на втором диване.
Через неделю явился с визитом старый знакомый, отставной, можно сказать, преподаватель университета, историк и философ – Иван Дмитриевич Бурханов, почитатель талантов Бориса и Тамары. Историк, по его собственному гордому заявлению, за свою долгую жизнь воспитал много именитых людей.
Он жил в соседнем доме, и если надумывал навестить друзей-музыкантов, то приходил в любую погоду в одном и том же одеянии – спортивном костюме и домашних тапочках. Жене, возможно, говорил, что идет поиграть в шахматы с отставным полковником Никодимовым, жившим тремя этажами выше. На самом деле, Иван Дмитриевич выходил в спорткостюме из дома наружу и далее шагал прямо под окна музыкантов, благо проживали они на третьем этаже, и, набрав воздуху в широкую грудь, громогласно взывал на весь большой двор: «Томачка!», «Боря!»
Убедившись, что друзья на месте, философ шествовал в магазин, приобретал там для душевной беседы пару бутылок хорошего вина, закуски и потом уже в полном снаряжении препровождался к музыкантам. Вот и теперь Иван Дмитриевич объявился в самый разгар праздника, покатившегося у Бориса с Тамарой на вторую неделю.
В пролетевшие дни, не выходя из кухни, Борис при поддержке и участии Тамары представлял свою симфонию «Сад» на Миланской сцене и имел грандиозный успех. Иначе и не могло быть: зал наполнился глубоким и древним духом Руси, тем высоким божественным началом, которого в последнее время так не хватало Европе. Затем, не покидая кухни, уже знаменитые музыканты посетили Америку, еще более, нежели Европа, нуждавшуюся в глубинной, астральной духовности. Так, во всяком случае, считали Борис с Тамарой.
Америка, конечно, со свойственным деловым размахом предлагала выгодные контракты, выступления, турне, но Борис отказался буквально от всего, сославшись на то, что еще не вся Россия погружена в его «Сад». А она-то уж, Россия, как никто другой обязана сегодня возродить истинно народную культуру, которой всегда гордилось отечество.
Джульетта очень быстро освоилась в теплом, сытном месте и тоже принимала участие во всех путешествиях хозяев.
Словом, у Бориса с Тамарой началась, как у большинства российских творцов, какая-то новая утопическая волна бесплодных и туманных грез. Но увы, пришло время дельцов. Они мгновенно определились, обрядились в костюмы шутов и стали грести деньги лопатой из чего угодно. А эти, Борисы Борисовичи, Тамары Петровны и тысячи других бесполезно тыкались во все углы как слепые котята, получая лишь колючие щелчки по носу.
Когда прозвучали громогласные призывы заслуженного преподавателя, Борис с Тамарой как раз закончили выступления в большом концертном зале Вашингтона и, с трудом пробившись сквозь толпу журналистов, садились в белый «Форд», чтобы ехать в гостиницу. И тут: «Томачка!» Борис!»
Иван Дмитриевич принес на себе морозный воздух, немного снега на тапках, а в пакете – две бутылки вина, копченой рыбы, колбасы, торт и розу для Тамары.
– Вы меня балуете, Иван Дмитриевич, – театрально скокетничала Тамара.
Иван Дмитриевич имел общий вид крепкого военного, розовое лицо садовника и желтеющий синяк под глазом, поскольку жена его, Нина Константиновна, работала в суде настоящим судьей и преступной лояльностью и либерализмом, в отличие от мужа, не страдала. Она постоянно карала супруга за малейшую провинность, малейшее нарушение общественного равновесия и порядка. Иногда словесно, а иногда и физически.
Конечно, к наказаниям понуждала ее профессиональная деятельность. Не то принес из магазина – получи. Спал после обеда – три дня без сладкого. Пришел с запахом алкоголя – это уж по полной программе. Но при всем при этом Нина Константиновна горячо и, надо сказать, пылко любила мужа, не представляя себе, как бы она жила без него.
– Пытали? – спросил после краткого приветствия Борис, имея в виду припухший желто-синий островок под глазом Ивана Дмитриевича.
– А-а… – отмахнулся тренер, выставляя угощение. – Тяпнули с Никодимовым по сто грамм после турнира… Ну оно, в смысле процессуального действия, как раз и получилось. Но я не в обиде. Ты же, Боря, знаешь Нинулю мою. Она строга. Как иначе – работа такая.
– А нынче что же, – кивнула Тамара на праздничный стол, – снова будет суд?
– Нынче, – солнечно улыбнулся Иван Дмитриевич. – Нина уехала к матери в деревню. Та прихворнула. Просила навестить. Так что гуляем, россияне! Я смотрю, у вас прибавление в семействе, – кивнул философ на Джульку, которая смирно и изящно сидела в общем кругу.
Расхвалив Джульетту на все лады, описав то, как Борис нашел ее и как потом нес совершенно окоченевшую буквально с того света, Тамара сервировала стол, водрузила в центре подаренную розу и предложила выпить за вновь прибывшего, уникального человека, сошедшего со страниц «Красной книги», отдавшего всю свою жизнь воспитанию крепкого поколения…
Тут пафос Тамары иссяк, и она просто спросила, хотя и не в первый раз:
– Как вам это удалось, милостивый государь, взрастить столько достойных людей? Недавно видели одного из ваших учеников по телевизору Очень глубокий молодой человек.
– Голубушка, – сказал Иван Дмитриевич, мягко улыбаясь, будто добрый дедушка, – терпение. Все дело в терпении. Я выработал в себе такую норму терпения, которая не позволила бы пролиться даже тени раздраженности, озлобленности, неверия в человека. Только доброта. Доброта и поддержка способны делать чудеса. Вот и весь нехитрый секрет. Что же касается всяческих борений с самим собой, своими воспитанниками – то боже мой, судари мои! Сколько же всего пришлось вынести мне вот на этих самых плечах. Но это, своего рода, если хотите, спорт. А спорт, как известно, в конце концов делает человека прекрасным, сильным, мужественным, волевым. Хотя бывают разные срывы. Но в основном человек становится чистым. А вот теперь, – сказал Иван Дмитриевич, – меня заинтересовала совсем другая область. – Он наклонился к приятелям. – Я стал присматриваться к Нине. Даже стал писать что-то вроде некоторого эссе. Ведь она такая законница. Возможно, мои записи станут бестселлером. Сенсацией. Хотя я и не гонюсь за славой. Просто истина и правда должны торжествовать всегда. Рано или поздно.
– Вы – трибун, Иван Дмитриевич. И философ. Это уж мы с Борисом знаем.
– Да что ж трибун, голубушка! В том, что я могу поведать миру, собственно, ничего нового не будет. Все старо. Разве что факты… факты! От них никуда не денешься. А остальное… – Иван Дмитриевич махнул рукой. – Вот Нина Константиновна моя работает в суде. Но рассудите сами, что есть суд. Государственный инструмент, призванный вершить правовые действия в соответствии с моральными и этическими законами того государства, которому оно служит. Смею напомнить: инструмент карательный. Как меч или топор. В лучшем случае – розги. Я, понятно, немного утрирую. Государство, любое государство, что бы там ни изрекали, как бы ни приукрашивали – дитя той или иной идеологии. Коммунистической, буржуазной, фашистской, демократической и прочих. А идеология, судари мои, – вот мы и добрались до самого главного! – идеология – это философская концепция, располагающая некоторые идеи или верования выше ценности человеческого существа. Неважно даже, какая это идея. Она может быть внешне вполне благородной. Как, например, сегодняшняя наша, демократическая. Однако все идеологии ложны, поскольку ценят саму идею выше человеческой личности и даже больше человеческой жизни. Всякий же раз, когда идеям придается большее значение, чем человеку, появляется моральное разрешение жертвовать людьми ради выдумки, выгоды и прочего. За примерами далеко ходить не надо. Более семидесяти лет коммунистического безумия, революций, диктатуры пролетариата, коммун, культа личности… Все это, смею напомнить, во имя общего коммунистического счастья. И – за счет жизней миллионов людей. При помощи народного, в кавычках, суда. Что же мы получили в результате сегодня? Тысячи голодных, для которых нет греха, а значит – и преступления. И если к хлебу небесному за Христом идут миллионы, то за хлебом земным следуют тьмы. Несчастных, озлобленных, жестоких. Демократия принесла свободы – слава Богу! Но свободы эти уродливы, ибо кричать на площадях или обливать кого-то помоями в прессе – это не свобода, а отчаяние и разнузданность голода. Народ всегда искал, пред кем поклониться и создавал себе кумиров. Особенно в России. Так как Россия добрая, сентиментальная баба, которая всю историю свою ждала и ждет единственного своего, суженого своего, сильного и властного. Пусть даже это будет деспот, тиран. Так, может, ей и лучше. Вот и в вашем оркестре проявилась диктатура хозяина. Не понравилось ему ваше стремление быть свободными людьми, а не механическими колесиками и винтиками. И вот вы здесь вместо того, чтобы быть на сцене. Вы репрессированы. Вы умерли во имя прилизанной моральной чистоты. Вы даже не стали бороться за свои права, хотя и могли. – Опальные музыканты понуро опустили головы. – Вот вам маленький оазис мнимой демократии. А что это такое на самом деле – не знает никто. Бороться со Степановым было бесполезно. Такие всегда правы… даже в случае победы – вы бы ничего не выиграли. В моей практике таких случаев было великое множество. Вот я и пришел в свое время к выводу, что единственной на земле истиной является религия, которая зиждется на таких отношениях между Богом и человеком, а стало быть, в идеале, между человеком и человеком, кои напитаны самой высокой, самой искренней моралью. Потому что любовь является естественной силой притяжения. По большому счету взаимоотношения любви строятся, конечно, на работе нашего разума как инструмента познания, сердца – обители любви, и воле – того горючего материала, который поддерживает как первое, так и второе. Ну что загрустили, соколы мои! – взревел вдруг отставной генерал российского спорта. – Давайте выпьем за эти три великие силы, без коих невозможна жизнь на земле: разум, сердце и воля!
Все трое дружно позвенели хрустальными бокалами.
– Так вот, – продолжал, закусывая, Иван Дмитриевич. – Чему отдается предпочтение в суде? Я давно наблюдаю за супругой – за ее, так сказать, психологией.
– Воле, – поспешила с ответом втянутая в игру Тамара.
– Да, – согласился оратор. – В рамках закона. Но больше, конечно, фактам и разуму. – И тут же хитро подмигнул. – А великий Шиллер говорил: «Верь тому, что сердце скажет»! Интересно, что все пророки провозглашали примерно одно и то же. То есть, верили любви. Впрочем, любовь, понятно, должна быть истинной. Тогда в ней истинное спасение. Однажды, кстати, к Будде пришел юноша с просьбой указать ему путь истинной любви и истинному спасению. Рядом была речка. Будда предложил юноше войти в эту реку, а затем погрузил голову этого молодого человека в воду и держал до тех пор, пока тот не стал задыхаться. Когда они вышли на берег, Будда спросил: «Что ты больше всего хотел, находясь под водой?» – «Воздуха», – ответил юноша. И Будда сказал: «Когда ты возжелаешь спасения и любви так же сильно, как воздуха под водой, тогда приходи ко мне и я отвечу на твой вопрос». А теперь посмотрим, как люди, попавшие в лапы идеологии, стало быть – и суда, управляются со всем тем, о чем я уже говорил. Что противостоит познанию – тайна. Чем можно заменить любовь – чудом или сверхъестественными ощущениями. В наркотиках, сексе, алкоголе. Но это – не любовь. Это тяга к чему-то другому, таинственному, мистическому, болезненному. Однако, что можно противопоставить Воле? Авторитет. То есть – чужую волю. Чужое повеление. Кстати, на этих трех китах – тайна, чудо, авторитет – покоится власть Великого Инквизитора. Да и что греха таить – власть многих церковников, не говоря о государственных деятелях. Тогда, судари мои, что означают эти три ипостаси для суда как инструмента государства… или определенной идеологии. Тайна, как правило – свод законов, которые можно повернуть и так, и этак. Сюда человек сдает свою совесть и находит предмет почтения и страха. Чудо – действие разума, но не сердца. Любви здесь вход категорически запрещен. Авторитет, то есть чужая воля – это то, что позволяет холодно выносить любой приговор, не омытый ни добрым чувством, ни состраданием. Тут, впрочем, нужно добавить. Поскольку множество судей женщины, существа эмоциональные, а часто и мистические, то они, конечно, изрядно портят себе нервную систему, жизнь. Превращаются, пардон, в гранитных баб. Но не в этом дело. А в том, что суд всегда поддерживал то состояние общества, когда народ сам, исключительно самостоятельно шел сдавать свою свободу предложенному авторитету. И авторитет говорит: «Я буду твою принесенную свободу охранять. Посредством суда». И охраняет. Не забывая набить карманы, оставить счета в запредельных банках, разворовать, ограбить, убить и прочее, прочее, прочее. Древние египтяне поклонялись крокодилам, которые их тут же и пожирали. В нашем случае происходит нечто подобное. Все это, кстати, очень характерно для косыночной, послушной христианской России, где всегда была масса созвучных государственной идеологии доктрин, которым непременно обязан поклоняться примерный гражданин. Это поклонение переносится на повседневную жизнь. Однако взглянем на Новый Завет. Мы не увидим там ни одной из доктрин. Иисус Христос дал единственный критерий для верующего в него. «По сему буду знать, что вы – последователи, если будете любить других так же, как я возлюбил вас». Можно ли, скажите, судари мои, применить слова сии к судопроизводству? И есть ли среди судей истинные христиане? Я даже стал подозревать, что со временем религию Христа стали подменять религией о Христе, нашпиговав ее культовыми вещами и доктринами. Однако, как ни парадоксально, суды нужны. Как армия. Как инструмент власти. Хоть Библия и предупреждает: «Не судите да не судимы будете». Вот судьи и берут на себя сей тяжкий крест, часто не ведая даже, что каждого из них ждет своя Голгофа. Потому-то большинство их и обретается в стане неверующих или верующих чисто формально, на уровне Моисеевых заповедей. Например, судья может совершать пре любо действо или брать взятки, что, понятно, является нарушением нравственного закона, но если он зайдет иной раз в церковь, перекрестится на виду у всех, то вот он, судари мои, он как будто в глазах окружающих и христианин, и чистый совестью человек. И грех с себя снял. Теперь он может судить, брать взятки и владеть совестью других. Ибо кому же владеть людьми, как не тем, кому доверили они совесть свою и в чьих руках хлебы их. Впрочем, все это прописные истины. Я вам, наверное, начинаю надоедать.
– Что вы! – жарко возразил Борис. – Философствуйте. Мы люди другой сферы и воспринимаем все сущее как некую звучащую область, действующую на органы мироощущения исключительно эмоционально и чувственно. А вы… вы, Иван Дмитриевич – умник, философ, способный дать человеческим и социальным процессам логическое толкование. Облечь все это в иную, необычную тональность. Меня лично это завораживает. Как те области искусства, скажем, где я не одарен талантом. В живописи, например. Или в литературе. В философии. Поэтому размышления ваши во мне лично звучат как некая музыкальная тема. Однако замечу, тема больше минорная. Вот и хочу спросить: есть ли в ней какой-нибудь солнечный свет?
– Что же, судари мои. Солнечный свет бывает даже среди метельной зимы.
Иван Дмитриевич подошел к окну, занавешенному тихо колеблющейся снежной занавеской.
– Все во Вселенной является воплощением эманаций Бога, – сказал философ. – Так же как свет солнца превращается на земле в фауну и флору. Но наивысшим творением предстает перед нами все-таки душа человека, поскольку она способна впитывать и отражать все божественные проявления. Чтобы жить, как бы тебе сказать, верно, что ли, развитый человек использует три основных способности: мышление для познания истины, ибо истина в реальности, созданной Творцом; любовь, чтобы любить созданное Господом; и волю, дабы поступать справедливо и праведно. Стало быть, вот тебе, Борис, и солнечный, мажорный свет. Последнего постулата я пытался, чисто по-человечески, придерживаться всю жизнь, чем одарил себя и почтением, и даже страхом со стороны окружающих. И, разумеется, кучей врагов. Но вот что интересно… Представим себе человечество, выстроенное перед огромным зеркалом, и пусть каждый взглянет на себя и искренне скажет: сколько человек он действительно любит. Ради скольких добровольно готов принести в жертву свою жизнь. Или хотя бы какой-нибудь орган. Почку, например. Вы увидите, как подавляющее большинство начнет расходиться, потому что у них появится внутреннее сопротивление тому, что мы называем религией. Впрочем, кому нужны эти осознанные, добровольные жертвы. Во имя чего? Жизнь дана для радости и счастья, для познания и любви. А вот идеологии с доктринами подчас сильнее религий. «Коммунисты вперед! Грудью на амбразуру. Убей врага, и тебя ждет вечный рай. Так что мажор мажором, Боря, а реальность такова – без пролития крови нет прощения грехов. Об этом говориться в Библии. Да и не только в ней. Без борьбы – нет победы. Без страдания нет пути к очищению, к тому солнечному мажору, которого ты так ждешь от меня. Увы, то, что изначально должно было способствовать счастью и радости человечества, превратилось в страдания и жертву через кровопролитие. Образ святого олицетворяет скорбь. Вот почему Русь, испокон веков изобилующая страданиями всех мастей, всегда предстает перед нами и в поэзии, и в музыке, и в литературе больше в минорных тонах. Минорные тона уже как-то больше созвучны нашей душе, нежели мажорные. Хотя, повторяю, это неправильно. Человек Эдема физически совершенен и, казалось бы, счастлив. Но у него нет свободы воли. И вот он вкушает от древа Добра и Зла. Это значит, у него появилась возможность морального выбора. Как только он обрел такую возможность, то навсегда был изгнан из сада бессознательного поведения. Но я для себя из этого очень интересного факта вывел следующее. Господь заранее спланировал все происшедшие в мире события. От самого начала. Понимаете? От начала мира. То есть, неспроста вырастает пресловутое дерево. Ева, как слабое существо, поддается искушению. Адам же, Евин законный супруг, спасовать, понятно, перед женщиной не может и в одну секунду злоупотребляет тем проклятым плодом. Но что же из этого, судари мои, следует? – Философ улыбнулся и сощурил узкие монгольские глаза. – А? Что следует? – И, не дождавшись ответа, разъяснил: – А следует то, что Боженька не мог создать миллионы себе подобных. Вернее, это не входило в его планы. Это была бы просто штамповка. Господь наделил человека грехом, стало быть, поселил в людях Зло. Но так же дал ему, гомосапиенсу, возможность распоряжаться этим грехом. То есть или погасить в себе Зло и уйти к Добру, или наоборот. В зависимости от веры. Выходит, то, что описано мифом об Адаме и Еве, явилось положительным событием для человека, хоть и вывело его потом на путь борьбы и страданий. Вот и получается – Адам был первым явителем Бога на Земле. Он начал интеллектуальное обучение человечества. Конечно, Господь мог сотворить человека совершенным, но тогда он, человек, не смог бы развиваться. И Бог наделил его свободой воли, которая побуждает его творить добро или зло. Вот тут-то и рождается общественный суд, так или иначе, относительно регулирующий нормальные отношения в обществе. Часто, правда, суд невнятный и несправедливый, потому что грешные судят грешных. Страдают невинные. Может быть, ради катарсиса, очищения. Не думаю, правда, что это благодать Божья… во всяком случае, сие сокрыто от нас в этой жизни. Карма или что другое, мы, возможно, узнаем потом. Одно ясно: страдание и покаяние приближают нас к Богу и сознательно задуманы Господом. Для нашего совершенствования. И тут справедливо, что более тяжкий грех или преступление влекут за собой более суровые наказания. Впрочем, все, судари мои, я умолкаю. Сейчас мы будем пить и смеяться, как дети. Будем радоваться жизни. Пригласим Эпикура и нальем бокалы. Пускай хозяйка что-нибудь споет, а ты, Боря, подыграешь. Я так люблю, когда вы вместе что-нибудь исполняете.
Борис разлил вино, и оно янтарно застыло в маленьких рюмках.
– Между прочим, – торжественно провозгласила Тамара, поднимая рюмку с чуть дрожащим напитком. – Борис за лето написал замечательную симфонию и назвал ее «Сад». – Щеки ее горели, как переспевшие персики, а глаза сверкали счастьем и восхищением.
– Бог мой! – вскричал Иван Дмитриевич. – Написал симфонию, и молчит. Дай-ка нам, Томачка, бокалы. Что это за мензурки какие-то нерусские. Я всегда подозревал, Боря, когда-нибудь ты чего-то в этом роде отчебучишь. Во-первых, потому что Степанов обрек тебя и Тамару на страдания. Во-вторых, ты человек талантливый, а талантливых боятся. Как ни парадоксально – особенно в России. Тут всегда пытаются и пытались либо не замечать, либо избавиться от гениев вовсе. Их травят, как тараканов, загоняют во все щели. Потому-то заграница и полна русскими творцами. Там им предоставляют все условия. А здесь они ходят в заплатах и умирают в безвестности. Но не приведи Господи, не подумай, что я советую тебе покинуть Родину! Мы – патриоты, Боря. Хоть и отверженные. – Иван Дмитриевич поднялся и крепко обнял Бориса. – Давайте выпьем, судари мои, за творцов! Ибо они посланники Божии, и труд их остается во времени.
Друзья выпили, и Борис принес баян. Он открыл футляр, и кухня наполнилась запахом кожи, лака и дерева.
– Я сыграю тебе, Иван Дмитриевич лучшее из того, что получилось. Лучшую, как мне кажется тему. Она чисто русская. Признаюсь, начало ее я услышал в глухой деревне Тульской губернии от одного местного рыбака. Но так всегда бывает, что от чего-то отталкиваешься. То ли от песни рыбака. Или от голоса птицы. Шума дождя, ветра. В общем, слушай, Иван Дмитриевич. Ты, пожалуй, первый человек, на чей суд я отдаю свою работу.
Он замер на мгновенье, глядя на клавиатуру баяна. В комнату осторожно вползла чуткая тишина. Тамара почувствовала, что у нее повлажнели ладони. Иван Дмитриевич поправил салфетки.
Борис легко пролетел пальцами по клавишам, обозначив тональность, и начал игру. Его «Сад» наполнился теми былыми алыми звуками, которые улеглись в памяти от боя соловьев среди цветущих деревьев, гуда пчел, шепота листвы, журчания ручья, грохота колодезной цепи и многого другого.
Борис играл самозабвенно, ярко, наполнено. Тамара отметила, что даже ей он не исполнял свой «Сад» с таким жаром и чувством.
Борис то врывался в дом на волнах форте, то исчезал на пределе слуха. Баян его рыдал и смеялся. Он весело несся вскачь по убитой дороге и грустил о закате на берегу тихого озера. Вся звуковая палитра Бориса была, конечно же, отражением того его восторженного состояния, которое он испытал минувшим летом в заброшенной деревне. Там Борис осязал Бога везде и во всем, и это осязание сейчас являл его инструмент. Его вещий Баян.
Иван Дмитриевич сидел, повернувшись к окну, за коим плавно опадал густой, пушистый снег. Под звуки музыки ему вдруг привиделась и первая любовь, и первое прикосновение. Робкий поцелуй… Тот далекий Храм, вечно мерцающий в сокровенные минуты в глубине сердца. Заслуженный преподаватель вдруг остро ощутил, что этот Храм и есть обитель, где живет Бог.
«Как было бы хорошо, – подумал Иван Дмитриевич, – если бы все люди земли могли чувствовать и ощущать свет Храмов своих. Слышать голоса колоколов и омывать ими души. Тогда не было бы ни обманутых, ни оскорбленных, ни выброшенных на улицу, ни избитых, ни ограбленных, ни даже, пожалуй, недужных».
Иван Дмитриевич увидел, как косо летят вдали сквозь снег кресты церкви Пресвятой Девы Марии над Крылатскими холмами, словно несут осторожно куда-то вверх чью-то нетленную душу. В низине, верно, чуть слышно пел свою извечную песню святой ручей. И этот мир, наполненный звуками музыки Бориса, жил какой-то особой, отдельной от всего остального жизнью, дышал другим, чистым и чуждым обыденному свету дыханием.
Иван Дмитриевич неожиданно вспомнил теплую ласку материнских рук, деревянные ладони отца, радостное ржание коня и стакан молока с краюхой хлеба на дубовом столе, сработанном еще дедом. Вспомнил певучий скрип калитки и солоноватые губы той, которую любил.
Философ вспомнил все самое дорогое. Но и то, что жизнь уже кончается, а драгоценные мгновения теперь далеки, как теплые тропки босоногого детства.
Борис играл долго. Забывшись, перешел с одной темы на другую. Потом на третью. Когда, словно печать, прозвучал последний аккорд, в комнату снова влетела и провисла тенями звуков «Сада» тугая тишина.
Иван Дмитриевич наконец повернулся. Лицо его было мокрым от слез. Но он не стеснялся их. И не пытался унять.
– Ну не подлец ты, сударь мой! – сказал философ, улыбаясь. – Ведь ты мне всю душу вывернул наизнанку. Это, Боря, какая-то фантастика, которую я, например, постичь не в силах. Как можно из хаоса звуков выбрать тот чудесный букет, какой изранит и оплавит все твое сердце, ибо является прямым отражением того единственного счастья, которое было у тебя в жизни… Как это у вас, творцов, происходит – просто уму непостижимо. Однажды на моих глазах художник одним движением руки, не отрываясь от бумаги, создал образ рядом стоящего человека. Человек этот был моим другом. Я хорошо знал его. Знал его душу. Графический портрет, изображенный неизвестным живописцем, собственно говоря, один лишь абрис моего знакомого полностью передавал весь не столько даже внешний, сколько внутренний мир. Я был поражен. Я был растерян. Восхищен и повержен. Также как сейчас, Боря. Воистину, вашими руками, ушами, глазами, когда вы творите, владеет Высший. Потому-то люди и преклоняются перед его избранниками. Как, скажите на милость, оглохший Бах мог слышать и создавать гениальные свои творения? Это не поддается осмыслению. Пушкин после «Онегина» писал брату: «Представляешь, какую штуку выкинула со мной Татьяна? Она вышла замуж». То есть Александр Сергеевич даже не ведал, что пишет его рука. А рукой-то водил Бог! Толстой, бедняга, слег и заболел на целый месяц после того, как Анна бросилась под поезд. А ты, Борис Борисович, как ты слышал свою музыку? Ту, что минуту назад растерзала мне всю печенку. Ей-богу, судари мои. Растерзала на части.
Борис все еще держал баян на коленях и глупо улыбался. Он был похож на тихо помешанного, видевшего за пределами сознания другие миры и планеты. Бориса тепло грело глубинное чувство, что его дитя – «Сад» – хоть кого-то растрогало и кому-то принесло радость. Он снял инструмент с коленей. Ему хотелось сейчас сказать какие-то высокие красивые слова, но он боялся, что может сорваться на банальность и серые фразы, и потому произнес просто:
– Выпьем, ребята, за хорошую музыку. За настоящую музыку. Это действительно дар Божий, который от человека-творца часто и не зависит.
Тамара пригубила вино и потерла мокрые ладони. Она вдруг почувствовала прилив нежности к мужу и гордость за него. В то же время ей стало, в который раз, больно от того, что мир перевернулся, сошел с ума и утратил способность отделять высокое от низкого, доброе от злого, красоту от уродства. Она подумала: будь у нее ребенок, он-то уж наверняка был бы достаточно образован, чтобы понять и оценить по достоинству то или иное произведение.
Борис поставил бокал и объявил Ивану Дмитриевичу:
– А ведь «Сад» мой, который ты, дорогой мой философ, только что слышал, сегодня никому не нужен. Нет, конечно, классику исполняют, но взять новую вещь мало кто рискует. К тому же для ее воплощения нужны деньги. И немалые. Так что я даже не знаю, удостоится ли «Сад» большой сцены. Право, не знаю. Я показывал его и там, и сям, одному руководителю оркестра, другому, но… все осторожничают. Хвалят, а брать – не берут. Вот какая, Иван Дмитриевич, грустная история.
– Чушь, сударь мой, – доложил бывший преподаватель. – Ты, Борис – человек талантливый, но, извиняюсь, глупарь. Я догадываюсь, как ты ходил и куда. Конечно, пробежался по знакомым, где-то, как-то зацепившимся сокурсникам, не обросшим ни славой, ни авторитетом, ни даже известностью. Понятно, они тебе отказали. Кто они такие? Тебе нужно идти к сильным мира сего и ни в коем случае не отчаиваться, не раскисать, как сейчас. Я бы на твоем месте набрался наглости и отправился прямо к Степанову Скорее всего, он тебе откажет, но ведь лучшего случая подпитаться рабочей злостью не придумаешь. Я смотрю на тебя, Борис, и, честно говоря, холодею. Ты, как блаженненький, сидишь тут и скулишь: «Они мой «Сад» не берут». А спросил ты себя: везде ли я был? Все ли сделал, чтобы мой «Сад» расцвел? О том, что он достоин этого, знаешь сам. Знает Тамара и многие друзья. Стало быть, бейся, дерись и побеждай! Эх, мне бы тебя на месячишко на кафедру. Уж я бы из тебя лишнюю, благочинную дурь с потом выветрил.
Философ разнервничался, покраснел и заходил по комнате быстрыми лыжными шагами.
– Помню, когда-то давно я был по своим делам на Мосфильме. Во дворе мне случайно повстречались Шукшин с Никоненко, и по тому, как яростно матерился Василий Макарович, как страстно горели его глаза, я понял, что друзья, – а они дружили, – шагают, скорее всего, с какого-то художественного совета, где Шукшин, вероятно, доказывал свою концепцию, а разные бездари совали ему палки в колеса. Но история показала, что он-то, Шукшин, остался и своего добился, потому что имел талант и жар в груди. У тебя же, сударь мой, Борис Борисович, есть талант, есть прекрасное сочинение «Сад». А жару в груди, извиняюсь, нету.
– В том-то и беда, – согласилась Тамара. – Мы какие-то неприспособленные. И то сказать, с самого начала повезло. Катались по миру, никому никогда не кланялись, ни перед кем не лебезили, на коленях не стояли.
– И не надо, милые мои! – горячо отозвался Иван Дмитриевич. – Никогда не смейте этого делать. Потом от самих себя стыдно будет. Просто наберитесь смелости, терпения и шагайте во все двери. В жизни что главное? – нигде и никогда не сдаваться. И все получится. Притом что «Сад» твой, Борис Борисович, действительно хорош. Я не мастак на похвалы, но будь это что-то рядовое, среднее – промолчал бы и все. Однако ты мне душу наизнанку вывернул и слезу выжал. А это со мной сотворить весьма сложно. Уверяю тебя. К тому же, тут звучал один инструмент. Если же представить себе оркестровое исполнение… у меня, поверь, даже дух захватывает. Так что соберись с силами, грудь вперед и в бой. Поскользнешься – вставай. Засмеют – наплюй. Понятна тебе такая психология?
– Понятна, – согласился Борис. Слова товарища поддержали его. В нем родился боевой петух, готовый сражаться до последней капли.
– Ну вот и славно, – удовлетворился Иван Дмитриевич. – Теперь, судари мои, дело за вами.
Утром следующего дня, – а это как раз был понедельник, – Борис проснулся поздно. Они с Тамарой не любили понедельники. Почему-то в эти дни что-то не складывалось, срывалось, не получалось, поворачивалось спиной, словом, начало недели с каких-то далеких пор Борис с Тамарой старались посвящать лишь прогулкам и домашнему хозяйству. А понедельник, как дымный товарняк, пахнущий бензином и копчеными досками, грохотал где-то рядом, выпучив ослепительные фары и грозя катастрофой или крушением. Поэтому по понедельникам Борис с Тамарой часто вообще не выходили из дома.
Сейчас, свесив, будто две жерди, худые ноги на пол, Борис пространно наблюдал за вьющейся у ног Джулькой – та мягко и заискивающе била его по коленям пушистым хвостом, выпрашивая утреннюю пробежку.
– Да, – сказал Борис хриплым голосом. – Теперь ты не один. Теперь, хочешь, не хочешь, придется вытряхиваться.
Тут вздохнула Тамара. Борис встал, чтобы не разбудить жену раньше времени, и прошел в ванную.
– Все! – решительно сказал Борис. – Больше – ни капли. Что же получается? Сытый, благополучный Степанов со своей рыхлой, наштукатуренной женой победили? Пожалуй, на сегодняшний день так и есть. А почему? Потому что вы, дорогой маэстро, ничего не делаете. Все чисто по-русски. Но это ли тебе нужно, Боря? Ты вспомни, Боря, свое выступление в Милане. Какой ты был. Чистый ангел. Публика рукоплескала тебе во все лопатки. То же – в Америке, Испании, Японии. Там у тебя было лицо, а здесь, извиняюсь, рожа. Нет, не для того тебе дадена жизнь, Боря. И талант дарован не для того. Давай, братец, вылезай из ямы. Умел упасть, умей подняться и снова стать, кем был. Иначе вон она, старая с косой, так и ждет, так и маячит за окном в черном прикиде. Но Господь жалеет тебя и дает, может быть, последнюю возможность опомниться и встать на ноги. К тому же за твоей спиной Тамара…
Джулька уже отчаянно требовательно скребла дверь ванной.
Борис наспех добрился, облил себя холодной водой с твердым решением не прикасаться больше к спиртному, подбросил Джульетте косточку и, пока собака отвлеклась, сварил чашку кофе.
Тамара все еще спала, разметав по подушке чудесные свои темно-русые волосы. Лицо ее было чистым. Щеки горели легким румянцем, будто она только что собирала персики в саду и вот прилегла отдохнуть.
Борис набросил куртку, и Джулька, как оглашенная, сорвалась с места, окатив коридор звонким радостным лаем.
Бесшабашно веселое солнце ударило в глаза. Как будто хотело сказать: нет, ребята, я из команды красочной осени, а зима пусть пока подождет. Рановато будет. Потому скисал и таял под ногами первый легкий снежок. Борис вздохнул и направился к древним Крылатским холмам. Прочь от индустриального шума, напоминающего огромную стиральную доску.
Шествуя в обитель предзимней тишины и покоя, Борис вдруг обнаружил, что жизнь, черт побери, не такая уж скверная штука. И хотя прощально ярко светило солнце да озабоченно летели от канала ватными обрывками облака, все вокруг дышало свежестью и даже легким весенним теплом. Первый сопливый снег под ногами быстро таял, и Борис, шлепая по грязи добротными ботинками, думал о том, что перевернул страницу черновика и перед ним открылась новая, чистая.
Джульетта бежала поодаль. Распушенная шерсть ее словно впитывала солнце и желто горела над клочками почерневшей травы, как китайский фонарь.
«Да, нужно драться, – накачивал себя Борис. – В этой стране мало написать хорошую вещь. Нужны еще бицепсы и напор. Прав был философ. Нужно ломиться во все двери. Что поделаешь, если время поменялось. Будто полиняло. Сбросило кожу, обнажив свое истинное, жестокое обличье. Но сдаваться нельзя. Сдаться – значит, потерять себя, Тамару. Все, что есть вокруг. Эту тишину. Покой. И всю музыку мира. Буду сражаться. Иначе чего я стою, если не могу защитить свое собственное дитя. Защитить и дать ему жизнь. Жизнь своему «Саду». Иначе он умрет, так ни разу не расцвев. Интересно, кому это нужно, чтобы хорошие вещи пылились на полках, а пошлятина и гниль кружились в хороводах на самых больших площадках?.. Ах, Россия моя! Россия! Женщина крайностей и безумия. Тебе дарят бриллианты, но ты выбираешь дешевую бижутерию. Нет, за тебя, твой вкус, твой облик нужно драться!
– И мы будем драться! – воинственно сказал Борис вслух, не зная, собственно, кто это – «мы».
Так он шел в размышлениях о «Саде», о своем предназначении и о том, что ему нужно делать дальше.
Джулька необыкновенно быстро освоилась в новом месте, признала хозяев, словно от рождения была в семье музыкантов, и теперь постоянно оглядывалась на Бориса, проверяя, тут ли он, не делся ли куда. Под кустами она по-женски аккуратно присаживалась на задние лапы и смотрела в этот важный момент на Бориса бесконечно покорно и преданно, чем вызывала у хозяина легкую улыбку. «Так смотрит, – думал он, – сама Судьба, когда ей хочется подурачиться».
Вернулся Борис окрепшим и свежим. И сразу засел за телефон. Он обзвонил с десяток адресов и мягким своим баритоном – сама корректность и интеллигентность – договорился о встречах в разные дни. В разных местах.
Тамара только что проснулась. В длинной белой рубахе она была похожа на привидение, спорхнувшее с какой-нибудь далекой звезды.
– Ты был там, где уже зима? – спросила она, щуря сонные глаза. – Почему, Лапа, ты всегда уходишь, а я вынуждена просыпаться одна и пугаться до самых пяток?
– Прости, Лапуля! – сказал Борис. – Не успел оставить тебе записку: уж больно рьяно Джулька рвалась оповестить весь собачий мир, какая она замечательная, прекрасная и единственная. Кажется, ей это удалось. Один доберман всю шею себе чуть не сломал, глядя на Джульетту… ну, скажем, Джековну.
Джулька поняла, что разговор идет о ней и ее успехах, победно замотала хвостом.
– Ах, ты мое солнышко рыжее, – разомлела Тамара и присела перед Джульеттой на корточки. Та вскочила передними лапами ей на плечи и принялась в экстазе собачьего счастья вылизывать еще сонные Тамарины глаза.
– Ну будет, глупая. Будет, – отталкивала собаку Тамара, вытирая рукавом мокрое лицо. – Ты посмотри, Лапа, какая она у нас нежная. Из нее выйдет прекрасная мать. И щеночки, надо думать, будут хорошие. Как тебе кажется?
– Мне кажется, – сказал Борис, – что кто-нибудь из оповещенных мною по телефону коллег должен откликнуться уже сегодня. Поэтому, Лапуля, осмотри, пожалуйста, мой костюм, рубашку, чтобы все было готово к выходу. А я займусь нотами.
– Хорошо, Лапа, – согласилась Тамара. – Но сначала я умоюсь, приведу себя в порядок. Потом приготовлю завтрак. Кстати, – как бы невзначай добавила она, – ты ничего не принес к брекфесту? Поправить здоровье.
– Нет, дорогая, – сказал Борис и уловил в сердце неясную тревогу, какое-то еще неосознанное опасение за судьбу близкого человека. Вечный праздник жизни уже заходил довольно далеко. – Мы с Джулькой решили принять трезвый образ и, не оглядываясь на магазины, рванули сразу в прозрачные Крылатские леса. К тому же копилка наша после последних торжеств заметно опустела.
– Ну, – надула губки Тамара. – Я согласна на ваш с Джулькой трезвый образ жизни. Но… с завтрашнего дня. Резко обрывать нельзя. Сегодня нужно поправится. – Она помолчала, теребя в руках платок, и вымученно нетвердо, словно под щемящим внутри давлением произнесла: – К слову о копилке. Копилку надо пополнять. Как это сделать, ты, Лапа, должен придумать сам. Ты мужчина. Тебе и карты в руки. Твой «Сад» – это прекрасно. Но когда он расцветет, потом начнет приносить плоды, неизвестно никому. А питаться нам с тобой нужно сегодня. И Джульку нашу кормить.
Борис вздохнул и ощутил в душе густую и опасную волну приближения какой-то тяжелой и вязкой полосы жизни, когда все может поменяться на сто восемьдесят градусов. Он вдруг увидел себя с задранной вверх головой у подножья Олимпа. Узрел себя в латаных джинсах, рваных сандалиях, старенькой рубашке и почему-то с метлой в руках. А там, на вершине в ослепительном сиянии не одного, а трех солнц, в дорогом белом фраке стоял он же, Борис Ганин, и ноги его утопали в ковре из живых цветов. Но то, что зиждилось наверху, было уже историей, прошлым. Нижняя картинка вполне могла стать будущим.
Борис вздохнул и безмолвно посмотрел на безмолвную папку со своим «Садом», одиноко лежавшую на журнальном столике. Там, в этой папке, спали волшебные звуки и мелодии, хранившие память деревенских озарений Бориса. Но что в них сейчас было проку? Даже Тамара – и та, как видно, устала ждать. Впервые за годы шальной цыганской жизни она отчего-то устала ждать. И надеяться.
Борис поднялся, набросил пальто и вышел за дверь. Остановился у подъезда. Закурил.
Первый снежок стаял, превратившись в грязные, тугие ручьи у обочины дороги.
У «7-го КОНТИНЕНТА» – магазина с американскими ценами при российской зарплате, американском порядке, чистоте и блеске, фешенебельности и даже дебелых охранниках, одетых на американский манер в особую полицейскую форму – у этого магазина для удачливых музыкантов, политиков, шулеров и «братков» стояли иномарки всех мастей. Из них то и дело вылезали упитанные господа, а за ними уныло семенили магазинные работяги, таща за малую подачку высокие стальные тележки с шикарными продуктами, которые те трудяги могли наблюдать лишь как музейный экспонат. Поэтому после работы частенько новые пролетарии, запасаясь парой приобретенных по случаю бананов или хвостом селедки, запрокидывали купленную на подачки бутылку и ждали, пока не перестанет булькать. А потом плелись, шатаясь, домой, чтобы под мерный, в лучшем случае, зуд жены увязнуть в больном и тяжелом сне.
– Да, – сказал чей-то голос рядом. – Таких уродов раньше не было.
Борис повернул голову и узнал соседа с верхнего этажа. Тот кивнул в сторону дорогих авто, имея в виду упитанных буржуев.
– Другого слова не подберешь, – добавил сосед. Был он коренаст, крепок, с руками, похожими на добрые кувалды. Был он, скорее всего, из тех ребят, что гоняют с утра до ночи тяжелые грузовики и знают цену настоящей работе. Сегодня, видно, у него был выходной. Или отгул. Или он пошел в отпуск и вот выглянул на улицу покурить. В любом случае, у него была причина. Так просто эти парни свою работу не бросают.
Борис почувствовал это, и ему стало совестно, что его гнедая где-то мечется с оборванным поводком, а он стоит здесь – не пришей к плечу рукав.
– Да, – сказал Борис, – раньше такого…
– Так это что, – оживился верхний сосед. – У меня на лестничной площадке пацанчик. Сашка. Пятнадцать лет. В переходе на скрипке шпарит. Но он, я тебе скажу – бог, второй Паганини. Откуда чего берется? На той неделе подкатывает к этому переходу «Джип», из него вылезают два мордоворота, хватают Саньку под белые локти и кидают в машину вместе с его дешевой скрипкой. Тот, конечно, чуть не обмочился с перепугу: пацан же. Привозят его куда-то за город на волыну. Кругом – крутые, девки полуголые. Ну и главный говорит:
– Поиграй мне, Саша, что-то для души. А я тебя не обижу. Ну Санек достал свою деревяшку и давай выводить крендели. Играл до тех пор, пока центральный «крутой» не зарыдал. Так вот они и слились в экстазе: Шура играет, а «браток» слезу катит одну за другой. Повеселились они таким совместным образом и все. Натолкали Сашке «зеленых» во все карманы и привезли прямо к мамаше, папаше. Еще и скрипку по дороге ему классную купили. Вот, земляк, какие развороты бывают.
– Да… – задумчиво согласился Борис. Он представил себе шустрого паренька с торчащим вихром на затылке и веснушками на щеках, который слышит звуки вышины и умеет извлечь их из дешевого инструмента.
– Так что и среди «братков» люди попадаются, – заключил свой рассказ сосед и направился по своим делам.
– Постой! – крикнул Борис. – Ты на каком этаже живешь?
– На четырнадцатом, – улыбнулся шофер. – Девяносто вторая квартира. Заходи. Пивка попьем.
Борис вынырнул из задумчивости, как из длинного подводного тоннеля – как-то крепко запал ему в душу скрипач-Саша, словно это жила-была сама совесть Бориса. Яркая вспышка высветила и самого себя, прилипшего к непомерно большому баяну с широкими ремнями. Ноги не доставали до пола и, босые, болтались на весу. Тщедушная фигура с костлявыми плечами. Он был похож на глупого, но любопытного котенка, трогающего лапой клавиши. Но и тогда уже этот ящик на коленях, таивший внутри себя громадную силу, издавал под пальцами Бориса нежные пионерские песни. И это было неизбывным счастьем, заслонившим многие пустые и опасные мальчишеские забавы. Тогда трудно, да и просто было невозможно заглянуть за ширму времени, увидеть свои ослепительные взлеты и глупейшее падение, с катастрофой, снежным обвалом, когда горы снега засыпали всю дорогу жизни, и где теперь копать – было неизвестно. И все-таки бытие, сверкающее прохладным солнцем, шипящее, как морской прибой, шинами авто, дразнящее красивыми женщинами, играющее рябью в ослепительно-черных лужах, напичканных пурпурными листьями, это бытие продолжало существовать, звать к чему-то, чего никогда не угадаешь за очередной чертой горизонта.
Борис еще потоптался немного на ступеньках парадного, докуривая сигарету, и направился к магазину за лекарством для Тамары. Обидеть ее он не мог, хотя и ощущал, думая о ней, смутную тревогу, словно мокрая зеленая жаба неожиданно прыгнула в воду, и вот теперь ровные геометрические кольца расходились по всему озеру. Эти круги были кругами тревоги. Борис знал, что женщине, как утверждает медицина, гораздо сложнее вырваться из цепких лап алкоголя, и потому кольца все катились и катились одно за другим по озеру его сознания.
Когда Борис вернулся, Тамара уже приготовила завтрак.
– Все давно готово, Лапа, – объявила она наигранно бодро, – а ты все ходишь, ходишь. Там что, очередь выстроилась?
– Нет, – возразил Борис. – Ты же знаешь, там очередей не бывает. Просто постоял, покурил, вспомнил себя двенадцатилетним заморышем, когда баян был для меня больше сундука бабушки Екатерины со всеми ее мыслимыми и немыслимыми платьями и шубами. И все-таки я хотел играть. Играл с утра до ночи, не замечая времени. Кстати, – продолжал Борис, открывая бутылку, – у нас на четырнадцатом этаже живет юный Паганини, который играет, как Бог, в каких-то переходах метро. Представляешь, это мне только что рассказал сосед. Паренька похитили бандиты. Какое-то у них было веселье, уикэнд, праздник, черт знает, что они там себе устроили.
Слушая, Тамара поставила тарелки с омлетом и две рюмки. Борис повернул одну из них кверху дном.
– Я больше не пью, Лапуля, – сказал он и тут же продолжил рассказ, чтобы пресечь какие-либо вопросы. – Так вот, этот отрок довел до слез главаря «братвы» и тот рыдал как ребенок, погрузившись, видимо, в остатки того добра, какое впитал с молоком матери, а может, потому, что, как сказал Гиппократ: «Жизнь коротка, а искусство вечно». Кто знает? Потом они насовали ему денег, этому молодому вундеркинду, и вернули родителям с новой скрипкой. Вот такая забавная история. Как-нибудь надо подняться, посмотреть на этого виртуоза… словно на себя самого поглядеть. На свою станцию под названием «Детство». Какая же она теперь далекая, – вздохнул Борис.
– Не надо, – сказала Тамара.
– Почему?
– Потому что в прошлое можно опускаться спокойно, если есть будущее. А если его нет, этой встречи может не выдержать сердце. Тогда, в лучшем случае, лежа на белых простынях, можно долго смотреть в серый потолок и жалеть о случившемся. Одна тоска. И ты, Лапа, это знаешь. Поэтому бери себя в руки и делай что-нибудь, чтоб оно у нас было. Будущее. Пусть – скользкое будущее, как бегемот. Но ты должен его схватить железной рукой. Иначе…
– Иначе?
– Иначе все рухнет, и мы превратимся в порошок. В обыкновенную селитру. В удобрение для полей. Словно бы нас и не было. Не было нашей игры в Кремлевском Дворце, в Нью-Йорке, Риме, Токио. Все это может стать лишь вздохом кого-нибудь из наших оркестрантов, когда он на старости лет, перелистывая от нечего делать фотоальбом, случайно обнаружит общую фотографию, где среди прочих персон будут торчать и наши физиономии.
От слов Тамары Борис ощутил под рубашкой противный холодок, словно бы там ползало ядовитое насекомое, обладавшее реальной опасностью. Он вдруг почувствовал себя ужасно одиноким. Одиноким и чужим всему на свете. Чужим даже ей, Тамаре. И вспомнил неожиданно, как когда-то, в какой-то Латиноамериканской стране, ехал ночью по берегу незнакомого залива.
Шел дождь, и шоссе ярко блестело в свете фар, точно посыпанный серебряной пылью рубероид. Капли дождя крупным бисером влетали в широкий световой коридор. И трудно было отличить ветряной шум прибрежных пальм от мокрого шелеста шин. Это можно было назвать путешествием в самого себя. Потому что кроме жемчужно искрящегося веера света и собственного Я во всем мировом пространстве ничего и никого не существовало. Это был пик одиночества.
Вот и теперь Борис ощутил нечто похожее на тот, уже призрачный, ночной полет. Тьма, веер света, шум дождя и где-то в самой середине этого чрева – он, Борис.
– Тебе нехорошо, Лапа? – спросила порозовевшая от коньяка Тамара.
– Как-то душно стало, – сказал Борис и вдруг очень остро почувствовал собственное сердце, будто перехваченное тонкой стальной нитью. – Пойду, прилягу на пару минут.
Борис открыл глаза и сначала не мог понять, где находится его тело. Оно лежало поверх какой-то белой, жесткой кровати, над которой высился веселенький, с бликами солнца, высокий потолок. И стены тут были чистые, белые, стерильные. Укрывало Бориса плотное одеяло, одетое тоже в крахмальный и свежий пододеяльник. Больше ничего в комнате не было. Никаких излишеств. Ни радио, ни телевизора, ни чего-либо еще. Крахмальные стены и пол, пахнущий хлоркой.
Борис повернул голову и увидел еще одну такую же стерильно тоскливую койку, а на ней – худощавого человека с небритым лицом и впалыми закрытыми глазами. Борис уныло осознал – больница. Тупо ныло сердце, но боль ощутимо вытекала из него, как из пробитой фляги. Значит, те ребята, которые мотались за рифленой стеклянной дверью туда-сюда белыми тенями, сделали свое дело.
Странно, Борис ничего не помнил, как если бы накануне был сильно пьян.
Небритый человек открыл глаза и, поглядев на Бориса, хрипло произнес:
– Попали мы с тобой, старичок. Месяц проваляемся. Как пить дать.
Познакомились. Сосед имел редкое имя – Иван, артистично худые руки и тоскливо мечтательный взгляд синих очей.
– Да, – согласился Борис. – Похоже, тут у нас долгая станция.
– Хорошо, медицинский полис успел получить, – сообщил сосед. – Не то валялся бы сейчас неизвестно где. Моей мадам теперь наплевать, что со мной.
– Почему?
– Да так уж. Просто наплевать и все. Человек она такой. По жизни. Вернее, тут профессия наложила свой отпечаток. Судья. Это, брат, опасная штука. Для всех окружающих. Последнее время, правда, адвокатом работала. Это, кстати, меня и подкупило при знакомстве. Защитник – не судья. Сердце надо иметь другое. Душу. Но она, как выяснилось, судья по натуре своей. По призванию, можно сказать. А уж когда женщина – судья… катастрофа. Власть опьяняет прекрасный пол больше, чем мужчин. Действия не подчинены рассудку. Впрочем, нужно признать, специалист она отменный, и если бралась за дело, – а работала Светлана с крупными фирмами, организациями, – то дело это, как правило, ею выигрывалось. Тут уж не отнять. Ну и понятно, победа оплачивалась соответственно. Банкеты, фуршеты, рестораны, кафе. Ясно, являлась за полночь с повестями и рассказами. И все это, заметь, заплетающимся от «Шампанского» языком. А мне каково! Притом, что я не пил спиртного ни капли. Работал над книгой. Одним словом, назрел скандал. Впрочем, сам понимаешь, не мог он не назреть. Поскольку слушать пьяные бредни до четырех утра вряд ли кому под силу. Может, конечно, я был не прав… не знаю. Возможно, у нее такая работа, что без банкетов нельзя. Нельзя потерять старых клиентов, обрести новых. За бокалом, как сам понимаешь, все это проще. Но мое положение! У меня свой распорядок. Свое расписание. Подъем в семь утра, пробежка, зарядка и в половине девятого – как штык, за стол. Можно совмещать одно с другим? Разумеется, скандал. В результате все мои вещи – на лестничной клетке, потому что, не выдержав, я и сам, что говорить, напился до чертиков. В сердцах трахнул какой-то вазой об пол. Через пятнадцать минут появился мордатый бульдог в милицейских погонах. Понятно, у нее же все в отделении – друзья. Вместе пьют, потом развозят друг друга по домам. Свои люди – судьи, адвокаты, милиция… Этот блюститель, пользуясь тем, что ответить ему я не мог: как же, он при исполнении, при форме! В общем, стукнул меня пару раз. Обычное, вроде бы, дело. Но нужно было видеть при этом глаза моей адвокатессы. Никогда я такого взгляда больше не наблюдал. Злое, сытое удовлетворение, хмельное самодовольство и тупое превосходство, словно она расстреляла злейшего врага – вот, что было в этом взгляде. Таким образом я отправился на все четыре направления. Жил у друзей, в мастерских художников, в подвалах, на чердаках. А теперь вот живу на этой койке. Что будет дальше – не знаю. Просто ума не приложу. Работа оборвалась. Как быть, в толк не возьму. Вот такая приключилась… – как говорит Жванецкий.
Борис, понятное дело, поведал и свою печальную историю. Как, прямо по-Чеховски, вырубается его «Сад». Ну и, конечно, не смог не откликнуться на чужую беду.
– Что ж, – сказал он. – Если тебе, Ваня, некуда деваться, поживи у нас с Тамарой. В коридоре есть диван. Работать можешь в читальном зале. Ну а пропитаться – что-нибудь придумаем. В крайнем случае, стану в переходе с баяном. А что делать? Пусть народ слушает мой «Сад», как говориться, из первых рук. Мне теперь наплевать на престиж, имидж и прочую чушь. Конечно, после Парижа, Лондона, Нью-Йорка будет не по себе, но черт с ним со всем. Переживем. Роман твой о чем?
– Роман? О целителе. Целителе человеческих душ. Есть, Боря, на свете такие люди. А вообще – Колыма, тайга, бродяги, философы, ищущие града Божьего на земле.
– Ну и что, находят?
– Главное – искать, Боря. А кто ищет, как говориться, тот всегда…
– Что ж, – сказал Борис. – Дай тебе Бог.
Был в палате и третий страдалец, темноволосый, с узким лицом, нервный человек, кусавший ногти во время разговора Бориса с Иваном. Но когда соседи смолкли, он вдруг открылся.
– А я, ребята, прилетел из Африки, точнее – из Ганы. Три года загорал под тамошним жарким солнышком в качестве переводчика. Жил, сообщу без ложной скромности, как падишах. И черт меня дернул тронуться в родные края! Соскучился по березам, мокрой крапиве, ромашкам полевым, едрена корень… Приехал, а у жены в мое отсутствие – другой ухажер. Ну и что в таких случаях – развод. Вето на дочку. Словом, самые веселые события. В результате тоже вот – вполне праздничная больничная обстановка. А там, в Тане, братцы вы мои, какая же была красота! Барракуды, омары, кокосы, национальный парк, океан, темнокожие женщины, карнавалы… Так нет же! Нас всех непременно тянет в нашу задрипанную, разворованную, нищую Россию, где вор на воре и обездоленные люди с протянутыми руками. Сердце, ей-богу, кровью обливается. И это при сказочном богатстве страны. Какая-то несчастная Гана и Россия… поразительно! Там, в Африке, я жил во сто раз лучше. Парадокс! Вы, творцы, – извиняюсь, подслушал вас, – никому не нужны. А если вам и платят что-то, то какие-то гроши, подачки. И что же, дорогие господа, получается? А получается капитализм наизнанку. Когда нормального предпринимателя душит бюрократ: ему это выгодно. Он, бюрократ, получает за это свои дивиденды и взятки. Где это видано, чтобы государственные мужи крали и продавали все, что только можно продать! В ходу дешевка, а истинные ценности валяются под забором, как мусор. А закон можно повернуть и так, и этак. Зачастую же его просто не существует, закона. Бандиты вольны делать все, что им заблагорассудится. Эх, да что говорить! Не скажу, что там все иначе. Но в той стороне люди получают другие зарплаты и, стало быть, отношения складываются совсем другие.
– Да, тоже история, – сказал Иван. – Хотя, что же вы хотели? Жена здесь, вы там.
– Ну во-первых, – молвил африканец. – Жена с дочкой частенько приезжали ко мне. Вместе проводили отпуск. А во-вторых… впрочем, черт его знает, что там во-вторых. Короче, теперь я здесь, а они там.
Вошла такая же стерильная, как пододеяльники, белоснежная, улыбчивая медсестра с подносом, на котором на чистой салфетке покоились три шприца.
– Будем лечиться, господа, – произнесла она, сверкая ослепительными зубами, и почему-то многозначительно поглядела на Ивана.
Все трое с готовностью повернулись на живот, оголив розовые зады.
Медсестра ловко и быстро, в один шлепок, сделала три укола.
– Отдыхайте, – сказала медицинская фея и грациозно скрылась за дверью.
– Хороша, – со стоном переворачиваясь, произнес влюбчивый, видно, Иван.
– Да, – согласился африканец Сергей. – У меня в Гане случай был. Жила наша делегация в гостинице. Метрдотелем числилась дама, француженка, похожая на нашу медсестру. Только постарше. И вот представьте, отмечали мы какой-то, не помню, национальный праздник. Набрали по незнанию «Текилы», еще какой-то дряни. Одним словом, празднуем. Ну пьем-то по-русски, фужерами. А был среди нас чернокожий по имени Аббара. Он, ясное дело, быстро захмелел и рухнул на койку. Жарко. Все в трусах. И когда этот Аббара завалился храпеть, аппарат его, не представляете какой величины, из трусов и вывалился. Мы посмеялись и по пьяному делу решили пошутить. Я взял и привязал его елдарий тонкой веревочкой к ноге. Думаем, очухается Аббара, похохочем. А он же черный, как дегтем намазанный. Даже аппарат чернее сажи. Снова пьем. Потом кто-то говорит: «Ребята, неудобно. Еще обидится. Действительно, соображаем, все-таки иностранный гражданин. Не в Рязани. Ну ладно. Я стал тот узел развязывать. А спьяну никак не получается. И дернул меня леший развязывать зубами. Что говорить, хороши уже были.
Разгрызаю я проклятый узел, и тут входит метрдотель, француженка. Конечно, немая сцена. Господа, к нам приехал ревизор. Можете себе вообразить ситуацию. В общем, пришлось на следующий день перебираться в другую гостиницу: стыдоба-то какая. Француженка, правда, ничего не сказала. Тактичная. Мало ли у кого какие фантазии. Даже вроде бы огорчилась при нашем отъезде. Вот такая вышла оказия.
Все слегка посмеялись, превозмогая тупую, занозную боль в сердце.
И потекли, поплыли одинаково однообразные, похожие, как близнецы, больничные, пахнущие физраствором дни. Праздник, одним словом, отдыха и философии. Лежи себе кверху пузом и мечтай, надейся неизвестно на что.
Иван, как только смог вставать, исчезал по вечерам к медсестре-Ольге на пост, когда она дежурила. Африканца-Сергея каждый божий день навещали родственники, заваливая его молочным и какой-то овсяной гадостью, которую он нюхал, морщась, и шел выбрасывать.
Бориса аккуратно посещала Тамара с обязательным букетом цветов и фруктами. Она как-то преобразилась, посветлела, видно, нежданное горе наложило на нее отпечаток церковной, апостольской святости и поста. Она была тиха, грустно улыбчива и необыкновенно заботлива. Милосердно гладила Бориса по волосам и все поправляла его постель.
Иван по-настоящему влюбился. Глаза его застилал счастливый туман. На все глядел, как со дна моря. Он снова стал писать. Тургенев, говорил, не мог творить, если не был влюблен. Вот, мол, и со мной происходит нечто подобное. Ольга, похоже, отвечала ему взаимностью: все-таки писатель, не хмырь какой-нибудь с Шарикоподшипникового завода. Хотя еще неизвестно, кто по нынешним временам был лучше.
В общем, наши герои мало-помалу выздоравливали. Грелись на заоконном солнышке. Травили анекдоты. Скучали и пускались в пространные дискуссии о политике, турбулентности планетарных движений и антагонизме всех, в том числе литературных и музыкальных движений.
Борис в минуты тишины и покоя снова стал чуять в воздухе святые, дарованные Богом звуки мелодий и бережно заносил их в копилку оставленной Тамарой нотной тетради.
Африканец-Сергей маялся, вышагивал по комнате, видно, вспоминал омаров, диких слонов и собственный каленый загар под ослепительно-белой рубашкой, не говоря уже о темпераментных темнокожих женщинах. Он теперь мечтал набрать группу учеников интенсивного курса английского языка, чтобы человек через пару-тройку месяцев мог свободно общаться даже с ни бельмеса не понимающим по-русски американцем. «Дитя что сначала делает? Начинает говорить, – увещевал он. – Затем уже читать и писать. А в нашей, российской, системе обучения все наоборот. Все для того, чтобы никто, в результате, ни черта не знал и снова при надобности учился, но уже за деньги. Моя методика до безобразия элементарна. Всем известно – все простое совершенно. Вот это, к примеру, зарядное устройство. По-английски – чаджер, вот зажигалка – лайтер, икона, – он совал предметы под нос каждому, – айкен, крышка для банки – кавер. А теперь я спрашиваю по-английски: где икона, зажигалка, крышка. Таким образом, и сам вопрос, и наглядный предмет откладывается в памяти. Легко и сразу. Ну и так далее. Хотите в ученики? Возьму недорого. Как с братьев по страданиям.
Писатель смотрел на африканца словно из-под воды, а музыкант, пропуская сквозь слуховой аппарат нежный эфир, тоже не понимал, чего хочет от него Сергей.
Одним словом, слава Богу, поправлялись.
К выписке Иван от предложения Бориса поселиться у него галантно отказался, сознавшись, что разгоревшаяся страсть уводит его в Ольгино гнездышко, может быть, навсегда. Однако он очень будет рад общению и вскоре позвонит, как у него все сложится.
Африканец-Сергей выписывался первым, пожелав друзьям здоровья и всяческих удач на их, к сожалению, зыбком поприще. Сергей был практик и реалист.
Бориса отпускали вторым. Иван оставался с белоснежной своей сестрой милосердия, Ольгой, обнадеженно благостный и озаренный светом новой, как морское путешествие, жизни. Похоже было даже, сердечный недуг испарился из него навсегда.
Тамара пришла встречать мужа. Вместе они собрали больничные пожитки Бориса и дружненько, взявшись за руки, вышли на улицу.
Природа обмякла, будто баба после чая. Снег присел, потемнел. На шоссе мазутно сверкали лужи. Близкая весна уже наседала на зиму горячим боком. Пахло сыростью и мокрой корой деревьев.
Борис вдохнул серый мокрый воздух и жизнь, как, может быть, ни странно, показалась ему снова прекрасной. Он обрадовался и голосам людей, и трескотне воробьев, и даже надсадному, носившемуся словно по кипящей сковородке шуму машин. Так славно было после зевотной, промелькнувшей смерти вновь ощутить свое, пусть и призрачное бытие. Тем более – взамен долгого лежания на опостылевшей белой койке. Все тело как-то само рвалось к бодрости и обновлению.
Тамара тоже повеселела: опасность сгорела за плечами, и теперь она, Тамара, сама невольно ощущала приближение некоей новой светлой полосы.
Тамара все щебетала о чем-то теплом, домашнем – о том, например, что она пригласила слесарей, и те передвинули, переставили всю мебель иначе, что вроде бы нынче все сделалось и радостней, и веселей, и просторней. Что звонил в некотором роде знакомый Бориса и, конечно, спрашивал, не надумал ли он предложить свой «Сад» для эстрады.
– Прохвост, – выразился Борис, несмотря на прекраснодушное состояние.
– Я обед приготовила, – похвалилась Тамара. – Твоя любимая курица, запеченная с грибами. – Ей хотелось быть близкой и родной, как мать.
– Это замечательно, – одобрил Борис. – Больничная каша уже в печенках сидит.
Потекла прежняя размеренная жизнь-существование. Так неостановимо течет река или безразличные облака в небе.
Борис стал бегать по утрам к святому Крылатскому ручью для укрепления внутреннего механизма, нервов и общего состояния.
Джулька необыкновенно и трогательно обрадовалась возвращению хозяина и теперь была его постоянной спутницей. Она летела впереди, стелясь по земле, как желтая шаровая молния, и видно было: она снова трепетно счастлива.
Борис бегал для полной бодрости. Начал обливать себя святою влагой, тем более что по соседству расхаживали босиком по ручью голые, но грамотные в отношении здоровья люди. Они внушали Борису твердость воли и почитание. Он, надо заметить, почувствовал себя гораздо крепче и увереннее.
Днями Борис упорно возил свой неутомимо цветущий «Сад» по разным музыкальным редакциям, но дело столь же упорно не двигалось с места. Снова хвалили, иные заглядывались на Бориса, как на некое высшее существо, можно даже сказать, как на некого пришельца с иного мира, однако на этом все движение и кончалось. Словно кто-то незримый прочно встал на пути и постоянно показывал Борису во множестве скользких рук огромный кукиш. Будто этот кто-то, мерзкий, пучеглазый, навеки навел на него зловредную порчу.
И все же Борис не сдавался, верил, что его час, – крути, не крути, – все-таки наступит.
Тамара, устав от безделья и сидения в четырех стенах, набрала себе учеников, и теперь развлекалась с утра до вечера с бестолковыми оболтусами богатеньких родителей, которые, конечно, мнили своих отпрысков вундеркиндами. Но платили исправно и щедро.
Одним словом, надо признать, жизнь как-то скучненько топталась на одном месте; шаг вправо, шаг влево, а между ними – пустота.
Все, может быть, так и катилось по унылому кругу, если бы не события, которые потрясли Бориса с Тамарой с одной стороны своей справедливостью, а с другой – ужасным исходом.
Во-первых, сначала погиб в автокатастрофе прежний руководитель и дирижер оркестра, в котором некогда трудились наши музыканты, господин Степанов. Прямо-таки, отметим, жуткой удостоился участи.
Борис с Тамарой долго молча сидели на кухне, глядя друг на друга и испытывая сложные разнородные чувства. Среди них были и жалость, и сострадание, и боль утраты. Но в колючих лабиринтах этих чувств, что скрывать, упрямо билась мысль: есть Бог на свете! Есть отмщение, и от расплаты не уходит никто. Нет, в душах Бориса и Тамары не было мстительного налета. Ощущение наступившей справедливости нельзя сказать, чтобы тешило их самолюбие. Однако же и простертый перст Божий они, заметим, видели очень ясно.
Во-вторых же, – и это для Тамары с Борисом оказалось ударом более сильным, громом среди ясного неба, – был застрелен неизвестно кем и за что человек, которому наши музыканты отдали в аренду значительную часть своих сбережений.
Словом, вышло так, будто Господь проснулся и расставил все по своим местам. Дирижеру Степанову сказал: «Не суди»! А музыкантам: «Не ищите легкой дороги».
Борис снова почуял тупую занозу в сердце, а Тамара просто-таки слегла. Деньги канули бесследно. Где их теперь искать? Право слово, наказание за сибаритство было налицо. За сибаритство, расхлябанность и откровенную лень.
Борис это понял и рассуждал примерно правильно. «Да, ты работал, – доносил себе музыкант. – Сотворил «Сад». Но если Господь дал тебе способность выращивать деревья – нужно трудиться до седьмого пота без устали и остановки. А ты что? Взрастил «Сад» и решил, что все уже совершил. Пора отдыхать. Нет. Так не бывает. Посеянные в тебе возможности нужно хранить, возделывать, а затем раздавать с них плоды. Только труд, постоянный, упорный труд принесет и успех, и славу, и почитание. Хотя, если разобраться, и они по большому счету не нужны. Одна лишь работа оставляет радость, черт побери. Сам процесс. Покой и воля. А больше ничего нет. Все остальное – тлен. Думал ли Моцарт, Чайковский, Бах о какой-то великой славе, всемирном признании? Они трудились неустанно и открывали людям Бога с Его вселенной звуков. И потому остались и живут плоды их. Вот в чем, собственно говоря, истина. А деньги… да бес с ними, если рассудить, с деньгами. Не вешаться же из-за них. Заработаем как-нибудь. Как люди, так и мы».
– Право не знаю, Лапа, как теперь мы будем жить, – молвила Тамара, присаживаясь к столу. – Конечно, мне неплохо платят за учеников, но этого, как ты понимаешь, по нашим запросам явно недостаточно.
– Проживем, Лапуля, – твердо ответил Борис. – Я послал свой «Сад» в Канаду, Францию, Германию. Авось что-то образуется.
– Может, ты действительно поработаешь для эстрады, – не выдержала Тамара. Эта мысль давно не давала ей покоя. – Отчего же, Лапа. Почему бы и нет. Многие трудятся в эстраде и довольно успешно. Канада с Германией сами собой, а тут…
Борис посмотрел на жену многозначительно долго. Почти как на предателя. Посмотрел и вытащил сигарету. Ему вдруг стало все безразлично. Собственное здоровье, выращенный в российской глубинке «Сад», вся музыка, взятая вместе, стылая, ничем не радующая жизнь.
– Великий писатель Андрей Платонов, – произнес Борис задумчиво, – работал дворником после того, как Сталин запретил его печатать. И писал. К тому же завещал своей жене, Марии Александровне, никогда, ни при каких обстоятельствах не отдавать ни одной страницы на Запад. Вот и я лучше пойду таскать ящики, – добавил он ледяным голосом, – но продаваться не стану. Не буду, Лапуля! – закричал он вдруг так, что Тамара вздрогнула и тихо заплакала.
Ей было жалко, что так обреченно неудачлив, пусть и не по своей вине, муж, жалко себя, неопределенную будущность и даже Джульку, встрепенувшуюся от крика Бориса.
– Извини, Лапуля, – хрипло выдавил из себя Борис. Ему, конечно, меньше всего хотелось, чтобы эта нежданная распря между ними переросла в серьезную ссору, каких, по сути, никогда прежде не случалось.
На следующий день, когда Тамара отбыла к своим преуспевающим ученикам, Борис сгреб запылившийся баян и отправился с тяжелым сердцем в переход метро. Прямо скажем, не лежала у него душа к этому нищенскому занятию. Ох, как не лежала. Однако, пересилив себя, пересилив что-то, наступавшее ему прямо на горло, он прибыл на место, извлек инструмент, оставив футляр открытым для подношений, и начал играть. Пальцы его заметно дрожали от отвращения к такой работе, словно он оказался в клетке и вынужден был из-за решетки развлекать зрителей. Но дело было сделано. Борис уже попал в капкан. Что мешало ему так же, как Тамара, набрать учеников? Или поступить в какой-нибудь клуб массовиком-затейником? Однако такие занятия Борис считал более чем унизительными. Одним словом, он начал играть, стараясь не глядеть на прохожих. Так, примерно, если вы замечали, ведет себя свободный волк, попавший за железные прутья. Борис решил, что он будет исполнять только свой «Сад» и ничего больше. Никаких «Подмосковных вечеров», «Цыганочек» или «Черных очей».
В переходе было прохладно, руки стыли, пахло мочой. Но Борис все больше входил в роль, обретая какое-то нездоровое, мстительное чувство и вдохновение. Люди текли мимо плотной массой, как некая тяжелая вода, и в эту тяжелую воду Борис сбрасывал спелые плоды своего «Сада». Впрочем, как сразу отметил музыкант, большинству прохожих, стремящихся мимо, эти сочные плоды были, что собаке рога. Лишь некоторые, немногие, скорее из христианского сочувствия опускали в футляр баяна скудные воздаяния. А может быть, они понимали, эти редкие прохожие, что перед ними профессионал, заброшенный по воле рока в холодный, вонючий тоннель.
Чем больше играл Борис, тем тяжелее становилось у него на сердце. Он чувствовал, что играет механически, безо всякого, откровенно говоря, душевного взлета. Тем не менее, ему виделась в момент игры вся, озаренная солнцем, сторона Тульской губернии, горделивая изба вечной старушки, бабы Наташи, лес, озеро, цветочные поляны, Тамара, порхавшая в них, словно сатурния, и весь благоуханный в цветении вишневый сад.
Произведение свое Борис исполнял долго, но, доиграв до конца одну из тем, понял: на большее его не хватит. С чувством горечи и досады на себя, на всю тупую, унылую жизнь, на безразличную публику, Борис выбрал из футляра нищенскую мелочь, сложил инструмент и отправился прямым ходом в магазин.
Заработанных денег хватало как раз на бутылку водки. Борис приобрел товар и вернулся домой. Ему по дороге, что говорить, стало совершенно ясно: ни в какой переход, ни в какие массовики-затейники он больше не пойдет.
Дома Борис, еще не раздеваясь, налил полстакана спиртного и залпом ахнул все до конца. Затем только снял пальто и присел к столу. Перед ним вдруг снова возникли картины былых триумфов, блестящих выступлений, гастролей, оваций, восторженная публика и сегодняшняя жалкая игра в заплеванном, пахнущем застарелой мочой переходе. Возникла вся нелепая картина блистательных взлетов и низкого, горького падения.
«Ах, Виктор Александрович, – вспомнил Борис погибшего руководителя оркестра Степанова. – Что же ты натворил? И себе заработал жуткую участь, и нас с Тамарой опустил в глубокую яму. Ладно бы кто-то откликнулся на мой «Сад», но и он, похоже, никому не нужен. Что за люди! Хвалят, восхищаются и все. Пустота. Практически никакой надежды. Действительно, лучше пойти таскать ящики или подметать двор, чем так унижаться. Впрочем, что я еще могу? Никакой другой специальности. Стало быть, остаются ящики. Значит, такая судьба. Легче ли было Андрею Платонову? Унизительная тяжелая жизнь. Может, и впрямь отдать «Сад» на растерзание эстрадникам? Нет, – отверг Борис крамольную мысль. – Этому не бывать! Лучше уж ящики», – окончательно решил он и плеснул себе еще водки.
Джулька, лежавшая рядом, смотрела на Бориса из-под нависших рыжих бровей понимающе преданными, печальными глазами. Борис потрепал верную дворнягу за ушами.
– Пойдем гулять, хорошая моя, – пригласил он. – Бог с ним со всем.
При заветном слове «гулять» Джулька встрепенулась, замотала хвостом и нетерпеливо забегала по комнате.
Борис надел старую прогулочную куртку, сложил в пакет початую бутылку, пару бутербродов, кусок колбасы для Джульетты и вышел на улицу. Возле элитного магазина «Континент» торчали разнокалиберные, шикарные авто. Одинокий нищий, выворачивая ногу, бродил между ними, прося милостыню. Сырой, промозглый ветерок порхал над серым, прибитым снегом асфальтом.
Борис с тоской посмотрел на дорогие автомобили, понимая, что никогда ему уже не сидеть за рулем подобной машины, никогда не побывать снова ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Токио. Даже, откровенно говоря, закрадывались сомнения: а было ли оно, это ослепительное прошлое? Лучше бы оно пронеслось мимо. Борис плюнул с досады и пошел прочь, в долину отчуждения и старины, к древнему, полезному ручью. Джулька бежала впереди, находя под каждым кустом свой интерес, но постоянно в тревоге оглядывалась – движется ли за нею хозяин, не отлучился ли куда без ее ведома. Так они добрались до тихо журчащего успокоительного родника. Борис присел на пустынную лавочку, положил рядом провиант и наконец-то облегченно вздохнул.
«Все тлен, – подумал он. – Может быть, когда-то на этом самом месте сидел сиднем в думах о государственных нуждах сам Иван Васильевич Грозный. И тоже, надо полагать, нелегко ему было, царю».
Борис достал стаканчик и налил себе глоток для успокоения нервов. Он еще никак не мог очнуться от позора сегодняшнего выступления в переходе метро. Хуже еще не играл никогда. Дернул же черт отправиться на эти постыдные заработки. Борис припомнил главы своей музыкальной повести, припомнил, как он их, с позволения сказать, исполнял, и ему снова стало тошно. Однако все было уже позади, а впереди, по правде говоря, не сверкало даже малой надеждой ничего, и Борис упрямо решил, что завтра же пойдет в «родной» магазин и наймется вопреки всему грузчиком, тем более что таковые, судя по висевшему на дверях объявлению, срочно требовались в настоящий момент.
Впрочем, надежда, конечно, жила, летала по миру трепетной бабочкой. Борис отослал свой «Сад» друзьям за границу и теперь терпеливо ждал ответа, но когда он приплывет, этот ответ, и какого он будет свойства – тоже было неведомо. Но в любом случае, это было дело какого-то будущего, а жить нужно сегодня, сейчас. Жить и питаться, а не сидеть у Тамары на шее.
Борис впал в некую пространную меланхолию. Джулька, набегавшись и совершив все свои необходимые собачьи дела, воротилась к хозяину и верным образом уселась рядышком. Борис похвалил ее за примерное поведение и покормил припасенной колбасой.
Неподалеку с бидонами и бутылками стояли в очереди за святою водой ручья несколько элитных Крылатских старушек в дубленках и ярких цветных шарфах. И вдруг прямо над старушками, прямо, представьте себе, над древним родником Борис увидел весь свой оркестр в полном, можно сказать, составе. Увидел и себя, и Тамару, – еще совсем молодую, свежую, – и многих узнал бывших друзей. Все они, трудно поверить, сидели над ручьем красивые, нарядные, с поднятыми наизготовку инструментами. Борис, пораженный, затаил дыхание. И тут из-за ближнего дерева, из-за его, вернее, верхушки вышел сам дирижер Степанов. С минуту он постоял над музыкантами, повернувшись к Борису спиной, наконец, взмахнул палочкой и во все Крылатские окрестности, во всю ширь многовековой святой долины поплыли, понеслись звуки, не можете себе вообразить – уже известного нам «Сада».
У Бориса внезапно пересохло в горле, но он боялся пошевелиться: впервые слышал собственное произведение во всей широте и звуковом объеме. Что-то горячее обожгло Борису грудь, и он почуял, что плачет. Но не хмельные слезы текли по его щекам. То были слезы радости и счастья, подобные слезам рожениц, впервые взявших на руки своих младенцев.
Оркестр играл глубоко, полно и вдохновенно, а Борис сидел и рыдал, как ребенок, словно открыл для себя и постиг какую-то великую тайну мира.
Джулька с опаской поглядывала на хозяина и не могла сообразить, в чем тут, собственно, дело.
Тяжелые, но явные и ласковые волны музыки текли откуда-то сверху, сливаясь со всем существом Бориса, мерно отдавались в каждом ударе его встрепенувшейся крови. Они, эти волны, снова несли в себе из недалекого прошлого и негромкий говор лесного ручья, и трель жаворонка, и заревой всплеск рыбы. И тихие предгрозовые вздохи земли, смех молодой женщины, веселый скрип телеги, дождевой шум крыш и грустную вечернюю песню в конце деревни.
Звуки обрушились на музыканта, как ливень, проникая во все его клетки, то чуть слышные, то громкие, то оглушающие, то неясные и трепетные. Они, собственно говоря, и создавали ту чудесную гармонию, которую Борису подарило небо. Эти звуки рвались из рокотавшей бездны и рассыпались по всей святой долине, словно искры. Тягучая, тугая мысль осознания чего-то высшего колыхалась в душе Бориса, будто ясная, слитая с его музыкой мелодия. Каждый изгиб ощущений, каждый малый оттенок былой радости, скорби, любви, печали дрожали и горячо толкались в его бушующей крови, вызывая восторг и упоение.
– Вы только пообещайте, что подарите мне кассету с выступлениями вашего оркестра или, может быть, вашу личную запись. Я, знаете ли, когда-то тоже училась музыке и для меня это был бы прекрасный подарок, – сказала ему на следующий день директриса магазина, куда Борис пришел устраиваться грузчиком.
Скажем сразу, вспоминая Николая Васильевича Гоголя, с виду это была «дама, прекрасная во всех отношениях». Она давно симпатизировала Борису, знала со слов велеречивой Тамары всю их историю и, что скрывать, имела в отношении Бориса Борисовича тайные, но, увы, бесплодные мечты.
– Обязательно, Анна Ивановна! – горячо откликнулся Борис, вспыхнул и весь засиял от очередного заочного признания. – И кассету, и личную запись. Я, пожалуй, запишу вам отрывки из собственной симфонии.
– Это было бы замечательно, – уже совсем пришла в себя Анна Ивановна. – Знаете, признаться, не понимаю, как можно сочинять музыку. Это какое-то высшее таинство. Мне, во всяком случае, оно не доступно. Как вы это делаете?
– Я, собственно говоря, ничего особенного и не делаю, – ответил, польщенный, Борис. – Просто записываю на ноты то, что диктуется мне откуда-то сверху. Ей-богу, сам не знаю – откуда.
– Да-а… – задумчиво произнесла Анна Ивановна. Свет от окна падал на ее серебристо-льняные волосы, оттеняя здоровый, абрикосовый цвет щек. – Но ведь вы, вероятно, учились сочинять? Значит, вас учили общаться с Богом?
– Нет, – определенно сказал Борис. – Нас учили музыке. Игре на инструментах. Преподавали историю классики. Нашей и зарубежной. Требовали знание произведений. Но слышать Бога – это уже было за рамками консерватории. И это давалось немногим. Не хочу хвалиться, но я слышал Его голос и записал то, что Он мне поведал на языке звуков. Удивительно, – распалялся Борис, – каждому, кто Его слышит, Господь посылает свои соцветия. Потому-то все композиторы разные. Многие из студентов стали замечательными музыкантами, однако остались глухи к голосу неба. Великие слышали Бога во всей Его полноте. Вы меня понимаете?
– Кажется, да, – сказала Анна Ивановна, и глаза ее нежно заблестели. – У меня такое ощущение, – добавила она, – будто мы с вами знакомы уже давно. Просто не виделись и вот встретились снова.
– Может, это так и есть, – произнес Борис и впервые взглянул на Анну как на женщину. Взглянул и смутился, потому что после встречи с Тамарой у него никогда никого не было. До нее – да. Случались и любовные романы, и короткие, ни к чему не обязывающие встречи. Однако после Тамары – никого. И вдруг в глазах Анны Ивановны Борис прочел и страсть, и скрытую необузданность, и нежность, и, одним словом, пыл любви.
Борис интеллигентно покашлял в кулак и как-то очень обыденно спросил:
– В котором часу завтра на вахту?
Анна Ивановна помолчала, изучающее глядя на него, и вздохнула:
– К восьми. Как обычно.
Борис прекрасно знал, что – к восьми. Не однажды с нетерпением ждал этих заветных восьми часов.
– Рабочая одежда у нас есть, – скомкано произнесла Анна Ивановна. – Пожалуйста, не опаздывайте. В восемь, к слову, уже могут быть машины с продовольствием.
Борис не столько вышел сам, сколько вынес внутри себя взгляд и внимание директрисы. Какое-то неясное предчувствие зашевелилось в нем пульсирующим молодым теплом. Понятно, никаких преступных планов он не строил и надежд в отношении Анны Ивановны не питал. И все же, какой-то ласковый зов поселился в его душе.
Тамару Борис неожиданно застал дома. Она была в гипсе, на костылях.
– Вот, Лапа, видишь, шла на работу, поскользнулась и сломала ногу, – весело объяснила она свое положение. – Теперь ты у нас – единственный кормилец. Работу я, конечно, потеряла. А «Сад» твой цветет где-то на другой планете, – добавила Тамара и саркастически засмеялась.
Последнее сообщение, понятно, больно ударило Бориса.
– Ты мне ничего не скажешь? – слезливым голосом спросила пострадавшая жена.
– Что тут говорить… – холодно ответил Борис.
– Как – что? – удивилась Тамара. – Что ты меня любишь. Жалеешь. Ну и все такое.
– Конечно, люблю. Конечно, жалею. Но «Сад» мой растет на этой планете. Более того, он когда-нибудь действительно расцветет и в России. Пусть даже после моей смерти.
Утром Борис переоделся в рабочий комбинезон, превратясь из музыканта в грузчика, кормильца семьи. Зарплата у него оказалась не слишком большой, но скромно прожить на нее было можно.
Напарником у Бориса оказался некий долговязый человек по имени Серега и прозвищу Золотой, так как имел во рту целых три бронзовых зуба, похожих на золотые. Золотому Сереге не так давно перевалило за сорок. Был он худым, но жилистым, носил копну нечесаных волос, пышные соломенные усы и бугристые, словно запеченные в глине руки с навечно черными ногтями. Лексикон Серега имел не хуже Эллочки-людоедки, но свой, собственный. Жил одиноко и потому большую часть времени посвящал любимой работе. Борису он сразу представился как Серега и протянул в знак будущей крепкой дружбы копченую лапу.
– Слава богу, едреныть, ты подоспел вовремя, блин. А то я тут это… уже заё… один-то. Вдвоем, типа того, веселее, едреныть. Присматривайся поначалу, ё-мое. Делай как я, едрёныть, и все будет это… типа нормально. Понимаешь меня?
Тут подошла первая машина с молоком и Борис, вздохнув, включился в трудовой процесс.
Золотой Серега оказался профессионалом: бросал ящики, словно семечки щелкал. С продавщицами шутил плоско и грубо, заливаясь при этом раскатистым хриплым хохотом и обнажая все три бронзовых зуба. Эта жизнь нравилась Сереге, и другой ему не надо было. Все знали, что Золотой простодушен, честен и никогда от него ничего не прятали. Потому за честность Серега всегда получал наградной стакан, а к вечеру – и бутылку. Золотой никогда не отказывался ни от какой работы, и порою ночевал прямо в магазине, расположившись на старых фуфайках. Но наутро был весел и всегда готов к труду.
Бориса, само собой, Серега поначалу берег, стараясь, как опытный, взять на себя основную нагрузку. Но очень обиделся, когда Борис попытался отказаться от винной трапезы. Этого Серега понять не мог.
Так или иначе, с первого же дня они были связаны во всем. Теперь Борис частенько, а вернее, чуть ли не каждый день являлся домой, мягко говоря, с гостинцами, которыми, словно невзначай щедро снабжала его прекрасная и сердобольная Анна Ивановна. Впрочем, доброй и щедрой она была, пожалуй, только с Борисом. С персоналом директриса обходилась довольно строго и бесцеремонно. Но к музыканту она явно благоволила, что, между прочим, мгновенно отметила торговая общественность магазина. Рыжая Люська прямо заявила, что у начальницы с Борисом роман, и она самолично наблюдала их в объятиях друг друга непосредственно в директорском кабинете. Конечно, на эту рыжую Люську немедленно донесли, и в сей же день она искала новую работу. Анна Ивановна, понятно, стала осторожнее, но все равно тайный огонь горел в ее пышной груди, и она не в силах была совладать с ним. Дело дошло до того, что музыкант, призванный однажды в кабинет для приватной беседы, после обсуждения производственных процессов был приглашен к Анне Ивановне на именины.
После трудового дня Борис, как положено, вымылся в душе, чтобы не пахнуть селедкой с колбасой, надушился французским одеколоном, надел белую рубашку, английский костюм и на недоуменный вопрос уже хронически больной жены: «Лапа, ты куда»? ответил, что идет на рабочее собрание, а там, понятно, нужно выглядеть прилично. К тому же у Тамары неожиданно обнаружились признаки диабета. А с этим шутки были уже совсем плохи. С тем Борис оставил растрепанную жену одну, с неотъемлемой уже бутылкой, и отправился в гости.
Стоит ли говорить, какой у Анны Ивановны был накрыт стол, как изысканно выглядела она сама, в какую красоту и уют окунулся сам Борис после грязной посуды и деревянных блинов.
– Я не хотела никого приглашать, – призналась Анна Ивановна. – Отпразднуем вдвоем. Если, конечно, не возражаете.
Борис не возражал. Чего возражать, раз уж явился, да еще, тем более, с пышным букетом роз.
И покатился тихий и теплый ласковый вечер с милыми, наивными глупостями, легким кокетством и хрустальным звоном тонких фужеров. Самое удивительное, Борис не чувствовал угрызений совести. Поначалу – да. Пока он ехал в метро, затем шел мимо задумчивых деревьев и кустов, готовых скоро принять близкую весну, какая-то черная пиявочка сосала его изнутри, жгла противным сознанием вины перед Тамарой. Но стоило увидеть блистательную Анну Ивановну, не директрису, а просто роскошную женщину, в глазах которой нескрываемо горела любовь, как червоточина затянулась, а боль совести, прямо скажем, превратилась в обыкновенный пар. Да и вся привычная обстановка европейского былого комфорта, сдобренная лирикой Шопена, – Анна Ивановна знала, что подобрать к приходу Бориса, – унесла музыканта в то далекое прошлое, где он привык чувствовать себя свободным, независимым, способным совершать чудеса.
Разгоряченный, Борис снова много говорил о Моцарте, Бахе, Чайковском, о незаслуженно забытом Чюрленисе, о собственном ощущении этих и других композиторов. К приятному удивлению Бориса Анна, – они уже перешли на «ты», – принимала живое участие в разговоре, проявив немалые познания. Когда же выяснилось, что она в свою бытность окончила музыкальное училище, Борис и вовсе растаял. Огорчало лишь, что Анна пошла по торговой части. Ну что же… Борис тоже не был известным композитором, а сейчас, тем более, значился обыкновенным грузчиком, то есть трудился на почве погрузки-разгрузки товаров народного потребления.
– Вот что, Боря, – сказала Анна уже после первого танца и нечаянного и легкого, как пыльца бабочки, поцелуя. – Бросай ты эту черную работу и пиши следующую симфонию. Та кассета, которую ты мне подарил, потрясла меня, и я, поверь мне, плакала, слушая ее. Я, пойми меня правильно, хочу, чтобы ты был настоящим музыкантом. Мне тяжело смотреть, как ты катишься вниз, не думая ни о себе, ни о голосе Бога, посылающего тебе святые звуки как великий дар. Многие мечтали бы слышать, но не слышат. А ты слышишь. Тебе дано. Но ты, прости, плюешь на это и шагаешь в какие-то грязные грузчики, в друзья к Золотому Сереге. Ты уверен, что поступаешь правильно?
Борис отложил вилку и помрачнел.
– Не забывай, Аннушка, что мы в России, – сказал он глухим голосом. – Можем подковать блоху и умереть в нищете и безвестности. Можем создавать шедевры, а в ходу будет китч. Напишем «Очерки бурсы» и загнемся от пьянства под забором. Кроме того, мне нужно на что-то существовать. Подвязаться шутом-скоморохом я не могу. Лучше – мешки-ящики.
– Нет! – резко возразила Анна. – Я не дам тебе погибнуть. Потому что…
Возникла пауза, в которой Борис примерно знал, что последует за этим: «потому что»… И все-таки спросил:
– Потому что – что?
– Потому что я люблю тебя, Боря. Вот почему. Что касается денег – у меня есть вклад в банке на довольно крупную сумму. Я буду отдавать тебе проценты. Не спорь. Это, по крайней мере, больше твоей зарплаты раза в три. Мне проценты не нужны. У меня все есть. А чтобы ты не думал, мол, я тебя покупаю, договоримся так – отдашь, когда сможешь. И учти, мне от тебя ничего не надобно. Ты абсолютно свободен. Но мой дом для тебя всегда открыт. Захочешь прийти – буду просто счастлива. Так что ступай в мир, Борис Борисович. Слушай Бога и записывай Его голос так, как ты слышишь. А я… я тебя увольняю. С завтрашнего дня. По собственному, как полагается, желанию. Я не могу видеть у себя человека, не соответствующего занимаемой должности. Ну а деньги – дым. Счастья они не приносят. Будут – отдашь. Зазвучит твой «Сад» с большой сцены, тогда и отдашь.
– А если не зазвучит?
– Нужно верить, Боря. Верить и добиваться. И дано тебе будет, говоря библейским языком.
Борис встал и благодарно обнял Анну, обнял нежно и ласково, как обнимают мать после долгой разлуки.
И снежным комом покатилась ночь. Бурная, жаркая, полная стонов счастья и горячих признаний. Борис сам не ожидал от себя такого пыла, будто впервые познал женщину.
Домой он вернулся под утро, не ведая, как и что говорить Тамаре, поскольку никогда не врал ей и врать не умел вообще. Но она спала во всей наружной одежде, расположившись поперек дивана. Рядом валялись костыли. Нелепо вывернуто торчала нога в гипсе. Фужер на столе был пуст.
Борис все понял. Совесть остро обожгла его, заскреблась где-то под сердцем. Он разделся и лег спать. Проснулся оттого, что услышал знакомый до боли запах жареных блинов. Стал медленно одеваться и решил: «Если что – скажу ей всю правду». Внутри себя Борис чувствовал, что с некоторых пор за ним тянется какой-то тяжелый шлейф и то опрокидывает навзничь, дает подняться – и снова валит на спину. Какой-то фантом прицепился к его судьбе, что репейник… но как оторвать его, честно говоря, Борис не знал.
Теперь вот связь с Анной – от себя не скроешь – что-то перевернула в его душе. Но зачем она нужна, эта связь? Что даст она ему в дальнейшем, кроме боли и новых утрат. Он полюбил Анну. Ее страсть, вера, самоотверженность, бескорыстие теплым бальзамом легли на сердце. Но что с этим со всем делать – тоже неизвестно. Ясным казалось одно: Господь снова дал возможность работать, заниматься любимым делом, для которого, может быть, он и рожден на этот свет. Все остальное – муки совести. Раскаяние, честолюбие, слава – петушиный бой, пустота, прах на ветру. Творцу не должно думать об этом. В поле зрения – лишь резец, молоток и материал, из которого высекается произведение. Больше ничего. А все, что дает жизнь, нужно принимать просто, с благодарностью. Хотя, если рассудить, любовь Анны – благо или грех? «Не возжелай»! А может быть, не возжелать – это духовная и физическая кастрация, от которой нет никому пользы. Зачем-то ведь послал Господь Анну!..
Ах, мысли, мысли… незваные гости. Ум должен быть чистым для высшего слуха и осязания. А мысли – летучие облака. Если ты рожден для слуха – слушай. Остальные заботы пусть обтекают тебя, как вода, омывающая по весне деревья и кусты. Вот и все.
Тамара стояла на костылях у плиты и жарила очередные деревянные лепешки. Волосы ее, заметил Борис, были спутаны, забинтованная нога неестественно и жалко висела над полом.
Борис вспомнил вчерашнюю, обворожительную Анну, мгновенно вспыхнули в памяти ее любовь, ласки, и ему стало тоскливо грустно, словно он увидел на дороге раздавленную кошку.
Борис вдруг совершенно ясно понял, что здесь, среди запыленной мебели, хронически грязной посуды и постоянных печеных деревяшек, называемых блинами, он ничего не услышит, а значит, ничего не создаст. С другой стороны, это была его Тамара, та, с которой он прожил более двадцати лет, где было все: и любовь, и радость, и счастье, и взлеты, и падения. Бросить ее, казалось, немыслимо. Но и оставаться не представлялось возможным. Это значило – убить свой слух, закрыть доступ к высшим звукам, а стало быть – уничтожить себя самого.
Борис кашлянул, чтобы обнаружить свое присутствие. Обернувшаяся от неожиданности Тамара чуть не упала. Борис едва успел поддержать ее. Она виновато ласково улыбнулась.
– Прости, Лапа. Я вчера не дождалась тебя. Уснула. Вы так долго совещались. Какой нынче день?
– Воскресенье, – вздохнул Борис.
– Ты сегодня, я замечаю, какой-то рассеянный. И бледный. Не заболел?
– В общем, так, – мрачно проговорил Борис, – я начинаю писать новую вещь. А может, это будет продолжение «Сада».
Тамара саркастически усмехнулась.
– Когда же ты собираешься это делать? Ведь кому-то надо работать. Иначе мы не проживем.
– Проживем, – зло сказал Борис. – Я буду играть на бегах. Или в казино. Мне всегда везло. Помнишь, в Монте-Карло я выиграл сразу пять тысяч.
– Ха, – сказала Тамара. – Что ты сравниваешь. Тогда нам было все равно – что выиграть, что проиграть… Там играли для забавы и веселья, а здесь это – вопрос жизни.
Он вышел на улицу. Деревья и кусты уже опушились нежной шелковой зеленью. В воздухе таял легкий запах сирени. Сырая земля дышала в мир прохладой и свежестью сквозь молодую траву.
Джулька навязалась в поход, и теперь бежала впереди, радостно улыбаясь всему, что попадалось ей на глаза.
Они с Джульеттой бесцельно отправились на рынок. Было светлое тихое утро. Молодое солнце висело над мокрыми от росы, лаковыми крышами. Птицы, почуяв новую жизнь и близкое потомство, озабоченно копошились в кронах деревьев, присматривая себе удобные жилища.
Борис с Джульеттой пошли дворами. Тут было по-своему уютно, тихо. Не шумели машины, редкие прохожие попадались навстречу, да и Джулька чувствовала себя вольготно, просторно. День только лишь просыпался, и Борис впитывал в себя его первые, робкие звуки. Так растения вбирают в себя окружающую влагу.
Борис слышал отдаленный гул машин, нечаянный визг тормозов, птичий гомон и шарканье одинокой старушки. Ничто не ускользало от его слуха и зрения. Из услышанного складывалась мелодия утреннего города. Она была ритмичной, но приглушенной, совсем не похожей на ту вселенскую музыку деревни, где был написан «Сад». Но это тоже была музыка. Своеобразная, высокая, особая. Борис бережно складывал все внешние звуки в копилку памяти, чтобы потом лепить из них, из этих звуков, скульптуру новой симфонии.
Джулька неожиданно рванулась к мусорному контейнеру. Борис хотел, было окликнуть ее, но вдруг увидел рядом с мусоркой старенькую, потрепанную гармонь. Он подошел и взял инструмент. Обшивка была изрядно потертой, видно, не одни руки трогали инструмент, да и клавиши имели вид застарелой полировки от чьих-то неведомых пальцев. Сколько лет было той гармони? Где, на каких вечеринках и свадьбах гуляла она? Или одиноко грустила в час багряного заката. Кто знает?
Борис взял несколько аккордов. Звук был чистый и яркий, как у старого колокола. Борис представил, что ветхий владелец гармони, скорее всего, перешел в мир иной, а больше инструмент никому не был нужен и его, как постороннюю вещь, просто вынесли наружу. Впрочем, очевидно, как и владельца. Кому, собственно говоря, сегодня нужна была гармонь? Не гитара «Ямаха», не синтезатор. Обыкновенная старая двухрядка. Но для Бориса она была чем-то вроде древней иконы, и потому он нежно взял ее под мышку и пошел дальше.
Рынок, будто резким запахом, ударил своими звуками. Быстротечным говором южной речи, топотом прихожан, криками зазывал.
Борис зашел в аптеку, купил для жены лекарство и, собрав все бесценные оттенки голосов, направился в обратный путь.
Назад он непроизвольно пошел по улице. Может, в его копилке не хватало городского грохота, а может, так было прямее и, стало быть, короче. Только эта непроизвольность, как потом понял Борис, оказалась не случайной. И вообще, убедился музыкант, ничего случайного в мире нет. За каждым шагом следит Наблюдатель.
Рядом с модным магазином «Континент» сгрудилась небольшая толпа. Борис был не из любопытных, но кто-то подтолкнул его, кто-то неведомый легонько потянул за поводок Джульетту и Борис подошел посмотреть, чем вызван общий интерес. Он протиснулся внутрь народа и… обмер. У бордюра проезжей дороги в распахнутой куртке и тельняшке на голое тело лежал в скрюченной позе известный Борису философ. Под головой его чернела лужа крови. Глаза безучастно смотрели в высокое небо. На щеке запекся комок грязи.
– Сбили и покатили дальше, – шептала какая-то старушка. – Им что, «Фордам» этим. А человека нет.
– Да пьяный был, – раздался чей-то безразличный, досужий голос.
Борис стоял в оцепенении, не в силах поверить в случившуюся трагедию. Милиция уже отстраняла зевак. Подкатила «скорая». Ивана Дмитриевича погрузили на носилки и те въехали на носилках с колесиками в машину, а Борис словно врос в асфальт и не мог сдвинуться с места.
Наконец, «скорая» скрылась за поворотом. У обочины осталась лишь черная лужа крови. И все. Все, чем поделился с миром мыслитель. И ушел навеки.
Джулька робко подкралась и понюхала кровь мудреца. Что открыл ей этот запах?
– Пойдем, – сказал Борис и, как сомнамбула, направился к дому.
События последнего времени смешались в голове, словно ветки дикого, ядовитого растения. Брошенный, бесхозный «Сад», денежный крах, травма Тамары, а теперь еще и опасная болезнь, нечаянная и грустная любовь Анны и, наконец, смерть друга. Философа и мудреца.
У Бориса резко, будто стянутая раскаленным обручем, заболела голова. Не говоря ни слова, не раздеваясь, он прошел на кухню, тупо сел к окну.
– Я сейчас видел философа, – сказал Борис мрачно.
– Ну и…
– Мертвым.
У Тамары вытянулось лицо.
– Как – мертвым?
– Его сбила машина. Насмерть. Может даже, он шел к нам.
Провисла острая, тревожная пауза, в которой каждый переваривал случившееся.
– Помянем раба Божьего Ивана, – сказал Борис. – Пусть земля ему будет… – и, достав из холодильника коньяк, налил две рюмки. Выпили, не чокаясь. Как положено в таких случаях. Потом они долго молчали, каждый про себя вспоминая друга, его пылкую, неуемную натуру, его философствования и стихийно свободный нрав.
Борис думал о скоротечности бытия, о том, что, может быть, философа просто убили: кому он нужен со своей праведностью и справедливостью. Думал о его бессмертной душе. Где теперь душа ушедшего, в каких высях и мирах пребывает она? Вдруг все как будто потеряло смысл.
Тамара плакала горькими, какими-то надрывными слезами. Она переживала трагедию по-своему. Борис неожиданно и обреченно понял, что никогда не бросит ее. Несмотря ни на какие коврижки, на весь вывихнутый быт и неустроенность. На всю тоскливую безысходность.
– Не нужно плакать, Лапуля, – сказал он и взял Тамару за руку. – Когда мы плачем по ушедшим, то плачем из эгоизма. Нам жаль самих себя. Жаль того, пойми, что мы, именно мы никогда больше не встретимся с дорогим человеком. Давай погрустим о нем без слез.
Они и грустили, глядя в тусклое окно. Борис молча размышлял о бренности бытия, о том, что короток, как ни крути, век человека и, возможно, завтра с ним, с Борисом, может случиться то же самое. Кому это известно? Тогда зачахнет на корню его «Сад» и канет в никуда, как это часто и случается в России. Думал о том, как страшно вынашивать, лелеять, кормить собственными соками, а затем родить мертвое, никому не нужное дитя. Он, конечно, имел в виду свою симфонию.
Не сегодня-завтра должна зацвести сирень. Все Крылатские холмы были покрыты желтым снегом одуванчиков. Соловьи в зеленых рощах пели о любви, но все это было уже не для Ивана Дмитриевича. Он оставил сей мир, хотя мог бы еще жить. Могли бы жить его мемуары. Наверное, немало интересного мог поведать этот умудренный богатым опытом человек. Однако… кому ведом его час?
– Я прилягу, Лапа, – прошелестела Тамара. Она совсем захворала. – Какой сегодня день?
Борис помог ей улечься. Лицо ее было раскисшим от слез. От той прежней, юной Тамары не осталось и следа. Борис с печалью отметил этот неоспоримый факт, но заботливо накрыл жену одеялом.
Оставшись один, он снова сидел некоторое время в тяжелом раздумье, но вдруг решил выйти из мрака мыслей о смерти в жизнь, окунуться в весну и, может быть, услышать отзвуки будущих мелодий, пусть даже с оттенком реквиема. Ему вдруг остро захотелось увидеть Анну. Последнее время он не переставал думать о ней, словно она посылала Борису невидимые флюиды. Но эта мысль отпадала сама собой: в таком разбитом виде Борис – это уж точно – не мог показаться Анне на глаза. Он снова взял Джульетту и направился в низину холмов.
Борис шел к тому месту, где в последний раз слышал свою симфонию в исполнении старого оркестра.
Весна уже буйно набирала силу. Зелеными звездами горели на березах первые листья. В сиреневых рощах оживленно копошилось, будто на ярмарке, птичье население. Солнечно пылали в чистом небе церковные кресты. Тем нелепее и тяжелее представлялась бродившая поблизости смерть.
Ошалевшая от весны Джулька радостно ныряла в бархатные кусты, словно купалась в них. Наверное, не помнила уже запах тренерской крови.
И вот тут-то и объявился впервые Боцман. Он вылетел из зеленой чащи и остановился, как припечатанный, обомлев, видно, от ослепительной красоты и грации Джульетты. Потом они, как полагается, обменялись любезностями. По случаю обновления жизни Боцман решил проявить любовь. Но Джулька, как порядочная девушка, кинулась прочь и прижалась к ноге хозяина. Боцман не решился преследовать Джульетту и, оценив ее целомудрие, проводил красотку долгим маслянистым взглядом орехово-зеленых, волчьих глаз. Недалеко от ручья Борис лег прямо в молодую траву и стал смотреть в высокое небо, где далеко от земли плавно кружили ласточки. Он смотрел и слушал. Слух его был напряжен до предела. И вдруг сначала слабые, шероховатые, а затем все более чистые, отчетливые звуки и соцветия мелодий пролились в него сверху. Будто, наконец, снова открылся канал связи с космосом.
Первая тема прозвучала ясно и четко. Борис осторожно привстал, боясь спугнуть услышанное. Будто необыкновенная, легкая бабочка села ему на плечо, но в любую минуту могла слететь прочь. Борис, посидев некоторое время, не шевелясь, впитывал голоса неба, и вдруг, словно ощутив на ногах и в ладонях кровоточащие раны, сорвался с места и стремглав понесся домой. Новый «Сад» прорастал в его душе прочно и торжественно. В нем были все последние события Борисовой жизни, книга, которую перелистывал кто-то запредельной рукой, окрашивая каждую страницу своим цветом.
Взмокший от бега, Борис, не раздеваясь, бросился к столу и начал судорожно записывать услышанное. Мелодии росли, ширились, пускали новые ростки, глыбились в трагическом чаду и замирали в солнечном штиле любви к жизни. Опускались и поднимались, обдавая Бориса то холодными бешеными вихрями, то мерными ритмическими перекатами, то теплыми, ласковыми волнами. Они появлялись, исчезали и снова вспыхивали в мозгу яркими бликами. Борис уже не был сам собою. Кто-то посторонний, из иного мира проник в него и властно диктовал свою волю, насыщал мозг и кровь Бориса своими звуками, нежно распинал его на кресте мелодий и тем. Исписанные листы Борис бросал прямо на пол, потому что трудно было успеть за ураганом аккордов, летевших из бездны через его, Борисову, душу и слух.
Так прошло несколько часов и вдруг все смолкло, словно кто-то резко оборвал связующую нить. Наступила плотная тишина, вдоль которой на тонких железных ножках тихо бежал куда-то будильник да негромко посапывала в горестном забытье на диване Тамара.
Борис откинулся на стуле и закрыл глаза. Легкий ангел обнял его теплыми крыльями.
Сквозь тишину с улицы доносился шум машин, словно нечто далекое, бесформенное отдувалось в стороне, шипело и пыжилось в какой-то бесполезной потуге. На верхнем этаже сосед бодро дырявил стену электродрелью. Потом лупил ее молотком, и снова противно визжало сверло. Борис удивился, что всего этого еще пять минут назад он не слышал вовсе, будто его не было в этом мире.
Он собрал исписанную бумагу, листок к листку, сбил их в аккуратную стопку и бережно положил на стол.
Теперь, как будто, можно было расслабиться и немного выпить, но Борис не стал этого делать. Он засунул бутылку в холодильник и решительно захлопнул дверцу Пить теперь было преступлением. Если Господь одаривал его снова, если верил ему и давал сокровенное, пить было нельзя. Борис это хорошо знал. Иначе все могло быть отобрано в один момент. Тут действовал непреложный и жесткий закон, нарушение которого каралось жестоко и больно. Каналы связи могли закрыться навсегда. Тогда бы не помогли ни молитвы, ни протянутые руки.
Борис достал баян и негромко, чтобы не разбудить Тамару, проиграл написанную партитуру и остался доволен. Даритель был щедр к нему.
Борису жарко, до зуда захотелось с кем-то поделиться. Для этого у него теперь существовал только один человек – Анна. Тамара, увы, была не в счет. Откровенно говоря, с некоторых пор она вообще стала не в счет. Хотя Тамара, конечно, значилась, присутствовала, но не более того. От этого как будто тоже нельзя было оторваться. И все же Борис решил повидать Анну. Он принял душ, чисто выбрился и почувствовал себя совсем свежим. Затем надел костюм, придирчиво осмотрел себя в зеркало. От выпитого утром не осталось и следа. Правда, тень усталости от пережитого со смертью философа неистребимо застыла в глазах. Но сейчас это казалось неважным.
Было воскресенье, но Борис знал, что Анна должна быть на работе. Он набрал номер телефона и услышал в трубке, словно из другого мира, знакомый, но строгий голос. В своем кабинете Анна преображалась и принимала образ сугубо деловой женщины. Наверное, в ее положении директрисы иначе нельзя.
– Я хочу тебя видеть, – сказал Борис и почувствовал, как, на другом конце света, смешалась Анна. Весь ее деловой лоск рассыпался, как сухой прах. Впрочем, Анна тут же справилась с собой: видно, у нее в кабинете кто-то был.
– У меня совещание, – сообщила она голосом из мягкого металла. – Перезвоните попозже.
– В шесть я буду на углу Напротив магазина. Но догоню тебя в сквере. Договорились?
– Хорошо, – ответила она, не меняя бесстрастной интонации.
Тамара все еще спала, утонув в каком-то судорожном, больном сне. Она то вздрагивала, то со стоном сучила руками. Бинт на ее ноге был уже несвежим и имел сероватый оттенок. Рядом сиротливо лежали костыли. От этого грустного зрелища Борису стало не по себе. Он написал записку, что ушел по делам и вернется неизвестно когда. Затем достал бутылку, зная – проснувшись, Тамара будет метаться в чаду похмелья. С этим, понятно, нужно было что-то делать, но что именно, Борис пока не знал.
Около шести он стоял напротив магазина так, чтобы видно было вход-выход. В руке у него горел букетик нарциссов. Вечер тихо озарял улицы весенним золотым светом. По крышам высотных зданий ползли легкие, как вуаль, прозрачные облака. Пахло зеленью кустов и свежестью молодой травы.
Ожидая Анну, Борис подумал о странном устройстве памяти. Еще утром жуткая в своей неприглядности смерть философа чуть не раздавила его тяжелой плитой переживаний, душевных мук. К тому же все было так несовместимо. Запах сирени, солнце, весенняя свежесть, гамма звуков, старая, как икона, гармонь и черная лужа крови. Скрюченное тело учителя, досужий гомон толпы, пустые, бесполезные слезы Тамары. Черные дорожки на ее щеках… какая-то груда искореженного металла посреди цветущего оазиса. Груда, из которой хочется вырваться, но железо острыми концами больно цепляет, рвет одежду и ранит беспощадно.
И вот – уже вечер. Зеленый бульвар. Ожидание женщины. Ее образ заслоняет смерть. И сама смерть на дне металлической кучи, уже где-то далеко за чертой. Как обугленный кусок памяти. Жизнь берет свое, а смерть – свое. Рано или поздно. Так или иначе. Они, жизнь и смерть разделятся и станут поодаль друг от друга, глядя в пустоту голубыми и черными глазами.
Память!.. Как много в ней всего. Целый мир. От первого поцелуя матери до запредельных видений. Мир, который хочешь, не хочешь, в конце концов становится облаком, задумчивой, недосягаемой планетой. Но… от кого-то остается сверкающий «Сад», а кто-то дарит в наследство жухлые листья. Или ничего. Ничего!
Ровно в шесть Анна вышла из дверей магазина. Строгий черный костюм, блестящая лаком сумочка на плече.
Она шла чуть враскачку – походкой женщины, знающей себе цену.
Борис издали залюбовался ею, зная тем более, что скрывается под черным, элегантным костюмом. Он ощутил в груди легкое брожение, похожее на газировку, словно кровеносные ручьи наполнились острыми струящимися пузырьками. Борис вдруг подумал, как далеко сейчас Тамара. На каком-то пустынном острове, куда трудно доплыть.
Анна уже подходила к означенному скверу. Шла уверенно, не оглядываясь. И не суетясь.
Борис пересек улицу и, подойдя к Анне, бережно протянул, как легкую птичку, букетик нарциссов.
В глазах Анны вспыхнул благодарный свет.
– Я рада тебя видеть, – сказала она улыбаясь. – Мне так давно не дарили цветов. Разве что я сама дарила их себе.
– Красота спасет мир, – пространно произнес Борис. – Вернее, идея красоты. Так говорил мой хороший знакомый. Он сегодня погиб. Сбила машина. Я целый день под впечатлением. Впрочем, не будем об этом. Смерти – смерть, а жизни – жизнь. Я тоже очень рад тебя видеть.
Какое-то время они шли молча.
– Ты сегодня удивительно красивая. Я думал о тебе.
– Что же ты думал?
– Что ты красивая, – рассмеялся Борис. – И может быть, ты спасешь мир. По крайней мере, мой. С некоторых пор ты живешь в нем. И довольно прочно. Согласно прописке, как поется в известной песне.
– В песне фигурирует девушка Тоня.
– Неважно, кто там фигурирует. Важно то, что, скорее всего, благодаря вам, Анна Ивановна, я начал писать новую вещь. Сегодня, с вашего высочайшего позволения, мы устроим маленькую премьеру.
– Правда? – оживилась Анна. – Ты не представляешь, как ты меня обрадовал! Впрочем, я давно знала, что ты – проводник.
– Откуда это можно знать? Долгое время я был просто музыкантом. И никем больше.
– Тогда тебе этого было достаточно. Проводники не знают, когда им сверху скажут, что они проводники. Скажут на языке красок, слов или звуков. В тот же миг, вероятно, им ставят на глаза некую печать. У тебя она тоже есть. Глаза словно поселяются в двух мирах. Они и здесь, и еще где-то. Даже страшновато.
– Ну тебе бояться нечего.
– Как знать. Я очень привязчива. И потом я тебя…
– Что?
– Ничего. Я хотела сказать, что привыкаю к тебе. Это может родить какие-то требования, условия. Я боюсь их. Мне не хочется ничем тебя связывать. Ты должен чувствовать себя абсолютно свободным. Быт – страшная вещь. Он, как стая крыс, способен перегрызть любые провода. Ты понимаешь, о чем я говорю? Трубы вселенной захрипят, и все может пропасть. Уйти в никуда. Кому от этого будет хорошо?
Они спустились в метро, и толчея часа пик задушила разговор. Толпа тесно прижала их друг к другу внутри вагона и Борис, почувствовав упругое тело Анны, взволновался сам. Ему отчего-то стало неловко, словно они с Анной были раздетыми среди одетых людей.
Анна снизу вверх посмотрела на него. Во взгляде ее были любовь и желание. Она крепко сжала его запястье. У Бориса пересохло в горле.
– Я захватил ноты, – вроде бы некстати сказал он шершавым языком.
Анна промолчала. Только еще крепче сжала его руку.
– Я соскучилась, – сказала она на ухо Борису.
– Я тоже, – ответил он.
За окнами летел в бездну, грохоча на стыках, мрак подземелья. Борис с Анной неслись сквозь черное чистилище метро в светлый и уютный рай, берега которого пахли цветами. Тишиной и покоем. Там можно любить и работать, жить полноценной жизнью. Но за пределами этих берегов находилась, будто на распятье, Тамара, – обрюзгшая, постаревшая, жалкая. И все же – родная. Сбросить ее в пропасть, оторвать с корнем от души своей Борис не мог и считал преступлением. Он вздохнул. Ах, эти вечные российские муки совести. Как было бы просто без них. Борис снова вздохнул, но еще крепче прижал к себе Анну.
Она щелкнула замком своей двери, и они очутились лицом к лицу с тем, о чем думали и грустили пустыми ночами, что носили в себе, как сердце, что жило и толкалось в них горячей кровью воспоминаний.
В прихожей, не сговариваясь, они судорожно начали раздеваться. Бросали вещи прямо на пол, обжигая друг друга глазами, путались в пуговицах, застежках и молниях.
Раздевшись, Анна достала из шифоньера белье и быстро постелила постель.
В свои тридцать пять она была прекрасна, как статуя. Как луг, залитый солнцем. Как все цветущие Крылатские холмы.
Борис упал рядом с нею, уже не в силах сдерживать себя. И все же он обцеловал Анну всю до кончиков пальцев ног. Сладко мучил ее до тех пор, пока Анна сама с трепетным придыханием «ты – мой» жарко не набросилась на него.
В какой-то момент Борис снова услышал музыку Она плыла из сиреневой долины их общего путешествия. То была музыка рук, губ, волос, всего тела Анны, которое и создано, казалось, только для любви.
Потом они долго лежали в расслабленной неге и слушали тишину. Она накрыла их легким пуховым покрывалом, под которым можно было ощутить ровный ход собственного сердца, шелест далекого океана и шепот высоких звезд. Свет и тьма в цветном ожерелье, принесенном на крыльях нездешней птицы, бездонная тишь, мерцание нехитрого, первозданного счастья. Тут, в эти минуты, было все. Вся вселенная. Вся музыка и гармония мира.
Борис посмотрел на Анну. От ее красоты можно было потерять зрение. Он подумал, что от этой волшебной красы действительно можно ослепнуть. И оглохнуть. Как оглох Бах от шума музыкального водопада. Борис с печалью вспомнил еще, что такой же красавицей была когда-то его Тамара. Горе и вино сожгли ее. Остался лишь прах в дорогой коробочке памяти.
– Я люблю тебя, – сказал Борис и не соврал. – Но…
– Не нужно, – прошептала Анна. – Я все знаю.
– Вряд ли, – сказал Борис. – Всего знать невозможно.
Борис промолчал. Он представил себе, как Тамара бродит по комнате на костылях. Или сидит со спутанными волосами за столом. А может, валяется на диване, пусто глядя в бездонный потолок.
Он просто промолчал.
– Тебе трудно. Я знаю, – сказала Анна. – Я не говорю: выбирай. Это значило бы согнуть тебя. Или ударить плеткой. Но ты, наверное, должен все же…
– Что должен? – резко спросил Борис. Может быть, резче, чем хотел. Сорвалось наболевшее.
– Не знаю, – сказала Анна. – Видимо, придется что-то решать. В конце концов, ты сам поставил себя перед выбором. Одной лишь фразой: «Я люблю тебя, Анна». Как ты будешь жить с этим? Тем более, писать. Ты не сможешь раздваиваться. Это не в твоей натуре. Видишь, получается, я сама себе противоречу. Но что поделаешь?
– О Господи! – простонал Борис. – Я не могу бросить ее. Она сирота. Никого нет. Кроме меня. Если я ее брошу, Тамара покончит с собой. Поверь мне. Все так и будет. Она как ребенок. Понимаешь?
Он завернулся в простыню, встал и закурил.
Анна легла на бок и, облокотившись на руку, смотрела на Бориса.
– Ты красивый, – сказала. – Не мучай себя. Все как-нибудь решится само собой. Жизнь мудрее нас. Мудрее сентиментальных заповедей. Хотя, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг…
– Я сыграю тебе, – не то спросил, не то сказал Борис.
– Боже мой! – вспыхнула Анна. – Мы обо всем забыли. Конечно, сыграй! Я только наброшу халат.
Борис достал ноты и сел за фортепиано. Анна устроилась в кресле, поджав под себя ноги.
Он волновался. Ему понадобилось время, чтобы открыть тяжелую дверь в тот мир, который всего несколько часов назад приподнял его над землей. Борис взял первые аккорды и вдруг почувствовал уверенность и силу в руках, в сердце и душе.
Анна замерла и тоже ощутила волнение.
Он играл вдохновенно, точно, цветисто, со всеми оттенками звуков, отражая пережитое в последнее время, как в зеркале. В последние годы, месяцы и дни. Под его руками оживали горе, радость, грусть, отчаяние, кровь, пот и счастье любви. Смерть и жизнь. Одна тема сменялась другой, форте уплывало в пиано, зло сгорало в добре. Благие помыслы плавно поднимались по винтовой лестнице в далекие, безбрежные небеса.
Борис играл долго, но Анна не меняла позы, сидела, отрешенно уставившись в одну точку за окном, словно из нее, из этой призрачной точки, и проистекал весь живой трепещущий мир.
Он взял последний, неразрешенный аккорд, за которым, конечно, должно было следовать продолжение, и замер. Звуки еще шумели, толкались, дышали в пространстве, но инструмент уже молчал.
Анна тихо плакала. Без всхлипов и содроганий. Просто слезы непроизвольно ползли по ее щекам.
Борис боялся повернуться. Боялся глаз Анны, которые все могли перечеркнуть, порушить в их отношениях все. Он не хотел никаких диссонансов, равно как и никакой утешительной лояльности. Его устраивал строгий, профессиональный суд. И все же Борис повернулся. Анна сидела, как китайская статуэтка, в той же позе, глядя в неведомую точку в пространстве. На фоне голубой стены четко прорисовывался ее точеный абрис. Она понимала, что должна что-то сказать, но не знала, что именно. Чувства переполняли ее, и в них были все оттенки любви и гордости за Бориса. Щеки Анны, выкрашенные в розовый бархатный цвет, уже были сухими.
Борис сидел, как провинившийся школьник, опустив голову. Ждал слов. Ему вдруг снова вспомнился философ и лужа крови на проезжей части.
– Знаешь, – наконец, сказала Анна. – Моя жизнь не была усыпана розами. Когда после музыкального училища я поняла, что мне не дано, я ушла и начала все начала сначала. С ноля. Мне приходилось много плакать. Рухнула первая любовь, попрощалась с музыкой, муж, талантливый человек, неожиданно тяжело заболел, потом умер. Ну и так… рыдала по всяким грустным поводам. Но вот сейчас были совсем другие слезы. Какие-то очистительные, святые, что ли. Я очень рада за тебя, Боря. И горжусь тобой. Ты можешь делать прекрасные вещи. Тебе дано. Ты проводник. Сейчас я в этом убедилась точно.
– Тебе понравилось? – обрадовался Борис.
– Да. Очень. Это, если хочешь знать, третья часть твоего «Сада». Она лучше двух предыдущих. Впрочем, так, наверное, и должно быть. Здесь больше трагизма, глубины. Больше жизни.
– Да, – согласился Борис. – Это все случилось сегодня. Целая гора впечатлений. И смерть друга, и поток новой музыки, наконец – ты и твоя любовь. Так странно. Бывают дни пустые, как гнилой орех. А сегодня…
– Я приготовлю ужин, – сказала, улыбнувшись, Анна. – У меня есть «Шампанское».
– Что мне делать? – спросил Борис. – Я люблю тебя все больше и больше. Думаю о тебе. Вспоминаю каждую мелочь. Скоро, чувствую, ты станешь необходима мне, как воздух. От тебя тоже исходит музыка.
Анна потрепала его по волосам.
– Ты фантазер. Мальчишка и сочинитель.
– Это плохо?
– Это замечательно.
Она прошла на кухню, а Борис так и остался сидеть за роялем, завернутый в простыню, как в кокон. На душе его было легко и светло, словно он шел солнечным ранним утром по извилистой лесной тропинке. Солнце путалось между деревьев. Свежо и густо пахло хвоей.
«Как, в сущности, мало нужно для счастья, – подумал Борис. – Любимая работа и любимая женщина. Все остальное – мышиная возня».
Потом они сидели за столом и пили за новое сочинение Бориса, за Анну, за любовь, за всю чудесную музыку мира.
– Ты, наверное, устал сегодня? – неожиданно спросила Анна.
– С чего ты взяла? – удивился Борис.
– Тогда иди ко мне. Мы с тобой так редко видимся.
Они снова любили друг друга. Изысканно, томительно, страстно.
Около одиннадцати Борис засобирался домой: его мучили дурные предчувствия.
– Я позвоню, – грустно сказал он перед дверью.
Анна печально улыбнулась.
– Позвони.
В квартире все еще стоял неистребимый запах блинов. На кухонном столе торчала опорожненная наполовину бутылка «Шампанского». Две сигареты, затушенные и скомканные как попало, валялись рядом с пепельницей.
Тамара, широко раскинувшись, снова лежала на диване во всей верхней одежде. Больная нога, неловко вывернутая, свисала прямо до пола. На носу виднелась кровавая ссадина. Это означало, что Тамара падала, и Борис представил себе, как она поднималась.
Тамара громко и натужно храпела. От этого храпа хотелось бежать куда угодно.
Борис вздохнул и вынул пачку сигарет. Жить здесь у него больше не было сил, но и бросить жену в таком состоянии он просто не мог: слишком многое связывало их.
В тупом безмолвии Борис выкурил на кухне сигарету. Тут стояла какая-то могильная тишина, словно кто-то настолько сжал пустоту, что в нее не мог просочиться ни один звук.
Дым висел над головой голубыми, застывшими волнами. Где и как он проглядел Тамару? С этим нужно было что-то делать. Только вот что?
Ночь сулила ему череду кошмаров, если сон вообще мог посетить его под аккомпанемент громогласного храпа.
Борис зашел в ванную и принял душ. Тело посвежело, но душу все равно скребли чьи-то острые когти. Он расстелил постель, выключил свет и лег.
Ужасный храп Тамары, словно в отмщение за измену, терзал его. Неожиданно она снова начала стонать, бредить, говорить с кем-то. Это было более, чем серьезно. Борис прислушался.
– Архангел! – отчетливо молила Тамара. – Почему ты молчишь? Гавриил, отчего ты не дашь мне Иоанна. Уйдите все! Оставьте нас одних. Расходитесь. Оставьте нас одних. Ну что ты стоишь, Гавриил! Неужели ты не можешь понять – я не Елисавета. Меня зовут Тамара. Но что это меняет? Ты же знаешь, мне нужен младенец. Ребенок, Гавриил! Неужели ты не можешь понять? Осталось совсем немного времени. Бабий век короткий. Испроси соизволения у Господа.
Потом начался какой-то словесный винегрет, и Борис понял: дело плохо. Он вскочил и набрал номер «скорой».
Машина приехала довольно быстро. Врач и с ним двое подручных медиков осмотрели Тамару. Но и проснувшись, она никого не видела, продолжая говорить с кем-то другим.
– Она верующая? – спросил врач?
– Да, – сказал Борис. – Но не очень.
– Я где-то читал, что глубокая вера приводит к фанатизму, – сказал один из медиков.
– У нее другое, – объяснил Борис. – Она не может родить ребенка. Поэтому..
– Ясно, – сказал врач. – Мы заберем ее. Психоз – это не шутки. Это, может быть, звонок с того света. Правда, – замялся доктор, – потребуются лекарства и все такое.
Борис понял его и достал из пиджака сто долларов.
– Хватит? – спросил он.
– Для начала – вполне, – ответил врач. – С нами ехать необязательно. Вот адрес. – Он быстро набросал на листочке координаты больницы. – Дня через три-четыре можете ее навестить. К этому времени, думаю, она уже очнется. Но учтите, лечение долгое. Минимум – месяц, полтора.
Подручные медики осторожно подняли Тамару. Она все еще не понимала, что происходит и водила по сторонам безумными глазами.
Борис с тяжелым сердцем провожал эту печальную процессию до улицы.
У подъезда негромко урчал медицинский «Рафик», от которого, казалось, пахло больницей.
Перед машиной санитары положили Тамару на носилки, и на колесиках, точно погибшего преподавателя, закатили внутрь.
«Рафик» укатил, дымя синим хвостом.
Борис вернулся домой. Снова ступил в чугунную, давящую тишину, от которой могли лопнуть барабанные перепонки.
– Ну и денек, – сказал он. – Два-три таких, и можно съехать с ума.
Потом он лег спать и мгновенно заснул, будто в бездонную яму провалился.
На следующее утро Борис взял Джульку и совершал пробежку к святому ручью. Весна дохнула на него свежим, оздоровительным воздухом. Джульетта нырнула в глубокую зелень желтым, сверкающим шаром. Борис посмотрел в ясное, чистое небо и вдруг снова услышал звуки. Что есть силы он бросился назад, не заметив даже, что за ними с Джульеттой галопом увязался Боцман.
Переступить чужой порог Боцман, однако, не решился. Так и остался стоять перед дверью. Тут только Борис обратил на него внимание.
– Ну входи, Боцман, – сказал он дружелюбно. – Чего тебе болтаться без приюта? – И сразу бросился к инструменту.
Теперь он работал, сжигая себя. Иногда вспоминал Анну, тосковал о ней, хотел показать уже написанные клавиры, но она была так далеко, словно на другой планете. Борис боялся отрываться.
Тамара медленно поправлялась. Мешки под глазами исчезли. Но вид у нее был жалкий. Она выходила к Борису в нелепом халате с покорно печальной улыбкой, будто потеряла дорогого и близкого человека. По сути, так оно и было.
– Здравствуй, Лапа. – И земля со скрипом поворачивалась на своей оси, возвращая Бориса в их прошлую жизнь. Как в калейдоскопе, за одну минуту проносились былые концерты, овации, цветы, города, люди. Что говорить: все было. Олимп. Высота. А теперь?
– Здравствуй, Лапуля. Как поживаешь?
– Ты совсем зарос. Одичал без меня. Что это с тобой?
– Пишу «Сад». Третью часть. Ничего не замечаю. Не до себя сейчас, – улыбался Борис. – Ни одной свободной минутки.
Дальше разговор не складывался и был похож на скомканную бумагу.
Тамара почувствовала отчуждение мужа.
– Ты, наверное, сильно устаешь, Лапа?
– Не знаю, Лапуля. Может быть. Когда работаешь, будто перелетаешь в другое измерение. Ты же знаешь, там все иначе.
– Это верно, – соглашалась Тамара. – Ну работай. Помогай тебе Господь.
– Вас тут хоть как-то кормят? – обрывал тему Борис. – Ты похудела.
– Именно, что как-то. Перестроились полностью.
– Я принес тебе еды. Целый пакет. Потом разберешь.
На этом разговор и кончался. После вынужденного, недолгого молчания Борис наспех обнимал Тамару и снова превращался в призрачный, но живой, пульсирующий слух.
Так проносились дни, недели. Борис не замечал времени. Не знал, какое число. Даже час. Будильник стоял незаведенный, а наручные часы валялись где-то под умывальником.
Борис вскакивал с рассветом и, наскоро умывшись, начинал слушать.
«Господи, помоги мне. Пошли голоса и звуки. Помоги»! – шептал он и снова прислушивался, как волк, ловивший дальний запах. И Наблюдавший за ним помогал. Тогда Борис хватал инструмент, воспроизводил услышанное и лихорадочно записывал, бросая по привычке листы как попало на пол. Он полностью переселился в другой мир, в пустыне которого были только Борис, Наблюдавший и звуки, осыпавшиеся с вершин барханов и дюн, как сдуваемый ветром песок. Здесь не было места мыслям: что станется с третьей частью «Сада»? как она будет называться, и что с нею приключится позже? примут ли ее? зазвучит ли она когда-нибудь в исполнении оркестра? – все это было неважно. Важно было то, что Наблюдавший одаривал Бориса нездешним содержанием и смыслом. Он вел его в том, другом мире по неведомым тропам, обжигал восторгом, замиранием сердца и болью печали по всем ушедшим жителям Земли, простой и сложной, как свирель.
И вдруг ворота захлопнулись. Канал связи оборвался. Борис больше ничего не слышал.
Он заметался, как зверь, попавший в капкан. Но даже теней звуков больше не существовало. Мелодии и темы умерли. В ушах стояла зудящая, подземная тишина.
Борис сжал руками голову и упал на диван. Тупо заныло сердце. Какое-то время он лежал неподвижно. Тело будто омертвело. Все окружающее было заполнено тонким, отвратительным гудением, похожим на неумолчный писк металлических комаров.
Борис поднялся и прошел на кухню. Достал из холодильника дежурную бутылку и налил рюмку водки. Через некоторое время после выпитого противный писк пропал. Борис немного успокоился. Он знал, что канал связи не может работать беспрерывно. Значит, нужно немного переждать.
Борис посмотрел в окно. Темнело. Густая зелень весны тихо стояла за окном плотной стеной уже народившейся жизни. А над пушистыми деревьями и лиловыми кустами сирени висели яркие, теплые звезды.
Он вспомнил: нужно забрать собак.
Боцман дисциплинированно, как всегда, сидел у парадного. При виде Бориса Борисовича залился звонким радостным лаем. Тут же из темного провала кустарника вылетела желтым фонарем взлохмаченная красавица-Джулька.
По дороге назад машинально заглянул в почтовый ящик. Газеты, журналы, рекламные листки, письмо. Борис не стал разглядывать конверт. «Наверное – Тамаре», – подумал он. Ему уже сто лет никто не писал. К тому же Боцман надсадно лаял, звал домой. Хотел каши.
Покормив собак, Борис Борисович нечаянно взглянул на конверт. Письмо пришло от друга из Германии, куда в числе прочих стран были отправлены в свое время клавиры «Сада». Музыкант почувствовал сильное волнение, руки слегка дрожали, когда отрывал кромку конверта.
В письме было два листа. Один, с гербовой шапкой, официально извещал о том, что симфония «Сад» принята к работе Берлинским симфоническим оркестром. Тут же было, – на русском языке, – приглашение на репетиции. Второй лист содержал дружеское, личное поздравление Курта и пожелание дальнейших творческих удач.
«Пожелаю тебе, Борис, дальнейшая творческая удача на всей высокой и трудной музыкальной пути. Я очень рад, что мне доверили играть партию скрипки в твоем концерте. Обнимаю. До встречи. Надеюсь на это», – писал Курт на ломаном русском. Впрочем, как и говорил все пять лет учебы в Московской консерватории. Однако было тут еще одно поздравление. Его прислал главный дирижер оркестра Ганс Крюгер. Он писал, писал от руки неплохим слогом, что хорошо знает и ценит русскую культуру. Повествовал Крюгер и о том, что, дескать, неоднократно бывал в Москве, начиная с 1945 года, когда ему пришлось в качестве военного заключенного строить в Измайлово жилые дома. Говорил о том, какие сложные чувства ему пришлось испытать к России на протяжении долгих лет холодного непонимания друг друга и как он был по-человечески счастлив, когда гранитная стена наконец рухнула. Писал о том, что, несмотря на страшные годы фашизма, войны, мирного отчуждения, у него в России много хороших друзей – музыкантов, поэтов, писателей, художников. Поэтому он чрезвычайно рад, что этот круг людей пополнится еще одним одаренным и, более того, необыкновенно талантливым человеком. Что он, Ганс, будет просто счастлив работать с Борисом Борисовичем и желает скорее обнять его в стенах Берлинского концертного зала, а еще больше – у себя дома, где и жена, и дети тоже будут очень рады встрече.
Некоторое время Борис сидел оглушенный. После всего пережитого ему трудно было поверить случившемуся. В висках туго и наряжено толкалась горячая кровь. Он вспомнил отца. Борис не знал его. Вернее, знал только по фотографиям. Память Бориса-сына не сохранила в сердце человеческих признаков Бориса-отца. Он, отец, был тяжело ранен в Сталинграде, а вернувшись с войны, продолжил боевую деятельность. Но уже на мирном фронте, в милиции. Погиб в пятьдесят пятом в схватке с бандитами. Борис тогда еще был в бессознательном годовалом возрасте.
От отца остался певучий баян да старенькая мандолина. Эти два музыкальных предмета и определили жизненный путь Бориса Борисовича. Его босоногое, полуголодное детство: мать часто болела, терпеливую аскетическую юность. Баян и мандолина стали его вторыми родителями. Борис был похож на молодого кентавра, твердо знающего цель и упорно натягивающего тетиву лука. В означенное время стрела нашла свою мишень. Но тут умерла мать. Борису только что исполнилось восемнадцать. Однако юный музыкант уже хорошо видел свою дорогу. Она была вымощена напряженными часами взыскующих упражнений. Была и работой, и досугом, и радостью, и горем – всем, что мог Борис в то время бросить в копилку чувств. Он перестал, как другие, просто воспринимать окружающий мир и ощущал его, будто исходящую от каждого предмета музыку. Впрочем, уже тогда Борис тайно знал или предвидел, кто именно наполняет все окружающее пространство звуками. Ветер, дождь, вьюга, щебет птиц, свет солнца, плач женщины, смех ребенка, говор пьяных мужиков и многое другое – все это было замкнутым, обширным и гордым царством его человеческого «я». Все это было царством его отца, царством, за которое он отдал жизнь. Все это стало его музыкой. Его Россией, каковую Борис теперь ни на что променять не мог.
И вот сейчас он получил признание и приглашение от человека, который, вполне возможно, мог оказаться в те далекие времена в одном тяжелом бою с его отцом. Только по разные стороны. А что? Очень даже просто.
Вдруг нервный смех и рыдания пробили Бориса, словно электрическим током.
– Ах, Россия моя, Россия! – шептал музыкант, размазывая по щекам слезы. – Красавица. Мадонна. Богиня. И дура! – рыдал и смеялся Борис. – Эх, Россия!.. Для кого я писал свой «Сад»? Для кого?!
Утро заплыло к Борису негромким птичьим пением. Форточки были открыты, и душистая весна окропляла в комнате все предметы запахом сирени, одуванчиков и мокрой травы.
По подоконнику топталась костяными лапками пара голубей.
Борис открыл глаза и увидел на потолке контурный танец заоконной зелени: маленький карнавал теней, который, как правило, освежает поутру душу и отбрасывает в детство. Особенно если рядом с прыгающими тенями пляшут блики солнца. Но радости у музыканта ни от вида весны, ни от долгожданного признания почему-то не было.
«Почему? – спросил себя Борис. – Ведь все уже поросло пыльной травою памяти. Пройдет время и Великая Отечественная останется лишь на желтых страницах истории. Кто сегодня, скажем, с болью вспоминает о войне 1812 года? Уже давно нет ненависти к французам, не говоря о поляках, турках, монголах и прочих, прочих, прочих. Так что же тебя мучает? Или время еще не покрылось сивою мглою? Торчат то тут, то там снаряды и кости погибших. Еще сверкают в праздник Победы ветераны своими сединами и орденами. И летит над Красной Площадью лихая «Катюша». Еще стоят у вечного огня с обнаженными головами обездоленные потомки. В этом-то, наверное, все дело».
– Черт! – сказал Борис и вскочил с постели. – Черт бы их всех побрал, Гитлеров, Сталиных, Черчиллей?! По чьей воле и кто их всех рожает?
Злой и растрепанный, он выскочил с собаками на улицу.
От негодования и боли, возникших неизвестно отчего, как раскаленный утюг, Борис пронесся мимо церкви, пролетел сквозь сиреневый сад, рощу кустарника и оказался на берегу Гребного канала. Тут только очнулся. Отдышался. Успокоился.
Боцман решил освежиться и прыгнул с разбегу в холодную воду. Последовать его примеру Джулька не решилась. Лишь зашла, помочив для приличия лапы, понюхала реку, лизнула ее и вышла наружу.
Мокрый Боцман был похож на ощипанного гуся. Он задрал к солнцу острую морду и, улыбнувшись всей окружающей природе, отряхнулся, создав вокруг себя радужное облако разноцветных брызг.
От канала веяло холодком. В небольшом отдалении по воде мягко скользили серебристо-золотые байдарки, управляемые маленькими механическими фигурами гребцов: шла очередная тренировка.
Борис поглядел на Боцмана, сбросил с себя одежду и голышом весело плюхнулся в реку. Вокруг никого не было, может быть, по причине раннего воскресного утра, а механические спортсмены в расчет не принимались.
Боцман с Джулькой залились радостным, торжественным лаем.
Борис медленно выбрался из воды, шагая по мелким острым камням. На асфальтовом берегу попрыгал, поприседал, разогнал кровь и почувствовал себя молодым, здоровым, сильным. Наскоро оделся и крикнул собакам, затеявшим игру в «догонялки»:
– Эй, ребята! За мной!
Дома он собрал для Тамары пакет с продуктами, а сверху, прочитав еще раз, положил письмо из Германии. На музыканте снова повисла какая-то необъяснимая тяжесть. Словно на плечах сидело нечто неосязаемое, но имевшее ощутимый вес и цепкие, давившие в затылок, руки.
Тамара вышла к нему с покорно покаянным лицом, на котором едва теплилась тень тихой монашеской улыбки.
Борис вдруг содрогнулся оттого, что кроме жалости, какую испытываешь, провожая в дальнюю дорогу близкого, тем более родного человека, ничего к Тамаре не чувствовал.
– Ну как ты, Лапуля? – спросил он чуждым, холодным языком, ощущая, что никогда уже не прольется в его голос ни любовь к Тамаре, ни счастье, ни радость.
И все же он поцеловал ее в морщинки у глаз. Отвел в дальний угол к кожаному дивану свиданий.
Тамара еще заметно хромала, и это лишь добавляло к их встрече печали и чувства какой-то общей вины друг перед другом.
Борис старался быть естественным, раскованным, веселым, пытался шутить, но по глазам Тамары видел, что это плохо получается, если не сказать – не получается вовсе. Тогда он вздохнул, опустил голову, помолчал и вынул заветный конверт. Борис, конечно, заведомо знал, какой соломинкой он будет для Тамары.
Она пространно долго вглядывалась в адрес, словно была близорука и без очков ничего не видела. Однако вдруг какая-то далекая молния прокатилась по ней. Тамара стремительно достала содержимое конверта и лихорадочно, жадно прочитала страницы. Затем испуганно, словно это была похоронка, взглянула на мужа и снова пролетела по убористым строчкам. Наконец, медленно подняла на Бориса глаза, которые только и остались неизменными – два маленьких, прекрасных серых агата. И упала в тяжелых рыданиях ему на грудь. Борис вдруг вспомнил, что точно так же Тамара рыдала везде: на улице, в кинотеатрах, концертных залах, везде, где соприкасалась с убийством, большим горем или, напротив, торжеством добра над злом.
Она вздрагивала у Бориса на груди. Вздрагивала всем телом, всем своим существом, всей, в общем-то, не особенно броской жизнью. Вздрагивала вся ее любовь, все ее горе и счастье. Борис молча гладил жену по голове и чувствовал, что и по его щеке медленно ползет горькая, горячая, влажная змейка. Он снова, в который раз утвердился в мысли, что никогда не бросит Тамару, что она, как бы там ни было – его беда, его счастье, его судьба. Борис не мог сказать Тамаре, что решил никуда не отлучаться из России. До полного признания здесь, на родной земле. Любому это решение могло показаться диким, абсурдным, несовременным и бог его знает еще каким. Но он, Борис, автор «Сада», так решил. И только Тамара могла разрушить это решение. Потому Борис молчал, ощущая лишь одинокую слезу на щеке.
– Когда ехать? – спросила Тамара.
Он пожал плечами. Сказал:
– Я не могу оставить собак и мчаться, сломя голову, бог знает куда. К черту на рога.
Тамара с тревогой посмотрела на мужа. Слишком хорошо знала его.
– Я сейчас приду, – решительно сказала она, стремительно поднялась и быстро захромала в конец коридора.
Сколько просидел Борис на кожаном диване свиданий в паутине отчуждения он не знал. Провалился в какую-то глухую пустоту. Без мыслей. Без чувств. Без ощущений. И зрения. Он в тот момент словно умер, не понимая, где находится. Слышал лишь мягкий шепот тапочек, чей-то негромкий, с нотами тревоги, разговор, тихий визг проезжавшей каталки. Она заехала в отдаленное сознание и там затихла.
Борис очнулся от голоса Тамары.
– Пошли! – сказала она весело. – Жизнь продолжается!
Он поднял голову.
Тамара стояла перед ним, одетая в пальто. Глаза ее сияли. Борис вдруг увидел ее прежнюю. Такую, какой знал сто лет назад. Юную, прекрасную. Знал и любил.
– Я выписалась! – счастливо выкрикнула Тамара. – Под личную и твою, надеюсь, ответственность. Ты рад?!
И бросилась к нему на шею.
– Мы дожили до победы, родной мой! Я всегда знала, что это будет! Знала! Знала! Ура!
Сборы были недолгими, но тщательными. И все же Борис попытался представить Тамаре свои аргументы против поездки. В ответ она лишь громко рассмеялась.
– Ты мальчишка, – сказала Тамара. – Глупый мальчишка. За что только я люблю тебя? Музыка космогонична. Она вечна, как любовь. Это одна из эманаций Бога. Вспомни нашего философа. Что он говорил. Музыка принадлежит всем. Неважно, где она прозвучит впервые. Эх, ты… неужели ты этого не понимаешь? А война – это дрянь черных политиков, которые могут потянуть за собой в пропасть целые народы. Ее нужно скорее забыть, эту чертову войну. И чем скорее, тем лучше.
Борис опустил голову. Что тут можно было возразить?
– Давай присядем на дорогу, – сказала Тамара. – Жаль, я не могу поехать сейчас с тобой.
Конечно, Борис знал, что поедет в Германию, что музыка космогонична и вечна, как любовь. Тут Тамара была права. С этим спорить было даже глупо. И все же какая-то заноза сидела у него в душе.
Вокзал, как улей, полнился ровным гулом народа. Борис недолго постоял в очереди к билетной кассе. У самого окошка замешкался, словно что-то забыл. Продавщица подняла на него удивленные глаза. Борис покашлял в кулак. Пауза затягивалась.
– Один до Тулы, – хрипло сказал музыкант и решительно протянул деньги.
Он ехал коридором весны на родину своей музыки. Нужно было поклониться ей, родине, как заветному Храму. За окном плотно стояла стена молодой зелени, озаряемая время от времени подвенечной фатою проснувшейся черемухи. Уже вышло на дальние поля шоколадное стадо коров, и клевер сиреневой волной подплывал прямо к колесам поезда. На горизонте, вдруг увидел Борис, щурясь от солнца, стоит вечная старушка – баба Наташа, а рядом, вы не поверите, сидят, тесно прижавшись друг к другу, милые Борису Боцман и Джульетта.

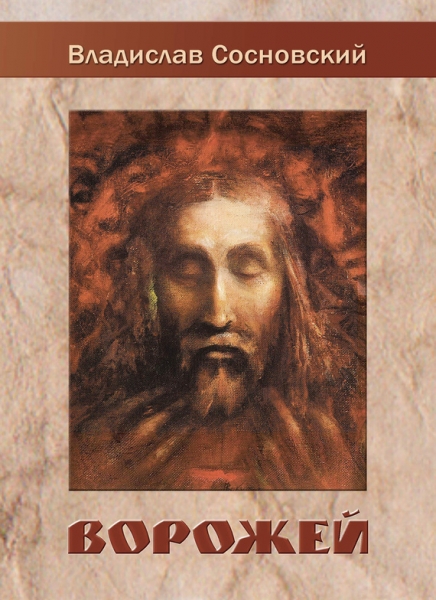

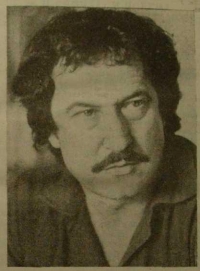
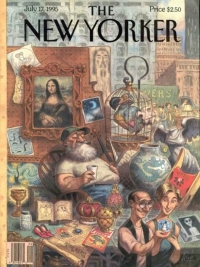






Комментарии к книге «Ворожей (сборник)», Владислав Геннадьевич Сосновский
Всего 0 комментариев