Светлана Чулкова «Стеклянный человек» Рассказы
ThankYou.ru: Светлана Чулкова «Стеклянный человек» Рассказы
Спасибо, что вы выбрали сайт ThankYou.ru для загрузки лицензионного контента. Спасибо, что вы используете наш способ поддержки людей, которые вас вдохновляют. Не забывайте: чем чаще вы нажимаете кнопку «Спасибо», тем больше прекрасных произведений появляется на свет!
Либертанго для Елены
…Выходя к морю из маленького домика, в темноте Елена зацепилась ночнушкой за розовый куст. Чтобы выпутать подол, пришлось уронить одеяло на песок. Нащупала на ткани маленькую рваную дырочку, чертыхнулась, подхватила одеяло, натянула его на плечи и через пятьдесят шагов уже была у самой кромки играющей штормовыми мускулами воды. Волны надвигались на берег, вскидывая белые пенные головы, становясь на водяные хвосты, заставляя Елену отпрыгивать назад, но потом наваждение проходило, и она просто смотрела как штормит, и всё.
А вчера ночью вода светилась. Они с Димычем заходили в море, а потом плавали рядом, показывая друг другу, как они светятся. Бултыхались, разгоняя по воде сверкающие шлейфы. Конечности удлинялись, превращаясь в длинные отливающие жемчугом плавники, и это было так чудно, что не дай бог заиграешься и забудешь, где берег.
Говорят, это планктон, органика. Ее поднимает с самого дна, и выходит такой фокус.
На то, что это может быть Кристалл Атлантов, Димыч грузиться не хочет, потому что тогда надо думать. Про теорию катастроф, вечность и все такое. Про то, что, может быть, там, на дне, под каким-нибудь разломом, провалилась целая цивилизация, и теперь их косточки превратились в фосфор и светятся. А мы болтаем в воде руками-ногами, и на руках вырастают серебряные рукава, а на ногах — серебряные штанины, словно атланты говорят нам: привет, а мы были…
На самом деле, и в свои пятьдесят, Елена боится воды, боится далеко заплывать. Она и сейчас-то пришла, чтобы проверить обстановку: что за шторм, не намечается ли, так сказать, цунами. Теория катастроф, это, конечно, хорошо, но только, пожалуйста, без ее личного участия. Еленин отец служил в 80-х на Камчатке: он рассказывал про человека, пережившего цунами в Северо-Курильске в 1952 году и поселившегося в Петропавловске-Камчатском. Когда однажды кто-то ляпнул по радио — причем даже не в новостях — о возможном приближении на город цунами, человек этот в считанные минуты оказался на сопке с холодильником.
Здесь тоже кругом Крымские горы, дом отдыха стоит в низкой котловине. Нет, все же будем надеяться, что на дне Черного моря нет никаких разломов и всё спокойненько.
Курорт почти опустел, народ разъезжается, наступает мертвый сезон. И оркестранты в ресторане под открытым небом играют для двух-трех парочек, не более. Романтика отпускных влюбленностей при таком безлюдье вянет и стирается еще быстрее, чем южный загар.
Пока еще кружит в дневное время над морем мотодельтаплан, собирая последние гривны, но пляжные торговцы уже исчезли, а вместо них появились бродячие собаки, еще сытые, но уже с осенней, смертельной грустью в глазах.
Расхаживая вдоль моря по мягкой бровке из спирулины и вдыхая ее аммиачные пары, кутаясь в казенное одеяло, Елена думала о том, что отравила отдых и себе, и Димычу…
…выкрикнув имя своего первого мужа. Потому что поезд резко дернулся и Димыч чуть не упал в купе, разбил себе бровь. На крымский перрон он уже выходил с пластырем на лбу. Но он-то понимал, что если женщина много лет подряд пьёт чай из одного и того же самовара, у нее как минимум возникает привычка.
Небольшое здание вокзала совсем не походило на обычные провинциальные славянские вокзальчики — то был обитый белым сайдингом домик под желтой панамкой крыши, с вынесенным на улицу окошком кассы. Сбоку под крышей, изысканный словно кованая розочка, висел громкоговоритель. С какой-то стати играли аргентинское танго.
Сновали между пассажиров местные потные тетеньки с повешенными через шею табличками на распушенных веревочках: «сдается комната», «койкоместа недорого», «пять минут до моря», из пластмассовых ведер торговок пахло чебуреками и домашней колбасой; зажатые между опухших ступней в старомодных сандалиях стояли корзинки с розовыми и нежными как младенческие пятки помидорками, крупной как сливы желтой черешней… яблоки… яблоки… томная фейхоа с сине-красно-зеленой мякотью… Нужно было как-то разойтись со всеми этими людьми, потому что Димыч, повернув бейсболку козырьком назад, подметая широкими штанинами перрон, вдруг пошел в ритм музыки, утягивая за собой Елену: он ловко катил чемодан, свободной рукой обнимая Елену, ведя ее, как танцор ведёт партнершу.
«Астор Пьяцолла», сказал он.
«Вино? Где?» Елена закрутила головой.
«Да нет. Это его. Либертанго». Димыч сверкнул на нее заклепкой из белого пластыря, опустил руку на линию Елениного «танго» и «повёл» ее прочь.
…Они спали буквой «Л», сцепившись ногами и откатившись на противоположные стороны кровати, потому что было жарко. Днём они уже сто раз искупались, и Елена радовалась, что здесь спирулина, потому что в ней много йода, а ей было нужно много, много йода, и много моря, она это чувствовала. Она даже хотела придумать себе такие лечебные обертывания, но не знала, что просто обожгла бы себе кожу.
А потом она расцепила ноги, она все равно рано или поздно делала это.
Планктон. Органика — время от времени ее поднимает наверх с самого дна, и она болтается в твоих мыслях и светится. Это как яд, что медленно накапливается в твоем организме, и ему нужен выход, он купируется в волосяных луковицах, продвигаясь все дальше и дальше, по всей длине волос. Все эти мысли, куда от них деваться? Надо быть умной как Рапунцель, иметь длинные-предлинные волосы, чтобы равномерно распределять свою память по всей длине, по всей длине. А когда становится легче, быстренько к парикмахеру — короткую стрижечку — а потом снова со страхом ждать наступления черной хандры, светящихся планктонов, поднимающихся со дна… Но с этим можно жить, можно жить. Граф Монте-Кристо, вон, сам себя тренировал, мелкими порциями принимал яд. И Наполеон, когда перебрался на остров Святой Елены (Елена усмехнулась), тоже долго жил, вдыхая пары мышьяка, которым были пропитаны все стены в его доме, все стены. Но там был настоящий яд, а тут… Был елей — стал яд? Елена читала где-то, что остатки священных предметов (святой воды, которая осталась после крещения и больше никак не используется, испорченный елей, заплесневелые просфоры) нужно сжигать в пепел и помещать «в непопираемое место». Получается, что она сама и должна стать непопираемым местом? Вот эта мысль и приводила Елену в отчаяние. «Наверно, я схожу с ума», думала она. И расцепляла ноги.
…Осенью на милонгах в одном из московских клубов стала появляться диковинная пара. Ей — лет пятьдесят, ему — около шестидесяти. Она — нервозная, с нежным лицом дама в невообразимых разлетающихся туниках и неизменных шелковых шароварах цвета томной надкушенной фейхоа. В атласной декадентской шляпке а ля «одна из жен Хемингуэя», надетой поверх длинных, по пояс, каштановых волос. Он — в черных лакированных ботинках с тупыми белыми мысками, в подметающих пол штанах и какой-нибудь широкой рубашке, из-под которой проглядывала кипельно-белая футболка. На шее у мужчины всегда болтались белые наушники-капельки от плеера, словно подчеркивая факт наличия своей, особой музыки. Под постанывания аккордеона, альта, контрабаса, виолончели и фортепьяно, пара эта двигалась медленно, с трудом подлаживаясь друг к другу. Танец их скорее напоминал прощальную прогулку. Неправда, что у стареющих людей чувства слабее. Просто в такой любви — ничего не поделаешь — смерти больше, чем жизни. Странно, что этого так не хватает молодым.
Старая мадонна
…Катя с бабушкой Олей сидят на парковой скамейке перед разрушенным фонтаном. Серые воробушки опускаются на белые обшарпанные бортики и мелко подпрыгивают, но не могут усидеть на месте и снова улетают.
У Кати в каждой руке — по газовому платочку (только что купили в комиссионке): платочки переливаются на солнышке, как два квадратных крыла огромной диковинной стрекозы. Одно "крыло", розовое, достается бабушке, под ее серый плащ, а Кате — зеленое "крыло", под ее зеленое пальто из искусственной кожи.
Катя часто так гуляет с бабушкой. Однажды подошли они к низкому палисаднику — за ним уютная скамеечка среди кустов акации. «Бабуль, давай обойдем по дорожке. Ты ж не перелезешь», — говорит Катя. «Это я не перелезу?» возмущается бабушка, — «а ну поднимай мою ногу…»
Дома они часто заваливаются на бабушкину тахту и распевают любимые бабушкины песни: «Милый друг, наконец-то мы вместе, ты плыви наша лодка, плыви. Сердцу хочется ласковой песни и хорошей большой любви…»
Как-то Катя гуляла по Малой Грузинской и написала стихотворение про бабушку. Она объявила об этом прямо с порога, добавив: «Только ты ведь обидишься».
«Брось, давай читай», требует бабушка.
«Ладно», говорит Катя:
Будешь в памяти всегда, Старая мадонна, Дни, недели и года Ты — моя мадонна. Бьется в сердце мотылек, Старая мадонна, Путь твой близок и далек, Старая мадонна. Ты в последний раз рукой Волосы пригладишь: Ну зачем тебе покой Неспокойных кладбищ?И виновато так смотрит на бабушку. А она: «Хорошее стихотворение, дочуш. И ничего страшного. Я совсем еще не собираюсь умирать».
Окно открыто, идет майский дождь. На подоконнике корявый кактус выстрелил роскошным красным цветком.
«Вон, даже кактус при банте», говорила бабушка, улыбаясь. — «Ой, как я дождь люблю. Сейчас бы скинула тапки и побежала на улицу по лужам прыгать. Так не поймут ведь».
«Не поймут, бабуль», соглашается Катя. — «Лучше я за тебя прыгать буду».
Льет дождь, а внизу по Большой Грузинской проходит большая компания грузин и распевает на четыре голоса гордую песню, пропахшую вином, фруктами, сочным мясом, капающим на пальцы соусом, овечьей шерстью… Так представляла Катя. И сказала об этом бабушке.
«Да, дочуш, да. Ты у меня прям поэт».
И Катя тогда прижималась к бабушке и целовала ее в ухо, а та смеялась и говорила: «Ой, не надо, щокотно».
Да, именно так: щокотно…
* * *
Катя живет с бабушкой. Когда в гостях тетя Римма, мамина сестра-двойняшка, Катя спит на надувном матрасе. Она надувает его до полного головокружения. Накрахмаленное белье пахнет отдушками прачечной: иногда в темноте Катя трогает уголок пододеяльника или подушки: там пришит номерок «88-222. 88-222» — будет повторять Катя через много лет, когда бабушки уже не станет. — «88-222» — это как заклинание, когда особенно паршиво. Но это будет потом, а пока Катя с бабушкой и тетей Риммой мирно засыпают, предварительно поболтав о тети Римминых мужчинах, Катиных мальчиках, а иногда даже и о бабушкиных, между прочим. Ведь бабушка помнит свою первую любовь.
«И вот… Его звали Арсений. Мы назначали друг другу свидание в овражке и долго сидели там на поваленном дереве, смотрели на луну, держались за руки и молчали… Вот это была любовь! А твой дедушка Федор… Он был красивый, как Георг Отц, и такой безобразник. Идем, например, зимой по улице, а он меня как толкнет плечом — и завалит в сугроб. Потом руку подает, вытаскивает. После меня белая такая вмятина остается. Федя называл это «лепить ангелов». Хоть и был коммунистом…»
Бабушка Оля — старый коммунист. Даже сейчас, будучи на пенсии, она волнуется, чтобы не дай бог опоздать с выплатой партийных взносов. В их доме есть красный уголок: каждый месяц туда приходит партийный казначей — собирает взносы с пенсионеров. Иногда казначей опаздывает, а старики стоят небольшой кучкой и ждут. Однажды зимой Катя ужасно разозлилась на казначея, потому что из-за него бабушка простояла на морозе часа полтора. Не дождавшись казначея, остальные старички и старушки ушли, а бабушка упорно стоит на ступеньках — в рыжем пальто с рыжим цигейковым воротником, поднятым до подбородка, в шапке-ушанке с опущенными ушами, в войлочных сапогах «прощай-молодость». Бабушка переминается с ноги на ногу, опираясь на палочку, а Катя все время выбегает на улицу и злится:
«Бабуль, иди домой, давай я за тебя постою».
Но бабушка делает большие глаза и говорит:
«Ты что, я не могу ни-ко-му передавать свой партийный билет».
* * *
Однажды Катя приходит вечером из института, а бабушка заявляет:
«Катька, я сошла с ума».
«Бабуль? Ты?» — Кате даже смешно это слышать. У бабушки ум — светлый и чистый, как алмаз.
«Да-да», — упорствует бабушка. — «Сошла с ума. Я тут сидела в кресле под торшером, вязала, а кресло подо мной как начало ходить туда-сюда, туда-сюда. Но если я и не схожу с ума, то, по крайней мере, это маразм точно».
Через минуту раздается телефонный звонок. Звонит бабушкина старая приятельница по работе тетя Маша Косая.
«Олечка, кажется я начинаю сходить с ума», — торжественно заявляет тетя Маша.
«Как, и ты тоже?» — бабушка даже обрадовалась такому совпадению.
«Да, да», горячим шепотом продолжает тетя Маша. Свое внезапное сумасшествие она хочет пока скрыть от близких, а прежде поделиться с подругой.
«А как ты сходишь с ума, как?» интересуется бабушка в порядке обмена опытом.
«Да как, как. Лежу я в ванной, моюсь, а ванная подо мной вдруг туда-сюда, туда-сюда. Но если я и не схожу с ума, то, по крайней мере, это маразм точно. Ладно, я перезвоню, а то внук пришел». И тетя Маша кладет трубку. Бабушка пересказывает разговор Кате. Катя подошла к креслу у торшера, посидела с минуту. Вроде нет, не ходит кресло. И тут снова раздается телефонный звонок, это опять тетя Маша.
«Олечка! Все в порядке. Маразм отменяется. Это было зе-мле-трясение!»
«Фу», сказала бабушка, положив трубку. — «Маразм отменяется. Это было землетрясение».
В детстве Катя любила первомайские демонстрации. Белые и розовые цветы из гофрированной бумаги на проволочных ветках, красные банты, приколотые на одежду. Вдоль улицы Горького — столы, застеленные белыми скатертями, с которых продают угощения, как в театральном буфете. На Кате белые хлопчатые колготки и голубое платьице с гофрированной юбкой и двумя рядами белых пуговичек по лифу. Платье Кате купила бабушка, специально по случаю. Катя едет на транспаранте: их тут целая ватага детей. Они сидят рядком, словно воробышки, и гордятся: ведь посторонним нельзя просто так сойти с тротуара и примкнуть к колонне. А значит, они — особенные. Хотя таких особенных — море, море людей на демонстрации. Кате всего шесть лет, но она уже знает, что ее бабушка — особенней особенных, она — крупный коммунист… И вот — дети едут на транспаранте, усевшись на ржавый металлический каркас, и Катя боится, что пойдет дождь и тогда ей придется спрыгнуть на тротуар, потому что она не может испачкать свои единственные выходные колготки. И еще, если пойдет дождь, Кате придется идти пешком — ведь бабушка не мужчина и не может нести ее на «закорках». Но теперь-то Катя знает, что бабушка была сильная как мужчина, иначе как бы она выжила после войны с тремя детьми. Бабушка — очень жесткий человек, но это касается только ее отношения к работе, а не к людям. Бабушка никогда никого не обижала и не ходила по трупам, не выпрашивала себе привилегий. Однажды она рассказала Катиной маме ужасный случай, а Катя случайно подслушала. Какая-то начальница в райисполкоме хотела расширить свою жилплощадь и со дня на день ждала получения квартиры. И тут умирает ее мать. Эта начальница неделю держала умершую дома, не вызывая врачей. Ордер на квартиру ей дали, а потом забрали обратно и выгнали из партии.
…Бабушка Оля всегда была пунктуальна. Когда-то, в далеком Катином детстве, они жили все одной кучей — Катина семья, мамиными сестры и бабушка, жили в огромной трехкомнатной квартире, прямо напротив исполкома, где бабушка работала. Но она все равно боялась опоздать. Военная привычка. Однажды она вбежала в вестибюль, стала расстегивать пальто, чтобы сдать его в раздевалку, и вдруг обнаружила отсутствие юбки.
Бабушка много лет проработала в райисполкоме. Катя вспоминает: вот она, маленькая девочка, топает по мягкой ковровой дорожке — красной революционной, — заходит в экспедиторскую. Сюда со всего мира приходят письма. Начальница экспедиторской дает Кате пачку пустых, уже вскрытых конвертов и говорит: «А какая у нас хорошая деточка, чья же это деточка, Ольги Васильевны деточка». И у бабушки в райплане тоже работает такая тетка: она лебезит перед Катей, и Катя до сих пор помнит, как ей было противно.
Катя берет марки в экспедиторской и убегает домой, иногда даже не заходя к бабушке. Дома Катя отпаривает марки над чайником и ссыпает их в жестяную коробку из-под печенья — у Кати уже почти полная коробка марок, она даже утрамбовывает их ладошкой, чтобы влезло побольше. Все Катины марки пахнут одинаково — они пахнут корицей, и Кате даже в голову не приходит попросить у родителей «кляссер» — Катя просто не знала тогда, что существуют кляссеры.
И еще Катя очень любила ходить в магазин «Союзпечать», чтобы подышать типографской краской. Она стояла возле прилавка, разглядывала газеты и журналы и, кстати, видела тот самый кляссер — он лежал пустой, и поэтому его предназначение было Кате не понятно. Она стояла возле трехногого столика, заваленного журналами, и «нюхала». А теперь, повзрослев, Катя хочет стать писателем. Ах, запах своей собственной, честно написанной и опубликованной книги — это был бы для нее самый прекрасный запах на свете!
…А транспарант, между тем, въезжал на Красную площадь, и сердце замирало от восторга: вот дети машут флажками, кричат ура, отпуская в небо шарики. Возле Василия Блаженного колонны рассыпаются, люди сворачивают лозунги и уносят их в красные уголки, и они там будут пылиться до следующего года, а некоторые даже устареют, но — медленно, очень медленно, до такой степени медленно, что люди успеют привыкнуть к переменам, не испытав при этом душевного надрыва. Кто-то вытаскивает из-под полы водку, и народ начинает выпивать прямо на Васильевском спуске — закусывая бутербродами, купленными с белой скатерти. Но это была уже взрослая жизнь, на которую Катя не обращала никакого внимания…
Последний гнев
…По утрам в Катином доме пахнет папиной глаженой военной рубашкой и маминым «Бархатным» кремом. Как бы мама ни спешила, но по утрам обязательно — глаженая рубашка для папы, всем завтрак. Потом мама бежит в ванную, отвинчивает крышку на пузырьке и выливает на ладонь крем — розовый, словно жидкая пудра или растаявшее фруктовое мороженое, наносит крем на лицо. Эти утренние запахи ласкают, но очень скоро выветриваются, уступая место долгому всеобщему недомоганию, которым все заражаются от входящего в алкоголизм отца…
В военной форме отец скорее похож на ряженого. Из-под фуражки смотрят по-детски обиженные глаза, словно говоря: «кто в доме главный ребенок?» Иногда в столе у папы лежит кобура: Катя надавливает на нее пальцем, кобура твердая. Папа говорит, что ее ждет большое будущее, все двери Катя будет ногой открывать. Но это надо еще заслужить.
Папа — военный журналист. У него «чистая биография», и в тридцать лет его взяли в КГБ. Катя ничего не имеет против КГБ, просто ей жалко папу. Он совершенно не подходит для КГБ. И та жесткость, которая так приглянулась чиновникам госбезопасности, скорее жесткость болезненная — за ней скрывается эмоциональный надлом. Уж лучше бы папа писал дальше свои стихи и работал в каком-нибудь литературном журнале, всем было бы легче. Как отец пишет свои материалы? Он надевает через шею маленький магнитофон «Легенда» и отправляется гулять по улицам. Катя знает отцовский маршрут — потому что иногда он берет дочь с собою. Они идут мимо лампового завода, огороженного забором с колючей проволокой, они переступают через холмики металлической стружки: из раскрытых окон завода доносится чмоканье и шипенье гидравлики, ритмичные стуки. Ранняя осень. Катя с отцом шагают вдоль набережной: тройные трубы, словно уродливые подсвечники, дымятся на фоне причудливого заката, как будто это не небо, а стена, на которой маляры возили кистями, подбирая колер. Григорий Иванович поддерживает дочь под локоток и говорит: «Послушай только, какое прекрасное стихотворение». И читает, стараясь идти в такт:
Вода благоволила литься! Она блистала, столь чиста, Что — ни напиться, ни умыться, И это было неспроста. Ей не хватало илы, тала И горечи цветущих лоз. Ей водоросли не хватало И рыбы, жирной от стрекоз. Ей не хватало быть волнистой, Ей не хватало течь везде. Ей жизни не хватало — чистой, Дистиллированной воде!Это и есть самые драгоценные минуты в Катиной жизни, когда папа настраивается на работу. У него пока еще красивое, не отягченное алкоголем лицо, поджарая фигура, курит он утонченно, задумчиво. На папе добротный спортивный костюм made in Japan и замшевые туфли, которые мама чистит ржаной коркой, над носиком кипящего чайника.
Прогулка продолжается. Григорий Иванович включает музыку и слушает с Катей песни Анны Герман, Муслима Магомаева… Сейчас папа никому ничего не должен, никому не отдает под козырек, и Катя тоже ничего не должна отцу, да и он ничего от нее не требует. Катя так ему благодарна за эти безмятежные прогулки!
…Сегодня отец приходит пьяный. Пьяные люди понимают что-то такое — ТАКОЕ, — чуть ли не откровение, их просто распирает от эзотерических знаний. Но все-таки хмельной лепет и глоссолалия апостолов — это не одно и то же. Отец что-то громко бормочет в коридоре, опрокидывая табуретку. В потемках пробирается в комнату к маме. Катя все прислушивается к родительским голосам за стенкой. Она представляет, как мама застыла сейчас посреди комнаты в своем красном халате, словно неопалимая купина, а отец на манер Моисея обращается к ней: у него прозрение, он понял что-то ТАКОЕ, от чего душа разрывается. Отец говорит долго, со всхлипывающими нотами, а мама молчит, как и положено божественному существу. Наконец, все стихает. Катя ворочается, а потом нашаривает в темноте тапочки, выходит в коридор, но… замирает в дверях. Она видит маму. Мама идет в ванную обнаженная, в руке ее посверкивает красный атласный халат: по полу от кухни стелется лунная дорожка с крестом от оконного переплета. Мама идет по длинному коридору, словно язычница по тропинке, и мурлычет под нос песенку. Что ж, Катя рада, что сегодня ночью ее мать сорвала красный атласный цветок папоротника — ведь это он посверкивает в ее руке…
…Утром в квартире пахнет перегаром. И Катя начинает собираться. Она не хочет уходить как вор, она даже не понимает, почему уходит. Она еще слишком юная, чтобы уметь выражать свои чувства. Ей всего семнадцать. Катю выталкивает из дома инстинкт самосохранения, она не хочет больше, чтобы отец окунал ее то в горячую, то в холодную воду. Она достает с со шкафа черный лаковый чемодан в цветных наклейках, оставшихся еще со времен пионерского лагеря — как давно Катя никуда не ездила! Мокрой тряпкой она оттирает чемодан от наклеек. Катя не будет брать много вещей, а заедет за ними потом.
«Я буду приезжать часто, очень часто», говорит она маме. — «Всего четыре остановки на метро».
Мама отворачивается и уходит в другую комнату. Она не справляется с папой, и Катя для нее — перебор. Мама хочет сохранить свою семью, а семья для нее — это прежде всего ее муж. Обе они, Катя и мама, устали.
Так Катя переехала к бабушке и после этого никогда уже не жила с отцом.
Через восемь лет она выйдет замуж, и родит двоих детей.
…Отстраивать дачу на этом поле Григорий Иванович начал первым. Роют котлован, ставят фундамент, завозят блоки. Григорий Иванович расхаживает по развороченному участку и командует. В том числе и Сергеем, Катиным мужем. Сергей, отбегая «в кустики», глухо чертыхается, скрипит зубами и заедает злость, обирая с кустов лесную малину. Теща готовит на улице борщ в огромной кастрюле, мясной дух гуляет вокруг котлована, строители поднимают головы, шевелят носами. Ковш эскалатора вонзается в глинистую землю — на участке постепенно вырастает эпических размеров курган, на который, словно стервятники, садятся вороны. Рядом с курганом сидят люди и молча обедают. Строители обозлены — на участке нет ни туалета, ни времянки, где можно было бы нормально отоспаться. Они спят в своих трех «легковушках», по два человека в каждой.
«Вот, строю себе памятник. А рядом будет моя могилка», говорит Григорий Иванович и грозно посматривает на жену. Строители и Сергей деликатно помалкивают. Какой дурак, думают все, разрешит ставить могилу на садово-огородном участке? Они мысленно сочувствуют Галине Федоровне, представляя себе ее чаепитие на веранде с видом на могильный крест. Галина Федоровна ерзает, вытягивает больную ногу, обтянутую грязным эластичным бинтом. Она молча промокает остатки борща черным мякишем, пропуская слова мужа мимо ушей. Она уже привыкла. Предыдущий вариант похорон звучал по-другому. Григорий Иванович решил, что его нужно похоронить на родине, на Смоленщине: «Галь, позвонишь Пашке в Смоленск (Пашка — это его брат). Решите сами, откуда лучше гнать машину, чтобы забрать тело.»
«Какое тело?» — пугается Галина Федоровна.
«Какое-какое — мое» — сердится Григорий Федорович.
«Да ну тебя», отмахивается Галина Федоровна.
«Нет, все же лучше своим ходом до Смоленска, а потом уж оттуда берите машину до моей деревни — так поменьше сдерут».
Ох. Говорят, свекровь Галины Федоровны была такая же. С пятидесяти лет заготовила белые «чешки» и похоронный гардероб. Вся родня знала, на какой полке в шифоньере все это лежит. «Чешки» были даже подписаны внутри — какую для левой ноги, какую для правой. А умерла в восемьдесят шесть лет…
Сергей предлагал тестю быстро поставить на фундаменте финский домик, а потом обложить его кирпичом. Но Григорий Иванович мыслит категориями эпохи тоталитаризма или египетских пирамид — чем больше рабов погибнет на строительстве, тем лучше. Поэтому все лето Сергей работает на стройке: вечерами тесть подкидывает его домой, недовольно шевеля бровями, которые, кстати, теща регулярно постригает маникюрными ножницами. Часто, когда муж отворачивается, она грозит ему кулаком. Устала.
…Выложили фундамент, построили в нижнем ярусе гараж, и тесть сфотографировался на его фоне. «Бункер Садама Хусейна», сказал он. — «Кто не с нами, тот против нас».
Потом, как-то одновременно, все не выдержали все — и Катя с Сергеем, и Галина Федоровна.
И Григорий Иванович остался один.
…До самой зимы он выкладывал стены из керамзитобетонных блоков и злился, что стены получались кривые. Весной нанял мастеров — те поставили стропила, крышу покрыли разномастным шифером — какой был у хозяина, такой и положили. Григорий Иванович наведался в пустующий неподалеку пионерский лагерь и по договоренности со сторожем, в несколько заходов, перевез на багажнике несколько металлических кроватей, матрасы, подушки, шкаф и старый дощатый стол. Он обустраивал пустой дом и все смотрел на дорогу: вот-вот, казалось ему, там покажутся родные ему люди — жена ли, дочь или зять. По соседству начали отстраиваться еще три хозяина, и Григорий Иванович повеселел. Но все равно: иногда он сидел и плакал на пороге дома, свесив ноги в пустоту. Чудно — но чтобы войти в дом, нужно было забраться по обыкновенной приставной лестнице. Иногда, сидя так наверху, Григорий Иванович ронял шлепанцы, а однажды лестница упала и завалилась набок. Григорий Иванович еле докричался до соседей. Он испугался, что в один прекрасный день вот так прихватит сердце, и он не сможет даже выползти на улицу. И вот еще на пару недель было занятие — найти мастера, чтобы тот помог выложить ступеньки, сделать крыльцо, смастерить перила. Закупил ступени, материал, нанял старика, крепкого, интеллигентного и очень мастеровитого. Григорий Иванович выкладывал опалубку, мешал раствор для кирпичных столбиков — помогал. Старик-мастер удивлялся, как можно было класть стены, ставить крышу, не построив лестницы? Григорий Иванович и сам недоумевал: действительно, как? Он сильно похудел и перестал походить на Садама Хусейна. Он вырезал из журнала репродукцию картины Ильи Глазунова «Христос» и повесил ее на веранде. Он часто пил чай, растягивая один пакетик на две-три заварки. Он пил чай и смотрел на Спасителя: сейчас Григорий Иванович как никогда принимал существование Христа, потому что и сам страдал. На голове Христа был терновый венец в капельках крови, лоб его был бледен, и лицо бледно, ведь он никогда не строил дачу и не жарился на солнце, покинутый всеми. И Григорий Иванович снова сидел по вечерам и плакал, глядя на темный сосновый лес в газовой юбке тумана, за которым скрывался овраг, застроенный по верху грязными сараюшками. Потом Григорий Иванович обходил пустые комнаты, где стояли в полной готовности металлические кровати, уже с матрасами и застеленные покрывалами. Он мысленно заселял дом близкими ему людьми и удивлялся, почему те не едут. Можно ли было назвать Григория Ивановича мечтателем? Пожалуй, что и так. Ведь он полтора года готовил этот подарок, этот дом, последний шанс проявить себя семьянином.
…Галина Федоровна все повторяет про страстную седмицу. Ведь на страстную седмицу умирают мученики. А значит, все недоумения, совершенные ее мужем, простились ему. От успокоительного Галина Федоровна отказывается и только приговаривает: «Дайте уколоться». И Катя бежит на улицу, покупает в киоске любимое мамино пепси.
Все ритуальные услуги выполняет агент от военного госпиталя…
Хоронить отца приехали все его старые друзья: дядя Гоша из «Крестьянки» — в Катину бытность школьницей он водил к ним домой любовниц, а однажды Катя пришла из школы раньше обычного, ну и…
Бессменный разведчик дядя Гена.
Дядя Кирилл: вот уже много лет он пишет нетленку, а потом издает ее за свой счет. На каждой книге — посвящение: «моим детям».
Композитор дядя Миша, что дарил Кате в детстве замысловатые шариковые ручки. У одной из них был плоский металлический зажим в виде женской ножки.
Пришел и писатель Талыгин: после поминок они с дядей Гошей перепутали кожаные куртки и встречались потом в городе, чтобы обменяться обратно. Приехала папина сестра Лида — чернявая женщина с отекшим лицом, после смерти мужа впавшая в мистицизм. А ведь Катя помнила ее молоденькой, с длинной пушистой косой, горластую и веселую, а в мужья она выбрала смирного партработника многим старше себя. Приехал из Смоленска отцов брат дядя Паша: у него вместо правой руки протез, но он все равно был «рукастее» своего брата, беря долготерпением и какой-то угрюмой любовью к работе. Приехала на служебном автобусе вся редакция журнала, где до пенсии работал Катин отец. Приехал и ушедший от Кати Сергей — он держится в сторонке, прижав к себе детей.
«Так что, это и есть твой беглый мужик?» — спрашивает дядя Гена, кидая профессиональный взгляд разведчика в сторону Сергея. Катя молча кивает.
«Хороший мужик», отрезал дядя Гена, и эти слова больно полоснули Катю, потому что в них была то ли ей надежда, то ли приговор.
Отпевают отца в ритуальном зале при госпитале. Отец лежит в гробу, в полковничьей парадной форме, с красивым, разглаженным и подобревшим лицом такого же воскового цвета, как протез дяди Паши. Всем раздали свечки с наколотыми снизу квадратиками бумаги. Дядя Паша стоит без свечки, и Катя, подумав, что его обошли, отдает свою. А потом все равно забирает ее обратно. Потому что поняла, в чем дело: нужна вторая ладонь, чтобы подставить ее под случайные капли горячего воска…
…Через полгода, во сне, Катя оказалась на высоком снежном холме, совершенно одна, а внизу, словно в огромном кратере, расположился незнакомый вечерний город. Длинные белые дымы тянулись к небу и завязывались на ветру узлами. Темные, в красноватых огоньках улицы ложились одна на другую, словно непрогоревшие дрова. Катя зябко потирала руки и удивлялась желтизне своих пальцев, как у заядлого курильщика — что правда, то правда, ведь она в реальности действительно курила теперь, сигареты с публицистическим названием «Парламент». Катя вытаскивала из кармана куртки сотовый и пыталась прозвониться Сергею, чтобы он снял ее отсюда, с этого проклятого холма, где нет ни его, ни детей, ни мамы, никого. Катя даже слышала, как где-то внизу в городе звенит вызываемый ею телефон Сергея, мелодично выводя веселую рождественскую мелодию «jingle bells, jingle bells, jingle all the way». Но трубку никто не снимал, а мелодия становилась все басистее, все медленнее, как на выключенной виниловой пластинке, с которой не сняли иглу. Мелодия переходила на какой-то уж совсем траурный ритм… и Катя вдруг оказывалась возле Киевского вокзала. И видела: возле обувного магазинчика «Салита» стоит дощатый стол со скамьей, и за столом сидят покойные тетя Римма с бабушкой Олей. Они режутся в карты и разговаривают «за жизнь». Тетя Римма как всегда восклицает: «Ничего ты, мать, не понимаешь в любви», а бабушка тихонько огрызается и обзывает тетю Римму шекеляброй. И Катя подбегает к ним и кричит: «Где папа, где папа?» (потому что ведь они теперь все втроем лежат в одной могилке на Ваганьково). И Катя все спрашивает: «где папа, где папа», а потом видит, как на вокзальную площадь влетает лошадь, впряженная в тачанку. На тачанке, крепко держа в руках вожжи, в полный рост стоит отец. Лошадь резко останавливается, превращаясь в чугунное изваяние, уродливое, как у скульптора Церетели. Отец бросает вожжи на солому, спрыгивает, поправляет полковничью папаху. Он такой загорелый, и еще — очень сердитый. Катя подбегает к отцу и утыкается лицом в его зеленую военную рубашку и узнает этот запах — отец так всегда пах, когда работал на огороде на своей подмосковной даче. Катя обхватывает отца за шею и целует его в щетину, и руки ему целует. А отец шевелит кустистыми бровями и грозно так: «Где он? Где? Он что, картошку вам не выкопал? Не вернулся еще? На кого? На кого дочь мою променял? Мою! Дочь!». А Кате ничего больше и не нужно, она только жмется к отцу, вдыхая запах его рубашки, которую уже пора бы менять, потому что он наработался. Катя знает, что надо спешить, чтобы набраться сил от отца, пока он не оторвал дочь от себя, пока не понял, что дал слабину…
…Потом Катя просыпается и нашаривает под подушкой носовой платок и вытирает злые слезы, которыми напоследок заплакал ее отец, и чувствует, как навсегда — выходит из нее последний гнев…
Тополиные Ангелы
…На последнем этаже двери лифта бесшумно растворились, и каталка плавно вырулила прямо в небо! Тома ахнула: длинный стеклянный переход завис над городом, соединяя два огромных корпуса больницы со странным названием «Тополиные Ангелы».
«Тополиный ангел», молоденькая медсестра в травяного цвета робе и с крошечной зеленой диадемкой в коротких рыжих кудряшках, спешно — через пятнадцать минут пересменка — толкала перед собой каталку с новенькой.
Тома лежала на спине, в зеленом махровом халате до пят, крепко, до белых костяшек, сцепив руки на животе. Она видела, как они въехали в отделение: вдоль бесконечной череды раздвижных дверей были высажены небольшие пятачки из травы, цветов и кустарников. В лицо дохнул сладкий ветерок. Мимо пролетела вишневая бабочка.
«Ну да. Что ж не предупредили — сачок бы захватила», ехидно подумала Тома.
Каталка остановилась у одной из дверей, на которой электронной строкой уже светились Томины имя и фамилия.
…Томе было всего двадцать, и это был ее первый «женский» опыт. Вот, собственно, и все, что нам позволено знать о Томе. Кроме того, что она была темноволосой, волосы прямые до плеч, зачесаны назад. Аккуратный носик, упрямый подбородок, нежная кожа, карие глаза с легким прищуром — явный признак еще не осознанной близорукости. Руки красивые, плавные и — в рыжих веснушках. И длинные ноги — тоже в веснушках. Тома любила сдобные булочки и была очень несовременна: она мечтала пополнеть, но у нее это никак не получалось.
…Босиком она прошлепала к комоду и с любопытством оглядела часы: два бронзовых ангела держали в маленьких пухлых ручках круглый эектронный циферблат, на котором зеленело время: 22.47. Потом Тома удивленно опустила голову, заметив, что подошвы ее босых ног ничуть не озябли — пол из синей керамической плитки был тёплым. Девушка пересекла комнату и присела на зеленую шелковую постель. Нашарила ногами пушистые шлепанцы. Резкая боль снова пронзила низ живота. Застонав, Тома сцепила руки на паху и свернулась эмбриончиком на кровати. Очень хотелось курить, но Тома знала, что правилами больницы это запрещено. «Ну почему?» проговорила вслух девушка. — «Как так можно? Потому что ведь, может, я даже завтра умру». Потрясенная сообщенной ею самой новостью, она затихла, вперившись взглядом в стеклянный прозрачный потолок. Прямо на нее летел летний дождь, и где-то над ним, словно тусклый пульсирующий прожектор, маячила луна. Весь город был там, внизу. «Тополиные Ангелы» — самое высокое здание в городе.
…Когда Тома открыла глаза, на белом лике циферблата светилось время: 02:45. «Ну вот, сегодня операция», промелькнуло в Томином мозгу. Девушка встала с кровати, запахнула халат поглубже и направилась к дверям.
* * *
Она тихонько вышла и присела на банкетку. В огромном бесконечном коридоре было уже темно: горели лишь тусклые ночники, вмонтированные в стену. Мимо, шаркая шлепанцами, прошло скорченное беременное «привидение» — оно направлялось куда-то в самый дальний конец коридора, где светился маячок постовой медсестры. В коридоре было свежо и пахло листвой. Тома смешно пошевелила носом: да, и еще пахло травой. Но и лекарствами тоже. Она откинулась к стене и закрыла глаза. А потом стала напевать что-то себе под нос: пальцы ее тихонько шевелились, выводя мелодию на невидимом пианино.
И в этот самый момент в ногу ей что-то уперлось.
«Ну-ка, ангел, ноги-то подыми», — вдруг раздался над нею ворчливый голос.
Тома открыла глаза. Перед ней стояла высокая плотная бабка. Старый рабочий зеленый халат, рукава закатаны до локтей. Бабка стояла, зажав меж грубых дерматиновых тапок старую добрую патриархальную швабру, обмотанную мокрым куском мешковины. Правда, поблизости никакого ведра с водой не наблюдалось. Но пол вокруг Томы был мокрый. Бабка стояла и молча смотрела на девушку. От нее пахло чем-то незнакомым — запахами, о которых Тома и знать не могла. Потому что в ее время эти запахи уже давно вымерли. То были запахи самодельного хлеба, мешка с мукой, стоящего в кладовке, свежеподоенного молока: был в этом бабкином букете "ароматов" и запах «коровьей лепешки», слегка подсушенной на летнем ветерке. Тома беспокойно зашевелила носом. Ее воображение явно застали врасплох.
«Слышь-ко, ангел, говорю, ноги-то подыми», — нетерпеливо повторила бабка и пристукнула по полу шваброй. — «Пыль», продолжила она, «скатывается в комочки, и от нее домовые заводятся. И девки беременеть перестають». — Она пробурчала еще что-то и, пока Тома удивленно приподняла ноги, ловко протерла пол под банкеткой.
«Ну вот. Нахорошо помыла», — вздохнула бабка и грузно опустилась рядом с Томой. — «Эй, ты ноги-то опусти», — с укоризной произнесла она. — «Что это ты, яко сумасшедшая какая».
Тома загипнотизированно опустила ноги:
«А вы кто?»
«Да бабка Саня я. Техничка. А ты, ангел, гляжу, кровью исходишь?»
Тома, молча глотая вдруг навернувшиеся слезы, судорожно закивала головой, потом прохрипела ангинным голосом: «Ага. Завтра, то есть сегодня уже — операция».
Бабка Саня глубоко вздохнула и, сдернув с себя старенькую полинялую косынку в цветочек, отерла ею потный лоб.
«Откуда?..» вдруг подумалось Томе. — «Откуда эта бабка? Тут же — кругом компьютеры. Вон — кусты прямо из пластика растут. Полы наверняка моют автоматы. А тут — эта палка старомодная…»
Но при этом девушка почувствовала себя как-то по-особенному спокойно. И встретилась взглядом с бабой Саней. Серые, с косинкой глаза. Седые, убранные в пучок, волосы. — Словно посыпанные мукой, почему-то подумала Тома.
«А ты, девка, не бойся», проговорила баба Саня. — «Тебе сколько лет будет?»
«Мне? Двадцать», — выдохнула Тома и крепко сцепила руки на коленках. Потом она вдруг хлюпнула носом и сама не заметила, как уткнулась в грудь бабы Сани. Девушка горько плакала, а пуговица бабы Саниного замусоленного халата впилась ей в лоб.
«Ах ты, ягодка ж моя», низким басовитым голосом проговорила баба Саня и отстранила Томино лицо от своей груди и заглянула ей в глаза.
«Ах ты, яко припечаталась-то», — произнесла баба Саня и поцеловала Тому в лоб, натертый пуговицей. А потом погладила по голове. Ладонь была теплая и шершавая, словно в варежке.
«На-ко тебе…», баба Саня пошарила в кармане халата. И вложила в Томину руку что-то маленькое и круглое. Тома прошлась ногтем по ребру предмета, почувствовала мелкие зубчики и поняла, что это монета.
«Монета эта ме-едная», словно вторя мыслям девушки, певуче подтвердила Баба Саня. — «От всех болезней женских за этот пятак вылечишься. Прилепишь ее. И уйдешь отсюда. И вылечишься. И больше не вернешься».
Тут бабка засуетилась:
«Ой, ангел мой, пойду я. Помни, девка, ты сама себе дохтор…» — сказала она и… растворилась в больничном воздухе. Ни бабки. Ни швабры. Лишь — вокруг Томы — пятачок свежевымытого пола. Девушка встала с банкетки и поднесла монету к ночнику. «1862 год», бесшумно шевеля губами, прочитала она. Старая, с прозеленью, медная монетка с зубчиками, словно шестеренка, выпавшая из каких-то древних часов. Зажав монету в руках, Тома тихонько прошла к себе в палату. Только на одно мгновение ее фигурка мелькнула в столпе лунного света, проникающего через стеклянный потолок. Тома натянула на себя одеяло и, убаюканная, почувствовала приближение сна. След от бабы Саниной пуговицы еще горел на лбу…
…Пока Тома спала — где-то на лестничной клетке, затерянной в недрах этой огромной больницы, две молоденькие медсестры — два «тополиных ангела» — прихватив с собой пульты срочного вызова, сидели на подоконнике и курили, болтая ногами и мягко постукивая по батарее тряпичными туфельками-балетками. Одна из девушек, с рыжими смешными кудряшками, то и дело поправляя на волосах фирменную зеленую диадемку, многозначительно вытаращив глаза, рассказывала своей подруге местную страшилку, легенду про тополиных ангелов. Которая звучала примерно так:
Давным-давно тут был провинциальный городишко, а на месте «Тополиных Ангелов» стояла изба-больница. И однажды — это было летом — привезли сюда на телеге бабку — она истекала женской кровью. Бабку на каталку — и в операционную. Говорят, та уже чуть ли не умирала, но все равно не давалась, чтобы ее раздевали. Врачи же, не выполнив волю умирающей, бабку раздели, прооперировали и спасли. Привезли потом в палату, уложили, укол сделали. Наступила ночь. Потом утро. Бабка исчезла. Может, грохнулась где в обморок? Обыскали всё. Даже вызывали полицмейстера. Но бабки словно след простыл.
Дальше — чуднее. К обеду, в ту самую палату, где еще вчера лежала исчезнувшая бабка, вошла красивая молодая дородная женщина. С лицом круглым как луна, с озорными глазами — серыми враскосинку. Женщина была в исподнем, простоволосая: густые словно сноп волосы, казалось, оттягивали голову своей тяжестью. Женщина легла на бабкину кровать — поверх одеяла — и заснула-задышала всей своей роскошною горою тела. Прибежали медсестры и доктор, разбудили красавицу и потребовали объяснений. Женщина проснулась и назвалась именем исчезнувшей бабки. Она утверждала, что встала ночью с кровати и кое-как доползла до храма и там простояла всю ночь на коленях, где и молилась.
…Говорят, призрак той чудесной бабки изредка возникает в недрах больницы «Тополиные Ангелы». И кому она привидится — в старом ли или молодом облике — тот будет счастлив и здоров. А почему современная больница так называется? Опять же — есть и дополнение к легенде. Ведь когда случилась с той бабкой — вроде ее Саней звали — когда случилась с ней эта предсмертная ситуация и когда очнулась она после операции одна в палате, то посмотрела в открытое окно: прямо к ней тянулась ветка старого тополя. То ли тому причина причудливая игра лунного света на листве, то ли посленаркозное воображение, но бабе Сане почудилось, будто сидят на ветвях два маленьких тополино-пуховых ангела с трепещущими крылышками-листочками за спиной и манят: «Иди! Иди к нам! Не бойся! Церковь недалеко!..» Вот отсюда и пошло название больницы — «Тополиные Ангелы»…
…На следующее утро Тому прооперировали и перевели в палату на первом этаже.
…Очнулась она от яркого солнечного света. Окно было открыто, и по палате летали белые катушки. "От них домовые заводятся, и девки беременеть перестають…" — испуганно вспомнила Тома. А потом поняла — что это всего лишь тополиный пух. Тома подслеповато заморгала ресницами и смешно сморщила нос, собираясь чихнуть. Тут она снова испугалась — ведь после операции больно что кашлять что чихать. Почесать переносицу она не могла, так как на обе руки ей поставили капельницы. Поэтому Тома просто замотала головой, и чихота отступила. Девушка повернула голову и посмотрела в распахнутое окно.
Раскидистый тополь протягивал свою ветку, и — то ли тому причина причудливая игра солнечного света на листве, то ли посленаркозное воображение, но Томе почудилось, будто сидят на ветвях два маленьких тополино-пуховых ангела с трепещущими крылышками-листочками за спиной…
Третья Роза
Ваза эта стояла на горячем от зноя столе из серого пластика. Рядом аккуратно стопочкой были сложены деловые бумаги. И над ними возвышалась Ваза, тонкая и высокая, словно маленький настольный небоскреб.
«Господи, жара невыносимая» — тягуче проговорила первая роза и зевнула. (Это выглядело так — едва дрогнул один ее желтый лепесток) — «Хоть бы вазу с солнца что ли убрали, мы же как пить дать тут зачахнем».
«Ой, и не говори», согласилась вторая роза и устало потянулась, выпятив вперед два округлых томных лепестка, похожих на упругую девичью грудь, убранную в шелк. Вторая роза была характером попроще, да и жару переносила легче.
«Ой, аспирину бы сейчас, аспирину», простонала первая роза и беспокойно поболтала в воде онемевшим от неподвижности стеблем.
Третья роза молчала. Теплый розовый свет ласкал ее сомкнутые веки-лепестки: роза еще не распустилась. Она чувствовала, как по всему ее телу словно бегали иголки. Впрочем, чему удивляться: вот когда она распустится и раскроет лепестки, то увидит, что все ее тонкое тело-стебель покрыто острыми колючками.
«Фу», произнесла в этот момент первая роза и посмотрела на себя вниз. — «Какие у меня волосатые ноги. И какое здесь ужасное обслуживание. Ничего нет, чтобы женщине привести себя в порядок».
По секрету, чтобы не расстраивать первую розу, скажу вам, что стебель у нее был расщеплен надвое, поэтому ей казалось, что она обладает такой роскошью как ноги. Только ноги (то есть расщепленный стебель) — это приговор для цветка. Но какой дурак скажет умирающему, что его часы сочтены, тем более если это роза…
…В комнату вошел юноша с длинными черными волосами, убранными в хвост. Открытый лоб, насупленные черные брови, два карих глаза как два взбудораженных шмеля. Это от недосыпа.
Молодой человек расстегнул на груди черную байковую рубашку. Две розы не могли не заметить, что эта мужественная грудь просто создана, чтобы приложить к ней головку, и непроизвольно потянулись к юноше. Он же, ни о чем не подозревая, взял с полки книгу и забрался с ногами на мягкий желтый диван возле окна, подложил под голову маленькую пухлую думку и углубился в чтение. Через несколько минут юноша приподнялся, толкнул ладонью створку окна. В комнате посвежело. Две розы не спускали взгляда с юноши.
«Эти две розы похожи на глупых молоденьких продавщиц, которые потихоньку таращатся на молодых людей», вдруг непроизвольно подумал хозяин комнаты, подтянул к себе ногой плед и, повернувшись к розам, уставился на них. Друзья часто смеялись, что он фантазер, но вот — опять доказательство от противного: две желтых розы начали потихоньку краснеть.
«Тоже мне», рассмеялся юноша и подложил кулачок под щеку, — «нашли плейбоя». Две желтых розы стали ну просто темно-красными.
«А третья роза — так невинна», почему-то опять подумалось юноше. Улыбнувшись своим глупым фантазиям, он провалился в сон.
Потому что на самом деле он устал ну просто как собака…
…Когда он проснулся и включил свет, то оказалось, что первая роза уже увяла. Ее лепестки сморщились, стали дряблыми как кожа у старухи. Вторая роза обломилась и свисала теперь вниз словно голая марионетка, перекинутая через хрустальную ширму.
…А третья роза вздрогнула, по ее сомкнутым лепесткам пробежала легкая дрожь, а затем они открылись надвое, словно крылья у бабочки. Юноша сидел на диване, почесывая свою взлохмаченную голову: резинка во время сна слетела, и хвост рассыпался. Теперь юноша был похож на Врубелевского демона в домашнем интерьере.
…Раскрывшийся бутон тихонько отломился от черенка, и третья роза взметнулась в воздух.
Юноша перестал чесать голову. «Эй…» полушепотом позвал он.
Роза описала круг над столом, затем неуверенно пошевелила сначала правым крылом, потом левым…
«Эй…» с легким испугом проговорил юноша и поднялся теперь в полный рост. — «Слушай, ты чего тут крыльями хлопаешь? Ты меня напугала, понятно? Я между прочим не пью, не курю и не сижу на игле, чтобы мне такие штучки мерещились». А потом вдруг неожиданно прибавил:
«У меня бабушка умирает, понятно?» — тут юноша по детски всхлипнул, опустился на диван и дал волю слезам.
Роза как-то виновато замерла в воздухе и попыталась было вернуться к своему «телу», то есть стеблю, но — безрезультатно. Неловко, желтым комочком, словно маленький цыпленок, роза скатилась на стол. Юноша невольно, сквозь слезы, рассмеялся. Потом заговорил:
«У меня бабушка мировецкая, понимаешь? Она всю жизнь сказки писала. Под ее книжки знаешь сколько детей засыпает и сопит в две счастливые дырочки? То-то. Она всегда такая полная была… а теперь…» — тут юноша запнулся и с интересом посмотрел на розу. Та тихонько шевелила лепестками, давая понять, что все слышит.
«А знаешь что», сказал вдруг юноша. — «Я только сегодня утром от нее ушел. Она говорила, что жаль умирать не потому, что смерть пришла, а потому, что в жизни она не видела ни одного чуда, поэтому и придумывала чудеса для себя и для всех остальных. Роз, а роз…»
Роза вздернула лепестки кверху, словно атласные ушки навострила.
«Ты ведь настоящее чудо. К тому же ты бабулина собственность — вас троих ей на восьмидесятилетие позавчера подарили. А потом у нее сердечко — ёк…»
Юноша грустно посмотрел на розу:
«Роз, а роз, ну будь человеком, помоги бабуле…»
Роза в задумчивости почесала одним лепестком весь бутон.
Юноша рассмеялся.
Роза махнула на него лепестком словно ладошкой: «ну тебя».
Юноша рассмеялся еще веселее: «Ну ты даешь, канарейка».
Роза возмущенно подпрыгнула в воздухе и снова опустилась на стол. Потом она стала медленно летать по комнате, внимательно присматриваясь к предметам, словно пытаясь принять какое-то решение. Юноша следил за этим непонятным существом без тени страха или удивления. Для него это был желтый ангел, который способен был спасти его бабушку.
…Наконец роза опустилась на темный полированный сервант и замерла.
«Ну что ты туда уселась? Там пыльно».
Но роза упорно продолжала сидеть на серванте.
Юноша устало присел на диван и подумал: «Наверное, я просто схожу с ума. Просто увяли три розы, а одну оторвало сквозняком и носит по комнате. А моя бабушка умирает. А я занимаюсь тут черт-те чем. А утром мне отца сменять в больнице. Ну что я не сплю? Ведь надо выхаживать бабулю…»
Он поднял голову и увидел, что теперь роза, словно маленькая фигуристка, выделывает вензеля на пыльной поверхности серванта.
«Бред…»
Юноша вздохнул, подошел к розе, скомкал ее в руке, пошел на кухню и выбросил в мусорное ведро.
Вернувшись в комнату, он лег на диван и натянул на голову плед.
Бред… Говорят, вот так от бессонницы и начинаются галлюцинации.
Но он почему-то встал, придвинул стул к комоду и взглянул. По толстому слою пыли по-детски корявым почерком было выведено: «СКОРЕЙ — К БАБУШКЕ!»
«Роз, а роз, прости меня!» — воскликнул юноша и метнулся на кухню…
Березка
…Он опять пришел сюда, в эту белесую рощу, сегодня — мокрую, серебристо-серую, продуваемую насквозь. Моросил легкий дождик. Земля, хлюпавшая под ногами, набухала от влаги: белые стволы берез покрывались подтеками, словно стены, ободранные до слоя старых газет. И тогда острому воображению представлялись мелкие буковки, колонки, заголовки, выделенные жирным шрифтом. Павел даже бормотал что-то, словно вчитываясь в текст: он запрокидывал голову, вглядываясь все выше и выше, пока взгляд не утыкался в зеленые кроны, сквозь которые капала вода и проглядывало насупленное летнее небо.
Подрагивая от волнения, Павел опустил голову и пошел к тому месту, ради которого собственно и проделал этот путь в несколько километров.
Он остановился и замер у молодой березы, покрытой ознобными каплями. Он боялся. Что дождь все испортит — первый дождь за все время его летнего отдыха в деревне.
Но нет. Она была здесь. Павел достал из нагрудного кармана маленький японский фотоаппарат, вытащил его из футляра, навел глазком, щелкнул. Отступил на шаг, прислонился к соседнему дереву.
…Со ствола, словно с черно-белой фотографии, на него смотрела девушка. Темное платье, плавные пальцы, ладони, прижатые к груди. Сами ладони — как две прирученных птицы. Гладкие, приглаженные, с блеском, волосы. Сейчас — казалось — даже немного влажные. С косинкой — глаза. И улыбка, какая бывает у женщин на смятых фотографиях или на целлофановых пакетах, когда изображение шевелится при ходьбе, словно оживая.
"Лиза", — выдохнул Павел, и воспоминания нахлынули…
…Он приходил к Лизе в больницу, после того, как она наглоталась снотворного.
…Лиза лежала на больничной койке, вытянув вдоль тела исхудавшие тонкие руки: голубые жилки пульсировали под белой кожей. Павел смотрел и тупо вспоминал, что где-то он уже это видел. «Ах, да, точно. Санькина акварель. Студеные, прозрачные до голубизны, тощие березовые стволы — на фоне белого снега…» А тут — Лизина рука… В одну из жилок входила игла от капельницы: лекарство капля за каплей проникало в вену, а мелкие пузырьки воздуха медленно и безучастно собирались на поверхности раствора.
Павел незаметно вытащил изо рта жвачку, прилепил ее в задний карман джинсов. На тумбочке лежали два глупых рыжих апельсина, принесенных им для Лизы.
…Когда она попыталась покончить с собой, Павел даже похвастался Саньку, но тот посмотрел на друга своими карими как маслины глазами и обозвал его козлом.
…Павел неловко шаркнул ногой и задел судно, едва задвинутое под койку. Судно было не вынесено. Он подхватил его и на деревянных от страха ногах поплелся к мужскому туалету…
Когда Павел вернулся, глаза у Лизы были по-прежнему закрыты. Ее темно-русые липкие волосы разметались на подушке, и только строгий прямой пробор да голубая жилка на шее, чуть-чуть заходящая на подбородок, напоминали о том, что эта девушка с серым лицом — та самая Лиза, с которой еще несколько недель назад он спал под своим единственным одеялом и забывал во сне, что не один, и стягивал с нее то самое одеяло, а она даже боялась отдернуть его на свою сторону… А потом однажды, когда тяжело дыша, он блаженно откинулся на подушки, Лиза вдруг развернулась ногами к стенке и лукаво посмотрев на него, вдруг вскинула их кверху, приложив розовые пятки к обоям.
"Ты что делаешь?" — встрепенулся Павел и резко сел в кровати. — "А ну беги в ванную".
"Неа", — весело сказала Лиза и продолжала стоять вверх ногами.
"Ты что, ты что делаешь?"
"Я? Это березка называется. Поза такая."
"Березка? Так. Ясно. Залететь хочешь…"
Так оно и случилось. Павел злился и перестал встречаться с Лизой, хотя на самом деле еще не решил, что делать дальше…
Рыжий апельсин вдруг упал с тумбочки и подкатился к Павлу под ноги. В эту минуту Лиза ушла от него навсегда…
…Павел присел на корточки возле дерева и подумал про ту пленку, с которой уже сделал фотографии. Часть из них — обывательские, с видом на деревню, с соседями, с женой… И несколько фото, в разное время дня — ее, Лизы. Он набрел на нее обычно. Просто шел по краю леса и наткнулся. И замер.
Когда наш взгляд долго шарит по небу, много разных картин рисуется воображению. На это нужно время, состояние задумчивости. Когда мы болеем, то упершись горячечным взглядом в стену, в рисунке ли обоев, в мелких ли трещинках мы также видим целый мир, лица, события, многое…
Но здесь было не то. Это увиделось сразу. На березе — как будто фотография средь газетных полос: Лиза сидела на фоне окна, сложив руки перед собой и тихо улыбалась ему. За ее спиной виднелась жидкая поросль из голых, омертвевших деревьев на фоне космической пустоты заброшенного поля. Точно такое же поле было сейчас справа от Павла.
…Когда жена случайно увидела фотографии, была немая, но неприятная сцена. Он говорил, что это просто береза такая… "березка…" "Березка? " — жена дико, по кошачьи рассмеялась. Он позвал ее с собой в лес, чтобы та посмотрела, убедилась — ведь сейчас она была нужна ему как никогда. Но земляника уже отошла, только иногда попадались отдельные кровавые неприкаянные ягоды, которые уходили в землю, возвращались обратно в ее кровоток… Жена любила собирать землянику. Но земляника уже отошла…
Отдых в деревне превратился в наваждение. Жена перешла спать на соседнюю кровать, но почему-то не собиралась уезжать и одевала по вечерам свой черный французский пеньюар и долго сидела у низенького окна и курила длинные коричневые золотистые сигареты, выпуская дым с чужеродным, недеревенским запахом.
Как все глупо. Павел словно попал в какой-то бредовый, нелепый плен. Можно, конечно, позвонить Саньку, чтобы тот приехал, посмотрел. Тот поверит. "Да", скажет. "Феномен, брат. Чудо природы. Безумие. Киношников вызывать надо. Журналистов. Пресс-конференцию на поляне проведем. Березу огородят столбиками, на столбики натянут бархатные толстые ленточки, такие как в музеях."
"Березку." — тихо поправил внутреннего собеседника Павел. — "Березку…"
Страшно. Господи, как страшно. Значит, природа все знает? Все может? Это страшнее всякой фантастики, потому что если все — так, значит вся жизнь — уродство, вся! Павел и сам не мог объяснить себе, на что злился, стоя возле этого волшебного, словно очерченного рамой куска коры: Лиза сидела спокойно и смотрела на него и, казалось, ровно дышала, и тихонько поскрипывал под ней невидимый стул — или это скрипела сама береза?
…Как бы он хотел просто оказаться сумасшедшим, спятившим с ума. Полежал бы в психушке, потом бы точно знал, что это все — привиделось…
Он дал себе слово, что больше не придет сюда.
Через день Павел с женой сели в свою серебристую "Хонду" и вернулись в город.
…Осенью нужно было вернуться в деревню, заплатить Славке-молдованину, чтобы к весне тот пристроил к дому веранду.
…Утром выпал первый легкий снежок. Маленький самодельный пруд на огороде подернулся тонким ледком, грядки стояли ровные и рыхлые и с "горочкой", словно свежие могилки… Жуткое чувство тоски охватило Павла, и он забежал в дом. Летняя непонятная депрессия снова стала возвращаться к нему, превращаясь в осеннюю, накатываясь странными видениями Лизы. Ведь он рассказал тогда жене про смерть Лизы и про свои страхи, и она сжалилась, пошла с ним перед отъездом в ту рощу, но не увидела ничего. Но и он тоже не увидел!..
…Павел сидел теперь у печи и подбрасывал туда толстые сухие поленья. И ему снова вспомнился пред-осенний лес, тяжелая и крепкая как капроновый чулок паутина, в которой маленькой свалявшейся затяжкой темнел паук… Звон птиц, словно кто-то там, наверху, стучит палочкой по маленьким хрустальным бокальчикам. Солнечные блики повсюду, уже не золотые, теплые, а серебристые. Проседь холодка в летнем воздухе. Это август… И словно выпуклая фотография на березовом стволе, улыбка, которую не распрямить — на то она и улыбка…
"Лиза! Лиза!" — застонал Павел, схватил на ходу куртку и выскочил на улицу.
…Он быстро шагал по первому снегу в сторону поля, потом пошел наперерез. Он вспомнил! Он вспомнил вдруг точно, чего хотел от жизни: как хотел написать книгу и о чем ей предполагалось быть. Он вдруг увидел всего себя, как срез на дереве. Все свои годовые кольца: чем больше лет, тем дальше от сердцевины, тем дальше… Но теперь он знал, он вспомнил… И он расскажет жене, и они вместе… он попробует… она поймет…
…Тяжело дыша, он вошел в предзимний березовый лес. Ветер гудел, и густая метель повалила, словно статика на пустом экране телевизора. Он шел напролом, спотыкаясь, вытирая с лица лихорадочный пот. Странная, полуидиотская улыбка прозрения играла на его лице.
Он подошел к березе и остановился пораженный. Фотография — вернее береза — была на месте. Тот же окоем-рама, напоминающая прорезь окна… Тот же тихий пейзаж в перспективе. Но картина — или это была комната — была пуста. На изображении появился стул: словно его отодвинули назад, вставая. А в сторону от березы по свежему реальному снегу узкой змейкой удалялись маленькие остроносые аккуратные следы, словно кто-то ускользнул — только что, совсем недавно…
Глубоко набрав воздуха в легкие и вскрикнув с облегчением, Павел рванулся вслед, в самую глубь леса…
Девочка и Криволес
Страшно умирать. Страх смерти — это когда кончается характер и остается одно только смирение. Это когда у поэта и писателя кончаются языковые средства, остается один невнятный лепет, слова «на ватных ногах». Чем сильнее страх смерти, тем бездарнее творец.
…Я помню, как отходила в детстве ежевика на дедушкином лугу, пока на кустах не осталась последняя ягода — она висела, как крошечный мозг, налитый темной кровью, и ее совсем не хотелось кушать. Конечно, у маленькой девочки не могло возникнуть подобных сравнений, но я точно помню, как отказалась от этой ягоды.
Я заговорила обо всем этом, вспомнив своего дедушку. Он не был никаким писателем, а был обыкновенным голубоглазым малоразговорчивым крестьянином. Мне рассказывала мама, как смиренно готовился дедушка к смерти. И я вдруг подумала: а не циник ли я? И не мало ли во мне веры? Да я и взялась-то за этот рассказ из-за страха собственной смерти, не более того. Я боюсь, что не будет никакого свидания с Господом, никакого света в конце туннеля, а одна лишь сплошная предсмертная перистальтика. С каким страхом я обходила недавно прилавок, на котором лежал толстенный том «Философии смерти». А прежде, когда была молодая, запоем читала «Смерть Пополудни» Хэма. А теперь вот боюсь.
И тогда я закрываю глаза и представляю серебряные рельсы из моего детства: смотришь на них — а они никогда не кончаются…
И радость возвращается ко мне. Как к той девочке из Криволеса…
…Уже с трех лет меня оставляли на лето с бабушкой и дедушкой, в доме на полустанке под названием Криволес. Дом этот стоял особняком, а сама деревня, тоже называемая Криволес, располагалась за небольшим леском. Дедушкин дом был служебный. Там дедушка жил, там же находилась «дежурка», где хранился его фонарь путевого обходчика, черная через плечо сумка из свиной кожи, флажки и всякие инструменты, которыми он обстукивал рельсы. По стене дежурки шли какие-то щиты и рубильники, висел там и служебный телефон — черная графитовая трубка, как в фильмах про войну и правительство. По телефону всегда можно было позвонить в город Рославль, чтобы вызвать дрезину с доктором, если кто-то тяжело заболевал. Приставленные к стенам стояли какие-то высокие приборы со стрелками, о предназначении которых ничего не могу вам сказать. И еще там была банкетка, как в медицинском кабинете, только там они покрыты белым простынками — «лягте, расслабьте живот, согните ноги в коленях» — а та банкетка была вечно пыльная, как и все остальные предметы в дежурке.
Для бабушки эта комната всегда оставалась учреждением, поэтому она там никогда не убиралась, хотя попасть туда можно было, сделав один-единственный шаг через коридор. И тетушки мои, тогда еще молоденькие девушки, тоже не мыли дежурку. Убирался только дедушка, неловко шныряя по полу мокрой тряпкой на швабре или смахивая с окон паутину с дохлыми мухами.
Помню, как дедушка готовился бриться — точил опасную бритву о ремень, висевший возле зеркала, — а дочери, Людка и Лидка поторапливали его, собираясь на свои бесконечные свидания — им не терпелось поскорее подойти к зеркалу. Вели они себя, как я сейчас понимаю, по-хамски, будто они городские, а он — деревенский. Ведь они учились и работали в Рославле, и в деревню приезжали только на каникулы и по выходным, поразжиться харчами. Но сколько ни грубили ему дочери, дедушка всегда был такой… словно его омывала чистая вода — даже когда он матерился… И только бабушка могла довести его до бешенства, но дедушка срывался редко.
Он был путевой обходчик и, конечно же, крестьянин, и у нас был огромный луг, прямо возле дома, и на лугу этом, дожидаясь рабочего поезда, отдыхали люди. Лежали на нашей траве, ели и курили или устало спали в отдалении от громких компаний. Мне маленькой девочке все эти люди казались наглецами, которые посмели без разрешения мять наш луг, жевать наши травинки, сплетать венки из наших цветов или даже бегать по нужде в прилегающий лесок. Но на самом деле все они были уставшие люди, труженики, грибники, ягодники. Это был Народ.
Поезд-челнок Рославль-Понятовка проезжал мимо нашего Криволеса четыре раза в день: в пять утра туда, в шесть тридцать обратно, и в пять вечера туда, и в шесть тридцать обратно. До Рославля был час езды, а до Понятовки минут десять. Утренний челнок отвозил рабочих в Рославль, а вечерний привозил обратно. На этом же поезде жители окрестных деревень гоняли в пять вечера в Понятовку за продуктами и привозили оттуда бакалею, хлеб, муку, все тащили мешками. Ну и, конечно, привозили гостинцы детям.
Иногда дедушка брал меня с собой в Понятовку. Он спрыгивал с поезда и вместе с остальными несся в сторону магазинов, не выпуская изо рта своей вонючей "беломорины". Он был крепкий как лось, мой дедушка, всего-то лет пятидесяти тогда, не более.
Из магазинов все бежали обратно к поезду, сгорбленные под тяжестью мешков, мужики и бабы, дедки и бабки. Не успеешь обернуться за час с копейками — придется топать пёхом до Криволеса по железке, шесть километров. Я едва успевала за дедушкой, сжимая в руке газетный кулек с конфетами-«подушечками» в алмазно-сахарной крошке. Еще дедушка обычно давал мне авоську с какой-нибудь мелочью — папиросами и спичками, патронташем из липучек для мух и так далее.
И вот мы запрыгивали в поезд.
«Тук-тук», «тук-тук» — пыхал паровоз на полном ходу, и на проплывающем мимо клюквенном болотце можно было увидеть его тень, и тени двух прицепных вагончиков, и даже тень от дыма. То был все дедушкин участок, за который он отвечал. Криволес-Понятовка. Он даже мог приказать машинисту любого поезда остановиться, просто помахав днем флажком, а ночью — сигнальным фонарем. Потом мы проезжали дедушкину будку и семафор, за которыми, на небольшом сухом болотце, всегда водились подберезовики, и вот он — наш дом с табличкой «Криволес».
Все люди, сходившие с поезда, были героями дня, поимевшими Приключение. А вот Приключение Криволес-Рославль длилось аж 12 часов, и таких путешественников встречали прямо-таки с победой! Оттуда привозилась галантерея, обновки и колбаса. В дорогу брался стандартный деревенский паек — узкогорлые бутылки с молоком, заткнутые газетными пробками, блины, сало, хлеб, вареные картофелины и яйца, огурцы с помидорами и соль в газетных кулёчках. Пустые бутылки привозились обратно, для следующих поездок или под самогон, купленный, кстати, у моего дедушки…
Этот перрончик перед нашим домом был настоящей сценой, на которой какие только события не разыгрывались! Собственно, это был даже не перрон, а обыкновенная насыпь из гальки, плотно обитая шпалами. Все встречающие, как и сами путешественники, тоже были нарядные и расхаживали по перрону как по подиуму. Девочек одевали в чистенькие платьица и заплетали им в косички цветные капроновые ленты, обрезанные раскаленными ножницами, чтобы нить не распускалась. Бабы красовались в цветастых платьях-халатах, с шеренгой пуговиц по всему переду, в дешевых крупных бусах, с волосами, забранными в пучки, из которых иногда, вылезая, торчали стрекозиными крыльями волнистые шпильки. У отъезжающих баб «кошельки» были за грудью — скрипучие от купюр носовые платки, затянутые узелком. Иногда, если было прохладно, бабы надевали плюшевые пиджаки «самострок», которые иногда нелепо лоснились, если в выкроенных деталях было перепутано направление ворса. А вот «городские», вроде моих сопливых тетушек, имели и туфли на шпильках, и магазинные дамские платья, скроенные в лучших традициях знаменитой книги по домоводству. Парни тогда носили короткие курточки, как у летчиков — с накладными карманами, яркие аляповатые рубашки, или пиджаки с хлястиками. И очень широкие брюки «хулиган».
Народ на перроне демонстрировал все свои таланты, и не только словесные. Я даже помню одного морячка, который разгрыз граненый стаканчик и бритву, при этом не порезавшись. Здесь же девушки выслеживали своих «кадров», с которыми они поссорились. Точно так же и парни ревниво высматривали своих девушек. К пятичасовому вечернему поезду из Рославля публика стягивалась заранее, за полтора-два часа. Все жанры человеческого общения разыгрывались вечером перед нашим домом на протяжении этого времени — как раз ровно столько, сколько идет в театре полноценный спектакль… Бабушка моя, составив вниз на комнатную лавку горшок с геранью, наполовину высовывалась из окна и наблюдала за происходящим. Иногда при этом отпуская громкие комментарии. Ведь она, собственно, и была полноправной хозяйкой перрона, а ее окошко — царской ложей. С бабушкой лучше было не ссориться, потому что была дежурка с телефоном на случай болезни, был дедушка, который всегда мог остановить любой поезд, стоило ему только махнуть днем флажком, а ночью — сигнальным фонарем…
Забредали к нам на полустанок и ночные гости, часто из дальних деревень, чтобы дождаться утреннего пятичасового. И дедушка укладывал их спать в дежурке. Некоторые приходили неслышно и скромно сидели на внешнем крыльце, тихо переговариваясь, если ждали не в одиночку. Это внешнее крыльцо, что со стороны железки, бабушка тоже считала служебной территорией. Когда уходил поезд, крыльцо и вправду было какое-то грязное, насиженное чужими штанами и юбками, замусоренное чужими семечками…
Но ветер очень быстро выдувал шелуху от семечек, а дождь и солнце отбеливали доски, и крыльцо очень быстро очищалось, как живой организм, который сам по себе умеет восстанавливаться.
На этом крыльце бабушка сидела по вечерам, допасывая корову, обмахивая себя прутиком от комаров, распевая для меня песни-страшилки про несчастную любовь, про злых мачех, про ножички, сверкающие в ночи и пролитую невинную кровушку.
Дедушка гнал самогон в посадках возле двух ям, из которых все местные добывали глину. От дождей ямы эти превращались в желтые мутные прудики, полные головастиков. Травяная бровка меж прудиков была скользкая, и я всегда боялась упасть, проходя по ней к дедушкиным посадкам — жидким зарослям из молодых березок и ивняка. От посадок исходил кислый хлебный запах — такой же, как в те дни, когда бабушка замешивала тесто на хлеб. Самогон дедушка гнал вечером, в фуфайке и ушанке, иногда даже с опущенными ушами. Сам аппарат казался мне маленьким сопящим чудовищем, горячим на ощупь, с длинным носом, замазанным хлебным мякишем, и из носа у этого чудовища все время что-то медленно капало — в бутылку. Вечером над землей скапливался туман, и к нему примешивался дым от аппарата, постепенно превращаясь в такое же природное явление.
Дедушка никогда не целовал меня, не брал на руки и не гладил по головке. И даже не разговаривал. Он просто любил меня. Он был со мной почтителен, как с маленькой иностранкой из далекой незнакомой страны, куда уехал его старший сын Иван.
Знаете, можно сказать, что семья у моего дедушки была настоящая «итальянская». С бурными бабушкиными разборками, ее упоенными истериками, которые опустошали дедушку, но при этом щеки его жены покрывались румянцем, глаза счастливо блестели, словно после роскошной любовной ночи — видно, не хватало ей таких ночей — поцарствовать за выцветшей ситцевой занавеской, под черным блестящим дедушкиным ружьем на стене, грозным, как мужское предупреждение. В поведении бабушки всегда был вызов, иногда по-деревенски безыскусный, и со стороны, может быть даже, некрасивый, похабный. Но все же это был вызов Кармен, язык страсти, который многие мужчины и по сию пору воспринимают как бытовую распущенность. Но поскольку дедушка и бабушка не были моими родителями, их семейная трагедия меня не касалась. И вот каталась я меж ними как наливное яблочко и проживала деревенское лето счастливо, наращивая щеки.
А дедушка тихо работал: обходил свой участок, обстукивая рельсы, и возвращался обратно. Наверняка, работа его была гораздо тяжелее, особенно в непогоду и в другие времена года, но мне она казалась блаженной прогулкой.
Я выросла на железной дороге — но не той, где громыхают множественные составы и переговариваются по радио диспетчера. На моей железной дороге было почти всегда тихо. С обеих сторон обступал лес. Стрекотали кузнечики, птички садились на теплые рельсы и, вспархивая, улетали. Юркие коричневые ящерицы переползали железку и, скатываясь вниз, рассыпались в траве, словно сухие комочки земли… Запах размягченного на жаре мазута призрачно парил в воздухе, мелко крошились под ногами старые шпалы, жестко и сухо хрустела под ногами белесая галька. Гулко, словно подземные часы, постукивали рельсы. Это означало, что скоро здесь проедет поезд, обдав меня, стоящую в сторонке, лавиной звука…
Но Криволес был для меня не просто названием полустанка или деревни. Это было существо по-настоящему одушевленное, которое — в том я была уверена! — обитало где-то в лесу и порою подавало мне пугающие знаки. Теперь я понимаю, что дело было в моем возрасте — именно в три-пять лет начинает бурно формироваться детская психика, впитывая в себя всю сложность этой жизни. Отсюда — необъяснимые детские страхи, ночные кошмары. Я была маленькая, слабенькая и счастливая. А Криволес был огромный, сильный и, не то чтобы злой… но все равно — страшный. И многие люди в своих поступках были похожи на Криволеса, все, кроме дедушки. Он был единственным для меня человеком, который не дружил с Криволесом. Все плохое и непонятное вокруг меня я сваливала на это невидимое чудовище, а все хорошее было дедушкиным воплощением.
Больше всех «криволесничала» моя бабушка, не стесняясь поднять юбку и показать голый зад какой-нибудь своей обидчице. Точно так же, бесстыдно — стоя, как большое животное — она могла справить малую нужду, провожая коров на пастбище. Тогда меня это ужасно шокировало, но сейчас я думаю, что в то время точно так же поступали и самые писаные деревенские красавицы. И это не мешало парням их романтизировать. Ведь были же у средневековых дам, воспетых рыцарями, коробочки для ловли блох…
Диковатые привычки Криволесцев, не только взрослых, но и детей, казались мне непонятными. Девочка Тоня, из семьи, временно занимавшей вторую квартиру в нашем доме на полустанке, однажды в шутку чуть не защекотала меня до смерти, когда мы гуляли по железке. Мы, бывало, ходили с ней за грибами в ближайший лесок: завидев гриб, Тонька обычно ложилась на него всем телом и истошно орала, что это ее гриб и больше ничей. Ее мама и моя бабушка однажды чуть не закололи друг друга вилами, передвигая туда-сюда маленькую копенку, которая, как утверждала бабушка, залезла на их территорию. Самым последним и решающим аргументом была задранная бабушкина юбка, и бабушка сразу же победила.
У нас с Тонькой много чего произошло за то лето. Однажды мы пошли в деревню на пруд: Тонька поскользнулась на мостках и свалилась в воду, а я стояла как парализованная, не в силах ни помочь ей, ни позвать на помощь. Слава богу, Тонька выбралась из воды и с ревом понеслась домой. А в другой раз нас впустили в дом, где умирал старик. У него уже была агония, а потом он замер, словно превратился в глиняную фигурку. Мы с Тонькой испугались и убежали, и тогда мне казалось, что за нами гонится сам Криволес.
Но детство, солнце и лето делали свое благое дело, мы быстро забывали обо всем плохом и непонятном.
Но это плохое и непонятное все равно время от времени выскакивало, как черт из табакерки, напоминая, что жизнь прекрасна и уродлива одновременно, но особенно все же, говорю вам я теперь, — прекрасна. Помню, как, блуждая по пригоркам, я приметила в высокой траве две полураздетых человеческих фигурки. Это были мужчина и женщина. И они, как мне показалось, мучили друг друга, одновременно наслаждаясь этим. Они были как одно двуглавое существо, очень похожее на Криволеса, наверно, — и я бежала прочь так долго, как могла…
Как быстро забывают взрослые, что детство — это не только счастливое, но и опасное, страшное время, когда можно искалечить ребенка, превратив его в маленького старичка. Слава богу, что у меня был дедушка Федор, вечно занятой, молчаливо возившийся во дворе, в шляпе пчеловода фимиамно осенявший улья дымом, укрывши лицо за специальной сеткой… Дедушка Федор, колющий дрова, чинящий изгородь, копающий картошку, носящий ведра для бани, долго моющийся под рукомойником, чтобы войти в дом чистым и заснуть днем на полу, на тканых половиках, — всем своим существованием радевший о моей детской душе дедушка.
Я помню, как гнобила его бабушка, уже старого, семидесятилетнего, выкрикивая грязные слова в сторону своей обидчицы, с которой дедушка якобы изменил ей. «Что ж ты, старая, у тебя уж из носа кишки идуть, а ты все туда же», — сплевывая семечки и вылезши по пояс из окна, кричала бабушка, когда перрон был полон народу. Я тогда уже была студенткой и читала английские книжки, забравшись на гудроновую крышу дедушкиной мастерской, подстелив каньовое одеялко. К тому времени я уже отстранилась от дедушки, мне более не нужна была его поддержка, и бабушкины выкрики не заставили меня слезть с крыши и пожалеть его, даже если он ничего и не слышал. Но я-то слышала…
…Дедушка угасал в Рославльской больнице долго и тихо, без жалоб, даже не призывая детей к смертному одру. Дети, все пятеро, появились лишь тогда, когда стало ясно, что дедушка действительно умирает. И он умер, успев поблагодарить детей за сочувствие, и гроб с его телом отвезли домой на дрезине… Говорят, в тот день из орешника возле полустанка слышался долгий и протяжный вой, словно не человеческий, а животный… Думается, это было чудище Криволес, которое тоже оплакивало дедушку.
Память как вино. Требуется многолетняя выдержка, чтобы события наполнились нужным градусом, предоставив нам богатый букет послевкусия. Сколько такого вина хранится в погребах нашей памяти! И у каждого — свой, неповторимый сорт… Также я знаю, что мой Криволес — неповторим. Он — языческое чудище, которое я сама выдумала. Выдумала и никому не рассказывала, даже дедушке, но он и без слов понимал меня. Он и сам вел свою собственную битву со злом, скромный деревенский рыцарь без доспехов. Он выхаживал по своей железке, словно по волшебному коридору, где царили законы, неподвластные Криволесу. У кого-то есть волшебная комната, как в Сталкере Тарковского, у кого-то — неприкасаемая тропинка, как в «Охоте на Динозавров» Брэдбери. Кто-то стучит в бубен или совершает омовение в водах Ганга. У кого-то хватает в сердце собственной веры, а у других она быстро кончается, когда сомнение дает щели в душе, и вера вытекает из нее, сколько бы ты ни ходил в храм.
И разве умирать страшно? Если найден свой, волшебный коридор?
Еще не раскупорены бутылки, не перебродило вино памяти моих детей. И я хочу обязательно при этом присутствовать…
Донна Красота
…Донна оправила розовую, в мелкий цветочек, с аккуратным круглым воротничком, кофту, заново перевязала светлую косынку и запустила руку в белый тряпичный мешочек из-под муки, лежавший у нее на коленках. Загребла горсть ребристых серо-белых, припорошенных белой пылью семечек и принялась за любимое свое занятие. Когда она сплёвывала шелуху, та отлетала вниз, подхваченная воздушным потоком, и тогда в небе появлялся крошечный как игрушка ангел с соломенным веником и с шелестом принимался мести шелуху. Каждый всплеск его веника сопровождался волшебным превращением: не шелуха уже, а черные грачики, свистя крыльями, резко устремлялись, в сторону земли.
Когда строгий, с лицом похожим на мамино, ангел-хранитель прилетел, чтобы вознести Доннну на небо, та попросила: «не оставляй меня без семечек».
«Где они?» спросил Ангел.
«Там, в кладовке, на полке, где крупы лежат. Только не разбей варенье, не обижай».
Ангел пожал плечами и, чуть не натолкнувшись на растущую в комнате березу и обойдя ее, исчез в кладовке. Он долго возился там, пока не вернулся с заветным мешочком.
«Ты бы сметанки совхозной отведал», предложила Донна, то ли из ласковости, то ли пытаясь оттянуть момент прощания с домом. — «А то жалко ведь. Прокиснет».
Ангел снова пожал плечами и подхватил было Донну, но та сказала:
«Погоди. Носки возьми шерстяные. Холодно мне».
«Где же твои туфли, Донна?» спросил ангел.
«Солдаты с крыльца украли. Тут рядом военная часть. Теперь уж они для себя всю картошку выкопают. Некстати я померла. Лучше б к зиме…»
…И вот так, как просилось ее душе — с семечками и парой прошлогодних носков, еще пахнущих овцами, Донна вознеслась на небо.
…Через сорок дней прилетели грачики, сели на дырявую крышу дома, сквозь которую проросла береза, на дырявую крышу в золотых заплатках опавших листьев, погуляли грачики по крыше, постучали серыми ребристыми клювами по старой серой дранке, слетали на кладбище, избегая местных ворон с той же опаской, с какой слабоумная Донна сторонилась людей — а потом улетели в лес, смешавшись с другими птицами. И в тот же самый момент сидевшая на облаке близ Эдема Донна обнаружила, что семечек в ее волшебном мешочке не убавилось, а прибавилось…
«Я туда не пойду», твердо сказала я. — «Как с сумасшедшей разговаривать?»
«Тебе нужен участок или нет?» — Олег насупил брови, но уверенности это ему не прибавило. Он кинул взгляд на нашу белую, уткнувшуюся носом в ольховый ствол «Ниву»: отрываясь на ветру, сережки целыми гроздьями с мягким стуком падали на капот.
«Я не пойду», — снова повторила я, прижав к груди сумку. — «Ты иди, иди».
Олег потоптался на шатком крыльце, а потом открыл дверь и вошел в дом. Дверь спружинила и громко хлопнула, и из дерматиновой дырявой обивки выпал кусок сваленой ваты. От сквозняка шевельнулись на окне занавески, форточка заметалась, и я увидела старую худощавую девицу — в белом деревенском платочке, из-под которого проглядывал русый, рассеченный прямым пробором полумесяц волос. Белые морщинки на загорелом лице, как на старом пергаменте, запечатлели все эмоции, накопленные за долгую жизнь, в которых уже было не разобраться.
Чтобы не торчать под окнами, я вернулась и села в машину. Дверь оставила открытой, закурила. «Здесь так тихо…» — подумала я. — «Прямо на территории лесничества, хорошо…»
…потом услышала: «…Проснись, нас обокрали» и открыла глаза.
«А? Что? Ты уже?»
Олег сел в машину, кинул барсетку на заднее сиденье и нервно завел машину.
Я же говорила — нечего было вязаться с сумасшедшей…
На выезде из лесничества бока машины снова обтирали еловые ветки — такой узкой была дорога. Пока мы валандались с этой чокнутой, одна створка ворот — с табличкой «Фаустово» — успела захлопнуться от ветра, и Олегу пришлось выходить из машины.
Потом он сел обратно, вытащил из кармана сигареты, закурил. Створка ворот опять начала болтаться, грозясь захлопнуться.
«Черт», — Олег выбросил сигарету в окошко и выехал из лесничества.
«В магазин заедем? Я пить хочу», — попросила я.
Олег молча кивнул.
«Донна, блин… Вот попали», — процедил он.
«Донна?» переспросила я.
«Да тетка эта придурочная. Я к ней «бабушка», а она мне — «я Донна, мил человек».
Я хмыкнула. — «Она на бабушку действительно не тянет».
«А кто она по-твоему — дедушка что ли?»
«Она девица. Мне почему-то кажется».
«А мне по барабану. Я уже председателю залог дал».
«А что ты злишься? Кто тебя просил? Нужно было сначала с ней договариваться».
«Кто меня просил, кто меня просил… Ты меня просила».
«Я тебя просила дом в деревне, а не в роще за забором».
«А…»
«Очень информативный вообще разговор получается. Она тебе отказала?»
«Да, да. Отказала. Как не дала, блин. Девица твоя».
Я фыркнула: «Не пошли, а».
«Слушай, не зли, а? У тебя что, женская солидарность?»
«Да никакая не солидарность. Просто ты меня достал со своими блатными подходами».
«Слушай, вот шла бы сама и разговаривала. Эта тетка вела себя прямо как какая-то героиня рыцарского романа. Может, мне еще на колени надо было перед ней упасть?»
Я тихо смеюсь:
«Ну, ты же у нас деловой человек, мог бы и подыграть за такие деньги, которые, правда, не ей достанутся. Слушай, а почему Донна?»
«Прикинь, да? Живет такая себе тетка, сквозь дом береза проросла — ау, ты вообще заметила, что у тебя сквозь дом береза проросла? Да она больная».
«Да тебя и предупреждали».
«Да знаю, знаю. Но это же убойная сила для моего интеллекта. Я ей говорю: давайте мы вас подлечим, что ли. К доктору и все такое. А она мне: «Что? К доктору Фаусту?»
«Ха-ха-ха, — это я смеюсь. — Так и сказала? К доктору Фаусту?»
«Так и сказала. Я понимаю, что у них тут Фаустово. Про это, я понимаю, она в курсе. Но она что, и Гете читала?»
«Да, действительно. Слушай, а правда… А почему Фаустово вообще?»
«А кто его знает. Может, когда-нибудь жил тут какой-нибудь умник-помещик, Гете любил ну ОЧЕНЬ сильно».
«Без комментариев».
«Ну, не Гете же тут жил… И уж точно не Фауст…» — уже как-то неуверенно протянул Олег.
Потом мы долго молчали. Потом подъехали к магазину, купили теплой колы. А потом до самой Москвы снова молчали.
…Олег пощелкал фотиком фаустовскую природу и распечатал картинки для моей бабушки. Та поцокала языком и сказала: «Красота… Какие места! Красота…»
Олег хмыкнул.
Я сурово наморщила носик.
Бабушка у меня вся бледная телом, только ладошки розовые. Бабушка говорит, что это от гипертонии, но у нее правда нежные, гладкие как у девочки руки. Она у меня полная и царственная, и мы купили ей стул с королевской обивкой, большой такой стул, чтобы она вся на нем умещалась. Она мечтает дожить до дачи, поэтому я и ввязалась с Олегом в эту фаустовскую авантюру.
Но получается так: чтобы ублажить одну бабушку, другую нужно сгнобить, и меня это напрягает. Из того факта, что эта Донна так упирается и не хочет переезжать в однокомнатную квартиру в Белозерске, упирается прямо руками и ногами, я делаю вывод, что для нее это практически смертельно.
Я гоню Олега домой и, поцеловав перед сном бабушку, отправляюсь в свою комнату. Мне снится короткий сон: я представляю себе: Олег-злодей пытается выпроводить Донну из ее дома, а та хватается за березу и кричит: «Женька! Женька!» Женька это я. Меня так назвали в честь дедушки, он погиб на войне.
Я резко сажусь в кровати и долго не могу заснуть, щелкаю выключателем ночника: светло, темно… светло, темно… Ладно, все-таки темно и надо спать.
«Ну вот, видишь? Всё само собой решилось…» — говорит Олег и деловито оглядывает убогую комнату, посреди которой как елка на новогоднем празднике (а с чем еще сравнить) стоит береза с аккуратно обрубленными сучками. По низу вокруг ствола мягкой цветастой кочкой обвит половичок.
Я смотрю наверх — как она жила тут зимой, это же никакой печкой не протопишь.
«Я ей, между прочим, в сенях деньги оставил», — говорит Олег. — «Может, хоть на них и похоронили…»
Мы начинаем разбираться. Олег привез зеленые мешки для мусора — такие, вроде как плетение рогожкой, но на самом деле синтетика. У Донны… Да что это я заладила… Хозяйку звали Галиной, имя у нее есть. У Галины нет родственников, но Олег оплатил трехгодовую страховку на тот случай, если вдруг кто объявится и можно будет у них отсудить. Не дом, конечно, а землю. Двадцать соток девственной рощи с маленьким огородиком — помножьте на две тысячи долларов, «это копейки», говорит Олег, и я понимаю, что на фоне реальных цен это действительно копейки.
Я выгребаю из сундука какие-то тряпочки, тряпочки, ленточки, полотенца, старомодные кофточки: все глаженое, но пахнет сыростью.
«О, смотри — литература», — Олег выкладывает с этажерки на кровать книжки. — «Вот тебе Пушкин и Лермонтов с «ятями», между прочим, ого… «Бауер Э., Франке А. Переплетное ремесло 1913 год»… По приколу, во бабка, а? Хмелевская — раз, два, три… Слушай, она Хмелевскую читала. Ты можешь себе представить, как она тут смеялась? Читая Хмелевскую?»
«Слушай, поимей совесть», говорю я из угла, зло взмахивая рукой и запутываюсь в паутине — паутина тоже сырая, тут все пропахло сыростью, не успевая просохнуть даже за долгое лето. Паучок попал между пальцев и нервно побежал вверх по руке.
«Убей — это ж к письму, к хорошей новости», — советует Олег. — «Ты же чтишь традиции».
Я беру паучка двумя пальцами и выношу на улицу, оставляю на скамейке.
«Могла бы и на березу его посадить, не выходя из дома», — говорит Олег, когда я снова возвращаюсь к сундуку. — «Слушай, а это ведь хорошая, здоровая на голову русская традиция — выращивать в избах березы, как считаешь? Опять же на Троицу все как положено — дом украшен по определению. Ну и, опять же, банька… венички свежие…»
«Слушай, а как ты относишься к матерным словам?» — говорю я, не оборачиваясь.
«А что? Послать хочешь?»
«Трехэтажным…»
«Слушай, а давай разовьем эту тему, а?» — Скрипят пружины, я оглядываюсь и вижу, что Олег присел на кровать. Вид, на самом деле, у него расстроенный. Я знаю, что чем он дурнее — тем больше расстроен. Он берет из рюкзака отвертки и начинает развинчивать кровать. Перекрестившись, пока он не видит, я начинаю засовывать в мешки хлам из сундука. Дно сундука обнажается, и я даже не удивляюсь, обнаружив толстую пачку писем, перевязанных красной ленточкой. Такие письма — треугольные вперемешку с обычными, в конвертах, хранятся во многих семьях — у кого пачка потолще, у кого совсем тоненькая, если сразу убили. А у Донны — толстая пачка, сантиметров двадцать надежды, примерно столько же, сколько было у моей бабушки…
«Если бы у нее был муж, то есть, если бы он вернулся, она вряд ли бы так жила, как думаешь?» спрашиваю я Олега, уже примостившись на полу и развязывая ленточку на письмах. Олег молча кивает.
«Мы же не можем это выбросить? Может, хоть какие родственники найдутся?»
Олег снова кивает. Ну да, страховка же оплачена.
Я открываю первое письмо и читаю. Первое письмо, потом второе, и уже начинаю хлюпать носом. Олег молча вытаскивает части разобранной кровати на улицу, потом возвращается и начинает развинчивать этажерку.
«А знаешь, почему она сказала тебе, что она Донна?» победно говорю я. Олег молча поднимает голову: «Ну?»
«Потому что каждое письмо начинается Здравствуй, дорогая моя Донна Красота. Так что никакая она не сумасшедшая. Она просто несчастная. И он все время подписывается Твой Навеки. И вообще ничего про войну, а только про любовь».
Олег снова молча кивает. Один ржавый болт не поддается, и Олег кладет этажерку на бок, надавливает ногой — с глухим звяком этажерка рассыпается сама. Олег засовывает металлический хлам в мешок и идет с ним к дверям: «Пойду на свалку отвезу. Остальное сожжем во дворе, как думаешь?»
Я слышу, как он гремит на улице рукомойником, снимая его с гвоздя, как закидывает в прицеп металлолом из дома и со двора. Я высовываюсь в окно и кричу: «А как ты думаешь, тут бомбили?»
«Что?» переспрашивает Олег, садясь в машину.
«Тут бомбили? Ну, немцы?»
«Не знаю», — он пожимает плечами. — «Тридцать километров всего до Москвы. Не знаю. У меня по истории тройка была».
…Когда он возвращается минут через сорок, начинает накрапывать дождь, но я жду его у ворот:
«Нет, тут не бомбили».
Олег опускает окно:
«Понятно. Проехать можно?»
Я отхожу в сторону. Он медленно ведет машину, а я иду рядом и повторяю:
«Нет, тут не бомбили. Это они вдвоем посадили эту рощу, понимаешь? То есть они хотели тут жить и стариться вместе с березами».
Потом я молча иду, а он молча едет. И потом мы вместе заходим в дом. Олег набивает мешки старой одеждой Донны, начинает разламывать шкаф и вытаскивает все это на улицу. Я читаю, а Олег разводит во дворе костер, время от времени возвращаясь сюда, чтобы забрать лавку, потом стол, растоптанную обувь, потом проходится по полу веником, наметая труху в совок и высыпая ее в целлофановый пакет. Он бросает в огонь полусгнившие рулоны рубероида, остатки поленницы. Уже начинает темнеть, но, кажется, за сегодня он все успеет. Я уже не могу разглядеть буквы и начинаю сгребать письма — конверты и треугольники: нужно перевязать их красной ленточкой и увезти их отсюда. Из одного конверта выпадает фотография — наконец-то он прислал ее Донне. Я беру фотографию, выхожу с ней на улицу. Я стою возле костра и смотрю на возлюбленного Донны.
«Это он?» спрашивает Олег, кивая в сторону фотографии. — «Кудрявый какой. И на Георга Отца похож. Что ты молчишь?» Он берет из моих рук фото и читает на обороте: «Дорогой Донне от Женьки».
«Женька, а…» — произносит Олег.
И я говорю ему, что у моей бабушки есть точно такая же фотография — эта, и еще много других, более ранних, довоенных…
…В начале октября Олег посадил в машину меня и троих своих друзей, и мы поехали в Фаустово. Они разобрали крышу, дом, они освободили березу от старого, прогнившего деревянного панциря, предоставив ей возможность дожить свой век столько, сколько Бог даст. Они сожгли все доски, все, что осталось — расчистили вокруг всю территорию, а потом мы все, даже Олег немножко, выпили водки и плотно закусили.
Мы уехали в Москву, к бабушке, покинули навсегда купленную нами маленькую березовую рощу — потому что все в этой жизни должно быть по-человечески…
Стеклянный Человек
Название пришло из фильма "Амели", вы не смотрели? Это такой волшебный французский фильм про девушку, которая без конца мечтает о чуде. Она такая чистая и добрая, она же не видит себя со стороны, но я вам скажу: она сама и есть настоящая фея, чудо. У Амели в комнате смешные говорящие картины, которые комментируют ее прошедший день. У Амели есть папа, который поставил в садике деревянного гнома в крашеных деревянных штанах и кофте. Папа Амели мечтает путешествовать, но уже не может себе этого позволить, и однажды Амели отправила гнома путешествовать, и он присылал папе открытки со всех столиц мира. Амели все время грезит наяву и наперед думает о людях только хорошее.
Еще у Амели был знакомый старик — «стеклянный человек», мсье Дюфель, старик с хрупкими как стекло костями и очень мудрый.
А у меня тоже есть свой «стеклянный человек»…
Моя бывшая соседка Татьяна Петровна с самого начала была не какая-то вам тетка в фартуке, с которой сталкиваешься на лестничной клетке и обмениваешься здрасьте-здрасьте. Татьяна Петровна — или Т.П — стала самой что ни на есть достопримечательностью моей жизни лет двадцать назад, хотя раньше была недосягаема. Ее муж, Юрий Петрович, высокий рыжебородый человек с блестящими залысинами и глазами, как у печального сталкера, казалось, все время пребывает в своей волшебной комнате. Однажды я пошла выбрасывать мусор и увидела, как Юрий Петрович и какой-то лысый мужчина выкатывают из лифта огромный, черный, в серебристых прожилках камень. Захлопнув дверь лифта, Юрий Петрович поздоровался со мной, дал лысому деньги, и тот ушел.
«Таксист», — пояснил Юрий Петрович.
«Красивый камень», сказала я. Юрий Петрович кивнул, устало улыбнулся, расстегнул плащ. На его потном лбу выступили синие жилки. Юрий Петрович перчаткой смахнул с камня капельки дождя, сел на него, вытащил из кармана сигареты. Закурил.
«Да, вот, красивый камень», вторил он. «Отдохну немного, а то жена испугается».
«Что камень принесли?»
«Да нет. Испугается не то, что камень, а то, что принес».
«Понятно», сказала я. Потом, извинившись, отошла выбросить мусор. Вернулась обратно, поставило пустое ведро возле своей двери.
«Да вы присаживайтесь», предложил мне Юрий Петрович. Я робко подошла, тоже присела на камень.
«Здорово», сказала я.
«Да», довольно улыбнулся Юрий Петрович. — «Я собираю камни. Этот — самый большой в моей жизни».
Очень скоро из квартиры выглянула Татьяна Петровна. Увидев камень, она очень рассердилась на мужа и в этот момент вовсе не была похожа на человека, который мог бы стать достопримечательностью хоть чьей-то жизни.
Потом мой муж помог закатить им камень в квартиру, а через пять дней, возвращаясь из магазина, я увидела возле их дверей прислоненную к стене крышку гроба. Рыжебородый человек умер, и я в тот день я была самой несчастной на свете…
Вот такой ценой мы заполучили в друзья Татьяну Петровну…
А потом мы переехали, переехала и Татьяна Петровна, поменяв двухкомнатную квартиру на однокомнатную, умудрившись чудесным образом восстановить в новом доме дух своих предков. Все то же роскошное бюро от ее дедушки, высотой с человеческий рост, с башенками, этажами, нишами, дверцами… На полочках — мраморное пресс-папье, статуэтки, безделушки, свезенные со всего мира. К столешнице просто так не подобраться — потому что она закрыта деревянной шторкой. Чтобы открыть шторку, нужно вставить ключик. Шторка поднимается, играет волшебная музыка… А внутри — снова всякие полочки, ящички, закуточки. Будь я крошечным человечком, то заблудилась бы и канула в этом бюро — и через сто лет, может быть, нашли бы мой крошечный засохший скелетик…
Татьяна Петровна — мой «стеклянный человек». Человек с хрупкими как стекло костями и очень мудрая. Прежде, будучи молодой, Татьяна Петровна ездила с мужем в геологические экспедиции, обколесила весь Союз. И отовсюду они привозили камни. В старинном стеклянном шкафу у Т.П. выложена коллекция камней и ракушек, и между ними — череп. А в коридоре лежит огромный камень, убивший Юрия Петровича — тот самый, который он выкатил из лифта вместе с таксистом много лет назад. Моя дружба с Ю.П. продолжалась всего каких-то пятнадцать минут, он ушел, а камень остался. Почему не наоборот? Татьяне Петровне остался камень, но он ей не нужен, ей нужен муж.
В доме Т.П. — множество старинных вещей — что-то ей досталось от родителей, а что-то, в основном мебель, Юрий Петрович притащил с помоек Старого Арбата и отреставрировал. Дефекты на старых вещах — это как морщины. Взять хотя бы трещину на корпусе старого офицерского компаса или, например, дырку в черепе — сразу видно, что человек прожил бурную жизнь. Или уж, скорее, умер бурной смертью.
«Я знаю, почему вы меня любите», — смеется Татьяна Петровна, — «потому что я — антиквариат».
Иногда, если не забывает, Т.П. поздравляет меня с днем рождения. Дарит старинную открытку, или монету в один франк в виде медальона на кожаном шнурке, крошечный голландский кораблик, и даже треснувшее пресс-папье с бронзовой, инкрустированной янтарем ручкой. Я тоже, если не забуду, поздравляю Т.П. с ее днями рождения, просто покупая подарки в магазине.
Татьяна Петровна — мой стеклянный человек. Ах, если б я была старушкой, то позвала бы ее жить в домике на дереве — как в «Луговой Арфе» Трумэна Капотэ. Но пока я не могу себе этого позволить, потому что еще не поставила детей на ноги. Впрочем, я не спрашивала мнение самой Т.П., насчет того, чтобы поселиться над землей. А как было бы здорово забираться в этот домик на дереве, сидеть и пить чай с круассанами или черными сухариками. (Правда, неизвестно, хватит ли нам денег решить проблему с зубными протезами). И вот, мы будем сидеть в этом домике, по крыше будет стучать дятел — до тех пор, пока не продолбит смотровое окошко, чтобы увидеть и изумиться, как интеллигентно мы проводим время. Внизу открывается изумительный вид на поляну. Возле нашего дерева трава примята — иногда сюда приходят люди с корзинками для пикника: они расстилают тканевые покрывала — в стороне от выступающих из земли корней и все же так, чтобы не оказываться на солнце. Они тихо переговариваются, мужчины и женщины в белых хлопковых одеждах и соломенных шляпах, широких, словно гонги, а у женщин шляпы схвачены под подбородком нежными атласными лентами. И они приспускают плечи своих широких одежд, и тень листвы скользит по их голым рукам, словно ожившие татуировки. Но иногда под деревом отдыхают дикие кабаны, и от них исходит тяжелый, тошнотворный дух. Они роют себе неглубокие ямки и спят на боку, и шкура их подергивается, отпугивая назойливых насекомых… И я тогда вспоминаю что-то тяжелое из своей жизни, но совсем чуть-чуть, смутно — потому что животные спят, они не агрессивны, как и моя старость. И, то ли напуганные моими воспоминаниями, то ли оттого, что трава теперь разворочена, сюда потом долго не приходят люди. И все же: ах, скорее бы стать старушкой, чтобы настало это волшебное время безмятежных разговоров, когда все долги перед людьми уже выполнены, деньги заработаны, итоги подведены.
Но я знаю: к тому времени, когда я стану старушкой, Т.П. уже не будет на этом свете, а найти себе подругу для столь необычного времяпрепровождения почти невозможно. Это чудо, что я вообще встретила в жизни Татьяну Петровну, своего «стеклянного человека».
У Т.П. есть подруга Ася, они дружат с первого класса и сидели за одной партой. Иногда я смотрю на Асю, сощурив глаза, пытаясь убрать морщины на ее лице и представить, какая она была в юности, девочка с косой. Ася говорит бойко и смешливо, иногда делая непроизвольное движение головой, словно забрасывая за спину косу, которой уже давно нет. И только на пороге, уже прощаясь, Ася сникает, потому что было от чего устать: ее сын спился и в тридцать лет умер возле подъезда, ударившись головой о тротуар. Как у такой прекрасной женщины мог спиться сын — мне совершенно непонятно, с этим невозможно жить, ведь мать всегда чувствует себя виноватой. Так и я боюсь за своего сына и уже заранее не хочу, чтобы он жил со мною и чтобы я кормила его лапшей с курицей, когда он будет приходить домой с работы. Уж лучше быть тещей и покупать кружевное постельное белье невестке и вместе с ней перемывать косточки своему сыночку, чем говорить ей слова, какие говорят некоторые тещи своим невесткам: «нет, милая, он тебя так не касается, как меня касался».
Татьяна Петровна понимает всех, народ к ней тянется. В том числе старый переводчик Максим, с которым она вместе работала. Максим широкоплеч, почти «качок», а когда встает из-за стола, оказывается человеком-коротышкой с маленькими как у женщины ножками, которые вполне влезают в розовые гостевые шлепанцы Т.П, ведь Татьяна Петровна — большой эстет даже по части гостевых шлепанец, у нее в коридоре их — полная корзина, и каждый выбирает что хочет.
Еще к Т.П. приходит Эмма.
Эмма интересуется проблемами бессмертия, философией отчаяния и одиночества, знает вдоль и поперек творческий путь Достоевского, Шестова, Киркегарда и Ницше. Короче, "корешится" с умершими и к тому же далеко не веселыми людьми. Делая, впрочем, исключение для Татьяны Петровны и еще нескольких избранных.
Есть у Т.П. и подруга Соня, ее сын Леша — художник, и он нарисовал огромный портрет Т.П. — в кресле на фоне стеклянного шкафа с камнями и черепом. Леша очень смешливый и во время работы любить покушать: может быть, поэтому на портрете Татьяна Петровна немного полнее, чем в жизни. Но даже если бы Леша был смурным, ему не удалось бы, добавив от себя, изобразить на лице Т.П. вселенскую тоску.
Когда от меня ушел муж, Татьяна Петровна — в назидание — подарила мне бусы из венецианского стекла. И поведала о прекрасной магии времени, возымевшей над ней силу, как бы она ни любила своего покойного мужа. Я смотрю на бусы — ни одна бусинка не повторяется, они все разные, и переливаются, словно сквозь них все время просвечивает солнце. Через бусы, как сквозная нить, как кровоток, проходит тоненький красный шнурок…

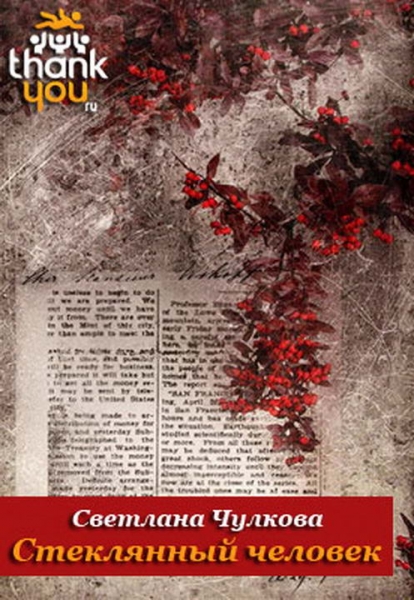
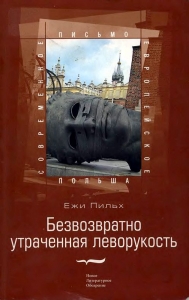








Комментарии к книге «Стеклянный человек», Светлана Ивановна Чулкова
Всего 0 комментариев