Борис Штейн Военно-эротический роман и другие истории
Ласковое слово «кая» —
Это по-латышски «чайка»
Потому и пьют так часто
В «Кайе» моряки.
Музыка в кафе такая,
Что никто не спросит чая.
Фирменное просят счастье —
В звездах коньяки.
Вот я приглашаю даму…
Мартын Зайцев
Они сидели за столиком, два молодых человека в расстегнутых черных тужурках с капитан-лейтенантскими погонами. Кафе гудело, как весенний улей. Сизыми облачками плавал сигаретный дым. Когда оркестр заводил тягучее и томное танго, зал погружался в полумрак, чтобы танцующие могли обниматься, тереться щеками и откровенно целоваться, не стесняясь нескромных взглядов. Атмосфера расслабленности и всеобщего флирта плюс хорошая отбивная под коньячок, плюс вызывающие взгляды «не охваченных» дам – это то, что было нужно обоим друзьям, вымотанным неделей доковых работ. С авральной выгрузкой боезапаса. С бесконечной чисткой бортов пневматическими машинками. С приборками и построениями на подъем флага. С разводами по работам. С инструктажем вахты. С приемками работ у заводских мастеров. Со спорами с заводскими контрагентами. С береговым гальюном, отнесенном метров за семьдесят от дока. С суточными планами. Планами работ. Планами утренних тренировок по борьбе за живучесть. С планами личной подготовки – по устройству корабля, по т. т. д. сил вероятного противника. С планами политзанятий. Куда без политзанятий? Никуда. С курением только на берегу, возле гальюна…
– Кстати, официант, сигареты, пожалуйста! «Легерос». Нет «Легероса»? Есть? Пожалуйста.
Официант движением фокусника извлек из кармана жилетки пачку крепчайших кубинских сигарет и аккуратно положил их на столик. Подождал, пока каждый из друзей пристроит в уголке рта «термоядерную торпеду команданто Фиделя»» и щелкнул зажигалкой.
– Прошу, товарищи офицеры!
Кайф.
Пошли колечки из дыма, медленно устремились вверх, расширяясь и растворяясь в общей дымовой завесе.
Молчали. О чем говорить? О службе? О службе давно было решено и не заикаться. Иначе – что это за отдых? Продолжение бесконечных совещаний, а не отдых. Но именно службой были наполнены их головы, в особенности, сейчас, во время среднего ремонта с докованием и модернизацией техники. Если бы за их столиком сидел кто-нибудь из непосвященных, из штатских-сухопутных, один из них непременно произнес бы для этого штатского с нарочитой грубостью: «У флотских офицеров существует три стадии опьянения. На первой стадии ругают начальство, на второй – говорят о женщинах, на третьей – об искусстве. Но я лично до третьей стадии никогда не допивался».
Однако за их столиком никто больше не сидел, и сливать флотский юмор было некому.
Одного из них звали Мартыном, а другого – Колей. Надо сказать, что этим паренькам подчинялось добрых три четверти личного состава грозного и изящного эскадренного миноносца: Мартын командовал артиллерийской боевой частью (БЧ-2), а Николай – электромеханической (БЧ-5). Фамилия Мартына была Зайцев, фамилия Николая – Волков. Название эскадренного миноносца – «Озаренный».
– Будь здоров, Коля – подняв широкую коньячную рюмку, сказал Мартын и посмотрел на механика сквозь стекло. Коньяк плескался на самом донышке. До краев его не наливают: не водка же!
Как в лучших домах…
– И ты будь здоров, Мартын, – ответил Коля и тоже посмотрел сквозь рюмочное стекло. Но взгляд его устремился вовсе не на артиллериста, а на соседний столик, вернее, на двух его обитательниц, и взгляд этот не остался незамеченным: женщины подняли свои бокалы, как бы мысленно чокаясь с офицерами. Улыбаясь.
«Кая» есть «Кая».
Тут уж Николаю не осталось ничего другого, как с первыми звуками очередного танца подняться с места и произвести необходимые приготовления к одиночному плаванию: стул задвинуть, галстук приструнить, тужурку застегнуть на все пуговицы. И едва его слегка мешковатая фигура отчалила от родного берега, женщина поднялась с надоевшего места, и рандеву состоялось в двух-трех шагах от ее столика.
Ее подруга посмотрела на Мартына и смешно развела руками: мол, вот я осталась не при делах, чего уж тут поделаешь! И так широко улыбнулась, так по-свойски! Улыбка у нее была такая обезоруживающая, что Мартын сдался немедленно, и через минуту уже танцевал с незнакомкой медленный танец в романтическом полумраке.
Света, однако, хватало, чтоб разглядеть ее лицо, большеротое и большеглазое, и разглядеть подвижность этого лица. Он разглядел. И ощутил
теплоту взгляда,
податливость талии,
нежность руки…
Ее грудь он не ощущал. Сквозь лацкан двубортной габардиновой тужурки – не ощущал.
Но представил…
Представил себе на горе…
Его словно обожгло кипятком – в жизни такого не случалось…
Словно обожгло кипятком, и все напряглось до неприличия.
И он отодвинулся.
Отодвинулся от девушки, чтобы она, не дай бог, не догадалась…
А она вдруг сказала с еле заметным латышским акцентом:
– Ну, зачем вы так? Не стесняйтесь.
И на мгновение прижалась к нему и щекой, и грудью, и всем, чем можно, ко всему, что можно и что нельзя.
И Мартын поднял белый флаг.
Продолжали вечер уже вчетвером. Девушки рассчитались со своим официантом и пересели к молодым людям. До закрытия кафе покидать его никто не собирался, как не уходят из театра до окончания спектакля.
Девушку, с которой началось это приятное знакомство, звали Ниной. Она была стройней и чуть выше соей подруги. Нина работала в музыкальной школе, где ее называли Ниной Васильевной. А девушку, с которой танцевал Мартын, звали Дзинтрой.
– Что-нибудь означает это имя? – спросил любознательный Мартын.
– Да. «Янтарь». Дзинтра означает «Янтарь».
И улыбнулась. Чем нанесла еще один сокрушительный удар по уже поверженному Мартыну.
Тут заскакал-запрыгал общий не слишком осмысленный разговор, в котором были шутки (порой неуклюжие) и комплименты (порой сомнительные), а больше ничего и не было. Во всяком случае, паузы заполнялись, а между танцами существовали все-таки паузы. И Мартыну в какой-то момент стало обидно, что Нину стали бесповоротно называть Ниночкой, а Дзинтра как была Дзинтрой, так Дзинтрой и осталась. И он спросил:
– А как ваше имя будет в ласкательной форме: Дзинтрочка?
Девушка засмеялась:
– Нет-нет. Латыши прибавляют «ня». Но по-русски это звучит некрасиво: «Дзинтриня».
Мартын не согласился:
– Кому некрасиво, а мне кажется, что красиво.
И тут же сочинил, переменив для смеха ударение:
– Дзинтра, Дзинтра, Дзинтриня, Обижаешь ты меня!Он был не чужд поэзии, Мартын Сергеевич Зайцев, один из последних рыцарей нарезной артиллерии! Не чужд, не чужд.
Все посмеялись, и Дзинтра – тоже. Потом вдруг стала серьезной, устремила взгляд огромных зеленых, как у ящерицы, глаз на рыжую, еще не тронутую лысиной шевелюру, заостренный нос, крапленый мелкими веснушками, светлокарие глаза, в которых прыгали веселые искорки.
И нетрезвый гул стих, прекратился.
Оркестр исчез.
Исчезли и многочисленные столики.
Элегантные официанты. Их словно бы и не существовало в природе.
Все стихло, деликатно удалилось, исчезло из поля зрения Мартына.
Остался только этот длящийся взгляд и потрясшая молодого человека фраза почти незнакомой девушки:
– Я тебя никогда не обижу, Мартын!
Теплая прибалтийская весна способствовала малознакомым влюбленным: погода не гнала в поздний час с улицы в помещение, позволяла не отвлекаться. Мартын несколько раз останавливался, чтобы поцеловать Дзинтру. Девушка с загадочной улыбкой подставляла теплые губы. После поцелуя лицо ее становилось еще загадочней, словно говорило: это – только маленькие секреты. До настоящей тайны еще далеко.
Понимал, понимал Мартын, что девушка тянется к человеческому знакомству, доброму разговорному общению, духовной близости. Понимал, но ничего не мог с собой поделать. Потому что кровь ударила в рыжую голову, и ему хотелось сразу всего. И когда, уже в подъезде ее дома он впился в теплые податливые губы и проворно расстегнул пуговицы летнего пальто, Дзинтра легко выскользнула из объятий и посмотрела на Мартына словно бы с удивлением. Его левая рука все же успела лечь на полную грудь, и теперь он смотрел даже не на Дзинтру, а на свою раскрытую ладонь, силясь понять, куда делось то теплое, что только что ее наполняло. Они стояли на расстоянии метра друг от друга, стараясь совладать с волнением, и нервно посмеивались – то ли друг над другом, то ли каждый над собой.
Наконец, Дзинтра спросила:
– Долго ли твой корабль еще будет ремонтироваться?
Мартын не мог ответить на этот вопрос. Во-первых, – военная тайна. Во-вторых, никто точно не знал, как пойдет дело. Поэтому Мартын только пожал плечами и пробормотал:
– Будет пока…
– Вот и хорошо, – обрадовалась Дзинтра. – Значит, у нас с тобой все еще впереди. Сейчас попрощаемся, И я буду тебя ждать. Найдешь меня, если захочешь. – Она достала из сумочки визитную карточку. – Здесь мои телефоны.
Мартын не возражал. Он был горячим парнем, но не бестактным, упаси Боже, и, тем более, не наглым, поэтому никогда не предпринимал атаки вопреки воле женщины. К тому же Мартын Зайцев был дисциплинированным офицером и не мог нарушить приказа командира корабля. А приказ был таков: При нахождении в чужих портах сходящие на берег офицеры должны возвращаться на корабль не позже часа ночи. Мартын тяжело вздохнул и стоял молча, опустив голову. Пылкий влюбленный, побежденный обстоятельствами.
Тут уж Дзинтра поставила последнюю точку в сегодняшнем вечере. Она сняла с Мартына фуражку, обняла кавалера за рыжую голову, языком раздвинула его губы и завела язык сначала за одну щеку ошалевшего от этой процедуры Мартына, потом – за другую. Бравый артиллерист понял, что его орудие главного калибра вышло из подчинения и начало самостоятельный поиск цели. Вдруг девушка опустила руку вниз, сжала на секунду боевой ствол и шепнула, обдав Мартына горячим дыханием:
– Береги это. Оно нам еще пригодится.
Оттолкнула от себя рыжего парня, нахлобучила на него фуражку и убежала вверх по лестнице.
Словно сквозь сон услышал Мартын, как отворилась и захлопнулась дверь, и прошло добрых пять минут, прежде чем он вышел из оцепенения. Взглянул на часы. Половина двенадцатого. Он еще успевал на последний автобус.
* * *
Эсминец назывался «Озаренным». И сам он был в то время озаренным Каким-то тайным инфрокрасным светом, Могучим светом счастья и любви…Катарина! – орали корабельные динамики принудительной трансляции, – Э-хэ-хэ! О-хо-хо!
Чушь какая, если вслушаться. Всегда по субботам, во время большой приборки, радисты гоняли эту дурацкую «Катарину». Слова удивляли неуклюжестью, мелодия и голос певца – непонятным телячьим восторгом. По палубе стремительно бежали струи забортной воды, направляемые приборочными шлангами, а на голову беспечной Катарины обрушивались струи теплого латиноамериканского дождя. И вот она на глазах у удивленной публики разулась, чтобы не испортить свои шиковые туфельки. Чем и исчерпывалась интрига незамысловатого сюжета. Финал был совсем неуодобоваримый:
– Босиком, так пошла Катарина!
Куда пошла, зачем пошла, и в чем, собственно дело? А ни в чем. Пошла себе! «Босиком, так пошла!» – восхищался жизнерадостный исполнитель. Кажется, это был Эдуард Хиль. Или Вадим Мулерман. Неважно. Дзинтра наверняка бы не перепутала. Она любила эстрадную музыку – и латышскую, и русскую. И узнавала исполнителей с первой ноты. Была бы Дзинтра рядом, Мартын бы растолковал ей нелепость текста, и они вместе бы посмеялись. Но Дзинтры рядом не было, к сожалению, и Мартыну оставалось общаться с теми, кто находился в непосредственной близости, то есть с матросами-приборщиками шкафутов и юта. Он с ними и общался.
– Старшина! – закричал он вдруг, – а подволоки, подволоки кто будет мыть? Пушкин?
Но негодования не было сегодня в его голосе, не было годами отработанных командирских раскатов грома.
– Сделаем, товарищ капитан-лейтенант! – весело отозвался старшина Кравчук, забрал у матроса шланг и направил струю вверх, на подволок.
А над палубой уже гремело:
– Над лодкой белый парус распущу — Пока не знаю с кем…«Ну, это уж точно Хиль!» – подумал Мартын и почему-то обрадовался. Да он всему радовался сегодня. Субботний день катился без помех и отклонений, как минная тележка по палубным рельсам. Большая приборка закончится за час до обеда. 55 минут уйдет на прием качества приборки по объектам. После обеда будет подведение итогов за неделю. После ужина – увольнение на берег личного состава, сход на берег офицеров, кино в 5–м кубрике и в офицерской кают-компании, личное время. Но Мартына на киносеансе в кают-компании не будет. У Мартына будет сегодня совсем другое кино, совсем другое! Старший матрос Серпов, должно быть, уже надраил пуговицы на форменной тужурке капитан-лейтенанта и отутюжил брюки. Старший матрос Серпов – приборщик каюты командира БЧ-2. По боевому расписанию он вертикальный наводчик первого зенитного орудия, а по расписанию по приборкам – приборщик каюты. Подобрать правильного приборщика своей каюты – дело непростое, но Мартын за пять лет офицерской службы в этом преуспел. Человек должен быть старательным, толковым, преданным и – не болтуном. Официально – приборщик, неофициально – плюс к тому и вестовой. Таким и был Вениамин Серпов, уроженец небольшого города с уютным названием Вышний Волочок.
Веня Серпов и прервал ход приятно текущих мыслей своего командира. Ловко увернувшись от струи воды, он подлетел к Мартыну – ладненький, в чистой робе, словно не с большой приборки, а с утреннего осмотра.
– Товарищ капитан-лейтенант, Вы сегодня заступаете в караул на гарнизонной гауптвахте! – доложил он. – Старпом ждет Вас у себя в каюте для инструктажа. Разрешите идти? Четко повернулся на мокрой палубе, приложив руку к берету, и начал обратное движение с левой ноги, опустив руку, отдававшую честь только до уровня бляхи.
Ну, просто все по уставу, – уныло подумал Мартын. Впрочем, нет, не все: положено сделать три строевых шага, и только потом двигаться вольно, Веня же перешел на бег несколько раньше. Потому что торопился начать подготовку к караульной службе теперь уже не тужурки, а кителя своего боевого командира.
Что-то сбилось в планах патрульной и караульной службы гарнизона, появились какие-то внезапные вводные у летчиков, в результате внеплановый караул выпал дивизиону ремонтирующихся кораблей, в дивизионе выбор пал на «Озаренный», а уж на «Озаренном» – на капитан-лейтенанта Мартына Зайцева.
Через четыре часа Мартын спускался по маршам докового трапа в начищенной форме, с пистолетом на правом бедре. За ним цепочкой следовали семь матросов, вооруженных автоматами – состав караула. Многообещающее свидание с Дзинтрой, к величайшему сожалению, откладывалось. Утешала только мысль о городском телефоне в комнате начальника караула. После приема караула можно будет позвонить любимой девушке, поговорить с ней, насладиться звуками ее голоса. Конечно, голос это не глаза не рот и не тело. Но это лучше, чем ничего. Глядя на ополовиненную бутылку коньяка, пессимист горюет, что полбутылки, увы, уже нет. Оптимист же радуется, что, ура, полбутылки еще осталось. Мартын старался быть оптимистом.
– Привет, авиация! – сказал капитан-лейтенант Зайцев, входя в комнату начальника караула.
– Привет, флот! – ответили ему. – Держи опись имущества.
Принимай, давай.
Мартын не в первый раз заступал здесь в караул, и опись эту знал, в сущности, наизусть. Однако, пробежал ее глазами и, дойдя до восьмого пункта, усмехнулся. Восьмым пунктом значилась «героика в рамке» – две штуки. Седьмой было «пирамида оружейная», а восьмой – «героика в рамке». На самом деле это были два плаката, нарисованных очень плохим художником. На первом плакате некий карикатурный враг коварно подкрадывался к охраняемому объекту, а часовой пока его не видел. На втором же плакате часовой в нарядном белом полушубке уже наставил автомат на распростертого на снегу злоумышленника, а на заднем плане спешила помощь в лице, надо полагать, разводящего и двух бойцов бодрствующей смены. Вот такая героика. В рамке. Имущество все оказалось в наличии, осталось принять арестованных согласно списку, занесенному в специальную книгу. Пошли по камерам. Общие камеры. Перекличка. Осмотр помещения. Чисто. Пусто. Следов курения нет. Сигаретами не пахнет. Вывернуть карманы. Спичек, бумажек нет. Жалобы? Жалоб нет. Одиночные камеры. Так. Старший матрос Фунтиков. Вытянулся, докладывает:
– Старший матрос Фунтиков. Арестован на десять суток комендантом гарнизона. Отбываю шестые сутки.
– За что арестован?
– За пьянство и нетактичное поведение в общественном месте.
– Как же это вас угораздило, старший матрос?
– Так получилось.
Уточнять Мартын не стал, чтобы не затягивать смену караула. В глазах сменяемого капитана читались тоска и нетерпение.
– Рядовой Карпов. Арестован за пьянство и дебош в общественном месте.
– Как же это вы, рядовой…
– Так получилось.
Это был универсальный ответ набедокуривших военнослужащих независимо от рода войск.
– Вы выпили бутылку водки в подворотне, отправились на вокзал, где приставали к женщинам, задирая у них юбки. Милиционеров ругали нецензурными словами и оказали сопротивление при задержании военным патрулем. Как вы можете объяснить…
– Так получилось.
Как бы само получилось, а я здесь не при чем.
– Старшина второй статьи Демурджан. Арестован на пятнадцать суток…
Смуглый, аккуратненький, глаза большие, выразительные, смотрит серьезно.
– За пьянство?
– Нет, за блядство.
– Что?!
Усталый капитан, старый начальник караула закивал успокоительно, мол, это не дерзость: так оно и есть. Но Мартын все же спросил:
– То есть, как?
– Я служу на тральщике. Радистом. Командир отделения радистов. Тральщик сейчас в ремонте. Радиорубка – мое заведование.
– Ну и что?
– Ну и я привел девушку. Она жила в радиорубке две недели.
– Как это жила?
– Жила. Еду я приносил с камбуза. В гальюн ходила в моей робе. Берет тоже мой надевала. Я сделал ей короткую стрижку. Я умею. Радисты обеспечивали. Никого не пускали в гальюн в это время, говорили – ремонт.
– Что вы еще умеете?
– Все. Я умелец. И радист первого класса.
Мартын молчал, обескураженный. Летный капитан только посмеивался: он уже слышал эту историю. И, словно радушный хозяин, угощал ею Мартына.
– И что, за все это вопиющее всего пятнадцать суток? – спросил Мартын.
– Не знаю, – спокойно ответил старшина второй статьи Демурджан. – Ко мне приходил военный дознаватель. Может быть, попаду под трибунал. Потому что родители моей девушки искали ее. А у них родственник в милиции какой-то начальник. Так что ее оперативно объявили во всесоюзный розыск. Она в рубке радио слушала, УКВ, услышала про розыск. Испугалась, побежала сдаваться. Без робы, в платье, ее и задержали на КПП.
– По моим скромным прикидкам два года дисбата светит тебе орел, как аэродромный прожектор.
Демурджан стал очень серьезным и заявил офицерам:
– За две недели счастья на боевом посту можно оттрубить два года дисбата.
Капитан-лейтенант Зайцев вдруг представил себе тесную радиорубку тральщика и раздетую девушку на узком рабочем столе перед пультами окрашенной в унылую шаровую краску аппаратуры. Кровь ударила в веснушчатое лицо, и он стремительно вышел из камеры, чтобы летчик не заметил, как покраснел мореплаватель. Остальные камеры осмотрели бегло, убеждаясь лишь в наличии арестованных.
* * *
Как стаи птиц, проносятся недели. Полощет ветер флаги кораблей. Но, черт возьми, в мужском здоровом теле До срока дремлет шалый дуралей. До срока дремлет, не дает сигнала. Как будто – нет. Как будто – неживой. Но час пробил, его пора настала, И он овладевает головой. Толкает нас и гонит, как на поезд И совесть в стойло загоняет впрок. Стремителен, как спринтер, и напорист, И жаден, и азартен, как игрок…Мартын Зайцев окончил мужскую среднюю школу и сразу поступил в военно-морское училище. Таким образом, простого общения с девочками и молодыми женщинами в его жизни не случалось. Что уж говорить о периоде корабельной службы! В нем, как и в тысячах его сверстников, всей окружающей жизнью был воспитан определенный аскетизм и убеждение, что плотское влечение является делом постыдным. А оно жило в нем, не смотря на это, и не думало утихомириваться. Особенно досаждало это непозволительное чувство в курсантские годы, на училищных танцевальных вечерах, куда приходили студентки из ленинградских институтов. Оно заставляло двадцатилетних девственников заправлять восставшую плоть под флотский ремень и держать ее в заточении несколько часов. Часто после таких вечеров, после напряженных дистанционных контактов Мартына посещали эротические сны, которых он, конечно стыдился. Стыдился сам перед собой. Напряженная офицерская служба в какой-то мере вытеснила из него не предусмотренную корабельным уставом дурь. В какой-то мере, не полностью. Не полностью, нет. Новая знакомая, соблазнительная латышская девушка, своей простодушной откровенностью словно бы открыла шлюзы, обрушив на его рыжую голову потоки – но не воды, а запретных чувств и горячечных мечтаний. Потому-то история арестованного радиста и произвела на Мартына такое непозволительно сильное впечатление.
Между тем, Мартын Зайцев был женат. Женился он по расчету. По незамысловатому курсантскому расчету. Расчет был такой: Офицерская служба трудна и однообразна. И нести эту службу женатому лучше, чем холостому. Жена рассматривалась, как станция размагничивания – и телесного, и душевного.
Из поколенья в поколенье передавалась в училище легенда о том, как некий выпускник вышел на Невский проспект, остановил незнакомую девушку и говорит:
– Девушка, меня направляют служить на Дальний Восток. Давайте поженимся и поедем вместе. Ленинградка окинула взглядом ладную курсантскую фигуру и неожиданно ответила:
– А поехали!
И они жили дружно и хорошо, и тот курсант, став офицером, преуспел по службе.
Многие однокашники Мартына старались к выпуску наладить отношения со студентками, с которыми знакомились на танцах. При строгом режиме нечастых увольнений в город это было не так-то просто. Некоторые иногда фланировали по Университетской набережной, возле, например, филологического факультета, надеясь на уличное знакомство: «Девушка, не скажете, сколько времени?» или «Как пройти на Невский? Вы тоже? Пойдемте вместе…» и т. д.
Мартын отмахивался от несерьезных мыслей, он нешуточно готовил себя к профессии, на стажировке исполнял обязанности старшины команды, участвовал в стрельбах, в том числе и призовых, много занимался. Командир БЧ-2, у которого он стажировался, сказал ему:
– Я мог бы зачесть вам стажировку даже без экзамена – за знания, которые вы обнаружили на практических стрельбах. Но я вижу в вас способности и хочу, чтобы вы стали в будущем не просто грамотным артиллеристом, а настоящим мастером. Мастером нарезной артиллерии, каковым, как вы знаете, сегодня считают меня. Поэтому я буду принимать у вас экзамен с пристрастием. Я буду гонять вас по системе ПУС. Теорию, практику и схемы взаимодействия приборов управления стрельбой потрудитесь выдолбать наизусть. Иначе я просто не поставлю вам зачета.
И Мартын долбал начинавшие устаревать ПУС, не досыпал, не ходил на берег, а когда запутывался в схемах, обращался к артиллерийскому командиру, и тот, не жалея времени, распутывал с ним трудные узлы. В хрущевскую эпоху разворота военной мысли от традиционных пушек к самонаводящимся ракетам молодой Мартын Зайцев готовился пополнить собой редеющие ряды асов нарезной артиллерии. Так что ему было не до глупостей.
И все-таки он женился. Он женился на спокойной девушке, выпускнице филфака, с которой познакомился на вечере в родном училище. Мартын пригласил ее на русский бальный, и они без задора, но и, не ленясь, проделали все необходимые притопы и повороты. Девушка удивляла невозмутимостью. Когда объявили «белый танец», она проплыла по залу, как корабль по проложенному курсу и, оказавшись лицом к лицу с Мартыном, слегка поклонилась. Девушке тоже предстояло распределение, и отправляться в одиночестве в захолустье ей не особенно улыбалось. Все родственники, начиная с мамы, убеждали ее, что замужество – такая же необходимая в жизни вещь, как университетский диплом. И убедили. И Лиза пошла на курсы бальных танцев, где выучила все, что разрешалось в то время танцевать. Русский бальный. Венгерский бальный. Падеспань. Пад-и-патенер. Вальс-гавот. Вальс-мазурка. Вальс. Не так уж мало. Все эти танцы отличались некоторой физкультурностью и отсутствием взаимного прикосновения. Но Лизе это было безразлично. Природа словно бы забыла разбудить в ней женское начало, и мужчины ее, в сущности, не интересовали. Однако жизненную программу нужно было выполнять. И она выполняла ее так же прилежно, как другие, освоенные ей программы: школьную и университетскую. Лиза всегда хорошо училась. И когда однажды, проводив Лизу до парадной, Мартын дисциплинированно испросил разрешение на поцелуй, Лиза поинтересовалась:
– Это нужно?
Мартын подтвердил:
– Да, нужно.
И Лиза спокойно разрешила:
– Целуй.
Они поженились за два месяца до окончания своих учебных заведений.
Первая брачная ночь явилась для обоих первым опытом сексуальной близости. Это происходило в Лизиной квартире. Ее мама ушла ночевать к сестре, оставив молодых наедине.
Мартын забрался в постель и, волнуясь, ждал свою первую женщину. Она скоро пришла, легла рядом. На ней была кружевная комбинация и бюстгальтер. Мартын никогда прежде не видел женщин в белье. Он обнял молодую жену, прижался к ней всем телом. Подумав, Лиза тоже обняла Мартына. Мартын схватил рукой свой горячий набухший член, им овладели сразу два чувства: отчаяние и стыд. Отчаяние – оттого, что вдруг оказалось: если он не воткнется немедленно в женщину, произойдет взрыв. Взорвется сам молодожен. Стыд оттого, что нужно было что-то непотребное делать с Лизой: снимать с нее трусы, раздвигать ноги… Но трусов на умной Лизе, к счастью, не оказалось, ноги она без паники раздвинула сама.
Нельзя сказать, что Мартыну было приятно. Проникнув в щель, он почувствовал неудобство и боль, и, лишь, когда семя толчками ушло из члена, наступило облегчение.
Лиза безмолвствовала. Когда Мартын лежал на ней, она его не обнимала, позволяя свершаться предписанному природой. Потом спокойно сказала:
– Надо сходить в ванную. Сначала я.
Сходила.
Сходил и Мартын. Вымыл свое обмякшее хозяйство, вернулся, лег рядом с женой. Что-то подсказывало, что теперь ее необходимо приласкать. Погладил по плечу, коснулся груди в вырезе комбинации, поцеловал в щечку. Она не возражала, но и не проявила ответного движения. И Мартын уснул спокойным сном. В шесть вскочил по сигналу внутреннего будильника, попил воды из графина и отправился в училище. Лиза спала. Лицо ее было спокойным и серьезным.
В Балтийске, куда попал служить Мартын, Лиза нашла работу в школе. Она была хорошей учительницей, спокойной, рассудительной и добросовестной. Времени у нее всегда было в обрез. Подготовка к урокам, проверка диктантов и сочинений, да еще курсы испанского языка, на которые она записалась, приводили к плотному графику ее вечерней жизни. Курсы были созданы при гарнизонном Доме офицеров. Некоторые офицеры поступили на них с расчетом на возможную командировку на Кубу. Лиза же – с неопределенной целью самосовершенствования. И на курсах этих, в общем, ненужных, училась, как всегда, примерно.
С Мартыном виделась редко. Мартын служил на сторожевом корабле, Сторожевые корабли выходили в район боевой подготовки в пять утра во вторник и возвращались в двадцать три часа в пятницу. Примерно. Иногда на несколько часов позже. Так что на берегу офицерам случалось бывать нечасто. Но это ее не удручало.
Посещения мужа входили в график ее жизни. Она спокойно раздевалась и лежала в постели неподвижно, пока Мартын входил в нее и разражался семенем. Сама она ни разу не испытывала что-нибудь похожее на экстаз. Как женщина образованная, где-то о чем-то, связанным с этим, читала, но стремления к этому не испытывала совсем.
Мартын, в общем, был несколько разочарован прелестями супружеской жизни. За годы затянувшегося воздержания воображение наладилось рисовать картинки какого-то неясного блаженства, улета в недосягаемые сферы. На деле все оказалось проще и неинтересней. Но жить, служить и овладевать специальностью ему это не мешало. Как обстояло с этим вопросом у его флотских товарищей, Мартын не знал: у мужчин не принято болтать на эти темы. Однако извечное стремление к женщине не покидало оторванных от дома моряков – от командира до матроса. Однажды, когда корабль нес месячное боевое дежурство, в офицерской кают-компании показывали кино. Это был чехословацкий детектив с отважной контрразведчицей, молодой красоткой в чине капитана. И вот по ходу сюжета она оказалась на пляже, где исподволь вела наблюдение за каким-то типом. Но наблюдение-то вела, валяясь на песке в таком умопомрачительном бикини, который не закрывал в сущности ничего. Тут командир, человек для остальных офицеров недосягаемый, отделенный от них стеной субординации, вдруг скомандовал:
– Стоп!
Киномеханик остановил бабину. На экране застыло изображение голой по сути дела контрразведчицы. Народ в кают-компании замер. Не было в то время в нашей стране ни «Плейбоя», ни других подобных изданий, так что народ замер в изумлении, созерцая тело прекрасной чешской актрисы. И командир повел себя тогда незабываемо. Он сказал:
– Старший лейтенант Зайцев, поднимитесь на мостик, подмените вахтенного офицера. Пусть спустится, тоже посмотрит.
Проявил заботу.
«Что-то есть в этом во всем, – думал смышленый человек Мартын Зайцев, – если даже командир проявил заботу о вахтенном офицере». Но скоро корабль огласила команда «Боевая тревога! По местам стоять, с якоря сниматься!» И бесполезные мысли выдуло из головы морским ветром.
Вскоре старательного Мартына повысили по службе, перевели со сторожевого корабля на эскадренный миноносец, и он возглавил артиллерийскую боевую часть на том самом эсминце «Озаренный», где проходил два года назад стажировку. Сменил своего наставника, ветерана нарезной артиллерии, переведенного в штаб дивизиона эскадренных миноносцев. Служба шла, и шла неплохо.
Жене, несмотря на отсутствие ярких чувств, не изменял. Если и сходил на берег в других гаванях, то шел чаще всего в читальный зал местного Дома офицеров, где читал толстые журналы и просматривал подшивки «Морского сборника». Он был не чужд литературы и интересовался историей отечественного флота.
Был у Мартына пример для подражания. Всеми уважаемый минер – командир БЧ-3 капитан-лейтенант Юрий Петрович Обозов. Жена Обозова жила в Ленинграде, и Юрий Петрович на берег вообще не сходил. Месяцами. И даже, за исключением отпусков, годами. Серьезный и правильный человек, он без жены не признавал никаких развлечений. Будь то кино, театр или, тем более, кафе-ресторан.
За свою серьезность и старательность по службе Обозов пользовался всеобщим уважением. Командир называл его по имени-отчеству, а товарищи-сверстники – фамильярно-почтительно Петровичем. Ко всему прочему Петрович готовился к вступительным экзаменам в академии, чтобы, поступив, по крайней мере, три года не разлучаться с любимой женой. Академия находилась в Ленинграде.
– Правильно, Петрович, – шутили друзья. – Береги боезапас.
В Питере отстреляешься по полной программе. Обозов смущенно отмахивался и с новой силой погружался в учебники.
В академию Обозов поступил. А вот «отстреляться по полной программе» – сорвалось. Обожаемая жена, как выяснилось, давно ему капитально изменила и, не поднимая шума, потихоньку зажила с новым мужем, далеким от морских скитаний. Новоиспеченный слушатель академии ей нужен был только для того, чтобы оформить развод. Обидно, конечно за Петровича, но и такое каютное затворничество – это тоже перебор.
Мартын Зайцев сидел в комнате начальника караула и нерешительно поглядывал на телефон. Он сомневался: прямо сейчас позвонить Дзинтре или отложить удовольствие на двадцать минут, за которые он проверит караул и сделает соответствующую запись в журнале. Решил отложить. Сначала служба, а потом уж безмятежный разговор, которому не будут мешать мысли о невыполненных обязанностях. И Мартын отправился проверять караул.
Слово «ало» произносится на всех языках одинаково. Это удобно. Особенно в том городе, в котором имеют равное хождение два языка, Скажем, латышский и русский. И если тот, кому звонят, обоими языками владеет. И, услышав отзыв на свое «ало», подключает нужный язык. Например, услышав «Здравствуй, Дзинтра, это Мартын», подключает не только нужный язык, но и нужную интонацию и говорит:
– Здравствуй, Мартын, когда мы увидимся? Я уже соскучилась!
Тепло и доверительно.
Мартын представил себе девушку в домашней обстановке, почему-то в зеленом халате, желанную и доступную.
«Что я тут делаю в тусклых стенах с «героикой в рамке», когда в получасе ходьбы отсюда…» – мелькнула шальная мысль. Мелькнула, не больше.
– Я тоже соскучился по тебе, Дзинтра, но сегодня я не приду: Я в карауле. Здесь есть городской телефон, я тебе позвоню еще несколько раз… Когда ты ляжешь спать?
– Я бы лучше легла спать с тобой, – сказала Дзинтра. Мартына кинуло в жар.
– Не издевайся надо мной, милая Дзинтра. Я же на службе.
– Мартын, – помолчав, спросила Дзинтра, – а если бы мы встретились, ты бы меня поцеловал?
– Поцеловал бы, Дзинтра.
– Крепко? Мартын тихо сказал:
– Нежно.
– Очень мило, – послышалось в ответ. – А я бы тебя – крепко.
– И я бы – крепко.
– А еще что бы ты сделал?
– С тобой?
– А с кем же? – рассмеялась Дзинтра. Мартын дышал в трубку и молча волновался.
– Ты покраснел? – поинтересовалась Дзинтра.
– С чего ты взяла?
– Так, подумала. Рыжие вообще чуть что – краснеют.
– Не дразнись! – бухнул Мартын.
– Так что бы ты сделал? – не унималась коварная латышка.
– Я бы развязал пояс твоего халата.
– Халата? Какого халата?
– Зеленого.
– Почему зеленого?
– Под цвет твоих глаз.
– Ты очень милый. Но у меня нет зеленого халата.
– Жаль.
– А что другой халат ты бы развязывать не стал?
Какое-то озорство овладело Мартыном. И он вместо прямого ответа вдруг спросил:
– Честно сказать или соврать?
На другом конце провода раздался смех.
– Скажи честно.
– Я бы снял с тебя любую тряпку, какого бы цвета она ни была.
– Мартын, ты такой хороший, но зачем ты пошел сегодня в этот дурацкий караул?
– Потому что я военный человек, Дзинтра, – грустно, но с достоинством сказал Мартын.
– Я это заметила еще в кафе, – парировала остроумная девушка. Помолчав, продолжала: – Ну ладно, с халатом справились. А что бы ты потом стал делать?
– В каком смысле? – задал Мартын довольно глупый вопрос.
– В простом. Что бы ты стал снимать с меня после халата?
Мартыну стало больно. Он просунул руку в штаны и заправил то, что рвалось вон из брюк, за пояс, схваченный тонким ремешком.
– Ну, хватит, – мягко сказал он. – Я же на службе!
– На своей дурацкой службе! – подхватила девушка. И участливо спросила:
– Разобрало тебя?
– Да уж, – честно признался Мартын.
– Понимаешь, мы так мало знакомы, и у нас так мало общих интересов для разговора… А эротика это – общий интерес.
– Эротика?
– Да. То, о чем мы с тобой говорили – эротика. Ты что, Мартын, необразованный?
– Я? Почему? У меня высшее образование.
– Необразованный, необразованный, я чувствую. Но мы займемся твоим образованием, ведь так?
– Так. Сейчас я прощаюсь. Тут дела у меня. Ближе к ночи позвоню.
– Позвони, позвони, я спою тебе песенку. Сейчас прорепетирую, а когда ты позвонишь, – спою.
Мартын положил трубку на рычаг и долго сидел, безвольно опустив руки и поматывая рыжей головой. Надо же: эротика!
Он позвонил ей в двадцать три часа десять минут – после смены караула.
– Как долго тебя не было, – упрекнула Дзинтра. – Голос ее был теплым и доверительным. – Я приготовила для тебя песенку. Вот послушай… Я только подтяну телефон к пианино и приспособлю трубку… Вот так. Тебе слышно?
Голос ее удалился, ослаб, но Мартын сказал, что да, слышно.
Она пела под собственный аккомпанемент латышскую песню. Слов Мартын, конечно, не понимал. Мелодия не произвела впечатления. Она была какой-то слишком правильной, «квадратной», без неожиданных отступлений, убеганий и возвращений, которыми изобиловала советская музыкальная эстрада. Но было трогательно уже то, что девушка поет в телефон специально для начальника караула Мартына Зайцева.
Потом Дзинтра сказала, что это народная песня, латыши поют ее в семейном кругу и в застолье. Это было странно. В застолье? Такую «гладкую» песню, безо всякого озорства? Как по-разному у всех…
Они поговорили об этом. Потом договорились, что в среду Мартын придет к Дзинтре в гости. На прощанье девушка поцеловала микрофон телефонной трубки. Мартын положил трубку на рычаг, стер с лица блаженную улыбку и вернул себе строгий облика начальника караула.
* * *
Ты прими мою голову, милая, Положи на высокую грудь…Эскадренный миноносец «Озаренный» вышел из дока и приступил к береговой стадии ремонта. Мартын Зайцев принимал у заводской бригады согласование приборов управления стрельбой. Десятки сельсинов – небольших трехфазовых моторчиков – должны были быть выверены по единому нулю и по любому произвольно взятому направлению. Сельсины, сельсины, труженики артиллерийской автоматики! Любой их сбой грозил провалом будущих артстрельб. Мартын носился по кораблю, как угорелый. Он взлетал на КДП – командно-дальномерный пост, списывал показания приборов, потом скатывался по скобтрапу в вниз, проверял шкалы орудийных прицелов и спускался в ЦАП – центральный артиллерийский пост, который находился ниже ватерлинии. Однажды на палубе его перехватил рассыльный дежурного по кораблю.
– Товарищ капитан-лейтенант! Старпом сказал, чтобы вы, когда освободитесь, прибыли в его каюту.
Уважает Мартына начальство. Не «вызывает старпом», а «когда освободитесь»!
Освободился Мартын перед самым обедом. В каюте старпома оказался гость – флагманский артиллерист Балтийского флота – крупный немолодой мужчина с погонами капитана первого ранга.
– Товарищ капитан первого ранга! Разрешите обратиться к старпому! – дисциплинированно начал Мартын.
– Отставить! – Сказал флагарт. – это я вас вызывал. Садитесь, пожалуйста.
Мартын сел на короткий диванчик.
– Скажите, Мартын Сергеевич, до службы на «Озаренном» вы были знакомы с дивизионным артиллеристом?
– Так точно! – отрапортовал Максим. Диварт – мой учитель. Я проходил у него стажировку здесь, на «Озаренном». – Чуть подумал и добавил: – это настоящий ас нарезной артиллерии.
– Мамонт, – откликнулся флагарт. И этих мамонтов осталось совсем немного. А нарезная артиллерия пока еще преобладает на флоте. Вот и дивизионный ваш через три месяца уходит на пенсию.
– Как на пенсию? – удивился Мартын. Он ощущал себя пробегающим первый этап интенсивной жизни и сослуживцев своих рассматривал, как товарищей по команде, азартно бегущих в одном направлении. И вдруг – на пенсию! Это что ж – такая короткая дистанция? Вслух сказал:
– Он же молодой еще, диварт!
– Сорок пять, – сказал флагманский артиллерист. – Он просто выглядит моложе.
Мартын молчал. А «флажок» продолжал:
– Вы капитан-лейтенант Зайцев, котируетесь на его место. Диварт вас рекомендует. Аттестации по службе у вас тоже положительные. Вы скажите мне, только серьезно: справитесь?
И Мартын серьезно сказал:
– Справлюсь.
И вдруг ему причудилось, что здесь, в старпомовской каюте, незримо присутствует Дзинтра и смотрит на Мартына, на то, какой он серьезный и уважаемый начальством человек, и в ее больших зеленых глазах плещется тихое одобрение. В этот момент в динамике принудительной трансляции что-то щелкнуло, оборвалась музыка, и голос дежурного офицера произнес:
– Команде обедать!
– Мартын! Наконец-то! Ой, какие цветы, как это мило! Заходи, раздевайся. Шинель сюда… Не шинель? А что же это? Плащ-пальто? Как интересно. А я и не знала. Вот сюда повесть свое пальто… плащ. Проходи в комнату… не надо разуваться, вытри ноги, и все. Проходи. Знакомься: это мои родители. Мама, папа, это Мартын, мой друг.
Родители! Они совершенно не входили в планы Мартына на сегодняшний вечер. Это была неожиданная вводная, как говорят на флоте. Но Мартын, человек собранный, ничем своего разочарования не выдал, сдвинул каблуки, слегка наклонил голову:
– Мартын Сергеевич Зайцев!
И стоял, ждал, первым руку не протягивал – Имант! – представился отец, пожимая крепкую веснушчатую ладонь.
– Простите, а отчество?
– У нас по отчеству называют только на партийных собраниях. Имант и все.
Это был коренастый человек, от него веяло спокойствием и какой-то надежностью. И рукопожатие у него было крепкое.
А маму Дзинтры звали Инге. Она подала руку ладошкой вниз – скорее для поцелуя, чем для рукопожатия. Мартын колебался всего мгновение. В голове пронеслось: «А и мы не лаптем щи хлебаем!»
Он склонился в поклоне и приложился к ухоженной женской руке.
Дзинтра демонстративно похлопала в ладоши: ай да Мартын!
Квартира состояла из двух комнат: большой проходной и маленькой «девичьей». В большой ком нате отодвинутый от стены шкаф образовывал некий альков, где спали родители Дзинтры. Таким образом, если девушка возвращалась домой поздно, она проходила к себе, не разбудив маму и папу.
Обстановка «девичьей» состояла из неширокой кровати, письменного стола, пианино, тумбочки, на которой стояла радиола, узкого шкафа, двух кресел и пуфа. Войдя вслед за Дзинтрой в комнату, Мартын увидел, что кресла стоят друг против друга, между ними – пуфик, превращенный в своеобразный столик. Для этого на пуфик положена квадратная дощечка, покрытая салфеткой, а на дощечке – вино, бокалы, бутерброды и печенье. Начало свидания было многообещающим. Дзинтра поставили на проигрыватель пластинку. Тихая музыка разлилась по комнате – уместный фон для легкого вина.
Они сидели друг против друга, подняв бокалы. Мартыну казалось, что они давно знакомы, и то, что он о ней ничего знает – досадная случайность. Вдруг вот что бросилось Мартыну в глаза: На Дзинтре был зеленый халат. Новый, ненадеванный – нестиранный. Купленный, стало быть, специально, чтобы понравиться Мартыну.
– Вот ты и покраснел, – засмеялась Дзинтра. – вспомнил разговоры о зеленом халате?
Мартын не ответил на этот вопрос. Дзинтра выглядела соблазнительно, притягивала к себе, как магнит притягивает к себе стальной болт. Но не мог же он вскочить с кресла и, как дикарь… Не мог. И, осушив бокал, спросил:
– Скажи, а где ты работаешь? Я ведь тебя совсем не знаю… Дзинтра засмеялась:
– Это тебе мешает?
– Нет, сказал Мартын, – но все-таки интересно.
– А в визитку заглянуть не догадался?
– Только номер телефона посмотрел, – сказал Мартын и покраснел.
– А прочитать два слова времени не хватило? – засмеялась Дзинтра. – Понимаю: служба. Только соберешься почитать визитку, а служба – тут как тут…
– Да ладно, – отмахнулся Мартын. И неожиданно для самого себя бухнул:
– Меня на повышение выдвигают…
– Здорово, – одобрила Дзинтра, перестав смеяться, А я работаю в горисполкоме, в отделе озеленения. Начальником отдела.
– Начальником? – удивленно воскликнул Мартын, но интерес к вопросу потерял, взгляд его упирался в дверь, вернее – в задвижку на двери.
– Начальником – подтвердила Дзинтра. – Ты у себя там начальник, вот и я тоже…
Мартын молчал некоторое время, потом решился:
– Дзинтра, можно я запру дверь на задвижку?
– Зачем? – удивилась Дзинтра.
Тут уж Мартын, как следует, покраснел:
– Родители…
– С тех пор, как мне исполнилось шестнадцать лет, мои родители ни разу не заходили в мою комнату без стука. А сейчас вообще не подойдут к двери.
– Почему?
– Потому что ты у меня в гостях. Это так просто…
Просто-то просто, но при одной мысли, что они могут появиться в этой комнате, молодого человека сковывало непобедимое оцепенение. Вдруг хлопнула наружная дверь. Мартын вопросительно посмотрел на Дзинтру.
– Они ушли в кино, – улыбнулась девушка. – Между прочим, фильм двухсерийный.
Мартын поднялся с кресла. Дзинтра поднялась ему навстречу. От волнения артиллерист потерял дар речи.
– Не спеши, – сказала Дзинтра, когда Мартын принялся расстегивать ее халат. – Все это так приятно! Не надо торопиться.
Мартын покорно замедлил движения. Ему самому вдруг показалось, что нет ничего приятнее самого процесса раздевания любимой женщины. Оставшись в комбинации, Дзинтра такими же неспешными движениями сняла с Мартына тужурку, потом галстук, потом принялась расстегивать форменную кремовую рубашку. Мартын не выдержал и впился губами в теплые, мягкие губы своей подруги. Дзинтра прильнула к нему всем телом. Поцелуй длился целую вечность. Первый настоящий поцелуй у двадцатидевятилетнего парня. Мартын принялся расстегивать брюки. Дзинтра помогала ему. Наконец, брюки оказались на полу, а рука девушки – в трусах Мартына.
– Какой горячий! – прошептала она. – Нужно его немедленно охладить.
С этими словами она взяла Мартына за руку и повела в ванную. Ствол был выложен на край раковины, омыт холодной водой и обласкан мягкими ладонями. Нежные пальцы иногда пробегали по нему и слегка касались головки, не давая полностью угаснуть пригашенному пламени. Тут Мартыну пришло в голову раздеть, наконец, девушку. Он взялся за подол комбинации. Дзинтра послушно поднял вверх руки. Когда скомканная комбинация оказалась на бельевой корзине, Мартын просунул руки под кружевной бюстгальтер, для чего ему пришлось развернуть Дзинтру спиной к себе. Он почувствовал, как соски набухают под его пальцами, и тут же пушка его уперлась в мягкие ягодицы, готовая выстрелить. Как будто и не было только что охлаждающих водных процедур.
– Расстегни сзади, – попросила Дзинтра.
И лифчик последовал за комбинацией.
– Хорошая у меня грудь? – спросила она, повернувшись лицом к возлюбленному.
– Прекрасная! – честно сказал Мартын.
– Держи вот так, не отпускай, – попросила девушка, прижимая к своей груди жадные ладони кавалера.
Мартын и не думал отпускать. Он удерживал руки на груди возлюбленной, даже, когда она стала опускаться на колени, целуя его мускулистый живот и охваченный пламенем пах. Наконец, рот ее достиг сокровенного, теплые, мягкие губы нежно сжали бунтующую плоть. Мартын сначала испугался, еще мгновение, и он бы выдернул, отпрянул, спасаясь от неизвестного. Но, опередив этот импульс, неведомое прежде блаженство разлилось по его телу, он почти кричал, извергая семя и чувствуя, как оно проглатывается. И впервые в жизни с уст Мартына, двадцатидевятилетнего женатого человека сорвались такие простые и такие трудные слова:
– Я люблю тебя!
В час ночи дежурный по эскадренному миноносцу старший лейтенант Устинов услышал звонок корабельного телефона.
– Дежурный по кораблю старший лейтенант Устинов! – отрапортовал он.
– Устинов! Пришлите мне журнал схода на берег офицерского состава, – раздался в трубке властный голос командира.
– Есть! – ответил Устинов, но вместо того, чтоб немедленно послать рассыльного с журналом в командирскую каюту, вышел из дежурной рубки и подошел к вахтенному у трапа.
– Старшина, – спросил он, – капитан-лейтенант Зайцев не прибывал?
– Никак нет! – четко ответил вахтенный.
Устинов кивнул и медленно отправился к рубке.
«Вот, ведь не спится «папе!» – с досадой подумал он о командире. В требуемом журнале против каждой фамилии сходивших сегодня на берег офицеров рукой Устинова было проставлено время возращения. Против каждой, кроме Зайцева. Поставить против фамилии Зайцева время, например, «01.00» Устинов никак не мог. Вдруг «папе» придет в голову вызвать среди ночи к себе артиллериста. Где тогда окажется Устинов, молодой корабельный штурман, не имевший по службе замечаний? С другой стороны не хотелось подводить Мартына Зайцева, славного парня. Что, если он появится через минуту, а журнал будет уже у командира?
– Не уходи, останься во мне, – попросила Дзинтра после очередного любовного взрыва. Лежа на возлюбленной, Мартын уперся в ложе сильными руками, боясь причинить ей неудобство тяжестью своего тела.
– Зачем ты так? – пропела Дзинтра.
– Боюсь, я тяжелый.
– Глупый, ты же – любимый. Ляг на меня, пусть тела сольются, а не только…
Потом она сказала:
– Пойдем в ванную, теперь ты меня помоешь.
Теплая волна поднялась внутри Мартына, подступила к горлу. И не отступала, когда, измученный любовными играми, он лежал на спине, а она пристроилась, положив на его руку голову, а на его тело – согнутую в колене ногу. Сон подкрался незаметно и накрыл их обоих плотным, непроницаемым туманом.
– Дежурный, – раздался в трубке раздраженный голос командира, – что-то я не наблюдаю у себя рассыльного с журналом схода офицеров!
Отбой, короткие гудки.
Устинов, незаметно вздохнув, обратился к рассыльному:
– Отнесите этот журнал командиру.
– Есть!
Через минуту опять раздался звонок:
– Старший лейтенант, зайдите ко мне!
– Есть, – без энтузиазма откликнулся Устинов и, сказав рассыльному «я у командира», вышел из рубки.
– Почему не отмечено прибытие Зайцева?
Устинов не сомневался, что командир встретит его этим вопросом, но за время следования от кормовой рубки до командирской каюты так и не придумал ответа. Стоял, молчал.
– Не прибыл?
– Так точно.
– Что «так точно»? – усомнился командир. – Отвечайте конкретно: командир БЧ-2 на корабле?
– Никак нет! – доложил Устинов и почувствовал облегчение. Он протянул, сколько мог, а что еще можно было сделать?
Тэ-эк, – гневно произнес командир и забарабанил пальцами по столу. Потом, вспомнив про Устинова, скомандовал:
– Идите, правьте службу!
Ровно в семь часов зазвонил будильник. Дзинтра нажала на кнопку и некоторое время продолжала лежать. Ощущение счастья не покидало ее. Просыпающийся мозг стал рисовать картинку утреннего завтрака. Кофе она подаст Мартыну со сливками, а гренки – с джемом. Она хотел дотронуться до любимого, протянула руку, но никакого Мартына между собой и стенкой не обнаружила. Артиллерист покинул поле боя, не произведя шума и не обнаружив себя никаким другим образом. Дзинтра вздохнула, улыбнулась и стала собираться на работу.
– На флаг и гюйс мирно! – раздался зычный голос дежурного офицера. Команда эскадренного миноносца «Озаренный», построенная по подразделениям на верхней палубе, замерла, образовав живое каре. На правом фланге каждой боевой части – ее командир.
Только штурман, командир БЧ-1, не возглавляет свою боевую часть, стоит у флагштока. Он-то, как дежурный по кораблю, и командует церемонией. Сигнальщик держится за флаг-линь, готовый к поднятию Военно-Морского Флага. Это – на корме. На носу у гюйс-штока стоит другой сигнальщик, готовый к поднятию гюйса. А рядом со штурманом прогнулся, задрав голову, горнист и заливается, выдувает рулады, прописанные в приложении к Корабельному Уставу. Все застыли, слушая знакомую до каждой нотки музыку. Застыла и группа командования, ближе других находящаяся к флагштоку: командир, старпом и замполит. На лицах матросов – дисциплинированная неподвижность, на лицах офицеров – вдохновение, вызванное торжественностью минуты, преданность делу, которому они добровольно посвятили жизнь. Офицеров командир видел уже сегодня за траком в кают-компании – всех кроме Зайцева. Командир скосил глаза в сторону БЧ-2. Зайцев был на месте. И все – как положено: надраенные пуговицы на кителе, белоснежная полоска подворотничка, непроницаемое, полное служебного рвения лицо.
Истекла положенная минута, горнист закончил свое соло, раздалась команда «флаг и гюйс поднять»! Подняли. «Начать развод на работы и занятия»! Командиры вышли из строя, повернулись лицом к своим командам, и началось «военно-морская планерка».
– Командир БЧ-2!
– Есть!
– Зайдите ко мне после развода.
– Товарищ командир, я провожу занятия по специальности со старшинским составом.
– Дайте задание на самоподготовку и зайдите ко мне. Жду вас в восемь пятнадцать.
– Есть!
* * *
Мы большие и мудрые. Мы шагаем друг другу навстречу. Под ногами земля – далека-далека. Мы находим друг друга. Я кладу тебе руки на плечи. И у наших коленей плывут, не спеша, облака…Мартын Зайцев в принципе никогда не врал. Жизнь его до сих пор складывалась без загогулин, тупиков и уверток, карьера была ясна, как траектория артиллерийского снаряда – какие тут враки? В общем, опыта в этом смысле у него не было. Поэтому на гневный вопрос командира: почему, когда и с кем, он стушевался. А, стушевавшись, покраснел. Не мог он рассказать о том небывалом, что свалилось на него. Не мог, хоть его режьте. Шесть пар глаз – командира, замполита и старпома – уставились в его мгновенно вспотевшую физиономию.
– Ну? – с нетерпением спросил командир.
– Ну? – вторил ему замполит.
– Ну-ну! – подстегнул старпом.
И артиллерист пустился в тяжкие.
– Я встретил школьного товарища, – соврал он. – Товарищ здесь в командировке. Мы сильно выпили, я таком виде не мог появиться на корабле. И заночевал у него в номере. – Мартын представил одноместный гостиничный номер и добавил для убедительности – на диванчике.
Вобщем-то ему поверили. Только замполит удивился:
– А чего вы так покраснели? Мартын пожал плечами:
– Рыжие вообще краснеют чуть что.
Пронесло. Если, конечно, не считать возмущенных нотаций, которые закончились дисциплинарным взысканием, а именно – выговором.
Пока начальство читало Мартыну нотации, он выглядел очень серьезным. Лицо выражало напряженную работу мысли. О чем же думал в этот момент ас нарезной артиллерии? Слова о моральной устойчивости советского офицера пролетали мимо его сознания, не причиняя беспокойства, как холостые снаряды. Мартын мучительно искал ответа на вопрос, что именно, какая повадка девушки так тронула его дремучее дотоле сердце? Ведь, он потянулся к ней всем своим существом еще до первого поцелуя и еще раньше – до первого танца. Но что именно? Глаза? Улыбка? Фигура? Да, конечно. Только это не главное. У других тоже глаза. И фигура. Но ведь не щемит же сердце от каждого женского взгляда! И вдруг он понял. Все вспомнил и понял. Наклон головы, вот что! Легкий наклон головы вправо. От чего взгляд ее казался лукавым и чуточку оценивающим.
– Вы поняли? – закончил воспитательную речь замполит.
– Понял, – честно сказал Мартын и улыбнулся.
– Добро, если поняли. Вечером принесете мне конспекты политзанятий. И Мартын был отпущен в каюту. С выговором. Но, как говаривали на флоте, выговор – не туберкулез, носить можно.
В Горисполкоме, как в любом советском учреждении, имелся начальник Гражданской Обороны (ведомственное сокращение – ГРОБ). Звали его Василием Савельевичем, был он подполковником запаса. Все ГРОБы возглавляли недавние офицеры. По положению они получали полную военную пенсию и полную зарплату – вместе с премиальными, которые зарабатывали обучаемые ими коллективы. Очень часто (в особенности в прибалтийских республиках) начальники Гражданской Обороны возглавляли и партийные организации. Подполковник запаса Василий Савельевич не был исключением. Он был предложен райкомом и, конечно же, единогласно избран секретарем партбюро небольшого коллектива служащих Горисполкома. И уже не как начальник ГРОБа, а как секретарь, чувствовал ответственность за морально-бытовой облик любого работника, независимо от его партийной принадлежности. Само собой разумеется, что в скором времени Дзинтра оказалась в служебном кабинете начальника ГРОБа. Не станем утомлять читателя пересказом воспитательной беседы, заметим только, что беседа представляла собой монолог Василия Савельевича, при чем речь его была соткана из многозначительных штампов, таких, как «моральный кодекс строителей коммунизма», «семья – ячейка нашего советского общества», «Моральный облик советского офицера», «девичья честь» и «пятно на комсомольскую организацию органов городского управления». Дзинтра слушала спокойно, аккуратно уместившись на краешке стула, не возражала и дисциплинированно кивала в самых патетических местах. У Василия Савельевича сложилось впечатление, что слова его достигли цели, и молодая сотрудница раскаивается. И чтобы закрепить победу социалистической морали, задал девушке итоговый вопрос:
– И как вы намерены поступить?
Дзинтра улыбнулась:
– У меня пол-отпуска не использовано. Съезжу, навещу родственников.
– Очень хорошо, – обрадовался партийный руководитель. – И дурные мысли выветрятся из головы.
– Мартын Сергеевич, – ласково спросил замполит, а что это за девушка, с которой вас несколько раз видели в городе?
– Да так, – прожал плечами Мартын. – Одна девушка знакомая…
Замполит по-отечески погрозил Мартыну пальцем. – С этого все начинается: сначала знакомая, потом – больше. Мартын Сергеевич, я вам добра желаю. Не одна карьера поломалась из-за легкомыслия. Вот вы котируетесь на должность дивизионного артиллериста. У вас все должно быть без сучка, без задоринки. А вы на корабль вовремя не явились, выговор огребли. Теперь, пока взыскание с вас не снимут, документы подавать нельзя.
Мартын молчал, по обыкновению краснея.
– Вы, вот что: вы съездите-ка на побывку. У вас по графику – с понедельника. За восемь дней дома дурные мысли, если они у вас есть, выветрятся из головы. С командиром я уже согласовал. Он не возражает. Так что скажите строевому писарю, пусть выписывает вам отпускной.
– Есть! – сказал Мартын. – Разрешите идти?
– Идите.
* * *
И становится прошлое зыбким, И становится странным, увы, Что на судьбы влияли улыбка, Тихий голос, наклон головы.Небольшой латышский городок Эн отличался от других прибалтийских курортов наличием нудистского пляжа. Никакой вывески о характере пребывания на нем отдыхающих граждан, впрочем, не существовало, ограды – тоже. От соснового лесочка к воде сбегала через пляж узкая полоска кустов шиповника. То ли он был естественного происхождения, то ли кем-то заботливо высажен в незапамятные времена. Одуряющей силы запах колючих роз встречал каждого, кто приближался к освоенному нудистами участку пляжа. Вот уж где не к месту была бы фраза «дурно пахнущие развлечения», хотя окажись здесь любой работник идеологического фронта, такая фраза непременно сорвалась бы с его праведных уст.
Порой возле кустов можно было заметить пару пожилых мужчин, честных пенсионеров в семейных трусах и соломенных шляпах, которые, таясь, подглядывали за соседним участком, передовая Друг другу подзорную трубу. Один, усевшись на вылинявшем покрывале, как бы читал газету, трогательно маскируя этой развернутой газетой второго, подглядывавшего.
Между тем от дороги, от узкой лесной дорожки, нудистский пляж был отгорожен зеленым забором с воротцами, в которые мог не только пройти человек, но и осторожно проехать грузовой автомобиль, например, «ГАЗ-51» или даже «ЗИЛ-164».
Потому что здесь располагались прокат топчанов, шезлонгов и прочих пляжных принадлежностей, а так же кафе и маленький ресторанчик. Как-то что-то надо же было сюда привозить, не говоря уж о стройматериалах. Кроме того, имелся трехэтажный деревянный корпус-раздевалка, состоявший из несметного количества миниатюрных кабинок, снабженных двухместными скамеечками. В кабинки заходили люди одетые, а выходили – раздетые до нуля. Голые люди шли, как ни в чем не бывало, к воде, валялись на песке, играли в волейбол. Они чувствовали себя спокойно среди себе подобных. Иногда, как это бывает на отдыхе, затевались случайные беседы и споры, и то, что спорящие или беседующие мужчины и женщины были, что называется, без трусов, ровным счетом никого не волновало. Никакого контроля на входе на нудистский пляж не было. Висело только два кустарно выполненных знака наподобие дорожных: перечеркнутые красной полосой женщина в длинном платье и мужчина в костюме. Если же кто по незнанию появлялся на пляже не голышом, к нему подходили добровольные ревнители порядка и, не прикрывая срама, объясняли, что к чему.
Узнать наших героев среди скинувших покровы людей было несложно. Рыжая голова Мартына словно отбрасывала свет сиявшего в небе светила, а фигура Дзинтры… А волнующее тело Дзинтры на фоне волнующегося моря…
Мартын первым вышел из воды и бросил пружинистое тело на подстилку. Дзинтра появилась на песке чуть позже. Она медленно шла по направлению к любимому, а Мартын смотрел на нее во все глаза, словно впервые увидел эти покатые плечи, эти полные груди, которые, оставшись без бюстгальтера, слегка опустились под собственной тяжестью, всего лишь слегка, так, что крупные красные соски смотрели не вниз, а прямо и даже немного вверх, как маленькие пушки универсального калибра. Все это великолепие искрилось каплями влаги, девушка не спешила вытираться, предоставив влажное тело теплому ветру. У Мартына возникло неожиданное желание слизнуть языком соленые капли с ее великолепных сосков, и он вдруг понял, что не может подняться, не обнаружив срамных помыслов. Он и не поднимался с подстилки, смотрел на подошедшую Дзинтру и мученически улыбался. Дзинтра наклонилась, коснувшись грудью его плеча, достала из-под подстилки полиэтиленовый пакет, а оттуда – бутылку минеральной воды, еще холодной. Протянула Мартыну:
– Охлади его, вылей сразу все. – Глаза ее смеялись. Мартын повернулся на бок и со словами «зачехлить орудие!» вылил газированную минералку на воинственную боеголовку. И смог встать во весь рост. В этот момент в него угодил волейбольный мяч. Мартын ловко его поймал и отправил обратно в кружок волейболистов.
– Пойдем, поиграем с ними, – предложила Дзинтра.
Мартын присмотрелся к игрокам. Как это часто бывает на пляже, игроки были самых разных калибров. Кто-то с трудом отбивался от мяча, а кто-то обнаруживал повадки настоящего мастера. Отличалась одна женщина лет сорока, сухощавая, жилистая, казалось, она подчиняла себе окружающее пространство, всегда оказываясь в той точке, куда приходил стремительно посланный мяч. Груди ее болтались при резких движениях, то есть, все время.
– Оторвутся! – вслух подумал Мартын.
– Не оторвутся, – засмеялась Дзинтра. – Крепко пришиты.
Мартын засмотрелся на другую женщину. Она была малоподвижна, как бы нехотя топталась, переваливаясь с боку на бок. Но движения ее были точны, она мягко принимала мяч, никогда не мазала. Это была настоящая толстушка: полные ноги, выразительный живот, небольшие, полные груди. Мартыну вспомнилась знаменитая картина Гойи.
– «Маха обнаженная», – тихо сказал он, наклонившись к Дзинтре.
– Да, пожалуй, – ответила просвещенная латышская девушка. – Однако, нехорошо засматриваться на женщину. Это может не понравиться ее кавалеру. Видишь, он вышел из кружка и идет к нам.
Мартын пожал веснушчатыми плечами. Он был парнем не робкого десятка. Спокойно стоял, ждал развития событий. Молодой человек, не спеша, как бы прогуливаясь, приближался к ним. Он был худощав, высок, строен и белокур. Прибалт, потомок викингов. Подошел близко, на расстояние двух шагов и уставился на Дзинтру, упер в нее оценивающий взгляд. То ли это была плотоядность – в нарушении неписаных правил нудистского пляжа, то ли, что верней, он возвращал Мартыну его мяч: ты рассматривал мою девушку, а я теперь в отместку рассматриваю твою. Артиллерист не стал вдаваться в причины такой наглости. Он вышел вперед, заслонил собой Дзинтру и твердым немигающим взглядом уставился в светло-голубые глаза молодого латыша. Тот нагло усмехнулся и, лениво развернувшись, отправился обратно – бить по мячу. Мартын обернулся. Дзинтра беззвучно хлопала в ладоши. Как же она была хороша! И как желанна! Вдруг стало ясно, что еще мгновение, и он опозорится прилюдно, и не было под рукой холодной воды охладить непокорную плоть. Стараясь не смотреть на свою подругу, Мартын решительно направился в раздевалку. Дзинтра поспешила за ним. Едва захлопнулась деревянная дверь каморки, тела их сплелись, и Дзинтра прошептала:
– Какой ты нетерпеливый, Мартын!
– Но я не могу, это свыше моих сил!
– А множество голых женщин разве не притупляет восприятие?
– У кого-то, может быть, и притупляет, у меня – обостряет, – прошептал Мартын и впился губами в ее грудь.
– Осторожно, не целуй так, синяк останется. Мы же голые на пляже!
Мартын пробежался губами по груди, достиг соска. Он взял его в рот и принялся посасывать и теребить языком. Руки его были заняты, они сжимали ягодицы девушки, и, казалось, не было в природе силы, способной прекратить это страстное пожатие.
– И пристроиться негде, наглея от страсти, прошептал Мартын.
Дзинтра между тем начинала трепетать: эти пожатия и манипуляции с сосками приводили ее в настоящее неистовство. Она подняла левую ногу, завела ее Мартыну за спину, рукой же нежно взяла пылающий член артиллериста и ввела его в себя, для чего понятливому кавалеру пришлось слегка присесть.
– О-о-ох! – пропела Дзинтра.
Мартын же выпрямился, оторвав девушку от дощатого пола, и продолжал соитие, держа даму на весу. Дама прижималась к нему всеми клеточками роскошного тела, обвив моряка руками и ногами, моряк же только слегка покачивался, широко расставив ноги, как на корабельной палубе во время шторма. Однако, ни один шторм, как известно, не длится вечно. Этот шторм в миниатюрной раздевалке тоже сменился штилем, и обессиленные любовники долго еще сидели рядом на короткой скамеечке, расслабившись и ничего не говоря, только голова девушки покоилась на крепком плече артиллериста. Едва обретя дар речи, Дзинтра произнесла:
– Боже, до чего хорошо!
Она произнесла это по-латышски, но Мартын понял, не зная слов, и согласно кивнул рыжей головой.
В гостиничном ресторане не просто ужинали. Здесь отдыхали, то есть, в перерывах между принятиями пищи танцевали под музыку полупрофессионального оркестра. Народу на танцевальном пятачке собиралось немало, порой некоторые пары сталкивались и отскакивали друг от друга, как электрические вагонетки в парковом аттракционе. Мартын уверенно вел свою даму между танцующими парами. Так опытный лоцман проводит доверенное ему судно в узкостях между рифами и плавающими навигационными знаками. Он был в штатском. То есть, брюки на нем были, конечно, форменные, но флотские офицерские брюки к счастью ничем не отличались от цивильных изделий, это было очень удобно. Бобочка-рубашка с короткими рукавами – салатного цвета дополняла его туалет, подчеркивая атлетизм фигуры и являя публике сильные загорелые руки. Если бы кто-нибудь внимательно вгляделся в его левую руку, которой Мартын обнимал за талию свою даму, зафиксировав ее (руку) так, что она являлась опорой для танцующего тела, если бы кто-нибудь в эту руку вгляделся, то обнаружил бы в районе запястья светлую полоску на загорелом фоне – след от недавно живших на этой руке часов. А где же сами часы? – может возникнуть законный вопрос. – Сами-то часы, крупные, модели «Командирские» со светящимся в темноте циферблатом, полученные Мартыном Зайцевым от Главкома ВМС за призовую стрельбу, – где? Вопрос задан, требуется ответ. Вот он: Продал Мартын часы, сдал в скупку за приличные деньги, благо на «Командирские» был большой спрос у гражданского населения. По крайней мере, в Прибалтике. Продал, и на вырученные деньги, в частности, «ужинал» сегодня свою даму, как говорят малограмотные ловеласы. Что-то затеяли музыканты, какую-то быструю отсебятину. Мартын напрягся, маневрирую. Однако же, на тебе! – столкнулся. Вернее, его толкнули, и чувствительно. Mapтын сжал зубы, чтобы возникшие в его возмущенном нутре слова не вырвались наружу и не осквернили слуха прекрасной Дзинтры. Солист пел что-то разухабистое, даже, можно сказать, не пел, а выкрикивал ключевые слова, оркестр наяривал быстрый фокстрот. Быстрый-быстрый фокстрот. Ну, что ж, быстрый, так быстрый. Как сказал легендарный кино-Чапаев:
– Психическая? Давай психическую!
Мартыну ли робеть? После шикарных танцев в ленинградском Мраморном зале? Училищных вечеров? Дом-офицеровских «трясучек»?
Опять толкнули. Сильно и явно – специально. Мартын резко взглянул на обидчика. Ага, старый знакомый! Белобрысый парень с нудистского пляжа со своей толстушкой. Приехали! Что ему, черт возьми, надо? Не любит русских? Не любит военных? Не любит рыжих? Или лично Мартына Зайцева?
«Ладно, уродец нехороший, – подумал Мартын. – Теперь мой выстрел». И повел свой экипаж на сближение с супостатом. Дзинтра сразу заподозрила неладное. Да и как тут не заподозрить? И белобрысого этого узнала. Заподозрила, но бунта на корабле поднимать не стала, послушно затанцевала вместе с Мартыном по направлению к враждебной паре. Мартын был настроен решительно, противник же об этом и не подозревал, и, как только позволило расстояние, пнул Мартына оттопыренным задом.
Тут уж все.
Тут уж можно было бить прямой наводкой.
Потому что с нами так нельзя, с флотскими.
С флотскими артиллеристами.
С мамонтами, черт возьми, нарезной артиллерии.
И вот уж – шаг в сторону.
Не танцевальное па, просто шаг.
Одного шага оказалось достаточно.
И в следующее мгновение каблук военно-морского ботинка с силой опустился на лакированный туфель задиристого нудиста.
– Ой! – ойкнул танцор, потеряв мужественность.
Затем, бросив даму, обернулся, сжав кулаки.
И наткнулся на непробиваемый взгляд.
Мартын стоял, широко расставив ноги и слегка пригнувшись. Напряженные ладони были равно готовы сжаться в кулаки и сомкнуться в борцовском захвате. Глаза сверлили забияку. Дзинтра стояла за его спиной, опустив руки. Она была совершенно спокойна. Она была спокойна за спиной Мартына, как за каменной стеной. Парень тихо выругался по-латышски и отправился к своему столику. Этот инцидент не испортил Мартыну настроение. Напротив. Он чувствовал себя храбрым рыцарем, который не оплошал, не дрогнул, не уронил себя в глазах прекрасной дамы. Это придавало… И они с Дзинтрой продолжали вечер, почти не покидая танцевального круга.
Однако вечером Мартына поджидало новое испытание, посерьезней испытания нервов и кулаков. Это было, выражаясь высоким слогом, испытание жизнью.
Едва они с Дзинтрой оказались в своем номере, зазвонил телефон. Дзинтра сняла трубку. Это был внутренний телефон гостиницы. «Городских» телефонов в номерах не было. Дзинтра с удивлением посмотрела на Мартына:
– Тебя.
– Товарищ Зайцев? – услышал он приятный женский голос. Акцент его не портил, напротив придавал некую доверительность. – У меня для вас телеграмма. Спуститесь в рецепшен.
– Что за рецепшен такой? – удивился Мартын.
– Это – дежурная часть гостиницы, где нас поселяли, – объяснила Дзинтра.
– Понятно, – проворчал Мартын. – Так бы и говорили – «дежурная часть»…
Мысли его, однако, были заняты другим. Никто в целом свете не мог знать, где он находится. Никто кроме одного человека. Этим человеком был корабельный штурман старший лейтенант Устинов. Только ему сообщен был адрес пребывания артиллериста. На случай экстренного боевого сбора. «Неужели сбор? – думал Мартын. – Корабль же еще не вышел из ремонта, не сдал первую задачу! А может, срочно посылают на подмену? Заболел какой-нибудь артиллерист с плавающего корабля…» Телеграмма была точно от штурманца. Она отличалась лаконичностью и образностью. Вот ее текст:
ПОЛУНДРА В ГОРОДЕ ЛИЗАВЕТА
– Приехали, – сказал Мартын, вернувшись в номер. С этими словами он протянул Дзинтре телеграмму. Девушка долго молчала, думала. Потом посмотрела на Мартына своими прекрасными глазами и спросила:
– А что такое «полундра»?
– Это такое слово неофициальное, – объяснил Мартын. – Морской жаргон. Означает «Осторожно: опасность».
– Понятно, – сказала Дзинтра. – Лизавета – это твоя жена? Мартын кивнул.
– А почему она в городе? И почему полундра?
– Видишь ли, Дзинтра, нас, каждого, раз в сорок дней отпускают на неделю домой. Лиза знала, когда я должен приехать, а я не приехал.
– А кто такая Лиза?
– Лиза – это Лизавета. Ласкательное имя.
– Ах, ласкательное, – нахмурилась Дзинтра.
– Да нет, – забуксовал Мартын. – Не ласкательное в полном смысле. Скорее так: Лиза – это маленькое имя.
– Как это маленькое?
– Ну, например, так: тебя зовут Дзинтра. А если бы я называл тебя «Дзи», это было бы маленькое имя.
– Скажи так, неожиданно попросила Дзинтра.
– Дзи…
Она повторила:
– Дзи… – Прислушалась к себе и заявила:
– Нет, это – ласкательное.
Она сидела на своей аккуратно заправленной кровати, сидела, сидела, и вдруг принялась раскачиваться влево-вправо, влево-вправо. Потом спросила, не прекращая этого непонятного раскачивания.
– Она ждала, а ты не приехал?
– Не приехал.
– А почему?
– Потому что я приехал с тобой сюда, господи!
– Поняла, – через некоторое время сказала Дзинтра. – Твоя жена, твоя Лиза, решила, что начальство тебя обижает, и приехала за тебя заступиться. – Она вздохнула. – Какая хорошая жена!
Однако дело принимало серьезный оборот.
Отпущенный на неделю домой, Мартын не имел права находиться не дома. Место пребывания офицера должно быть известно командованию, куда бы он временно ни отлучался: в отпуск, в командировку, или на побывку. Несмотря на нахлынувшую любовь, артиллерист вовсе не собирался сжигать за собой мосты. «Любовь это не профессия, – думал он, сидя на гостиничной койке, – Нет такой профессии – любовник. Есть профессия – морской артиллерист. Есть почетная профессия – мамонт нарезной артиллерии». В результате этих на удивление разумных рассуждений пришло в рыжую голову решение: нужно дать телеграмму с адресом гостиницы: доложиться.
Маленький курортный городок предоставлял приезжим такое неоспоримое удобство, как круглосуточно работающий телеграф. Именно к телеграфу и направился загулявший капитан-лейтенант. Текст телеграммы он уже мысленно составил: «Нахожусь по адресу…». Далее – адрес. И подпись – Зайцев. «И никуда я отсюда сваливать не буду, – размышлял он. – Вызовут – приеду. Не вызовут, – останусь до конца побывки. А там – будь, что будет».
Но, как говорится, человек предполагает…
Выйдя из телеграфа, он остановился.
Трое преградили дорогу.
Словно поджидали его.
Хотя – откуда они могли знать?
Он сам полчаса назад не знал, что отправится на телеграф.
Трое преградили дорогу.
А больше никого и не было на улице в первом часу ночи.
Трое, один из которых был на голову выше Мартына и на полметра шире.
Настоящий шкаф.
А один был, конечно же, старый знакомый, белобрысый забияка.
Третий не имел отличительных примет, Мартын на него внимания-то и не обратил, поэтому удар нанес по «шкафу».
Упреждающий удар. Даже три удара подряд – молниеносной серией в солнечное сплетение.
Было так: «шкаф» спросил густым басом:
– Ты почему невежливо себя ведешь? – и резко замахнулся от крытой ладонью.
Устрашающе замахнулся.
Устрашающе замахнулся, не заботясь о защите торса, а проще говоря, – живота.
Тут Мартын и провел свою серию. «Шкаф» согнулся, ловя ртом воздух, опустившийся подбородок сам напросился на оперкот. Мартын и врезал. «Тяжеловес» рухнул на землю.
– Один готов! – сквозь зубы процедил Мартын и резко повернулся к остальным противникам.
Белобрысого он нокаутировал в два счета: прямым левой и прямым правой, и оба – в подбородок.
Что же касается третьего, тут Мартын сплоховал.
Тут он просто не учел, что незаметная внешность – это еще не гарантия.
Не гарантия того, что человек, например, не мастер спорта по самбо.
А тот, неприметный, таким классным самбистом, как раз, и оказался.
Молниеносно поднырнул под Мартына и поймал артиллериста на вульгарную «мельницу». Выпрямился, имея противника на шее, и резко обрушил его на тротуар.
Возникла молния.
Ослепительная молния.
А потом стало никак.
Телеграмма с приказанием срочно явиться в часть до Мартына так и не дошла.
* * *
…А ведь оба – жрецы. Лица Выражают одно: «О, Боже!» А на деле каждая жрица Попадает на их ложе. Я пенял им довольно строго, Только слышал слова такие: «Наше дело работать на Бога. Верят в Бога пускай другие»Он не пропал, – сказал капитан третьего ранга Бравый. – Вернее сказать, сначала пропал, а теперь нашелся. Завтра должен прибыть на корабль.
– А где он был? – спросила Лиза. – С ним что-нибудь приключилось?
Бравый решил ответить только на первую часть вопроса. Был Мартын недалеко, в пределах Латвии и скоро, как уже сказано, должен прибыть. Что могло приключиться с Мартыном Зайцевым, Бравый, разумеется, не знал. Догадывался, был почти уверен, что артиллерист капитально завернул «налево», но как опытный политработник, избегал в разговоре крутых поворотов. Мало ли как дело обернется! Может, обойдется и без скандала, без персонального дела, партийного взыскания и снижения оценки партийно-политической работы на корабле. Тем более, что жена капитан-лейтенанта оказалась женщиной спокойной и разумной, и прикатила сюда безо всякой истерики, движимая только заботой о муже, как и подобает жене офицера.
– Могу ли я чем-нибудь помочь? – спросила она, и было понятно, что о супружеской измене мужа она даже не помышляет. Замполит Бравый пожал плечами:
– Да нет…
Кресел не было. Были жесткие стулья, стоявшие по обе стороны длинного стола, покрытого зеленой скатертью. Комнату заполняли большие черно-белые фотографии и производственные экспонаты, имелись и крупные модели судов в плексигласовых саркофагах. В углу стояло переходящее знамя. Оно было зачехлено.
Лиза поерзала на жестком стуле. В вырезе кофточки показалась широкая белая лямка бюстгальтера.
– А что это за комната? – спросила она, обводя взглядом экспонаты.
– Это музей истории завода, – ответил Бравый, безуспешно пытаясь оторвать взгляд от этой проклятой лямки. Замполиту было тридцать шесть лет. Внешне он вполне оправдывал свою фамилию.
Худощавый, подтянутый, начищенный-наглаженный – блестящий флотский офицер, никогда в жизни не соприкасавшийся ни с мазу том, ни с тавотом, ни с пушечными смазками. Он был, разумеется, чисто выбрит, от него несло недорогим одеколоном.
– А почему мы здесь с вами? – спросила Лиза, Елизавета Макаровна Зайцева.
– Я попросил ключ у директора музея. Он – мой знакомый, бывший офицер. Не на улице же мне с вами разговаривать. На корабле нельзя, не положено.
– Я понимаю.
Она встала со стула, оперлась рукой о стол. Лямка исчезла, спряталась под одеждой, теперь именно это обстоятельство не давало ему покоя. Вот уже два месяца Бравый не видел жены. Она уехала с дочерью на юг, и Бравый не ездил ни на какие побывки: Негоже замполиту. В ответственный момент заводского ремонта, когда дисциплина личного состава находится под угрозой ослабления – негоже. Ни на какие танцы в Дом Офицеров, а тем более в кафе-рестораны он тоже, разумеется, не ходил. Чтобы не подавать дурного примера. Его подопечные офицеры – хаживали. Как правило, – не загуливались, но как-то «отмокали» от жесткой мужской службы. Где за талию в танце, где просто игривый контакт – слово за слово – «отмокали». Капитан же третьего ранга Бравый не мог себе этого позволить, держал себя в узде. Держал-держал, да вот и не удержал. Повело его с этой лямкой, будь она неладна!
– Давайте так договоримся, – сказал он, глядя в сторону. – Завтра Мартын Сергеевич появится на корабле, и вечером отправится к вам в гостиницу. Вы в «Даугаве»?
– Да.
– В каком номере?
– В 23–м. А как вас зовут, товарищ капитан третьего ранга? Я же не военная, чтобы обращаться к вам по званию.
– Юрий Валерьевич, – хотел, было, сказать Бравый. Но не сказал, потому что Лиза опять повернулась как-то так, что снова вылезла из-под ткани злополучная лямка, вылезла и сбила замполита с толку. Он пробормотал «Юра» и, как загипнотизированный, направился к Лизе, сверля ее черными, цыганскими глазами. Женщина тоже, оторвавшись от зеленого стола, направилась к замполиту. Она никогда в жизни не встречала такого взгляда. Горящего страстью, горящего необузданной страстью. Ей было любопытно и… лестно. Они кинулись друг на друга, как голодные звери на добычу. Верней, Бравый кинулся, как, действительно, голодный зверь. Лиза же решила подыграть ему – просто из любопытства. Из чистого любопытства. Но как-то незаметно сама увлеклась, вошла в роль, как хороший актер, который не просто играет чувства своего героя, а доводит себя до его эмоционального градуса. Во всяком случае, когда горячая рука замполита нашла, наконец, роковую лямку, подлезла под нее и отправилась в разведку по холмам и впадинам, молодая женщина не выразила протеста, а, наоборот, поощрила его, обняв за шею, а потом – за затылок, прижимая к приоткрытым губам жадный рот капитана третьего ранга. Настал момент, когда она почувствовала неведомое прежде волнение. Это – когда рука Юрия забралась ей в трусы, средний палец проник в промежность, искал, искал, и нашел, наконец, чувствительную точку и стал ласкать это место, приспособив к делу и большой палец. Лиза обнаружила себя сидящей на столе, поняла, что слабеет, что теряет волю к сопротивлению, что еще немного, и свершится то, чего она боится и жаждет одновременно. И вдруг мозг ее пронзила трезвая и насмешливая мысль: Как – здесь? На зеленом столе музея истории завода? Боже, какая пошлость! И она оттолкнула от себя офицера и произнесла брезгливо:
– Товарищ капитан третьего ранга! Это уж слишком!
Вылила ушат холодной воды. На него, да и на себя тоже.
И, уже соскочив со стола и поправив одежду, ледяным тоном уронила убийственную фразу:
– Экий вы ходок… Юра!
Старший матрос Федько, в недавнем прошлом мастер одесского мужского салона красоты, приводил в порядок командирскую голову. Командир сидел в своем кресле, выдвинутом на середину каюты. Он был укутан чистой простыней, и только крупная лысая голова торчала из нее, как из сугроба. Федько, оттянув прикрепленный к креслу ремень, направлял опасную бритву фирмы «Золинген».
– Скоро ты там? – ворчливо спросил командир.
– Уже направил, – отозвался комендор, он же – приборщик командирской каюты, он же – личный парикмахер. – Сейчас пену заделаю, – и принялся взбивать мыльную пену в специальной чашечке. – Голову брить будем?
– Будем, – буркнул командир. Он был не в духе. Ремонт «Озаренного» затягивался. Сроки же ввода корабля в компанию оставались прежними. Таким образом, на подготовку первой и второй задач совершенно не оставалось времени. Тут еще командир БЧ-2 выкинул фортель. Направленный домой на побывку, оказался почему-то не дома, а в городке Эн – что он там делал? Хорошо, хоть доложился телеграммой. Утром должен был прибыть, ему вчера отправили срочную. Но вот уже через полчаса обед, а его все нет. Ну, ничего. Прибудет – разберемся. С повышением уж точно придется повременить. Да это и к лучшему: офицер грамотный, толковый. Как без него первую задачу сдавать? Тем более – вторую и третью? Пришлют молодого – учи его… Осторожней, Федько! Зарежешь!
– Порезал? – удивился мастер мужского салона.
– Пока нет. Но скребанул сильно Зазвонил телефон.
Федько снял трубку – Каюта командира! – доложил он. Трубка сказала:
– Оперативный. Командира.
– Товарищ командир, вас. Оперативный.
– Быстро трубку, – сказал командир, высвобождая руку из-под простыни.
– Слушаю.
– Командир! Оперативный дежурный базы.
– Слушаю вас, товарищ оперативный.
– Зачем вы посылали капитан-лейтенанта Зайцева в город Эн?
– Я его туда не посылал.
– Как же он там оказался?
– Не могу знать. Я отпустил его домой на побывку. Завтра он должен прибыть.
– Из дома?
– Нет, из города Эн. Как прибудет, я вам доложу.
– Завтра доложите начальнику штаба базы, а не мне. Я уже сменюсь. Вам прибыть к начальнику штаба к десяти ноль-ноль.
– Есть!
– Офицер ваш, командир, находится в Энской больнице, в реанимации.
– Что с ним?
– Его покалечили в уличной драке. Ночью. Какая-то девушка нашла его в бессознательном состоянии и вызвала «скорую».
– Что с ним?
– Сотрясение, переломы. У меня нет точных сведений. При первой возможности (в смысле его состояния) Зайцева переправят сюда, в госпиталь. Есть еще ко мне вопросы?
– Никак нет.
– Значит, завтра в десять к начштаба на ковер. – Есть.
Командир отдал парикмахеру трубку. Тот вложил ее в рычаги.
– Добривай, давай. К обеду успеем? Старший матрос взглянул на настенные часы.
– Так точно.
– Рассыльного.
– Матрос нажал кнопку звонка, прикрепленного к внутренней стороне столешницы. Прибыл рассыльный.
– Товарищ командир…
– Замполита!
– Есть! – козырнув, рассыльный скрылся, аккуратно притворив за собой дверь.
Пришел замполит Бравый.
– Вызывали?
– Приглашал. Садитесь, Юрий Валерьевич. Извините, я тут привожусь в порядок без отрыва….
– Понимаю.
– Вы с супругой капитан-лейтенанта Зайцева встречались?
– Ветре… встречался.
– А что это вы запнулись? Встречались, или нет?
– Так точно!
– И что?
– Ничего. Сказал, что сегодня он прибудет на корабль, а вечером мы его отправим к ней в гостиницу, где она остановилась. Гостиница «Даугава». Номер 23.
– Он не прибудет.
– Не прибудет? Почему? Я сам отправлял телеграмму.
– Он не прибудет. Он травмирован. У него сотрясения и переломы. Он лежит в Энской больнице, в реанимации.
– Драка?
– Драка.
– Вот это номер!
– И чего его занесло в этот чертов Эн?
Замполит пожал плечами. Он предполагал – чего. С другой стороны, имея такую жену и разрешение на побывку… И замполит вторично пожал плечами.
– А она кто у него? – спросил командир.
– Кто – она?
– Жена Зайцева, кто же!
– Учительница, – отвечал осведомленный замполит. – Сейчас у нее отпуск, летние каникулы.
– Вы, вот что, – сказал командир. – Вы завтра к ней сходите, поддержите женщину. Скажите какие-нибудь слова. В конце концов, мы несем ответственность…
– Есть, – осевшим вдруг голосом сказал замполит Бравый. – Есть сходить.
Лиза сидела в кресле и читала книгу. Кресло было старое, деревянное, с потрескавшейся фанерой на спинке. Скромная мебель скромного гостиничного номера. Книга была – Тургенев. Лиза готовилась к новому учебному году. Освежала память. Делала выписки в толстой тетрадке. Цитаты. Свои выводы. Одним словом, – заготовки к будущим урокам. Взглянула на часы. Шесть. Отложила книгу. Задумалась. Хотелось есть. Ну, это уже вместе с Мартыном. Замполит обещал, что вечером Мартын будет у нее. Шесть часов – вечер. От завода до гостиницы на автобусе двадцать минут. Так что скоро она увидит мужа. Поужинать можно в гостиничном кафе – чистенько и недорого. Она даже прикинула заказ: яичница с ветчиной и кофе с булочками. Здесь пекут такие булочки! Хотя она расположена к полноте, и булочки, вообще мучное… Впрочем, плевать. Хорошего человека должно быть много. Она усмехнулась. Вон как вчера набросился на нее этот самый замполит. Этот Юра. Этот Юра со своими жгучими цыганскими глазами. Наглец, наглец. Настоящий наглец! Каков хам! Пригласил для беседы замужнюю женщину и – нате вам! Она передернула плечами. Плечами-то передернула, но гнева настоящего не было. Не было гнева! Покусились на честь добропорядочной женщины, безобразие, какое! Но что-то сладкое было в самом этом покушении, и это ощущение, когда она стала таять, чуть ли не терять сознание… Господи, почему же с Мартыном она никогда такого не испытывала? Запретный плод? Поэтому? Поэтому ли только? Однако прочь, прочь непозволительные мысли! Ничего не было, и все. В конце концов, она устояла и дала достойную отповедь. Так что – ничего не было. Сейчас придет муж, и они пойдут ужинать. А после ужина…
В дверь постучали.
Пришел.
– Открыто!
Дверь распахнулась.
На пороге стоял бравый замполит Юра Бравый.
Ох.
– Здравия желаю! – голос его звенел от напряжения. В руке был входивший в моду «дипломат» – плоский кожаный чемоданчик. Он помолчал и добавил:
– Добрый вечер!
– Добрый! – недобрым голосом отозвалась Елизавета Макаровна. – И спросила совсем уж официальным тоном:
– А где Мартын Сергеевич?
Но ничего не помогло: ни официальный тон, ни строгий учительский костюм: Бравый, закрыв дверь, решительно направился к ней, бросив на кровать свой «дипломат». Добро бы только Бравый. Но и она, и она устремилась к замполиту, словно кто-то сдернул ее с кресла и поддал сзади пинка.
– Что ты делаешь? – с трудом проговорила она. – Сейчас Мартын придет!
– Не придет?
– Почему?
– Он в больнице, Потом расскажу, только запру дверь.
– Ах, зачем ты… Пусти, я сама… Юбку-то зачем? Я не могу так…
– А так? – спросил сердцеед третьего ранга и, распахнув «дипломат», достал из него бутылку «Муската»
– Не знаю, не знаю.
– За тебя! Пей до конца. Разве не вкусно?
– Чудо, как вкусно. Но на голодный желудок…
– Ничего!
– Ничего?
– Ничего. Шоколадку бери.
– Ах, шоколадку! И, правда, ничего. О, господи! Ты совсем меня… Дай хоть покрывало сдерну.
– Я сам…
– А так можно?
– Можно, можно!
– О!
– Стоя на коленях, он раздвинул ее ноги и целовал промежность. Раздвинув руками внешние губы, ввел во внутрь язык – так глубоко, как мог. Лиза застонала. Тут он нашел чувствительное место и буквально высосал его наружу и продолжал сосать, извиваясь всем своим худощавым телом. Рука ее заскользила по волосатому животу и нашла напряженный член и набухшую мошонку. Волны сладчайшей истомы накатывали на нее, заставляя тело колыхаться в такт с телом опытного кавалера.
И когда она почувствовала, что…
Когда, казалось, что-то взорвется внутри…
Когда уже считанные секунды оставались…
Она оттолкнула голову замполита….
Она оттолкнула его голову и притянула к себе то, что сжимала ее ладонь.
Его тело оказалось понятливым и исполнительным…
И он вошел в нее глубоко и плотно… И взрыв наступил…
Как будто порох…
Как будто порох подожгли одновременно с двух сторон.
Ах, Лиза, Лиза!
Ты, оказывается, женщина!
Ты, оказывается, женщина, которая может быть счастлива…
Ослепительно счастлива…
Хотя бы мгновенье…
Хотя бы одно мгновенье!
И только спустя некоторое время, когда дыхание успокоилось, и наготу прикрыл домашний халат, в голову вплыла мысль, простая и непререкаемая, как указание директора школы.
Лаже не мысль, а вопрос.
Простой, естественный и настойчивый вопрос: что с Мартыном?
Она быстро поправила прическу и подправила губы и совершенно спокойно, так спокойно, будто ничего сверхъестественного только что не произошло, спросила:
– Так что случилось с моим мужем?
Замполит тоже не терял времени даром. Он оделся быстро, как по боевой тревоге, и ответил, поправляя галстук:
– Он прислал телеграмму, что находится в городе Эн. Как выяснилось, в тот же вечер был избит неизвестными лицами и доставлен в городскую больницу.
– Я должна ехать к нему.
– Нет смысла. Он сейчас в реанимации. Как только состояние позволит, его перевезут в здешний госпиталь.
Напрашивался ревнивый вопрос: а как ее муж оказался в незнакомом этом городке? Но она спросила то, что должна спросить жена:
– Он в сознании?
– Не знаю, – смутился замполит.
– Так что же мы сидим? Нужно немедленно звонить в больницу!
Бравый воспринял это, как приказ. Через полчаса они уже сидели на телефонной станции, и телефонистка соединяла их с городом Эн. В больнице какая-то дежурная сначала ничего не могла ответить, но трубку взял Бравый, нажал на басовые ноты, расшевелил.
– Больной пришел в сознание, – сказали ему, – Состояние стабильно тяжелое.
– А в госпиталь его будут переправлять?
Этого дежурная, конечно, не знала.
* * *
Куда уходим мы, куда, Когда беда случается? Туда, откуда никогда Никто не возвращается.То есть, мы уходим в никуда. Нет сознания, нет осязания. А также – обоняния зрения и слуха. То есть, никаких чувств. Мрак, мрак. По-медицински – кома. Из комы, однако, возвращаются. Иногда некоторые. Что-то услышал. Открыл глаза – что-то увидел. Увидел лицо. Знакомое лицо. Лицо жены Елизаветы. Увидел, послушал какие-то неинтересные слова и отправился обратно в кому. И опять надолго отправился в кому. Медицинский персонал знает, на сколько времени отключка. Записывает, когда впал в кому, когда вышел из комы, какой пульс при этом давление и так далее. Сестра записывает, врач анализирует. Пограничное состояние. По одну сторону границы существует время. По другую – только мрак. Но вот – что-то услышал. Открыл глаза – что-то увидел. Знакомое лицо жены Елизаветы. Закрыл глаза – мрак. Пульс редкий, слабого наполнения. Кома, кома.
– Вы к Зайцеву? Он в коме, увы.
– Я знаю.
– Жена пять дней сидела возле него.
– Я знаю. Она уехала.
– А вы кто ему будете? Пауза. Потом:
– Я ему буду любовница.
– Не понял?
– Почему? Я хорошо говорю по-русски.
– Повторите, пожалуйста, кем вы приходитесь капитан-лейтенанту Зайцеву.
– Повторяю, пожалуйста. Я ему прихожусь любовницей.
Доктор, майор медицинской службы никогда в жизни не встречался с тем, чтобы это слово спокойно произносили применительно к себе. Без осуждения, без обиды, без сарказма просто, служебно.
Вы кто? Я – майор. А вы кто? Я – любовница. Шутка, подумалось ему. Однако девушка говорила совершенно серьезно. Большие зеленые глаза смотрели на доктора печально. И в то же время – лукаво. Пухлые губы шевельнулись и сложились если не в улыбку, то в намек на нее.
– Я серьезно вас спрашиваю, – сказал майор, стряхивая очарование.
Дзинтра кивнула. Потом сказала, грустно вздохнув:
– Вас смущает слово «любовница»? Но в нем, ведь, нет ничего плохого. Оно образовано от слова «любовь». И я люблю этого человека.
Майор медицинской службы спросил озадаченно:
– И что теперь?
– Теперь, – оживилась Дзинтра, – отведите меня к нему в палату и на полчаса оставьте с ним наедине.
– Как так?
– Никого не впускайте полчаса.
– Сам-то я могу…
– Нет-нет. Сами тоже… Только я и он.
– Но он же без сознания.
– И не приходит в себя?
– Приходит. Но ненадолго.
– Я помогу ему.
– Не могу. Я его лечащий врач…
– А я любовница. Это важно.
Майор задумался. Несуразные, неуставные, даже, можно сказать, антинаучные мысли подняли переполох в голове, облысевшей в медотсеке подводной лодки. Черт их разберет, этих прибалтов! Он махнул рукой и сказал:
– Ладно. Полчаса. Идемте.
Мартын открыл глаза и увидел перед собой женское лицо. У него мало-помалу уже выработался цикл: открыл глаза. Увидел Лизу. Вернулся во мрак. Мартын прикрыл веки. Но что-то шевельнулось в полусонном мозгу, что-то непохожее… Он открыл глаза. Это не Лиза. Мираж. Зажмурился. В голове шумело. Сквозь этот шум, напоминающий шум моря, донесся звук тихого, теплого голоса. Незатейливая мелодия латышской песенки. Веки, тяжелые, как иллюминаторные броняшки, приподнялись, связав Мартына с внешней жизнью. И эта внешняя жизнь не оставила его безучастным. Продолжая напевать, Дзинтра коснулась пальцем его губ и со словами «ну, смотри, смотри» расстегнула кофточку, под которой не было белья. Она ласкала свои груди, мяла их, терла друг о друга, теребила соски. Мартын уже не закрывал глаз. Он почувствовал, что где-то под панцирем гипсовых стяжек зашевелилась жизнь. Дзинтра взглянула на часы. Пора. Она попрощалась с Мартыном нежным прикосновением, моментально привела себя в порядок и, выйдя из палаты, кивнула лечащему врачу, который шел ей навстречу. Врач посмотрел на нее вопросительно. Дзинтра слегка кивнула, прикрыв веки. И опять намек на улыбку тронул ее губы. «Чудеса», – подумал майор медицинской службы.
* * *
Должно быть, пьяная судьба, Разделывая дыню, Наслала Божьего раба На Божию рабыню.Лиза точно знала, что не только не должна думать о неожиданном любовнике, но не должна даже помнить о нем. Случилось какое-то наваждение, помутнение разума. Ошибка, единичная, локальная ошибка. Забыли раз и навсегда. И никогда, никогда больше… И вдруг обнаружила, что, повторяя емкое слово «никогда», наводит макияж, одну за другой прикидывает блузки, то есть, готовит себя к тому, чтобы понравиться мужчине. И словно против своей воли, словно под гипнозом, выходит на улицу, останавливает такси и едет к судоремонтному заводу.
Командир снял с рычагов тяжелую трубку внутреннего телефона и набрал «двойку».
– Слушаю, Бравый, – раздался голос замполита.
– Заместитель, как дела у Зайцева? – спросил командир.
– Идет на поправку, я вам докладывал.
– Новых проблем не появилось?
– Никак нет, – не слишком уверенно ответил замполит.
– Вас жена Зайцева ожидает на проходной. Сходите, побеседуйте.
Замполиту почудилась в последней фразе какая-то каверза. Он рассеянно ответил «Есть!» и в смятении чувств положил трубку. Ситуация выходила из-под контроля. Замполит Бравый был волевым человеком. Упорно делая военно-политическую карьеру, он неустанно укрощал неуемную половую доминанту. Но время от времени эта неуемная доминанта торжествовала, преодолевая сопротивление капитана третьего ранга. Природа брала верх над разумом и службой. Каждый раз, придя в себя после такого сладостного поражения, Бравый старался как можно дальше отскочить от события с тем, чтобы забыть о нем навсегда. В общем, ему это удавалось, репутация оставалась сухой, не подмоченной, и должность заместителя начальника политотдела с присвоением очередного звания дразнила своей доступностью. Он представлял себе погон парадной тужурки не с одной, а с двумя звездами и сладострастно жмурился. Что преобладало в нем: жажда очередной звезды или жажда очередной женщины? Повседневно – жажда, конечно же, звезды, а в периоды затмения… Но к черту, к черту затмения! Приказ: вычеркнуть, и все. Что было, то было. Вернее так: что случайно было, того вовсе и не было, и не будем сбиваться с генерального курса.
С генерального курса партии.
С генерального курса корабля.
С генерального курса военно-политической карьеры.
– Здравствуйте, – сказала Елизавета, глядя в сторону. – Как неудобно, что к вам нельзя позвонить из города!
– Здравствуйте, – ответил замполит Бравый, тоже глядя в сторону. – Слушаю вас.
– Вы… пожалуйста… придите сегодня ко мне в гостиницу – глухим, враждебным голосом проговорила Елизавета. – Мне нужно с вами поговорить…
Ничего более убедительного она не придумала, да и придумывать не хотела. Она не желала, не желала никакого продолжения отношений! Не желала, но спросила, все также глядя в сторону:
– Придете?
– Это нужно? – уточнил замполит, так и не взглянув на собеседницу.
– Не знаю… Нужно!
– До свидания! – неопределенно отреагировал Бравый.
– До свидания…
После обеда командир зашел к нему в каюту.
– Ну что там с женой Зайцева?
– Не пойму, – пожал плечами Бравый. – Какие-то вопросы у нее накопились. На проходной было неудобно разговаривать. Просит зайти вечером в гостиницу.
– Ну что же, сходите, – криво усмехнулся командир. – Не надо ее излишне раздражать. Она, я думаю, догадывается, что ее благоверный сбился с курса и принял влево по компасу. Постарайтесь смикшировать это дело. Чтобы без скандала обошлось, без жалоб в политотдел и так далее.
– Постараюсь
– Кстати анекдот: чем женщина удерживает мужчину? Значит, так: немка – питанием. Англичанка – воспитанием. Француженка – телом. А русская – политотделом.
– Остроумно! – замети, через силу улыбаясь, дисциплинированный замполит.
– Ну, я на вас надеюсь. Чтобы – не по этому анекдоту.
– Есть! – озабоченно вздохнул Бравый, и прикрыл дверь за командиром эскадренного миноносца.
– Не придет, не придет, – говорила себе Елизавета. – И хорошо, и не надо, и не было ничего….
Раздался легкий стук, дверь отворилась, и Бравый шагнул через порог. Он был хмур и едва выдавил из себя «добрый вечер».
– Добрый! – с каким-то злым отчаянием ответила Лиза и скинула с себя халат. На ней остались только бюстгальтер и домашние тапочки. Она повернулась спиной к гостю и наклонилась над столом. Бравому показалось, что ее ягодицы шевелятся. «Нет»! – воскликнул замполит и моментально расстегнул ширинку. Через минуту от стола раздалось:
– Сильней!
Бравый ухватил женщину за бедра и стал рывком натягивать на себя, ударяясь низом живота о теплые, покрытые нежной влагой округлости.
– О! – простонала Елизавета. Еще! Еще!
Бравый поднажал. Из груди его вырвался хрип. И тут ему показалось, что все: он работает на полную мощность и резервов взять неоткуда. Он на мгновение ослабил напор. И вдруг рассмеялся: вот они резервы! Умелым движением расстегнул застежку бюстгальтера, и догадливая Зинаида тут же выпростала руки из лямок. Молодые, не знавшие кормления, груди свободно задышали, ожидая ласки. Сильные худощавые, поросшие черными волосами руки, сжали податливую плоть, впалый живот прижался к дебелой спине, резервные силы с каждым посылом тела увеличивали давление, проникновение дошло до каких-то мягких и нежных губ, которые там, в женских недрах словно целовали неутомимую головку замполитовского члена.
– А-а-а! – закричал замполит Бравый, который, несмотря на немалый амурный список, в жизни еще такого не испытывал.
– А-а-а! – закричала и Елизавета, и два крика слились в единый крик, так же, как два потрясения слились в единое потрясение ставшего на мгновение единым организма.
«Еще чего не хватало! – думал замполит, ощутив прилив какой-то нежной заботливости, когда они, обессиленные, шли к кровати, поддерживая друг друга. – Никаких соплей. Одеваемся и уходим». Он рухнул на кровать и прикрыл глаза. Елизавета же пошла в ванную. Зашумел душ. Когда она вернулась, исполненная радостной свежести, Бравый был еще раздет. Через мгновение он оказался в ее объятиях. Еще через мгновение – в ней.
Помягчела и Елизавета. Если раньше она прямо ненавидела Бравого за то, что он вызывал в ней приступы необузданной страсти, то теперь чувство ненависти сменило чувство не знакомой прежде нежности. Она перебирала его смоляные волосы, проводила пальцам по лицу, иногда брала ослабевшую ладонь кавалера, подводила ее под левую грудь – так, чтобы в ладонь торкалось разбуженное сердце. И неузнаваемо мягким голосом говорила слово «Юра». Бравый отвечал на ласки сдержано: контролировал себя. В двадцать три часа он покинул любовницу и отправился на корабль.
* * *
Ах, осень, ах, голубушка моя…
Это был не просто ворох кленовых листьев, а искусно подобранный букет, в котором переливалась вся палитра осени. Просторный госпитальный двор был полон опавшими листьями. Они шуршали под ногами и громоздились в кучах, куда по субботам сгребал их технический персонал. Но букет в руках Дзинтры был особенным, будто взятый из какой-то другой, более нарядной осени.
– Отчего они такие нарядные? – спросил, улыбаясь, Мартын.
– Тебе нравится? Я их погладила утюжком.
Так славно сказала, итак старательно произнесла ласкательное слово!
– У тебя есть латышско-русский словарь? – спросил Мартын.
– Обязательно. А почему ты спрашиваешь?
– «Утюжок» специально вычитала?
– Ты такой догадливый!
«Все, – подумал Мартын. – Лучше ничего не бывает в жизни. Ничего другого и не надо». Он попросил:
– Спой.
Они сидели на садовой скамейке, полуобернувшись друг к другу. Вечернее солнце пригревало спины. Их причудливо увеличенные тени лежали на некошеном газоне. Дзинтра не удивилась просьбе. Только спросила:
– Ту самую?
Мартын кивнул. Она принялась напевать вполголоса латышскую песенку. Он слушал, прикрыв глаза. Потом она спросила:
– Тебя навещают твои товарищи?
– Откуда? Корабль в море все время. Один раз замполит приходил, но это так, по долгу службы.
– А жена?
– Жена была пару раз. Но она уехала. У нее кончился отпуск.
Помолчали.
– Марис Путрайм наведывается. Гостинцы приносит, как ребенку.
Дзинтра усмехнулась:
– Еще бы! Ты спас его. Он тебя чуть не убил, а ты его спас, отказался от обвинения. Зачем ты его спас? Ты его пожалел?
– А тебе его не жалко?
– Мне жалко тебя.
– Знаешь, приходили ко мне его родители. Их было, действительно, жалко.
– Знаю, знаю.
– Я, ведь, почти побывал по ту сторону жизни. Возвращаясь из забвения, я неторопливо думал. Я ведь тоже вел себя дерзко. И дерзко бил. И потом у меня было время поставить себя на его место. Приезжает чужой парень, говорит на чужом языке. Наводит свои порядки. А человек – самбист. Смотреть должен? Я бы на его месте тоже… Посадили бы его на десять лет. Жизнь загублена. Кому лучше? Или латыши стали бы лучше относиться к русским?
– Вот ты какой! – удивилась Дзинтра. – Я и не знала!
– И еще я подумал: ведь ты спасла меня любовью. И во мне живет любовь. И нет ненависти.
Тут глаза Дзинтры повлажнели. Да что там – «повлажнели»! Крупные слезы омыли ее глаза и потекли по щекам.
– Я очень сильно люблю тебя, – прошептала она. Нечеловечески. Как инопланетянка.
– Я тоже люблю тебя нечеловечески! – заявил потрясенный артиллерист.
– Давай я украду тебя из госпиталя в субботу, – предложила девушка.
– Давай! В воскресенье все равно спячка. Ни процедур, ничего.
Он подумал.
– Привези плащ какой-нибудь твоего отца и любые брюки. Можно – спортивные, чтоб натянуть сверх пижамы.
– О-кей! – лихо откозырнула Дзинтра – А как же ты выйдешь за территорию? Не через забор же!
– Через забор, конечно, не солидно. Я со сторожем договорюсь.
А ты о такси позаботься.
Зачем? – удивилась Дзинтра. – Я с отцом договорюсь. Мы с ним приедем на «Запорожце». – Она засмеялась:
– Ты со сторожем, а я – с отцом.
– Добро! – на морской манер ответил мамонт нарезной артиллерии. Тихое веселье разлилось по его, возбуждая внутренние силы не хуже, чем введенная внутривенно глюкоза. Он медленно возвращался в палату, неся роскошный букет отутюженных осенних листьев. Он нес их осторожно, словно сосуд, наполненный драгоценный влагой. Словно боялся расплескать переполнявшее его чувство.
Желтый, как осенний лист, «Запорожец» подкатил к госпитальным воротам. В проходной сквозь захватанное стекло наблюдалась фигура сторожа. Из «Запорожца» выбралась девушка с большой тряпичной сумкой. Она с удивлением заметила, что сторож был одет в госпитальную пижаму. И стоял, широко расставив ноги и выпятив грудь, совсем, как милый ее сердцу Мартын. Да, он стоял совсем, как Мартын, потому что это и был не кто иной, как Мартын Зайцев, артиллерист эскадренного миноносца «Озаренный».
– Мартын, ты что тут делаешь?
– Сторожу госпиталь, – с важным видом ответил выздоравливающий Мартын.
– А сторож?
– А сторож побежал за бутылкой. Он без нее тоскует.
– А как же… Мы, вот, приехали с отцом.
– Подожди немножко. Я же не могу бросить пост. – Он кивнул на сумку. – Это одежда?
– Да-да. Одежда.
– Оставь ее. Я сейчас переоденусь, а ты подожди в машине.
– А он тебя выпустит?
– Кто? Сторож?
– Сторож.
– А как же! Бутылка же за мой счет!
– Ах, Мартын! – засмеялась Дзинтра.
– Ах, Дзинтра, – тихо сказал Мартын.
Тем временем и сторож не замедлил явиться. Он скромно протянул Мартыну полиэтиленовый пакет с булькающим продуктом. Мартын отвел его руку:
– Оставь себе.
– Всю что ли?
– Всю – ответил Мартын, натягивая плащ поверх госпитальной пижамы.
– Ну, ты даешь, командир! – восхитился сторож.
– Смотри, на вахте не напивайся, – посоветовал Мартын, покидая помещение.
– А где же? – ворчливо заметил сторож. – Дома что ли? Так дома баба не даст.
Но Мартын Зайцев этого уже не слышал.
Имант, отец Дзинтры, широко улыбаясь, с чувством пожал Мартыну руку и усадил в машине рядом с собой. Вел себя, как настоящий тесть по отношении к настоящему зятю. Это было странно. Ведь, Мартын, что ни говори, соблазнил его дочку, будучи женатым человеком. Но ни в машине, ни потом, за ужином, вопрос этот не только не поднимался, но как бы даже и не существовал – ни в каком намеке на определенную двусмысленность положения. Ехали, между тем, не молча, говорили о всякой всячине: о погоде, о недавнем шторме, о погибшем траулере. В газетах ничего об этом траулере не сообщалось, а он погиб, и люди погибли, рыбаки. И о певице Нехаме Лифшицайте, которая, нате вам, взяла и уехала в Израиль. Что ей в Латвии не пелось в Риге? И только один раз, после паузы, Имант сказал:
– Все же ты молодец, Мартын, что не стал сажать этого паршивца. Это великодушно.
Несколько букетов из сухих листьев украшали комнату. Все дело было в оттенках. Красная ржавчина, бронза, охра и ультрамарин плавно перетекали одно в другое.
– Экибана? – улыбнулся Мартын.
– Ну, что ты! Это просто… просто… гаммы на пианино. Гаммы осени. Я люблю осень. У Яниса Райниса… Знаешь Яниса Райниса? Мартын покраснел, напрягая память. Что-то было в школе, в десятом классе… Литература народов СССР… Чуть не бухнул: «Это поэт народов СССР». Спасла сообразительность:
– Латышский поэт, да?
– Да. У него есть такие строчки… По-русски будет примерно так: «Ах, осень, ах, моя голубушка, вы слишком увлеклись переселеньем и отправили в теплые края любовь»… Глаза ее стали печальными и, как показалось Мартыну, – влажными.
Тут Мартын возьми да и выпали безо всякой подготовки:
– Я люблю тебя!
– Ох! – вздохнула Дзинтра. – А нашу любовь осень не отправит в далекие края?
– Не отправит, – сказал Мартын. – Кто ж ее куда-нибудь отправит, если она возвратила меня к жизни?
– Какой ты милый!
Да что же это такое! Что она ни скажет, – Мартына, словно жаром обдает.
Тут он задал совсем уж глупый вопрос: Мы будем вместе спать? Дзинтра засмеялась:
– А зачем же я тебя украла из твоего госпиталя?
Она потушила свет, чтобы Мартын не стеснялся раздеваться. Через несколько секунд они уже лежали в постели. Рука девушки определилась между ног возлюбленного.
– Какой большой и горячий, – прошептала она. – Войди в меня скорей. Я хочу, хочу, хочу!
На этот раз Мартын стал останавливать подругу:
– Подожди немного, я хочу сначала увидеть тебя руками.
– О. боже!
– У меня мало рук. У меня только две руки. Они не могут сразу…
– А глаза могут?
– Глаза – могут! – выдохнул Мартын.
– Так смотри же на меня, Мартын! – с несвойственной ей запальчивостью воскликнула Дзинтра и, скинув халат, стала медленно поворачиваться перед Мартыном, легкими движениями лаская возбужденное тело. – Смотри, смотри на меня, я вся твоя, вся без остатка.
И Мартын заплакал.
Суровый морской вояка, мамонт, можно сказать, нарезной артиллерии, заплакал горячими слезами от переполнявшего его чувства, от невозможного чувства взаимной любви. Любовное соитие продолжалось недолго. Силы скоро оставили молодого человека, едва вернувшегося чуть ли не с того света.
– Какая я нехорошая! – всполошилась Дзинтра. – Думаю только о себе. А тебя же надо накормить, раненного!
И принялась кормить приготовленными заранее продуктами – шпротами, паштетом и глазированными сырками. Кофе наливала из термоса и белила сливками. Да что это сделалось с капитан-лейтенантом? Он плакал и смеялся, смеялся и плакал, как маленький. И Дзинтра протянула ему чистое полотенце – вытирать лицо.
* * *
Ветерок невесомых дождинок На ресницах единственных глаз, Их теперь заменил поединок Эгоизмов, заложенных в нас.Бравый готовился к приезду жены и дочки – делал в квартире большую приборку.
Шум пылесоса заглушал звонок, и Бравый расслышал его только с третьего раза. Выключил бытовую технику, открыл дверь.
– Елизавета Макаровна? Добрый день!
Да, это была Лиза. Глаза ее сияли. Не обратив внимания на официальность приветствия, она порывисто, не снимая уличной обуви, устремилась к Бравому и уткнулась лбом в плечо разгоряченного работой мужчины. Бравый стоял неподвижно, словно каменный, но она и этого не замечала. Наконец, заглянула в черные, как у цыгана, глаза:
– У нас с тобой будет ребенок.
Теплая волна поднялась откуда-то из недр организма, готовясь полностью овладеть замполитом. Подняться-то поднялась, но овладеть не успела, наткнулась на команду, которую мысленно подал себе офицер. Команда была такая:
– Стоять, Юра!
И неподвижное тело отвердело еще больше, и глаза посветлели от вызванного по тревоге равнодушия.
– Стоять!
Лиза отпрянула от него, не встретив ответного движения.
– Ты не слышишь меня?
– Я слышу вас.
– У нас будет ребенок.
Бравый ответил спокойным, почти доброжелательным тоном:
– У вас будет ребенок, Елизавета Макаровна.
С нажимом на «у вас».
Что тут можно сказать?
Если бравый сумел взнуздать себя, остановить порыв ликования, то и Лиза не кинулась в женскую истерику. Взяла себя в руки. Посмотрела на недавнего любовника тяжелым взглядом и промолвила только одно слово:
– Хорошо.
Самому Бравому казалось, что это не он, а кто-то другой, одетый в парадную форму при кортике, произносит ровным голосом:
– Поздравляю вас с будущим прибавлением. И мой вам совет: обязательно съездите, навестите мужа. Обрадуйте его. Добрая весть пойдет ему на пользу.
Только глаза выдавали ту бурю, которая бушевала в ее душе. Они расширились и, кажется меняли цвет: цвет отчаяния, цвет негодования, цвет презрения. Только глаза. Не губы. Губы же разомкнулись только для того, чтобы еще раз произнести:
– Хорошо.
Она ушла. Бравый отправился в ванную и принял душ. Поскольку приборка была уже закончена.
Офицеру история болезни выдается на руки под расписку. Вот она, история. Вот предписание. Вот проездные документы. Вот и последние напутствия лечащего врача. Вот поезд до Риги. В Риге – пересадка. На перроне Мартын кутался в дождевик и молчал. Осень между тем разбушевалась, размахалась мокрым порывистым ветром. Мелкий дождь стучал по капюшону прорезиненного плаща и по зонтику над головой Дзинтры.
– Почему ты молчишь, Мартын?
Мартын поерзал плечами под плащ-накидкой.
– Мы так любим друг друга, Мартын, мы так сильно любим Друг друга, – продолжала Дзинтра. Ей пришлось усилить голос, чтобы перекричать ветер. – Не бросай меня, Мартын! Этого нельзя делать! Этого никогда нельзя делать!
– Моя жена беременна, – вдруг буднично произнес Мартын.
– Ну и что? – уставшим голосом проговорила Дзинтра. – Мы с тобой, ведь, тоже люди! Мы люди. Райнис сказал: «Теряя друг друга, теряем себя». Сами себя теряем.
Подали поезд. Мартын механически обнял Дзинтру и полез во внутренний карман за билетом. Дзинтра не пошла с ним в вагон. Она молча смотрела на плачущие под дождем вагонные окна, не замечая того, что стоит в луже, в одной из многочисленных перронных луж, и туфли ее полны воды. Ночью у нее поднялась температура, заболело горло, из глаз и носа текли нескончаемые ручьи. Лицо опухло. То ли от слез, то ли – от насморка. Утром она не пошла на работу и вызвала участкового врача.
«Озаренный» проходил ходовые испытания, одновременно готовя боевые задачи. Мартын с головой окунулся в службу. Его каюта превратилась в настоящий штаб. Старшины команд, сменяя один другого, отчитывались (докладывали, докладывали! Лаконичный военный язык вытеснил из головы штатскую терминологию) о выполненных заданиях и получали новые. Мартын заново сдал командиру экзамен на допуск к несению ходовой вахты, и в море не слезал с мостика. Корабль после ремонта восстанавливал боевое слаживание.
Пошли стрельбы.
Служба крутилась.
Время летело.
На берег Мартын не сходил, уступая свою очередь товарищам. Жизнь как будто разделилась на две части. Одна часть – служба, и в ней – жизнь. Другая часть – непробиваемая тоска. «Теряя друг Друга, теряем себя». Додумался же человек десятилетия назад до такой простой истины! Мартын себя потерял. Превратился из человека в функцию. Он был единственным офицером на корабле, у которого в каюте отсутствовали какие бы то ни было фотографии. Стол, покрытый оргстеклом, был свободен от следов личной жизни своего хозяина. Только на полке рядом с уставами и наставлениями пристроился тоненький томик стихов Яна Райниса в русских, конечно же, переводах. После успешных стрельб артиллерии главного калибра с Марьына сняли выговор. Командир объявил об этом в кают-компании при офицерах. Товарищи пожимали ему руку, дружески похлопывали по плечу. А уж замполит-то Бравый улыбался на все тридцать два зуба, давая понять, что снятие взыскания произошло с его подачи. Поздравил горячо, потряс руку сверх нормы и сказал, не убирая улыбки – Зайдите ко мне, Мартын Сергеевич.
Мартын кивнул:
– Есть!
Замполитовская каюта располагалось напротив кают-компании. Мартын зашел, аккуратно затворив за собой дверь.
– Курите.
– Я не курю теперь. Врачи…
– Понятно. Как ваша семейная жизнь, Мартын Сергеевич? Я смотрю, вы на берег совсем не ходите.
– Так стрельбы. Отчеты потом ночами пишу.
– Я знаю. Флагманский артиллерист хвалил ваши отчеты. И все же надо иногда и на берег, к семье. Как у вас в семье – все в порядке?
Мартын пожал плечами.
– Да, в порядке. Жена собирается стать матерью…
– Что вы говорите! – оживился Бравый. – Это прекрасно. Вы уж будьте к ней повнимательней. Сходите на берег. И, – Бравый широко, по-свойски улыбнулся, – безо всяких приключений. – Он уставился в Мартына черными цыганскими глазами. – Безо всяких опасных приключений. – И спросил лихо, по-морскому – Добро?
– Добро, – сказал Мартын. – Разрешите идти?
– Идите, идите.
Когда за Мартыном Зайцевым захлопнулась дверь, Бравый облегченно вздохнул. Он обязан был деликатно провести работу по укреплению офицерской семьи. Работа была проведена.
Лиза встретила мужа спокойно и приветливо. Ни вопросов, ни упреков. Ужин. Рюмочка. В квартире чисто. На письменным столе – аккуратная стопка ученических тетрадей. Она, конечно, устает, но с жизнью справляется. Даже курсы испанского пока не бросила. Но скоро придется бросить. В женской консультации сказали, что все у нее идет нормально, но нагрузки необходимо сократить. Необходимо сократить нагрузки. И гулять. Гулять, гулять. Перед сном – обязательно. Вот даже и сейчас. Неплохо бы пройтись. Мартын согласится с ней прогуляться?
Мартын кивнул и стал собираться.
На прогулке она держала его под руку и что-то рассказывала из школьной жизни. Мартын не слышал. Он несколько раз пытался заставить себя «врубиться» – не получалось. Зачем он идет об руку с этой женщиной, думалось ему, что он ей и что ему она? Ах, да, ребенок. У них будет ребенок, и он, Мартын будет его воспитывать. Таков долг мужчины.
– Почему ты молчишь, Мартын? – вдруг спросила Лиза. – Ты очень устаешь на службе?
Мартын пожал плечами. Что он мог сказать? Что от него зависело? Ступор. Приборы по нулям.
А к Лизе стало подкрадываться беспокойство. Что ж он совсем отсутствующий какой-то. Нельзя же так. Нельзя, нельзя, все может развалиться. Она остановилась, прижала локоть мужа к своей груди и проговорила, потупив взор:
– Доктор сказала, что личную жизнь вести можно.
И заглянула ему в глаза. Но ничего в них не прочла, абсолютно ничего.
И дома перед сном она стащила с себя верхнюю одежду и, оставшись в открытой черной комбинации, со скромной улыбкой подошла к Мартыну.
– Можно, доктор сказала вести личную жизнь.
Руки Мартына легли на полуобнаженные груди жены. Глаза немного потеплели. «Жена, – подумал он, – жена, жена. Мать нашего ребенка»
– Ах, Мартын, – прошептала Лиза, какой ты нетерпеливый!
Но это было преувеличением.
Этой ночью Мартын исполнял свои супружеские обязанности. У него были обязанности. Он их исполнял.
На другой день он отправил Дзинтре письмо. Это было необычное письмо. В конверт была вложен фотография Мартына в парадной форме. На обратной стороне фотопортрета было написано твердым почерком: «Я УМЕР».
«Ах, Мартын! – рвется наружу восклицание. – Какой же ты позер!»
Позер, не позер, а если узел не распутывается, взял боцманский топор, да обрубил швартовый конец. Обрубил и отчалил от берега. Баста.
* * *
В жизни бывало всяко. Бывало сплошное крошево. Бывало такое крошево – хоть голосом голоси! Что там небо с овчинку! Мне шарик казался с горошину. И я на оси балансировал, И чуть не слетел с оси.Государственная комиссия по приемке нового базового тральщика прибыла в аэропорт за два часа до вылета самолета. Так было приказано начальником штаба базы. Механик, минер, связист, радиолокационщик, штурман и, наконец, артиллерист. Артиллеристом был назначен командир БЧ-2 эсминца «Отзывчивый» капитан-лейтенант Мартын Зайцев. В общем, эта командировка пришлась весьма кстати. Сменить обстановку, отвлечься, не видеть немого вопроса в глазах жены: почему ты молчишь, Мартын? А потому молчит Мартын, что нет у него слов. Какие слова у покойника. А он умер – и для Азинтры, и для Лизаветы. Оболочка живая, а духа нет. Отлетел, отбыл в неизвестном направлении. Для службы жизнь еще теплилась в теле артиллериста. А для дома, для семьи – увы, увы. Увы и ах.
– До регистрации час, – сказал механик, старший среди них и по возрасту, и по званию. – По пиву? Зашли в аэропортовский ресторан. Он был переполнен. Ноябрьские дожди и ветры вносили сумятицу в расписание рейсов, и неулетевших пассажиров набралось изрядное количество. Многие из них коротали время за ресторанными столиками. Место офицерам все же нашлось: метрдотель когда-то служил на флоте. Одним пивом, конечно, дело не ограничилось. И как раз в тот самый момент, когда механик объявил: «третий тост – за тех, кто в море», остальные радостно продолжили: «… кто в дозоре, кто на вахте и на гауптвахте», в этот самый святой для морского застолья момент, голос диктора объявил, что по метеорологическим причинам рейс задерживается, как минимум, до шести часов утра.
– Ну что ж, – сказал механик. – Быстро рассчитываемся и по домам. Не ночевать же здесь, слоняясь от стенки к стенке. Придется раскошеливаться на такси. Ветер буянил возле аэропорта, устраивая настоящие смерчи. Поздний автобус забрал неудачливых пассажиров, повез в город.
С тяжелым сердцем шел домой Мартын Зайцев. Он надвинул на лоб форменную фуражку, опустил на подбородок ремешок – чтобы не сбило ветром головной убор. С гораздо большем удовольствием он шагал бы сейчас к плавказарме сдаточной базы, где должны располагаться члены госкомиссии. Но стихия оказалась против него. Как и стихия развития жизни. Все против. Долг против желания. Так получилось, как говорят недисциплинированные матросы. Он вошел подъезд, поднялся на третий этаж. Было около двенадцати ночи. «Должно быть, Лиза спит, – подумалось ему. – Это было бы кстати». Стараясь не шуметь, открыл дверь. В комнате горел свет, он просачивался в коридор сквозь неплотно пригнанную дверь. Из-за двери доносились непонятные звуки: не голоса, не стоны, просто дыхание, слабые отзвуки каких-то скрипов… Мартын открыл дверь. Плащ-пальто, предметы формы и белье – все было свалено в кресле у стенки. Из груды торчал погон с двумя просветами и крупной звездой посередине. Мартын повернул голову направо и уперся взглядом в поджарую волосатую задницу, которая ходила ходуном, совершая напористые ритмические движения. Тело мужчины загораживало от Мартына тело женщины. Он видел только широко расставленные на столе полные руки. Мужчина почувствовал посторонний взгляд и коротко оглянулся. Это был заместитель командира корабля по политчасти капитан третьего ранга Бравый. Он на мгновение замер, и тут же раздался сдавленный голос Елизаветы:
– Не прекращай! Все равно! Не прекращай, я подохну!
Движение замполитовской задницы возобновилось с прежней силой. Когда раздался, наконец, победный стон, Мартына в комнате не было. Любовники одевались молниеносно, словно по сигналу боевой тревоги. Лиза первая привела себя в исходное положение. Туго затянутый халат и приглаженные волосы вернули ей цивилизованный вид. Она заглянула в кухню и в ужасе вскрикнула. На табуретке возле кухонного столика сидел ее муж и корчился от истерического смеха. Лиза пыталась начать какую-нибудь фразу, какую-нибудь идиотскую, ничего не значащую фразу вроде «давай поговорим» или «я сейчас все объясню», но это было бесполезным занятием. Мартын не слушал жену, он только слабо отмахивался от нее. Смех душил артиллериста, он не мог с ним справиться. Он стал задыхаться, лицо обрело синий оттенок. Тут и Бравый появился на кухне. Он моментально смекнул, что дело может окончится плачевно, если не вывести человека из транса.
– Прекратить! – рявкнул он командным голосом и, схватив подчиненного за плечи, принялся его трясти.
Мартын вдруг успокоился, встал с табуретки и глубоко вздохнул.
– Смешно, – как бы оправдываясь, пояснил он. Потом по-боксерски, без замаха, нанес сокрушительный удар по замполитовскому подбородку. Перешагнул через рухнувшее тело капитана третьего ранга и вышел из квартиры, хлопнув дверью. Не пройдя и половины лестничного пролета, услышал звук открывающейся двери.
Оглянулся. В проеме двери стояла Елизавета и смотрела на мужа взглядом, не вмещавшем в себя ничего доброго.
Мартын спросил:
– А ребенок будущий – чей?
– Да уж не твой! – произнесла она тоном безжалостной учительницы.
Артиллерия базового тральщика состояла из одной автоматической пушки 37–го калибра, установленной в носовой части корабля. Смехотворный объем работы для опытного артиллериста давал повод предполагать, что командировка будет носить прогулочный характер. Одна пушка для целого командира БЧ-2 эскадренного миноносца! Мартын предпочел бы, чтобы работы было больше, чтобы она заняла все его мысли, вытеснив из головы тупики и загогулины личной жизни. Но объект госприемки был один, и на этом объекте имелась одно артиллерийское орудие, которое предъявлял Мартыну один единственный представитель артзавода «Арсенал». Это был мощный, кряжистый дядька лет пятидесяти, чем-то неуловимым напоминавший Иманта, отца Дзинтры. Когда Мартын это понял, у него что-то заныло внутри и появилось простое желание выпить водки. Он мысленно одернул себя: «Не бывать этому! Что угодно, только не это!» Обслуживал пушку старший матрос из сдаточной команды. Зачехлить– расчехлить этим ограничивались его обязанности.
Представителя «Арсенала» звали Петром Ивановичем Карпухиным. Он сразу после знакомства передал Мартыну документацию: техническое описание, формуляр и приемный акт военпреда – представителя Вооруженных сил на судостроительном заводе. Мартын расположился с документами в своей каюте на плавказарме и принялся их досконально изучать. Нутро он сказал Петру Ивановичу:
– Проведем швартовные испытания. Проверим параметры и согласования.
Петр Иванович пожал плечами:
– Военпреды же все проверили. Вот акт. Вы что акту не доверяете?
– Доверяй, но проверяй! – Засмеялся Мартын. – Дело важное. Комиссия государственная. Ошибки быть не должно.
Три дня, до самого выхода в море, проверяли все пункты технического формуляра: миллиметры, граммы, градусы. А также запасное имущество, Старший матрос Зябликов, единственный комендор в сдаточной команде, смотрел на Мартына с уважением и печалью. С уважением – потому что увидел в Мартыне грамотного офицера, настоящего специалиста своего дела. С печалью – потому что рухнули надежды отоспаться на госиспытаниях. Петр же Иванович Карпухин не скрывал раздражения:
– Вот видите, – ворчливо заметил он, когда закончились проверки. – Все же сходится. Чего было суетиться!
Он догадывался, что в море, на ходовых испытаниях, этот не в меру старательный капитан-лейтенант вымотает из него душу. И он не ошибся. Когда возникли трудности с обеспечением самолетом для стрельбы по воздушной цели на пониженной высоте, Мартын отказался стрелять по случайным бортам гражданской авиации. Несчастный шар-пилот запускали шесть раз(!) пока не добились идеальной согласовки приборов управления. Но главный сюрприз Мартын преподнес Петру Ивановичу, когда проверяли режим автоматической стрельбы. Мартын просто взял секундомер и замерил скорострельность. Время показал секундомер. Количество выпущенных снарядов – безупречный механический счетчик.
Мартын разделил одно на другое и заявил оторопевшему представителю «Арсенала»:
– Скорострельность ниже формулярной на двенадцать с половиной процентов.
Они стояли на мостике. Корабли шел в гавань после окончания третьего дня ходовых испытаний. Услышав слова Мартына, Петр Иванович пришел в настоящее бешенство. Грубая брань сорвалась с его побледневших от качки губ.
– Не грубите, спокойно произнес мамонт нарезной артиллерии, которого не брала никакая качка, – брань – неубедительный довод.
Плавказарма, эта железная гостиница, стояла в тихой гавани, защищенной от капризов моря бетонными волнорезами. На дверях некоторых кают поблескивали медные таблички с указанием должностей их обитателей. Но одной из них черным на желтом красовались слова: «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ». Мартын, постучав, отворил дверь.
– Вызывали?
Адмирал сидел за письменным столом в расстегнутом кителе и по-домашнему прихлебывал чай из стакана, помещенного в подстаканник. При появлении Мартына чай отставил и выпрямился в своем кресле, подался вперед, привалясь к столу полным телом.
– Что у вас за неразрешимые проблемы, артиллерист? – хмуро спросил он.
Кроме председателя госкомиссии контр-адмирала Ядина в каюте находились главный сдатчик судостроительного завода Сандлер и представитель» Арсенала» Петр Иванович Карпухин.
– Да какие там проблемы? – вместо Мартына ответил Петр Иванович. Скорострельность в море замерялась примитивно. Военпреды проверяли две недели назад. Все в норме.
Мартын молчал. Не вступал в перебранку. Ждал, когда спросят. И спросили.
– Товарищ капитан-лейтенант, вы готовы подписать акт государственной приемки?
– Никак нет, товарищ адмирал, не готов.
– Значит так, – вступил в разговор главный сдатчик Сандлер, человек с вечно озабоченным лицом. – Значит, завод год работал, коллектив вкалывал, не жалея сил, спустил на воду десятки судов и военных кораблей, и теперь из-за вашего, молодой человек, каприза у нас окажется невыполненным годовой план. И многотысячный коллектив лишится и квартальной, и годовой премии! – Он сокрушенно покачал головой. И замечание-то не по судостроительной части, по части завода «Арсенал»! При чем же здесь коллектив нашего завода?! Товарищ адмирал, найдите какой-нибудь выход!
Адмирал хмуро посматривал то на Мартына, то на Сандлера, то на Петра Ивановича. Сандлер с трудом удерживал руки, которые рвались обхватить сокрушенную голову. Петр Иванович только пыхтел от возмущения.
– У «Арсенала» со дня основания не было рекламаций, – проговорил он, глядя через иллюминатор в неопределенное пространство. – Не было, и нет!
Адмирал краснел от напряжения мысли. Он ни на минуту не сомневался в правоте Мартына. Он понимал, что мелкими доработками здесь не обойтись, потому что скорострельность зависит от геометрии казенной части. Необходим комплексный перерасчет и комплексная переделка. За шесть лет его работы председателем госкомиссий такого не было. Адмирал Ядин также понимал, что неподписание акта является допустимым вариантом его деятельности. На то и государственная комиссия, а зачем же она иначе нужна. Если всегда все принимается, то зачем жечь топливо на госиспытаниях! Но Ядин знал и другое. Два дня назад завод отправил на его дачу комплект кухонной мебели, и установил ее во флигеле, который сам же и возвел силами своей бригады строителей. Не подписание акта грозит скандалом, где вскроется… И прощай тогда «клуб знаменитых капитанов», как флотские остряки называли отдел председателей госкомиссий. Прощай, адмиральская зарплата, партийный билет и тысяча мелочей, которые составляют понятие «статус». Статус терять нельзя, как нельзя терять голову. О дачных делах знал и Петр Иванович Карпухин, и, конечно же, Сандлер, и, даже Мартын Зайцев. Три пары глаз устремились на председателя. Штатские люди полагали, что адмирал может запросто приказать капитан-лейтенанту подписать акт. Адмирал же!
А он не мог.
Не мог приказать подписать.
И не мог согласиться с неподписанием.
Молчание длилось довольно долго. Наконец, адмирал приосанился и сказал солидно:
– Все свободны. Я подумаю. И когда народ двинулся к двери, прозвучало:
– А вас, Зайцев, прошу остаться!
Прямо, как в популярном сериале:
– А вас, Штирлиц…
Мартын улыбнулся этому сравнению, которое неожиданно залетело в рыжую голову.
– Чему вы улыбаетесь, Зайцев! – зарычал полный человек в адмиральских погонах. – Заварили кашу, и улыбаетесь!
– Я не заваривал ничего, – ответил Мартын. – Я проверял по формуляру.
– И как вы полагаете, что же нам теперь делать с приемным актом? И с коллективами двух больших предприятий? Притом, что базовый тральщик предназначен, как вам хорошо известно, в основном не для артиллерийского боя, а для минного траления!
Мартын почувствовал, как ярость овладевает головой. Он не боялся адмирала Ядина. Мартыну нечего было терять. У него не было будущего, прошлое полетело в тартарары. Было только настоящее, настоящий момент – момент профессиональной истины. И он сказал, как бы вторя адмиралу:
– И что же нам делать с дачной мебелью, которую вы бесплатно получили у завода?
Адмирал побагровел, поднялся с места, грозная туша нависла над письменным столом.
– Щенок! – вскрикнул он неожиданным фальцетом. – Не сметь так со мной разговаривать! Я командовал дивизией крейсеров! Был начальником штаба военно-морской базы! Мартын спросил тихо: А артиллеристом вы были?
– Да, – чуть снизив тон сказал Ядин. – Я был артиллеристом. Я окончил в училище артиллерийский факультет. Потом – академию. И все стрельбы я выполнял только на «отлично».
– Так как же вы, – начал Мартын, но фразы не закончил, потому что председатель госкомиссии вдруг схватился руками за пухлую грудь и осе в кресле, как мешок с мукой, и его крупная голова свалилась на плечо.
– Вам плохо? – вскинулся Мартын. – Я сейчас доктора… Из руководящего кресла раздалось спокойное и властное:
– Отставить!
Не меняя положения тела, адмирал достал из ящика стола таблетки, положил в рот. Мартын кинулся к графину, протянул адмиралу стакан воды. Ядин стакан принял, ополовинил, некоторое время полулежал в кресле, приходя в себя. Потом заговорил ровным, чуть дрожащим голосом:
– Ты вот что, капитан-лейтенант. Уезжай ты отсюда. Мне другого пришлют артиллериста.
– То есть, как это «уезжай»? – не понял Мартын.
– По болезни, – объяснил адмирал. – Ты же – после травмы, так?
– Ну, так…
– Скажешь доктору, что головные боли, он все оформит, я провентилирую этот вопрос. Болит голова-то иногда?
– Да нет…
– Заболит еще, – успокоил председатель государственной комиссии.
Мартын бесцельно брел по полутемному поселку, абсолютно не зная, куда девать себя этим вечером. Редкие фонари своим нищенским светом едва превращали мрак в полумрак. Полумрак в душе артиллериста не предвещал никакого просветления. У одинокого фонаря топтались две женские фигуры. Когда Мартын с ними поравнялся, одна из дам произнесла не без вызова:
– Военный, угостите даму спичкой!
Обе мяли в руках сигаретки. Мартын достал из кармана зажигалку:
– Будьте любезны!
Прикурили. Одна из них, та, что была поменьше ростом и поневзрачней, неожиданно спросила:
– Мы вам нравимся?
– Мартын пожал плечами:
– Так сразу…
– Ну да, а что вы робеете?
– Я робею?
– Конечно! Потому что вы трезвы, как матрос перед присягой.
Ого!
К вам на язык лучше не попадаться!
Фигуру ее скрала просторная куртка, лицо было неприметным. Подруга ее была высокого роста, почти с Мартына, одета в приталенное, ладно сидящее пальто, косметики было многовато, и она булла, пожалуй, слишком яркой, особенно ярко горели полные, зовущие губы. Разговорились, познакомились Маленькую и бойкую звали Ритой, другую – Надей.
– Надо отметить нашу встречу, – без обиняков заявила Рита.
– Что ж, – сказал Мартын, – ресторан на вокзале, наверное, еще открыт. – Он стал прикидывать, сколько у него осталось командировочных.
– Да нет, подала, наконец, голос Надя. – Ресторан через полчаса закроется. Да мы туда и не пойдем: нас, ведь, здесь все знают абсолютно.
Ее яркие губы, казалось, жили своей отдельной жизнью: то размыкались, то смыкались, то вытягивались в трубочку. Они, как бы давали понять, что слова – всего лишь аккомпанемент для их неповторимого танца. Во всяком случае, Мартын с любопытством уставился на рот ночной красавицы. Не без сожаления повел плечами:
– Значит, не судьба. Встретиться бы нам пораньше…
Рита возразила:
– Как это – не судьба? Очень даже судьба. Мы знаем тут одну тетку, она круглосуточно отпускает. Конечно, с наценкой. Недалеко тут. Дайте нам деньги, – решительно распорядилась она, – мы сходим. А вы здесь оставайтесь, никуда не уходите. Прикинула что-то в уме и уточнила:
– На две бутылки дайте.
Женщины удалились, скрылись в полумраке. Мартын усмехнулся про себя: придут они, как же! Но досады не было: все же, какое-никакое приключение, какое-никакое занятие: ждать, гадать, посматривать на часы и не думать ни о скорострельности, ни о недобросовестном адмирале. Еще сигарета – верная спутница бесприютности. Достал из кармана пачку любимого «Легероса», закурил, отвернувшись от ветра. Табак крепкий – аж голова закружилась. Это после травмы, догадался Мартын, не все еще срослось, как надо. Ладно, перекурим и потопаем в плавказарму. Посмеемся над собой, но убиваться не станем.
А женщины взяли и вернулись через полчасика. И предложили здесь же под фонарем одну бутылочку-то и распить.
– Только пить будем не просто так, – заявили инициативная Рита. – Пить будем на брудершафт.
Какой брудершафт? Без бокалов, из горлА!
– Ничего, – ничуть не смутилась Рита, – главное поцеловаться и – «на ты». Начинайте вы с Надей. Молчаливая Надя подошла к Мартыну, заведя руку за его шею, глотнула из горлышка и. пока Мартын делал свой глоток, расстегнула – распахнула свое приталенное пальто, после чего впилась в моряка долгим, ищущим поцелуем, прижимаясь к нему каждой клеточкой жадного тела.
– Не стесняйтесь, офицер, смелее! – подбадривала Рита. Она подошла к ним вплотную, оторвала ладони Мартына от спины дамы и положила их на ее подрагивающие ягодицы. И, когда они тяжело задышали и Мартын уже ногу просунул между Надиных ног, вдруг растолкала их в стороны и заявила:
– Стоп! Теперь моя очередь!
Расстегнула не только свою куртку, но и шинель Мартына, и китель, и прижалась к обтянутому тельняшкой торсу крепкой молодой грудью, и положила на свою грудь его руку, чтобы он ощутил возбужденные соски. Когда соски оказывались между его пальцами, он слегка сжимал их сквозь тонкую ткань блузки. Бюстгальтера не было на маленькой нахалке. Поцелуй ее был каким-то соленым и очень активным. Мартын почувствовал, как поднимается его орудие, которое никогда его не подводило ни скорострельностью, и ни чем иным. Тут настала Надина очередь разъединять мужчину и женщину. И она это сделала, оттолкнула Мартына и сама впилась своими пухлыми, ярко накрашенными губами в рот подруги. Пожалуй, страсти в этой, на первый взгляд, флегматичной, женщине было побольше, чем в демонстративно активной Рите. Теперь уж Мартын оторвал их друг от друга, растащил в разные стороны. Женщины тяжело, порывисто дышали. Надя сверкнула гневным взглядом, чуть прямо не испепелила артиллериста. Ритино лицо было измазано Надиной помадой.
– Занятные вы девушки! – проговорил совсем почти еще трезвый офицер.
– Выпьем, – предложила Рита. – А то душа горит! Бутылка пошла по кругу.
– Пей, военный! Мы же теперь «на ты»!
– «На ты» – то «на ты», – заметил возбужденный – что греха таить!
– Мартын. – Но до конца так и не познакомились. Мартын я, Мартын Сергеевич, если угодно! Он безмятежно улыбнулся. Подпольная водка делала свое дело.
Женщины тоже улыбались. Но – напряженно. Они не успели отойти от страстного лесбиянского поцелуя. Внезапно поднялся ветер, потащил по побитому временем асфальту обрывок газеты.
«Кто-то писал, кто-то читал, кто-то старался, и все это теперь катается никчемно по земле», – подумал Мартын и поежился, и поднял воротник шинели.
Рита первая скинула с себя оцепенение:
– Пошли ко мне, там поближе познакомимся! – скомандовала она.
Тут присущий Мартыну разум взял верх над похотью: Я-то вам зачем? – спросил он. – Вам и так хорошо.
– Нет, – тихо сказала Надя. – Так не хорошо. Нужен ты. – Она помолчала. – Нужен третий.
И они отправились. Мартын – в середине, девушки взяли его под руки, шли молча, прижимаясь к кавалеру.
В Ритиной однокомнатной квартире царила роскошная широченная кровать.
– Сексодром! – с вызовом сказала Рита. В мгновение ока появились тонкие стаканы и какая-то закуска.
– Теперь уж чокнемся, Мартын!
Чокнулись, выпили почти цивилизованно. Мартын разулся, снял китель.
Рита подошла к постели, скинула покрывало, одеяло откинула.
– Что же ты стоишь, военный? Раздень нас! Сначала меня. Боишься, офицер?
– Нет, – сказал Мартын. – Не боюсь. Расстегнул кофточку вспотевшими руками. Рита помогала, вытаскивая руки из рукавов. Мартын не удержался, погладил ее груди, завел руку под бюстгальтер. Надя подошла ближе. Уставилась на эти манипуляции немигающим взглядом. Рот ее был полуоткрыт, ноздри подрагивали.
– Теперь ее! – скомандовала Рита.
Высокая женщина подняла руки и слегка наклонилась, чтобы Мартыну удобнее было стягивать с нее тонкий свитер. Мартын принялся за дело. Рита тем временем самостоятельно разделась догола и легла в постель. Она лежала на спине, елозя и постанывая.
У Нади оказались большие, продолговатые груди, с трудом удерживаемые бюстгальтером. Нежные и пухлые, они так и рвались из лифчика. Мартын положил на них ладони. Мягкая податливость возбуждала Мартына.
– Расстегни же! – почти простонала женщина. Мартын повиновался. Надя кинулась к Рите.
– Смотри, военный! – раздалось с кровати. Высокая Надя нависла над похотливой подругой, та взяла в руки отвисшие груди и то зарывалась в них лицом, то исступленно целовала соски, то мяла их, прижимала к своей груди, чиркала сосками по соскам.
Мартын пришел в сильное волнение от этой сцены. Странно: отвисшие груди не должны были волновать мужчину. Над ними посмеивались, про них ходили тупые казарменные анекдоты. Но именно вид этой большой безвольной плоти невероятным образом возбудил артиллериста. Он сам не заметил, как разделся и оказался на грешном ложе.
Лег на спину рядом с Ритой и тоже принялся хватать и тискать груди высокой женщины.
– А-а-а! – вдруг закричала Надя и ловко, как цирковая наездница, перескочила с Риты на Мартына. Сама заправила мощный мартыновский член в раскаленное лоно, толчками, толчками насаживалась на него, и Мартыну в какой-то момент показалось, что он попал там, внутри, в настоящее пекло, и он зарычал по-звериному, и исторгнутая им лава перемешалась с исторгнутой лавой упавшей ему на грудь женщины. Обессиленная Надя отвалилась, легла на спину, груди ее раскинулись по сторонам. Рита тем временем принялась приводить в порядок главное достоинство артиллериста. Заботливо, как чистят ствол орудия после стрельбы, она протирала влажной губкой и мягким махровым полотенчиком это, только что на славу отстрелявшее орудие главного калибра.
– Перестань, – слабым голосом – проговорила Надя. – Пусть отдохнет. Ему еще трудиться и трудиться!
Некоторое время артиллерист неподвижно лежал между двумя женщинами и чувствовал, как медленно, но верно пополняется боезапас. Дамы не трогали его, просто не дотрагивались, чтобы не мешать процессу восстановления. Рита поднялась с постели и, не прикрывая наготы, прошла на кухню. Вскоре она появилась с очищенным апельсином и стаканом красного вина.
– Подкрепись, военный!
Когда с вином и фруктами было покончено, Рита приобняла Мартына за плечи и уложила его на бок, лицом к Надежде. Сама пристроилась за ним и – нет, не прижалась, – только дотронулась упругими сосками до широкой спины, покрытой у самых плеч рыжими веснушками. Мартын забеспокоился. Прикосновения делались все настойчивей, иногда он чувствовал, как в него на мгновение вжимаются две умопомрачительные упругости, от чего тело охватывал легкий озноб. А по спине скользили женские руки, еле касаясь кожи, иногда в ход пускались и ногти, нежно и коротко заигрывая с мужчиной. Женские пальцы, между тем, дошли до ягодиц, игриво царапнув накаченные, как футбольные мячи, половинки Мартыновского зада, проникли в щель между ними и встретились с пальцами Надежды, которые легли на мошонку кавалера и играли спрятанными внутри источниками жизненного семени. Тут один Ритин палец стал нежно, но настойчиво поглаживать вход в анальное отверстие. Сладостное и томное чувство заставило Мартына услужливо отвести ногу, и палец вошел-таки в отверстие и пошевеливался там. Что тут говорить, орудие Мартына пришло в готовность к стрельбам и начало, было, шевелиться в поисках цели. Однако же, и Надя не дремала по другую сторону водораздела. Она взяла дело в свои руки и, повернувшись к Мартыну спиной, подразнила его ствол чем-то теплым и влажным. Когда снаряд окреп, пристроила его к своему заднему проходу. Тут уж Мартын сам раздвинул ее ягодицы и не без труда проник в абсолютно новую для себя территорию. А Рита елозила за его спиной, ее печка, ища топливо, терлась о зад артиллериста, и рука Мартына как-то сама собой отвелась назад, и большой палец насадил на себя Риту, как эскимо на палочку. Так они лежали втроем, прижимаясь друг к другу и извиваясь от наслаждения. Одновременный оргазм исторг три истошных стона, потом все стихло.
Мартын лежал, потрясенный и опустошенный, и это потрясение, и это опустошение спасли его от злого отчаяния, которое захлестывало артиллериста после разговора с адмиралом.
Молчали довольно долго, казалось, каждый ушел глубоко в себя. Только Надя приговаривала иногда еле слышно:
– О, Господи!
Первой вернулась к реальной жизни Рита.
– Товарищи! – сказала она голосом распорядителя танцев, – прошу всех в душ!
Возражений не было. Страсти были утолены, нагота не вызывала волнения. А в душе-то в душе! Они мыли Мартына ласково и старательно, словно рабыни – своего господина. А уж пушку – то жалели! Боялись к ней прикоснуться, чтобы не потревожить. Поливали теплой водой, а руками не трогали, хоть руки эти самые так и чесались, так и чесались! Мартын же не был столь щепетильным, и омывая женщин, то придерживал и слегка сжимал груди, то поглаживал промежность. Женщины волновались, но струи теплого душа успокаивали их.
Товарищи, – продолжала распоряжаться Рита, – прошу всех одеться. Хотя бы немного.
Натянули, кто что: комбинашку, свитерок, Мартын – трусы и тельняшку.
Рита сделала широкий жест:
– Прошу к столу!
Все проследовали на кухню.
Рита выставила на стол початую бутылку вина, хлеб и миску с котлетами. Мартын почувствовал острый приступ голода. Котлеты притягивали, как маленькие овальные магниты. И прямо-таки пронзила мысль о выпивке. Но вино – не впечатляло. Не впечатляло вино. Мартын ничего не сказал, только вопросительно посмотрел на Риту. Рита молча кивнула и достала из холодильника полбутылки «Столичной». Когда Мартын захмелел, отвела его в спальню и стала медленно, лаская, стягивать с моряка тельняшку. Ну, и Мартын принялся раздевать женщину, он теперь полностью принадлежал ей. Она легла на спину, высоко подняла ноги, и когда Мартын вошел в нее, обняла ногами крепкую шею и в ритме соития все прижимала его к себе. Один раз он наклонился и всосался в левую грудь, и на ней осталось синее пятно – классический засос. Однако, ритм ритмом, а оргазм все не наступал. Поизрасходовался, видно, мамонт нарезной артиллерии, за два залпа расстрелял боезапас. Мартын все качал и качал уставшее тело, как незадачливый автомобилист качает воздух в прохудившуюся камеру: много движений, мало достижений. Вот тут-то и пришла на помощь Надя. Она пристроилась рядом с Ритой и, подчиняясь общему ритму, стала мять – ласкать молодые груди своей подруги. Почему-то именно это взбодрило артиллериста. Вспомнился обрывок какой-то пошлости: «Мужчина любит глазами»… Движения его участились, сила подачи снаряда увеличилась. Чуткая Рита отреагировала мгновенно. Она пришла в настоящее неистовство. Сняла ноги с Мартыновой шеи, свела их под ним и даже после взрыва не отпускала, не выпускала Мартына из себя.
После небольшого отдыха Мартын поступил в Распоряжение Нади. Он выкупала его в ванной, подпоила, подкормила и с помощью губ, языка и невероятных своих грудей собрала-таки в арсенале артиллериста остатки пороха. Потом опять Рита… Неугомонные какие…
– Кто вы, девочки?
– Мы жены рыбаков, и больше ни о чем не спрашивай, военный!
Потом за дело принялась Рита.
Потом опять…
Потом…
Всю силу молодого, недавно, не следует забывать, травмированного мужика вычерпали – выскребли к утру ненасытные рыбачки.
Наконец, то, что осталось от Мартына рухнуло на широкое ложе и отрубилось напрочь. Его кантовали, перемещали на край кровати – он не просыпался.
– Военный, у нас-то выходной, а тебе, наверное, на службу нужно?
Бесполезно.
Мартын спал глубоко и безмятежно, как когда-то в юности, до поступления в военно-морское училище. Не было силы, способной разбудить и поставить на ноги загулявшего офицера. Только сон – секунда за секундочкой – мог по капельки восстановить измочаленный организм. Женщины пристроились рядом и тоже уснули сладким сном. Они-то не были так измучены нежными схватками: во-первых, на их стороне было численное преимущество. А во-вторых, они – женщины.
В три часа дня Мартын отправился в плавказарму – сдаваться. Опустошенный и как-то даже отупевший, он не шел, а плелся по неровному тротуару. Встречный ветер бил по лицу, норовил сорвать фуражку. Ладно, фуражку: ее можно нахлобучить поглубже, и ремешок завести за подбородок. Ветер этот проклятый за ноги хватал, за ослабевшие в коленях ноги моряка. Еще позавчера эти ноги крепко упирались в качающуюся палубу, а сегодня подгибались и заплетались на ровном месте. Мартын зашел за угол дома, прислонился к стенке, закурил. Ах, Мартын, Мартын! Зачем же? Что за вредная привычка курить от нечего делать! И что за гусарство курить именно этот убойный «Легерос»! Ну, постоял бы у стеночки, расслабившись, да и поплыл бы дальше по малолюдной улице, экономя топливо. Так нет же: затянулся кубинской сигаретой, да и потерял остойчивость, как судно, у которого сместился центр тяжести. Крен, крен, крен с дифферентом, и безобидный только что дом стал опрокидываться на Мартына, и только распластавшись на земле, Мартын остановил это ужасное падение пятиэтажки.
В этот как раз момент с местом аварии артиллериста поравнялся комендантский «УАЗик». Излишне говорить, что вид приземлившегося на тротуар офицера произвел на коменданта сильное впечатление. Надо полагать, что если бы машина коменданта оказалась на этом месте минутой раньше, водитель все равно получил бы приказ остановиться: не для того комендант занимал свою должность, чтобы оставлять без внимания еле держащихся на ногах капитан-лейтенантов. А тут такой подарок: военный моряк в полнейшем дрейфе! Досадно, да и не по чину, но пришлось подполковнику и самому потрудиться, чтобы вместе с водителем перевести офицера из положения «лежа на тротуаре» в положение «сидя в машине». Стражи воинского порядка справились с задачей, и через полчаса Мартын обживал небольшую офицерскую камеру на гарнизонной гауптвахте.
Мартын лежал на деревянном топчане, укрытый шинелью. Родная военная система поддержала его в трудный час: предоставила, хоть и жесткое, но – место для лежания, хоть и в узилище, но – покой. Профессиональную амбицию не поддержала, а временный жесткий покой предоставила. Ну и ладно, ну и будем спать. Народная солдатская мудрость гласит, как известно: идти лучше, чем бежать, стоять лучше, чем идти, сидеть лучше, чем стоять, а лежать, лучше, чем сидеть. Вот так. Уснули, уснули, усну…
Председатель государственной комиссии, узнав о ЧП с артиллеристом, с трудом сдержал вздох облегчения. Теперь не потребуется никаких мнимых болезней: офицер отстраняется от участия в работе госкомиссии за личную недисциплинированность. Тот, кого пришлют на замену, будет более покладистым, потому что таких упертых, как этот Зайцев, просто больше не существует.
«Разбор полетов» на гауптвахте происходил в десять часов утра. Комендант гарнизона подполковник Топило по своему внешнему виду, как нельзя более, подходил к должности воинской дисциплины: высокий, широкоплечий, с большой головой и грубо отесанным лицом, он был, конечно же, чисто-начисто выбрит, коротко стрижен, брюки отутюжены, пуговицы на кителе надраены, подворотничок утренней подшивки, наградная колодка не засалена, словно только что из военторга.
– Здравия желаю, товарищ подполковник!
– Садитесь, капитан-лейтенант. Докладывайте.
– Что докладывать, товарищ подполковник?
– Откуда вы такой красивый?
– Документы у меня забрали. Посмотрите. Там в командировочном предписании…
– А ты меня не учи, куда мне смотреть! Докладывай сам, а я послушаю.
Голос у коменданта был низкий и грубый. Низкий от природы и грубый от должности. Он как бы не говорил, а рычал на нарушителя, подчиняясь неписанному правилу комендантской службы. Вместе с тем ему почему-то нравился этот рыжий каплей, который не юлил, не извинялся, держался независимо – на столько, на сколько позволяло положение.
Да, Мартын не юлил. Но скорее не из чувства собственного достоинства, а под влиянием апатии. Он ощущал себя снарядом на последней точке траектории, который вот-вот уйдет навсегда в морскую глубину. Все вместе с ним проваливалось в эту глубину: и служба, и личная жизнь, и даже недавняя половая оргия, не принесла радости.
– Так как же ты, капитан-лейтенант, дошел до жизни такой? С кем пил-то, член государственной комиссии? Один?
– Никак нет!
– С друзьями? Чего же они тебя бросили одного?
– Никак нет, не с друзьями.
– С бабами? Чего молчишь, с бабами, что ли?
– Я не буду отвечать на этот вопрос.
– Вот ты какой! Ну ладно. Своей властью объявляю трое суток ареста, а дальше пусть твое начальство разбирается. Адмирал Ядин, например.
– Ядин не станет разбираться. Он с удовольствием отправит меня в часть.
С чего это? Обычно начальники отбивают своих…
– Я неудобным оказался…
Комендант тоже понравился Мартыну Зайцеву. Прямой, грубоватый, наверное, честный служака. И Мартын неожиданно для самого себя взял да и рассказал подполковнику Топило всю историю с неудачно изготовленной пушкой. Кому-то нужно же было рассказать. Вот – военному коменданту.
Подполковник слушал внимательно, не перебивая. Потом подытожил:
– Ладно, борец за правду! Пушка – не пушка, а напиваться военнослужащему до свинского состояния не положено. Так что трое суток от меня остаются. Жаль, что власти не хватает, больше бы впилил. Все, идите. И чтобы в камере порядок был!
– Есть.
В двенадцать часов к воротам гауптвахты подошли две женщины. Они попросили вызвать к ним старшину гауптвахты. Долговязый мичман с маленькими хитрыми глазами не круглом, почти безбровом, лице появился через десять минут.
– Слушаю вас, гражданочки.
– Мы хотим с вами поговорить, – заявила та, что была поменьше ростом.
– Говорите!
– Лучше бы в помещении.
– Вам лучше?
Маленькая кокетливо сверкнула глазом:
– А может быть, и вам!
– Ладно, пройдемте в канцелярию. Часовому бросил коротко:
– Со мной!
В канцелярии усадил гостей на табуретки.
– Слушаю вас, гражданочки.
– У вас на гауптвахте находится офицер капитан-лейтенант Зайцев.
– А вы откуда знаете, кто у нас находится?
Тут высокая вступила в разговор. Сложив бантиком невероятно красные губы, пропела:
– Мичман, о чем вы говорите! Карасев – такой маленький город!
Мичман пожевал бескровными губами и сказал:
– Допустим, находится. Ну и что?
Маленькая затараторила:
Понимаете, он после госпиталя еще не совсем оправился, ему необходимо дополнительное питание для восстановления сил. На столе появилась увесистая хозяйственная сумка. – Вот…
– Уж не вы ли лишили офицера последних сил? – спросил старшина гауптвахты, который тоже жил в маленьком городе Карасеве.
– Фу, мичман, – возмутилась высокая, – как вы можете? – Она передернула плечами, чем привела мичмана если не в волнение, то в некое замешательство, в результате чего прозвучали долгожданные слова:
– Ну ладно, посмотрим, чего вы тут… – и старшина гауптвахты раскрыл сумку. – Яблоки, так, шоколад… А что это в банке, теплое еще?
– Это мясо тушенное.
– Зачем? Он же тут на довольствии! Горячая пища ежедневно.
– Знаем мы ваше довольствие! Здоровый ноги протянет!
– А это что: водка?
– Какая водка?
– Вот эта, «Столичная»!
– А это не наша водка, – нахально сказала высокая. А чья же, интересно? – спросил мичман.
– Ваша. – Моя?
– Ваша, ваша.
– А где же она была? – удивился мичман.
– А на столе стояла!
– Одна стояла? – поинтересовался догадливый начальник и посмотрел на высокую даму как-то искоса, с хитрецой, словно бы присоединяясь к заговору. Интуиция не обманула старого служаку.
– Почему одна? – собеседница опять искушающее передернула плечами. – Две. – На столе в мгновение ока появилась вторая «Столичная. – Две, – подтвердила она и добавила для ясности:
– Третьей не было.
– Добро, – сказал мичман, – передам харчишки. Сами выйдете? Провожать не надо?
Женщины покинули территорию карательного заведения самостоятельно.
* * *
Когда, окончив дальние походы, Я сразу стал невероятно штатским, Мир был моим, доверчивым и шатким, Весь в смене настроений и погоды. И если небо ежилось простудно, Я видел лица пасмурных прохожих, Я чувствовал озноб всеобщей дрожи, И было мне невесело и трудно. Но иногда веселыми глазами Сиял мне мир, как тысяча парадов. Солнц было столько, сколько женских взглядов, И лишь одно – неглавное – над нами.До чего же она непредсказуема, эта мужская натура! Казалось бы, получив нежданную посылку от любовниц, человек должен проникнуться к ним теплым чувством и с нежностью вспоминать недавние любовные утехи. У человека же в рыжей голове щелкнуло какое-то непредсказуемое реле, и мысли его устремились к латышской девушке, самой лучшей, самой нежной и самой желанной изо всех девушек и женщин, населявших планету. Казалось, окажись она рядом – и все неприятности займут скромное второе место, уступив одной только любви. Со стыдом и досадой вспоминал свой залихватский демарш с фотографией, на которой написал «Я умер». «Шут гороховый, – казнил себя Мартын. – Умер он, дубина стоеросовая!» Гостинцы, между тем подъел, силы восстановил более или менее.
С гауптвахты его выдворили утречком, после завтрака – с тем, чтобы он успел получить документы и сегодня же убыть из городка.
Рита и Надя поджидали недалеко от ворот. Они рассчитывали на повторение бурной ночи.
– Нет, – сказал Мартын. – Приказано убыть поездом сегодня вечером.
За передачу поблагодарил, поцеловал каждую, но как-то спокойно, по-товарищески.
Когда Мартын явился на плавказарму, приказ о его отчислении из госкомиссии, а также командировочное предписание и проездные документы были уже готовы, вручил ему их писарь строевой канцелярии. Мартын убыл, не попрощавшись.
На корабле Мартын сразу угодил дежурить, потом принялся налаживать занятия по специальности – за время его отсутствия старшины подзапустили это дело. Командир поглядывал на него хмуро, обронил, что Мартына ждет то наказание, которого он заслужил. Разжалование? Понижение в должности? Увольнение в запас за морально-бытовое? Это все не угнетало. Угнетало то, что по утрам на подъеме флага рядом с командиром маячила фигура замполита Бравого, и целый день они с Бравым сосуществовали на узком пространстве эскадренного миноносца. Замполит вел себя с Мартыном корректно, никаких неслужебных разговоров не заводил. Настроение, однако, было дрянным, просто никогда в жизни не было у Мартына такого дрянного настроения. Заваливаясь вечером в койку, он вызывал мысли о Дзинтре – только они чуть-чуть утешали. Иногда в голову нагло лезли образы Карасевских женщин, но он отгонял их, и они послушно удалялись, уступая место прекрасной латышке.
И вдруг однажды…
– Товарищ капитан-лейтенант, вас к командиру.
– Товарищ командир, капитан-лей…
– Садитесь, Зайцев.
– Есть.
– Поедете в Калининград, на прием к командующему флотом. Мартын изобразил на своем лице удивление.
– Удивлены?
– Так точно!
– Чему удивляетесь?
– Если каждого подвыпившего офицера вызывать на прием к командующему, флот разорится на командировочных.
– Острите?
Мартын молчал.
– Юмор невеселый, – припечатал командир. – И неудачный. Но вас вызывает командующий по другому поводу. Что там у вас произошло с приемкой материальной части БЧ-2? Произошло что-то?
– Так точно!
– Что ж вы мне не доложили?
– Вы не спрашивали.
– Где уж мне! Ваши фокусы не успеваешь отслеживать. Ладно, докладывайте.
Мартын рассказал все, как было.
– А, вот оно что! – проговорил командир, так значит, вас по этому поводу! Готовьтесь к обстоятельному докладу командующему.
– Но у меня все выкладки в секретной тетради. Там, в Корасеве.
– Вашу тетрадь доставят в штаб флота фельдъегерской почтой. Интересно только, как же в штабе узнали обо всем этом? Вряд ли адмирал Ядин сообщил о ваших разногласиях.
– Не могу знать, – по-уставному ответил Мартын.
– В понедельник в двенадцать ноль-ноль быть в штабе флота. Командировочное возьмите у писаря. Я уже подписал. И обратите внимание на форму одежды. Тужурка, кремовая рубашка. Чтобы складки на брюках – как ножи. Бриться не с вечера, а в день приема.
– Есть.
Мартын прибыл в штаб за час до назначенного времени. В секретной части получил свою рабочую тетрадь и, листая ее, сидел в приемной. Ровно в двенадцать адъютант командующего раскрыл перед ним массивную дверь адмиральского кабинета и, пропустив вперед Мартына, деликатно пристроился у стенки с блокнотом в руках Командующий вышел из-за могучего стола и шагнул навстречу Мартыну. Он был в кремовой рубашке и черном форменном галстуке. Тужурка покоилась на спинке кресла. Мартын заворожено смотрел на погон с тремя звездами полного адмирала.
– Товарищ адмирал, капитан-лейтенант Зайцев по вашему приказанию прибыл!
В кабинете находился флагманский артиллерист Балтийского флота контр-адмирал Бойко и член военного совета вице-адмирал Чубов. Командующий представил адмиралов, они поздоровались с Мартыном за руку.
– Докладывайте, товарищ капитан-лейтенант, что у вас произошло при приемке базового тральщика.
– Ничего, товарищ адмирал. Скорострельность носового орудия ниже формулярной. Вот расчетные таблицы, – Мартын протянул прошнурованную и пронумерованную рабочую тетрадь, раскрытую в нужном месте.
– Флагарт, посмотрите, – распорядился командующий.
Контр-адмирал кивнул и погрузился в таблички, расчерченные и заполненные Мартыном. Ему понадобилось не более двух минут, чтобы отчеканить:
– Так точно, скорострельность ниже формулярной. Адмирал нажал на кнопку селектора:
– Писаря секретного ко мне! С тетрадью учета выдачи.
Через минуту в кабинете показался молодой главный старшина. Можно было поручиться, что у него шел первый год сверхсрочной службы.
– Главстаршина, спишите с капитан-лейтенанта его рабочую тетрадь и запишите на контр-адмирала Бойко. Когда формальности были выполнены, и писарь покинул кабинет, командующий сказал:
– Капитан-лейтенант Зайцев, вы поступили принципиально и заслуживаете поощрения. Но поощрять мы вас не будем, потому что вы грубо нарушили воинскую дисциплину.
Он сокрушенно вздохнул:
– Как же вы могли, капитан-лейтенант! Такой разумный, такой принципиальный офицер…
Ответ Мартына был универсален. Он потупил глаза и проговорил:
– Так получилось!
– Вы будете переведены в артотдел флота. Флагарт, возьмете к себе этого артиллериста?
– Возьму, – сказал контр-адмирал. – Работы хватит.
– Только не расценивайте это, как поощрение, товарищ Зайцев.
Это просто кадровая перестановка в интересах службы.
И, обратившись к адъютанту:
– Мичман, подготовьте приказ!
Адъютант сказал «Есть!» и что-то чиркнул в блокноте.
– И коменданту Карасева – благодарность командующего.
Сформулируйте там…
– Разрешите вопрос, товарищ адмирал? – осмелел Мартын.
– Спрашивайте.
– За что поощрение коменданту Карасева подполковнику Топило?
Командующий усмехнулся:
– Этот подполковник совершил сразу два достойных поступка. Во-первых, пресек непотребное поведение одного капитан-лейтенанта, во-вторых – одного контр-адмирала.
– Как же он сумел доложить? – удивился Мартын.
– Нашел способ, проявил инициативу.
«Дорогая Дзинтра, моя любимая!
Как ты живешь, что у тебя нового, как твое здоровье? Я живу ничего. Мне дали в Калининграде однокомнатную квартиру, и я в ней живу один. Хотел завести собаку, но не имею возможности: у меня бывают дежурства, бывают и командировки – собачку будет не на кого оставить. С Лизаветой мы разошлись по взаимному согласию, так что я теперь свободен. Дорогая Дзинтра, если бы ты согласилась приехать ко мне, я был бы безмерно счастлив и рад. Я пишу это тебе уже четвертый раз, но ответа ни разу не получил, поэтому думаю, что мои письма к тебе по какой-нибудь причине не дошли, а это, может быть, дойдет. На службе меня ценят, взыскания сняли, представили к очередному воинскому званию «капитан третьего ранга». Это радует, но без тебя мне радость не в радость. Откликнись, вспомни наши дни и наши ночи, полные страсти и опасности.
Целую тебя, дорогая, любимая Дзинтра.
Твой Мартын».Это письмо, как и прежние, осталось без ответа. И Мартын начал понимать, что дело здесь не в том, что письма не доходят, а в том, что с ним не хотят больше поддерживать отношения. Пока он метался в своих обстоятельствах, у Дзинтры тоже могли появиться какие-нибудь обстоятельства – мало ли! К тому же у женщин, думал Мартын, все сложнее. Если мужчина может провести сумбурную ночь с двумя лесбиянками и потом просто отряхнуться и забыть все это, то у женщин все, наверное, не так. При мысли, что у Дзинтры мог кто-то появиться, у Мартына щемило сердце. Однако нужно было продолжать жить и служить, и Мартын служил, как всегда, старательно и был на хорошем счету. Что касается личной жизни, то ее не было, хотя времени для нее было больше, чем достаточно. Никогда за все годы корабельной службы Мартын не ощущал себя таким вольным казаком. Ежедневно в восемнадцать часов он «запирал море на замок» и отправлялся восвояси. Его жилье постепенно приобрело вид убежища аккуратного, энергичного холостяка. Перекладина в проеме двери. Гантели на маленьком деревянном помосте. Самодельная гладильная доска. Маленькая фотолаборатория в ванной комнате. Небольшая книжная полка с непременными Пикулем, Асадовым и Евтушенко. И фотографии на глухой стенке. Фотографии из собственной жизни. Все – в рамочках и застеклены. Мартын не допускал неаккуратности. В квартире всегда было чисто. По субботам Мартын производил большую мокрую приборку, в остальные дни – малую сухую. Как на корабле. Что же до женщин… Эту тему закрыли. С него хватит. Есть на свете одна, самая главная, женщина, которая не отвечает на его письма и сменила почему-то номер телефона. И ладно, и пусть. Мартын сам себе не скучен. Сам себя, можно сказать сделал. Плоть молодая бунтует, конечно, но с ней можно справиться. Пробежки по кромке пустыря. Силовые упражнения. Контрастный душ. Руки, ноги, спина, пресс накачены, как у профессионального спортсмена. В бане, например, не стыдно раздеться. Знай рыжих!
За столом сидели офицеры отдела во главе с начальником и соседка-разведенка, которая помогала Мартыну приготовить угощение. Все были в форме, только Мартын – в домашнем: спортивный костюм, под курткой – свежая тельняшка. Мужчины были без жен. Глубокое декольте разведенки повышало общий тонус. Слово взял начальник.
– Товарищи капитаны третьего ранга!
Все одобрительно засмеялись. Начальник продолжал.
– Сегодня я впервые могу обратиться к коллективу таким образом. Единственный наш вчера еще младший офицер сегодня сравнялся с вами в воинском звании.
– Не сравнялся – раздались голоса, – пока еще не сравнялся!
– Что ж, товарищи, не будем нарушать воинский обычай. Зайцев, вы готовы?
– Так точно! – ответил Мартын. Он разлил по фужерам коньяк (было принято разливать коньяк в фужеры). В свой фужер положил приготовленную заранее майорскую звезду и только после этого наполнил его.
– Полный вперед! – подмигнув, приказал начальник.
Чокнулись, осушили.
Соседка – разведенка гостеприимно угощала салатами.
– За нового кап-три!
Третий тост был, естественно, за тех, кто в море. Четвертый – за дам. Офицеры встали, щелкнули каблуками, склонили элегантно головы, поглядывая на декольте единственной за этим столом дамы.
Время было строгое. Партия и правительство боролись с пьянством. О гулянье в ресторане нечего было и думать. Только дома, за закрытыми дверьми. И – накоротке. Выпили, поздравили – и по домам. Чтобы если кого и развезет, так уже дома, в безопасности.
Проводив гостей, Мартын вернулся в комнату. Соседка-разведенка подошла к нему вплотную.
– Поздравляю, сосед.
– Спасибо, соседка.
Она взяла его руку, сжала, притянула к себе. А Мартыну-то, Мартыну, много ли было надо? После долгого воздержание и приличной порции болгарского коньяка? Рука Мартына охотно подчинилась, а вскоре и сама уже проявляла инициативу, осваивая соседкино декольте.
– Мартын!
– Ляля!
– Что ты делаешь?
– Снимаю эту блузку твою, она мне надоела?
– Зачем же, и так тут все видно!
– Не все, Ляля, не все!
– Хоть бы поцеловал сначала!
– Ага!
– А руку зачем сюда?
– А без этого, Ляля, что за поцелуй!
– Да?
– Да!
– Ах, как ты целуешься, Мартын! Кто это тебя научил, Мартын, так целоваться?
– Да так, кто-то…
– О, господи! А что это за доска у тебя такая, Мартын?
– Гладильная доска.
– Я таких не видела ни в одном магазине.
– Я сам ее сделал.
– Ты что… ну погоди… ты что на ней гладишь?
– Я все на ней глажу!
– А меня можешь погладить на ней?
– Ага!
– Ой, что ты делаешь?
Мартын схватил полураздетую соседку и понес ее к гладильной доске. Она билась, сопротивлялась в его мощных руках, но не слишком, не слишком.
– Сними колготки, попросил Мартын, уложив Лялю на свой крепко сколоченный инвентарь, – и лифчик тоже!
– Ничего я снимать не буду! – дерзко заявила соседка. – Тебе надо – ты и снимай!
С лифчиком Мартын справился легко, с колготками же пришлось немного повозиться. Немного, потому что Ляля при всей – на словах – строптивости способствовала ему своими телодвижениями.
Мартын не сразу приступил к делу. Он оглаживал, щекотал и целовал обнаженное тело, благо оно расположено было удобно, ниже пояса. И приговаривал:
– Вот я и глажу тебя, как ты просила. Приятно тебе?
– Приятно, приятно, но давай же скорей, я уже не могу больше!
– Ага!
– А-а-а! – тонко закричала Ляля, и были в этом крике и восторг, и жадность, и сладкая боль женщины, истосковавшейся по мужчине.
– Ах, Мартынчик!
– Ах, Ляля! – Еще! – Ага!
– Нет, не так. Я встану, обопрусь вот так, возьми меня сзади! – Ага!
– Груди, груди ласкай, Мартынчик! Как давно их никто не трогал! Они соскучились!
– Ага!
– А-а-а!
– О-о-о!
Мартын уснул под утро и спал, как всегда, беспробудно. И проспал бы, наверное, до вечера, если бы его не разбудил настойчивый звонок в дверь. Он открыл глаза. В комнате был идеальный порядок. В шкафчике за стеклом блестели чисто вымытые фужеры. На стуле лежало аккуратно сложенное чистое белье: трусы и майка. На спинке – спортивный костюм.
Из кухни доносился соблазнительный запах кофе. Раздался Лялин голос:
– Откроешь?
– Ага!
Мартын встал, натянул необходимое, подошел к двери.
– Телеграмма. Распишитесь, пожалуйста. Извините, что раз будила. Женщина средних лет протянула бланк на эбонитовой пластинке и химический карандаш. Мартын поблагодарил и расписался. Из кухни вышла одетая-умытая-причесанная Ляля с хлебной доской, превращенной в Подносик. На доске стояла чашка с кофе.
– Ложись, – улыбнулась Ляля и произнесла театрально:
– Кофе в постель!
Мартын развернул телеграфный бланк. Прочел телеграмму, сидя на кровати.
– Ты иди, Ляля, спасибо, – сказал он. – Я кофе не буду. Мне надо побыть одному.
Когда она ушла, прочитал еще раз всего два слова: «Поздравляю Дзинтра».
Повалился на кровать и зарыдал в голос, как обиженный ребенок.
Военная форма украшает мужчину. В особенности – морская. В особенности – офицерская. В особенности – форма старшего офицера, где на золотом погоне не один, а два черных просвета. Что и говорить, хорош был Мартын в новенькой шинели, в фуражке с дубовыми листьями на козырьке, с майорской звездой на двухпросветном погоне. Невольно заглядывался на свое отражение в витринных стеклах молодой капитан третьего ранга, шагая по до боли знакомым улицам латвийского городка. Однако, справедливости ради, надо заметить, что и гражданская одежда может придавать мужчине обаяния. Если это, например, короткая, пригнанная по фигуре дубленка светло-бежевого цвета, модные туфли на толстой микропоре – и все это при непокрытой голове, поскольку шапку заменяет мощная копна черных волос, умело организованная парикмахером. А если этот комплект дополняют светлые, под цвет дубленки, кожаные перчатки, и рука в такой элегантной перчатке сжимает букет дорогих по зимнему времени роз, то можно смело утверждать, что по внешним, по крайней мере, кондициям такой штатский пижон не уступит бравому морскому офицеру. Бравый же морской офицер и не участвует в состязании, напротив, он тушуется, он почему-то уверен, что кавказец направляется именно к Дзинтре, хотя в подъезде, ведь не одна квартира, а, по крайней мере, – двадцать, и кто скажет, сколько здесь проживает прекрасных дам, достойных мужского внимания, подкрепленного цветами. Но для чего-то существует же интуиция, она объясняется с разумом чувствительными сердечными толчками, вот она и подсказала, что этот сын гор явился в прибалтийский край специально для того, чтобы спутать Мартыну карты, словно джокер, заигравший против него. Вот и не зашел Мартын в знакомый подъезд, говоря себе, что, если потеряно все, то следует сохранить хотя бы собственное достоинство. И проплыл мимо душка-моряк, и долго дрейфовал по узким улицам, пока ноги не вынесли его к заветному кафе «Кая», с которого началась его личная жизнь, такая прекрасная, такая бурная и такая короткая. Все, как прежде: вежливый гардеробщик, приглушенный свет в зале, томная музыка. А вот и столик, где сидели они в тот памятный вечер с корабельным механиком Колей Зайцевым. Здесь свободно? Свободно. Очень хорошо. Коля теперь на Севере, «флажок» – флагманский механик. А вон тот столик, тот самый столик, к которому он подошел, и Дзинтра поднялась ему навстречу.
А вот… показалось?
Нет, не показалось.
Вот и Дзинтра
Направляется к столику после танца.
В сопровождении…
Зажгли свет, засновали официанты, все прояснилось.
Подходит к столу с легкой улыбкой.
С хорошо знакомой легкой улыбкой.
Таинственной и открытой одновременно.
И ждет, пока ей отодвинут стул.
И стул ей отодвигают.
Галантно.
Сверкая неотразимой улыбкой.
Показывая ряд крепких белоснежных зубов под аккуратными черными усиками.
Склонив красивую голову с буйной шевелюрой, даже зимой заменяющей шапку.
Однако, не долго, не долго посидел кавалер рядом со своей дамой. Выпили. Поел мясного и поднялся, чтобы выйти. Что же это, куда же ты, красавец? Ведь, курить можно и за столиком. Стильные пепельницы из цветного стекла красноречиво об этом говорят. В туалет? Просто в туалет, или поправить что-нибудь на себе, и без того безукоризненное?
Ушел.
Вдруг страшно захотелось подойти, начать все с начала. Можно вас? Да, пожалуйста. В Латвии женщины всегда говорят «пожалуйста»: «да, пожалуйста», «что, пожалуйста», «где, пожалуйста»… Мартын встал. И, наконец, встретился с ней глазами. Взгляд Дзинтры был суров и печален. Она совершенно определенно отрицательно покачала головой.
Делать здесь после этого было нечего. Мартын уехал ночным поездом.
* * *
Побледнели краски дня, Исчезают, тая. Тонкий месяц – салажня, Словно запятая. Ветер нянчит, как детей, Все мои ошибки. Небо дарит в темноте Грустные улыбки.Через три года Ляля забеременела. У нее были какие-то проблемы по женской части, что-то, связанное с прежней супружеской жизнью. Три года она избегала беременности, а тут решила рискнуть.
– Хочу ребеночка, – заявила она Мартыну. И пояснила. – Мальчика. Или девочку.
– Тебе же нельзя по здоровью, сама говорила. Ляля засмеялась и привела сокрушительный довод:
– Если нельзя, но очень хочется, то можно.
Это было расхожая шутка, запущенная на шестнадцатой полосе «Литературной газеты». Она каталась среди людей, как биллиардный шар, отскакивая от одного борта к другому, и, наконец, нашла свою лузу.
– Рожу ребеночка, – мечтательно говорила Ляля, и мы с тобой поженимся.
Мартын не возражал. Он и раньше делал ей предложение. Неоднократно делал. Желал определенности. Но Ляля не соглашалась.
– Не любишь ты меня, – грустно говорила она, запуская руку в редеющую рыжую шевелюру. – А вот будет у нас общий ребеночек – полюбишь. – Потом мечтательно уточняла: – Мальчик. Или девочка.
– Почему же не люблю? – сопротивлялся Мартын, слегка раздражаясь.
– Не знаю, – пожимала плечами Ляля. – Объяснить не могу. Но чувствую.
А тут повеселела, стала ходить в женскую консультацию, жизнь наполнилась.
А на службе у Мартына начались неприятности. И неприятности эти были связаны не с поведением Мартына, не с его офицерскими качествами и уж конечно не со специальной подготовкой. Мартын прочно закрепил за собой почетное прозвище «мамонта нарезной артиллерии», это была его вотчина, его кровная тема, в которой он разбирался едва ли не лучше всех на флоте. Дело заключалось в интенсивном упразднении самой нарезной артиллерии, замене везде, где только можно, пушек ракетами. Переучиваться Мартыну было поздно. Училища выпускали молодых ракетчиков, по этому направлению в штабах открывались новые должности. Новые открывались, а старые сокращались. Попал под сокращение и капитан третьего ранга Мартын Зайцев.
– Ну что, мамонт нарезной артилолерии, – сказал ему начальник отдела. – Сокращают тебя, как ни прискорбно. С первого марта ликвидируют штатную единицу, три месяца будешь за штатом, выполнять отдельные поручения и проходить медкомиссию. Так что готовься, подыскивай работу.
– Есть, – грустно отозвался Мартын.
– А пока придется съездить в командировку. Принято решение часть эскадренных миноносцев пустить под пресс, а часть затопить, используя в качестве мишеней для ракетных стрельб. Тебе придется обеспечивать одно такое затопление. Инструктаж получишь у флагарта и у начальника штаба. Твоя главная задача – безопасность личного состава.
– Кого топить станем? – спросил Мартын.
– Корабль тебе хорошо знаком, Мартын Сергеевич. Это – эскадренный миноносец «Озаренный».
– Да нет, сказал Мартын, изо всех сил скрывая волнение, – не может быть, – он даже отмахнулся от этой информации, как от наваждения. – «Озаренный» летом ушел на север своим ходом для использования в качестве учебного корабля.
– Вот на север и поедешь, Мартын Сергеевич, сослужишь своему эсминцу последнюю службу. Не будут из него делать учебный корабль. Расстреляют ракетами на глубоком месте. Уже и квадрат нарезали где-то возле острова Кильдин.
Мартын возвращался из Мурманска в подавленном состоянии духа. На его глазах и при его участии ушел под воду любимый эсминец. Его ждала досрочная демобилизация и какая-нибудь неважнецкая работа. Шло сокращение вооруженных сил отставных начальников становилось многовато. Приходилось рассчитывать только на свои физические качества. Немного утешали мысли о будущем ребенке: в жизни обещал появиться новый смысл.
Но и этой надежде не суждено было сбыться. Ляля разрешилась мертворожденным и сама скончалась при родах. Мартын остался один. Было несколько маловажных командировок с проверками выполнения последних указаний: по противопожарной безопасности, по специальной подготовке старшинского состава и так далее. Уезжать из Калининграда не хотелось. Маленькая квартирка и наладившийся немудрящий быт оставались последней его гаванью, за нее он и держался. Работу нашел в заводской гавани – береговым матросом. Отдать конец, принять конец. В ВМФ это поручалось молодым. Тут же на этом деле стоял целый Мартын Зайцев, отяжеленный уникальными знаниями, оказавшимися лишними.
Свободного времени оказалось гораздо больше, чем на службе. Мартын всерьез занялся фотографией. На общественных началах помогал в качестве фотографа Дому Офицеров, изредка его снимки печатали в газетах. Приставил к телевизору видеомагнитофон, иногда смотрел порнушки. Дурная кровь все не успокаивалась, бунтовала время от времени, посылала на сомнительные подвиги. Поле брани, вернее – поле нежной брани находилось на танцплощадке того же Дома Офицеров. В сшитом после демобилизации габардиновом костюме Мартын, человек крепкого телосложения, выглядел вполне прилично, достойно представляя возрастную группу танцующих. Женщин в свое гнездо приводил неохотно, предпочитал сражаться на чужой территории: отстрелялся – и в гавань, в гавань, в свою родную гавань. Побрился – помылся, и живешь дальше.
Так прошли годы.
Торцевая стенка его комнаты превратилась в маленький музей жизни и деятельности Мартына Зайцева. Все фотографии, а также почетные грамоты были любовно застеклены и занимали весь торец от потолка почти до пола. Мартын – младенец. Школьник. Курсант. В строю – знаменосец. В карауле. На волейбольной площадке. На помосте у штанги. Выпуск. Лейтенант. Старший лейтенант. Капитан-лейтенант. Капитан третьего ранга. В гавани с видом родного эскадренного миноносца. А вот уже и после службы. На пляже на Куршской косе. В застолье. В медленном танце. Мартын в «бобочке» с короткими рукавами. Немолодая, но вполне еще ищущая дама уютно устроилась в сильных Мартыновских руках. Подумывал о собаке. Жизнь позволяла завести такую роскошь. Ни дежурств, ни командировок… Колебался пока в выборе породы. Склонялся к немецкой овчарке. Но не окончательно. Вообще-то, у одного из соседей по улице вот-вот должна была ощениться именно овчарка, и он сказал, что когда случится, забежит к Мартыну, позовет его на смотрины. Так что вернее всего возьмет овчарочку.
И вот субботним вечером (Мартын, как раз, готовил себе ужин) зазвенел дверной звонок. Мартын, как был, в тренингах и майки пошел открывать. Шел не спеша, даже не очень охотно, потому что окончательно-то насчет породы еще и не решил. С другой стороны, думал он, посмотреть – не купить, посмотреть-то можно. Взявшись за дверной замок, спросил для порядка:
– Серега?
Ответа не последовало.
Ответа не последовало, потому что это был не Серега.
Да, это был не Серега. У порога стояла Дзинтра.
Мартын так растерялся, что у него буквально отшибло сознание. Осталась только самая верхняя пленочка сиюминутных мыслей. И он забормотал, как настоящий идиот:
– Я думал, это Серега, сосед, у него сука должна ощениться…
И замолчал.
Тогда Дзинтра сказала:
– Здравствуй, Мартын Зайцев! Я – Дзинтра. Ты меня не узнал?
– Нет, почему же? Узнал.
– Так поздоровайся, – сказала Дзинтра.
– Здравствуй, Дзинтра, – как загипнотизированный, отозвался Мартын.
Годы, естественно, сильно изменили Дзинтру. Но, как ни странно, – изменили к лучшему. Лицо ее стало строже и благороднее Большие сияющие глаза если и потускнели, то совсем немного. Слегка располневшая фигура, сохранила стройность, которую подчеркивало элегантное пальто. Шляпка оставляла незакрытой незакрашенную седую прядь. Этой женщине все было к лицу, даже надвигающаяся старость.
Мартын медленно приходил в себя. Помог Дзинтре раздеться, пристроил под вешалкой ее сумку. И, наконец, застеснялся своего не слишком опрятного вида.
– Побудь минуточку! – Метнулся в комнату, натянул спортивную куртку, замок молнии дернул вверх до подбородка. В нем постепенно просыпался гостеприимный хозяин. Обвел рукой комнату.
– Это моя гавань. Я здесь комендант. Дзинтра улыбнулась:
– Понятно.
– Вот ванная, заходи. Вот мой халат. Это полотенце чистое, только из стирки. – Добавил, подумав:
– Я в стирку сдаю.
Дверь в ванную закрылась, щелкнула задвижка.
– Запираешься? – дрогнувшим голосом спросил Мартын.
С той стороны двери хихикнули. Потом полилась вода.
Предательски защипало в носу. Схватил кухонное полотенце, обманывая себя, высморкался, будто все дело в насморке, потом, сдавшись, вытер глаза и запихнул полотенце в корзину с грязным бельем. – Да что же это такое, – ругал он себя, – распустил нюни хуже бабы. Она, вон хихикает, а я….
Впрочем, шум воды заглушал звуки, которые рождались в ванной комнате.
Мартын засуетился на кухне. На одной сковородке – картошка, на другой – яичница.
Рюмки, стаканы. Коньяк. А коньяка-то всего неполных полбутылки. Не возьмет, не возьмет, не снимет оцепенение. Что еще имеется в наличии? Пол-лимона. Порежем. Хорошо. Конфетки какие-то жалкие. Коньяк… До чего же мало коньяка!
– Мартын!
Он вздрогнул от неожиданности.
В дверях кухни стояла Дзинтра. На ней был туго стянутый в талии его халат. Она выглядела посвежевшей и помолодевшей. – Принеси мою сумку, Мартын. Принес. Дзинтра извлекла из нее фирменную бутылку:
– Кто ж приезжает из Латвии без рижского бальзама!
Вслед за бальзамом появились шоколадные конфеты, печенья и творожные булочки.
– Ты ведь любишь такие булочки?
– Ты помнишь?
– Я помню.
– Ну что ж, поздороваемся, наконец!
Она обняла его, прижалась щекой к щеке. Мартын прижал ее к себе правой рукой, а левой привычно провел по располневшей талии и круглому животу и, наконец, добрался до груди.
– Больно, мартын!
– Он ослабил руку.
– Когда-то ты спрашивала, нравится ли мне твоя грудь.
– Ты помнишь?
– Я помню.
– Сколько с тех пор прошло! Целая жизнь!
– Не вся жизнь! – испугался Мартын, – не вся, еще много осталось!
Они уселись, наконец, за стол и приступили к трапезе.
Напряжение спало, ослабла скованность. Сквозь нее, как побеги сквозь трещины в асфальте, пробились росточки смеха. А потом и вовсе стало весело. О. болгарский коньяк! О, латышский бальзам!
Вы упростили, развязали трудные узлы прошлого, которое у каждого было, увы, свое.
– А это твоя надпись на фотографии! Зачем ты…
– Потому что дурак!
– А этот твой кавказец с розами и без шапки!
– А твой побег из кафе! Почему ты так резко убежал?
– Потому что дурак!
– Какой ты теперь умный, Мартын! А меня еще любишь?
– Еще люблю.
– А я, ведь, сына родила. У меня сын есть.
– Какой масти? – спросил Мартын.
– Жгучий брюнет.
– Жаль, что не рыжий!
– Жаль. Но я люблю этого. Он мой.
– Замуж не ходила?
– Нет, только сына родила.
– Давай «на брудершафт»!
– Зачем? Мы же ляжем спать вместе. Или ты не хочешь, Мартын?
– Я? Хочу.
– Про какую собаку ты говорил, когда я пришла?
– Да вот, надумал овчарку завести, скрасить одиночество.
– Ах, Мартын!
– Что «ах»?
– Просто какая-то ерунда: у меня аллергия на собак. Задыхаюсь.
– Ну, ладно, ладно, все. Я постелю сейчас.
– Я сама постелю. А ты – марш в ванную!
Он пришел, в чем мать родила, нырнул под одеяло. Дзинтра ждала его в халате, надетом на голое тело. Она думала, что Мартын кинется срывать с нее халат, как бывало, как бывало когда-то. Мартын же аккуратно развязал поясок, и все. Зачем ты приехала, Дзинтра? За страстью двадцатилетней давности! Ее нет, ее не может быть, как не может быть вчерашней воды в реке. А разве не приятны его действия, эти умелые поглаживания эрогенных точек, ожидаемые ласки, уверенное вхождение в лоно? Приятно, приятно Дзинтре, но иного ожидала она от единственного за жизнь любимого мужчины. Ожидала чуда, а получила высококачественный продукт. Но и этого, заматеревшего, она сможет полюбить, она себя знает! Ты уснул, Мартын? Поспи, поспи, милый. Я тоже посплю. Нет, сначала я разбужу тебя, а потом, после всего, мы уснем вместе. Ты, мой рыжий, мое солнце, мое слегка облетевшее солнце…
На другой день она пошла с Мартыном на работу. Он взял с собой фотоаппарат и фотографировал, фотографировал ее, отщелкал две пленки, чтобы потом выбрать один, самый лучший кадр. Мартын знал из фотожурналов, что это называется фотосессией. Ему нравилось повторять: «Произвожу фотосессию». Свои обязанности берегового матроса он выполнял уверенно и четко, чем слегка красовался перед Дзинтрой.
На третий день она стала собираться домой.
– Тебе не понравилось со мной? – спросил Мартын. Дзинтра долго молчала, потом сказала тихо:
– Любящие люди должны стариться вместе. И посмотрела на Мартына вопросительно.
– Останься! – попросил Мартын.
– Навсегда? Ты зовешь меня замуж? Я, ведь, так ни разу и не была замужем!
Она ждала, она очень ждала, что Мартын примется ее уговаривать. Примется горячо уговаривать ее выйти за него замуж. Но это был другой Мартын, уставший и спокойный. «Сын грузинский, – думал он. – Новая морока. И собаку не заведешь!» Хотя при чем тут такая мелочь, как собака! Вслух же сказал невнятно:
– Ну, если ты считаешь…
Она горько усмехнулась, поцеловала его в лоб покровительственным поцелуем.
– Фотографии пришли, Мартын.
И уехала.
На торцовой стенке произошли изменения. Фотографиям пришлось потесниться, чтобы высвободить место для роскошного портрета никогда не стареющей женщины с небольшой седой прядкой и огромными выразительными глазами. Портрет это вне всяких хронологий разместился в самом центре импровизированного музея.
Другие истории
Командировка во внешнюю жизнь
Лейтенант был флотский, крейсерский, а ефрейтор – из парашютно-десантных войск. У лейтенанта не было жизненного опыта, а если и был, то весьма ограниченный, потому что семь из своих двадцати четырех он провел в рамках родного ведомства. Высшее военно-морское училище, а потом крейсер – это были во многом похожие формы жизни, где все – работа, быт и поведение – регламентировалось уставами, наставлениями, правилами и инструкциями. Неожиданности предусматривались и тоже регламентировались. Правда, бывали отпуска, эти ежегодные командировки во внешнюю жизнь. Но и отпуска были регламентированы традициями. Парадные визиты к родственникам, театральные антракты с дефилированием по фойе под руку с сияющей от гордости мамой, ухаживание за девушками.
Ефрейтор же был человеком бывалым. В своих парашютно-десантных войсках он был поваром. А повар – это уже фигура: строевых много, а повар один.
Лейтенанту дали ефрейтора на призывном пункте, потому что у старшего матроса, с которым приехал лейтенант, случился аппендицит, и его пришлось положить в гарнизонный госпиталь, а везти без помощника семьдесят призывников не позволяла инструкция.
Ефрейтор был крупный розовощекий парень с быстрыми, понятливыми глазами. Повадка его определялась готовностью все моментально выполнить и устроить в лучшем виде – почтительная исполнительность, готовая в любой момент перейти в фамильярность.
– Довезем, – подмигнул он лейтенанту и хихикнул. Лейтенант впервые был в такой командировке. Из опыта своих товарищей он знал, что дело это нелегкое. Про накал буйного южного темперамента, закупоренного в душные эшелонные вагоны, ходили настоящие легенды.
«Ладно, – думал лейтенант, – разберемся по обстановке».
– Довезем, – сказал он ефрейтору, – я и не сомневаюсь.
Сначала, когда эшелон тронулся, лейтенант и ефрейтор все мотались по купе, буквально вытаскивая призывников из окон и не давая им выкидывать из поезда бутылки, банки и остатки пищи. Причем, тех, кто особенно усердствовал в этом деле, ефрейтор слегка поколачивал. Правда, делал он это не обидно, призывники вокруг смеялись, и те, кому попадало по шее или по оттопыренному заднему месту, тоже смеялись, не подавая вида, что им все-таки больно. Первые двое смельчаков, вопреки запрету закурившие в вагоне, мыли туалеты. Ефрейтор работал не за страх, а за совесть.
Часа через полтора первоначальное возбуждение улеглось, призывники устали, их начал морить сон. Проводница вагона, немолодая, анемичная девушка с глазами не то заплаканными, не то сонными, сказала, что может выдать постели, но не каждому призывнику отдельно, а на всех – под ответственность лейтенанта. Не то потом она концов не найдет, кто брал, а кто не брал. Это не удивило лейтенанта. Он привык за все отвечать.
– Хорошо, – сказал лейтенант, – а что вы такая грустная?
– А чего веселиться, – хмуро отрезала проводница и поджала тонкие губы.
– Чаек будет? Давно не чаевничали, – по-свойски спросил ефрейтор, располагая проводницу к неофициальному разговору.
– Титан вскипятила, – отозвалась проводница и опять поджала губы и уставилась отчужденно в одну точку.
– Царапнем горяченького? – радостно спросил ефрейтор, заговорщицки подмигнув лейтенанту, и завозился было, организуя чаепитие, но лейтенант недовольно заметил:
– Не торопитесь, ефрейтор. Сначала нужно людей уложить.
– Это мы мигом, – подхватил ефрейтор и, проходя мимо проводницы, легонько ущипнул ее за тощий бок.
Лейтенант испугался, что сейчас поднимется шум, но проводница даже не моргнула своими белесыми глазами. Она сказала только презрительно и как-то безнадежно:
– Тоже мне ухажер!
И опять поджала губы и ушла за полог.
Полог был обыкновенным казенным одеялом, он отделял купе, в котором ехали лейтенант и ефрейтор, от остальной части общего вагона, проводя субординационную грань между ротой призывников и начальством. Через минуту ефрейтор привел в командирское купе парня, который еще на сборном пункте был назначен на путь следования агитатором. Это был коренастый крепыш деревенского вида, с борцовской шеей и простодушной усмешкой.
– Вот, – сказал ефрейтор, – Ибрагимов Муса. По-русски запросто чешет.
– Отлично, – сказал лейтенант. – Слушай, Ибрагимов Муса, боевую задачу: собрать с желающих по рублю и отдать проводнице, получить у нее причитающиеся простыни и все прочее и раздать призывникам. Осилишь?
– Осилю, – улыбнулся Муса. – Я деньги уже собрал. Желающие – все. – С этими словами он вынул из кармана старых бесцветных джинсов толстую пачку рублевок и трешниц, расправленных и сложенных аккуратно, и протянул лейтенанту.
– Зачем мне, – сказал лейтенант, – сам отнеси.
– Все заделаем в лучшем виде! – весело перебил ефрейтор, перехватил деньги и вышел вместе с Мусой.
«Действительно, хорошо по-русски говорит, – подумал лейтенант, – почти без акцента».
В это время Муса закричал что-то на своем языке, видимо, объявляя насчет постелей. Голос у него был резкий, хрипловатый и, как показалось лейтенанту, базарный.
Моментально все в вагоне пришло в движение, люди пососкакивали с полок, сгрудились у служебного купе, и лейтенант невольно подумал на флотский манер: «Как бы сильного дифферента не получилось, как бы рессора не лопнула».
Лейтенант отогнул полог. Муса стоял, расставив ноги, на двух нижних полках, стаскивал сверху матрасы и кидал их своим товарищам. Могучая спина его лоснилась от пота, он был в азарте. Голос его стал совсем хриплым – он сорвал его, перекрывая неимоверный гам, который подняли призывники. Однако этот хриплый голос вносил какую-то определенность в неразбериху, толчею и шум, поднятые, в сущности, безо всякого смысла, потому что постелей, естественно, было достаточно для всех, спешить тоже было некуда: впереди лежала длинная дорога, а в дороге всех дел-то – есть, спать да разговоры разговаривать.
Вскоре все устроилось, каждый получил свою постель, а разгоряченный Муса пошел в туалет мыться. Он вымылся, растерся вафельным полотенцем, потом лейтенант видел, как он курил в тамбуре и улыбался. И лейтенант подумал, что этому человеку доставляет удовольствие любое, самое маленькое дело, куда ему случается приложить свою энергию. Он знал таких ребят среди матросов. Они с одинаковым рвением занимались самым интересным – специальностью – и самым неинтересным – вахтами и нарядами. И три года военной службы, которые для некоторых были наполнены драматизмом ломки характера, у этих жизнелюбивых людей пролетали играючи, без надрыва и напряжения.
– Царапнем? – восторженно подмигнул ефрейтор, ставя на столик две кружки горячего чая. На газете горкой лежали куски пирога, вареная курица, пяток яиц, копченое мясо, чурек и еще какие-то кушанья, неизвестные лейтенанту.
– Ибрагимов принес, – объяснил ефрейтор. – Я ему намек дал, и он принес. Понятливый.
Это не понравилось лейтенанту, но он ничего не сказал. Ему вдруг показалось, что родное военно-морское ведомство продолжает окружать его непробиваемым панцирем и заботой – по крайней мере о том, чтобы он, лейтенант, был своевременно накормлен.
Приоткрылся полог. Добродушно усмехаясь, в купе заглянул Муса.
– Всем довольны? – спросил Муса лейтенанта. – Ничего больше не требуется?
– Спасибо, спасибо, – поспешно ответил лейтенант, – да и не стоило это… у нас есть консервы и колбаса.
Потом сказал:
– Завтра с утра начнут выдавать сухой паек – переходим на казенный харч. Скажи своим, пусть до утра все домашнее прикончат, особенно мясное, чтобы отравления потом не получилось.
– Не прикончат, – усмехнулся Муса, – нет, не прикончат – слишком много набрали. А насчет мясного – прослежу. Это правильно.
– Дневальные стоят? – спросил ефрейтор.
– Стоят, – ответил Муса, – в каждом тамбуре.
– Смотри, – сказал ефрейтор, явно любуясь собой, – если кто уснет, сам будешь сортиры драить, понял? Ты за всех теперь отвечаешь, за своих, понял?
– Понял, – сказал Муса и исчез.
– Приучается к службе, – сказал ефрейтор и хихикнул.
Ночь лейтенант с ефрейтором поделили пополам. Часов в двенадцать лейтенант уснул, а в три легко поднялся. Он никогда в жизни не пользовался будильником и мог проснуться в любое время. Когда на корабле рассыльный приходил будить его на вахту, лейтенант обычно уже сидел на койке и говорил ясным голосом:
– Передай вахтенному привет и скажи, что скоро сам пожалую.
Лейтенант вышел из купе. Около тамбуров боролись со сном дневальные. Вернее, один боролся при помощи книги и письма, а другой уже не боролся и глубоко спал, уронив голову на откидной столик. Лейтенант разбудил дневального и сделал ему внушение. Ефрейтора нигде не было.
«Этого только не хватало», – подумал лейтенант и стал искать своего помощника. Он прошел весь эшелон в оба конца, но ефрейтора нигде не было. В штабном вагоне он узнал, что в десять утра на каком-то разъезде будет большая стоянка с раздачей сухого пайка. В тамбуре своего вагона он взялся руками за решеточку дверного стекла и стал смотреть в темную южную ночь, провожая взглядом редкие убегающие огоньки.
Отстать от эшелона ефрейтор не мог хотя бы потому, что у него не было никакой надобности выходить ночью на маленьких сонных станциях и полустанках. На больших станциях эшелон не останавливали. Да и там ночью делать ефрейтору было нечего. Отстать умышленно, с тем, чтобы куда-нибудь заехать и потом схлопотать себе крупные неприятности – этого такой парень, как ефрейтор, да еще при том, что ему служить осталось меньше месяца, делать, конечно бы, не стал. Все это были утешительные соображения, но они, к сожалению, не отвечали на простой вопрос: где ефрейтор?
Дверь в тамбур отворилась, вошел Муса, достал сигарету.
– Чего не спишь, Ибрагимов? – ровным голосом спросил лейтенант. – Ступай спать.
– Вы ефрейтора ищете? – улыбнулся Ибрагимов, – не ищите, он здесь, недалеко…
Встречный состав заглушил конец фразы, по тамбуру запрыгали блики, и лейтенанту вдруг показалось, что происходит какая-то нереальность, сон какой-то: непролазная ночь, грохочущий состав, распадающийся в бликах света тамбур, исчезнувший ефрейтор и Муса Ибрагимов, похожий на таинственного восточного джина, который говорит загадками. И для того, чтобы разрушить это жутковатое состояние, сказал нарочито начальственным тоном:
– Товарищ Ибрагимов, когда мне понадобится, я вас спрошу.
– Понял, – сказал Муса и пошел в вагон. Прошло полчаса, ефрейтор не появлялся, и лейтенант сам разбудил Мусу.
– Так где, говоришь, ефрейтор?
Муса сонно улыбнулся и спросил простодушно:
– Уже понадобилось?
– Понадобилось, – сухо сказал лейтенант и вдруг подумал, что Ибрагимов вовсе не такой простодушный, как кажется. Ему даже показалось, что Ибрагимов тайно изучает его, лейтенанта.
– Так где, ты говоришь, ефрейтор?
– В служебном купе у проводницы чай пьет, – сказал Муса и закрыл глаза, погружаясь в сон.
– Чай пьет, – озадаченно повторил лейтенант, – вот чертов ефрейтор… нашел тоже… – Лейтенант вспомнил недобрый анемичный взгляд и поджатые губы и передернул плечами.
– Ну, да черт с ним, хорошо, что нашелся.
Утром лейтенант увидел проводницу и поразился перемене: она была приветлива, больше не поджимала губы, а, напротив, все время улыбалась, и оказалось, что зубы у нее ровные и белые, и улыбка поэтому светлая. И если вчера она была просто тощей, то сегодня казалась стройной и гибкой; если вчера он думал, что ей лет двадцать восемь, то сегодня дал бы года двадцать три, не больше.
«Чудеса, – думал не имевший жизненного опыта лейтенант, – чудеса, – думал он, – а все-таки хорошо».
И он решил, что, может быть, присутствует при чудесном повороте чьей-то судьбы, и решил не трогать ефрейтора, пусть пропадает у проводницы, раз такое дело.
До конца пути следования ефрейтор появлялся в вагоне считанные разы, шумел для острастки и исчезал в служебном купе. Причем, там, в служебном купе, дело не обходилось без выпивки: от ефрейтора слегка тянуло перегаром. Лейтенант сделал ему замечание и получил в ответ обычные в таких случаях горячие заверения в том, что все будет нормально.
Муса полностью заменил ефрейтора. Это произошло как-то само собой. Муса устанавливал дневальство, получал и раздавал паек, на станциях выводил небольшие группы за покупками. Призывники охотно признавали в нем старшего. Он был энергичнее, умнее, да и старше других года на три-четыре. Когда подъезжали к конечному пункту, Муса, потягивая чаек, рассказал о своих делах. Оказалось, что он окончил институт, работал в НИИ, учился заочно в аспирантуре и готовил диссертацию по ЭВМ. Через год он вернется к своей работе и своей диссертации. Он рассказал это не для того, чтобы выйти на равную ногу с лейтенантом. Просто зашла речь, вот он и рассказал. А насчет равной и неравной ноги у него была своя точка зрения:
– Завтра я буду руководить отделом, и инженеры будут выполнять мои распоряжения. А сегодня я – солдат, и ефрейтор для меня начальник. И нужно быть не тем, кем ты был вчера, и не тем, кем ты станешь завтра, а тем, кто ты есть сегодня. Тогда будет легко. Иначе будет трудно.
Так они беседовали за последней кружкой чая, а за окном проплывали песчаники, тронутые ветром сосны и облетевшие березы – щемящий душу приморский пейзаж. Путь подходил к концу. Два-три часа – и они разойдутся, чтобы никогда не встретиться. Одному – потянуть год солдатскую лямку и вернуться в свой НИИ шевелить мозгами, другому – получить три дня отгула за командировку и вернуться в бесконечную круговерть родного ведомства: вахта, занятия, тревога, вахта, сход на берег, вахта…
Отодвинув полог, в командирское купе вошла проводница. За ее спиной тенью маячила массивная фигура ефрейтора.
– Ага, – весело сказал лейтенант, – явление последнее: те же и хозяйка. Садись, красавица, посидим на прощание.
Однако проводница не воспользовалась приглашением и шутки не приняла. Суровая и неприступная, опять постаревшая на пять лет, она сказала, отрешенно глядя в пространство:
– Не хватает двух подушек по пятнадцать рублей штука. Пусть соберут деньги.
– То есть как не хватает? – удивился лейтенант. – В чем дело, ефрейтор? Что, их скушали, подушки эти?
– А, не знаю, – беззаботно ответил ефрейтор, – не хватает и все. Может, выбросили назло в окошко. Да вы не сомневайтесь, товарищ лейтенант, пусть на семьдесят копеек раскошелятся. В других вагонах больше собирали.
В других вагонах, действительно, собирали деньги за разбитые окна и всякие другие поломки, и проводники, действительно, заламывали десятерные цены. Но в этом вагоне собирать было совершенно не за что. И вот – подушки.
– Ибрагимов, – сказал лейтенант, – выясни у людей.
– Мне нечего выяснять, – твердо проговорил Муса, глядя в упор на ефрейтора.
– Я их сам вот этими руками пересчитал, когда сдавал постели. Это все неправда!
– Ты много не разговаривай, – захорохорился ефрейтор, – сказано – выполняй.
Лейтенант почувствовал, как непозволительно, – по-мальчишески краснеет. То обстоятельство, что проводница пришла требовать эти несправедливые деньги как бы под защитой ефрейтора, привело его сначала в недоумение, а потом в бешенство.
– Отставить, – тихо сказал лейтенант. – Ибрагимов, идите к личному составу, готовиться к высадке. Вы, ефрейтор, из-под земли достанете эти подушки. Они утеряны в результате вашего халатного отношения к службе. И грабить призывников я не позволю. Вы поняли меня?
– Так точно, – сказал ефрейтор и хихикнул. – Только семьдесят копеек – какой же это грабеж? А с меня, товарищ лейтенант, взятки гладки. Как военнослужащий срочной службы, я – лицо материально не ответственное. Вот так.
– Ладно, – сказал лейтенант, – готовьтесь к высадке. И скажите спасибо, что вы не у меня служите. Все.
Когда эшелон остановился на станции назначения, проводница убрала полог и сказала:
– Двери не открою, пока не заплатите за подушки.
И ушла в свое купе.
Служба приучила лейтенанта к мысли, что иногда приходится делать совсем не то, что считаешь нужным. Святое слово «приказ» отодвигало в сторону всякого рода личные соображения. Он умел подавлять себя и подчиняться приказу. Но ему ни разу не приходилось сталкиваться с необходимостью подавлять себя и подчиняться обстоятельствам. Больше того, в его систематизированной и в общем разумной жизни ни разу не возникало враждебных обстоятельств. Теперь же такие обстоятельства возникли.
– Ладно, – сказал лейтенант, – жди у моря погоды. И, подозвав Мусу, велел ему выводить людей через тамбур соседнего вагона.
Когда лейтенант последним спрыгнул на землю, роты были уже выстроены напротив своих вагонов и шла перекличка. Лейтенант пересчитал людей и отправился с докладом к головной роте, где стояли офицеры немногочисленного штаба и приемного пункта.
– Командир одиннадцатой роты, – сказал ему подполковник, начальник эшелона, – задержитесь.
Когда перекличка окончилась, подполковник приказал:
– Рассчитайтесь с проводницей.
– Товарищ подполковник, – возразил лейтенант, – разрешите доложить…
– Не разрешаю, – оборвал подполковник, – пока с проводницей не рассчитаетесь, буду держать роты. У меня эшелон не принимают из-за вашей нераспорядительности.
Это было обидно, это было несправедливо, это было черт знает что! Но это был приказ. Лейтенанту оставалось только одно: ответить по уставу: «Есть!» – и выполнить приказание, как велит тот же устав: беспрекословно, точно и в срок. Лейтенант представил самодовольное веснушчатое лицо ефрейтора и вдруг с поразительной ясностью понял, что ефрейтор тратил проводницыны деньги, он вспомнил, как оживился ефрейтор, увидев пачку рублевок и трешниц в руках у Ибрагимова, с отвращением вспомнил его потребительское хихиканье во время их первого ужина и как потом от него попахивало водкой. Не только водкой – казенными деньгами от него попахивало, казенными деньгами и подлым расчетом, и это было омерзительно.
Лейтенант почувствовал, что у него зудит спина. Это было предчувствие беды, потому что он уже знал, что в следующее мгновение скажет:
– Товарищ подполковник, можете держать роты хоть до утра. Я деньги собирать не буду.
Он действительно произнес громко эту фразу, чувствуя, как проваливается в пропасть, в некую кромешность, ощетинившуюся остриями ставших в одну секунду враждебными терминов: арест, административное дознание, суд чести, парткомиссия…
И лейтенант повернулся через левое плечо и пошел, заставляя себя твердо ступать по убегающей из-под ног земле.
В это время к подполковнику подбежал капитан, начальник штаба, что-то сказал ему, и подполковник громко окликнул лейтенанта. Лейтенант вернулся и стал перед подполковником, сдвинув каблуки пыльных хромовых ботинок, готовый ко всему.
– Лейтенант, – сказал подполковник, – ваши призывники оказались сознательнее вас. Деньги уже собраны и уплачены. А о вашем поведении я доложу по команде и укажу в отчете. Идите.
– Ну и зря, – сказал лейтенант, – ну и дураки.
Все вдруг стало ему безразлично и неинтересно, и он подумал, что неплохо бы отмыться, поужинать в ресторане и водки выпить.
Ефрейтор поступал в распоряжение приемного пункта. Лейтенант с ним даже не попрощался. С призывниками же прощался с каждым за руку, некоторые обнимали его – видно так было принято в их родных селениях. А у Мусы спросил:
– Зачем деньги собирал? Я ведь не давал приказания.
– Ай, – сказал Муса, – этой дуре тоже нужно как-то жить. И потом я тоже любопытный. Очень хотел узнать, куда же девались эти подушки.
– Узнал? – спросил лейтенант, теряя безразличие к жизни.
– Узнал, – сказал Муса, – они их в туалет спрятали. А туалет перед станцией закрыли.
– Как же ты узнал? – спросил лейтенант.
– А она сама сказала, – улыбнулся Муса, – за пятьдесят рублей сказала. Я ей предложил: «Скажешь – получишь пятьдесят рублей. Не скажешь – ничего не получишь». Она и сказала.
– Ничего себе, – ошарашено произнес лейтенант, – ну и любопытный же ты мужик… И неожиданно для самого себя добавил: – Может, увидимся еще когда, чем черт не шутит…
Послышались команды. Сержанты приемного пункта стали сколачивать роты в общую колонну.
Все шло по заведенному порядку. Командировка кончилась.
Так было
– На западе еще не отгремело, – начал я с волнением.
– Где не отгремело? – спросил руководитель литобъединения.
– На западе, – упавшим голосом пояснил я, чувствуя, как теряет цвет и запах оторванная от стихотворения строчка.
Руководитель литобъединения был то ли глуховат, то ли невнимателен – во всяком случае, он чаще всего переспрашивал начало. Потом, правда, слушал, не перебивая, а когда молодой автор заканчивал чтение, обводил, сняв очки, аудиторию рассеянным взглядом и задавал свой обычный вопрос, казавшийся сакраментальным:
– Давайте подумаем, что автор хотел сказать своим высокохудожественным произведением?
Все мы были молодыми авторами – независимо от возраста. Таллинн. Дом офицеров флота. Читальный зал на четвертом этаже. Год шестьдесят пятый, кажется.
На мне тужурка с капитан-лейтенантскими погонами – вершина моей офицерской карьеры.
Хрущев, XX съезд, переворот сознания, море искренности, море невозможных доселе парадоксов, море непривычных созвучий, замирание сердца от ниспровержения официоза – и у меня закружилась голова, и я рухнул в это море свежих чувств – гражданских и личных, рухнул всей своей освободившейся от панциря душой, чистым сознанием, не отягощенным знанием Блока и Пастернака, тем более – Ахматовой, Цветаевой и Мандельштама. И вахты мои стали пролетать незаметно: четыре часа, как одна минута. С тех пор осталась у меня полезная привычка сочинять стихи без карандаша и бумаги.
– Давайте, давайте, – сказал руководитель литобъединения.
Голос у него был хриплый, он много курил, и поэтому то и дело откашливался. У него был бритый налысо череп с крохотным чубчиком, зализанным назад. Глаза смотрели молодо и озорно.
– Давайте!
Я тоже откашлялся и прочел заветное свое стихотворение уже без остановки – с начала до конца…
На западе еще не отгремело. Метель белила интернатский дом. А мне до крайней точки надоело, Что голодно и что зовут жидом. Бывает безысходность и у детства. Несчастья обступают, как конвой. Незнаемое мною иудейство. В меня плеснуло скорбью вековой. Нет, я не ведал про донос Иудин. И что Христос был предан и распят, Я не слыхал. Но завтрак свой и ужин Я отдавал сильнейшим из ребят. И второгодник Николай Букреев Мне разъяснял вину мою сполна: Не выдал Сталин Гитлеру евреев, Из-за того и началась война. Я был оплеван интернатской бражкой. Я был забит. Я был смотрящим вниз. Я звался Мойшей, Зямкой и Абрашкой, Имея имя гордое – Борис. Во мне-то было килограммов двадцать Живого веса вместе с барахлом. Но я себе сказал: «Ты должен драться». И я сказал Букрееву: «Пойдем». Наш задний двор. Площадка у помойки. На задний двор не приходили зря. А пацаны кричали: «Бей по морде!», Подбадривая Кольку – главаря. Ударил я. И все исчезло, кроме Рванувшейся неистовой грозы. А дрались мы всерьез: до первой крови. До первой крови или до слезы. Букреев отступал, сопя сердито. Он, черт возьми, никак не ожидал, Что двадцать килограммов динамита Таило тело хилого жида. До первой крови. В напряженье адском Я победил. Я выиграл тот бой. А мой отец погиб на Ленинградском. А Колькин – в то же время – под Москвой.Я замолчал, и все молчали: матросы, несколько офицеров, девушки, учительницы на пенсии и мужчины разного возраста и разной степени необразованности. Все молчали, и я тем более молчал, и было мне почему-то тоскливо. Все, о чем рассказано в стихотворении, действительно происходило со мной в последнюю военную зиму в далеком уральском селе Огнево, где я жил вместе с матерью и двумя сестрами на квартире у аграномши Ямщиковой в узкой спаленке пятистенной избы. Мать была в интернате воспитательницей детсадовской группы, а я существовал в группе своего возраста. Все так и было, изменил я только фамилию своего противника: его на самом деле звали Юра Калганов. Я сильно переживал тогда свое долгое унижение, но пожаловаться матери или воспитательнице не мог: не позволял кодекс мальчишеской чести. Не помню, кто и как внушил мне этот кодекс, но помню, что был он непререкаем для меня: убили бы – не пожаловался. И помню еще – поклялся тогда себе, что когда вырасту, напишу об этом стихотворение. Эта клятва облегчала душу. Минуло двадцать лет, я выполнил долг перед детством, и вот они, мои первые слушатели: сидят, молчат, ничего не говорят, а я и не знаю, что жду от них, просто носил, носил свою ношу, вынашивал, и вот скинул, и стало на душе опустошенно и тоскливо.
– Так, – прервал молчание руководитель литобъединения. – Так.
Я думал, что он сейчас спросит, что автор хотел сказать своим высокохудожественным произведением, и как-то равнодушно ждал этого вопроса и возможного обсуждения: ничего автор не хотел сказать, описал, как было, и все.
Но руководитель наш не стал задавать своего сакраментального вопроса. Он какое-то время молчал вместе со всеми, и глаза его потеряли живость. Да, глаза потеряли живость, а голос обрел задумчивость, даже правильней сказать – раздумчивость умудренного жизнью человека.
– Ну и кто это напечатает? – спросил он. Я пожал плечами.
– Ну а зачем писать-то про это?
Я поймал себя на том, что застегиваю и расстегиваю тужурку. Я застегнул ее окончательно и проговорил:
– Так было…
– Не обо всем, что было, следует писать, – сказал руководитель литобъединения. – Я же, например, не обо всем пищу, что было в жизни… да… А бывало всякое.
И в качестве примера он привел историю, ради которой я взялся сейчас за повествование.
– До войны это было года за три, – голос его дребезжал от сдерживаемого кашля. – Я матросиком был, старшинкой, старшиной второй статьи на Дальнем Востоке… И раз меня позвали на встречу нового года. Я дружил с двумя ребятами из НКВД. Ну, они меня и позвали…
Нет, я не могу воспроизвести его речь – не помню. Слов не помню, а картинка, нарисованная им, навсегда осталась в памяти. Говорил-то он просто и образно, помнил детали – они оживляли повествование. В немногочисленных его произведениях эта простота и образность плюс детали играли положительную роль. Так что история, рассказанная в качестве подтверждения той мысли, что не обо всем, что было, следует писать, осталась в моей памяти как бы сама по себе, словно я сам пережил ее, или по крайней мере наблюдал, или видел в кино. И мне остается изложить ее своими словами.
Каким образом тот дальневосточный старшина второй статьи подружился с «ребятами из НКВД», понуждала ли его эта дружба совершать какие-либо поступки, осталось неизвестным. Я сам пять лет проносил матросский воротничок и знаю, что дружить матросу с офицером всегда было непросто.
Так или иначе, два молодых краскома из наводящего страх ведомства отправились встречать новый год, прихватив с собой младшего по званию и по возрасту приятеля. Особенность ситуации заключалась в том, что шли они не в компанию, где собирают стол в складчину, и не в гости, где ждали их с открытым сердцем, – они шли в семью некоего профессора, арестованного, как и многие в то время, ни за что ни про что, причем, они как раз и производили арест.
Что за профессор, каких наук? – старшина второй статьи не знал, потому что не интересовался. Запомнилась ему, однако, обстановка профессорской квартиры: много книг, антикварных вещей, старинные часы в деревянном корпусе.
Краскомы, веселясь, поведали, что они явились неделю назад в эту квартиру, оставшуюся без хозяина, и заявили, что придут встречать новый год, чтобы, значит, все было подготовлено в лучшем виде. Семья профессора состояла из жены, еще молодой, убитой горем женщины, и взрослой дочери, которую не могло изуродовать никакое горе. Перепутанные женщины поспешно согласились, сказали «милости просим», еще какие-то глупости и пролепетали, теряясь и тушуясь, просьбу сделать что-нибудь, как-нибудь посодействовать, чтобы там с их профессором получше обращались. Краскомы милостиво согласились посодействовать, и женщины уже с неким подобием энтузиазма стали вместе с молодыми людьми обсуждать новогоднее меню.
И они пришли тридцать первого декабря, как и полагается, сходив перед новым годом в баню, надраив сапоги, пришив чистые подворотнички и отутюжив гимнастерки. И наш старшина, тоже наутюженный и надраенный, в первом сроке, в воротничке, травленном хлоркой и заглаженном на две складки – одним словом, при всем параде – тоже явился с ними, прибыл, так сказать, для встречи нового года.
В жизни он не сидел за таким столом: салфетки – и те были накрахмалены. А шампанское стояло в серебряном ведерке, наполненном колотым льдом, и к нему прилагалась тоже салфетка, чтобы, значит, не браться руками за холодное. Как на открытках, которые продавали на рынках инвалиды.
Старшине скоренько соорудили пятый прибор, пододвинули стул.
– Проводим старый год, как у людей полагается, – сказали краскомы. Проводили. Прошлись для начала по коньяку. А уж закуски-то, закуски – все дальневосточное великолепие: балычок там, икорка – на таких разложены были тарелочках!
Но натянуто было за столом. Краскомы выпили, и старшина с ними, естественно, пора было веселиться начинать, но веселья не получалось почему-то. Хотя женщины улыбались все время добросовестно. Ну, что делать, когда веселья нет? Все есть: выпивка, закусь, обстановка, да и дамы – первый класс, суперлюкс, года два тому назад никому из них такое и не снилось! Но – нет веселья. Что остается? Остаются анекдоты. Значит, так. Армейская многотиражная газета объявила конкурс на самый смешной анекдот из трехсот слов. Чтобы, стало быть, ровно триста, ни больше ни меньше. И первое место занял такой анекдот. Значит, слушайте внимательно. Считаете? Считайте. «У нас в расположении был сортир». Считайте, считайте! «Он держался на трех досках». Считаете? «Кто-то подпилил эти доски». Так. «Остальные двести восемьдесят пять слов сказал старшина, вылезая из ямы».
Вообще-то, наш старшинка этот анекдот слышал, анекдот был старый, что называется, с бородой. Да и откуда было новому-то взяться в одном и том же гарнизоне? Старый-то старый, но смешной же! Представьте себе, как он из ямы вылезает и какие у него находятся слова в количестве двухсот восьмидесяти пяти. Представили? Да-да, женщины представили, это действительно очень, очень остроумно, и они смеются, разумеется. Вот видите: и мать, и дочь, обе смеются.
Смеялись, да. Но веселья не было. А что за новый год без веселья? Зачем собрались-то сюда? Веселиться. Иначе – зачем же? Выпить да поесть? Так это можно и не в новый год, не так ли? А выпить – надо. И – всем. И – непременно до дна. А то одни пьют, а другие только пригубляют. Что значит – не пьем? Не пьют только телеграфные столбы, да и то потому, что у них чашечки кверху дном подвешены. А мы сейчас такой тост предложим, что никто не откажется. За тех, кого нет с нами. А? Такой многозначительный тост… Ну вот, до дна, до дна. Это другое дело. Захорошело, да? Вот видите, захорошело.
Тем временем пришел момент открывать шампанское. Старшина и открывал, как младший по званию. По желанию публики – с хлопстосом. Пробка – в потолок, мимо люстры. Бокалы сдвинули, чтоб не пролить шипучку. С новым годом!
Где застолье, там патефон. Где патефон, там танцы.
– Можно вас?
– Да, конечно.
Старшина тоже осмелился, потанцевал сначала с матерью, потом с дочкой. Мамаша полнеющая была, касалась, танцуя, то грудью, то животом. Дочка тоже хорошо танцевала. По возрасту – младше даже старшины. Но – как каменная. Как каменная и глаза стеклянные.
И старшина сказал потом одному из краскомов:
– Она – как каменная.
– Ничего, растопим!
И – растопили. Стала – бокал за бокалом. Мамаша даже испугалась: что, мол, ты делаешь? А она кричит, ничего, мол, не говори мне, иначе, мол, не могу…
Потом уже фокстроты не стали заводить, одни танго, чтобы, значит, в обнимку…
Потом старшине постелили на диванчике – простыни свежие, крахмальные до хруста.
А краскомы женщин развели по комнатам.
А потом и поменялись. То ли заранее договорились, то ли так само сложилось – вышли одновременно покурить в гостиную, где старшина отлеживался, и договорились. Они, мол, и не заметят. Может и так.
А старшина так и проворочался до утра в крахмальных простынях. Зачем они его-то позвали? Непонятно.
Я думаю так: власть без свидетелей не приносит достаточной сладости. И будущий руководитель нашего литобъединения приглашен был в качестве свидетеля, или зрителя, ибо без зрителя – что за спектакль?
Вот такая история.
Повлиять на судьбу профессора эти ребята из НКВД, конечно же, не могли: следственная тюрьма и управление лагерей – это уже не их епархия. Так что повлиять не могли, если бы даже захотели. Да они и не задумывались. Несерьезно все это…
Вот такая, повторяю, история рассказана была, между прочим, нашим руководителем литобъединения, написавшем в своей жизни несколько весьма достойных, идеологически выдержанных романов, в которых, как уже говорилось, образность и деталь играли положительную роль.
Мы ехали на БАМ…
Да, так оно и было – мы ехали на БАМ: шестнадцать комсомольцев-добровольцев и я – командир отряда на время следования.
Комсомольцами были далеко не все, многие вышли к этому моменту жизни из комсомольского возраста, например, старшему добровольцу Юри Ули из Пярну было уже за сорок. Это, однако, не смущало руководство республиканского комсомола – как не противоречащее инструкции. Одновременно с нашей славной группой тянулись на восток отряды «Комсомолец Литвы», «Комсомолец Киргизии» и бог знает еще какие «комсомольцы» – например, «Комсомолец Ленинграда». Все это называлось общественным набором – не комсомольским, заметьте, а общественным, что значительно расширяло возрастные возможности. Самому мне было уже лет сорок пять… да-да, именно сорок пять лет было мне в тысяча девятьсот семьдесят восьмом году. Мне дали тысячу триста рублей денег – на дорогу на всю команду, шестнадцать анкет, шестнадцать паспортов, шестнадцать трудовых книжек, и я вез свой набитый документами «дипломат», бдительно охраняя его, как гарантию того, что все доедут со мной до места, никто не разлетится по просторам родины. Кроме этого, я вез десять экземпляров только что вышедшей брошюры «Там, где ходили изюбры», потому что речь в этой брошюре шла о Северобайкальске – а мы туда именно и продвигались – и потому, что автором брошюры был я сам.
Мы ехали на БАМ…
Ну, они-то понятно: кто поработать, кто – заработать, кто, может быть, замуж выйти. А я-то?
Я-то уже побывал там, поработал и материала набрал для брошюры и на повесть, которую в то время считал романом. Я-то чего? А вот чего: я ехал с надеждой добрать недобранное. Меня как-то жизнь все время сталкивала со своими некрасивыми сторонами, и я все думал, что просто попал не туда, где типично, ибо то что жизнь в целом прекрасна и удивительна, знал тверже чем военную присягу. И все-таки, как человек честный и всегда где-то работающий, то есть от гонораров вплотную не зависящий, описывал в своих документальных и художественных произведениях не то, что должен был увидеть, а то, что видел в действительности; порой получалось не слишком весело, и я от этого, честно, страдал.
В семьдесят шестом году я был в Северобайкальске, вернее, так: я там пробыл зиму с семьдесят шестого по семьдесят седьмой.
Когда я вернулся в Таллинн, в Союзе писателей устроили открытое партийное собрание с повесткой дня: «Доклад коммуниста Штейна о БАМе». И я в течение двух часов огорченно докладывал собранию увиденную мной картину жизни и, помнится, закончил так: «А куда здесь приспособить руководящую роль рабочего класса, подумайте сами».
Собрание подумало и приняло уникальное по тем временам (да и по этим, пожалуй!) решение. Оно состояло из двух пунктов. Пункт первый: коммунисту Штейну написать очерк на имеющемся у него материале о БАМе. Пункт второй: главному редактору издательства «Ээсти раамат» коммунисту А. Тамму издать этот очерк в кратчайший срок.
Мы оба – и я и А. Тамм – выполнили это решение, и я вез теперь в «дипломате» десять сигнальных экземпляров своей брошюры, причем с фотографиями, которые я, как сумел, сделал сам. Кроме брошюры, я вез еще рукопись – двести страниц текста, – уже художественного. И рецензию из журнала «Октябрь» на этот текст. «Всем хорошо известно, – говорилось в рецензии, – что БАМ – это стройка века. Лучшие представители нашей молодежи, комсомола совершают там чудеса трудовой доблести и геройства. По страницам же повести Б. Штейна бродят какие-то неприкаянные алкоголики и проститутки. По некоторым реалиям можно судить, что автор сам был на строительстве Байкало – Амурской Магистрали. Был, но ничего не увидел. Главные свершения прошли мимо его невнимательного взгляда».
Так мне было обидно получить эту рецензию! Не одни же алкоголики, никакие не проститутки населяли мою повесть, а просто живые люди, которых я любил, страдал за них, а уехав, долго еще с ними переписывался…
Отклонили повесть и в моем родном журнале «Таллинн». Редактор журнала старый эстонский партийный работник Антс Саар, тихий пьянчужка с персональным цековским окладом, сказал мне, дружески улыбаясь из просторного кресла, в котором он с наслаждением утопал:
– Скажу тебе, Борис, честно: мне твоя повесть очень понравилась. Жене – она прочитала – тоже. Но почему я в маленькой Эстонии должен печатать правду о БАМе? Однажды я как журналист ездил на строительство канала «Волго-Дон». И я был свидетелем того, как в карьере заключенные мужчины схлестнулись с колонной заключенных женщин и был настоящий свальный грех, и крики, и стоны, и трупы… Но я же об этом не писал.
Эх, Антс Карлович!
Ладно, может, я и правда все время попадал не в те мехколонны?
Поехали дальше.
Мы ехали на БАМ…
Долго ехали – от Москвы до Иркутска на пассажирском, потом два дня ждали «Комету» – теплоход на подводных крыльях.
Юри Ули чувствовал себя в дороге как дома. Он точно знал, когда и где следует запастись хлебом, сколько взять колбасы; соль и сахар вез из Таллинна. Юри Ули был скиталец. Казалось, все великие и невеликие стройки, экспедиции и зимовки, вербовки, контракты, проездные документы, подъемные пособия, палатки, временные щитосборные домики были созданы специально для Юри Ули. Это был его мир, и он чувствовал себя в этом мире как рыба в воде. Если существовал в природе самый неэстонский характер, то им был как раз наделен этот сорокалетний парень из Пярну. Да, именно сорокалетний – но парень. Надежный, но несолидный. Среднего роста, усредненные черты лица. Может быть, голова чуть крупнее нормы. Одет был… никак. Пиджак, брюки, сандалии, рубашка без галстука. Все неопределенного цвета. Но говорить любил! Голову его распирали воспоминания и впечатления, ему требовались слушатели и время, и дорога идеально это ему предоставляла. Я думаю даже, что в этом и заключался смысл его цикличной жизни: обрастать впечатлениями и делиться ими потом. Еще не известно, что было для него важнее…
Едва мы преломили первый дорожный хлеб, как Юри рассказал нам свою таймырскую историю.
На Таймыре он работал электриком. Вообще-то у него было с десяток рабочих профессий – целый целлофановый мешочек всякого рода «корочек» – свидетельств, допусков, прав. Но в тот далекий год он был только электриком, только что отслужившим срочную. Что там было на полуострове? Поселок какой-никакой и в нем, конечно же, столовая, которая по вечерам превращалась в ресторан. В ресторане же не только выпивали и закусывали, но и танцевали под лихой эстрадный оркестр, состоявший сплошь из молодых недипломированных музыкантов, которые днем – кто где – выполняли работы, далекие от искусства. На Таймыре человек не простаивал. На Таймыре человек работал и зарабатывал.
Наш Юри тоже захаживал вечерами в ресторан. Выпивал умеренно, его это дело само по себе мало развлекало. Его больше интересовало потанцевать, если получится – познакомиться, если получится – проводить, если получится… А если не получится – тоже беда невелика. Настроение не портилось. Так и жил беззаботно на Таймыре до одного рокового вечера. До того рокового вечера, когда ОНА, как бы между прочим подошла в перерыве к его столику и сказала спокойно: «Не танцуйте больше ни с кем, пригласите меня. И не пейте больше».
И отошла, не взглянув.
Ого!
Начиналось приключение.
Да какое!
Юри принял вызов.
Юри не пил больше. Демонстративно отодвинул от себя вино. Так… сидел… курил… вроде бы ничего не случилось… спешить некуда… вроде бы не распаляется внутри огонь любопытства…
А музыканты не торопились после перекура. Посмеивались, обсуждали что-то; кто-то, кажется, рассказывал анекдот. «Мис аси, – подумал Юри по-эстонски. – В чем дело? Тулид тойтама – тулиб тойтама – пришел работать – надо работать».
И еще подумал по-русски: «Козлы!».
Но вот пианист щелкнул три раза пальцами, и оркестранты извлекли из нутра своих инструментов первые звуки тягучей, разрывающей нетрезвые души мелодии блюза «Караван».
«Шагай вперед, мой караван…»
Ах, как это воспринималось на Таймыре!
«Огни мерцают сквозь туман…»
Юри поднялся. Сердце его бухало в такт ударнику – четыре удара в музыкальной фразе.
«Шагай без отдыха, без сна…»
Юри шагнул к столику, за которым его ждали.
– Можно вас?
– Пожалуйста!
«Туда, где вечная весна!..» Она была молода и хороша собой. «Мой караван…»
Когда она прильнула к Юри горячим телом, Юри понял, что она настоящая красавица.
– Расплачивайся и уходим, – скомандовала красавица.
Юри не стал возражать.
«Шагай, звеня…»
Все звенело и пело внутри Юри Ули, когда шли они не поздним, но черным, как смола, вечером по кривым, узким тропинкам, касаясь плечами сугробов.
В сенцах она взяла веничек, отряхнула снег – сначала с Юри, потом – с себя.
– Милости прошу.
– Здравствуйте этому дому! – сказал Юри, входя в теплую опрятную комнату, обставленную с большой – сразу было видно – любовью.
– Раздевайся, сейчас чай поставлю. Или кофе?
– Кофе! – нагло заявил Юри, снимая полушубок, и заглянул на кухню. Там тоже все было красиво, пригнано один к одному, баночки какие-то разноцветные – ну прямо, как на большой земле!
Она хлопотала, ласково улыбаясь Юри.
Обнять, что ли? – подумал он с волнением. – Но неудобно так сразу, не медведь же, не дикарь… Тем более в такой культурной обстановке. И тогда его крупную голову с зализанными назад длинными волосами посетила совершенно резонная мысль, а именно: неплохо было бы для начала познакомиться.
И он представился, сдвинув пятки:
– Юри. Можно – Юра.
– Я знаю, – ответила хозяйка, – Юри Ули из Пярну. Юри не слишком удивился, но был польщен.
– А как тебя? – спросил он несмело. Он заробел, потому что вдруг увидел, что девушка-то будет постарше его, посерьезней – заробел, и словно стена выросла между ними.
– Меня – Ирина… – она замешкалась. Хотела было и отчество произнести вслед за именем, но – замешкалась, усмехнулась и плечиком передернула. – Ирина и все. Ира.
За кофе Юри молчал, она тоже не болтала, посматривала на него загадочно и посмеивалась над чем-то, но смешок – заметил Юри – был нервный.
Потом она потушила свет, быстро разделась, забралась в постель и позвала:
– Разденься и иди ко мне…
Ну, ничего себе! Без подготовки-то, без поцелуев там, без борьбы и сумасшедшего шепота… Как так?
– Да не думай ты ничего, раздевайся, тебе говорят! – В голосе ее слышалось злое отчаяние. – Не робей, ты же парень!
А Юри и не робел вовсе и принял решение доказать, что не робеет, и доказал! И не один раз!
Ира отдавалась ему без сопротивления, но и без радости, механически как-то. Хорошо еще, что у Юри в то время не было почти что никакого опыта по этой части, а то он, чего доброго, мог бы и обидеться.
Но проводила его утром сердечно, встав пораньше, приготовив завтрак – как положено. И шепнула на прощанье, чтобы приходил вечером.
Ну, Юри взял для порядка в магазине «три семерки» и пришел, как уговаривались.
– Вот этого не нужно, – сказала Ира, отодвигая бутылку– Не люблю. И когда от мужчин запах – не люблю.
Не нужно, так не нужно – была бы честь предложена!
– Кофе?
– Кофе!
Через неделю Юри сказал:
– У меня контракт кончается – я на год вербовался. Уезжаю скоро.
– Знаю.
– Откуда? Я не говорил…
– Я все о тебе знала еще до первого нашего танца.
Это сообщение привело Юри в замешательство. Ирина ласково взъерошила ему волосы.
– Ты ничего не понял? Юри помотал головой.
– Ты не обижайся только… Тебе же хорошо у меня было?
– Хорошо.
– Ну и все. Так что ты не обижался, ладно?
– Да за что же? Она помолчала.
– Понимаешь, мне двадцать семь лет…
– Никогда бы не дал! – бухнул Юри. Она отмахнулась.
– Не в этом дело! Я инженер. Работу свою люблю, Таймыр люблю, уезжать не собираюсь. А замуж здесь не выйти.
Юри стало не по себе немного. Не собирался он пока жениться. Что не собирался, то не собирался.
– Да что ты приуныл? – она засмеялась – хорошо, открыто, легко. – Я и сама замуж не хочу! А ребенка хочу. Ну вот, я всех в поселке перебрала, вышло так, что-ты. Ты – самый непьющий. А мне ребенок здоровый нужен.
И опять Юри стало не по себе. Ребенок? Это как – ребенок? Его – как ни крути – ребенок. А может, он не хочет, что ж его-то не спросили?
Но возмутиться не посмел: очень уж у нее глаза были ясные в этот момент – как тут возмутишься? Спросил только осторожно:
– А может, не получилось еще ребенка?
– Ну прямо – не получилось, – засмеялась Ирина. – Я уж постаралась, чтобы получилось.
– Ладно, – насупился Юри и сказал невпопад: – Я, выходит, здесь третий лишний.
И собрался уходить.
– Ну что ты, какой ты лишний? Ну что ты! Мы же люди, а не машины.
– Вот именно, – оживился Юри, – не машины.
– Вот и ходи ко мне до рейса.
И Юри стал приходить, и Ирина, казалось, была ласковее и добрее, чем прежде.
И проводила его до самолета.
Вернувшись в Пярну, Юри затосковал. Жил у матери, работать пошел на стройку, стал каменщиком, сдал на штукатура. Казалось бы, чего еще? Природа роскошная, пляж необъятный – чего же еще? Летом – действительно, ничего. А зимой, как только первый припой схватит прибрежные мелкие воды, накатывала тоска. Лед, да не тот, снег бедноватый, ветры какие-то безголосые. Юри помотал, помотал головой, да и женился на культурной девушке Марет из стройуправления. Без любви. То есть по расчету. Расчет был на то, что культурная девушка Марет и семейные заботы отвлекут, прогонят тоску.
Не отвлекли, как Юри ни старался. Ремонтировал, красил, штукатурил, крышу перекрыл. Дом. Летом отдыхающих пустили– деньги пошли. Марет вещи любила, культуру быта. Культурная девушка. Умела дорого одеваться. А детей не хотела, говорила – рано.
Нет, она и Юри покупала вещи: свитер купила, кожаный пиджак, джинсы – Юри у нее выглядел тоже вполне культурно.
Когда Юри ушел обратно к матери, Марет сильно-то не огорчилась: ушел и ушел. Вернется, куда денется!
Юри и вправду возвращался время от времени, а потом опять уходил и тосковал все больше. И Таймыр уже казался ему землей обетованной, и странное любовное приключение без любви подернулось романтической дымкой, и он стал думать, что зря тогда не «продлился», может быть, и возникло бы это воспетое известными певцами чувство, которого он, к сожалению, не изведал, но к которому стремился всей душой.
Одним словом, Юри снова завербовался на Таймыр.
Опять была зима, опять «мело, мело по всей земле, во все пределы». Юри нашел в сенцах веничек, обил с себя снег. В голове билась подхваченная недавно песня:
«Ты прими мою голову, милая, Положи на высокую грудь…»Постучал нерешительно, потом – погромче, дыхание перехватило от волнения. «Вот и любовь, – мелькнуло. – Вот и она».
Дверь распахнулась широко. На пороге стоял здоровенный парень в спортивном костюме и домашних тапочках.
– Влип, – подумал Юри.
– Вам кого?
– Да вот… Иру… Тут жила раньше…
– Ира! – заорал парень, – к тебе!
– Что же будет, – лихорадочно думал Юри, – что говорить-то? Этот – наломает!
А Юри драку не любил. Что не любил, то не любил. И тут он увидел Ирину. Как увидел, так и обомлел, как говорится, потерял дар речи. Не потому что – хороша была, женственная, чуть располневшая, в ярком заграничном халате, а потому что к ноге ее прижалась девочка – годовалочка, пухлая, беловолосая, в стираном байковом платьице, коричневых колготках в рубчик – прижалась и смотрела на Юри с любопытством ясными, как у матери, глазами. И Юри твердо решил ничего не говорить, стоять и ждать развития событий. Да и захотелось бы – не смог – потерял, как было сказано, – дар речи, ощущал только сухость во рту, и все.
А Ира закричала радостно:
– Юри!
И еще радостнее:
– Вася! Это и есть Юри Ули из Пярну, Катькин папаша!
– Вот как! – захохотал Вася. – Так чего ж ты молчал! Заходи, давай, раздевайся!
И крепко пожал Юри руку.
Пронесло!
А Вася и бутылку достал, и закуска, естественно, нашлась в семейном-то доме, и пошло застолье, и Юри дали девочку подержать, она сначала испугалась, потом привыкла, ползала по нему, теребила воротник, слюнявила шею.
– Чувствует, от кого произошла, – смеялся уже захмелевший Вася. – Ну, будем. За тебя. Хорошую девку сделал. Потом Вася сказал:
– Ты вот что… Ребенок все-таки твой. Так что если что, ты не стесняйся, приходи цацкайся. Мы же люди. Можешь погулять с ней когда… – Он выпил, крякнул и подмигнул Ирине. – А мы себе еще настрогаем!
И никакого подвоха, вот в чем дело-то! Тут Юри благородно заговорил о деньгах.
– Еще чего удумал! – вмешалась Ирина.
И Вася поддержал ее:
– Еще чего удумал! Подарки – делай, примет, твоя дочка-то. А записана на меня, так что – никаких. Да что мы не заработаем на детей?! На Таймыре-то?
И Юри стал приходить «цацкаться» с Катькой, и сильно Катьку полюбил, и была эта любовь со взаимностью.
Такую историю рассказал на одном из бесконечных перегонов сорокалетний пярнуский парень Юри Ули, и мы слушали и охали и пили бесконечный чай, и никто не уходил в тамбур курить – всем было интересно, чем кончится.
А он крутил крупной головой и все оттягивал концовку, продлевая удовольствие владения общим вниманием, и, наконец, хитро подмигнув, заявил:
– Только что мы с дочкой совершили путешествие по Волге в каюте «люкс» – вот такое дело. Я ей давно обещал – в честь получения паспорта. Вот она получила… и фамилию взяла – Ули. И отчество мое.
Он достал из потертого бумажника новенькую фотографию.
– Вот – Катька, если интересно.
Всем, конечно, было интересно: и фотография миловидной девочки и надпись на обратной стороне…
Мы ехали на БАМ…
Теперь, одиннадцать лет спустя, мне кажется, что вся наша компания объединена была общим каким-то томлением: кто бежал от несчастливых личных дел, кто был в каком-то неясном поиске…
Наверное, это не совсем соответствует истине, были у народа и практические соображения, но сегодня они забылись, а откровения помнятся.
Сереже было тридцать лет. Он работал водителем заводского автобуса на заводе «Вольта». Работа неплохая: не однообразная, заработок был – триста. Хороший заработок в семьдесят восьмом году.
Так куда же ты, Сережа?
Сережа прямо сказал:
– От жены сбежал, нет мочи.
– А что такое?
– Тряпки. Тряпки и тряпки. И все.
– Ну, а к тебе-то она как?
– А не замечает, как пустое место. И ночью каждый раз… Как милостыню выпрашиваю. Самому стыдно, другой раз плюнешь – а куда деваться? Вот – завербовался.
Как было сказано, мы в Иркутске застопорились, ждали «Комету», не обошлось без ресторана, и Сережа после ресторана, как говорится, не вернулся на свою базу. Базой для нас было общежитие строительного техникума, и Сережа в общежитие ночевать не прибыл. Его увела милая хрупкая сибирячка, смуглая, чуть раскосая – явно с примесью бурятской крови.
Уже на теплоходе он сказал мне:
– Нашел.
– И что же ты нашел, Сережа?
Сережа насупился: стеснялся говорить высокопарно, а без значительных слов тут было не обойтись.
– Понимаешь, она меня желала. – Поднял голову, посмотрел мне прямо в лицо. – И благодарила, понимаешь?
Что здесь было не понять!
– И что, Сережа?
– Уеду я с БАМа. К ней. Я бы и сейчас остался. Да ведь сейчас нельзя?
– Нельзя, – сказал я. – Я должен всех довезти до места.
– Знаю.
– Ты вот что, Сережа, ты только подъемные не получай на месте. А лучше всего сразу заяви, что передумал – отпустят.
– Знаешь, – сказал вдруг Сережа, – когда я жене сказал, что на БАМ еду, она ничего не ответила. На вокзал пришла, ты видел Я говорю: «Прощай, не вернусь, наверное» Знаешь, что она сказала? Она сказала: «Купи там дубленку, размер сорок шестой». И все.
Сережа действительно сразу же уехал с БАМа – в отделе кадров строительно – монтажного поезда ему, что удивительно, без звука выдали документы и отпустили на все четыре стороны.
Вслед за Сережей уехали еще трое. Их, оказывается, в том самом иркутском ресторане переманил леспромхозовец из «воруй-леса» – так назывались заготконторы из центральных и южных областей, получивших деляны для срочной заготовки стройматериалов. Они здорово платили: время – деньги, такая у них ситуация.
И что странно, опять администрация СМП не возражала против отъезда добровольцев, не вспомнила даже о затраченных на дорогу деньгах.
Юри Ули тоже не остался в строительно-монтажном поезде. Нашел себе работу в том же Северобайкальске в мостоотряде – подрывником. У него были «корочки» и по этой специальности.
Отпустили без звука.
Никого из них я не встречал больше в своей жизни.
Мы ехали на БАМ…
Часов за пять до Иркутска на какой-то минутной станции впрыгнуло в вагон существо женского пола, однако с замашками мальчишескими и в соответствующей одежде: потертые джинсы, сапоги, свитер, штормовка. И, разумеется, рюкзак.
Татьяна.
Татьяна достала из рюкзака хлеб и чеснок. После этого вытянула из-за голенища тесак и разрезала буханку.
– Угощайтесь!
Она была стрижена под скобку. Короткие пыльные волосы, глаза блестели лихорадочным блеском, от нее толчками исходила энергия, которой было тесно в замкнутом пространстве вагона.
Наши сообразили чай.
– А я с поля, – сообщила она. – Я четыре месяца провела в поле.
– В каком поле? – не поняли мы.
– В геологоразведке. – Она помолчала. – В поле хорошо. У нас начальник партии… У нас такой начальник партии! Хотите, покажу?
И к моему удивлению, она опять полезла за голенище и вытащила завернутую в какой-то мятый бланк фотографию. Честно говоря, я не запомнил лица мужчины, изображенного на снимке, запомнил только, как она ревниво следила за нашими лицами, пока мы рассматривали фото, и как потом аккуратно завернула его в тот же бланк и спрятала в сапог. Лихорадочность ее поубавилась – то ли чай, хлеб и чеснок подействовали успокаивающе, то ли наши посторонние разговоры… Но иногда ее обветренное лицо словно бы окаменевало, взгляд отлетал куда-то за вагонные пределы, и мы вместе с нашим пассажирским вагоном переставали для нее существовать. А что же существовало вместо скучной реальности?
Неведомое нам поле…
Мы ехали на БАМ…
И среди нас – пять девушек. Четыре эстонки из Вильянди и русская Галя из Таллинна, эстонки сошли под Красноярском. Они были направлены на строительство вторых путей, имевших к БАМу косвенное отношение. Две девушки – портнихи, две – воспитательницы детского садика.
– Куда вы, девочки, зачем?
– Мир посмотреть, Россию посмотреть, а то так и проживем и ничего, кроме Вильянди, не увидим. – Хрупкие такие, домашние. И их подхватил раздуваемый в стране ветер странствий, увлекли романтические устремления, поощрявшиеся кадровыми комсомольскими работниками.
Через месяц в Талинне я получил от них письмо. Письмо было написано по-эстонски: вильяндиские девушки в русском не были сильны. Они сообщали мне, что работа у них – закрывать теплотрассы, то есть копать мерзлую землю, носить ее в носилках и сваливать в траншеи. Работа тяжелая, писали они, но ничего, жалоб нет, знали, на что шли. Только вот совершенно нечего читать. В ЦК комсомола, когда шел набор, им обещали регулярно посылать эстонскую прессу и книги, потому что по-русски читать для них – та же работа. Да и словаря у них тоже нет. Обещали, а не шлют.
Я пошел в ЦК комсомола Эстонии. Я хорошо помню этих молодых людей из отдела рабочей молодежи – Тоомаса и Диму. Тоомас был щуплый, малорослый, но очень представительный: костюм, галстук на белоснежной сорочке, прическа, слабые усы на мелком лице. И вид строгий – строгий. И разговор деловой-деловой. Дима же, напротив, напоминал рабочего-интеллигента, революционного демократа, к тону же – общительный, открытый, доброжелательный и деятельный. Но книг не послали ни один, ни другой. В общем, я трижды ломился в их комсомольско-молодежные сердца, потом плюнул и сам занялся этим делом…Мужественные дисциплинированные девочки поблагодарили меня письмом, мы еще какое-то время переписывались…
А Галя прибежала к поезду в шелковом платье, в пыльнике и в туфлях на высоких каблуках. Она работала в ПТУ – мастером по производственному обучению – красивая, яркая девушка лет двадцати двух.
Что ее толкнуло, какая беда? Или – какие фантазии?
Не говорила – отмалчивалась.
В дороге, впрочем, весела была, и когда мы все уже доверяли друг другу, призналась, что очень верит в иные миры, в инопланетян, в древних пришельцев…
В Северобайкальске я прежде всего купил ей сапоги – из общих командировочных средств.
Галя появилась в Таллинне через полгода. Она пришла ко мне в кабинет – я работал тогда в Союзе писателей – и молча остановилась у двери, ждала, когда я ее узнаю. Я узнал, мы обнялись после обычных в таких случаях восклицаний. Что с рукой-то? У нее была забинтована кисть.
– Палец ампутировали, – сказала Галя. – Лебедкой отдавило.
Вот черт!
Меня иногда упрекают в том, что в моих повествованиях слишком много хэпи-эндов. Что я могу на это сказать? Я с жизни списываю. Но не всю же необъятную жизнь пишу я, а то, что попадает в поле зрения. А попадает – с одной стороны – неправильное, с другой – в общем-то сносно заканчивающееся на каком-то этапе человеческой жизни. Вот и Галя. Она вернулась в Северобайкальск и там, как мне стало известно, вышла замуж. Хотя это, к сожалению, не обязательно хепи-энд.
Мы ехали на БАМ…
А нас там не очень-то ждали, оказывается!
Перед отъездом из Таллинна со мной беседовал Индрек Тооме. Он был тогда первым секретарем ЦК ЛКСМЭ. И он сказал мне, что по разнарядке республика должна отправить тридцать человек. Но вот – набрали только шестнадцать, и попросил меня как-то постараться на месте уладить, чтобы не было на эстонский комсомол жалобы.
Не без робости переступил я порог начальника отдела кадров треста. Фамилия начальника была Абрамович. Есть такое выражение – «военный еврей» – исполнительный до фанатизма. Мне кажется, именно таким был товарищ Абрамович.
Я протянул ему свои командировочные документы. Он молча сделал необходимые отметки, поставил подписи.
Я решил не мудрствовать лукаво и спросил прямо:
– Скажите, трест не будет писать представление о том, что из Эстонии прибыло только шестнадцать человек и четверо сразу уехали, не устраиваясь на работу?
– Не будет, – просто сказал Абрамович. – У нас больше нет нужды в кадрах. Фронт работ по мере завершения строительства естественно сужается, старые кадры уезжать отсюда не хотят. У нас, пожалуй, намечается даже что-то вроде маленькой безработицы.
– Может быть, вы тогда напишете вот здесь, что у треста нет претензий?
– Нет, писать я ничего не буду, – сразу ответил Абрамович. – Вы что, с ума сошли?
– Ну хорошо. Но объясните мне, зачем же тогда все это? Вы знаете, сколько я израсходовал денег на дорогу?
– Знаю, тысячу триста рублей, – сказал Абрамович. – Эти деньги заложены в смету.
– Но вам же не нужны люди!
– Стройка же комсомольско-молодежная, – объяснил мне Абрамович, – значит, комсомол каждый год должен производить общественный набор, мы его финансируем и трудоустраиваем прибывших по общественному набору.
– И все?
Он развел руками:
– И все.
– Значит, только ради этого?..
– Конечно.
Он даже пожал плечами: что здесь непонятного?
Какая нелепость!(Тут нужны другие слова, менее затертые Сл)
С этими словами я вошел в кабинет главы эстонского комсомола. Я страстно и логично доказывал ему, что все это – нелепость! Нелепость, нелепость!
Он что-то рисовал на листке бумаги. Случайно поймав его взгляд, я прочел в нем скуку.
Я осекся и стал прощаться. Он сердечно поблагодарил меня за выполненное задание и проводил до двери.
БАМ, БАМ, последняя вспышка раздутого в массовом масштабе энтузиазма.
«Время поет – БАМ!
Рельсы гудят – БАМ!» – сочинил Роберт Иванович Рождественский.
Последние на моей памяти миграции убежденных скитальцев, реализующих себя вне оседлости.
Последнее авантюрное шоу, втянувшее в себя сотни тысяч людей, огромное количество средств (кажется, шестьдесят миллиардов рублей), поднявшее волну немотивированного шума.
Для меня последнее – по возрасту хотя бы: мне пятьдесят шесть, я остановился.
Надеюсь, что и для державы последнее – она опомнилась, взялась за голову – работать надо, а не «ура» кричать.
Но ностальгические ветры дуют из одиннадцатилетней давности, воскрешают в памяти нелепых, но теплых людей в нелепом, но реальном времени, которых я искренне любил.
Мы ехали на БАМ…
Пиджак мужчины должен висеть на спинке стула
Было время – пропивали больше, чем зарабатывали. Как так? Да так как-то…
Доктору дали майора, и мы впятером гуляли в ресторане «Космос», и как славно было, какое было братство, какая была пьянка с сохранением достоинства! Да, с сохранением достоинства, с тостами «за тех, кто в море», с отставлением локтей, обтянутых морской черной диагональю. И только механик пал этой ночью, погиб морально при жене, находившейся в командировке теще, сидевшей дома с ребенком шести лет.
Итак, механик пал, но падение его началось не в ресторане, как ни странно, а на стоянке такси, где к нам прибилась эта женщина, пьяная, непрерывно курящая, но в элегантной серой шапочке под цвет воротника, правда, без вуали. И поведение ее несло следы элегантности: она назвала нашего доктора «товарищ майор», обращалась к нему «на вы» и испросила у него разрешение завладеть механиком на ближайший отрезок времени. И разрешение это было получено, потому что доктор лыка, как такового, уже не вязал.
Штурман же, напротив, не терял контроля над мыслью, а мысль его плыла по фарватеру греха, и он предложил себя вместо механика, но получил отказ. Однако, в такси втиснулся третьим.
Женщина наша жила в многонаселенном доме, который назывался общежитием гостиничного типа, то есть, имел свой микроскопический блок отдаленного от остального мира пространства. У нее оказалась чудом не допитая бутылка, и она разлил мужчинам остатки сухого, и когда они проглотили теплый невкусный рислинг, выпроводила штурмана самым решительным образом.
И возможно, не стоило бы браться за это повествование, если бы просто свершился веселый пьяный грех, короткое замыкание между двумя разгоряченными полюсами, и механик потом вспоминал бы об этом приключении, тайно бесшабашно улыбаясь – эка невидаль!
Но дело в том, что поведение женщины озадачило механика.
Он была озабочена, все время выскальзывала из-под положенной на плечо руки, вовсе как бы не намериваясь, как тогда иронически выражались, «слиться в экстазе». Но глаза ее блестели лихорадочным блеском: все-таки, она была под хорошим градусом.
И вдруг она сняла платье! Да-да, совершенно не прячась и не отворачиваясь, решительно стащила через голову свой крепдешин, и механик с восхищением увидел открывшиеся перед ним откровения: и красивую шею, и плечи, и полную грудь, которую почти не скрывал бюстгальтер. От этого разоблачения его бросило в жар, в голове шумнуло, и только деловое равнодушие, с которым женщина встретила его пылкий взгляд, удержало мореплавателю от немедленных активных действий. Она же натянула на себя старый, линялый халат, закуталась по самый подбородок, и механику стало обидно.
А женщина принялась накрывать стол к чаю. – Зачем? Какой еще чай?
– Как же без чая? – удивилась женщина.
– Ну, чай так чай, – нехотя согласился механик, начиная, однако, терять терпение.
И вот они взяли в руки чашки, и принялись отхлебывать, и кекс крошился под пальцами – откровенно черствый кекс.
Женщина бросила на механика взгляд – шалый и веселый.
Стоп!
Она поставила чашку, поднялась с места, подошла к гостю сзади, со спины, вернее – со спинки стула.
Наклонилась над ним и стала расстегивать тужурку.
Механик замер.
Нужно честно признаться: Он сначала вздохнул с облегчением, а уж потом замер.
Женщина сняла с него тужурку, повестила на спинку стула и вернулась на свое место.
– Пиджак мужчины должен висеть на спинке стула, – сказала она поучительно. И продолжала весело посматривать на механика, который, попивая чай, впадал в унылость.
Она оказалась настоящей женщиной, потому что заметила эту унылость, тут же расстелила кровать и предложила механику раздеваться и ложиться, так прямо и сказав буднично: «Раздевайтесь и ложитесь» – как сестра – хозяйка в госпитале. И пока механик торопливо раздевался, стесняясь пыльных ботинок, отсутствия третьей пуговицы на кремовой рубашке, потных носок и синих сатиновых трусов, которые интендант вещевой выдал вместо кальсон летних, пока он, повторяю, торопливо с неловкостью раздевался, женщина смотрела на него, подперев подбородок ладошкой, смотрела умиротворенно, не обращая внимания на несоответствие внешнего лоска морского офицера несвежести нательного белья.
– Вы не беспокойтесь, – сказала она, не поднимаясь со стула, – спать я с вами буду, только не сразу. А вы спите пока.
Механик подумал, что и впрямь не худо бы уснуть и все тут, потому что любовь любовью, а за полчаса до подъема флага нужно быть на корабле, как из пушки. События же развивались вяло, безжалостно пожирая катастрофически уменьшавшуюся ночь.
Женщина словно угадала его мысли.
– Вы спите, спите, – сказала она. – Я разбужу вас, когда управлюсь.
Ему стало любопытно, с чем это она собирается управляться на переломе ночи, и он решил воздержаться от сна, однако усталость и хмель брали свое, и он то проваливался в сон, то вздрагивал, просыпаясь, потому наблюдал за женщиной фрагментарно. И ему запомнились такие фрагменты этого немого кино: мытье посуды, мытье зачем-то пола, плевание на горячий утюг и еще какая-то суета. Он уснул, и она, действительно, его разбудила. Тут уж механик вознаградил себя за долготерпение.
– Что это на тебе? Ночная рубашка? Я не говорю, что некрасивая, но мы ее снимем, снимем. Кружева, кружева, ну и что, что кружева, все равно сни… руки подними! Вот так. Ох, хороша же ты, грудь крепкая, как., не больно? Можно сильней? И мне… и мне не больно.
Сна не только не было ни в одном глазу, но невозможно было даже представить, что только что он дико хотел спать. А та, на которой он уже лежал, прижимаясь, помогая весу тела сильными руками, шептала в ему в самое ухо какую-то чепуху:
– Я все сделала, милый, все-все – все, ты будешь мной доволен!
Когда он входил в нее, с трудом втискиваясь в узкое горячее отверстие, короткое рыдание передернуло ее плечи. Она простонала:
– Какое счастье иметь такого мужчину, такого мужа!
И после бури наступил штиль, она мгновенно уснула, во сне улыбалась, дышала легко, как трезвая.
Механик проснулся по привычке в шесть часов утра.
Женщина уже не спала, она сидела в своем халате, умытая и причесанная и разливала кофе.
Механик вскочил одеваться и присвистнул от удивления: брюки и тужурка были отутюжены, ботинки вычищены, пуговица к рубашке пришита.
– Вот это да, – только и смог он выговорить. – А где носки? Женщина улыбнулась мужчине.
– Я забыла, что батареи уже не топят…
– Батареи?
– Ну да. Я постирала их. А батареи холодные. Придется тебе в мокрых… Ты уж извини. И заменить нечем.
И механик ушел от женщины в мокрых носках. Причем, прощаясь, она и не думала договариваться насчет дальнейших встреч, сказала только:
– Спасибо за все.
Чем привела механика в изумление и в многодневную задумчивость.
Жена офицера
Я служил зампотехом отдельного морского батальона связи, а вольнонаемная Татьяна Ивановна работала у меня в техчасти. Она аккуратно вела приходо-расходные книги, и я не имел претензий к ее трудовой деятельности. И все-таки мне с ней было нелегко. Она выбрала меня наперсником всех своих печалей, ее откровенность порой озадачивала. За делами и разговорами, как-то совершенно забывалось, что она все-таки женщина, а я все-таки мужчина одного с ней возраста. Так, однажды ее встревожил возникший на груди желвачок, и мы подробно обсуждали, доброкачественный ли и какому врачу показаться, и она-таки заставила меня пропальпировать, и я, краснея от неудобства и, что скрывать, некоторого волнения пропальпировал-таки левую грудь своей подчиненной и с умным видом что-то ей посоветовал, не помню, что.
Но чаще всего мы обсуждали недостатки ее мужа, к которому у Татьяны Ивановны имелась целая гора претензий. Например, он, такой-сякой, вместо того, чтобы готовиться в академию, целый год собирал «комбайн» – телевизор, приемник и магнитофон на одном шасси. Да еще купил списанный военный мотоцикл «М-72», который разобрал до винтика и всю зиму собирал заново. То есть все свободное от службы время возился со своими самоделками вместо того, чтобы ходить с женой в гости, в кино или в театр. Только суббота была у него на особом месте. В субботу он всегда ходил с сыном в баню. Мне трудно было ей поддакивать потому, во-первых, что я глубоко уважал радиолюбителей и самодельных механиков, и потому, во-вторых, что муж Татьяны Ивановны Сергей Гаврилович Грищук был не кем-нибудь, а командиром нашего отдельного батальона. Он был круглолиц, лыс, как колено, и трогательно искренен. Матросы уважали его не только за командирские доблести, но более всего – за человечность. Комбат-человек! – высшая матросская похвала, которой удостаивался далеко не каждый командир. В нем бурлило чувство юмора, вообще очень свойственное украинцам. На территории части была у нас волейбольная площадка, на которой шел вечный спор между офицерским корпусом и личным составом. Комбат наш возглавлял сборную офицеров. Играл он не так хорошо, как азартно. Он требовал пас, кричал истошным голосом «дай!», и ему давали, и он мазал. Промазав, в отчаянии валился с ног и к полному удовольствию матросов валялся по земле, крича «позор на мою лысую голову». Я даже подозревал, что мерзавцы – матросы иногда специально запускали нам свечку, провоцируя такое представление.
При всем этом дисциплину Грищук держал, батальон был на хорошем счету.
Излишне говорить, что Татьяна Ивановна не одобряла таких чудачеств Сергея Гавриловича, ей казалось, что он ее компрометирует. Непостижимая женская логика родила на свет такую формулировку: забывает, что он муж жены офицера!
Да, Татьяна Ивановна была женой офицера и несла этот статус гордо, с примой спиной, презирая других вольнонаемных женщин нашего подразделения, которые на момент описываемых событий были вообще уже не замужем. Эти другие – заведующая строевой канцелярией и заведующая производственным отделом – ответно недолюбливали Татьяну Ивановну, и мне не раз приходилось улаживать кошмарные конфликты между Претензией и Самолюбием.
Всем нам было где-то между тридцатью и сорока годами – возраст последних амбиционных заблуждений и еще не выкипевших страстей.
Наш батальон, как и все остальное население, отмечал Международный Женский День. У нас было два взвода девушек, на военном языке – военнослужащих женщин, поэтому устроили торжественное собрание с докладом, поощрениями и художественной самодеятельностью. Вольнонаемные же женщины пригласили любимого командира «уважить» их на квартире секретчицы. Он уважал наших скромных тружениц, жалел их, неустроенных, в общем, не хотел обидеть. И оказавшись в однокомнатной квартирке секретчицы стал, не изменяя ритуалу, оживленно потирать руками и плотоядно кряхтеть при виде стола с выпивкой и салатами. Выпустив совершенно из головы, что в трех трамвайных остановках отсюда его собственная жена в его собственной квартире тоже к этому времени уже накрыла стол, превышающий изобилием этот. Превышающий в такой же степени, в какой оклад командира батальона превышает зарплату вольнонаемной секретчицы. Оклад плюс доплата за звание, плюс доплата за выслугу лет. Да и как не выпустить из головы свое известное перед лицом малоизвестного, а, может быть, и просто неизвестного в каком-то смысле! И комбат поздравил женщин с восьмым замечательным мартом, и выпил с ними и раз, и другой, и третий, и вскоре выяснилось, что если он их уважает, то они его просто любят – как начальника и, не смейтесь, как мужчину, как душевного мужчину, а душевные мужчины встречаются так редко, так редко! Душевные и хорошо танцующие! Вы хорошо, хорошо танцуете, Сергей Гаврилович! Да снимите вы тужурку, жарко же! Мы тоже… Ничего особенного: она же в комбинации. Я? Хорошо, и я. Комбинация же как платье! Теперь я вас приглашаю, это дамское танго. Если комбинация – платье, то это – очень открытое платье. Открытое, как ваша душа. Ой, куда же вы, Сергей Гаврилович, собьемся же с танца! Нет уж, руку не убирайте, пусть будет!
Тут заведующая строевой канцелярии, маленькая толстушка, не обронив лишнего слова, уплыла на кухню в своей кружевной открытой комбинашке и затворила за собой дверь.
Между тем, кончилась музыка, осталось только легкое шипение адаптера на холостом ходу, нужно было переменить пластинку. Секретница и хотела переменить, но не успела. Ах, Сергей Гаврилович, как вы целуетесь! Ах, как вы… Куда же вы меня… Подождите, какой нетерпеливый! Сниму покрывало. Ничего не надо, все сделаю сама. Лягте на спину. Снять? Ну ладно. Нравлюсь? Нравлюсь я вам? Нет уж, лифчик вы сами! Да не торопитесь. Я рада, что вам нравится! Не скажешь, что ребенка выкормила, правда? Нет, вы – поперек кровати, ноги на пол. Видите, как хорошо, как далеко, как… Не торопитесь, удержитесь, просто не шевелитесь, я сама…
Комбат дисциплинированно выполнял команды, желая больше всего на свете угодить полувоенной женщине, в кое-то веки добравшейся до мужика.
О-о-о-х!
Этот крик комбат понял, как разрешение сняться с якоря и дать полный ход. Что и произвел. Потом они сидели рядышком на кровати, держась за руки прямо, как дети. Комбат поднялся, выключил проигрыватель. В наступившей тишине из кухни послышались странные звуки. Сергей Гаврилович был уже застегнут на необходимые пуговицы. Он открыл дверь в кухню и замер от удивления. Маленькая заведующая строевой канцелярии сидела на табуретке и плакала, размазывая нетрезвые слезы по пухлым щекам.
– Что случилось? – простодушно, словно не понимая, спросил Сергей Гаврилович.
Она посмотрела на него несчастными глазами и произнесла то ли вычитанную где-то, то ли выхваченную из телевизора фразу:
– Я чужая на этом празднике жизни!
На что оказавшаяся рядом Секретница решительно заявила:
– Я посуду помою, вы мне не мешайте!
И затворилась на кухне с тарелками.
А «строевая канцелярия» отправила комбата в ванную комнату, заявив деликатно:
– Может быть, вы хотите освежиться?
Когда он вернулся, чистый и посвежевший, она лежала на постели, откинув одеяло, показывая себя. И было, что показывать! Полное тело скрадывало соблазнительные выпуклости грудей. Живот, руки, выпуклое лоно – все привлекало в равной степени, ко всему хотелось прикоснуться одновременно. Комбат и не противился своему желанию: накрыл собой, обнял, вошел, впился поцелуем.
– Ох!
Это «ох» отлетело от нее мгновенно, в первые секунды. И она призналась виноватым шепотом:
– Я быстро кончаю!
Она взрывалась под ним и раз, и два, и три, пока его, наконец, разобрало в полной мере. Душевный мужчина комбат не был половым гигантом, «строевая канцелярия» поняла это, но отпускать командира не торопилась. Не для того она так готовила себя, чтобы через пять минут…
Небольшие горячие груди взяли в окружение боевую силу комбата. Сначала женщина сама сжимала их, упираясь в ложе локтями, потом на смену пришли теплые мужские ладони. К взаимному удовольствию. Груди у «строевой канцелярии» были теплые и нежные, но они не смогли возродить к активной жизни полусонное достоинство командира отдельного батальона. Тогда за дело взялись губы – еще более теплые и еще более нежные. И они совершили чудо, из ничего добыв нечто, и совершили еще большее чудо, дав сигнал женскому телу, и оно содрогнулось в истоме, доставив мужчине моральное удовлетворение в добавок к телесному.
Время, между тем, подошло к двенадцати, и настал момент, когда Сергей Гаврилович взглянул на часы и осознал ситуацию. Осознав ситуацию во всем ее ужасе, схватился за голову и застонал, раскачиваясь:
– Как я мог! Как я мог! Позор на мою лысую голову!
Прямо, как на волейбольной площадке.
– Что вы так убиваетесь? – изумилась секретчица. – Ведь ничего же не было! Вот хоть у нее спросите!
«Строевая канцелярия» подтвердила, что не было абсолютно ничего.
Гости, которые были званы к Сергею Гавриловичу, ушли, не дождавшись хозяина, слегка пригубив для виду, явно разочарованные.
Что сказала Татьяна Ивановна явившемуся в первом часу супругу, я передать не берусь. У меня для этого не хватит воображения и художественных способностей.
Следующий за 8–м марта день был полон драматизма. Едва мы остались в кабинете одни, Татьяна Ивановна в сильных выражениях изложила мне события минувшего вечера – не только в той части, которая была ей известна, но и в той, которую она без труда вычислила. Я попытался хоть сколько-нибудь смягчить благородный гнев жены офицера, прежде мне это нередко удавалось. Но в этот раз Татьяна Ивановна грубо прервала меня, процедив презрительно: «Все вы одним миром мазаны!» И отпросилась на два часа по семейным обстоятельствам. Я отпустил ее охотно. Через два часа Татьяна Ивановна вернулась и села за свои карточки и приходо-расходные книги, изредка бросая на меня суровые взгляды. Вошел рассыльный дежурного по части:
– Вас к комбату.
– Вот полюбуйся, – сказал Сергей Гаврилович. Посреди кабинета стояли два битком набитых дорожных чемодана. – Принесла на КПП, говорит, передайте вашему комбату и скажите, чтоб ноги его дома больше не было.
Он помолчал и добавил сокрушенно:
– Перед матросами стыдно.
– Не расстраивайтесь, Сергей Гаврилович, – сказал я. – Поживите пока у меня, а там видно будет.
– Нет, Борис Самуилович, – возразил Грищук, – не дело. Ты вот, что… Позвони-ка Богуче. Попроси приехать. Только не от себя звони – отсюда. А я пока выйду.
Богуча была фамилия начальника связи нашей военно-морской базы. Батальон непосредственно ему подчинялся. Это был еще довольно молодой капитан второго ранга, высокий, стройный, с романтическим шрамом через всю щеку. Говорили, что шрам был результатом инцидента, когда совсем молодой лейтенант Богуча вступился в Ленинграде за английского морского офицера, пришедшего к нам с дружеским визитом на боевом британском корабле и подвергшегося нападению нашей отечественной шпаны. Он был кареглазым красавцем, остроумным флотским интеллигентом. Однажды, проверяя наш батальон, Богуча обнаружил, что замполит списал всю библиотеку и, довольный, что на лицевом счете ничего теперь не числится, свалил книги в сарай и ждал случая отправить их на свалку. Богуча сильно тогда гневался на простягу – замполита.
– Уничтожение книг, – говорил он, – все равно, что уничтожение культуры.
Я получил тогда приказание перебрать заново списанные книги и отложить и отложить те, которые можно читать нормальным людям. Я с удовольствием все это проделал, и большая часть книг была заново пущена в обращение.
Начальник связи выслушал мое сообщение и коротко сказал:
– Приеду.
И через два часа был на территории нашего батальона.
И вот мы собрались в кабинете комбата: Грищук, как муж, Татьяна Ивановна, как жена, я, как начальник жены, а Богуча, как начальник мужа.
– Татьяна Ивановна, – по праву старшинства начал Богуча. – Я думаю, вам надо помириться, простить Сергея Гавриловича, Мали, чего в жизни бывает…
– Никогда, – отрезала Татьяна Ивановна.
Я не совсем понимал свою роль в этом представлении. Обычно в армии, если приглашают на какие-то разборы непосредственного начальника, то с тем, чтобы в подходящий момент спросить:
– А как вы можете охарактеризовать своего подчиненного?
И начальник дает перед лицом вышестоящих командиров исчерпывающую характеристику.
Но тут не похоже было, чтобы разбирали Татьяну Ивановну. А если бы и разбирали, я не стал бы давать ей положительной характеристики. Я, если бы на то пошло, заявил бы честно, что она зануда, каких свет не видывал, и пусть катится и не морочит Сергею Гавриловичу голову.
Но меня никто не спрашивал. А спросили, как раз, Сергея Гавриловича, как он смотрит на все это дело и какие у него намерения. На что Грищук потер вспотевшую лысину и сказал, преданно глядя в искрометные глаза начальника связи:
– Я хотел бы сохранить семью. – И добавил, объясняя. – Как же сыну без отца!
– Вот видите, Татьяна Ивановна, Сергей Гаврилович настроен серьезно, – сказал Богуча. Шрам его терялся в аккуратно постриженных усиках, глаза лучились, улыбка была обезоруживающей. На мой взгляд он был неотразим. И Татьяна Ивановна все-таки дрогнула, а, дрогнув, произнесла нижеследующую речь:
– Если вы так настаиваете, я готова забрать чемоданы. Но при таком условии: пусть Сергей Гаврилович созовет всех вольнонаемных женщин, с которыми вчера гулял, плюс Бориса Самуиловича и при всех встанет передо мной на колени и попросит прощения. И я прощу.
Вот так вот. Ни больше, ни меньше.
Помолчали.
Потом Богуча осторожно, словно боясь спугнуть, стал объяснять Татьяне Ивановне, почему это не возможно. Чтобы командир отдельного морского батальона стоял публично на коленях – невозможно никак! Какой же он после этого будет командир! Какой у него после этого будет авторитет!
Татьяна Ивановна некоторое время поупиралась, потом пошла на уступки:
– Хорошо, пусть на колени не становится, но прощенья пусть при всех просит.
– Как – спросил Грищука Богуча. – Попросишь стоя?
– Стоя – попрошу, – ответствовал Сергей Гаврилович.
К концу рабочего дня он действительно собрал указанных лиц в строевой канцелярии и сказал:
– Уважаемые женщины! Я при вас прошу прощения у своей жены Татьяны Ивановны за то, что вчера подвел ее в международный женский день.
И после паузы добавил:
– Все свободны.
– Стоило ли, Сергей Гаврилович? – сказал я ему пару дней спустя. – Послали бы ее…
– Нет, – хитро усмехнулся Грищук. – А с кем в баню? Я привык, чтобы сын мне спину тер…
Ах
Вот я опять впадаю в детство: Иду – и весело ногам. Ах, этот воздух, это средство От болей, надоевших нам! По мостовой пустая банка Так загрохочет – только пни! На солнце греется собака, А кошка ежится в тени. (Оживление, улыбки, даже смех) Ах, черт возьми! Вино – не воздух! Пей и шатайся налегке. И тает мой почтенный возраст, Как эскимо на языке. И все проблемы и печали Грохочут прочь по мостовой. Как это славно: без перчаток И с непокрытой головой!И – резко уронил на грудь русую голову, красивую русую голову, закрыв лицо золотистой прядью. Ура.
И хоть все в зале сидели с непокрытыми, естественно, головами, непокрытая голова молодого поэта в завершении такого светлого весеннего стихотворения произвела должный эффект, народ улыбался и аплодировал, аплодировал и улыбался.
Между тем, за окнами читального зала весеннего солнышка не было еще и в помине, напротив, дышала холодом зима, и бесконечные снежинки кружились в желтом свете уличного фонаря. Бесконечные крупные снежинки. Поэт откинул назад голову, поправил волосы и сдержано поклонился, широко, впрочем, улыбаясь. Он не был еще избалован славой, был только чуть-чуть пригрет ею в масштабах бюро пропаганды художественной литературы при Иркутском отделении Союза писателей. Он был открыт и доступен, так же, как открыты и доступны были его стихи.
Девушка из второго ряда, которая впервые в жизни видела живого поэта и слушала его, буквально приоткрыв рот, словно для гарантии полного поглощения текста – эта молоденькая сибирская красавица подняла по-ученически руку и, не дожидаясь внимания выступавшего, спросила звонким голосом:
– А есть у вас зимние стихи?
– Зимние? – переспросил поэт.
– Да-да, зимние!
Молодой человек нахмурился, задумавшись. Потом лицо его прояснилось воспоминанием, и он стал читать, широко улыбаясь и обращаясь непосредственно к задавшей вопрос:
Снегопад, снеговал, Снежная лавина! Ничего не видать, Все заволокло! Там, где домик стоял, — Только половина. Не осталось темных мыслей, Все белым-бело. Не грусти, не грусти Сбрось оцепененье. Я не сбился с пути Без дорог и троп. Я шутя одолел Светопреставленье, На плечах принес подарок — Снеговой сугроб.И ничего уже вокруг не существовало – только поэт и девушка, которой он принес в подарок такую роскошь, как снежный сугроб. По крайней мере, для девушки не существовало больше ничего: она была влюблена в эти стихи, в эту удаль веселого воображения, да и в самого парня.
Я в себя и в тебя верю и надеюсь: (О, боже, боже!) Победит тот буран, Что гудит во мне. Я ушанку свою На тебя надену, Уведу тебя далеко По своей лыжне.Она сидела, ошеломленная, рука ее касалась головы, словно ощупывала эту сказочную ушанку.
Это был финал встречи поэта с читателями районной библиотеки. Заведующая библиотекой поблагодарила гостя и вручила ему букет гвоздик, оплаченный бухгалтерией шефской фанерно-мебельной фабрики, вслед за ней потянулись слушатели, в основном это были дамы среднего и старшего возраста – тоже с гвоздиками, купленными уже за личный счет– из любви к прекрасному.
У девушки не было цветов. Она сама была похожа на не до конца распустившийся цветок – столько в ней было красоты и свежести. И она – без цветочков – медленно, как в полусне, поднялась на сцену и преподнесла поэту себя, то есть, обняла его и поцеловала совсем не по-детски долгим поцелуем в губы. А что же поэт? Сначала он стоял, оторопело расставив руки. Потом ему стало неловко демонстрировать перед всеми свою холодность к благодарной слушательнице, и он (хоть и сдержанно) обнял ее. Публика вся захлопала благодушно, девушка прижалась к нему всем телом, и молодой человек, не желая того, почувствовал ее живот и маленькие, крепкие, как теннисные мячики, груди, и ноги, и (ужас, ужас!) то, что находится между ногами. Объятие это длилось слишком долго для публичного места, кто-то (из хулиганских побуждений) крикнул «горько!», и большинство бездумно рассмеялось. Большинство, но не все поголовно, по крайней мере один из публики далек был от веселого смеха, он сидел, сжимая кулаки, и хмуро смотрел на сцену, где творилось нехорошее.
Звали его Геной. Нет, Гена не был чужд поэзии, более того, он был ее любителем, но не до такой же степени! Не до такой, все-таки, степени, чтобы безучастно взирать на то, как его любимая девушка обжимается м заезжим мужиком. Ибо поэзия поэзией, а дело мы имеем с молодым, действительно, мужиком, в голове у него, может быть, и крутятся какие-то особенные мысли, а уж ниже пояса – то же, что и остальных. Поэтому Гена побледнел, а, побледнев, резко поднялся с места и направился к месту события. Он решительно развел руки литератора (тот и не сопротивлялся) и сказал строго:
– Пойдем, Оля!
В глаза поэта уперлись взглядом серые, узко поставленные глаза местного жителя Гены, и в этом взгляде не было ни юмора, ни пощады. Девушка по имени Оля позволила взять себя за руку и увести, оторвав от поэта, прочь. Молодой автор продолжал улыбаться недавним слушателями и ставил автографы на титульном листе своей единственной книжки, недавно вышедшей в Восточно-Сибирском издательстве. Отпустили его не сразу, много любопытствовали, и он добросовестно на все вопросы отвечал: и как рождается стихотворение, и почему это происходит, и как еще до слов возникает ритм, почти мелодия. Он не впервые общался с публикой, знал вероятные вопросы и научился на них отвечать. Были и другие вопросы – о жизни. Эти вопросы хоть косвенно, но тоже связаны с творчеством, потому что сама жизнь человека и есть материал для творческого процесса. И он отвечал добросовестно, что недавно демобилизовался из военно-морского флота (Вот, откуда у вас морские мотивы! – глубокомысленно заметила умного вида дама, вероятнее всего – учительница), что полгода назад женился, жену зовут Светой, она работает в поликлинике медсестрой. Все. Детей нет пока. Народ потихоньку смещался из зала в раздевалку. Упоминание о жене чуть-чуть, самую малость смутило Игоря (Пора уж назвать имя иркутского поэта), потому что недавний нелепый поцелуй жег губы и поднимал в душе легкую волну. Игорь юношей был не нагулянным, до женитьбы по большом счету не целованным, и восходящая звезда его региональной популярности сулила всякие-разные неожиданные повороты жизненного пути. А Света… Света просто молилась на него. Отпуская в очередную поездку, робко наставляла:
– Смотри там ни с кем….
– Что ты, Светик, – широко улыбался молодой муж. – Кому я нужен кроме тебя!
– Так уж и никому? – искренне сомневалась преданная до глубины души Света. – Найдутся, небось!
Она считала, что ее счастью и покою угрожают две опасности: красота мужа и его талант. Ей ли было не знать степени его таланта, если все его рукописи она самолично перепечатывала на пишущей машинке и все стихи знала наизусть! Не могла она только взять в расчет третьей опасности, которой являлась только что упомянутая ненагулянность недавнего флотского парня. Будучи искренне обласканным молодой неумелой женой, он в глубине мужской души предчувствовал какие-то иные, неизведанные услады, а это, бесспорно, чревато!
Вечер был снежный, не слишком морозный – градусов не более двадцати, что по сибирским меркам совсем не много. Тем более – при безветрии. Игорь вышел из библиотеки и, приподняв воротник короткой дубленки, направился, было в гостиницу, но кто-то тронул его за рукав. Это была заведующая библиотекой, о которой пока что только упоминалось, но ни имени ее, ни примет названо не было. Теперь пришла пора вглядеться в нее пристальней. Звали ее Белла Цыденжаповна. Она была скуласта и раскоса, что легко объяснить бурятским отчеством. Роста – повыше среднего, статная, по стати – прямо русская пава. Монголоидные черты лица мешали определить возраст дамы, однако одежда без признаков легкомыслия и должность заведующей позволяли отнести ее скоре к возрасту среднему, чем к юному. Что до лица (вернемся к лицу, главного-то о нем не сказали) то оно было прелестно той необыкновенной красотой, которую дает только смесь славянской и восточной кровей, в данном случае – русской и бурятской.
– Позвольте, я вас провожу, – предложила Белла Цыденжаповна. – Вы в гостиницу?
– Да, пожалуй.
– Не советую вам идти в гостиницу, тем более – одному.
– Почему же?
– Городок наш захолустный, нравы дикие, мало ли что может случиться!
Игорь остановился, повернулся к своей провожатой, внимательно вгляделся в ее лицо.
– Что вы имеете в виду?
Она спокойно выдержала взгляд поэта. Красивое (что заметил Игорь!) лицо было непроницаемым.
– Дело в девушке, что вас поцеловала. Даже не в девушке самой, а в ее парне, Гене.
– Это ее парень?
– Он так считает.
– А она?
– Не знаю, не думаю. Но Гена так считает, всех от нее отваживает.
– Вот как!
– Он паренек тут авторитетный, работает на фанерно-мебельной бригадиром грузчиков.
– Ну хорошо, – сказал Игорь. – Так почему же мне нельзя идти в гостиницу?
– Насколько я его знаю – будет поджидать. И не один, однако.
– Ну что ж, – неуверенно произнес Игорь. – Объяснимся…
– Объяснялки-то плохие могут получиться, – сказала Белла Цыденжаповна. – Пойдемте лучше ко мне. Я вас чаем напою с брусничным вареньем.
– Спасибо, я….
– Не отказывайтесь, я ото всей души. Вы мне еще почитаете, может быть. А вот и Гена с дружками. Давайте я вас под руку возьму. Так будет лучше.
– Да, конечно.
– Гена, – сказала она строго, когда они поравнялись с тремя парнями. – Что вы здесь топчетесь?
На шапках и одежде у ребят было порядочно снега. Еле уловимо пахнуло алкоголем.
– Какие-нибудь проблемы?
Она крепче взяла Игоря под руку:
– Пойдемте быстрее, Игорь: холодает!
В этом не было неправды: в Сибири ближе к вечеру всегда можно сказать, что холодает.
Когда поравнялись с гостиницей, поэт сделал движение отчалить, так как угроза, в общем, миновала. Но Белла Цыденжаповна его не отпустила его:
– А чай с вареньем?
Тут Игорь понял, что его просто-напросто зовут в гости. Он подумал, что нехорошо идти в гости с пустыми руками.
– Может быть, зайдем в гастроном?
– Ну, что вы! Ничего не надо. Все есть.
Идти было далековато, действительно, холодало. Белла Циденжапова сильней прижалась к согнутой кренделем руке. Даже через мех и шкуру он чувствовал ее бюст. А может быть, ему это только казалось?
– Почитай мне, Игорь. Ты можешь читать на ходу? Что-нибудь очень личное, а?
Игорь вспомнил стихи об одиночестве, которые написал во времена матросской службы. Были там такие строки:
Я теперь, как отвязанный плотик. Одинок, сам себе не нужен. Одному одинаково плохо — Океан вокруг, или лужа. Кинотеатр. Стою у витрины И разглядываю картинки. И, как будто меня половина. Или весь, но в одном ботинке. И закон человеческой плоти, И звучанье душевных гамм Гонят, гонят несчастные плотики К берегам.Игорь хотел начать следующее стихотворение, но женщина крепко сжала его руку, и он понял, что не надо. Некоторое время шли молча. Потом она сказала:
– Это лучшее, что я сегодня услышала. «И как будто меня половина. Или весь, но в одном ботинке…» Как это точно. По душе.
– Вам понравилось? – оживился поэт.
– Да-да, понравилось. Я предлагаю перейти «на ты». Ведь, мы в какой-то мере коллеги. Я тоже пишу стихи. Вот, например. Она откашлялась и зачем-то вытерла варежкой рот:
Как мне трудно удержаться на краю, Из последних сил на цыпочки встаю. Кто бы спел сейчас мне «баюшки-баю» И к груди прижал головушку мою…Это было так неожиданно: невозмутимая, как Будда, восточная женщина вдруг превратилась в русскую бабу, сладкую и несчастную… Она замолчала, не стала продолжать. Как-то само получилось, Что Игорь действительно прижал к груди поникшую головушку и осторожно поцеловал опущенные веки.
Ах.
– Вы… ты – настоящий поэт.
Если в женщинах Игорь не очень разбирался, то в стихах… По крайней мере, был уверен, что всегда отличит поэзию от пустого набора слов.
Мгновение отлетело, и они пошли дальше.
– Господи, – проговорил Игорь. – Я-то распетушился, а тут… Почитай еще, пожалуйста.
– Почитаю. Только не свое.
– Почему же?
– Такой хороший вечер, что хочется очень хороших стихов.
Это немного озадачило. Опыт литературных объединений подсказывал, что каждый стихотворец как раз свои стихи и считает самыми хорошими. А тут..
Белла Цыденжаповна опять притронулась варежкой ко рту и начала, волнуясь, читать изумительные стихи пронизанные таким накалом страсти, что ее слушатель буквально оторопел. Закончив, она замолчала, шла молча, опустив голову. Поэт тоже молчал. Он был способным человеком, но пока что мало образованным. Поэтому тщетными были его усилия вспомнить автора этих пронзительных строк. Не совсем, впрочем, неизвестных, знакомых, знакомых! Например, выражение «провода под током» он точно слышал в одном докладе на литературном семинаре. Спросить, чьи же это стихи, было стыдно, и он совершенно искренне попросил:
– Еще…
Она задумалась. Потом остановилась и продекламировала еще более страстное стихотворение сверля его своими монгольскими зрачками, которые утратили непроницаемость, – на смену ей пришла жгучая искристость. Игорь пришел в сильное волнение. Последние строчки, призывающие к любовному общению, произнесены были с явным вызовом. И он принял этот вызов. Обнял женщину, и она его обняла. Тут уж вспомнились слова о ладони, которую следует снять с груди. С мужской? С женской? И накатила шальная мысль: «Чтобы снять, надо сначала положить!» И он положил свою руку на статную выпуклость, которую не скрывала даже дубленка. Рука, в общем, ничего не ощутила, но от того, что она лежала на запретном месте и ее не отвели в сторону, Игоря пробрала легкая дрожь.
Руку греешь? – спросила усмехнувшись, Белла Цыденжаповна. – И проговорила, перейдя на шепот (хотя кто мог их услышать на пустынной улице?):
– У нас так не греются У нас – вот так. Сними перчатку.
Снятие перчатки заняло не более трех секунд, и ровно столько времени понадобилось Белле Цыденжаповне, чтобы что-то расстегнуть на себе, какие-то крючки и пуговицы, и рука молодого человека в мгновение ока оказалась у нее за пазухой. Большая, податливая грудь оказала ей теплый прием, в ушах у него зазвенело, и сквозь этот звон донеслось:
– Вот так у нас греют!
Но продолжалось это недолго: ведь был холодный вечер, валил снег, и вскоре они уже бравенько шагали, слегка наклонившись вперед, навстречу затевающейся метели, шагали, связанные теперь общей тайной и общими – что греха таить! – намерениями.
Отряхнулись от снега (отряхивали друг друга) в подъезде – перед тем, как подняться на третий этаж. Войдя в квартиру, доброжелательный человек снял шапку и сказал, поклонившись:
– Здрасьте этому дому! Разделся, надел тапочки, осмотрелся. В квартире было две смежные комнаты: большая и маленькая. Как и во многих подобных квартирах, большая была приспособлена для активной жизни, маленькая – для сна. Он огляделся. Письменный стол, столик для пишущей машинки. Телевизор на специальной подставке. Верхнего света не было. Зато по стенам красовались светильники, они освещали книги на многочисленных полках и то, что украшало стены: фотографии, портрет маслом пожилого бурята в национальной одежде и многочисленные аппликации из оленьих шкур. Среди фотографий видное место занимал Хемингуэй с постриженной по кругу белой бородой – «старик Хем», идеал вольной (в мыслях) интеллигенции того времени. Читающий стихи темпераментный Евтушенко, вдохновенная Бела Ахмадулина, подавшийся вперед, словно выходящий из портретной рамки, Булат Окуджава.
«Что ж сибиряков-то нет?» – подумал было иркутский поэт, но тот час увидел фотографию скромного, даже унылого, человека в серой шерстяной рубашке. Это был Валентин Распутин – лучший, наверное, писатель Сибири, а, может быть, и всей России. Один портрет был ему незнаком. Впрочем, нельзя сказать, что незнаком совершенно. Он видел, видел где-то эти огромные, печальные глаза, нереально вывернутые чувственные губы, выражение мудрости и ужасной беззащитности.
Центр комнаты занимала огромная медвежья шкура. Так и хотелось прилечь на нее.
– Приляг, приляг, – услышал он голос Беллы Цыденжаповны, – отдохни, я тут пока приготовлю. Он поднял глаза. О, боже! Она была в домашних шароварах. Она была в одних только домашних шароварах!
– Ну приляг же!
Игорь лег на спину. Ему показалось, что от шкуры исходит и вливается в него какая-то тайная сила. Белла Цыденжаповна склонилась над ним, встав на колени. Он поднял растопыренные ладони, и в них легли тяжелые смуглые груди, такие трепетные, такие живые, они отвечали нежными импульсами на каждое движение его пальцев. Она коротко поцеловала его и резко поднялась. Лицо ее опять стало непроницаемым.
– Ты извини, дорогой, я всегда дома так хожу. Мои бабки-прабабки так ходили.
И ушла на кухню.
Какое-то варево готовилось на кухне, потянуло незнакомым запахом. То ли шкура медведя, действительно, чудодействовала, то ли образ раздетой по пояс бурятской женщины, только плоть двадцатипятилетнего парня восстала, и он позвал истомленным голосом:
– Белла Цыденжаповна!
И услышал в ответ:
– Просто Белла!
Действительно, странно было после только что произошедшего откровения называть женщину по имени-отчеству. Но ему так нравилось это экзотическое отчество! И он сказал дрогнувшим голосом:
– Мне нравится твое отчество!
– Вот мое отчество! – Сказала Белла (с этой минуты уже просто Белла!) и показала рукой на портрет старого бурята.
– Кто это?
– Цыденжап, мой отец. А дед мой был камом.
– Это что такое – кам?
– Шаман – знаешь?
– Ну да!
Она сказала загадочно:
– Шаман шаманит. А кам камлает. И я умею камлать.
– Камлать? О. боже!
– Но это потом, потом. А сейчас прошу к столу!
Она сделала театральный жест, от чего груди ее волнующе отклонились.
Игорь вскочил на ноги и прошел на кухню. Стол был накрыт. Кроме известных в Сибири строганины и расколотки в кастрюльке томилось что-то мясное.
Белла сделала широкий жест:
– Строганина натуральная, изюбрятина, расколотка – из сороги. В мисочке – соль с перцем. Макай, ешь, пока не растаяло. Да ты знаешь, что я тебе объясняю, как москвичу какому-нибудь. Давно в Сибири живешь?
– Родился в Ангарска.
– Выпьем за знакомство.
– Что это?
– Водка, настоянная на оленьих пантах.
– Интересно! Ну, за знакомство!
– Строганиной закусывай: самое то!
– Действительно!
– За тебя, Белла!
– Почему это за меня?
– Я тебя хочу!
– Погоди, это еще не желание. Это еще не настоящее желание. Налей-ка. Эта настойка укрепляет мужчину.
– Мужчина и так уже крепкий.
Встала с табуретки, подошла вплотную и положила руку на мужское достоинство гостя.
– Крепкий, да не очень.
И засмеялась загадочным смехом.
– Угощайся горячим.
– А что это?
– Рагу из оленьего хвоста.
– Почему из оленьего хвоста?
– Сейчас поешь, через час почувствуешь, почему.
– Ты тоже поешь?
– Тоже. Ну как, вкусно!
– О, да!
– Что ты еще хочешь?
– Почитай стихи. Только не вздумай одеться.
– Ну, что ты!
– Стихи…
Ты правда этого хочешь?
– Правда.
– Я никому обычно… А мне почитай.
Ну. Ладно.
Как хочется, чтоб ты сошел с ума, Как хочется, чтоб ты меня не слушал, Чтобы с ума сошла и я сама, Чтобы покой постылый ты нарушил. Как хочется, – со шпагой ли, с мечом — Чтоб брал меня на приступ, как твердыню…Игорь не сводил с нее глаз. Полуобнаженная женщина, читавшая призывно-любовные стихи, сама напоминала жрицу любви, какой Игорь ее представлял. Вдруг она прервала стихотворение и сказала:
– Нет. Мне не нравится.
– Почему же? – воскликнул Игорь, который начинал накаляться, как включенный в розетку утюг.
– Не нравится. Я плохой поэт, потому что не могу выразить себя стихами.
– Хорошие стихи!
– Возможно. Но чувствую я гораздо больше.
– А чем же ты можешь себя выразить?
– Не знаю, Может быть, танцем.
– Так танцуй! – распорядился Игорь, которого уже разбирали страсти.
Белла молча поклонилась мужчине. Груди ее опять пришли в движение, лишая Игоря последних капель рассудка. Она вышла в комнату, зажгла четыре свечи в разных местах и выключила электрические светильники. Поколдовала с проигрывателем, и по комнате в мерцающем свете свечей поплыла странная музыка, в которую вплеталось непонятное, непривычное пение – горловые звуки и обрывы ритма. Сбросив остатки одежды, Белла стала раскачиваться, растопырив руки и ноги, и в какой-то момент Игорю показалось, что душа некогда убитого в тайге недогулявшего и недолюбившего медведя поднялась над собственной шкурой и зашаталась в укоризненном танце. Темп танца, между тем, нарастал, нарастала и разливалась по телу и дикая сила, прежде неведомая. Игорь вскочил на ноги и тоже зашелся в диком танце, то повторяя движения женщины, то изобретая свои собственные. Член молодого поэта окреп и увеличился необыкновенно, Игорь мгновенно скинул с себя одежду и приблизился к дикой и прекрасной поэтессе. Желание пожирало его без остатка. Он в упор посмотрел на Беллу, она подалась ему навстречу, схватила рукой пылающей член кавалера и вонзила его в себя, заставив Игоря полуприсесть. И сказала одно слово:
– Ах.
Музыка продолжалась, и долгое соитие происходил при раскачивании под эту музыку, как бы не прерывая мистического танца.
Наконец, настал момент извержения, и они повалились на шкуру, Игорь рычал, как медведь, из Беллы тоже вырывались дикие звуки, а потом она опять сказала слабым голосом:
– Ах.
Игорь оставался в ней. Извержение семени почти не ослабило его. Он лежал на женщине, целовал ее большие груди, и чувствовал, как снова наполняется мужской силой. Губы Беллы шевелились. Он поцеловал их, потом приложил к ним ухо и услышал слабый шепот:
– Хорошо, хорошо…
Светало, когда они оторвались друг от друга. Она целовала его ласково, как ребенка, ворошила светлые, с золотым отливом, волосы.
Игорь чуть не выпалил есенинскую строчку:
– «Эти волосы взял я у ржи»…
Но язык вовремя придержала трезвая мысль: «Не будь пошляком, Игорек»!
– Что бы ты хотел? – Ласково спросила Белла.
– Был обещан чай с брусничным вареньем! – Чай?
Она широко улыбнулась, раскинула руки, потягиваясь. Куда-то делись монголоидные черты, перед ним стояла настоящая русская красавица.
В этот момент Игорь понял что влюбился до потери ориентации во времени и в пространстве.
За чаем Белла была в роскошном оренбургском платке, и то, как она плавными движениями разливала чай (а платок не сползал с плеч), и как, заглядывая в глаза, накладывала варенье (замечательное брусничное варенье), укрепляло в Игоре ощущение сладкого добровольного плена.
И Игорь сказал серьезно и печально:
– Я тебя люблю. Потому что я тебя полюбил.
Глуповато получилось. Но глупость эта не была замечена. В ответ были опущены глаза и скромно прозвучало тихое «спасибо».
Когда Белла ушла на работу, Игорь принялся изучать ее книжные полки. В первую очередь его интересовала, разумеется, поэзия. Вот тут-то он и наткнулся на Пастернака. И стихи узнал (Белла их читала, когда шли по улице), и портрет. На стене, оказывается, висел портрет Бориса Леонидовича Пастернака! Он вдруг осознал всю бездну своей необразованности. Что он может сообщить людям, если интереснейшие сообщения интереснейших людей прошли мимо него! Будем поступать, решил он, и будем поступать в литературный институт, если получится.
Вечером он поделился этими мыслями с Беллой. И Белла поняла его и одобрила! С высоты своей эрудиции она спрыгнула легко, как со ступеньки и кинулась в объятия малообразованного любовника.
Ах.
И много раз ах.
Боже, как он ее любил! Его совершенно сводили с ума ее перевоплощения. Она приходила с работы в строгом деловом костюме, невозмутимая и недоступная. Выходила из ванной комнаты, по пояс обнаженная, горячая, желанная и желающая. Из загадочной шаманки превращалась в простую и сердечную русскую женщину, из начитанной умницы – в страстную дикую азиатку.
Вскоре она перестала ходить на работу. Как-то договорилась, какой-то отпуск неиспользованный – Игорь не вникал. Он был поглощен Беллой Цыденжаповной. Тем больше он ее имел, тем больше ему ее хотелось – в физическом смысле, и в смысле интеллектуального общения. Где-то когда-то он вычитал довольно пошлую фразу: Если женщина нравится тебе утром, значит, она действительно хороша. Белла нравилась ему и утром, и вечером, и днем, и ночью. И он решил навсегда остаться с ней.
Однажды она ему сказала:
– Я уйду сегодня, мне надо. Побудь один, поспи, как следует, а то спал совсем с лица.
Сон, однако, не шел. Игорь встал, оделся, пошел на почту и дал телеграмму в Иркутск. Телеграмма была такая:
«Света зпт я встретил женщину зпт которую полюбил на всю жизнь тчк пойми и прости если можешь тчк Игорь». Вернулся, лег в постель и уснул крепко-накрепко. И проспал до возвращения Беллы. Вечером она напоила его чаем с молоком. И когда он лег, села рядом и стала что-то тихонько напевать, Игорь прикрыл глаза, было хорошо и покойно, он словно бы качался в люльке. И уснул, и ночью его не будили.
Наутро она сказала:
– Ну что, Игорек, пора тебе домой собираться…
– Как это домой? – он засмеялся, уверенный, что она пошутила. – Я решил, что здесь будет мой дом. Я же люблю тебя. А ты – меня. Разве не так?
– Так-то так. Но – собирайся домой. Твой путь – не со мной.
– Почему это?
– Я старше, и я другая. Твой путь со Светланой твоей. Вместе будете двигаться, поддерживая друг дружку.
– Да нет же, нет! Я и телеграмму ей дал вчера.
– Какую телеграмму?
– «Света, я встретил женщину, которую полюбил на всю жизнь. Пойми и прости, если можешь. Игорь». Она поймет. И простит.
– О, боже, боже! – вздохнула Белла Цыденжаповна, – и печально покачала головой. Потом сказала:
– Побудь тут часик, почитай Мандельштама вот, Я скоро.
– Я с тобой!
– Нет-нет, мне нужно одной.
Стихи Мандельштама увлекли, время пролетело незаметно. Незаметно пролетели все три часа, что отсутствовала Белла Цыденжаповна.
Она принесла автобусный билет: послезавтра в два часа дня. Приедешь под утро…
Он опустил голову.
Две последние ночи были на удивление спокойными. Они хорошо говорили, она много рассказывала ему, читала наизусть стихи. Иногда покрывала его лицо легкими поцелуями. Если Игорь возбуждался, не мучила его. Сама не отдавалась страсти, но его не мучила. Ласкала и целовала непокорное хозяйство, подставляла ладони, грудь, губы. Размагничивала. Но – без больших страстей.
И он уехал.
Путь был долгим, с ночным неудобством на автобусном сидении. Дорога постепенно вытеснила из головы загадочное лицо недавней любовницы, мысли стали возвращаться к дому, к квартирке в Академгородке, к верной и неприхотливой Светке. Что он ей скажет? И что его ждет? Гнев? Истерика? Что? И что делать? Придумать что-либо было невозможно. Игорь решил, что будет действовать по обстановке.
С нелегким сердцем нажал он на кнопку дверного звонка.
Какого же было его удивление, когда он увидел сияющее, смеющееся лицо счастливой молодой жены! Мало сказать – удивление! Он не верил своим глазам! «Почта сбарахлила, – догадался он. – Надо с утра, с раннего самого утра перехватить телеграмму»…
– Слушай, – смеясь, сказала жена. – Ну и друзья у тебя! От их шуток можно инфаркт получить!
Она положила перед ним две телеграммы. Одна была до боли знакома: «…пойми и прости если можешь. Игорь» Вторая… Текст второй телеграммы гласил:
«Света зпт извини за неудачную шутку тчк телеграмму давали в сильном подпитии тчк друзья Игоря»
Белла, Белла Цыденжаповна!
Ах.







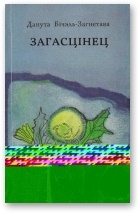


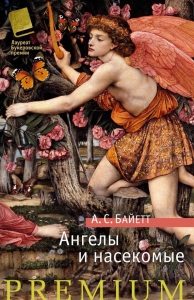



Комментарии к книге «Военно-эротический роман и другие истории», Борис Самуилович Штейн
Всего 0 комментариев