Дмитрии Руденко Станция Университет
Моим дочерям Александре и Вере
Выражаю глубокую признательность Дмитрию Борко за предоставленные уникальные фотографии и доценту факультета журналистики МГУ Владимиру Славкину за ценные советы по русскому языку.
От автора
Неизменно часовым полагается смена.
Б. ОкуджаваЖизнь, как хоккейная шайба, запущенная мастером, летит быстро. Хочется ее затормозить, поймать ловушкой, сказать: «Стой, ну куда ты так несешь меня? Привала хочу. Остановись, мгновенье! Мне здесь, сейчас нравится! Не хочу, чтобы мои дочки Саша и Вера взрослели, хочу в этом времени лет на десять застрять, мне не надоест!». Но ведь нет, невозможно! Все ближе и ближе страшный миг (а может, он вовсе и нестрашный?), когда придется глянуть на мир в последний раз, зажмуриться, вдохнуть, выдохнуть и… ай, прощайте, любимые, дорогие. Как жаль, что звездный мороз вечности все равно возьмет свое.
С годами эти дурацкие, обычно ночные, мысли чаще лезут в голову. Наверное, потому, что, когда мне было десять лет, я ни о чем таком не думал; в двадцать чувствовал, что все — впереди, а вот перевалив за тридцать пять, отчетливо понял: полжизни позади. Однажды за зимним ужином я поделился своими размышлениями с другом Севой. Сева опрокинул в себя рюмку водки и замечтал: «Вот бы записать, как все было в начале, когда мы были студентами. Ведь есть что вспомнить». Он был прав: в те уже далекие годы я и мои друзья высоко держали голову, верили в себя и беззаботно шагали по Москве, а земной шар вертелся вокруг нас! Расслышав Севу, я согласился все записать, ведь у нас короткая память: ясно помним только последние десять-двадцать лет, а все, что было раньше, проваливается в черную пустоту.
Необходимое предисловие
Союз Советских Социалистических Республик, в котором я родился и вырос, был самой большой страной в мире, занимающей одну шестую часть земной суши. Он был первым социалистическим государством, в нем жили дружные и добрые народы. Я с детства знал: «С народом русским идут грузины, и украинцы, и осетины, идут эстонцы, азербайджанцы и белорусы — большая семья». В моей стране производили вдвое больше, чем в любой другой державе мира, чугуна и стали, нефти и газа, цемента и минеральных удобрений, станков, тракторов и зерноуборочных комбайнов. На тысячи километров протянулись каналы, преобразовались некогда засушливые степи, плодородными стали топи.
Командовала Советским Союзом девятнадцатимиллионная Коммунистическая партия (КПСС). Ее верховная власть была закреплена специальной «шестой статьей» Конституции СССР. Генеральный секретарь ЦК КПСС был самым главным человеком в стране. Обычно он был стариком, держащимся за руль власти до самой смерти.
Все было бесплатным — образование, медицина, детские секции и кружки! Это называлось равными возможностями для всех. Почти все взрослые находились на службе у государства. Читали все одно и то же, радовались одним и тем же фильмам, дружно, всей страной, смеялись над одними и теми же шутками. И плакали тоже над одним и тем же. В стране существовала система ценностей, разделяемая огромным большинством, если не всеми. Москвичами назывались только люди с московской пропиской в паспорте, а поселиться в Москве было так же сложно, как теперь стать гражданином другого государства.
Зимы были снежными и холодными. Лед на катке во дворе нашего дома рядом с Садовым кольцом заливали в конце ноября, а таял он лишь в конце марта. На том катке я впервые появился в четыре года. На мне был белый шерстяной свитер с пришитым прабабушкой Ксеней номером 19, фигурные коньки, купленные мамой в комиссионке на Малой Грузинской, и неизвестно откуда взявшийся голубой хоккейный, с подбородником, шлем «Salvo». Моментально я заработал два прозвища: первое — «Чайник» — я получил за шлем, который был мне велик, а второе — «Балдерис» — потому что под номером 19 в сборной СССР играл усатый латышский хоккеист Хельмут Балдерис. «Чайник» испарился, а «Балдерис» стал моим параллельным именем надолго. С того дня каток навсегда вошел в мою жизнь. Даже когда валил хлопьями снег и нужно было беспрерывно расчищать лед скребками и лопатами, я летел туда. Домой приходил к программе «Время». Вечера были тихие и сказочные, их подсвечивали добрые фонари и теплые московские окна. Снег скрипел под ногами, а над головой, в глубине черного неба, опираясь на свои изломанные крылья, величественно проплывала гордость советского народа орбитальная станция «Салют». Я часто искал ее среди звезд.
Дома ждала бабушка Оля. Она кипятила чай, который я с большим удовольствием выпивал из плоского чайного блюдца под сухое вещание трехпрограммного радиоприемника. Чай после хоккея я любил благодаря книге легендарного хоккеиста Старшинова «Чистое время», которую зачитал до дыр. В ней была черно-белая фотография, на которой разгоряченные хоккеисты семидесятых в раздевалке пили чай, а под ней подпись: «Хорош горячий чай в перерыве между хоккейными баталиями». Самым вкусным чаем был, конечно, индийский, в пачке с тремя слонами, а независимая Индия была нашим большим другом. Премьер-министр Индии Индира Ганди часто приезжала к нам в СССР. Я своими глазами видел ее кортеж, мчавшийся в сопровождении эскорта мотоциклистов в белых шлемах по Калининскому проспекту на встречу с Брежневым. Слова «кортеж» и «эскорт» тогда мне очень понравились.
Особое место в ту пору занимал Ленин. Он был вместо Бога. В любви к Ленину, партии и социалистической Родине воспитывали в школе сначала октябрят, потом пионеров, а затем комсомольцев. Все мы тогда были юными ленинцами. На улицах висели плакаты, с которых улыбался Владимир Ильич: «Верной дорогой идете, товарищи!», а в букваре был напечатан рассказик Крупской: «Ленину горячо хотелось, чтобы ребята вырастали стойкими коммунистами. Бывало, шутит с каким-нибудь мальчиком, а потом спросит: «Не правда ли, ты будешь коммунистом?». И видно, что хочется ему, чтобы паренек коммунистом рос».
Торжественно отмечался день рождения Ленина. В этот обычно теплый и солнечный апрельский праздник я вставал рано, гладил раскаленным чугунным утюгом через марлю брюки и пионерский галстук, надевал парадную белую рубашку, быстро выпивал чашку чая с рогаликом за пять копеек или бубликом за шесть и выбегал из дома, чтобы успеть до уроков купить нарциссы на Тишинке или на цветочном базаре у «Белорусской», потому что в школьном Музее боевой славы в этот день всегда проводилась линейка. На занятиях октябрята писали сочинение на тему «Что бы я сказал дедушке Ленину, если бы его встретил», а старшеклассники соревновались в конкурсах чтецов: «Ленин! Это — весны цветенье, Ленин — это победы клич. Славься в веках, Ленин, наш дорогой Ильич!» или «В давний час, в суровой мгле, на заре Советской власти, он сказал, что на земле мы построим людям счастье». Я декламировал Маяковского:
Время, снова ленинские лозунги развихрь! Нам ли растекаться слезной лужею. Ленин и теперь живее всех живых — Наше знанье, сила и оружие.Испанка Долорес Робертовна по прозвищу «Ибаррури»[1], наша училка по литературе, сияла от счастья. По телевизору весь день показывали фильмы про вождя пролетариата. Крепко засел в память эпизод из черно-белого фильма «Ленин в 1918 году», в котором Фанни Каплан стреляет в Ильича после митинга на заводе Михельсона рядом с Павелецким вокзалом.
Машин было мало: они были роскошью. Чтобы их приобрести, надо было записываться в многолетние очереди. Я не верил, что у меня когда-нибудь будет машина, но все-таки изо всех сил мечтал о «шестерке» «Жигули» темно-синего цвета. Иномарки вообще были редкостью — на них ездили разве что дипломаты иностранных государств. Женщина за рулем была явлением необычайным…
Никитские ворота, на стене дома: «С Марксом, Энгельсом, Лениным сверяет каждый свой шаг КПСС»
Было непросто купить хорошие книги, они были по-настоящему «лучшим подарком», а одежда тогда делилась на «нашу», ее никто не хотел носить, и «фирменную», то есть «импортную», или «привозную», за которой охотились. Бренд при этом не имел ни малейшего значения. Важно, чтобы женские сапоги были итальянскими или французскими, а мужские ботинки — немецкими или итальянскими. «Повезло, оторвала шикарные итальянские сапоги», — хвасталась подругам моя мама.
Вообще, в магазинах было пусто — хоть шаром покати, как тогда говорили. Продукты не покупали, а «доставали», их не продавали, а «выкидывали», за ними выстраивались огромные очереди. Все знали, что, если из какого-нибудь магазина торчит хвост очереди — надо пристраиваться, потому что наверняка дают что-то нужное. Я тоже не раз стоял в очередях. Помню, как однажды Зифа, подруга мамы, позвонила сказать, что в магазине «Белград» в Орехово-Борисове выкинут дефицитные кроссовки Adidas, серые, с тремя серебристыми полосами и коричневой подошвой. На руки — по одной паре. Следующим морозным зимним утром я, семиклассник, приехал к магазину за два часа до открытия и в предрассветных сумерках разглядел бесконечный черный хвост очереди. Просто так встать в нее было не по правилам, сначала надо было записаться. Я с трудом отыскал человека в темно-синей вязаной лыжной шапочке с надписью «Спорт-спорт-спорт», ответственного за список, и стал 1271-м в очереди, об этом теперь свидетельствовал чернильный номер на моей руке. Промерзшая очередь ползла медленно, время от времени по ней проносился страшный слух: кроссовки закончились! Как я боялся прозевать обязательные переклички, пропуск которых грозил потерей места! Как я бесстрашно отгонял навязчивого потертого типа, нагло норовившего ввинтиться в колонну передо мной! Но настоящее испытание началось позже, когда до входа в магазин осталось совсем чуть-чуть, а было это уже под вечер: очередь неожиданно утолщилась, в нее влились еще десятки откуда-то набежавших людей, началась сутолока, потом давка, меня чудовищным валом втащило внутрь. У прилавков все кипело, вопило, дралось! Выяснилось, что все размеры, кроме 45-го, закончились. Ну и что? Я схватил свою пару 45-го, на вырост! Что ж с того, что нога у меня тогда была 41-го, а до 45-го никогда и не доросла! Рядом со мной в экстазе стонала женщина — ей тоже повезло!
В такой очереди стоял я за «Адидасом»…
А так в очередь записывали
Отдел мужской обуви в советском магазине
Даже туалетная бумага была дефицитом. Её закупали впрок.
Несмотря на хронический дефицит, в глубине души я верил в то, что мы все-таки движемся к коммунизму. А коммунизм, как объяснили в детстве, это когда идешь в магазин, а там — все, о чем только мечтать можно. Изобилие! И все, что есть, можно брать бесплатно в любых количествах. А люди такие сознательные, что каждый берет по потребностям и не более.
Съездить за рубеж, особенно в капстрану, во времена моего детства было недосягаемой мечтой! Границы были на замке. Только избранным, особенным людям выпадало счастье посмотреть на жизнь далеких государств. Им завидовали. А вот Юрию Сенкевичу, ведущему телевизионного «Клуба кинопутешественников», никто даже не завидовал, понимая, что так попутешествовать не удастся никогда.
Советский Союз и США тогда неустанно соревновались друг с другом: кто сильнее? Бряцали оружием перед носом друг у друга, а мы, дети, по-настоящему боялись атомной третьей мировой войны, которая могла уничтожить жизнь на Земле. По телевизору и по радио певец Игорь Николаев леденил кровь своей жуткой песней, в ней были зловещие слова: «Всего лишь восемь минут летит ракета в ночи, и пламя адской свечи на себе несет». Засыпая, я с ужасом представлял: атомная боеголовка уже летит из Америки в Москву, и нам с мамой не хватит этих восьми минут, чтобы добежать до станции «Краснопресненская» и спрятаться под землей. Особенно страшно становилось, когда со стороны машиностроительного завода «Рассвет», с Малой Грузинской, ночью доносился бередящий душу гул! Что там делали, я не знал, но казалось, это «Першинг-2» или крылатая ракета «Томагавк» уже буравит московское небо, и вот-вот раздастся страшный смертоносный взрыв.
Все привыкли жить с дефицитом и во вражде с капиталистами. Другая жизнь была неведома. Но вдруг! В марте 1985 года Генеральным секретарем ЦК КПСС стал молодой энергичный 54-летний Михаил Сергеевич Горбачев и, засучив рукава, принялся модернизировать социализм. Неожиданно брежневскому застою, в котором я достиг отрочества, пришел конец. Возникло новое политическое мышление (причем с ударением на первый слог «мы», потому что так говорил сам Горбачев). Грянула перестройка, опершаяся на гласность и плюрализм мнений! А «перестройка — это революция, — сказал лидер. — Только вперед!».
Слякотным серым днем я брел из школы домой и размышлял: «Что же такое перестройка?». Михаил Сергеевич словно услышал меня и с телеэкранов разъяснил: «Все ли ясно, что мы затеяли в стране, что мы задумали? Знаете, всем надо перестраиваться. От Политбюро ЦК КПСС до последнего рабочего места. Каждый на своем месте должен делать добросовестно, честно! Вот и вся перестройка! А то все говорят, а что такое перестройка, что такое перестройка? Свое дело делать честно. Главная перестройка!»[2]. Что имел в виду наш лидер? Журнал Time печатал: «Gorbachev’s phraseology is not remarkable, or at least does not read well in translation»[3]. Слова Горбачева было трудно разобрать не только американцу, но и русскому. Ясно было одно: благодаря перестройке началась гласность, то есть свобода слова. Она обрушилась на нас лавиной новой информации — за газетой «Московские новости» и журналом «Огонек» с шести часов утра выстраивались очереди, стали выпускать запрещенные раньше романы: «Жизнь и судьба» Гроссмана, «Зубр» Гранина, «Дети Арбата» Рыбакова, «Белые одежды» Дудинцева. Начали снимать с полок «спецхранов» запрещенные кинофильмы.
Кроме того, началось сближение с капиталистами: с телемостов «Ленинград — Сиэтл», а потом «Ленинград — Бостон: женщины говорят с женщинами»[4], их вели советский Владимир Познер и американский Фил Донахью, ставшие после этого мегазвездами по обе стороны океана. Во время второго телемоста одна из советских участниц произнесла эпохальную фразу: «В СССР секса нет». Правда, к этому она прибавила: «А есть любовь!», но эти слова никто уже не разобрал, они потонули в гуле не то смеха, не то негодования. Диалоги с капиталистами помогли: угроза атомной войны быстро отодвинулась на задний план, а следом и вовсе забылась.
Гласность: жажда правды у газетных стендов на Чистых прудах
Один из стихийных диспутов у стен редакции газеты «Московские новости» на Пушкинской. Свобода слова
Вдруг разрешили открывать кооперативы, а было это серьезным отступлением от завоеваний пролетарской революции 1917 года, ведь нас учили: частная собственность — основа жестокой и бесчеловечной эксплуатации человека человеком. Теперь частную собственность узаконили. Первый кооператив — ресторан «Кропоткинская, 36» — в американском Белом доме называли «капитализм на Кропоткинской».
Весной 88-го в кинотеатрах показали фильм «Асса», в финале которого никому тогда еще не известный угловатый, скуластый, несколько надменный Виктор Цой спел революционную песню «Перемен!». Вскоре, летом, прошла драматичная девятнадцатая конференция Коммунистической партии — первая, которую транслировали по телевидению. Выступал опальный делегат Ельцин: «Партия не поспевает за перестроечными процессами в стране!», «За 70 лет мы не решили главных вопросов — накормить и одеть народ!». С трибуны Ельцин ушел под аплодисменты, сменившиеся шквалом партийного гнева. Егор Лигачев, один из лидеров КПСС, тряс своим кулачищем: «Ты, Борис, не прав!». Настоящий триллер! Критика не раздавила Ельцина, наоборот — превратила в героя.
А через год прошел легендарный Первый съезд народных депутатов. Яркими его звездами стали «трибуны перестройки» — академики Лихачев и Сахаров, ректор Афанасьев, юрист Собчак. Они превратили съезд в одно из крупнейших событий двадцатого века, а заодно и в захватывающий телесериал: две недели в прямом эфире его смотрела вся огромная страна, забыв про работу и все остальное. Обсуждение прошлого, настоящего и будущего было настолько горячим, что затрещал режим. Вовсю критиковалось коммунистическое руководство страны! Перестройка взяла высоту! Начавшись как революция «сверху», инициированная Горбачевым, после съезда она стала делом миллионов: люди почувствовали себя свободными, услышанными. Речь теперь шла не о совершенствовании социализма и придании ему «второго дыхания», а о полной смене системы: нечего ждать, и так уже почти семьдесят лет ждали! Ветер новой эпохи захлопал форточками, вихрем врываясь в наши дома.
Конец 80-х оказался историческим временем. Союз Советских Социалистических Республик — гигантский айсберг — стал дрейфовать к южным широтам и таять на глазах. Все устоявшееся, определившееся, казавшееся незыблемым, стало рушиться, исчезать, уступать место новому и неизвестному.
В это переломное время, в июле 89-го, я поступил в МГУ. Тогда я и предположить не мог, что нахожусь на пороге удивительных, невероятных событий, которые ожидают меня и мою страну. Двери в свободу распахнулись, в образовавшийся проем меня внесла судьба.
«Перемен требуют наши сердца!» Митинг в Лужниках, лето 1989
Следующая станция — «Университет»
Мне повезло: с раннего детства я часто бывал в МГУ, точнее — на журфаке: там работала мама. Бродил по истертому паркету широких коридоров, бегал вверх и вниз по парадной мраморной лестнице, заглядывал в аудитории, наливал бесплатную газировку в автомате. Другими словами, впитывал атмосферу учебного заведения. Особенно мне нравилась Ленинская, амфитеатром, с огромными люстрами, свисающими с высоченного потолка, аудитория на втором этаже. Она всегда была переполнена, и, заглядывая в нее из коридора, через узкую дверную щель, я любовался студентами, низко склонившимися над тетрадями и что-то усердно записывающими. Однажды меня угораздило оказаться в кабинете декана журфака Ясена Николаевича Засурского. Он невозмутимо выдал мне лист бумаги, карандаши и предложил порисовать, а сам пошел спрашивать, чей ребенок потерялся в деканате. Помню, как, впервые войдя на кафедру телевидения и радиовещания, я увидел перед собой на стене, прямо под высоченным потолком, черно-белый портрет грозного мужчины с бородой и густой, вьющейся шевелюрой. «Вот он какой, Энвер Гусейнович Багиров», — смекнул я: Багиров был маминым научным руководителем, она часто о нем говорила. Я ошибался, сверху на меня строго взирал Карл Маркс.
Потом я стал ездить в пионерский лагерь «Юность МГУ» на Можайское море. Для этого надо было получить путевку в главном здании университета на Ленгорах. С тех пор я помню и мраморные в крапинку колонны, и профессорскую столовку, и лифты, уносящие к шпилю сталинского небоскреба, и яблоневые аллеи. Ходила легенда: когда план главного здания МГУ принесли на утверждение Сталину, он, не в силах отказаться от внесения личных поправок, указал своей знаменитой курительной трубкой на аллеи вокруг здания и спросил: «А пачэму бы нэ посадить здэсь яблони?». В лагере меня вписали в Книгу почета дружины. Последним до меня такой чести удостоился барабанщик из далекого 1947. Как такое случилось? То ли я и вправду был примерным пионером, а может, лагерь просто ответил мне взаимностью? «Дружина! Равняйсь! Смирно! Равнение на флаг! Флаг поднять!», — голос вожатого на линейках звучал величественно, а мы замирали. Не забуду те мгновения. А когда ездили играть в футбол с командами соседних пионерлагерей, в автобусе мы не умолкали:
Все может быть, все может статься, С женою может муж расстаться! Мы можем бросить пить, курить! Но чтобы «Юность» позабыть? Нет! Этого не может быть! Юность МГУ! Юность МГУ!В поздние школьные годы я наслушался историй родителей, выпускников МГУ, об их студенчестве. Запомнились рассказы отца о легендарной преподавательнице журфака профессоре Елизавете Петровне Кучборской, читавшей античную и зарубежную литературу и по-особенному принимавшей экзамены. Кучборская желала видеть в учениках не столько испытуемых, сколько интересных, увлекательных собеседников, но находила редко, поскольку для многих знакомство с творчеством таких плодовитых писателей, как Бальзак, Стендаль и Золя, начиналось накануне ночью, происходило параллельно и заканчивалось буквально за секунду до отчаянного броска к столу экзаменатора. Однажды на сессии Кучборская неожиданно обратилась к одному из экзаменующихся:
— Товарищ! Какое произведение Стендаля вы бы предпочли со мной обсудить?
— «Красное и черное!».
— Часто перечитываете? — затрепетала Кучборская, предвкушая долгий разговор о любимом произведении — как знать? — может быть, и с будущим коллегой.
— Нет, — бесстрашно глядя в глаза преподавателю и массируя на коленях серую мешковину польских джинсов, честно сознался студент. — Кино смотрел, и ребята в коридоре рассказывали.
— Но получится ли в таком случае у нас беседа? — расстроилась Кучборская, выводя тем не менее слово «зачет» против фамилии правдолюбца.
Другой студент бодро рапортовал по шпорам о всемирно-историческом значении «Божественной комедии». Кучборская быстро поняла, что и в этом случае беседа, увы, не складывается, но решила на всякий случай проверить свою догадку, попросив соискателя зачета приоткрыть перед ней его представление о Ренессансе. «Ренессанс — это лошадь Дон Кихота!», — уверенно заявил студент, после чего они с Кучборской образовали нечто вроде кавалькады, устремившейся по длиннющим коридорам старинного здания в сторону деканата. Первой вприпрыжку неслась потрясенная ответом Кучборская, размахивая над головой зачеткой и на каждом третьем шаге испуганно восклицая прерывающимся от волнения голосом: «Дурак на факультете! Дурак на факультете!». Истории о Кучборской, мне казалось, точнее всего передавали мистическую и восхитительную атмосферу университета.
Выбор был сделан — я жаждал учиться в МГУ! Совершенно осознанно выбрал экономический факультет. Все решила брошюра «Молодежи о политической экономии», случайно попавшая мне в руки[5]. «Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо», — делились авторы мефистофельской мудростью, а следом рассказывали такие истории, что становилось очевидно: экономика — не скучная наука, а совсем наоборот. Увлекшись, я записался в Школу юного экономиста при экономфаке, а там читали настоящие лекции! Один молодой аспирант увлеченно рассказывал про теорию поэта Хлебникова, что самые важные события происходят раз в двенадцать лет: 1905 год — первая революция в России, 1917 — вторая и третья революции, 1929 — коллективизация, 1941 — начало Великой Отечественной войны, 1953 — смерть Сталина… Другой лектор цитировал Пушкина: «И был глубокий эконом, то есть умел судить о том…», третий учил житейской мудрости по бальзаковскому «Гобсеку»: «Когда он окажется у власти, богатство само придет к нему в руки». «Это про меня», — втайне надеялся я. Подготовительные занятия были захватывающими, я растворился в них. Теперь я был непоколебим: экономфак!
Вступительные экзамены
Поступление в МГУ далось непросто. Несмотря на изнурительную долбежку с репетиторами трех экзаменационных предметов — математики, литературы и истории — в течение всего года, экзамены стали тяжелым испытанием. Нервотрепки добавлял высокий конкурс — десять человек на место: перестройка требовала экономистов нового формата для решительной модернизации социалистической экономики. «На экономическом факультете бум!» — кричал «Московский комсомолец». Проходным баллом был 12, а стандартным набором оценок — «тройка» по математике, «четверка» по сочинению и «пять» по истории.
Я сдавал экзамены со скрипом, даже хуже: со скрежетом. Сначала скрежетала математика. В тот год, говорили, она была сложнее математики на мехмате. Большинство абитуриентов, я в их числе, получили тройки. Даже мой будущий друг Александр Остапишин, выпускник физико-математической школы на Кутузовском проспекте, получил трояк. Правда, он вообще не занимался с репетиторами. Еще, как я выяснил позже, его школьный учитель по математике Евгений Бунимович, будущий депутат Мосгордумы, объясняя новый материал, традиционно обращался к Александру и его соседу по парте Сергею Немчинову с вопросом: «Остапишин, Немчинов, поняли?». И, если они утвердительно кивали, довольный, продолжал: «Если поняли Остапишин с Немчиновым, значит, поняли все».
Сочинение я писал на какую-то наискучнейшую тему типа «Бюрократия в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души»». А в «Мертвых душах» был мимолетный Иван Антонович — кувшинное рыло, бюрократ до мозга костей, будь он неладен! «Кувшинное рыло» — устаревший эпитет, означавший безобразное, вытянутое вперед лицо. На экзамене, волнуясь, я ошибочно придал этому эпитету более высокий статус, переведя его в разряд имен собственных: Иван Антонович Кувшинное Рыло — уверенно вывел я шариковой ручкой за 35 копеек, допуская сразу две ошибки — оба слова в словосочетании «кувшинное рыло» надо было писать с маленькой буквы. Как оправдать такие ошибки?! Разве что появлением в той же сцене «Мертвых душ» разъехавшегося во всю строку «известного Петра Савельева Неуважай-Корыто», у которого похожий эпитет удивительным образом сложился в фамилию. А ведь за Петром поспевали Григорий Доезжай-не-доедешь, крестьянин по прозвищу «Коровий кирпич», а также Иван Колесо, Степан Пробка и Антон Волокита. Эх, непростыми для правописания были их имена… К счастью, мне поставили четверку.
Историю я сдал на «отлично», а ведь вытянул ужасный билет! В нем было два вопроса: «Внешняя политика России во второй половине XIX века» и «Победоносные удары Красной Армии в 1944–45 годах. Разгром милитаристской Японии». Второй вопрос был безнадежным: про сталинские удары, а именно про действия на Правобережной Украине, в Белоруссии, про Львовско-Сандомирскую, Ясско-Кишиневскую, Прибалтийскую и Петсамо-Киркенесскую операции, про удар по Берлину, в конце концов, я что-то помнил, но воспоминание было туманным. Жуков, капитуляция, Победа… Вряд ли это тянуло на пятерку. Сердце заколотилось, ноги задрожали, руки похолодели. Все! Прощай, МГУ! Какая-то прекрасная незнакомка, видя мое отчаянное положение, метнула мне под ноги шпаргалку, поднять которую я испугался. Оставался единственный шанс: я попросил разрешения начать с разгрома милитаристской Японии. Про эту маленькую страну, производящую магнитофоны-двухкассетники Sharp и наручные часы со встроенным калькулятором, я знал все, что включал в себя школьный курс. Свершилось чудо — разрешили. Оборона Порт-Артура, подвиг крейсера «Варяг», уничтожение русской эскадры во время Цусимского морского сражения, Квантунская армия у наших границ в течение всей Второй мировой войны… Короче, из всех русско-японских отношений первой половины двадцатого века я сплел неплохой рассказ, который был прерван вопросом:
— Когда и кем был подписан акт о капитуляции Японии?
— 2 сентября 1945 года в Токийской бухте на американском линкоре «Миссури». С нашей стороны генералом-лейтенантом Деревянко!— Достаточно! Поздравляю! — подвел черту под моим ответом седовласый профессор.
Это был настоящий успех! Нужные баллы я набрал и в МГУ имени дорогого Михаила Васильевича Ломоносова поступил! Ошарашенный, я, как в тумане, ничего не видя перед собой, потеряв от свалившегося на голову счастья ориентацию в пространстве, выполз из аудитории. И тут же попал в вулкан страстей. Коридор бурлил абитуриентами. Кто-то еще только готовился к экзамену, другие праздновали победу, а третьи горестно, потеряв надежду, прятались по углам, низко опустив голову и отчаянно закрывая лица руками. Шум и гам! Радость и слезы! Вдруг на первый план вызывающе вырвался аккуратный, уверенный, светловолосый юноша среднего роста в джинсах и темно-коричневом свитере с бежевыми заплатками на локтях. Он энергично перемещался в толпе, а в руках вертел оранжевый кассетный плеер, точь-в-точь как вертел пачку Marlboro Куравлев в фильме про Ивана Васильевича. «Наверное, тоже поступил», — подумал я и тут же потерял его из виду.
— Привет. Как? Сдал? — почувствовав руку на плече, я обернулся и увидел Костю. С Костей я познакомился два года назад в летнем лагере в чешской деревне Жлутицы, куда нас направили наши школы и где мы провели совершенно незабываемый месяц. Костя тоже поступал на экономфак.
— Вроде да. Ух! Пятерку получил!
— Поздравляю! Расскажи, что там, как?
Разговаривать в столпотворении было невозможно, поэтому мы вырвались из толпы, и теперь я мог поделиться своими впечатлениями об экзамене, не напрягая голосовые связки. Костя, нахмурившись, слушал меня. Внезапно его внимание рассеялось.
— Лёнич, здорово, — вдруг бросился он к подтянутому и показавшемуся мне чрезвычайно серьезным молодому человеку, одетому в черную футболку, джинсы и кроссовки и с зачехленной теннисной ракеткой в руках.
«Надо же, как люди на экзамены приходят!» — подумал я, почувствовав себя некомфортно в непривычном костюме. Костя перебросился парой фраз с Лёничем, а потом вернулся ко мне:
— Это Лёнич.
— Я его не знаю.
— Он пять по математике получил.
— Таких же всего три человека, — удивился я. — Умный, наверное. А зачем ему сейчас ракетка?
— А он уже поступил, а сюда зашел по дороге на теннис.
— Как?
— Так. Он с золотой медалью, и пятерка на первом экзамене.
— Угу… — протянул я.
— Он, кстати, депешист[6] и брейкер, — многозначительно добавил Костя.
Я приободрил Костю как мог, заверил, что бояться нечего, и направился к выходу из второго гуманитарного корпуса МГУ. А Костя пошел на экзамен, с треском его провалил, и больше я его никогда не встречал.
Домой я возвращался на метро, стоял, уставившись в стекло вагонной двери, сквозь надпись «Не прислоняйтесь», в несущуюся назад, по серым кабелям, темноту, и почему-то не чувствовал никакой радости. Все, казалось, разрешилось так, как и должно было, сравнительно легко. Даже сам факт поступления удивительным образом теперь представлялся незначительным. А между тем ведь какую черту я перешагнул!
Осознание случившегося пришло дня через два. Сразу после этого стало невтерпеж — захотелось немедленно броситься в омут полной приключений студенческой жизни. Я грезил о новых друзьях, о красивых девушках, о первой большой любви. Как писал классик русской литературы, вдруг в полной мере возникло чувство, что все впереди, чувство молодых сил, телесного и душевного здоровья, приятности лица и некоторых достоинств сложения, свободы и уверенности движений, легкого и быстрого шага, смелости и ловкости! Узнав, что я зачислен, знакомый семьи, сам выпускник МГУ, напутствовал меня:
— Молодец! Завидую! У тебя начинается лучшая пора в жизни. Целых пять лет ты будешь вращаться среди продвинутой молодежи!
— А какая она, продвинутая молодежь? — полюбопытствовал я.
— Увидишь…
Продвинутая молодежь
Однажды мой лучший школьный друг Кешка Шахворостов сказал: «Главное в этой жизни — appearance!»[7]. Русская поговорка вторила: встречают по одежке. Ключом к любому успеху в то время я считал внешний вид. К сожалению, мой гардероб, всецело зависящий от родителей, был скуден. Кроме костюма, который я после экзаменов носить не собирался, были кроссовки фирмы Asics на шнурках (не на липучках), светлые джинсы-варенки[8] Wrangler модели «бананы», потому что были широкими на бедрах, но сужались книзу, темно-синяя джинсовая куртка не запомнившейся фирмы и такого же цвета плетеный тканый ремень с металлической пряжкой, на которой было выбито «Rifle», — вот и все. Но и этого было достаточно!
Имелся также плеер Sony, несколько аудиокассет фирм BASF и Maxwell (производитель аудиокассеты тогда имел огромное значение!) с записями Макаревича, Dire Straits, Роя Орбисона, «Битлз» и оркестра Поля Мориа. На особом счету у меня была кассета английской группы White Snake, завоевавшей своим альбомом «1987» трансатлантическую аудиторию. «Белая змея» играла «хард энд хэви». Это была не моя музыка, но я шагал в ногу со временем.
Наконец, дома стоял телевизор «Сони тринитрон» с диагональю 54 сантиметра (диагональ тогда тоже была крайне важна) и целых два видеомагнитофона «Хитачи»! Видаки тогда были далеко не у всех! Даже отечественного производства, они были мечтой, купить их было непросто, продавались они по предварительной записи, а хвост очереди терялся где-то в следующем десятилетии. Да и стоили они как автомобиль. Но цена не имела значения! Важнее было то, что у обладателя заветного аппарата было открыто окно в другой мир — мир Шварценеггера, Сталлоне, Ван Дамма, Курта Рассела и Микки Рурка. Я в это окно выглядывал каждый вечер и потому считал себя вполне современным молодым человеком, готовым к общению с лучшими представителями продвинутой молодежи.
Учеба началась с семинара по истории КПСС, который вела старушка Наталья Леоновна Сафразьян. У нее была особенность — один глаз косил так, что никто не мог точно сказать, на кого же она смотрит, это держало в напряжении всех. Маленькая аудитория была переполнена. Чувствовала ли Наталья Леоновна, привыкшая, набожно покачиваясь, читать катехизис про шесть признаков империализма и три способа отношения партии к середнякам, что дни КПСС уже сочтены, что не пройдет и двух лет, как все учебники-кирпичи по ее предмету будут в лучшем случае просто забыты, а в худшем — уничтожены?
В тот день я за обсуждением не следил — жадно рассматривал своих одногруппников. В первом ряду восседал чернобровый теннисист, отличник и медалист Лёнич, тот самый, к которому подбегал несчастный Костя. «Очень важный», — решил я. С прямой спиной, предельно сосредоточенный, он, будто застывший в засаде лев, взирал на преподшу как на жертву. Никакие разговоры, шум, возгласы, реплики — ничто не отвлекало его внимания. Может, именно от этого пожирающего взгляда Лёнича и разбегались в разные стороны глаза старушки?
Рядом с Лёничем увлеченно о чем-то шептались две девушки, которые, похоже, неплохо знали друг друга. Одна из них, казавшаяся в этом тандеме больше слушательницей, чем рассказчицей, поразила меня правильными, интеллигентными, несколько холодными чертами лица. Такими в ту пору мне представлялись иностранки из Западной Европы. Ее собеседница, в очках в роговой оправе и толстыми линзами, с короткой, мальчишеской стрижкой, в широком свитере, джинсах, явно умная, беспрерывно рассказывала о чем-то, что сама считала невероятно забавным, так как время от времени сама же и хихикала. Голову она держала низко над партой, видимо, чтобы спрятаться от взгляда преподавательницы, а правой рукой прикрывала рот, направляя ладонью поток своих историй в сторону «иностранки». Скоро я узнал, что эти две барышни — выпускницы знаменитой 45-й московской школы, поступившие в МГУ по какому-то мифическому «списку Примакова». Ведущий отечественный востоковед Евгений Примаков был директором Института мировой экономики и международных отношений, а чуть позже возглавил Службу внешней разведки и даже стал премьер-министром. «Из «списка Примакова» приняли всех», — разъяснил мне кто-то потом вполголоса. Ксения — так звали «иностранку» — оказалась внучкой Председателя Совета Министров Литовской ССР. Ее разговорчивой соседкой была Маша Майсурадзе, дочь советского разведчика, много лет прожившая с родителями в Англии.
Неподалеку от них разместилась яркая и однозначно умная девушка с длинными черными волосами, выразительными голубыми глазами, чувственными губами. Брюнетки с голубыми глазами в принципе редкость, а тут еще ощущалась порода. Одета она была в черную кожаную куртку-косуху. Поразили ее ногти — очень длинные и выкрашенные в синий цвет. В моей школе таких девочек сразу отстраняли от уроков и вызывали родителей… Это была Ольга Дмитриевна Гольданская — правнучка первого советского нобелевского лауреата, дважды Героя Социалистического Труда, химика Николая Николаевича Семенова, разработавшего цепные реакции. Мемориальная доска «Здесь работал Николай Семенов» навечно вмонтирована в фасад химического факультета МГУ.
Что-то рисовала в своей тетрадке умопомрачительная красавица, фотография с обложки американских глянцевых журналов, небожительница, поражающая длиной загнутых ресниц, Настя Шаповалова. «Недосягаемая», — быстро решил я и перевел взгляд на Пашу, тощего не то грузина, не то грека. Его я запомнил еще во время поступления: за ним тенью ходила мама, сдувая пылинки со своего сыночка. Пашин папа возглавлял абхазское отделение Торгово-промышленной палаты Грузии и вроде бы владел рынком в Сухуми. Папин достаток отражался на Паше: даже в сентябре он ходил в длинной дубленке, достающей до пола, а на его руке «звэркали» могучие часы. Кто-то спросил: «Сколько времени?». Паша поднес запястье к лицу спросившего так, чтобы циферблат уперся в его глаза, и ответил: «Картье!». Паша почему-то сразу стал вести себя нагло, дерзить и хамить. Скучавший у окна Дима Главнов первым не выдержал и сделал Паше замечание: не на базаре. Паша затаил злобу, подговорил кавказскую диаспору отомстить, и она, лязгая зубами и сверкая очами, грозной стеной двинулась на Главнова в просторном холле перед библиотекой, именуемом «сачком». «Шшто?» — выдвинув нижнюю челюсть вперед и сжимая кулаки, прошипел Главнов и, крадучись, как ягуар, бесстрашно пошел на кавказцев. Горцы посмотрели Главнову в колючие глаза и решили: разумнее отступить. Дима заработал репутацию, а Пашу вскоре отчислили или он сам пропал. Никто не обратил внимания на это исчезновение.
Взгляд скользил дальше, жадно фотографировал однокурсников и, наконец, остановился на светловолосом пареньке, которого я приметил сразу после экзамена по истории. Тогда он вертел в руках плеер, теперь все время вертелся сам.
То он тянул руку вверх, проявляя желание отвечать, то ронял на пол ручку, тут же наклонялся, чтобы ее поднять. В общем, находился в постоянном движении. Вдруг, видимо утомившись от семинара — все-таки семинар, как быстро выяснилось, длился дольше, чем школьный урок, — он начал развлекать себя пением. Мне удалось расслышать слова: «I am an animal, I am a little animal, I am an animal in New York»[9]. «Это же песня Стинга «Englishman in NY», — догадался я. — Только ведь слова в ней совсем другие — I am an alien, I am a legal alien, I am an Englishman in New York»[10]. Недоумение заглушил звонок на перемену. Все вскочили, стали шумно и поспешно собираться, лишая меня возможности продолжить прелюбопытные наблюдения. Куда-то, наверное в буфет, заторопился и мой музыкальный сосед. Выходя из аудитории, я подумал: «Это, наверное, и есть продвинутая молодежь…».
Библиотека
В МГУ было всего три отделения, где студентам платили повышенные стипендии. Все они были ключевыми с идеологической точки зрения — «Международная журналистика» на журфаке, «История КПСС» на истфаке и «Политэкономия» на экономическом факультете. Студенты этих отделений получали 55 рублей в месяц, все остальные — 40. Элита! Но ведь бесплатного сыра, известно, нет. Ценой вопроса, причем немалой, была политэкономия. Впрочем, это было естественно: ее в МГУ начали преподавать аж в 1804 году — раньше, чем в родном университете основоположника этой науки Адама Смита.
Трехтомный «Капитал» сразу стал нашей настольной книгой. Ее писал Карл Маркс, дописывал Фридрих Энгельс, а посвящена она была «незабвенному другу, передовому борцу пролетариата Вильгельму Вольфу». Вольф был увековечен потому, что перед смертью завещал Марксу около 50 тысяч долларов. «Капитал» начинался так: «Богатство обществ, в которых господствует капиталистический способ производства, выступает как огромное скопление товаров…». И пошло-поехало. Мы наизусть заучивали параграфы и даже целые страницы из Маркса, без этого экзамены по политэкономии было не сдать. А «Специальный семинар по «Капиталу»», начавшийся, правда, годом позже, стал самым страшным из всех предметов. Вел его профессор Юдкин, у него были металлические зубы, ими он был готов разорвать любого, кто неверно цитировал классиков. Было ясно: лучший способ готовиться к занятиям — детально конспектировать «Капитал». К этому я и приступил незамедлительно, с первого дня прописавшись в просторной библиотеке экономфака. Библиотека стала вторым домом не только мне. Там жили многие первокурсники. Поэтому как-то само собой случилось, что книгохранилище выполнило помимо образовательной еще и крайне важную социальную функцию. Именно в библиотеке, а не на семинарах я познакомился со многими своими сверстниками.
Как-то я вошел в читальный зал с первым томом «Капитала» в руках и сразу же заметил компанию однокурсников, с которыми уже сталкивался, но знакомства завести не успел. Их было десять-двенадцать человек, собравшихся около высоченного книжного стеллажа, делящего огромный зал на две равные части. Девушки и молодые люди увлеченно беседовали, отложив в сторону раскрытые книги и амбарные тетради. Среди них был мой музыкальный одногруппник, распевавший песню Стинга на семинаре по истории КПСС. Не раздумывая, я уселся неподалеку от этой развеселой группы — вдруг удастся влиться в разговор? Заправлял им меломан.
— Смотрели «Меня зовут Троица»? — спрашивал он.
— Нет! Интересно?
— Очень. Там Теренс Хил и Бад Спенсер. Вестерн. Я пять раз смотрел. А смотрели «Полицейский напрокат»? Там Берт Рейнольдс и Лайза Минелли, — да он настоящий эрудит, подумал я.
— А Flashdance видели? А «Грязные танцы»? — к беседе подключился новый участник.
— А «Братья Блюз»? — снова всплыл знакомый голос.
Они о Марксе-то не забыли? — удивился я.
— Да, — послышались ответы, — отличное кино. Здорово он в начале фильма прикуриватель выбросил в окно машины, помните?
— А «Греческую смоковницу»? А «Тор Gun» с Томом Крузом?
Беседа бесповоротно уносила безалаберных однокурсников за тридевять земель от предмета занятий.
— А «Девять с половиной недель» видел кто-нибудь? — снова чей-то вопрос.
— Нет. Я слышал только. Там такое!..
— Мои родители смотрели…
— У меня друг смотрел…
Повисла пауза. Очевидно, этот фильм не видел никто. В тишине стрелками щелкнули настенные часы, отмеряя новый час. Я понял, что вот и настало мое время, и впрыгнул в разговор:
— Я смотрел!
— И как? — выстрелили в меня несколько пар глаз.
Я не нуждался в уговорах и с удовольствием ушел в повествование: «Красавица Элизабет встречает красавца Джона, ее уравновешенность улетучивается в одно мгновение. Изощренный соблазнитель втягивает ее в эффектную любовную игру. Их свидания — это утоление голода, это мед, стекающий по ее груди, это клубника, которую он губами вынимает у нее изо рта. Их постель — это металлическая лестница в подворотне, где они занимаются любовью. И сама их любовь — это дождь, льющийся с разверзшихся небес, это землетрясение, это всесокрушающий ураган. Их любовь — это трагическая невозможность жить вместе, потому что вместо вопроса «что я могу сделать для тебя?» оба задаются вопросом «на что ты готов пойти ради меня?»». Закончил я в звенящей тишине. Первым ее нарушил музыкальный одногруппник: «Неужели они сделали это прямо под дождем на лестнице?». За этим последовал другой вопрос: «А как это было с клубникой и медом?». Потом он вежливо попросил: «Дай посмотреть фильм, пожалуйста, — и представился: — Саша Остапишин».
Остапишин
С Остапишиным мы сошлись стремительно. Как, почему? Объяснить невозможно. Ну не мой же рассказ про «Девять с половиной недель» нас сблизил. Хотя? Даже приходя вечером домой, мы чуть ли не ежедневно созванивались. Сейчас, по прошествии лет, это кажется странным, даже подозрительным. Но из песни слов не выкинешь. Обсуждали все подряд: и его юность в Белграде, там он жил с родителями, и его девчонку Нинку, и бейсбол, которым он начал усердно заниматься в центральной секции МГУ, и новые фильмы. О чем только не говорили!
С тех давних пор я выучил многие истории Остапишина наизусть. Например, эротический триллер про югославскую красавицу в белградском душе, где Александр, конечно же, выступил суперменом, а рука девушки… Она судорожно скользила вниз по стеклу душевой кабинки. Или про его одноклассника Серегу Немчинова, который оказался первым (в седьмом классе!), у кого под мышками выросли волосы — роскошь, которой завидовали многие. Школьные доктора на плановом медосмотре офигели, потому что Немчинов-то был уже «половозрелый». Ха-ха! Или про другого школьного друга, Митрофанова, который жил в доме на Большой Дорогомиловской прямо над магазином «Продукты».
А вывеска «Продукты» была для достоверности украшена изображением огромного яйца. Так вот, Митрофанов жил прямо над этим изображением. И все, конечно, шутили, что «это яйцо Митрофанова», смешно? А еще был рассказ не то об однокласснике, не то о знакомом, у которого случился секс с подружкой в пустом вагоне метро на перегоне «Кунцево» — «Молодежная». Они все успели во время этого «длинного» — три-четыре минуты — перегона. Александр рисовал такие волшебные картины, словно держал свечку: «Поезд качнуло, его рука заскользила по ее спине вниз, он чувствовал все ее изгибы, он ощущал этот шелк, этот атлас, раздался электрический треск…». Дух захватывало от тех сказочных историй. Их можно было слушать часами. Тогда я не догадывался, что that was the beginning of a beautiful friendship[11].
Тренировки хоккейной сборной МГУ, в которую я был зачислен, проходили в Сетуни, на стадионе «Крылья Советов». Начинались они в десять вечера, а заканчивались в половине двенадцатого. Ночной путь из далекой Сетуни домой на общественном транспорте был долог. Сначала на автобусе до «Киевской», потом — на метро до «Краснопресненской». На Большую Грузинскую я добирался к часу ночи, а это был поздний час для первокурсника. Тогда за меня еще волновалась мама, смотрела в окно, нервно курила, ждала…
Как-то Саша предложил мне переночевать у него. Сказал, что родители не против. Я согласился. Помню, он даже поехал посмотреть мою тренировку, а потом мы приехали к нему домой в Кунцево, в самое начало Можайского шоссе. С нескрываемой гордостью он поведал, что его сосед — сам Куравлев, «вдруг, как в сказке, скрипнула дверь», знаменитый артист. Родители уже спали, а в раковине на кухне была сложена гора посуды. «Сейчас помою, и можно ложиться», — Саша засучил рукава: оказалось, мытье посуды входило в его обязанности. «Хозяйственный!» — отметил я, вспомнив утверждение моей бабушки Оли, что «хозяйственный мужик — самый желанный».
Николсон
В жуткое испытание неожиданно превратился английский. Преподавали его старухи Извергиль, женщины-мегеры, державшиеся стаей. Злые, непредсказуемые, зубастые, подчас истеричные. С первого дня они атаковали нас, как пираньи, и принялись издеваться. Семинаров было много, задания были сложными. Приходилось много читать и зубрить нудные тексты. Самыми невыносимыми были занятия фонетикой. Часами сидели мы в лингафонном кабинете, и слушали, и слушали, и слушали один и тот же скучнейший текст только для того, чтобы произносить его точно так же, как это делал диктор: «How do you think we ought to start? My idea is this. Suppose we just say a few ordinary sentences»[12]. Все последующие предложения были чудовищными.
Текст был тщательнейшим образом проработан всеми. Переписанный в тетрадях много раз, он был весь размечен нашими рукописными черточками, стрелочками и палочками, указывающими на то, куда должна пойти интонация и насколько долгой должна быть пауза. Чтобы добиться требуемого произношения, беспрестанно тренировались дома, набрав в рот орехи. Кто-то даже носил с собой зеркальце, чтобы, упражняясь, следить за губами — выпячивать их вперед строго-настрого запрещалось. В общем, аншлаг в театре абсурда. Вместе с тем нам ставили не только интонацию, но и произношение. Аспирация отрабатывалась скороговорками. В одной из них нужно было фокусироваться на произнесении, почти шепотом, звука «р», резко выдыхая воздух при практически сомкнутых и растянутых губах: «Peter Piper picked a peck of pickled peppers…»[13]. Прессинг был создан невыносимый, мы выдерживали его с трудом.
В это тяжелое время на факультете объявился пожилой высокий человек, с зачесанными назад седыми редеющими волосами. Нескольких зубов у него не хватало, а те, которые остались, были желтыми. Он был одет в неряшливый черный костюм, на размер больше, чем нужно. Под пиджаком вместо рубашки был грязно-серый свитер. На лацкане пиджака — синий значок МГУ ромбиком. Ботинки видали виды. Они бессовестно предали свой черный цвет, став серыми, а местами — белыми. В руках у него был не очень чистый, выцветший полиэтиленовый пакет, который, казалось, был таким тяжелым, что заставлял владельца сутулиться. Когда я увидел старика в первый раз, он приклеивал на стену в коридоре стенгазету «Спорт на факультете», которую, как выяснилось позже, сделал сам накануне. Газета на ватмане изобиловала фотографиями и надписями от руки в стиле: «Здоровые экономисты — здоровая экономика страны» и «Лошади падают, а экономисты бегут». Увидев, что я проявляю интерес к его детищу, он живо повернулся ко мне:
— Экономист? В футбол играешь? — он почти кричал. Позже я узнал почему. Он часто громогласно повторял: «Я контуженный». То ли с гордостью, то ли с угрозой. Контузию он получил на Великой Отечественной войне.
— Да, — я был ошеломлен его напором.
— Завтра в 16.00 будем играть! Здесь, на площадке перед факультетом!
— Есть! — ответил я, хотя первым желанием было убежать.
— Фамилия?
— Руденко.
— Зовут? — дед извлек из внутреннего кармана пиджака огрызок карандаша и блокнотик и приготовился записывать мое имя.
— Дима.
— Друзья есть?
— Да.
— Всем передай, завтра играем. Пусть приходят!
Это был легендарный Николай Николаевич Шукленков (мы его скоро прозвали Ник Николсон) — бывший старший преподаватель экономфака по физкультуре. Именно бывший — в то время он уже был пенсионером. Он объяснил, что с факультета его «выдавила новая преподавательница, чья-то протеже». Полковник в отставке, прошедший всю войну, несколько раз раненный, Николай Николаевич не сдался и решил продолжить работать без зарплаты, сам по себе. На пенсию, как он считал, ему было рано, в этом мы быстро убедились. У Шукленкова была своя физкультурная программа. Формально она не входила в учебный план, но была самой стоящей! Его занятия мы не пропускали! В Ленинград за ним поехали! «Порвем ЛГУ в футбол!» — зарядил он нас энергией, и мы побежали покупать билеты на «Стрелу».
Быстро выяснилось, что с Шукленковым не соскучишься. Кто-то рассказал, что давным-давно, в 1967 году, он, как физрук экономфака, в спортивно-оздоровительном лагере МГУ в Пицунде каждое утро выгонял по громкоговорителям студентов на зарядку. Были там и студенты из ГДР. В день их отъезда Николай Николаевич выдал перл, запомнившийся всем слышавшим его навсегда. Когда подошел автобус, чтобы везти немцев в аэропорт, выяснилось, что они еще даже чемоданы не собрали. Они — ни слова по-русски, а переводчик куда-то запропастился. Тогда Шукленков взял инициативу в свои руки, что было ему свойственно, и направился в радиорубку. Познания в немецком ограничивались у Николая Николаевича словарным запасом, приобретенным во время войны, но в своих безграничных языковых возможностях он был уверен. «Студентишен дойтишен демократишен републик!» — требовательно объявил он. Немцы насторожились, а лагерь замер, ожидая чуда. Но чуда не случилось: «Немедленно соберите свои чемоданы!». Лагерь взорвался от хохота, а немцы, как ни странно, Николсона поняли!
А зимой Шукля выгонял студентов на улицу в одних «олимпийках». Однажды в лютый мороз уроженец Мадагаскара, коверкая слова, робко поинтересовался: «Неужели и сегодня на улице?». Николай Николаевич прогремел: «А где еще русским людям заниматься?». На улице он вонзил стул в сугроб, взгромоздился на него и спросил: «Почему проиграли восстания Степан Разин и Емельян Пугачев?». Кто-то вспомнил четыре причины поражения крестьянских войн. «Ерунда — заявил Шукленков, строго смерив взглядом съежившегося мадагаскарца. — Все просто: они спортом не занимались!».
Загипнотизированный Шукленковым, на следующий день я пришел на футбольное поле. Было тепло и солнечно. На втором этаже легкоатлетического манежа МГУ в неокрашенных металлических пеналах я оставил вещи, опасаясь, что их украдут, потому что ключей к этим пеналам не существовало. Переодевшись, вышел на стоптанный газон футбольной площадки. Там уже носился Николай Николаевич со свистком. Рядом с ним, с мячами, разминались ребята.
— Давай быстрее, пошевелись, разогревайся! Что опаздываешь? Не зевай! — завидев меня, прокричал Шукленков.
— С кем играем?— Ни с кем! Не видишь, что ли, тут одни экономисты — ребята плечисты! Между собой играем! Готовимся к осенним стартам!
В разминавшихся атлетах я узнал однокурсников, в том числе и Лёнича. Потом выяснилось, всех пришедших на футбол в тот день Шукленков сагитировал так же, как и меня. Во время неожиданной тренировки Николсон сделал несколько запомнившихся выводов: меня он назвал «трени́рованным», с ударением на «и», а Лёнича — «лёгкоа́тлетом», усиливая сразу две буквы — «ё» и «а». Эти слова он выговаривал так всегда. В конце занятия Шукленков подозвал всех к себе:
— Так. Перекличку начинай! Имя, телефон! Готовимся к первенству МГУ!
Все стали называться. Настала очередь Лёнича:
— Леонид. 251-55-40.
— Ты где живешь? — телефонный номер был мне географически близок.
— На «Белорусской», — ответил Лёнич.
— Я так и понял. Я тоже там живу. У нас первые три цифры телефона похожи — мой телефон начинается с 254. На Бутырском валу?
— На 2-й Тверской-Ямской.
— А где там?
— В доме, где магазин «Дом политической книги».
— Знаю. А я — на Большой Грузинской. А в какой ты школе учился?
— Я в Кунцево учился, на Малой Филевской. Мы недавно на «Белорусскую» переехали.
Зародившийся диалог прервал Николсон:
— Талоны держите, спортсмены! — прокричал он.
— Какие?
— Талоны на обеды! — и Шукля протянул нам розовые бумажки-талоны, превращавшие и без того дешевые обеды в университетских столовках в бесплатные.
— Так, — Николай Николаевич грозно смотрел мне в глаза. — Ты капитаном будешь, пойдем поужинаем, обсудим, как выигрывать будем.
Пришлось идти в профилакторий (он же — профилак) в небоскреб МГУ, где Николсон время от времени проживал. За ужином, который состоял из котлеты и толстых макарон, обсуждая шансы экономфака на грядущих соревнованиях, он озабоченно произнес:
— Не… журфак не пройдем!
— Почему? — удивился я.— Так это ж филиал Института физкультуры. Там же одни спортсмены учатся. Мастера спорта. Не на мехмат же их брать…
Николай Николаевич был прав. За журфак играл Кузя, числящийся чуть ли не в основе киевского «Динамо». Кузя обладал смертельным ударом с обеих ног, причем в цель попадал с любой дистанции.
«Синие ночи ЧК»
После незапланированного ужина я помчал в студенческий театр МГУ на Герцена, 1. Там, я знал, намечалась премьера спектакля-кабаре «Синие ночи ЧК», спектакля не просто хорошего, а потрясающего! Кабаре! Кстати, чуждое советскому уху слово. В фойе — яблоку негде упасть. Ажиотаж! Небольшой зал театра был переполнен энергичными, с горящими глазами, молодыми людьми. Стулья расставляли в проходах, чтобы вместить всех желающих. Я с трудом протиснулся в зал. Волна всеобщего возбуждения накрыла меня. Я будто оказался в кратере вулкана. Атмосфера была фантастической! Сцену украшал белоснежный занавес с изображенной на нем большой красной коммунистической звездой. Когда артист уходил со сцены, занавес раздвигался, деля звезду на две части, и блестяще дирижировавший действом яркий конферансье Валерий Галавский кричал вслед артисту: «Иди в звезду!». «Находка режиссера!» — восхищался я.
На сцену выбежал взрослый студент Алексей Кортнев в светлом костюме. В полутемном зале он под гитару, на мотив патетической песни «Ленин всегда живой», спел: «Lenin is hot Gulf Stream, Lenin is cold ice cream, he is boyfriend of my dream! Lenin is Santa-Claus, Lenin is Mickey Mouse, Lenin is Happy New Year!»[14]. To есть «Ленин — это наше все», но другими словами! Кортневу вторят артисты Нестор и Чан, шепотом декламирующие: «Купил я Ленина карманного и так читал его, читал. Из парня злобного и странного простым и добрым парнем стал».
Всего два года назад мой одноклассник на школьной дискотеке под песню «Битлз» «Back in the USSR» достал из-за пазухи домашнюю заготовку — алый, с серпом и молотом, флаг СССР и стал им размахивать. Дискотеку немедленно остановили, одноклассника чуть ли не за шкирку вывела из актового зала — именно там проводилось мероприятие — завуч по воспитательной работе. А на следующий день вся школа публично разбирала недостойное поведение ученика, осквернившего государственное знамя. Естественно, вызвали родителей. Речь шла об отчислении из школы.
Теперь я не верил глазам — прямо напротив Кремля про великого Ленина пели смешную песню! Совсем недавно за это могли выгнать из университета. Это в лучшем случае! Теперь все было иначе! Стихи лились потоком. Необычные стихи. Их читали как артисты, так и сами поэты нового времени — Игорь Иртеньев и Андрей Туркин:
Слабая, словно больное растение, Меж деревами тугими, ветвистыми, Шла комсомолка по лесу весеннему И повстречалась в лесу с коммунистами. Время прошло, а на месте их встречи Бьет чудотворный, целебный родник. В знак чистоты, совершенства сердечного, Здесь, на советской земле, он возник!В финале на сцене возник сам лидер советского авангарда Дмитрий Александрович Пригов: «Чем больше Родину мы любим, тем меньше нравимся мы ей! Так я сказал в один из дней и до сих пор не передумал!». Потом мы бежали за Приговым и Иртеньевым, взяли у них автографы. Жизнь стала интереснее!
Лёнич
После обмена телефонами мост нашей с Лёничем дружбы стал цементироваться быстро. Важную роль в этом сыграл монумент малоизвестного тогда скульптора Церетели «Дружба навеки», воздвигнутый в честь 200-летия воссоединения Грузии с Россией. У этого монумента, бронзовым колом торчавшего из крошечного скверика на Тишинской площади и аккурат равноудаленного от наших домов, мы с Лёничем стали встречаться вечерами, чтобы побродить, поговорить, другими словами — расправиться со свободным временем. Лёнич называл памятник «грузинским бананом», а моя бабушка Оля, давний житель Грузинки, и того хлеще: «грузинский хэ». Нам, местным, он совсем не нравился. И только Церетели, по его собственному признанию, получал многочисленные благодарственные письма от москвичей за свое творение.
Вскоре Лёнич пригласил меня к себе на 2-ю Тверскую-Ямскую. Дом был новый, и, как тогда говорили, «цековский». Из желтого кирпича, добротный, с большими окнами, расположенными на достаточном расстоянии друг от друга. В этом доме жили знаменитые люди — писатель Айтматов, главный разведчик КГБ Шебаршин, известный советский экономист Абалкин, коммунист Зюганов, член Политбюро Яковлев, начальник советского олимпийского движения Смирнов, Борис Ельцин, наконец. Это отсюда, с Тверской-Ямской, он отправлялся в свои знаменитые троллейбусные поездки — «походы в народ». Переходил улицу Горького, садился в троллейбус на остановке «Большая Грузинская, ресторан «Якорь»» и мчал в центр[15]. Так он, казалось, вступил в донкихотский бой с ненавистными привилегиями партийной номенклатуры! Народ полюбил «нашего Ельцина в троллейбусе» и стал его опорой в будущих политических схватках! Впрочем, непреложен закон жизни! Революции борются с привилегиями, чтобы потом возродить их и преумножить.
На пороге Лёничева дома меня дружелюбным лаем встретила старушка-колли Джильда. Кубарем пронесся, задев пушистым хвостом, белоснежный кот Маркиз, от которого спрятали мои ботинки, так, на всякий случай. Лёнич провел по квартире, ее размеры впечатляли! Целых двести пятьдесят квадратных метров! С двумя балконами, двумя туалетами, несколькими коридорами, двумя просторными холлами и пятью комнатами! Мне и потом редко приходилось бывать в таких невероятных квартирах, тогда же я был ошеломлен! Отдельная комната Лёнича была настолько просторной, что к одной стене было прикреплено баскетбольное кольцо, в которое можно было бросать мяч метров с пяти-шести.
Вернулся с работы строгий папа Валерий Леонидович, крепко пожал руку: «Здравствуйте, Дима». Мама, Тамара Васильевна, радушно усадила нас за стол. В тот вечер я впервые попробовал вкуснейший венгерский суп баб-левеш, фирменное блюдо Тамары Васильевны. За ужином выяснилось, что Лёнич с родителями долго жил в Венгрии, где папа служил советником-посланником. Потом Валерий Леонидович стал вторым человеком в международном отделе ЦК КПСС, и семья переехала в Москву. О таких людях, как Валерий Леонидович, я читал в газетах, видел их по телевизору, но в жизни никогда не встречал. Вечер прошел в разговорах на кухне. Можно было бы посмотреть какой-нибудь фильм по видео — например, «Перехватчик», я принес с собой кассету, но видеомагнитофона у Лёнича не оказалось. Он появился чуть позже вместе с огромным телевизором Panasonic, купленным за чеки в «Березке» на проспекте Мира. Его установили в просторном холле-гостиной, где вся семья любила коротать вечера.
Ушел я от Лёнича поздно. Пешком добрел до Тишинки, миновал черно-стеклянную будку «Чистка обуви», в которой пресненские ассирийцы начищали до блеска ботинки и продавали гуталин, стельки и шнурки. По пути я размышлял над только что случившимся таинственным политическим происшествием, взбудоражившим всю страну и получившим название «купание в реке» или «падение с моста». Борис Ельцин, сосед Лёнича, решил навестить кого-то на правительственной даче «Успенское». Пошел пешком, отпустив шофера со служебной машиной. Внезапно на него напали неизвестные, затолкали в автомобиль «Жигули», надели на голову мешок, а затем сбросили с моста в Москву-реку, но он выплыл. Я и не предполагал, что скоро благодаря Лёничу окажусь в тех местах, где эта легенда родилась.
Перед входом на старый Тишинский рынок, возле «Металлоремонта», прямо на Грузинке, стояли автоматы с газировкой. Вода с сиропом стоила три копейки, а без — одну. В каждом автомате были граненые стеклянные стаканы для общественного пользования. Стаканы не воровали. Даже местные пьяницы, которые время от времени «одалживали» их, чтобы по-своему утолить жажду, возвращали их обществу. Звеня, подошел пустой 66-й троллейбус, я запрыгнул в него, чтобы проехать одну остановку до дома. Покупать билет или нет? Я опустил в квадратную пластмассовую кассу, закрепленную на стене, 4 копейки и оторвал билет. Тогда была такая примета — если сумма двух первых цифр четырехзначного номера равна сумме двух последних цифр, то билет признавался счастливым и его следовало съесть, загадав желание. В тот раз мне не повезло. Билет не был «счастливым», но я не расстроился.
Эра экстрасенсов начинается
— Сегодня вечером хочу посмотреть «Добрый вечер, Москва» по московской программе, — сказала за завтраком следующим утром бабушка Оля. — Какой-то экстрасенс будет всех в прямом эфире лечить! Его уже показывали в прошлый вторник, так у бабок из нашего двора, кто смотрел, швы от операций рассосались.
— Чумак? — полюбопытствовал я: это был чудаковатый целитель, которого ни с того ни с сего стали показывать по телевизору. Он просил телезрителей поставить перед экранами трехлитровые банки с водой и потом замолкал на несколько минут, только причмокивал и делал пассы руками: заряжал воду целительной энергией. Зрелище было удивительное.
— Нет, не Чумак, новый, какой-то Кашпировский.
Вечером мы с бабушкой вместе замерли перед телевизором. На экране появился, весь в черном, Кашпировский. Сначала он, сидя за столом, энергично подавшись вперед, безмолвно глядел в камеру тяжелым, демоническим, колючим и немигающим взглядом, потом вдруг начал давать жесткие, отрывистые указания телезрителям. К величайшему изумлению, бабушка Оля внезапно стала крутить головой, вращаться на стуле, сгибаться и разгибаться, обхватывая колени руками.
— Оля, что с тобой? Что-нибудь чувствуешь? — насторожился я. Но сразу ответа не получил. Оля была на другой частоте. Пришлось повторить вопрос раза четыре. Наконец Оля промямлила:
— Чувствую. Да!
— А что? Что, бабушка, ты чувствуешь?
Оля не ответила. Потом я догадался, что она вошла в транс. С бабушкой Лёнича Екатериной Матвеевной случилось то же самое. Но удивительнее всего было то, что вместе с нашими бабушками миллионы советских граждан зарыдали и заплакали, завращали головами, начали раскачиваться из стороны в сторону, поднимать и опускать руки, падать навзничь. У кого-то участилось сердцебиение. Одних бил озноб, у других был жар, третьи дрожали. У многих, когда речь зашла о курении, возник приступ тошноты, а у собак, сидевших перед экраном — было и такое! — затряслись челюсти. Кот Лёнича — Маркиз — вообще окаменел перед телевизором, не реагировал даже на валерьянку! Так ярко началась эра экстрасенсов, целителей и колдунов.
Афиши на стенде ДК Зуева на Лесной улице — Экстрасенсы и инопланетяне…
Берлинская стена
К ноябрю были проложены новые маршруты дружбы. Одним из них стал витиеватый путь к дому Маши Майсурадзе на улице Голубинской в Ясенево. Гостеприимная Маша обитала одна, родители ее были в Германии — папа служил разведчиком. Добрая душа, она распахнула двери аккуратной квартиры одногруппникам, и мне в их числе.
Маша казалась мудрой, несмотря на молодые годы. «Это не мир тесен, это прослойка очень тонкая», — любила говорить она, лукаво подмигивая в знак того, что мы встретились не случайно и что мы и есть те самые избранные. Маше нравились фильмы Sex, Lies and Videotape и Dead Poets Society, а еще она рассказывала, что недавно вычислили самое сексуальное число — «2». Удивительное дело, сама Мария родилась 22 февраля, а февраль — это второй месяц. Вывод напрашивался сам собой.
Однажды мы пили чай у Маши на кухне и поддерживали small talk[16]. Обычно чаепитие совершалось под песни любимой Машиной Энни Ленокс, но в тот вечер был включен телевизор. А в нем происходило что-то необыкновенное. Показывали Берлин, на вечерних улицах которого царило возбуждение, сияли яркие прожектора, ликовали толпы людей, реяли флаги, цвели улыбки. Показывали разрисованную бетонную стену, на которой висели, прыгали, плясали счастливые люди. Корреспондент Центрального телевидения быстро говорил что-то в микрофон, было видно, что он сам какой-то взбудораженный. Мы прислушались: «…пала Берлинская стена»[17]. Сделали погромче. «При активном участии СССР и Горбачева пала Берлинская стена. Построенная в 1961 году, чтобы отделить западных немцев от восточных, она была одним из ярчайших символов «холодной войны»».
— Блин! — сказала Маша, громко поставив чашку на стол. — Все! Ауфвидерзейн, ГДР!
Мы переглянулись.
— Почему? Ну почему неграмотная речь Горбачева так быстро меняет карту мира? — возбужденно продолжила Маша. — Блин, блин! Козлы! Козлы! Теперь отца вышлют из Германии!
— Почему?— Да потому, что нас засветил предатель и гад Гордиевский![18] Всю нашу резидентуру в Англии заложил, включая отца. Нам пришлось из Лондона после этого уехать. Тогда все капстраны для нас сразу закрылись. Они же между собой обмениваются информацией. Отец в ГДР уехал — в соцстранах на рассекреченных смотрят сквозь пальцы. А теперь что? Теперь ГДР превратится в ФРГ, станет капиталистической. Отца отзовут обратно. Тьфу! — Маша выключила телевизор. — Не хочу расстраиваться!
После Машиного монолога мы тоже огорчились — где же теперь будем собираться? Маша оказалась права. Через год в посольстве ГДР уже не брали трубку телефона. Такого учреждения больше не существовало. С Бранденбургских ворот, разделявших западную и восточную части Берлина, сняли флаг ГДР. Германия объединилась.
Первые зимние каникулы
Под Новый год мой гардероб пополнился двумя предметами. Первым были купленные с рук, по счастливой случайности, зеленые, узкие, полушерстяные, колючие изнутри штаны, на заднем кармане которых бесстыдно сверкала латинская надпись «Vidal Sassoon»! Конечно, надпись немедленно привлекла внимание. Особенно радовался Остапишин: «Ну-ка, повернись. А? Видал, сасун?». Назойливое внимание конфузило, но что было делать? Это были мои единственные штаны на холодную погоду. Второй покупкой стал зимний серо-черный синтетический польский свитер с очень странным, глубоким V-образным вырезом. Он был куплен мамой на специально организованной распродаже дефицита для сотрудников МГУ. На следующий же день я явился в университет в обновке — для того чтобы тут же наткнуться на десяток преподавателей в точно таких же свитерах. Словно униформу приобрели. Свитер я решил больше не надевать, чтобы во время сессии не раззадоривать преподавателей. А сессия была особенная, первая, она стала настоящим испытанием, но из-за постоянного напряжения запомнилась плохо. В перерывах между экзаменами снимали стресс на катке «Дружба» в «Лужниках», где мы носились по кругу под вихрь мелодий популярной Ким Уайлд и, конечно же, Белинды Карлайл, но более созвучной настроению была, пожалуй, песня «гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные»! Молоденьких разгоряченных московских барышень на катке было много. Очень хотелось с ними знакомиться… Приближался Татьянин день, а вместе с ним — первые каникулы. Лёнич пригласил меня провести их у него на даче. Я с радостью согласился.
В звонкое, хрустящее, морозное утро к моему дому на Большой Грузинской подкатила черная начальственная «Волга» с номерами «МОС». В машине были Лёнич и его папа, Валерий Леонидович. За рулем — шофер.
— Поехали, — тихо произнес Валерий Леонидович.
Машина плавно тронулась. Сначала мы мчались по пустому Кутузовскому, потом повернули направо. Я смотрел в окно, любуясь районами, которые никогда прежде ни видел.
— Это Крылатское, — пояснил Лёнич.— Новый район, — добавил Валерий Леонидович. — Месяц назад, в конце декабря, здесь метро открыли, станцию «Крылатское».
Скоро мы выехали из города. Дорога стала узкой, в два ряда. Расчищенный от снега черный асфальт был ярко размечен двумя белыми линиями по бокам и одной посередине. Это была Рублевка. Минут через двадцать свернули налево. Валерий Леонидович спросил: «Дима, что вы думаете о событиях в Румынии и Баку?». Этот непростой вопрос застал меня врасплох. Конечно, я знал, что только что в социалистической Румынии народ свергнул и расстрелял Чаушеску, это потрясло: вот, оказалось, как быстро можно казнить лидера европейской страны, причем социалистической! Я был на стороне народа, но ведь до конца не было ясно, против чего восстали люди — против социализма или кровавой диктатуры? Или эти два понятия слились в Румынии в одно? Как же так случилось? Еще непонятнее было произошедшее в советском Баку: там азербайджанцы неделю убивали, насиловали, сжигали и грабили армян[19]. Все из-за Нагорного Карабаха, который был азербайджанским краем, но жили в нем в основном армяне. Они потребовали признать Карабах своей территорией и с лозунгом «очистить Армению от тюрок» бросились на азербайджанцев. Ответ получили в Баку. Волнения были такой силы, что в Азербайджан ввели войска. Азербайджанцы тут же решили, что их притесняют, что армия — на стороне армян. Масло в огонь подлила близость академика-армянина Аганбегяна к Горбачеву «Карочи», как говорят на Кавказе, Азербайджан даже захотел выйти из состава СССР!
Как же, думал я, братские народы докатились до войны? Зачем делить общую Родину? Что значит выйти из состава СССР? Как это? Пока я размышлял над ответами, машина въехала в большие зеленые ворота, и мы оказались в красивом сосновом лесу. «На месте, — кивнул Лёнич. — А вот и наш дом, мама уже встречает». Машина плавно затормозила, началась суета, разгрузка, и о разговоре было забыто.
Это был поселок «Успенское». Тот самый, в котором Ельцин полгода назад «упал с моста», хотя, как выяснилось, никакого моста там не было, да и до Москвы-реки было далековато. Разделенный на цековскую и совминовскую половины поселок впечатлял[20]. Выглядел он как очень ухоженный санаторий. Лёнич жил в цековской части. Здесь на почтительном расстоянии друг от друга стояли большие двухэтажные деревянные дома. Каждый дом — на две семьи. Заборов между домами не было. У Лёнича было четыре комнаты, одной из которых была просторная гостиная. Туалеты, ванна, горячая вода, газ. Сказка! Каникулы проходили тихо и спокойно. Мы гуляли по хрустящему снегу в душистом хвойном лесу, катались на коньках и играли в бильярд. За ужином Тамара Васильевна потчевала нас историями, а когда становилось совсем поздно, мы прилипали к телевизору. Только-только по третьей, московской программе новый, первый коммерческий телеканал «2×2» стал крутить модные видеоклипы. Прежде западных музыкантов по советскому телевидению почти не показывали. Для нас в основном пел чешский соловей Карел Готт и реже — полька Марыля Родович («Это ярмарки краски»). Еще наши неокрепшие души поражал полуобнаженными женскими телами балет телевидения ГДР. Теперь же каждый вечер мы видели Сабрину с ее восхитительным стосантиметровым бюстом, Сандру, «Саваж», «Камуфляж», Си Си Кэтч (она же — Каро Мюллер), Дэвида Боуи, Ким Уайлд, «ЭйСи/ДиСи», «Пэт Шоп Бойз», Билли Оушена, Рика Эшли, восхитительную Белинду Карлайл… Клипов на самом деле было немного, поэтому их постоянно повторяли. Зубной болью врезалась в память невыносимая песня группы Nazareth со словами «we are animals»[21]. Ее протяжно ныл фронтмен группы, неприятно извиваясь. Но даже когда выл Nazareth, мы не переключались.
В «Успенском» мы пробыли до самого конца каникул. Все потому, что Тамара Васильевна строго сказала: «Нечего вам в Москве делать, там — митинг». И была права: накануне очередного Пленума ЦК Коммунистической партии в Москве сотни тысяч людей прошли по центру, показывая, что они не хотят жить по-старому: «В Союзе жить — по волчьи выть!», «Вся власть народу!», «Из нас уходит страх, на котором держится система! Так, как мы жили, мы больше не будем жить никогда!», «Не хотим быть безликой массой, на которую привыкла ссылаться Старая площадь!», «Долой партийную номенклатуру», «Долой КГБ!», «Долой шестую статью!», «Судить КПСС», «Номенклатура, помни о Румынии!», «Меняем старое бюро на круглый стол из чешского гарнитура».
Митинг, от которого нас уберегла Тамара Васильевна
Скорей на Пушкинскую!
Когда мы вернулись с Лёничем из «Успенского», Москва несколько дней снова стояла на ушах, но уже по другому поводу. На Пушкинской площади, в помещении бывшего советского кафе «Лира», с благословения Коммунистической партии открылся первый в СССР «МакДональдс» — совместное предприятие, больше чем наполовину принадлежащее отнюдь не «МакДональдсу», а Мособщепиту при Мосгорисполкоме. Это было событие национального масштаба, собрались четыреста репортеров газет, радио и телевидения. Еще бы! Ведь «МакДональдс» — это Америка, сладкий запретный плод! Попробовать хрустящий золотистый картофель фри, молочные коктейли и знаменитый гамбургер «Биг Мак» захотели все советские люди разом. Но ведь даже в кафе «Лира» было трудно попасть, про него пел Макаревич: «У дверей заведенья народа скопленье…». Что уж говорить про «МакДональдс».
Мы, конечно, сразу же помчались на Пушкинскую и влились в очередь, несколькими кольцами обвившую ресторан, на стене которого красовалась табличка: «Только на советские рубли». То была великая очередь, она попала в книгу рекордов Гиннесса, как самая длинная. Ей не был страшен даже лютый мороз! Вместо солнца наш извилистый путь освещала огромная неоновая красно-белая реклама «Кока-колы», недавно установленная на крыше серого дома на углу улицы Горького и Тверского бульвара — чуть ли не первая наружная реклама в Москве, невидаль, на нее не могли наглядеться, как на шедевр изобразительного искусства. Отстояв два или три часа на холоде, мы вошли в настоящий дворец! Шик, блеск, красота! Еще чуть-чуть — и я протиснулся к кассе и попросил «Биг Мак» за 3 рубля 75 копеек, гамбургер за 1 рубль 60 копеек, чизбургер за 1 рубль 75 копеек и «Кока-колу»! Улыбчивая девушка приняла заказ и, поблагодарив за то, что я заплатил «без сдачи», мгновенно выдала поднос, на котором плотно разместились чудные скрипучие пенопластовые контейнеры с желанными бутербродами. Волшебство!
«МакДональдс» сразу же стал частью нашей жизни! Чуть ли не каждый день мы вставали в очередь на Пушкинской, чтобы провести в ней несколько часов. Как выяснилось, почти всегда была возможность купить место в голове очереди, их продавали сомнительные личности, которых Остапишин называл «сталкерами», но сталкерам мы не доверяли. Еще Саша мечтал вслух: «Вот бы зарабатывать столько денег, чтобы каждый день ходить в «МакДональдс!». А «МакДональдс» между тем стойко держал удар в агрессивной среде советского дефицита. Каждый день через его двери проходило сорок тысяч человек, и каждый норовил что-нибудь с собой прихватить, и не всегда это были бутерброды и пластиковые одноразовые стаканчики с надписью: «В память о посещении». За первый месяц работы растащили все подносы, их пришлось заменить пакетами, а в туалете кто-то ухитрился похитить крышку унитаза. Кроме того, посетители быстро сообразили, что пока стоит очередь, можно скупать бутерброды в больших количествах и тут же, на улице, перепродавать их по более высокой цене. Но и «МакДональдс» оказался начеку: сразу пресек начинание, установив «норму отпуска» — десять гамбургеров в одни руки.
Скоро по факультету разнесся слух, что в «Макдональдсе» работает, причем успешно, наш однокурсник Юра. Юру моментально обнаружили и контакт с ним установили. Скоро мы уже звали его вальяжно не Юрой, а Юриком. Он рассказал, что поступить в «МакДональдс» было задачей похлеще, чем стать студентом МГУ: из 25 тысяч желающих на работу приняли лишь шестьсот везунчиков. Я думал: «Молодец Юрик! Отныне он всегда будет уверен в хлебе с маслом!». Через две недели Юрик пригласил нас «к себе в «МакДональдс»». В тот день я понял, что в моей стране нет ничего невозможного.
Юрик встретил нас перед входом в ресторан и, быстро переговорив о чем-то с внушительного размера охранником, провел нас внутрь за считанные секунды на глазах у заторможенной из-за судорожного холода очереди. «Садитесь за свободный столик и ждите, — небрежно бросил он. — Скоро подойду и сам приму заказ. Ни в чем себе не отказывайте. Сегодня все — за мой счет!». В те далекие дни за каждый столик в «Макдональдсе» велась жестокая охота. Их катастрофически не хватало. Не только из-за рекордного наплыва народа, но и потому, что люди шли в «МакДональдс» не как в заведение фастфуда, а как в настоящий ресторан, в котором по советским представлениям принято «посидеть», как тогда говорили. Поэтому все места были заняты, а над счастливчиками нависали недовольные люди с подносами, каждую минуту интересуясь: «Скоро заканчиваете?».
Нам повезло, и большой стол мы захватили быстро. Вскоре, как и обещал, подошел Юрик. В фирменной зеленой Макдональдсовской форме он выглядел инопланетянином. «Выбрали?» — спросил он. В руках у него были ручка и блокнотик. Чего только мы не заказали в тот вечер! Я уходил из «Макдональдса» с фирменным пакетом, набитым «Биг Маками», чизбургерами и милкшэйками. Все — бесплатно! Во дворе моего дома дорогу мне преградил сосед дядя Ваня. Дымя «Беломором», он тщетно пытался завести свой белоснежный горбатый «Запорожец». «Что несем? — простуженным голосом прохрипел он. — МакДональдс? Разбогател никак?».
Юрик приглашал нас в «МакДональдс» еще несколько раз. А потом неожиданно эмигрировал в Канаду. «Зачем? — думал я. — Ведь он и учился не абы где, а в лучшем университете страны. И работа у него была перспективная…».
Завертелось…
Пока мы стояли в очереди за «Биг Маками», в стране произошло историческое событие — съезд народных депутатов СССР отменил шестую статью Конституции СССР[22]. Эта статья закрепляла за КПСС роль «направляющей и руководящей силы советского общества». Теперь с монополией КПСС на власть было формально покончено! Тогда же учредили пост президента СССР, им стал Горбачев. Кроме того, к этому времени во всех советских республиках в первый раз демократическим путем выбрали новые парламенты, а они сразу вспомнили о другой, 72-й статье Конституции СССР, провозглашавшей право каждой союзной республики на свободный выход из СССР. И завертелось — весной Литва провозгласила свою независимость, а Грузия, Латвия и Эстония двинулись за ней следом[23]. Горбачев был очень недоволен, но вмешался Запад и, конечно, поддержал бунтующие республики. Это был щелчок по нерушимому союзу республик свободных, но мысль о том, что СССР может от этого щелчка развалиться, казалась абсурдной, она даже в голову никому пока не приходила.
Один из самых революционных перестроечных лозунгов. Шестая статья закрепляла однопартийную систему в СССР: «КПСС существует для народа и служит народу!»
Жизнь шла своим чередом, в согласии с советскими традициями. Двадцатого апреля 1990 года в Большом театре, как обычно, прошло торжественное собрание, посвященное 120-й годовщине со дня рождения Ленина. Звучал гимн Советского Союза. Горбачев выступил со «Словом о Ленине», и его слушали с большим вниманием. Потом все участники собрания с воодушевлением пропели «Интернационал», а руководители партии и государства, как было принято, возложили венок к Мавзолею Ленина.
Первомайская демонстрация 1990 года на улице Горького. СССР пока нерушим, но республики уже требуют свободу.
Счастливый случай
Мне стукнуло восемнадцать, день рождения не отмечался, самым запомнившимся подарком стала книга Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» — дефицит, за которым гонялась вся Москва. Без происшествий, незаметно мы приплыли к летней сессии. Я сидел над пухлым оранжевым, переполненным дробными формулами учебником по статистике. Раздался пронзительный телефонный звонок. Я с радостью отвлекся от занудного чтива, бросившись к польскому, с крутящимся диском, телефону, который благодаря длинному вьющемуся шнуру можно было носить по всей квартире:
— Это Оля. Привет, — Олю, аспирантку экономфака и одну из наших преподавательниц, я знал еще с пионерского лагеря «Юность МГУ», где она была вожатой в соседнем отряде.
— Привет.
— У тебя на июль планы есть?
Ура, подумал я. Сейчас меня наконец позовут вожатым в «Юность МГУ»!
— Нет. А что?
— Хочешь поехать в Японию? — я замер. Япония? Это розыгрыш?
Выдержав паузу, Оля ровным голосом продолжила:
— На две недели. По пути мы остановимся на три дня в Пекине. Поездка бесплатная. Деньги на карманные расходы выделим. Я могу включить тебя в состав студенческой делегации, если хочешь.
— Хочу! Конечно! Но ведь я только один раз был в социалистической стране…[24]
— Теперь это уже неважно.
— Да? А что мне нужно сделать?
— Завтра подъехать на улицу Богдана Хмельницкого[25]. На углу напротив Политеха найдешь зеленое здание с большими окнами. Это Комитет молодежных организаций СССР. Поднимешься на второй этаж, спросишь меня.
На следующий день я вынырнул из подземки на «Площади Ногина», напротив памятника героям Плевны. Через пять минут Оля вводила меня в курс дела:
— У нас делегация. Человек сорок. Все из разных вузов. С экономфака МГУ — пятеро.
— А кто?
— Всех не помню. Алексей Попов… Знаешь его?
Конечно, я знал Леху Попова из «китайской» группы, длинного худого черноволосого парня в очках и с золотой, в палец толщиной, цепочкой на шее. Он жил «на Мазутке» — в одном из самых бандитских районов Москвы недалеко от гостиницы «Космос» и, судя по всему, был там не последним парнем, иначе как объяснить происшествие в безымянной дискотеке на ВДНХ, где Леха, лишь назвав свое имя, отогнал от нас пятерых злых и накачанных «спортсменов» в тренировочных костюмах.
— Едем по приглашению преподобного Сан Мен Муна. Слышал о таком? — продолжила Оля.
— Нет.
— Это такой религиозный и политический деятель, глава Церкви объединения, она же Церковь унификации. Он с Горбачевым недавно встречался. Они обнимались. Теперь Мун хочет помочь нашей стране. Первый шаг — приглашение студентов в Токио.
— Он кто, Мун? Американец?
— Нет. Кореец. Объявил себя мессией, господином второго пришествия, что-то такое. Он миллиардер. У него газеты, банки и так далее.
— Что за газеты?
— «Вашингтон Таймс», например.
— А что общего у Муна и Комитета молодежных организаций СССР?
— Это сейчас важный вопрос, скажи? Ты в Японию бесплатно хочешь поехать?
— Хочу. А что там нужно будет делать?
— Ничего особенного. Утром сидеть на каких-то семинарах, а вечером смотреть Японию. На всякий случай ты должен быть в курсе последних политических событий.
— Каких, например?
— Ну, Ельцина только что избрали председателем Верховного Совета РСФСР, главой республики.
— Это я знаю, Оль. Горбачев всех против него настраивал, но выбрали все равно Ельцина, а не Власова[26].
— Молодец. Ну и что Декларацию о государственном суверенитете России приняли.
— Тоже знаю, — перебил Олю я. — Теперь Россия, Грузия, Литва, Латвия и Эстония вроде как независимые республики, правда, я не совсем понимаю, что это значит[27].
— Правильно. Подкован!
— А деньги надо с собой брать? — поинтересовался я.
Вопрос был не праздный, потому что валюту официально продавали только в одном Внешэкономбанке, и за ней стояла очередь на полтора месяца. Конечно, можно было купить ее у знакомых, но надо было озаботиться заранее.
— Ну возьми долларов пятьдесят на всякий случай, а так за все уже заплачено. Так что, едешь?
— Да!
— Значит, оформляем загранпаспорт.
Для меня так и осталось загадкой, чем основатель тоталитарной религиозной секты, антикоммунист Мун полюбился Комитету молодежных организаций СССР? Почему он обнимался с Горбачевым? Что вообще преподобный Мун делал в стране преподобного Сергия? Впрочем, эти загадки и впрямь не были препятствием для дальнего заманчивого путешествия.
Президент Монголии
В конце июня я снова приехал в «Успенское». И не один, а в задорной компании однокурсников и школьных друзей Лёнича. Всего человек десять. Повод — завершение первого учебного года. Праздник удался на славу. Свежесть лета будоражила, а первые пробы вина опьяняли. Само собой придумалось приключение. Мы дружно совершили налет на половину Совмина в поисках барышень. Кто-то удачливый даже преуспел — отыскал долговязую девушку по фамилии не то Сайгак, не то Сорока, готовую с удовольствием выслушивать намеки на порочную связь. Сорока сразу стала центром внимания. Шура Дмитриев, еще год назад одноклассник Лёнича, а теперь студент Института стран Азии и Африки при МГУ, изучающий монгольский язык и потому прозванный Лёничем «будущим президентом Монголии», охотился за Сорокой яростнее всех. Ему даже удалось заманить ее в кусты у оврага секунд на тридцать-пятьдесят. Из этого эпизода он соорудил целую романтическую историю с элементами гусарской пошлости и с удовольствием рассказывал ее нам. Я слушал его с открытым ртом, восхищаясь отчаянным поступком.
Следующим вечером мы все вместе возвращались в Москву на электричке. Стояли в тамбуре, беседовали. Шура Дмитриев курил сигарету, озабоченно глядя в окно. Я очень хотел успеть на вечерний матч чемпионата мира по футболу между Камеруном и Англией. Камерун демонстрировал потрясающий футбол. Это было заслугой лидера команды, 38-летнего Роже Миллы, деда камерунского футбола, который обычно выходил только на второй тайм, но при этом постоянно забивал. После каждого гола Роже бежал к угловому флажку и исполнял танец, ритмично покачивая раздавшимся с годами тазом. Журналисты назвали этот танец ламбадой, но Роже поправил их — то был макосса, древний танец победы его племени. Тренировал Камерун советский тренер Валерий Непомнящий. Конечно, мы болели за Камерун.
— Успеем на футбол, как думаете? — спросил я у ребят.
Молчание было мне ответом. Обычно веселый и разговорчивый, Шура был заметно раздосадован.
— Саш, что думаешь, успеем к футболу?
— Не знаю. Я рубашку прожег. Вот неприятность, посмотри, — он показал мне дырку от сигареты на своей голубой фирменной рубашке поло. Дырка была в районе сердца. — Любимая рубашка. Кто, блин, мне ее прожег? Или я сам вчера по пьянке? Вот жалость!
— Да ладно, не расстраивайся. Заштопать наверняка можно, — как мог поддержал его я, хотя сам на его месте огорчился бы еще больше.
— Не знаю. Обидно! И мама расстроится.
На Белорусском вокзале мы распрощались, и каждый двинул в свою сторону Я пошел домой пешком, мимо своей школы в Большом Кондратьевском переулке. Темнело. Погода стояла чудесная. Любимая Грузинка была пустая, мне нравилось идти по ней, всматриваться в окна знакомых домов и думать о предстоящей поездке в Китай и Японию. Дома я оказался, когда драматичный матч Англии и Камеруна скатился в дополнительное время. Европейские «Львы» отчаянно желали победы. Африканские «Львы» играли лучше. Но вот судья назначил спорный пенальти, и камерунская сказка закончилась. Англия, за которую играли великие Гаскойн и Линекер, вырвала победу со счетом 3–2. Оба гола Камеруна были забиты с помощью Миллы. В перерыве того матча показывали рекламу кроссовок «Адидас»: «Беги в «Адидас Торшн», пружинящих в такт движению твоей ступни, с одной поставленной им целью — победить. «Адидас Торшн!»». Это была одна из самых первых реклам на нашем телевидении.
Поднебесная и Страна восходящего солнца
Вскоре вместе с большой группой студентов я приземлился в Пекине. Футбольный мундиаль к тому времени уже стал историей, его выиграли немцы. Выйдя из самолета, мы чуть не задохнулись. Было очень жарко и влажно. Нас сразу повезли по бескрайним полям на Великую китайскую стену, и по пути из окна автобуса мы кричали китайцам «Нихао»[28], а они радостно махали нам в ответ. К моему изумлению, в густонаселенном Китае оказалось очень много свободной земли. В дороге не умолкал Дима Быков, сотрудник «Собеседника», ставший позже писателем и телеведущим. Он выстреливал анекдоты один за другим. Еще на общем фоне выделялся седовласый взрослый мужчина, явно не студент, — Вася Нестеренко, в будущем народный художник России, прославившийся своими монументальными историческими полотнами и церковными росписями. В гостинице, в которой мы очутились лишь поздним вечером, меня поселили в номере с высоким и представительным Боряном из МГИМО. Ложась спать, мы разговорились.
— Ну и как тебе в МГИМО? — спросил я.
— Нормально. Интересно.
— А я слышал, что вам на занятия надо в костюмах ходить.
— Да. Так и есть. Ходим в костюмах.
— А зачем?
— Чтобы привыкали. Нам же так всю жизнь ходить. Это наша униформа. Мы ж дипломаты будущие.
— Неудобно.
— Да нет. Я привык. Наоборот, без костюма себя чувствую некомфортно. А ты первый раз за границей?
— Когда учился в школе, ездил в Чехословакию. А ты?
— Я был в Аргентине, Бразилии. На Островах Зеленого Мыса. С родителями.
— Ничего себе! И как?
— Понравилось, конечно. Знаешь, что я думаю? Как же по-настоящему круто, что мы в Китае! Я даже в самых смелых мечтах не мог такого себе представить. Я — в Китае! А через три дня буду в Токио! Не верится даже!
Мне тоже казалось это невообразимым. Я-то уж точно оказался в Китае по чистой случайности. Счастливо вздохнув, я заснул глубоким сном.
Утром, выйдя на улицу, чтобы оглядеться и подышать воздухом Поднебесной, я был потрясен. В небольшом парке, окружавшем гостиницу, занимались ушуисты. Их было много. Они совершали медленные, плавные движения руками, ногами, головой. Выглядело это как в замедленной съемке. Как будто я оказался в другом измерении.
— Это у них вместо утренней зарядки, — подошел Борян.
— Впечатляет. Смотри, тут и стар и млад.
— Китайцы, что ты хочешь! За ними будущее! Хорошо, что «русский с китайцем братья навек», знаешь эту песню?
— Нет.
— В ней еще такие слова: «В мире прочнее не было уз, в наших колоннах ликующий май, это шагает Советский Союз, это могучий Советский Союз, рядом шагает новый Китай».
Потом мы пошли на площадь Тяньаньмынь, глазели на Мавзолей Мао, обедали сушеными кузнечиками в уличном ресторане, дивились на армию велосипедистов. Подъезжая к аэропорту, чтобы вылетать в Японию, я разглядел три ярких красных иероглифа на основном здании и спросил Леху Попова, изучавшего китайский язык, что они означают. Леха озадаченно хлопал глазами. Я устал ждать ответа:
— Я знаю, что там написано.
— Что?
— Пекинский аэропорт, — угадал я.— Ну да, — кивнул Леха. — Точно. Пекинский аэропорт.
В Токио жара была еще сильнее. Нас посадили в гигантские автобусы. Высокие, длинные, с разноцветной рекламой на боках. В них работали кондиционеры и стояли холодильники с бесплатной водой в банках! «Кока-кола», «Фанта» разных оттенков, Уир! Таких волшебных автобусов я в Москве не видел. Рядом с водителем сидела миниатюрная японочка в красном элегантном костюме. Я решил, что она — гид-переводчик, но ошибся. Это была помощница водителя. Ее задачей было вставать позади длинного автобуса, когда тот совершал маневры задним ходом, и пищать, если вдруг автобус не вписывался в узкие проемы улиц. Как сказали бы сейчас, японка служила парктроником.
Привезли в какую-то школу и завели в огромную, с низкими потолками, комнату, где в четыре плотных ряда стояли двухъярусные кровати — там мы должны были жить следующие четырнадцать дней. Условия спартанские, но меня устраивали — все-таки за плечами была школа детсадов и пионерлагерей. Я расположился на верхнем ярусе рядом с Лехой Поповым. Разместившись, мы пошли осматривать школу. В одном из больших холлов стоял космических размеров холодильник, в котором можно было бесплатно брать газировку в банках. В первую же ночь Леха стащил большую часть банок и запрятал их себе под матрас.
— Зачем? — спросил я.
— Как зачем? Не понимаешь, что ли? Они же сейчас закончатся, а новые не привезут! Халявы много не бывает!
— Думаешь, не привезут?
— Конечно, не привезут. Уверен!
— Так ведь спать на банках неудобно.
— Ничего. Удобно. Потерплю. Хочешь, кстати? — Леха протянул мне холодную банку «Кока-колы». Я с удовольствием взял.
Следующий день начался с того, для чего нас и привезли в Японию, — с наискучнейших религиозных семинаров, проповедовавших учение Муна. Все эти увещевания я пропускал мимо ушей. К счастью, для нас была составлена и другая программа. Она включала экскурсии на автомобильный завод Isuzu, на красивую телевизионную башню, с верхнего этажа которой виден вулкан Фудзи, а потом к императорскому дворцу и в буддийский храм в центре города. Были запланированы посещения фантастических ультрасовременных концертов и экзотических ресторанов. В одном из них мы чуть не сели в калошу, когда к столу подали маленькие кусочки мяса в пальмовых листьях. Никто не знал, надо ли есть пальмовые листья. После мучительных раздумий решили не есть и правильно сделали.
Особняком стояли походы в парламент и редакцию ведущей газеты «Асахи Симбун», а также встреча с экс-премьером Ясухиро Накасонэ и беседа с министром финансов. К министру, седовласому очкарику крупной комплекции, я отправился в составе небольшой, тщательно отобранной группы под присмотром прикомандированного представителя посольства СССР. День был исключительно жарким. Я был, как и требовала ситуация, в костюме. Но, к сожалению, не в летнем, а в зимнем шерстяном, сшитом для морозной русской зимы и купленном еще для выпускного школьного бала по талонам в салоне для новобрачных «Гименей». Талон был подарен маме кем-то из коллег-журналистов. Этот костюм фабрики «Большевичка», как обычно, покупался на вырост, что особенно сильно отразилось на пиджаке — плечи были широкими, а рукава длиннющими. Они полностью закрывали кисти и этим раздражали. В конце концов я, не выдержав, подвернул их так, что получились рукава с манжетами. Выглядело это, конечно, странно. Но мне уже было все равно.
Министр принял нас в своем просторном кабинете. Пожимая нам руки, он уставился на мои манжеты, оцепенел на минуту от удивления, а потом, переборов его, учтиво предложил нам сесть и тут же, глядя на меня, задал ритм беседы:
— Как вам, ребята, нравится капитализм?
Это был отличный вопрос. Потому что я знал, как на него отвечать, — все-таки студент идеологического факультета. К тому же как раз перед Японией я бегло пролистал Бердяева.
— Капитализм — это религия золотого тельца, — отчеканил я. — Он угнетает неимущих, но прежде всего угнетает человеческую личность. Даже личность самого буржуа угнетена и раздавлена буржуазным капиталистическим строем.
В комнате повисло напряжение. Особенно озадачился представитель нашего посольства. Я продолжил:
— Другое дело социализм. Правда, тут надо различать. Есть социализм коллективистический, когда государство подавляет личность, а принцип равенства — свободу. Человек в этом случае получает хлеб, но его лишают свободы и совести. А есть социализм персоналистический. Он ценит личность. Личность торжествует над обществом и государством, свобода над равенством. Хлеб есть у всех, и свобода тоже есть у всех!
Министр поправил очки и угрюмо уставился в пол. Подали зеленый чай с японскими пирожными из рисовой муки, но на угощение я не отвлекся, слишком был увлечен ответом.
— В этом смысле я выступаю за социализм, но социализм персоналистический. Некоторые страны, по-моему, приблизились к этой модели ближе, чем СССР. Например, Швеция. Япония тоже преуспела, — добавил я для политкорректности.
Министр совсем повесил нос. Я готов был развивать мысль, но представитель нашего посольства незаметно подмигнул мне, дав понять, что достаточно, можно закругляться. Я закончил.
После утомительных встреч с высокопоставленными япошками страшно хотелось спать. По возвращении на нашу спартанскую базу я немедленно забрался на свой второй ярус и тут же отключился. Отдохнуть, однако, не удалось. Разбудил грохот. В нашу тесную казармочку заносили целую партию телевизоров. Делали это изрядно запыхавшиеся члены нашей студенческой делегации.
— Что случилось? — сквозь сон спросил я. — Ночь уже. Почему никто не спит?
— Все проспишь! Мы же телевизоры на улице нашли!
— Какие телевизоры?
— Настоящие! Вот дураки японцы! Выкидывают на помойку работающие телевизоры!
— А где эта помойка?
— Помойка — это условно сказано. Они выставляют их на улицу возле своих домов.
— И что?
— Ты даешь! Не понимаешь, что ли? Мы уже шесть телевизоров нашли — вот они, — мой собеседник указал на проход между кроватями. — Это теперь наше. «Панасоники», «Сони», «Джей-Ви-Си». Все — с диагональю 54 сантиметра. И все в рабочем состоянии — включай и смотри.
— А что вы потом с ними делать будете?
— Привезем в Москву и продадим в комках[29]. Заработаем кучу денег. Что, идешь с нами?
— Нет, буду спать.
— Ладно.
Я задумался. В Москве телевизоры, особенно японские, были не то что дефицитом — роскошью были. Тогда дачи с участками в ближнем Подмосковье меняли на видеомагнитофоны. Ребята знали, что делали. Но у меня не было ни сил, ни желания составить им компанию, и я снова заснул. Через полчаса я проснулся от того, что меня сокрушительно тряс за плечо Леха Попов.
— Вставай, я телевизоры нашел.
— С ума вы тут все посходили? — пробурчал я.
— Помоги донести. Тут в двух кварталах — шикарный телек.
— Тебе банок под матрасом, что ли, мало?
— Прошу, помоги, один не дотащу. Где я в Москве такой телевизор куплю?
Делать было нечего. Пришлось идти выручать Леху. На ночных улицах мы постоянно натыкались на знакомых «грибников», которые, сверкая глазищами, пролетали мимо в поисках электроники либо уже тащили подобранные изделия домой.
— Лех, долго еще? Где твой квартал?
— Сейчас, сейчас.
Мы шли уже минут десять. Кстати, по дороге попадались еще и холодильники, и велосипеды. Глаза разбегались. Вдруг Леха застыл как вкопанный. Вокруг было пусто.
— Черт! Вот же это место. Здесь он стоял. Мой телевизор! Уже сп…ли, гады!
— Кто?
— Ну не японцы же!
— Что делать теперь?
— Искать другой.
Остаток ночи мы провели в поисках телевизора для Лехи. Нам повезло только с третьей попытки. Первые два телевизора, которые мы отыскали и притащили в нашу комнату, при подключении к розетке не включались. Третий, наконец, включился. Леха был очень доволен. Утомленные, мы заснули беспробудным сном.
Утром на меня налетел Шакир. Шакир был возрастным «студентом» Ташкентского университета, ему было за 35. «Хоть раз в жизни на мир глазком взгляну», — делился он со мной заветным по дороге в Японию.
— Дима, помоги!
— Что случилось?
— Ты же говоришь по-английски!
— Что надо?
— Я в аптеке был, через дорогу. Целая очередь за мной выстроилась, а я объяснить продавцу не могу, что хочу купить. Так и не объяснил, пришлось уйти.
— А что ты хотел купить?
— Презерватив с усиками.
— Зачем?
— Да эта такая штука… О ней весь Ташкент говорит, никто не видел. Я привезу, такое будет! Все девушки захотят попробовать.
— А что ты аптекарю говорил?
— Говорил, дай мне презерватив. С антеннами. Вернее, так говорил: «Презерватив с антенн». Я даже нарисовал его на листочке, но получился спутник космический какой-то. Он меня не понял.— А ты попробуй сказать condom. А потом добавь «with antenn»[30]. И рисунком своим проиллюстрируй.
Через десять минут Шакир вернулся довольный с нужной покупкой. За день до отъезда объявили, что японская сторона дарит нам по 100 долларов каждому. Царский жест. Я готов был простить им Цусиму. Теперь вместе с захваченными из Москвы пятьюдесятью долларами можно было рассчитывать на потрясающий шопинг в последний день! Он и вправду получился! Купил синие кроссовки Nike с серебристой «соплей» за 27 долларов, джинсы Edwin за 45, пару маек, спортивные носки, а остальное пустил на сувениры. Мог ли я о таком мечтать? Нет! Ведь в моей далекой Москве в это же самое время за носками стояли трехчасовые очереди, и многим не доставалось. За бюстгальтерами в ЦУМе сражались столько же, получая в руки только по одному. Впрочем, бюстгальтеры меня не интересовали. Еще нам подарили туристические сумки, плеер с аккумуляторами, носовые платки, шампуни, кондиционер для волос, ручки, майки. По тем временам, одели с ног до головы. А из самолета я прихватил безразмерные носки и одноразовую зубную щетку! С кондиционером, правда, вышел конфуз. Этот неизвестный в моей стране продукт я принял за шампунь и долго не понимал, почему он так плохо мылится.
В «Шереметьево», пока по ленивой чешуйчатой ленте транспортера неохотно выплывал наш багаж, мы зашли в зловоннейший, грязный туалет, который живо вернул нас к советской действительности. Здравствуй, родимый край!
«Березовая роща»
В Москве я задержался ненадолго. Вместе с Остапишиным мы направились в пансионат «Березовая роща» под Иваново. Путь лежал через родной город мамы Александра — Горький. Меньше чем через три месяца, 22 октября 1990 года, Горькому вернули старое, дореволюционное название — Нижний Новгород. Но тогда это еще был советский Горький, «закрытый город». Он назывался так потому, что в 1959 году правительство закрыло его от посещения иностранцев. Почему? Из-за разведчиков из капиталистических стран. Они в заметном количестве приезжали в Горький и пытались собрать там сведения об оборонном заводе № 112 «Красное Сормово» (атомные подводные лодки), авиационном заводе № 21 им. Орджоникидзе (МИГи), машиностроительном заводе № 92 (атомные реакторы и радиолокационные системы) и так далее. Особенно их интересовали сведения о производстве тактического атомного оружия. Надо отдать им должное, иностранцы двигались в правильном направлении — недалеко от Горького в сверхсекретном городе Арзамас-16 (сейчас Саров) разрабатывали атомную бомбу. Саров был настолько засекреченным, что даже названия его постоянно менялись — Лаборатория № 2, «Приволжская контора», КБ-11, Объект 550, База-112, «Кремлев», «Москва, Центр, 300», Арзамас-75, Москва-2, Арзамас-16. Беспардонное любопытство иностранцам быстро аукнулось, и город закрыли.
В Горьком мы провели всего одну ночь. Но успели походить по городу, увидеть Кремль, посмотреть на широкую Волгу с высокого берега. Утром нас разбудил Сашин дядя Дима, большой, громкий, жизнерадостный человек с красивой фамилией Благо — склонов. Он вручил нам путевки в «Березовую рощу», пояснил, что это лучший пансионат в округе, и наказал «там не баловать!» и «с местными не задираться!». Проводил он нас словами: «Покамест упивайтесь ею, сей легкой жизнию, друзья!». Из «Евгения Онегина». Как я потом узнал, этот роман в стихах дядя Дима знал наизусть.
В тот же день мы были в «Березовой роще», неподалеку от Иваново, на берегу озера, в окружении березовых рощ. Заняв небольшой двухместный номер, мы принялись отдыхать. Распорядок дня довольно быстро определился: завтрак, купание в озере, тихий час, полдник, ужин, а потом — дискотека и снова сон. Ради дискотеки стоило жить! Хитом тогда была песня Газманова про есаула. Ничто не могло сравниться с «Есаулом». Газманов вообще тогда был самой главной звездой нашей эстрады! После Пугачевой, конечно.
Однажды к нам подошла девушка, наша ровесница, может, чуть старше. Очень приятная. Симпатичная. Ландыш. Таня. «Вот это фигура!» — шепнул мне Саша. Слово за слово, выяснилось, что Таня работала в пансионате. Ее благожелательность, открытость, жизнерадостность обворожили нас обоих. Таня искрила! Возвращаясь в номер, мы говорили о ней:
— Ничего она. Видел, как она мне улыбнулась?
— Она мне улыбалась!
— А по-моему, мне!
— Нет, мне!
И так далее. Остапишин сразу и твердо решил, что Таня безоговорочно определилась в его пользу. Я в этом сильно сомневался. Спустя несколько дней мы встретили Таню на пляже. Она была хороша, задорна и свежа. Натянутая струна!
— Пойдем поплаваем? — предложила она.
Саша быстро откликнулся. И вот уже они возле буйков, а я смотрю и думаю, о чем они там так весело щебечут? Что их так радует? Не выдержал и поплыл к ним. Таня с Сашей уже плыли обратно, к берегу. Заметив меня, Таня, задорно улыбаясь, спросила:
— Сплавать с тобой?
— Да.
Она развернулась и поплыла со мной к буйкам, а Саша — к берегу. «Вот так вот! — подумал я. — Мы еще повоюем!».
С того дня мы встречали Таню каждый день по нескольку раз. Она сама искала нас. Благодаря Тане нам стали давать дополнительные компоты во время полдников. Правда, мне по-прежнему было неясно, на ком она остановила свой выбор. Остапишин, напротив, не сомневался, что избранник — именно он. Все разрешилось неожиданно. Среди бела дня на берегу озера к нам подошел коренастый, лет тридцати пяти, спортивный мужик. Он был возбужден, но изо всех сил пытался сдерживать свои эмоции, которые явно били через край. Чтобы не дать волю рукам, он даже завел их за спину и сомкнул в замке.
— Больше к Тане не приближайтесь! — твердо сказал он, жестко глядя мне прямо в глаза. — Это почему? — я видел его в первый раз. Было непонятно, с какой стати нам указывают, что делать.
— К Тане не подходите! — он был явно на взводе.
— Тебе-то что? — не унимался я.
— Ничего. Последний раз говорю, — он был белый как мел, губы пересохли. — Больше к ней не подходите…
Он развернулся и пошел прочь. Саша, сощурившись, смотрел ему вслед:
— Видел, как он в руках ключи нервно сжимал? — тихо произнес он. — Это у него серьезно…
— Что?
— Таня.
— А у нас что, несерьезно?— Непонятно. Знаю одно, — Остапишин был взволнован, — отец учил, что нельзя играть на двух чувствах: патриотизме и ревности. Никогда!
Таня исчезла сама. Мы перестали ее видеть, а если она и пробегала мимо, то даже не останавливалась. Наверное, не желала нам неприятностей. Незаметно наш отдых закончился. За день до отъезда по радио передали, что где-то в Латвии на своем «Москвиче» разбился насмерть в автомобильной аварии кумир молодежи двадцативосьмилетний рок-музыкант Виктор Цой. Было это 15 августа 1990 года.
Парад суверенитетов
Пока мы с юношеским пылом отдавались летним приключениям, советские республики энергично устремились по следам Грузии и прибалтийских республик, одна за другой объявляя себя суверенными: Узбекистан, Молдавия, Украина, Белоруссия. Начался так называемый парад суверенитетов, который меня мало беспокоил: я даже в толк не мог взять, зачем нужен весь этот сыр-бор с этими суверенитетами. Советский Союз был, есть и будет! Между тем Ельцин в Казани призвал республики: «Берите суверенитета столько, сколько вы его сможете проглотить»[31]. После этого началось невообразимое. Туркмения, Армения, Таджикистан — все стали самоопределяться. Даже Чукотка и Иркутский регион решили побороться за суверенитет! Удмуртия и вовсе «решила нарастить свой военный потенциал»[32]. Все это, увы, было серьезно. Фундамент СССР пошел трещинами. Жить Союзу Советских Социалистических Республик осталось чуть больше года.
Картошка
В сентябре по заданию МГУ мы выехали на картошку в совхоз «Юрловский» Можайского района. Вроде бы поездка была добровольной, но отказаться от нее мы не могли. Тогда я любил стих Дмитрия Александровича Пригова про торт, он точно иллюстрировал ситуацию на продовольственном рынке:
За тортом шел я как-то утром, Чтоб к вечеру иметь гостей. Но жизнь устроена так мудро — Не только эдаких страстей, Как торт, но и простых сластей И сахару не оказалось. А там и гости не пришли. Случайность вроде бы, казалось. Ан нет. Такие дни пришли, К которым мы так долго шли… Судьба во всем здесь дышит явно.В самом деле, в магазинах не было ничего, ну, разве что консервированная морская капуста и сухари. Газеты пестрели заголовками: «Жизни уже нет, но стоимость ее растет», «Голод правит страной», «Союз нерушимый республик голодных», «Переживем ли мы зиму?», «Что будем есть завтра?». Наш студенческий вклад в сбор урожая на 210 гектарах Подмосковья, как нам объяснили, был в тот год особенно важен.
В совхозе нас ждали. Каждый сентябрь с давних лет студенты МГУ приезжали туда и не только несли трудовую вахту, но и отрывались на всю катушку. До нас даже легенда дошла о пенисе. Пенис был одним из немногих поступивших на филфак, где в основном учились девушки, поэтому был избалован. Как-то утром, после бурной ночи, он без сил рухнул прямо в поле на мешки и заснул. Мимо проходила совхозница и, увидев лодыря, возмутилась: «Что ты тут развалился? Как не стыдно? Девушки корячатся, а ты дрыхнешь». А он ей флегматично: «Да пошла ты на х…!». Совхозница побагровела, затряслась от злости: «Ах ты, такой-сякой, комсомолец поди! Я все твоему начальству, комиссару-то, расскажу! Как твоя фамилия!?». А студент спокойно: «Пенис моя фамилия!». Разгневанная работница помчалась в штаб студенческого отряда к комиссару.
— Комиссар! Ты сидишь тут, бумажки пишешь! А Пенис-то у тебя не работает!!!
— Почему это у меня пенис не работает?
— Да вот так вот! Девушки и так и сяк корячатся, а Пенис твой валяется, и хоть бы что ему!
— А откуда вы знаете?
— Да я вижу! Своими глазами вижу! Да за такое из комсомола исключать надо!! Я в ваш деканат напишу!
— Нет уж, с пенисом я сам разберусь.— Разберитесь, разберитесь! На собрании разберите или в стенгазете нарисуйте! А то я ему голову оторву!
До Юрлово из Москвы добирались на автобусах часа два. В пути я просмотрел газету, в ней обсуждались две концепции экономического развития страны. Одну из них, правительственную, разработали под руководством академика Абалкина, того самого, соседа Лёнича. Другая называлась «500 дней», одним из ее авторов был молодой экономист Явлинский. Первая программа была за медленный, постепенный, продуманный переход от социализма к государственному капитализму. Программа Явлинского — за быстрый прорыв к рынку. Одна программа рассчитана на сохранение союзного государства, вторая делала ставку на самостоятельное развитие республик. Горбачеву программа Явлинского в общем нравилась, но он не хотел терять республики и собственную власть, поэтому хоть шума было и много, но реформы так и не тронулись с места. «Хоть бы об этих «пятистах днях» не стали на экзаменах спрашивать», — подумал я, передавая скучную газету дальше по рядам.
По приезде мы сразу же стали заселяться в одноэтажные фанерные совхозные бараки. В нашей палате разместились восемь человек. Самым ошеломляющим соседом, сгустком неожиданности, оказался Тоша. Он весь был начинен экспромтами. Выпускник французской школы на улице Фотиевой, Тоша славился своим эксцентричным поведением. Как всегда бывает, в одних случаях выходки Тоши были восхитительны, в других — невыносимы! В первые же дни учебы имя Тоши эхом изумления и радости отозвалось в наших сердцах. Выполняя задание преподавателя, Тоша вызубрил английский текст — лишь бы отстали, не вдаваясь в нюансы. Текст был такой: «Hello! Nice to meet you. Let me introduce myself. I am a student of the Moscow State University. I am in my first year now. My name is Olga Dubova…»[33]. И так далее. Тоша как заучил, так и отчеканил. Заменить «Ольгу Дубову» на свое имя он нужным не счел.
Тоша сразу же решил показать, кто в новом доме хозяин. Он достал гитару, ударил что есть силы по струнам и заорал свою любимую песню из репертуара некоего Лаэртского, которую мы слышали в первый раз в жизни:
Два чекиста в черных куртках в галифе и с сапогами Шли на место преступленья в город Кунцево далекий, Где петлюрцы да бендерцы, всяки Люберцы да негры Изнасиловали дочку председателя Совдепа.Далее шел полунеприличный текст, завершавшийся похабным припевом «Сиськи в тесте — это вкусно, захотелось сисек в тесте», в котором Тоша явно выплескивал все свои эмоции. Шок — вот лучшее описание нашего состояния после Тошиного дебюта. Немая сцена! Я подумал: «За что? Почему этот человек поселился с нами? Как нам теперь быть? Мы же здесь на целый месяц!». Тоша между тем не унимался. Гитара гнулась и трещала, а сам он ревел:
Семена анархии дают буйный рост, Социальный триппер разъедает строй, Ширится всемирный обезумевший фронт, Пощады — никому, никому, никому. Люди сатанеют, умирают, превращаясь В топливо, игрушки, химикаты, нефть, Отходы производства, мозоли и погоны. Вижу — ширится, растет психоделическая армия.Позже выяснилось, что это была песня «Гражданской обороны». Одна струна порвалась, я вздохнул с облегчением: «Сейчас он остановится», но нет, после короткой паузы последовала третья, на сей раз лирическая композиция на мотив знаменитой «шизгары», в которой был такой припев: «Венера! Твоя жопа как фанера!»[34]. Свое выступление Тоша закончил восклицанием: «Вот такая экибана!», после чего раскатисто расхохотался[35].
Качок Юрик Марьяшин пропустил спонтанный концерт мимо ушей, поскольку в тот момент ему было не до песен. Он налаживал небольшой черно-белый телевизор, захваченный из Москвы. Юрик на курсе прославился двумя вещами. У него единственного на всем потоке были высокие белые кроссовки, к тому же — Converse. Их он берег как зеницу ока, дважды, а то и трижды в день меняя носки и моя ноги, надеясь таким образом максимально продлить жизнь заморского чуда, которое ему удалось купить полтора года назад во время поездки его класса в Америку. Второй вещью была футбольная майка бордового цвета с написанной на ней фамилией Юры. Я с детства мечтал о такой майке.
Теперь Юрик самозабвенно тянул кабель от телевизора к антенне, закрепленной на крыше. Сначала, встав на подоконник, он быстрым и точным ударом отверткой выбил верхний уголок оконного стекла. В проделанную дырочку он протащил кабель на улицу и дотянул до антенны. Телевизор заработал, но кабель испортил весь интерьер, нависнув прямо над кроватью футболиста, баскетболиста, но прежде всего шахматиста Аркаши: когда я встречал его в метро на «Парке культуры» по пути в университет, в руках он держал свежий «Советский спорт» и решал напечатанные в нем шахматные задачки.
Быстро выяснилось, что инженерное сооружение Юрика не было совершенным: по антенному кабелю, как по желобу, в нашу палату устремился первый же дождь, каплями стекая на пристанище Аркаши. Аркаша стойко переживал наводнение, спокойно сидя на мокнущей кровати в бордовом спортивном костюме, и, перебирая струны гитары, напевал: «Есть в графском парке черный пруд, там лилии цветут». Тогда никто и предположить не мог, что Аркаша станет государственным деятелем и займет кабинет Брежнева на Старой площади. Аркадий пел настолько проникновенно и так вжился в образ, что даже у стального Марьяшина дрогнули нервы, и кабель немедленно выдернули.
Начался сбор картошки в холщовые мешки. Работа на свежем воздухе пробуждала аппетит. А еды было мало, несмотря на то что директор совхоза Надир Гасанович Сеферов клялся, что нас в Юрлово ждут «парное мясо, свежее молоко в неограниченном количестве, теплые комнаты, арбузы и дыни». Спасаясь от недоедания, мы однажды поехали на скотобойню. Там высохший от беспробудного пьянства жилистый мясник свежевал огромным топором тощую корову. Зрелище шокировало.
В тот день я впервые в жизни выпил водку. Польская «Балтика» разливалась рекой. Мы опрокидывали рюмку за рюмкой, захлебываясь пламенем и горечью. Но, как говорится, первая — колом, вторая — соколом, третья — мелкой пташечкой. За какой-то час «муха» у меня выросла в слона. Мы сидели на железной кровати в большой комнате одного из бараков. В углу под гитару кто-то напевал «Пачку сигарет» Цоя. «Саша, — сказал я Остапишину, — я захмелел». Темп потребления спиртного между тем возрастал. Становилось трудно улавливать ход общего разговора. Однокурсница Маша возникла из ниоткуда. Наши глаза встретились, и скоро мы уже сидели рядом и разговаривали, а потом вышли в звездную ночь и стали разглядывать светила.
Мария показала мне Плеяды, а я ей — яркий Сириус и Полярную звезду Она сказала: «Это знают все» — и предложила отыскать на небе Альдебаран и Капеллу… Маша пропала также внезапно, как появилась. Я смотрел на небо, оно плавно закручивалось у меня перед глазами по часовой стрелке… Потом опытные однокурсники разъяснили: так у меня начался знаменитый «вертолет». Память отказала.
Следующим хмурым утром ко мне на картофельном поле подошел худой и длинный парень и без предисловий уверенно заявил, что хочет дружить. Звали однокурсника Игоряшей. Прежде я его даже не замечал. Теперь он говорил много, смеялся тоже много, энергично поддерживал разговор и все время отпускал реплики, любимейшей из которых была «Х…ли в Туле, а мы в Москве». Эту присловицу он повторял через каждое предложение, иногда сокращая ее до просто «Х…ли в Туле». А следующей по популярности была фраза «П…ть команды не было!», произносимая необидным тоном во всех случаях, когда рассказ собеседника вызывал у Игоряши сомнения. Этот оборот обычные люди в разговоре заменяют на коротенькое «Да?». Мы разговорились. Игоряша рассказал, что он — кладоискатель со стажем. С друзьями лазает по чердакам старых домов и ищет: после революции многие эмигрировали налегке, попрятав все ценное на чердаках, надеялись когда-нибудь вернуться, но не вернулись… Больше всего любит «холодняк», то есть холодное оружие. А это — сабли, кинжалы, палаши. Находил многое — и завернутую в тряпку саблю, и барабанный пистолет «Лефоше» третьей четверти XIX века, и еще что-то. За одну только саблю он выручил столько денег, что на них можно было купить автомобиль «Нива» и несколько месяцев жить горя не зная. «Но риски есть, — сказал Игоряша. — Поймать могут. За чердаки конкурируют. Да и раскапывать их — дело непростое: все в пыли, грязи, дышать невозможно, приходится надевать респираторы». Игоряша оказался интересным рассказчиком.
«Картофельный» месяц закруглился. Когда настало время уезжать, по отряду объявили, что совхозу требуется дополнительная помощь от добровольцев, которые согласятся остаться в Юрлово еще на десять дней. Вознаграждение обещали щедрое: «Один двадцатикилограммовый мешок картофеля — совхозу, другой — себе», но остались немногие, хотя даже один мешок картошки был в тот год ценным вкладом в семейный бюджет. Остапишин и еще несколько ребят остались, а я смылся немедленно, о чем пожалел ровно через месяц, став свидетелем драки двух женщин в продуктовом магазине за почти гнилую картошку. Семидесятилетняя дама хотела втиснуться в середину очереди, а уже отстоявшая часа два женщина лет сорока отказалась ее пропускать. Была битва, хотя картошка к тому времени уже закончилась! Ее так и не хватило для сытой зимовки: в Москву завезли ее в восемь раз меньше, чем нужно.
На следующий день по возвращении из Юрлово ко мне домой зашел Лёнич и, сев на диван, сказал:
— Шура Дмитриев разбился.
— Как? — не понял я.— Насмерть.
Жизнерадостный Шура выпал с тринадцатого этажа дома в Кунцево. Как, почему? Из-за Шуры я впервые по-настоящему почувствовал смерть, ее безысходность, безжалостность, обесценивающую все наши дела и вещи. Я вспомнил, как всего два месяца назад мы с Шурой возвращались с дачи Лёнича из «Успенского» на электричке, как Шура переживал, что накануне прожег сигаретой свою красивую рубашку. Какая это была досадная мелочь по сравнению с той катастрофой, которая случилась теперь! Бабушка Шуры, когда все произошло, схватила его ботинки и, безутешная, не могла выпустить их из рук. Ее внука уже не было, а вот кроссовки все стояли и могли простоять еще хоть сто лет! И где он теперь, и где будет до скончания веков? И неужели это правда, что он уже встретился где-то там со всеми нашими давным-давно умершими, сказочными прабабушками и прадедушками, и кто он такой теперь?
Тотальный дефицит
Еще с лета пошли разговоры про то, что вот-вот государство повысит розничные цены (тогда все цены регулировало государство). Из-за этих слухов люди бросились на магазины и в миг растащили по старым ценам все, что можно было унести, — масло, сахар, соль, спички, мыло, стиральный порошок. Так дефицит перерос в тотальный дефицит. А когда в середине сентября 1990 года в Москве случились перебои с поставками хлеба, даже самые стойкие граждане поддались легкой панике.
Очереди были хорошим знаком: если они были, значит, был и товар. Жаловались, что где-то очередей совсем не бывает, поскольку купить нечего. Никто не знал, какой дефицит возникнет завтра, поэтому дефицитом становилось все. Желание запастись надолго было сильным. С «накопителями» боролись запретами: в руки — триста граммов сыра, полкило колбасы, пять пачек сигарет. Сигареты тогда вообще неделями не завозили в киоски, из-за чего недовольные курильщики устраивали табачные бунты, блокируя движение транспорта на улицах[36]. А вскоре в Москве товары и вовсе стали продавать только по предъявлению паспорта — чтобы отсеять иногородних. Потом ввели синие покупательские визитные карточки с фотографиями — по ним москвичам отпускали продукты по низким госценам. Мосгорисполком, пытаясь насытить Москву продуктами, придумал выменивать у прижимистых колхозников мясо на другие дефицитные товары. За 100 килограммов мяса колхозникам предлагали 20 японских аудиокассет или пылесос, за 400 — югославскую хрустальную люстру, за 500 — одну дубленку, а за 1 тонну — мотоцикл «Квант»[37].
У нас дома кончились спички. Мама пошла в гости и, пользуясь случаем, попыталась «занять» на неделю коробок спичек. «У самих нет!» — рявкнул хозяин квартиры. Надо же такому случиться, что спустя пару часов он, навеселе танцуя «Кумпарситу» под заезженную грампластинку, не удержался на ногах, встав в изысканную позу, и плюхнулся на пол, нечаянно задев большую напольную вазу Ваза качнулась, а потом, как в фильме про Буратино, треснула и раскололась, а из нее, ко всеобщему удивлению, высыпались сотни припасенных на черный день спичечных коробков!
Пустые прилавки продмагов.
В универсаме выкинули соду.
Битва за торты у входа в кондитерскую в центре Москвы
Очередь за хлебом на Сретенке
Дефициту огрызались лишь недавно возникшие частные, или, по-другому, коммерческие магазины (комки). Они незаметно, но стремительно оккупировали газетные киоски, палатки из-под мороженого и даже бывшие общественные туалеты, например, подземный туалет на Тверском бульваре, прямо за памятником Тимирязеву[38], который так провокационно держит руки, словно до этого туалета он так добежать и не успел. Преимущество туалетов перед другими коммерческими магазинами было в том, что в них можно было примерить вещи, зайдя в одну из недавно действовавших кабинок. Товар, продаваемый в комках, перекочевал туда в основном из государственных магазинов, но цены, конечно, уже были намного выше, поэтому около новых прилавков очередей не бывало. Здесь продавались разрисованные яркими цветами китайские термосы, французская косметика, отечественные чайные ложки с позолотой, немецкие миксеры, синтезаторы «Ямаха», корейские радиотелефоны и, конечно, кроссовки, стоимость которых превышала пять среднемесячных зарплат!
Сын лейтенанта Шмидта
В буфете на втором этаже нашего учебного корпуса меня перехватил кладоискатель Игоряша.
— Есть предложение организовать тусовку! Задумка такая. Имеется краеведческий музей на проспекте Мира, дом 14. Располагается в особняке XVIII века. Внутри — красота: изразцовая печь, паркеты, рояль в отдельной большой комнате и так далее.
— Ну?
— Я знаю директора этого музея. А сейчас же знаешь, что с музеями?
— Что?
— В музеи ходить перестали. Пропал у людей интерес. Даже в музее Ленина пусто!
— Так.
— А в краеведческом музее на проспекте Мира и подавно. А теперь за здание музея началась настоящая охота: все хотят его оттяпать. Защитить его может только Моссовет.
— И что?
— Как что! У нас на курсе учится сын Попова — Вася[39].
— Не улавливаю…
— Когда я сказал, что Вася — мой однокурсник, директор запрыгал от счастья!
— Не пойму, к чему ты клонишь?
— Да вот к чему. Директор попросил меня пригласить Васю с друзьями на вечеринку в музей в пятницу вечером. Будет накрыт стол. Даже музейную печь затопят, чего не делали уже, наверное, лет десять. Я условился, что нас будет человек пятнадцать-двадцать.
— Здорово. А Вася-то будет?
— Нет, конечно. Зачем нам Вася?
— Так директор-то вроде Васю ждет.
— Нет! Васю мы не возьмем. Васей будет кто-нибудь другой. Например, ты. Ты за Васю отлично сойдешь! И всем будет хорошо.
— Но я же не Вася, Игоряш!
— Один час тебе трудно Васей побыть? А через час директор напьется и забудет обо всем. Я об этом позабочусь.
Вскоре, по общему согласию, было решено, что вечеринке быть и что Васей на ней буду я.
В пятницу наша большая компания сидела в уютном зале за длинным столом. Тихо звучал рояль. В угловой изразцовой печи приятно потрескивали дровишки. Стол был как из сказки — богат разносолами. Я, конечно, восседал во главе стола, как почетный гость. Все называли меня Василием, лишь изредка сбиваясь на Диму. Роль «сына лейтенанта Шмидта» меня тяготила, к тому же на воре шапка горит. Но на что не отважишься ради собственного удовольствия, сдобренного обильной радостью друзей? Внешне я абсолютно не был похож «на своего отца» Гавриила Попова, даже наоборот. Но это не смущало директора. Праздник разгорался, и в какой-то момент директор встал и проникновенным голосом сказал: «Ребята, сегодня с нами сын Гаврилы Попова, дадим ему слово, пусть скажет». Это был удар ниже пояса. Но моим развеселившимся однокурсникам затея с тостом понравилась. «Вась, давай!» — разнеслось по комнате. Я встал и сказал, что музей замечательный, поблагодарил директора за теплый прием, заметил, что московская общественность непременно должна биться за сохранение краеведческих музеев. Во время моей речи Игоряша в знак одобрения, кивал головой. Закончил я под звон рюмок и радостные возгласы моих соратников. На этом, думал я, моя роль закончилась. Наконец-то можно расслабиться и предаться разгоревшемуся веселью. Но тут директор настиг меня: «Василий, — сказал он, — очень приятно, что почтили наш музей вашим посещением. Времена сейчас смутные, силы добра нуждаются в защите. У меня к вам большая просьба. Наше здание могут отнять. А я борюсь за то, чтобы здесь был музей. Вы можете помочь! Не передадите вашему батюшке письмо?». Директор протянул мне свернутый пополам засаленный лист бумаги. Я развернул. Письмо было написано от руки, синими чернилами. В тексте встречались исправленные ошибки и помарки. Видимо, начисто переписать письмо директор не счел необходимым. Начиналось оно забавно: «Уважаемому Председателю Совета Моссовета Гавриле Харитоновичу Попову..». Письмо, увы, так и осталось непереданным. Утешением было обещание Игоряши замять этот вопрос с директором. И еще то, что в обмане директора участвовал не я один… К счастью, музей все-таки дожил до наших дней.
Бандитская сила
В середине осени в Москве чуть не вспыхнула настоящая гангстерская война. Как-то незаметно появились преступные группировки общей численностью в шесть тысяч человек и взялись делить огромный город между собой. Солнцевские, измайловские, ореховские, долгопрудненские. Все они начинали с рэкета кооперативов и проституток, «кидания» продавцов автомобилей и с контроля над «однорукими бандитами» и видеосалонами. И все действовали примерно одинаково: заковывали своих противников в наручники, заклеивали им глаза пластырем, бросали их связанными в ванну, запирали в гастрономических холодильниках и подвалах, пытали раскаленными утюгами. Один из лидеров солнцевских гордился тем, что контролировал доход всех «одноруких бандитов» Гагаринского района. Мощь долгопрудненских держалась на «обеспечении безопасности» некоего Изота, который торговал этими самыми «однорукими бандитами»… Бандиты были поднимающейся грозной и дерзкой силой. Ее присутствие сразу стало заметно, отчасти потому, что в Москве моего детства, как мне всегда казалось, никакого бандитизма не было вообще. А тут вдруг — на тебе… Солнцевские базировались в ресторане «Гавана», бауманские во главе с Севастьяном — в шашлычной «Яхта», а чеченцы вообще нигде не базировались. Они держались особняком и даже не приехали на очень важный сходняк группировок в Дагомысе, дав всем понять, что хотят взять Москву целиком, так же как итальянцы в свое время взяли Нью-Йорк.
«Алиса»
— Видел рекламу «Алисы»? — спросил меня однажды Остапишин.
— Нет, а кто это?
— Биржа товарная. Ею владеет самый молодой миллионер СССР.
— Миллионер? — удивился я. — У нас же только один официальный миллионер — Артем Тарасов!
— Теперь не только он.
— Ничего себе. А как зовут?
— Герман Стерлигов. Вроде бы 25 лет ему.
— Странное название «Алиса».
— Это кличка его собаки, кавказской овчарки.
Саша протянул мне газету, в которой самоуверенный Стерлигов отвечал на вопросы:
— Сколько ты рассчитываешь заработать, Герман?
— Страшно произнести, старик!
— Что ж ты теперь, Герман, разбогатев, уедешь из России?
— Нет! Россию я беру на себя! А через три года я скуплю Штаты на корню.
Герман не шутил, но планам его не суждено было сбыться. За дверью его крошечного кабинета на Ленинском проспекте, в доме «Мострансагентства», монотонно гудела биржа: «Сахар! Минимальная цена одиннадцать рублей за тонну!», «Вертолет! Миллион сто!». Но прожила она недолго. Всего через два года с огромного рекламного стенда там же, у входа на биржу, сорвали за неуплату изображение овчарки Алисы, а газеты тотчас раструбили: «На Ленинском спустили собаку Стерлигова». Следом куда-то пропал и хозяин[40].
Сашу я послушал, рекламу «Алисы» посмотрел в тот же вечер. В ней впервые с телеэкранов произносили слово «господа». Тогда все, как и прежде, были «товарищами», и великосветское обращение резало слух. К слову, реклама вообще была диковинкой: ее только-только начали показывать по телеку. Началось с того, что однажды диктор Центрального телевидения, знакомивший нас каждый вечер с программой телепередач на завтра, неожиданно зачитал текст про наручные часы «Электроника», а на экране появились фотографии с изображением часов. Чуть позже в заставке программы «Время» на часах, отсчитывающих последнюю минуту девятого часа, появился логотип фирмы Olivetti. За день до этого дикторы телевидения предупредили, что надпись, которая появится на экране, — реклама, чтобы никто не волновался и не удивлялся.
Этот поезд в огне
Между тем республики Советского Союза разбегались. «Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать», — голосил Борис Гребенщиков. Со всех сторон зазвучало, что договор между союзными республиками об образовании СССР, подписанный в 1922 году, устарел, нужен новый! К декабрю появился его проект, в нем фигурировал новый союз — не то ССГ (Союз Суверенных Государств), не то СССР (Союз Советских Суверенных Республик, именно суверенных, а не социалистических; вроде бы СССР, да не тот)[41]. У нового союзного договора оказалось много противников во главе с Сажи Умалатовой. Они потребовали проведения всероссийского референдума, борясь за «целостность страны и ее названия — Союз Советских Социалистических Республик». Референдум назначили на март.
1991 начинается
Приближался новый, 1991 год, счастливый, потому что сумма первых цифр равнялась сумме двух последних. Что-то он принесет? — мечтал я. Может, любовь? Или новую поездку за границу? Или победу в чемпионате МГУ по футболу? Бабушка Оля накрыла праздничный стол: оливье, баночка красной икры, шпроты, финский сервелат, была югославская ветчина в банке с ключиком и консервированные ананасы. Еще были шоколадки известной и самой лучшей фирмы «Марс». Их выкинули в фирменном магазине «Хлеб» на Калининском проспекте. Очередь — не очень большая — всего-то на часа два-три. В руки отпускали по пять штук. В коробочке и без. Народ стал возмущаться — все хотели получить шоколадки в коробочке. Даже драка началась, но ее вовремя остановили. После этого решили продавать шоколадки без коробочек вообще и создать две очереди: просто за шоколадками (по пять рублей) и только за коробочками (бесплатно). За коробочками очередь была длиннее. А в магазине «Продукты» на улице Герцена давали сосиски: по полкило в руки. Люди покупали и тут же снова занимали очередь, чтобы купить побольше.
— Бог с ним, с дефицитом, главное, чтобы диктатура не наступила, — выдохнула бабушка.
— Какая диктатура?
— Вон, Шеварднадзе же ушел в отставку в протест против наступления диктатуры… Да еще, говорят, какая-то денежная реформа будет, деньги будут изымать.
Действительно, перед Новым годом пошли слухи, что государство зачем-то решило изъять из обращения крупные банкноты. У сберкасс сразу выстроились очереди — менять пятидесяти- и сторублевки на более мелкие деньги.
— Бабуля, ну как это — изымать деньги? Разве ты не слышала, министр финансов Павлов по телевизору сказал: денежной реформы не будет! — успокоил бабушку я. — Да и диктатуры никакой не будет!
Однако год начался тревожно, подтверждая слова бабушки. В Вильнюсе сторонники независимости Литвы заняли телецентр. Оттуда их скоро выбили правительственные войска, но были и убитые, и раненые. Официальное заявление ТАСС обвинило в кровопролитии сторонников литовской независимости. Это заявление должна была зачитать по телевизору ведущая «экспериментальных» новостей Татьяна Миткова, но делать этого она не стала, наглядно показав, что сама власти не верит. Она привела с собой в студию дикторшу, дежурившую на всякий случай на выпуске новостей, и передала слово ей: «С официальной версией событий вас познакомит…». Дикторша прочла материал скучным, плоским голосом, без выражения. Стало понятно: власть кровожадна, а Миткова — Жанна д’Арк! Москву немедленно взорвал полумиллионный митинг в поддержку литовского народа и против надвигающейся диктатуры. Требовали вывести войска из прибалтийских республик. Беспорядки в Литве перекинулись на Латвию. А Миткову быстро отстранили от эфира, а затем уволили.
А потом случилось и вовсе невообразимое: 22 января, в девять часов вечера, дикторша и ведущая телевизионной программы «Время» Анна Шатилова после двухминутных нервных просьб включить ей микрофон, а такие ляпы в эфире случались крайне редко, объявила о денежной реформе, которую разработал тот самый Павлов, месяц назад обещавший, что реформы не будет. Шатилова зачитала: Президент СССР подписал сегодня Указ «О прекращении с 0 часов 23 января 1991 года приема к платежу денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года»[42].
Дальше говорилось, что на обмен выводимых из обращения купюр отведено 72 часа, что его будут производить в сберкассах, но в это уже никто не поверил: как можно было поверить Павлову, ведь он уже обманул! Люди выскочили на улицу избавляться от ненужных банкнот: оставалось три драгоценных часа, когда их можно было надежно потратить или разменять на более мелкие деньги. Но сделать это оказалось не так просто. Магазинов ночных не было, бензоколонки были, но разменные деньги в них закончились сразу после программы «Время». Кассы в метро, обычно работающие до часа ночи, закрылись в тот злосчастный вечер, по крайней мере на «Белорусской», в 22.00 «в связи с отсутствием денег». Рядом с ними выстроились люди с 50-рублевыми купюрами, согласные обменять каждую на тысячу пятаков[43]. Из метро бежали на вокзал, пытаясь купить билеты «хоть куда», чтобы на следующий день сдать билеты и выручить за них нормальные деньги. По вокзальному радио непрерывно объявляли, что купюры достоинством 50 и 100 рублей принимаются к оплате, но кассы тоже не работали. На вопрос, к кому обратиться, если для покупки билета нет мелких купюр, дежурный администратор вокзала советовала: «К Горбачеву». Еще можно было проехаться на такси, а потом расплатиться сотенной или пятидесяткой. Увы! Ушлые таксисты были настороже и просили платить вперед мелкими купюрами! Самые догадливые летели на Центральный телеграф отправлять денежный перевод самому себе: сегодня отправил — завтра получил новыми деньгами. Однако и здесь все окошки приема переводов закрылись. Перед ними расхаживал гражданин кавказской национальности, тряс пачкой 50- и 100-рублевых банкнот и размышлял вслух, удастся ли ему обклеить ими только туалет или останется еще и на веранду. Были и те, кто, надеясь на обещанные для обмена 72 часа, рвал в сберкассу, чтобы занять очередь на завтра. Возникли длинные, в несколько тысяч человек, ночные очереди. Волнения, мордобои, обмороки, инфаркты…
Лишь кооператоры в ту ночь оседлали коня. Оказалось, что государство разрешало им сдавать выручку завтрашним утром. Поэтому, едва закрывшись на ночь, коммерческие магазины открылись снова сразу после программы «Время» и бойко принялись торговать, охотно принимая крупные банкноты. Это было движение продавцов и покупателей навстречу друг другу, и хотя цены в промежутке с 21.00 до 24.00 подскочили в два, а где-то даже в четыре раза, нареканий они у москвичей не вызывали. А когда ближе к полуночи на улицах возникли спекулянты, готовые скупать ненужные купюры по цене ниже номинала, стало очевидно — за три часа случилось настоящее экономическое чудо: курс советского рубля по отношению к советскому же рублю составил 10 к 1. Сторублевая банкнота теперь стоила червонец.
Несмотря на заверения министра Павлова и Сбербанка…
…слухи подтвердились: Объявление на двери отделения «Сбербанка»
Когда через три дня страсти улеглись, никто не смог толком объяснить, зачем была нужна реформа. Боролись со спекулянтами и жуликами? Но они первыми решили свои проблемы. Тормозили инфляцию? Но цены на следующий день после объявления реформы подскочили в два раза. Грузин, продающий мандарины на Тишинке, сокрушался: «То, что сегодня ночью у меня отняли, я должен к обеду вернуть. Иначе мама не простит». В общем, ничего не понятно. Так, не разобравшись, люди среди бела дня лишились своих сбережений. Моя семья не лишилась ничего. Пока народ метался по ночным улицам, бабушка Оля не отрывалась от недавно изданного на русском романа «Унесенные ветром», и ей было все равно. «Оля, — поинтересовался я, — а нам-то ничего поменять не надо? А то я сбегаю». «Нет, — умиротворенно проговорила бабушка. — Нам, к счастью, менять нечего».
Такая пошла жизнь — то хаотичные экономические реформы, то политические вехи. Уже и непонятно было, что за чем поспевает — экономика за политикой или наоборот. Народ стал недоволен Горбачевым, выходил на впечатляющие митинги в несколько сот тысяч человек под стены Кремля с лозунгами: «Горбачева в отставку» и «Руки прочь от Ельцина». Теперь на всякий случай милиция патрулировала улицы совместно с армией, что, конечно, вызвало беспокойство. Братские республики совсем распоясались: перестали перечислять налоги в бюджет Советского Союза. Весной одновременно прошли два референдума — советский и российский. Первый и последний советский референдум выяснял, считаем ли мы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик? «Да», — хором ответило население. Российский референдум, первый из трех за всю историю, тоже задавался единственным вопросом: о введении поста президента РСФСР. Тоже «Да!». Выборы первого президента России назначили на 12 июня 1991 года.
Первая любовь
Той весной я влюбился. Случилось это прямо накануне очередной реформы — госцен — их повысили в два-три раза. Второго апреля девяносто первого года все советские люди как один проснулись свободными от «лишних» денег. Но не о деньгах я думал! Теперь песня Розы Рымбаевой была про меня: «Как много лет во мне любовь спала, мне это слово ни о чем не говорило. Любовь таилась в глубине, она ждала. И вот проснулась и глаза мои открыла. И вся планета распахнулась для меня!». Да, именно так.
Однокурсница Краюшкина Ира, девушка незаурядная, громкая, умная, запоминающаяся, кандидат в мастера спорта по шахматам, захватила мое сердце! Ира жила на окраине Москвы, в Выхино. Но разве расстояния — препятствия для любви? Чуть ли не каждый день я провожал Иру до дома. Станции «Кузьминки», «Текстильщики», «Рязанский проспект», «Выхино». А дальше пешком по Вешняковской, направо на улицу Молдагуловой и до пересечения с Косинской. Или на автобусе до остановки «Улица Молдагуловой». Алия Нурмухамбетовна Молдагулова — девятнадцатилетняя девушка-снайпер, Герой Советского Союза. Погибла в 1944 году под Псковом. Ира показала мне окрестности. Мы гуляли по парку Кусково, универмагу «Вешняки», пару раз зачем-то ездили в Новокосино за МКАД. МКАД была узкой неосвещенной трассой, в четыре ряда, без всякой разметки и разделительной между полосами встречного движения перегородки, с выбоинами и колдобинами. На каждый ее километр ежегодно приходилось как минимум трое погибших, поэтому ее называли «дорогой смерти».
Изредка, наскребая копейки, я приглашал Иру в «МакДональдс» или в забегаловку «Баку-Ливан-Наср» на Тверской рядом с гостиницей «Минск», где ливанские арабы делали шаварму, эгзбургеры и фалафель (о, как любил тот фалафель Лёнич!), а потом мы покупали по два шарика заморского, экзотического мороженого в недавно открывшемся «Пингвине» там же на Тверской. Ира любила фисташковое и банановое, а я — малиновое. Или нас угощала домашним чаем Ирина мама Лариса Павловна. Ларису Павловну занимал недавно возникший из ниоткуда начинающий политик Жириновский. «Чудной какой-то», — делилась со мной Лариса Павловна.
Он и впрямь был странный. Как будто его для чего-то придумали. Едва объявившись, он принялся поддерживать Горбачева, а Ельцина требовал посадить под домашний арест: «На месте президента Горбачева я бы сказал: «Борис Николаевич, с 1 апреля выбудете сидеть дома, и никуда больше не появляйтесь». И Ельцин должен сидеть дома. И ничем больше не руководить. Это не уголовное дело, не насилие. Это домашний арест. Здесь не нужен суд. Просто руководитель республики остается дома». Еще он призывал страну успокоиться и требовал ввести режим чрезвычайного положения с 7 вечера до 7 утра, а если это не поможет, то «немедленно арестовать всех смутьянов, бунтовщиков и демонстрантов и заключить их в тюрьмы».
У кафе-мороженого «Пингвин» (шарик стоил 50 копеек)
Московские студенты с мороженым «Пингвин» на Тверской
Вечерами, возвращаясь из Выхино домой на позднем метро, я не терял времени — с удовольствием листал журнал «Юность» или легкие книжечки типа «Циников» Мариенгофа, которыми меня снабжала много читающая Ира. Однажды меня захватил только что напечатанный рассказ Лимонова «Красавица, вдохновляющая поэта», в котором девяностолетняя дама описывала свои ощущения в старости: «Самое неприятное, что чувствую я себя лет на тридцать, не более. Я та же гадкая, светская, самоуверенная женщина, какой была в тридцать. Однако я не могу быстро ходить, согнуться или подняться по лестнице для меня большая проблема, я скоро устаю… Я по-прежнему хочу, но не могу делать все гадкие женские штучки, которые я так любила совершать. Как теперь это называют, «секс», да? Я как бы посажена внутрь тяжелого, заржавевшего водолазного костюма. Костюм прирос ко мне, я в нем живу, двигаюсь, сплю. Тяжелые свинцовые ноги, тяжелая неповоротливая голова. В несоответствии желаний и возможностей заключается трагедия моей старости». В Кузьминках в вагон всегда врывался очень неприятный запах. Говорили, что это из-за местного завода, на котором из костей собак производят мыло. В тот вечер я запаха не почувствовал, слишком поразил меня образ старости в тяжелом водолазном костюме. «До старости еще очень далеко», — успокаивал себя я, выскакивая из вагона на «Баррикадной».
Незаметно подкрался май. Чирикали воробьи. Бульвары были забрызганы зеленью. Вечера были легкими и неторопливыми. Ночи вздыхали, как девушка, которую целуют в губы. Пышно цвела сирень, ярко светили звезды. Москва пребывала в своем лучшем состоянии. Я смотрел на Краюшкину и чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Я хотел обнять ее и никогда не разжимать объятий! Увы, Ира мне этого не позволяла.
В метро читал не только я. СССР был самой читающей страной в мире!
В редких перерывах между учебой и Краюшкиной я бегал играть в футбол на маленькую пыльную площадку «восемь восемь», спрятавшуюся во дворах домов на улице Васильевской, возле Тишинки, и получившую такое странное название из-за чрезвычайной близости к ней 88-го отделения милиции.
Играли на «восемь восемь» очень жестко — на деньги либо «на расстрел». Игру «на расстрел» еще называли игрой «на жопы». А «на жопы» — это когда игроки проигравшей команды встают лицом к борту или стенке, плечом к плечу, часто обнявшись, и сгибаются таким образом, чтобы локти рук легли на колени. При этом выпячиваются зады игроков. А дальше с расстояния пяти-семи метров игроки-победители поочередно что есть силы лупят по проигравшим. Задача — пробить так, чтобы жертвы завыли от боли. Моим бессменным напарником в футболе был одноклассник Кеша Шахворостов. Когда мы проигрывали, что случалось редко, и нас ставили у стенки, он всегда орал: «Бейте, бейте, гады, сильнее! Не мажьте! Когда вы здесь будете стоять, я не промажу! Расстреляю!». Я всегда старался, но не мог его заткнуть. После этого на нас обрушивался шквал убийственных ударов, которые, увы, часто попадали в цель. Благодаря этой уличной школе футбола я научился неплохо играть.
Однажды теплым вечером, чумазые, но довольные футбольной победой, мы шли с Кешей за квасом. Квас наливали за углом. Маленькая кружка стоила три копейки, большая — шесть. С квасом всегда были большие проблемы: его бодяжили и не доливали, а кружки плохо мыли. Шахворостов всегда бился за права потребителя: «Помойте кружку как следует!» и «Почему не долили?» — вопил он, когда ему протягивали кружку, наполовину заполненную пеной. «Доливай!» — требовал он. И ему обычно доливали, правда с недовольством. Выпив кружку залпом, Кеша, переведя дыхание, запустил довольно скучный разговор:
— Колыванов чуть ли не в каждом матче забивает! В этот раз ереванскому «Арарату» забил[44].
Я оставил реплику без внимания. Кеша продолжил:
— Знаешь, почему улица называется Васильевская? — Иннокентий жил на Васильевской.
— В честь Васильева, конечно.
— Какого Васильева, Димусь?
— Такого Васильева! Валерия Васильева, динамовца, капитана сборной СССР по хоккею, — придумал я.
— Эх, дурилка картонная, — Шахворостов тогда активно использовал сленг «митьков», популярных в те годы питерских художников-неформалов. — Ничего ты не знаешь, хоть и всю жизнь здесь живешь.
— Ну и в честь кого же?
— В честь братьев Васильевых. Знаешь таких?
— М-м-м…
— Это, Димусь, режиссеры. Они фильм «Чапаев» сняли[45]. Смотрел?
— Дурак ты, Кеш, — с досадой сказал я.
— Это не я дурак, — парировал Шахворостов. — Ты думаешь, это случайность, что Дом кино находится на улице Васильевской? А?
Я промолчал. Что тут было говорить?
— Проверочный вопрос: кто играл Чапаева? — Кеша не унимался.
— Актер Бабочкин, успокойся.
— А в каком году сняли фильм?
— Не знаю.
— В 1934. Кстати, у меня есть пригласительные в Дом кино на церемонию открытия нового телеканала. Он будет называться… Точно не помню, по-моему, «Россия». Хочешь пойти?
— Откуда пригласительные?
— Мама достала.
— А что там будет?
— Не знаю. Думаю, интересно будет. В Дом кино разве легко попасть? Там знаменитости будут, политики. Тебе точно понравится.
— А если я не один буду?
— С кем?
— С девушкой Ирой.
— Решим.
И решил. И вот мы с Краюшкиной и с Шахворостовым уже в красных креслах уютного зала Дома кино. А на сцене — Олег Попцов, глава нового телеканала «Россия» и по совпадению отец нашей одноклассницы Юли. Рядом с Попцовым какая-то новая телеведущая из Ленинграда Светлана Сорокина, много известных людей. По-настоящему интересно. В какой-то момент Кеша шепнул мне на ухо:
— Заметил?
— Что?
— Твоя Ира все время на меня смотрит.
— Что?
— Да! Странно, что ты не видишь. Слепой, что ли? Понравился я ей, это понятно.
Я чуть не взорвался! Но, может, он прав? Стал аккуратно присматривать за обоими, но ничего не заметил. Однако в голову лезли черные мысли: «Черт! Черт! Вот ведь гад, змея какая, а? Шахворостов!».
Тот май вообще выдался напряженным. Это был первый год, когда надо было писать курсовую работу. Тема: «Американские корпорации — основа экономики США». Научным руководителем я выбрал профессора Андрея Владимировича Аникина. Выбрал не случайно. По факультету ходили слухи, что учиться у Аникина — особая честь, которой удостаиваются лишь избранные. Этого мне было достаточно, чтобы определиться. Я старался, добросовестно собирал материал для курсовика, а для этого каждый день ходил в Публичную библиотеку имени Некрасова на Пушкинской, набирал журналы — в основном «Мировую экономику и международные отношения» в зеленой обложке — и конспектировал.
Когда я возвращался из библиотеки домой пешком через Патриаршие пруды, изо всех окон звучал хит Loosing My Religion в исполнении группы R.E.M. Дома я садился на кухне у открытого окна, с видом на кирпичную грузинскую церковь и зоопарк, и под неистовые вопли гамадрилов, обуреваемых весенними страстями, перепечатывал свои конспекты на немецкой механической печатной машинке Robotron. Так слагалась моя курсовая. Надо заметить, что в тот год Андрей Владимирович не стал тратить свое драгоценное время ни на меня, ни на таких, как я. Он встретился с нами пару раз, после чего поставил пятерки. Не уверен, что он читал наши творения, но я все равно был на седьмом небе от счастья.
Во время летней сессии отбирали студентов на самое элитное отделение факультета под названием «Зарубежная экономика». После «зарубежки» появлялась перспектива работы за границей, а это дорогого стоило. Я опоздал на собеседование, где и происходил отбор счастливцев. Ученый секретарь безразлично смотрела сквозь меня:
— Повторяю, вы опо-зда-ли. А что? Тоже хотели на «зарубежку»?
— Очень, — выпалил я.
— Поздно, молодой человек. Увы. Все группы — Америка, Англия, Япония, Китай — уже укомплектованы.
— Не может быть!
— Может! В какую страну метили?
— В США.
— Нереально! — по ее смешку стало ясно, насколько я наивен. Может, эта моя наивность меня и спасла.
— Я вас очень прошу. Я случайно задержался. Пожалуйста!
— Ладно. Уговорили. Пойду спрошу.
Она вошла в аудиторию. Через минуту дверь приоткрылась:
— Проходите. У вас есть несколько минут.
Передо мной сидели седовласые профессора, среди которых выделялась пожилая интеллигентная дама. Именно она и обратилась ко мне:
— Итак, молодой человек. Присаживайтесь. Что привело вас сюда?
— Хочу учиться на кафедре зарубежной экономики.
— На каком отделении?
— США.
— Почему?
— Мне интересны две мощные экономики — Японии и США. Я увлекался Японией. Теперь хочу сфокусироваться на США, — честно признался я.
— Допустим. Расскажите нам про экономику Японии после Второй мировой войны.
Я рассказал.
— Хорошо. Скажите, у кого вы писали курсовую работу в этом году?
— У профессора Аникина.
— У Аникина? — восторгу интеллигентной женщины не было предела. Она буквально подпрыгнула на стуле.
— Да.
— Андрея Владимировича?
— Ну да.
— Какая тема?
— Американские корпорации как основа экономики США.
— Какую отметку вам поставил Андрей Владимирович?
— Пять.
— Ну что же вы сразу нам об этом не сказали? Я думаю, что у нас есть еще одно место в группе «Экономика США». И оно — для вас, Дмитрий. Меня зовут Валерия Фоминична Железова, я буду вашим руководителем. А Андрею Владимировичу, если увидите, передавайте, пожалуйста, привет!
Из аудитории я вышел окрыленным. Я еще не знал, какое жестокое завтра подстерегало меня. Ждало вот что. Краюшкина, и так в последнее время по неизвестной причине избегавшая меня, неожиданно объявила, что между нами все кончено! Это было как гром среди ясного неба! Землетрясение! Мир рухнул! Как? Как такое могло случиться? На ровном месте? Почему? Нет! Не может быть! Появился какой-то Вася! Не то она его любила, не то он ее любил. Все смешалось… Какой Вася? Откуда? Да и вообще, был ли Вася? Сначала я не верил ни одному Ириному слову, но скоро она перестала отвечать на мои звонки. Да я и сам начал понимать, что больше беспокоить ее ни к чему. Хотя это понимание далось с трудом.
— Кеша, как? Что думаешь? Не могла же она разлюбить меня? Так внезапно! Это же невозможно, — вцепился я в Шахворостова.
— Возможно. Разлюбила тебя. Да и вообще, с чего ты взял, что она тебя любила? Может, она меня любила? Димусь, любовь проходит! В первый раз, что ли? А потом, как писал классик, у каждого в душе есть украденная Джиоконда[46]. Ничего в этом страшного нет, никакое ты не исключение. Подумаешь, шрам первой любви! К тому же любовь — это невроз. И давай, хватит об этом! Пойдешь в футбол играть?
Время остановилось. Стрелки всех часов замерли. Несчастная любовь нещадно пригибала к земле. Чтобы хоть как-то отвлечься, я через знакомых устроился на работу. На самом деле работой это было назвать трудно, потому что за нее не платили. А делать надо было вот что. Утром я должен был прийти к стенам древнего Новодевичьего монастыря. Там какие-то великовозрастные дяди поднимали в воздух монгольфьер. Моей задачей было «страховать» шар, когда его с помощью горелки удавалось оторвать от земли. Если точнее, мне нужно было держать в руках веревку, скинутую из корзины. Таким образом, я как-то должен был влиять на то, чтобы шар не улетел в небо. Целый день мужики с улюлюканьем поднимали и опускали шар. А я держал веревку. Все это время я пытался разобраться, в чем смысл нашего коллективного занятия? Так и не разобравшись, к вечеру я принял решение уволиться.
Пешком шел я от Новодевичьего до дома. Меня провожали пронзительно желтые купола церквей. Эх, Краюшкина! Как же ты так? Было трудно дышать, голова кружилась. Все вертелось перед глазами, словно я был в корзине терпящего катастрофу монгольфьера. За спасением я поехал к Майсурадзе в Ясенево, надеясь, что Маша знает сокровенные детали и сможет хоть что-то мне рассказать, раскрыть тайну, объяснить, от чего на меня свалилась такая напасть. Ничего не вышло. Кроме бутылки виски, щедро выставленной передо мной, от Маши я ничего не получил. К тому же оказалось, что Маша сама только что рассталась со своим молодым человеком, и непрочь это обсудить… Пришлось напиться и забыться.
Утром позвонил Сева, живший по соседству с Машей. Он знал, что я ночевал у Маши в неважном состоянии, и вызвался меня поддержать. Сева пришел к Машиному дому. Мы посидели на лавочке у подъезда, побеседовали, сходили в гастроном напротив, купили маленькие творожные «Детские» сырки по пятнадцать копеек, с удовольствием их съели. А потом помолчали, глядя вдаль.
— Даааа, — наконец прервал молчание Сева.
— Да, Сев. Вот как бывает! — протянул я.
— Надо бы как-то развеяться, отвлечься. Что ты черный, как ночь, сидишь?
— Я б и рад развлечься, но как?
— Поехать куда-нибудь.
— Да… Куда глаза глядят! Но куда?
— Например, к морю.
И Сева рассказал мне, что на Черном море есть два лагеря МГУ — «Солнечный» в Пицунде и «Буревестник» под Туапсе, куда он, оказывается, и сам не прочь съездить.
— Правда? — такого развития я никак не ждал: передо мной открылась неожиданная перспектива.
— Да! — поставил точку в разговоре Сева.
На следующий день мы держали в руках путевки в «Буревестник».
Сева
С Севой мы познакомились на футбольной площадке в самые первые дни учебы благодаря Лёничу. Оказалось, Сева и Лёнич учились в одной школе в Венгрии, правда в разных классах — Сева был старше на год. Как и Лёнич, Сева был депешистом, впрочем более радикальным: три последних года в школе он ходил только в черном, переписывал тексты песен любимой группы в тетрадки, переводил их со словарем, вырезал фотографии из журналов. С первой попытки взять экономфак Севе не удалось. Готовясь к новому штурму он, чтобы не сидеть на шее у родителей, пошел работать. Сначала оператором гладильной машины, почти как Мартин Иден, потом дворником в универмаг «Ясенево» и, наконец, нештатным почтальоном в «Межрайонный почтамт «Москва-7»», где стирал руки в кровь, разнося перевязанные бечевкой пудовые стопки журналов «Новый мир», «Дружба народов», «Октябрь» по бессчетным подъездам. На следующий год он поступил, и мы стали однокурсниками. Сначала я за Севой наблюдал. Он неизменно носил полосатый сине-серо-красный свитер, джинсы и темно-синие замшевые кроссовки Adidas. В руках у него всегда была свернутая трубочкой газета, которую он время от времени нюхал, пытаясь, видимо, определить свежесть новостей. Он гонялся за какими-то дюбелями, чтобы завершить ремонт в родительской квартире, зачем-то знал на память расписание всех без исключения поездов и самолетов, мог поведать, как казалось, о любой стране мира и не пропускал ни одного университетского спортивного турнира, охотно выходя на замены и поддерживая факультет скорее морально, нежели физически. Мы встречались в гостях у Лёнича, стали приятелями. В дружбу отношения переросли в «Буревестнике».
Сгоняв на Курский вокзал, Сева чудом взял два последних билета в переполненный поезд «Москва-Сухуми». «До Сухуми не поедем, — сообщил мне Сева план нашего маршрута, — выйдем в Туапсе, пересядем на электричку и домчим до «Буревестника»». В плацкартный вагон я вошел с таким чувством, будто отправлялся в путь, конца которому не предвиделось. В вагоне стояла несусветная духота. Все из-за того, что окна были наглухо задраены назло всем ветрам — и маленьким, и большим. Едва поезд тронулся, отъезжающие начали трапезничать. В ход пошли яйца вкрутую, извлекаемые из разноцветных пластмассовых контейнеров, вареная курица из шуршащей фольги, хлеб и сыр, завернутый в газету «Труд». Проводники забегали с чаем в подстаканниках, зазвучал перезвон нетерпеливых стопок. Одни стали разгадывать кроссворд, другие перекидываться в «дурака», третьи — достали шахматы, а где-то в конце вагона послышался перебор гитарных струн. Мы с Севой глядели на все не без любопытства, но мысль о тяготах 36-часового переезда тревожила и не оставляла нас. Особенно пугала неотвратимость двух ночевок на узкой верхней боковой полке — всегда боялся упасть. Ночью, под стук колес и многоголосый храп в духоте вагона, щедро приправленной ароматом чеснока, я размышлял о своей несчастной любви.
Утром я проснулся раньше Севы и сел на одну из нижних соседских полок, ожидая его пробуждения. Снова все вокруг ели яйца и разворачивали плавленый сыр «Дружба». «Поскорее бы пролетел этот день», — думал я.
Наконец простыня на верхней боковой полке зашевелилась. Через мгновение из-под нее появилась Севкина голова, а еще через минуту Сева уже свешивал с полки ноги, готовясь спрыгнуть вниз. Прямо под Севой, на нижней полке, сидел и с удовольствием ел бутерброд с сырокопченой колбасой пожилой мужчина с вытянутой, яйцевидной головой, абсолютно лысый. Он был совершенно умиротворен, улыбался и излучал радость солнечного утра. Как вдруг… Я даже не поверил… На моих глазах обе Севины ступни изящно опустились на лысину мужчины. Все замерли и, раскрыв рты, ждали, что же теперь будет. Неловкость могла бы разрешиться мгновенно, однако Сева не ведал, что творит, и убирать ноги с головы соседа отнюдь не спешил. «С добрым утром», — доброжелательно обратился к зрителям Сева и улыбнулся, пальцами ног нежно массируя черные густые брови лысого попутчика, который сначала перестал жевать, а потом и дышать. Он очень хотел, чтобы эпизод остался незамеченным. Не получилось. Теплое Севино приветствие осталось без ответа. Я еле сдерживался, чтоб не расхохотаться, а купе уже гоготало вовсю. Невозмутимым оставался лишь лысый мужчина. Наконец он поборол природную деликатность. По-прежнему не шевелясь, он вежливо обратился к Севе: «Простите, молодой человек, не могли бы вы убрать ноги с моей головы?». Теперь оцепенел Сева, правда на мгновение. С трудом перебарывая смущение, скрыть которое было невозможно, он извинился с достоинством, чем исчерпал эпизод. Два джентльмена нашли выход из положения. Потом Сева спрыгнул с полки и, хмурый, пошел умываться.
В середине дня, спасаясь от духоты, мы вышли в тамбур. Проводник, понимая, что вверенный ему вагон уже давно стал душегубкой, пошел на должностное преступление и растворил вагонную дверь настежь фирменной эмпээсовской отмычкой[47]. Свежий, обжигающий, звенящий ветер ворвался в тамбур, отбросив меня назад. Я жадно вдохнул полной грудью. «А что, все ведь не так уж и плохо?». Жизнь — впереди! А на языке все равно подло вертелась песня про Краюшкину:
Опять мне снится сон, один и тот же сон. Он вертится в моем сознанье словно колесо: Ты в платьице стоишь, зажав в руке цветок, Спадают волосы с плена, как золотистый шелк. Моя и не моя, теперь уж не моя. Ну кто он, кто тебя увел? Скажи мне хоть теперь! Мне снятся вишни губ и стебли белых рук — Прошло все, прошло, остался только этот сон. Остался у меня, на память от тебя, Портрет твой, портрет работы Пабло Пикассо.Поезд нес нас по малороссийским степям. Я все так же стоял в тамбуре у раскрытой двери и любовался пейзажами, насыщенными красками и жизнью. Какими-то особенными были свет и воздух. Здесь, в Малороссии, воздух почему-то казался более мягким, а света было больше, чем в Москве. Эх, Николай Васильевич Гоголь! Весь окрестный раздольный край был его: «Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии!.. Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами…». Кто сказал, что Гоголь украинский писатель? Он — русский писатель малороссийского происхождения, писавший, кстати, на русском языке! И тут из дымки прошлого всплыли заученные в школьные годы последние слова Тараса Бульбы, подлыми ляхами прибитого гвоздями к запаленному дереву: «Прощайте, товарищи! Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся козак? Постойте же, придет время, узнаете вы, что такое православная русская вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: подымается из Русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!»…[48] На всех парах мы неслись к Черному морю. Наконец поезд вскрикнул, а потом, недовольно шипя и фыркая, с чудовищным лязгом затормозил в Туапсе. Короткий бросок до электрички, в которой половина окон была беспричинно разбита горячими абхазами. По одноколейке, вдоль моря, еле плетемся до платформы «Спутник». Выходим. Приехали! «Буревестник»! Пальмы, солнце, запах моря, шум волны, воздух, переливающийся струями! Не зря мы томились в плацкарте!
«Буревестник»
Вход в жилой корпус нам преградил высокий крепкий мужчина в шерстяном синем тренировочном костюме с нашитыми белыми буквами «СССР» на груди. Звали его Валентин Федорович Кузьмин, и был он мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике. Ноги его были как тумбы, а руки как две мои ноги. Иной бы дрогнул перед таким колоссом, но не мы с Севой. Мы были командой!
— Куда? — недовольно пробасил Кузьмин.
— Заселяться, — ответил я.
— МГУ?
— Да.
— Факультет?
— Экономический.
— Спортсмены?
— Так точно.
— Какой спорт?
— Хоккей!
— А почему опаздываете? Смена началась три дня назад!
— Так получилось!
— Где путевки?
Мы протянули ему путевки.
— Ладно, давай, проходи, — он пропустил нас внутрь красивого южного здания с колоннами и балконами и указал на дверь ближней ко входу комнаты. — Вот ваша палата! Будете жить в царских условиях — втроем. Для сведения: остальные живут по пять-шесть человек в палате.
Кузьмин развернулся и направился к выходу из здания.
Время, дело известное, летит иногда птицей, иногда ползет червяком; но человеку бывает особенно хорошо тогда, когда он даже не замечает — скоро ли, тихо ли оно проходит. Мы с Севой времени в «Буревестнике» не замечали. Этому отчасти способствовал порядок, который был заведен в лагере и которого мы неукоснительно придерживались. Все в течение дня совершалось в известную пору. Утром, ровно в восемь часов, все пробуждались, бежали на зарядку на пляж, потом собирались к завтраку. Затем до обеда — купание в море. На обед все сходились в столовую, плавно лилась беседа. Тихий час. Потом спорт. А вечером — желанная дискотека, на которой хитом была песня «На белом лимузине мы прикатили сюда, чтобы остаться, остаться здесь навсегда». Ту дискотеку организовали студенты-химики, и называлась она «Редокс»: физический термин, обозначающий два противоположных физических процесса — восстановление (reduction) и окисление (oxidation). В десять — отбой! И все засыпали. За всю смену мы не выпили и капли спиртного. Нам нравилась эта размеренная правильность ежедневной жизни — дни катились как по рельсам.
Дружба порождает слово, а слово скрепляет дружбу. В «Буревестнике» мы с Севой много беседовали. Про жизнь, любовь, дружбу, будущее. В чем смысл жизни? Полезны ли мы в этом мире, или он и без нас благополучно обойдется? Можно ли любить всю жизнь одного человека? Отчего люди расходятся? Зачем живут с нелюбимыми? Есть ли судьба? Или жизнь человека — в его собственных руках? А жизнь и судьба — это одно и то же? А случай? Насколько важен в жизни случай, шанс? И сколько шансов отмерено? Все эти вопросы занимали нас, хотя мы не сомневались — уж кому-кому, а нам судьба точно подарит миллион шансов, и всеми ими мы нехотя, лениво, но все-таки воспользуемся.
— Помнишь солдата Лазарева, Сев?
— Нет.
— Из «Войны и мира». Когда Александр с Наполеоном в Тильзите…
— Тильзит сейчас называется Советск, город в Калининградской области, — мимоходом удивил меня Сева.
— Значит, Тильзитский мир — это Советский мир?
— Почти так.— Так вот, — продолжил я. — Подошли императоры к строю, и Наполеон говорит Александру: «Хочу дать орден Почетного легиона твоему самому храброму солдату!». Александр растерялся, спрашивает своего полковника: «Кому дать?». Тот скомандовал: «Лазарев!», и Лазарев вышел вперед. Наполеон сам приколол крест на красной ленте к груди Лазарева, а вместе с лентой ему были пожалованы тысяча двести франков пожизненного пенсиона. И тут же в честь Лазарева — банкет! Вот он — классический случай!
В тихий час мы читали: я — «Фауста», а Сева — Александра Фомича Вельтмана, «чародея, который выкупал русскую старину в романтизме, доказал, до какой прелести может доцвесть русская сказка, спрыснутая мыслию». Так о нем отозвался другой писатель — Бестужев-Марлинский, сосланный за участие в восстании декабристов в далекий Якутск. Еще мы обсуждали недавно прочитанного «Великого Гэтсби». «Не великий он, — настаивал я. — Сильный человек сам себя никогда не убьет! Цельная личность никогда не раскиснет, не сломится! Гэтсби — размазня!».
Так проходили наши благостные дни. Всего милей были минуты перед сном. «Буревестник» затихал и растворялся в черноте о чем-то страстно шепчущей, как цыганка, морской ночи. Звезды сверкали так, будто были вымыты хорошим душистым мылом и до блеска натерты мохнатым полотенцем. Счастьем свежести, молодости, здоровья входила прохлада в открытые окна. Было так хорошо, что уезжать в Москву в положенное время я не захотел и остался на следующую смену. Заодно я подговорил Остапишина, и уже через три дня он был в «Буревестнике». А Сева, пообещав скоро вернуться, умчался ослеплять Москву своими светлыми, выгоревшими на солнце, льняными волосами и загорелым лицом.
Мурмулин и шуры-муры
Новая смена в «Буревестнике» была совсем не похожа на предыдущую. Теперь я чувствовал себя «бывалым». Начальником нашего с Сашей отряда стала Татьяна Михайловна, тренер сборной МГУ по плаванию, знавшая меня с детства, потому что заведовала бассейном в пионерском лагере «Юность МГУ». На нас стали смотреть сквозь пальцы, а это всегда открывает новые возможности. Уже через неделю нас знали все бабульки из близлежащей деревни Вишневка, единственного места на земле, где делали «мурмулин» — молодое красное вино, каждый сорт которого имел свой номер. А номер «мурмулина» соответствовал номеру дома, где он производился. Мы предпочитали «мурмулин № 1». «Мурмулин» продавали либо в трехлитровых банках, либо стаканами. Выпивать его следовало быстро, потому как уже на следующий день он превращался в уксус.
Пока мы были в «Буревестнике» у нас появился второй президент — Ельцин. На фото: президент СССР Горбачёв поздравляет Ельцина во время его инаугурации на пост президента РСФСР 10 июля 1991 г. Исторический момент
Однажды, выпив по стакану «мурмулина», мы с Сашей пошли в гости к «философам» — студентам философского факультета МГУ. Философы каждый вечер набивались в одну из комнат, расставляли на столе и на полу свечки и в полумраке заунывно под гитару пели «Виноградную косточку в теплую землю зарою…», или «Повесил свой сюртук на спинку стула музыкант…», или «Но нежданно по портьере пробежит вторженья дрожь, — тишину шагами меря, ты, как будущность, войдешь…». К философам мы вошли крадучись. В комнате уже установилась «волшебная» душевная атмосфера — все были возвышенными и просветленными и, сидя на полу, плечом к плечу, по-доброму улыбаясь друг другу, качались в такт песням. Никто не говорил громко, только — шепотом. Двигались все очень плавно. А нам с Остапишиным хотелось веселья, поэтому Саша разрезал тишину, попросив у гуманитариев гитару:
— А вы играть умеете?
— Да, — Саша кивнул в мою сторону, давая понять, что исполнителем буду я. — Вот. Он сам песни пишет.
— Да? — философы оживились. — Ура! Здорово! С нами бард, ребята!
Сашин реверанс в мою сторону был несколько неожиданным. Но в тот момент я не нуждался в уговорах. Взяв гитару, я ударил по струнам и взорвал уют резкой песней «Шоколадные девушки» собственного сочинения. Слова там были такие: «Синее море, солнцепек, шоколадные девушки, чистый песок, это — мое представление юга…». И так далее. Остапишин был в восторге. А философы — нет. У нас отобрали гитару, проигнорировав мое страстное желание исполнить свой второй хит «А это небо внушает мне страх!». Хуже того, философы вежливо попросили нас покинуть помещение. Мы сделали это без сожаления. Выходили мы под «Я спросил у ясеня, где моя любимая…».
Жили мы в трехместной палате — я, Остапишин и Славка. Славка был великовозрастным студентом журфака. Он прошел и армию, и рабфак[49]. В общем, было ему лет 26, а может, и все 27. Слава был здоров — метр девяносто точно.
Явно спортсмен, каждое утро он начинал с зарядки, потом — пятикилометровый кросс «по горам и холмам», заканчивающийся на пляже, там Славка жал от груди громадные каменные глыбы вместо штанги. Затем он плавал до горизонта и обратно и, наконец, бежал спринт в гору, к столовой, где его ждала приготовленная заботливой поварихой Иркой большая сырая очищенная луковица. Вячеслав съедал ее всю, не поморщившись. К Ирке Славка бегал не случайно. Она ему нравилась. Немудрено! Гарная калужанка, платиновая блондинка с упругим третьим размером, точеными щиколотками и чувственными губами, она нравилась многим. Но досталась Остапишину. Мне тоже перепало. В столовке я получал добавку!
Дней через десять вернулся Севка, сдержав обещание. Мы ходили на водопад, уплывали на надувных матрасах за буйки, ложились спать за полночь, ухитряясь перед сном, смешавшись с ночью, убегать на захватывающее дух купание под черным небом, сливавшимся с черным морем. Пережили настоящий смерч, оказавшись в его эпицентре: сначала была страшнейшая гроза и яростный ливень, дрожали стекла, пол, лампы на потолке. Потом с гор пошел сель, начался настоящий потоп. Электричество пропало. В море смыло два пионерских лагеря, а вырванные с корнем деревья плавали в ставшем коричневым море. К кому-то в гости приехал только что победивший в песенном конкурсе в Ялте молодой певец Мурат Насыров, и все шептались: «Мурат, Мурат!». Мы дружили с девушкой Катей, студенткой журфака, незадолго до лета отвергшей предложение руки и сердца Александра Мостового, подававшего большие надежды молодого футболиста «Спартака». «Мы с ним разные», — гордо объяснила она нам свой отказ, при этом уйдя с головой в любовные отношения с малопонятным субъектом с того же журфака. «Мурмулин» лился рекой. Местные, вишневские, ребята, которые почему-то решили подраться со студентами и организовали стычку на нашей дискотеке, вынуждены были на следующий день просить прощения, потому что в «Буревестник» заехала сборная МГУ по боксу.
Так бы и жить, но лето заканчивалось. Мы собрали вещи, сели в самолет ИЛ-86 и полетели во Внуково. В полете Остапишин читал «1984» Оруэлла, книгу до недавнего прошлого запрещенную в СССР. Чуть позже это мне показалось символичным: скоро мы попрощались со страной, ставшей прообразом тоталитарного государства, описанного в том романе.
Путч
Приехав домой на Грузинскую, я первым делом включил телеканал «2x2». С экрана таращился и размахивал ручищами Богдан Титомир: «Хай! Пока вы здесь отдыхаете, купаетесь и загораете, я закончил запись своего сольного альбома! Кроме того, я приступил к записи видеоклипов! Посмотрите фрагмент одного из них: «Е-рун-да! А я ищу тебя. Е-рун-да! А я хочу тебя…». «Ну что? Клево!? — продолжал Богдан. — Благодаря сотрудничеству с фирмой «Лис’С» осенью выходит моя новая пластинка, она называется High Energy — «Высокая энергия»! Запомните: вы — классные ребята! Бай!».
В ночь на 19 августа я лег спать поздно — уж больно увлекательным чтением был «Идиот» Достоевского. Оторваться не мог.
Утром меня разбудил телефон. «Кто такой бесцеремонный?» — подумал я. Звонил Шахворостов:
— Телевизор включи!
— А что?— Включи! В стране — военный переворот! Конец перестройке! Танки в городе! Быстрей включай! Они какую-то муть несут: «Мы, мол, решили взять власть в свои руки, чтобы предотвратить анархию в стране».
Я включил телевизор. По всем программам показывали балет «Лебединое озеро» — плохой знак: в СССР балет показывали в режиме нон-стоп только тогда, когда умирал один из лидеров КПСС. Но в этот раз все было еще хуже. Пока Горбачев отдыхал в Крыму, власть захватил неконституционный ГКЧП, в который вошли восемь видных партийных советских деятелей[50]. Это был настоящий государственный переворот. Дату выбрали неслучайно. На 20 августа 1991 года было назначено подписание нового договора между советскими республиками: они получали большие права, а союзная власть их теряла, то есть фактически СССР как единое государство переставал существовать. Подписание договора было сорвано! ГКЧП обратился к народу, объявив себя истинным защитником демократии и реформ и обещая в кратчайшие сроки улучшить жизнь в стране.
О переворотах я знал из курса истории: стрелецкий бунт, декабристы, февральская и октябрьская революции. Все это было давно, в царской России. В СССР ничего подобного произойти не могло, в этом я был уверен. Тем не менее случилось! В Москве, Петербурге и других крупных городах сразу же объявили комендантский час, остановили деятельность демократических партий и организаций, запретили выпуск газет.
Утро 19 августа 1991: войска входят в Москву по Калининскому проспекту
В 11 часов снова раздался звонок. Шахворостов:
— Димусь!
— Что?
— Надо спасать Россию!
— Как предлагаешь это делать?
— Ну я, например, иду к Белому дому Буду там защищать демократию.
— Так ведь погода плохая, дождь собирается.
— Я плащ-палатку беру у отца. Давай! Пойдем!
— Не знаю…
— В крайнем случае до дома добежишь. Ты ж спортсмен, футболист. Пять минут — и готово! К тому же это история! Такое бывает раз в жизни! Давай. Я к тебе зайду?— Ну, ладно. Давай!
Идти до Белого дома нам было недалеко, минут пятнадцать максимум. Почему не сходить? К тому же душа звала. Около метро «Краснопресненская» нам в руки всучили настоящую листовку! На маленьком листке бумаги мелким шрифтом было написано: «Солдатам Отечества! Предпринята попытка государственного переворота. Отстранен от должности президент СССР, являющийся Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил СССР… Страна оказалась перед угрозой террора. Порядок, который обещают нам новоявленные спасители Отечества, обернется трагедией — подавлением инакомыслия, концентрационными лагерями, ночными арестами…». И так далее. Подписано все было Борисом Ельциным, президентом Российской Федерации[51]. К слову, Ельцин еще пять месяцев назад сказал: «Мы раненого Горбачева на поле боя не бросим». Теперь пришло время действовать.
Народное восстание
19 августа. Первая остановленная на Манежной площади колонна бронетехники
Возведение баррикад у Белого дома
Ночь на баррикадах: где-то тут — мой друг Шахворостов
У Белого дома уже было много людей. Все суетились, галдели, тащили откуда-то доски, коробки, металлические балки, камни — все для укрепления позиций. Троллейбусы… Они каким-то удивительным образом тоже стали средством защиты — подгоняя их друг к другу, сооружали баррикады. Когда наступила ночь, все стали обсуждать происходящее, где-то начали петь песни под гитару Время от времени откуда-то появлялась еда: то пирожки, то беляши, то экзотические по тем временам гамбургеры и пицца. Я подумал: «Вот это да! Пицца на баррикадах в Москве! Невероятно!». Потом появился первый БТР, который должен был быть «против нас», но стал «за нас». Мы разговаривали с растерянными солдатами, сидевшими на том БТРе, нашими ровесниками, не веря, что они перешли на нашу сторону…
— Вроде стрелять не будут, — разнеслось по толпе.— Да! Они с нами! Молодцы, ребята! — раздался одобрительный гул.
Изредка я забегал домой, где очень переживала за меня бабушка Оля:
— Куда тебя несет, окаянный? А? Дождь на улице, танки, стрелять вот-вот начнут. Да черт с ним, с Шахворостовым, пусть пропадает. Тебе-то зачем это надо?— Надо! — уверенно отвечал я, брал с собой сухой паек и отчаливал в сторону Белого дома.
У Шахворостова, однако, и в самом деле был весомый резон идти к Белому дому. Он только что выиграл счастливый билет — единственную путевку, выделенную МАРХИ Программой президента США. Путевка предполагала поездку Шахворостова на учебу в знаменитый Нью-Йоркский архитектурный институт «Пратт». Кеша дорожил этой возможностью. А кто бы не дорожил? В кармане моего друга давно согревался авиабилет в Вашингтон на 21 августа. Рюкзак уже был собран, когда внезапно ГКЧП закрыл все аэропорты на вылет. Планы рухнули в секунду. Никуда Кеша уже не летел, билет пропал.
Я провел на баррикадах три дня, а Шахворостов, невзирая на дождь, еще и три ночи. На четвертый день мы победили! Памятник Дзержинскому, «человеку с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками», чекисту номер 1 и символу эпохи, свалили двумя подъемными кранами, а заговорщиков арестовали. Ельцин тут же подписал указ, останавливающий деятельность неприкасаемой Коммунистической партии Советского Союза! Возвратившийся из Крыма Горбачев вечером 24 августа распустил союзный Кабинет министров и отказался от поста генсека КПСС. А потом ЦК КПСС объявил о самороспуске.
Крах железного Феликса!
Так в три дня восемь членов ЦК КПСС, сами того не желая, покончили с коммунизмом на одной шестой части суши. 88-летняя история партии большевиков завершилась. Начался обвал страшной силы, вдребезги раздавивший СССР. Ленинград, символ социализма, через считанные дни после путча переименовали в Санкт-Петербург. Прибалтика сразу же сделалась заграницей, другие республики встали в нетерпеливую очередь. С многонационального Советского Союза сорвало крышу, и весь народ оказался под открытым небом. И некому стало за ним смотреть. Свобода! Настоящая, с неба свалившаяся, сверх ожидания. Сколько дней за всю свою историю Россия была свободна? И вот он, случай, нечаянный, ну кто бы мог подумать? «Наконец-то свобода и закон восторжествуют на нашей земле, теперь уже раз и навсегда», — горели глаза моих соотечественников.
Воспламененные победой демократии, мы дружно помчали в студенческий театр МГУ. Севка, Остапишин, Кешка, Лёнич. Народу было столько, что пришлось буквально прорываться внутрь! В тот вечер представление было особенным. У артистов тоже была эйфория. Все сочинялось на ходу, из-за чего качество страдало, но это не имело никакого значения:
Как на Краснопресненской Меня ё… доской. Я сижу не охаю, Все мне стало по…Мы поехали к кому-то в Сокольники. Там Кешка требовал, чтобы все, чокаясь, смотрели друг другу в глаза, закусывали коньяк лимоном и рафинадом. Кеша заснул, довольный, в кресле. Он заслужил эту победу!
Через день мы с однокурсниками пошли в ресторан «Пицца хат» на пересечении Кутузовского и Дорогомиловской. Это совместное предприятие фирмы «Пепсико» и Мосресторантреста, как и «МакДональдс», продавало американский образ жизни. Очередь в «Пиццу хат» была не длинной, но очень медленной. Приходилось стоять два-три часа. Зато вошедших оттуда уже было не выгнать. Чесночные гренки с сыром, пицца «Европейская пан супер суприм» и так далее. В тот вечер Маша Майсурадзе рассказывала, что ее мечта — джинсы «Grekoff».
— Это же наш самый модный дизайнер, — просвещала она нас.
— Греков?— Да. Его в Европе уже признали. Знаете, его спросили, что он думает о Зайцеве и Юдашкине? А он ответил, что «о них трудно говорить как о конкурентах, это «нечто», но находятся люди, кто покупает и это».
Остапишин рассказал о нашем с ним недавнем приключении, как мы катались на «Москвиче-2141» его родителей, доехали до Маяковки, вышли на полчаса, вернулись, открыли машину, сели в нее, завели, и тут Саша почувствовал что-то неладное: «Не пойму, как будто мое сидение кто-то отодвинул». Он обернулся и удивленно протянул: «А откуда здесь все эти коробки?». Машина действительно была забита каким-то хламом. Рядом, слева, бок о бок, стояла точь-в-точь такая же машина, серый «Москвич-2141». «Да мы же не в свою машину сели, — прошептал Саша. — Тихо, спокойно, без суеты, вылезаем и пересаживаемся».
Потом мы с Машей дошли пешком по Кутузовскому до дома ее подруги Ксении, студентки журфака МГУ и внучки советского посла в Англии Замятина. Еще неделю назад Леонид Митрофанович Замятин был, без преувеличения, великим человеком. Теперь величие осталось в прошлом — его отправили в отставку: не смог быстро сориентироваться, с кем быть — с ГКЧП или против. Ксения любезно поделилась с нами видеокассетой с фильмом «Назад в будущее». Это был отличный фильм — добрый и романтический, я его смотрел без отрыва, в нем тинейджер отправлялся на чудо-машине в прошлое, чтобы изменить жизнь своих родителей к лучшему. «Roads? Where we’re going, we don’t need roads», — звучала в том фильме фраза[52], определившая, как ни странно, вектор развития моей страны. Я, правда, понял это много лет спустя, а тогда, взяв видеокассету, довольный доехал на 116-м автобусе до дома, мечтал: посмотрю и спать. Но затрезвонил телефон:
— Дим, слушай, я решил прямо сейчас ехать в аэропорт, — это был Шахворостов. — Иначе начало учебы в Америке пропущу, а там и вообще из списков могут вычеркнуть. Можешь меня проводить?
Это совсем не входило в мои планы.
— А ты что, новый билет купил? — удивился я.
— Нет. Собираюсь там, на месте, договориться. Одному трудно будет. Самолет в Вашингтон улетает утром, есть ночь, чтобы как-то на него попасть. Надо, чтобы кто-то присмотрел за вещами, пока я буду бегать и договариваться.
— Ладно, — недовольно пробурчал я, вечер перестал быть томным.— Опять тебя этот черт Шахворостов куда-то на ночь глядя тащит, — сокрушалась бабушка Оля, когда я, услышав в окно приближающийся троллейбус, выскочил пулей из дома, чтобы на него успеть.
В Шереметьево пришлось провести всю ночь. Сидел на Кешином походном выцветшем брезентовом рюкзаке с пожитками и читал «Идиота», пока Шахворостов носился по аэропорту, подкупая царскими серебряными рублями и армянским коньяком пограничников и сотрудников «Аэрофлота» — только бы его впустили в самолет без билета. Получилось: начальник полетов любил выпить! Кеша улетел «на подсадке», махнув мне из зоны паспортного контроля рукой. Лишь утром я доплелся до маршрутки, которая повезла меня до «Речного вокзала». Засыпая под гул ее мотора, я вспоминал школьные инструктажи для политинформаторов, которые вела старая историчка Зинаида Николаевна, ортодоксальная коммунистка: «Это у них — кровожадная военщина, алчные корпорации, безработица, СПИД, постоянная угроза разорения, стрессы, бездомные, безвинно осужденный Леонард Пелтиер[53], голодающий доктор Хайдер, человек человеку волк, а не товарищ и брат. Это там — резервации для индейцев и линчевание негров. Это там верховодит жалкий киноактеришка с глупой голливудской улыбкой, недобитый ковбой Рейган». Кеша летел туда, в этот кромешный ад. Затем вспомнилась нравившаяся Кеше песня группы «Альянс»: «Солнца свет и сердца звук, робкий взгляд и сила рук, звездный час моей мечты — в небесах. На зааааре голоса зовууут меняяя…». Мой друг был и на заре, и в небесах, и на пути к своей неосознанной мечте. А потом я заснул, и Кеша привиделся мне стоящим на ступенях белоснежного Капитолия в Вашингтоне…
Начало новой эпохи
Разделавшись с «Идиотом», я залпом прочел «Братьев Карамазовых». А на «Бесах» споткнулся. Все-таки нельзя все делать сразу! Торопиться — ни к чему. Правильно наставлял меня в детстве хоккейный тренер Петр Михалыч по кличке «Понял сё». Михалыч учил, что наиглавнейший признак мастерства — это пауза, а не суета. «Ну, это но! — обычно восклицал «Понял сё»: — Сыграй на паузке, они (соперники) сами за тебя все сделают. Шайбочка сама к тебе прилетит. Просто постой, подожди». Прозвище свое он получил за то, что в горячке, давая указания, куда бежать и что делать, постоянно повторял, с надеждой глядя нам в глаза: «Понял сё?». Когда я рассказал Петру Михалычу, что Кеша уехал в Штаты, он подивился и резюмировал, покачав головой: «Геша-то не дурак, понял сё». И оказался прав: это стало ясно, когда я получил первое, а потом и второе письмо от Шахворостова. Он писал, что в далеком Нью-Йорке «неприлично ходить в кроссовках в рестораны», что «модными ботинками считаются топсайдеры», что майки называются T-shirts и что самые крутые джинсы — это джинсы фирмы GAP. Он уже успел съездить в «up-state New York»[54] и прислал мне пару своих фотографий на фоне Корнельского университета. Где-то в нью-йоркском Сохо Кеша наткнулся на Де Ниро с негритянкой. В каких-то гостях ему дали подержать израильский автомат «Узи». А пожилая дама, взявшая опеку над ним, купила ему желтый зимний пуховик J.Crew за 200 долларов. Еще он советовал слушать песню The Cure «Boys Don’t Cry». «Сказка!» — думал я, раз за разом, жадно перечитывая художественные, от руки написанные послания моего друга при свете ночной лампы в углу маленькой квартирки в темной, колючей, холодной и голодной Москве.
В ответ я писал: «Кеш, у нас в «Что, где, когда?»[55] теперь играют не на книги, а на деньги. В прошлую субботу в телепрограмме «До и после полуночи»[56] рассказывали о советских людях, живущих в Нью-Йорке. Ты знаешь, мы благоговеем перед иностранцами, глядя на них, верим в другую, благополучную жизнь. Больше всего восхищает Америка — образ жизни, фильмы, одежда, любовь и, конечно, улыбки. Америка — это мечта. Кажется, что это страна всеобщего благоденствия. Мы смотрим на Запад и надеемся, что когда-нибудь станем такими же, а пока выживаем, у нас грязно, разруха, страна разваливается, все боятся инфляции и бегут от рубля, переводят сбережения в доллары или немецкие марки. Успокаивают, что лет через пятнадцать-двадцать все наладится. Представляешь, как долго надо ждать? Но в конце концов все устроится, ведь был же когда-то семнадцатый год. И восемнадцатый, и девятнадцатый. Тоже разруха, голод. Еще и тиф был. И выкрутились все-таки. И Днепрогэс потом построили, и Магнитогорск». Заканчивал я письмо на державной, патриотической ноте: «Вот что Дмитрий Карамазов у Достоевского говорит: «Ненавижу я эту Америку уж теперь! И хоть будь они там все до единого машинисты необъятные какие, али что — черт с ними, не мои они люди, не моей души! Россию люблю, русского Бога люблю»».
К слову, в это самое время на русского Бога наступали: Москву наводнили новоявленные международные религиозные секты. Молодые сектанты, они чаще всего были американцами, сновали повсюду, заманивая прохожих на проповеди. Миссионеры проникли и в университет, на одного из них, «брата» Джона из Московской Церкви Христа, однажды наткнулся Лёнич. Джон тут же принялся объяснять, почему его секта лучше секты Марии Дэви Христос, вербуя новую душу, но не тут-то было. Не Джон достиг успеха в тот день, а Лёнич: он между делом выяснил, что в съемной квартире Джона нет стиральной машины. Как беседа из сферы духовной перенеслась в материальную, я так никогда и не смог постичь.
Однако факт есть факт: на следующий день мы с Лёничем взяли взаймы двести долларов, купили на них стиральную машину Sanyo на Калининском проспекте и привезли ее к двери квартиры Джона (адрес тоже был выяснен). Увидев нас с агрегатом, Джон застыл как вкопанный, бормоча под нос слова «брат» и «аминь», а Лёнич в тот же миг приговорил американца:«Шестьсот долларов!». Через минуту ошарашенный поначалу Джон пришел в себя и попытался возразить: «Не надо! Зачем?», но невозмутимый Лёнич по-дружески потрепал его за плечо, что-то шепнул на ухо, и миссионер обреченно выдохнул: «Yes». «Что за волшебные слова ты ему сказал?» — поинтересовался я, когда мы в прекрасном настроении уходили от Джона. «Аминь, брат», — пошутил Лёнич. Четыреста долларов на двоих за день — фантастический результат! Русский Бог взял верх над американским!
Облом
Опустошение после разрыва с Краюшкиной все же оставалось, но я решил избавиться от него окончательно, как бы тяжело это ни было. Медлить было бессмысленно, мимо меня каждый день проносились миловидные девушки, а одна из них, учившаяся на вечернем отделении, была особенно хороша. Я приметил ее еще месяца два назад, а подойти решил теперь. Мы поговорили, по иронии судьбы ее тоже звали Ирой. Ира рассказала, где и когда можно ее найти, была любезна, улыбалась, и я заключил, что у меня неплохие шансы. Дело было вечером, и она ускользнула от меня на лекцию. А я, поразмыслив, сел на широкий подоконник возле входа в аудиторию и стал ее ждать, чтобы проводить домой. Внезапно передо мной вихрем возник однокурсник Вася. Именно вихрем, потому что вроде бы он стоял стержнем, но в то же время все внутри него бурлило и клокотало. Вася, как мне казалось, был чуть постарше меня и, может, из-за возраста всегда держался очень уверенно, даже нагловато. Совсем недавно Вася ярко проявил себя: вместе с Женей Лаврентьевым, высоким однокурсником из пятой группы, они сочинили на лавочке у станции метро «Университет» письмо султану Брунея, самому богатому человеку в мире. Вася разузнал, что в ответ на некоторые, особенно понравившиеся письма султан присылает двадцать тысяч долларов. Это зажгло огонь в глазах Жени. Блокнота под рукой не было, поэтому, озаренные вдохновением, писали на одной из редких незаполненных страниц в Женином советском паспорте, в который чего только уже не было вписано шутниками-однокурсниками: и пять новых имен и фамилий, и семь детей, а также шесть разводов и четыре прописки — по адресам тусовок, которые он посещал чаще всего. Письмо самому богатому человеку планеты приятели составили из обрывков популярных тогда песен: «Dear sultan! Welcome! I promise my heart to you! You take myself, you take myself control, I live among the creatures of the night. You behind the wheel and me the passenger»[57]. Теперь соавтор письма султану Брунея стоял и удивленно таращился на меня:
— Что это ты тут делаешь так поздно?
— Девушку аду, — ответил я.
— А ты?
— Тоже.
Слово за слово, выяснилось, что ждем мы одну и ту же.
— Эка, — оживился Вася. — Такого не бывает! Вот дела! А ты когда с ней познакомился?
— Сегодня.
— А я четыре дня назад, — нараспев протянул Вася.
— Четыре дня? — выяснялось, что у Васи было конкурентное преимущество.
— Да. Три раза в ресторан сходили, — Вася уверенно выбивал из-под меня опору.
— В ресторан?
— В «Золотой дракон» на Плющихе.
Жестокий удар. Китайский «Золотой дракон» был чудом из неземной жизни, цены в нем были заоблачными. Переплюнуть Васю я не мог, даже несмотря на наш с Лёничем недавно сорванный куш.
— Что делать будем?
— А ты что предлагаешь?
— Ну… Можем вместе подождать.
Это был, конечно, вариант. Но ведь были и другие выходы. Поразмыслив, я решительно встал и вышел из игры, так и не ударив по мячу. Конечно, это был самый настоящий облом. Но ведь, по правде, Вася начал раньше, да и вечерница, судя по всему, ему благоволила. Вася женился на Ире через месяц, развелись они тоже быстро.
Жизнь меняется
Жизнь становилась тяжелее. Рубль рухнул. В сентябре за один доллар платили 38 рублей, в декабре уже около 120, а минимальная зарплата как была 220 рублей, так и осталась. Хлеб, сахар, масло, сметана, спички, мыло «Хозяюшка» — все, как и год назад, расхватывалось в секунды. Стало даже хуже, потому что в середине осени Ельцин объявил, что вот-вот государственные цены совсем отпустят на свободу. Лучше бы их отпустили без объявления. Люди не дураки. Сразу побежали покупать все до повышения, и редкие товары вовсе «смыло» с полок. Купить молоко было нереально! В гастрономе «Новоарбатский» оно стояло, но за валюту. За едой велась настоящая охота. В общем, слово «голод» стало понятнее. В Россию стала поступать «гуманитарная помощь»: теперь зарплату могли выдать продуктами, которые поступали «от энергетиков Гамбурга энергетикам Москвы». В разных частях Москвы вспыхивали стихийные бунты — водочный на Большой Ордынке, сахарный в Перово, молочный на Ленинградском проспекте. Народ лютовал и блокировал магазины, подозревая торговцев в припрятывании товаров.
В «Елисеевском» постоянно шла война за водку, те, кому ее не доставалось, выдвигали угрозы «перегородить Тверскую или захватить Моссовет», а однажды пятьдесят человек, простоявших в очереди весь день, напрочь отказались уходить из магазина, когда пришло время закрывать его на ночь. Они улеглись спать на газетах, постеленных на пол под прилавками. Их стерегла милиция. Лишь утром, вырвав свою кровно заработанную водку, герои советского быта отправились восвояси. А ближе к Новому году «елисеевская» очередь все-таки перегородила Тверскую и остановила движение. Пропускали только «иностранные» машины и «скорую помощь». Остальным, кто пытался прорваться, били по капоту.
Всё время появлялось что-то новое: открытие первого частного парикмахерского салона на Тверской
Земля горела под ногами. Нужно было держать нос по ветру. С одной стороны — лишения и нестабильность, а с другой — все время возникало что-то новое, неведомое. Первая в Москве «стопроцентная частная фирма», которая вздумала производить настольные игры, первый арендованный кооператорами у государства хозяйственный магазин на Мосфильмовской. Наконец, открылся и первый ночной клуб Night Flight на Тверской, в помещении кафе «Север»[58]. В него приглашались только те, кто «имел валюту, был хорошо одет и умел прилично себя вести». В центральных газетах по поводу открытия нового заведения вышла предостерегающая заметка: «Те, кто хоть немного знаком с работой ночных клубов на Западе, могут предположить, что в Night Flight их ждут еще и знакомства с дамами, приятными во всех отношениях. Однако таких клиентов может постичь разочарование: администрация официально заявляет о своем отрицательном отношении к московским путанам и обещает, что их в клубе не будет». Вопреки заверениям, Night Flight стал местом слета путан. Так вышло. Слово «путана» стало тогда неожиданно популярным, Газманов даже песню придумал с таким названием. Ее распевали повсюду.
До свиданья, наш ласковый Миша
К Новому году СССР все-таки развалился. Все случилось стремительно. В начале декабря Украина на референдуме выбрала полную независимость и тут же объявила, что Договор об образовании СССР 1922 года утратил силу. Сразу же после этого в Беловежской пуще встретились «три славянских президента» — главы Украины, Белоруссии и России — и объявили о распаде единого союзного государства. Через несколько дней их поддержали еще восемь республик СССР, все, кроме прибалтийских республик и Грузии, которые и без того считали свое включение в СССР изначально незаконным. Одиннадцать стран дружно подписали Декларацию о создании СНГ. 25 декабря 1991 года по телевизору выступил первый и последний президент СССР Михаил Горбачев и отрекся от власти, сложив с себя обязанности президента[59]. И вот так, вдруг, 69-летняя жизнь могучего, гремевшего огнем и сверкавшего блеском Советского Союза, страны, в которой мы родились, остановилась. Как у Чехова в «Вишневом саде»: «Вот и все, кончилась жизнь в этом доме…». Крах социализма, крупнейшее событие двадцатого века!
Прощай, СССР!
В полночь того дня над Кремлем взвился трехцветный флаг России! Мы, студенты, не придали этому значения. Ну, подумаешь, распался Советский Союз, и что? Да и как это распался? Невозможно! Ладно латыши, литовцы и эстонцы, Бог с ними. Но как это, Украина — другое государство? А Белоруссия? Смех! Чепуха! Нелепица! «С народом русским идут грузины, и украинцы, и осетины, идут эстонцы, азербайджанцы и белорусы — большая семья». Семья! К тому же в те дни у нас были дела и поважнее, чем следить за политическим курсом. Во-первых, надвигалась очередная сессия, а во-вторых, старший (старше ровно на десять лет) брат Остапишина Алексей предложил нам работу! Саша много рассказывал мне об Алексее: он тоже жил в Югославии, занимался велосипедным спортом, учился в Институте нефти и газа, у него была девушка Галина, он с ней сходился, расходился, а потом женился. В конце концов Алексей стал кооператором. Среди прочего он создал малое предприятие «Торто» (незамысловатое сокращение от «Торговля товарами»). В Ожерельевском плодолесопитомнике «Торто» закупило настоящие, занесенные в Красную книгу природы голубые ели. Теперь их надо было быстро продать: до Нового года оставалось пять дней.
Нас с Севой не надо было упрашивать. Уже на следующий день мы, укутанные с головы до пят в теплые, какие нашли, вещи, руководили елочным базаром прямо у выхода из метро «Крылатское»: «Налетай, не проходи мимо! Уникальные голубые ели! Кто не успел, тот опоздал!». Точка для продажи была великолепная. Дела шли в гору, причем крутую. Каждый час мы били ценовые рекорды! Двадцать, тридцать, сорок, сто рублей за елку! Сто — хамоватым подвыпившим кооператорам, пять — старушкам с доставкой до квартиры. Мороз подбирался, но мы его иголкам не давались. Был соблазн выпить водки, но старшие товарищи объяснили: «Водка — коварна, согревает для того, чтобы заморозить». Ночевали мы неподалеку, в гостинице крылатского велотрека, до которого добирались с работы пешком. План для «Торто» мы выполнили и сами заработали много денег. Но ведь «жизнь устроена так мудро…». Нашим сверхзаработкам через несколько дней суждено было обесцениться! Потому что Ельцин все-таки решил отпустить цены — надвигалась знаменитая либерализация цен, с которой началось наше головокружительное и моментальное, очертя голову, низвержение из социализма в дикий капитализм.
И юный Гайдар впереди
Все завертелось 2 января 1992 года, когда 35-летний Егор Гайдар, заместитель главы российского правительства, отменил плановое управление экономикой, а также и плановое ценообразование. «Надо лишь крепко зажмуриться и прыгнуть в неизвестность», — предложил Гайдар еще два года назад. Теперь час пробил. Цены, которые на протяжении всего советского периода определялись государством и не менялись десятилетиями, вдруг отпустили на свободу: чтобы их определил рынок[60].
Ельцин пообещал: «Если цены станут неуправляемы, превысят более чем в три-четыре раза, я сам лягу на рельсы». Цены подскочили моментально, через десять дней они стали фантастическими, но Ельцин на рельсы не лег. По телевизору замелькал Гайдар, который принялся растолковывать, почему так происходит. Каждый день он что-то объяснял и обещал, но объяснения с каждым днем становились все более научными и туманными, а обещания — размытыми. Он говорил много, но не был ясен ни план, ни смысл того, что он хотел делать. Он сыпал малопонятными для большинства словами: «Стабилизация, интервенция, инфляция…».
Народ выступал против повышения цен: у Моссовета собирали подписи, у ВДНХ прошла манифестация
В день, когда Гайдар начал шоковую терапию, у станции метро «Баррикадная» разливали портвейн из цистерны.
Красивое слово «инфляция» мы, советские люди, безусловно, слышали в телевизионных репортажах советских спецкоров про капиталистическую действительность. Но даже в страшных снах не могли представить, что эта инфляция покажет нам свои клыки, воцарившись в России на долгие годы. «Full-blooded» — так назвали реформы Гайдара иностранцы. «Самый жестокий по отношению к людям путь реформ», — вторили наши экономисты. А нам, простым смертным, ничего не оставалось делать, как зажмуриться, по совету Гайдара, и жить дальше. Шокотерапия, она же либерализация цен, самая масштабная и болезненная реформа, началась. За несколько месяцев люди потеряли все, что зарабатывали трудом целую жизнь.
В конце января Ельцин подписал еще один революционный указ: дал свободу розничной торговле. Всем разрешили продавать все, что вздумается, всюду, где захочется, а ведь раньше за это сажали в тюрьму по статье «спекуляция». Москва в миг превратилась в барахолку. На улицы, отчаянно борясь с нуждой, высыпали бабульки с тележками и авоськами. В изношенных пальто и вязаных платках они принялись торговать с рук чем Бог послал, разрушая монополию советской торговли. Их было особенно много у станций метро. Там они создавали «живые коридоры», которые мы между собой называли «парадами-алле». Идешь, а бабушки справа и слева, плотными рядами, плечом к плечу, и каждая трясет каким-нибудь продуктом — хлебом, лимонной водкой, пивом, майонезом, вермишелью, банками консервов, тюбиками с зубной пастой… Самым грандиозным был «парад-алле» у подземного перехода на «Пушкинской»: «Пирожки с капустой!», «Милок, купи свежий батончик белого!», «Водочка!», «Сигареты «Космос»!». А у «Елисеевского» они торговали тем, что купили в нем утром, заняв очередь за три часа до открытия.
Вокруг центрального «Детского мира», прямо перед зданиями КГБ, возникла гигантская толкучка. Здесь торговали не только старики, но и молодые. Им тоже надо было кормиться: зарплата стала смехотворной, к тому же ее перестали платить. Продавалось все. Причем чешские ботинки, стоившие в «Детском мире» 350 рублей, на улице возле магазина стоили уже 700. Толкучки в Столешниковом, перед Малым театром и у ГУМа быстро срослись. Дальше от центра, на пересечении Петровки и бульваров был мебельный магазин, мебель из него выносили на улицу — красные диваны стояли прямо на тротуаре, даже когда шел дождь.
Любимый Тишинский рынок, еще старый, с бордовыми деревянными павильончиками, превратился в грандиозный блошиный рынок: товар раскладывали прямо на асфальте, а народу было так много, что протиснуться порой было невозможно. Здесь с рук шло вообще все — от звезды Героя Советского Союза и солдатских портянок времен Первой мировой войны до дырявых перчаток, очков с одной дужкой, порванных зонтов и пустых импортных бутылок из-под алкоголя, которые покупали как аксессуар квартирного интерьера, ставя на полки стенок в гостиных (мол, у нас все хорошо — пьем только виски). Без всяких декораций на Тишинке можно было снимать фильмы про гражданскую войну. Как-то, проходя по Тишинке, я, к удивлению, наткнулся на бабушку Олю и маму. Бабуля оживленно трясла маминой юбкой, а на земле перед ней стояли стеклянный чайник, перечница, солонка и оранжевая настольная лампа, которая пылилась на антресолях со времен, когда я ходил во второй класс. Незадолго до этого Оля испытала судьбу — сыграла у «Белорусской» в наперстки: «Все играют, и я попробую». «Подходите ближе, смотрите на этот маленький шарик. За это с вас не требуют денег. Вот он здесь, а вот его нету, — разудало выкрикивал наперсточник в изношенных адидасовских трениках с вытянутыми коленками, ловко накрывая маленький шарик одним из трех наперстков. — Теперь отгадайте, под каким наперстком шарик?». Оля тогда проиграла все, что у нее было. Теперь, на Тишинке, она хотела вернуть проигранное.
Торговцы не только заняли улицы, они проникли в метро. Вслед за ними устремились музыканты. Они пели в каждом подземном переходе, вокруг толпились люди, слушали. Концерты мешали проходу. Многие передвигались с тележками — в них перевозили товар для уличной торговли. Еще в метро попадались собаки, путешествующие сами по себе. Они заходили в вагон, ехали несколько остановок и уверенно выходили, как будто точно знали, куда им надо попасть. Не хватало, чтобы они еще газету читали!
Уличная торговля
Тишинка: может, в толпе — моя бабушка Оля
Персонажи с Тишинки
Продаётся всё!
Тишинка: как во времена гражданской войны…
Знаменитая советская игрушка «Буратино» на Тишинке
Новая экономика: торговцы у станции метро «Динамо»
Вместе с торговлей на улицу хлынула преступность. «Как социализм кончился, так и повылезла из подворотни всякая шушера», — запомнил я слова, с горечью произнесенные стариком в троллейбусе на Садовом кольце. Министр внутренних дел Ерин предупредил, что «Москва стала полигоном для мафии, и ситуация очень серьезная». Бандиты шныряли между уличными торговцами, собирая с них дань. А в кафе «Московское» на Тверской теперь можно было купить пистолет в течение суток, осторожно разместив заказ у официанта.
Третьи зимние каникулы
Сессию я сдавал на бегу. Как обычно, не без происшествий. На «Экономике промышленности» вытянул билет, в котором спрашивалась какая-то полная ерунда. Увидев мою озабоченность, преподаватель тут же предложил мне вытянуть другой билет: «Только отвечать сразу. Ответите — получите «пять». Нет — двойку». Я получил «пять» и со спокойной душой отчалил вместе с большой компанией проводить каникулы в подмосковный пансионат «Сенеж», еще недавно принадлежавший Совету министров СССР.
Той зимой Лёнич крутил роман с красивой Светланой Жанов-ной, а Остапишин продолжал пополнять свой список разбитых девичьих сердец именами, которые, увы, забылись. Тогда он напоминал мне Костика из фильма «Покровские ворота», без сожаления стиравшего из памяти бессчетных поклонниц со словами: «Вычеркиваю!». А я учился, проводя много времени в Библиотеке иностранной литературы, и играл в хоккей и в мини-футбол с командой МГУ, которую нещадно три раза в неделю с четырех до шести вечера гонял суровый тренер Реховский по прозвищу «фригидный», потому что никогда не улыбался. С тренировок я выходил затемно. Было морозно, мягкий свет фонарей освещал обрамлявшие аллею сказочные, припорошенные снегом высоченные голубые ели. Справа в вышине колосился золотой шпиль Главного здания МГУ, а впереди всеми окнами светился Первый гуманитарный корпус. Я шел с непокрытой головой, потому что мороз русскому человеку не страшен. Вокруг было тихо. Хорошие минуты, чтобы помечтать о будущем счастье, которое наверняка уже где-то караулит меня…
Прозрачные зимние вечера разукрасила Олимпиада-92, проходившая во французском Альбервилле через два месяца после распада СССР. Запомнилась она тем, что честь нашей страны защищала объединенная команда. Как написала газета «Монд», это была команда «без флага, гимна и денег». На церемониях награждения, когда на пьедестал поднимались спортсмены из бывшего СССР, звучал не наш, а Олимпийский гимн, и поднимался не наш, а Олимпийский флаг. Это было чудно. А наши хоккеисты все-таки взяли золото! Финальный матч с канадцами был напряженным. Перед финальной сиреной страсти накалились до предела: 15 мин. 54 сек. — гол Болдина, 17 мин. 38 сек. — шайба Линдберга, 18 мин. 51 сек. — Быков останавливает табло! 3:1! Ту игру мы с Севкой пропустили — были в студтеатре МГУ на Герцена, на последнем представлении «Синих ночей ЧК». Когда Быков забил победную шайбу, конферансье Валерий Галавский выбежал на сцену, прервав ход спектакля, и закричал: «Наши вы-игра-ли!». Все дружно вскочили с мест, прыгали и скандировали, как на стадионе: «Советский Союз! Советский Союз!».
А на занятиях нас стали радовать преподаватели, мы уже научились выделять из них ярких. Одним из таких был Рустем Махмутович Нуреев, время от времени читавший политэкономию. Прославился он не только доскональным знанием «Капитала», но и своими глубокими изысканиями по поводу азиатского способа производства. Тема эта была сложной и недоисследованной советской наукой, хотя вряд ли имела хоть малейшее практическое значение. Рустем Махмутович не был женат. И преподавательницы на факультете об этом активно судачили, чему я, к удивлению, несколько раз становился невольным свидетелем. Но однажды Нуреев все-таки женился. Это вызвало волну пересудов. Однажды я случайно услышал, как одна преподавательница говорила другой: «Интересно, чем же это Нуреев будет заниматься со своей молодой женой в медовый месяц?». «Как чем? — раздался ехидный ответ. — Конечно, азиатским способом производства».
Севка учился в группе Нуреева, а это была группа, у которой политэкономические формулы отскакивали от зубов очень звонко. Как-то я попросил объяснить мне, что же такое этот пресловутый азиатский способ производства.
— Это вопрос сложный, — буркнул Сева.
— И все-таки?
— Если по-простому, это когда производство богатства важнее человеческой жизни. На Западе человеческую жизнь ценят, а на Востоке — нет, и это в определенном смысле естественно, ведь народу там много. Ну, подумаешь, миллион человек угробят на строительстве какого-нибудь канала или какой-нибудь пирамиды. Другой миллион народится. Вот так. При этом рабства нет, зато есть деспотия.
— Так выходит, что у нас азиатский способ?— А ты как думаешь?
Еще был Писемский. Не тот, который писал письма Вяземскому, а наш преподаватель истории экономической мысли. Удивительный молодой человек. В годы общения с нами он достиг высшей человеческой премудрости: знать мы можем только то, что ничего не знаем. Всегда так: чем глубже, обширнее знания человека, чем он мудрее и образованнее, тем яснее он сознает, сколь малы и условны все его познания. Ему было около тридцати, и он круглый год ходил в темно-синем школьном костюме советского образца, под который надевал рубашку цвета хаки. Обувь, в которой мы его наблюдали, тоже не менялась. Это были знаменитые советские войлочные ботильоны на молнии, называвшиеся «Прощай, молодость». Как-то Писемскому на доске написали крупно мелом: «Писемский, пошел на…». Писемский пришел, увидел, спокойненько взял тряпочку и стер свою фамилию. «Остаток фразы оставляю для следующего преподавателя», — спокойно сказал он и флегматично принялся за лекцию.
Философию нам преподавал Владимир Петрович Калацкий, участник знаменитого парада Красной Армии 7 ноября 1941 года на Красной площади, прошедший всю войну. Седой, невысокий, коренастый, аккуратный. Его особенно запомнил Сева. Потому что Калацкий был личностью. Примечательны были его заочные философские споры с Нуреевым. Рустем Махмутович лукаво утверждал, что все в мире относительно, что «речка и движется, и не движется». Совсем другим был Калацкий: «Речка или движется, или не движется, одно из двух!». Спор извечный, в нем мы были на стороне Калацкого.
Девочка Лена и морская пена
В конце весны нас с Севой занесло на стадион «Динамо»: захотели посмотреть игру «Динамо» и ЦСКА в первом чемпионате России по футболу[61]. Добирались на метро. Теперь за вход в метро надо было платить жетонами, которые стоили пятьдесят копеек. Пятачки, символ метрополитена, из-за инфляции ушли в прошлое. А жаль. Я их любил. Они были такие большие, круглые, и пятерка на них тоже была круглая. И герб Советского Союза на них был различим лучше, чем на других монетах. А еще они всегда дружно и звонко высыпались из разменных автоматов, развешанных в вестибюлях метро…
Дерби выиграли динамовцы — 2:1. Но не игру я запомнил. Другое. Мы стояли в динамовском фанатском секторе, когда на передних рядах в полный рост нарисовался заводила, в котором я, к удивлению, узнал Сашку-рыжего, сына моего тренера Петра Михайловича «Понял сё». Сашка заметил меня и улыбнулся. Рядом с ним был Белый: блондин, волосы — до плеч… Он врезался в память еще в школьные годы: тогда случайно мне посчастливилось пройти с ним бок о бок после футбольного матча в толпе фанатов от «Динамо» до «Белорусской» сквозь эшелоны конной милиции и другие преграды. Лил проливной октябрьский холодный дождь, а Белый шел по асфальту босиком, и это меня изумило! «Во Белый дает!» — слышалось со всех сторон… Теперь Белый обнимал Сашку, а тот, повернувшись к нам, фанатам, лицом, к полю спиной, зарядил кричалку:
— Атомная бомба? — он воздел руки к небу.
— Нет! — хором выдохнула трибуна.
— Водородная бомба?
— Нет! — выкрикнула трибуна.
— Бомба, которой играют дети?
— Катя Лычева?
— Нет, — я тоже голосил вовсю.
— Прикладная математика?
— Нет! — все прыгали.
— Оловянные солдатики?
— Ор-де-на Ле-ни-на Мос-ков-ское Динамо!
— Даааааа! Ди-на-мо Москва!
Это было великолепно и напрочь вышибло из головы мысли о надвигающейся сессии и очередном курсовике, который, теперь уже на тему «Выход американских корпораций на публичные рынки», я писал у своей новой научной руководительницы. Но мне не терпелось снова показать его профессору Аникину, тем более что на сей раз я разукрасил свой труд эпиграфами, один из которых, как помню, был из Маяковского: «Теперь довольно смеющихся глав нам, в уме Америку ясно рисуете! Мы переходим к событиям главным. К невероятной, гигантской сути». Профессор великодушно согласился взглянуть на мою работу и вскоре вернул мне ее со словами: «Что же, Руденко, если так будете продолжать, из вас выйдет неплохой инвестиционный банкир». Похвала Андрея Владимировича окрылила меня и хоть и туманно, но, как мне показалось, обозначила будущие горизонты. Я шел и мечтал: «Стану инвестиционным банкиром, заработаю кучу денег, у меня будет дорогая машина и большой дом!». Мечты мечтами, а летом потребовалось найти работу: денег не было вообще, а цены росли и росли. Жизнь каждый день доказывала, что времена, интересные для историков, тяжелы для простых людей. Однажды нам с Севкой не хватило даже на половину буханки «Бородинского». Еле наскребли на четвертинку. Уплетали мы ее с удовольствием, на улице Шаболовка, попутно обсуждая только что назначенного нового мэра Москвы Юрия Лужкова[62]. Я вспомнил, как отзывался о Лужкове предыдущий мэр Гавриил Попов: «Классический бюрократ в хорошем смысле слова. Политикой совершенно не интересуется. Твердый характер, из старообрядцев, совершенно не пьет». А сам Лужков заявлял о себе так: «Я член КПСС на хозяйственной платформе». Мы и не ведали тогда, что «член» растворится во времени, а вот «платформа» окажется старт-площадкой. Мощно оттолкнувшись от нее крепкими ногами, приземистый Юрий Михайлович станет настоящим капиталистом, богачом, контролирующим заводы, газеты, пароходы, хотя официально будет владеть лишь несколькими земельными участками для ведения пчеловодческого хозяйства, а также автомобилем ГАЗ и автоприцепом для перевозки ульев. Упоминать о его богатстве будет опасно, но знать о нем будут все. Впрочем, до этого еще было далеко.
На одном «Бородинском» долго не проживешь, деньги были очень нужны. Случай заработать, к счастью, представился. Коммерческий магазин на улице летчика Бабушкина с опаской, но все-таки приоткрыл передо мной свои двери. Он располагался в крохотном двухкомнатном помещении на первом этаже кирпичной жилой башни и распродавал импортную одежду. Хозяева, однако, решили диверсифицироваться и нырнуть в сантехнику и «отделку». Они держали нос по ветру — спрос нарастал: в Москве поднималась волна квартирных ремонтов, которая через некоторое время и вовсе захлестнула город.
Лужков отталкивается от платформы! На заднем плане первый мэр Москвы Гавриил Попов.
Моей задачей было продавать болгарскую, а значит, импортную керамическую настенную плитку «Морская пена» для ванн и туалетов с борта грузовика у магазина «Сантехника» на пересечении Ярославского шоссе и МКАД. «Вот ведь совпадение, — подумалось тогда. — Только что, болея за «Динамо», кричал: «Девочка Лена, морская пена», а теперь я эту «морскую пену» продаю. Знак судьбы, что ли?». «Уходила» плитка замечательно. За ней приезжали даже знаменитости — телезвезды Татьяна Миткова и Евгений Киселев[63]. Миткова приезжала на белом «Мерседесе», причем, по-моему, за рулем. Это была невидаль — женщина, управляющая таким автомобилем!
Появился у меня и второй источник дохода: освоил регистрацию фирм. Вечерами я писал уставы новых товариществ с ограниченной ответственностью, потом между делом закидывал их в регистрационную палату, а дальше работа делалась сама. Клиенты, появлявшиеся из ниоткуда, были довольны, а один из них, вьетнамец Фиеу Нгуен Динь по кличке Федя, спросил, не могу ли я оформлять вид на жительство для вьетнамцев, естественно с выгодой для себя. Вьетнамцев было много, они почему-то не хотели уезжать к себе домой, предпочитая съезжаться в Москву со всех концов бывшего СССР. Маленькие, слабенькие, голодные, они с головой бросались в наш штормовой рынок, пополняя ряды спекулянтов, теневых воротил и контрабандистов. Товара у них было много, особенно алюминиевых кастрюль.
«Что ж, заработаю», — решил я, и мы с Федором хлопнули по рукам, предвкушая солидные барыши. Оставалось только договориться с московским ОВИРом, чтобы азиатов регистрировали без помех. Это я сделал, протянув сотрудницам государственного учреждения руку взаимопонимания. В ней я держал пять шоколадок «Сникерс». Малыш-батончик «Сникерс», покрытый «толстым-толстым слоем шоколада» и только начинавший свое триумфальное шествие по стране, обладал в то лето магической силой. Он был и валютой, и символом Запада, а заодно и символом новой жизни. Его рекламировали так много, что на просьбу перечислить планеты школьники стали отвечать: «Марс, Сникерс…»[64]. Цены начали пересчитывать в «Сникерсы»: «Это стоит три «Сникерса», а это — два»… На Дальнем Востоке людей, покупавших два «Сникерса» в неделю, сразу же без сомнений относили к среднему классу. Короче говоря, пять «Сникерсов» в ОВИРе сделали дело. Вьетнамцы потекли через наши с Федором руки стабильным ручейком.
Жан-Мари Папен
Теплым августовским вечером, когда роскошный ливень опустошил город, я брел с Моховой улицы домой, к бывшим грузинским садам, по улице Герцена. Мой видавший виды зонтик, огрызаясь погоде колючими сломанными спицами, отчаянно защищал меня от выбивающегося из сил дождя. Я миновал знаменитый горельеф на доме 7, с изображением самоудовлетворяющегося советского электрика, которого, по преданию родителей, любили показывать своим друзьям студенты-журналисты. Тут же, на углу Газетного, я вообразил себе доктора Живаго, ведь это прямо здесь он сел в переполненный трамвай, шедший от университета к Боткинской, не ведая о том, что не доедет до своей остановки, что его сердце перестанет работать в самом начале Пресни, наверное, там, где сейчас ограда Зоопарка.
Переходя волшебный, хрустальный от капель, без единой души Тверской бульвар с фиолетовыми грунтовыми аллеями, я оторопел от неожиданности, услышав сзади: «Покупайте журналы «Пари Матч» на французском языке! Здесь и только здесь вы найдете интервью с великим Жаном-Мари Папеном!». Я оглянулся и увидел слившегося со стволом тополя, промокшего до последней нитки уличного торговца журналами, лицо которого было спрятано под широким капюшоном черной куртки. «С ума сойти! — подумал я. — На бульваре же кроме меня — никого! Кому он продает? В такую погоду! К тому же Папена, футболиста, обладателя «Золотого мяча» 1991 года, зовут не Жан-Мари, а Жан-Пьер…». Недоумение, однако, стремительно сменилось радостью, когда в незадачливом газетчике я распознал Кирилла Федорова, студента факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, прославленного футболиста университета и бесшабашного весельчака.
— Вот это да! Что ты тут в такой дождь делаешь? — обрадовался Кирилл.
— А ты?
— Журналы продаю! — цветные иностранные журналы на глянцевой бумаге тогда были редкостью. — Уже три продал.
— Кому?
— Да какому-то иностранцу. Он тут без зонта бежал, ему надо было прикрыться.
— Откуда они у тебя? Журналы?
— Бордовских дала. Знаешь ее? Баскетболистка наша из МГУ. Устроилась на радио «Максимум» тут, на Пушкинской. Пойдем к ней?
— Зачем?
— У нее журналов знаешь сколько там валяется? По соседству с «Максимум» редакция газеты «Московские новости».
Они эти журналы и выбросили. А это ж целое состояние, если продать!
Но, рассудив, мы решили, что благоразумнее будет дойти до ближайшего кафе и обсушиться. Когда настало время прощаться, Кирилл щедро протянул мне самые красивые журналы, с Папеном на обложке:
— На, возьми!
— Да ладно, ты же их продашь, денег заработаешь…
— Возьми, возьми. Тут же про Папена. Жана-Мари! Папен, он же великий. Он бьет и с лета, и распластываясь в воздухе, и сбоку, и через себя… Укладывает снаряды точно в девятку!— Спасибо, — я взял журналы. Как отказаться от такого предложения? Не страшно, что журналы на французском… Про Папена можно и со словарем почитать. К тому же чего стоили одни фотографии!
Дождь перестал. Я продолжил путь домой по Малой Бронной. У кафе «Аист», одноэтажной невзрачной стекляшки с металлической гофрированной крышей, следовало ускориться. Место было нехорошим. У «Аиста» все время стояли зловещие черные иномарки и сновали тревожные типы. Еще в 1988 году, на заре кооперативного движения, здесь случилась знаменитая разборка с участием чеченских и грузинских бандитов или что-то в этом роде. Выяснялся вопрос «кто настоящий хозяин Москвы». Невзирая на численное меньшинство, чеченцы схватились за оружие и напали на грузинских воров в законе. Потом подъехала чеченская подмога из 10–12 человек из ресторана «Узбекистан». Грузины отступали, неся потери. А на улицу в это время вылетали шальные пули, которые задевали прохожих. Чеченцы только-только начали зарабатывать свою невеселую репутацию. Над «Аистом» и потом висели темные тучи. В марте 93-го сотрудники милиции предотвратили там вооруженное столкновение двух группировок, а в сентябре того же года там все-таки застрелили троих. В общем, я пошел быстрее, думая, что детям моим, еще не родившимся, нужно будет обязательно запретить ходить мимо этого опасного места.
Коммерсантъ» и Курт Вайсхаупт
Конечно, я понимал, что торговля плиткой «Морская пена» — опыт неплохой, но все же занятие не для меня. А тут еще на глаза попалось объявление, что еженедельная газета «Коммерсантъ-Weekly», «орган» Союза объединенных кооперативов СССР, а заодно первая независимая газета, собирается стать ежедневной, то есть «Коммерсантом-Daily», в связи с чем приглашает пишущих студентов к сотрудничеству[65].
«Коммерсантъ» поначалу делали «на коленке». Мне он очень понравился заголовками. В советское время заголовки газет были скучными и формальными: «Речь тов. Лигачева на пленуме ЦК КПСС», или «По пути интенсификации производства», или «Устранить ядерную угрозу», или «С Октябрем сверяя шаг», или, наконец, просто «В Политбюро ЦК КПСС». «Коммерсантъ» совершил революцию — его яркие самодостаточные заголовки стали вехой в российской журналистике! В мою память навсегда впечатались «Один день в Токио: Примаков удовлетворен, а Кайфу нет»[66], «Референдум прошел. И плебисцит с ним!», «Педерасты СССР и США сводят концы с концами»[67], «Новый журнал «Или» или будет издаваться, или нет», «Последняя модель Mercedes на советском рынке — это полный benz!». Вроде бы был еще «Кошмар! На улице Язов!»[68], предварявший статью об августовском путче 1991 года. Впрочем, про Язова я не уверен. Короче говоря, мне нравился «Коммерсантъ». Я подумал: «Почему бы не сменить «Морскую пену» на перо?» — и прямиком направился с улицы летчика Бабушкина на улицу Герцена, в ЦДЛ (Центральный дом литераторов), где проводился отбор будущих сотрудников газеты.
На входе в ЦДЛ висело объявление: «За безобразное поведение в пьяном виде и оскорбление достоинства окружающих член Союза писателей А. А. Яковлев лишается права посещения ресторана до 1 сентября». На ходу посочувствовав литератору, я устремился внутрь и уже через минуту в полузаполненном, полутемном, знакомом зале ЦДЛа, куда мама в детстве часто доставала мне пригласительные на воскресные утренники, слушал введение в журналистику от Ксении Пономаревой, главного редактора будущей ежедневной газеты. Ксения рассказывала интересно, сыпала новыми профессионализмами, из которых особенно запомнилось слово newsmaker. «Нам нужны ньюсмейкеры, их сейчас мало, но мы будем их создавать», — делилась с нами Ксения. Потом меня проинтервьюировали. Хотелось попасть в отдел «Финансы». Но туда уже взяли какого-то многообещающего молодого человека. Мне предложили поработать в другом отделе, я не захотел и вернулся к учебе и Феде Нгуен Ван Диню. Наш с ним «вьетнамский» проект развивался, благодаря чему Федор переселился из Подмосковья на «Кантемировскую», в однокомнатную квартиру со всеми удобствами, а я — тоже горя не ведал, хотя заработок сказочно растворялся в одночасье: «Сникерсы», «Марсы», импортное пиво «Белый медведь» в черных банках, которое зачастую оказывалось просроченным.
Так «Коммерсантъ» остался без меня, а я — без «Коммерсанта», но 7 сентября 1992 года я был первым в очереди за «нулевым» номером «Коммерсантъ-Daily» — было интересно. В номере сразу же объяснялось, что ежедневная газета печатается для «new Russians». A «new Russians» — это формирующаяся элита российского общества с новым менталитетом и стилем жизни; это — «опережающая группа», первая достигшая «параметров и норм поведения, в направлении которых развивается общество в целом». «Коммерсантъ» был излишне оптимистичен. «New Russians» быстро «обрусели», превратившись в «новых русских», которыми стали называть отнюдь не элиту, а наглых дельцов-нуворишей и размножающихся с бешеной скоростью бандитов.
Пока я продавал «Морскую пену», Остапишин улучшал свой английский в Америке. По просьбе Сашиного папы, Станислава Владимировича, за Александра взялся не кто-нибудь, а сам президент «Ротари клуба», 80-летний старик Курт Вайсхаупт, богатейший оптовый торговец почтовыми марками и известный филантроп. Да что он! Сам независимый кандидат в президенты США на выборах 1992 года Росс Перо, друг Курта, принял участие в судьбе моего друга. Это был тот самый знаменитый Росс Перо, решивший исход президентских выборов в Америке. Именно он отобрал голоса у Джорджа Буша-старшего и принес победу Биллу Клинтону. Как он помог Саше, мне выяснить не удалось, но в рассказах моего друга он мелькал часто.
Мистер Вайсхаупт лично подкатил в аэропорт JFK на «Мерседесе»-родстере[69] и, крепко обняв Сашу своими влиятельными руками, перенес его в шикарный ресторан на Манхэттене, куда случайным людям вход был заказан. Притомленные устрицы, хрупкие бургундские эскарго[70], упругие морские гребешки, пышные взбитые кнели из крокодилового мяса и даже жареный дикий голубь… Надо ли что-либо добавлять?
После ужина Сашу ждал просторный номер пятизвездочного «Шератона», где мой друг, насладившись видом из окна, быстро и крепко заснул, переполненный яркими впечатлениями. Через несколько дней Александр, параболой обогнув Северную Америку, оказался в городе Фресно, в центре солнечной, богатой вином, золотом и национальными парками Калифорнии. Там — в Международном языковом центре — его ждал курс American English[71]. Но, как известно, выразительнее любого иностранного языка язык любви. Экзотическая, элегантная, стройная, красивая, двадцатидвухлетняя, но уже замужняя, на два года старше Саши, тайка Пуи училась в том же центре. Ее богатые, знатные родители жили в дивном тайском дворце, по роскошному саду которого разгуливали два белых слона. А муж был сыном Верховного главнокомандующего войск Таиланда… Саша вернулся в Москву, необычайно улучшив свой английский. Правда, говорил он, как мне казалось, с легким тайским акцентом.
В Америке Остапишин изменился. Внешне! Вблизи он был, конечно, тот же привычный Саша. А вот отойдешь метров на десять — уже не Саша, а Том Круз какой-то: светлые джинсы Gap, голубая, в белую широкую клетку, рубашка, кроссовки Nike, черные очки Rayban и — основной элемент наряда — коричневая пятисотдолларовая, с разноцветными шевронами, куртка американского военного летчика из фильма Top Gun. Прибавить черную «пятерку» «Жигули», которую Саше отдали родители, и вот — готовый образ: симпатичный, открытый, доброжелательный, модный, обеспеченный. Он постоянно напевал свою любимую песню про стюардессу Жанну, которая была «обожаема и желанна», а девушки висли на нем гроздьями. Звонкие, свежие, свободные, хрумкие, как малосольные огурчики, готовые утонуть в море любви. Их было много, очень много. Вскользь упомяну лишь стройную легкоатлетку Машку, блондинку из института физкультуры, специалистку по тройному прыжку, своими физическими данными молниеносно потеснившую Пуи в личном зачете, превратив ее хоть и в светлое, но далекое воспоминание.
При(х)ватизация
Осенью запустили приватизацию. Смысл ее Ельцин разъяснил еще летом: «Нам нужны миллионы собственников, а не горстка миллионеров. В этой новой экономике у каждого будут равные возможности, остальное зависит от нас… Ваучер — это для каждого из нас билет в мир свободной экономики».
Апологетами приватизации были Гайдар и его помощник Чубайс, а сама она свелась к следующему. Каждому россиянину с 1 октября 1992 года в отделениях Сбербанка начали раздавать государственную собственность. Раздавали ее в виде розово-зеле-ной бумажки — ваучера — номиналом 10 тысяч рублей, по одному ваучеру на гражданина. Ваучеры были действительны чуть больше года[72]. С ваучерами в руках мы превращались в инвесторов и, предполагалось, должны были обменять их на акции самых настоящих предприятий. Может, конечно, затея и была стоящей, но, как писал Шекспир, «природе не хватает вещества, чтобы с мечтой соперничать». Начать с того, что нам ничего про приватизацию не разъяснили! Поэтому москвичи, привыкшие вставать в любую очередь, особенно если речь шла о чем-то бесплатном, за ваучерами не побежали. В первые дни в сберкассах было вообще пусто.
«Я понятия не имею, зачем мне этот клочок бумаги», — поделился со мной сосед в лифте. Петр Михалыч «Понял сё», с которым я столкнулся на улице, был более жизнерадостен: «Лучше, конечно, ваучер, чем ничего. Если бы только знать, что с ним делать». Даже в Московском фонде имущества (профильном ведомстве) не имели понятия, как приватизировать предприятия за ваучеры! И хоть Чубайс и повторял по нескольку раз в день в информационных программах: «Я доволен, я доволен, я доволен», никто не мог понять, чем же именно. В конце концов в парламенте кто-то бросил ваучеры ему в лицо, и ведь было за что. За год до начала приватизации Чубайс пообещал, что на ваучер можно будет купить два автомобиля «Волга». Тогда «Волга» стоила пять тысяч рублей, однако теперь ее цена из-за инфляции превысила миллион. «Хотим знать, где можно получить свою «Волгу»?» — интересовались люди. Дальше — хуже. Пока шла раздача ваучеров, они еще больше обесценились. К началу февраля они стоили на улице отнюдь не десять тысяч рублей, а всего лишь чуть более четырех. На эти деньги можно было купить семь американских долларов или четыре раза сходить в «МакДональдс»: один «Биг Мак», картошка с кетчупом, «Кока-кола» и яблочный пирожок стоили тогда около одной тысячи рублей. Что можно приватизировать за четыре «Биг Мака»?
Однажды днем, когда бабушка Оля была дома одна, в дверь позвонили. На пороге стоял молодой, симпатичный паренек.
— Ольга Дмитриевна, добрый день. Я по вопросу приватизации. Вы свои ваучеры вложили уже?
— Нет, — ответила Оля. — Не вложили. Все никак не поймем, куда их вкладывать.
— А я к вам именно для этого и пришел. Объяснить.
— Проходите, проходите, чай будете?
Так выглядел ваучер
Скупка ваучеров велась повсюду, в том числе и в метро
За чаем юноша объяснил Оле, что у нее есть всего три способа распорядиться ваучером — продать его, но этот вариант плохой, потому что вырученные деньги быстро обесценятся из-за инфляции; обменять ваучер на акции какого-либо предприятия напрямую, но для этого надо идти и физически участвовать в каких-то чековых аукционах, а самому это делать трудно[73]; наконец, есть третий, самый лучший способ — вложить ваучер в фонд.
— В наш фонд! — звонко предложил он. — Мы называемся чековый инвестиционный фонд «Республика». Действуем на основании лицензии Комитета по управлению имуществом номер 27.
— «Республика»? — откликнулась Оля.
— Да. Вы вкладываете в нас ваучеры и таким образом становитесь акционером нашего фонда. На ваши ваучеры мы купим лучшие предприятия, а прибыль, которую они заработают, будем выплачивать вам регулярно в виде дивидендов.
— Дивидендов?
— Да. Их мы обязуемся выплачивать вам ежеквартально.
— А фонд ваш надежный? — замялась Оля.
— Вот смотрите, — парень достал бумажку, на которой крупными буквами было написано «Информация для акционеров». — Акционер — это вы, Ольга Дмитриевна. Читайте.
В бумажке было напечатано: «Государственный комитет Российской Федерации по управлению имуществом считает чековые инвестиционные фонды наиболее надежным способом размещения приватизационных чеков».
— А вы ведь и есть чековый инвестиционный фонд, так? — проверила Оля.
— Да. У нас государственная лицензия номер 27, — повторил он. — Так вы согласны?— Да, сынок.
Так Оля сделала нас акционерами фонда «Республика». Паренек исчез из нашей жизни, как только вприпрыжку выскочил из дома. Следы его стерлись, словно за ним с мокрой половой тряпкой шла бессменная и неутомимая дворничиха из нашего двора на Грузинке тетя Паня. Фонд «Республика» тоже рассеялся как дым. Наша игра в приватизацию закончилась, не начавшись. Ваучеры мы потеряли навсегда. «Эх, — сокрушалась потом Оля. — Лучше бы я эти ваучеры у метро, как все, продала и тебе свитерок купила».
Примерно с таким же воодушевлением рассталась с нашими ваучерами бабушка Оля. На фото: обмен ваучера на акции специализированного фонда инвестиций «Альфа Капитал»
За несколько месяцев до этого происшествия Чубайс сказал: «Мы мечтаем, и на это направлены наши серьезные усилия, скупить ваучеры у тех, кто бедствует, скажем, у пенсионеров. Мы намерены создать широкую сеть частных фирм, конкурирующих за то, чтобы у «бедной бабушки» купить ее личный приватизационный чек. Мне известно, что уже сейчас многие коммерческие фирмы начали составлять списки этих самых «бедных бабушек»». Моя бабушка Оля, увы, стала одной из многочисленных жертв, у нее ваучер даже не купили, а интеллигентно отобрали.
Обогатила приватизация немногих, но зато как! Всего за миллиард долларов США треть промышленности России мгновенно перешла в частные руки!
Богатые тоже плачут
«No advertisements, no image campaigns, nothing to get people excited about the idea of privatization!»[74], — сокрушалась англоязычная газета The Moscow Times. А в это время то, что не смогло сделать наше правительство, спокойно делал американский евангелист Билли Грэм, приглашенный Русской Православной Церковью. В сложные времена РПЦ, похоже, тоже заблудилась. То она вдруг решила нырнуть в коммерцию, громогласно заявив о создании банка «Ортодоксия» совместно с небольшим греческим частным банком, теперь же с благой целью вернуть надежду людям в тяжелые времена был позван мистер Грэм из Америки, который молниеносно заклеил всю Москву биллбордами со своим профилем на черном фоне и подписями «Билли Грэм: человек, говорящий с людьми». «Почему? Почему хорошие люди страдают? Почему меня не понимают? Почему я несчастен?» — вот вопросы, которые Билли приехал обсудить с москвичами. Рекламная кампания проповедей Билли Грэма была мощнее и понятнее, чем реклама ваучера. Проповеди Билли в течение трех октябрьских дней собирали полный «Олимпийский», а это где-то сорок тысяч человек каждый день. Возле стадиона установили мониторы. Люди, которые не смогли попасть внутрь, слушали весть о Христе, стоя на улице. А на Малой спортивной арене Лужников собирала аншлаги ясновидящая целительница душ, серебряная фея Мария-де-Эль-фано[75], обитавшая в предыдущей жизни на Альфа-Центавре, где была повелительницей. Мария лечила все!
— И откуда только они взялись, все эти проповедники, целители, колдуны? — удивлялась бабушка Оля. — Как все с Кашпировского началось, так и пошло-поехало.
Оля была права, я сам видел на Пушкинской площади седого, в распахнутой рубахе, американского проповедника. Он бил себя рукой в грудь и кричал что-то о спасении души, причем по-английски. Народ все равно собрался, слушали.
— Борются за наши души, все чудеса обещают, — продолжала возмущаться Оля. — А колдун какой-то, Лонго зовут, открытое письмо коменданту Кремля написал. Просит разрешить опыт провести, оживить Ленина, уверяет, что это будет ценно для науки. Вроде бы он даже уже кого-то оживлял.
— Да ну? Откуда ты знаешь?
— Во дворе нашем все обсуждают, в газетах прочитали.
— И что?
— Да ничего. Голубь (так Оля называла нашего соседа по фамилии Соловей) с девятого этажа говорит, что лучше бы этот Лонго Сталина на месяц оживил, чтоб он порядок в стране навел.
Вечерами по грязным улицам — чистить их почему-то перестали — москвичи спешили домой, где собирались у телевизоров, чтобы взахлеб смотреть мыльные оперы. Выбор был большой. По первому каналу шли «Богатые тоже плачут», по второму — «Санта-Барбара», а по третьему — «Никто, кроме тебя». Невероятно популярными были «Богатые» с главной героиней Марианной. 249 серий по 25 минут! Когда шла «Марианна», потребление электричества и воды в Москве резко падало… В середине лета половина актеров в сериале неожиданно поменялась, об этом специально предупредили дикторы телевидения: «Не беспокойтесь, так и должно быть».
Просмотр бесконечных серий «Богатых» еще не закончился, а уже решили повторять. Под напором колхозников, которые пропустили летние серии из-за уборочной кампании. Марианна стала национальной героиней, о ней наперебой писали газеты. Вечером, когда показывали последнюю серию, гигантская, фанатично преданная Марианне аудитория включила телевизоры в 19.20, а выключила в 19.45[76]. Бабушка Оля тоже села смотреть, чем же все закончится. Я как раз вернулся домой и из коридора расслышал:
— Марианна, ты святая? Как ты можешь простить меня? — спрашивал влюбленный в Марианну главный герой фильма, изрядно набедокуривший Луис Альберто.
— Луис Альберто, я могу простить тебя!
Потом было еще что-то вроде: «Не волнуйся!», «Скоро все будет хорошо!», «Мы ждали этого так долго!». В общем, счастливый финал. Марианна навек обрела любовь. Экран погас. Бабушка Оля, а с ней и миллионы телезрителей, смахнув слезы умиления, тут же ощутили пустоту. Но лишь на миг! Потому что нас ждали новые сериалы — «Просто Мария», 150 серий, и «Дикая Роза», 200 серий! А еще на подходе был 22-серийный «Возвращение в Эдем»!
Главное в жизни — волна
Я познакомился с однокурсником Женей Лаврентьевым (Лаврик), соавтором письма султану Брунея. Лаврик тоже, кстати, поступил по списку Примакова. Чтобы стать заметным, он не ударил пальцем о палец. Длинный, на голову выше всех, и немного наклоненный вперед, словно Пизанская башня, Женя вальяжно шлифовал паркетные коридоры факультета шикарными желтыми, на широкой подошве и на шнуровке, высокими, огромного размера ботинками Dockers, стоившими на толкучке в «Лужниках» несметных денег. Вельветовые штаны, коричневый кожаный пиджак… Стиляга! Частью стиля было чуть уловимое пренебрежение ко всему, легкий нигилизм, другими словами. Он совсем не походил на экономиста. Скорее какой-то творческий работник. Впрочем, он и стал потом кинорежиссером. С небольшой охотой, я бы даже сказал, неприветливо впускал Женя в свой мир новых людей. Вероятно потому, что со старыми друзьями чувствовал себя комфортно, а от добра добра не ищут. Надо было постараться, чтобы приглянуться Евгению, а для этого следовало как-то выделиться.
Мне это не удавалось. Я неизменно оказывался на периферии его внимания. Меня он просто не замечал. И так бы, скорее всего, и не заметил, если бы не Остапишин. Саша своей жизнерадостностью завоевал любовь Жени с избытком. Избытком был я.
Лаврик жил с родителями и братом в четырехкомнатной квартире на Ленинском. Был он студентом открытым, поэтому, чуть родители за дверь, Женя с друзьями — домой, благо от МГУ рукой подать. А друзья были голодными и бессовестными — тут же потрошили холодильник «Розенлев», причем до основания. В ход шли куриные окорочка, замороженные пельмени и сосиски! Родителям не оставалось ничего.
Женя вообще легко отдавал квартиру на растерзание. Однажды весь паркет в квартире вспорол анонимный танцор, решивший, что прыгать в ритм музыке эффектнее в горнолыжных ботинках. В другой раз из потолка с корнем вырвали люстру и раскокали бачок финского унитаза… Кто-то додумался засунуть в микроволновую печь десяток яиц и забыл про них. Раздался мощнейший взрыв, дверцу микроволновки оторвало, а потолок, стены и пол ровным слоем покрыла липкая желтая пленка — продукт взрыва. Наконец, Женин одноклассник Ерванд, изрядно выпив, почему-то вздумал принять душ, а за это время постирать одежду в стиральной машине. До сих пор неясно, в самом ли деле Ерванд рассчитывал на то, что за время короткого энергичного обливания машина не только постирает, но и высушит белье? Может и так… До стирки, однако, не дошло: загружая вещи, Ерванд положил их на барабан, а не в барабан машины. Поэтому, включившись, электрический аппарат тут же заглох, намертво зажевав белье. Хуже того, электродвигатель стиралки заклинило. В общем, как сказала бы наша дворничиха тетя Паня, «отныне машина к ремонту не принадлежала». (Перлы тети Пани я очень любил.)
Все эти дикие безобразия Женины родители воспринимали стоически. Терпели и Ерванда. С ним я познакомился, когда он, студент Станкостроительного института, пришел по приглашению Лаврика к нам на факультет в гости. Он казался задумчивым интеллигентом, был высоким, немного грузным и близоруким, носил очки, которые постоянно и неуклюже поправлял указательным пальцем правой руки на переносице. Выпив водки под партой во время лекции по социологии, Ерванд, непринужденно задав басом пару громких вопросов лекторше, одним из которых был: «Зачем вы в шапке?», а она и впрямь была в меховой шапке, потерял интерес к предмету и решил прогуляться по учебному корпусу, попросив меня довести его до туалета. Мимоходом он неожиданно вздумал войти в соседнюю переполненную аудиторию математиков, где очкарик-профессор увлеченно вещал о формулах, рисуя на доске умопомрачительные графики. На секунду замерев у дверей, Ерванд, как мне почудилось, поймал нить монолога и, не смущаясь, плавно направился к профессору, положил по-дружески одну руку ему на плечо, прервав монотонную речь и вызвав оторопь в зале, другой аккуратно взял из ладони лектора мел и старательно, не спеша, дорисовал незаконченную извилистую синусоиду. Затем он торжествующе посмотрел вверх, на возвышающиеся амфитеатром ряды аудитории, выдержал театральную паузу, поправил очки на переносице и дал студентам бодрый совет на всю жизнь: «Главное, ребята, в этой жизни — волна!». Выходил Ерванд под овации, профессор аплодировал стоя.
Вскоре после этой истории Ерванд с Лавриком устроились на подработку в ларек «Квас» рядом с проходной станкостроительного завода имени Серго Орджоникидзе. В первое же рабочее утро они, конечно с подачи Ерванда, ухитрились забодяжить квас с водой с целью извлечения сверхприбыли. Диффузии, увы, не случилось, и скоро из бочки вместо кваса полилась вода. Долго потом злые с похмелья рабочие осаждали палатку, намереваясь дотянуться своими мозолистыми ручищами до мошенников. Плевались, ругались… Уходить друзьям пришлось огородами…
Писатель Андрей Битов заметил: «Человек, придумавший новое слово, — бессмертен». Ерванд придумал слово «опередив». Опередивом называлось ритуальное действие, предполагавшее достижение сильного алкогольного опьянения еще до сбора гостей. Выглядело это так. За час до объявленного начала тусовок в квартире, чаще всего Жениной, появлялся Ерванд. Он подходил к столу, на котором уже были выставлены бутылки с горячительным, и с грустью смотрел на приготовленный арсенал. «Так, — низким тестостероновым голосом Ерванд с надеждой обращался к Жене. — Что же у нас сегодня на опередив?». Опередивом, как правило, становилась бутылочка водки, которая аккуратно распивалась до прихода гостей.
К слову, тогда мы любили «Московскую», «Столичную», Absolut, Finlandia, а еще были «Демидов» и «Распутин». «Демидова» рекламировали немецким голосом с сильным акцентом: «Демидофф! Русский водка из Германии, Отца Великий! Да он издевается над нами! На кол его!». А «Распутин» боялся подделок. Поэтому его создатели изобрели какую-то премудрую голограмму, и сам Распутин говорил в телевизионной рекламе, что «Распутин настоящий, только когда я изображен на бутылке один раз вверху, а другой раз внизу, и когда вы меня поворачиваете, я вам подмигиваю!».
Визит аборигена
Опали последние листья с деревьев, и в Москву ненадолго прилетел погостить Шахворостов. Он уже отучился год в Америке, исходив Манхэттен вдоль и поперек, и теперь, выиграв новую стипендию, перебрался в престижный австралийский Royal Melbourne Institute of Technology[77]. К этому времени он ухитрился жениться на американке, старше него, которая не раздумывая последовала за ним из Нью-Йорка на самый край света.
Я с трудом узнал своего друга. В красной, в черную клетку, куртке à lа бушлат и в черном берете, он перестал быть похожим на русского. С трудом подбирая русские слова, Кеша говорил с английским акцентом! А набор кредитных карт в его кармане подсказывал, что передо мной не бродячий студент, а вполне обеспеченный иностранец. Редкий россиянин мог тогда щегольнуть пластиком.
— Что происходит в метро? — спросил меня Кеша, вынырнув однажды из подземки.
— Что?
— Ну, во-первых, оказывается, теперь вместо пятаков жетоны.
— Это давно уже.
— А во-вторых, почему за ними такие дикие очереди?
— Эх, Кеш, быстро ты отвык от наших реалий. У нас же инфляция.
— Причем тут инфляция?
— Жетоны должны подорожать со дня на день. Сейчас они стоят рубль, а через несколько дней, ходят такие слухи, будут стоить три. Конечно, все хотят купить побольше дешевых жетонов впрок, вот и очереди.
— А, понятно, — смекнул Кеша. — Кстати, я слышал, Говорухин сказал: если б сегодня повторился августовский путч, он ни за что на свете не пошел бы защищать Белый дом, потому что в те три дня и три ночи рассчитывал на совсем другую Россию.
— Я бы все равно пошел. Но мы-то молодые, у нас все впереди.
В один из вечеров мы с Кешей зашли в Домжур, где мой друг принялся гламурно дымить сигарами «Ромео и Джульетта» и тянуть коньяк, ошеломляя своей расслабленной уверенностью всех вокруг. Домой мы возвращались поздно через Патриаршие.
— Кеш, знаешь, — начал беседу я. — Ничто так полно не воскрешает прошлое, как запах, когда-то связанный с ним.
— Сильно сказал.
— Это не мои слова, прочел у Набокова.
— В «Лолите», что ли?
— Нет, в «Машеньке». У него еще «Машенька» есть.
— И что?
— А то, что по мне лучше всего прошлое воскрешает песня.
— Может быть.
— Вот в школе мы пели «Бухенвальдский набат»; когда поступали, изо всех окон звучала ламбада, еще тогда Сьюзи Куатро приехала, помнишь?
— Хищница, затянутая в кожу? Рок-леди номер один?
— Вот-вот. А когда ты уезжал в Америку, был Богдан Титомир.
— А сейчас кто?
— А сейчас Татьяна Маркова: «Вспоминай, вспоминай, мои губы вспоминай», — пропел я.
— Что? — поразился Кеша.
— То. Так и буду помнить это время по губам Татьяны Марковой.
— А она хоть симпатичная?
— По-моему, не очень.
На Грузинке Шахворостов затащил меня в пустой, ярко освещенный, красочный от разнообразия валютный магазин «Дипломат» (бывшая продуктовая «Березка»), где непринужденно купил пару банок «Кока-колы» и бумажные полотенца для рук — продукт, который я видел впервые. От роскоши в «Дипломате» я проглотил язык. Зато Шахворостов даже не думал тушеваться. «В Америке, да и у нас в Австралии, все магазины такие, даже лучше», — нарочито громко вещал он. Многочисленные охранники уважительно посматривали на моего друга.
Турецкая авантюра
Пасмурным утром меня разбудил звонок телефона. Звонил Лёнич.
— Завтра летим в Турцию. Я договорился, паспорт тебе сделают за один день. Виза не нужна!
— Не понял?
— В Турцию! Всего на два дня! Купим дубленки и обратно. Продадим и заработаем. Все просто: там дубленку покупаешь за 100 долларов, а здесь продаешь за 250–300, а то и за все 500. А сейчас сезон. Времена китайских пуховиков проходят! За дубленками будущее. Понимаешь?
— Пока плохо.
— Паспорт стоит $130, билет — примерно столько же. С собой возьми тысячи две с половиной долларов.
— И где же я их возьму? У меня годовая стипендия — двадцать долларов.
— Займи у родителей Остапишина. Деньги тебе нужны на месяц, не больше. Не беспокойся, оборачиваемость высокая.
— Да…? — я был в легком замешательстве.
— Вот слушай, что газеты пишут: «For Moscow entrepreneurs: Destination Turkey. Not for its exotic culture or fabulous food, but for clothes!»[78], — зачитал Лёнич, прошелестев газетой над телефоном. — А ты заодно и Турцию посмотришь!
Последний аргумент перевесил все «против». Через пятнадцать минут под моими окнами стоял и неистово клаксонил белоснежный «ВАЗ-2107» Лёнича. Пришлось спуститься, чтобы вручить Лёничу почти все мои сбережения — триста долларов. В реальность происходящего я не верил.
— Фотографию не забыл? Время не ждет! — по-деловому, сухо встретил меня Лёнич. — Я поеду займусь твоим паспортом. А ты пока договорись с Остапишиным о деньгах.
— А как же ты паспорт сделаешь за день?
— Не беспокойся, — заверил меня Лёнич и, потирая ладони, довольно улыбаясь, перефразировал кладоискателя Игоряшу, — X… в Туле, а мы в Стамбуле.
Паспорт был готов к вечеру. Как выяснилось года через два, он был липовым; впрочем, для тех времен это было нормально. А Сашины родители, святые люди, как-то быстро согласились дать мне деньги, по тем временам несметные. Целых две с половиной тысячи американских долларов! Думаю, это рекомендация Александра стала могучим подспорьем. Доллары тогда давали в кредит под двенадцать процентов в месяц, я получил их бесплатно на неограниченный срок.
И вот уже на следующий день мы с Лёничем летели в Стамбул, он же Византия, он же Константинополь, он же Царьград. Я смотрел в иллюминатор. Мой горизонт не был безоблачным: перспективы коммерческой авантюры были под большим вопросом.
А Лёнич был расслаблен. У него все было схвачено. Деньги были свои, не заемные. Что покупать, он знал. Сбыт у него тоже был налажен: с нами в Стамбул летела его дальняя родственница Танька и муж ее Валерка, которые арендовали сверхприбыльную «точку продаж» в «Лужниках», превратившихся из спортивного олимпийского комплекса в необъятный вещевой рынок, вавилонское столпотворение продавцов и покупателей.
Стамбул заворожил! Голубая мечеть, святая София, Босфор, пронзительное пение муллы, кривые улицы, атмосфера восточного базара — все вперемешку! В лавочках, куда мы заходили, торговцы, к удивлению, угощали нас баночным пивом. Отказываться было безрассудным лукавством. В одном из магазинчиков я, с одобрения Лёнича, купил себе дубленку — мечту каждого советского человека — всего за пятьдесят долларов, хотя стартовая цена была триста. В другом — горчичного цвета двубортный пиджак с золотыми пуговицами, черные брюки и ботинки. Все вместе — тоже пятьдесят долларов. Вместо скидки мне подарили галстук в грязно-желтых разводах, который, если бы я его покупал, обошелся бы в один доллар. Счастье! Я знал, конечно, что в Москве удивительным и непостижимым образом и, видимо, по нелепой случайности в моду вошел малиновый пиджак! Ни один уголок цивилизованного мира — ни Париж, ни Лондон — не познал того могущества малинового пиджака, которое он обрел в Москве. Откуда к нам пришел этот признак респектабельности, так и осталось загадкой. Но у меня теперь был даже не малиновый, а горчичный пиджак, а это, я был уверен, намного круче!
В перерывах между уличными кебабами мы заходили в дешевые ресторанчики. В одном из них я отведал блюдо с волшебным названием «саханда юмурта», которое оказалось банальной яичницей-глазуньей. В гостинице мы делили с Лёничем крохотный номерок без телевизора. За трансляцией матча Кубка европейских чемпионов[79] «Гетеборг» — «Милан» нам пришлось спускаться в лобби[80]. Но мы не пожалели, потому что в том матче было забито четыре мяча, все — в ворота «Гетеборга», и все — одним футболистом — потрясающим Марко Ван Бастеном. А один из голов был просто фантастическим — ножницами, через себя, в падении, с четырнадцати метров, в правый угол.
Вечером накануне возвращения домой я с ужасом осознал, что потрачено около трехсот долларов — на гостиницу, еду и так далее, — а не куплено ничего! В самый последний миг мы с Лёничем забежали в какой-то магазин к чернобровой турчанке Миранде, похожей на Мирей Матье, и за десять минут потратили всю оставшуюся у меня сумму. По совету бывалого Лёнича я напирал на женские «обливные» дубленки черного цвета средних размеров.
На следующий день в здании аэропорта я увидел настоящий парад «челноков»[81], которые забили все пространство многочисленными огромными баулами. А в них — дубленки, кожаные куртки, кофты «ангора». Все баулы были обмотаны желтым или прозрачным скотчем — суровая необходимость, потому что в московском аэропорту по пути от самолета до терминала товар нещадно разворовывался неизвестными. Ключом к успеху было протащить свое в салон самолета. Удавалось это не всем. Нам с усилием удалось. «Челноки» были из разных городов — из Саратова, Красноярска, Мурманска… Ребята из Уфы смотрели на меня с нескрываемым уважением: «Дим! Ну откуда у тебя две с половиной тысячи долларов в двадцать лет?».
Рейс — а это был чартер — задержали на шесть часов. За это время мы с Лёничем выпили «Смирновки» и познакомились с четырьмя взрослыми женщинами. Лёнич вызвался помочь им открыть бутылку Martini, так и сошлись. Прошло совсем немного времени, и наши новые знакомые перестали казаться взрослыми. Лёнич игриво прошептал мне на ухо: «А они все — ничего, даже очень ничего!». Бикфордов шнур был зажжен. Меня заворожила энергичная, эмансипированная девушка, худая, спортивная, хорошо одетая, с короткой стрижкой. Она как-то так на меня посмотрела, что мне некуда было деться, а главное — и не хотелось. Звали ее Мариной, она была «челноком» со стажем и своей «точкой» на вещевом рынке ЦСКА. Через час мы уже кружились с ней между красочными прилавками Duty Free, взявшись за руки и растворяясь в ярком освещении. Вечер неожиданно стал романтическим. Правда, его чуть не зачеркнул Лёнич. На пути в самолет он жестко отрезал: «Не подходи к ней! Она старуха! Ей — тридцать пять!». Может, Лёнич был и прав. Но согласиться с ним было трудно, хотя я попробовал. Я скрылся от Марины в хвосте самолета, но она нашла меня.
Марина оказалась обеспеченной девушкой. Она зарабатывала не меньше тысячи долларов в месяц и ездила на новой «девятке» вишневого цвета с длинным крылом. Ее водительский стаж исчислялся пятнадцатью годами. Вроде бы она была замужем за представителем какой-то иностранной фирмы! У нее был трехгодовалый сын! «Красное и черное» Стендаля, «Госпожа Бовари» Флобера, «Амок» Цвейга, «Фиеста» Хемингуэя! В этих книгах замужние женщины любили молодых людей! Еще бы! Ведь это же настоящее приключение! Я загорелся! Но увы! Ступив на ледяную, заснеженную московскую землю, Марина в секунду превратилась в сосульку, охладев ко мне. Я, конечно, предпринял пару попыток… Однажды приехал с цветами к ней в ЦСКА, а потом пригласил пойти с моими друзьями в новый ночной клуб «У Друбич»[82], хозяйкой которого была актриса Татьяна Друбич. Место было модное, там бывали мальчик Бананан из «Ассы», модельер Слава Зайцев и другие знаменитости. Солисту группы «Моральный кодекс» Мазаю там даже набили физиономию. Остапишин знал туда ходы… Марина ответила отказом. Во-первых, все-таки имелся муж. Во-вторых, тридцатипятилетняя девушка засомневалась, что впишется в двадцатилетний коллектив. Наши отношения завершились, едва начавшись.
Поездка в Турцию для Лёнича оказалась сверхприбыльной. Я же еле-еле свел концы с концами.
«Шемрок-бар»
Мы и не заметили, как год скатился под гору, наступил декабрь. Почувствовалось свежее дыхание Нового года. Заснежило, заморозило. Ууух! Улицы, которые совсем перестали чистить от снега, превратились в катки, люди повсюду скользили, падали как подкошенные, ломали руки и ноги. Я всегда хоть и с трудом, но удерживался на ногах, часто вспоминая школьную учительницу по биологии Аллу Давыдовну. На одном из уроков она однажды спросила: «Чем отличается спортивный человек от неспортивного?», а потом сама же и ответила: «Поскользнувшись на улице, спортсмен мгновенно сгруппируется и никогда не упадет». По определению Аллы Давыдовны той зимой я заслуживал звания мастера спорта международного класса. Вместе с Новым годом приближался и экватор нашей студенческой жизни. Половина лекций, семинаров, факультативов, заданий была уже в нашем багаже.
У меня начался этап бродячей молодости. Я перестал ночевать дома, предпочитая скитаться по квартирам приятелей, одним из которых был однокурсник Дима Калинин (Калиша), у которого была комната в коммуналке в районе Шмитовского проезда. Там я бывал частым гостем, слушая увлекательные рассказы Калиши и о его летней практике (он работал проводником в поездах международного следования), и о новой работе корреспондентом в отделе недвижимости «Коммерсанта». Фоном звучали песни Высоцкого, а особенно часто — «Назад пятьсот, вперед пятьсот, а он зубами «Танец с саблями» стучит!». Эту песню Дима особенно любил.
Проснувшись как-то у Калиши субботним утром и умывшись в коммунальной ванной, мы, сварив яйца вкрутую и намазав хлеб маслом, сели пить быстрорастворимый кофе.
— Что бы поделать сегодня? — задумчиво протянул Калиша. За окном мела метель, хмурые облака тяжело навалились на крыши домов, и казалось, что непогода будет вечной.
— Не знаю.
— А давай пойдем в «Шемрок-бар»?
«Шемрок» был первым пабом в Москве, зайти туда мог только отважный человек: платить разрешалось только долларами. Паб соседствовал с настоящим, тоже первым в Москве, супермаркетом Irish House, в котором продавали как еду, так и заграничные шмотки, среди которых особняком стояли культовые «родные» джинсы «Левайс 501 на болтах». Оба заведения открыли ирландцы в 1991 году рядом с гастрономом «Новоарбатский» на бывшем Калининском проспекте. С ирландцами тогда конкурировали только финны. В сентябре 89-го они открыли супермаркеты Kalinka–Stockmann в ГУМе и на Зацепском валу. Только в Stockmann продавались чипсы Pringles, наполнитель для кошачьего туалета и ингредиенты для лазаньи. Был еще один финский проект — Super-Siwa на Кутузовском. Рассказывали, что его директор Пекка Лескинен не здоровался с директором Stockmann Яри Ахде на приемах в финском посольстве, считая, что их магазины отчаянно конкурируют. Как бы там ни было, предложение Калинина было заманчивым.
— «Шемрок-бар»? — проверил я Диму на прочность.
— Да, именно он!
— Там же дорого. К тому же он долларовый.
— А у меня есть дол-ла-ры! Но, конечно, было бы неплохо, если бы с нами пошла какая-нибудь симпатичная девушка.
— Кто, например?
— Светка Масютина, — глаза Димы засверкали лучами надежды.
— Светка?
— Ну да. Ты же ее хорошо знаешь. Позвони ей?
Со Светкой у меня уже давно сложились устойчиво приятельские отношения.
— Ну что ж, — прикинул я. — Светка — неплохая идея!
Светка быстро сняла трубку домашнего телефона и так же быстро согласилась приехать в бар! По дороге в «Шемрок» мы купили три бордовые розы.
Идея Калиши была превосходной. Только денег на ее воплощение было мало, всего долларов тридцать на троих, включая Светку, а Светка была та еще штучка. Надо было придумывать, как втиснуть грандиозный вечер в скудный бюджет. Светка, конечно, любила только коктейли. Это усложняло планирование. Первые же две пинты экзотического по тем временам «Гиннесса» за четыре доллара каждая мощно пробили по карману Калиши, оставив в нем всего двадцать два доллара на то, чтобы выглядеть достойно в восхитительных глазах мчащейся к нам на такси однокурсницы. Но это не печалило.
— Смотри, видишь цветочек? — по-детски обрадовался Дима, когда нам принесли «Гиннесс».
Густую пену украшал выведенный рукой бармена клевер-трилистник.
— Это — шемрок, он же — клевер! — Калиша повернулся к юному официанту, который делал свои первые шаги по столичным паркетам, но при этом уже отчетливо пытался обозначить господство в наших с ним мимолетных отношениях.
— Молодой человек, не могли бы вы принести нам вазу или пивную кружку с водой? Чтобы поставить цветы?
Пока несли вазу, Калиша молнией метнулся на улицу, в гущу торговых палаток, в те времена обрамлявших Калининский проспект, и вернулся, загадочно поддерживая рукой правую полу своего модного польского плаща. Под ней у него была только что купленная бутылка «Московской» водки с зеленой этикеткой.
— Зачем? — поинтересовался я.
— Смотри, — шепотом ответил Дима и обхватил уже принесенную официантом кружку-вазу с розами.
— Сейчас я выну цветы, зайду с кружкой в туалет, вылью воду и перелью в нее водку. Потом мы поставим в кружку цветы. Никто не догадается, что у нас там водка. А мы будем пить оттуда. А?
Через минуту хитрая задумка была осуществлена, а возможные дыры в нашем бюджете — залатаны. Приехала Светка. Дайкири, куантро, малибу с соком… Такими были ее капризы в тот вечер. Все они были исполнены.
Вскоре к нам присоединился студент-математик из МГУ Димон Митрофанов, работавший продавцом в коммерческой палатке у входа в гастроном «Новоарбатский». Свободная торговля превратила Новый Арбат в базар: вдоль всей улицы стояли киоски, наполненные товаром. Их было чуть ли не больше, чем в двух других средоточиях киосков — на площади перед Киевским вокзалом и в скверике за ЦУМом. Димон был моей надеждой: он стал эксклюзивным, а на самом деле просто единственным продавцом дубленок, которые я привез из Турции. «Что-нибудь продалось?» — с надеждой спросил я. «Не, висит пока», — расслабленно ответил Димон. Это был тот самый Митрофанов, который учился с Остапишиным в одном классе и жил над «яйцом» на Дорогомиловке. Димон пришел не с пустыми руками. В кармане штанов у него была бутылка «Московской». С ней мы поступили так же, как и с первой, — долили в вазу. Митрофанов для отвода глаз попросил «Гиннесс» и стал запивать им водку, приговаривая: «Пиво не пьянство, пиво — наслажденье, пиво нам служит средством общенья».
В одной из таких коммерческих палаток: на Новом Арбате сбывал дублёнки и прочие товары мой приятель Митрофанов. Палатки стояли на правой стороне по направлению в центр.
Общение началось сразу. Сначала Митрофанов похвастался огромным синяком на локте — поскользнулся на Смоленке, а потом пустился в рассказ о том, что начал брать уроки английского: хочет компенсировать языковые пробелы, оставленные физико-математической школой. «Жаль, практики нет», — посетовал Дима. Я огляделся по сторонам. Вокруг сидели иностранцы. Тогда они казались людьми из другого мира, инопланетянами. В каждом чудился образованный миллионер или, по крайней мере, обеспеченный человек. Причем с высокими моральными ценностями. Правда, сидели они с сомнительного вида русскими девушками.
— Слушай, — пришла мне идея в голову. — А ты здесь попрактикуйся.
— Дело говоришь! Здесь ведь подходящее место для этого, — оживился Митрофанов.
Он отхлебнул для храбрости из вазы и пошел по столам. В тот вечер он побеседовал со всеми присутствовавшими интуристами. И с каждым начинал одним и тем же вопросом: «Хеллоу. Ду ю хэв э сигарет?»[83]. Не дожидаясь ответа, он обезоруживающе улыбался, по-дружески хлопал иностранца по плечу, оценивающе смотрел на его спутницу и задавал второй, чудовищный вопрос, который больше смахивал на утверждение: «Ю ноу, ер герл из э проститьют»[84].
Как ни странно, обошлось без последствий. Наоборот, иностранцам импонировал панибратский тон Митрофанова. Они веселились, живо вступая с ним в дискуссии, смысла которых он уже уловить не мог, да и не хотел, поэтому и переходил от стола к столу, подмигивая мне и напевая песенку из старого туркменского фильма: «Только у любимой могут быть такие нэобыкнавэнные глаза»[85].
Митрофанов радовал не в первый раз. Пару недель назад в снежную пятничную ночь мы с Севкой мчали на электричке до станции «Кутуар» Савеловской железной дороги. Оттуда, чудом договорившись с местными гаишниками на пустой неосвещенной площади у станции, по заснеженной дороге долетели на милицейском УАЗике-«козле» до дома отдыха «Аксаково». С гаишниками расплатились надкусанным батоном белого хлеба. В «Аксаково» ждали Остапишин, Лаврик и Митрофанов с девушкой. В единственном снятом трехкомнатном номере стояло три кровати. Жребий рассудил: мне спать на полу в коридоре. Я улегся, надеясь быстро заснуть. Не тут-то было. Всю ночь за дверью Митрофанова раздавалось сопение. Ух-ух-ух-ух! Как усиливающийся прилив волны, как ветер, стремящийся стать бурей! Ерзая на жестком полу, я чувствовал: нарастает напряжение в комнате дона Хуана, пружинит дверь, изо всех сил петлями хватающаяся за косяк, чтобы устоять под натиском эмоций. Время от времени Митрофанов выходил ко мне и, улыбаясь до ушей, просил лишь об одном: «Воды!». Под утро он выполз в последний раз, вытер пот со лба и слабым голосом вымолвил: «Рекорд! Семь раз!», после чего удовлетворенно напел: «Я подарю вам хризантему и мою первую любовь«…Из «Шемрока» мы уходили на бровях, поддерживая друг друга боками. Ночевать я поехал к братьям Немчиновым на улицу Студенческую рядом с Кутузовским.
Серега Немчинов, студент Московского авиационного института, бывший одноклассник Остапишина и Митрофанова, а также его мама, бабушка, папа и младший брат Леха встретили меня радушно: «Проходи! Ночуй!». Квартира у Немчиновых была большая и интересная: на столе в гостиной стояла в рамке фотография бабушки Немчинова с дочерьми Герцена в Швейцарии, а на стенах висели портреты предков — дворянина Федора Измайловича Родичева[86], «первого тенора кадетской партии», и московского негоцианта Михаила Ардалионовича Немчинова, владельца кирпичного завода и земель на западе от Москвы между нынешними Рублево-Успенским и Можайским шоссе. И заводы, и земли — знаменитую Немчиновку — давно экспроприировали циничные революционеры… После перестройки краевед Немчиновки разыскал Немчиновых и стал приглашать семью на местные праздники. Немчиновых неизменно встречали как дорогих гостей, телерепортеры бегали за ними с камерами и микрофонами, а глава Одинцовского района даже предложил выделить бывшим хозяевам землю в деревне Ромашково, поближе к Рублевке. Но Немчинов-отец был непреклонен: «В Немчиновке! Только в Немчиновке!». После такого категоричного требования вопрос повис в воздухе навсегда.
Проклятая военка
Девушка пришла на экзамен по политэкономии, ничего не зная, и вытянула билет «Трудовая теория стоимости А. Смита». Ей тут же переслали «бомбу»[87], и она стала готовиться к ответу. А в «бомбе» мелким почерком, для сокращения, написано не Адам Смит, и даже не А. Смит, а просто «асмит». Девушка все прочла, запомнила и вот уже отвечает преподавателю. И все время говорит (как и написано в «бомбе») асмит да асмит. «Асмит — великий английский политэконом», «Асмит создал трудовую теорию стоимости», «Асмит…». Профессор внимательно выслушал и задал дополнительный вопрос: «Как звали асмита?». Девушка замялась, кашлянула и запричитала: «асмит… асмит…». «Помогу вам, — преподаватель вскинул голову. — Как звали первого мужчину?». Девушка покраснела, потупила взор и шепотом произнесла: «Валера». Эту легенду кто-то под дружный хохот рассказал перед зимней сессией. Я тоже смеялся, у меня вообще тогда было хорошее настроение: только что мы взяли золото МГУ в хоккее! Экспериментальная сборная экономфака, наскоро собранная мной, в легендарном матче на стадионе «Крылья Советов» в Сетуни, при почти пустых трибунах, сокрушительно разгромила сборную мехмата. Игра была бескомпромиссной. Шахматист Аркаша бесстрашно встал в ворота, обмотав ноги дряхлыми вратарскими щитками. Без вратарской маски и шлема — их у нас просто не было — он был подобен легендарному вратарю «Спартака» семидесятых годов Виктору Зингеру, который в начале своей карьеры тоже стоял без маски. Про Зингера я с детского сада помнил народную песню:
Где-то на белом свете чемпионат идет, Сборная Канады открывает счет. Сборная Канады открывает счет, На воротах Зингер песенку поет: Фигу, фигу, фигу вам! Не забьете шайбу нам! А забьете шайбу нам — Посчитаем ребра вам! Тут один канадец шайбу подхватил И в ворота нашим шайбу залепил. Александр Мальцев это не стерпел, И один канадец за борт улетел. А второй канадец носом пашет лед, К третьему канадцу медсестра ползет. Музыка играет, барабаны бьют, Сборную Канады на кладбище несут!Мехмат как бы был Канадой, и он ожесточенно атаковал, а мы не менее ожесточенно оборонялись. Невысокий, подвижный Аркаша метался в рамке и отчаянно отбивал и ловил шайбу. Как это описать? Как описать изумление, когда он, распластываясь на льду, в двадцатый раз за матч накрывал шайбу спиной на самой линии ворот? Мехматовцы атаковали, а он бросался им под коньки. В тот день он взял три десятка мертвых, неберущихся шайб. Лаврентьев, сжав зубы, колол у борта черенком своей короткой клюшки мощного бомбардира-математика. Кувыркался на пятачке Тоша, останавливая грудью черные каучуковые диски, мощно запущенные в створ наших ворот.
Паша, учившийся на два года старше, брал скоростью, техникой катания и владения шайбой. Вся команда показывала фантастическую, отчаянную сыгранность. Мне посчастливилось эффектно завершить матч точным броском в правую девятку после выверенного паса Димы Главнова через все поле. Мехматовцы обозвали нас «второй пятеркой «Динамо» Риги» и понуро покинули поле битвы![88]
Конечно, я был счастлив, но, как оказалось, недолго. Напрасно я смеялся над шуткой про «асмита», та сессия и для меня обернулась катастрофой: отчислили с военной кафедры. С формулировкой: «Оставлен на второй год». Армия угрожающе замаячила перед глазами — теперь могли и на два года призвать, а может, даже послать на подмогу сербским братьям, чтобы решить разгоревшийся с невиданной силой балканский конфликт. Стало боязно, но наказание было заслуженным. Я и вправду злостно прогуливал занятия по спецпропаганде, а когда приходил, то читал под партой спортивные газеты. Удивлял Павел Буре. Всего второй год он играл за «Ванкувер Кэнакс», а уже вся Америка кричала о «русском сезоне в HXJI». Имя Буре не сходило с полос газет — он шел по стопам самого Марио Лемье, которого называли «пушкой»[89] ! «Буре настигает «Великого Марио»», «Молодой «Кэнакс» держит за хвост опытного «Пингвина»», «Время НХЛ — по часам Буре», «Павел Буре забил пятнадцатую шайбу… Девятнадцатую… Двадцать вторую!». К концу года Буре шел третьим в списке форвардов после Лемье и Могильного, стремясь забить 50 шайб в 50 матчах и стать шестым игроком в истории НХЛ, кому покорился этот рубеж.
Когда Павел вколачивал в ворота «Лос-Анджелеса» свою двадцать седьмую шайбу, я держал суровый экзамен по военке. Аккуратный, отутюженный, с пробором в прямую нитку и неподвижным лицом, малознакомый экзаменатор сначала подкосил меня вопросом: «Как называют между собой солдаты армии США первую дивизию морских пехотинцев?», а потом безжалостно выбил из строя на год, сухо поинтересовавшись: «Каким ружьем обучен воевать каждый морской пехотинец США, начиная с 1960 года?». «The Old Breed» («старая порода») и «M16 — the rifle every marine is trained to fire» — такими были правильные ответы. Я их, увы, не знал[90].
В тот день горечь военного поражения пришлось топить в вине. Пиццерия в здании Агентства печати «Новости» на Зубовском, потом Домжур, где я по совету Севки впервые попробовал напиток с коротким, как выстрел, названием «шнапс». Выстрел обернулся пулеметной очередью, и недавно открывшийся прямо в нашем учебном корпусе, на экономфаке, ресторан «Хайбар» стал, по воспоминаниям моих друзей, лишним звеном вечерней программы. Глубокой ночью мы доехали до Лёнича, где Тамара Васильевна, отпоив чаем, уложила спать. «Вот стресс до чего доводит!» — расслышал я ее слова, засыпая.
Новые явления
1992 год подходил к концу. Из-за реформ Гайдара и других слаженных действий правительства годовая инфляция составила 2600 процентов! «Ситуация очень и очень тяжелая, я бы сказал — критическая!» — признал сам Гайдар. Обесценение денег было настолько стремительным, что даже частушку придумали: «Ехал Ельцин в «Мерседесе», по пути ему кричат: «Ельцин, Ельцин, дай копейку, Ельцин, десять тысяч дай!»». Вправду, теперь, получив деньги, надо было бежать и тратить их немедленно, они испарялись в руках. Это была уже не инфляция, а гиперинфляция, ее еще называли галопирующей: она окончательно лишила людей всех накоплений, сделанных в советское время. А до конца потрясений было еще далеко. Как говорил Остап Бендер Шуре Балаганову: «Финансовая пропасть — самая глубокая из всех пропастей, в нее можно падать всю жизнь». В 93-м инфляция по-прежнему кривлялась и размахивала кулачищами, удерживаясь на пугающей высоте 22 % в месяц.
На телевидении вдруг стало слишком много рекламы. Теперь она бессовестно по многу раз вклинивалась в художественные фильмы, нарушая привычное плавное течение картины. Это вызвало обеспокоенные пересуды: вдруг расшатается нервная система? Выявили новую болезнь — «рекламный невроз», возникал он при упоминании беспрерывно рекламирующихся фирм — Ортекс, Гермес, «МММ», Центр моды «Люкс», Супримэкс, Телемаркет, MALS, еще был «занзибарский» Экорамбурс. Эти фирмы быстро, как сказала бы наша дворничиха тетя Паня, «капнули в лепту», но тогда казалось, что они — навсегда.
Зачастую смысл рекламы оставался непонятен. «Пробил час РЭМ. Когда кругом обувают, РЭМ одевает и предлагает» (где и во что одевал РЭМ, я так и не смог выяснить, хотя старался), «Жила-была фирма. И решила она сделать себе рекламу. Но не простую. А очень простую. Фирма Сэлдом!» (И зачем решила сделать себе рекламу фирма «Сэлдом»?). Лишь обувная фирма «Рикко» ясно обещала: «Мы обуем всю страну!». Еще на экране стал появляться загадочный тип, который во весь рот улыбался, смотрел в камеру и молчал. Это был Игорь Верник. Он молчал месяц — по минуте в день перед программой «Время». А потом еще месяц появлялся в двубортном пиджаке, с качественным зонтиком, щелкал тремя пальцами и произносил: «Настанет день, и я скажу все, что думаю по этому поводу». Страна с замиранием ждала: что же он скажет? И он выдал: «Настал тот день, и я вас призываю: вступайте в «Менатеп»!». Правда, сказал он это всего лишь однажды, поэтому развязку рекламного сериала многие пропустили, я — тоже.
Исповедь
Остапишин, случайно спустившись в метро накануне очередного Нового года, подкинул новый острый сюжет: познакомился с румяной Татьяной и так быстро вскружил барышне голову, что Новый год мы встречали в ее квартире на Кутузовском. У Татьяны была подружка Катя, студентка психфака МГУ. Катерине некуда было деться от меня, а мне — от нее. Стали дружить парами — Саша с Таней, и я с Катей. Саша скоро остыл к Татьяне. Мои же отношения с Катериной хотя никогда не пылали, но теплились долго. Я наездами бывал в квартире в Кунцево, где Катя жила одна — ее родители работали в Брюсселе.
Морозным вечером в конце зимы наша большая компания убивала вечер в «Чикен Гриле», единственном ресторане в недавно открывшейся шикарной торговой галерее «Садко–Аркада»[91], где можно было поесть недорого и за рубли: к входной стеклянной двери скотчем был приклеен белый лист с надписью от руки «Rubles only!». Другие рестораны в «Садко-Аркада», а их было несколько, работали только за СКВ (свободно конвертируемую валюту). «Чикен Гриль» был рестораном самообслуживания, в его меню было одно основное блюдо — курица гриль.
Дверь распахнулась, и в ресторан, мокрые от снега, влетели две девушки и сели за свободный столик. Одной из них была Катя. К тому дню мы не виделись около двух недель. За это время меня угораздило увлечься Гольданской, правнучкой первого советского нобелевского лауреата. И не только меня. Все одновременно влюбились в Ольгу Дмитриевну. Оттого ли, что Оля в то время стала как-то восхитительно свежа, или, быть может, красота ее тогда особенно проявилась? А может, ее головокружительный танец на подоконнике у Лаврентьева под песню Стиви Уандера «There’s а place in the sun, where there’s hope for everyone»[92] нас так очаровал? Или низкий голос с легкой, едва заметной хрипотцой сбил с толку? Неведомо… Оля притягивала. Впрочем, она об этом даже не догадывалась. Я подошел к Кате:
— О! — удивилась она. — Привет! Ты один?
— С однокурсниками, — я махнул рукой в сторону нашего стола.
— О! Остапишин! Привет! Женя! Лаврентьев! Привет! — еще больше обрадовалась она и шепнула: — А кто там еще?
— Гольданская, Калинин, Турищева…
— Ясно, — Катя не хотела слушать незнакомые фамилии, — а ты куда пропал? Почему не звонишь?
— Знаешь… хандра. Сплин, — быстро придумал я. — Две недели последние были какие-то замороченные. Черт знает что. Устал.
— А хочешь, у меня поживи, отдохни!
— Да я бы с радостью, но… понимаешь… — я запнулся. В тот вечер я стремился к Гольданской, но ведь об этом Кате не скажешь.
— Я сейчас все равно у бабушки живу. Она попросила. Моя квартира пустует, — Катя достала из сумки ключи от квартиры. — Держи! На всякий случай.
— Не возьму.
— Возьми, пригодятся. Не понадобится — отдашь потом! Бери!
— Спасибо, Кать, — я взял ключи. — Ну что, к нам подсядете?— Да нет. Мы тут посидим, нам есть о чем поболтать.
Я вернулся к своим, где моментально возник нечестный план всем вместе ехать в Катину квартиру и веселиться там до утра. Кате решили ничего не говорить — эту идею она вряд ли бы поддержала. Это, без сомнения, было преступлением, но я на него пошел — не мог в тот вечер представить себя вдали от Гольданской. Впрочем, это лишь усугубляло мою вину. Договорились, что я стартую первым — это не вызовет Катиных подозрений. Потом, через минут тридцать-сорок, выезжают остальные. Я встал, нарочито попрощался со всеми и направился откланяться Кате.
— Уже поехал? Так ты куда решил?
— К тебе, наверное, — не смог соврать я.
— Давай, знаешь, что? Давай я поеду с тобой, покажу тебе, где продукты, белье постелю, — Катя обезоруживающе ласково смотрела мне в глаза.
Такого поворота событий я не ожидал!
— Кать! Да не стоит! Ни к чему это. Потом, тебе же к бабушке. Зачем круги наматывать?
— Ерунда, поехали, — и Катя стала прощаться со своей подружкой.
Я метнулся обратно к своим и сжато передал, что ситуация усложнилась, пообещав, что все улажу: «Когда подъедете, прежде чем зайти, позвоните (я продиктовал номер). Если отвечу я, то добро пожаловать, а если Катя — сделайте вид, что ошиблись номером, потом ждите минут пятнадцать и звоните снова».
— Ну, вот, добрались, — Катя эффектно скинула шубу на пол в прихожей. — Будешь чай? Ты случайно не голодный?
— Нет.
И снова жизнь опережала мечту. Катя, похоже, ехать к бабушке не торопилась.
— С конфетами! Давай! Согреешься!
Катя включила телевизор, засуетилась на кухне. Сценарий вечера, судя по всему, надо было переписывать.
— Кать, а бабушка далеко живет? — предпринял новую попытку я, понимая, что кортежи с друзьями уже мчатся на всех парах.
— Близко, — Катя решительно выбивала почву из-под ног.
Я посмотрел на часы: незаметно пролетели полчаса. Раздался звонок в дверь.
— Кого это принесло на ночь глядя? Соседи, что ли? — Катя побежала открывать.
Увы, это были не соседи. На пороге, искренне, по-доброму улыбаясь, в заснеженном пальто, стоял добродушный Калиша в шапке-ушанке и с бутылкой вина в руках. Фиаско! Катя с недоумением посмотрела на Калишу, потом на меня, потом снова на Калишу. Моя голова заработала, как ЭВМ. Я моментально придумал, что Дима необходим мне в этот вечер как воздух, что сегодня мы с ним должны обсудить жизненно важный вопрос… Добавил, что Дима очень приличный молодой человек. В общем, как-то удивительно легко выкрутился.
Катя скрылась на кухню, готовясь угощать Калишу, который в это время рассказал мне, что приехал, побегал вокруг дома в поисках телефона-автомата, не нашел, постоял возле подъезда пятнадцать минут, замерз и рискнул подняться в квартиру. Напоив нас чаем с конфетами, Катя наконец засобиралась.
— Ну, все! Не буду вам мешать! У вас тут секреты! Оставайтесь! Если что, звоните, я еще часа два спать не буду, — Катя стояла в дверях.— Я тебя провожу.
На улице я остановил машину — красивый правительственный «ЗИЛ». Садясь в него, Катя желала мне счастья… Потом было шумное веселье, не обошедшееся без материальных потерь. Разбили посуду, лампу, магнитофон перестал играть. Мои надежды на сближение с Гольданской не оправдались, наоборот, стало ясно, что ловить нечего, а ведь Мадонна той ночью так старалась: «Erotic, erotic, put your hands all over my body». Спать легли под утро.
Проснулся я, услышав, с оборвавшимся дыханием, как повернулся ключ в замке входной двери, как кто-то бесшумно, на цыпочках, вошел в коридор, поднял что-то с пола. Секунда — и передо мной во всей своей красе стояла свежая, с мороза, Катя. Я готов был провалиться сквозь землю!
— Привет. Я приехала вас с Димой завтраком покормить, — в руках у нее был пакет с продуктами.
— Кто там? — из гостиной комнаты громко пробасил Лаврентьев.
— Ой, — вздрогнула Катя. — Кто это?
— Это Женя Лаврентьев, — обреченно, тяжело вздохнув и опустив глаза, вымолвил я.
Катя сделала шаг к комнате, потом еще шаг, еще… пока, наконец, не случилось страшное. Она вошла в гостиную, в которой на кровати и на полу спали и знакомые, и незнакомцы. Следы пиршества были повсюду. Осколки разбитой лампы лежали на журнальном столике. Катя медленно, оглядываясь по сторонам, подплыла к большому стеклянному шкафу, в котором ее папа, собиратель маленьких игрушечных машинок Matchbox, хранил свою дорогую сердцу коллекцию.
— Ребята! — Катя перевела дыхание. — Какие вы… молодцы! Спасибо, что вы машинки не тронули!
Резким движением встревоженной птицы сбросив одеяло, рванулась с дивана разбуженная Гольданская.
— Ну мы же сюда не в машинки играть приехали! — прохрипела она и, недовольная, умчалась в ванную.
Катя хлопала ресницами, как первоклассница. Я потерял дар речи. Лаврентьев спрятался под одеяло, лежа на полу. Остапишин, морща лоб и закусив верхнюю губу, соображал, как выйти из положения, Лишь Калиша беззастенчиво продолжал храпеть в соседней комнате.
— Ребята, — Катя стойко держала удар. — Ребята! Давайте я вам завтрак сделаю! Яичницу будете?
— Будем, Катюх! Конечно, будем! — как ни в чем не бывало подхватил Остапишин. — Я помогу! Томатики есть? Лучок? Огурчики? Я порежу.
Сделав хорошую мину, все дружными усилиями спасли положение. Когда все расходились, Катя повернулась ко мне: «А ты тоже уходишь?». И я остался…
Баба Лена
В один из последних зимних дней на катке, залитом перед легкоатлетическим манежем МГУ, группа студентов занималась «коньками». Среди них был Лаврик, но даже для него — чемпиона МГУ по хоккею — не было исключений, наоборот, он должен был подавать пример. Урок вела суровая баба Лена, маленькая старушенция, лет семидесяти-восьмидесяти, с ярко-оранжевыми кудряшками. Одета она была в синий шерстяной тренировочный костюмчик эпохи советских физкультурников и шапочку-конькобежку с остреньким мефистофельским выступом надо лбом, застегивавшуюся под подбородком на пуговку.
Баба Лена, как и Николсон, была легендой МГУ. В молодости ей светил паралич, но баба Лена переборола недуг, а во время войны ездила на передовую давать концерты бойцам Красной Армии. А потом она пятьдесят лет преподавала в университете и ни разу в жизни не пила, не курила и не занималась глупостями с мужчинами, поэтому фигура у нее была прекрасная — сзади пионерка, спереди — пенсионерка. Рассказывали, что один студент польстился сзади на ее изящную фигурку, так она его потом чуть до инфаркта не довела.
Занималась строгая баба Лена с особо ослабленными — спец-группой «Здоровье», в которую часто попадали прогульщики физкультуры. Лаврик был в их числе. А вела она уроки так, что мало не показалось бы даже мастеру спорта. Мучила немилосердно, превращая зачастую занятия в шоу, за которыми с радостью наблюдали прохожие, среди которых время от времени оказывался и я.
Легенда МГУ Елена Борисовна Гуревич, или баба Лена: «Настоящий журналист должен уметь садиться на шпагат!»
В тот день студенты, среди которых ростом и мрачностью выделялся Лаврик, понуро стояли в линейку и громко, вместе с бабой Леной, кричали: «Рубка, рубка, рубка, стоп!», топая лезвиями коньков по льду Так они учились кататься! К концу занятия несчастные перешли от упражнения «рубка» к более продвинутой композиции. Теперь вся компания громко пела: «Веселей, моряк, делай так, делай так!»… Однажды 80-летнюю бабу Лену отважились попросить уйти на пенсию, дать дорогу молодым. В ответ она пришла к заведующему кафедрой физкультуры и села на шпагат: «Если кто-нибудь еще с кафедры физвоспитания так сможет — уйду».
Я дождался Женю, и, обсуждая на ходу технику фигурного катания, мы помчали на торжественное открытие галереи Людмилы Евгеньевны, мамы Остапишина. Галерея «Ласта» (аббревиатура из первых букв имен всей семьи Остапишиных — Людмила, Алексей, Станислав, Александр) расположилась в старинном особняке XVIII века на улице Чехова, дверь в дверь с «Лигой трезвости», куда съезжались кодироваться алкоголики всей страны, создавая оживленную толпу перед входом в здание. Название галереи ассоциировалось у нас со спортинвентарем, но Людмила Евгеньевна была непоколебима: в древнерусском «ласта» — это ласточка.
Вернисаж готовили тщательно. При входе вывесили картину «Психоделическая атака оранжевых кенгуру», а центром выставки стало полотно нижегородского художника «Красная корова», немедленно воскрешавшее в памяти известный шедевр Петрова-Водкина. Пришел приятель Сашиных родителей писатель Георгий Вайнер, написавший «Место встречи изменить нельзя». Появился и Дима Калинин. Накануне он стал жертвой классического гоп-стопа: поздним вечером у Ваганьковского кладбища на него набросились двое громил, намереваясь стянуть длинное кожаное пальто, только что купленное на первые три зарплаты в «Коммерсанте». «Не отдам!» — взревел Калиша, вступая в неравный, но праведный бой.
В галерее непобедимый Дима нарисовался в своем героическом пальто, но с двумя фингалами. Вайнер, уже прошедший в этот день сквозь строй алкоголиков из «Лиги трезвости» и мимо психоделических кенгуру, приметив Диму, съязвил: «Бандитская пуля?». «Черная кошка», — элегантно парировал Калиша.
Банановая республика
Бизнес Алексея Остапишина, старшего брата Саши, между тем шел в гору. Голубые ели малого предприятия «Торто» замерзли в прошлом. Теперь Алексей ежедневно гнал в столицу фуры с фруктами и овощами из Европы. Первые дивиденды Алексей направил на приобретение двухкомнатной квартиры в районе ВДНХ. За 55 метров жилья успешный предприниматель выложил три тысячи долларов! Это была космическая, неподъемная по тем временам сумма. А в апреле и вовсе случилось нечто фантастическое. Создав со своими старыми друзьями компанию «Русагро», Алексей тут же пришвартовал к российскому берегу первое коммерческое судно с бананами. Бананы были мечтой россиян от мала до велика. Фольклор даже увековечил их в песне «В Москве бананы дефицит, за ними очередь стоит, хочу банан! Хочу банан!» на мотив «Танца маленьких лебедей» из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро».
Рефрижераторное судно ледового класса в Питере встречала толпа жадных дистрибуторов, которая растащила приплывший экзотический товар в мгновение ока, осчастливив Алексея и обозначив ему жизненный путь на несколько лет вперед. «Бананов в Москву завезено столько, что москвичи даже при всем желании не смогут их съесть» и «Следующим экологическим кризисом в России будут банановые шкурки», — трубили газеты через месяц. А Саша Остапишин, теперь уже блестящий знаток английского, стал помогать Алексею переговариваться с многочисленными иностранными поставщиками. Ему в помощь была приобретена чуть ли не первая модель мобильного телефона, представлявшая собой чемодан с ручкой. С этим устройством Саша стал приходить на занятия, вызывая трепет в душах простых смертных, в том числе и моей. Не выпуская мобильника из рук, мой друг прямо в коридорах МГУ уверенно договаривался о выгодных ценах и заниженных инвойсах с колумбийскими и эквадорскими воротилами, уносясь в бриллиантовую даль. К лету он приобрел подержанный, но все же настоящий «БМВ 318» за целых три тысячи долларов! Иномарки только-только появлялись в Москве. В основном по улицам по-прежнему колесили «Волги», «Жигули», «Нивы», «Запорожцы» и «Таврии». Восходящая звезда эстрады Киркоров ездил на старой, обшарпанной семерке «Жигулей»! Приехавшего в Москву Депардье повезли на Бородинское поле тоже на «Жигулях». А у Саши уже была «БМВ»! На таких машинах ездили только удачливые коммерсанты и бандиты, которых, между делом, стало удивительно много: они были нужны смутному времени для передела собственности. Молодые, здоровые, часто бритые наголо, одетые в черные кожаные куртки и тренировочные костюмы «Адидас», они переговаривались на каком-то своем языке: «ты че рамсы попутал?», «ты, типа того, не быкуй, падла». Откуда они вообще взялись? Короткие сиплые фразы сопровождались характерными движениями пальцев — «распальцовкой», или, как еще говорили, «пальцами веером»: это когда мизинец, указательный и большой пальцы отогнуты, а средний и безымянный подогнуты к ладони. Их звали Вованами, Колянами, Женьками… Весной 93-го они беспощадно бились за место под солнцем.
— Слышал, Глобуса в «Лис’С» убили? — спросил меня Остапишин на лекции.
О «Лис’С» я слышал, это была самая недоступная в Москве дискотека, располагавшаяся в спорткомплексе «Олимпийский», ее рекламировали по телеку: «Курицы говорят: «Я пойду на дискотеку «У Лис’Са». Только там можно познакомиться с путевым парнем!». А вот о Глобусе мне не было известно ничего.
— Кто такой Глобус? — полюбопытствовал я.
— Авторитет криминальный! Читай, — Саша протянул мне свежий номер газеты.
В ней рассказывалось, что Глобуса, которого на самом деле звали Валерием Длукачем, действительно застрелили. Он с телохранителем выходил из дискотеки, и их расстреляли из автомата. Глобуса убили сразу, а телохранителя ранили. Друзья Глобуса втащили обоих в белоснежный Chevrolet и на огромной скорости рванули к Институту Склифосовского — спасать раненого. За ними, попрыгав в Lincoln и Ford, погнались нападавшие бандиты. Замыкал кавалькаду наряд милиции, бросившийся в погоню и за теми, и за другими на «Жигулях». По дороге друзья Длукача вызвали подмогу, та подоспела очень быстро: к Склифу подкатили четыре иномарки, перекрыв все подъезды к институту, около двадцати человек заняли боевые позиции вокруг здания. Закончилось тем, что милиция задержала всех. Я прочитал историю с интересом, но она была обычной, каждый день по всей Москве шли разборки, а газеты кричали: «Бои идут уже на Садовом», «Рэкетиры сожгли непокорную фирму», «Подорвали в автомобиле», «Поджог магазина». Япончик, Михась, Сильвестр, Бобон, Петрик, Роспись, Кокос — имена маститых бандитов становились широко известны. Лихие девяностые набрали ход.
Окно в Европу
Мы с бабушкой Олей пили чай.
— Вот ты скажи, ты же экономист, — начала Оля. — Вчера я пошла в наш продуктовый. Масло стоило 625 рублей за килограмм. Зашла сегодня, то же масло продается уже по 825 рублей. Я спросила, что случилось? Никто не знает. Как же так могут быстро цены расти?
— Это шоковая терапия, — без промедления ответил я.
— Объясни, — Оля как бы меня не слышала, — объясни! Получается, что раньше моя пенсия была 75 рублей в месяц и на самое необходимое хватало, а сейчас из-за этой инфляции проклятой я получаю 4600, а на них даже двух килограммов сосисок не купишь! А продукты где? Уж и хлеб с маслом — роскошь. Как в войну! Что говорят экономисты? Неужели над нами и впрямь эксперименты ставят? Гайдар куда смотрит?
С Гайдаром и впрямь была беда. С каждой его реформой случалось одно и то же. Сначала все газеты долго и отчаянно кричали, что реформа необходима нам как воздух, что с ней преступно долго тянут, что если промедлят еще, то будет национальная катастрофа. Затем, как только реформу запускали, сразу раздавался истошный крик, что она преждевременна, непродуманна, суетлива, что есть лучшие и более разумные планы. Далее, когда реформа уже «пошла», отчетливо слышался стон, что она с треском провалилась в тартарары. Этот стон плавно переходил в проклятия в сторону Гайдара и его правительства и в гадание, когда же их всех вместе отправят в отставку, что, наконец, случилось. Гайдара как только не обзывали к этому времени — и «чикагским мальчиком», за его приверженность монетаризму, и просто «мальчиком в коротких штанишках». Когда он выступал в парламенте, его демонстративно переставали слушать, хихикали, а когда однажды Ельцин сказал про Гайдара: «Он мужественный, преданный своему делу и просто умный», парламентарии и вовсе расхохотались.
— Оль! Да Гайдара-то уже в отставку со свистом отправили, — решил отговориться я.
— Да знаю, знаю. Теперь у нас какой-то Черномордин главным стал. Кто такой? Никто не знает. Индустриалист, говорят. Ну, а виноват-то все равно Гайдар. Ведь кто реформы начал? Он.
— Не Черномордин, а Черномырдин. Премьер-министр.
— У нас во дворе его все Черномординым называют, а в газетах пишут, что он — «гомо советикус».
Оля снова была права: о Черномырдине народу не было известно ничего. Зазвонил телефон, не старый, дисковый, с длинным, завивающимся проводом, а новый — цифровой, трубкой, с длинной антенной, заряжающийся от базы. Когда в нем садилась батарейка, он мигал красным огоньком. Самое главное, он был без шнура, поэтому с ним можно было расхаживать по всей квартире и даже, подумать только, выходить на улицу!
— Это тебя, — бабушка протянула мне трубку.
— Алло.
— Дима?
— Да.
— Добрый вечер. Это Кирилл Валентинович, преподаватель английского.
— Здравствуйте, Кирилл Валентинович.
— Не отвлекаю?
— Нет.
— Тут один мой студент по имени Сергей, он учится на год старше вас, ищет сотрудников. Он работает в совместном предприятии «Делойт энд Туш Томатсу Интернэшнл»[93]. Вы бы не хотели попробовать?
— Да, конечно.
— Как я понял, основной задачей на первых порах будет переводить. Вас устроит?
— Да, Кирилл Валентинович.
— И, что важно, это работа с гибким графиком, от учебы она не оторвет.
— Хорошо.
— Тогда я вас порекомендую. Сергей будет ждать вас в офисе «Делойт» в четыре вечера. Вот еще, совсем забыл. Ему нужны два человека. Вам кто-нибудь приходит на ум?
— Сева приходит.
— Сева? Замечательно. Тогда завтра приходите вдвоем.
— Спасибо.
Дождавшись, когда я закончил разговор, Оля принялась расспрашивать меня про «Лотто-миллион». Эту «олимпийскую лотерею» рекламировали везде — на площади Маяковского висел огромный воздушный шар с надписью «Впервые «Лотто-миллион»», под уличными часами прикрепили знаки «Лотто-миллион», повсюду расставили сине-золотые киоски, в которых можно было попытать удачу, а по телевизору крутили рекламу: «У меня будет вот такой миллион! Надо спешить! На всех не хватит! Хочу!».
— Платишь десять рублей, а выиграть можно двадцать миллионов, — поделилась со мной Оля сокровенными мечтами.
— Бабуля! — возмутился я. — Ты уже и в лохотрон, и в наперстки пробовала, только лотереи тебе и не хватало!— А что? — бабушка хитро посмотрела на меня. — Может, кто-то и выиграет. Не волнуйся, я играть не буду, а вот Соловей собирается. Он мяса уже два года не ел, пенсии не хватало. Может, теперь, говорит, повезет.
Ни Оле, ни мне было невдомек, что при поддержке высокопоставленных российских спортивных чиновников лотереей умело заправляли хитрые греки Коккалис и Шапанис, зарабатывая те самые миллионы. А Соловей… он и вовсе витал в облаках.
На следующий день нам с Севой предложили работу в аудиторской фирме международного масштаба «Делойт и Туш». Дела у Делойта шли в гору: в Москве стремительно множились фирмы с иностранным капиталом[94]. Многие из них были обязаны нанять аудиторов. «Делойт» был тут как тут. Фирма находилась на втором этаже старого здания в Делегатском переулке. Офис выглядел как расселенная и хорошо отремонтированная коммунальная квартира. Он занимал всего пять или шесть комнат, все они были маленькие.
Первым делом нас проинтервьюировали. Сначала вопросы задавал Сергей. Он оказался несимпатичным и высокомерным. Потом за нас взялся его начальник Зубайдур Рахман, полный, с сальным лицом, в синем двубортном костюме в полоску, стареющий бангладешец, причем из Бомбея, что показалось странным. В конце интервью Зубайдур сердито кивнул Сергею и объявил нам зарплату — 90 долларов в месяц! Мы с Севой не смогли сдержать радости и, счастливые, переглянулись. Доросли до больших денег! А доллары — это была еще и стабильность, ведь несмотря на то, что на Сухаревке, на стене одного из домов, по-прежнему висел плакат «Вернем рублю былую славу!», рубль совершал головокружительное падение — в апреле 93-го 1 доллар стоил 800 рублей, а ровно через год — 1800. Но нам теперь никакие обвалы рубля не были страшны.
Показали тесную комнатушку, где нам предстояло работать: здесь плечом к плечу уже сидел многообещающий Tax Department в полном составе — три человека. Все трое шумно собирались на Кипр, как я понял из разговора, осваивать тайные пружины загадочных офшорных компаний. Разносилась молва: в офшорах можно не только избежать налогообложения, но и спрятать деньги. Вывоз капитала из России начался. Покидая офис, уже на улице мы наткнулись на генерального директора компании Кирилла Угольникова, брата телезвезды Игоря Угольникова из программы «Оба-на-Угол-шоу». Он выходил из синей «Вольво» — небожитель!
Следующим вечером нас взяли на торжественный ужин в Московский коммерческий клуб, находившийся на Большой Коммунистической улице. В таком ресторане я не был никогда, он поражал воображение. За длинными столами, сдвинутыми в букву «П», восседали политики и чопорные иностранцы в дорогих костюмах, полосатых рубашках и галстуках «в огурцах». Нас с Севой посадили с краю, друг напротив друга. Я старался как мог: держал спину ровно, головой не вертел, улыбался, а с Севой, единственным моим собеседником в тот вечер, говорил вполголоса и вежливо, чуть ли не на «Вы». Впрочем, оправдание имелось — уж слишком возвышенной была обстановка. Когда услужливый официант галантно разнес меню, я и вовсе обомлел. Икра зернистая с блинами, паштет с киви, суп-пюре из лобстера и ассорти мясное «Малютка», в которое входили индейка бризоль, бифштекс слоеный «Слобода» и яблоко «бене»! От запахов закружилась голова! Ведь в Москве хоть и стало меньше очередей за продуктами, но они еще стояли за подсолнечным маслом и за хлебом. Совсем недавно в булочной на Грузинке висело объявление: «Хлеба нет!», а сама она была по этой причине закрыта. Валютный продуктовый магазин Stockmann выгодно отличался от других тем, что в нем были «Fresh Finnish eggs»[95].
А еще через день, после того, как нас попросили сопроводить приехавших в Россию международных финансистов в Большой театр, стало очевидно: Валентиныч помог нам вытянуть звездный билет! В Большом давали «Черевички»: музыка Чайковского, литературная канва — Гоголя. С Большим у меня с детства выходили казусы. Самый запомнившийся случился на скучной премьере «Млады» Римского — Корсакова. Все тогда казалось мне длинным: дирижер был длинен, смычки скрипачей были еще длиннее, певцы были просто длинными, а опера была длинна невыносимо. Мой одноклассник Валерка, очень неглупый парень, прозорливо прихвативший с собой карманный радиоприемник, в самый громкий момент оперы, который настал в 20.30, заговорщицки предложил мне прослушать «Новости спорта» по «Маяку». «Никто не услышит», — уверил меня он. После «Новостей спорта» началась программа «По вашим заявкам». «По многочисленным просьбам радиослушателей передаем песню Михаила Боярского «Дрессировщик»», — монотонно произнесла ведущая. «Ура! — возбужденно прошептал Валерка. — Это моя любимая!». «Моя тоже», — поддержал я. Радиоприемник лежал перед нами на красных бархатных перилах верхнего балкона. «Ап! — заголосил Боярский. — И тигры у ног моих сели. Ап! И с лестниц в глаза мне глядят». Внизу бушевал оркестр, смычки пели исступленно, дирижер самозабвенно размахивал палочкой, его длинные седые волосы, развеваясь, не поспевали за вдохновением. Музыкальная волна нарастала, становилась мощней, и вот, наконец, как девятый вал, она обрушилась сначала на партер, потом на амфитеатр, вжимая восторженных театралов в спинки кресел. Вдруг… Дирижер взмахнул палочкой и замер, предвкушая овацию. Вместе с ним замер оркестр, и весь театр погрузился в звенящую тишину. И тут Боярский взял свое: «Ап, и кружатся на карусели. Ап, и в обруч горящий летят», — раскатилось по залу. Нас, конечно, с позором изгнали из театра, а потом вызвали родителей в школу.
Теперь, много лет спустя, посередине «Черевичек» бессовестно, на глазах у влиятельных иностранцев, засыпал мой друг Сева, променявший накануне драгоценный сон на кипу скучных бухгалтерских документов, выданных Зубайдуром для ознакомления. Вернее, сначала он, как это получше описать, клевал носом. А на протяжной, душераздирающей арии кузнеца Вакулы: «Слышит ли, девица, сердце твое лютое горюшко, горе мое?», силы Севу покинули совсем. Мой друг более не смог держать голову, и она, плавно качнувшись влево, потом вправо, потом снова влево, мягко легла на плечо президента Европейской федерации инвестиционных аналитиков и старейшего члена Комитета по международным стандартам финансовой отчетности господина Дэвида Даманта. Я ущипнул Севку, но он даже бровью не повел. К счастью, Дэвид Дамант, благодушный дедуля, сидел с влажными глазами и не отвлекался по пустякам.
За сладким пряником, однако, настало время кнута. Нас подключили к важной работе по подготовке, ни много ни мало, Закона об аудиторской деятельности в РФ. Валентиныч не обманул: с утра до ночи мы переводили. Устно, письменно, синхронно, последовательно — по-всякому. Но прежде всего нас посадили перед компьютерами, которые тогда были исключительной редкостью, и научили работать с программой Windows. Программа полностью оправдывала свое название — на нас вылетали настоящие беспорядочные, неуправляемые окна!
Мало-помалу нас стали приглашать на встречи партнеров «Де-лойта» с государственными деятелями, из которых запомнил лишь Татьяну Парамонову, банкиршу Центрального банка, и Починка́, председателя планово-бюджетной комиссии парламента, будущего министра. В промежутках между встречами мы письменно переводили занудные бухгалтерские тексты. Работа была монотонной и кропотливой, оттого — изнурительной. Но мы старались изо всех сил. Допускаю, что первыми переводчиками с русского на английский таких статей бухгалтерского баланса, как «животные на выращивании и откорме», «рабочий скот» и «продуктивный скот» были мы с Севкой.
— На референдум пойдешь? — спросил меня Севка в апреле[96].
— Конечно.
— Да, да, нет, да? — улыбнулся Севка.
— Им я не верил никогда, мой ответ: «Да, да, нет, да»! — отчеканил я разрекламированную речевку.
— Судьба России в наших руках, — парировал Севка другим известным слоганом времени.
На носу был очередной референдум. На нем нам предлагалось поддержать либо Ельцина, либо парламент, который дерзко наступал на президента, стремясь перехватить контроль над правительством, а заодно и всю власть в стране. В какой-то момент парламент даже чуть было не отрешил Ельцина от должности. Делалось все по закону, в соответствии с Конституцией, поэтому Ельцин даже не мог особо противостоять и лишь называл происходящее «ползучим переворотом». Единственное, что ему удалось, — добиться проведения референдума. Агитация развернулась мощнейшая. Сторонники Ельцина призывали сказать «Да, да, нет, да»: три «да» — президенту России, курсу реформ и досрочным выборам депутатов и одно «нет» — досрочным выборам президента России. Но было много и тех, кто как мантру повторял «Нет, нет, да, нет!»: ведь, как говорили, если Горбачев за шесть лет правления довел нас до ужасной пропасти, то за шесть ельцинских месяцев мы сделали громадный шаг вперед. Народ сказал четыре «да», но референдум вообще ничего не решил. Напряженность не спа́ла. Парламент продолжил точить свои длинные кинжалы.
Щедрая надбавка
Мы с Севой работали все больше, и, как всегда в таких случаях, стало казаться, что нам недоплачивают. Тщательно все взвесив и бесповоротно решив, что надо требовать повышения зарплаты, мы направились к Зубайдуру Рахману.
Зубайдур внимательно выслушал нас, сидя в огромном кожаном кресле бежевого цвета, закатил глаза, недовольно пошлепал пухлыми губами, пошипел, пофыркал и спросил:
— Ну и насколько больше вы хотите получать?
— На 10 долларов в месяц, — ответили мы, имея в виду повышение с 90 до 100 долларов каждому.
Зубайдур задумался минуты на три, устремив свой взгляд сначала в стену, потом в потолок… Судя по трагической гримасе, дума его была тяжелой. Наконец он вернулся на грешную землю, запустил руку в карман и достал две мятых пятидолларовых бумажки.
— Хорошо! Вот, держите, — он протянул нам банкноты. — Ваши десять долларов. На двоих!
Мы с Севой в шоке переглянулись. Гневить судьбу было неразумно. Лишние 5 долларов мы все-таки получили, а это было немало — средняя зарплата в стране в мае равнялась примерно 18 долларам. А деньги были очень нужны. Хотелось не только сводить концы с концами, но и развлекаться. Появившиеся в газетах разделы «светской хроники» задавали ориентиры: «В гостинице «Космос» отмечалась годовщина РТСБ[97]. Как ни странно, мужчины предпочли появиться в зале в блейзерах — от Кензо (Kenzo) или Лагерфельда (Lagerfeld). Предприниматель Константин Боровой был одет в строгий темно-синий костюм, белую рубашку с широким галстуком в красную и синюю полоску. Блиставшая на приеме Ирина В. призналась, что предпочитает одежду и духи французских фирм, хотя и не разделяет повальное увлечение черным цветом, о чем свидетельствовал ее элегантный удлиненный белый пиджак. Проявлением индивидуальности г-жи В. явились очки, на покрытие оправы которых пошло чистое золото и полудрагоценные камни — корунд и горный хрусталь. Этот эксклюзивный вариант оправы фирмы Casanova обошелся ей в $300». Вот еще: «30 апреля 1993 года Федор Бондарчук решил выйти из затворничества и снял рекламный ролик с участием своей жены, а также Филиппа Янковского и Степана Михалкова. Рекламировали они горячительный напиток, а именно водку «Зверь». Затем вся компания отправилась в технодискотеку, расположенную в кинотеатре «Ударник», где в этот вечер веселилась едва ли не вся «золотая молодежь» столицы. Там они встретили Артемия Троицкого и Степана Полянского (ведущего «Лотто-миллион»). Не пожелав расставаться, многие из участников встречи на дискотеке продолжили веселье на известном пляже на Николиной Горе». Наконец, «президент Ассоциации международного сотрудничества «Кентавр» Григорий Н. обвенчался с двадцатилетней московской студенткой Ириной. Своей невесте он преподнес в виде свадебного подарка бриллиантовый гарнитур и дом в Гамбурге. Григорию Н. 32 года. Закончив Институт физкультуры, он стал профессиональным самбистом; в прошлом был чемпионом Москвы по самбо. Свою деятельность в бизнесе начал с перепродажи аудио- и видеоаппаратуры, потом освоил торговые операции по компьютерам. Когда появилась возможность, свои знания в области рыночной экономики пополнял в Англии и Болгарии, окончил Высшую коммерческую школу Занимался организацией антикварных аукционов»[98].
Саня Попов
В конце мая среди бела дня хлопьями пошел снег, таявший на лету. Нам с Севой не сиделось дома. В последней электричке мы ехали с Павелецкого вокзала за семьдесят километров в Привалово на день рождения к моему ровеснику и соседу по дедушкиной даче Сане Попову, которого знал с детства, с тех давних «дней, где утро было рай, и полдень рай и все закаты! Где были шпагами лопаты, и замком царственным — сарай!»[99]. Саня закончил великолепную школу № 91 на улице Воровского[100]. В ней Академия образования проводила эксперимент, усиленно преподавая и математику, и английский. То есть это была спецшкола в квадрате. Удивительно, но Саня ухитрился оказаться вне эксперимента, очутившись в так называемом «литературном классе», где ни математику, ни английский углубленно не изучали. Зато Саня стал много читать, а из книг впитал непреходящие ценности, став добрым, отзывчивым и надежным другом для многих.
В детстве мы бегали с Саней в лес за подберезовиками и подосиновиками, строили шалаши, гоняли на великах, подкладывали камни на рельсы перед приближающимися поездами, втайне надеясь пустить их под откос, забирались в заброшенные дачи, ловили тритонов и пиявок в ручье и карасей в пруду, прятались в зарослях кукурузы на бескрайнем колхозном поле, ходили в деревню за молоком, звеня бидонами, аукали в колодцы, мечтали добраться украдкой от родителей до загадочной церкви в Кишкино, затерянной в глухих лесах, а один раз даже подглядывали из окна Санькиной комнаты, как раздевается в доме напротив, готовясь к дневному сну, красивая Регинка, девчонка, которая была старше нас года на четыре. Регинка уже несколько раз побывала с родителями в ресторане ВТО (Всесоюзное театральное общество), где, она была уверена, на нее обратил внимание подающий надежды Леня Ярмольник, только что сыгравший в эпизодах фильма «ТАСС уполномочен заявить». Регинка была влюблена в Ярмольника. Я ревновал. Сане было все равно. Он беспрестанно слушал песню БГ «2-12-85-06 — это твой номер»[101]. С тех далеких времен это единственная песня Гребенщикова, которая мне нравится. Раз в месяц вечерами мы разжигали костер на опушке бескрайнего леса, где весь наш поселок, взрослые тоже, собирался беседовать, запекать картошку в углях и петь песни под гитару. «Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены» и «в флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса», — брал за душу наш сосед, калека на костылях, отец двух детей, арендовавший на лето Аксаринскую дачу. Аксарин был дед дворянского происхождения, тонкий и длинный, как бамбуковая удочка. Он был старожилом поселка и развел в нашем пруду карасей. В высоком черном небе висела космическая, буквой «W», Кассиопея, а наполненные ковши Большой и Малой Медведиц сказочно оберегали Млечный Путь от слишком яркого пламени нашего безудержного, трескучего костра. Саня был симбиозом двух людей — юного Платона Каратаева (напомню, что Платону в «Войне и мире» было за пятьдесят; чтобы вообразить Саню, надо представить Каратаева молодым) и игрока «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза. Платон — душа, Скоулз — внешность. Короче говоря, мы с Севкой мчали к Сане.
Выйдя на платформе Привалово, мы затянулись свежим воздухом. Когда, шипя, уползла в даль электричка, нас окружила кромешная тьма — наша попутчица в трехкилометровом марш-броске до Сани — через поле, потом сквозь деревню Константиновские хутора, где дома и деревья встали плечом к плечу, а затем — по кромке березовой рощи. Торопились мы, как выяснилось, зря. Саня давно заснул, сжимая в руке полупустую бутыль. Его огромный дом тем временем ходил ходуном, скрипя своими старыми досками. Музыка гремела, пляски сбивали с ног. Гибкая черноволосая болгарка рванулась на меня из темноты, обожгла неистовым взглядом. Слышался бубен и звон гитары. В дальней комнате друг Попова Миша Фишман настойчиво вызывал кого-то на дуэль, требуя немедленной сатисфакции. Мы с Севой решили ничего не замечать и, прихватив наколотой березы, прямиком направились на ночлег на мою дачу.
Однако висячий замок на входной двери не откликнулся ни на один из многочисленных ключей в связке, выданной мне дедушкой. Тогда Севка отыскал на ощупь в сарае напильник и взялся спиливать замок. На это ушел час. Потом мы отчаянно бились с мышами черной чугунной кочергой и топили промерзший дом, доверху закладывая добротную печь санькиными сучкастыми дровами и выпивая между делом. Лишь предрассветным утром, уже из последних сил, мы снова двинули к Саньке и замерли, увидев выплывающую нам навстречу из густого тумана и вихрастых кустов шатающуюся фигуру в старомодном длинном пальто и белой панаме. Это был Санька. Из-под полы он медленным, хмельным движением извлек бутыль, мы отпили из нее и вскоре дружно провалились в беззаботный, крепкий сон. Ту ночь я запомнил. В ней была какая-то счастливая завершенность.
Знакомство со Стефани
Внезапно нам с Севой сообщили, что надо ускоряться, время не ждет, стране нужен законопроект. Так и сказали. В связи с этим «Делойт» решил объединить усилия с не менее известной аудиторской компанией KPMG, создав специальную команду, в которой оказались мы с Севой, а также пара человек из KPMG, среди которых была студентка-француженка Стефани, приехавшая из Школы бизнеса Бордо в Москву на летнюю практику. Тогда мне было не лень размышлять над происхождением аббревиатуры «KPMG». Оказалось, что это простое сложение первых букв имен отцов-основателей. Клинвелд из Голландии, Пит из Лондона, Марвик из Нью-Йорка и Герделер из Германии каким-то сказочным образом пересеклись на какой-то широте и долготе, чтобы создать вечного монстра аудиторских проверок. Именно в офисе KPMG я в первый раз увидел Стефани. Она энергично копировала что-то на огромном ксероксе. «Симпатичная», — сразу же решил я.
Для того чтобы ничто не отвлекало от законопроекта, нашей специальной команде выделили небольшую комнату на 22-м этаже здания законотворческого Верховного Совета на Новом Арбате, дом 17. Из большого, во всю стену, окна открывался сногсшибательный вид на центр любимого города. У окна были и минусы: солнце сквозь него иной раз пекло так, что вспоминалась въедливая реклама Московского вентиляторного завода, которую крутили по телеку:
Если в вашем цехе душно, если в офисе жара, То, видать, пора настала заключать договора. Вам пора и вам пора с вентиляторным заводом Заключать договора. Заключать договора! Если любите прохладу, свежий воздух круглый год, Обращайтесь на Московский вентиляторный завод!Словосочетание «заключать договора» вызвало тогда среди филологов серьезные споры о том, как правильно говорить: договора или договоры?
Вещи с Делегатской на Новый Арбат мы перевозили на троллейбусе «Б», курсировавшем по Садовому. На остановке «Улица Алексея Толстого» (ныне — Спиридоновка) я выскочил, чтобы добежать до любимой бабушки Оли на Грузинскую и похвастаться лэп-топом.
— Что это? — спросила Оля.
— Компьютер!
— Компьютер? — Оля испуганно закрыла лицо руками.
— На работе выдали!
— Ой! А не опасно с этой штукой вот так по улицам расхаживать?
На Новом Арбате мы теперь работали вчетвером — Сева, я, Стефани и Сергей. Сергей мне не нравился. Невысокий блондин с советской стрижкой и протокольной внешностью, он был занудой, хвастуном и умником, лишенным обаяния, но зато с необычайно высоким мнением о себе. Со Стефани он сразу пошел на сближение, стал ежедневно звать ее обедать, а нас как будто не замечал. То ли сесть с нами за один стол было ему зазорно, то ли думал, что мы не голодные. Но что делать? Начальник, он и есть начальник. Спасибо Стефани, она часто, возвращаясь, приносила нам гостинец — то «Биг Мак», то сэндвич из «Бургер Квина», новой забегаловки на Никитских воротах.
Иной раз мы с Севой спускались прогуляться и сразу оказывались в муравейнике, потому что Новый Арбат по-прежнему был базаром — нагромождением киосков. Однажды в одном из продавцов я узнал парня с нашего факультета. Он выглядел как миллионер — шикарные слаксы, топ-сайдеры и клубная куртка Yankees поверх модной майки с иностранной надписью на груди.
— Это моя палатка, — гордо сказал он и, указывая на киоск, добавил: — Видишь, недавно название придумал.
Киоск, который оберегал напряженный охранник с черной резиновой дубинкой в руке, украшало название «Stop&Shop».
— А зачем название? — поинтересовался я.
— Раньше не нужно было, а теперь — конкуренция, выделяться надо.
— Что-то я тебя на факультете давно не видел, — заметил я.
— И не увидишь больше. Все. Я бросил учиться. Финита. Я тут знаешь сколько зарабатываю? Всем профессорам вместе взятым не приснится.
— Жалко учебу бросать.
— Чего жалеть, все равно не пригодится.
— А рэкетиров не боишься?— Нет. Я им исправно плачу, причем не так уж много, — ответил мой собеседник. — Зато спокойней стало. Сначала киоски воровать перестали: раньше ночью кран подъезжал и увозил. Теперь о налетах почти забыл: бывало, по два-три раза за ночь отбивались.
По дороге в офис я решил повнимательнее разглядеть киоски. В самом деле, некоторые из них теперь украшали названия. Одна палатка называлась All for you, другая — Shop, третья — Special Shop, удивил киоск Thriller, принадлежавший, видимо, фанату Майкла Джексона, и уж совсем поразила надпись «Wir machen Haare schon»[102], приклеенная, вероятно, знатоком немецкого языка. Продавали в нем, как, впрочем, и во всех других киосках, все подряд — кроссовки, сигареты, одежду, фильмы на кассетах, диковинные женские тампоны Татрах и «оригинальный» молочный продукт «йогурт». Кстати, йогурты почти всегда были просроченные.
Однажды Стефани подошла ко мне и озабоченно спросила:
— А какую воду вы с Севой пьете?
— Не понял?
— Ну… Вы уходите с Севой в туалет и приносите оттуда чашки с водой. Что это за вода?
— А! Ну, конечно. Там, в туалете, мы из-под крана ее набираем! Еще чаще мы ее прямо из крана и пьем.
— Но ведь воду из крана пить нельзя!
— Как нельзя? Мы всю жизнь пьем!
— Нельзя! Только из бутылок! — и она протянула мне бутылку Evian.
— Пожалуйста! Пей только такую воду! И, кстати, надо пить не меньше полутора литров такой воды в день!
Я был потрясен! Вот это да! Иностранщина! Вода из бутылок! Смешно! Мы с Севой снисходительно поглядели на Стефу… И пошли набирать воду в туалете.
— Дим, — обратилась ко мне в другой раз Стефани. — Ко мне в гости на выходные приезжает друг из Германии. Роланд. Возьми нас с собой на «true Russian party»[103] ! Пожалуйста!
Отчего не взять? У Лаврика в пятницу намечалась грандиозная тусовка.
В пятницу вечером мы с Лёничем подобрали иностранцев в «Славянской» и повезли их к Жене. Пришлось долго стоять у двери и ждать, пока хозяин расслышит наш непрерывный звонок. Наконец дверь открылась. Оглядев моих попутчиков неприветливым, колючим взглядом с ног до головы, Женя нелюбезно спросил:
— Кто это?
— Иностранцы с работы. Француженка и немец.
Женя нахмурился, осуждающе посмотрел на меня, расстроенно опустил руки, медленно развернулся и с нотками раздражения в голосе протянул: «Б…! Руденко импортных привел…». Остапишин выскочил в коридор и с любопытством рассматривал Стефани и Роланда, из-за его спины выглядывал Ерванд с рюмкой опередива. Уважительный прием, таким образом, был оказан. Не на это я рассчитывал. С другой стороны, поведение Жени можно было выдать за элемент «true Russian party».
— Небось голодные? Есть будут? — через плечо пробурчал Женя, не желая смотреть в мою сторону.
— Не знаю. А какие варианты?— Вариант один: три сосиски и пюре. Огурец еще есть соленый. Один. На всех. Больше нет ничего.
И хлебосольный Женя, не дожидаясь ответа, понуро побрел на кухню угощать иностранцев. Роланд со Стефани ели с аппетитом. Человек десять смотрели на них с завистью: сами очень хотели есть.
Шерше ля фам
От Жени мы понеслись в новую модную дискотеку «Эрмитаж» в Каретном ряду, хотя кто-то звал в «Igor’s Pop Show» Игоря Селиверстова в Лужники[104]. В «Эрмитаж», рекламировавшийся только в англоязычной газете The Moscow Times, съезжалась исключительно изысканная и интеллигентная публика. Бандитов здесь не было. На входе, у старинной колоннады, мы увидели плотную очередь, упершуюся в нескольких крупных и очень неприветливых охранников в черных одеждах. Внутрь не пропускали. Только модная певица Лика Стар, популярный Богдан Титомир и Влад Сташевский под руку с продюсером Айзеншписом сумели кое-как проникнуть за заветную дверь. Шансов, казалось, не было никаких, как вдруг, настроившись на звуковые волны, я перехватил тихий разговор охранников:
— Слышь, иностранцы не подходили еще?
— Какие иностранцы?
— Да тут какие-то должны были подойти. Из банка. Не то «Чара», не то «Черри» называется, я не разобрал.
— А… Вроде не было.
— Если подойдут, пропусти!
— Ладно!
Это был подарок судьбы. Я взял Стефани за руку и стал протискиваться сквозь очередь ближе к охраннику. «Hello!» — выкрикнул я. Он взглянул на меня, но тут же отвернулся, делая вид, что ничего не слышал.
— Hello! We are from Cherry bank. Hello![105] — я нагло уставился на него. — Cherry bank!
— Колян! Слышь! Тут иностранцы подвалили. Из банка этого! — здоровенный охранник неожиданно занервничал. Это была советская робость перед иностранцами.
Подбежал Колян: «Что, как, где, чего делать будем?».
— We are from Cherry Bank, — уверенно повторил я. Отступать было некуда.
— Да понял, понял я. Колян! Как по-английски будет «сколько их»? А… Хау мэни… Да? — он повернулся ко мне и спросил: — Хау мэни?
— Twelve. We are twelve[106], — выпалил я.
— Проходи! Гоу, гоу. Сосчитай их, Колян.
Это была победа!
Дискотека заворожила. Огромный танцпол, бар с белыми пластиковыми столами и стульями, модная музыка. Танцевали до упаду под хиты Асе of Base и Army of Lovers. По домам разошлись под утро.
На следующий день Стефани и Роланда было от нас не отлепить. Они требовали продолжения, которое, впрочем, было в планах. Вечером в своей квартире устраивала прием Гольданская. Олин дом стоял на высоком берегу Москвы-реки, неподалеку от места, где мастер, Маргарита, Воланд и компания навсегда прощались с Москвой, глядя с величественных Воробьевых гор вниз на раскинувшийся за рекой город, на пряничные башни Новодевичьего монастыря… Прекрасный, желтый с белыми колоннами редкий дом на улице Косыгина. Квартира была не то чтобы большая, но и не маленькая. А когда открывалась дверь в волшебную половину бабушки, то помещение раздвигалось до черт знает каких пределов, как в пятом измерении. На стенах висели картины Олиного приятеля художника Балашова, а на книжной полке стояли книги про прадеда, придумавшего цепную реакцию. Когда мы приехали, гости уже собрались. За столом на кухне светскую беседу вели начинающая радиоведущая Рита Митрофанова и Лаврентьев, их с интересом слушал инязовец Алексей, Остапишин что-то выяснял у хозяйки дома, Балашов любовался своими портретами.
Иностранцев снова приняли равнодушно. Лишь Серега Немчинов оживился, увидев француженку. Тут же я понял почему. Он приготовился излить весь свой французский репертуар, почерпнутый из советских фильмов. «Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс?» — для начала поинтересовался Серега на чистом русском. Не дожидаясь ответа и хитро подмигнув Стефани, Немчинов продолжил: «Бон жур, шерше ля фам?». Девушка вздрогнула. «Ха-ха! — засмеялся Серега. — Шерше ля фам, ищите женщину! Понимаешь? Фильм у нас есть такой!». Он вопросительно взглянул на Стефани и добавил: «Се ля ви!». Потом он улыбнулся мне и ласково промурлыкал: «Ну а ты шепнул судьбе: «Мерси боку, мерси боку»?». Стефани захлопала ресницами. Осознав, что юмор непонятен, Серега озадаченно повел бровями: «Так… Что еще? — хлопнул он себя по бокам и тут же радостно выпалил следующую реплику. — Же не манж па сиз жур (Je ne mange pas six jours)!». Француженка с явным непониманием, даже испуганно, смотрела на Немчинова, изо всех сил пытаясь уловить смысл неправильно построенной и от того лишенной смысла фразы. «Дим! Неужели она и этого не понимает? Где ты ее откопал? Она француженка вообще, а? О чем же с ней говорить?». Серега недоумевал. Вдруг его осенило, и, вспыхнув как лампочка, он затянул песню: «Когда мой друг в крови, à lа guerre comme à lа guerre! Ну хоть это-то понятно?». Пришлось увести Стефани в другую комнату. Немчинов провожал нас набором отчаянных реплик: «Пуркуа па, пуркуа па, почему бы нет? Чао, бамбино, сорри! Лямур тужур!».
Когда вечеринка набрала обороты, включили магнитофон, начались танцы: «Помоги, помоги, я солдат твоей любви, как мне быть, подскажи, я не знаю…»[107]. Первой не выдержала темпа Стефани. Она рухнула на пол во время «солдата». Я подхватил ее и перенес в кресло. В это время инязовец Алексей уже вовсю цементировал историческую справедливость, недобро глядя на Роланда, вслух вспоминая сталинградскую битву, рисуя свастику на пыльных поверхностях квартиры и угрожающе демонстрируя познания в немецком: «Ахтунг, ахтунг!». Могло кончиться дипломатическим скандалом, но, к счастью, обошлось.
Вообще-то Алексей был интеллигентом. Был известен случай: вместе с Ервандом они как-то решили побомбить, то есть заняться частным извозом на папиной машине, ночью. За рулем — Ерванд, рядом, штурманом, — Алексей. Долго колесили без толку: начинающему автолюбителю Ерванду никак не удавалось затормозить машину перед голосующими — каждый раз проносился мимо. Но когда на обочине показалась восхитительная дива, шофер не промахнулся, предвкушая не только куш, но и многообещающее знакомство. «В Чертаново?» — спросила в приоткрытое окно красавица. «Да!» — дружно ответили ребята. После этого в мгновенье ока произошло странное: откуда-то появилось еле держащееся на ногах нетрезвое и ватное мужское тело в черной шубе, девушка впихнула его на заднее сидение, бросив на прощание короткое: «Все!», и была такова. Когда доехали до адреса, уже немного пришедший в себя пассажир открыл дверь, вылез, покачиваясь, из машины и, к удивлению бомбил, пошел прочь. «Простите, пожалуйста, — робко поинтересовался Алексей. — А как же мы будем решать финансовый вопрос?». Пассажир, не поворачивая головы, ответил фразой, которая на долгие годы врезалась в память ребят: «Этот вопрос попрошу решать без меня».
«Славяновская»
Встретившись на работе после бурных выходных, мы со Стефани посмотрели друг на друга по-новому Что-то такое… едва уловимое. Но не явное. Через несколько дней мы сидели рука об руку в ресторане «Олимп» в «Лужниках», где на торжественный ужин собрались создатели законопроекта об аудите. Кто-то, может, и обсуждал в тот вечер дела, но не мы. В конце ужина Стефани шепотом спросила:
— Не проводишь меня до «Славяновская»? — так Стефани ошибочно называла «Славянскую».
— Давай! — без колебаний ответил я. — А где Роланд?
— Он уже улетел в Германию. Он ведь только на выходные приезжал.
— Ах, да, забыл. Слушай, а он что, твой бойфренд?
— Нет. Просто друг.
— А зачем же он приезжал? У нас такого не бывает, чтобы молодой человек летел в другую страну к девушке просто так.
— А у нас бывает, — отрезала Стефани. — Он мечтал побывать в Москве. Так проводишь меня сегодня?
— Конечно!
Я посмотрел на Стефани и ясно почувствовал, что она мне нравится. Все тут сыграло свою роль — и яркие выходные, и то, что я уже был навеселе, и, конечно, то, что Стефани была волшебной иностранкой, девушкой с совершенно другой, незнакомой, загадочной планеты. Наконец, никто не отменял химии. Мне показалось, что нас тянуло друг к другу. Тут некстати откуда ни возьмись возник начальник Сергей и повелительным тоном бросил: «Стефани, я провожу тебя!». При этом он надменно зыркнул в мою сторону. Стефани с выразительной досадой согласилась и пронзительно посмотрела на меня. Наш план полетел в тартарары. Они поймали машину и умчались. Я, запрыгнув в такси, как шпион, помчался за ними.
У переливающейся огнями «Славянской» Сергей слащаво откланялся Стефани и упругой походкой супермена направился к «Киевской». Стефани вошла в гостиницу. Обоих я проводил взглядом из подъезжающего ко входу отеля такси и, выскочив из него на ходу, нырнул за Стефани. Заходить в «Славянскую» было очень страшно, но мной двигало какое-то неведомое чувство. Остановиться было невозможно. Решив испытать судьбу, я пролетел сквозь ряд страшных, черных, с рациями, охранников на входе, затаив дыхание добежал до лифта, поднялся на четвертый этаж и ворвался в пустой длинный коридор. Через миг я стучался в дверь номера Стефани. Она не открывала. Прислушавшись, я различил звук работающего душа: «А, вот в чем дело!». В это мгновение в коридоре появился здоровенный сотрудник службы безопасности и пошел ко мне. Он надвигался на меня командорскими шагами, и, казалось, губы его шептали: «Брось ее! Все кончено. Дрожишь ты, Дон Гуан!». И вот уже он протянул ко мне длинную руку с толстыми пальцами. «О, тяжело пожатье каменной его десницы! Оставь меня, пусти, пусти мне руку… Я гибну — кончено — о Донна… Стефани!» — пронеслось в голове. Я стал похож на гальванический ток, который одним касанием изменяет металл. Раздался мимолетный шорох и… вдруг дверь распахнулась. Передо мной, мокрая, укрывшись белым махровым полотенцем, стояла юная темноволосая француженка. Охранник пролетел мимо. Я зажмурил глаза и закусил нижнюю губу… Повисшая пауза показалась вечностью. Я выпалил: «So you got to let me know, should I stay or should I go?»[108]. Нелепо. К тому же я не любил эту песню группы «The Clash», но от меня тогда мало что зависело — слова как-то сами слетели с языка. Стефани посторонилась, безмолвно приглашая меня войти. В туже ночь мы решили пожениться…
Через неделю я уже был уверенным постояльцем «Славянской», где номер Стефани был оплачен фирмой KPMG на месяц вперед. Этим фактом я был несколько обескуражен. Номер стоил около 200 долларов в сутки. Выходило, что KPMG считала оправданным расход в шесть тысяч долларов в месяц только на гостиницу для моей французской ровесницы. А моя цена равнялась всего 95-ти «зубайдурам» в месяц.
Некоторые воспоминания не теряют со временем яркости. О, «Славянская»! То был сказочный мир. Мрамор, рояль в просторном холле, кафе и рестораны, Американский дом кино и самый лучший спортклуб Москвы, полугодичный абонемент в который стоил пятьсот долларов. Каждый вечер у нас был праздник. На крыльях любви мы летали по этому дворцу. Мини-бар был нараспашку. Шоколадного цвета сигареты Dunhill в зеленых квадратных пачках мы покупали, чтобы «попробовать».
На работу мы отправлялись по отдельности, чтобы не вызвать подозрений. Стефани раньше, я позже. Возле «Смоленской», в хлебной лавке, я покупал круглые теплые булочки с вареньем и шел дальше по Новому Арбату, мимо культового в советские времена кафе «Метелица». Теперь на первом этаже переливалось огнями Cherry Casino, а на втором — принимал гостей ночной клуб «Сноусторм». Уже на первой вечеринке тут лихо отплясывал экс-министр правительства Гайдара Петр Авен с очаровательной спутницей в черных шортах, а публика являла собой гремучую смесь воротил бизнеса, проституток, руководителей города, иностранцев, депутатов и музыкантов. Сева знал нашу со Стеф тайну в мельчайших подробностях. Сергей даже не догадывался!
Нашим любимым местом в то лето стало кафе «Маргарита» на углу Патриарших. Невысокий, крепко сбитый, пожилой охранник Анатолий, исполнявший по совместительству роль метрдотеля, расположился к нам настолько, что впускал даже тогда, когда в «Маргарите» яблоку негде было упасть. Главной в «Маргарите» была благоволящая нам женщина с необычной внешностью. Она была непохожа на Маргариту. Точно нет. Скорее это была Гелла[109], только молчаливая — «рыжая, в вечернем черном туалете, с горящими фосфорическими глазами, улыбающаяся хозяйской улыбкой». Уют в кафе создавал высокий полный тридцатипятилетний скрипач-конферансье Константин, всегда улыбавшийся, мокрый от энергических усилий. Он и плясал, и пел, играя то на рояле, то на своей «Страдивари». Время от времени Константин объявлял «break», брал в руки раскрытый футляр от изможденной скрипки и обходил столы: «Ladies and джентельменззз. Плиз. Don’t be shy! Our bank is opened»[110]. Особенно ему удавался сиртаки, а еще лучше чардаш. Заводились все, а мы быстрее других.
Однажды в «Маргарите» мы потеряли Остапишина. И так его и не нашли. Решили, что он уехал домой. А он никуда не уезжал, просто вышел на улицу, вдохнул теплый, душистый, июньский, старомосковский воздух полной грудью, окинул взглядом высокие дома, интеллигентным квадратом окаймлявшие Патриарший пруд[111], сел на белую покатую деревянную скамейку, на которой, быть может, произошла встреча Воланда с Берлиозом, потом лег на нее, веки стали чуть тяжелее, чем обычно… Проснулся он бодрым в шесть утра от громыхания поливальных машин, встал, подивился самому себе, отряхнулся и с чувством легкой неловкости заторопился домой.
Будем жить на «Аэропорте»
Через месяц Стефани надоело жить в гостинице. «Не могу больше! — сказала она. — Хочу на плите сама готовить!». И хоть эта позиция меня, понятно, несколько удивила, мы собрали чемоданы и переехали в пустующую квартиру моих бабушки и дедушки. Дедушка, фронтовик, оборонявший Москву, а теперь профессор истории, три года назад, в голодные времена, твердо решил завести натуральное хозяйство — так надежнее. Он обменял свою «Ниву», в которой материализовались все его сбережения, на большой старый дом в калужской глубинке на берегу ручья с серебряной водой и уже второе лето вместе с бабушкой проводил там, надеясь со временем превратиться в фермера, разводить кроликов и сбывать их в мексиканское посольство, благо посол Мексики был знакомым. Энергии дедушке было не занимать, к тому же он искренне считал, что, несмотря на все трудности, «жить сейчас интереснее, чем было в молодости, ведь столько всего происходит». Уезжая на лето, свою квартиру в прекрасном кирпичном доме, в двух минутах от метро «Аэропорт», с консьержкой и интеллигентными соседями, дедушка предоставлял в полное мое распоряжение. С тринадцатого этажа открывался захватывающий вид на Ходынское поле с самолетами, на здание МГУ. Даже Кремль был виден. «Как тут хорошо», — сказала Стефани. «Пожалуй», — согласился я.
Район — известный. Тут жили писатели, художники, музыканты и прочие необычные люди. Случайные встречи с ними повышали настроение. Однажды я встал в очередь за творогом в молочном магазине в сталинском доме, где находятся выходы из метро. Передо мной стоял почтенный скрюченный седой старик, опиравшийся на диковинную палку из дремучего леса. Очередь была длинная, и старик, видимо решив скоротать время, неожиданно обратился ко мне с вопросом:
— Молодой человек, а знаете ли вы, что такое эсхатологический дождь?
Захотелось ответить «да», но я не стал лукавить.
— Допустим, вы не знаете слово «эсхатологический». Тогда скажу иначе — апокалиптический, — продолжил мой нечаянный собеседник. — Так вот. Однажды я ехал на автомобиле по Рязанской губернии. Мне предстоял путь в пятьсот верст по асфальтовой дороге. Но была возможность срезать сто километров. Для этого надо было свернуть на грунтовку и ехать через поля. Решил срезать. Еду. Смеркается. И вдруг грянула гроза. Как у Ошанина: «Была гроза. Гроза как наводненье. Без отдыха. Все миги, все мгновенья — одна сплошная молния ребром. Один непрекращающийся гром». И обрушился эсхатологический дождь. А в России, как еще Гоголь великолепно писал в «Мертвых душах», «дороги расползаются, как раки». Особенно в дождливой темноте. Машина моя завязла, колеса покрылись грязью как войлоком! Я пытался вытянуть ее лебедкой — не вышло! Помощи ждать неоткуда. И тогда я, промокший до нитки, сел в машину, упал на руль, обхватил его руками и заплакал. И все повторял: «Велика ты, Россия! Люблю тебя, матушка! Ни уйти от тебя, ни уехать! Всюду настигнешь! Что захочешь, то со мной и сделаешь!».Тут наша очередь подошла. Мы взяли по пачке творога и разошлись с литератором в разные стороны, каждый со своей думой.
Девушки сильно влияют на своих petit amis[112]. Со Стефани я ощутил это впервые. Под ее пристальным оком я начал принимать душ дважды в день, утром и вечером. Спать я стал без подушки — так полезнее. Сахар в чай класть перестал, а воду пил только из пластиковых бутылок (кран был забыт раз и навсегда). Зубы теперь я чистил три раза в день — утром после завтрака, потом после обеда и вечером, перед сном. Причем исключительно французской зубной пастой «Signal» (Стефани называла ее «Сигналь»). Вещи стирал порошком «Ariel», а не «Эрой» и «Лотосом», как раньше. Я начал есть много сыра, а покупая его, обязательно щупал упаковку, проверяя, мягкий ли он, потому что мягкий значит свежий. Вино я, конечно, теперь обязательно болтал в бокале, а букет вдыхал прежде, чем выпить. Вытащив винную пробку штопором, я непременно нюхал ее. Водку я тоже стал нюхать. Я быстро привык к бумажным полотенцам, которыми всего два года назад так сильно удивил меня Шахворостов. Наконец, в редких случаях недомогания я стал принимать «Панадол», а не анальгин.
День рождения Лёнича
В конце июля снова провели денежную реформу — окончательно убрали Ленина с купюр. Опять неясность, обмен, очереди. Нам было все равно — Лёничу исполнялся 21 год! Уже четыре года, как мы были знакомы. Праздновали без родителей, в квартире Лёнича на 2-й Тверской Ямской, под хит Анжелики Варум «Ля ля фа». Было шумно и весело. Позже я придумал маленькую историю о том, что Ельцин, сосед Лёнича, спустился к нам сверху, привлеченный шумом, и, узнав про день рождения, опрокинул с нами рюмочку за здоровье именинника. Я часто рассказывал эту байку. Так часто, что сам в нее поверил.
Среди гостей была девушка Наташа, знойная брюнетка с нашего факультета, на год младше нас. У нее были карие глаза и хорошая фигура. Ходила легенда, что за ней совсем недавно отчаянно ухаживал молодой студент-физик из нашего университета по имени Олег Дерипаска. Олег страстно любил Наташу и каждый день провожал ее домой в отдаленный район Москвы. Наташа любезно принимала ухаживания, терпеливо выдавая Олегу пятачки на обратный путь: он не имел ничего за душой, кроме фундаментальных физических констант, побежденных теорий Эйнштейна и Гейзенберга и прочих премудростей. Впрочем, скоро история завершилась. Наташа, «муча перчатки замш», сказала голодному Олегу: «Я выхожу замуж»[113]. И переметнулась к молодому, спортивному, элегантному и, что важно, более обеспеченному французу, усердно сводившему в дикой России дебет с кредитом в крупном совместном предприятии. Француз быстро получил в подарок bebe, и молодая семья укатила в Париж. А Олег поехал в противоположную сторону, в Восточную Сибирь, в Саяногорск, прямо на проходную Саянского алюминиевого завода, где, топчась на морозе, как говорят, лично скупил акции СаАЗа. Потом алюминиевая отрасль стала полем криминальных сражений. На самолетах спешили в Сибирь из Москвы вооруженные отряды бандитов в камуфляже. Снайперы стреляли по занавешенным окнам местных авторитетов, автоматные очереди прошивали машины, на скамейках в парках сибирских городов находили засланных московских киллеров с удавками на шеях. Победителем тех войн волшебным образом вышел Олег Дерипаска, ставший алюминиевым королем. Наташа, узнав об этом в Париже, взгрустнула, повспоминала, всплакнула над чашкой горячего шоколада, вздыхая, побродила по Булонскому лесу и отважилась-таки позвонить Олегу. Секретари быстро связали трепещущую француженку с молодым богачом: «Олег, привет, это я, Наташа, как ты?». Олег Владимирович помолчал и повесил трубку.
Стрельба у дома
Знакомство Стефани с любимой бабушкой Олей вышло неудачным. Во дворе нашего дома на Грузинке стреляли. Потом, гудя сиренами, стали съезжаться машины милиции и «скорые». «Господи, да что ж это такое? — причитала Оля. — Уже до квартиры добрались. Когда же этот кошмар закончится?».
Быстро выяснилось, что грабят фирму «Маркой»; чем она занималась, я не знал. Преступники уже застрелили милиционера, забаррикадировались в здании и сопротивлялись. Их, впрочем, скоро обезвредили. Стефани беспокойно выглядывала в окно. Она неожиданно оказалась в гуще криминальных событий, а ведь еще совсем недавно удивлялась, как это возможно, чтобы в самом центре Москвы застрелили владельца ресторана «Трэн-Мос»[114]. Вроде бы из-за 40 тысяч долларов, хотя точно неизвестно… То убийство было громким, потому что «Трэн-Мос» знали все. Это был первый в СССР американский ресторан. Его открыли в далеком 89-м на Комсомольском проспекте в помещении кафе «Лада»[115], и с тех пор там обедали и ужинали знаменитости. Явлинский, Примаков, Шеварднадзе, Макаревич, Маша Распутина — они заходили туда, чтобы отведать стейк из телячьей ноги за $23.50, жареное филе-миньон за $30, печеную устрицу в соусе из шампанского — $5 за штуку, тушеное мясо лося à lа mode du chef за $18 или, на худой конец, двенадцатиунцевый гамбургер за $10. Мы никогда не были в «Трэн-Мосе», но время от времени наблюдали за ним из окна троллейбуса. Это был ресторан для инопланетян, к которому тянулись владельцы новеньких «Вольво», а «Вольво» считалась чуть ли не самой престижной машиной.
В конце лета Стефани умчалась во Францию учиться. Чего только мы, прощаясь, не сказали друг другу в Шереметьево! Она: «mon lapin, топ cheri, топ tresor, топ joujou»[116], а я: «шеришечка, ma petite, топ petit coeur, топ chou, топ bijou»[117]. Из этого великолепного ряда мне больше всего нравились «мон трезор» и «мон жужу». «See you in Paris?» — обняла меня Стефа. «Через месяц», — уверенно ответил я. Вернувшись домой, я вышел на балкон и долго смотрел на падающий за горизонт на Западе раскаленный большой шар солнца и на темноту, устремившуюся за ним в погоню с Востока. Было очень грустно.
Реклама ресторана «Трэн-Мос» в газете «Коммерсант»
После отъезда Стефани жизнь как бы замедлилась, образовалась пустота. Созвучным настроению был стих, сочиненный моим папой, когда ему было столько же лет, сколько и мне:
Я бродил по бульварам, тихо падали слезы С пожелтевших с годами, неухоженных лип, Серо-талые листья я листал, словно грезы, Под облезлых парадных затихающий скрип. Удлиненною тенью припадал к мокрым листьям, Растворялся в газонах и раструбах стволов. Мостовые ночные, как забытые письма, Сколько вы повидали преклоненных голов. Я бродил по бульварам, вдруг случайная нота Подхватила мелодий затихающий рой, Пианино играет, околдует кого-то, Заклубит тротуары, затуманит тоской.Этот стих мне очень нравился, но грусть он не отгонял. Спасали Музей кино и Севка. К Севке я переехал: в неблизком от центра городском районе Дегунино родители купили ему недавно однушку в новом типовом доме. Улица, на которой стоял дом, долгое время была безымянной, а потом ей дали звучное название Керамический проезд. Оттуда мы чуть ли не каждый вечер отправлялись в Музей кино смотреть ретроспективу фильмов Франсуа Трюффо. Музей располагался на Красной Пресне в одном здании с новомодным рестораном-клубом «Арлекино», вокруг которого вовсю велись криминальные разборки: ореховская и бауманская преступные группировки пытались взять его под свою «крышу». Не договорившись, они объявили друг другу войну. Это, впрочем, совсем не мешало нашим просмотрам. Война и мир соседствовали в одних стенах, не соприкасаясь друг с другом. Замерев, мы следили за судьбой Антуана Дуанеля, яркого героя Трюффо, почти нашего ровесника, упрямо перебиравшегося из фильма в фильм. И, хотя история Антуана была запечатлена в конце 60-х, я с удовольствием примерял на себя его не вышедший из моды французский пиджак. Антуан скакал с одной работы на другую — был то портье, то частным детективом, потом телемастером. Он учился любить невинную студентку Кристин Дарбон, но с замирающим от восхищения сердцем нырял в постель зрелой и богатой Фабьен Табар. Так Антуан самоутверждался. Еще он заряжал себя энергией, стоя перед зеркалом и произнося имена своих нечаянных юношеских побед: «Фабьен Табар? Фабьен Табар? Кристин Дарбон? Кристин Дарбон?», но потом приходил к тому, что центр Вселенной — это все-таки он сам — Антуан Дуанель, и он повторял: «Антуан Дуанель! Антуан Дуанель! Антуан Дуанель!!!»
Насмотревшись Трюффо и разомлев от французской романтики, я засобирался к Стефани в Париж. Поездка чуть не сорвалась: возле метро «Профсоюзная» меня жестоко «кинули» на сто долларов, а это были деньги, накопленные на студенческий авиабилет Москва — Париж. Лишился я своего состояния в секунду. Когда я занял очередь в обменном пункте, чтобы поменять доллары на рубли, ко мне подошел импозантный кавказец в костюме, поверх которого был наброшен великолепный плащ. Выглядел он грузинским князем в бурке.
— Вы доллары продаете? — галантно обратился он ко мне. Передо мной в очереди стояли шесть человек: много…
— Да, — кивнул.
— Выйдем на улицу? — предложил он.
— Да.
— Доллары настоящие? — задал он обычный вопрос. Тогда все боялись фальшивок.
— Да, конечно.
— Я проверю, ладно?
— Пожалуйста, — я протянул ему банкноту.
Он взял ее в руки, посмотрел на свет, а потом стал ее сгибать — сначала пополам, а потом еще раз пополам. «Что это он делает? — подумал я. — Такого я еще не видел». В этот момент откуда-то на нас надвинулась целая группа встревоженных кавказцев, кричащих: «Менты, менты, скорее уходим!». Мой компаньон засуетился и быстро проговорил: «Шухер, уходим, бери свои деньги». Он всунул свернутую зеленую бумажку мне в руку и в мгновение ока был таков. Я развернул банкноту и застыл на месте: вместо любимого Франклина на меня с купюры с сожалением взирал Джордж Вашингтон, а это значило, что обмен состоялся и что я поменял сто долларов на один.
Париж
И все-таки я летел в Париж! Не верилось! Даже в самых дерзких мечтах я не представлял себя во Франции. Это позже, через несколько лет, все разъездились по миру, а тогда мое путешествие было без преувеличения выдающимся. Ходил даже анекдот: «Ах, опять весна, опять хочется в Париж!», «А вы там уже были?», «Нет, просто опять хочется!». С детства помнил, как взрослые говорили: «Увидеть Париж и умереть!». Париж был несбыточной мечтой, мифом! Почему-то не Лондон, не Нью-Йорк, а Париж.
Когда я был маленьким, к нам домой пришел гость, только что щеголем вернувшийся из Парижа. На нем был кожаный пиджак, джинсы. В Советском Союзе так мало кто одевался. Я получил французский сувенир — миниатюрную прозрачную оранжевую коробочку с конфетками TicTac. Вот это был подарок! Ту коробочку я долго берег, показывал всем! Ни у кого такой не было! Франция и французы с детства казались мне утонченными, возвышенными, романтичными, чувственными, элегантными, изысканными, остроумными. От французских фильмов в трепет приходила вся снежная Россия — «Мужчина и женщина», «Шербурские зонтики», «Соседка». А французские актеры? Жерар Филип, Жан Марэ, Жан Габен, Ален Делон, Бельмондо. А актрисы? Бриджит Бардо, Катрин Денев, Анук Эме! А песни, наконец? Джо Дассен, к примеру. А французский язык! Он же способен даже грязь превратить в любовь! Волшебный Париж… «Если тебе повезло и ты в молодости жил в Париже, то, где бы ты ни был потом, он до конца твоих дней останется с тобой, потому что Париж — это праздник, который всегда с тобой», — написал Хемингуэй. Что ж, проверим, думал я.
Частник на красной разбитой «шестерке», которого я остановил легким взмахом руки на Грузинке, обрадовался, когда я произнес: «До Шереметьево». Он вжал педаль в пол, и машина с визгом рванула вперед.
— Опять тут стреляли у вас, — бросил он в мою сторону.
— Где?
— На Красной Пресне. Вчера ночью застрелили коммерсанта какого-то.
— Какого?
— Илья Медков звали. Банкир, что ли…
— Не слышал. А где именно все случилось?
— У метро «1905 года».
Прямо перед станцией метро «Улица 1905 года» стоит памятник «Героям революции 1905–07 годов». Когда я учился в школе, меня года два подряд седьмого ноября посылали нести почетный караул возле него. Сначала, конечно, надо было несколько дней тренироваться, маршировать, а потом, в красный день календаря, одетый в плащ-палатку, с муляжным Калашниковым в руках, я с напарником занимал место у памятника на целый час. Снег ли, дождь — все равно. Сразу собирался народ, поглазеть и потыкать в нас пальцем. Это было самое неприятное. Боковым зрением я видел Краснопресненский универмаг, в одном из домов за ним до революции жил Маяковский (писал: «Я живу на Большой Пресне, 36, 24»), где-то тут же, на Красной Пресне, много лет назад, работал делопроизводителем в домоуправлении Миша Шолохов, молодой человек с 4-классным образованием, бессовестно присвоивший себе роман «Тихий Дон», написанный Федором Крюковым[118], а впереди, передо мной, за сквером — Дом культуры Ленина, куда нас водили всей школой смотреть фильмы, например, «Легко ли быть молодым» режиссера Подниекса. Справа было издательство «Московская правда». На пороге этого здания и застрелили Илью Медкова. Мог ли я подумать тогда, стоя в карауле, что в моем любимом и спокойном районе с легкостью будут убивать людей? Я считал, что убийства случаются только в трагедиях, детективах и в газетных дневниках происшествий, но не в обыкновенной жизни.
Про Илью Медкова я потом разузнал. Судя по всему, это был талантливый молодой человек, всего лет на пять-шесть старше нас. Сначала он работал водителем у Артема Тарасова[119], а потом создал свой концерн «Диам» («Дорогой Илья Алексеевич Медков»). Диам занимался нефтебизнесом, фальшивыми чеченскими авизо, еще вроде бы перевозил за границу украденные государственные деньги. Быстро разбогател. Свой последний день рождения он праздновал в «Метрополе». Мраморный фонтан был наполнен шампанским, вокруг скользили модели. Он летал ужинать в Париж, кружил на яхтах с юными красавицами, дарил друзьям «Феррари», собирался купить себе самолет, другими словами, сорил деньгами, ни в чем себе не отказывая. Он был героем времени, настоящим джентльменом удачи. Многие из них заканчивали одинаково.
В Руасси[120] Стеф чуть не сбила меня с ног: «I am aaaaapy you are here!» (как и всем французам, моей подруге не давался звук «х»)[121]. На парковке сияла машина Стефани, темно-синяя «Рено-5», поразившая крошечными размерами. Малютка была сравнима разве что с горбатым «Запорожцем». Правда, завелась сразу.
— Я не знал, что у тебя есть машина, — удивился я.
— У нас почти у всех студентов машины, обычно маленькие и старые.
Я озадачился: у нас на курсе машины были только у Остапишина, у Лёнича и еще у Димы Алешина. Дима был отдельный случай. Его папа, генеральный директор «Лужников», сначала превратил Олимпийский стадион в гигантский вещевой рынок[122], а потом он же его и приватизировал. Дима каждый день приезжал в университет на разных машинах, в том числе и иностранных. Но запомнилась только черная «Волга», тюнингованная в соответствии с самыми дерзкими запросами тех времен: в ней на пол были постелены ковры-паласы красного цвета, а набалдашник ручки коробки передач был хрустальным! Настоящий шик!
Стеф повернулась назад и включила стоявший на заднем сидении двухкассетный магнитофон на батарейках. В Париж мы въехали с музыкой! Я предвкушал прекрасный романтичный вечер, бурную ночь. Разве могло в Париже быть иначе?
— Сегодня переночуем в хостеле, а завтра погуляем по Парижу и поедем в Бордо, — перекричала магнитофон Стефа.
— OK, — я был готов на все, хотя слово «хостел» было мне незнакомо.
Мы остановились у типичного бежевого парижского дома, на первом этаже которого была гостиница. Вошли. Я осмотрелся. Темно. Ни души. «Странно, — подумалось. — Разве такие гостиницы бывают?». Стеф уверенно двинулась вперед по неосвещенному коридору и замерла у одной из боковых дверей (это и был номер). Повернув ключ два раза, она крадучись зашла в комнату. Я — за ней.
— Тщщщ, — Стеф прислонила палец к губам. В комнате было темно.
— А где свет? — спросил я.
— Свет нельзя.
— Почему?
— Тише, тише…
Через несколько секунд в кромешной тьме я разглядел натянутую поперек комнаты веревку, на которой висели две пары мужских штанов, носки и майки.
— Бррр. Это что? — шепотом поинтересовался я.
— Это — хостел.
— Что?
— Хостел. В хостеле в номерах живут по нескольку человек. Сейчас здесь спят двое…
— Ребят, — подхватил я. — И что, это разве нормально? Ты их знаешь?
— Нет, конечно.
— Стеф! Я тут спать не буду! — я был в шоке. — Поедем сразу в Бордо.— Вообще-то мне тоже тут не нравится.
В конце концов заночевали мы на окраине Парижа в гостинице Formule 1, тщетно пытавшейся скрыть свою единственную звезду за, как выяснилось, двусмысленным названием, которое можно было принять за респектабельное. Романтика получила сильную пощечину.
Кюкю
Мечты о Париже, увы, не сбылись. Позавтракав ранним утром в гостинице, мы выехали на юго-запад Франции, в Бордо. Долгий путь. Особенно на «Рено-5». Да еще по бесплатным дорогам, промокшим от проливного дождя. В дороге Стефани сказала, что договорилась с профессором Тином, чтобы я выступил перед студентами и рассказал про Россию.
— Конечно, это было непросто, но I managed[123]. Всем будет очень интересно! — Стефа энергично кивала головой.
— А что же я буду рассказывать?
— Про русскую мафию!
— Да?
— Шучу. Про реформы, приватизацию, частную собственность в России. Или про рубль, отношения между бывшими социалистическими странами.
— Я же не успею придумать, о чем рассказать!?
— Не волнуйся, успеешь.
К полуночи мы наконец очутились в пристанище Стефы — маленькой, но очень уютной студии в небольшом домике. Торшер, диван, стол и пара стульев — вот и весь интерьер.
Слуга графа Сен-Симона будил своего повелителя знаменитыми словами: «Вставайте, граф! Вас ждут великие дела!». Стефани разбудила меня похоже:
— Wake up, don’t forget that the ocean is waiting for you! And French delicious wine as well[124] !
— Океан? Вино?— Да, Атлантический. А вино — из самых настоящих замков! Все близко!
Мы позавтракали горячими круассанами, за которыми Стеф сгоняла на улицу. Йогурты украшали стол, а кофе шипел, грозясь залить плиту, до того хотел убежать из турки. Потом мы выехали в многодневное путешествие. Верхний Медок с замками, старинные каменные подвалы которых полны винными бочками; деревня Сент-Эмильон с улицами, высеченными из бежевого камня; нескончаемые виноградники под проливным дождем; совы, летающие над нашим неутомимым автомобилем; городишко Лакано на песчаном берегу Атлантического океана, сердитые мощные волны которого несли бесстрашных серферов; Биарриц со знаменитым красным дворцом и незабываемым видом на закат.
По пути Стеф рассказывала о Франции: у нас четыреста сортов сыра, в августе вся страна не работает, все едут отдыхать на Ривьеру, так же как россияне — в Анапу. У многих французов есть «Нива», правда, это вторая машина, чтобы ездить зимой в Альпы: дешевая, а проходимость повышенная. Автомобилисты всегда останавливаются, чтобы пропустить пешеходов! Изабель Аджани прекрасна, особенно ей удалась роль Камиль Клодель. Французские банкноты — красивые, многоцветные, похожие на картины: на ста франках помещен фрагмент полотна Эжена Делакруа «Свобода на баррикадах» — на нем олицетворяющая Свободу молодая женщина с французским флагом в руке. В ресторанах столики резервируют заранее. Кстати, обязательно надо хоть раз в жизни поужинать в ресторане Tour d’Argent, хотя там, конечно, очень дорого. Ле Пен — это французский политик, а не китаец. Хочу стать партнером KPMG. Пойду голосовать за Жака Ширака, потому что мой голос может стать решающим. Слушая, я думал: какая же Стефани умная, искренняя и целеустремленная. Я заряжался ее энергией.
По радио Джо Дассен запел песню «А toi». Она нравилась мне тем, что ее очаровательно исполнял Лёнич: «А туа, а муа, а туа, а муа, а туа, а муа», — повторял схваченные слова.
— Стеф, ты любишь Джо Дассена?
— Джо Дассена? — озадачилась Стефани. — Нет, конечно.
— Почему? — удивился я.
— Ну он же, как это сказать… Кюкю.
— Кюкю? Что такое кюкю?
— Кюкю? Трудно перевести. Ну, что-то такое странное, может, старомодное…
— Из бабушкиного сундука, пахнущее нафталином?
— Ну можно и так сказать. В общем, прошлый век.
Ничего себе, подумал я. Джо Дассен, он же, по-нашему, самый известный француз в мире. А слово «кюкю» мне очень понравилось.
— А Мирей Матье?
— Что Мирей Матье? — Стефани рулила и смотрела на дорогу.
— Популярная?
— Кто? Мирей Матьееее? — глаза Стефани округлились, недоумению не было предела.
— Ну, ты хоть знаешь песню «Чао, бамбино, сорри»?
— Мирей Матье… — протянула Стеф. — Может, мама моя ее слушала. В любом случае она — кюкю!
— Так, — я решился на отчаянный шаг. — А Челентано? Адриано Челентано?
— Это кто?
— Ты не знаешь Челентано? — это было слишком.
— Нет. Но это что-то такое, знакомое…
— Он, конечно, итальянец, не француз… Но ведь… Он очень известный! Певец, актер! В России его знают все, от мала до велика!
— Я не знаю, — Стефани была непреклонна.
Я промолчал про Рикардо Фольи, Пупо и Тото Кутуньо. Упоминать их было бессмысленно. Между тем машина катила дальше. Когда по радио «Энержи» Далида запела «Пароле, пароле, пароле», я перевел разговор на Бернара Тапи. Этот французский капиталист был на устах у всех. Красавец средних лет, министр, владелец фирмы Adidas, яхт, замков и марсельского футбольного клуба «Олимпик». У Италии был Берлускони, а у Франции — Тапи.
— Да, правда, о Тапи все только и говорят, — подтвердила Стеф.
— А он умный?
— Нет! Похоже, что не очень. Недавно его спросили: «Что вы думаете про Тулуз-Лотрека?»[125]. Тапи ответил: «Думаю, «Тулуза» выиграет 4:0»[126]. Да, кстати. Знаешь, кто мне симпатичен?
— Кто?
— Серж Гинзбур. Слышал?
— Нет.
— Во Франции он очень знаменит. Что-то вроде вашего Высоцкого.
— В первый раз слышу.
— А ведь он — русский[127].
— Русский?
— И Джейн Биркин, значит, тебе неизвестна?
— Нет. А кто она?
— Актриса, певица. У них роман с Гинзбуром был.
Я промолчал.— Ну вот, — подвела черту под беседой Стефани.
Снова путч
Стеф не шутила. Профессор Тион и вправду попросил меня выступить перед студентами. Я согласился, хотя по-прежнему до конца не знал, о чем говорить. «Ничего, — поддержал меня профессор. — Просто расскажи про Россию».
Адреналин переливался через край, когда я вошел в большую, амфитеатром, заполненную аудиторию. Студенты встретили меня настороженно.
— Que se passe-t-il en Russie? What’s going on in Russia?[128] — раздался голос откуда-то сверху.
— В России приватизация набирает обороты, — начал я, удивившись заряженности моих vis-à-vis.
— Mais non. Les chars tirent à Moscou![129]
Ребята явно знали что-то, о чем пока не догадывался я. Какие могут быть танки в Москве? Оказалось, могут. Дома, черт побери, снова случился coup d’Etat[130], причем был он пострашнее предыдущего путча. В Москве всю ночь по-настоящему воевали: это была последняя вспышка яростной борьбы за власть между президентом и парламентом, тем, выбранным еще в СССР, за первым съездом которого я восторженно, с замиранием сердца, следил летом 89-го, не отходя от телевизора и откладывая подготовку к вступительным экзаменам в МГУ до позднего вечера. Эх, летит жизнь, как резвый конь, влюбляется время в новых героев… Те выдающиеся народные избранники, революционеры, вдохнувшие четыре года назад в огромную страну новую жизнь, быстро превратились в ретроградов, по крайней мере так казалось. Время вышло из тех людей, оно больше им не благоволило.
Порохом запахло пару недель назад, когда Руслан Хасбулатов, председатель парламента, публично обвинил Ельцина в том, что тот подписывает указы в нетрезвом виде. В ответ уязвленный Ельцин своим указом 21 сентября 1993 года в 20.00 парламент распустил. Делать этого по Конституции он не имел права, поэтому парламент незамедлительно назвал происходящее государственным переворотом. Дальше события разворачивались стремительно. В 20.15 диктор телевидения Шатилова объявила, что «в нашей вечерней программе произошли изменения». Однако «Лебединое озеро» не показали. Вместо него после программы «Время» пел Кобзон. В 22.00 вице-президент Руцкой[131], друг Никиты Михалкова, бывший сподвижник Ельцина, перешедший на сторону парламента, а потому прозванный ренегатом, объявил себя президентом России. В 02.00 вечный председатель Конституционного суда Зорькин заявил, что указ Ельцина противозаконен.
Против Ельцина выступали многие. На то были причины.
Так Ельцина отрешили от власти. В 02.20 парламент почти единодушно одобрил первые указы «и.о. президента России Руцкого». С этой минуты в России заработали два президента и два правительства.
После этого обе конфликтующие стороны замерли на несколько дней в нерешительности. Кто был в те дни президентом — никто не понимал. Развязка наступила третьего октября, и была она кровавой! Сторонники Руцкого и Хасбулатова столкнулись с военными силами Ельцина. Трассирующие пули салютом разрезали небо, автоматные очереди сыпались градом, пушечные залпы сотрясали воздух. Огонь был таким интенсивным, что бабушка Оля отсиживалась в коридоре, подальше от окон, а то ведь не дай Бог! А двое одноклассников моего приятеля, захотевшие поглазеть на происходящее, не убереглись, у Останкинского пруда их «сняли» снайперы. Насмерть. В подъезд Лёнича ворвались шальные автоматчики и открыли огонь, убили консьержа. Зачем? Француз Пьер, товарищ Стефани, живший на Тверской, выглянул в окно своей съемной квартиры и обомлел: его «Ниву» подняли на руки и энергично несли к зданию мэрии, чтобы укрепить баррикаду. Танки палили по Белому дому. Телевещание прерывалось, потому что Останкинский телецентр штурмовали. Многие погибли. В жестокой схватке победил Ельцин и тут же разогнал парламент. Конституцию немедленно переписали, она провозгласила президентскую республику: Ельцин получил право назначать правительство и отправлять его в отставку, а также в некоторых случаях распускать Государственную Думу; импичмент стал практически невозможен.
Французские студенты уже знали про танки в центре Москвы, а я нет. Поэтому первую половину урока рассказывал не я, а мне. Честно, меня все эти события со стрельбой по Белому дому совсем не тронули — подумаешь, я привык. Гораздо важнее было то, что французы, рассказывая о Москве, расположились ко мне, и дальнейшая беседа стала неформальной и живой. Профессор Тион, поблагодарив, попросил меня провести шестичасовые занятия по России в следующем мае, за что Школа даже решила мне заплатить, и вдобавок свел меня с председателем местной Торгово-промышленной палаты мсье Жилем Гийонэ–Дюпера. Жиль, сорокалетний, энергичный, импозантный француз, в шикарном темносером костюме, коричневых ботинках и розовой рубашке, принял меня в огромном дорогом кабинете на Биржевой площади в центре города на берегу Жиронды и с ходу призвал меня помочь французским компаниям выйти на российский рынок: «Мы, французы, хотим в Россию!». «Pas de problem, pourqoui pas? Помогу!»[132] — я был бы неправ, если бы ответил иначе.
Путч 1993 года начинается. Манифестация против Ельцина у кинотеатра моего детства. На афише — «Моя мачеха — инопланетянка»
Повстанцы: «Верим в мечту»
На Крымском мосту. Армия в ожидании столкновения с повстанцами.
Войска атакуют бабушек. На заднем плане — старый вход в Зоопарк
Телевидение отключено!
Мальчик у изрешеченного пулями подъезда в центре Москвы
Расстрел Белого дома
Встреча с родителями
Кульминацией той насыщенной поездки стал наш вояж в Бурж, самый центр Франции, где жили родители Стефани, с которыми пришло время познакомиться. В этом, по крайней мере, была уверена Стеф.
На вокзале в Бурже нас встретил хмурый отец Стефани. Поцеловав дочь и холодно пожав мою руку, он повел нас к своему белоснежному «Пежо-406», все двери которого он ухитрился открыть с расстояния десяти метров, направив на автомобиль миниатюрный пульт. До Москвы эти технологии еще не добрались.
— Как это вы открыли двери? — поинтересовался я. Отец моей подруги будто не услышал моего вопроса.— Это такая система сигнализации, Дим, — удовлетворила мое любопытство Стефани. — У нас это недавно появилось. В Москве тоже скоро появится.
В молчаливом напряжении доехали мы до дома, где нас с угрюмым лицом встретила maman. Стало ясно, что я — нежеланный гость. Ужин был тягостью для всех. Родители задали мне пару вымученных вопросов, мои ответы были им неинтересны. Стефани тоже поняла, что нам предстоят непростые деньки, но держала удар и даже задорно рассказала про свои последние успехи в учебе.
Пришло время сна. К моему удивлению, нас со Стефани направили спать в разные комнаты. «Ого, ничего себе, забавно», — такого я не ожидал, да и Стеф тоже. Мы хитро перемигнулись, и уже через полчаса, дождавшись, когда в доме наступит тишина, я, крадучись и не дыша, пробрался к Стеф и, конечно, тут же оказался в ее кровати. Но не надолго! Буквально через мгновение в la chambre[133] влетел разъяренный папа. Он включил свет и, оцепенев, уставился на меня, ртом, как рыба, глотая воздух. Это, без сомнений, было проявлением чрезвычайного волнения. Правда, с ним папа сумел справиться, истошно завопив на весь дом: «Mais non! Ма cherie (это он своей жене), cherie[134], — он в полном отчаянии воздел руки к небу, потом трагически обхватил ими голову. — Mon Dieu, c’est incroyable, c’est incroyable!»[135]. Тут он начал беспрестанно раздувать щеки и тут же с шумом выпускать воздух, производя звук, похожий на фырканье — тпррррр. Как я понял позже, именно в этот миг папа проявил себя совершенным французом: «Incroyable! Dans та maison![136] Тпрррр!». На крики примчалась мама. С всклокоченными волосами и в ночнушке, она внесла лепту в истерию.
Ситуация разрешилась с необычайным трудом. Стефани принесла воды папе, и он подуспокоился. Мама тоже. Спать нам пришлось в разных комнатах. А наутро мы уже мчались обратно в Бордо! Ну не оставаться же на сковородке!?
После путча
Прилетев из Франции, я помчал к Севе в Дегунино, на Керамический. Сева по-дружески перехватил меня по пути, встревожив просьбой поторопиться изо всех сил: «Последствия кровопролитных событий». Выяснилось, что в Москве с 23.00 до 5.00 утра сроком на неделю по указу Ельцина ввели комендантский час. Это означало, что после одиннадцати вечера нас, поймав на улице, могли с легкостью посадить в кутузку. По дороге Севка рассказал про путч и про то, что теперь решили бороться с уличной торговлей, и что на Новом Арбате начали сносить коммерческие киоски, правда, пока что только на нечетной стороне. А еще вот-вот запретят ездить с тележками в метро: «Метро — для перевозки пассажиров, а не товаров». Выходя из вагона на станции «Тимирязевская», я бросил взгляд на табло со временем. На нем, как приговор, высвечивались зловещие цифры 22.50.
— Что же делать? Нас же сейчас арестуют? — я вопросительно посмотрел на друга.
— Хмм. Постараемся успеть!
Мы рванули к автобусной остановке, влетели в желтый, гармошкой посередине, венгерский «Икарус» и перевели дыхание. В автобусе мы были одни.
— Как-то невесело. Даже угрюмо, — посмотрел я на Севу. — Мы хоть доедем до дома?
— Надеюсь. Скажем, что сели в автобус до одиннадцати. Должно сработать.
Автобус летел по абсолютно пустому Дмитровскому шоссе, потом свернул на Бескудниковский бульвар. Было темно, промозгло, уныло, неуютно, неприятно, страшно, на улице ни души. Разве могло то, что я видел, сравниться с бурлящим, залитым огнями, воздушным, разноцветным, бесшабашным Парижем, в котором я был всего несколько часов назад? Контраст был удручающим. Но тревоги вмиг развеялись, когда мы с Севкой поднялись пешком на четырнадцатый этаж еще не сданного в эксплуатацию, с неустановленными лифтом и электрической плитой, жилого дома, сварили сосиски, забросив кипятильник в кастрюльку, открыли пиво и улыбнулись друг другу.
Краски жизни
Невзирая на запах пороха, Москва билась за краски жизни. Уже через пару недель после путча газеты писали: «В известном артистическом кафе «Белый таракан» побывал кинорежиссер Сергей Соловьев, пришедший в компании актера и режиссера Александра Кайдановского. Завершив съемки телефильма «Три сестры», Сергей Соловьев с легким сердцем мог посвятить этот вечер светской жизни и даже потанцевать под ультрамодное техно. Ближе к ночи в кафе заглянул актер и клипмейкер Антон Табаков».
На следующий день артистическая элита собралась на открытии танцевального клуба Антона Табакова «Пилот»[137]. Клуб для тех, кто любит летать, был готов к открытию уже в сентябре, однако провести церемонию помешал путч и непосредственная близость нового клуба к Белому дому. На входе в клуб, занявший весь бывший Дом культуры имени Ленина, чересчур дотошная охрана с пристрастием обыскивала каждого гостя, а вслед за этим приглашенных ожидала получасовая очередь в гардероб. Однако молодые знаменитости без обиды восприняли происходящее: Федор Бондарчук, одетый в красный пиджак, мило перемигивался с подругой «арт пикчерзов» Ликой Стар, чьи расклешенные черные брюки и декольтированная блузка приковывали взгляды мужской половины собравшихся. Вход был платным для всех, кроме избранных и девушек, знавших пароль: «я — парашютистка». Гостей ждал платный фуршет, не отличавшийся экзотикой. Стакан сока стоил три доллара. Гости плясали под музыку в стиле techno и acid. Как всегда, среди них были Богдан Титомир и солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев, с некоторой отстраненностью наблюдавший за происходящим.
Попал в газеты и Саша Остапишин. Первым из нас. Произошло это, правда, из-за несчастного случая. В день, когда первый снег покрыл московские улицы, Саша разбил свой БМВ-318. В «Коммерсанте» происшествие было описано так: «Поздно вечером 21-летний Александр Асташин, водитель БМВ, двигаясь на большой скорости по проспекту Мира (напротив Рижского вокзала), не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом (фамилия водителя пока неизвестна). Водитель иномарки не пострадал, однако одна из его пассажирок, 30-летняя Светлана Копылова, получила перелом ноги, а вторая пассажирка, 21-летняя Валентина Костюкова — ушибленную рану головы. Пострадавшие доставлены в ЦИТО»[138]. Забавно было то, что, во-первых, Остапишина обозвали Асташиным, а во-вторых, что Валентин Костюков был не пассажиркой, а пассажиром. Мы вырывали газету друг у друга из рук, а Саша в тот день смотрел на нас немного свысока.
Вечера в Дегунино
К зиме мы уже неразлучно проживали с Севкой на Керамическом. Я спал на раскладушке, а мой друг — на ГДРовском желтокоричневом диване-книжке, который, щелчком раскладываясь в двуспальную кровать, никогда не распрямлялся полностью, образуя посередине между своими двумя покатыми половинами глубокую ложбину, в которую с непременным дискомфортом обязательно скатывался спящий[139].
На полу у изголовья друга стопкой высились книги — «Сага о Форсайтах» Голсуорси, «Осень в дубовых лесах» Казакова, «Хазарский словарь» Павича и «Властелин колец» Толкиена. Их Севка чередовал, беря в руки то, что отвечало настроению, но непременно прочитывал все от корки до корки. Вечерами Севка листал свое, а я читал «Спорт-Экспресс». Перед сном мы перебрасывались парой фраз:
— Ну, как тебе старики Форсайты?
— Ничего, — довольно мурлыкал Сева, шурша страницами бессмертного произведения. — А у тебя что?
— Марадона похудел и ослаб, Роберто Баджо забил сто голов, Айртон Сенна выиграл Гран-при Австралии, Грецки сделал четыре передачи, Христо Стоичков вырвал для «Барсы» победу, а Мигель Индурайн снова обещает выиграть Тур де Франс, — отчитывался я.
— А Гомоляко[140] забил? — интересовался Сева.
— Нет, промахнулся!
Однажды Сева рассказал занятую историю, ее он вычитал в одном из больших романов. Сталин позвонил по телефону в редакцию молодежной газеты, и заместитель редактора сказал:
— Бубекин слушает.
Сталин спросил:
— А кто такой Бубекин?
— Надо знать, — швырнул трубку Бубекин.
Сталин снова позвонил ему и сказал:
— Товарищ Бубекин, говорит Сталин, объясните пожалуйста, кто вы такой?
После этого случая Бубекин пролежал две недели в больнице, лечился от нервного потрясения.
— Не хотел бы я при Сталине жить, — сказал я. — Всего-то сорок лет с тех пор прошло. Люди из тридцатых и сороковых, как бы они нам позавидовали. Теперь ведь все наоборот: на дворе — абсолютная свобода. Как в джунглях, каждый за себя, никаких законов!
— В истории такое редко случается.
— Интересно, долго это будет продолжаться?
— Нет.
— Думаешь?
— Уверен. Джунгли никому не нужны. Лет через десять все будет совсем по-другому.
— Как по-другому?
— Не знаю. Контроля у государства будет больше.
— Лишь бы к тоталитаризму не вернулись, — про себя я подумал, что свободу у нас теперь никто никогда отнять не сможет, зачем? Но на всякий случай решил уточнить у друга: — Ведь это невозможно?
— Не знаю. Сначала загнулся капитализм, его сменил социализм, а теперь и он загнулся, и всем снова нужен капитализм. Волна.— А счастье по-прежнему далекое дело, — протянул я и провалился в сон.
Утром мы завтракали простоквашей, ряженкой, сосисками с горошком или яичницей и отправлялись на учебу или на работу. Дорога была долгой, короче она становилась благодаря газетам. Как-то я прочитал: «Сносится Тишинский рынок. Все дореволюционные постройки и торговые ряды будут снесены, а на их месте появится суперсовременный рыночный комплекс». Как же так, как? Мой любимый рынок, каждый угол которого я знал с самого детства? Неужели его больше не будет? Зачем нам супермаркет? Я немедленно позвонил бабушке Оле.
— Да, — огорчила меня она. — Точно, сносят.
— А зачем?
— Все гадают, зачем? Где нам теперь продукты покупать?
— Да… А что же вместо рынка будет?
— На его месте Кобзон что-то построит.
— Кобзон? Он же певец?
— Теперь он мэн крутой[141], — коротко ответила бабушка.
Не знаю почему, но выражение «мэн крутой» тогда было устойчивым и популярным.
Новый поворот
Однажды Севка сказал, что устроился на интересную работу в международную компанию «Бэйн Линк»[142].
— Что это за «Бэйн» такой? — поинтересовался я.
— Международная консалтинговая компания.
— Не слышал. Они как «Делойт», что ли?
— Нет. «Делойт» и KPMG — аудиторы, а «Бэйн» разрабатывает стратегии, оптимизирует организационные структуры и так далее.
— Для кого?
— Для крупных компаний.
— М-м-м, — объяснение не было исчерпывающим.
— Скоро еду в Ярославль.
— Зачем?
— Не могу сказать, — Сева нахмурился. — Понимаешь, я подписал соглашение о конфиденциальности: не могу ничего рассказывать ни о клиентах, ни о работе.
— Ого, — такого жестокого поворота я не ожидал.
— Да, — выдохнул Сева.
— Значит, тебя про работу больше не спрашивать?
— Выходит, так.
Севина жизнь в миг набрала ход. Совмещать учебу с работой было непросто. Он уезжал из дома рано, а приходил поздно. Раза два в неделю он стал ужинать в дорогих валютных ресторанах с новыми коллегами. Чаще всего мелькало название ресторана «Патио Пицца» на Волхонке. Когда я спрашивал, откуда деньги, Сева обескураживал ответом: «Бэйн» заплатил! Корпоративный расход». «Вот это да! — думал я. — Разве такое бывает?». В Ярославле он стал проводить недели. Краем уха я, конечно, слышал, чем занимается мой друг в древнем русском городе. Там Сева тестировал законодательство о кондоминиумах[143]. Мое любопытство было безгранично, но пока я подбирался с вопросами к Севе, он уже был где-то в Сибири, исследуя рынок сигарет. А вскоре и вовсе перебрался на Павловский автобусный завод в Нижегородскую губернию. Я не успевал за другом. А он, я видел, с удовольствием отдался новому занятию, лишая меня своей компании на Керамическом, где я стал частенько оставаться в одиночестве.
Особенно тоскливо становилось вечерами в пятницу и субботу. В нашей комнатушке не было даже телевизора. Я наливал «Херши-колу», недавно появившуюся в продаже сладкую газировку, подбадривал себя рекламной речевкой «Хороший человек помолчит, помолчит, да и выпьет бутылочку «Херши»», а затем, чтобы скоротать время, усаживался за стол и перечитывал письма Стефани, неизменно заканчивавшиеся по-русски: «Я тебя любу. Стефик», или складывал стихи, глядя с высокого этажа в переливающуюся неоновыми огнями полную жизни ночную даль, ограниченную вдалеке подковой гостиницы «Космос».
К счастью, печальное уединение длилось недолго. Перед Новым, 1994 годом в Москву на целых четыре месяца прилетела Стефани, чтобы пройти преддипломную практику в московском KPMG. К долгожданному приезду я снял однокомнатную квартиру на Кутузовском за триста пятьдесят долларов в месяц и, собрав свои пожитки, покинул Севино уютное гнездо.
Капитализм
Жизнь к этому времени переменилась. Последний путч подвел черту. Непрерывные политические битвы предыдущих пяти лет, начиная с девятнадцатой партконференции, затухали. Все устали от политических страстей. На первый план вышли коммерция и личные интересы. Все с головой бросились в экономические отношения, в рынок. Купить, продать, заработать… Квартира, ремонт, машина… Коллективное сознание — достижение социализма — тихо и незаметно умирало. Его стремительно побеждало капиталистическое «money makes the world go around», так, кажется, пела Лайза Минелли в фильме «Кабаре»[144]. О толстых журналах, таких, как «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», за которыми совсем недавно люди занимали очереди в шесть утра, никто не вспоминал уже года два. «Огонек» и «Московские новости» стали не те, что прежде. Пища материальная вытесняла пищу духовную. Теперь в бывших газетных киосках продавались «Сникерсы» и «Кока-кола».
Старушки по привычке все еще продавали хлеб на улице, но у них уже не покупали, шли в магазины — очередей там не стало. Я любил Новоарбатский гастроном и «Хлеб» на углу Арбата и Садового, это был, кстати, первый круглосуточный гастроном в Москве. Выходя из «Хлеба», я садился в троллейбус и под его будоражащее высокочастотное гудение «ууууу», хватаясь за поручни, чтобы не упасть от тряски и рывков, уносился к Кутузовскому, глядя назад на огромные буквы «МММ», которые высвечивались непогашенными окнами новоарбатских высоток! Каждая высотка — по одной «М»! Раньше эти здания светились буквами «СССР», но пришли другие времена. Символом новой эпохи стала фирма «МММ»: повсюду были развешены биллборды с ее рекламой — бабочка-хамелеон на черном фоне и подпись: «Из тени в свет перелетая». Были и другие слоганы: «У «МММ» нет проблем!», «Нас знают все!». Однажды я вошел в метро и был поражен, объявляли: «Уважаемые пассажиры! Три дня в этом месяце фирма «МММ» бесплатно катает всех москвичей на метро». А надпись «МММ» украшала не только вагоны метро, но и борта троллейбусов и автобусов. Однажды за одну минуту до боя курантов по Российскому телевидению[145] с Новым, 1993 годом нас вместо президента поздравил глава «МММ» Сергей Мавроди! Это восхитило! «МММ» была вездесуща: «МММ-студия» сняла видеоклип Федора Чистякова «Иду, курю», а модельное агентство «МММ» провело конкурс красоты «Мисс «МММ»» — его показывали по телеку, в нем участвовала Любка, моя красивая соседка, художественная гимнастка, потрясающе вращавшая мяч на руке. Ей нравился Шахворостов, я был в этом уверен, потому что видел, как она однажды безотрывно смотрела на него из окна троллейбуса… Когда по телеку стали непрерывно крутить ролики с Леней Голубковым, под «Риориту» призывавшего покупать акции «МММ» и сулившего невиданные дивиденды — до 1000 % в год, даже Стефани встрепенулась: кто такой мсье Голубкофф и его жена мадам Рита и что они хотят? С Голубковыми конкурировали певица Лолита и ее муж Цекало: каждый вечер перед программой «Время» они игриво убеждали доверчивых телезрителей сдавать деньги в какой-то «Хопер-инвест»: «Хопер-инвест» — отличная компания… От других».
Пока к нам ехал Камдессю
Снег валил хлопьями, когда я получил открытку от Кеши. Подпись разъясняла: озеро Роторуа. Кеша писал из новозеландского паба под песню английской певицы Yazz: «The only way is up, baby»[146]. Клип на эту песню Кешка впервые увидел в свой последний приезд в Москву, его показывали по Super Channel, видимо, он и вызвал ностальгию. Друг сжато сообщал: «У вас зима, а у нас — лето, путешествую, проехал сегодня 50 километров на велосипеде, здесь — красота, воздух — самый чистый, гейзеры — самые крутые в мире, а люди — приветливые, и их не много, зато много овец!». «Ну надо же, куда забрался, — подумал я. — Там же, на озере Роторуа, дети капитана Гранта с Паганелем были!». Шахворостов снова давал повод помечтать: вдруг и я туда доберусь когда-нибудь?[147]
Снег все еще падал, когда позвонил Жиль Гийонэ–Дюпера. Он молил найти покупателя для каких-то французских станков. «Это производственные линии для монетных дворов», — пояснил он. Не раздумывая я набрал номер приемной Виктора Геращенко, Председателя Центрального банка России. Телефон мне в секунду выдал мой одношкольник, работавший в информагентстве Reuters, он же подтвердил, что я все делаю правильно, надо напрямую звонить Геращенко, ведь деньги печатает Центробанк, это всем известно. Секретарь, выслушав меня, вежливо попросила выслать ей предложение по факсу. Потом я стал ждать ответа, каждый день звонками проверяя статус моего запроса. Не дождался. Познакомиться с Геращенко не получилось.
Я не расстроился, просто сузил задачу: в России монеты чеканят лишь два предприятия — Московский и Петербургский монетные дворы, на них я и решил выйти напрямую. Но найти их координаты оказалось непросто. Оба — режимные, тщательно охраняемые объекты, телефоны их засекречены, а сотрудники — невидимы. Задача казалась невыполнимой, когда случилось маленькое чудо.
— Тебе нужен монетный двор? — живо отозвался Остапишин, выслушав про мои трудности.
— Да.— Не проблема вообще! Отец хорошо знаком с генеральным директором Московского монетного двора!
И вправду, вечером Саша рассказывал, что директор монетного двора в отпуске, но его заместитель ждет меня. Через неделю нас с Жилем тепло встречали на проходной Московского монетного двора, а вскоре мы разгуливали по самой закрытой части завода — производственным цехам, куда иностранцев вообще не допускали.
Нам подарили теплые, только что отчеканенные памятные медали, угощали коньяком с пирожками, виноградом, докторской колбасой и сыром. Жиль был сначала тронут, а вскоре и вовсе потрясен, когда, рассказав о цели приезда, он получил молниеносный ответ:
— Однозначно эти производственные линии нам нужны. Берем!
Глаза Жиля округлились от удивления:
— Да? А вы, может, приедете во Францию, посмотрите, как все работает?
— Приехать приедем, — заулыбались наши. — Только все равно мы их берем. Две штуки. Сколько они стоят?
— Три миллиона долларов одна линия.
— Отлично. Значит, с нас — шесть миллионов. И… — тут российский переговорщик на мгновение задумался. — Еще такие же линии нужны для Ленинграда. Так?
Пока мы с Жилем приходили в себя от скорости происходящего, энергичный заместитель по телефону получил согласие на закупку еще двух линий для Ленинграда.
— Итак, — подытожил он, — всего нам надо четыре линии. Это — двенадцать миллионов долларов! Согласны?
Мой французский компаньон не верил в происходящее. Я, признаться, тоже, а заместитель уже разливал армянский коньяк, чтобы скрепить сделку.
— И вот что еще, — добил он. — Это важно. Заплатим мы сразу, а вот оборудование нам нужно не раньше следующего года. Устраивает?— Oui, oui, bien sur[148], — промямлил Жиль, вытирая пот со лба и оседая на стул, предвкушая барыши от выгодной сделки. Глядя на меня влажными глазами, он прошептал: — С русскими приятно иметь дело!
Престарелый француз, производитель станков, отблагодарил меня скучным ужином в компании своей семьи в лучшем ресторане Бордо. Денежного вознаграждения я не получил. В это напрочь отказался верить Остапишин. «Ну как же ты ничего не заработал?» — удивлялся он, сокрушенно качая головой. Меня и самого занимал этот вопрос.
Вскоре другие французы из крупной винодельческой фирмы William Pitters попросили познакомить их с винным бизнесом Москвы. Пожалуйста. Списав телефоны импортеров с этикеток нескольких винных бутылок, я шустро договорился о встречах с их владельцами. Одну из них нам с французом из Бордо назначили в 14-м таксомоторном парке. Место знакомое: в школе я на обязательной летней практике с утра до ночи разбирал там ржавые коленвалы от «Волги» ГАЗ-24. По дороге француз спросил, как бы нам выйти на закупщиков продуктов в армию.
— А зачем?
— Бон[149], — поделился со мной мыслями мой спутник. — Бон, во французской армии солдаты на обед выпивают по бокалу красного вина. Это входит в рацион.
— Да? — удивился я.
— Да, — продолжал собеседник. — Так вот, я полагаю, российская армия многочисленнее французской.
— Конечно, — я уже понял, к чему он клонит.
— Поэтому, если армия закупит у нас вино, то это будет большой заказ, не так ли?
— У нас в армии, к сожалению, солдатам красное французское вино не наливают, — огорчил я коммерсанта, сам про себя подумав: с какой планеты он упал?
В таксопарке нас встретила группа напряженных охранников с автоматами наперевес, в черных одеждах. Повели по грязным цехам. Все тот же запах масла и бензина — ничего не изменилось со школьных лет. «Эх, не туда завел я иностранца», — уже начал расстраиваться я, как вдруг одна из невзрачных металлических дверей со скрежетом отворилась, и мы очутились в шикарной огромной гостиной с белыми коврами и белоснежной мебелью. Навстречу нам шел плечистый тридцатилетний блондин с твердо очерченным ртом и надменными манерами. В лице главным были глаза: от их блестящего дерзкого взгляда казалось, будто он с угрозой подается вперед. На нем был восхитительный розовый костюм. Это был какой-то великий Гэтсби, материализовавшийся в самом неподходящем для него месте. Гэтсби пренебрежительно посмотрел на меня:
— Ты кто? Посредник?
— Нет.
— Вижу, что посредник. Процент хочешь? Предупреждаю, посредники нам не нужны. Понял?
— Как?
— Вот так, — выстрелил он в меня глазами. К счастью, в этот момент в комнату вошла помощница Гэтсби, в которой я, к удивлению, узнал старшую сестру своей однокурсницы.
— Надо же, кого к нам занесло! Привет, — бросила она мне и, повернувшись к своему компаньону, решила все мои проблемы.
Вскоре контракт был заключен.
А потом в Москву приехал другой француз, с ним лично я знаком, конечно, не был, но слышал о нем много — Мишель Камдессю[150], очень важный и долгожданный месье, он мог забросать Россию кредитами, а они моей стране были необходимы как воздух: казна была пуста. В этот день я забежал на факультет обсудить план диплома с научным руководителем и наткнулся на объявление: «Международная консалтинговая компания «МакКинзи & Company» проводит презентацию». «Сходи обязательно, — посоветовал мне Сева. — И возьми с собой резюме. Они наверняка после презентации скажут, что набирают сотрудников. А ты тут как тут».
«МакКинзи»
Друг знал, о чем говорил. Действительно, в конце презентации я вручил свое резюме удивленной моей сообразительностью сотруднице «МакКинзи» по имени Дженнифер. Написать резюме мне помогла Стефани. От себя я добавил одну фразу в раздел Personal background: «Loving my sweet French girlfriend»[151]. Это, как оказалось, был выстрел в десятку.
Вскоре я получил телеграмму из «МакКинзи»: приглашали на два собеседования в гостиницу «Савой». Встречи проходили в легкой непринужденной манере, прямо в номерах, где жили интервьюеры. Номера, кстати, были малюсенькие — не развернуться. Первый интервьюер — его звали Алек — сосредоточенно погрузился в чтение моего резюме, а потом, не отрывая от него глаз, пробурчал:
— Хммм. Sweet French girlfriend? Любопытно. И давно вы знакомы?
— Почти год.
— Что же, это немало. И чем занимается ваша подруга?
— Работает в KPMG.
— Угу. У вас написано, что вы читаете лекции в Школе бизнеса Бордо.
— Да.
— Что за лекции?
Я передал прихваченный с собой на всякий случай план моих лекций. Интервьюер пробежал его глазами и сказал:
— Что ж, молодец. У вас есть international background[152], а это нам нужно.
Алек повел меня в другой номер, где ждал второй интервьюер по имени Джастин. По пути, в коридоре, на нас выскочила брюнетка в голубом костюме, явно деловая девушка. Ей было чуть за тридцать, но мне она показалась пожилой.
— Валери́, — неожиданно для меня обратился к ней Алек. — Это Дмитрий. У него девушка — француженка.
— Да? — Валери́ удивленно поправила очки у переносицы.
— А это — Валери́, наша коллега, парижанка, — пояснил Алек.
— T’as un entretien avec Justin?[153] — спросила меня Валери́ по-французски.
— Oui[154], — ответил я.
— Bon courage[155], — пожелала мне удачи француженка.
Джастин торопился в аэропорт, и это выручило. Я помог ему застегнуть набитый чемодан, без раздумий сев на крышку, после чего замок защелкнулся. «You are a team player»[156], — резюмировал мой визави. Так без проблем я прошел в третий тур, где должен был встретиться с магистром «МакКинзи» Микки Обермайером. Мне дали понять, что Микки — сверхчеловек, невообразимо занятый, поэтому нашу с ним встречу запланировали заранее, за месяц, вежливо попросив не опаздывать ни в коем случае. «Ждите в лобби «Савоя», вас найдут», — проинструктировали меня. «Что за шишка этот Микки, — подумал я. — А что если опоздать?». Крамольную мысль я тут же отогнал и ровно через месяц, минута в минуту, всеми силами навалился на тяжелую дверь старинного «Савоя», потому что толстый усатый швейцар, поглядев на меня сверху вниз, помочь мне не удосужился.
В лобби я первым делом огляделся — никого, кроме персонала гостиницы, шныряющего взад и вперед. Хм… Я замер в углу. Прошло двадцать, тридцать, сорок минут. Час! Движения не было. Я нерешительно приблизился к администратору гостиницы, которая выглядела неприступной стеной — до того белокаменным было ее лицо.
— У меня здесь назначена встреча, — неуверенно начал я.
— Слушаю.
— Может быть, у вас есть какая-нибудь информация?
— Ваше имя?
Я назвал.— Для вас — записка, — она протянула мне клочок бумаги, на котором уверенным торопливым почерком было выведено: «Я в ресторане, наверху. Микки». Записка была написана более часа назад.
«Не опаздывайте ни в коем случае», — стучало у меня в висках, когда я бежал на второй этаж в ресторан. Первым, кого я там увидел, был толстый и весьма популярный певец, «выдумщик и прикольщик», шоумен и советник президента Калмыкии по культуре Сергей Крылов, прославившийся песней «Дева, дева, девочка моя». Он важно раскинулся в кресле с чашкой кофе в руке. «Неужели он тоже Микки ждет?» — почему-то подумал я. Микки сидел неподалеку. Ошибки быть не могло, он был единственным человеком в зале, помимо Крылова. Невысокий, энергичный мужчина. Русые волосы, тронутые сединой, горящие умные глаза и осанка важного сеньора, caballero grande. Я подошел, представился. Микки недобро кивнул, указав мне на стул. Я сел.
— Я тут уже час, — недовольно сказал он, сверкнув глазами.
— Я тоже. Я ждал в лобби, как мне и сказали.
— На ресепшене нельзя было спросить, где я?
— В конце концов я так и сделал.
— Поясню. Это был тест на сообразительность, — огорчил меня Микки. — Те, кто быстрее догадывается, что можно спросить на ресепшене, имеют больше шансов попасть в «МакКинзи».
Я промолчал. А что тут скажешь?— Итак, приступим, — перешел к делу Микки. — Я задам три вопроса. Всего три. И не обижайтесь, я буду есть.
Первый вопрос был о приватизации в России, второй об инфляции, а вот третий был куда сложнее. Потом, конечно, мне объяснили, что во время интервью в «МакКинзи» претендентов могут мучить разными способами. Например, могут применить способ «глухое молчание», когда интервьюер просто сидит в кресле и молчит, независимо от действий собеседника. Так проверяется способность претендента брать ситуацию под контроль. Этих тонкостей я не знал, как не ведал и о типовых вопросах, например: «Сколько футбольных полей в России?». Здесь требуется быстро, применив логику, ответить на вопрос, не имеющий ответа. Именно этот вопрос и задал Микки, дав мне пять минут на подготовку. Если бы он спросил меня про число бензоколонок или больниц, я бы, наверное, спасовал. Но футбол — тема близкая. Легко я разделил численность населения России пополам, установив примерное количество мужчин. Потом разделил эту цифру на три, предположив, что только треть мужского населения способна гонять мяч. И так далее. Довольно быстро я выдал Микки ответ, осторожно поинтересовавшись, правилен ли он. «Не знаю, — рявкнул Микки, откинувшись на спинку шикарного стула. — Правда! Я не знаю».
Потом он вскочил как ошпаренный, протянул мне руку, при пожатии которой меня шарахнуло током (плохой знак), и произнес: «Теперь мы будем думать. Мы принимаем только достойных. Есть всего три варианта. Всего три. Мы можем сказать вам «да». Или «нет». Или «мы подумаем». В последнем случае вы сможете попытаться поступить в «МакКинзи» в следующем году. Хотя… Прощайте». Микки развернулся, щелкнув каблуками своих коричневых блестящих ботинок, и в секунду растворился, словно видение. «Мимо», — бормотал я себе под нос, покидая шикарный отель.
Через месяц зазвонил телефон в нашей квартире на Кутузовском. Бодрый женский голос с американским акцентом радостно сообщил, что я принят в «МакКинзи»: «Мы долго не могли дозвониться! Поздравляем! Рады приветствовать на борту! Первый день работы — 15 августа». Это была вторая важная черта после МГУ, которую я переступил. Я рассказал Стефани про «МакКинзи» после того, как меня туда приняли.
— Ты будешь работать в «МакКинзи»? — оторопела она.
— Да.
— Как же ты туда попал? Во Франции простому студенту к офису «МакКинзи» даже подходить нет смысла. Туда берут только тех, кто pistonne.
— Что такое пистонэ?
— Ну, пистон. Его кто-то заряжает и доставляет туда, куда надо. Понимаешь? У нас тех, кто попал в «МакКинзи», называют пистонами. У них папы, дедушки.
— А, — догадался я. — По-русски это называется «по блату».
— Так как же все-таки тебя туда приняли?
— Да самым обычным образом. Пришел и ответил на вопросы.
Стефани подивилась, а я восторженно замер — было ясно, мне повезло в очередной раз! Стефани между тем предложили работу сразу три офиса KPMG: парижский, франкфуртский и московский. Это был успех, оставалось лишь сделать выбор. За ужином решили, что Стефани разумнее начать в Париже.
— С парижским опытом ты куда хочешь сможешь потом поехать, а с московским — не факт, — высказал я свое мнение.
— Все равно мы оба сначала в работу с головой уйдем, — с горечью проговорила Стефа.— Будем ездить друг к другу. Ты ко мне, я к тебе. А через год определимся.
Вскоре мы поехали во Францию. Стефани ждали выпускные экзамены, а мне предстояло снова рассказать о российских реформах в Школе бизнеса, а заодно поучаствовать в ярмарке «Окно в Восточную Европу», которую придумал Жиль Гийонэ–Дюпера. В Москве опять стреляли. И, что огорчало, снова по соседству с моим домом, на Красной Пресне. На сей раз жертвой криминальных разборок пал «крестный отец» Отари Квантришвили, контролировавший, как говорили, чуть ли не весь центр Москвы. Особенно переживал Иосиф Кобзон: «В Отари стреляли те, кто против России. И я горжусь, что одна из газет написала, будто следующим после Отари буду я». Все эти перестрелки не только порядком надоели, но сделались совсем неприятными. В аэропорте я купил журнал Time, выпил кружку «Гиннесса» и перенесся в другую жизнь еще до того, как наш самолет оторвался от земли и взял курс на Париж. А там все уже были сметены шокирующей новостью: на трассе в Италии во время заезда «Формулы-1» насмерть разбился великий бразильский гонщик Айртон Сенна, об этом все только и говорили, взволнованные французы толпились у телевизоров в кафешках, чтобы расслышать подробности.
В этот раз Париж пошире приоткрыл передо мной свои величественные двери. Мы прошлись по Елисейским полям, поглядели на Лувр, взобрались на Эйфелеву башню, дошли до Монмартра. Особенно запомнилась Гранд Опера, которая, показалось, была покрыта плесенью, словно сыр «Рокфор». Потом из аэропорта «Орли» полетели в Бордо. Там, проведя четыре семинара подряд и порядком опустошенный, я решил перевести дух и направился в библиотеку Школы, где попросил дать мне что-нибудь про «МакКинзи». Юная библиотекарша через три минуты вынесла журнал «Fortune», с обложки которого улыбались поднимающиеся по трапу самолета элегантные, молодые, одетые в строгие костюмы голливудские красавцы. Это, как оказалось, и были сотрудники компании. Тема номера была вынесена на обложку: «How McKinsey Does It»[157].
Многостраничное повествование начиналось так: «Из всего, что было за годы сказано о «МакКинзи» — самой известной, самой закрытой, самой дорогой, самой престижной, самой успешной, самой завидной, самой вызывающей доверие, самой нелюбимой консалтинговой компании на земле — лишь одно утверждение неоспоримо — эти парни из «МакКинзи» искренне уверены в том, что они лучше других. Они считают себя элитой». Дальше писалось, что «МакКинзи» — это «Роллс-Ройс» в своей отрасли, что в компании работают такие ребята, эго которых вполне может затмить солнце, что они — очень умные, пытливо сомневающиеся, а это движет их вперед, к цели, которую они всегда находят безошибочно. Утверждалось, что в «МакКинзи» действует принцип up-or-out, то есть «наверх или вон!», что означает: если ты не заслужил повышения в течение оговоренного срока, то должен покинуть компанию. Еще выяснилось, что сотрудники «МакКинзи» в основном мужчины, причем белые, что они называют себя «Фирмой», что эта «Фирма» похожа на ЦРУ. «Это очень скрытная организация, — приводились слова одного из клиентов. — Даже если вы давний клиент «МакКинзи», вам дадут разглядеть только верхушку этого огромного айсберга».
Чтение захватило, время замерло. Эффект усиливался впечатлением от недавно прочитанного бестселлера Гришэма «Фирма», главного героя которого — выпускника Гарварда Митчела Макдира — взяли на работу в скрытную, элитную компанию, занимавшуюся налогами. Двери и окна здания, в котором располагалась фирма Макдира, опечатывались, повсюду были установлены кодовые замки и видеонаблюдение. Сотрудники жили кланом, жены их проводили время только друг с другом. Женщин на работу не нанимали из-за их ненадежности. Ни одной мало-мальски пригожей секретарши в компании не было, чтобы избежать даже намека на возможный флирт между сотрудниками — это считалось преступлением. И так далее. В общем, я был крайне заинтригован.
Русский медведь
Французские радиостанции, пробиваясь сквозь помехи, шипящими и свистящими голосами наперебой сообщали: «Открылся Каннский фестиваль…», «Трудно сделать выбор…», «Четыре фильма претендуют…». Этими фильмами были «Три цвета: красный» поляка Кшиштофа Кеслевского, китайский «Жить», российский «Утомленные солнцем», снятый Михалковым, и «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино. Стефани очень нравился предыдущий фильм Михалкова «Урга» («р», конечно, выговаривалось на французский манер). Теперь она болела за «Утомленных солнцем». Каждый день она следила за конкурсом, зачитывая мне из газеты: «По Круазетт ходят слухи: «Судьба «Золотой пальмы» уже решена, она достанется Микалькофф»». Я тоже болел за Михалкова. Не только потому, что он русский. Еще за то, что он — наше все: идеальный мужчина, преподаватель высокой нравственности, Учитель закона Божьего и человечьего, наш пастырь, и, наконец, наш единственный в России аристократ. Аристократом он себя назвал сам в одной телепередаче, когда его собеседник выпалил: «Никит, ведь ты же интеллигент?». «Нет! — возмутился режиссер. — Я аристократ!». А победил Тарантино. Публика неистовствовала на просмотре его «Криминального чтива», а французская Le Figaro сообщала: «В зал было невозможно прорваться, дружный рев сопровождал каждый ударный момент картины, а они следовали один за другим, создавая мощный драйв и выплескивая с экрана бешеную энергию». «C’est dommage»[158], — расстроилась Стефани.
— Все-таки к России во Франции многие относятся как к опасному медведю, — выдала на другой день Стефани.
— Кто?
— Мои родители, например.
— А почему твои родители нас боятся?
— Как объяснить? От России никогда не знаешь, чего ждать. Вот я недавно в газете прочла слова популярной русской песни.
Не знаю, кто ее поет, но слова такие: «Don’t fool around, America. Give us back Alaska, because Catherine the Great has made a mistake»[159].
— Это — группа «Любэ». И что?
— Они эту песню здесь, во Франции, пели. Причем одеты были по-военному.
— Это же шуточная песня.
— Вот мои родители таких шуток и не понимают. По крайней мере, сразу не понимают.
Парабут
В Париже я, как это говорят, когда хотят, чтобы звучало красиво, «сформировал свой гардероб для офиса» — купил темно-синий костюм, три сорочки и два галстука. Все это влетело в копеечку, съев чуть ли не все мои сбережения. Самой трудной покупкой оказались ботинки. Неискушенный в бизнес-этикете, я схватил пару за 40 долларов, но Стефани вырвала ее у меня из рук и вернула на место.
— Обувь должна быть дорогая. Пойдем, — повела она меня в магазинчик, где продавались ботинки Paraboot. — Вот. Это то, что тебе надо.
Я взглянул на ценник и обомлел:
— Но они же стоят 200 долларов.
— Это — Paraboot, — Стефани прикусила нижнюю губу, тоже обескураженная ценой.
— Мне никакой Paraboot не нужен! — уверенно отрезал я.
— На ботинки обязательно посмотрят. Ботинки — самое главное, — озадаченно проговорила Стеф.
— Да? И что, кто-то сможет определить их цену? Не верю! Это же обыкновенные бизнес-ботинки!
— Поверь мне, — теперь Стефани выглядела убедительно. — Уж где-где, а в «МакКинзи» смогут многие.
Я вспомнил статью в Fortune и Митчела Макдира, как он появился на работе в ботинках за двести долларов. Так в книжке и было написано: «Скрестив ноги, (он) принялся рассматривать носки своих новых ботинок — всего двести долларов». Надо было решаться. В памяти, словно Хоттабыч из облака, воскрес Шахворостов с его «главное в жизни — это appearance». «Ну что ж, — подумал я. — В конце концов, ботинки — это downside[160]. A upside[161] вполне может быть таким же, как у Макдира, а Макдира фирма быстро обеспечила льготным низкопроцентным кредитом на покупку дома, членством в двух клубах и новым «БМВ». Цвет, конечно, я выберу сам». «Покупаю!» — выдохнул я… Они были черные, в необыкновенном зеленом мешочке, на котором золотыми, с наклоном, буквами было вышито — Paraboot. Продавец пообещал, что они будут служить долго, может даже лет десять. Я успокоился.
Буревестник Шахворостов
Я вернулся в Москву, которая жила в своем энергичном ритме. Только что взорвали «Мерседес» предпринимателя Березовского на Павелецкой. Березовский торговал машинами и, судя по всему, был богат: оборот его компаний в 93-м равнялся 500 миллионам долларов. Он, как и «МММ», собирал деньги в какой-то Всероссийский автомобильный альянс «AWA», вроде бы на строительство автомобильного завода, который так никогда и не был построен. В тот же день в Москве прогремели еще два взрыва, после чего Ельцин издал Указ о защите населения от бандитизма. Результат, увы, достигнут не был.
Лето разогналось, дни полетели стрелой. Мы защитили дипломы, сдали госэкзамены и весело отпраздновали окончание МГУ в «Американ Бар&Гриль» на Маяковке, где я выпросил у музыкантов гитару и спел своих «шоколадных девушек». Правда, гитару, как и в случае с философами в «Буревестнике», быстро отняли. Неожиданно, как ураган, в Москву из Мельбурна на целый июль прилетел Шахворостов, чтобы проведать родителей. Он позвонил: «Давай в футбол! Жду тебя на «восемь восемь»». Я тут же помчал на площадку. Стоял мягкий солнечный день, раскрашенный цветами из «Корсиканского пейзажа» Матисса, одной из моих самых любимых картин. Ярким пятном на площадке с синими бортами нарисовался азартно гоняющий мяч, как мальчишка, Шахворостов. Он скакал, за ним прыгали матерные слова. «Моя фамилия запоминается просто, — сухо представился мне он в детстве. — Шах, вор, остов корабля. Запомнишь?». Я замедлил шаг. Шахворостов… Я ведь столько лет его знаю! Так много с ним связано. Вот он, семиклассник, достает из-под своей кровати самиздатовский «Архипелаг ГУЛАГ» в коричневом переплете, зачитывает душераздирающий эпизод и заговорщицки шепчет: «Никому не рассказывай, что у нас дома запрещенная книга». Вот он придумывает название для нашей музыкальной группы — «Цугцванг», а это такая редкая ситуация в шахматах, когда любой ход, который ты можешь сделать, ухудшает твою позицию, и лучше бы его пропустить, да нельзя. Вот Шахворостов на сцене актового зала школы, с бордовой электрогитарой «Урал», поет «The house of the rising sun», а потом продолжает «I just called to say I love you». Все слушают, раскрыв рты. А потом мы стоим напротив учительницы по литре Долорес Робертовны около учительской раздевалки, солнце светит в лицо, и я говорю Долорес, что на соло-гитаре лучше Кеши никто со времен Джона Леннона не играл, а сам, конечно, жду, что он скажет: после Маккартни не было такого басиста, как я, но он не говорит. Вот я беспощадно обыгрываю его в два касания в футбол, а он не сдается и пытается отыграться до тех пор, пока не становится совсем темно и надо идти домой… А потом я на брезентовом рюкзаке в «Шереметьево», а он улетает к Капитолию.
В тот же день Кеша перебрался ко мне на «Аэропорт», в квартиру, которую мне снова на все лето оставили дедушка с бабушкой, уехав на свой огород. Оставалось меньше двух месяцев до новой жизни, до начала работы. Это время абсолютной свободы промелькнуло, как искра. Вечерами мы ходили в Armadillo Ваг в Хрустальном переулке, там пела кантри-группа «Кукуруза», а вход стоил пять долларов. Ночью перебирались в дискотеку «011», преемницу «У Друбич». Там я посоветовал Кеше выкурить сигарету. Он покурил, и с этого момента папироса стала его верной спутницей. Потом случайно в кулуарах МАРХИ Кеша набрел на американку Эрин, студентку Йельской юридической школы. Что она там делала, было одному Богу известно. Быстро стало ясно, что Кеша увлекся. Неудивительно. Эрин была обворожительна и вдобавок метила высоко. Ее любимой машиной был «Ягуар», она ездила на шопинг в Лондон и собиралась зарабатывать не меньше 120 тысяч долларов в год чистыми сразу же после окончания университета. Специализация американки — white color crime (преступления «белых воротничков») — внушала уверенность в будущем этой хрупкой девушки. Я увидел Эрин на вечеринке на даче у Кешиного однокурсника. Кеша растворился в Эрин. Я был уверен: Кеша добычу не упустит. Все-таки он всегда был, как сказала бы дворничиха тетя Паня, «лавелазом».
Интрижка, однако, обернулась чем-то большим. Мой друг забыл про все на свете. Голова его закружилась, а земля под ногами задрожала. Мы бродили по вечерним улицам, час за часом раздумывая над мучившим его вопросом: «Она меня любит? «Да» — да, или «да» — нет?»[162]. Он высаживал по пачке сигарет в день и выпивал, не закусывая. Чтобы отвлечься от переживаний, смотрели чемпионат мира по футболу. Наши играли неважно, зато Олег Саленко забил Камеруну пять мячей в одном матче, став рекордсменом на все времена.
Каждое утро Кеша отправлялся к дому Пашкова, там садился на ступеньки старинной лестницы и обозревал стены Кремля, Каменный мост и Дом на набережной. Фантазия не давала ему покоя: на свободном пятачке между Боровицкой башней и домом Пашкова ему вздумалось воткнуть какой-то небоскреб из стекла и бетона, откуда будет открываться восхитительный вид на город.
— Кеш! Ну не нужен нам еще один «вставной зуб столицы», — умолял его я. — Нам «Интуриста» хватает.
— Ничего ты не понимаешь, — обрывал меня он.
Ход времени, увы, неумолим! Настал день, когда Кеша рассеянно засобирался в аэропорт — австралийские работодатели забеспокоились, что потеряли коллегу, а ведь нет ничего тревожнее такого беспокойства. Мне в тот же день надо было ехать на месячные военные сборы. Я проводил Кешу до лифта, а потом смотрел ему вслед с балкона. Шахворостов с сумкой наперевес быстро уходил своей прыгающей походкой в сторону метро. Он направился в Мельбурн, а я, тремя часами позже, на поезде — в город Ковров под Владимир. Уезжать не хотелось ни мне, ни ему.
Военные сборы
В военной части все сияло чистотой. Но чистота оказалась обманчивой. Воды в грязных умывальниках не было, на триста человек — три загаженных очка, в двух из них не работал слив. В солдатской столовке, куда нас привели на ужин, еда была свинской. Недоеденное сливали в огромные пластиковые баки, усиливавшие ощущение, что едим помои. О каком красном вине рассказывал мне француз? Нам выдали грязную и вонючую армейскую форму, конечно, не по размеру. Из левого кармана своих панталон я извлек чей-то сопливый носовой платок.
Следующей неприятностью стала развивающаяся фобия: все забоялись грибка ногтей, только об этом и говорили. Передовицы солдатской многотиражки, которую нам раздали, кричали: «Солдат, бойся грибка!» или «Гриб не пройдет!». На моей эмалированной чашке, которую я прихватил из дома, как назло, были нарисованы лесные грибы. Конечно, это стало поводом считать, что я скоро подхвачу этот неприятный недуг. А тут еще я не додумался, что в душ, который полагался по армейскому уставу лишь раз в десять дней, следует идти в носках, а не босиком. Правда, меня быстро вразумил уже намыленный, в синих носках, студент Косолапов Михаил Валерьевич: «Посмотри на этот грязный пол! А ты голыми ногами! Ты грибок уже подхватил!». Я выбежал как ошпаренный. Только бы не грибок! Слава богу, пронесло! А вот Косолапова носки не спасли. Рано утром вся казарма была разбужена его отчаянным воплем: «Б… У меня ноги чешутся!».
Скоро к нам на присягу из Москвы приехал депутат и бывший посол России в США Лукин. Его сын учился не то на историческом, не то на филологическом и жил с нами в одной казарме. Из-за этого или нет, но как-то незаметно мы перебрались обедать в офицерскую столовую, в туалет стали выходить на открытый воздух, нервируя злого, но бессильного командира части, а в казарме нам установили телевизор, по которому мы допоздна, невзирая на отбой, смотрели матчи чемпионата мира по футболу в США. В финале мундиаля сошлись бразильцы с итальянцами. Все определялось в послематчевых пенальти. Лучший игрок мира 1993 года итальянец Роберто Баджо мечтал стать чемпионом вместе со своими товарищами, но мяч после его решающего удара улетел в небеса.
Искушение
В Москве моего возвращения со сборов удивительным образом ждала Эрин. Шахворостов, улетая, оставил ей мой домашний телефон, и она позвонила: «Можем встретиться, пожалуйста? Кеша обещал, что ты покажешь мне Москву». Голодный солдат, я встретился с ней в «Макдональдсе» на Пушкинской, попросив, для храбрости, Лёнича пойти на рандеву со мной.
— Только я ненадолго, — предупредил Лёнич. — Завтра у меня интервью в «Мастерфудс»[163].
— Это «Марс» и «Сникерс»?
— Да. А еще «Баунти», «Милки Вэй» и «Твикс». Мне задание дали — подготовить бизнес-план для шоколадок «Марс».
— Ничего себе.
— Да. Так что мне еще готовиться надо.
По дороге, в троллейбусе, нас за безбилетный проезд оштрафовал контролер, пришлось расстаться с десятью рублями. Эрин ждала у входа. Красивая. С ней была ее подружка Сюзанна. Сюзанна изучала в Йеле русскую литературу и приехала «почувствовать Россию». Лёнич приободрился, увидев американок. «Ну, привет, Сюзанна-Несмеяна», — подмигнул он Сюзанне. Мы пошли гулять по Москве, зашли в «Спорт-бар» на Новом Арбате, который открылся всего полгода назад, но уже стал частью нашей жизни. Его хранительница, невысокая светловолосая американка, вся, как матрос лентами, обвязанная ключами, за что мы прозвали ее ключницей, приветливо подмигнула нам. А барменша Юля, вожделенная мечта всех посетителей, налила четыре шота водки. С Юлей заигрывали все, но закрутила она лишь с Лехой Лисанским, спортсменом с нашего факультета. «Страстная! Какая же она страстная! — рассказывал он потом. — Всю спину исцарапала».
Сюзанна поведала, что в Москве, как ей кажется, ночная жизнь становится популярнее дневной и что число ночных клубов и казино превысило количество ресторанов. «Теперь утром последний вагон первого поезда метро полон не рабочими утренней смены, а публикой с дискотек», — удивила она меня своими познаниями. Подтверждая ее слова, ночью мы оказались в «Пилоте», заплатив за вход — десять тысяч за меня и по пять — за девушек. Выступал «Аукцыон» с экстравагантным Гаркушей. «Дорога», «Орландина», «Птицы» — все было спето. После концерта началась дискотека. Сюзанна продолжала удивлять: «Tea is not vodka — one can’t drink much of it»[164], — повторяла она невесть где почерпнутую поговорку, добавляя: «Vodka flows like a river through Russian history. Let’s get going! Let’s drink vodka!»[165]. В «Пилоте» цены были неправдоподобно высокими, поэтому я метнулся на улицу, купил «Столичную» в ближайшем киоске, спрятал ее под брюки и пронес внутрь. Эрин пила водку прямо из бутылки, стоя посередине танцпола. Происходящее казалось сказкой. Вдруг американка неожиданно уронила мне на грудь голову, потом посмотрела в глаза и неуверенно, мягким голосом, попросила: «Kiss me». Внутри у меня все заклокотало, а по коже побежали мурашки. Зажмурившись, я поцеловал американку.
Проснулся я на полосатом матрасе, лежащем на полу в съемной квартире Сюзанны, американской подруги Эрин, на Таганке. Эрин спала на таком же матрасе рядом. Она была ангелом. Я встал, дошел до кухни, жадно выпил воды и взглянул на часы, стрелки которых были беспощадны — 10.50! Это означало, что экзамен по военке, который начался в десять в здании журфака на Моховой, подходил к концу. Голова раскалывалась, ноги не слушались. Решив не будить Эрин, я крадучись вышел из квартиры и помчался на Моховую, на военную кафедру, надеясь застать там самого главного экзаменатора — подполковника Шибкова. Не один раз из Франции привозил я Шибкову, заядлому нумизмату, монеты. Помню, как раздобыл для него в банке «Креди Лионнэ» франк с изображением Шарля де Голля, чему подполковник был несказанно рад. Я верил в Шибкова, несмотря на его категорический отказ отпустить меня в Москву пораньше с военных сборов в Коврове: «Кто уезжает раньше, тот не мужик!».
Прощай, любимый МГУ!
Экзамен, как я и предполагал, закончился. Аудитория была пуста. Ужас сковал мои и без того малоподвижные после напряженной ночи конечности. Я побрел по знакомому мне с детства длинному паркетному коридору журфака и вдруг, о счастье, наткнулся на Шибкова.
— Что, студент Руденко, — Шибков слегка грассировал, поэтому несколько необычно выговаривал мою фамилию. — Опоздание на экзамен? Последний экзамен… Это фатально.
— Извините, семейные обстоятельства.
— Вижу, что семейные. Очень хорошо сейчас вижу все. Что делать будем? Ведомости-то экзаменационные я уже сдал.
— Да?
— Конечно! А вы как думали? Держать я их при себе, что ли, буду, вас дожидаясь? Нет, дорогой мой.
— Что же делать?
— А отвечать готовы?
— Да.
— Так уж и готовы?
— Да.
— Ну и почему хоккейная команда ЦСКА ездила зимой в Америку и назвалась там «Русские пингвины»? Почему на хоккейные майки поверх нашей пятиконечной звезды нашили улыбающегося пингвина? Что ж, армейцы, наша гордость, чемпионы, гроза канадцев, теперь пингвины?
— М-м-м… Не знаю точно. Вроде бы «Питтсбург пингвинз» долю в ЦСКА купили и переименовали команду, — я не был уверен в ответе.
— Ладно, расслабься, — время от времени Шибков переходил на «ты». — Всю жизнь за ЦСКА болел, а на этот вопрос у меня ответа тоже нет. Тебе я заочно пять поставил. Иди домой, отсыпайся.
— Спасибо! Большое спасибо!
— Да. И вот еще что, — Шибков, прищурившись, посмотрел мне в глаза. — Не забывайте, что я собираю монеты. Вы же ведь еще будете путешествовать? Европа, Америка, Азия?
— Надеюсь.
— И я тоже надеюсь! Давай зачетку.
Я вышел с журфака и оглянулся на здание моего детства. Сказочное, прекрасное, восхитительное, близкое, старое, по скрипучим половицам которого я ходил маленьким мальчиком, не ведая, куда меня приведет тропа судьбы. Символично, что именно здесь я прощался с МГУ. Последний экзамен был сдан. Все! МГУ, волшебное царство, остался за моей спиной. Как ни странно, сердце не сжалось. Ничего не произошло. Словно так и должно быть. И так же равнодушно, как пять лет назад, когда сразу после поступления в МГУ я спокойно пошел к станции «Университет», теперь я направился к метро «Охотный ряд», насвистывая песню Визбора:
Вот дымный берег юности моей, И гавань встреч, и порт ночных утрат, Вот перекресток ста пятнадцати морей, Охотный ряд, Охотный ряд.Но уж слишком много дел было в тот теплый, солнечный день, чтобы умиляться. В полдень Остапишин женился на Дине, своей школьной подруге, которую держал в неприкосновенном золотом резерве уже очень долго. Теперь он решил распечатать закрома и, закрыв глаза на мир, полный соблазнов и приключений, без сожалений шагнул в семейную жизнь. На регистрацию я успел, а вот свадьбу в ресторане «Прага» пропустил. Когда молодые рассаживались за красивым столом, я уже летел во Францию. Там меня ждала Стефани. Севка тоже не попал на свадьбу, хотя спешил на нее из Ярославля, с работы, изо всех сил, с огромной деревянной ярославской ложкой в подарок. Приехал, а все уже разошлись.
Ничего больше и не было
В самолете мне попалась английская газета. В одной из статей рассказывалось о русских за границей. «Они предпочитают Майорку зимой, любят казино и танец живота и платят наличными», — рассказывалось в заметке. Оказывается, в прошлом году в путешествия за границу отправились четыре миллиона россиян, а в этом — уже девять. Из Парижа они едут на Лазурный берег. Они хотят лучшее из лучшего, в том числе самые дорогие отели. В Греции тоже повсюду русская речь. На другой странице красовались объявления: «Время покупать английские особняки» и «Продаем квартиры в Швейцарии», а статьи рассказывали, что уже 70 тысяч русских обосновались в Лондоне, ими приобретается каждый пятый объект недвижимости ценой от миллиона и выше; в автосалоне «Тринити-моторс» на Пушкинской какой-то Валерий купил свою четвертую американскую машину за тридцать тысяч долларов, с легкостью оплатив ее наличными. «Как же быстро все поменялось, — подумал я. — Ведь каких-то два-три года назад выехать за границу было почти несбыточной мечтой, за паспортами и визами стояли в очередях неделями. Да и вообще был страшный дефицит!».
Три часа до Марселя — не время. И вот я на железнодорожном вокзале Марселя жду поезда до Сан-Рафаэля, городка на Французской Ривьере. До отправления оставалось минут сорок, я добрел до табачного киоска, купил черно-белую телефонную карту с портретом Габена и сигареты «Galoise», причем крепкие, в синей пачке, и тут же высадил пять сигарет подряд. Потому что вечер с Эрин немного сбил меня с толку. «Надо бы узнать, как она, кстати, ведь я с ней даже не попрощался», — с этой мыслью я добрел до телефона и позвонил в Москву.
— Эрин, привет.
— Привет. Уже долетел?
— Да. Тут жарко, и все говорят по-французски.
— Было бы чудно, если бы все говорили по-русски или по-английски.
— Да.— Мне вчера очень понравилось. Приезжай скорее. Если захочешь, сходим еще куда-нибудь.
Поезд летел стремительно. Я боялся пропустить Сан-Рафаэль, но мой попутчик тоже выходил в Сан-Рафаэле, поэтому не пришлось следить за остановками. На перроне сумасшедше загорелая Стефани бросилась мне на шею. За пять минут мы дошли до гостиницы Hotel des Pyramides, которая сдала нам 6 квадратных метров за 20 долларов в сутки. В комнате не было туалета, зато была раковина и биде, в котором можно мыть ноги. Кондиционера тоже не было, ночи поэтому были горячими, а знойные французские дни пролетали стремительно. Небо было пролито из голубого кувшина, широкие листья пальм облавой ловили лучи солнца, земля крутилась юлой, море накатывалось на ее берега. Песня группы «Ниагара» L’amour à lа plage («Мои глаза — твои глаза… Я буду обнимать тебя до конца лета…») передавала настроение. Мы плавали за буйки, проводя на пляже дни напролет! Французское вино по три франка бутылка, багет, который мы ломали руками, и свежие сыры… Сен-Тропе, Антиб, Канны. В Каннах старички на бульварах играли в булль — диковинную французскую игру, разбрасываясь стальными шарами по каким-то правилам. В Монте-Карло мы глазели на шикарных людей, подъезжавших к Старому Казино. Тут же, проходя мимо роскошного «Отеля Де Пари», я подслушал разговор двух французов: «Сегодня ресторан полностью снят. Русские…». Повсюду камеры видеонаблюдения, особенно они впечатлили в общественных лифтах. Я вспомнил «1984» Оруэлла: нет, тут не пахло тоталитаризмом, но при этом казалось, что могли «следить за каждым и целые сутки». А когда стемнело, мы набрели на влюбленных — молодой итальянец, смуглый красавец, одетый в черное, галантно усаживал ослепительно красивую девушку в черный «Феррари», они улыбались, глаза их горели страстью. Машина тронулась и, шурша, удалилась, слившись с морской ночью. Как в кино.
Я любил Стефани. И вправду любил. Но однажды, когда мы прогуливались по набережной среди бесчисленных белоснежных яхт, на которых кипела жизнь, я вдруг подумал, что Стефани — все-таки не последняя моя подруга. Эта мысль меня поразила. Как будто током ударило! И почему-то вспомнилось наставление старшего школьного товарища Петьки Абрамова: не женись раньше тридцати! Откуда он знал?
Потом мы прощались на вокзале в Марселе. Стеф направлялась в Лион, там ее ждали родители, а меня ждала Москва. Мы стояли на перроне, держась за руки и глядя друг друг в глаза. Расставаться не хотелось. И вдруг я ощутил, что это последняя минута, когда мы близки. «Ну вот. Кажется, тебе пора», — я обнял Стефани. Поезд зашипел, заскрипел, фыркнул. Стефани шагнула в переполненный серый вагон, махнув мне рукой. У Бунина есть рассказ «В одной знакомой улице», там влюбленные прощаются на Курском вокзале, жадно говорят, целуют друг другу руки, а он обещает ей приехать через две недели в Серпухов… Заканчивается история словами молодого человека: «Больше ничего не помню. Ничего больше и не было». То же случилось с нами. Бессмысленно было надеяться, что мы со Стефани окажемся сильнее жизненных обстоятельств и беспощадной географической дистанции. Наши пути разошлись в Марселе навсегда.
Точка в холодной войне
Вечером я снова был в Москве, а значит — в гуще событий! По дороге на «Аэропорт» я бегло просмотрел свежую газету. Какая-то проблема, чуть ли не крах, случился с «МММ», Мавроди арестовали: он построил финансовую пирамиду, насобирал денег, а возвращать вкладчикам нечего; народ вышел на улицы: «Свободу Мавроди!». Говорилось и о компании «Мобильные Телесистемы», она призывала пользоваться сверхкомпактным телефоном «Handies». «Неужели когда-нибудь у каждого будет сотовый телефон?» — мечтал я, добравшись до своего балкона на тринадцатом этаже. Телефон уже надрывался: звонили Эрин и Лёнич. Быстро решили идти в дискотеку «Лис’С». В «Лис’С» скакала по сцене и пела Лада Дэне: «Рэгги в ночи, ты потанцуй со мной…», потом выступил Кристиан Рэй. Из клуба мы вышли глубокой ночью.
Я прилетел из Франции. Москва снова бурлила. Митинг в поддержку Мавроди и «МММ»
— Ну что? По домам? — спросил я у Эрин.
— Да, — ответила Эрин и запнулась. — А может, лучше к тебе?
Эрин вела себя по-американски. В Америке, если девушка идет на свидание в третий раз, это значит, что в конце этого свидания она готова идти до конца. Эта моя встреча с Эрин была третьей.
— Ко мне? Не думаю…
— Мне одной дома страшно, там призраки, — Эрин неотрывно смотрела на меня.
— А где ты живешь?
— В доме, где «Ударник», там привидения. Оттуда всех забирали в тюрьму, я знаю.
— Да?
— Мне там очень не нравится.— Хорошо, — решился я. — Давай ко мне.
В квартире на «Аэропорте» не было еды. Разве что семинедельные яйца, капитально промерзшие в холодильнике. Зато имелись две бутылки горячительного, которые я привез в подарок друзьям. Одна бутылка — «Шато Нёф дю Пап» для ценителя красного вина Лёнича, вторая — арманьяк для Севы, любителя напитков покрепче. «Цвета граната с нюансами колера черепицы, пахнущее сухими фруктами, пряностями, мясом и трюфелями», — так всего два вечера назад шептала мне о «Шато Нёф дю Пап» Стефани. Хороший подарок.
Но вот нежная и тонкая рука Эрин тянется к вину, и я не раздумывая рву штопор на себя, пробка вылетает, а вино вырывается из бутылки, словно шампанское, и мощной струей бьет в потолок и заливает стену. Чудеса! «She’s suddenly beautiful. We all want something beautiful», — энергично голосила из магнитофона группа «Counting Crows», к которой меня приучил Шахворостов[166]. С бокалами мы вышли на балкон: Москва завораживала. Вечер, перешедший в ночь, лихо закручивал новую линию моей судьбы. Не было смысла обманывать себя, американка меня очаровала. К тому же я решил поставить свою личную точку в холодной войне.
На следующий день позвонил Шахворостов из Австралии:
— У тебя с Эрин что-нибудь было?
— М-м-м, — запнулся я.
— Я так и знал…
Помолчали.
— Кеш, ты дал ей мой номер и попросил позвонить. Она позвонила.
— Ладно, проехали. Я бы на твоем месте так же поступил. У нас с ней шансов встретиться не было в любом случае. Она в Америке, я в Австралии.
— К тому же любовь — это невроз. Ты же сам меня учил, помнишь?
— Конечно.
— Не пойму одного: зачем ты обещал, что я Москву ей покажу?
— Не знаю, подумал, вам весело будет вместе. Видишь, не ошибся.
Жизнь впереди
Настал мой первый ответственный рабочий день в жизни. В двухкомнатный офис «МакКинзи» в Хлебном переулке я должен был прийти к двум часам дня. Эрин в этот же день улетала в Лондон, где ее мама кутила со своим бойфрендом — английским летчиком, а оттуда — в Бостон, где ее ждал отец-археолог, неустанно искавший в окрестностях Массачусетса индейский след.
От Маяковки мы шли до «Арбатской» пешком. Эрин плакала горючими слезами. Она не желала уезжать. Когда мы переходили Красную Пресню там, где она пересекает Садовое кольцо, сливаясь с улицей Герцена, из серой «Волги», стоявшей на светофоре, высунулась брюнетка и на английском с сильным французским акцентом прокричала:
— Хей, Димитрий! Изь ить ер френч гельфренд?
Это была Валери́, та самая француженка из «МакКинзи», которую я встретил в «Савое». Только что в «Шереметьево» Валери́ стала жертвой чудовищной ошибки: ее имя — Valerie Margotin — встречающий водитель прочитал как Валерий Марготин (а надо было — Валери́ Марготан), поэтому и встречал крупного русского Валерия, а его все не было и не было, хотя проверили, в самолет он точно садился.
— Ноу. Зиз из май американ фрэнд[167], — я сделал акцент на последнем слове.
— Вери гуд, Димитри, вери гуд! — Валери́ лукаво подмигнула мне, словно все понимает.
Взмахнув белоснежной ручкой, она успела бросить «Си ю ин зе оффис» (ударение на последний слог), прежде чем автомобиль, резко рванувшись, унес ее в сторону Никитских ворот. А мы с Эрин дворами дошли до «Арбатской» и там расстались. Прощание было скоротечным. Долгие проводы — лишние слезы.
У кинотеатра «Художественный» я перевел дух, «взял паузу», как учил Петр Михалыч «Понял сё». Начинался следующий этап жизни. Учеба закончилась, Шахворостов умчал, Стеф осталась в Париже, Эрин испарилась над Атлантикой, лето, прекрасное, незабываемое лето опустело. Все случилось как-то сразу. Я на секунду зажмурился, глубоко вдохнул, выдохнул, поглядел налево, на Гоголя. За Гоголем был Пречистенский бульвар. Здесь молодой, двадцативосьмилетний Пьер Безухов в конце второго тома смотрел в небо на комету с лучистым хвостом и думал, что жизнь впереди…
Новая черта… Я ждал, торопил окончание университета. Этот момент наступил. Незаметно дверь в самую настоящую сказку тихо, даже не скрипнув, закрылась. Но приоткрылась другая, в совсем взрослую жизнь. Я улыбнулся и побежал на свою первую настоящую работу, не желая опаздывать в первый же день. Я летел по Новому Арбату, обгоняя машины, повернул на Воровского, срезал угол возле школы Саньки Попова и оказался в Хлебном. Когда я стучал в дверь офиса, вспомнилась песня из любимого фильма Трюффо «Украденные поцелуи»: «Que reste-t-il de nos amours, que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse…».
…Что остается от нашей любви? Что остается от прекрасных дней? Фотография, старая фотография Моей юности.Март 2008 – февраль 2010, Москва
Продолжение следует…
Примечания
1
Долорес Ибаррури (1895–1989) — видный деятель испанской коммунистической партии, которую товарищи по партии называли «Пассионарией» («Пламенная») за ее страстные речи.
(обратно)2
Прямая цитата.
(обратно)3
«Язык Горбачева не всегда понятен. По крайней мере, он не всегда читается в переводе».
(обратно)4
Телемост состоялся в июне 1986 года.
(обратно)5
Авторы: Аузан, Бузгалин, Колганов, Мясоедов.
(обратно)6
Фанат популярной музыкальной группы Depeche Mode.
(обратно)7
Appearance — в данном случае — «как ты входишь».
(обратно)8
«Варенка» — это когда джинсы и куртки вываривались, немного обесцвечивались и приобретали синий цвет в белых разводах. Варенка была ультрамодной в конце 1980-х.
(обратно)9
Я животное, я маленькое животное, я животное в Нью-Йорке.
(обратно)10
Я чужак, я чужак в Нью-Йорке.
(обратно)11
Это было началом прекрасной дружбы. Этой фразой заканчивается фильм «Касабланка» 1942 года.
(обратно)12
Как, думаете, мы должны начать? Я думаю так. Положим, мы просто произнесем несколько предложений.
(обратно)13
Питер Пайпер выбрал упаковку маринованных перчиков.
(обратно)14
Ленин — горячий Гольфстрим, Ленин — холодное мороженое, он — бойфренд моей мечты! Ленин — Санта-Клаус, Ленин — Микки-Маус, Ленин — счастливый Новый Год!
(обратно)15
Переименована в Тверскую в пределах Садового кольца и Тверскую-Ямскую за пределами Садового кольца 27 июля 1990 года по решению Моссовета.
(обратно)16
Беседа.
(обратно)17
Берлинская стена пала 9 ноября 1989 года
(обратно)18
Олег Гордиевский — экс-офицер КГБ, 11 лет работавший на английскую разведку, — получил широкую известность, когда после разоблачения в 1985 году англичане тайно вывезли его из СССР в автомобильном багажнике. Сразу же после его появления в Лондоне британские власти выдворили из страны 25 советских дипломатов и журналистов.
(обратно)19
Погромы начались 13 января 1990 года.
(обратно)20
Цековский — ЦК КПСС, совминовский — Совета Министров СССР.
(обратно)21
Мы животные.
(обратно)22
Внеочередной III съезд народных депутатов СССР. Состоялся в марте 1990 года.
(обратно)23
9 марта — Грузия денонсировала Союзный договор 1922 года, 11 марта — Литва провозгласила независимость, 30 марта — Верховный Совет ЭССР признал недействительным верховенство законов СССР на территории Эстонской ССР, 4 мая — Верховный Совет Латвии провозгласил переход к независимости.
(обратно)24
В Советском Союзе существовало правило: прежде чем выезжать в капиталистическую страну, гражданин должен был дважды побывать в стране социалистической.
(обратно)25
Теперь — Маросейка.
(обратно)26
Выборы были напряженными — 535 голосов за Ельцина, 467 голосов за незапомнившегося Власова. Сразу после объявления результатов Ельцин встал со своего места в тридцать третьем ряду и перешел в президиум. А уже на следующий день Борис Николаевич дерзил: «Если он (Горбачев) не сумеет наладить отношения с Россией, то неизвестно, чем же ему руководить!».
(обратно)27
Россия приняла Декларацию о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.
(обратно)28
Привет!
(обратно)29
Комок (сленг) — комиссионный магазин.
(обратно)30
С антенной.
(обратно)31
В августе 1990 года.
(обратно)32
Коммерсантъ. 1990. № 37.
(обратно)33
Здравствуйте! Рад встрече. Позвольте представиться! Я — студент Московского государственного университета. Первый курс. Меня зовут Ольга Дубова.
(обратно)34
«Шизгара» — русское народное название песни Venus, исполненной группой Shocking Blue в 60-х годах. В песне есть слова «she’s got it», которые русским ухом были расслышаны как «шизгара».
(обратно)35
Написано как произносилось: экибана. Правильное написание — икебана.
(обратно)36
В августе 1990 года такой бунт случился, например, на Мосфильмовской улице.
(обратно)37
Решение Мосгорисполкома вступило в силу с 5 января 1991 года.
(обратно)38
Памятник Тимирязеву на Никитской площади.
(обратно)39
Гавриил Харитонович Попов — экономист, председатель Московского городского Совета народных депутатов (1990–1991), первый мэр Москвы (1991–1992). Сын Василий учился с нами на одном курсе.
(обратно)40
Рекламный плакат «Алисы» сняли в конце июня 1992 года.
(обратно)41
Вроде бы в заголовке нового договора будущий Союз был назван Союзом Суверенных Государств, а в самом тексте — Союзом Советских Суверенных Республик.
(обратно)42
Все денежные купюры в то время были образца 1961 года.
(обратно)43
Пятак — монета достоинством 5 копеек. В те времена проезд на метро стоил 5 копеек, которые надо было опустить в турникет, чтобы пройти в метро. Деньги на пятаки меняли в окошках-кассах.
(обратно)44
Игорь Колыванов — футболист московского «Динамо».
(обратно)45
Фильм «Чапаев» чуть ли не все советские люди знали наизусть.
(обратно)46
Кеша имел в виду стих Маяковского: «Вы говорили: «Джек Лондон, деньги, любовь, страсть», — а я одно видел: вы — Джиоконда, которую надо украсть! И украли».
(обратно)47
МПС — Министерство путей сообщения.
(обратно)48
Орфография Гоголя.
(обратно)49
Рабфак — «рабочий факультет» — подготовительное отделение перед поступлением для служивших в армии или работавших в течение нескольких лет после школы.
(обратно)50
ГКЧП — Государственный комитет по чрезвычайному положению. Члены ГКЧП: вице-президент СССР Янаев, председатель КГБ Крючков, министр внутренних дел Пуш, министр обороны Язов, премьер-министр Павлов («ежик»), а также Стародубцев, Бакланов и Тизяков.
(обратно)51
Президентом России Ельцина выбрали 12 июня 1991 года. Серьезных кандидатов было двое — демократический Ельцин и коммунистический Рыжков. Ельцин грозился национализировать имущество КПСС. А КПСС изо всех сил поддерживала Рыжкова. Третьим в президентской гонке стал новичок Жириновский. За него, к удивлению, проголосовало почти 8 процентов избирателей.
(обратно)52
Дороги? Там, куда мы едем, дороги не нужны.
(обратно)53
Леонард Пелтиер — борец против бесправия коренных индейцев, приговоренный в 1977 году к двум пожизненным заключениям. Советский Союз требовал: «Свободу Леонарду Пелтиеру».
(обратно)54
На севере штата Нью-Йорк.
(обратно)55
«Что, где, когда?» — популярная телепередача, в которой в советское время знатоки отвечали на вопросы телезрителей, а призом за правильный ответ была книга.
(обратно)56
Первая ночная передача в СССР. Обычно телевещание в СССР прекращалось не позднее полуночи.
(обратно)57
Дорогой султан! Добро пожаловать! Я обещаю тебе свое сердце! Из-за тебя я потерял контроль над собой! Я живу среди созданий ночи. Ты — за рулем, а я — пассажир.
(обратно)58
26 октября 1991 года.
(обратно)59
«Не по Сеньке оказалась шапка государева, не по Сеньке», — сказал A. A. Громыко.
(обратно)60
До 2 января 1992 года все цены в СССР фиксировались государством. Этим занимался специальный Государственный комитет по ценам. Теперь свободными, то есть нерегулируемыми, стали 90 % розничных цен.
(обратно)61
Игра состоялась 3 мая 1992 года. Чемпионат России проводился впервые после распада СССР. В высшей лиге чемпионата СССР играли всего шесть российских команд. Для чемпионата России к этим шести добавили 11 российских команд из низших лиг — первой и второй. Самой запомнившейся новой командой был «Асмарал» из второй лиги.
(обратно)62
После реформы Гайдара цены в Москве на основные продукты питания сдерживались за счет дотаций города. К лету 1992 года деньги у города закончились, и Лужков с 6 июня отпустил цены на хлеб, булочные изделия, молоко, кефир. Это тоже отразилось на нас.
(обратно)63
Татьяна Миткова — телеведущая. Евгений Киселев — телеведущий, создатель авторской программы «Итоги» на первом канале «Останкино». Программа вышла в эфир в январе 1992 года.
(обратно)64
Шоколадка «Марс» тоже была популярной, но «Сникерс» был популярнее.
(обратно)65
Газета выходила с 1989 года один раз в неделю, по понедельникам.
(обратно)66
Кайфу — премьер-министр Японии.
(обратно)67
1 августа 1991 года в Москве прошел советско-американский симпозиум по правам лесбиянок и геев.
(обратно)68
Аналогия с названием суперпопулярного фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов» (A Nightmare on Elm Street).
(обратно)69
Родстер (roadster) — тип кузова спортивного автомобиля, открытый либо со съемной крышей.
(обратно)70
Улитки (фр.).
(обратно)71
Американский английский.
(обратно)72
Правительство оценило стоимость всех государственных (частных не было) активов России примерно в 4 триллиона рублей. Около трети этих активов, на сумму примерно 1,3 триллиона рублей, решили приватизировать. Эту сумму разделили на численность населения — 150 миллионов человек — и, округлив результаты деления, получили, что на каждого гражданина России приходится собственности на 10 тысяч рублей. Чтобы получить ваучер, надо было заплатить 25 рублей, что смущало и отпугивало. Срок годности ваучера истекал 31 декабря 1993 года. Потом, правда, слишком короткую жизнь ценной бумаги продлили еще на полгода.
(обратно)73
Тех, кто умудрился поменять ваучеры на акции предприятий напрямую, было, по оценкам, 10 %.
(обратно)74
«Никакой рекламы, ничего не делается, чтобы зажечь людей идеей приватизации».
(обратно)75
В миру — Светлана Велиева.
(обратно)76
Последнюю серию показали в четверг 26 ноября 1992 года.
(обратно)77
Королевский Мельбурнский технологический университет.
(обратно)78
Для московских предпринимателей: направление — Турция. Не из-за экзотической культуры и великолепной еды, а из-за одежды!
(обратно)79
В следующем сезоне (1993–1994) турнир уже изменил свое название с Кубка европейских чемпионов на Лигу Чемпионов.
(обратно)80
Матч состоялся 25 ноября 1992 года.
(обратно)81
«Челноками» называли предпринимателей первой волны, которые с огромными баулами за плечами мотались в Турцию или Китай, скупали там дешевый ширпотреб, потом привозили и продавали его в России втридорога.
(обратно)82
Предшественник знаменитой дискотеки «011» в районе Маяковки.
(обратно)83
Привет. Найдется сигаретка?
(обратно)84
Знаешь, твоя девушка — проститутка.
(обратно)85
Фильм «Хитрость старого Ашира», 1956 год.
(обратно)86
Ф. И. Родичев — член четырех Государственных дум, автор знаменитой метафоры «столыпинские галстуки» (имелись в виду виселицы).
(обратно)87
Разновидность шпаргалки.
(обратно)88
Это был последний чемпионат МГУ по хоккею: турниры перестали проводить, потому что у университета не было денег, чтобы оплачивать лед. МГУ имел союзный статус и финансировался из госбюджета. Когда Союза не стало, Россия не сразу взяла МГУ под свою опеку (это случилось летом 1992). Обучение между тем оставалось бесплатным, поэтому МГУ быстро оказался на мели.
(обратно)89
Выдающийся канадский хоккеист, выступавший за клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз».
(обратно)90
М16 — винтовка, которой обучен воевать каждый морской пехотинец США.
(обратно)91
Торгово-ресторанный комплекс «Садко — Аркада» открылся в конце июня 1992 года на Краснопресненской набережной в здании Экспоцентра. В него входили 8 ресторанов (6 валютных, 2 рублевых) и 8 валютных магазинов.
(обратно)92
На Солнце есть место, где для каждого живет надежда.
(обратно)93
Deloitte & Touche Tohmatsu International.
(обратно)94
В январе 1993 года в Москве работали около тысячи инофирм и 3,5 тысячи совместных предприятий.
(обратно)95
«Свежие яйца из Финляндии». Наличие их было конкурентным преимуществом Stockmann.
(обратно)96
Референдум прошел 25 апреля 1993 года.
(обратно)97
РТСБ — Российская товарно-сырьевая биржа.
(обратно)98
Все заметки — из раздела «Светская хроника» «Коммерсанта», весна — лето 1993.
(обратно)99
М. И. Цветаева.
(обратно)100
Переименована в Поварскую (точнее, вернула себе старое название).
(обратно)101
Борис Гребенщиков.
(обратно)102
В порядке перечисления: «Все для тебя», «Магазин», «Специальный магазин», «Ужас» (все — англ.) и «Мы сделаем красивую прическу» (немецкий).
(обратно)103
Настоящая русская вечеринка.
(обратно)104
Танцклуб «Эрмитаж» открылся 16 апреля 1993 года.
(обратно)105
Мы из «Черри-банка». Здравствуйте!
(обратно)106
Двенадцать. Нас двенадцать человек.
(обратно)107
Песня группы «А-Студио».
(обратно)108
«Ты должна мне сказать, остаться мне или уйти?». Слова из популярной песни.
(обратно)109
Гелла — ведьма из романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
(обратно)110
Пожалуйста, не стесняйтесь! Наш банк открыт!
(обратно)111
В детстве этот пруд официально назывался Пионерским, но мы всегда называли его «Патрики».
(обратно)112
Бойфренд.
(обратно)113
Фраза «Вошла ты, резкая, как «нате!», муча перчатки замш, сказала: «Знаете — я выхожу замуж»» — из поэмы В. В. Маяковского «Облако в штанах».
(обратно)114
62-летний Сергей Горячев.
(обратно)115
«Трэн-Мос» находился по адресу Комсомольский проспект, д. 21.
(обратно)116
Мой зайчик, дорогой, мое сокровище, моя игрушка.
(обратно)117
Малышка, мое сердечко, капусточка, моя драгоценная.
(обратно)118
Версия А. И. Солженицына, книга «Стремя «Тихого Дона»».
(обратно)119
Первый официальный советский миллионер.
(обратно)120
«Руасси — Шарль Де Голль» (Roissy — Charles de Gaulle Airport) — аэропорт в Париже.
(обратно)121
«Как я рада, что ты приехал!».
(обратно)122
Территория «Лужников» была отдана под гигантский вещевой рынок в сентябре 1992 года.
(обратно)123
Смогла.
(обратно)124
Просыпайся! Океан ждет нас. И великолепное французское вино тоже!
(обратно)125
Toulouse-Lautrec (24.11.1864–09.09.1901) — французский живописец, постимпрессионист.
(обратно)126
«Тулуза» (фр. Toulouse Football Club) — французский футбольный клуб, базирующийся в одноименном городе.
(обратно)127
Не совсем точно. Серж Гинзбург родился в 1928 году в Париже в семье эмигрировавших из России евреев.
(обратно)128
Что происходит в России?
(обратно)129
Нет! Танки вошли в Москву!
(обратно)130
Государственный переворот.
(обратно)131
А. Руцкой — второй по важности человек в стране, вице-президент, Герой Советского Союза, полковник, военный летчик, побывавший в афганском плену.
(обратно)132
Почему бы и нет?
(обратно)133
В комнату.
(обратно)134
Ну нет! Дорогая! Дорогая!
(обратно)135
Мой Бог! Невероятно! Невероятно!
(обратно)136
Невероятно! В моем доме!
(обратно)137
«Пилот» открылся 24 октября 1993 года.
(обратно)138
Коммерсантъ, 1993. 18 ноября.
(обратно)139
ГДРовский — произведенный в ГДР.
(обратно)140
Хоккеист, прославившийся не только своей фамилией, но и мастерством, а также габаритами — рост 198 см, вес 115 кг. В то время — игрок челябинского «Трактора».
(обратно)141
Слово «крутой» в то время стремительно ворвалось в лексикон со своим новым значением — «успешный бизнесмен».
(обратно)142
Bain Link.
(обратно)143
Кондоминиум — товарищество собственников жилья (ТСЖ), юридическое лицо для обеспечения эксплуатации многоквартирного дома.
(обратно)144
«Деньги заставляют мир вертеться».
(обратно)145
Будущий канал РТР.
(обратно)146
Единственный путь — это путь наверх!
(обратно)147
Через четыре года я добрался до Новой Зеландии, до того же бара, и оттуда послал Кеше такую же открытку.
(обратно)148
Да, да. Несомненно.
(обратно)149
Хорошо (французский).
(обратно)150
Мишель Камдессю — директор-распорядитель Международного валютного фонда (1987–1999 гг.), в первый раз приехал в Москву в марте 1994 года.
(обратно)151
Раздел «Персональная информация»: «Люблю свою подружку-француженку».
(обратно)152
Международный опыт.
(обратно)153
У тебя собеседование с Джастином?
(обратно)154
Да.
(обратно)155
Удачи!
(обратно)156
«Вы — командный игрок».
(обратно)157
Как «МакКинзи» делает это.
(обратно)158
Очень жаль.
(обратно)159
«Не валяй дурака, Америка, на те валенки мерзнешь небось… Отдавай-ка землицу Алясочку, Екатерина, ты была не права».
(обратно)160
Downside — в данном контексте: «то, что я теряю».
(обратно)161
Upside — «то, что я выигрываю».
(обратно)162
«Ты меня любишь? «Да» — да или «да» — нет?» — цитата из кинофильма «Я шагаю по Москве».
(обратно)163
Российский филиал международной компании «Марс», занимающейся производством и продажей шоколадок «Марс», «Сникерс» и пр.
(обратно)164
Чай не водка, много не выпьешь (русская пословица).
(обратно)165
Водка течет рекой в российской истории. Давайте пить водку!
(обратно)166
«Она неожиданно красива! Нам всем хочется чего-то красивого!» (песня «Mister Jones»).
(обратно)167
Это моя американская знакомая.
(обратно)
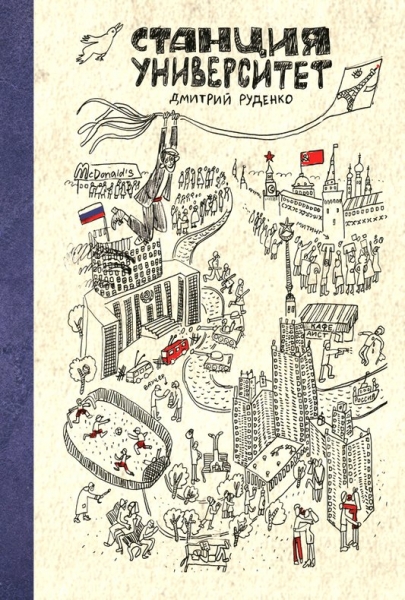

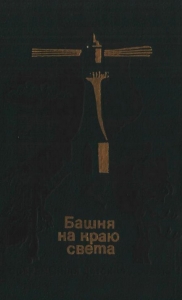


![Избранное [Молчание моря. Люди или животные? Сильва. Плот "Медузы"]](https://www.4italka.su/images/articles/486242/primary-medium.jpg)


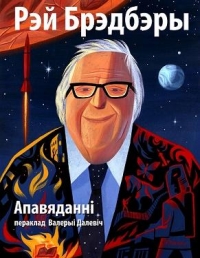



Комментарии к книге «Станция Университет», Дмитрий Викторович Руденко
Всего 0 комментариев