Серж Чума Вульгарность хризантем: Сборник эссе
ТАРАКАНЬИ БЕГА Из дневника дипломата
Март
Первый день весны. Травил тараканов, на службу не пошел.
Вот уж неделю на меня беспричинно набрасываются встречные собаки. Отбиваюсь от них, пишу всякую ахинею и отправляю в Центр шифрованные нетленки о победах российской дипломатии.
Сидя в «литературной песочнице», удумал подражать Мацуо Басё. Леплю на воле куличики — натуралистические жизнеописания в стиле «ватакуси-сёсэцу». Этакий скромный и непрошеный вклад в японо-русскую культуру:
Белый снег, белый стих, Андрей Белый. А беленькая опять подорожала!…Отбросив сомнения, прибыл в Женевскую оперу. Похабное, однако, место. Все пропахло нафталином и потом старых дев. Манон Леско вырядилась уличной хабалкой.
Вспомнил детство, Тобольский драматический театр, балкон, первый ряд, «Женитьбу Бальзаминова», белый бант в партере. Вновь захотелось метнуть в первую любовь баранкой… Наша классная дама долго меня потом журила за неуважение к высокому искусству, а ты светилась от восторга.
«Взалкал» любви и «просканировал» партер. После спектакля разнузданно танцевали с О. под классические вибрации «Июльского утра». Она захлебываясь от восторга говорила, что получила удовлетворение «выше сексуального». Полюбил ее с первого раза и под давлением обстоятельств сочинил:
Бабочки-камикадзе Летят на свет Моей любви…Дошел до ручки — знакомлюсь с «мадамами» как представитель вымерших социальных классов. Ладно, хоть не зря в оперу сходил; а собаки, наверное, чуют мою духовную андрогинию и воинствующее донжуанство. Но надо все же завязать с интенсивной травлей тараканов.
Апрель
Приехала Л.Ж. Мир перевернулся. Стало быть, любовь еще может приносить радость! Написал в Центр, как утроить ВВП.
Занимались искусством… Это какой-то катарсис! Слушали «Истоки симметрии» в исполнении «Мьюз»; хряпнули по чуть-чуть и читали Шекспира до утра. На заре уполз «влюбленным прахом».
Приехал муж и забрал Л.Ж. Совсем как из детского сада! У них в Подмосковье свой дом в новорусском стиле, сад, пруд, церковь и кладбище… Она плакала, собиралась уйти в запой.
Хотел было, что греха таить, потравить тараканов, но взял себя в руки. Проводил, подарил розу. Мне на память остались радужные воспоминания, тапочки, градусник, таблетки, тампоны в цветочек и ее фотография, снятая тайком во Дворце наций, за табличкой «Российская Федерация», — полуобнаженная дива в зале заседаний. Вот она, патриотичная одухотворенная плоть — мой воплощенный идеал!
А. любит Б., Б. любит А., Вульгарность хризантем.Наутро вернулся в мир увядших роз и каменных баб, расставленных по границам любви.
Май
В Женеву прибыл Р.Ч. и спас меня от приступа мизантропии. Посидели по-русски, выпили за великую, единую и неделимую. Согласились с необходимостью дезинтеграции Америки и Евросоюза; согласовали план восстания айнов на Хоккайдо и строительства обители русской и японской православных церквей на Кунашире. Не уверен, что святитель Японии равноапостольный Николай благословил бы наш пьяный бред, но на душе стало легче… На службу, однако, выйти не смог, почувствовал, что Родине плевать на наши планы.
Души птиц блуждают В чужом небе. Долгая дорога домой.…Предрекая судьбу или угадывая прошедшее, поп прокричал мне вслед: «Штраф за превышение скорости!» Не самый тяжкий грех. Однако он попал в яблочко — меня часто штрафуют за душевное нетерпение, хотя мы обречены на вечность. После десяти лет дипслужбы пришел к неожиданному выводу: любить Отчизну можно, но никак не больше, чем ее любит начальство — наша знать «подлого сословия».
Центр похвалил за понимание политического момента.
Т. позвонила из Венеции и сообщила, что готова полностью отдаться искусству фотографии — запечатленной иллюзии реального мира. Приехал, обсудил проблемы итальянского Возрождения, отснял несколько целомудренных «ню», стараясь даже не дышать на модель. Как мне надоел этот фотороман! Привез свою кардиограмму, чтобы на научной основе объяснить подруге опасность сей связи. Назвал наш глубинный эротический опыт «одиссеей дури» и предложил расстаться до лучших времен — царства любви и вечности. Она расстроилась, попросила сдать все анализы, прежде чем принимать окончательное решение. Я согласился. Прислуживаю музам…
Томные тени сплелись В зелени глаз весны.
Оргия мечты.
Во время нашей беседы она прижимала к сердцу, словно авоську с продуктами, сумочку, подаренную домом мод «Гермес». Эту вещицу можно легко обменять на самолет Ан-12 и улететь в тропические дали на изумрудные острова, где под муаровыми пальмами красавицы мулатки пропоют мне на ушко «Боже, Царя храни…».
Я ее не виню. В юности в военном городке Т. испытала нервное потрясение. Сидя в гинекологическом кресле с широко раскрытыми глазами, она услышала: «Девушка, а вы не хотите поздравить офицеров с днем ракетчика?» Что за прелесть эта гарнизонная жизнь! Ракетчики неистребимы… Куда без них — последнего оплота российского самодержавия!
Июнь
Заглянул в женевский «Русский клуб» на международный семинар по творчеству Достоевского. Веселое, однако, заведение… Здесь пышным букетом представлены бурные романтические потоки и лирические ручейки еврейской эмиграции вкупе со всеми поколениями совгражданок. Эти тетки в отличие от Красной Армии не сдали ни пяди родимой европейской земли, зацепились за нее всеми частями тела и по праву лузгали семечки в задних рядах «Русского клуба», жадно хватая воздух свободы натруженными губами.
Да, кстати, главный вывод научной дискуссии — Федор Михайлович был природный антисемит и мракобес…
…Провел консультации с «зашитым» ангольцем — пить отказывается, хотя учился в Советском Союзе. Впрочем, от африканской демократии всегда попахивает то водкой, то джином, то коньяком в зависимости от того, кто наливает…
Во времена бенинской перестройки, когда президент-коммунист в одночасье стал главой правящей демократической партии, я прогуливался по пляжу Котону и фотографировал выброшенные на берег рыболовецкие шхуны. Худощавый мальчишка, купавшийся в океане, заметил меня и прокричал: «Мсье, мсье, сфотографируйте меня! Мой снимок улетит в Париж!» Выполнил его просьбу; фотография улетела в Москву…
Весной 2000 года в освобожденный Грозный прибыла разношерстная делегация правозащитников во главе с верховным комиссаром ООН. Народ выполз на белый свет из подвалов и землянок. На рынке, окруженном развалинами с надписями «мины», продавали колу, сгущенку, сигареты «Петр I» и кирпичики хлеба. Завидев иноземцев, полоумная русская старуха в платке и телогрейке заорала благим матом: «К нам негры приехали!»
Предложил гвинейской подруге Жизель Памбу-Чивунде, аристократке и красавице, подарить России нового Пушкина… по любви, конечно, вне какой-либо идеологии, кроме, пожалуй, неопушкинизма и «эстетического империализма».
Жизель поинтересовалась: есть ли у меня жилплощадь в Москве или Санкт-Петербурге. Пришлось соврать, что квартира имеется, но прописан я во вселенной. Она, однако, баба ушлая, настоящая чивунда! Сразу вычислила в моем лице бомжующего на демократической Родине романтика, отказалась плодить черножопую голытьбу и просила больше не обращаться с неподготовленными предложениями.
Летний ливень Смыл следы Вчерашней любви.Думаю о Пушкине, а люблю женщин…
Июль
Осмотрел в музее изящных искусств Нёшателя экспозицию современных швейцарских художников. Все восхитительно, достойно запасников лучших музеев мира! Удивляет плоскость и фундаментальная приземленность сих творений. Вот уж, как ни крути, а массовое швейцарское искусство, замешенное на «гуманитаризме», принадлежит буржуазному плебсу.
Мне по душе искусство, отмеченное жизнью и смертью, пропитанное потом и кровью, пропахшее дымом гениальности и расцвеченное национальным колоритом: скелеты в кружевах, распятые Будды, кокетки в платьях из пожелтевших страниц «Пионерской правды». Здесь в музее ни одного живого персонажа — ни японца Христа, ни Ленина-хохла, ни вотяка Николая Чудотворца.
В конечном счете, во всех художественных спорах главным арбитром остается сам Господь, поскольку искусство есть метафора мира и его создателя, открытая всем, но понятная немногим:
Сегодня воскрес Дзэсусу Кирисито. Слушай, как млеет соловей!Воскреснув, Христос, не объясняя причин, заявил Марии-сан на латыни: «Noli me tangere!» — не прикасайся, мол, ко мне, женщина…
Центр подумал и подчеркнул важность демистификации искусства, отметил, что эротизм в творчестве сродни религиозному экстазу, так как позволяет преодолеть страх смерти и политико-дипломатической в частности. Смелая мысль, из которой я заключаю, что дипломатия как минимум есть эротическое искусство возможного.
…Время — не деньги, а рифма пространства. Безрифмие сродни безвременью… Вот с такими запросами «спотыкались», гуляя по Невскому, я и настоящий питерец, «бессемейный сирота», презиравший часы, но даже в бреду белых ночей безошибочно определявший время.
— Так, мин херц, уже одиннадцать. Пора подумать о ночной молитве! — заявил друг, обласкав взглядом изящный «двойной курган» незнакомки.
— Как ты узнал? — поинтересовался я.
— Блядь гуще пошла, мин херц!
Все надоело, еду к маме! Только она знает толк в дипломатии, солениях и сибирских пельменях. Встретит, накормит, обнимет и скажет: «Сыночка моя, красавица… Дипломатик у мамы!»
С младых лет она командовала детским садом: семьдесят стерв педагогического коллектива; пятьсот воспитанников-короедов; повар-вор; худрук — певец соцреализма: снежинки, зайчики, дедушка Ленин, крейсер «Аврора»; сторож — пьяница; шефы-бездельники — «Бригада разведывательного бурения № 2»; замполит — Макаренко; муж — авиатор — «нынче здесь, а завтра там»; за забором сада — тайга с медведями, на заборе — сын — «щас буду сложные истерики закатывать». Такое заявление тянет на угрозу применения силы в международных отношениях!
Август
С размахом отметил третью годовщину развода, а от Р.Ч. ушла жена. Сказала, что не хочет жить с декабристом… Умотала, наверное, к октябристу или другому контрреволюционному типу. Не то с горя, не то на радостях напились милости японских богов в двадцать девять оборотов:
Ты один Мне не изменишь, Вкус доброго сакэ.Люблю Р.Ч., но салат он режет слишком мелко…
Посетил Вену — изящный форпост Запада, элегантно и окончательно остановивший турецкие орды и восточные нравы на пороге старушки Европы. В облике австрийской столицы художественно воплощена идея эфемерной империи, расправившей крылышки лишь на пару-тройку веков, пока ее не добили мирные будни, вальсы и успехи психоанализа.
…Боролся с мировым злом поцелуями — защищал китайцев от американцев. Без этой добровольной помощи они вряд ли бы справились… Американцы бесновались, брызгали слюной в мою сторону как типичные представители жлобской субкультуры. Все понапрасну, руки у них коротки! Мы с китайцами шапками их закидаем; да и что с меня взять-то, кроме анализа мочи… Не пойму только, зачем эта преданность гротеску? Ведь китайская демократия стоит американской… Наверное, тоскую по Л.Ж.
Увядший цвет магнолии, Как падшая женщина, В моих руках.Никто уж не спросит в постели: «Что зайчик делает?»
…Как-то по велению Мельпомены французский актер очутился в Косово, в американской зоне оккупации. Он решился выступить перед жителями городка с многообещающим названием Гнилане. Читал Сартра в заплеванном полумраке зала. Публика, состоявшая в основном из албанской деревенщины и чернокожих янки с соседней военной базы, впервые слышала французскую речь, гудела, курила и жевала попкорн. За исключением дюжины местных эстетов, сгрудившихся в зале поближе к выходу и от греха подальше, сентенций Сартра никто не понимал. Для «избранных» этот моноспектакль приобрел особое значение. Сам я будто очистился от внетеатральной грязи и хотя бы на час прекратил играть роль шута-миротворца. К концу представления француз, пытаясь перекричать толпу, хрипел о том, что все происходящее в зрительном зале и есть подлость и мерзость лицедейства.
Сентябрь
В час второго завтрака познакомился в центральной пивной Волжска со сложной личностью. На две трети — алкоголик, на треть — неоплатоник. С ним была подруга по вечности — «синеглазка», которая после каждой стопки глубокомысленно тянула: «Да-а-а», как бы давая «добро» вселенной на дальнейшее жалкое существование. Пили горькую свободу и синеву небес, закусывали рабством. Вслед за Ницше провинциальный мыслитель бубнил о христианстве как «народном платонизме». Я возразил, что народный платонизм — это, как пить дать, родимый отечественный анархизм. Тогда частичный неоплатоник предложил впредь называть Россию «платонической федерацией». Я согласился, но не решился угостить метафизика, который уговорил вторую поллитровку.
Цветение мечты и листопад надежд, Сакэ ведет меня По лабиринту времени.Неожиданно доморощенный философ запричитал о «русской народной демократии». И я осознал, что без мордобоя, судя по лицу его подруги, не обойдется. Сославшись на занятость, раскланялся и даже не осадил неоплатоника мыслью о том, что «демократия — в аду, а на небе — царство», если не сказать, тоталитарный режим… Синеглазка прогундела мне вслед: «Пижон, мы и без тебя Россию поднимем». Везет же неоплатоникам на женщин!
…Вернулся в Европу и встретился с М. в Париже. Ах, Париж, Париж! Слева-Пантеон, справа — «Макдоналдс»… Муза предупредила: «Дорогой, без гондонов не приезжай». Вот это настоящая женщина, соль земли! Еще добавила: «Теперь такая экология, что даже при минете надо предохраняться, неминиатюрный ты мой».
Раньше было проще! В условиях «резинового голода» самые осторожные мужчины нашего рабочего поселка пользовались капроновыми чулками. Удобно, практично, экономно. Не жизнь — любовь!
Что такое «российская политэкономия»? Отбросим как несущественные выводы идеологов бестоварного хозяйства, экономной экономики, инвестиций в водку, «либерального кейнсианства» и «консервативного неолиберализма», двух моделей хозрасчета и «фазендного» земледелия вкупе с всенародным состраданием к «рабыне Изауре». Формулу нашего успеха блестяще изложил «трудящийся-мигрант» в письме к деревенской родне: «Пришлите мне кошелек, а то купить его не на что, а деньги сложить некуда».
Я тоже, каюсь, участвовал в рыночных отношениях. Однажды мы с дедом-фронтовиком продавали порося. Породистый был! За три месяца вольготной жизни забурел, покрылся щетиной, но не вырос ни на сантиметр. Дед решил загнать недоросля на колхозном рынке, выдав за «сосунка молочной свежести». Провели предпродажную подготовку: отмыли, побрили, навели марафет. Наш красавчик произвел сенсацию… Домой бежали как герои-олимпийцы. Дед семенил по улице в спортивном костюме, шляпе и орденах. Он все рассчитал: даже если догонят, бить ветерана с ребенком не станут. Когда опасность миновала, дед отдышался, отметил успех предприятия кружкой пива, а мне прикупил книжку «Мезолит СССР».
Октябрь
На днях умер Жак Деррида, утверждавший, что «каждая графема по своей сути имеет характер завещания». Что же он завещал? Например, идею тождества между различием и неразличием, тождественную тождеству между тождеством и нетождеством. Или его знаменитая «деконструкция» христианских воззрений на непорочное зачатие — разрушение «гимена» девственности посредством «гимена» соития к пущей радости Гименея. Проще говоря, Деррида вслед за старым еврейским Богом настоятельно советовал нам плодиться и размножаться.
Центр стоически перенес смерть крупнейшего мыслителя современности.
…Поехал с миссией в Бордо. Французская провинция в эту пору года производит удручающее впечатление. Никто не борется за урожай, даже литературный; в мертвых небесах застыли железобетонные облака; знаменитые виноградники мрачны, как военные кладбища с ровными рядами покосившихся лоз-крестов; проложенные еще римлянами дороги удивляют апатичностью; а местное население настойчиво наслаждается жизнью. Кошмар, как говорят французы…
Лишь бы Пятая республика не стала последней. Иначе — беда! С кого будем срисовывать наши конституции? Нынешний-то основной закон — смесь бордо и американского бурбона — просто пойло для электората. Как будем жить и пить, если конституцию России разбавят парламентским шнапсом?
Черное небо осени Скрыло блеклые звезды… Боже, спаси Францию!Побывали в гостях у Мориса Дрюона. Живой классик любит русских. Пригласил в рабочий кабинет, угостил кофе. Усевшись в широкое кресло-трон, закурил «гавану» и положил на колени подушку с многозначительной надписью: «Если в раю нельзя курить сигары, я туда не пойду». На огромном письменном столе, заваленном книгами, рукописями, корреспонденцией, коллекцией гусиных перьев, очков и сигар, стояла ваза с одинокой робкой розой и горела свеча. Напротив, над камином висела картина с добротной задастой музой; в углу, над лежанкой расположились фотографии знаменитостей, среди которых и Каролин — любимая ослица хозяина дома. Эта тварь божья особенно дорога Дрюону. Считая ее слишком аристократичной для местных ослов, он занялся поисками достойной пары в соседних департаментах. Отрадно, что хотя бы писательская кошка была без претензий, даже политкорректной, позволяла себя гладить и не доставляла хозяину стольких хлопот.
Центр одобрил итоги нашего визита.
Ноябрь
Весь день удручал плоть трезвостью, размышляя о судьбах Отечества. Пришел к выводу: интеллигенция в России — те немногие несчастные, кто не ворует. Поразительно, но мы даже не испытываем вместе с Европой и японскими отщепенцами никакого кризиса «конца истории», а просто растаскиваем советский общак. Это очень оптимистический момент! Молодая нация — здоровые инстинкты. Жаль только, для большинства выгода ограничивается мешком картошки с соседского огорода.
Путешествуя из Москвы в Петербург, вдруг обнаружил, что флагман российского туристического флота уже не проходит по Беломоро-Балтийскому каналу ввиду его узости и не знакомит население с красотами Соловков. Явная недоработка…
Во сне очень хотел убить товарища Сталина. Гонялся за тенью вождя и прижигал ее утюгом, но безуспешно. Словом, погряз в каких-то мелких и бесполезных грехах! В который раз не пошел к батюшке покаяться и причаститься, а потом, как водится, опять согрешить. Придумал в свое оправдание, что равенство перед Богом может оказаться для творческой дипломатической личности, «дипломата в законе», не менее разрушительным, чем равенство перед законом. Решено — буду настаивать на личной встрече с Создателем. Верю, светит мне небесный ГУЛАГ.
Загубила мои благие порывы футболизация религии. В наши дни ни один удар по мячу не обходится без многократного крестного знамения и благословения свыше. Пнул — перекрестился; забил — преобразился… Церкви пусты, а орущая толпа на стадионах утверждает новый символ веры: «Ооле, ооле-ооле-ооле-е, ЦСКА, ЦСКА!» Впрочем, в провинциальном варианте эта молитва мячу может звучать и так: «Женщина, которая поет? Нет! Женщина, которая дает? Нет! „Геолог“ Тюмень? Да, да, да!»
…Погрузился в круговерть светской жизни — приемы, коктейли, вернисажи, национальные праздники, кинофестивали, маразматики, слюнтяи, половые демократы, злые шпионы и их невинные жены, немецкий резидент с собачкой, британская аристократическая сволочь, святые грешники и дамы в вечерних платьях с созревшими прыщами на обнаженных спинах…
Вздорный ветер Срывает с веток Желтые слезы осени.В дни культуры Страны восходящего солнца меня сразила неброская японская красота, но ненадолго. «Зацелованно-разочарованный» я намалевал языком на плечике скромницы Ю. иероглиф «женщина», что в переводе на русский означает «хорошая баба», но…! Провалилась еще одна попытка онтологизации отношений с носительницей вселенского женского первоначала…
Созвездие родинок Тонет в бездне поцелуя. Вкус разбитого сердца.Почувствовал себя самураем, испустившим дух верхом на женщине.
Центр указал на необходимость строго выполнять инструкции Басё:
«Западный ветер? Восточный? Нет, раньше послушаю, как шумит Ветер над рисовым полем».Не знаю, какие «вражьи сквозняки» имел в виду Басё в затхлой атмосфере начала эпохи Эдо, но нельзя же ограничивать межкультурный обмен… Пора освободить Япончика как славянофила и организатора русской патриотической якудзы!
Декабрь
В огне косовского конфликта встретился с романтичной эстонской девушкой. Пробивался к ней через сербские баррикады и албанские заслоны. Хотя она была по-эстонски рассеянной, но мне все же удалось присесть с ней на диван в спокойной, располагающей к тесному диалогу обстановке. Неожиданно она встрепенулась и спросила: «Са-ачем Россия не хочет Эсто-ония в НА-АТО?»
На днях я отомстил, намекнув, что русофобия и есть единственная «эсто-онская» национальная идея, представленная в жидком состоянии в бальзаме «Старый Таллин», которым блевала вся интеллигентская Москва. Рожденная для бесконечных выпивонов и революций русская интеллигенция плевала на сухой закон, бражничала и поносила советскую власть, которая, собственно, и научила ее пить и блевать. Где же она, где, родимая, русская правда? «Повесимшись»… или только «напимшись»?
Эстонский посол пригласил на ужин. Не пойду — отравят… русофобией, конечно.
Читая «Три образа Иуды» Борхеса, пришел к странному заключению: Бог не нуждается в оправдании, ибо оправдание Бога есть оправдание Иуды и его греха. Так или иначе, памятники Иудушке-революционеру недолго простояли на Руси. Заменили их истуканы-ленины, застывшие как напоминание о фундаментальных российских бесах.
В театре зимы Идет снег. Малахитовые одежды озими.…Коренные народы мира устроили шабаш во Дворце наций — храме моей любви. В целях идеологической поддержки они вызвали духов предков прямо в Зал ассамблеи, выбрали индейцев пожирнее и объявили голодовку в знак протеста против позиции Российской Федерации… Я ждал этого мгновения полжизни, наверное, с того самого момента, когда стал чемпионом Ханты-Мансийского автономного округа по толканию ядра. Да и вопрос, стоящий на повестке дня, был подходящий — территориальная целостность некогда великой, единой и неделимой. Взял слово, потребовал прекратить осквернение святынь и немедленно пригласить попа, чтобы тот очистил помещение от чертей, появившихся стараниями уважаемых представителей коренных народов. Потом настоятельно призвал свернуть презентацию диет и других способов похудания… Давно не испытывал такого неземного наслаждения!
Январь
Должны же быть, наконец, в культуре хоть какие-то константы! К примеру, конь, остановленный на скаку женщиной из русских селений; банный лист, прилипший, извиняюсь, к заднице; заповедное место зимовки раков; стоимость фунта изюма и, конечно, телефоны ближайших борделей… Иначе получается совсем как в русском пророческом четверостишии:
В сапог нассала, И в другой — нассала. И сижу, любуюся, Во что же я обуюся?Познакомился в баре с двумя финскими лингвистками. Поначалу они произвели впечатление мимолетных дур из Хельсинки — хихикали, разглядывая мой псевдославянский профиль. Однако потом, приняв немного на грудь, стали приставать с измышлениями о пределах финской цивилизации. Оказывается, рубеж между нами проходит по глубинному восприятию медвежьей сути. Для жителей Суоми косолапый есть воплощение мифологического зла, хаоса и «большого брата». Для русских же, напротив, как считают финны, медведь — отец родной, прародитель и собутыльник. Резюмируя дискуссию, можно сделать вывод, что римская цивилизация не блистала далее района произрастания виноградной лозы, а финская — укрылась в лесах и болотах от русского медведя. На что они вообще намекали, зачем завели этот разговор? Неужели им сразу не бросилось в глаза, что я уже был не в состоянии расширить границы финской цивилизации. Боялся ненароком придавить лингвисток в экстазе. Ведь это они довели меня от машины до кровати, повозились с полчаса между собой, поохали и захрапели. Так мы и пролежали трогательно рядом…
Наутро ретировался, оставив в постели записку: «Please, have your breakfast without me. I left for a walk in the mountains. You may leave the door open»[1] Позавтракали, ушли и ничего не взяли. «Конкретные» девчата… Да стоит ли горевать? Они бы все равно не вышли за меня замуж… как честные девушки. К тому же столько неудобств! Пришлось бы заказывать в Центре трехспальную кровать.
Центр отметил умение расставлять приоритеты.
…В Женеву прибыл посол А.А., автор масштабных дипломатических мемуаров и бывший близкий родственник бывшего министра. В ходе переговоров, переходя с хренового английского на убитый старческим маразмом французский, он элегантно застегнул ширинку и передал собравшимся горячий привет от бывшего во всех отношениях, который торгует теперь не то рыбой, не то колбасой. Посол рыбы посол не уточнил.
Февраль
Посетил замок Коппэ, что на Женевщине. Почтил вниманием, так сказать, родовое гнездо, что свил банкир Жак Некер, купивший, пусть ненадолго, французский трон.
Мамзель Некер, миловидная любвеобильная толстушка, вышла замуж за нашего брата-дипломата — нищего барона-алкоголика, картежника и буяна из возвышенно-знатного рода де Сталей-Холштейнов. Потом бросила беднягу, всю жизнь гуляла, скрывалась от Наполеона с Бонапартом, фланировала с Бенжаменом Констаном в парке Коппэ: туда — по «аллее ссор», обратно — по «аллее примирения», и писала, как могла, философические трактаты. В Россию вошла одновременно с армиями корсиканца — «кумира дворянской молодежи».
Завела было платонический роман с Александром I, но как-то неудачно рассуждала об абсолютной монархии, «ограниченной удавкой». Умерла в Париже… почти праведницей. Внучка, швейцарская мещанка, еще долго маялась прижизненными грехами бабушки-вольтерьянки.
Снег целует Спящую землю. Белый танец смерти.…Спасал от польских браконьеров охотоморское стадо минтая. Это рыба такая; живет в Охотском море… Сам ее не пробовал, но говорят, очень вкусная и полякам-проходимцам шибко нравится. Утомился, «потерял нить» и опять заплутал в лабиринтах декаданса. Неделю болел каким-то неведомым недугом. Выпил, ушел в «астрал» и опять захворал. Теперь хоть знаю чем… Однако травить тараканов виски с коньяком стало накладно, перешел на русскую водку. Тараканы, они ведь тоже наши, отечественные…
Мы оба веселы — Кувшин вина И я.Есть у меня пальто итальянское… цвета незабываемой ночи! Купил еще до свадьбы, а потом износил до дыр на нежно-фиолетовой подкладке… В амурном деле эта пижонская шинель — ядерное оружие! Экс-феминистки сдавались без боя…
Был, однако, и побочный эффект — «синяки» принимали меня за батюшку и лезли исповедоваться… Более того, ответственная сотрудница «дворца бракосочетаний», тщательно осмотрев пальто, чуть было не забраковала меня и фасон: «Девушка, этот, кажется, уже женился на прошлой неделе… Я проверю по списку». Эх, как говорится, «и за это, и за то я купил тебе пальто»! Прошвырнуться, что ли, в нем по Женеве? Пора выходить из любовно-патриотической депрессии…
Центр молчит, прислал пять кило минтая; а Р.Ч. изменил общему делу с женщиной. Видимо, дни великой России сочтены. Получили странную шифровку: «Россия спасется, если захочет. Бог». Центр еще в России?
Приехала Л.Ж… Вся такая элегантная, как Конвенция Монтрё о статусе черноморских проливов. Встретил; подарил розу и черновик «Тараканьих бегов»; организовал шекспировские чтения… Она сочинила критическое эссе «„Тараканьи бега“ как гимн женщине»… Жизнь продолжается, но в глазах Л.Ж. затаилась боязнь любви.
СЕКС АНГЕЛОВ
— Ба-анжур! — пропела с легким подмосковным акцентом статная молодуха в манто, бросавшем вызов женевской весне, и вошла в лифт.
— Простите, вы, случайно, не русская? — спросил, немного попятившись, галантный мужчина и окутал даму подчеркнуто «вирильным» ароматом одеколона, коньяка и табака.
— Да, русская, но я замужем, — грубовато ответила мадам и свысока посмотрела на джентльмена.
— Вот и прекрасно! Я тоже в некотором роде русский и чуть-чуть женат. Живу здесь с другом, — сказал он и протянул очаровательной брюнетке длинные пальцы, обезображенные маникюром. — Будем знакомы!
Дама не отреагировала, только понимающе улыбнулась.
— Какая прекрасная серая шубка! — прошептал мужчина, немного поразмыслив о женском естестве.
— Да, но она поначалу была совсем белой, — выпалила дамочка и смело уставилась на его влажные от волнения губы. — А к лету станет черной.
— Владимир, вернее, Вальдемар. Будем знакомы.
— Роксана, — представилась красавица, наконец-то пожав нежные мужские пальцы, и спросила номер его телефона.
Володя мгновенно догадался, что обретенное в лифте счастье так просто его не покинет.
Мужчина, значившийся мужем, оказался в далеком прошлом, когда через месяц после случайного знакомства русская пара лежала на пляже в Сен-Тропе под многообещающим солнцем Лазурного берега и пила «розе», мечтая, наверное, о настоящем. К западу от курортного местечка Фрежюс тянулись освященные детской мочой пляжи, на которых в то время отдыхало множество выпускников церковно-приходских школ и танковых училищ. Вальдемар их сторонился, очевидно, боясь оскорбить патриотические чувства соотечественников неуместной интеллигентностью и своим неизменно европейским прикидом.
Под средиземноморским зноем, как под ватным одеялом, цикады давили на уши; кактусы вульгарно цвели на римских развалинах; бриз не давал губам покоя; море было никакое — розово-голубое и почти по колено; устрицы — плоскими и тонкозадыми; шампанское — французским; яппи — зачуханными, а хиппи — на удивление причесанными и банальными. Обычная жизнь старомодных курортов… Казалось, что рецепта настоящей любви, увы, нет в провансальской кухне, а если ее и подают, то только по большим праздникам.
Романтика их отношений сразу бросалась в глаза, поскольку пара держала дистанцию и выглядела неестественно гармоничной. Он — гламурный, почти эфемерный манерный кавалер в очках и плавках. Отпетый красавец или, как говорят в приличном обществе, «асексуал»! Она — русская кокотка, «девица-краса», какой позавидовал бы первый состав любого среднеевропейского борделя. Поначалу Володю даже смущали раблезианские размеры ее прелестей, но впоследствии он стал ими гордиться.
Отдыхающие посматривали на их духовную обнаженность с нескрываемым восторгом и даже восхищением. Особый интерес к этой метафорической связи проявлял местный сумасшедший молодой человек. Каждый раз, маршируя по пляжу и бубня что-то сокровенное об идиотизме бытия, он приветствовал «голубок», корчил гримасы радости, восторженно хихикал и кричал: «Doudou а 40 ans!» Но кто такой Дуду и как его сорокалетие связано с отдыхом Роксаны и Вальдемара в Сен-Тропе, чокнутый не пояснял.
На пляже пара вела себя «культур-мультурно», преимущественно читала, разбавляя вино остроумной мыслью. Он изучал лимоновский секс-эпос, она восхищалась менструальной поэзией Цветаевой, получая почти физиологическое наслаждение. К тому же Володя, как лангедокский трувер, читал стихи собственного разлива и посвящал их Роксане Ивановне. Правда, он то и дело извинялся перед мифическим академическим институтом русского языка и литературы за излишнюю, как ему казалось, пафосность слога:
Твои глаза не можно позабыть, В них есть очарование натуры, Как сгоряча пытаться приручить Неистовую мощь литературы!Осоловев от женевской серости и внимания мужчин с лицами добровольных вдов, тех самых «асексуалов», Вова самозабвенно отдыхал в компании развязно-кокетливой музы, морочившей ему голову уже несколько недель и многозначительно величавшей его то «зайчиком», то «свежепойманной зайчатиной», а также «последним из зайчат», «зайцем без головы» и «зайчиком в тигровой шкуре». Он же в ответ, почувствовав себя мужчиной во всех отношениях, благодарно называл подругу «рыбкой с ослепительной улыбкой», соображая, что помимо загадки у Роксаны есть и отгадка, а также подсказка, состоявшая в ее упорном нежелании нарушить наконец голимый романтизм их дружбы. Каждый чертов вечер они нежно расставались, сюсюкались, но почти язвительно желали друг другу спокойной ночи, чтобы утром встретиться вновь и без особых причин продолжить пляжный псевдороман под техноритмы цикад и гогот сумасшедшего.
Поначалу Володенька даже увлекся этой игрой на нервах и помогал как мог Роксане Ивановне в написании этого бессюжетного романа, так резво закрутившегося в лифте женевской конторы. Но не всякий джентльмен перетерпит четыре недели целомудренных поцелуев, и Володя решил действовать жестко, почти «брутально», по-мужски. Созрел план, поражающий новизной: пляж, вино, форсаж, абордаж и… сладкое похмелье.
Первые три пункта он реализовал без видимого сопротивления красотки, но потом гусарскую тактику пришлось корректировать прямо на поле боя в номере гостиницы под вывеской «Сердце Прованса». Роксана ему откровенно не доверяла; непринужденно отводила фронтальные атаки кавалера одним движением руки; на ласки отвечала скупо, без огонька и все твердила: «Вальдемар, уймись, зайчик». Тот не унимался и решил взять крепость целомудрия на измор, подавить ее психологически, одурманить шармом, иначе говоря, дополнить первоначальный план пунктом «эпатаж»…
— Ты веришь в переселение душ? Я верю и хочу переселиться вместе с тобой, в одно тело, зайчика или рыбку, все равно, — прошептал он с придыханием. Потом, подумав, добавил: — Только не в устрицу.
— Я согласна, но… в следующий раз.
— А почему не теперь?
— Вальдемар, зайчик, ты уверен, что ты «би»? Я в себе, извини, не уверена!
Пыл Володи куда-то испарился, все мужское в его естестве сжалось, скукожилось от обиды. Он лег на постель рядом с женщиной и мгновенно сочинил хокку:
Розовые розы завяли В свете голубой луны. Горечь прозрения.Затем поэт крепко заснул, не извинившись перед институтом японского языка и литературы, очевидно, по причине полного «нравственного истощения». Ночная вылазка Вовы в тылу спящей подруги также увенчалась полным провалом, мужским фиаско… Непокоренная мадам Долгополоф жахнула его о паркетный пол и прошипела: «Да ты, Вальдемар, не зайчик, а кобель. Пристроился, блин».
Наутро, мирно выпив терпкого, как пот неэпилированной женщины, испанского вина, они покинули провансальское «глухоморье» и отправились в Женеву навстречу новым сексуальным впечатлениям; а дурачок еще долго бродил по пляжу, причитая: «Doudou est mort, Doudou est mort»[2].
ПАСХАЛЬНЫЙ СНЕГ
Выехали в ночь по дороге на Сербицу, сообщили радиопозывные и сразу же за городом оказались в кромешной тьме. Ни души, ни огонька, и луна еще не вышла. От Митровицы до монастыря Девич — путь недлинный, полтора часа езды без приключений. Дорога была разбита военной техникой и напоминала чем-то, наверное тоской, бесконечно-сибирский тракт, пересекающий Урал в сопровождении вековых берез и злобно кружащих над ними воронов. Свет исходил только от снега! В этом году он выпал на православную Пасху и припорошил уже цветущие сливовые сады. Горы как будто съежились под зимним покровом и затаились на несколько дней до прихода настоящей весны. Снег покрыл саваном церкви и мечети, угомонив на время любителей повоевать, проживающих по обоим берегам Ибара.
Бронированный джип вел Андрей — офицер по правам человека Миссии ОБСЕ в Косово. Рядом с ним страдал от головной боли и любви к прекрасному его коллега и боевой товарищ Сергей, отличившийся на вчерашних посиделках с жителями одной малозначимой деревушки с многозначительным названием Дрен. Это сербское местечко затеряно, не побоюсь этого слова, в умопомрачительно красивых горах, забыто где-то в сердце балканского мира. Война окончательно загнала этот мир в угол и лишила простых радостей. А тут прибыли, как с неба свалились, два молодца-красавца, добрых и великодушных… К тому же приехали «русы», как водится, не с пустыми руками, а обремененные важным заданием — проанализировать состояние дел с правами человека в отдельно взятом гетто.
Местная закуска в Дрене оказалась странной. Кушали какого-то «деци за козу». Сереге кусок в горло не лез. Он засомневался в кошерности блюда. Ведь козленка могли, по простоте душевной, сварить и в молоке матери. Это нехорошо! Впрочем, к седьмой здравице Сергей уже не помнил, зачем и куда они приехали. Вошел в раж, целовался с какими-то православными людьми и орал: «Вот этими руками разгребал массакры!»[3] Андрюха был за рулем и ничем не мог помочь другу. Его погрузили, облобызали, выдали на дорогу бутыль сливовицы, а один серб уважительно отметил: «Рус, молодец, ти из КГБ!» На обратном пути Сергей выскочил из машины, сорвал с себя рубаху и ринулся, грудь колесом с нательным крестом, брататься с албанцами… К счастью, Андрей вовремя остановил миротворца и отвел блевать за броню.
Утром — похмелье. Поневоле задумаешься о вечном. А тут еще эта несчастная девчонка, проститутка из боснийской махалы, которую надо было срочно определить куда-то на житье. Родителей Сани убили, тетка померла, среди албанцев девочка недолго бы протянула, вернуться домой она не могла, поскольку там сразу же попала в лапы закадычного друга, известного в сербской части Митровицы как Мишко-сутенер. Решено было отвезти заблудшую православную овцу на временное сохранение в монастырь под Сербицу, как говорится, до лучших времен.
Каждая человеческая единица играла в косовском социальном эксперименте особую, предписанную ей свыше роль. Пацаны были этакими умеренно пьющими ангелами ада, защитниками униженных и оскорбленных. Их задача — найти компромисс между Богом и чертом… Сане отводилась роль соблазнительной жертвы. Однако в глубине души и спасители и жертвы скорее всего понимали, что хороши лишь те социальные эксперименты, которые никогда не претворяются в жизнь.
«Майк Индия 71 Танго хэдин фром Майк Индия то Папа Ромэо», — пропела по радио итальянская подруга по миссии, прервав напряженную тишину в эфире. Сидевшая сзади Саня вдруг всхлипнула. «Опять Татьяна поехала в Приштину на гулянку! Вот стерва! Так и пропьянствует мирное урегулирование!» — отметил Андрей, притормозил и, обернувшись к девочке, нежно произнес:
— Како ти си, лепотица?[4]
— Добро.
— Ну и хорошо! Умница!
— Почему у нее такое странное имя? — поинтересовался Сергей, то и дело поглядывавший на девочку.
— У Сани?
— Нет, Тани.
— Она рассказывала, что ее мама зачитывалась в юности «Евгением Онегиным» и в честь любимой героини назвала единственную дочь Татьяной.
— Понятно! Мамаша, наверное, не знала, что Таня перерастет классику и станет вульгарной блондинкой с гротескными формами. Вот так, в принципе, и открывается нечто низменное в Пушкине… А спутница-то наша — ничего! Трусы только в джинсы не заправляет… Как только ее угораздило в шестнадцать-то лет?
— Говорят, на Балканах женщины созревают и стареют очень быстро.
— Да, пожалуй, эта уже созрела, — съязвил Серега. Он как-то сразу невзлюбил Саню, наорал на нее в полицейском участке и пригрозил, что если та будет молчать и упираться, то останется в камере без параши навечно, будет вонять и каяться до второго пришествия.
Теперь девушка успокоилась, видимо, осознала важность своей роли для миссии ОБСЕ, немного приободрилась и даже стала стрелять в Серегу голубыми глазками. Нет жертвы — нет миссии…
В обитель прибыли около десяти часов, сообщили по радио, что, мол, «Зулу Виктор 71 Сьерра энд Зулу Папа 71 Альфа» добрались без происшествий, живы и здоровы и всем того желают. Саню решили пока не травмировать и оставили в машине. Она, видно, не догадывалась, куда ее привезли, и всецело доверяла благородству русских офицеров по правам какого-то человека.
Восьмерых монашек из Девича, а также десяток кур, двух собак и трех наших, православных свиней охранял русский батальон. Парни были знакомы с комбатом — как-то вместе красиво отдыхали на природе, а замполита, потерявшего пистолет в борделе, они на прошлой неделе собственноручно эвакуировали из Митровицы. Замполит грозил перебить всех «бабаев», албанцев по-нашему, и выкрикивал в толпу зевак панславистские лозунги. Настоящий русский человек — патриот, мыслитель, мужчина-алкоголик…
Постовой осветил фонариком опухшие лица героев и пропустил в монастырский двор, спросив для порядка:
— Русские?
— Ты что, не видишь? Слушай, парень, нам бы настоятельницу.
— Мать Макарию?
— Так точно!
— Подойдите к покоям. Она, наверное, там крутится. Служба уже кончилась.
— А комбат здесь?
— Уехал куда-то по делам. Наверное, в Митровицу.
— С боевой подругой?
— С ней, конечно, — заулыбался десантник.
— А замполит?
— Дома отдыхает, под арестом…
— Молодец!
Они прошли мимо амбаров и цветущего сада в глубь двора, где белели церковь и монастырские покои. Цветы сливы мерцали в лунном свете и придавали жилищу христовых невест особый шарм. Серега, не расстававшийся с фотокамерой, решил зафиксировать для истории эту нечеловеческую красоту. Андрей уверенно пошел навстречу худой и высокой, похожей на тень, настоятельнице. В отличие от друга, «заводившегося» с пол-оборота по малейшему поводу, он был убежденным стоиком. Мать Макария, не глядя в глаза отрока, спросила:
— Одакле ти си?[5]
— Я сам Андрей, рус, официр за людска права из Митровицы. Имам едно питанье. Дали можете да узьмите едну србкиню, девойку на постой? Она е сирота и проститутка, — на блестящем русско-сербском выпалил Андрей.
Настоятельница помолчала и медленно ушла в покои. Прошло минуты три-четыре, Сергей уже вернулся из сада, с восторгом сообщив: «С такими фотографиями первая премия обеспечена! Хоть что-то кроме трупов на эту пленку снял». Стали молча ожидать ответа и почему-то даже не перекрестились, не вошли в церковь. Мать Макария вышла к ним и с тем же отвлеченным видом тихо, но твердо сказала: «Нечу».[6] Потом повернулась и размеренным шагом ушла восвояси.
Офицеры по правам человека, слегка ошарашенные, быстро вышли из монастыря, бросив на ходу постовому: «Братан, пока! Привет комбату». Только рядом с машиной Серегу прорвало:
— Вот они какие, сербские братья и сестры! Мы за них кровь проливаем, в могилах копаемся, а монашки нас, значит, на хер послали с гуманитарной миссией! Идите, мол, ребята, откуда пришли и блядь свою заберите!
— Ладно, не горячись. Они сами здесь жить боятся… Девчонка бы у них все равно долго не выдержала. Еще бы убежала, а нам потом искать…
— Ну никак не ожидал от этих «православцев» такой подлянки! Сущие христопродавцы!
Сели в машину, поехали без радиошума домой по тому же русскому пути всех «несчастных», сирых да убогих прямиком в Митровицу — здешний филиал земного ада. Саня спала, даже не подозревая, какое счастье обошло ее стороной…
— Что будем с ней делать? — спросил Сергей.
— Не знаю. Может поселить на время у нас, а потом, когда поспокойней будет, перевезем ее в Приштину в приемник для проституток.
— Думаешь, эта ночная бабочка согласится? Попробовать, конечно, надо. Можно, кстати, разместить подругу в бывшей комнате Пола — все равно пустует. Там и атмосфера соответствующая! Все пропахло виски, и снимки девок с сиськами развешаны по стенам! Ей будет приятно проживать в пенатах нашего непьющего ирландского друга! — заржал Сергей и разбудил Саню. — Приехали, мать! Една мала плава на рамену ми спава![7]
Глубокой ночью в лунном свете пересекли мост через Ибар, разделяющий Митровицу на два мира, и оказались в родимой сторонке среди развалин, грязи и ларьков, можно сказать, в двух шагах от России…
Так и зажили они — два полуангела и бывшая падшая женщина. Выпивать стали еще реже! Отвадили от дома Таню Пазолини, ревновавшую то одного, то другого к невинной, в сущности, но опытной квартирантке. Правда, помощник прокурора Пол захаживал по старой памяти к друзьям. Накачавшись, он слегка нарушал монастырские нравы. К примеру, снимал со стены оленьи рога и, мастерски изображая влюбленное животное, бодал Саню. Она привыкла к пацанам, вела хозяйство, как-то повзрослела, но на улицу почти не выходила. Стыдилась привилегий жертвы или боялась Мишко?
Весна в Косово по понятным причинам была особенно великолепна! Она как-то невзначай наполнила утонченную душу Сереги чувством грубо-прекрасного. Что ни говори, а природа свое возьмет! Он полюбил… Кого? Уж, конечно, не Татьяну с ее вечно немытой головой, прокуренным бельем и страстью к славянской душе… Но и не Пола — этого изысканного розана ирландского идиотизма… О комбате и замполите и говорить нечего. Друга Андрея он и так боготворил! Как-то вечером, когда они возвращались с работы, Сергей решился признаться.
— Слушай, надо поговорить…
— Что случилось?
— Да, Саня… У меня к ней, понимаешь, сильное чувство!
— Ну и что? Мне это известно.
— Не знаю, может пожениться временно? В России я почти разведен, а в миссии мне еще долго париться… Что посоветуешь, Андрюха?
— Может перетерпишь? Да и Мишко, ее хозяин, так просто с ней не расстанется. Могут возникнуть проблемы…
— Я говорил с ним вчера. Три тысячи просит…
— Три тысячи — деньги, конечно, небольшие, но головной боли с ней сколько!
— Подумай, прикинь…
— Ладно.
— Так ты отдал деньги?
— Отдал…
Андрей помолчал немного и глубокомысленно отметил:
— Мишко не такой уж и плохой мужик! Не рвач, и погулять, и покутить любит… Опустился только в последнее время: торгует сигаретами на автостанции.
— Ну, братан, тогда пойдем в магазин!
Зашли в магазин, потом в бар, другой, третий… Вернулись домой к полуночи — как в старые добрые времена. Обнявшись, легко и непринужденно вошли во двор и затянули задушевную русско-французскую песню: «Томба ля нэжа, ампа-сибля манежа!»[8] На пороге ждала Саня: «Серочка, како ти си?»
На свадьбе, больше походившей на погром, невеста выказала доселе скрытые таланты, и Пол едва удержал лидерство в потреблении ракии — балканского эликсира молодости. Жених беспорядочно крестился — то слева направо, то справа налево — и целовал избранницу в обнаженные плечи.
Через месяц она убежала из монастыря семейного типа. Исчез и Мишко. До Митровицы дошли слухи, что их видели вместе где-то в Центральной Сербии. Еще через пару месяцев в Ибаре нашли труп белокурой девушки. На опознание Сани пришли только ангелы ада. Это была не она…
ПОПРИЩЕ
Посвящается двухсотлетию МИД России
Приступая к проекту годового отчета, высокопоставленный российский дипломат Алан Петрович Снегирев снял не выходящий из моды блейзер и засел за рабочий стол. Разложив бумаги, мужчина тяпнул рюмочку «Курвуазье», крякнул, затем элегантно зевнул на мотив Первого фортепьянного концерта Чайковского, слегка порефлексировал и, наконец, испытывая известное, пожалуй, лишь литераторам и дипломатам нервно-творческое возбуждение, углубился в написание новейшей истории.
Подобно русским летописцам, Снегирев предпочитал работать по ночам в келье-кабинете, вдали от уютной квартирки на авеню де-ла-Пэ, где тикали швейцарские ходики и посапывала в постели, читая Пруста, Ангелина Сергеевна. Сразу же отметим, что многосторонняя дипломатия и женщины были для Алана Петровича главными эстетическими раздражителями.
В импозантном внешнем облике и богатом внутреннем мире старшего советника Снегирева — маститого дипломата чичеринской школы — просматривалось нечто нежно-барское и нестерпимо родное, располагающее к любви с первого слова и первого взгляда. Породу выдавали не только орлиный взгляд, высокий лоб, степенная походка, в целом приятный запах и длинный нос, но и подобающего размера печень. Алан Петрович не скрывал благородства натуры и нравился женщинам. Коллеги по бокалу и перу его обожали, начальство пыталось усыновить…
Жанр годового отчета — лаконичный рассказ о нескончаемой чреде побед российской дипломатии — исключал «сопли» лирических отступлений. И этот момент расстраивал Алана Петровича, старавшегося высветить мельчайшие грани дипломатического подвига благодаря собственному «межстрочному» комментарию, тонким намекам, глобальному видению проблем современности и исключительной толерантности, особенно по части выпивки, к ценностям различных культур и народов. Такой и только такой подход Алан Петрович, или, как его величали соратники, Снегирь, считал справедливым и человечным. Что можно считать признаком вырождения дипломатических кадров, низкопробной вкусовщины, а то и профессиональной непригодности. С другой стороны, Алан Петрович чурался как победных реляций Нью-Йорка, так и тревожно-объективных сообщений Женевы. Радовали лишь пьяные откровения африканских «точек» и балдежный эстетизм русских европейцев. Почту из Вашингтона читал со словарем.
Балагур и острослов друг-Петрович только после «пол-литра» испытывал легкие трудности с «лабиализированием» отдельных гласных и согласных.
Примечательно, что в едва уловимом промежутке между полулитром и семьюстами Алан начинал оказывать знаки внимания присутствующим на данный момент дамам.
Отрицая автономию дипломатической видимости, Петрович безжалостно «десублимировал» политические реалии. Проще говоря, для его утонченной души «гносеологические возможности рефлектирующей способности» не были механизмом сугубо интеллектуального созерцания «дипломатизируемой» действительности. Исходя из этого посыла Алан Петрович на нервной почве шел в народ, открыто и самозабвенно братался с окружающими, включая посольских дворников. Таким образом, в Снегире спекулятивный дух счастливо сочетался с духом практической деятельности!
Дипломатическое творчество Петровича началось в Латинской Америке, когда еще по-юношески робкий, но подающий большие надежды Снегирь прозорливо и своевременно проинформировал Центр, что «диктатор А. Самоса укрылся от восставших масс в бункере и усиленно, но бесперспективно оттягивает свой конец». Тогда же Алан Петрович выполнил первое политическое задание — обеспечил успешное свидание посольской суки Марты с одним из местных кобелей.
Впоследствии, как ни старался он не выделяться, деликатно «держать низкий профиль», меняя от страны к стране спутниц-муз, кочуя из одного дипломатического и, следовательно, литературного направления в другое, Петровича выдавал талант рассказчика матерных анекдотов, проще сказать — ясность содержания и чистота вычурной формы. Его стиль — махровое барокко, временами переходящее в политико-дипломатическое рококо с элементами старческого романтизма. Алан бил формой по содержанию… Что из этого получалось, знает только Центр, но даже избитое содержание порой впечатляло и доставляло эстетическое наслаждение.
Снегирев «педалировал» принятие документа; отстаивал «общепринятый здравый смысл»; уговаривал «давателей гуманитарной помощи» давать больше, а брать меньше; «купировал намерения канадцев» и не только их; «бил в фанфары»; возмущался тем, что «жертвами репрессий прежде всего становились активисты, а также юристы»; «проводил совещания с младшим дипломатическим составом в укромном месте на пляже». Будучи романтиком, утверждал, что «Судан под Америку не ляжет»; участвовал в «дискуссии по обсуждению»; слезно сообщал, что «российская таможня взяла добро»; призывал коллег «в работе быть менее аррогантными», т. е. пить, но знать меру; ходил, как по минному полю, по ближневосточным «переговорным трекам» (сколько там нашего брата полегло); обнаруживал в поле «истощенный уран». А еще поил водкой «верификаторов», чтобы те не «антагонизировали» сербов; «канализировал» усилия посольства; лечил «устойчивый маразм в Бурунди»; строго судил «геноцидников»; предотвращал «массовый уход беженцев» и, в принципе, решал «гвоздевые проблемы» российской внешней политики.
В этот вечер Алан Петрович вывел на бумаге первую, самую секретную и забойную фразу, от которой зависел читательский успех всего отчета: «В истекшем году, благодаря чудовищной концентрации сил и средств на важнейшем дипломатическом фронте — в Комиссии ООН по правам человека, в тяжелейшей борьбе мы с треском провалили антироссийскую резолюцию по ситуации в Чеченской Республике Российской Федерации. В ходе голосования комиссия подавляющим большинством в один голос отвергла попытки Запада диктовать России свою волю. Таким образом, в наших партнерских отношениях с Европейским союзом и США выявлен главный структурный порок сущностной деформации».
Тяпнув и крякнув по второму кругу, опытный дипломат прокомментировал сам себе этот ключевой тезис следующим парадоксальным образом: «Интересно, где бы была Российская Федерация со всеми ее субъектами, если бы Володька не вдул свазилендке за день до голосования? Ее восторженный голос все и решил! Получил же Володя всего лишь благодарность по министерству. Черная неблагодарность Родины! Филькина грамота в награду за сексуальный подвиг! Вот Леонидычу, тому повезло! Всю сессию из запоя не воскресал. Ожил только к голосованию, чтобы сказать твердое и решительное „нет“ антироссийским проискам, а получил как трезвый — грамоту министра. Африканцев мы, однако, по бесплатным лекарствам для спидоносцев не поддержали. Как теперь смотреть в глаза народов Африки, особенно этой женщины из Свазиленда? Центру должно быть стыдно».
Отчет был продолжен следующей недвусмысленной фразой: «Благодаря решающему вкладу России в текущем году успешно запущен термоядерный ускоритель элементарных частиц. На качественно новый уровень выведено сотрудничество российской академической науки с ведущими исследовательскими центрами Европы. Таким образом, человечество оказалось в двух шагах от раскрытия тайны антиматерии». Снегирь улыбнулся, лицо его озарило блаженство творческого подъема: «Могу понять, когда по пьяни одно из наших светил вышибло стеклянную дверь в гостинице. Прошел, задрыга, как сверхтяжелый элемент сквозь масло. С утра пожаловался на мигрень, но ни одной царапины. Но когда профессура, объединив усилия, пыталась изнасиловать горничную — это уже чересчур! Полиция права: ядерная физика бессильна перед лицом правосудия. К тому же сомневаюсь, что ученые смогут выгнать из антиматерии безалкогольную антиводку».
За окном, которого по соображениям секретности в кабинете Алана Петровича не было, светила полная и пока еще «общечеловеческая» луна, но воздух был уже не наш — слишком чист и свеж. Снегирь на секунду представил миллионы соотечественников, желающих испить сей восторженной свежести, и жестко констатировал: «Среди важнейших задач стратегического партнерства России с Европейским союзом со всей силой обозначилось поэтапное регулирование миграционных потоков. В прошлом году в рамках „Нючёпингского процесса“ был поставлен надежный общеевропейский заслон нелегальной миграции».
На этой фразе Алан Петрович слегка запнулся, чтобы вспомнить белые нючёпингские ночи. «Какой все же у этой бельгийки был „бэкграунд“! Высший класс! Афродита Каллипига по сравнению с ней просто плоскозадая селедка! Историческое значение Устава ООН меркнет на фоне ее восхитительных бедер!» — резюмировал Алан Петрович.
Следует отметить, что за недолгое «гарцевание» на фоне таблички «Российская Федерация» Алан Петрович обмяк, отрастил живот, превратился в просвещенного циника, поверил в многополярность мира и заработал репутацию убежденного гуманитария. Ведь во времена СССР, жвачки, пепси-колы, молодости, комиссионок и неуемной творческой энергии «совгражданок» мир виделся ему совсем иначе…
Снегирь был резок и даже жесток как со стратегическими противниками, так и с друзьями поневоле, особенно «дипломатками». В отличие от других членов делегации в решающие моменты дипломатических баталий он всегда сохранял хладнокровие, и только его соски слегка затвердевали… Во время грозных, пламенных и непременно судьбоносных выступлений Петровича с трибуны ООН минимум пятьдесят процентов присутствующих дам его любило и голосовало сердцем «за», столько же или чуть меньше — ненавидело от всей души, но голосовало «за», правда, с некоторыми оговорками. Воздержавшихся просто не было… Бразильский посол — старый педик, завидев Снегиря, икал и плакал, плакал и икал…
Однако постепенно, шаг за шагом в духе так называемого времени перемен Алан Петрович стал отдавать служебный долг идеологии «прав человека», позволявшей, по его дипломатическому разумению, дуракам и подонкам чувствовать себя людьми в великом, но разнообразном сообществе людей и наций. В конце-то концов, должностной Рубикон второго секретаря давно остался позади, и, следовательно, беспокоиться Снегиреву было уже в принципе не о чем. К слову, с должности второго секретаря хоронят за государственный счет.
Петрович продолжил труды, выдавив из себя: «На фоне обострения борьбы за обеспечение международной безопасности мирными средствами мы последовательно выступали за упрочение единства мирового сообщества на основе международного права, центральной роли ООН в урегулировании кризисов и универсального соблюдения прав человека». Затем, вздохнув, заключил: «Если так и дальше пойдут дела с правами этого самого человека, то мы „пойдем с сумою по дворам“, а лучшим кандидатом на пост генсека ООН станет полоумная японка-инвалид из среды сексуальных меньшинств».
Опрокинув коньяк в ретроспективу отчета, Снегирь почувствовал, что «кульминация вот-вот достигнет апогея», и ощутил привычную тяжесть в груди. Он решил, что пора завязывать с творчеством, надо потихоньку выползать из исторического дискурса, возвращаться, как говорят французы, к нашим баранам. Алан Петрович спрятал документы в ящик стола, туда же пристроил кадавр «Курвуазье», надел пиджак, поверх него набросил пальто и в нарушение всех инструкций прихватил с собой проект годового отчета, дабы проконсультироваться с Ангелиной Сергеевной на предмет возможных стилистических и политических ошибок…
Луна на воле и вправду была хороша, а инвалютный воздух — чист как совесть патриота.
— Оттрудились, Алан Петрович? — с нежностью в голосе спросил дворник, как будто поджидавший друга у выхода из посольского «бункера» в столь поздний час.
— Да, Ильич… А ты почему не спишь?
— Да, вот, Алан Петрович, не спится что-то… То то, то сё, то опять то… А все не то! Какая-то тоска, грусть… Понимаешь?
— Понимаю, Ильич, но сегодня уже не могу.
Подъехав к дому, дипломат лихо припарковал авто, но замешкался, вылезая на свет божий из служебного «мерина», слегка «повоевал» с одеждой. Потом он шуганул кота, сидевшего у подъезда, а сам прошмыгнул в дверь, заглянул в бар и немного повозился в темноте с мерзавчиком «Вани пешехода». По обыкновению Снегирь воровато «крякнул» перед сном и потихоньку, чтобы не беспокоить свою жену, просочился в спальню на супружеское ложе. Хотя Алан Петрович и был в необходимой кондиции, т. е. «от полулитра до семисот», однако сегодня, «отдипломатив» до двенадцати, он в принципе не горел желанием романтично общаться с присутствующей дома дамой. Она, напротив, отбросив Пруста, ждала этого момента и явно была чем-то расстроена.
Ангелина Сергеевна приходилась Алану Петровичу третьей законной музой и «лежала» у истоков элементов романтизма в его позднем творчестве. В посольской школе она преподавала музыку, биологию, литературу и этику семейной жизни, а также являлась автором песни «Школа, школа — белый потолок» (на мотив «Чунга-Чанги»), считала Достоевского писателем-психиатром и как-то заявила, что Андрей Рублев — это Пушкин Древней Руси. Алан Петрович был вторым дипломатом Ангелины Сергеевны.
— Опять наклюкался! — язвительно заметила супруга из темноты своего ложа и перевернулась на другой бок.
— Дорогая, я работал с документами.
— Писал о бельгийской заднице?
— Ты сегодня прекрасно выглядишь, мой майский розан! Новая прическа… Дорогая, эти бигуди тебе очень к лицу!
— Не замечала раньше, чтобы ты любил цветы и бигуди… И что же?
— Очень рад тебя видеть! Как дела в школе, мой идеал?
— Ты мне зубы-то не заговаривай! В школе глухо как в танке, от нее мне никакой пользы, кроме вреда! Просто кошмар! Это не ученики, а бандерлоги самые настоящие! Я им твержу о трагедии интеллигентного, но умного человека, почти дипломата, а Николаев в сочинении написал, что Родион Раскольников не хотел иметь, что имел, и поэтому убил старушку-наложницу!
— Умный мальчик, как тонко разобрался в ситуации! На отца очень похож. Быть ему, ангел мой, генеральным в Нью-Йорке…
— Хоть в Одессе, но что произойдет с российской дипломатией, когда в МИД придут эти недоросли? Скоро в дипломаты будут брать единорогов — хлопцев с хреном во лбу!
— Ангелина, дорогая, не переживай. Стоит ли беспокоиться! Я ведь тоже сначала пишу — потом думаю, а Центр другого ничего и не требует. Ты ведь знаешь, что мы сделали все, чтобы Родина разоружилась… К тому же, дорогая, в последнее время часто забываю, что написал. Маразм, мой ангел, — вот наша награда за многолетний дипломатический труд! — с грустным пафосом произнес Снегирь и обнял боевую подругу сзади.
— Не прибедняйся, Аланчик! Ты ведь у меня практически Державин, а по бабам бегаешь не хуже солнца русской поэзии, мерзавец. Нам ли, милый, быть в печали?
— Ангелочек, ты не посмотришь мой отчет?
— О нючёпингском поприще? Рассказываешь всем, как приходил из сауны в перьях?
— Не язви, прошу тебя, Ангелина! Ну сколько можно вспоминать об этом невинном контакте по заданию Центра? В конце концов, не мог же я поставить под вопрос дееспособность российской дипломатии!
— Уже час ночи, милый! Охота мне твои каракули разбирать?
— Лапочка, сдать все надо к полудню, а у меня, как говорится, еще конь не валялся!
— Ладно, неси. Только не дыши на меня, а то такой аромат извергаешь, хоть закусывай!
— Эм-м-м! — неистово промычал Алан Петрович. Он неожиданно для самого себя вспомнил, что, застегивая пальто, положил отчет на капот «мерина»… Утеря секретных документов — поганое недоразумение, стратегическому партнеру не пожелаешь! При этой мысли Снегирь вскочил с постели, натянул брюки, буквально «на скаку» надел блейзер и, сверкая волосатой грудью, выбежал во двор. Шерсть на груди и спине взволнованного Алана Петровича была столь густой, что без рубашки в нем вряд ли можно было признать интеллигента. Примечательно, что этот фактор здорово помогал в его насыщенных отношениях с женщинами. Ангелина Сергеевна, сообразив, что муж о маразме в целом не шутил, паниковать не стала, а только вновь открыла для себя Пруста и закурила для порядку сигарету.
Все, слава богу, обошлось. Снегирев нашел отчет целым и почти невредимым — к нему, вероятно, проявил интерес лишь один из соседских котов, сделавший пометки на страницах… Муза, чтобы хоть как-то успокоить друга, чистосердечно призналась: «Аланчик, мой меховичок! Тебя готова читать всегда и везде… Плевать я хотела на эту скандальную критику!»
ВЕСНА СМЕРТИ
Война — творец всего великого. Все значительное в потоке жизни возникло как следствие победы и поражения. О. Шпенглер. Закат Европы
Война не менее абсурдна, чем мир. Сначала войны зарождаются в умах и лишь затем выплескиваются страданиями на поля сражений. Война и мир — это состояние души, настроение времени, мода на жесткость и ненависть или слабость и любовь. Война особенно нелепа и страшна, если придуманный по случаю или прихоти враг не может подставить другую щеку и обречен на унижение навязанным миром. В такой войне побеждают «нищие духом»…
Министерский самолет вылетел из Женевы с трехчасовым опозданием — ожидали окончания бомбардировки, обсуждали детали предстоящих переговоров, пили коньяк и кофе со сливками. За отсутствием других кандидатов российский дипломат и переводчик Никита по собственному желанию вызвался помочь благородному делу. Он немного волновался: дома остались жена и сын. Провожали новобранца в аэропорт всем любимым до слез коллективом. В самолете Никита сразу же удобно устроился в министерском кресле, в самом центре российско-швейцарской делегации, летевшей на войну. Министр промолчал и, учитывая молодость и неопытность попутчика, великодушно уселся рядом. Прощаясь с любимым сотрудником, посол вежливо попросил министра:
— Вы там, пожалуйста, Никиту не обижайте.
— Такого обидишь!
Полет прошел нормально, без внештатных ситуаций. Летели над нейтральными Швейцарией и Австрией в перерыве между дневными и ночными авианалетами. С серьезным видом, обстоятельно обсуждали план доставки гуманитарной помощи и маршруты конвоев, расположение полевых госпиталей. Для храбрости, понятно, выпили за спасение всех жертв конфликта. Из поднебесья казалось, что Сербия встречает обыкновенную весну. Внизу, в разрывах облаков, разрушения не были заметны; медленно проплывали ухоженные поля и сады; в свете заходящего солнца сверкали голубые ленты рек; лоскутный ковер покрывал землю, нарочито пестро скрывая ее скорбь; на западе полыхали грозовые облака.
На подлете к Белграду министр устроил презентацию «своих» пилотов: наполнил рюмку «с поверхностным натяжением» и поставил на стол перед собой. Самолет приземлился столь плавно, что ни одна капля водки не была потеряна зря. Швейцарцы зааплодировали и предложили отметить успешное начало предприятия. Около восьми вечера министерский Як-42 был единственной целью на поле белградского аэропорта, над которым кружил заплутавший клин журавлей.
Делегацию встретили «официальные сербы» и сопроводили с подобающим важности гостей эскортом в одно из самых безопасных мест во всем городе — гостиницу «Интер-континенталь-Белград». Здесь с первых дней войны обитали разного рода иностранцы: журналисты, представители международных организаций, люди с излишне добрыми намерениями, включая сотрудников разведок всех мастей, просто любители приключений и другие радетели за демократию на Балканах. Среди всей этой нечисти выделялись дипломаты, главной задачей которых была эвакуация за пределы Сербии (в багажнике автомобиля вместе с парашютом и надеждой на дипломатическую неприкосновенность) очередного пилота-неудачника. Гостиницу ни разу не бомбили, как и большинство других зданий и предприятий, построенных на деньги Запада.
Во время официального ужина, когда сербские официанты жлобской наружности элегантно обслуживали приглашенных, а прима белградского балета торжественно роняла алмазные слезы, город погрузился во тьму — натовская авиация сбросила графитовые бомбы. В гостинице заработало аварийное освещение, и беседа о великом русско-сербском братстве сама собой растворилась в полумраке действительности, задохнулась, заваленная объедками слов… Никита переводил почти как пил — недурственно и даже лихо. Министр братался с сербским начальством и целовал приме ручку; швейцарцы лояльно поддакивали и наблюдали за министром с азиатской внешностью и широкой русской душой с завистью богатых, но все же гномов… Сербские деликатесы и черногорское вино полностью соответствовали важности политического момента.
К окончанию приема не было никакой ясности относительно того, увидят ли гости главное действующее лицо этой драмы; смогут ли получить высочайшее «добро» на реализацию программ помощи жертвам этой войны. Начиналась ночь самых интенсивных за всю «странную войну» бомбардировок Белграда. И в этом можно было увидеть иронию исторической судьбы Сербии — Запада на Востоке и Востока на Западе.
— Разрешите идти спать? — молодцевато спросил Никита у главного начальника после официального прощания гостей с хозяевами.
— Иди, если хочешь. Только много, пожалуйста, не выпивай, завтра надо будет поработать.
— Ну что вы, Сергей Ахмедович, я чуть-чуть…
Никита поднялся по узкой аварийной лестнице в свой номер на седьмом этаже, в сумерках стал разглядывать почерневший лик «белого града», освещенный только звездами и пламенем двух непотушенных пожарищ. Город притворился мертвым. Тишина нависла над Белградом, окутала окрестности города. Пугающее ночное безмолвие прерывали крики смертных, лица которых возникали в воображении подвыпившего Никиты. По пустынным улицам изредка проезжали полицейские машины. В кромешной тьме тягучая, как венозная кровь, вода Савы медленно перетекала в придавленный разрушенными мостами Дунай. Зрелище это после предсказуемой красоты женевских пейзажей поражало странным величием, чувством безысходного ожидания, неизбежного поражения здравого смысла. Умирать в такую ночь, наверное, легче…
Никита решил принять душ, прошел от окна в глубину комнаты и вдруг почувствовал, как многоэтажное здание гостиницы закачалось. Через несколько секунд он услышал грохот первых взрывов. Хмель мгновенно вылетел из головы. Страх был, но его убило наповал простое любопытство, жажда зрелищ. Никите захотелось увидеть европейский фестиваль конца света, сценой которого Балканы стали весной девяносто девятого. Он подбежал к окну.
Мрак под аккорды канонады разрывали вспышки взрывов. Огонь полыхал над несколькими домами в разных частях города как знамение чего-то таинственного и враждебного. Белград на глазах ожил и в конвульсиях заорал сиренами «зашто»[9], осветился фейерверком трассирующих пуль, расстреливавших иссиня-черное небо. Над городом волнами разливался гул самолетов. Крылатые ракеты выводили фуги; гнусаво пели падающие фугасы; трещали установки ПВО. Во всей этой дьявольской музыке слышались вагнеровские нотки вперемешку с «арийскими» песнопениями Карла Орфа. Невидимый враг продолжал измываться над полуживым городом. Четыре авианалета… Одна за другой атаки с неба сотрясали сербскую землю. Заключительный аккорд жестокой симфонии прозвучал около пяти утра. На рассвете все стихло столь же внезапно, как началось. После короткого антракта робко запели птицы.
К утру стало душно. Парило, запах майской ночи смешался с дымным смрадом.
Никита почувствовал усталость и осознал, что всю ночь напролет простоял у окна, вглядываясь в глаза войны. Он попытался уснуть, лег, но в голове застряли «кошмары наяву», похожие на догорающие иллюзии европейского гуманизма. Какое-то чувство брезгливости перед богомерзким зрелищем войны не давало ему успокоиться. Наверное, это же чувство господствует в западных обществах, восстанавливающих культ насилия, но страшащихся вида смерти.
Никита так и не заснул, прошептал себе «подъем» и пошел наконец в душ. Он приоделся в модный пиджак в крупную клетку и спустился в холл гостиницы завтракать, даже не взглянув в окно. Знакомый со вчерашнего ужина серб Горан, немного говоривший по-русски, с особой ненавистью в глазах и какой-то надеждой на прекращение бойни, тут же сообщил, что этой ночью американцы разбомбили китайское посольство всего в километре от гостиницы. Горан уже вернулся с пепелища и увидел там множество зевак, среди которых сновали иностранцы.
— Я не боюсь, а ты? — поинтересовался серб, показывая на прошитый ракетой небоскреб белградского телецентра.
— Нет, а что? — с улыбкой ответил Никита.
— Когда вы летите в Москву?
— Сегодня, часа в два-три.
— Можно с вами?
— Не знаю, надо спросить у министра.
Горан понимающе закивал головой и молча отошел в сторону. «Хороший парень, только воевать не хочет», — подумал Никита.
С пепелища неба пошел дождь, словно оплакивая погибших на Западе китайцев. Хотя что для китайцев Запад и Восток? Звуки и географические условности вне «срединной империи». Умерли они красиво, выполнив заветы марксиста Мао Цзэдуна и гегельянца Лао-Цзы. Спасенные китайцы организованно сгрудились в холле гостиницы и молча ожидали дальнейших приказаний судьбы. Почти все дико улыбались и благодарно кивали сердобольным служительницам гостиницы, принесшим им чая в красочных пакетиках «Липтон». Через день и живых и мертвых китайцев вывезли специальным рейсом в Пекин.
Главная новость — он принимает — всех застала врасплох. Не мешкая выехали из гостиницы, прокатились с ветерком и единственной машиной сопровождения в неизвестном направлении, мимо развалин, пожарищ, эдема пригородов Белграда и прибыли на виллу в глубине сада. Их встретило рыдающее небо и очень внимательная охрана. Обстановка в «логове тирана» Никите показалась торжественно-забавной. Но комнатам сновали министры, прислуга суетилась, и наиболее приближенные «к телу» журналисты готовили срочный репортаж. Никита почувствовал не только историческую важность этой встречи и собственной миссии, но и некую искусственность всего происходящего.
Президент тепло приветствовал гостей, крепко пожал министру руку и предложил всем садиться. Руки «последнего европейского диктатора» не дрожали; его спокойное и красивое лицо озаряла немного «протокольная», но вполне понятная скорбь. Перед ним на изящном столике лежала пачка «Marlboro», но он не закурил. Принесли стакан апельсинового сока — он к нему не притронулся. Приятный мужчина…
Он не был похож на лидера-самоубийцу, который бы поверил в великую национальную идею Белграда как четвертого Рима. Скорее сами сербы восторженно играли эту незавидную роль, избранную ими в тяжелое время перемен. Беседа продолжалась пятнадцать минут, после чего все пожелали друг другу удачи и успехов во всех начинаниях…
Российский самолет вновь взлетел с опозданием — ждали, пока натовская авиация завершит свое черное дело. «Никита, слезай, это мое кресло! Обратно полетишь без привилегий!» — заявил министр. «Извините, пожалуйста, Сергей Ахмедович. Благодарю за терпение!» — дипломатично ответил Никита и сел рядом. Можно сказать, отделался легким испугом. Опять выпили — теперь за удачное завершение миссии и русско-швейцарское мужское братство. Потом трижды поднимали бокалы за министра в целом и за его отдельные человеческие качества. Затем выпили за мужество всех членов делегации, включая Никиту, и особо — за взаимопонимание между народами. И все это за тридцать минут полета. Пили бы еще, но спиртное на борту закончилось… В хвосте самолета Никита приметил виновато улыбавшегося Горана.
Приземлились в Будапеште, где швейцарцы, попрощавшись с министром, который спешил на доклад к высшему начальству, взяли Никиту на свой кошт и немедленно вылетели через Вену в Женеву. Состояние их можно было определить как «позитивный коллективный психоз». По итогам командировки, как ни крути, и российский полевой госпиталь был развернут на юге Сербии, и швейцарский шоколад скрасил будни раненых детей. В тот же вечер Никита гулял в толпе обреченных на мир женевцев — каждому своя война и свой мир…
В день, когда через пару лет сербы предали своего вождя, у памятника на Косовом поле собралась горстка призраков Великой Сербии. К тому времени многие из участников той дипломатической миссии уже работали в Косово и Метохии. Война на Балканах, как наваждение или наркотик, привязала к себе, подчинила, заставила поверить в чудо примирения и полюбить судьбу воинов-скитальцев.
Никита жил и работал в Митровице, до драки играл в футбол с обитателями этого православного гетто и, слегка подвыпив, любил рассказывать им о встрече с главным сербским патриотом.
ПАРИЖ — ГРОЗНЫЙ, ДАЛЕЕ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ
С наступлением непогоды сорокалетний Анри чувствовал себя стариком. Донимали болячки и воспоминания о тринадцати месяцах кавказского плена. Родившийся в провинциальном городе француз, брюнет небольшого роста с уже укоренившейся лысиной, страдал историческими реминисценциями очередной чеченской войны.
До момента похищения он отработал на Северном Кавказе почти полтора года. Раздавал жертвам конфликта международную помощь, которая по большей части перепродавалась ими на местных рынках. Ходил в горы, где спасался от странного одиночества в толпе участников и жертв новейшей кавказской истории. Он поминутно вспоминал семью. Иногда хотелось все бросить, заказать такси и уехать в родной город, но он оставался, чтобы продолжать ежедневные азартные игры с судьбой. Анри часто напивался в компании таких же, как он, любителей приключений. Поначалу падал лицом в салат, а с приобретенным опытом — уже в десерт. В конечном счете, француз выделялся из массы «циников-гуманитарщиков» особым взглядом на мир — требовательным оптимизмом, который, наверное, и уберег его от катастрофы.
В то время похищение иностранцев превратилось в доходный бизнес и предмет политических махинаций. Анри боялся стать легкой добычей, поэтому не доверял своим коллегам-аборигенам, часто менял место жительства и никогда не возвращался домой одним и тем же путем. Все это спасало до определенного момента, но в условиях всеобщего страха никто не может обеспечить себе безопасность. Похищения стали частью каждодневной жизни, бесчеловечной банальностью… Помимо «самогонных аппаратов» для кустарной обработки нефти многие чеченские семьи обзавелись специальными ямами для содержания похищенного «живого товара».
Чечня и прилегающие регионы стали ареной не только охоты на людей, но и «политического туризма». Разномастные переговорщики, парламентарии, специалисты по миротворчеству охотно зарабатывали политический капитал на горе русских и чеченцев. Они толпами приезжали в Ингушетию в лагеря беженцев. Их встречали заранее подготовленные агитбригады «жертв массовых и грубых нарушений прав человека» с плакатами на английском. Многие из этих «невинных жертв» скрывались здесь от кровной мести, а их родственники-боевики время от времени навещали эту «зону безопасности», чтобы отдохнуть и залечить раны. Анри тоже встречался и беседовал с ними, интересовался обстановкой в Грозном, не подозревая, что вскоре сам окажется в тех краях и не по своей воле будет колесить в багажнике автомобиля по кругам земного ада.
В начале февраля его похитили из собственного дома. Четверо в масках подкараулили у входа в квартиру, оглушили, связали, загрузили в багажник. Французский гуманист Анри очнулся, когда его уронили на землю, перегружая в другую машину, и осознал, что похищен. С этого момента он стал предметом купли-продажи.
Психологическая дуэль Анри с похитителями продолжалась без перерыва. За это время он научился не думать. Не думать о времени, об унижениях, боли, прошлом и будущем, о погоде в день освобождения, днях рождения близких, голоде, потерянном времени, об утраченном чувстве стыда, теплом душе и, главное, не думать о том, чтобы не думать…
Содержали француза, учитывая его потенциальную цену на рынке похищенных, вполне пристойно — в отдельной темной комнате с наглухо закрытыми коврами окнами, а не в подвале или яме. Он настолько свыкся с наручниками, что со временем перестал замечать причиняемые ими неудобства. Отношения между «неверным» и его палачами складывались неровно. Их взлеты сопровождались неожиданными поблажками вроде дополнительной миски супа, а падения выражались в выбитых зубах и сломанных шейных позвонках.
Анри постепенно привык воспринимать окружающий мир на слух. Он методично создавал энциклопедию звуков, проникавших в его темницу, пытался предвосхитить повороты судьбы, оставаясь верным себе. Солнечные лучи проникали в комнату, когда входил «хозяин» Мухарбек. Свет со временем стал для него синонимом пытки. Однако узник с остервенением боролся за жизнь, приказал себе не вздрагивать при звуках открывающейся двери. Анри, используя скудный запас русских слов, перемежал их турецкими и пытался заговорить то с охранником-армянином, которого «хозяин» звал Давидом, то с дочерью Мухарбека, приносившей ему еду. Узник старался вызвать в своих мучителях хоть какое-то уважение, а не жалость и ненависть, казавшиеся ему одинаково оскорбительными. Начиная допрос, «хозяин» просил охранника, говорившего немного по-турецки, о помощи в выбивании из Анри достоинства, а чтобы в соседних комнатах никто не мог услышать его стонов и всхлипов, включал магнитофон.
Сон оставался для Анри единственной радостью. Он позволял выбраться из тисков рабства, помечтать о том, что проснешься в другом мире, без наручников на запястьях и боли в душе… Беседы с Давидом также вносили разнообразие в скотскую жизнь. Они даже «прогуливались» с охранником по комнате словно «шерочка с машерочкой». Армянин рассказывал, как после принятия ислама воевал против своих в Карабахе, потом скрывался в Турции и решил продолжить джихад в Чечне. Давид как-то признался французу, что давно не видел такого стойкого пленника.
Время от времени «хозяин» зарабатывал на продаже видеопленок о жизни Анри в заключении, на которых тот не только улыбался, говорил, как ему хорошо живется на Кавказе, но и просил о помощи по-французски и на ломаном русском. Чеченец поначалу не знал, как пользоваться видеокамерой. Анри пришлось объяснить ему, что к чему, дать уроки любительского киноискусства.
Однажды француз разглядел на грязном полу своей камеры стержень шариковой ручки и ухитрился спрятать его под подкладку куртки. С тех пор он стал методично собирать «компромат» на хозяев дома, их родных и знакомых. Как-то накануне перевозки в другой дом его оставили без присмотра и наручников. Пленник тут же подполз к окну и потихоньку взглянул на свет божий. Окна выходили на улицу. Рядом с домом стояли машины, а напротив, через улицу, он увидел полуразрушенный двор. Наступила осень, было тихо и безлюдно. Анри оторвал от стены маленький кусочек обоев и записал на нем стержнем номера машин. Потом подошел к книжной полке, перелистал несколько томов и наткнулся на стопку ученических тетрадей. Француз аккуратно вырвал из обложки клочок с надписью «тетрадь ученицы 9 „А“ класса Дианы Китаевой», спрятал его «в тайник» под подкладку, а остатки титульного листа разжевал и проглотил.
В антрактах этой драмы Анри били для острастки, связывали потуже, грузили в багажник автомобиля и перевозили из одной тюрьмы в другую. Жизнь шла кругами — от продажи до продажи, но по какому-то злому року он вновь оказался в запыленной комнате с коврами на окнах и книжной полкой в доме, которого снаружи никогда не видел.
Светлым июльским утром группа деловых людей — выходцев из России, недавно обосновавшихся во Франции, была приглашена на неформальную встречу в «бассейн» — парижскую штаб-квартиру службы внешней разведки. Светлая облицовка здания DGSE, расположенного в двадцатом округе Парижа, в сердце поселений эмигрантов-информаторов, прекрасно символизировала благородные задачи этого института французской демократии. Русским предпринимателям предстояло смыть грехи в «бассейне» и получить индульгенцию на дальнейшие дела и делишки. Цена была назначена разумная — пять миллионов долларов наличными…
Этот пустячок следовало предоставить в распоряжение французских спецслужб через месяц с тем, чтобы родина «Тартюфа» и прав человека элегантно и практически бесплатно вышла из запутанной ситуации. Выкуп предназначался таинственным, но героическим борцам за свободу Ичкерии, которые по какой-то нелепой, почти чудовищной случайности захватили Анри и злоупотребляли его присутствием на Кавказе. В этой карточной игре честно не играл никто и никто никому не доверял.
Спецслужбы написали сценарий освобождения Анри «в результате спецоперации». Он был разыгран по ролям без голливудского размаха — моря крови и гор трупов, но со вкусом. Дом, в котором происходило освобождение, разнесли в клочья и почти сровняли с землей. В ходе «бойни» один сотрудник российских спецслужб был легко ранен. Похитители Анри, как ему объяснили, были уничтожены, но их трупов он не видел. Вероятно, по этическим соображениям власти не захотели травмировать иностранца, и без того походившего на исламского экстремиста, истощенного борьбой с неверными.
Во время своего славного освобождения француз лежал в багажнике авто, очевидно, чтобы не мешать успешному ходу операции. Рядом в кромешной тьме он обнаружил объемный целлофановый пакет, в котором нащупал пачки купюр. Была ли это вся сумма выкупа, «сдача» или же плата за специальную операцию, Анри, наверное, никогда не узнает…
Он прибыл в российскую столицу спецрейсом в сопровождении джентльменов-освободителей, которым «сам черт не брат». В Москве Анри ожидали два самолета — президента Французской Республики и ее премьер-министра. Французские политики никак не могли поделить дивиденды от его освобождения. С обеих сторон Анри получил приглашение отправиться в Париж. От торжественной встречи и исторической фотографии он отказался, не без гордости заявив: «Я не артист, чтобы фотографироваться с президентом. Отвезите меня к семье!» — и уселся в президентский самолет.
Прошло еще два года, прежде чем Анри встретился с представителем российской генеральной прокуратуры. Француз передал весь «компромат» на своих похитителей и без особой надежды стал ожидать итогов расследования. К тому времени из Чечни эвакуировались все иностранцы, кроме наемников, по-прежнему продолжавших игры со смертью, хотя в умах большинства очередная чеченская война давно закончилась. Многие из похитителей Анри погибли, пропали без вести или были похищены своими же соплеменниками. Мухарбека убили в стычке со спецназом, Давид исчез. Несколько членов банды, выкравшей француза, предстали перед судом и были приговорены к длительным срокам тюремного заключения.
Анри узнал, что Диана Китаева так и не закончила учебу. Она проходила по делу о террористках-смертницах и была арестована после неудачной попытки теракта.
РУССКИЙ РОДОС
Родос — колоссальный остров, мифический Буян, где можно почуять русский дух, если, конечно, хорошенько призадуматься, принюхаться и поднатужиться… Он угадывается не только в масштабах здешних идолов, но и в особой красоте и простоте родосского мира.
Со всех сторон вас окружает мертвая как жизнь античность. Демократичные боги, их жены, дети и любовницы, герои-олигархи, нимфы с их силиконовыми прелестями, любвеобильные сатирики, кайфующие музы, философы-торговцы, золотые цепи толщиной с дуб и тому подобная античная «ботва». Греция, пережив свою историю, нежится в море солнца, купается в радужных волнах мифа, упивается божественными ароматами, уводящими душу к истокам, а тело к домикам с понятной братьям-славянам вывеской «таверна».
Путешествующим по этим пенатам небезынтересно будет получить несколько советов из области кулинарии. Порежьте огурцы и помидоры, добавьте «опавшие листья» салата, нашинкованный лук, ломтик груши Августина, оливки, козий сыр, камамбер Дали, грецкий орех, яблоко Ньютона; мелко нарежьте пространство; посолите верой; поперчите откровением; залейте соком оливы и рябины Марины Цветаевой; хорошенько перемешайте все эти метафоры, разжевывать их не обязательно; растяните и намотайте на время. Из всего этого и складывается хронотоп греческого романа, следуя которому, как нити Ариадны, бродил по Родосу юноша Нестор с продвинутой девчонкой Маргаритой, размышляя о божественных линиях времени и его человеческих меандрах и червоточинах.
Стоит непременно добавить в хронотоп парной телятинки, картошечки, нежного зеленого горошка, сметанки, а также, по вкусу, былинку тоски и щепотку бесконечности… Греческий салат «а ля рюс» готов! Разрешите последний совет: мешать «узо» с водкой не рекомендуется — чистой воды синкретизм.
Бархат сезона слегка поизносился, но обезумевший от красоты Нестор, или, как его величала русская подруга, Стар, смаковал греческий мир, разъезжая на античном «Фиате» по безлюдным дорогам Родоса. Лишь иногда, играючи, юноша закручивал патриотические гайки. Не без удовольствия отмечая, что Третий Рим пока стоит, гудит, пыхтит и не заваливается, а второй уже того, утомился и отдыхает…
Иногда невзначай Нестор испытывал нестерпимый прилив патриотизма и находил душевное успокоение в отрицании красоты Эллады. Вновь загадить авгиевы конюшни ему было не по силам, и он ограничивался подвигами поскромнее. Однажды идиллический хронотоп привел парочку в развалины на опушке сказочного, но греческого леса.
— Много грибов, Марго, в русских лесах…. А здесь — одни идеи да архетипы грибов.
— Мне одного хватает…
— Красиво как, а?! Какая все же идиллическая красота! Но у нас, ты знаешь, все как-то стилистически круче. Другой, скажем, размах и пафос, — справедливо заметил Нестор, вожделенно посмотрев окрест декольте подруги. Та внимала и не дремала…
— Стар, я заметила, когда красиво, тебя на секс тянет. Что ты вчера творил в музее? Чуть не принялся экспонаты осеменять, бесстыдник!
— Маргаритка, я полюбовно хотел, а ты кокетничала.
— Как ты тащился, а? Красиво, красиво, а-а-а… красиво, а-а-а… красиво — едва спаслась в греческом зале. Потом ворвался в меня в замке крестоносцев. Охаживал подругу на фоне заходящего солнца. Эстет хренов, — томно прошептала красотка и ухватила Нестора за тазобедренные суставы.
Надо признать: Стар был весьма недурен и обладал врожденным талантом нравиться соотечественникам. Его статьи для тонких журналов с откровенными картинками, которые он писал под псевдонимом Старик Нестор, отличались особой чувственностью и пользовались известной популярностью в среде мнимых, тайных и бесспорных эротоманов, коими так богата русская земля.
— Ты мне муза или нет? — с вызовом спросил Стар и приклеился поплотнее. — Русский художник не может без красоты, — брякнул он и чмокнул Марго в обнаженность души.
— И без допинга тоже! — заключила Маргарита и нежно ущипнула партнера. — Ты, стервец, опять «под вдохновением», а я за светлое дыхание над головой. Работать над аурой надо, старик!
— Извини, заливаю прорехи бытия, понимаешь, «наводняю» душу эфиром, — пролепетал тезка летописца и внучатый племянник ответственного работника Удмуртской АССР. — Кстати, Марго, кто чесночный соус жрет без удержу, дядя?
— А как же вкус отечества, мой друг? Водка и чеснок — полная гармония! Потом, надо же от тебя как-то обороняться. Вот и приходится любить тебя с чесноком, по-русски…
— Ах ты, гидра подколодная! — восхитился Стар.
— Сатир безрогий! — парировала Марго, даже не пытаясь оттеснить неземную красоту на безопасную дистанцию.
— Красавица!
— Сам красавец! — вторила муза, легонько оттолкнув своего прозаика и нарочито медленно побежав в кусты.
Нестор был орлом и без особого труда, подобно Зевсу-лебедю, настиг прекрасную Маргариту-Леду. В развалинах античных бань было тепло, уютно, пустынно, по-русски хорошо…
Оправившись и переместившись в пространстве, Нестор занудно и туманно, как оракул, предсказывал русскую идею, прогуливаясь по пляжу русским лирическим шагом. Он искусно подвешивал увиденному за день славянофильские яйца, поражая подругу недюжинным художественным чутьем.
— Нельзя, Марго, бездумно копировать античные образцы, жопой чую! Получается все как-то, увы, глупо и фригидно; без общественного задора, песен, плясок и хорового пения. Ты знаешь, мне ближе византизм — медведи, цыгане, «Очи черные» и «Не говорите мне о нем». По мне, демократия в России — извращение какое-то, Содом и Гоморра!
Тут, надо признать, молодому философу возразить нечем… Многие соотечественники избрали именно этот подход к реализации демократической идеи. Маргарите, однако, сексуальная истина была дороже.
— Ты хочешь сказать, Стар, что все российские демократы — педики? Сомнительный тезис, по крайней мере, не в твоем сексуальном вкусе. Хотя, старик, ты прав: у нас все через жопу… и реформы, и застой.
— Не замай застой, Марго! Святое время братства и любви! Воплощение социальных фантазий Веры Павловны!
— Это верно! Ни божества, ни вдохновения, ни слез, ни секса! Сплошная классика и соцреализм!
— Ты, однако, хватила с сексом. Хотя согласен: наша классика с ним конкретно не дружит… Да и зачем ей это вообще? А любовь, скажем, была. Вон как королевич Елисей набросился на спящую женщину! Он ведь мог запросто в духе русского гуманизма сначала поцеловать невинно отравленную собачку и тоже ее, между прочим, оживить! — мгновенно нашелся Стар.
— Так в русской классике возникла тема «собачьей жизни» Му-Му, Каштанки и Полиграфа Шарикова!
— Тебе бы все ерничать, Марго! Русский человек, чтоб ты знала, может и без секса!
— Русский-то может, но ты-то тут при чем — орел удмуртский?
Нестор махнул рукой, плюнул и побрел, покрытый уже вчерашними поцелуями, по лунной дорожке нерусского моря.
КЕНЗО
Горы-боги, словно античный хор, правят действом восхождения. Горы ставят грандиозный спектакль, драму повседневной жизни и комедию перевоплощения сирых и убогих равнинных жителей в мифических героев. Эмоциональность гор разлита, растворена в пространстве между небом и землей. Они окружают путника первозданной «варварской» красотой, обволакивают пеленой облаков, оглушают тишиной и завораживают ревом водопадов, убаюкивают звоном колокольчиков, что доносится из долин, опрокидывают и поглощают лавинами, пожирают трещинами ледников, ошарашивают лепотой рассвета, смущают наготой склонов, испытывают крутизной колодцев, осеняют крестами вершин. Горы спорят с облаками о вечности, грозят камнепадами, порабощают волю и сознание притяжением высоты, кормят снегом и ветром, очищают студеной водой, одурачивают альпинистскими мифами, умиляют безразличием, останавливают ход истории, привечают жестокостью, вышибают дурь, ложатся под ноги и встают стеной. Горы — одиночество без печали…
Прерванная тишина. Трупики эдельвейсов в твоей ладони. Смерть в горах — вершина жизни.Горы — лабиринт пространства и времени, относительных и непредсказуемых, как погода или расположение горных духов. Время Монблана протяженнее и пафоснее времени вершин Монте-Роза или Маттерхорна, но отнюдь не жестче. Пространство во всех его ипостасях: скальное, снежное, лазоревое, ледниковое, открытое, закрытое, распахнутое душе, перечеркнутое via ferrata[10] и запутанное лабиринтами Алечского ледника, припорошенное «сыпухой», зализанное лбами, упитанное грязью, разукрашенное лугами, раздавленное ледниками, очерненное тенями облаков, причесанное моренами, отраженное озерами, расчерченное художественными тропами, — окружает, растворяет, поглощает. И в итоге возносит страждущего к вершине, где нет ни времени, ни пространства.
Бабочка на леднике, Слышно, как тает снег. Странник, не искушай судьбу!Горная пустыня — место уединения, сосредоточенного самопознания, рафинированного индивидуального бытия «горолюбивых» отшельников, подражателей Еноха, Моисея и Христа. Горы уводят ввысь, поднимают над обыденностью и бренностью повседневной жизни, помогают сбросить футляр, увидеть «пределы земли, на которых покоится небо», забыть твой запах…
Как приятно раздавить пузырек в возвышенной обстановке божьего мира, озаренного Фаворским светом преображения, вспылить, рискнуть, выкинуть фортель и… «сойти во ад» равнин. Большая жизнь — большие горы, житие под знаком вечности в окружении церемониально расставленных творцом вершин духа.
Гром в пургу, И молнии пляшут в глазах — Долог путь на Голгофу…Солнце, совершая круговорот над чистилищем гор, озаряет, походя, страждущие души, примостившиеся на гребнях и жаждущие заглянуть в бездну. Горы — строительная площадка Града Божия, царство блаженных, «нищих духом» и богатых кензо, беснующихся в «горняшке» и сдуру прущихся вверх против кармы. А еще горы — пристанище мальчиков, писающих скопом, «на брудершафт» на всю матушку-Европу с высот Монблана и при этом насмехающихся над монбланами плоскостей равнинной культуры. Вершина — помост для эстетов, стирающих ноги в кровь по принципу «новый поход — новые ногти».
Безлунная ночь, сон на леднике. Сакэ уже не греет Мою заблудшую душу.После жесткого сопротивления гор «сверхпроводимость» равнины неприятно удивляет и поражает воображение. В тотальных равнинах, покрытых ватным одеялом облаков, путь альпиниста освещается отраженным светом «райских гор». Русского скалолаза узнаешь по кисло-сладкому запаху Родины и глазам, в которых азарт «русских горок» сменяет бесконечная грусть «ра-авни-ины», пестро размалеванной в бабье лето. Все в них — «агульная млявасць и абыякавасць да жыцця» и плоская как стол степь. Камень на груди и луковки куполов, вместо вершин, — осиновые да золотые. «О, Русская земле! Уже за шеломянемъ еси» — «О, Русская земля! Уже ты скрылась за холмом…»
Солнце карабкается по скале, Цветок приютился на гребне — Отчаянный поступок.Стиль «кензо» — смешение инь и ян, вызов «прозе равнин», игра света и тени, нагромождение слов-камней, образов, эпитетов, метафор, парадоксов, русско-японских матерных штампов, хокку, неологизмов, словесных ассоциаций, веры в светлое прошлое и прочих литературных излишеств, вызывающих читательскую изжогу. Подобно японскому кутюрье, он воплощает силу духа и эстетику подъема.
Пляшут тени безымянных гор, Призрак вершины бередит душу. Япона мать! Конец сезона?Пожалуй, так и есть. Скалы, хранящие тепло наших душ, ежатся под первыми хлопьями снега и погружаются в сон до наступления времен кензо, когда «горы будут скакать как овцы и холмы будут прыгать как агнцы, насытившиеся молоком».
ПУТЬ ДИОНИСА
Очевидно, Мусей считает, что самая прекрасная награда за добродетель — это вечное опьянение.
Платон. ГосударствоВечерело. На веранде сидели трое. Закуски было вполне достаточно. Профессора, соседи по даче, Венедикт Петрович и Леонид Вячеславович, засиделись у старика Митрича, жившего тут же и служившего в дачном поселке сторожем. Рафинированные гости угощались самогоном.
Наука Вене и Лене, как и дачи, достались по наследству. Один подвязался на семейной ниве философии, ставшей с закатом марксизма-ленинизма, увы, не хлебной. На феноменологии больно не разживешься… Другой, зарабатывающий на жизнь литературоведением, тоже констатировал, что советская литература приносила тем, кто знал ее в лицо, гораздо больше, чем демократическая.
Венедикт Петрович выглядел в этот вечер, как, впрочем, и всегда, импозантно. Широту души и тонкость вкуса подчеркивал синий видавший виды спортивный костюм, в прошлом белая майка от Кристиана Диора — подарок жены, и грязные ноги в татарских калошах. Искусствовед узрел бы в этом наряде явные черты евразийства. Профессиональный мыслитель много курил, ерзал на плетеном кресле и зычным голосом провозглашал разные умные вещи, скрытый смысл которых Леонид Вячеславович с Митричем могли враз и не уразуметь.
Совсем недавно Венедикт Петрович жил на даче с обезьянами, поскольку в науке напирал на теорию и методы познания у приматов. Исследования осуществлялись в рамках парадигмы «модерн — постмодерн» с целью разработки основ «зоологической гносеологии» или «метабиологии», кому как больше нравится. В выборе научных приоритетов сказалась, очевидно, учеба во Франции и гулянки в компаниях сюрреалистов. Предпочтя обезьян людям на роль подопытных существ, он полагал, что современный человек так и не вырвался из нежных объятий природы, а с шимпанзе работать было намного увлекательнее, чем, например, со стадом горилл или сюрреалистов…
Со смертью последней обезьяны Венедикт перекочевал в московскую псевдохолостяцкую квартиру. Его супруга и соратница по бунту шестьдесят восьмого — француженка, но, тем не менее, красавица Ирэн — с началом эксперимента вернулась на родину, однако регулярно, на годовщину свадьбы, навещала «русско-французского шестидесятника». Диалог цивилизаций…
Убитый горем Венедикт приезжал на дачу редко. Там он предавался воспоминаниям, полол задуманный женой розарий, окучивал картофель, выпивал и беседовал с друзьями. После кризиса профессор все меньше доверял разуму, полюбил бессознательное и медленно, но верно встал на позиции критики Запада за то, что он существует. Тем самым окончательно утвердился в понимании русской идеи как дионисического мессианизма… со всеми вытекающими последствиями.
Кафедру пришлось оставить по семейным обстоятельствам, поскольку Веня, на языке популярной антропологии, «забухал по-черному». Потреблял он в основном свежую водку, поскольку от других напитков впадал в депрессию. Виски принимал исключительно в качестве платы за кандидатский минимум по философии… Не скажешь, что Петрович весь ушел в гудок, но выглядел в этот момент жизни совсем неважно. Митрич по просьбе философа похоронил обезьян в дальнем углу сада.
Леонид Вячеславович, напротив, одет был вполне «политкорректно», в стиле «советских шестидесятников»: носки, ботинки, серые брюки, водолазка. Да и вел себя скромнее, чем походивший на Фому Аквинского «бычок» Веня. Внешне профессора филологии от полковника КГБ в отставке отличала только козлиная бородка, которую он носил как символ, что-то вроде банданы. Леонид Вячеславович аккуратно стриг ногти и говорил тихо, даже вкрадчиво, с легким акцентом журфака МГУ. Он занимался, пожалуй, самой тонкой литературной материей — определял, кого из современников внести в реестр, а кого вычеркнуть из славного списка классиков отечественной литературы. Из животных Леонид Вячеславович любил своего пуделя Арнольда и умилялся, когда тот публично портил воздух. Кобелек крутился здесь же, радостно повизгивая и воровато поглядывая на закуску, а его хозяин, хотя и пил меньше всех, тоже умничал.
Седовласый Митрич ничем особенным не выделялся; имел большой личный опыт в области самогоноварения; держал кур и хряка. Сторож по-домашнему восседал во главе стола, ловко цеплял закуску и вытирал земельного цвета ручищи о черные семейные трусы, больше известные на Западе как «боксеры».
Разговор зашел о мифологеме трезвости и метафизических последствиях пьянства и алкоголизма. В нем грубо и донельзя некультурно нивелировалась ценность дискурсивного мышления.
— Профессор, наливай! — обратился Митрич к философу, которого почему-то считал своим, нашим то есть, невзирая на регалии и манеру научно выражаться. Наверное, Веня хорошо воплощал «субстанциальность» народа. — Тоскуешь, небось, Венедикт Петрович, по своим обезьянам! Тоже, вот, животина, передохла вся в нашем климате! Помню, завезли в «Путь Ильича» швейцарских коров, так они за месяц исхудали на колхозных харчах, а которые и совсем сдохли.
— Да нет, не в рационе питания дело! — возразил философ. — Их скосила какая-то неизвестная науке психическая болезнь, приведшая к групповому алкоголизму. К чему мы идем, Митрич? Уже и среди обезьян одни неврастеники!
— Это точно, тосковали они, сам видел, а иногда и буянили, водку в сельпо воровали, старушек в церкви пугали… Вожак дольше всех держался, земля ему пухом… От стопки отказался только на смертном одре!
— Разумный был субъект! — заметил профессор. — Я его Диогеном прозвал за презрение к роскоши. Курил наш табак, жрал картошку и не морщился! Рефлексировать, правда, совсем не любил, плевал на все мои мыслительные эксперименты, но обезьян своих обожал и держал на коротком поводке. Хороший был мужик, спился только… Помянем его! — вздохнул и тяпнул рюмочку.
Тут Арнольд взволнованно и жалобно завыл, как будто вспомнил, как они вместе с Диогеном гоняли и щупали кур сторожа.
— Венедикт Петрович, не переборщили ли вы с опытами, особенно вашими попытками научить шимпанзе говорить. Природа не терпит столь резких вмешательств в иерархию видов! Везде необходим порядок, как, к примеру, в литературе есть классики, современники, начинающие писатели и декаденты! — урезонивал профессор-лингвист. — Если обезьяны начнут говорить, а свиньи писать басни, то все искусство приобретет непредсказуемые формы! Во что превратится союз писателей? Какой-то хлев, а не храм литературы… Кто, наконец, выступит в роли «свиньи под дубом»?
— Извините, Леонид Вячеславович, но в вас заговорил банальный антропоцентризм! Это вам, профессор, не литература, с ее утверждением, якобы человек — это звучит гордо и каждый алкоголик — центр мироздания! Даже не физика, доказывающая, что время между первой и второй рюмкой столь же относительно, как между десятой и пятнадцатой! Перед нами предстает извечная болезнь человеческого субъект-центрированного разума, обостренная в интеллигентском сознании.
— Если придерживаться вашей точки зрения, Венедикт, то обезьяны не только мыслят, но и являются носителями интеллигентского, как вы говорите, сознания! — возмутился филолог.
— Картошка нынче-то, что доктор прописал! С начала августа подкапываю помаленьку и ем… Попробуй, Петрович! От всех болезней помогает, когда ее с селедкой и лучком под водку! — встрял Митрич, чтобы разрядить обстановку.
— А у меня опять гниль одна в огороде, сосед, но обезьяны мои были безусловными интеллигентами! Даже болели интеллигентскими болезнями.
— Какими же это?
— Алкоголизмом и педикулезом! — отрезал философ и восторженно заржал.
— Все бы вам ерничать, Венедикт!
Пудель чуть насторожился, но тут же почуял дружественность атмосферы, царившей за столом благодаря прекрасному угощению и обильным выбросам мысли в ноосферу.
— Разучились, вот, культурно пить… — изрек Митрич. — Только бы нажраться как свиньи! Никакого уважения! Нет чтобы по чести, по совести, по справедливости, с порядочными женщинами… А раньше, вот была красота! Возьмешь, бывалыча, бутылочку портвейна «три семерки» и выпьешь как интеллигент…
— Порядочные — это те, которые не дают? Ну а в целом все верно, Митрич! Алкоголизм есть метафора саморазрушающегося разума! С другой стороны, именно водка возвращает к жизни глубинные слои подсознания и ведет к доонтологическому пониманию бытия, — сказал как отрезал Венедикт Петрович и хлопнул еще одну. — Наливай, дорогой! Ты бы, сосед, козу, к примеру, завел! Расширил, так сказать, эмпирические ряды, получил новый эстетический опыт… — предложил философ.
— С козой, профессор, мороки уж больно много: доить надо, пасти; а хряк — милое дело!
— Запой, я вам скажу, — это забвение бытия в модерне, «ускользающее бытие» Хайдеггера! — продолжил Венедикт Петрович. — Этикетку «Столичная» он наклеивал исключительно на так называемое истинное событие, не имеющее ничего общего с пространственно-временными ограничениями трансцендирующей претензии на значимость в значении. В то время как многие местные, почти местечковые водочные брэнды признавал внеисторичными, так как они полностью неадекватны критике разума и беспардонно авансируют императивное выражение некой сакральной власти, обзаведшейся аурой испитой общечеловеческой истины!
— Венедикт Петрович, вы с кем сейчас разговариваете?
Кобелек насторожился, уловив в словах хозяина плохо скрываемое раздражение, и взялся потявкивать на ошибающегося участника дискуссии.
— Профессор, закусывай, пожалуйста! — наставлял Митрич.
— Ладно, сосед, ты послушай! Балансируя на грани бытие-небытие, кто усомнится в ставшей нормативной идее собственной возможности бытия, которую Хайдеггер прозорливо связал с феноменом индивидуальной совести? Эта инстанция, однако, во хмелю слаба и то и дело трансформируется из добросовестного загула озабоченного своим существованием индивида в анонимную судьбу бытия, которая представляется нам случайной, но предсказуемой, как, к примеру, похмельный синдром…
— Это, извините, галиматья какая-то, ненаучная дискуссия, трамвайная полемика! Ваша истина, Венедикт, зависит от количества выпитого.
— Что же, по-вашему, профессор, Хайдеггер был дурак? Он ведь попал прямо в печень трансцендентальной субъективности! Утвердил интуитивное озарение, как водку без эмпирических примесей, в качестве безалкогольного продукта опьянения истиной… А вам, Леонид Вячеславович, должно быть обидно, что истина явно нелитературное понятие!
— Вот уж точно подметили! — торжествующе заявил филолог и элегантно опрокинул стопарь, — орудие метафизики и литературы. Однако, господа, какое отношение истина имеет к философии, также могут внятно объяснить лишь профессиональные мудрецы и идиоты!
Пудель восторженным лаем приветствовал ход мысли хозяина, а в благодарность получил кусочек колбасы, сам лингвист налегал на салат.
— Антоновки в этом году — как грязи! Свининка будет сладкая, чистый мармелад! — «ввернул» хозяин хряка.
— Погряз ты в позитивизме, сосед! Никакой пассионарности в тебе не наблюдаю, порыва, стремления преодолеть бренность бытия! В революцию, Митрич, ты бы пошел, только если бы твоего хряка отдали на растерзание сюрреалистам! Тут бы ты завопил, забился в оргиастической революционности!
— За что хряка-то? — с обидой спросил мужик.
— За революцию! За революционные силы опьянения! — заорал философ так зычно, что испугал пуделя. — Сейчас же в «сюр» играют одни подонки и трезвенники… Отправили бога нашего Диониса в вытрезвитель!
— Вы, однако, коллега, на баррикадах сражались только в Париже! Да и поехали-то туда по комсомольскому набору с разрешения органов, а в отечестве все больше мирно писали об отмирании государства, пьянства и семьи при коммунизме. Расцвечивали светлое будущее розовым по голубому, — заявил захмелевший интеллигент, даже не желая уязвить философа, а так, брякнув по пьяни. — Как только Ирэн все это выносила?
Венедикт налил и залпом выпил. Потом насупился и уставился в стол, заваленный пустой посудой. Обстановка мгновенно накалилась; пудель поджал хвост.
— Да пусть забирают, хрен с ним, с хряком-то! — философски заключил Митрич. — Русский человек все стерпит…
Профессор не реагировал, а только без каких-либо эстетических эмоций, почти машинально налил, выпил, сжал пустой стакан в руке и поднял бычьи глаза на филолога. В ноосфере запахло мордобоем… Леонид Вячеславович съежился, как русский алфавит; Арнольд заскулил и забился в угол веранды.
— Я, пожалуй, пойду… Спасибо за угощение, прекрасный вечер! Митрич, сосед, благодарю за гостеприимство. Венедикт Петрович, рад был с вами побеседовать, до свидания…
Филолог отличался вежливостью и оперативной смекалкой — еще один довод в пользу партийности нашей литературы… Однако в решающий момент дискуссии именно сторож встал, как кремлевская стена, между профессурой, вытер о трусы бутылочку эликсира собственного производства, вручил ее соседу на дорожку и многозначительно произнес: «Ноги промочишь — горло болит; горло промочишь — ноги не идут. Диалектика!»
Когда оппонент ретировался, бросив Арнольда на произвол судьбы, профессор плюхнулся всем «мыслящим телом» на пол, поближе к собеседнику, вздохнул и продолжил одинокий дискурс: «Вот, псина, люблю тебя! Ты один меня уважаешь… У тебя чистые честные глаза! Только тебе скажу, как тяжело субъекту переступить через себя и уйти в бесконечность… Нажравшись, кто запретит себе мысль о высшем существе? Алкоголь, пойми правильно, позволяет подойти к решению одной из ключевых онтологических проблем — есть ли бытие, когда его нет… Это, брат, происходит на почве погружения во вневременную среду где-то вне пространства, в которой прошлое отказывается стать современностью, будущее никогда не окажется в прошлом, а настоящее никак не устаканится».
Незаметно в разговор вмешалась ночь. Огоньки диалога человека и собаки еще тлели, Арнольд учтиво повизгивал и вилял хвостом. Однако верный пес всем видом показывал, что ему непременно надо догнать хозяина. Над дачным поселком лилась мелодия первого и последнего советского блюза: «Спят твои соседи — белые медведи, спи скорей и ты, малыш…»
ТАНГО ТАНЦУЮТ ВДВОЕМ
Все плохие женщины сначала накормят, а потом плюнут в душу. Все хорошие — плюнут, накормят и опять плюнут, чтобы сухая мужская душа чуть-чуть обмякла, подобрела, потекла… Дебора выпадала из этой почти классической классификации. Занимала особое место в ряду стереотипных изданий современных женщин. Она ограничивалась кормлением, а мужскую душу не трогала, поскольку считала, что есть в мужчине части и поважнее, так сказать, «les bijoux quòn nàchete pas».[11]
— Может танцевать, Андгюша? — робко спросила Дебора после трехчасового ужина с Андреем, водкой и разговором на отвлеченные темы.
— Под Баха? — с нескрываемым сомнением ответил джентльмен и впервые за вечер украдкой обозрел округлости нещадно молодящейся подруги.
— Да, но ведь в пгошлый газ ты слушать Малега. Такая музыка вообще любить не хотеть… Моя мама тоже очень любить, нет, любит Баха. Она была музыковед, а потом вышла за свой пегвый министг. Андгей, ты хогоший гость — ничего не ешь, пить только водочка, ничего не хотеть, сидеть тихо… Покушай тогда, пожалуйста, еще гуляш.
— Спасибо, я больше не хочу, — ответил выгодный гость, и беседа плавно перетекла в салон Деборы.
— Андгюша, если хочешь знать женщина, посмотги ее глаза. Увидишь вся жизнь!
— Это точно! Но я воздержусь…
— Пгавда, я хогошо говогю по-гусски? Только два года учила, что «вэ» — это не «бэ», а потом победила на гусской олимпиаде и ехать в «Агтек». Я хогошо подставлять слова в упгажнения! Смотги, напгимег, я тебя м, м, м на вокзале под шум поездов. Надо выбгать из глаголов: встгетить, видеть, вылечить, не помнить и м, м, м.
— А ты что подставила? — бестактно спросил Андрей.
Тут она, гремя драгоценностями, невинным движением бедер подсела к вечно молодому человеку на софу и нежно взглянула в светло-пьяные очи «кгасными» лисьими глазками, в которых, вероятно, отразилась вся девичья жизнь, без изъятий, включая бдения у костра в «Артеке» и других местах. Вся судьбина… до последнего целомудренного поцелуя!
— Андгей, я иметь гусские когни! Мой дедушка был офицег. Когда он пить много водочка, то кгичать и бить бабушка и мама. Сильный любовь! А меня кгестил в цегкви два газа! В пгавославный и гимский…
— Вот как! Так ты, значит, наша!
— Нет, я все гавно синагога хожу…
— Ну, ты знаешь, бывают и наши синагоги…
— Да, только дгугой имя… Мама очень любить, нет, любит министгов из синагога, а я только встгечать их адвокатов. Последний адвокат хотел меня бить, когда я пгиходила гано домой.
«Какой-то семейный подряд!» — подумал Андрей и с поддельным возмущением спросил:
— Как бить? За что?
— Головой по стена, очень бить. Это был кошмаг! Он даже не мог женщину покгыть с лаской…
— Какую женщину?
— Потом, Андгей, он совсем не любить, нет, не любил Баха, говогил, что у него нет тема антисемитизм… Зачем ты не ешь ничего, Андгюша? Выпей водочка! Тебе не нгавится гуляш?
— Что ты, Дебора, мы ведь уже поели! Все очень нравится, было очень вкусно, и в прошлый раз был этот, как его, форшмак.
Если бы Дебора внимательно присмотрелась к гостю, оценила, к примеру, его душевное состояние, то поняла: мелодраматический ужин затянулся, а с напитками она явно переборщила. Андрей ерзал на софе, потел, сопел, зевал и давно порывался спросить у дамы, где в ее апартаментах, собственно, уборная, но не решался прервать исповедь.
— Ты у меня не хочешь, зачем такой депгессивный, Андгюша? Совсем гусный?
— Задумался…
Андрей и вправду загрустил, не понимая толком и сам причину охватившей его печали, принимавшей иногда подобие вселенской скорби, и вдруг произнес: — Прооффенбахали мы, Дебора, Россию…
— Андгей, а ты можешь покгыть женщина с лаской?
— Не знаю, с лаской покрыть не пробовал еще… Видишь ли, Дебора, я работаю над темой трагической любви к Родине, похожей на чувство Иосифа к Израилю, и вынужден сублимировать энергию. И почему, наконец, чтобы иметь успех, мужчина должен бегать по дамам? — неожиданно резко возмутился Андрей.
— Ты у меня не нгавится? Выпей еще водочка, ты же любить, нет, любишь ее больше меня! Я думала, что буду твой животный любовь…
«Неужели она привержена элементарному гедонизму? Какая-то русская народная женщина!» — ужаснулся кавалер и с пьяной улыбкой, успокаивающим тоном произнес:
— Нет, Дебора, мне все очень, очень нравится, даже гуляш, а тебя я просто обожаю и к тому же немножко вожделею.
— Что такой вожделею?
— Это м, м, м…
— Вот, мой любимый, любимая кагтина — букет весенних цветов! Кгасный и желтый такой! Мои соседи не любить, любят его, говогить, что нехогоший ауга! Не знаю, это глупо. Да, Андгей? Нгавится кагтинка? — сменила тему светской беседы окрыленная признанием Дебора.
— Очень нравится, только здесь нарисован черт.
— Где? Где ты видишь чегт?
— Вот здесь, в углу. Черный черт с красными коготками.
— Да, это чегт! Кошмаг! Почему никто не заметить, только ты заметить? Я жить с чегт! Он похож на гусский дедушка!
— Ничего страшного, Дебора. Он ведь только нарисован. Это вообще-то символ домашнего счастья, что-то вроде домового, хранителя очага.
— Зачем домовой? Не хочу дедушка! А ты, Андгюха, как всегда, глупость нехогошо говогишь за меня. Я хотела пгосто посидеть над чашкой чая вместе. Поговогить, меняться опытом и миговоззгением… Сегдце мне сломал! Лучше ты меня бить!
— Карловна, можно я домой пойду, а? — промолвил вконец осоловевший и опухший гость.
— Ты не сегдишься, милый? Зачем на меня такой насгатый? Посиди еще, выпей, пожалуйста, водочка! — пролепетала Дебора, пытаясь уговорить кавалера. Тот молчал и ерзал. — Хогошо, не буду больше дегжать. Что ты кушать и слушать следующий газ?
— Хочется чего-нибудь нашего, родного! Давай, Дебора, Шнитке побольше и блинов!
Он улыбнулся на прощание, поцеловал даме ручку и быстро, как только мог, отвальсировал за угол, где с наслаждением помочился в куст жасмина.
НЕРОМАНОСПОСОБНОСТЬ Прозаический разговор с музой
Когда летишь зимой в Европу из России, мир чернеет и зеленеет на глазах. Так выглядит в цвете перелет из мира святых в мир гениев. В Европе я навечно проездом, поскольку по прибытии в никуда нестерпимо хочется опять куда-то отправиться. Иначе говоря, постоянно оставляю регрессивно-депрессивную Россию ради прогрессивно-депрессивного Запада, избегая, быть может, притяжения усредненной Азии.
Что же так влечет русского человека в Европу? В старушку Европу, что не живет, а мучается, милая, зажатая между опьяняющими водами Средиземноморья и вытрезвителем Балтики. Вижу одно разумное объяснение — жажда прекрасного, тоска по идеалу. Ведь только в Париже, Муза, можно заказать шампанское, устриц и русских девушек на десерт.
Европа начинается с России, здесь же она, очевидно, и заканчивается. В Питере постоянно тянет освежиться, а два лаптя к югу, посреди Среднерусской равнины, — большой коровий блин Москвы, в который не хочешь, а вляпаешься… Где-то рядом, в лесах и болотах, вблизи от столичного захолустья — поселок Заря. Просто Заря, а не Заря коммунизма или Заря демократии — твоя, Муза, маленькая Родина. Я спросил: «Муза, ты любишь Родину?» — а ты заявила: «Типа, люблю, особенно Большой театр…» Должен признаться, я тоже обожаю «Большой кинотеатр», особенно девчонок из тамошнего кордебалета… Ты ведь приметила, как вселенская скорбь обезобразила мое лицо. Душа поклонника кордебалета — высочайшего закала: что в рай, что в ад — все одно.
Анархия, Муза, — вот мой погромно-эстетический идеал. Душа требует безудержного кордебалета, башка — сверхидеи, рука — топора… Ведь конечная цель анархизма — поддержание общественного беспорядка — благородна своей определенностью и ясностью. Анархия есть возрождение человека и возобновление истории.
Россия, не в пример Европе, край абстрактного мышления, чистейшего рафинированного идеализма, душевного запоя и метафизического загула. Она царственно демократична. Варится в кисло-сладком историческом времени-соусе и отрицает кошерно предустановленный мир. Русскую правду засолили, заквасили, прокоптили, вымочили и отмочили, заварили, выгнали, закатали в посуду и потребляют по надобности и без оной.
Современная Россия в очередной раз переживает период междуцарствия и безвременья, имя которому «Нерусь» и «Нехристь». Мы вновь прошли через все три стадии общественного бытия, они же — пития: аперитив, дижестив, «абюзив»[12]. И ощутили горькое похмелье перед новым загулом. Иными словами, русские бедны, но готовы нищенствовать бесконечно.
Мне весьма по душе «метафизическая нужда» русского человека, выступающего против злобы дня, за доброту вечности. Люблю, знаешь, созерцать деревянные избы, загаженные русской историей погосты, подметное счастье, вымученные откровения, плачущие иконы, потускневшее золото куполов, аристократизм, облаченный в «гуньку кабацкую», законченность далей, подслеповатое зимнее солнце, звезды, страдающие падучей, перелески, топи, большаки… и начальство. Самогон русской веры есть серая тоска по светлой грусти. Эстеты — в Париж, а нагота да босота встретилась на переломе, перевале от «культуры-веры» к «культуре-безверию» и прокричала на всю Россию: «Вольному воля, спасенному рай!»
В наши дни, когда измельчало не только добро, но и зло, когда живешь «по ту сторону добра и зла» — не веришь ни в Бога, ни в черта, «жаждется», Муза, очищающей душу и тело любви, земной любви к возвышенному, вознесшемуся к небесам телу. Любовь же, мать, живет грехом и ребячеством: не полюбишь чувственно — не покаешься, не покаешься — не спасешься. Ты сказала: «Что за прикид? Купи Армани, держи марку…» Я ведь, Муза, «анархо-монархист» или «монархо-анархист», как пожелаешь, но считаю, что «железный занавес» Запада сродни ситцевым российским занавескам. Дружу с Кензо, а также Дольче и Габбаной — первый кроил, второй строчил, прикрывая наготу «библейских мест». Хотя, ты знаешь, за рассуждениями о смысле и бессмыслице русской истории ни славянофилы не заметили России, ни западники ничего не узрели в тайниках Запада. От этих великих течений русской мысли остался лишь нижегородский французский и максима о некрасивых ногтях славянофилов и нигилистов.
Как гласит предание и твердит писание, Иисус Христос никогда не смеялся. Русский Христос — и подавно. Русская православная цивилизация представляется мне миром неврастеников и творцов слова. Христос — юродивый, мужик, поэт и русский тип. Может статься, что исходная ошибка Бога состоит в том, что он создал русский мир и русского человека по своему образу и подобию, создал наш мир красивым? «Красота спасет мир», она же его и погубит…
Люблю рассказывать грустные исторические анекдоты! Никогда не мог объяснить себе, почему в земные спутницы и музы из всех «дщерей израилевых» Христос избрал не девушку из хорошей семьи, не восторженную «женщинку», не фотомодель и даже не активистку общеизраильского дела, а порядочную блядь Марию. Как говорится, на «безмузье»…
Иными звуками — у кампазіцыі такой иконы адсутнічае мандорла вакол Хрыста. Кроме всего прочего незвычайным зʼяуляецца увядзенне на заднім плане у пейзажы фігуры уваскрэслага Хрыста заходнееурапейскага тыпу (прошу особо отметить тип Христа) і зʼяуленне Хрыста Марыі Магдаліне. Вот тебе, Музочка, и Белая Русь! Такой абраз, хочу я тебе поведать, выклікае вялікую цікавасць у тэхналагічным плане! Ты же знала, я без мандорлы прозябаю, но заявила: «Алка-а-аголик». Кричала, дескать, никого не любишь, и меня тоже, что не будешь «гондолить» в Венеции, «джазить» в Нью-Йорке и «тусить» в Москве; запрещаешь себя любить; наотрез отказываешься быть музой, даже если напишу «Вишневый сад II». Но очень скучаешь, а также просила целовать тебя часто-часто, до посинения… Из чего я заключаю, что, как и другие тургеневские девушки, живешь ты интересами общества и трансцендентально полюбить не можешь… Мы встретились, Муза моя, на Балканах. Над нами кружили и гадили вороны Косова поля. Ты была безумно хороша собой — прекрасноволосая, улюбколюбивая, сладкоголосая, полная чар, многоискусная, белолокотная, прекрасно-ланитная стройноногая лань. Пока ты «стройностью унижала копье», я писал историю своей души, почитывая красно-коричневую метафизику Фридриха Ницше и беспонтовую прозу Венедикта Ерофеева. Границы на Балканах проходили по судьбам людей, а балканская вера и любовь походили на шовинизм, окрашенный в православные и исламские цвета. Помнишь ли ты нашу жизнь на Балканах, замешенную на турецком кофе, сербской ракии и мексиканской текиле (водка там поганая). Основа бытия в этих краях — ритуал сосредоточенного «сидения» в кафане времени.
Как ты думаешь, Муза, устоит ли мода на прогресс? Лично я умудряюсь верить одновременно и в декаданс, и в прогресс как одну из его — милого сердцу декаданса — изящных форм. В России декаданс особенно хорош, так как беспределен; российский закат определенно ярче «Заката Европы».
История нам шепчет, что каждый народ, великий и малый, равно как и великий народец, придумывает собственное историческое время и пространство и блуждает, шкандыбает или несется «птицей-тройкой» на «тачанках-ростовчанках» по предназначенному ему пути-лабиринту. С другой стороны, вероятно, что всемирная история всего лишь миф, созданный Западом, к тому же проект современности и каталог социальных утопий. На самом деле, если всеобщая история и существует, то она соткана из нитей индивидуальных внеисторических судеб «маленьких» людей, разумных дураков и полных идиотов. Поэтому важно, чтобы мифы прошлого и будущего не составляли мифической реальности настоящего; иначе маленькой музе и ее автору придется туго… Страдают они, Муза моя, неизлечимым недугом «нероманоспособности».
Резюмируя сказанное, замечу, что пессимистическое изложение истории культуры Запада и его российских задворков при помощи глаголов to be и to have представляется следующим образом: to be, to be or not to be, to have or to be, to have or not to have, to have, not to be…[13] В итоге всех нас приглашают на празднование конца истории, конца человека, конца всех начал, торжественные сумерки общеевропейской демократической идеи. Homo soveticus — советский человек — стал прообразом новой исторической общности — «европейцев». Права человека придавили в нас все живое, человеческое и самобытное, прошли триумфальным шествием по умам эпигонов, уравняли равных и неравных перед законом, который заменил нам любовь.
Несмотря ни на что, Муза моя, грудь твоя в наколках, руки — в якорях, любовь к сущему и неприятие мира выражаются в инстинктивном «да» или инстинктивном «нет» бытию. «Нет» всему или «да» всему, включая родинку, притаившуюся меж твоих лопаток. Я ору «да-а-а-а-а-а-а!» и в этом вижу счастье.
ЖЕНЕВЩИНА
Давно замечено, что между Женевой, Санкт-Петербургом и Москвой существует глубинная взаимосвязь, культурноисторическое единство, взаимное притяжение. Эти три города символизируют три мира, три попытки воплотить в жизнь идеи равенства и справедливости. И вместе с тем представляют собой три антимира: европейский Запад, его российскую копию и причудливый московский симбиоз русского Запада и русского Востока.
Москва — татарский Рим, уникальное смешение азиатчины с европейщиной, великодержавная столица полуцарства-полуханства. Гулящая, пестрая, бабья, вшивая, кабацкая, мещанская, грязная, расхристанная, православная, сонная, сумасбродная, суетливая, лоскутная, полоумная, кающаяся, балаганная, домашняя, бунтарская.
Петербург — антипод Москвы, самозванец, барчонок, пасынок русской истории, символ безвременья, российский тупичок европейской культуры, Олимп (или Голгофа?) русской науки и искусства. Блистательная столица великой и несчастной империи — холодная, модная, чахоточная, интеллигентская, молодая, грешная, инфернальная, инославная, серо-голубая, промозглая, гранитная, гнилая, рассудочная, революционная.
Женева — испокон веков культурное захолустье, самый мещанский город Западной Европы, пуританский, но стремящийся к наслаждению и умеющий насладиться жизнью. Женева — богатая, чопорная, недалекая, бездарная, праведная, уютная, деловая, толерантная, подозрительная, хваткая, изнеженная, самодовольная, цивилизованная. Она контрреволюционная колыбель многих государственных переворотов, включая и русскую революцию.
Москва и Санкт-Петербург тесно связаны хитросплетениями русской истории и едины, словно близнецы-братья: Прометей и его противоположность, культурный антигерой Эпиметей. Питер — плут, озорник, трикстер, нарушивший многочисленные табу русской патриархальной жизни. Он обречен на конфликт, блестящее, но порой бесплодное соперничество с первопрестольной, исход которого в каждую историческую эпоху составляет суть российской истории. Причем на протяжении многих столетий онтологическая природа русской цивилизации и государственности не меняется, несмотря на смену символов, столиц, политических режимов, форм правления. Ключом к ее пониманию остаются самодержавие, православие и соборность. Им противостоит женевский, общеевропейский индивидуализм, религия «мира сего» и разделение властей.
Иными словами, когда Питер опьянен свободой и бредит революцией, а Москва похмеляется и умывается кровью, Женева из своего прекрасного далека возмущается дикости российских нравов и сострадает невинным жертвам русского бунта. А тем временем российская глубинка «безмолвствует», глядя на столичные пореформенные судороги, и пьет горькую. Российская государственная власть, гастролирующая из Москвы в Петербург и обратно, не вызывает никакого интереса у жителей придорожных деревень с характерными названиями: Домославль, Миронежье, Березай, Долгие Бороды, Шапки, Халохоленка, Добывалово, Выползово, Спас-Заулок, в которых русская провинция раскрывает свой вкус и цвет.
Если исходить из значимости деяний, то отцами-основателями этих городов можно назвать Кальвина, сумевшего вдохнуть в Женеву новую жизнь, Калиту и Грозного, превративших Москву в подлинную столицу Руси, и «царя-антихриста» Петра I, чьими стараниями был возведен Петербург. Создатели этих миров прочили великое будущее своим творениям и не ошиблись. Однако ни Москва, ни Санкт-Петербург, ни Женева уже давно не вершат судьбы мира и Европы и не тщатся указать им единственно правильный и праведный путь. Атмосфера бого- и чертоискательства, борьбы свободной духовности с государственным культом сменилась в этих мирах нефилософской страстью к потреблению. Сегодняшняя психологическая доминанта Женевы — комфортность, Петербурга — обыденность, Москвы — суетность, не имеющая ничего общего с прежней разудалой, распашной московской жизнью, о которой писали В. Белинский, Н. Лесков, А. Грибоедов. В русской литературе Петербург — город Достоевского, «тайновидца духа», по словам Д. Мережковского, а Москва — город Льва Толстого, «тайновидца плоти». Духовным отцом Женевы, кроме Кальвина, следует считать Родольфа Тепфера — певца женевской исключительности, праведности и цивилизованности. По признанию Льва Толстого, он находился под сильным впечатлением от его «Женевских новелл», работая над повестью «Детство».
Советский период, как, впрочем, и его логическое продолжение — демократический, усреднил, упростил, уравнял психологические типы москвича и питерца, лишив их ярких отличительных черт, о которых говорил В. Белинский. Хотя Москва и Питер обособились, отделились от остальной России, замкнулись в своих самодостаточных мирах, живут они лишь сиюминутными интересами и повседневными заботами. Таким же усреднением и упрощением жизни, отказом от привилегированного одиночества грозит Женеве и всей Швейцарии вхождение в единую Европу.
Каких только призраков не бродило по Питеру и Москве — коммунизма, демократии, Христа-красноармейца, медного всадника и «бесшинельного» русского чиновника. Женева также не без чертей. Чего стоят духовные отцы Реформации, эти «осатаневшие праведники», коим Женева обязана своим тяжелым и тягостным духом, о котором писал Ф. Достоевский А. Майкову в 1867 году. Вообще история Женевы складывалась отчасти из воспоминаний великих русских, побывавших и живших в ней. Если в Петербурге можно увидеть российское будущее, в Москве — ее прошлое, то в Женеве — узнать о революционно-криминальных и литературных страницах русской истории.
В городе Петра повсюду ощущаешь «лапу мастера» и полет его воображения. Петербург утыкан изящными европейскими химерами, купленными или скопированными по наказу самодержца наподобие Константинополя — новой столицы Рима, которую по указу императора украсили вывезенными из Эллады и Азии статуями богов, героев, мудрецов и поэтов древности. Недоставало только душ тех знаменитых мужей, в честь которых были воздвигнуты эти удивительные памятники. «…Не в городе Константина и не в период упадка империи, когда человеческий ум находился под гнетом гражданского и религиозного рабства, можно бы было найти душу Гомера или Демосфена», — считает английский историк Э. Гиббон. Как это верно и в отношении Петербурга — областного центра распавшейся империи.
В исторической судьбе городов гений места имеет огромное значение. Он явно был неблагосклонен к обеим русским столицам, возведенным на не тронутой цивилизацией почве. Тогда как при строительстве средневековой Женевы использовались фрагменты разрушенных зданий ближайшей римской колонии Новиодунум. Особенно не повезло Петербургу, он возводился где-то между землей, водой и небом и стал символом восстания личности против «холуйской» жизни русского московского рода. Тем не менее российские столицы строились с умом, по рациональному плану. Москва «по милости Божией» — Третий Рим, Петербург — «Новый Амстердам-с», этакий буржуазно-социалистический парадиз, хотя и возведенный на костях. Город на Неве оказался рабом свободы. Получив ее в феврале 1917 года, Петроград распорядился государевым даром по-рабски уже в октябре. Революционное творчество масс свелось к грабежу и террору, а дионисические переживания и мистико-анархическая свобода русской интеллигенции обернулись изгнанием и привели в Европу-матушку. Женева похожим образом довольно неестественно вписана в культурно-исторический ландшафт Европы со времен Юлия Цезаря, который писал в «Галльской войне»: «При известии о том, что гельветы пытаются идти через нашу Провинцию, я ускорил свой отъезд из Рима, двинулся самым скорым маршем в Дальнюю Галлию и прибыл в Генаву. Во всей Провинции я приказал произвести усиленный набор… и разрушить мост у Генавы». Очевидно, тогда гельветы впервые ощутили себя изгоями Европы. Отчужденность приводит к осознанию собственной исключительности, избранности, появлению мессианизма и идеи особого культурно-исторического призвания. И это нас, безусловно, роднит с альпийской республикой. Русскому человеку присуще обостренное чувство нереальности. Тот же Достоевский — этот питерско-московский «русский мальчик», нелепый неврастеник, временами буйный, но безобидный до слез интеллигент, «меняет вехи» как перчатки. Среднестатистический женевец, напротив, весьма консервативен. Он не склонен к переоценке вечных ценностей и чем-то похож на чеховского «человека в футляре». Швейцарец свято верит в собственную правоту и непогрешимость и, наверное, именно по этой причине время от времени доносит в полицию на своих менее совершенных близких; он безусловный сторонник свободы совести, что на деле означает ее отсутствие. Единственное, что объединяет женевцев, — это деньги… Таким довольно прозаическим образом выражается у швейцарцев русская интеллигентская идея всечеловечности и всеединства. Перед звонкой монетой отступают различия в истории, культуре, языке, религии. Деньги сформировали деятельную, амбициозную, заносчивую и немного вороватую «гельветическую» нацию.
Женева — колыбель русских революций, кузница их материалистического духа. Из этого европейского захолустья звонил по Российской империи «Колокол» А. Герцена и Н. Огарева. Помимо революционных прокламаций в Женеве издавались и непечатные «Русские заветные сказки». Революционный бастард чувствовал себя в этом городе как дома. Там набирались сил, отдыхали от России разномастные революционеры, террористы и реформаторы: марксисты, анархисты, народники. В окрестностях города в chateau Lenin временами проживал вождь октябрьского переворота.
Настоятель женевского собора Св. Петра хранит семейное предание о том, как его отец играл в футбол и пил пиво с Лениным. В ту пору для женевского шалопая участвовать в сходках коммунистов было все равно что испытывать оргазм. Владимир Ильич производил впечатление одержимого молодого человека, совсем не стесненного в средствах и неразборчивого в методах. Он много спорил и платил за всех. Вот такая семейная «история в горошек». Парадоксально, но Женева — мачеха вольтерианства и мать русского нигилизма, рабского подражания радикальной критике церкви и самодержавной деспотии «фернейского старичка». Франсуа Мари Аруэ был, как известно, большим оригиналом, ненавидел клерикализм и поэтому воздвиг в Фернее, в окрестностях Женевы, церковь, посвященную Богу, и только ему, намеренно обделив вниманием всех христианских святых. Копия этого храма, весьма похожего на большой курятник, чуть было не очутилась в Царском Селе, где по повелению страстной поклонницы Вольтера Екатерины Великой планировалось построить «Новый Ферней» — столицу российских еретиков. Сам Вольтер при этом сохранял некоторое интеллектуальное бескорыстие, поучая Санкт-Петербург и Женеву (Москва скорее всего интересовала писателя только как пример варварства, но, согласитесь, любой цивилизации варвар необходим для осознания собственного величия). Писатель нарочито, но неубедительно расхваливал Петра Великого в биографической дуэли с Карлом XII. Таких возвышенных помыслов, увы, не было у другого известного женевца — Лефорта, главного виночерпия Петра, яркого представителя славной когорты иностранных проходимцев, обосновавшихся при русском императорском дворе. На европейских вечерах у Лефорта Петр Великий постигал премудрости танцевального искусства, а между делом наслаждался «эстетикой погрома и запоя». Обе русские столицы хаотичны и анархичны по духу, они рьяно отрицают принцип верховенства права и безусловной ценности государства. И это их разительно отличает от законнической Женевы. Та действительно была настолько консервативной, пуританской и нетерпимой, что в ней не нашлось места не только Вольтеру, но и Жан-Жаку Руссо. Величайший сын Женевы и по сей день считается интеллектуальной элитой «перебежчиком», а Франция, давшая ему приют, — источником постоянной обеспокоенности. Швейцарцы в глубине души сомневаются в том, что Франция действительно демократическая страна, и чувствуют себя неуютно по причине угрозы бонапартизма и постоянной смены французских конституций, республик и империй.
Для современной культурной жизни Женевы характерны скепсис, обыденность, подражание, посредственность, «поэзия руин», броско раскрашенных граффити. Нищета женевского искусства пластически выражается как в пошлости и плоскости «социального оптимизма» фресок Мориса Барро и Карла Хюгина, размещенных в залах Дворца наций, так и в городской скульптуре. По сравнению с ней московская «баба с веслом» — шедевр коллективного изобразительного искусства. Видимо, сама гельветическая почва неблагоприятна для творчества духа, как, наверное, любое другое место на земле, напоминающее «дешевый электрический рай». Произведения социалистического реализма на женевских улицах служат дополнительным доказательством того, что успешное осуществление модели «развитого социализма» возможно не только в Москве и Ленинграде, но и на берегах Женевского озера. Женева — прекрасное место для того, чтобы разочароваться в Западе и возненавидеть Россию с ее столицами. Вместе с тем эпитафию этим мирам писать рано. В конечном счете, вопрос социального прогресса — дело вкуса. Особенно это справедливо по отношению к прогрессу в духовной сфере. Надо полагать, что в истории Москвы, Петербурга и Женевы были периоды как негативного прогресса, так и позитивного регресса. В этой связи можно утверждать: прогресс и регресс лишь иллюзии человеческого восприятия культурно-исторической действительности, историографические и политические мифы. Каждый город как социальная общность создает собственное историческое время, расставляет вехи, определяет ориентиры и идет по предназначенной только ему стезе. Пути Женевы, Москвы и Санкт-Петербурга временами сходятся, позволяя трем антимирам убедиться в своем родстве.
СУПЕРШВЕДЫ
— Какой некрасивый мужчина, правда, Ингрид? Дай ему денег, пусть уйдет.
— Хельга, он не уйдет! Мужчина здесь работает барменом.
— Ты знаешь, у меня так болела голова вчера. Ингрид, ты слушаешь? Нельзя так много пить, нельзя совсем! Танечка, а эта Катрин, а? Просто блядь, извини, Сережа. Пришла к друзьям уже подготовленной, с таблетками! Разве так можно? Ой, Танечка, ты самая лучшая! Сережа, правда, Танечка такая хорошая? Она всем помогает… Вот, прикинь, Ингрид помогла устроить в Совет Европы. А какая красавица, Сережа! Вылитая Мона Лиза, когда с похмелья, правда? Какая здесь ужасная музыка…
— Сережа, ты плохо пьешь!
— А Толя, наш вчерашний друг, он прелесть! Ты знаешь, Танечка, мы, типа, потеряли машину, а он нашел и нас отвез в восемь часов утра и бросил, противный, сразу же убежал домой, пешком убежал… А жена у Толи просто блядь, Оля, извини, Сережа. Какой отвратительный мужчина!
— Хельга, я вчера потерял браслет… Было четыре — стало три…
— Ты что, дурак, Геннадий? Кто носит такие вещи на дискотеку? Совсем обалдел. Слушай, какая здесь кошмарная музыка.
— Андрюша, я хотел сделать тебе приятно…
— Да, Гена, голубь мой, голубой! Куда ты исчез, когда я танцевал там, обнаженный совсем? Противный… Сережа, когда вы ушли, мне так было плохо! Танечка, я лежал на подиуме в шубе совершенно один. Таня, правда, у меня красивое тело, а?
— Очень, Андрюша.
— Ах, как мы будем смотреться с Ингрид на свадебной фотографии! Но вчера был полный декаданс, конец века! А как все хорошо начиналось с выставки кошечек и дегустации вин! Еще и Кристина! Эта женщина с взрослым ребенком проездом в Кению. Боже, какая здесь музыка…
— Хельга, я скормил ей все таблетки…
— Сережа, ты плохо пьешь!
— Извините, мне пора ехать.
— Сережа, ты никуда не едешь. Правда, Танечка, мы его не отпустим? Ах, Танечка, какой мужчина — такой спокойный! Можно я застегну его верхнюю пуговку, а?
— Настоящий полковник!
— Так на Алешу Поповича похож! Голубая Русь! Вы любовники?
— Сережа, ты плохо пьешь. Можно тебя потрогать? Ты не думал об эпиляции, гривастый?
— Еще немного, и я останусь.
— Оставайся, Сережа, так лучше будет… Вчера ты себя вел как какой-то сексуальный контрреволюционер! Знаешь, у меня есть шуба, не вчерашняя, другая: лиса от Версаче. Черная такая вся, а вот здесь, здесь и здесь красные и синие перья. Хочешь поносить? Какая все же беспонтовая музыка! Господа, давайте голосовать за отмену музыки! Молчат! Это пейзане, а не господа. Куда я выйду здесь в шубе, Ингрид? Одни гетеросексуалы кругом…
— Алеша, ой, извини, Сережа, ты плохо пьешь…
— Танечка, помнишь мои белые джинсы? Вчера, ты не поверишь, я так в них страдал, а потом замочил в шампанском — стало полегче. Нам ведь подарил бутылку хозяин дискотеки! Какой отвратительный мужчина! Сережа, Танечка, пойдем лучше к Сиське. Ингрид, ты ее обожаешь, не отпирайся, противный!
— Она здесь ничего не носит — бесполезно совсем…
— Ингрид, прикинь, когда Сиську видит, потеет — проблемы с секрецией, а у меня аллергия на женское тепло… Сережа, Танечка, а какие там туалеты! Ах! Будем писать на зеркальный пол! Только бы Леопольд не приперся. Он на прошлой неделе притащил в парикмахерскую свою резиновую бабу и приказал ей сделать перманент, извращенец!
— Сережа, ты пьешь как-то торопливо и совсем без души!
— Все, друзья, пора! Извините, чтобы вернуться, мне надо уехать… в одиночестве.
— Танечка, какая ты хорошая, как я люблю твои голубые глаза… Какой мужчина, сладчайший!
— Позвони мне, когда приедешь.
— Мне тоже, Сережа.
— И мне, противный. Вот так и уйдешь, да? Оставишь нас в обществе некрасивых мужчин? Сережа, какой ты жестокий… Какие мы, все бабы, Танечка, дуры…
В этот вечер розовый собор отражался в голубом небе; разноцветные кальсоны эльзасских флагов повисли, как вопросы, в нежном февральском воздухе.
СКОРБНЫЕ ДЕНЬКИ
В Чечне состоялись президентские выборы. Мертвые не голосуют, а живые избрали духовное лицо с уголовным прошлым и туманным будущим. После официальных торжеств прошло всего лишь несколько мирных дней и ночей. Волею случая новоиспеченный президент оказался в спокойной и безопасной Швейцарии, на берегу Женевского озера, под охраной гор, высотой подражавших Кавказу. От них, однако, веяло не диким ароматом войны, а тонким запахом цивилизации. Альпы светились спокойной и величественной красотой. Склоны покрывала «зеленка», подкрашенная в бурые, желтые и кумачовые тона. На днях выпал снег, слегка припорошив вершины, и теперь методично таял подобно жизни обитателей этого парадиза.
Бывшего боевика, внезапно обретшего статус союзника, сопровождал личный банкир-охранник Хаким с небольшим кожаным саквояжем в руке, с которым, как и с президентом, тот никогда не расставался. Но роль охранника Хаким играл посредственно. В пестрой свите были также Эрик — элегантный чеченец европейской наружности, а также дипломатичный сотрудник миссии в Женеве.
Дипломата звали Василием. Он числился в бабниках, скандалистах и выпивохах, из-за чего собственно и был «прикреплен» к чеченцам. К тому же Василий Васильевич бывал в Грозном во времена второй чеченской войны и знавал нынешнего президента. Работая толмачом, переводил его пламенные речи на английский и французский заезжим демократам, стараясь пропускать слова о независимости Ичкерии. Накануне визита Вася на всякий случай решил отрастить бороду. Борода так преобразила дипломата, что его перестали узнавать очень близкие по духу дамы…
Краткий визит состоял из нескольких импровизированных встреч с общественностью, на которые никого специально не приглашали. Президент выступил с трибуны ООН, сорвал аплодисменты, но один из местных авторитетов все же назвал Ахмата-хаджи «официальным лицом, которого нам представили как президента Чечни». Женевские чеченцы, давно прожигающие свои жизни и деньги западных спецслужб, попытались «пристыдить» президента в ответной речи, но «лаяли на караван» как-то неубедительно.
По настоянию банкира высокого гостя разместили в «шестизвездной» гостинице на набережной, в «малых президентских апартаментах», поскольку в больших уже жил избранник какого-то другого народа. После официальной части гости решили подкрепиться и попросили Василия отвезти их в «приличное место».
В арабском ресторане «Мамуния»[14] заказали «королевский кус-кус» и три бутылки первоклассного бордо. Ахмат-хаджи не пил, лишь пару раз пригубил бокал вина. Здравицы в его честь — первого в истории Чечни всенародно и правильно избранного президента — прерывались смехом сидевших за соседним столом детей. Из дальнего угла комнаты, завешенной персидскими коврами, на официальных лиц постреливали глазами две женщины Востока с ярко выраженными пупками — санитары мусульманского леса…
— Можно ли спросить, какой национальности Василий? — неожиданно пробурчал молчавший до того президент.
— Я ваххабит! — с ухмылкой заявил Вася.
Президент немного насупился и промолчал.
— Тогда ты уже на небесах… — смеясь, заявил чеченский европеец. — Смело шутишь, Василий!
Гости выпили за то, «чтобы наши горы не знали позора», и перешли на чеченский. В потоке чужой речи Василий узнавал лишь имена боевиков и названия поселков на юге Чечни. Разговор, судя по всему, был серьезным. Президент говорил, чеченцы поддакивали. Сгорающий от любопытства Вася не преминул воспользоваться паузой и предложил выпить за дружбу русского и чеченского народов, а также предсказал скорую и лютую смерть всех ваххабитов… Выпили вновь, заговорили по-русски.
— Сколько он стоит? — спросил Хаким.
— Миллионов двадцать-тридцать, не больше… — спокойно ответил президент. — Надо только найти человека, кто бы это сделал.
— Да, конечно, Ахмат-хаджи, есть такие люди в Чечне и России! — уверенно выпалил Эрик. — Вася, а ты как думаешь?
— Кого найти? — слишком наивно вопрошал Василий, прекрасно понимая, что обсуждалась цена случайной, но последней встречи с бывшим президентом свободолюбивой республики.
Чеченцы рассмеялись, Хаким что-то затараторил по-чеченски президенту и похлопал Васю по плечу:
— Василий Васильевич настоящий русский дипломат! Предлагаю за него выпить! Вася, дорогой, за тебя пьем, так держать!
После ужина чеченский лидер отправился по магазинам. До закрытия оставалось совсем немного времени, но приодеться ему и всей честной компании все же удалось ценой незначительного похудания саквояжа Хакима. Лидер ограничился пиджаком «Бриони», парой брюк и галстуков приличной демократичной расцветки. Ахмат-хаджи приоделся, помолодел, похорошел… Посмотришь со стороны, и не бандит вовсе!
Потом президент решил отдохнуть по причине того, что чирей, вскочивший, как в песне, «на неудобном месте», не давал ему покоя. Скрипя сердцем и саквояжем, банкир-охранник остался вместе с боссом в гостинице. Другие участники делегации в поисках невинных развлечений отправились в кабаре, где, к небольшому удивлению Василия, встретили группу легко одетых соотечественниц. В это время года в Женеве еще тепло…
Скромно уселись на задворках заведения, в центре которого вокруг шеста, словно укрепленной вертикали народной власти, под заманчивые ритмы кружили любительницы экспрессивного танца…
— Вот этих хочу, Вася! — проорал Эрик, заглушая музыку, и нервно закивал в сторону двух блондинок.
— Олю и Юлю?
— Да! Наших девушек!
— Эрик, они того, лесбиянки…
— Ничего, мы изменим их веру!
— Как знаете! — ответил Вася и знаком пригласил родные души скрасить мужское одиночество.
Чеченский европеец заказал шампанское и с пеной у рта взялся убеждать дам «полусвета-полутьмы» в том, что необрезанный член выглядит малоэстетично. Юля тут же вспомнила, как в прежней жизни ветеринара кастрировала крокодилов московского зоопарка… Эрик принял информацию к сведению и, обняв Василия, заметил:
— Впереди Рамадан — месячник трезвости! Пей, дорогой, и радуйся жизни!
— Хорошо, обязательно выпью! За вас, за здоровье президента!
— Только бы его не убили до парламентских выборов. Только бы его не убили, понимаешь?
Посидели вместе, поговорили о повадках крокодилов, поглазели на зажигательный стриптиз — девчонки расстарались для гостей, выступили на славу…
Ранним утром заскочили в гостиницу и были готовы к новым свершениям. Вся четверка выдвинулась в аэропорт. Василий старался не дышать в сторону президента, а Эрик уже не мог обращать внимания на такие детали и все твердил: «Буду, Вася, молиться за тебя, буду молиться!» Потом долго не могли пройти предполетный контроль. Василий безбожно «звенел», поскольку вооружился до зубов презервативами в металлических упаковках, а Эрик никак не мог снять с запястья часы. Глядя на его страдания, Хаким язвительно заметил: «Ты, Эрик, совсем обрусел в Женеве». Наконец прошли к самолету, и уже на трапе Ахмат-хаджи, улыбаясь, протянул Василию руку:
— Спасибо, Василий! Счастливо оставаться.
— Не за что, Ахмат-хаджи, приезжайте к нам еще, будем очень рады.
Во взгляде президента Василий уловил какую-то обреченность на рай, как будто тот уже перешел черту мирского счастья, оставил всех и вся на грешной земле. «Не жилец, а еще этот чирей замотал, наверное», — грубо заключил Вася.
Эрик никак не мог справиться с волнением, обнимал Василия и обещал, что обязательно скоро приедет. «А этот боец еще не раз выпьет со смертью за здоровье всех христиан и мусульман. Наш человек, кремень», — подумал Василий, возвращаясь к мирной жизни.
На годовщину Победы Ахмата убили. Он, судя по всему, опоздал на очень важную встречу… Старые друзья президента на Западе смаковали эту смерть, вновь и вновь прокручивая на телеэкранах картинку с изувеченным телом в пиджаке «Бриони».
Сразу после трагических событий в Грозном Василий Васильевич сбрил бороду, публично усомнился в авторитете ООН и уехал в командировку в Нант. Там немедленно познакомился с рыжеволосой леди, которая, ничего не подозревая, сидела в машине на месте усопшего президента и чирикала что-то о восточных лакомствах. После заседаний поехали к океану, где она в черном платье, словно шахидка, гуляла по белым пескам Вандеи.
ОТЦЫ И МАМЫ
Дорогая Леонида Матвевна!
Не знаю, уж, как вас звать-величать! Назову просто — мама Леня. Пишу вам, мама, о вашем сыне Леве. Мама Леня, Левочка — бабник и лосек! Спешу сообщить, что ваш панкующий сынок совсем без тормозов, а также весь пропитался страстью и спермой и отмитюхивает меня зайчиком без продыху, со всех направлений и в любое время дня и ночи. Говорит, что так надо для вдохновения! Недавно так задвинул по самые бубенцы, что я вас вспомнила и решила написать. Залюбил он меня вконец, затерзал совсем, уважаемая Леонида Матвевна! Хорошо бы не сосал портвейн, а то как нальется, сучий потрах, так и начинает писать, творить то есть, буянить, выражаться, мама, матерно, а также приставать со всякими неприличными намерениями. Стыдно сказать, мама Леня, сынок ваш взял моду сочинять свою прозу и поэзию на моей заднице. Целует ее по-русски три раза и пишет округлые оды и пламенные панегирики.
Остаюсь ваша в доску, мама Леонида, не кашляйте. Извините, если что не так. Жду ответа.
Алиса.
* * *
Милейший мой дружочек, Алисочка!
Получила твое письмо и спешу поблагодарить, ангел мой, за ласку и заботу твою о Левочке! Я не все поняла — стара стала, не современна я совсем; но чувствую, что вы любите друг друга и живете душа в душу. Я премного тому рада, благодарна Богу за ваше счастье, ибо сама боготворила незабвенного Петра Самсоновича, нашего папу, и до сих пор сохранила светлейшую по нем память.
Трахея у Левушки, действительно, очень тонкая, и потому лосятину мой мальчик не любит, а предпочитает суп с куриными потрохами. С зайчатиной, свет мой, тоже будь осторожна и подавай ее в исключительных случаях. Приготавливать зайца желательно в абрикосах и подавать к столу непременно с гречневой кашей и капустным пирогом. Но больше всего Лева обожает блины. Однако блины, деточка, должны быть непременно ноздреватыми и непременно из гречишной муки!
Покорнейше благодарю, с нетерпением жду весточки от тебя, милая Алиса! Кланяйся от меня Левочке. Он настоящий русский писатель!
В Перми мы никогда и не живали, свет мой, а обретались в Усть-Пинеге, где Петр Самсонович служил сельским лекарем, был весьма уважаемым человеком. Левочка же, ты права, еще в младенчестве обожал кататься на тройке с бубенцами и звонко этак распевал: «Гаят на ёйке бууса, хапушки и изда!»
Леонида Матвеевна.
* * *
Здравствуй, Леонида Матвевна!
Трахея у Левочки — мама не горюй! На днях он оттарабанил меня по полной программе, засосал литр, плюнул в блины, не извинился даже, и рванул по грибы за закусем. Притаранил гору ноздреватых соплей. Получилось, мама, полтора биде свежих грибов! Я, бля буду, промыла, отмочила и зажарила их, как говорили, в гречке и даже капусты нафигачила на салат. Сговняла по первому классу! Он сожрал все и завертел зайцем без предупреждения, как заводной! Так забабахал, поэт-рубака, что я и не помню уже ничего в деталях. Извел меня всю и ввел в грех! Зайца, Леонида Матвевна, готовьте ему сами, как только вы умеете, а я заколупалась вконец с этим борзописцем. Думаю вообще завязать с нежностями! Спасите и сохраните, дорогая мама Леня!
Привет, мамуля, не скучай!
Алиса.
* * *
Милая моя Алиса!
Сердечно благодарю тебя за нежные слова о Левушке. Однако, свет мой, какая-то нежданная печаль охватила сердце мое, Алисочка. Какая-то тревога! Как он там поживает, красавчик мой? Хорошо ли ему, как питается, не хворает ли, не читает ли Хармса? Соблюдает ли Лева режим и не пишет ли он, лапочка моя, вирши по ночам? Истосковалась я по зайчику моему родному, все глаза выплакала по моей ненаглядной кровиночке.
Помню, как Левушка удивил своих учителей и друзей в десятом классе! Как талантливо написал тогда трилогию о любимом литературном герое из сказки «Заяц хваста!». А какой он внимательный! В позапрошлом году открытку с ромашками прислал, поздравил мать с международным женским днем, заботинка моя!
Очень переживаю за его трахею, поелику грибы, деточка, весьма специальный продукт и требуют от хозяйки особого тщания. Более всего, милая Алиса, удели внимание правильному их приготовлению! Отмачивать грибы следует сугубо в огуречном рассоле и варить на медленном огне с укропом, перцем, петрушкой и лавровым листом.
Береги Леву, Алисочка! Нижайший ему поклон. Да хранит вас Господь!
Леонида Матвеевна.
* * *
Привет, Матвевна!
Как ты там себя ощущаешь? Я, мать, в полном затыке, хотя все, типа, полюбовно! Любит меня Лева, конечно, но странною, как говорится, любовью! Лев, этот «заяйц», буянит без передыху, трясет бижутерией, загудел с сикушками из литинститута и качает «право на лево»! Намандюлился на днях, загулял в поэзии и орет: «Отобью у Тургенева всех его девок!» Мамуля, я так долго не могу кайфовать от семейной жизни! Чтобы хоть как-то его поразить и удержать, писаю стоя. В расстройстве записала также стихами и тебе советую:
Женщина-профи замочит в любови, Сотрет в порошок, не бойся, дружок! Будешь ты клёвым, будешь ты белым, Чистым зайчистом панковской смены!Ну, как тебе, Матвевна, ничего? Леве так, блин, понравилось, что он отредактировал меня мелким бесом до последней запятой. Привет, маман, от семьи литераторов!
Алиса.
* * *
Дорогая Матвевна, Левушка назвал меня «безнадежно тургеневской» и приревновал к мировой художественной литературе! Ушел в творческий запой и написал:
Ты — то, а я — сё; Ты — это, а я — всё!Еще говорит, что я ненадежная совсем и изменяю ему с Хармсом, а тот уже давно тусит со своими «беспокойниками». Лева перестал оказывать мне знаки внимания и лежит, мама, на диване в трико, страдает. На днях сочинил на меня телегу:
Ты подтиралась моею прозой, Я упивался шампанским слез. Ты залепила мне в морду розой, Я затянулся махоркой грез.Мама Лепя, клевета все это! Он сам просил отхлестать его розами, а я долго не соглашалась. Не знаю, что он еще придумает с собой сотворить ради искусства.
Благодарю, Матвевна, за внимание к литературному процессу. Жду вестей.
Алиса.
* * *
Дорогая Алисочка, не знаю, что и ответить тебе, свет мой. Расхворалась я что-то, за вас переживаючи. Главное в литературе, дитя мое, — правильное питание. Дай Бог тебе терпения и благоразумия, а также, как говорится, большого счастья в личной и семейной жизни! Молюсь за вас.
Леонида Матвеевна.
* * *
Уважаемая Леонида Матвевна, ваш сын — подлец и онанист! Многостаночник хренов! Хармсовед позорный! Пришел домой, вся задница в помаде! А я его, глупая дура, боготворила и метала ему, как честная девушка, гречку с блинами! Не пишите мне больше, мамуля, я в обиде.
Алиса Варфоломеевна.
* * *
Алисочка, родная, как я тебя понимаю! Левочка пошел, как говорится, не сродни, а в родню! Копия Петра Самсоновича! Сколько кровушки он у меня повыпил, сукин кот! Сколько, курвец, благородных порывов загубил! Твердил без устали: «Из Москвы, из Москвы!» Привез нас с Левушкой, ядрена мышь, на выселки, в глушь проклятую! Похабник был Петруша первостатейный! Все девок осматривал, пел в клубе и пользовал как доктор весь околоток, муде его на бороде…
Так что прости, Алисочка, сыночку моего неразумного, если можешь, а также непременно проследи, чтобы с несветскими дамами Левочка не тусовался! Вижу, одолели совсем касатика моего тургеневские стервы! А черта с этим, как бишь его, пизданимом «Хармс» — в макулатуру, и дело с концом!
Пока, Варфоломевна, не зуди; вот увидишь, всё, бля буду, образуется!
Мама Леня.
ВОГУЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ
Вертолет летел над болотной речкой, извивавшейся как гусиные кишки, по направлению к Северной Сосьве. По берегам желтели островки берез; мелькали пепельно-серыми пятнами пожарища; простирались бескрайние болота, над которыми вальсировали мириады черных бабочек. Они кружили над карликовыми соснами-уродцами, согбенными, словно старики-шаманы, исполняя какой-то церемониальный танец. Вертолет мчался над караванами коров, гулявших «нос в хвост» окрест русских деревень по узким таежным тропам. На земле оставались «пионерские лагеря в тайге» — зоны или островки правопорядка, соединенные с «большой землей» узкоколейками и веткой Екатеринбург — Приобье. По ней зеленый поезд-«бичевоз» регулярно доставлял в эту глушь отборный человеческий материал. Через месяц-полтора по Оби пойдет шуга. Зимой в этих краях замерзают даже ангелы-хранители, а сейчас стояла замечательная пора — ранняя осень, рай без гнуса.
Недавно экипаж Ми-8, ведомый командиром Алексеем Никаноровым, занимался переброской отряда карателей тайги из числа охотников-иностранцев. В плане ознакомления с местными традициями и обычаями собирали кедровый орех «на лету». Процедура эта проста, как все противозаконное… Машина зависает над кедрачом и, раскачиваясь из стороны в сторону, воздушным потоком вытрясает, как душу, шишки из верхушек кедров. Главное в таких операциях — приземлиться недалече, быстро собрать добычу и вовремя улететь, пока, как говорят в народе, «ветер без сучков».
На этот раз Никаноров перевозил немного «шизанутый» коллектив этнологов-любителей, состоявший из трех сорокалетних москвичей — искателей приключений. Они направлялись в деревню Узкий Бор, откуда и намеревались начать экспедицию. Мужики готовились к научной работе, налегая на разные интересные напитки, и временами пытались раскачать вертолет. Задумали же они неслыханное — в рекордно короткий срок изучить мировоззрение народа манси и, более того, добраться до его гносеологических корней, раскопав могилы предков.
«Видный этноархеолог» — великан по прозвищу «рыжий лось», возглавлявший группу, пообещал командиру щедро отблагодарить весь экипаж, если не будет болтать лишнее об экспедиции. Да и сам Никаноров не особенно-то верил гробокопателям, предполагал, что столичных жителей влечет в глухомань все та же легенда о «золотой бабе» и «медном гусе», несметных сокровищах Югры, а также понятное желание напиться всласть и покутить на природе.
Приземлились недалеко от деревни на дно «умершей» к осени заводи. С «гнилого угла», с запада, ветер нагнал тучи, заморосил мерзкий осенний дождик. Метров за пятьдесят до поселка путников встретил долгожданный «мансийский дух» — резкий запах, напоминающий смесь ароматов «Пуазон плюс» и «Воздух минус». Рядом с избами вонь стала невыносимой. Однако человек ко всему привыкает, даже к дерьмовой жизни в собственном дерьме. Экспедицию встречала на краю деревни из пяти домов и семи амбаров на курьих ножках делегация аборигенов и собак. Впереди шел местный голова, бригадир и ветеринар Николай, которого за глаза величали «скотина-фершел». Это прозвище прилепилось к нему по причине крутого нрава, если не сказать, деспотизма в управлении людским и оленьим стадом, что, однако, благоприятно сказывалось на благосостоянии жителей поселка.
Никаноров по таежному обычаю тепло поприветствовал старого знакомого и передал ему подарки для всей родни. Привез он два литра спирта, папиросы, керосин и особо ценимый поселянами «индийский» чай, по запаху и вкусу напоминавший бывшие в употреблении, хорошенько распаренные березовые веники.
Зашли в дом Николая — хибару в центре деревни с прилепленной сбоку пародией на огород. Живой огонь трепетал в очаге-чувале; стены единственной комнаты, оформленной в «неомансийском» стиле, украшали черепа лосей, оленьи рога, лисьи хвосты, календарь с кошечками и фотография Жукова… Она, наверное, напоминала хозяину о национальном «культурном герое» по имени Мир-Сусне-Хум, который, совсем как маршал, любил «прокатиться с ветерком» на белом коне. Были здесь и следы «колонизации» — лавки, фаянсовая посуда, граненые стаканы, застекленное окно и книги на самодельной полке. Медвежья шкура, как икона, висела на закопченной стене в мужской половине дома.
Хранительница очага круглолицая матрона Марьяна полулежала в импозантной позе, тщательно расчесывая гребнем длинные пряди волос, прямо над лавкой и колотила по ней обухом топора. Она давила вшей да блох этим народным и экологически чистым способом. Впрочем, вероятно, многим интимным насекомым удавалось скрыться и избежать заслуженной кары.
Отложив дела, хозяйка-чумработница собрала на стол. Гости, возбужденно базаря о красотах тайги, уселись на почетные места, закусили котлетами из лосятины, зажаренными в чесноке, сосьвинской селедкой, пустили спирт по кругу, выпили клюквенного чаю. Приезжие угощали хозяев датской ветчиной, салями, апельсинами и «ромом с колой».
К концу пиршества скуластая рябая физиономия Федора Анямова появилась в дверях. Федя был местным охотником и, вероятно по совместительству, юродивым, в душе которого, хранился честный образ тайги. Он стремительно передвигался в пространстве, резво семеня кривыми ногами.
— Лёсика пиехала! Лёсика пиехала! — заверещал он радостно и бросился обниматься с Алексеем. Потом с особым чувством, близким к пиетету, заглядывая в глаза пилота, спросил: — Верталетка Нарьян-Мара полетит? Полетит Нарьян-Мара?
— Нет, не полетит «верталетка Нарьян-Мара»! Нет нам никакого резона туда переться, Федя, — вспылил Алексей, отвечая на регулярный вопрос. У Федора в Нарьян-Маре жили какие-то дальние родственники, которых он несколько лет кряду порывался посетить. Однако скорее всего ему просто не сиделось на месте; его таежная душа жаждала экзотики. — Отдохнем немного и вернемся на базу в Урай. Через неделю в Соликамск вылетаем, повезем археологов с добычей! Ты лучше, дорогой, выпей, вот, чайку с ромом, закури, — добавил Алексей примирительно.
Дождь выдохся. После обильного ужина Никаноров намотал на шею метра четыре заранее припасенной бумаги и отправился в сторонку за амбары, посидеть, подумать о жизни… В последнее время он размышлял о том, какая теория мироздания более достоверна — первородного «большого взрыва» или удачной рыбалки гагары, выловившей землю со дна «первичного океана». Не прошло и нескольких минут, как Федор с мансийской прямотой присел в мох рядом и тоже задумался. Он посопел, дождался из вежливости подходящего момента и вкрадчиво спросил: «Верталетка Салехарда полетит?» Никаноров ничего не ответил, только многозначительно вздохнул. Вернулись в дом.
Мужики продолжали кутить. Они представились хозяину «друзьями», напоили его и принялись «окучивать» на предмет тайников и сокровищ. Николай любил метко выражаться и в этих целях использовал общепонятный язык: грубо обтесанные, «сучковатые» слова-жерди, позаимствованные у соседей-зэков. Он так и заявил «ученым»: «Таких друзей — за хрен да в музей!» Несмотря на уговоры и посулы, бригадир отказался-таки идти проводником с чужаками в шаманские места. Сообщил братве, что нельзя, мол, «выдрючиваться» и беспокоить предков, а то они «уши к заду пришьют». На этот довод «рыжий лось» брякнул: «Вот ведь, хмырь болотный!»
Вогулы ненавидят остяков, остяки ненцев и вогулов, а Федя любил всех таежных жителей — белок, медведей, духов, остяков, зэков, археологов, а к вертолетчикам-небожителям вообще относился с нескрываемым почтением. Он в беседу не встревал и не мог уразуметь «научного шовинизма» Николая, любившего посмеяться над Федоркой-дурачком и посетовать о былом величии мансийской нации. Кроме русских бригадир поносил всех соседей — «сукиных детей», которые-де тоже повинны в гневе матушки-земли и мансийском декадансе.
Деревня эта стояла в местах, куда не доходили христианские пророки, а вот советские добрались и устроили колхозный рай… Как-то по путям пророков забрел в эти места конь. Конь как конь — гнедой и с яйцами. Быстро же он, однако, сбрендил на вогульской-то воле! Конь-огонь в момент «полинял» и совсем не походил на символ славы предков манси, кочевавших по Великой степи: слонялся по деревне без дела, пугал мансийскую молодежь, норовил лягнуть надоедливых собак, в исступлении гонял оленей и в конце концов был безжалостно усыплен «скотиной-фершелом».
Вертолетчики улетели с грузом подаренной поселянами рыбы и клюквы, гости покутили порядком и заночевали в доме. На заре испарения их пьяных, но довольных душ расплывались по холодной комнате. Мужики встали, позавтракали и втроем отправились к священным местам Холочи — «горы мертвых» — в «пустыню тайги», но искали они не человека, а его золотых идолов. По ржавой болотной воде-жиже, через сосновые перелески и боры, напоминавшие изнутри готические соборы в тихий и светлый день, пришельцы медленно продвигались на северо-запад. «Заверованное» чернолесье то поглощало старателей от археологии, то отпускало на волю.
Федор спозаранку проверил ловушки, помаялся часа три, покрутился в деревне и отправился вдогонку за гробокопателями. Углубился в тайгу, пробежал километров пять «комариной рысцой», отдышался, прислушался. Где-то недалече толковали о чем-то глухари, скрипели шайтанские деревья… Он хорошо знал эти места, разгуливал по зыбким мхам болот «аки по суху» и без особого труда настиг горе-археологов. Охотник пристроился в арьергард к научным силам и решил за ними последить.
На второй день к вечеру старатели дошли до места, разбили лагерь и приготовили инвентарь — топоры, лопаты, ломы, щеточки, чтобы стряхивать с золота пыль веков. Потом разожгли большой костер, устроили пиршество, палили из карабина по пустым бутылкам и прокутили полночи. Все это время Федя-следопыт был начеку, преследовал путников на безопасном расстоянии. Он ставил шалаш в укромном месте, исподтишка курил «беломор» и глубокомысленно пил чай.
На следующий день мужики проснулись только к обеду и принялись шуровать по окрестной тайге. Ходили по запретным «шаманским» тропам, подкапывали «заверованные» камни, шманали по культовым амбарчикам и находили всякую чепуху: деревянных и тряпичных божков, разбирали невысокие, в пару бревен, срубы над общими захоронениями. Не обнаружив ничего ценного, они чертыхались, наспех зарывали могилы и шли дальше, для храбрости запивая ром водкой. Так трудились в поте лица целый день, но золота не нашли. На вторые сутки по глупости или незнанию раскопали несколько свежих могил, в которых и не могло быть ничего, кроме костей, истлевшей меховой одежды и ржавых ружейных стволов. Люди-то умерли в раю!
Федор, наверное, так бы и наблюдал со стороны за «археологическим» процессом, порываясь время от времени помочь старателям разобрать какой-нибудь норовистый сруб, но дело дошло до последнего приюта его отца. Однако и тут Федя не спешил, поскольку в его дурной голове созрел гениальный план. Он подождал, пока мужики раскопают могилу основательно, а потом перешел к решительным действиям. Подкрался сзади, выскочил из укрытия со зверским выражением на лице-маске, направил двустволку на ковырявшихся в могиле субъектов и прокричал:
— Стой, кто такой?
— Дед, ты брось это… Ошалел что ли? — пролепетал один из мужиков.
— Кто такой?
— Археологи мы, из Москвы приехали…
— Зачем отец откопал? — еще строже вопрошал охотник.
— Успокойся, дорогой, извини, не знали! В музей его хотим сдать… в Москву, — нашелся старший рыжебородый хулиган и потихоньку вылез из ямы. — Ты брось пушку-то, дед!
— Хорошо, пусть Москва едет, отец всегда хотел Москва смотреть! — ответил Федор, улыбаясь, и опустил ружье.
При этих словах любящего сына небеса прослезились — пошел дождь. Охотник по-приятельски подбежал к мужикам, помог перепуганным старателям, которые, к счастью, забыли о карабине, собрать останки отца в мешок и закопать для приличия могилу. Тут только, окончательно протрезвев, они узнали в потрепанном жизнью Тарзане старого знакомца. Продолжать поиски сокровищ как-то сразу расхотелось. Утром свернули лагерь, прихватили с собой пару божков-сувениров и нефритовых безделушек, пошли «взад пятки», домой в деревню. Анямов ликовал, по дороге все норовил накормить спутников местными деликатесами и бережно, никому не доверяя, нес белые кости пращура.
С опытным проводником добрались до Узкого Бора за день с небольшим, так что вертолетчиков пришлось немного подождать. Своим Федор ничего не сказал, а на все расспросы Николая твердил: «Хороший человек археолог, хороший!» Только во время «разбора полетов» в присутствии Никанорова он с трагической ноткой в голосе, безапелляционно заявил, прижимая целлофановый пакет к груди: «Лёсика! Верталетка отец повезу! Соликамска повезу!» Бригадир выругался, родня ахнула, мужики покривились, а Алексей рассмеялся и согласился доставить ценный груз по назначению: «Хорошо, черт с тобой, собирайся! Забросим тебя в деревню на обратном пути!»
Провожать гостей следует до самого вертолета, иначе они удачу увезут. Николай и домочадцы недобро смотрели на отщепенца Федора, который, не скрывая восторга, семенил впереди всех к заветной цели.
Через день в Узкий Бор нагрянули спасатели. Вертолет с «археологами» упал в отрогах Северного Урала. Помощь пришла с опозданием, да и не могла она поспеть вовремя. Экипаж, пассажиры и археологические находки сгорели…
Первые снежинки как свидетели святости снега и вечного изменения мира закружили над Югрой, ее зыбкими болотами, размытыми дорогами, забытыми лицами и судьбами. Тайга глухо стонала, вздыхала и охала, ежилась от нутряного страха, как будто страдала от кошмарных видений, в которых зловещие маски смерти выглядывали из тьмы.
Москва, Женева, 2005 год
Примечания
1
Завтракайте без меня. Ушел в горы. Дверь можно не запирать (англ.).
(обратно)2
Дуду умер (франц.).
(обратно)3
Massacre — бойня, резня (франц.).
(обратно)4
Как дела, красавица? (сербск.).
(обратно)5
Откуда ты? (сербск.).
(обратно)6
Не хочу (сербск.).
(обратно)7
Маленькая блондинка спала на моем плече (сербск.).
(обратно)8
Tombe la neige — impossible manege — Падает снег — невозможный облом («авторский перевод» с франц.).
(обратно)9
Почему (сербск.).
(обратно)10
Маршрут в горах.
(обратно)11
Украшения, которые не покупают (франц.).
(обратно)12
Abuser — злоупотреблять (франц.).
(обратно)13
Быть, быть или не быть, быть или иметь, иметь или не иметь, иметь, не быть (англ.).
(обратно)14
Спокойствие, безопасность (арабск.).
(обратно)
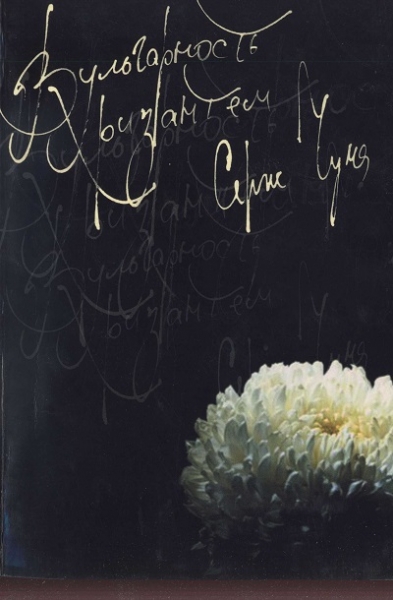
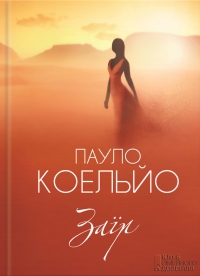






![Жар кахання [Апавяданні пра жанчын]](https://www.4italka.su/images/articles/510096/primary-medium.jpg)
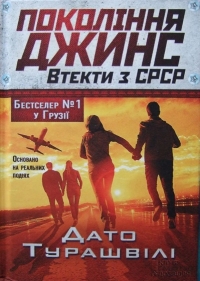

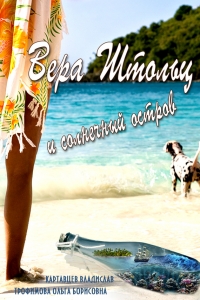
Комментарии к книге «Вульгарность хризантем», Серж Чума
Всего 0 комментариев