А кто не прочитает это эссе, тому или той будет непросто в жизни, поскольку их Непростые обойдут своими явными сюжетами, а может, даже отключат звук и свет.
Ярослав Довган
Шестьдесят восемь случайных первых фраз1. Осенью 1951 года было бы неудивительно двинуться на запад – тогда даже восток начал постепенно перемещаться в этом направлении. Однако Себастьян с Анной в ноябре пятьдесят первого пошли из Мокрой на восток, которого все же тогда было больше. Точнее – на восточный юг или же юго-восточно.
2. Это путешествие откладывалось столько лет не из-за войны – война мало что могла изменить в их жизни. Себастьян сам решился нарушить традицию семьи, согласно которой детям показывались места, связанные с историей рода, в пятнадцатилетнем возрасте. Потому что тогда, когда Анне исполнилось пятнадцать, Себастьян понял, что все повторяется, и Анна стала для него единственно возможной женщиной во всем мире. Что он не только может быть лишь около нее, но и не может уже быть без нее.
Тем временем в Яливце [1] – том родовом гнезде, куда следовало повести Анну, – ее ожидали Непростые. И Себастьян знал, что они очень легко убедят дочку остаться с ними.
В конце концов, то, что Анна тоже станет Непростой, было предусмотрено ими еще тогда, когда она рождалась.
3. В апреле пятьдесят первого Анна почувствовала, что папа Себастьян – ее единственный возможный муж, и они сблизились.
Той весной многие бродили неслыханными маршрутами и разносили невероятные слухи. Так Себастьян узнал, что Непр о стые исчезли из Яливца. С тех пор про них никто ничего не слышал.
Целое лето Себастьян и Анна беспробудно любились, и мимо них прошло несколько разных армий. Ничто не мешало идти ни на восток, ни на юг, ни на юго-запад. Когда стало по-настоящему холодно и дороги плотнее втиснулись в свои колеи, они, наконец, вышли из Мокрой и через несколько дней могли бы быть в Яливце.
Путешествие откладывалось три года. Но Себастьян ничего не боялся – у него снова была настоящая жена. Той же породы, что всегда.
4. Он не мог себе представить, как сможет показать дочери все места в горах от Мокрой до Яливца понастоящему. Вместо четырех дней надобно, чтобы путешествие длилось четыре сезона. Только так, а еще днем, ночью, утром и вечером Анна могла бы увидеть, как одновременно по-разному выглядит эта дорога. Он смотрел на карту, читал названия вслух и становился счастлив уже от этого.
Его даже не расстраивало, что карта ничего не говорила Анне.
По правде говоря, немного беспокоили деревья, которых он не видел столько лет. Их рост – самая частая причина того, что места неожиданно становятся неузнаваемыми. И самое важное доказательство необходимости никогда не оставлять близкие деревья без надзора.
Что до самого перехода, то ни одно путешествие и так не знает, что с ним может случиться, не может знать своих истинных причин и последствий.
5. Когда-то Франц сказал Себастьяну, что на свете есть вещи, гораздо более важные, чем то, что называется судьбой. Франц имел в виду прежде всего место. Есть оно – будет история (если же существует история, значит, должно быть соответствующее место). Найти место – начать историю. Придумать место – найти сюжет. А сюжеты, в конце концов, тоже важнее, чем судьбы. Есть места, где невозможно уже ничего рассказывать, а иногда стоит заговорить одними названиями в правильной последовательности, чтобы навсегда овладеть интереснейшей историей, которая будет держать сильнее, чем биография. Топонимика способна ввести в соблазн, однако ею можно вполне обойтись.
6. И с Себастьяном случилось нечто подобное. Он нашел Яливец, выдуманный Францем. Его увлекла лингвистика. Топонимика захватила его, а не просто он увлекся завораживающей красотой имен.
Плэска, Опрэса, Тэмпа, Апэска, Пидпула, Себастьян. Шэса, Шэшул, Мэнчул, Билын, Думэнь, Пэтрос, Себастьян.
Когда еще не существовало никаких гор, названия были уже заготовлены. Так же, как и с его женами – их еще не было на свете, когда его кровь начала смешиваться с той, которая должна была стать их кровью.
С той поры ему только и оставалось, что придерживаться этой ограниченной топонимики и этой укороченной генетики.
7. Франциск встретил Себастьяна на скале за Яливцом. Себастьян возвращался из Африки и постреливал в птиц. Снайперская винтовка не давала ощутить убийство. Через оптику все видится, словно в кино. Выстрел не то чтобы обрывает фильм, а вносит в сценарий какую-то новую сцену. Таким образом он настрелял довольно много разных мелких пташек, летевших над Яливцом как раз в Африку.
Скоро должна была начаться зима. Она должна что-то изменить. Зима дает цель – это ее основное качество. Она закрывает открытость лета, и уже это должно во что-то вылиться.
Франциск искал нечто, из чего можно было бы сделать следующий мультипликационный фильм. И вдруг – перед зимой, скала над городом, в середине города, стая птиц над горою, которые летят в Африку, Малую Азию, туда, где поля с шафраном, алоэ и гибискусом меж гигантскими кустами шиповника почти перед длинным Нилом, множество убитых в глаз разноцветных птиц, сложенных одна на одну, из-за чего разные цвета еще более разнятся, в каждом правом глазу – отблеск межконтинентального маршрута, в каждом левом – багровое пятно, и ни одно перышко не повреждено, и легонький ветерок набрасывает пух одного невесомого тельца на призрачный пух другого, и глаз стрелка в обратном преломлении оптики. И стрелок. Красный белый африканец.
8. У Себастьяна замерзли руки. Он отморозил их в ночной Сахаре. С тех пор руки не терпели рукавиц. Себастьян сказал Францу – а что ж должны делать пианисты, когда так холодает?
Они смотрели во все стороны, и везде было хорошо. Потому что была осень, и осень перетекала в зиму. Франц называл разные горы, даже не показывая – где какая. Потом он пригласил Себастьяна к себе. У него давно не было гостей – давно не встречал на скалах кого-нибудь незнакомого. Наверное, тогда они впервые пили кофе с грейпфрутовым соком. Когда Анна принесла им кувшин на застекленную галерею, где медная печка топилась обрезками виноградных лоз, Себастьян попросил, чтобы она немного задержалась и показала – что видно через это окно. Анна перечислила – Плэску, Опрэсу, Тэмпу, Пидпулу, Шэсу, Шэшул, Мэнчул, Билын, Думэнь, Пэтрос.
Была поздняя осень 1913 года. Франц сказал, что есть вещи, значительно более важные, чем то, что зовется судьбой. И предложил Себастьяну попробовать пожить в Яливце. Темнело, и Анна перед тем, как принести другой кувшин – почти что один сок, кофе лишь несколько капель, – пошла постелить ему постель, так как еще не сумела бы сделать это на ощупь.
Хронологически1. Себастьян остался в Яливце осенью 1913 года. Тогда ему было двадцать лет. Он родился с другой стороны Карпат – на Боржаве – в 1893 году. В 1909 целый месяц жил с родителями в Триесте, а через год поехал воевать в Африку. Домой возвращался через Черное море и Констанцу, дальше Роднянские горы, Грынява и Поп Иван. Прошел Чорногору, прошел под Говэрлой и Пэтросом. Была поздняя осень 1913.
2. Яливец появился за двадцать пять лет перед этим.
Этот город выдумал Франциск, которого чаще называли Францем. Двадцать лет Франциск жил в городах – Львове, Станиславе, Выжнице, Мукачеве. Он учился рисовать только у одного графика (тот работал когда-то с Брэмом, а потом делал и подделывал печати) и должен был, и хотел, и мог переезжать с ним с места на место. Как-то ему показали фотоаппарат, и он перестал рисовать. Однако немного позже сразу за Моршином умер иллюстратор, который сопровождал краковского профессора ботаники – они ехали в Чорногору описывать растения Гуцульщины. В Станиславе профессор заметил Франца, и через несколько дней тот увидел место, где почувствовал себя на своем месте – родственно и счастливо. Через год Франциск вернулся туда и начал строить городок.
А еще через пять лет Яливец был самым фантастическим и достаточно модным курортом Центральной Европы.
3. Анна, из-за которой Себастьян остался в Яливце, сначала звалась Стефанией. Настоящей Анной была ее мама – жена Франциска. Она лечилась от страха высоты, потому что была альпинисткой. Приехала на курорт вместе со своим приятелем – спелеологом. Они делали одно и то же лучше всех в мире. Только она лезла вверх, а он – вниз, но обоим больше всего не хватало пространства. Когда Анна забеременела от Франциска, то решила родить ребенка тут, в Яливце. А когда родилась Стефания, то Анна уже никуда не хотела возвращаться.
Она погибла на дуэли, на которую была вызвана своим мужем. Франциск сразу переименовал Стефанию в Анну. Он сам воспитывал дочь до того самого дня, когда пригласил в их дом Себастьяна, который возвращался из Африки на Боржаву. Тогда Франциск увидел, что теперь она либо подчинится другому мужчине, либо никому.
Письма к Бэде и от него1. Единственным человеком, который знал их всех на протяжении нескольких десятилетий, был старый Бэда. Поговаривали, что он из Непростых. Во всяком случае, Бэда знался и с ними. Когда Франц научил Анну читать и писать – долгое время он не хотел, чтобы она умела, так как понимал, что Анна будет не писать, а записывать, и не читать, а перечитывать, а это казалось Францу ненужным – она захотела узнать побольше про начало Яливца, про маму. Такое мог знать только старый Бэда, и она писала ему письма с вопросами. Ответы приходили либо очень скоро, либо шли так долго, что казалось, будто в этот раз был указан неправильный адрес (где не было вообще никого, кто мог бы ответить, что Бэды там не может быть никогда).
Как раз тогда Бэда начал жить в броневике, переезжая с места на место, однако не пересекая границу определенного круга, центром которого был Яливец. Когда-то Бэда рассказал одну историю.
2. Когда он первый год прожил в своем броневике, то думал, что не сможет забыть ни одной его мельчайшей детали до конца жизни. Потом броневик наехал на мину, забытую итальянцами, которые строили туннель на Яблуницком перевале. Бэда едва не умер. Его подобрали какие-то гуцулы. Все его тело было изранено, и не так, как ножом, саблей или топором, а так, словно пооткрывались щели в земле. Его запихнули в бочку с медом и поили козьим молоком, сброженным в перегретом вине. А броневик взялись ремонтировать цыгане-скрипачи. Через девять месяцев Бэда вылез из меда. Броневик стоял в саду, и дети, забравшись на него, стряхивали с дерева осенние яблоки. Кажется, снежный кальвин.
Так вот, Бэда думал, что запомнил свой воз навсегда. Он вскарабкался, быстро слабея, по лесенке к люку и понял, что не помнит, как лазил по этой лесенке девять месяцев тому. Зажмурил глаза и не мог себе представить, где что есть там, где все было таким знакомым. Успокаивал себя тем, что стала другой кожа. Или тем, что во время ремонта скрипачи отбросили какие-то детали. И не смог себя успокоить. Так писал старый Бэда.
Анна слала ему письма с вопросами про свою семью. Он писал ей, отвечая на вопросы, и всегда дописывал еще что-нибудь о себе. Хотя она этого не просила – но читала с интересом.
3. Некоторые письма Анны выглядели примерно так:
…я не прошу, чтобы ты рассказывал все…
…я тебе тоже хочу много всего рассказать про Яливец, Франциска, маму, Непр о стых. Ты же единственный на весь мир, кто знал их всех…
…я сама не знаю – за что мне это, но я чувствую их без голосов. Я ощущаю свое тело, я начинаю думать, как оно. Вдруг понимаю, что я не сама по себе. Я завишу от них всех, потому что ими тоже думает мое тело…
…мне не плохо от такой зависимости, но хочу знать, что во мне чье: что Францево, что мамино, что Непр о стых, что от Яливца, а что мое…
…сомнение – это что-то большее, чем ошибка… ...скажи еще что-нибудь…
…рассказывай дальше…
…как раньше выглядел Яливец…
… я так говорю: я так тебя очень люблю, есть и есть…
…я знаю, что мама появилась уже тогда, когда Яливец стал модным. Таких курортов больше в мире не было…
…про всех наших предыдущих папа всегда говорил, начиная со слов «может быть»…
4. Старый Бэда писал в ответ (Если бы я помнил все, что они говорили, что мы говорили. Даже без того, что рассказывал я. И если бы они рассказывали тогда мне, что они говорили без меня. Но ведь они тоже мало что помнили, кроме нескольких фраз. Если же ты не помнишь, как говорил, как тебе говорили, то никого и нет. Ты не услышишь голосов. Надо слышать голос. Голос живой, и голос оживляет. Голос сильнее, чем образ. Франц говорил мне, что есть вещи, значительно более важные, чем судьба. Скажем, интонации, синтаксис. Если хочешь остаться самим собой – никогда не отбрасывай собственных интонаций. Он всю войну говорил тем самым голосом, что и всегда. Я не могу говорить с тобой второй раз только про это. Я не могу рассказать тебе все то, что ты хочешь услышать. Я могу говорить. И тогда ты можешь услышать то, что хочешь. А наоборот – нет. Но и ты всего не запомнишь. Сказанное уходит. Нам хорошо сейчас потому, что нам хорошо говорится. Мне нравится слышать себя к тебе. У вас в роду никто не признавал общепризнанного синтаксиса. Знаешь, эти ваши семейные фразы – есть и есть, надо и надо, безответственная последовательность плотная, я так тебя очень люблю… Сомнение – это больше, чем ошибка, или меньше. Но дольше. Говорят, что у твоего деда – маминого отца, он нездешний, откуда-то из Шариша – был маленький сад. Он мечтал там пожить на старости лет. Лежать на своих лежанках из ракушек улиток, курить опиум и толкать босой ногою стеклянные шары. Он огородил небольшой клочок земли, засеял его отборной мелкой однородной травой. Посредине вкопал страшенно высокий столб и пустил по нему плющ, фасоль и дикий виноград. Рядом выкопал яму и засыпал ее всю ракушками. Говорили, что что-то такое он когда-то увидел за высокой оградой на Градчанах, когда заблудился там и залез на черешню посмотреть, куда дальше идти. На таком лежаке он лежал, когда курил. Голову клал на большой плоский камень, обросший лишайниками. Он ходил в Белые Татры, собирал какие-то споры и заражал – или лучше сказать, оплодотворял – ими камень. Еще он сам выдувал стеклянные шары, внутри которых были живые цикламены. Шары можно было толкать, они катились, цикламены переворачивались и через какое-то время начинали выкручиваться, стремясь корнями к земле, а верхом – к солнцу. Сад уничтожили, когда твоя мама была маленькой, и дед бежал с нею и всеми детьми в горы. Франц тоже не местный. Никто не скажет тебе, откуда он пришел, откуда вы родом. Он захотел жить в Яливце, потому что надеялся, что там не будет никаких тяжких впечатлений, не случится никаких историй. Он хотел, чтобы вокруг не происходило ничего, за чем не поспеваешь. Ничего, что нужно было бы запоминать. Он был еще очень молод. Не знал, что так не бывает – это первое – жизнь бурлит везде, пусть по-мелкому, однообразно, но неудержимо, неповторимо и бесконечно. А второе – ничего и так не надо запоминать, удерживать насильно. То, что может остаться, приходит навстречу и прорастает. Такая себе ботаническая география – полнота радости прорастания. Я знаю, что первая Анна появилась уже тогда, когда Яливец стал модным. Отовсюду съезжались пациенты, чтобы пить джин. Городок выглядел уже так, как сейчас, только не было твоих придумок. Были построены маленькие отели, пансионаты с барами. Там можно было пить одному в номере, на пару, в компании, три раза в день, натощак и на ночь, или всю ночь, а то могли разбудить в какое-то время ночью и подать порцию в постель. Можно было остаться спать, где пил, или выпивать с врачом либо психотерапевтом. Я любил напиваться на качелях. Анна очень хорошо лазила по скалам. Она чувствовала вес каждого фрагмента собственной поверхности и умела расположить ее на вертикальной стене. Там ничего не надо видеть масштабно. И главное – ты всегда со шнурком. Она думала, что ей все равно, а на самом деле начала бояться. Начала приезжать в Яливец после того, как сильно разбилась. Ибо снова могла хорошо лазить, но уже боялась. Не могла как следует это пояснить, потому что почти не умела говорить, хоть и думала каждым миллиметром тела. Франц тогда был вдвое больше, чем сейчас – можешь себе представить, что они чувствовали. Франц никогда никому этого не рассказывал. Но я знаю, что лучше всего им было тогда, когда Анна забеременела. И это – без «может быть». Почему-то принято считать, что сюжет кончается смертью. На самом же деле сюжеты заканчиваются как раз тогда, когда кто-то рождается. Не обижайся, но, когда ты родилась, закончилась история Франца и твоей мамы…).
Анне очень нравилось, что писал Бэда на обертках, которые еще пахли разными фруктовыми чаями.
Генетически1. Франциск считал себя человеком поверхностным. Любил поверхности. Чувствовал себя на них уверенно. Не знал, есть ли смысл влезать глубже, чем видит глаз. Хотя всегда прислушивался к тому, что звучало за любыми спорами. И принюхивался к испарениям, исходившим из пор. Присматривался к каждому движению, но, глядя на кого-нибудь, не пытался представить себе – что кто думает. Не мог проанализировать сущность, потому что переполненность внешними деталями давала достаточно ответов. Он не раз замечал, что полностью удовлетворяется теми объяснениями разных явлений, которые позволяют себя увидеть, не требуя доступа к знанию о глубинных связях между вещами. Чаще всего он пользовался простейшей фигурою мышления – аналогией. Преимущественно думал про то, что на что похоже. Точнее – что напоминает что. Тут он перемешивал формы со вкусами, звуки с запахами, черты с прикосновениями, ощущения внутренних органов с теплом и холодом.
2. Но один философский вопрос интересовал его по-настоящему.
Франц раздумывал про редукцию. Его завораживало, как огромная человечья жизнь, бесконечность наполненных бесконечностью секунд, постепенно может редуцироваться до нескольких слов, которыми, например, сказано все про этого человека в энциклопедии (из всех книг Франц признавал только энциклопедический словарь Лярусса, и его библиотека состояла из нескольких десятков доступных ляруссовских переизданий).
Одним из его развлечений было постоянное придумывание статей из нескольких слов или изречений в стиле Лярусса – про всех, кого он знал или встречал. Статьи о себе он даже записывал. За эти годы их набралось несколько сотен. И хотя в каждой находилось что-то, отличающее ее от других, все же его – пусть еще не законченная – жизнь вмещалась в сколько-то десятков хорошо организованных слов. Это воодушевляло Франца и, не переставая удивлять, давало надежду на то, что жить так, как он – вполне хорошо.
3. Еще одним доказательством его личной поверхностности было то, что Франциск ничего не знал про свой род. Даже про отца и маму знал только виденное в детстве. Они почему-то ни разу не говорили с ним о прошлом, а он не додумался хоть о чем-то спросить. Все детство знай себе рисовал в одиночестве все, на что смотрел. Родители умерли без него, у него тогда уже был свой учитель в другом городе. В конце концов как-то Франциск понял, что ни разу, даже в первые годы жизни, не нарисовал ни маму, ни отца. Редукция их была почти абсолютной.
Может, именно страх продолжения такой пустоты заставил его рассказывать дочке как можно больше всякого-разного о себе. Даже про сотворение мира он старался поведать так, чтобы Анна всегда помнила: про то или другое ей впервые рассказал папа.
Хотя про ее маму – его Анну – он тоже знал только то, что пережил вместе с ней – чуть больше, чем два года. Но этого было достаточно, чтобы девочка знала про маму все, что следует.
А за всю свою жизнь – кроме последних нескольких месяцев – Анна и одного дня не прожила без отца. Даже после того, как стала женой Себастьяна.
4. В сентябре 1914 года она добровольно пошла в армию и после нескольких недель обучения попала на фронт в Восточной Галичине. Себастьян с Франциском остались одни в доме недалеко от главной улочки Яливца. С фронта не было никаких вестей. Лишь весной 1915 в город пришел курьер и передал Себастьяну (Францу отрубили голову за день до этого, и завтра должы были состояться похороны) младенца – дочку героической вольнонаемной Анны Яливцовской. Себастьян так и не узнал, когда точно родилось дитя и что делала беременная Анна в самых страшных битвах мировой войны. Но точно знал – это его ребенок. Назвал ее Анной, точнее – второй Анной (и уже после ее смерти он часто говорил про нее просто – вторая).
5. Вторая Анна все больше становилась похожа на первую. Действительно ли они обе были похожи на самую первую – это мог знать только старый Бэда. Что до Себастьяна, то он приучился ежедневно сравнивать себя с Франциском.
Он сам воспитывал свою Анну, не допуская к ней никаких женщин. В конце концов случилось так, что восемнадцатилетняя Анна самостоятельно выбрала себе мужа. Им был, конечно, Себастьян.
6. На сей раз не было такого, чего бы он не знал про беременность своей жены. В конце концов, только он и присутствовал при рождении их дочки и – одновременно – родной внучки. И Себастьян видел, как рождение стало концом истории. Потому что в начале следующей его самая родная вторая Анна умерла за минуту перед тем, как третья оказалась у него на руках.
Где-то в своих горьких глубинах Себастьян ощутил безумное скручивание и расправление подземных вод, замалевывание и стирание миров, превращение двадцати предыдущих лет в семя. Он подумал, что не нужно никаких Непростых, чтобы понять, что такое уже когда-то с ним было, а с новорожденной женщиной он доживет до подобного завершения. Что дело не в удивительной крови женщин этой семьи, а в его неудержимом стремлении влиться в нее. Что не они должны умирать молодыми, а он не имеет права видеть их больше, чем по одной.
7. Себастьян вышел на веранду. Непростые, наверное, пришли уже давно, но тихо сидели на лавках, дожидаясь, пока закончатся роды.
На ужин Себастьян настрелял чуть не сотню дроздов, которые только что объели все ягоды на молодой черной шелковице. Он испек их целыми – лишь ощипал перья и натер шафраном.
Две женшины – вижлунка [2] и гадeрница [3] – обмыли Анну и завернули ее в цветные покрывала.
Мужчины тем временем как-то покормили дитя и сказали, что им ничего не надо ей говорить – ибо сама Непр о стая. А еще сказали то же, что говорил Франц – что есть вещи гораздо более важные, чем судьба. Кажется, он имел в виду случайность.
После ужина Себастьян никак не мог уснуть. Он вспоминал – не говорила ли когда-нибудь Анна про место, где хотела бы быть похоронена, и как накормить завтра ребенка. Потом начал думать про опыты пастора Менделя с горохом и решил, что дитя будет счастливым. Попробовал представить себя через семнадцать лет – в 1951 году – и сразу заснул.
Первая старая фотография – единственная недатированная1. Невысокая ограда, сложенная из плоских каменных плит неправильной формы. Кроме того, плиты очень различаются размерами – есть тонкие и маленькие, как ладонь с подогнутыми пальцами, а встречаются такие длинные, что на них можно удобно лежать. Они же – самые большие, но именно среди них нет ни одной, отколотой ровно по всей длине. Однако больше всего все-таки средних. Если держать такую плиту перед собой, упершись подбородком в один край, то другой едва касался бы пояса. Ограда имеет удивительную особенность: хотя выглядит очень цельной, и кажется, что никогда не заканчивается – именно так могли бы выглядеть все обозначенные межи – незаделанные стыки между сложенными плашмя камнями вызывают желание или поменять все плиты местами, или сделать с каждой отдельно что-то другое.
2. Важно, что все плиты абсолютно чистые. На всей стене нигде не растет мох, нет ни одного маленького деревца или хоть стебелька. Если даже какая-нибудь листва и нападала на нее с нескольких буков (ограда достаточно широкая, а листва уже желтеет и кое-где обрывается сухим ветром, как это бывает в конце августа – это понятно даже по черно-белой фотографии), то ее кто-то старательно смел с нагретого послеобеденным солнцем камня.
Меж деревьями за оградой – тоже каменная, кубическая постройка.
Камни безукоризненно отшлифованы; кажется, что весь дом – монолит без единого окна. Рельеф на фронтоне имитирует четыре ящика, так что весь куб выглядит как огромный комод. Дом сделан так, словно верхний ящик немного выдвинут. На сравнительно маленькой металлической эмалированной табличке примитивным и низким шрифтом крупно написано YUNIPERUS [4] .
3. А перед оградой – фрагмент выложенной уже речными кругляшами дороги. Дорога начинается снизу посредине карточки, ведет в левый верхний угол, огибая высокую покосившуюся кедровую сосну, и исчезает снова ближе к середине – естественно, вверху. В конце дорога поднимается под таким углом, что служит одновременно и задником снимка. Все время ограда справа, а слева – узкий канал с пустыми бетонными берегами. Еще левее, уже за каналом, поместился лишь кусочек высокого дощатого настила, на котором стоят несколько пляжных лежаков и кадок со стройными яливцами.
4. Франциск в белом полотняном плаще с большими пуговицами стоит у самого канала, на берегу, что ближе к дороге. Через руку у него переброшена одежда. Она того же цвета, что и плащ, но можно разобрать, что там только рубашка и штаны. В другой руке – черные туфли. По его позе видно, что он только что отвернулся от воды. А там – голова человека, который плывет по течению канала.
5. Лицо различить невозможно, но Себастьян знает, что это он. Так бывало не раз: они прогуливались по городу – Себастьян спокойно плыл каналами, а Франц шел рядом вдоль берегов.
Каналы шли параллельно каждой улочке Яливца. Таким образом, вода из многих потоков, которые стекали по склонам над городом, собиралась в бассейн на его нижней границе. Себастьян мог часами плавать в горной воде, и они непрерывно разговаривали. Судя по по всему, фотография могла быть сделана в конце лета 1914 года. Ведь только один раз с ними ходил молодой инструктор по искусству выживания, которого пригласили в один пансионат – начиная с сентября, преподавать на платных курсах. Кроме него, тогда приехали еще учитель эсперанто и собственник гектографа. Но на прогулку по городу попросился только инструктор.
6. Сразу после купания и фотографирования инструктор предложил зайти куда-нибудь на джин, но Себастьяну с Францем хотелось легкого свежего вина из волосатого крыжовника, и они повели инструктора к Бэде, к броневику, что стоял меж двумя пятнами – островками жерепа [5] . Бэда все лето собирал разные ягоды, и теперь внутри броневика стояло несколько десятилитровых бутылей, в которых ферментировались разноцветные ягоды, нагретые металлическими стенами воза.
Они сперва попробовали понемногу каждого вина, а потом выпили все крыжовниковое. Инструктор страшно разболтался и начал проверять, как Себастьян умеет решать простенькие задачки по теории выживания. Оказалось, что тот почти ничего не знает и может очень легко погибнуть в наиневиннейшей ситуации. Хотя Себастьян представлял себе, что же такое выживание. Представлял так хорошо, что вовсе перестал о нем заботиться. И все же выживал.
7. В Африке у него было много возможностей погибнуть, но выжить было важнее, потому что интересно, что же такое Африка. В конце концов, он, глядя на любой клочок земли – даже писая поутру, – видел, что пребывает на другом континенте, на непознаной тверди. Так он убедился, что Африка существует. Ибо перед тем пересчет местностей, длинный ряд отличий в архитектуре, размещении звезд, строении черепов и обычаях стирались принципиальной неизменностью квадратиков грунта и травы на нем.
6. А о выживании он впервые узнал тогда, когда эта трава начала гореть вокруг него. Ветер, который преимущественно приносил лишь психические расстройства, теперь разгонял огонь в четыре стороны от того места, где он упал на высушенную землю. А потом, опередив огонь (может, он забежал как раз туда, откуда его разгонял на четыре стороны ветер), Себастьян попал в середину дождя, что собирался целый год и потом тек по затвердевшему красному грунту многими параллельными потоками, для которых человек значит так мало, как самая маленькая песчаная черепашка, и так много, как миллионы, мириады жаждущих потока семян, сброшенных отмершими ветвями за долгие месяцы без единой капли.
Инструктор был поражен необразованностью Себастьяна. Он не верил, что кто-то позволяет себе спокойно жить, совершенно не зная, как избежать ежедневной опасности. Тогда Себастьян решил, что больше не скажет про выживание ни единого слова.
7. Итак, единственный недатированный снимок был сделан 28 августа 1914 года. Надо будет надписать эту дату на обороте хотя бы твердым карандашом.
Если надпись даже и сотрется, – а написанное карандашом обязательно стирается, особенно тогда, когда уточнить хоть что-то уже некому, – то от твердого карандаша должен остаться рельефный след, вытисненный в распоротом острым графитом самом верхнем слое бумаги.
Физиологически1. Каждому мужчине нужен учитель.
Мужчинам вообще необходимо учиться.
Некоторые мужчины отличаются не только способностью учиться и обучаться, но и тем, что всегда знают и помнят – чему от кого они научились, даже случайно. И если у женщин память про учителей – это проявление доброжелательности, то у мужчин – самая необходимая составляющая всего выученного.
Самые талантливые мужчины не просто учатся всю жизнь (учиться – осознавать то, что происходит), но и очень скоро сами становятся чьими-то учителями, настаивая на осознании прожитого. Собственно, так творится непрерывность обучения, которое наряду с генеалогическим древом обеспечивает максимальную вероятность того, что в продолжение твоей жизни мир не мог бы измениться настолько, чтобы лишь из-за этого совершенно утратить охоту жить.
(Со временем и Франциск, и Себастьян увидели, как много некоторые женщины знают без учителей, как мудрые женщины становятся самыми мудрыми, когда научатся учиться, а когда самые мудрые помнят тех, от кого получали опыт, непроизвольно делая его своим, то превращаются во что-то такое, чего никогда не сможет постичь ни один мужчина. Хотя бы потому, что у таких женщин ничему, кроме того, что нечто такое может существовать, ни одному мужчине научиться не удается).
2. График, который учил Франца, учился у Брэма. Брэм учился у зверей.
Годами график пересказывал Францу разные истории про учителей Брэма. Годами Франц смотрел на зверей и рисовал их привычки. Позже именно эта адаптированная зоология стала основой воспитания его дочери. Понятно, что тому же он научил и Себастьяна, когда тот навсегда остался в Яливце и начал жить в его доме. Поэтому и Себастьяновы дети знали эти истории точно так же хорошо.
3. Второй Анной Непростые заинтересовались, собственно, потому, что она так умела понимать животных, что могла становиться такой же, как они, и жить с тем или иным зверем, не вызывая у него неспокойного ощущения инаковости. Что до Себастьяна, то ему нравилось, как каждое утро, для тонуса, Анна на несколько минут превращалась в кошку или лемура. А в их совместные ночи он вроде переспал и с такими мелкими существами, как пауки и короеды.
4. Франциск достаточно быстро заметил, что у него в каком-то смысле расширенная физиология. Ясно, что физиология каждого существа зависит от среды, но в случае Франца эта зависимость проявлялась чрезмерно. Он без сомнений чувствовал, как часть того, что должно было бы происходить в его теле, выносится далеко за пределы оболочки. И наоборот – чтобы состояться, иные внешние вещи должны были частично пользоваться его физиологическими механизмами.
Франц думал, что чем-то напоминает грибы, перепутанные с деревом, или пауков, чье питание происходит в теле убитой жертвы, или моллюсков с внешним костяком – раковиной, или рыб, выпущенная сперма которых свободно плавает в воде, пока не оплодотворит что-то.
Он видел, как тем или иным мыслям не хватает места в голове, и они размещаются на фрагментах пейзажа. Ибо достаточно было поглядеть на какую-нибудь полянку, чтобы прочитать осевшую там мысль. А для того, чтобы что-то вспомнить, должен был в воображении пройтись по знакомым местам, пересматривая и отбирая нужные вспоминания.
А занимаясь любовью с Анной, точно знал, как она выглядит внутри, потому что был уверен: он весь проходил ее внутренней дорогой.
5. Беспокоить собственная физиология перестала его сразу после того, как учитель рассказал ему, что Брэм говорил, будто у псов нюх в миллион раз лучше, чем у людей. Это поражало, воображение не могло даже приблизиться к этому. Но Франц, уменьшив порядок как минимум до десяти, проникся тем, как все, что происходит вовне, преувеличенно отображается в песьих головах, как сквозняки носятся по коридорам их мозга (это он тоже рассказал Себастьяну, и тот старался считаться с резкими запахами, чтобы псов не дразнило то, от чего невозможно убежать. Себастьян едва не плакал, когда – идя на снайперские позиции – должен был смазывать ботинки табачным раствором, чтобы псы, раз затянувшись тем запахом, утратили охоту и способность идти по его следу). (Франц так зауважал псов, что, поселившись в Яливце, завел себе нескольких очень разных. Из уважения же никогда не дрессировал их. Псы жили, рождались и умирали свободными. Кажется, глядя на жизнь прочих псов в окраинах Яливца, они были за это благодарны Францу. В конце концов, именно они были настоящей интеллигенцией Яливца.)
6. Правда, одного, может быть, самого интеллигентного, названного Лукачем в честь серба – лесовода, который научил Непр о стых выращивать деревья чуть посвободнее, как дикий виноград, а во время войны обсадил Яливец непроходимыми для войска зарослями, – Франц вынужден был убить собственными руками.
7. Лукача покусал бешеный горностай.
Ему было очень плохо, и вскоре должна была начаться агония. Как это и бывает при бешенстве, корчи могли усилиться от вида воды, от порыва ветра в лицо, от света, громкого разговора, от прикосновения к коже и поворота шеи.
Лукач лежал в оранжерее, в тени молодого бергамота. Как раз расцвели цветы пассифлоры со всеми своими крестами, молоточками, гвоздями и копьями, и Францу пришлось накрыть весь куст мокрым полотняным чехлом для пианино, чтобы терпкий запах страстей не дразнил Лукача (когда-то он так любил эту пахучесть, что во время цветения целыми днями спал под пассифлорой, не выходя из оранжереи).
Бергамот рос в самом конце длинного прохода. Франциск шел к нему с тесаком в руке через всю оранжерею, минуя экзоты один за другим. Пес едва повел глазами на лицо, руку, меч и с трудом поднял голову, подставляя горло. Но Франц сделал иначе – обнял Лукача и прижал его голову вниз, чтобы выступили позвонки, и удар начинался от спинного мозга, а не заканчивался им.
Несмотря на быстроту операции, Лукач мог успеть почуять запах собственной крови, а Франц ясно ощутил, как скрипят ткани, через которые прорывалось лезвие. Было впечатление, будто звуки доносятся во внутреннее ухо из собственной шеи (как чувствуешь иногда свой голос, когда кричишь под водопадом).
8. Убийство Лукача так впечатлило Франца, что потом ему не раз казалось, будто это Лукач смотрит на него очами своих детей, что жесты, позы и мимика Лукача иногда возникают из-под шерсти песьих внуков и правнуков. Будто Лукач оказался бессмертным.
Франц просто слишком мало прожил, чтобы увидеть, что это не совсем так. Ибо уже Себастьяну выпало бесчисленное количество раз убеждаться, как можно входить в одну и ту же реку, живя и с женой, и с дочерью, и с внучкой.
Не находил Себастьян ничего странного и в том, что сам Франц умер, как Лукач (может, только крови он не почуял, но звуки разорванных тканей наверняка слышал внутри себя), хотя убивали его не так старательно.
9. Так же точно никаких аллюзий не появилось у Себастьяна, когда лет через двадцать после смерти Франца на него прямо на середине моста через Тису бросился выдрессированный войсковой пес. Себастьян лишь слегка присел, чтобы выдержать ускоренный вес, и подставил летящей пасти спрятанный в кожух локоть. Пасть сомкнулась на левой руке крепче, чем клещи, а Себастьян вынул правой большую бритву из кармана кожуха и одним усилием отрезал песью голову так, что она осталась вцепившейся в локоть, а тело упало на доски моста.
10. С такой расширенной физиологией Франциску не могло быть хорошо где угодно. Ему больше всего мечталось о месте, в котором – как в случае плаценты и зародыша – его физиологии было бы наиболее комфортно прорастать.
Бэда верно писал Анне – такая себе ботаническая география. Франц нашел место, которое делало путешествия необязательными.
Перед премьерой одного из своих фильмов в синематографе Yuniperus он даже сказал публике со всей Европы – живу, как трава или яливец, так, чтобы не быть больше нигде после того, как семя ожило; дожидаясь света, который обернется мною; увидеть его не просто снизу вверх, а спроецированным на небо, то есть увеличенным и достаточно искаженным, чтобы быть еще интересней; в конце концов, мое место всегда будет оказываться в центре европейской истории, ибо в этих местах история в разных формах сама приходит на наши подворья.
11. В Яливце, а точнее, в месте, где еще не было Яливца, Франц начал жить по-настоящему. Даже несколько стыдясь своего ежеминутного счастья.
12. В тот день, когда они с профессором остановились между Пэтросом и Шэшулом, Франц думал, что путешествует по небесным островам. Лишь несколько самых высоких вершин выглядывали над тучами. Заходящее солнце светило только им. Красная верхняя сторона туч разливалась затоками, лагунами, протоками, поймами, дельтами и лиманами. О том, что в глубине, умалчивалось.
На мягком склоне Франц нашел ягоды. Из-за укорачивания летнего дня в этой высокогорной тундре они созрели одновременно – земляника, черника, малина, ежевика и смородина. Франц уже не принадлежал себе, включился в какие-то космические движения, потому что не мог остановиться, съел столько ягод, что вынужден был лечь, тогда почувствовал, что опускается до дна небывалого лона, не выдержал и излился.
Немного выше была еще весна и цвели пушистые первоцветы.
Еще выше медленно таял снег.
Франц бросился вниз и забежал между буками, среди которых царила осень. Во время этого бега сквозь год он излился вторично. Профессор тем временем разложил шатер. Они съели по несколько гуцульских коньков, вылепленных из сыра, и сварили чай из листьев всех ягод. Тогда началась ночь. От месяца все выглядело заснеженным, румынские горы казались далекой полоской берега, а землю неудержимо покидало тепло с запахом вермута.
Ходить, стоять, сидеть, лежать1. Если города действительно лучшие сюжеты, то кульминацией Яливца как города было, безусловно, время, когда городским архитектором стала Анна – дочь Франциска.
Детям мультипликаторов, ни на шаг не отходящим от отца, стать архитекторами нетрудно. Особенно в городе, который придумал папа. По ее первому эскизу в 1900 году (Анне было тогда семь) построили новый синематограф Yuniperus в виде комода с ящиками – специально для показа Францевых анимационных фильмов.
Еще ребенком Анна спроектировала бассейн в виде гнезда чомги, который плавал в озере, подземные туннели с выходами, как у кротов, на разных улочках города, бар, в котором выход был устроен так, что, переступая порог зала, оказывался не снаружи, как мог рассчитывать, а в точно таком же зале, четырехэтажный дом-шишку и большущую двухэтажную виллу-подсолнух.
2. Ибо Анна мыслила телом. Каждое движение она могла ощущать не только целостно, но и как последовательность напряжений и расслаблений мышечных волокон, повороты суставов, замирания и взрывы кровотока, проникновение и выдавливание потоков воздуха. Поэтому выражениями ее мышления были пространственные конструкции. И любое строение она видела, минуя покрытие. И, опять-таки, как пространство, в котором происходят перемещения других движущихся и полудвижущихся конструкций – пальцев, хребтов, черепов, колен, челюстей.
3. Однако Франц заметил, что вначале фантазия Анны не могла выйти за пределы симметрии. Он уяснил для себя, что зачарованность чудом природной симметрии и есть первый детский шаг к сознательному воспроизведению красы мировой гармонии.
4. Анна воспитывалась достаточно ограниченно.
Еще когда она называлась Стефанией, а Анной была только ее мама, Франц понял, что главное в воспитании детей – как можно больше быть с ними. Возможно, пожалуй, он проникся этим слишком буквально, потому что после смерти жены почти двадцать лет не было ни одной минуты, когда бы они с Анной были порознь. Всегда вместе. Или в одной комнате, или вместе выходили из дома, или делали что-нибудь в саду, видя друг друга. Даже купаясь, Анна никогда не запирала двери ванной. Им было важно иметь возможность постоянно слышать, что говорит другой. Это стало единственным принципом Францисковой педагогики. Удивительно, но ей такая жизнь нравилась. Когда Анна начала всерьез заниматься архитектурой, то просто дрожала от радости, когда они работали за разными столами большого кабинета – она делала наброски и чертежи, а папа рисовал свои мультфильмы.
5. Всю жизнь Франциск говорил не столько ей, сколько просто вслух. Все то, что слышала Анна, слышали и их псы. Анна редко что-нибудь спрашивала, вместо этого приучилась постоянно рассказывать про все свои ощущения, стараясь находить наиточнейшие словосочетания.
Часто она перебивала Франца – расскажи то же самое еще раз, но не так коротко.
Анна не умела читать и писать, зато ежедневно пересматривала картинки в Ляруссе. Музыку она слышала только в исполнении курортной капеллы и еще гуцульских флояров [6] , цимбалистов, гусляров, трембитаров [7] . Сама играла только на дрымбе [8] . Круг рисовала безукоризненно, но складывала его из двух симметричных половин. Точно так же умела сделать любой эллипс, а прямую могла продолжать бесконечно, время от времени прерываясь на несколько секунд или месяцев. Про маму знала все, что надлежит знать девочке. Играла с псами и таким образом была в кругу ровесников.
6. Она жила вдвое больше, ежедневно проживая свою и Францискову жизнь.
7. Неожиданно для самой себя Анна начала рисовать фасолины. Движение, которым это делалось, давало ей наивысшее физическое наслаждение. Тысячные повторения не делали наслаждение меньшим. Анна начала об этом думать.
Она всюду видела фасолины – в речных камешках и в месяце, в свернувшихся псах и в позе, в которой чаще всего засыпала, в овечьих почках, легких, сердцах и полушариях мозга, в горках овечьего сыра и шапочках грибов, в тельцах пташек и в зародышах, в своих грудях и в особенно любимых двух тазовых костях, которые торчали внизу живота, и в берегах озер и концентрических линиях, которыми показывалось увеличение высоты горы на географических картах. В конце концов решила, что не что иное, как фасолина, есть наиболее продуманная форма извлечения малого пространства из большого.
8. Про это Анна рассказала старому Бэде, когда принесла целый мешок большой синей фасоли к его броневику. Они втащили мешок на крышу броневика и высыпали все в верхний люк. Анна заглянула вниз и замерла – внутри броневик был полон фасоли разных размеров и цветов, вершина кучи свободно двигалась, словно потоки лавы в вулкане. Бэда собирал по всему Яливцу фасоль, чтобы отвезти ее на базар в Косове.
Видно, потом он что-то сказал Непр о стым, потому что они пришли и сделали так, чтобы совсем юную Анну назначили городским архитектором.
9. Когда Франц выбирал место, он хотел, чтобы там было хорошо во всех четырех состояниях – ходить, стоять, сидеть и лежать, в каких может пребывать человек.
С Анной было иначе. Она с самого начала жила в таком месте. Став архитектором, Анна начала выдумывать что-то еще. Она очень хорошо помнила то, чему научил ее Франц, и еще лучше – что учил именно Франц. Но впервые не поверила, что он сказал ей все.
10. Можно падать – и под некоторыми домами установили батуты, на которые соскакивалось прямо с балконов.
Можно висеть – и с двух гор натянули тросы, по которым, взявшись за специальные держаки (их Анна нашла среди маминых альпинистских причиндалов), съезжалось аж на центральную площадь, провисев несколько минут над крышами и не очень высокими деревьями.
Можно качаться – и на домах разместили трапеции, на которых перелеталось на противоположную сторону улицы.
А еще можно катиться, подскакивать, ползти, возиться – это тоже было по-разному учтено в обновленном Яливце. Пациентов на джиновом курорте стало еще больше. Себастьян тогда уже воевал в Африке, а из станиславской тюрьмы сбежал террорист Сичынский.
11. Франц ясно видел, что ничего нового Анна придумать не смогла, потому что даже во время падения (или, скажем, полета – если бы ей даже такое удалось) человек либо стоит, либо лежит, либо сидит в воздухе.
Но ему понравились новации, и он предложил заливать на зиму все улицы водой. Яливец на несколько месяцев становился сплошным катком. Только держась за поручни вдоль улиц, можно было как-то выкарабкаться в верхнюю часть города. Но Франц умел ходить по скользкому.
12. Путешествуя с Франциском по ближайшим горам, Анна видела много разных гуцульских поселений. Присматриваясь внимательно, она поняла, что значит иметь свой дом. Забота о доме делает ежедневный поиск еды осмысленным. Иметь дом – словно откладывать остатки пищи или делиться с кем-то едой. Или временем, предназначенным для нахождения еды.
Если тело – врата души, то дом – то крылечко, куда душе дозволено выходить.
Она видела, как для большинства людей дом – основа биографии и выразительный результат существования. А еще там отдыхает память, потому что с предметами ей легче всего дать себе совет.
Ее очаровывала эта гуцульская особенность – самому выстроить свою хату далеко от других. На чистом месте. Когда дом построен, он становится мудрее всех пророков и вещунов – он всегда скажет, что тебе делать дальше.
13. Еще такое качество красоты. Чтобы быть доступной, красота должна формулироваться словами. А поэтому – быть измельченной. Дом дает это мелкое пространство, в котором можно успеть создать красоту собственными силами.
Начальными условиями красоты жилья Анна считала пространство, свет, протяженности, переходы между разделенностью пространства. Поэтому спроектировала несколько домов как гуцульские хаты-гражды [9] . Отдельные комнаты и жилые помещения выходили непосредственно на квадратное подворье, замкнутое со всех сторон именно этими комнатами.
14. Исток всей красоты, которая может быть сотворена людьми, всей эстетики, – безусловно, растения (в конце концов – еды тоже; тут идеальное и материальное едины, как никогда). С другой стороны – мало что иное такое точное воплощение этики, как уход за растениями. Не говоря уж про то, что наблюдение сезонных смен – наипростейший выход в личную философию. Поэтому сербский лесовод Лукач засадил подворья гражд привезенными из Македонии цветущими кустами: барбарисом, камелиями, вересом, кизилом, волчьими ягодами, форзициями, гортензиями, жасмином, магнолиями, рододендронами, клематисами.
15. Сам же город Анна велела огородить прозрачными, идущими зигзагом гуцульскими оградами из длинных смерековых [10] лат [11] —ворыньем [12] . Входить в город надо было настоящими воротами-розлогами, раздвигая заворотницы [13] .
Особой надобности в этом не было, но Анна хотела оживить как можно больше слов, необходимых тогда, когда такие ограды есть – гары, заворынье, гужва, быльця, кечка, спыж.
Ситуации в колорите1. Главным обитателем Яливца был, конечно, сам яливец. Франц распланировал строительство города так, чтобы не уничтожить ни одного куста на всех трех сторонах склона. Поскольку деревьев было маловато, большинство домов строили из серых плит каменных выступов, которые в некоторых местах называются горганы. Основными цветами города поэтому были зеленый и серый – еще меньше, чем на гуцульской керамике. Но если серый был всюду одинаковым, то зелень имела много оттенков. Даже немного иначе – нехорошо было бы сказать: зеленый. Лучше – зеленые. Зеленых на самом деле было так много, что все казалось неправдоподобно цветным. Даже не считая тысяч действительно радикально иных пятнышек бордовых, красных, розовых, фиолетовых, синих, голубых, желтых, апельсиновых, белых, еще раз зеленых, коричневых и почти черных цветущих кустов. По их цветкам маленькая Анна изучала цвета (Франц часто думал о том времени как о чем-то наилучшем. Называть цвета стало для него очевидным воплощением идеи творения мира и понимания). Если жить внимательно, то цветоводство в таком городе не нужно. Так и было.
Еще нужно представить себе сплошные полосы ближних, дальних и самых далеких гор, которые были видны из любой точки Яливца.
Еще небеса, ветры, солнца, луны, снега и дожди.
2. Вокруг этого каменного поселения росло так много яливца, что запах его нагретых, размоченных, надломленных, раздавленных ягод, веточек и корней просто перерастал во вкус.
3. Трудно понять, когда Себастьян успел так много поговорить с Францем, что помнил столько отдельных Францисковых фраз. Ведь у них был только год и девять месяцев. Но большая часть сказанного Франциском сохранилась именно благодаря Себастьяну. Как раз от него Непр о стые записали те всем известные теперь высказывания, которые потом были запечатлены на разных предметах огромного обеденного сервиза фарфоровой фабрики в Пацыкове. Вторая Анна как-то даже пошутила, что все эти высказывания выдумал сам Себастьян, а присловье «Франц сказал» – это Себастьяновы слова-паразиты. Точно так же, как и «курва, может быть, по правде говоря, да, просто».
4. В каждом случае сам Себастьян говорил, что Франц говорил, что жизнь зависит от того, против чего движешься. Но то, против чего движешься, всегда зависит от того, куда идешь. То есть сменить его довольно просто. Труднее с другими определяющими стихиями – что пьешь и чем дышишь.
В Яливце все дышали эфирными смолами яливца и пили яливцовку, в которую яливец попадал трижды. Потому что вода, в которой бродили сладкие ягоды, сама сначала годами переливалась с неба в землю, обмывая яливец, напитываясь им и запоминая его, а потом еще и нагревалась на огне из яливцовых поленьев.
5. Яливцовку варили на каждом подворье. Свежие побеги вываривались в казанах со спиртом, выгнанным из ягод яливца. На камнях собирались испарения, которые охлаждались и накрапывали густым джином. Бывало такое, что над крышами зависали тяжелые джиновые тучи. Так что, когда подмораживало, алкоголь прорывался с неба. На земле, уже предварительно охлажденной, он замерзал, и улицы покрывались тонким льдом. Если полизать этот лед, то можно было опьянеть. В такие дни по улицам нужно было ходить, скользя. Хотя на самом деле нога не успевает поскользнуться, если идти достаточно быстро – чтобы подошва как можно меньше терлась о лед.
6. Самая первая Анна появилась в Яливце уже тогда, когда город становился модным курортом. Незадолго до того она сильно ударилась, упав со скалы, хотя была привязана шнурком, и долгое время ничего не ела. Все-таки ужасно испугалась. На другой день она тем не менее пошла в горы и попыталась подняться. Но ничего не вышло. Впервые тело отказывалось быть продолжением камня. Что-то там оказалось сильнее. Она приехала в Яливец, пила джин, собиралась тренироваться, но вместо этого пила джин. Не решалась даже подойти к скалам. И вскоре познакомилась с Франциском. Он делал анимационные фильмы, ради которых в Яливец приезжало уже не меньше туристов, чем ради джина.
7. Анна ощущала себя как лишайник, оторванный от голого берега холодного моря. Должна была просто продержаться, чтобы удержаться. Потому что иначе было бы никак. Ей очень хотелось не быть злой. Боже! Не дай мне кого-нибудь обидеть! – молилась она ежеминутно.
Впервые они с Францем заночевали в баре, где, случайно забредя под вечер, не могли не остаться до рассвета. Бармен был до того не похож на бармена, что они довольно долго ждали кого-нибудь, к кому можно обратиться. Там они делали друг другу джиновый массаж, сотворили три джиновые ингаляции, поджигая джин-первак на ладонях и животе, пили разлитый по столу и изо рта в рот. Анна еще не представляла себе Франца в каком-нибудь другом месте.
8. Ночью лежали рядом на сдвинутых стульях и понимали, что по совпадению костей и мякоти они брат и сестра. Или муж и жена. Даже если больше такого не будет, думал Франциск, все равно приятно дотрагиваться. А она думала о разных мелочах и чудесах, которые случаются или могут случиться когда-нибудь.
Пока они спали, прижимая кости к мякоти и кости к костям, и мякоть к мякоти, их черепа непрерывно соприкасались какими-то неровностями. Они поворачивались, прижимались, крутились и отодвигались, а черепа не разъединялись ни на секунду. Иногда черепа громыхали, зацепляясь особенно выразительными горбами и впадинами, и они часто пробуждались, пугаясь непомерной близости, созданной именно головами. Никогда больше Франциск и Анна не переживали такого общего прояснения и прозрения.
Снаружи начало светать. Главная улица городка обходила закрытые бары, темные подворья, заросшие виноградом, который никогда не созревал, низенькие каменные ограды, высокие ворота и шла к подножию тысячи-шестисот-девяносто-пятиметровой горы, постепенно переходя в еле заметную тропиночку, которая в эту пору дня светилась белым.
9. Беременность Анны была периодом полнейшего счастья. Тем, что можно по-настоящему назвать сожительством, семьей.
Вечера они начинали заранее. Ходили в теплых осенних плащах далекими закоулками среди еще не заселенных вилл. Притворялись, что это не их город. Ее руку он держал в своем кармане. Они шли, одновременно делая шаг той ногой, к которой так крепко была прижата нога другого, что ощущались волны мускульных сокращений, а бедренные суставы смешно терлись. Ей очень нравилось, что все так просто. Что ее любит тот, кого любит она. Она впервые переживала радость того, что утром не надо уходить прочь. Она рассказывала ему что-то из того, что было, когда его еще не было, и очень любила, как он рассказывал о том, какой он ее знает. Утром они долго завтракали на балконе медом, кислым молоком, размоченными в вине сухими грушами, намоченными в молоке поджаренными сухарями, разными орехами.
10. На столике возле ванны стояла старая пишущая машинка с незыблемой чугунной подставкой, и то, что они не решались сказать друг другу, они печатали на длинном листе самой лучшей бумаги, вложенной в «Ремингтон». Плохо мне с людьми, про которых не знаешь, – писала Анна, – хорошо ли им теперь, хорошо ли им со мною, хорошо ли ему тут. Плохо и тяжело с теми, кто не говорит, что им нравится, а что – нет. Франциск печатал что-то совсем иное: еще не делая никакого зла, плохие люди нам делают плохо – мы вынуждены учитывать их существование. Хорошие люди перестают быть хорошими, когда начинают жалеть то, что жалко отдавать, – зачем-то написала Анна. А Франц – смысл и наслаждение существуют лишь в деталях, нужно знать эти детали, чтобы смочь их повторять.
Уже после смерти Франца Себастьян нашел эту машинку. Бумага была еще в ней. Потом он часто представлял себе настоящие диалоги живых людей, выстроенные из подобных изречений.
11. Франц пытался отучить Анну от страха. Заводил ее на скалы с той стороны, куда можно было выйти через заросли горной сосны, сзади. А там брал на руки и держал над пропастью. Судьба не самое главное, – говорил Франц. Главное – ничего не бойся. Но что-то в его методе было неправильным.
Он изучил ее тело лучше, чем она. Мог взять ее руку и прикоснуться ею к Анне так, как она сама никогда не делала и не сумела бы. Он поступал с нею так, что было щекотно в жилах, сосудах, венах. Очень долго показывал ей ее же красоту. От этого всего Анна начала понимать, какая она красивая. Красивая не для кого-то, а для себя. И ей еще больше становилось страшно, что все это может сокрушиться, ударяясь о камни.
Я люблю свою жизнь, – просила она Франца. Это хорошо, настаивал он, потому что, кроме этого, нет ничего иного, не любить – значит отречься от всего.
12. Все же она еще раз попробовала. Когда Франц заткнул ей уши. Ибо вдруг заподозрил, что Анна боится не высоты, а звучания тишины, которая высоту сопровождает.
Подстрахованная всеми возможными способами, с заложенными ушами, беременная Анна лезла по каменной стене, теряясь от того, что не знала, как прижиматься животом.
Франц решился ползти рядом. Он обрисовывал по скале все контуры прижатого живота. Вниз они так поспешно съехали по канату, что обожгли себе ладони. Почему-то часто из-за таких незначительных ожогов невозможно заснуть. Следующим утром движущиеся дагерротипы силуэтов перемещения зародыша по скале были уже готовы. Фильм получился хороший. Даром что короткий.
13. Франциск не обращал внимания на время. Все его фильмы длились несколько минут. Он придумал анимацию, которой еще не могло быть. Получал наслаждение от создания заполненных минут, которых могло бы не быть. Если бы не. Если бы не заметил чего-то, если бы не придумал прием, если бы не приспособил, если бы не отличил – если бы много чего не.
Жизнь настолько коротка, – говорил Франциск, – что время не имеет никакого значения. Так или иначе она происходит полностью.
Франц мечтал о чем-то радикальном. И додумался до того, что самое радикальное – ждать.
14. После рождения дочери Анна решила снова тренироваться. Она пробовала затыкать уши, но что-то снова нарушилось. Внутреннему уху недоставало вибрации, без которой трудно обозначить границы своего тела.
Она вспомнила про сад своего отца и укололась морфием. Вибрация появилась сразу же.
Но странно начали вести себя звуки. Они словно утратили зависимость от расстояния. Звуки летали с огромной скоростью цельносмотанными клубками, не рассеиваясь в воздухе. Иногда такой шар сталкивался с другими, меняя направление полета совершенно неожиданно. От некоторых ударов с обоих клубков обивались звуковые крохи и пыль. Они летали независимо. Перемешиваясь, отделяясь, взлетая вверх, опускаясь или забиваясь в землю. Уже на высоте четырех своих ростов Анна оказалась в непрозрачных облаках какофонии. Когда же поднялась выше, то нестерпимо было слышать грохот, с которым малюсенькие песчинки из-под ее пальцев падали на дно пропасти.
15. Больше Анна не лазила. Но морфий употреблять не перестала. Целыми днями сидела на веранде и вслушивалась в жизнь разных насекомых, обитавших около дома. Не слыша даже, как плачет голодная Стефания.
Напрасно Франц пытался что-то изменить. Самое большее, что ему удавалось, это выцедить из грудей Анны немного молока и накормить им дочку. Но опий тоже полюбил молоко. Он успевал выпить его первым, и Франц без толку мял высохшие груди. Франциск пошел к ведьме, которая крала молоко у коров, и попросил, чтобы та забирала молоко у Анны. Дитя начало наедаться. Но вместе с молоком оно получало опиум. Франц думал, что ребенок целыми днями спит от сытости. В конце концов, так было спокойнее. Но когда у Анны молоко закончилось совсем и даже ведьма не выцедила ни капли, Стефания пережила настоящий морфийный абстинентный синдром. Непростые еле спасли ее, наварив в молоке маку.
То же самое начала делать и Анна. Девочка спала, ей снились чудесные сны (некоторые из них – а ей было едва полгода – она помнила всю жизнь. Хотя, может быть, помнила ощушение, что такие сны были, а прочее взялось позже), и Анна спокойно слушала, как червяки раздвигают землю, как кричат, предаваясь любви в натянутых сетях, пауки, как трещит грудная клетка жука, стиснутого клювом трясогузки.
16. В середине декабря Франц взял Анну на колени и сказал, чтобы она убиралась из Яливца. Анна встала, поцеловала Франца и пошла в комнату собирать ребенка. Тогда он предложил другое – вызвал жену на дуэль. Потому что маленькому ребенку для дальнейшей жизни нужно было, чтобы кто-то из этих родителей был мертв.
Анна согласилась и выбрала оружие – сейчас они пойдут на заснеженные обветренные скалы и полезут двумя немаркированными маршрутами без всякой страховки вверх. Тот, кто вернется, останется с девочкой. Невзирая на все страхи, была уверена, что только таким способом победит Франциска (они совсем не подумали, что могут не вернуться оба, и ничего никому не сказали, оставляя малышку в колыбели).
Едва добрели по снегу до скал. Сняли кожухи, выпили по полбутылки джина, поцеловались и полезли.
17. Франциск впервые должен был стать настоящим альпинистом (впервые ли мне впервые, – подумал он). Поэтому слезал с вершины несколько часов; оказалось, что затвердевший снег даже помог ему – на голом камне он бы не удержался. Ему было до ужаса горько, но похоронить Анну он смог только в июне, когда снег в ущелье растаял.
Вторая старая фотография – Арджэлюджа, 18921. Голая женская спина заканчивается широким чересом [14] , ниже череса – лишь полоска черной ткани. На сильно склоненной вперед шее тонкая нитка грубых кораллов. Головы уже не видно. Руки опущены вниз, но согнуты в локтях. Торс слегка скручен влево, поэтому видно лишь четыре пальца, которыми правая рука держится за предплечье левой. Спина выглядит почти треугольной – так широки плечи и узка талия. Между верхним краем пояса и белой кожей – немного свободного места. Выразительные лопатки и верхушки ключиц. Ниже шеи выступают четыре горбика позвонков. Там, где они заканчиваются, начинаются две полосы вздутых мускулов вдоль середины спины. Ближе к талии расстояние между ними наименьшее, а глубина впадины – наибольшая. Клавиатура ребер просвечивает лишь слева и то – скорее уже не на самой спине, а на боку. Но там, где грудная клетка заканчивается, начинается вогнутый изгиб талии, линия которой снова выходит до предыдущего уровня в начале таза.
Судя по контрасту белой спины и черного пояса, нетрудно убедиться, что солнечное освещение максимальное. Хотя едва заметная тень возникла лишь между мускулами на спине.
1. Спина снята вблизи. Справа от нее виден в глубине кадра маленький конь, который стоит значительно дальше от камеры. Конек-гуцулик совсем старенький – лучшего тогда не осталось после государственного набора коней в Боснию, – но очень осторожный. Вместо седла – узкое длинное покрывало.
2. Свое первое лето Франц с Анной ходили на Кострыч поглядеть панораму Чорногоры. День был солнечный, и они видели весь хребет – Пэтрос, Говэрлу, Брэскул, Пожыжэвскую, Данцыш, Гомул, Туркул, Шпыци, Рэбра, Томнатык, Брэбэнэскул, Мэнчул, Смотрыч, Стайкы, немного Свыдовца – Блызныци и Татульскую, дальше – Браткивскую, Довбушанку, Явирнык. Сзади были Ротыла, Белая Кобыла и Лысина Космацкая.
Дорогой назад, за Арджэлюджей, Анна сняла сорочку и постолы [15] , осталась в одних мужских гачах [16] .
Шли вверх против течения Прута. Время от времени спускались к реке попить воды. Река была такой мелкой, что Анна ставила руки прямо на дно и так опускалась к воде, погружая все лицо. Кончики грудей хотя и приближались к неспокойной поверхности, но оставались несмоченными. Только тяжелый инкрустированный латунный крест с примитивным намеком на распятие колотился о камни. В такие моменты Франц сажал Анне на спину божью коровку, жучок обегал капельки пота, щекотал кожу, а Анна даже двинуть не могла рукой.
После купели они целовались, пока губы совсем не высыхали. Потому что все мокрое высыхает. Кожа пахла холодными водорослями в теплых реках меж теплыми камнями под теплыми ветрами из-под заснеженной Говэрлы. Если бы им удалось запомнить это телесное ощущение так, чтобы когда угодно могли точно его вспомнить, то ощущение счастья было бы постоянным.
Тогда они еще много и охотно говорили. Франц думал – как изменяется все, на что стоит смотреть, когда есть кому показать.
Конек нес только грушевый сундучок с фотоаппаратом и кленовый бочонок, наполненный яливцовкой, и ни разу не зашел в воду напиться.
3. Когда Франциск в декабре 1893 вернулся со скал один, то прежде, чем покормить ребенка, случайно наткнулся, в поисках алкоголя, на тот самый бочонок. Яливцовки осталось где-то поллитра, и он заодно выпил недопитое вдвоем. Тогда вытащил засунутую среди ляруссов эту фотографию, вставил ее меж двумя прямоугольниками стекла, выкинув какой-то рисунок, и навсегда поставил на своем рабочем столе.
Растолок в латунной ступке горстку сушеной черники, залил теплой водой с медом и взялся кормить Стефанию. А утром пошел к священнику и сказал записать дочку в церковных книгах Анной.
Себастьян решил, что будет правильно положить фотографию Францу в гроб (он не мог знать, что на свете уже есть кто-то, кому ее потом всегда будет недоставать). Поэтому она, наверное, не сохранилась.
Искушения святого Антония1. Маленькой Анне Непростые подарили миниатюрную фигурку святого Антония. Антоний в полный рост, в монашеской сутане, в одной руке держит лилии на длинном стебле, на другой – ребенок. Невзирая на размер, Антоний выглядел как настоящая статуя, когда Анна ложилась головой на пол, а фигурку ставила немного поодаль, или – тоже с пола – стоял на самом краешке стола. Особенно впечатляли его безукоризненно переданные черты лица.
Непр о стые говорили, что Антоний вылеплен из растопленного свинца, который перед этим был пулей. Фигурка жила в металлическом цилиндре, в каких солдаты держат цидульки со своим именем и адресом родни. Анна носила этот патрон на очень длинной проволочной цепочке на шее. От постоянного трения меди с кожи никогда не сходили зеленые пятна. Франциск считал, что это не вредит. Когда была особенно хорошая погода, Анна выводила Антония на прогулку. Она вынимала его из капсулы и проветривала где-нибудь в траве. Когда же закрывала обратно, то вкладывала внутрь еще и небольшой цветок – фиалку, маргаритку, лепестки сливы или липовый цвет, чтобы Антонию было чем дышать.
2. Она сама очень хорошо пахла. Больше всего Франц любил, когда Анна засыпала у него на столе. Он еще немного работал, больше поглядывая на спящую свернувшуюся дочку, а потом залезал на стол, клал под голову книжку, обнимал Анну и долго дышал выдохнутым ею воздухом. Он гладил ее голову, и порой поутру Анна просыпалась с густыми тонкими и короткими царапинками на лице – какая-то затвердевшая кожица на Францисковых пальцах царапала ее тело.
3. Франциск был убежден, что не может быть более полезного занятия, чем воспитание дочери. Ежедневно он видел тысячи безукоризненных кадров, но почему-то не решался использовать камеру. Поэтому запоминал их с таким усилием, что иногда ловил себя на мысли – так дальше нельзя. Ибо часто бывало так, что вечером он не мог вспомнить, что было в сегодняшнем дне, кроме этих воображаемых фотографий (но когда Анна подросла, он часами мог ей рассказывать, какой она была в любой день детства).
4. Анне было шесть лет, когда она рассказала отцу про то, что помнит, как спала когда-то в большом сундуке, поставленном на длинном возу с восемью колесами, под деревом, с которого свисало гнездо с отверстием снизу. Отверстие было открыто, и из гнезда смотрело на нее гранатовое око какой-то птицы. А потом отовсюду слетелись тучи маленьких сов и расселись вокруг того дерева концентрическими кругами на земле, копнах сена, кустах шиповника, колодце и обороге [17] . А еще – на веревках, натянутых от столба до столба.
5. Франциск решил, что такие видения – последствие морфинизма, и позвал Непростых. Те немного поговорили с Анной, и наконец вещунья сказала, что девочке все приснилось. Она предупредила Франца, что малышка все чаще будет рассказывать всякие чудные вещи, будет выпытывать, было ли с нею когда-то то или другое. Что о некоторых вещах она до смерти будет сомневаться – что случилось, а что приснилось, потому что для нее не будет реального и нереального – лишь разные виды реальности. Но сны не имеют ничего общего с вещунством. Они рассказывают, как может быть.
6. Франц постановил, что дочка хоть что-то в мире должна знать досконально и не сомневаясь. Они начали ходить за Мэнчил Квасивский до Кэвэлова, который стекал в Черную Тису, и Анна изучала все камешки на его берегу – как какой выглядит и около какого лежит.
А тем временем Непр о стые все вместе притащились через горы в Яливец и пробыли в городе с перерывами аж до 1951 года, когда специальный отряд чекистов, переодетых бойцами УПА, сжег огнеметами психушку, где выслеженных и пойманных Непростых заперли в 1947. Им надо было приблизиться к Анне.
7. За несколько лет перед 1900 годом Франц закончил очень важный анимационный фильм.
Жить – это развязывать и завязывать узлы, руками и всем остальным, – учил его когда-то Непр о стый-гадер [18] и дал целую вязанку шкурок ужей. Франц должен был отвязать шкурку от шкурки и сплести свое плетение. Логика живет в пальцах, ее категории предвидят лишь то, что удается пальцам. Как молитвенные четки, вращал он клубок днями и ночами. Наконец, развязал все узлы, но когда довелось связывать по-своему, то оказалось, что его пальцам страшно тяжело не идти вслед за уже существующей формой. Зато Анна наплела таких узлов, что гадер привел Франца на мост, где Непр о стые поселились.
8. Когда-то этот виадук хотели перебросить от одного до другого выступа хребта, между которыми разместился Яливец. Сначала построить середину, а тогда довести в обе стороны до верхов. Франциск представлял себе, что когда-нибудь такая дорога превратит весь путь от Шэшула до Пэтроса в удобную прогулку. Однако этот проект оказался единственной неосуществимой идеей Яливца. Три соединенные меж собой, но не связанные с твердью арки – гораздо выше дорожных мостов в Ворохте и Делятыне – нависали над городом по диагонали, начинаясь и обрываясь в чистом небе. Вверху остался фрагмент широкой дороги. Там зажили Непростые.
Франц очень долго лез на мост по висячей лестнице, которая еще больше раскачивалась от того, что гадер лез впереди. Наверху казалось, что мост слишком узкий, что достаточно пошатнуться, и полетишь вниз: на маленькие крыши, короткие улочки, узкие каналы, пену деревьев. Но вокруг лежала такая краса, как в чьей-то другой жизни. Все было выбеленным, других цветов не существовало даже на далеком солнце.
Заснеженные Непростые курили трубки и смотрели на Фархауль в Марамаросских Альпах за долиной Белой Тисы. Разговор был простым – когда Анна станет женщиной, то должна будет стать Непр о стой. А пока они всегда будут поблизости.
7. Итак, фильм, который закончил Франц, напоминал ожерелье из узелков.
Выглядело это так. По всему полю экрана беспорядочно металось бесчисленное множество отдельных мелких значков. Все это были те элементарные символы, которые Францу удалось понаходить в орнаментах писанок [19] mo всех углов Карпат. Из-за разницы размеров, конфигураций, цвета и скорости тьма знаков напоминала неправдоподобную мешанину разных насекомых. Узнавались лесенки, клинышки, полуклинышки, триклинышки, сорок клинышков, желтоклинышки, зубцы, кантовка, краткая, бесконечная, полубесконечная, локон, перерыв, крестик, дряшпанка, кривулька, звездочки, звезды, солнце греет, полусолнца, месяцы, полумесяцы, штерна, месяц светит, лунные улочки, радуга, фашлька, розы, полурозы, желудь, бархатцы, чeрнобрoвка, колосовка, смерички, сосновка, огурчики, гвоздики, барвинок, косицы, овсик, кукушкины башмачки, бечковая, сливовая, барабулька, ветки, перекати-поле, коньки, барашки, коровки, собаки, козлики, олени, петушки, утки, кукушки, журавли, белокрыльцы, пструги, вороньи лапки, бараньи рога, заячьи ушки, воловье око, мотыльки, пчелы, слизни, пауки, головкате, мотовило, грабли, щеточки, гребешки, топорики, лопатки, лодочки, баклажки, решетка, сундуки, подпружечки, цепочки, котомки, ключи, бусы, бочонки, кожушки, пороховницы, зонтики, образки, платочки, шнурки, миски, хатка, окошки, столбы, корытце, церковки, монастыри, звонницы, часовенки, крученые рукава, писаные рукава, косая черточка, иголoчки, клювовидная, крестовая, зубастенькая, плетенка, чиноватая, княгинька, ключковая, кривульки, точечки, рваная, крылатая, очкастая, пауковая, чичковая, глуковая, лумеровая, фляжечка, тайна, черешневая, малиновая, вазончик, отросток, стрекозки, ветрячок, салазки, крючки, медовнички.
Понемногу движение знаков набирало некоторую упорядоченность – как один очень сильный ветер пересиливает много слабеньких. Символы крутились как-то так, будто полная ванна воды вытекает через небольшое отверстие. Оттуда уже выходила цепочка значков, завязанная кое-где узлами. Цепочка скручивалась в спираль и вращалась, как центрифуга. Из хаоса к ней слетались свободные символы и выкладывали рядом цепь с такой же последовательностью знаков, с каждым разом все больше прижимающуюся к первой и оборачивающуюся вокруг нее. Теперь обе спирали ввинчивались в пустоту вместе, сближались все сильнее и превращались в мировое древо. Наступал покой. На древе распускались цветы, лепестки увядали, из завязей росли плоды, надувались, лопались, трескались, и тысячи тех же самых знаков свободно и ровно опускались на землю, складываясь в холм, утрачивая свою форму.
8. С премьерой подождали до Пасхи 1900 года. Ею открывали синематограф Yuniperus, построенный по эскизу Анны, зачитав предварительно архипастырское послание молодого станиславского епископа Андрея Шептицкого к дорогим братьям-гуцулам.
11. С того времени Непростые действительно всегда были рядом. Это только кажется, что Чорногора – пустыня. На самом деле в Карпатах места даже мало. Поэтому люди, которые живут далеко друг от друга, постоянно встречаются. Что уж говорить про маленький городок на пересечении хребтов.
За несколько довбушевых золотых Непр о стые выкупили кусочек Рынка и построили маленький домик. Обложили его странно разрисованным кафелем, и он стал совершенно похожим на печь. На всех окнах понаписывали одно слово – нотар [20] . Но на подоконниках стояли целые ряды бутылок разной величины и формы, так что можно было предположить, что «НОТАР» – название еще одного бара. Лукач сделал как-то так, что за неделю вся крыша заросла плющoм, и над дверью свисала зеленая завеса. Внутри было пусто – напротив маленького столика (с одним ящиком) на очень высоких ногах стояло удобное кресло, обитое парусиной.
В кресле сидел сам нотариус, курил одну за другой большие сигареты, вставленные в серебряное кольцо, припаянное к оловянному стержню, который опускался с потолка. Каждая сигарета была не длиннее половины средней женской ладони. Нотариус занимался тем, что скручивал следующую сигаретку, куря предыдущую.
Еще в юности он решил как-то руководить собственной смертью, а не полагаться полностью на неизвестность. Поэтому захотел установить если не срок, то хотя бы причины смерти. Остановился на раке легких и начал не ограничивать себя в курении, чтобы быть обреченным на такую смерть.
12. Но стоило кому-то прийти, как нотариус вынимал сигарету из кольца, усаживал посетителя в свое кресло, открывал ящик, вынимал два красных или два желтых сладких перца – всегда свежих и сочных, одной рукой раскрывал большой кривой нож, что болтался на ремешке у колена, вычищал перцы, положив на ладонь, осведомлялся, что налить – паленку, ракию, сливовицу, бехеревку, цуйку, зубровку, анисовку, яливцовку, боровичку, наливал полные перцы, подавал один гостю, становился к столику, вынимал из ящика лист бумаги, заостренный карандаш, подымал пугарчик [21] , говорил «дай, Боже», глядя прямо в очи, выпивал, отъедал кусочек перца, сразу же наливал по второй, зажигал сигарету (спички держал в кармашке штанов у самого пояса, а терка былa приклеем к одной из ножек стола), брал ее в ту же руку, что и кубок, а в левую – карандаш, крепко затягивался дымом и уже был готов слушать.
13. Нотариуса называли французским инженером.
Непр о стые нашли его в Рахове и предложили именно эту работу, потому что он выглядел скромно и в то же время героично. Такого хочется удивить, рассказав что-то необычное из собственной жизни.
А Непростым нужно было как можно больше таких историй и баек.
В Рахове французский инженер нанимал людей ехать в Бразилию, выписывая настоящие билеты на корабль из Генуи.
Когда-то он действительно был французским инженером. Прожил двадцать лет в Индокитае, занимаясь дренажными системами, изучая курение опиума, тайский бокс, бабочек и орхидеи, дзен. А одновременно пописывал этнологические и геополитические фельетоны в крупные европейские газеты. Несколько его писем перевел Осип Шпытко. Их опубликовали в «Деле», намекая на происхождение автора из семьи Орликов.
Непростые пришли в Криворовню и посоветовали Грушевскому препроводить французского инженера во Львов. Через Манчжурию, Туркестан, Персию, Грузию, Одессу, Черновцы, Станислав, Галич, Рогатын и Вынныки он, наконец, доехал и получил работу в этнографической комиссии НТШ [22] . Получил командировочные, которые предназначались Шухевичу, и выехал в Гуцульщину. Но опыт нескольких малых войн, в которые он попадал в продолжение жизни, не позволял предавать себя как фольклориста. Французский инженер сделал крюк до Будапешта и раздобыл все необходимые бумаги, что давали право вербовать иммигрантов на территории Австро-Венгрии.
9. В Яливце французский инженер одевался одинаково каждый день от 1900 до 1921 года (Даже после 1914 французский инженер сидел в своем кабинете, выслушивая и записывая все, что приходили рассказывать разные люди. Рассказчики получали порядочный гонорар, а записи с историями и мечтаниями, прозрениями и безумными идеями анализировались Непр о стыми). Широченный белый фланелевый костюм, пошитый без единой пуговицы, полосатые бело-салатные сорочки, распахнутые на груди, пробковые сандалии. Только зимой он заворачивался в покрывало, набрасывая его на голову как капюшон. Это французский инженер научил Себастьяна, что самоосознание находится в подошвах, а восприятие себя можно менять, ставя ноги иначе или на что-то другое.
10. Идею целого направления новых фильмов Франциску подбросил французский инженер.
В Яливце действовала небольшая галерея. Ее хозяин, Лоци из Бэрэгсасу, знался с хорошими художниками – Мункачи, Устыяновычем, Копыстынским. Романчука он привел к Федьковычу, а Водзыцкий (значительно позже, уже когда он вернулся из Парижа от Сулоаги) сделал несколько фотоэскизов для «Девочки за изготовлением писанок». С Иваном Трушем они были близкими друзьями. Лоци много рассказывал ему о том, как растения заново овладевают ландшафтами, изуродованными и покинутыми людьми. Даже водил его на этюды под Попа Ивана, на сруб. Через много лет Труш возвратился к этой теме в чудесной серии «Жизнь пней». Наконец, это Лоци впервые показал кому-то Дземброню, которая со временем стала излюбленным местом многих художников львовской школы. А Дидушынским для музея он регулярно высылал найденные гуцульские раритеты.
11. Сам Лоци всю жизнь рисовал одно и то же – деревянные стойла – для каждой коровы отдельные – на полонине Шэса, дошатые улочки между ними и гигантские заросли щавеля, что постепенно поедают свое пристанище.
А так как был галерейщиком-профессионалом, то никогда не выставлял своих работ. Зато в чужие часто влюблялся. Картины-возлюбленные он на какое-то время брал домой и жил в их присутствии, перенося с собой из спальни в кухню, из кухни в кабинет, из кабинета в галерею, из галереи в ванную.
И жизнь Лоци в значительной мере зависела от картины, которая тогда обитала у него.
12. В галерее практиковались необычные вещи. Ежедневно Лоци перевешивал картины, полностью изменяя их диалоги. Часто покупатели, выбрав какую-нибудь картину однажды, не могли узнать ее на следующее утро. Крышей галереи служил стеклянный резервуар с дождевой водой. Освещение зала Лоци менял, накрывая ту или иную часть резервуара еловыми ветками. Но самое важное – картины можно было брать на время, как книжки в библиотеке. Заказы самого дорогого отеля Лоци комплектовал сам, в соответствии с запросом.
13. Лоци был единственным в Яливце, у кого вызревал сортовой виноград. Виноградник рос вдоль стежки меж домом и галереей. Проходя по стежке, Лоци обязательно обрывал хоть одну кисть винограда. Так продолжалось от момента, когда появляется завязь, до последнего созревания. В сентябре кистей оставалось всего несколько десятков, зато они становились зрелыми, как в Токае, полностью используя виноградные силы, которых уже не требовали уничтоженные грозди.
Хотя Франциск приятельствовал с галерейщиком, даже он не догадывался, что Лоци работает на Непр о стых.
14. Однажды французский инженер пересказал Францу, что слышал от Лоци.
Тот рассказал, как в галерею пришел один помещик из Тэрэсвы и попросил нарисовать ему картину, на которой было бы видно – что происходит за рамой сцены битвы под Хотыном, которую он приобрел тут год тому. Помещик подозревал, что оттуда может ударить пушка в упор по арьегарду уланов, и это не давало ему покоя.
Это как раз то, чем анимация лучше живописи, сказал французский инженер.
15. Франциск придумал более точную методику. Он снимал увеличенную репродукцию какой-нибудь известной картины – это становилось второй частью каждого фильма. Для первой и третьей частей дорисовывал кадры на пятнадцать секунд перед изображенным на картине и то же самое – после. Для пробы служил свежий пейзаж Труша «Днепр под Киевом», хотя думал Франц преимущественно про Рембрандтов «Ночной дозор». Потом он оживил несколько натюрмортов старых голландцев (хотя тут же уничтожил все, кроме Яна ван де Вельде – тот, что с колодой карт, трубкой на длинном чубуке и лесными орехами) и знаменитую «Драку» Адриана ван Остаде (какая-то корчма, пьяные селяне, бабы держат двух мужиков с безумными взглядами, которые размахивают ножами, все вверх дном, кто-то удирает, а остальные попадали на землю).
Потом он взялся за Мамаев.
Живая живопись имела такой бешеный успех, что на каждую премьеру в Яливец съезжались десятки зрителей со всей Центральной Европы, о них писали столичные журналы, а Франц уже не мог успевать делать какие-то более серьезные фильмы.
16. Еще перед тем, как Непр о стые выявили особенные свойства снов Анны, Франциск мечтал о фильме, который происходил бы в ландшафте сна.
Он уяснил, что механизм снов пребывает не в чем ином, как в соединении хорошо известного по принципам неизвестной логики – так, как не могло бы быть в одном ландшафте. Это означает, что ключом к этой логике является соединение ландшафтов.
Причем последовательность соединения является определяющей. Если скомбинировать такой ландшафт, то заселится он самопроизвольно. А тогда ужe и все персонажи проявят не свойственные им черты. И – что самое главное – персонажи будут занимать пространство очень плотно. Безответственная последовательность плотная.
17. А еще, – рассуждал Франц, – вдали сны похожи на хорошую прозу со сравнениями, почерпнутыми из разных систем координат, утонченными выделениями отдельных деталей в потоке панорамы, прозрачной вседозволенностью, незабываемым ощущением присутствия, одновременностью всех тропизмов, неудержимостью неожиданного и скупой риторикой сдерживания. И на хорошую траву, которая не приносит ничего своего, но обрывает то, что держит, и переводит решетку пропорций времени и расстояния из кристаллического состояния в газообразное.
18. Однако решиться на такой фильм было труднее, чем на «Ночной дозор». Так что со временем он даже перестал беречь сны на потом, лишь наслаждаясь ими полностью ночами.
19. В июле 1904 года Анна рассказала один сон.
Я стою на ровной крыше двухэтажного длинного дома. Дом стоит в воде. Вода аж до верха первого этажа. До конца его высоких арок. В воде плавают три головы и стоит цапля. Одна голова заплывает под арку. Другая хочет уплыть отсюда. По лестнице из окна второго этажа спускается к воде голый пузатый человек. Сухая рука из-за угла пытается его остановить. Я тоже голая. Стою на самом краю. Руки подняты вверх. Сложены вместе. Я собираюсь прыгнуть с высоты в воду. Сразу за мной стоит круглый стол. А за ним – бочка с кувшином. За столом сидят монах и монашка и что-то пьют. Над столом, бочкой и монахами натянут на сухой ветке шатер. Сбоку к дому пристроено полушарие купола с часовенкой наверху. Из трубы часовенки вырывается огонь, а из окна выглядывает бабка. Она смотрит на меня. Далеко за куполом – широкая река, зеленый лес и высокие синие горы, как наши. С другой стороны дома пристроена круглая башня. На ее стенах нарисованы человечки. Человечки пляшут, скачут и кувыркаются. Один берет с неба какую-то книжку. Двое несут на плечах огромную малину на палке. Верх башни разрушенный и щербатый. Между обломками растут маленькие деревца и пасется коза. Вода перед домом заканчивается длинным островом. Остров голый, из красной глины. На конце острова стоит ветряк. За островом снова вода. За той водой город. К самой воде подступают две башни. Между ними каменный мост. На мосту огромная толпа людей с поднятыми вверх копьями. Некоторые стоят около перил и смотрят через воду и остров в мою сторону. На одной башне горит хворост. Под башнями (у подножия) плавают какие-то звери. Мужчина с мечом и щитом сражается с одним из них. Дальше за башнями пустое песчаное место. Посредине стоит двухколесный воз. Еще дальше сам город. Дома с острыми крышами, высокий собор, стена. А вдали высокие холмы, или низкие зеленые безлесые горы. У самого горизонта тоже большой ветряк. Справа от меня, но за водой и островом, стоят на берегу какие-то фигуры. Ко мне спинами. Некоторые сидят на конях и каких-то непонятных зверях. Один в латах и шлеме, а у другого на голове пустой пень. Между ними растет сухое дерево. Полдерева закрыто красным занавесом. В большой трещине в стволе стоит голая женщина. На верхней ветке сидит дятел, но очень большой. Какой-то человек приставляет к дереву лестницу. Довольно далеко за ними сидит на камне бородатый человек в монашеской рясе с палочкой в руке и рассматривает книгу. Он похож на моего святого Антония.
Через окошко в круглой башне, про которую я уже говорила, я вижу, что за башней происходит что-то важное. Но ничего не могу разобрать, и это очень угнетает. Но все равно очень хорошо, что я среди этого движения. На секунду смотрю через плечо и вижу далекий пожар. От него становится горячо коже спины и ногам сзади. Как-то становится понятно, что от этого надо бежать в воду. Уже собираюсь прыгнуть, но смотрю вниз и вижу натянутую колючую цепь. Не сомневаюсь, что смогу перелететь через нее. Но все еще стою. Руки уже слегка затекли, потому что долго подняты. Вдруг на спину надвигается тень, и становится прохладнее. Смотрю вверх. Как раз надо мною проплывает в воздухе парусник, окованный латами. Я вижу его дно. Это летучий корабль. Он пролетает. Тень уходит. Снова начинает печь. Уже сильнее. Хочу сделать шаг. Но вижу мужчину с фотоаппаратом.
Он все время прятался в глухом углу между моим домом и пристроенной башней с нарисованными человечками и окошками. Я не хочу, чтобы меня фотографировали, и кричу на него. Мужчина отрицательно машет руками и показывает на летучий корабль. Во мне все соглашается, что это действительно интересно. Мужчина прячет фотоаппарат в стену. Идет к башне и исчезает за поворотом. Я встаю на носки. Раскачиваюсь и прыгаю. Вижу перед собой ту цепь. Поднимаюсь всем телом. Пробую ее перелететь. Но тело не двигается с места. Я не лечу и не падаю. Начинаю кашлять. Очень быстро лечу прямо на цепь. Ударяюсь о нее пальцами вытянутых рук. И на этом я пробудилась.
20. Сон Анны показался Франциску настолько живописным, что он сразу же попробовал зарисовать его. Анна по ходу поправляла рисунок. Когда дошло до людей на берегу около дерева и мужчины с книгой за ними, Францу показалось, что он уже где-то это видел нарисованным. Лишь угол зрения был иным. Но стоило Анне раскрасить эскиз цветными карандашами, как Франциск узнал Босха. Без всяких сомнений – «Искушения святого Антония».
В Ляруссе Босх был представлен «Путешественником» из коллекции мадридского Эскориала. Других репродукций Анна не могла видеть, Франц был уверен, он всегда был рядом. Никто никогда не пересказывал «Искушений» за всю жизнь Анны, про них Франц точно не слышал даже воспоминаний или аллюзий еще со времени учебы. Это означало, что стало так, как сказала вещунья – сны Анны показывают, как могло бы быть.
Но Франц не утихомирился. Он побежал к Лоци и попросил, чтобы тот где угодно срочно заказал альбом Босха. Франц готов был ждать долго, лишь бы знать, что что-то делается.
Лоци пообещал заказать альбом завтра же. И сказал, что у него в библиотеке есть Босх, но только одна репродукция – «Искушения святого Антония».
Анна, не колеблясь, показала свою обнаженную фигурку в правом верхнем углу центральной части картины.
Когда же они одновременно узнали Непр о стых в двух главных фигурах из четырех, переходивших мост на левом крыле триптиха, то Франциск пообещал себе сделать этот фильм.
21. Работалось как никогда тяжело. Франциска мучили сомнения. Он непрерывно раздумывал, сможет ли он передать настроение, колорит, атмосферу, сумеет ли расшифровать все тайные значения, следует ли показывать кому-то такое, не выглядит ли Босх смешно и безвкусно, не грех ли перерисовывать всякую нечисть и содомию, не обидит ли он Непр о стых, не накличет ли беды на Анну, не сделал ли он кому-нибудь зла умышленно или неумышленно, есть ли смысл в искусстве, доживет ли он до окончания работы, не случится ли чего-нибудь нехорошего на показе, будет ли его смерть мучительной, встретится ли он после смерти с родителями, ждет ли там его Анна, будет ли когда-нибудь счастливым его народ, есть ли в мире что-нибудь красивее, чем наши любимые горы Карпаты, стоит ли так много думать, нужно ли все запоминать, хорошо ли всем все рассказывать, обязательно ли говорить красиво, думают ли растения, существует ли завтра, не произошел ли конец света уже давно, долго ли еще он выдержит без женщины, не находится ли он под властью дьявола.
22. Точный ответ на последний вопрос был бы ответом на многие другие. Невзирая на то, что Франц был убежденным греко-католиком, в частых дискуссиях на джиновом курорте всегда аргументированно побеждал манихеев, катаров, альбигойцев и ничего в мире не боялся, потому что был уверен в правильности Божьего замысла, дьявол за время работы над этим фильмом являлся ему трижды.
23. В первый раз он не показывался, только очень лаконично проявил одно свое свойство. Он был как магнит.
Францу снилось, что он лежит на полу. Вдруг, не делая ни одного движения, даже не напрягаясь, он двинулся по полу к стене. Потом – в другую сторону. Потом еще и еще, с перерывами, быстрее и медленнее. Так, будто он металлическая пылинка на листе бумаги, а под бумагой двигают магнитом. Один раз его подняло даже вверх по стене – по-прежнему лежа – и деликатно опустило на пол.
После этого дьявол попросил внимательно следить за тем, что будет. Он двинул Франца в угол. Оказалось, что там спит его учитель. Франца подтолкнуло к учителю и сразу же потянуло назад. Учитель, не касаясь тела Франца и не просыпаясь, поехал за ним. Видишь, сказал дьявол.
Голоса Франц не слышал, но то, что говорил дьявол, откуда-то знал.
24. Во втором и третьем снах дьявол использовал разновидности одного и того же приема.
Второй сон был самым коротким. Франц стоял на улице в Яливце (место было настоящим, он его хорошо знал). Он ждал свою Анну, которая уже показалась в конце улицы. Вдруг к нему подъехал броневик Бэды. Бэда выглянул из верхнего люка и сказал, что он привез кого-то, с кем они сейчас выпьют джина. Из боковой двери вышел какой-то панок и подошел к Францу. Анна была все ближе. Панок стоял спиной к Анне и броневику. Он вынул из внутреннего кармана бутылку, вытащил пробку и протянул бутылку Францу. И тут все произошло. За те несколько секунд, пока и Анна, и Бэда подошли к ним, Франц успел заметить смену нескольких тысяч разных лиц на голове панка, нескольких сотен жилеток под распахнутым пиджаком, нескольких десятков форм бутылки и нескольких десятков оттенков напитка. Когда панок и Франц перестали быть наедине, калейдоскоп остановился. Панок усмехался, усмехались Бэда с Анной. Франц выпил первый. Вкус напоминал ренклоды. Бутылку передал Бэде, а тот – панку (Бэда их так и не познакомил). Когда очередь дошла до Анны, Франц почему-то выкрикнул, что она не пьет. Никто, кроме Анны, не удивился и не упрашивал. А Франц незаметно, но очень сильно сжал ей палец. Он уже знал – кто это.
25. После третьего сна Франциск пошел на высокий мост и рассказал Непростым про Босха. Все ж таки в башне, – сказал верхоблюд [23] . Франц спросил, показывать ли кому-нибудь уже законченный фильм. Это зависит только от твоего желания, ответили Непростые. Хотя подумай, может, не стоит показывать наши лица там, где вам почудилось. А теперь иди домой и приглядывай за Анной, мы должны немного побродить по мирам, но скоро она станет женщиной и будет знать, где нас найти, сказал баильник [24] .
26. Дома Франц сжег рисунок, на котором был набросок сна Анны.
Для того, чтобы быть счастливым, – сказал он Анне, – нужно прожить без тайн, а чужие знать только такие, которые можно рассказывать под пытками.
Он очень боялся, что Непр о стые рано или поздно могут прийти за фильмом, поэтому заповедал Анне никогда не вспоминать, что он существовал. Но если бы кто-нибудь захотел дознаться о чем-то, применяя пытки, то следует сразу же рассказывать все, что хотят. Не пытаться обмануть, а говорить правду. Поэтому ты должна знать, что я все уничтожил.
Франц запаковал фильм в капшук [25] и вышел за город, чтобы сжечь его, выкинуть в пропасть или утопить в источнике.
Дорогой он думал: как бы Анну ни мучили, она будет говорить правду – фильма нет. Парадоксально, но это будет единственной правдой, в которую палачи не поверят, и пытки не прекратятся.
В таком случае жаль уничтожать фильм. Может, он как раз когда-нибудь пригодится. Пусть найдется кто-то такой, кто посмотрит, проанализирует, хорошо подумает и поймет – что это за такие Непростые и как они вертят миром. Ведь всегда постепенно выясняется, как все и все в мире соединены со всем – переходами, которых не больше четырех.
27. Франциск вошел в буковый лес, в котором каждое дерево имело дупло под корнями. Он набросил на глаза капюшон длинной суконной мантии, чтобы видеть только, где стать, и начал на ощупь бегать по лесу. Несколько раз налетел-таки на деревья, но ничего, глаза были защищены. Бегал вверх и вниз по склону, пока в середине капюшона все звуки мира не сменились хрипом из глубины легких. Лишь тогда он остановился, не открывая глаз, нащупал дерево, нашел между корнями дупло и запихнул капшук с фильмом в дыру, глубже, чем на полтора локтя. И уже медленно пошел из лесу. В таких местах это легко сделать, не глядя. Надо идти вверх, ориентируясь по наклону земли. Вверху Франц скинул обледеневший капюшон и посмотрел на лес. Все деревья были одинаковые и незнакомые, меж ними вились бесконечные переплетения следов, глаза болели от бесстыдного лунного освещения.
28. Конечно, была зима. Конечно – падал снег. Можно было возращаться, хватая снежинки пересохшим ртом.
29. Дома Франциск не почуял запаха дочки и подумал, что действительно живет после конца света, который недавно произошел. В доме было слышно лишь переливание воды в глубинах канализации, сжимание металла в дверцах остывшей печи, ультразвуковые вибрации стекол, пахло серой и углем – менялось давление.
Франциск решился выглянуть в незапертые двери на балкон. Одеяло, расстеленное в саду, выглядело болезненным пятном. На одеяле спала припорошенная снегом маленькая девочка, которая еще никогда не засыпала без папы. Для того, чтобы устоялся сквозняк, нужно какое-то время. Поэтому Анной запахло почти через минуту. Франциск понял, что не хотел бы, чтобы она становилась женщиной.
30. После той ночи Непростые вправду ушли из Яливца, каким-то образом замотав висячую лестницу на верх виадука. Французский инженер остался, ни на день не прекращая свою работу. Франциск перестал делать анимацию. Теперь он вместе с Анной и сербом Лукачем, который все свои перемещения отмечал посаженными лесами, занялся обустройством города. Немного пил (преимущественно пересекая круглый столик в баре экватором полных стаканчиков. И никуда не выходил, пока не опорожнял весь ряд), но от каких бы то ни было джиновых процедур отказывался.
Построил себе оранжерею, где разводил тропические растения. Наблюдал за изменчивым подобием детей пса Лукача, которого ему предстояло убить в оранжерее. Порой брал в обе руки по бартке [26] и так бежал аж на Мэнчил. Оттуда приносил свежую брынзу, перебросив, словно коромысло с ведрами, бартку с привязанными бербеницами [27] через плечо. Интервью давал неохотно, но старательно. В основном делал ударение на то, что создавал разные фильмы для того, чтобы так по-разному пожить.
31. В 1910 в Яливец специально приехали послы венского парламента Мыкола Лагодынский и Васыль Стефанык, чтобы уговорить Франциска вернуться к творчеству. Франциск ничему не возражал и ничего не обещал. Депутатов принимал не дома, а в отеле «Ч.П.Т.», что означало Чэрэмош, Прут, Тиса.
Лагодынский позднее вспоминал, как Франциск Пэтросский сказал, что украинская держава будет возможна только тогда, когда карпатский вектор станет основой ее геополитики, карпатская космогония – моделью идеологии, а сами Карпаты – природным резерватом (Франциск не очень верил в то, что говорил, ибо ненавидел гуцульское стремление вырубать в течение жизни как можно больше деревьев и гуцульское непонимание того, что появляется раз от разу больше мусора, который нельзя выбрасывать в воду).
32. Что до Стефаныка, то он рассказывал венским знакомым Франциска больше. Каждый человек, – так сказал Франциск, – может сделать за свою жизнь книжку. Я говорю «книжку», хотя мы начали говорить про фильмы. Каждый, но лишь одну. Те, которые думают, что написали много книжек, ошибаются – это все продолжается одна. За свою книжку не выскочишь, что бы ты ни изменял. Можно подделать, но не сотворить. Твоя единственная книжка ограничена твоим тембром, интонациями, артикуляцией. Судьба – это способ говорить. Хотя книжек в мире не счесть, действительно хороших – ограниченное число. Должно быть ограниченное, а всех вообще должно быть без числа. Так учат растения. Если бы хороших книжек было без числа, мир бы остановился или спился. Я свою книжку написал. Не знаю – хорошую или нет, но написал. А с этим дело обстоит так, что не имеет значения – дописал или не дописал, переписал или только вознамерился. Не имеет значения, в одну страницу твоя книжка или в шкаф томов. Голос есть – достаточно. Сюжеты нужны для собственного интереса. Сюжеты не придумываются, не исчезают, Они есть и есть. Только могут забываться. Все, чему я научился и что запомнил в жизни – несколько пейзажей, которые означали радость мышления, несколько запахов, которые были чувствами, несколько движений, которые вбирали в себя ощущения, несколько вещей, предметов, которые были воплощениями культуры, истории, страданий, много растений, которые суть доступ к красоте, мудрости и всему тому, по сравнению с чем нас просто нет на свете. И много-много интонаций. Неповторимых похожих интонаций, про которые не знаю – что они означали. Может, по ним мы будем узнаваться там, где ничего, кроме голоса, не остается.
33. Еще Стефанык радовался, что – когда Лагодынский пошел спать – они начали всякое на себя наговаривать – блиндepa, халявщик, бельмастый, идолище, гугнивый, лопотливый, гыкливый, косоглазый, сопливый, бездельник, фарион, лихун, данцивник, губошлеп, зайдей, непутевый, торбeй, нищеброд, верховец, сушняк, бойк ты, лемк [28] ты, гуцул ты – да и заснули.
39. А двумя годами раньше Франциск впервые повел Анну на место, откуда вернулся один пятнадцать лет тому. Побывать там еще хоть раз Анна не успела. Но так началась единственная в их семье традиция.
Осенью 1913 года Анна еще не была женщиной. А вскоре через Яливец полетели в Африку птицы. Франциск почувствовал: еще немного – и заплачет. Ничто самое главное не происходит по собственной воле, подумал он и попросил Анну сварить много кофе и выжать сок из четырех грейпфрутов, больших, как маленькие тыквочки.
Франциск поймал себя на том, что не может, закрыв глаза, точно припомнить абрисы всех окружающих гор, как раньше начал забывать все те незабываемые женские груди, с которыми знался. Поэтому должен взойти на скалу, посмотреть на то, что так любил. А удостовериться, что сваренный кофе с соком будет ждать его дома, хотел перед тем, как выйти на прогулку.
40. Домой он вернулся, припомнив все вершины, вместе с Себастьяном. Франц предложил ему попробовать пожить в Яливце. Анна постелила еще одну постель в свободной комнате. Второй ключ от комнаты почему-то с утра был у нее.
Франциск чувствовал, что запах Анны перестает быть детским, и Непр о стые могут прийти очень скоро, ибо кровь гостя, словно ветряная болезнь, начала смешиваться с кровью женщин его рода еще в воздухе.
Себастьян так хотел спать, что с благодарностью принял предложение Франца пожить в Яливце.
А Анна думала, что Себастьяну будет нелегко все время успевать быть другом отца и мужем дочери.
Голые виноградные ветки стучали в окно, под которым стояла кровать. Себастьян заметил, что ритм их ударов может служить ветромером.
Чрезмерные дни1. Утром Франц проснулся от какого-то совершенно незнакомого запаха. Сначала ему показалось, что произошло чудо и вместо ожидаемой зимы, которая могла принести какой-то смысл, наступила пора июньских дождей и чрезмерности зелени. Но когда Анна вошла под утро в их комнату, Франц завел новый календарь запахов, в котором у сезонов был другой порядок.
Реальность существует для тех, кому недостает Анны.
2. Себастьян первый и последний раз в своей жизни любился с женщиной, которую знал всего несколько часов.
Даже в Африке было не так. Хотя женщин, которые становились его, он определял с первого взгляда, все равно всегда был уверен, что заняться любовью они не успеют. Хоть будут долго заботиться друг о друге, разговаривать о детстве и пересказывать книжки таким образом, что количество прочитанного каждым сразу же удвоится, давать друг другу еду, мыть и греть тело, показывать увиденное с разных сторон дороги. Лишь позднее выяснялось, что в таком сосуществовании заложено одно непреодолимое направление. Поскольку оно означает любовь не к себе, а к другому, то предусматривает и расширение доступа на территорию этого другого. И можно дойти до места, откуда расширяться дальше можно только вoвнутрь, только под кожу. Так происходило с Себастьяном.
Что до женщин, то, увидев Себастьяна в первый раз, ни у одной не возникало неудержимого желания заняться с ним любовью. Неотвратимость этого проявлялась постепенно – достаточно было немного пожить непосредственно рядом с ним. Так, собственно, происходило в Африке. В конце концов, Себастьян только это про Африку и знал.
Лишь заночевав в Яливце, Себастьян убедился, что его Европа существует.
3. Ночью выпал снег и началась зима, которая в том году протянулась до середины апреля. Из-за возможности зимы быть разнообразнее, чем все времена года, каждый ее день был совсем другим.
И не было два раза одинаково хорошо.
4. Анна не могла поверить, что такое неправдоподобное подобие бывает—выгнутые линии повторялись, вгибались или выгибались точно вслед за выгибами и вгибами, накладывались так, что две поверхности ощущали не себя, не другую, а появление третьей, такой идеально тонкой, что сгибалась, прогибалась, перегибалась самостоятельно.
И случайно таких единств не бывает. Какая-то законченная утонченность, утонченная законченность, которая так легко передается от одного к другому и на несколько поколений вперед.
Любовь не предусматривает взаимности, – сказала Анна, и Себастьян молчал, потому что понял, что ответа она не требует тоже. Ему казалось, что что-то в мире обрушилось, что мир зашевелился из-за него. И хотя любовь не имеет будущего, не допускает использования будущего времени, только с Анной он смог представить себя в старости.
Анна открыла окно. Теперь виноград невозможно было слышать, потому что ветки, качаясь, просто залетали в комнату. Но ветер утих не из-за отсутствия ветромера – начал падать такой тяжелый снег, что постепенно прижал его к земле и прикрыл собою. Так же уравновешенно и неспешно снег залетал в комнату, оседал на кровати. Таким образом, там властвовали шесть жидкостей – слюна, кровь, вода из снега, пот, влага Анны и семя Себастьяна.
5. Утром завтракали втроем. Нужно было сесть рядом вдоль узкого длинного стола, приставленного одной стороной к окну. Себастьян почти не пах Африкой. А с пальцев не стирался запах слизистых Анны, поэтому Франциск решал, как им впредь садиться: он – Анна – Себастьян, он – Себастьян – Анна, или Анна – он – Себастьян.
Анне принесли письмо от старого Бэды, на сей раз обертка была от того самого чая, который она заварила мужчинам к завтраку. Она думала, что же написать Бэде, если никаких вопросов у нее больше нет.
6. В ту зиму Франциск спохватился – у него нет ни одной фотографии для статьи о себе в Ляруссе. Можно было пойти в «Хамелеон» и сфотографироваться, но Франц правильно рассудил, что – поскольку вариантов статьи несколько сотен – даже самый лучший портрет будет случайным. Нужно было фотографироваться каждый раз, когда статья писалась заново (Ведь придумал он когда-то такой фильм – фотографировал одну особу каждый день в одной позе и на том же месте на протяжении двух лет, потом на разных скоростях прокручивал этот ряд эволюционных смен. А на фоне эволюции очень выразительными становятся детали).
И потому Франц придумал удивительный способ не просто наверстать упущенное, но и найти что-то совершенно неожиданное.
7. После завтрака (Франц, наконец, постановил – правильнее всего, чтобы Себастьян всегда был посредине, – смирившись с тем, что Анна будет сидеть только рядом со своим мужем – сам он должен был быть близко от Себастьяна, чтобы удобно было говорить обо всем) Франциск забрал у Анны второй ключ от комнаты Себастьяна, потому что комната больше запираться не будет, а он туда не будет заходить. Перечитал письмо от Бэды и сказал, что рассказывал это когда-то Анне, потому что рассказал ей все, что знал, а написанное старым Бэдой знает. Видно, она была слишком маленькая, когда рассказывалось именно это воспоминание, и оно забылось. Если захочет, может послушать еще раз, когда он – обязательно – будет рассказывать всю их историю Себастьяну.
А потом Франц вытащил из кровати вложенный туда на лето зимний кожух и пошел в отель «Унион», где в номере на втором этаже уже несколько лет жил единственный в Яливце наемный убийца.
8. Штефан очень удивился, когда в его номер вошел Франц – в Яливце Франц мог убить кого угодно, не нуждаясь в наемном убийце – все его слишком уважали. Штефан как раз вернулся с удачного дела в Космаче и должен был немного поработать над винтовкой.
Перед тем, как пришел Франц, он уже успел побывать на службе Божьей и даже причаститься после нее. Но причастие не проглотил. Принес его во рту в отель и заложил в дырку, предварительно сделанную в стене сверлом. Зарядил ружье пулей, отошел к другой стене и выстрелил, целясь в дырку. Хорошо, что попал. Это выстрел Франц слышал между первым и вторым этажами, когда ехал в лифте, который два работника поднимали вверх, поворачивая рукоять лебедки под самой крышей. Штефан отложил оружие и начал собирать кровь стены. Франц открыл дверь. Теперь надо было умастить ружье собранной кровью, но Штефан не хотел это делать при Франциске.
9. Франциск быстро объяснил свой заказ.
Он хочет, чтобы Штефан незаметно – как он это очень хорошо умеет делать – следил за ним. Выслеживал как убийца. Находил хорошие места для стрельбы и удачные моменты для выстрела. Но вместо ружья у Штефана должен быть фотоаппарат. Франц дает Штефану три месяца времени. После этого забирает сто своих фотографий и доплачивает остаток денег. Главное, чтобы ни Франциск, ни кто другой его никогда не заметили. Услыхав про размеры гонорара, Штефан охотно согласился, не беспокоясь о том, что вообще не знал даже, как выглядит фотоаппарат.
Между прочим, благодаря этой Штефановой безответственности много людей были живы. Штефан – как это свойственно украинцам – постоянно брал на себя обязательств больше, чем мог выполнить. Поэтому выполнения некоторых заказов приходилось ждать годами, а иные просто забывались. Но теперь Штефан понимал, что с Францом медлить не следует. Ему говорили, что Франц знает те восемнадцать слов, от которых дрожит ружье, а цель сама приходит, плача, и становится так, чтобы в нее попасть прямо из окна.
Франц показал, как обращаться с фотоаппаратом, и ушел. Штефан быстренько намазал кровью со стены все ружье. Знал, что это страшный грех, и он будет принадлежать Иуде, но делал так всегда, чтобы винтовка никогда не подвела. Особенно после того, как закипит кровью.
10. Каждый день Франц брал Себастьяна на прогулки по Яливцу. Морозы были сильные, и катки не подтаивали даже в солнечные дни. Наконец-то Францу было с кем поговорить – оказалось, что Себастьян как настоящий стрелок умел видеть так же много, как и он. Казалось, могли бы быть какие-то бесконечные важные беседы, ибо проблема Центральной Европы – стилистическая, но нет – несколько слов, указание на увиденное.
Когда они заходили в какие-нибудь бары, то пили джин, разбавленный кипятком, а запивали только свежим соком, сделанным из подмерзлых яблок, оставленных осенью на деревьях и только что сорванных из-под снега.
Порой ходили к месту, где погибла самая первая Анна, и Франц рисовал на снегу схемы каждый раз других версий семейной истории. Есть вещи важнее, чем судьба, – говорил он. Может быть, культура. А культура – это род, сознательное пребывание в нем. Франциск попросил проследить, чтобы дети Себастьяна и Анны обязательно побывали на этом месте. И еще там, где Франц встретил Себастьяна (он чуть не добавил сюда буковый лес с неуничтоженным фильмом, но своевременно удержался, потому что, в конце концов, не так много знал о Непростых), а другие места будут появляться со временем. Ведь время – это экспансия рода в географию.
11. Были дни, когда Себастьян брал с собой африканскую винтовку. На особенно трудных склонах на нее хорошо опираться. В один из таких дней они говорили про свои мечты. Ничего удивительного, что Францева мечта оказалась более сложной.
Себастьян мечтал быть старым, жить на маленьком островке-скале в теплом море, целый год ходить в одних парусиновых штанах, но ходить немного, преимущественно сидеть на каменной лавочке возле белого пустого домика, целый день пить красное вино и есть сухой козий сыр, и смотреть на несколько кустиков томатов, а не на море, в котором купался бы по ночам, пока пахнут матиолы.
Франциск же мечтал о женщине с несколькими парами грудей.
Вдруг Себастьян согнулся, толкнул Франца головой в живот, Франц покатился с холма, а Себастьян перевернулся на земле через плечо и, лежа на спине, выстрелил из забитой снегом винтовки. На далеком холме что-то дзенькнуло. Немного полежав, они пошли туда и нашли простреленного Штефана с разбитым фотоаппаратом.
Себастьян принял блеск объектива за отсвет оптического прицела. Штефан проворонил главное: чтобы тебя никто не заметил, – сказал Франциск. А за провороненное надо уметь отвечать.
То уже другое дело, что Франциск так и остался без фотографий к энциклопедии. К счастью, редукция все еще интересовала его.
12. После этого случая Анна захотела научиться снайперству.
13. Сначала надо полюбить свое тело, сказал Себастьян.
И местность, где все происходит.
Ибо тело – врата мозга.
Если хочешь думать правильно и быстро, врата должны быть всегда открыты.
Чтобы мысли могли выходить и входить свободно.
Мысли – это лишь то, что профильтровывается из местности сквозь тело и через тело вытекает.
Раскованность донорно-акцепторных связей.
Лежать в воде и не слушать ее запах.
Смотреть под траву и не чувствовать ее вкуса.
Чувствовать взглядом вкус того, что ощущаешь прикосновением.
Врата открываются лишь тогда, когда их любишь.
Откройся, ты же всегда так хорошо открываешься.
Ногтями можно царапать, но можно удерживаться.
Продолжай взгляд, удержи взгляд, выдержи взгляд.
Перенесения желания тела быть там, куда не дотянешься, на винтовку.
Если полюбишь местность, она будет расползанием твоего тела.
Стреляешь не ты, а рельеф.
Думает не голова, а тело.
Долетает не пуля, а мысль.
Каждая мысль – это желание, которое сумело войти и выйти через врата.
Что можешь сделать сама, делай без никого.
Говори то, что подумалось, а думай так, как в этот миг почувствовала.
Плачь от нежности, потому что иначе никогда не будешь такой сильной.
Следи за дыханием, так как только оно может установить диктат ритма.
Постоянно имей в виду деревья, они исчезают и появляются наиболее надежным образом.
Когда очень утомлена, то переставай быть непреклонной и засыпай.
Дотянись губами до своей середины.
Стрелять в окно – как заглядывать в окна.
Попробуй понять, как черные делают джаз.
Открытость. Щедрость. Благодарность.
14. Чтобы выучить все эти и бесчисленное количество других тонкостей снайперского искусства, необходимо безоговорочно придерживаться строгого режима – постоянно заниматься любовью; и только на открытом воздухе. Долго, легко, сильно, быстро, нежно, упрямо, неуклюже, хорошо, мудро, внимательно, очень внимательно, мудро и хорошо. На земле, на листьях, на мху, на деревьях, под деревьями, на холмах, в ямах, на ветру, под снегом, на льду, вдоль дороги, поперек моста, над мостом, в сумерках и в ночи, на рассвете и днем, перед, после и во время еды, молча и с криками. Стоять. Ходить. Сидеть. Лежать. Так, как можно было успеть за самую долгую зиму 1914 года.
Всю эту долгую зиму, которая длилась до апреля 1914 года, Себастьян и Анна почти не заходили в помещения. Анна говорила то, что подумалось, а думала, как чувствовала в тот миг. Она плакала от нежности, потому что никогда в жизни не была такой сильной. Порой, когда Себастьян был в ней, то казалось, что надо еще ближе, а иногда он был страшно близким сквозь несколько сорочек. Когда она сгибалась, то он был уверен, что что-то заставляет сгибаться и его. Словно вокруг кожи возник еще один слой тугой оболочки.
Чрезмерные дни.
Третья старая фотография – разве что в Лярусс1. Этот снимок Себастьян – если бы его вдруг спросили – ни за что не смог бы описать детально и точно, хотя видел много раз, и ничего сложного на нем не было изображено.
Может быть, именно законы редукции, запоминания и забывания, которыми был так захвачен Франциск, сработали в случае взаимоотношений Себастьяна и этой фотографии вполне.
Лица – наилучшие сюжеты, – говорил Франциск.
Франциск говорил – сюжеты не заканчиваются и не исчезают. Они могут время от времени забываться.
Сюжет лица Франца вспоминался Себастьяном по-разному на протяжении жизни, но никогда не так, как на этой фотографии.
2. Она была сделана на похоронах Франциска в мае 1915 года.
Франциск лежал на застеленной покрывалом скамье возле ямы на кладбище за Яливцом. Снимали так, чтобы можно было разглядеть только Франца, а не похороны. Франц, обряженный в вышитую сорочку, черес и красные гачи, сложил руки на груди, держа крест из двух карандашей, связанных пучком полонинских трав (так придумал Лоци). Перстень с речными камешками, который Франциск сам себе сделал, годами носил, не снимая, а потом снял и не выбросил, но отказался надевать, торчал промеж карандашей. Отверстие для головы и шеи в сорочке накрыто китайкой.
Сама голова лежит (точнее – стоит) отдельно немного дальше на скамье. Черная борода и седые длинные волосы расчесаны так, что, кроме очей и носа, лица почти не видно.
3. Себастьяна на похоронах не было, этого он не видел. Маленькую девочку – дочку Анны и его дочку, внучку Франциска, о которой тот не успел узнать, принесли вчера. Францу отрубили голову позавчера. Себастьян был при этом. Потом ждал, пока стечет кровь, мыл и чесал Франциска, обряжал его в сорочку и гачи. Голову положил в корзинку, накрыв папоротником. А на следуюший день курьер принес младенца от убитой Анны.
Весь день, когда в Яливце торжественно хоронили Франца, Себастьян не отходил от его внучки, у которой, наверное, болел животик, и она непрерывно плакала.
Себастьян не мог запомнить фотографию, возможно, потому, что не представлял себе, как все было на похоронах, но слишком хорошо знал, что было перед этим.
4. Весной 1914 года Анна могла стрелять лучше, чем Себастьян. Теперь он снова чаще бывал где-нибудь с Франциском, потому что Анна брала оружие и шла на несколько дней в горы. Там она выслеживала зверей, смотрела на них и доучивалась в снайперстве тому, чего не мог знать Себастьян – как выглядит снайпер с противоположного конца винтовки. Не убивала никого, кроме оводов, пытавшихся сесть на вымя полонинских овец.
Я так тебя очень хочу, – говорила Анна, – что не знаю, могла бы ли вообще заснуть, если бы не так хотела спать рядом с тобой. И засыпала, требуя, чтобы под головой была Себастьянова рука. Я хотела бы быть твоей дочерью – чтобы ты был моим папой. Папа – для того, чтобы мог потом сниться.
5. Весна началась только в апреле. За зиму набралось без меры снега, который начал таять весь сразу, невзирая на южные и северные склоны и высоту над уровнем моря.
Где-то внизу текли грязные и переполненные реки, разливаясь наводнениями в разных городах, но там никто не знал, как сходят в горах снега.
Яливец тоже стекал. Каждый каменный дом в ту весну слегка размылся. Все из-за толщины зимнего обледенения.
На каждой улице города горели костры, в которых жгли листву и ветки, вылезшие из-под снега. Сожжение весны пахло иначе, чем осеннее – в огонь попадали срезанные стебли винограда, уже заполненные соками.
6. Всю весну Себастьян со страхом ждал нападения аллергии – как в прошлые годы. Но аллергии не было. Это место приняло его без сопротивления.
Вместо этого заметил во время ожидания, что деревья распускаются утром, сразу по окончании ночи.
Про Себастьяна уже знали все в Яливце. Не раз он, забредя с Францем в какой-нибудь бар, принужден был рассказывать разным компаниям про Африку. То же самое, но каждый раз подробнее. Его даже приглашали в один пансионат инструктором по выживанию, но Себастьян отказался из-за нехватки времени.
7. Потому что как раз тогда Себастьяну приснился один сон.
Он с Анной шел городской улочкой, которой на самом деле не было в Яливце. Улица образовывалась двумя рядами домов, которые стояли на голом склоне. За домами – только альпийские луга и звериные тропки. Улица вела прямо вверх. На первых этажах домов располагались разнообразные бары. Столики стояли и во внутренних дворах за прикрытыми воротами.
Они заходили в каждый бар по очереди, подходили каждый раз к другим стойкам, одним духом выпивали по стакану белого вина, запоминая вкус разных лет на разных виноградниках, им говорили что-то несущественное, но очень интересное десятки знакомых, сидевшие во всех барах. Наконец, с одними знакомыми, тоже мужем и женой, задержались подольше. Женщины о чем-то разговаривали, а этот мужчина предложил Себастьяну искупаться.
Они вышли из бара и пошли улицей еще дальше вверх. Улица резко закончилась заснеженной вершиной горы. Они перешли через нее на противоположный склон. Там был большой открытый бассейн. Себастьян первым вошел в него. Нырнул и поплыл под водой, ощущая, что в бассейне есть какое-то течение, потому что его сносило немного в сторону. Он вынырнул и, держась на воде, убедился, что так сносит еще сильнее. То же самое происходило и с приятелем.
Их несло к той стороне бассейна, которая заканчивалась не стеной, а шнурком, натянутым на поверхности воды. Чем ближе к краю, тем сильнее затягивал водоворот, будто вся вода собиралась вылиться за этот шнур. Когда их прибило к этой границе, они едва успели схватиться за него. Ноги понесло вперед, и они лежали на спинах, уцепившись за шнурок. За ним исчезали маленькие белые черепахи, которых несло отовсюду. Так Себастьян продержался несколько минут. Руки болели, как никогда в жизни, и он решил разжать пальцы и последовать за черепахами. Но сначала поднял голову и заглянул за шнурок. Там вода обрывалась гигантским водопадом, образуя гладкую и высоченную, неподвижную на вид стену. В самом низу пропасти Себастьян увидел все, что только может быть на свете. Вдруг течение полностью стихло, а потом сразу же понесло его в противоположную сторону, в конце концов болезненно вышвырнув на то место, с которого они сходили в воду. Все тело Себастьяна с удивительным сожалением вспоминало недолгую купель.
Они оделись и быстренько вернулись той же дорогой к бару, заметив, что на домах появились балконы, которых раньше не было. В баре было пусто, лишь две бабки играли в шахматы за столиком, который шатался всякий раз, когда каждая из них переставляла фигуру на шахматной доске. В многочисленных бутылках на полках за стойкой не было ни единой капли напитков. Они уже хотели уходить, когда старушки оставили шахматы и подошли к ним. Вскоре выяснилось, что эти бабки – их жены (Себастьян едва узнал Анну), которые ожидали своих мужей, никуда не выходя, ровно сорок лет.
8. Себастьян был настолько впечатлен, что на следующую ночь попытался снова вернуться в продолжение сна. Но вместо этого ему приснилось только то, что он – чай с молоком, смешанный в пропорциях, которые дают самый лучший оттенок.
9. Анна спокойно выслушала эту историю и сказала, что может быть и так, но по большому счету выглядит совсем иначе, потому что по правде наслаждение гнездится не в вестибулярном аппарате, а где-то в легких, что-то там с дыханием, заполнением, опорожнением, давлением воздуха. Франциск когда-то говорил ей именно это.
10. Вечером Анна сняла с Себастьяна сорочку и надела ее на голое тело. Посадила его в бидермайеровское кресло, выбранное из всех кресел в доме, нашла в шкафу начатую пачку капральского житана и вложила ему в руку. Оторвала от дерюги четыре небольших кусочка, взяла бутылочку чернил «Пеликан» и села к столу. Себастьян закурил Капрала, а Анна обмакивала палец в чернила и чертила на обрывках дерюги примитивные и корявые рисуночки – солнце (кружок с несколькими большими лучами во все стороны), елочку (вертикальная линия посредине, а от нее с двух сторон отходят симметричные, короткие, наклонные вниз палочки), человека (палочка, сверху и снизу – раздвоения, между поднятыми руками – маленький кружочек, между расставленными ногами – штришок в сторону земли), цветок (большой круг, плотно облепленный меньшими полукружьями).
Между страниц Лярусса Анна разыскала сухой цветок сортовой конопли и запаковала его в узкую стеклянную трубочку, тихо читая какие-то перлы из энциклопедического словаря. Закончив, вытащила пояс из штанов Себастьяна и скрутила ему руки за спинкой кресла так сильно, что грудные мышцы стали совершенно плоскими. Своим шейным платком так же крепко завязала ему глаза. Вынула из кармана, сразу же раскрывая одной рукой, бритву и без всяких остановок трижды надрезала Себастьяна: на плече, меж ребрами и поперек живота. Надрезы какой-то миг побыли тонкими черточками, потом их края разошлись, раны открылись, и потекла кровь.
Анна вынула окурок житана из Себастьяновых губ и раскурила от него цветок в трубке. Сделала несколько медленных затяжек, долго задерживая в себе дым после каждой. Наконец, взяла трубку в рот той стороной, где тлела конопля, и выпустила одним выдохом понемногу дыма на все раны. Снова затянулась остатком, прижалась ртом ко рту Себастьяна и выпустила все, что держала. От неожиданности Себастьян закашлялся и стал облизывать губы – капральский житан создавал другой вкус на губах.
Лишь тогда Анна залепила порезы разрисованными дерюжными латками. И развязала Себастьяна, который постановил себе ни о чем не спрашивать.
11. Той ночью Себастьяну приснилось, что они с Анной идут улицей, выводившей из Яливца. Только вместо яливцов и жерепа росли две шеренги огромных цветущих лип, про которые было известно, что они сейчас начнут говорить, и тогда нужно либо вообще ничего, кроме приветствия, не произносить, либо отвечать очень точно. Деревья должны были что-то оценивать по известным только им показателям. С боков и сверху, сквозь все трещины крон светило безальтернативное солнце – так морская вода проникает в дырявый корабль, растекается по нему, набирается во все закоулки и опускает его на дно.
Он шел по этому коридору так уверенно, будто что-то нажимало на затылок. Рядом ходили какие-то неизвестные люди, но если бы сделать фотографию улицы со всей толпой, то все равно было бы понятно, что фотография про него.
Себастьян видел немного вперед – под деревьями еще лежали кучи сметенных листьев, а он уже смотрел, как из них идет первый дым.
Он знал, что будет идти по этому туннелю всегда, постепенно тратя себя трением о свет, до тех пор, пока не войдет в вечность, полностью став светом.
12. Анна была благодарной ученицей и научила Себастьяна заказывать и дарить тематические сны, используя самую большую в мире силу – вибрацию. Для достижения такого наслаждения нужна лишь капелька фантазии, чтобы самому научиться угадывать вибрацию в том, про что не умеешь и подумать, что мог бы это знать.
13. Все начало лета Анна и Себастьян развлекались, притворяясь, будто Анна беременна.
Они стали заниматься любовью деликатно. Спали долго. И долго не вставали, ласкаясь еще раз. Неторопливо ходили на полонины за молоком. Назад возвращались просекой, срывая самые близкие ягоды, и еще последний раз любились там, где заканчивались ежевичники. По дороге вспоминали про свои первые дни вместе, всегда находя какие-то не замеченные раньше тонкости. Обедали всегда дома на веранде, а ужинали где-нибудь в городе, но всегда заказывали самую здоровую еду, а сервируя стол, устраивали изысканные натюрморты. Меряли в лавочках платья, которые бы подходили беременным. Переставляли вещи в комнате и планировали, как разместить ребенка. Покупали в книжном магазине детские книжечки на несколько лет вперед, и Себастьян читал их Анне на ночь. Себастьян купал Анну в ванне, вытирал ее и умащал пахучими маслами. Перед сном гуляли в самых красивых местах Яливца, поливали нагретой дождевой водой тыквы, которые выращивали в дырявом котле на балконе, и пили чай из целебных трав. Уже лежа, Себастьян глядил под мягким одеялом живот Анны так, чтобы усыпить и выйти на балкон ради последней сигареты.
Среди ночи Анна будила его, и они долго не спали.
14. 28 июня Анна захотела побыть весь день одна. Она должна была успеть дописать письмо Непр о стым и передать его со старым Бэдой, заехавшим в Яливец лишь на несколько дней, потому что Непр о стые вызвали его, задумав какое-то гигантское дело.
Себастьян не отходил от Франца. Они говорили, разгуливая по Яливцу один пешком, а другой – вплавь по каналам. После инструктор по выживанию сфотографировал их и таскался с ними до самого утра сначала у Бэды, а позже – уже Бог знает где, попивая крыжовниковое вино, джин и пророча страшные опасности неосторожному Себастьяну.
15. В конце сентября Анна поехала в Мэзэтэрэбэш и записалась добровольцем в легион Украинских Сечевых Стрелков.
За день до этого в Яливец пришли, наконец, Непростые. Анна встречалась с ними у французского инженера, ночевать легла рядом с Себастьяном на галерее, а утром ее уже не было. Не стало в Яливце и Непростых. Франциск был уверен, что она или пошла с ними, или они ее с собой забрали. Себастьян хотел куда-то идти, что-то расспрашивать, только бы делать что-то, кажущееся необходимым (через полгода он будет благодарен мертвой Анне, передавшей младенца как раз тогда, когда не стало Франциска, и надо было что-то делать, чтобы не сойти с ума от одиночества).
Между прочим, бежать наугад и расспрашивать каждого в поисках потерянного не так уж и бессмысленно. Потому что в наших горах, где воды собирают все и сами собираются в трех местах, выследить потерю очень легко – если она не лежит под снегом или камнем. Да и так неизвестность продержится не дольше, чем несколько лет.
Но Франциск высмеял Себастьяново нетерпение и приказал сесть камнем и ждать. Ибо ждать – самое радикальное, что порой можно сделать. Действительно, через три недели снова пришли Непр о стые и начали требовать, чтобы Франциск пустил их к Анне. Себастьяну впервые полегчало.
16. В октябре в Яливец приехал с фронта раненый боснийский капитан. Завалами Бучацкой цитадели ему раздавило ноги. Их ампутировали, но места фантомных ног так болели, что капитану порекомендовали лечиться в Яливце. Потом надежды докторов оправдаются, капитан перестанет завывать и даже напишет первый том коротеньких мемуаров про начало войны. Все же джин – испытанный анальгетик.
Тем временем в октябре, когда капитана принесли на носилках в Яливец, он всем рассказывал про свою операцию, которую сделали в Горонде. Хирург все свое свободное время проводил в славной горондовской корчме среди старшин УСС. Там он встретил самую красивую из виденных им женщин – Анну Яливцовскую с Карпат. Она была самым лучшим снайпером четаря [29] Пэлэнского из сотни Дидушка и посоветовала хирургу отправить боснийца в Яливец (очень скоро после этого сотня покинула Горонду, двинувшись к Вэрэчкам Нижним). Это было не только вторым облегчением для Себастьяна, но и последним – для Франциска. Анна свободна. Она не с Непр о стыми. Есть вещи, что важнее, чем судьба.
Оказывается – война, а значит, и смерть.
17. В третий раз Себастьяну могло полегчать, когда принесли дитя, но он себе такого не позволил и жил с этой тяжестью до конца жизни, разве что делясь ее крохами, перекладывая их с Анны на Анну.
17. Как Франциск прожил последние месяцы своей жизни, Себастьян толком не знал, потому что видел Франца только издали. В самом простом значении этого слова. И только снизу вверх.
В начале очень теплой зимы Франциск окончательно переселился на балкон, уединившись там и не контактируя ни с кем. Себастьян встречался с ним лишь раз в неделю в баре, куда тот приходил за полным бурдюком джина. Встречи измерялись временем выпивания стакана яливцовки с калиновым сиропом. Франц был трогательно дружелюбен, но про семейные дела даже не вспоминал. Себастьян слушал, а Франц рассказывал самые свежие истории перемещений мировой войны так красочно, словно не он, а Себастьян сидел безвылазно на балконе (или у него был такой бинокль, что видно во все стороны на сотни километров, заглядывая даже за каждое дерево). Себастьян не понимал, как Франц узнает военные тайны обoих военных блоков, потому что не мог знать, как Франц живет на балконе – мешали ветки винограда, плющ и кроны молодых кедров.
18. Еще в Африке Себастьян заметил одну интересную вещь – люди очень охотно рассматривают то, к чему надо опускать взгляд, и страшно невнимательны ко всему, когда – поднимать вверх.
Летом они с Анной особенно много времени провели на том балконе, где поселился теперь Франциск – выращивали тыквы, курили, целый день пили холодный матэ, залитый с ночи горячим в серебряный кувшин. Они видели все, что делалось на улице. Даже могли угадать разговоры по жестикуляции и движению губ. Но никто никогда – Себастьян уверен в этом, потому что не пропускал незамеченным ни один взгляд на себя – не видел, что они делают на балконе, что они – на балконе. Ведь надо взгляд поднимать (тут, видно, что-то связанное с анатомией, – думал Себастьян).
Теперь, глядя на балкон Франца, Себастьян мучил себя, что не научил Анну основному правилу снайперства в городе: прежде всего – балконы.
(Гораздо позже генерал Тарнавский пересказал Себастьяну чьи-то воспоминания о проигранной уличной войне во Львове в ноябре 1918, и Себастьян снова подумал про снайперов и балконы, на которых те снайперы, может быть, перед войной жили).
19. Листья на виноградных лозах полностью опали как-то ночью, и Себастьян смог что-то разглядеть сквозь плющ и кедр. Он увидел тонкую веревку, привязанную к балкону, которая тянулась прямо в облака. И больше ничего особенного. Но при следующей встрече предупредил Франца, что веревку можно заметить, ее видно.
Франц ничего не рассказал, и Себастьяну осталось верить в свою версию, кажется, наиболее логичную. Бечева от балкона ведет к высоко поднятому воздушному змею – к змею приделана птицеловья сетка – в сетку попадают птицы – птицы удирают со своих мест от фронта – за Чорногорою живет орнитолог – орнитолог окольцовывает птиц – птицы окольцованы – они летят через Чорногору – попадают в сеть – Франц осматривает кольца – Франц знает орнитолога – Франц понимает его коды окольцовывания – на кольцах показаны места гнездований – птицы покидают свои места – значит, туда дошел фронт. Франц отпускает птиц и снова поднимает змея.
20. В апреле 1915 года началось наступление под Горлицами (точное место офензивы [30] Франц назвал заранее).
В мае вокруг Яливца начали ходить бродяги: мазепинцы возвращались в Галичину, галичан отпускали из Талергофа и Гминда, москвофилы догоняли россиян, выселенные убегали из России, российские шпионы пробирались в Мадьяры, мадьяры выискивали шпионов и вешали гуцулов, гуцулы брели к румынам за кулешей [31] , румынские опрышки [32] преследовали гуцульских девчат, дезертиры и мародеры избегали друг друга.
Большинство пришельцев Яливец обходили, но среди тех, которые все же появлялись в городе, многие были вооружены. В Яливце же была лишь африканская винтовка Себастьяна.
21. С Франциском все произошло очень быстро.
Так быстро, что всем показалось, будто голова просто упала посреди слова, как трубка может выпасть изо рта – достаточно ее поскорее поднять и втягивать дым дальше. Хотелось так сделать с головой, пока не рухнуло тело. Чтобы конец слова не исчез в минутной паузе.
Они допивали джин с сиропом, когда в бар вошли опрышки с Марамороша. За джин заплатили сапогами с надгрызенными волками голенищами. Сели за спиной Себастьяна, Франц время от времени посматривал на них, потому что был внимательным. Положил на стол мачете, с которым ходил к сербу Лукачу, прорубаясь сквозь жереп, который неудержимо подрастал вокруг лесничества.
Фронт отступ&л, но птицы еще не возращались. Францу не о чем было говорить, и он рассказывал Себастьяну про Непр о стых – когда где-то кто-то рождается, то садятся как раз под теми окнами и придумывают его байку, как земные боги. А поскольку неспособны надумать каждую иной, то сообразили себе устроить войну. Он собирался, наконец, сказать, что баильник придумал Анне (очень важно, что тогда она была не Анной) и где спрятан фильм с чем-то, что ищут Непр о стые.
Вдруг один опрышек подошел к их столу и сказал, что купит мачете. Не купишь, – сказал Франц. Тогда заберу. Не заберешь. Почему? Потому что оно мне нужно. А если не будет нужно? Тогда придешь сюда. Я уже тут, – сказaл опрышек, – и хочу взять. Если сможешь удержать; и посмотрел не на руку румына, а в глаза. Опрышек отвел глаза, протянул руку, вернул глаза, убрал руку. Могу отрубать твою голову, – заговорил по-украински. Если сможешь, отру… Так закончился разговор, потому что опрышек схватил мачете и без замаха, одним весом секача, снес Франциску голову. Себастьян услышал, как заскрипели разодранные сухожилия. Тело Франца сидело. Голова упала на пол и не покатилась. Как глиняная трубка изо рта. Хотелось быстренько положить ее на место и услышать – …бай. Второй опрышек поставил перед Себастьяном бомбу, и оба – уже с мачете – вышли из бара. Себастьян не знал, за что хвататься сперва – за бомбу или за голову. Взял-таки гранату и бросил в открытую печь. Хотя взрыв пошел в трубу – даже средь бела дня взлетели лилики [33] , тело упало на пол, откатив голову под стол.
23. На следующий день курьер принес девочку – младенца от Анны. Себастьян понял, почему погиб Франц – он считал, что невыразимо сильнее всех, потому что не осталось ни одной женщины в мире, которую мог бы любить. Не подозревая, что у него есть внучка. Дочь Анны находилась в тот момент на расстоянии однодневного перехода от Яливца.
Воображаемые войны – коротко1. Почему всегда война? Так спросила маленькая Анна, дочь Себастьяна, когда начала понимать сложные сюжеты. И Себастьян ужаснулся – он действительно рассказывал малышке только про войну, все про войну, хотя был уже 1921 год; он действительно уже два года обучал ее только тому, что могло пригодиться на войне, и воспитывал как солдата.
Почему всегда есть война. Она повернула к нему голову и успела вымолвить вопрос во время полета коня через куст шиповника. Конь ставит передние ноги на землю. Себастьян сильно отклоняется назад, чтобы с размаху не ударить ребенка подбородком в лицо. Анна поворачивает голову и снова смотрит вперед. Они мчат по холмам. Не ждет ответа слишком быстро – становится похожей на Анну, свою маму.
В дороге Анна должна запомнить все, что видела. Потом как можно точнее пересказать. А вдобавок – назвать позиции, которые выберет для стрельбы, и пункты, в которых могут спрятаться враги. Такая детская игра, такая начальная школа.
2. Вечером утомленный Себастьян взял бумагу и сел при свече, чтобы подсчитать материальные следы войны (так Себастьян иллюстрировал Анне разные поучительные рассказы – в виде геометрических задач и теорем).
Война забрала: Франциска, мачете, Анну.
Война дала: химерные облепиховые леса вокруг Яливца, Анну, несколько русских патронов, похоронный снимок Франциска и один рисунок Перфецкого.
Что он делал такого, что можно делать лишь на войне: один раз ходил в дозор, один день копал окопы, один раз подрывал мост.
Совсем немного следов. Война, собственно, прошла мимо. Так почему всегда война?
3. Еще осенью 1914 года яливцовцы порешили, что эта война не для них. Они – Центральная Европа и не могут иметь еще больших интересов. Но когда воюет Юг с Севером, а Восток с Западом, то делают это преимущественно в Центральной Европе, где Карпаты и их реки. И наихудшее, что может быть в такое время – исполнять роль мирного населения Карпат или стратегически важного пункта на полукилометровой топографической карте.
Так что Лукач постановил – Яливец должен исчезнуть. И обсадил его кустами облепихи, которые за несколько недель выросли так (для этого пришлось всем копать настоящую систему обороны с несколькими рядами разных окопов и переходов между ними, весь город словно играл в старую бойковскую детскую забаву – в «кротов», но только так, – заверил Лукач, – облепиха вырастет быстро, высоко и густо, сомкнувшись иголками на тайных стежках), что города не было видно ни с одной горы. Торчал только виадук, на котором обитали когда-то Непростые. Посносили все сделанные из оленьего рога пороховницы, какие где были. Поскладывали на мосту. Пооткрывали окна во всех домах, и Себастьян выстрелил в порох зажигательной пулей.
Мост подскочил, взлетел, глыбы перемешались в воздухе и покрошились, на город упал лишь песок – весь сразу.
(Несколько русских патронов – острые пули, на гильзе кириллическая литера – Себастьяну оставили лемки-дезертиры, выменяв на них немного эфира).
4. Все в мире связано не более, чем через четыре хода. Так говорил Франциск.
Все в мире знают друг друга через посредство не больше четырех человек. Себастьян знал Анну, Себастьян знал Лоци. Лоци знал Анну, Лоци знал Себастьяна. Лоци знал Перфецкого. Художник Леонид Перфецкий знал Анну. Перфецкий рисовал Анну в легионе УСС. Лоци встречался с Перфецким в январе 1919 во временной столице ЗУНР [34] Станиславе. Перфецкий показывал рисунки – Лоци узнал Анну. Он рассказывал Перфецкому о той, кто была на рисунке, а Перфецкий – как когда-то в фильмах Франциска – о том, что было перед рисунком.
5. Анна была прирожденной разведчицей. Умела везде пройти, все увидеть, все запомнить и, что самое редкое, детально описать. Часто переодевалась в разные одежды и переходила линию фронта. Так было и под Болэховым. Однажды она пошла через линию фронта, когда началось русское контрнаступление. Австрийские части отступили, открывая наших стрельцов. На нас пошли три финляндских полка с трех сторон. Начался бой штыками и прикладами. Много наших погибло, в плен взяли сотника Букшованого, хорунжую Степановну, хорунжего Свидэрского, четаря Кравса, десятника Фрэя. Остальные держались и отбили москалей. И вдруг с той стороны показалась в лесу Анна. Была переодета старым мужчиной, оборванная, опиралась на длинный острый посох. Шла прямо на них. Это не было неосторожностью. Что-то вело ее такое, о чем никто не узнал. За ней побежали трое. Анна взяла костур [35] в обе руки. Он был заточенный и острый, как штык. И стала против троих. Орудовала, как настоящим карабином без патронов – словно штыком и прикладом. Одному проколола горло, другому разбила голову над ухом, от третьего получила штыком в грудь. Солдат никак не мог вытащить штык из ребер, и Анна словно помогала ему, обхватив пальцами лезвие. Москаль испугался, выпустил карабин, тот свесился и уперся прикладом прямо в землю. Анна начала валиться вперед, но ее подпирал карабин. Штык уже весь вышел сзади. В одной руке Анна еще держала свой костур. Едва подняла его и ударила по винтовке, которая не давала ей лечь. Приклад подвинулся вперед, и Анна так и упала – вперед, со штыком в груди, который поворачивался в середине. Подбежали еще солдаты и докололи ее на земле так, как учат.
6. Перфецкий отдал рисунок Лоци. Лоци принес его Себастьяну, попросив – распечатай конверт, когда я уйду.
На рисунке Анна не выглядела мертвой.
Голова лежит на каком-то холмике, лицо погожее, губы не сжаты, ноги слегка подогнуты в коленях вверх, одна рука – плавно вдоль тела, другая – закинута локтем к голове. Не было присущим мертвым черт – ни твердости, ни вялости, ни впалости, ни набряклости, ни даже острых зафиксированных углов. Если бы снять одежду, выглядело бы, словно классическая натура в художественной академии.
7. Он не мог воспринять эту Анну как свою. Себастьян вообще не верил в то существование Анны, которого сам не видел – так же было и при ее жизни.
Но, глядя на рисунок, почувствовал себя так же, как на Юра [36] 1914.
На Рынке до самой ночи играли двенадцать цыганских трубачей из Суботыцы. Джин хлестал из пожарных гидрантов. Пьяный Лукач втыкал в землю какие-то побеги, которые росли на глазах. В каналах плавали и танцевали. Летали на всех качелях и трапециях. Когда же все заснули, где упали, Лукач повел цыган, Себастьяна и Анну к себе. Цыгане еле успевали пить. Себастьян не успевал обнимать Анну, и она тянулась к музыкантам. Потом замолкли трубы и начались песни. Все пели, словно перед виселицей. Даже разом протрезвели и вспомнили все, что знали, и опьянели снова – теперь надолго. Они с Анной хотели заняться любовью где-нибудь в углу, но не удавалось, потому что она каждый раз возвращалась к столу, как только начиналась новая песня.
На рассвете возвращались домой и не знали, о чем говорить – не было слов. За спиной еще голосили соловьи, а впереди пробуждались жаворонки. Они думали, что пролежат до дня с открытыми глазами, но заснули, едва прижавшись друг к другу. Последнее, что показалось Себастьяну – с завтрашнего дня начнется иная жизнь.
Он проснулся через два часа и хотел воды. Побежал к дому Лукача. Цыгане уже повставали и варили кашу на огне. Были разве что приветливы. Себастьян не мог понять, к чему так близок был ночью. И целый день ждал ночи.
4. Рассмотрев рисунок, Себастьян начал думать о том, как штык входит в тело.
С этого времени он непрерывно проживал что-то такое. Его колют. Он колет. Сабля рассекает кожу. Заживает рана. Идет по полю среди еще живых, но уже убитых. Медленно умирает от пули в живот. Болото под сапогами. Переходы в колонне. Переправы в холодной воде. Гнойные раны прочищаются грязными пальцами. Оборванные солдаты. Дождевая вода и грязь в окопах. Колеса телег нужно подтолкнуть. Рубятся деревья на дорогу. Взрывы подряд. Надо лежать. Деревья трескаются. Колонны беженцев. Повешенные в садах. Ползти в снегах. Возвращаются белыми холмами черные фигуры. Выжженные поля. Воспаленные глаза. От спанья в холоде болят мускулы. Обожженные руки. Боль, недосып, холод. Постоянные усилия и сосредоточенность, без которых даже добывание еды становится неинтересным. Все это чувствовала и Анна. Первый раз в мире – совершенно одинаково чувствуют двое.
9. В 1921 году Себастьян перестал говорить про войну, хотя его воображение было там всегда. Думая о чем-то, он всегда думал о чем-нибудь еще.
Но дочери начал рассказывать про зверей.
Больше всего ему стало не хватать Франциска.
10. В том же году умер французский инженер. Как и рассчитывал – от курения.
Было уже холодновато, поэтому все окна были закрыты. Трубы тоже держались закрытыми заслонками. Французский инженер докурил последнюю сигарету уже в постели, но не загасил окурок в пепельнице, а встал, не надевая кальсон, перешел комнату и кинул сигарету в печь. Еще попил воды прямо из ведра. И тогда спокойненько улегся спать. А в печи было полно бумажного хлама – преимущественно старые черновики и записи совершенно банальных историй (странно, но после войны число таких увеличилось, и их приходилось отбрасывать – и это при том, что люди стали значительно меньше приходить в нотариальную контору французского инженера: одни истории были не для пересказа, а другие хотелось пересказывать друг другу и целым компаниям). Бумага занялась от окурка, выгорела при закрытой трубе, французский инженер сладко умер от угарного газа.
НепрОстые1. Говорили, что на похороны придут Непростые. Почему они не появлялись все эти годы, когда были по-настоящему нужны, никто не знал. Видно, это не было нужно им. Значит, смерть французского инженера их интересует больше, чем Яливец во время войны. А может, настоящая война за пределами Яливца была им интереснее. Тут, в конце концов, не происходило ничего такого, за чем не уследил бы французский инженер. Если они еще вправду привязаны к Яливцу, то придут затем, чтобы сделать две вещи: во-первых, забрать что-то, что осталось от французского инженера, во-вторых, оставить кого-то на его месте. Франциск говорил, что они заинтересованы в некоторых людях. Себастьяну ослепительно вспомнилось, как Франциск оберегал от них Анну, как говорил о преследовании Непр о стыми их семьи. Страх, что кто-то может забрать у него дочь (еще и дочь его Анны), появлялся – хотя бы на несколько секунд – каждый час. Теперь он расширился и отжимал Себастьяна к границам. Надо куда-то удирать.
Анна спала, а Себастьян тер картошку и жарил пляцки [37] , чтобы взять в побег что-то подходящее.
Тер, жарил и думал о чем-то совсем другом.
2. непростые – земные боги, которые с помощью врожденных или приобретенных знаний могут приносить пользу или вредить кому-то. важно, что есть этот пункт – врожденные и приобретенные. они что-то знают. притом это можно узнать. приобрести. в таком случае непр о стым можно стать, узнав что-то.
а врожденное. их интересовали сны Анны. это врожденное или приобретенное. случилось от морфия – приобретенное. но случилось только у Анны. морфий что-то открыл. значит, врожденное. Анна что-то мне пояснила, я чему-то научился – приобретенное. Анна сказала, что не каждый освоил бы ее науку. должны быть какие-то черты. черты – это главные сюжеты. это интонации. интонации создают голос. что-то присущее и неизменное – поддается разве что имитации. чтобы имитировать, надо знать. имитация – это знание, потому что знание – это имитация. их интересовало, что знает Анна о чем-то, чего они не узнали. значит, их знания не безграничны. их нужно им приобретать. нанизывать на черты. непростые разные. приобрести все знания кому-то одному невозможно. но каждый почему-то выбирает какие-то определенные ветви знаний. зависит от черт. они всякие – коровьи, конские, кошачьи, песьи, куриные, гусиные, жабьи, рыбьи, мышиные. для всякой живности, что из каждой живинки выуживает вкус. еще есть гадер, волкун, градовник, тучник, верхоблюд. еще есть вижлун и вижлунка. но самый главный – баильник, присловник. сильнее всего действует присловье, говорение, бай. бай – это не слово. бай – много упорядоченных слов. бай – уже история. на разные причины есть разный бай. бай – это сюжеты. баян – рассказ, рассказывание истории, сюжета. причины тоже должны быть сюжетами. а чтобы найти на них бай, надо их рассказать. в таком случае рассказ влияет на выбор рассказа, и тогда выбраный рассказ рассказывается. рассказывается бай, который влияет, действует на предварительный рассказ-причину и добавляет то, куда он двинется после рассказа-бая до рассказа-следствия. выходит, что одни рассказы. рассказ является всеми действиями, а все действия – рассказами. среди непр о стых баильник на первом месте. его врожденные знания-черты – как рассказывать (слух, артикуляция, голос, интонация, ритм и темп) нанизывают на себя приобретенные – что рассказывать. непр о стые должны знать, что рассказывать. им нужны чьи-то рассказы – Анны, французского инженера, Бэды, посла Стефаныка, генерала Тарнавского. то, что знают, они рассказывают кому-то другому. но кому. Франциску, Анне, Лоци. после этого Франциск делает такие-то фильмы, Анна строит такие-то дома, которые бают что-то еще кому-то. и эти кто-то имеют что перебаивать дальше. имеют. непростые делают то, что хотят. хотение тоже надо откуда-то знать. знать – услышать рассказ. хотение – рассказ, бай. хотение имеется. непростые хотят иметь. самый лучший способ иметь – уметь рассказать, рассказывать. кто рассказывает, тот имеет все. рассказ, значит, не только наибольшее дело, но и наибольшая вещь, наибольшее число, наибольшая черта и знак. непр о стые имеют больше всех, делают больше всех, означают больше всех, потому что рассказывают. детектив оказался очень простым. зная преступников – А, придумывается им преступление Б. непростые правят миром. непростые приходят, когда кто-то рождается, или что-то рождается, и придумывают ему жизнь. рассказывают сюжет. рассказ становится причиной, жизнь – следствием рассказа. и причиной нового рассказа, который можно послушать и пересказать. жизни нет без рассказа. ибо рассказ – это жизнь. сюжеты не заканчиваются, говорил Франциск. сюжеты прячутся и возникают. истории, как зараза, дают горячку, переносятся, передаются, прячутся, вылезают и дают горячку. сходятся, расходятся, перемешиваются, срастаются, ломаются в других местах, переворачиваются, крошатся, перерождаются. коллекционировать сюжеты. комбинировать сюжеты (анализ, синтез, дедукция, индукция, мифологизация, демифологизация, аналогия, гиперболизация, прибавление, вычитание, умножение, деление, выражение, тембр, артикуляция, перенесение, сцепление, укоренение, искоренение, тональность, темп, ритм, хронотоп, персонификация, аллегория, синонимы, антонимы, омонимы, конструкция и деконструкция, сравнительная лингвистика). отдавать сюжеты, следя за временем и местом. таков метод непростых. и этот метод – результат. ибо есть так, как сказано, наказано, рассказано, отказано, пересказано, заказано, указано, приказано, подсказано. а зачем есть. чтобы говорить.
бай – невидимое лекарство. суть всякой формы. форма самой сути.
то, что можно забрать на тот свет. то, что на том свете нужно, ибо там одни голоса, вечность и захват. свою вечность своим голосом свой бай про свой захват.
ни работы, ни сокровищ, ни силы, ни тела, ни ощущений, ни далеко, ни близко, ни много, ни мало, ни когда-то, ни теперь, ни когда-то. свою вечность своим голосом свой захват – свой бай.
2. Все пляцки Себастьян отдал Анне на завтрак, потому что некуда было идти, потому что некуда убежать. Главное – ничего не бойся.
Себастьян пошел к покойнику, помолился (Боже, не дай мне Тебя обидеть!) за рассказы души французского инженера и дождался Непростых. Те просили не мешать и подождать два дня, хотя впервые эта семья искала их, а не они ее. Себастьян пообещал, что займет немного времени, и не уступал. Сказал баильнику, что хочет быть баильником. И попросился работать барменом в баре, что принадлежал Непростым.
В то время бар «Что да, то да» в Яливце становился самым модным послевоенным заведением модного предвоенного центральноевропейского курорта. После войны адрес несколько изменился, хоть и не обошлось без существенных ошибок. Все-таки Яливец по-прежнему находился в Украинских Карпатах, а не просто в Чехословацкой республике. Но Станислав, Львов и Арджэлюджа оказались за запрещенной линией на Чорногоре. На джин в Яливец теперь приезжали прежде всего из Праги, Брно, Братиславы, Кошице, Карловых Вар и Ужгорода. А еще – из Подэбрадов и Нусли, из Немецкого Яблонного, Либэрца и Йозефова. С чужестранцами было легче общаться по-украински, чем по-немецки.
Непр о стые без колебаний согласились, но у них было одно условие. В конце концов, у Себастьяна тоже было только одно условие. Оказалось, что оба условия совпадают – Анна должна быть в том же баре, при Себастьяне.Говорить или перестать1. Надо было что-то изменить в баре. Себастьян рассказал Анне о нескольких интерьерах, про которые думал, что мечтал о них всю жизнь.
Анна согласилась, что легче всего красоту запоминать через вещи. Вещи надежны, они переходят из истории в историю. Но действительно изначальная красота – это цветы, растения и то, из чего они начинаются и во что вырастают: вода, просторный воздух, свет и немного тепла и прохлады.
Они сделали так, как хотел ребенок.
2. После прекращения шестилетней солдатской науки Себастьян всегда делал так, как хотела Анна. Он не считал это распущенностью. Просто не знал толком, что нужно маленьким девочкам (с мальчиком было бы иначе – Себастьян очень хорошо помнил, как чувствовал себя в разные периоды детства, – но, может, и хуже, потому что неизвестно, происходило ли бы у сына все так же), и считал, что маленьким людям хорошо известно, когда хорошо, а когда плохо. Главный итог детства – соотношение между смехом и плачем. Яливцовских женщин, которые пытались присоединиться к воспитанию Анны, Себастьян просто не допускал к ребенку, а их советы игнорировал. Хотя из-за перестройки корчмы свободного времени оставалось очень мало, Себастьян ежедневно рассказывал дочке все, что выучил о жизни животных.
3. Корчму переделали в открытый в нескольких местах бар, больше похожий на огород. Из вещей в баре (кроме столов и лавок) было только то, что сделано из прозрачного стекла.
Преимущественно оно было занято срезанными цветами.
4. Тем временем Aннa все больше времени проводила с животными. Особенно она любила слизней. Себастьяну слизни нравились, потому что казались воспитанными. Их сдержанность и безэмоциональность заставляет внимательнее думать про слизнячьи потребности, симпатии, желания и намерения. Совершенно иные манеры поведения, самовыражения и общения дают больший простор для взаимного познавания. Анна чувствовала себя счастливой, когда помещала слизня на себя в том месте, откуда ему не хотелось сразу сползать. Он благодарил Анну нежным медленным продвижением по избранным участками кожи.
Возможно, именно из-за такого начала всю жизнь Анна больше всего умела уподобляться слизням. Когда же они начали любиться, то становилась слизнем чаще и охотнее всего. Себастьян подозревал, что таким способом она пыталась указать – как ему надо поступать с нею. Все же не отваживалась сказать это папе словами. Себастьян удивлялся – как можно вот так знать и понимать тайны зверят. У меня просто нечего было читать, смеялась дочка.
5. И действительно, эта Анна не читала даже Лярусса, потому что: Себастьян не знал французского языка (он воевал не во Французской Африке, а Центральная Европа означает возможность взаимопонимания со всеми соседями с помощью родного языка), первые годы Анна непрерывно становилась солдатом, потом они почти не выходили из бара, бывая дома только чтобы искупаться зимой; кроме того, Анна слышала в баре столько историй, что вечный и вневременной Лярусс показался бы ей позавчерашней газеткой, и в конце концов – они слились так, что любая энциклопедия не вместила бы дополнительных статей.
Следующими после слизняков были рыси и трясогузки. Из насекомых – сверчки.
6. В то время Анне десять-двенадцать. Как-то они купались в нескольких потоках за один короткий сентябрьский солнечный день, Кэвэлэвом сошли до самой Тисы. Решили не возвращаться в горы, пока не стемнеет. Знали, что реки больше не будет в этом году, а идти в сплошной темноте было даже легче – подошвы сами считывали дорогу.
Себастьян смотрел на Анну, которая прыгала в реку и вылезала на камни. Таких женщин он еще не видел. И не знал, увидит ли – Анна быстро подрастала, в ней уже угадывался намек на его первую Анну. Он думал, что виноват, потому что не запоминает этой красоты. Не может припомнить прошлогоднюю Анну, трехлетнюю. В сознании всегда двигалась сегодняшняя.
Я не должен этого помнить, сказал себе Себастьян. Запоминание детства – это дело ребенка. А я хочу лишь одного – дожить так, чтобы не было даже потребности вспоминать ее вчерашнюю, чтобы она была ежедневно сегодняшней. Я хочу жить только с нею. Я отец и взрослый человек, я знаю, что говорю про свою девочку. Не должен запоминать – в конце концов, и ей надо будет что-то рассказывать, когда станет женщиной.
(Анна лежала в водоворотах меж камнями.)
Все же попробовал что-то запомнить. Она – как тонкое разветвление ветки, выбеленной, выгнутой и высушенной речной водою. Высушенная рекой.
Ему пришлось погрузить лицо в Черную Тису.
7. Ночью, когда проходили Джорджеву полонину и не различали черт друг друга, Анна остановила его за руку и сказала, что ей придумался стишок. Он, наверное, очень неуклюжий, но:
как банно [38] анна
ой как банно
ибо анно домини сто сотый
не хочу лишь твоего роста
точно будто глиняная миска
боится разрастанья
гибчайшей сосны
что разнесет ее усилья
в этих местах кажется
выпускает ветер слишком много
меленького песка
из таких сложных холмов вблизи
что пекуче заплаканы очи
когда прикоснешься щекою
к ладони
которою прижимаю
поднятый пух твоей кожи
не знаю бая
на тот песок
так банно
девочка
в черном берете
в тяжелых ботинках
с травинкой
в широком рту
Она подарила стишок папе Себастьяну.
8. Все эти годы они проработали в баре, который вправду очень скоро стал самым модным в Центральной Европе.
Себастьян, как в свое время Франциск Себастьяну, предложил попробовать пожить в Яливце колумнистам нескольких больших газет (все равно, – писал он в почтовых открытках, – в газетах никогда не появляется чего-нибудь действительно важного, только то, что причиняет большинство теперешних бед – избыток информации, которую невозможно пересказать… понятно, что существует определенная конвенция, которая запрещает философам разглядывать и описывать определенные вещи…), чтобы вместе попить джина и поговорить так, как следует говорить в Центральной Европе – проясняя общие места и общих людей, выявляя таким образом несколько параллельных паутин, в которых все себя находят.
Яливец стал раем для писателей, журналистов, эссеистов, публицистов и репортеров.
Приезжали на джин, приезжали на Себастьяна. Одних он выслушивал, другим рассказывал. Старался, чтобы не было историй, отстоявших друг от друга дальше, чем на четыре хода.
9. И каждый день они с маленькой Анной работали день и ночь, преимущественно вместе, иногда – по очереди отсыпаясь. Дитя вырастало в баре, ополаскивая стаканы, протирая столы и пол. Нарезая цветы во все вазы. Порой говорили, но как-то по-другому. Теперь речь шла лишь о том, что подумалось про только что увиденное.
10. Анне нравилось фотографироваться, фотографировать ее нравилось даже тем, кто никогда не фотографировал. Не любил этого только Себастьян. Поэтому сохранилось только три снимка, сделанные и подаренные, очевидно, посетителями. На одном из них Анне около десяти лет. Этот снимок самый интересный.
Себастьянова фигура как-то размыта. Не удивительно, потому что он в это время крутился вокруг своей оси. В обеих руках – ножи. Видно, что один он уже начал бросать – как раз выпускает из руки. Анна держится ногами за его талию, спина касается Себастьяновых колен, а волосы – пола. В поднятых руках бутылка джина и рюмка. Улыбка искривлена приливом крови к лицу и центробежной (центростремительной) силой (В таких случаях открытый рот закрыть очень трудно).
У них был такой трюк для клиентов. Выходили на середину бара и без музыки танцевали сложное танго. В конце Анна запрыгивала на Себастьяна, они кружились, Себастьян бросал ножи в цель (метание ножей в цель было излюбленным развлечением в баре), а Анна хватала со стола бутылку и рюмку, наливала джин и ставила рюмку на стол так, что она подъезжала прямо к кому-нибудь. Не проливалось ни единой капли.
11. После смерти Анны Себастьян пытался собрать хоть часть ее фотографий. Он вспоминал посетителей, которые могли фотографировать Анну, добывал их адреса, посылал письма с единственной просьбой. Но из этого почему-то ничего не вышло. Отдавать такие фотографии не хотели даже те, кто мог понять муки Себастьяна.
Тридцать лет семьи С.1. В 1921 году, когда Себастьян сам пришел к Непростым, он выбрал удивительную форму свободы – постоянно рассказывать Непр о стым о жизни своей семьи. Регулярными отчетами сделать слежку невозможной. Таким способом превращая себя и свою семью в такую себе опытную плантацию Непр о стых.
Жить так, – говорил Франц, – чтобы не иметь тайн.
Непростых это вполне устраивало, и они перестали вмешиваться в их жизнь – убедились, что Себастьян экспериментирует с собственной жизнью гораздо изобретательнее и безжалостнее, чем придумал бы любой из них.
2. Свои наблюдения Себастьян отсылал Непр о стым на обычных почтовых открытках.
Их тайнопись можно было назвать непрозой.
Послания не укладывались в нормальные фразы, а содержали укороченную запись определенного определения, которым он давал название чему-то пережитому – делам, впечатлениям, дням, людям, историям, чувствам, идеям, целым микропериодам. Непр о стые расшифровывали непрозу, умея представлять себе даже больше (правда, иногда совсем иное), нежели знал Себастьян.
Открытки он складывал под камнем возле выезда из Яливца. Старый Бэда, время от времени приезжая на своем броневике, забирал их и уже сам адресовал Непростым – он всегда знал, где они бродят, и почта ждала их в местах ночлега.
3. Так продолжалось почти тридцать лет. За все это время Непростые лишь несколько раз приходили в Яливец. Тогда они дольше говорили с Себастьяном и сами забирали неотправленные открытки.
Хронология их не интересовала, а для Себастьяна ее вообще никогда не существовало.
4. Он ничего не писал только один период – в 1934 году, когда родилась третья Анна – его дочь и внучка – и умерла Анна, дочь и жена.
5. В 1938 году, когда восстала Карпатская Украина, Непр о стые сделали так, как придумал Себастьян – купили большой автобус, переоборудовали его в бар, и Себастьян с маленькой Анной поехал на нем в сторону столицы – в Хуст. За это время он составил для правительства Августина Волошина несколько десятков страниц описаний горных территорий, а во время часовой встречи с начальником штаба Карпатской Сечи полковником Колодзинским предложил сложную схему защиты края двумя сотнями правильно размещенных снайперов, лично выбрав каждую обозначенную позицию.
С этим баром Себастьян продолжал ездить, словно бродячий цирк, и после оккупации Карпатской Украины – аж до самого 1944 года, когда вместо мадьяр пришли русские. С этими уже не поваленсаешься.
Себастьяну едва удалось приписаться в Дойче Мокрой, за Кёнингсфельдом, поселившись в доме вывезенного мадьярами тирольца (автобус-бар он оставил при дороге в Краснишоре и слыхал, что целое отделение советских разведчиков пило в нем несколько дней, а потом все потонули в Тэрэсве, как только завели автобус и сдвинулись с места).
6. Себастьян с Анной жили в Мокрой наипримитивнейшей жизнью. Ели кулешу три раза в день, Анну звали прививать яблони (такая у нее была хорошая рука), Себастьян заговаривал людям страхи. А по ночам вел сложную радиоигру, имитируя в эфире деятельность нескольких радиостанций несуществующей партизанской группы «Земледухи».
7. В 1949 году Анна отравилась ржаными рожками и начала видеть Средневековье.
Непр о стые сказали, что должна быть с ними, как только станет женщиной.
Собственно, поэтому Себастьян не отвел Анну к родовым местам, когда ей исполнилось пятнадцать лет.
В Яливец они отправились лишь поздней осенью 1951 года.
Непр о стых энкаведисты сожгли весной.
А женщиной Анна стала в июне.
Они пролюбились с Себастьяном все лето и осень беспробудно.
Непроза1. не говорить ж. одинаково.
(ж. – женщинам – Анна еще маленькая, и он придумывает ей нежные названия – замечает, что девочка становится неприязненной, когда он обращается к ней теми словами, какими называл когда-то ее маму – даже очень удачно – в рассказах, которые рассказывал когда-то своей Анне, должен менять хотя бы несколько слов, чтобы они понравились дочке – даже если речь идет о простых историйках из Брэма – а самое главное, что нельзя говорить то же самое о любви – не только одинаковых слов и фраз, а и повторяться в описании ощущений – Себастьян вырабатывает целый эротический лексикон, занимаясь любовью с тремя поколениями своих женщин)
2. тату на ладони
(Себастьян забавляет маленькую Анну, рисуя на ладонях котиков, рыбок, елочки, зайчиков и птичек – Анна часами разглядывает, как меняется рисуночек, по-разному двигая ладошкой – как-то в баре выступает дрессировщик лягушек – его лягушки малюсенькие, как ежевики, и разноцветные – больше всего, однако, белых – дрессировщик татуирован – огромный разноцветный ирис между лопатками, длиннющий стебель обвивает все тело – Анна хочет татуировку и себе – они долго выбирают, разглядывая определитель растений Карпат – Анна вспоминает рисуночки из детства – но просит выколоть хотя бы такую лягушку, как у циркача – ладонь – достаточно болезненное место, но Анна терпеливая – татуируя Анну, Себастьян думает о линиях судьбы – но есть вещи, более важные, чем она – тату на ладони мало кто может увидеть – теперь Анна здоровается, поднимая руку – они любятся, Анна смотрит на ладонь и складывается, как лягушка – после этого выпускает из себя воздух, который в этом случае входит вместе с Себастьяном – через несколько часов после смерти Анны лягушка утрачивает цвет и становится белой)
3. страх – наибольшее искушение
(Себастьян Анне – есть ты, мир есть с тобой вместе – и только страх отрывает от тебя части и делает иной мир возле тебя без тебя – бояться хочется)
4. выжимать апельсин в рот лимон высыхает белым
(один из придуманных ими барных приемов – апельсин режется напополам, и наливается рюмка джина – клиент выпивает джин и сразу запрокидывает голову назад, открыв рот – бармен выжимает сок апельсина не в стакан, а непосредственно в рот) (Анна очень устала – Себастьян выжимает лимонный сок ей на кожу под локтями, над ключицами, на животе, меж сухожилий на кисти, под гортанью – сок впитывается и тонизирует – ручейки вытекают из лимонных озерец и высыхают, оставляя густой белый след – так же точно белеют пальцы, если чистить много лимонов)
5. б.б.; совсем иная своя
(б.б. – без биографии – в Яливце все знают друг друга – все биографии известны – в свободные дни Себастьян с Анной ездят на курорты в долине Прута – где много чужих, где их никто не знает – в Татарив, Дору, Дэлятын и Луги, Мыкулычин, Ямну – останавливаются в случайных пансионатах на несколько часов – только чтобы заняться любовью – рассказывают в поездах и отелях о себе выдуманные истории – ведут себя каждый раз по-другому – соответственно выбранной роли – Себастьяну тогда порой кажется, что с этой женщиной он только что познакомился – то же самое и с жилищами – часто после ночной работы идут на целый день в пустые жилища приятелей – пробуют себя среди чужих вещей, в чужих привычках, разглядывают альбомы с чужими снимками – или с языками – приходят в пастушьи стоянки на полонинах – говорят не по-гуцульски – просят молока, жентицы [39] , гуслянки [40] , вурды [41] , будза [42] —слушают, как гуцулы пытаются их понять, что говорят меж собой о них)
6. семнадцать камней вперед
(еще давно – когда Себастьян вышколивал дочь по-военному – такое упражнение – перейти речку по камням, не останавливаясь ни на миг, становясь и прыгая с камня на камень – посмотрев с берега на путь лишь три секунды, попробовали снова, когда вторая Анна была беременна – она увидела и рассчитала семнадцать шагов наперед)
7. понимание – дело того, кто должен понимать
(это фрагмент многолетней дискуссии между Себастьяном и Непростыми – они считают, что проблему понимания должен решать тот, кто дает понимать – Себастьян – наоборот – ибо речь идет про априорную невозможность идентичного понимания – своей точки зрения он придерживается и на практике – всегда рассказывает так, как хочет, хотя, правда, исчерпывающе отвечая на возникающие вопросы – говорит, что предпочитает риторику сберегательную, а не надмирную – значений больше, чем слов, а не наоборот)
6. эпос семейных мест
(Себастьян вслед за Франциском считает, что основой каждого приватного эпоса является перечень представлений о местах, в которых совершалась семейная история – такая себе семейная география растений – в случае последней Анны главными узлами эпоса должны быть Мокрая, Яливец, Чорногора, Станислав, Прага, Африка, Львов, Триест, Боржава, Шариш, Болэхов, Пэтрос, Черная Тиса)
7. ребенок-убийца
(весна 1944 – последняя весна автобуса-бара – колонны грузовиков на горных дорогах – некоторые машины стоят неделями – беспомощность командования – единственный мотив – на Запад – солдаты живут в кузовах, днем ждут возможного отъезда, ночью бродят околицами – несколько венгерских капралов пьют целую ночь в баре – Себастьян узнает среди них двух румынских опрышков, которые тридцать лет назад отрезали голову Францу – он показывает их украдкой Анне как фрагмент приватного эпоса – неизвестно, могли ли опрышки-капралы припомнить Себастьяна, но никто никому не говорит ни единого слова – утром мадьяры идут спать в грузовик, а Себастьян с Анной переезжают немного вперед – Анна просит, чтобы он очень детально рассказал, как все произошло с дедушкой Францем – днем бар закрыт, Себастьян укладывает дитя спать и засыпает сам – просыпается от ощущения, что кто-то двигает его пистолет за поясом – трогает, пистолет на месте, а Анна сидит рядом и смотрит на тучи – такие прозрачные, даже видно, что внутри: мельчайшие шарики влаги, словно икринки на водорослях, колышутся на узких полосках густых потоков пара, все такого цвета, как подсвеченный кремень – через несколько дней кто-то рассказывает, что два мадьяра, сами-то, правда, румыны, застрелились средь бела дня прямо в машине, где спали капралы – Себастьян замечает, что в пистолете недостает двух патронов, Анна моет стаканы – чтобы убить убийц, думает Себастьян, ей нужно было одной возвращаться десять километров)
8. диффузия, впитывать друг друга, впитываться друг другом.
(Себастьяну открывается теория возвратного всасывания – он экспериментирует с корнями – переносит выводы на людей – доказывает, что мужчина в женшине не только испускает жидкость, которая всасывается женщиной, но и сам впитывает немного женской влаги – по законам пустых капилляров и соединенных сосудов – Себастьян верит, что таким образом происходит всемирное перемешивание субстанций, которое кажется ему ужасно важным – в каждом случае сам он стремится принять максимум такого экстракта)
9. коньяк с луковым супом; сок из лозы винограда; портер с диким медом; джин с красными мурашками;
(один араб еще в Африке говорит Себастьяну – прежде всего научи своих сыновей готовить еду, они будут мудрыми и радостными – у Себастьяна нет сыновей, но есть дочка Анна – он учит ее творить разные блюда: рассказывает, что их нужно не бояться придумывать, как самые лучшие приключения для себя – готовить поесть для кого-то всегда осмысленно, как воспитывать ребенка или заботиться о растении – занятие, которое возвращает к непосредственности зверей и птиц, когда вопрос, что и для чего делать, еще не возникает – интерес, который можно дарить – противостояние разных стихий и сущностей, которые можно научить жить вместе – начало всех вкусов в растениях – потому что им нет конца, нет конца творению еды – Анна начала с бара – варила портер вместе с сотами диких пчел – подавала горячий луковый суп сразу после коньяка, и снова запивать коньяком по ошпаренному небу – кидала в стакан джина несколько десятков крылатых красных муравьев (веря, что убивать в еде не грех), которые добавляли спирту жгучести своей кислотой – голодной весной обрезала виноград на заросших балконах и собирала сок лозы, потом разбавляя им яливцовку в пропорции один к половине – и так во всем)
10. дождевой пансионат
(во время одного из выездов в долину Прута Себастьян с Анной останавливаются в маленькой вилле в закопанском стиле – пока они любятся, начинается дождь – когда такие дожди начинаются, то длятся в Карпатах целыми летними неделями – почему я тебя сегодня так много хочу – спрашивает Анна – когда она что-то спрашивает Себастьяна, то всегда делает это по привычке по-детски – как дочь, а не жена – Себастьян тоже забывает, что Анна не дитя – отвечает просто, правдиво, старательно, образно и мудро – чтобы это было понятно всю жизнь – человеку крайне необходимо трение и давление человеческих плоскостей – количество этого является наперед заданным, как количество ударов сердца – а мы так долго не – Анна подставляет разные участки тела – тело – врата души – врата открыты – душа обмирает от прикосновений – следить за сменою силы тумана за открытым окном – иначе можно не вернуться из полета – они выходят из пансионата – выходят из леса – неожиданно заканчивается дождь – идут полониной – Анна хочет еще – они любятся в перегретой траве под разреженным воздухом, который плохо удерживает солнечный свет – Анне так хорошо, что меняются плоскости, так, что хочется про это завтра говорить – если есть завтра, если есть говорить, если есть плоскости – потому что она несколько раз отсутствует даже тут и теперь – Себастьяна она забирает с собою – он так далеко в ней, что они думают, что его вообще не видно – птицы садятся на землю и смотрят вблизи – они смотрят без стыда на птиц и видят открытость огромной Анны, которая едва вмещается в очи – они больше не могут отдаваться солнцу, но хотят еще глубже – собираются (теперь Анна становится голой маленькой девочкой с широким ртом) туда, где может быть мокро – они бегут в лесную виллу – может, надо как-то двигаться, но дай полежать неподвижно, потому что закатываюсь вслед за очами – за окном падает дождь – я могу давать много влаги – лежат неподвижно и прижимаются – Себастьян представляет, как Анна первый раз кормит такую же девочку – Анна мечтает, как первый раз смотрит на такого же мальчика – хорошо не тебе, не мне, не нам, а миру – ты сделал меня такою)
11. история взгляда вдоль щеки повесть губ
целое эссе в спичечном коробке (последней Анне несколько лет – это самые тяжелые дни 1938 года – все, что Себастьян рассказывает малышке на ночь, или плохо заканчивается, или утрачивает смысл, потому что он выкидывает из рассказов недетские места – детям надо читать вслух, уверен Себастьян – дети должны рассматривать книжку, папу с книжкой, буквы, бумагу с буквами – дети должны хотеть дождаться самим понимать книжки – ибо сказано: ибо так написано – увидеть много давнишних голосов, чтобы лучше отличить собственный – наши Ляруссы уже давно закончились – Себастьян делает смешные книжки – разрезает почтовые открытки и обжигает фрагменты, маленькие кусочки бумаги складывает пронумерованными кучками в спичечные коробки, описывает стены, стол, кровать, двери – он сам пишет написанное – пишет разными голосами – вечерами ложится рядом с Анной и читает вслух историю взгляда вдоль щеки, повесть губ, эссе в спичечном коробке, хронику отсутствия хрониста, эпос дорожных станций, сказки птичьих кушаний, философский трактат плюща – Анна слушает разные голоса и пытается услышать свой – и вправду, что-то сдвинулось)
12. целовать часто
поцелуй сквозь свитер
(на протяжении дня Себастьян десятки раз плотно прижимается открытыми губами к одетой Анне и, сильно и долго, выдыхает весь воздух из легких – сквозь свитер идет тепло, и уже где-то на середине выдоха коже в месте такого поцелуя становится горячо – если это делать часто, то собственным теплом можно ощутимо поддерживать целованного даже в сильные холода – ощущения усиливаются магическим значением отдачи изнутри себя в тело другого чего-то, что является самой жизнью)
13. эта недоступная структура – как мозг, как орех, как сжатая ладонь, как семя
(одно время Себастьян чувствует, что у него развивается настоящий психоз – между Аннами у него нет, и он не хочет, действительно не хочет, никаких других женщин – но в какой-то из таких периодов понимает, что смысл эротики – не объект, а путь – срастание телесных ландшафтов – вхождение, прохождение, пребывание, возвращение – чудо каждого прохода – путь, который сам ведет – всеохватность однообразия – место, в котором можно встретиться со Вселенной – его психоз состоит в преувеличении через недоступность ностальгии – даже нейтральные ситуации он оценивает как такие, которые в или вне – иногда ему даже кажется, что осуществляет путешествия этим путем в полный рост – просовываясь, протискиваясь, пребывая, замирая, проваливаясь, соскальзывая, впадая – лишь потому, что путешествия воображаемые, он думает, что живет неправильно, безбожно тратя подаренную жизнь)
14. видеть Средневековье
(1949 год – в горах страшный голод – Анна ест сырые зерна ржи, зараженные рожками – видит Средневековье, в котором происходят теперешние вещи – отрубленные головы, пытки, обозы беженцев, приходы чужих, изуродованные лица, широкие пояса, уроки грамматики, бестиарии, музыканты на пирах, недостаток еды, порубленные леса, загрязненные реки, смешение языков, сухие фрукты, язвенные болезни, безумные спектакли, утраченные хроники, рукописные апокрифы, смердящая одежда, грязная посуда, поломанные руки, раздавленные ноги, растянутые сухожилия)
15. шесть
(последней Анне шесть лет – Себастьян купает ее – замечает, что четыре более темных, чем кожа, пятнышка под ребрами и на животе на самом деле – недоразвитые соски – вспоминает самую большую мечту Франциска – отважился ли тот хотя бы допустить – три пары грудей у его правнучки)
16. (Одну пачку открыток старый Бэда почему-то не забрал из-под камня. Ее нашли аж в конце пятидесятых, когда демонтировали австрийские военные дороги в карпатской субальпийской зоне. Все до одной открытки были фотографиями из знаменитой в тридцатых годах чорногорской серии. У Советов еще не было никаких карпатских видов собственной печати, и эти, снятые объективом «рыбий глаз», забрали в краеведческий музей в Ворохте. Надписи карандашом на обороте трудно было понять).
ощущение дискомфорта – это следы предыдущего вкуса на слизистой, которые толкают к поиску следующего в каждом периоде – новый слэнг; как новое бытие; языки проходят свободнее, чем периоды. Они накапливаются, занимают все больше территории, вытесняя язык каноничный – нам они больше означают. Скоро мы с А. доживем до того, что сможем разговаривать только своими фразами
лето белого вина; привыкнуть к австрийскому зеленому вину
встречался с Полковником и Ярым все периоды проходят (вижу это уже на втором ребенке и третьей жене)
хорошо знать, что ты есть, всегда где-то есть вера в то, что было в детстве
думать о том, как нога попадает между ног и становится потертой
она заснула возле печи с атласами растений на коленях
когда писаешь на мох, прибиваешь мотыльков, которые там сидят и притворяются развернутыми листками
теперь я уже никому не завидую, потому что видел слезы доброты
ей можно было больше, чем (почему некоторым женщинам все можно, может, потому, что могут все) землекопы едят руками анимация на солнце, на тучах, на месяце деформация скручивания
такая полнота бытия, что можно раствориться внутри
(Если бы можно было знать, что эти нерасшифрованные послания означали – что они означают (мои Анны не были, не будут, а есть, всегда есть, так хорошо знать, что они всегда где-то только есть). Если бы мы знали больше людских судеб, – говорил Себастьян. Часто в том главная терапия бая).
Теперь подборка открыток с Чoрногорою хранится в музее Карпатского национального природного парка в Ярэмчем.
Имей красивый бай (например)1. Себастьян рассказывал только то, что могло быть, и поэтому было так, как рассказывал Себастьян.
Все годы перед тем, как начать говорить, Себастьян по-настоящему только то и делал, что смотрел и думал, как рассказывать истории.
2. Себастьян рассказывал, что можно рассказывать людям про их жизнь так, что они захотят жить вечно, ничего не изменяя. И люди действительно хотели жить вечно и ничего не меняли.
Себастьян рассказывал, что даже на допросе не расскажет всего про свою любовь, свои любови с Аннами. И действительно – на допросе Себастьян рассказал не все, потому что переборол себя и говорил совсем не так, как хотел бы, как не позволял себе рассказывать ни разу в жизни.
3. Потом он рассказывал, что ничего более странного никогда не слышал.
Его забрали прямо с улицы в Кёнингсфельде.
Они уже жили в Мокрой. Себастьян шел домой, возвращался от лесорубов из-под Тэмпы. Там одного лесоруба придавила срубленная ель. Не убило сразу, но он перестал жить – лежал себе ни в тех, ни в этих. Лесоруб был нездешний – пришел откуда-то из Березова, поэтому его некуда было забрать. Закопать такого было бы грех, и ночью за Себастьяном приехали на конях без седел и уздечек. Он осмотрел придавленного и увидел, что тот забыл, как дышать. Посидел около него и рассказал нужную байку. Березун все вспомнил, встал и пригласил прийти когда-нибудь в Березов. Должен был как-то отблагодарить, но теперь рубил лес, так что решил отдать только то, что у него было – грудку овечьего сыра.
4. Себастьян задержался на делянке лесорубов немного дольше, потому что должен был что-то послушать про Березов – он там никогда не бывал, хотя знал многих березунов.
Себастьян говорил, что интереснее всего ему слушать, как кто-то рассказывает о местах, каких он не знал. Тогда просил рассказывать так, словно идешь, смотришь и говоришь о том, что видишь. Потом – так, словно едешь на ровере [43] или на коне (немного выше, тогда увиденное меняется неожиданно сильно), дальше – словно залез на верхушку дерева. И обязательно вынимал карту той местности и просил разрисовать словами все обозначенное.
Даже войну, лагеря и всяческие катаклизмы Себастьян воспринимал прежде всего с этой точки зрения – как много встречается людей, которые происходят и приходят из разных мест, выросли и бывают в разных местах. Гигантские сдвиги перемешивают людей, и основой речи и способа мышления становится сравнительная география.
4. Себастьян нес ком сыра Анне на ужин и завтрак. В Кёнингсфельде около дверей портного стоял, как всегда, вынесенный стол, и несколько человек играли в карты. Остальные смотрели. Себастьян еще из Африки приучился видеть дороги, которыми каждый день ходил, в сравнении œ вчерашним. Вчера (и позавчера, и позапозавчера) троих из сегодняшних наблюдателей не было. Когда же он увидел, как они на него смотрят, то понял, что это – за ним.
5. Себастьян еще мог убежать – свернуть меж цветных деревянных домиков, садами выбежать на берег и поплыть среди колод Брустурянкой до Тэрэсвы, Тэрэсва вынесла бы в Тису, а уж Тисой через несколько дней можно быть в Дунае и завернуть или в Вену, или в дельту – и там, и там есть без числа схронов на всю жизнь.
В конце концов, он знал, что реки лучше всего связывают целый континент, потому что все места континента соединены не более, чем через четыре реки.
6. Еще в Африке Себастьяну не раз случалось преодолевать реками огромные расстояния, днями не вылезая из воды. Он только перекладывал из карманов в алюминиевую флягу с выцарапанным на ней своим именем и номером полка все, что могло размокнуть, и плыл в одежде по течению, толкая перед собой несколько связанных легких жердочек, на которых лежала винтовка.
Околицы, увиденные с уровня поверхности воды – когда взгляд скользит по касательной – не менее интересны, чем с птичьего полета. А рельефы дна порой даже богаче. Не говоря уже о том, что все самое интересное в жизни людей происходит на берегах, над водою рек.
Последний раз он заплывал в причудливые сети каналов с почти горячей водой и не по-земному богатой растительностью на дне, дальше – в остатки полузатопленного форта.
Почему-то именно это снилось ему чаще всего на протяжении всей жизни. Такою была его ностальгическая Африка. И еще – прозрачные бухты, и плывет много черепах.
Но теперь нельзя было никуда уплыть – Анна ждала папу.
7. В Кёнингсфельде Себастьян мог разве что стрелять – если сделать это первым, то попал бы сразу в троих, одного за другим, так что они упали бы вместе. Так он когда-то застрелил слепого убийцу и его ребенка.
8. То было время, когда вокруг Яливца болталось много вооруженных людей, переместив в горы свою охоту друг на друга. Часто случалось так, что сперва стреляли, а после переворачивали тело посмотреть – кто это. Себастьян вынужден был держать пистолет наготове под рукою – под стойкой, там, где грейпфруты, матовая банка с циннамоном и большая бутыль с ореховкой для себя.
9. Когда в бар вошел слепой с малолетним ребенком на шее, никто даже не подумал, что они могут быть небезопасными. Себастьян варил кофе с гашишем для четырех растаманов, которые играли с Анной в слова – она называла одно и то же по-украински, по-гуцульски, по-польски, по-немецки, по-словацки, по-чешски, по-румынски, по-мадьярски, а они угадывали – что что означает.
10. Такие лингвистические игры Себастьян начал придумывать Анне, когда заметил, как легко ей даются не только образы и манеры животных, но и языки. Ее фантастический слух улавливал в языке зверей больше оттенков, чем существует слов, которыми ежедневно пользуются люди. Было время, когда Анна почти полностью перешла на нелюдскую речь, а Себастьян отвечал ей точно так же. В конце концов он спохватился – еще немного, и они разучатся между собой говорить. И понапридумывал столько забав, что теперь они говорили про лингвистику – иногда очень сложные соображения – как про какие-то бытовые вещи.
Игра в слова заканчивалась тем, что с каждым словом Анна должна была придумать красивые изречения на разных языках, а эти изречения уложить в содержательный абзац. Сюжет абзаца преимущественно формировался настроениями и механикой, способом мышления употребленных языков или был скорее артикуляционным – так, чтобы было приятно, или тяжело, или смешно, или страшно, или еще как-то выговаривать.
11. Растаманы были наемными убийцами. Но их никто не боялся, потому что это было известно. Первые в Яливце наемные убийцы после Штефана. Растаманы приехали из Будапешта и, выполняя заказ сегедской [44] Нанашки [45] , разыскивали и уничтожали в горах всех коммерсантов – евреев, чехов, украинцев из «Маслосоюза», которые пробовали организовать закупку и экспорт сырных коньков.
Забредя в Яливец, растаманы зашли в «Что да, то да» и засели тут на несколько месяцев, частично латиноамериканизируя карпатский городок – они занесли в Яливец матэ, цветные мужские рубашки навыпуск, пение самбы, большие вязаные береты, привычку спать в гамаках, выставлять летом комнатные вазоны на лестницы, ужинать на балконах.
Они прикинули, что можно и не бегать по горам за коммерсантами, а сидеть на одном месте и ждать, пока все поприходят сами.
12. Себастьяну больше всего нравилось, как они умели целые дни проживать на берегу реки – лежали, купались, смотрели на воду и облака, курили, спали, ничего не говорили, ели по ниточке коньков из сыра, рисовали себе что-то камешком на камешке, вставали на руки. Или просто пили джин. Как настоящие хищники, набирались солнца и бережно двигались. Порой брали с собой Анну.
Девочке с ними не было скучно.
13. Себастьян почему-то совсем не волновался, когда Анна шла с растаманами. Хотя обычно он старался уберечь дочь от всех клиентов бара, которые обращали на нее внимание. Особенно позднее, когда вторая стала подростком, и он лично знал нескольких почтенных людей, приезжавших в Яливец, чтобы посидеть в баре и посмотреть на руки или губы Анны.
14. Один из них был анонимным скульптором.
Восхищенный пластикой средневековых скульптурных групп, примитивных народных фигурок и древних африканских статуэток, он вырезал копии деревянных скульптур и продавал подделки коллекционерам, искренне веря, что выполняет определенную миссию, что соответствующее количество таких фигур сможет изменить мир к лучшему. В гуцульских селах его не любили, потому что он за большие деньги пытался выкупить все фигуры из церквей и с кладбищ. Отказывая ему, община боялась, что он когда-нибудь вернется и либо что-нибудь украдет, либо подожжет все в гневе.
Отчасти были правы. В Праге скульптор недавно попал под суд и был приговорен к немалому штрафу за умышленный поджог нескольких лавочек с бумажными цветами. Так он отстаивал настоящую красоту.
Себастьян его вполне понимал.
Скульптор приезжал уже несколько раз, с тех пор как впервые увидел Анну. Он сидел в баре, пил вино с водой и зарисовывал каждое движение Анны. Хотел издать свой собственный справочник по анатомии для художников, не похожий на все современные представления о строении тела.
Говорил, что Анна – безукоризненная модель для средневековых Савских, сельских надгробных пьет (Мария, Мария Магдалина, Мария – мать Иакова и Осии, и Саломея) и нагих негритянских королевен (но из Центральной Африки – тонких, высоких, с удлиненными головами и самых гибких) одновременно. На вид, на изгиб, на твердость.
15. В то время у Анны было какое-то удивительное чувство верности и преданности и редкостное умение устанавливать свою собственную дистанцию, которую только она имела право регулировать. С ней было легко подружиться, но соблазнить – невозможно.
Так что в действительности Себастьян даже не намекал ей остерегаться ни скульптора, ни растаманов.
16. Между прочим, только после того, как Себастьян сам несколько раз ходил после ночной работы на реку с растаманами, он до конца осознал, как содержательно и сладостно можнo бездельничать.
17. Еще одно развлечение растаманов, которое тоже страшно понравилось Себастьяну, очень скоро захватило весь город.
Проходя по яливцовскому Рынку, растаманы набирали полные карманы каштанов, которых падали с деревьев целые кучи. А на протяжении дня они делали с ними разные приятные и сложные вещи – забрасывали на крыши (и каштаны катились по крыше вниз, падая на брусчатку, как с трамплина), попадали каштанами в водосточные трубы, жонглировали ими, перекатывали по столу, стараясь пускать каштан между бутылками друг другу, подбрасывали их аж до птиц и перебрасывались ими, держали по несколько в руке и пускали плыть по каналам, клали их на дно стаканов перед тем, как наливать джин, дарили знакомым и незнакомым, оставляли после себя на берегу реки, в баре, на городских скамейках и качелях, на биллиардном столе.
18. Свою первую неделю в Яливце растаманы на столе и обитали. Как-то так случилось, что во всем городе им не нашлось ни одной свободной комнаты. Ютиться где-то по углам они не хотели.
Растаманы заплатили Себастьяну за час биллиарда, даже не брали киев и шаров, а поснимали ботинки и легли на стол отдохнуть. Один спросил – можно ли так делать. Себастьян решил, что можно, потому что выполняются оба требования по поводу биллиарда в баре – за него заплачено и никто ничего не ломает. После первого часа растаманы заплатили еще за два, потом за сутки и наконец – за неделю вперед.
20. Был как раз сезон травы, когда они появились, и травы было море. Растаманы косяк за косяком курили сами и раздавали всем гостям. Некоторые курортники уже стали растафарианцами, а журналисты часами слушали рассказы про Ямайку. В баре было так задымлено, что каждый, кто не курил, хочешь не хочешь вынужден был дышать сожженной коноплей, подсаживаясь на минуту-другую.
21. Когда Себастьян стирал их с Анной рабочую одежду, то вода становилась не грязной, а желтой – от вымытых из ниток осадков каннабинола.
22. Маленькая Анна тоже была постоянно обкуренной.
(Себастьян вспомнил это в 1947 году, когда с отрядом Чугайстра остановился на ночь в хате возле Гуты. После ужина тридцать партизан закурили донник, а среди ночи оказалось, что от дыма умер младенец, спавший в той хате за занавесом.)
Сначала она слегка испугалась – ей было так хорошо, даже казалось, что так останется навсегда.
23. Со временем Анна курила часто, но только в присутствии отца – тот не хотел, чтобы их конопляный опыт слишком различался.
Однажды, покурив гашиша, она почувствовала, как Бог показал меж туч палец, подняла свой к небу, и так они несколько минут помолчали в бесконечности, касаясь подушечками пальцев.
Однако через какое-то время времена переменились, и время гашиша отошло.
Интересно, но гораздо позже, когда она выросла и Себастьян рассказывал, что он чувствует, занимаясь с нею любовью, Анне всегда вспоминались ее конопляные восприятия всего мира.
24. Тогда, когда в бар вошел слепой с ребенком, она не курила, лишь играла с растаманами в слова и наигрывала на дрымбе рэггей.
Слепой был одет в обычный европейский костюм – лишь Себастьян автоматически отметил несколько причудливых цветных заплаток в разных местах пиджака – а на шее сидело дитя нескольких лет от роду в запятнанном свитере. У слепого не было глаз, а про ребенка невозможно было сказать – мальчик это или девочка. Они двигались к барной стойке, дитя руками как-то управляло мужчиной. Трижды оно вынуждено было сильно наклониться к голове слепого, пока дошли до стойки. Нагибалось, уклоняясь от спинок кресел, прикрученных ножками к потолку – Себастьян сделал так, что вся меблировка бара, как в зеркале, повторялась на потолке.
25. Еще не так давно было иначе – весь потолок был нашпигован разными ножами – лезвиями вниз, которые давали дивные отблески, тени, лезвийный лес творил неповторимую акустику и добавлял приятное беспокойствo. Ножи Себастьян снял после того, как несколько бойков, которые крали коней на закарпатских полонинах и отводили на Галичину, напились, поссорились, ухватили одного своего коллегу за руки и ноги, размахнулись и подкинули к потолку.
26. Слепой оперся руками о стойку и заказал крепкий чай с ванилью, спиртом и несколькими любыми красными ягодами. Дитя оглядывало зал. Себастьян отмерял спирт, когда забеспокоился. Глядя на руки мужчины и какое-то неуловимое движение малютки, он почему-то припомнил одну их с Анной забаву.
27. В нее они начали играть после того, как придумали себе новую стратегию – больше театральности в поведении (тогда они позволяли себе такую мимику, которая порой превосходила мимику паяцев).
Он становился к стойке; руки закладывал за спину и так сильно сводил вместе лопатки, что спереди было видно только плечи; Анна становилась сзади, ее совсем не было видно, и выставляла свои руки вперед из-за Себастьяна; выглядело, словно у большого мужчины – маленькие детские руки, так удачно они синхронизировали манипуляции и жесты Анны с мимикой и интонациями Себастьяна. Игра называлась «Два бармена – две руки». Именно эта аллюзия – двое, но две руки, так насторожила Себастьяна. Руки мужчины по-прежнему лежали на стойке.
28. Себастьян отвернулся и сделал пару шагов к буфету, чтобы взять из полумиски вишни. Попутно даже успел пригубить чай (он всегда пробовал готовые сложные напитки перед тем, как подать стакан клиенту), и ему понравилось. Вдруг его обожгло то же ощущение, что возникало всегда, когда кто-то неожиданно быстро и тихо подбегал сзади. Он страшно этого не любил и был в такие моменты особенно небезопасным.
Себастьян выпустил из рук чай, развернулся, схватил пистолет (рука ребенка была под свитером) и дважды выстрелил. Так быстро, что ребенка не сбросило с шеи, а они упали вместе – как стояли, лишь перевернули несколько корзинок с яблоками-паперивками [46] и разными сухими фруктами, украшавшими бар. Себастьян перепрыгнул через стойку и наклонился к ребенку, вытаскивая его руку из-под свитера – только теперь он рассмотрел, что пятна были сделаны качественными красками и складывались в интересную абстрактную композицию). Маленькая рука сжимала рукоять большого пистолета.
29. С того времени все, что делали растаманы, посвящалось Себастьяну. Они пили только за его здоровье, играли с Анной, научили ее долго лежать на дне реки, глядя вверх сквозь воду (кто-то даже сделал такой снимок; когда Анна умерла и Себастьян искал ее фотографии, то пожалел, что растаманы не фотографировали Анну – они бы обязательно прислали все, что имели), от каждого косяка оставляли несколько затяжек.
28. Благодарная сегедская Нанашка передала Себастьяну целый зверинец, сделанный из сыра. Коня, барана, оленя, козла, вола, тура и единорога в натуральную величину привезли розовощекие и блестящие, но несколько мешковатые ширококостные крепыши, которые служили у Нанашки гайдуками, сердюками, бандитами, катами и должны были ежедневно пробовать все сыры и брынзы на городских базарах.
Специально для Анны Нанашка добавила кораллы из задубелого сыра и несколько эскизов Франциска, на которых было видно, как он пытался постигнуть символику сырных коньков.
29. Когда же начали пропадать лыжники, и присланная полицейская комиссия заинтересовалась Себастьяном (слишком часто исчезнувших лыжников в последний видели как раз в «Что да, то да»), то растаманы сами выследили банду разбойников, которые сбрасывали лыжников в пропасть, а их дорогие лыжи, ботинки, часы и фотоаппараты перепродавали в туристических поездах на станциях с польской стороны.
30. В тот день растаманы устроили в баре забаву только для Себастьяна, Анны и нескольких их друзей, наняв весь бар на целый вечер.
Один из них выполнял обязанности бармена, другой готовил пышный ужин, добавив в каждое блюдо другого гашиша (засахаренные цветы конопли и соленые семена были на десерт (так Себастьян научился кормиться семенами, неважно – конопляными или нет, он просто собирал семена разных растений, носил их в карманах пояса и подкармливался ими в голодные дни)). Двое других руководили нанятой гуцульской капеллой, которая должна была играть рэггей (когда-нибудь я тебя под эту музыку возьму, – подумала Анна про отца).
В конце растаманы захотели поменяться с Себастьяном серьгами. Поскольку у Себастьяна не было серег, то – хотя бы с Анной. Для этого пришлось проколоть Анне еще две дырочки стрелой от арбалета (растаманы в своей работе не признавали огнестрельного оружия), а каждую сережку Анны поделить между двумя растаманами.
31. Почему-то все забыли, что стрела смазана веществом, которое не дает сворачиваться крови. Мочки кровоточили и кровоточили. Не помогали ни зелья, ни баи. Анна даже потеряла сознание от потери крови (было так, рассказывала она потом, что вдруг начали мерцать и меняться цвета, только цвета всех предметов – не выходя за свои пределы на самих предметах, а слабость была приятнее любой силы), пока действие вещества не прошло. Себастьян заинтересовался этим препаратом, и растаманы подарили ему целую бутылку такой жидкости.
32. Себастьян передал жидкость Непростым для анализа. Они же использовали его, возможно, иначе.
В Ворохте бывал один варшавский этнограф, который уже почти разгадал тайну Непр о стых и планировал написать статью о том, как неграмотные гуцульские псевдочародеи-хитрецы манипулируют Европой и миром с помощью сюжетов. Как раз тогда он и умер в самом роскошном гостиничном ресторане Ворохты, куда когда-то еще молодой Франциск ходил после ночей рисования пить утренний кофе с яичным ликером (тот ликер в действительности был спиртовым гоголь-моголем, но яйца для него можно было выбирать самому: они лежали в большой кассете – разных размеров и расцветок, крапчатые, однотонные, почти прозрачные – собранные в кущах жерепа яйца всех видов горных птиц), который иногда заканчивался поздним ужином из грибного супа, печеной кукурузы с пастой из пстругов [47] , бобами в терновом соусе, замороженным филе медянки с тертой брусникой и калгановки, двух-трех кварт калгановки.
33. Этнограф обедал в обществе начальника вокзала, латинского священника, директора тартака [48] и санаторного врача. Вдруг начал потеть. Очень скоро вместо пота на коже выступили капли крови. Кровью заслезились глаза. Он вытирался рукой и только размазывал аккуратные красные пятнышки. Кровь сочилась неостановимо. На безукоризненно белой одежде появились красные пятна, которые быстро увеличивались, стремились друг к дружке и сливались в сплошное мокрое красное. Никто не знал, чем помочь. На теле не было ни одной раны, а кровь текла изо всех пор.
34. Когда забава с растаманами почти заканчивалась, Себастьян подумал про бесчисленное количество чудесных мелочей, вещей, музыки, способов, специй, вин и фильмов, которые – понимаешь это очень четко – никогда не будут в твоей жизни, которая вмещается в границы между холодом и жарой, чем-то нормальным.
35. Растаманы подарили им очень красивый экземпляр индийской конопли в каменном горшочке и еще долго рассказывали, какой радостной была бы жизнь Анны, если бы от этого растения начать маленькую плантацийку на безлюдных и максимально освещенных склонах и полонинах. Ибо всякое растение сажают прежде всего затем, чтобы получить радость от посадки растения.
На следующее утро Себастьян вспомнил, что надо не забыть спросить растаманов, как же все-таки ухаживать за этой коноплей, но выяснилось, что они, наконец, ушли из Яливца.
36. Слепой убийца еще раз пригодился в 1938 году.
Себастьян не знал, как пронести на карпатскую Украину два пистолета. Долго думал, пока не вспомнил про ребенка слепого. Взял четырехлетнюю Анну (уже не ту, кто была в баре) на шею, пистолеты запрятал на ней и пошел через посты. Боялся только, чтобы малышка – в приступе детского желания перестрелять всех – не вытащила оружие из тайника.
37. Себастьян почему-то очень верил в победу Карпатской Украины, ибо сюжет казался очень удачным.
Ему надо было, чтобы украинское дело начиналось именно в Центральной Европе. Хотя известно, как представитель полевой разведки штаба Карпатской Сечи, ездивший тогда в автобусе-баре по Транскарпатии, чистый националист, докладывал командующему Климпушу, что убежден: Себастьян руководствуется скорее идеей ландшафтов, чем идеей нации.
Возможно, и так, потому что Себастьян слегка остыл, когда познакомился с планами правительства по лесной политике и увидел, как граждане используют автономию прежде всего для уничтожения леса, воды и камня.
В конце концов, вопрос леса и древесины всегда был в этих краях определяющим.
38. Невзирая на несомненное разочарование (все же его основным свойством была созерцательность – видеть все и знать, что видишь, – которая приводит не к безразличию, но к согласию со всем, что происходит), Себастьян спешил закончить обозначение всех снайперских позиций для превращения гор в огромную крепость.
39. На одной из таких позиций – неправдоподобной металлической конструкции, чем-то похожей на Эйфелеву башню, с деревянными дырявыми кладками на высоте, поломанными лестницами и узкими люками между разными уровнями – Себастьян нашел бутылку сливовицы, которую тут же и выпил. И лишь выпив, понял по едва заметным следам, что перед ним тут останавливалась венгерско-польская диверсионная группа, каких тогда было много по всей Карпатской Украине. Паленка оказалась отравленной (сознание Себастьяна еще не было готово к такому коварствy).
Становилось все хуже. То есть Себастьяну было хорошо, он любил горячку, но силы его соков куда-то исчезли, легкие едва успевали набирать и выпускать воздух, который ничего не давал. Почему-то руки стали, словно обожженные, и страшно болели бы, если бы не горячка. Нужно было немедленно менять всю воду в теле.
40. Он побрел выше в горы – не хотел прийти умирать перед дочерью. И не хотел в больницу.
Еще давным-давно постановил себе – если с ним что случится, то не будет звать лекарей и лежать беспомощно дома, а, как зверь, что прячет свою смерть, подастся в горы. Они же либо выходят его, либо тихо поглотят.
41. В больнице он уже однажды был. Еще давно, зимой, только начали любиться со второй Анной, еще в Яливце.
Он подцепил странную заразу, доев абрикос после одного гостя, кавалерийского офицера из Иностранного легиона – невероятно глупая случайность.
Его тогда арестовали, чтобы не распространять болезнь, и завезли в закрытый горный госпиталь в соляных пещерах. Огромные подземные белые залы без дверей переходили один в другой короткими и немного более низкими, но такими же широкими коридорами. В каждом зале прямо на кучах соли лежали больные, обмотанные неведомой листвой. Лечение состояло в периодических натираниях очень густым рассолом. Стоны боли умножались (казалось, что отдельных голосов больше, чем в действительности) и бродили по подземельям, которые не имели конца.
Этот госпиталь был одной из новаций чехословацкого министерства здоровья в искоренении карпатского сифилиса и уничтожении других болезней. Больных держали в тюремной изоляции столько, сколько они могли жить.
42. Себастьян уже не мог себе представить, как выглядит зима на земле, а соляной сталактит около него почти дотянулся до сталагмита, когда однажды в зале появилась Анна.
Это могло означать только одно – ее тоже арестовали, но означало другое. Верная Анна, не сумев прорваться к папе (преимущественно любые запреты не касались ее, и охрана сама поясняла, как идти дальше запрещенными путями), додумалась наняться в госпиталь санитаркой – охотников работать тут всегда не хватало.
Ежедневно она приходила натирать его рассолом (ты мой самый лучший крем, говорил Себастьян; это ты – мой, и знаешь почему), а еженощно – любиться. (Я хочу иметь тех же микробов, что и ты – возражала Анна. В конце концов, это даже хорошо, потому что вторично уже не заболеем). Слава Богу, она вообще не заболела. Вскоре выпустили Себастьяна, и они вернулись домой вместе.
Зима еще не кончилась.
Себастьян так и не решился сказать Анне, что иммунитета от этой болезни не бывает. Но, кажется, она страшна только тем, кто когда-то был в Африке.
43. В Африке молодой Себастьян едва не умер от той же самой болезни.
Но тогда было еще хуже – из-за африканского климата на язвах вырастали экзотические грибы. Никто не знал – появляются ли они из занесенных спор, или это творения пораженного тела, но грибы так сильно болели, что Себастьян предпочитал срезать их вместе с участками кожи.
Тогда он тоже был на позиции. Был большой африканский город из глины. Он должен был сделать единственный выстрел и дожидался его на горячем чердаке, где можно было только лежать, и срезал ножом все больше поврежденной кожи.
Себастьян непрерывно смотрел в оптический прицел. Он видел в точности то же самое, что было изображено на самой дорогой почтовой марке этой страны – бесчисленное количество белых кубиков домов, несколько веретеноподобных шпилей, огороды и кустистые сады на городских взгорьях, красную глину улочки, кофеваров на пороге синего ресторана. Его взгляд отличался от филателистического разве что присутствием мух в глазах и на обоих стеклах прицела.
С ним лежала его возлюбленная-африканка. Время от времени Себастьян обтирал ее вспотевшее тело мокрой шматой, а она ему шесть раз в день закапывала каждую рану соком алоэ.
С тех пор единственной эротической фантазией Себастьяна были любовные занятия, смоченные соком алоэ. Но в Яливце не было ни одного саженца алоэ.
44. А Анны совсем не болели.
Однажды, уже в Мокрой, последняя Анна заболела ветряной болезнью, хотя неизвестно, можно ли считать ветряную болезнью.
Анна вышла на гору в неподходящем месте и не успела уклониться от неожиданного скверного ветра. Ветер влетел ей в голову и выдул все запахи.
Себастьян знал только одно лекарство от такой болезни. Он повел Анну узкой дорогой меж двумя горами, ожидая, пока сквозняк выдует ветер. Так и случилось, но сквозняк сам задержался в Анне и размягчал голову – руками можно было менять форму черепа. Сделай мне такую, как у тебя – говорила Анна – я так люблю твою красивую голову.
Себастьян решил, что выгонять ветер ветром больше не стоит – так можно бесконечно менять ветры (конечно, можно и остановиться на том, который больше всего подходит). Но ветер можно еще выморозить.
На Йордан [49] они вместе купались в Мокрянке, держа головы как можно дольше под водой. Советский милиционер задержал Себастьяна, а голая Анна побежала через все селo к дому. Милиционер хотел продержать Себастьяна хотя бы несколько суток – за изуверское отмечание религиозных праздников, но потом дал ему бутылочку арники в спирту и выгнал растирать дочку. У меня тоже есть дети, сказал милиционер.
47. Отравившись паленкой диверсантов, Себастьян не пошел к Анне, а пополз выше в горы.
Он знал источник, где мог обновить всю свою воду. Часто останавливался, чтобы подтянуть содранные ползанием повязки на обожженных руках. Еще чаще терял сознание на несколько минут. Тогда ему чудилось самое худшее, что могло быть – будто он застрял в тесной щели и не может дотянуться до Анны, балансирующей на перекинутой через пропасть лестнице.
До источника он дополз уже ночью. Напился, смочил руки и задремал. Через какое-то время проснулся и снова засунул руки в родник, но воды не чувствовал. Вместо того кто-то смертно закричал. Оказалось, что Себастьян мыл не себя, а обожженные руки какой-то женщины, которая тоже приползла к источнику и спала рядом во тьме (что-то подобное, но не совсем, с ним уже случалось. Они с Анной, ночуя при людях, пользовались незаметным способом – под покрывалом он проникал в Анну пальцем. Однажды спали в такой тесноте, что, проснувшись среди ночи, Себастьян вынул палец не из Анны, а из гуцулки, которая лежала слева. А Анна крепко спала, повернувшись к нему спиной, справа, – Себастьян не заметил, как они уснули, Анна отвернулась, а высвобожденный палец он невольно пристроил куда попало).
45. К марту 1939 руки зажили не до конца, но Себастьян через день посылал телеграммы в штаб Климпуша, убеждая разместить войско в приготовленной снайперской твердыне.
Его никто не послушал, и все было потеряно (почти как во Львове из-за балконов).
Карпатская Сечь вышла на открытый бой.
Это был незамеченный первый акт Второй мировой войны.
Но четыре тысячи – против сорока. Кровь залила Тису.
(Горстка уцелевших сечевиков отступила в Румынию, но вскоре румыны выдали всех венграм, а венгры полякам – галичан).
Себастьян понял, что на сей раз кто-то придумал более удачный сюжет, чем он.
46. Но Себастьян очень верил в силу собственного присутствия. Знал, что не может быть ничего плохого там, где он, потому что ему везде было хорошо.
Нужно по-настоящему любить места, чтобы они любили тебя.
Поэтому после разгрома на Красном Поле он взял винтовку и сам залег в выгодном месте под Трэбушей. Один хороший стрелок может изменить несколько сюжетов, особенно если этот стрелок – последний.
47. Он стоял на коленях в маленьком окопе под Трэбушей и ожидал вражье войско (хорошо сказал Франциск: самое радикальное – ждать).
Так бывает, думал Себастьян. Я хотел быть самым крутым. Франц тоже пытался быть самым крутым, и что из этого вышло – перестал делать фильмы (потому что все собирался нарисовать фильм фильмов), дал отрубить себе голову. Франц действительно мог быть крутым. Но если ты крут во всем, а в чем-то одном не крут – то уже не самый крутой. И вообще, на каждого самого крутого находится кто-то еще покруче. Так случилось с Франциском, так случилось с сегедской Нанашкой, так случилось с Климпушем. Так может случиться и с ним.
48. Когда рухнула почти столетняя власть Нанашки, в бар часто вламывались обвешанные ружьями и пороховницами бандиты нового хозяина, которые носились по горам, наводя свои порядки.
То были времена, когда Себастьяна каждую ночь удивляло какое-нибудь неслыханное безумство, хотя в прошлую ночь он был уверен, что теперь его уже ничем не удивишь.
Иногда бандиты устраивали ему неприятности, но что он мог поделать, раз уж назвался шинкарем.
Тогда он перебирал в памяти свои мальчишеские геройства.
49. Он не сомневался, что в мальчишечьем возрасте люди творят свои самые лучшие поступки. Жалко, что о них потом никто не знает, жалко, что мальчишеские подвиги не засчитываются.
Себастьян, например, лучше всех прыгал с крыш в кроны деревьев – летел, не глядя, прямо в зеленое. Разрывал собою пленку листьев и уже в середине круглых зарослей хватался за какую-нибудь встречную ветку и сразу же переносился на другую.
50. Ну, правда, бывали в детстве приключения, похожие на выходки бандитов.
После таких случаев он сотни раз повторял себе придуманный удачный ход действий, пока и сам не начинал верить, что только так и могло быть в действительности.
Такие истории запоминались дословно раз и навсегда. Видно, какая-то замена бая.
51. Застыв в окопе, Себастьян представлял себе, как чудесно могло бы выйти с той маленькой Карпатией, которую он, воспользовавшись вселенским хаосом, может защитить один.
Придумывал прекрасную страну вокруг Яливца, в которой бы не было мусора, все бы знали языки друг друга, а самой высокой инстанцией было бы бюро сценариев, куда бы каждый мог подавать что-то действительно интересное, и правительство руководствовалось бы этими сюжетами.
Все портит «бы».
52. В марте быстро темнеет.
Задумавшийся Себастьян едва заметил отряд всадников в странных мундирах, вооруженных длинными карабинами. Они двигались к Трэбуше.
Он снял рукавицы, выложил возле руки рядок патронов и прижался к прицелу. Всадники переговаривались (судя по губам – по-венгерски), поглядывая на карту (готический шрифт выглядел так, словно Первой мировой никогда не было). На мундирах выделялись значки лесной охраны.
Себастьян взял винтовку между ног, завернул ее в дерюгу, собрал патроны в карман, рукавицы – в другой и на коленях пополз окопом к большой груде камней. А тогда побежал лесом к дороге и бежал четыре часа без перерыва, пока не добежал до замаскированного в яре броневика старого Бэды.
53. Броневик почти свисал над пропастью, привязанный тросом к огромному буку. Верхний люк был открыт, и теплый воздух, выходя из середины, вибрировал над отверстием.
В возе было действительно тепло. Старый Бэда варил вино и рассказывал маленькой Анне про Франциска Ассизского и Франциска Пэтросского. Анна украшала свое пребывание в броневике большими рисунками на белых стенах (что-то похожее Себастьян когда-то рисовал ее маме на ладони) и неудержимым злоупотреблением глаголом «есть».
На тратя времени, Себастьян и Бэда выпили вино и поехали прямо в Квасы, где стоял автобус-бар.
Свою воображаемую войну Себастьян объявил проигранной.
54. Автобус-бар они сперва услышали. А уже тогда увидели достаточно высоко в небе условный знак – шесть береговых ласточек, четыре иволги и одного зимородка. Все пташки летали взад-вперед одна за другой, не вылетая, однако, за границы определенной полусферы, словно световые пятна многих сторожевых прожекторов на облачном небе над ночным городом. Их сдерживали тонкие крепкие нитки, которые пучком сходились где-то за высоким оборогом, в котором из-за зимы почти не осталось сена.
Шесть четыре один, – сказал Себастьян.
Бэда заглянул в большую тетрадь и зачитал вслух – шесть четыре один, в мире все таково, как оно есть, и все происходит так, как происходит; в нем нет никакого значения – а если бы было, то не имело бы значения; если есть какое-то значение, то оно должно пребывать за всем, что происходит и так-существует; ибо все, что происходит и так-существует, – случайное.
Это означало, что все хорошо и можно безопасно идти в автобус, который стоял в тайнике за почти пустым оборогом, именно там, где сходились нитки, которыми были привязаны птички. И привязаны они были к ручке передних автобусных дверей.
55. Сигнал безопасности подавал орнитолог, который когда-то кольцевал птиц на Чорногоре, Грыняве и на гуцульском крае света – в горах Цибо и был знаком еще с Франциском.
Орнитология постепенно перешла в орнитофилию – он научился заниматься любовью со всеми птицами, которые откладывали хотя бы относительно крупные яйца. Они любились на самых верхах, где вокруг оборачивается только небо, а вся земля уменьшается до неподвижной опоры для ног. Птицы отдавались ему молча, лишь закидывая головы и широко разевая клювы, еле сдерживаясь, чтобы не услышали их самцы. А те ненавидели орнитолога, который любил птиц – орнитолог всегда ходил в окружении нервной стайки птичьих самцов, которые вскрикивали нечеловечьими голосами. Любовники моих любовниц – иронически называл их орнитофил.
Со временем орнитофилия отошла, а пришла философия. Точнее – один трактат Витгенштейна.
Бывший орнитолог знал его наизусть, постоянно раздумывая над тем, какую цифру уместно процитировать в данной ситуации.
56. Поэтому, когда орнитолог вызвался стеречь бар, пока Себастьян будет воевать с оккупантами, он предупредил, что сигналы, на которые нужно обращать внимание при возвращении, будет подавать птицами и Витгенштейном. Чтоб их удалось расшифровать, подарил старому Бэде тетрадь с переписанным от руки логико-философским трактатом. Например, изречение «что-то может быть или не быть событием, а все остальное оставаться таким, как есть» передавалось бы птичкой одного вида, двумя – другого и одной еще одного (один два один). О чем это изречение должно было сигнализировать – следовало решить самому Себастьяну. По крайней мере то, что Себастьян оценил «шесть четыре один» как «все хорошо», оказалось правильным.
57. Орнитофил был, наверное, самым частым посетителем Себастьянова бара. Хотя за пять военных лет в автобусе побывали тысячи самых разнообразных клиентов. Среди них несколько сотен – постоянных.
Бар функционировал очень просто. Себастьян ехал, пока автобус кто-нибудь не останавливал. Желающий заходил в бар, и они ехали дальше. Если же тот не хотел никуда ехать, Себастьян съезжал с дороги, и бар какое-то время работал на одном месте.
Иные клиенты могли неделями ездить в баре без всякой цели.
Некоторые заезжали слишком далеко, и Себастьян вынужден был возвращаться.
Порой бар надолго задерживали в каком-нибудь селе.
Бывало, что неожиданно приходилось собираться и куда-то мчаться.
Можно было договориться о приезде бара на определенное время.
И так далее, и так далее.
58. Себастьян успевал водить автобус, обслуживать клиентов и воспитывать Анну. Перед каждым городком он останавливался и шел в него сам, чтобы – по старой снайперской привычке – сначала обследовать город. Кроме того, он должен был выслушивать разные истории, чтобы пересказать что-то от кого-то где-то кому-то. Эта устная почта настолько утомляла Себастьяна, что он уже не мог вспомнить что, где, когда и с кем происходило. Он ездил по эпосу, не прикасаясь к нему.
59. Единственное, о чем он говорил с клиентами вполне осознанно, были своеобразные взаимные исповеди, лишенные изысканной стилистики, но чрезвычайно богатые сюжетами – кто что любит и не любит, кому что нравится и не нравится, вкусно или нет.
Себастьян считал такие разговоры изначальным катехизисом, обязательным первым уровнем каждого сосуществования.
Так что, встречая любого гостя уже во второй раз, он хорошо знал – к чему тот привык, а что можно предложить попробовать.
60. Больше всего любили бар в отдаленных селах, где жило мало людей и мало что происходило.
В распоряжении каждого обитателя такого села было всего-навсего несколько собственных историй. Каждую из них он бесконечное количество раз рассказывал всем, кого знал, так же точно, как они рассказывали несколько своих. Таким образом циркулировала пара неизменных сюжетов, которые трудно было разделить на пережитые и услышанные.
Приезд автобуса с незнакомыми пассажирами давал возможность приобщиться к чему-то иному. И по-новому изложить свое, которое, вырываясь из зачарованного круга слушателей, снова набирало вес.
61. Интересные вещи случались иногда, когда сходились знакомые и их знакомые, говорили о знакомых и рассказывали истории про знакомых знакомых, услышанные от знакомых.
Не раз бывало такое, что кто-то мог выслушать от незнакомого человека удивительную историю, которая оказывалась про сaмого слушателя.
Или: часто за одним столом говорили о ком-то, не подозревая, что этот кто-то сидит за соседним.
62. Одно время так постоянно было с Северином. Все говорили про то, как он завел иностранных туристов в горы к каким-то чудным грибам, от которых туристы спятили, а Северин ослеп, но все-таки вывел туристов к людям. Эта история по-разному рассказывалась много раз.
Никто не знал, что Северин жил тогда у Себастьяна и все время был в автобусе. Хорошо, что не слышал всех этих небылиц, потому что закладывал в уши и в нос вату, смоченную джином – чтобы окончательно рассосалась опухоль в мозгу, которую он не захотел дать удалить младшему Млынарскому.
Много всяких легенд о себе приходилось выслушивать орнитологу, которого в баре считали бродячим философом – со временем он, пересказывая и пересказывая трактат, перестал упоминать Витгенштейна.
63. Невероятнее орнитофила была, может быть, только дочка папы римского. Никто не мог знать – правда это или нет, но то, что она так говорила, – правда. В конце концов, с ней никто не собирался спорить – все были рады видеть невозможное.
Дочка папы римского писала пьяные пьесы. По крайней мере, так она назвала свой писательский метод.
Ей как-то надоело мириться с тем, что большая часть интересного происходит тогда, когда она пьяна – самые важные разговоры, самые смешные шутки, самые афористичные мысли, самые оригинальные идеи, самые парадоксальные решения самых болезненных проблем. И беда в том, – ощутила она, – что все это за минуту невозможно припомнить. Поэтому дочка папы римского начала напиваться с карандашом в руке, записывая каждое сказанное и услышанное слово. Динамика ее пьес сильно зависела от выпитого. Иногда ближе к концу персонажи говорили совершенно непонятные вещи. Да более того, дочка папы римского внедрила еще один эксперимент – ремарки точно указывали количество и качество напитков, и авторесса требовала, чтобы актеры пили все это на сцене по ходу спектакля. Ничего удивительного, что случались интересные импровизации, которые заводили действие в непредвиденные дали.
Автобус Себастьяна на несколько лет стал ее творческой лабораторией, кабинетом, мастерской и жильем.
64. В 1942 году дочка папы римского собралась писать пьесу про цыганских детей, которые убежали из лагеря, и венгерских жандармов, которые их разыскивают. Жандармы приходят к заключению, что детей может вычислить ребенок, представляющий себе, как дети думают и ведут себя, и зовут на подмогу девочку-детектива. Девочка находит цыганчат, хотя и не очень легко – речь идет о различии культур и цивилизаций (на самом деле детям встретился старый Бэда, он провозил их в своем броневике до конца войны).
Восьмилетняя Анна была нужна для изучения детского языка. Дочка папы римского напоила ее коварным сладким молодым вином.
Когда Анна отоспалась и протрезвела, то так рассказала отцу про прививку яблонь, груш, персиков и черешень, что Себастьян поверил – она была внутри деревьев и плавала в соке по сосудам.
65. С тех пор Непростые время от времени передавали Себастьяну сигареты, которые нельзя было выкуривать.
На внутренней стороне сигаретной бумажки Непростые рисовали схему, по которой Анна могла найти то или иное дерево и привить его определенным черенком.
Они ездили в указанные места баром.
66. Вообще-то, ездить автобусом было очень приятно. В нем хорошо пилось и красно говорилось, из него далеко виделось, им как-то обминались все опасности – удавалось приехать немного раньше или счастливо запаздывалось.
Не беда, что часто не хватало еды, что зимой приходилось торчать в заносах и горели руки от мытья посуды в холодной воде, а писать – просто в снег за дверьми, что летом бывало так жарко, аж приходилось постоянно смачивать одежду в лоханке с дождевой водой, а ночами, когда становилось прохладнее, казалось, что снаружи непрерывно идет дождь – в окна набивались рои насекомых, что требовалось бесплатно поить полицию и офицеров.
67. Осенью 1944 года автобус пришлось бросить в Красношоре. В тот же день Себастьян и Анна стопом доехали до Кёнингсфельда – их взяли на рамы селяне, что ходили к Тэрэсве подбирать брошенные немцами велосипеды.
68. Себастьян мог легко побить тех троих у портняжной мастерской в Кёнингсфельде без всякого оружия. Даже без дубинки (дубинку было бы несложно раздобыть, потому что деревья, насыщенные водой, стали мягкими – пора, когда всюду победили вода и зелень). Себастьян еще из армии знал, как можно покалечить голыми руками. А в Африке он еще и принимал участие в довольно театральных состязаниях – боях с вооруженными ножом, шилом, бритвой или кастетом солдатами (хорошо, что у меня есть Африка, – подумал Себастьян, – всегда можно себе пояснить происхождение многих собственных странностей).
69. Он приближался к троим и четко видел сломанные коротким прямым ударом выпрямленных пальцев хрящи гортани первого, треснувшие от бокового левого удара открытой ладонью сосуды на виске второго, выбитые правой пяткой колено, а правым локтем челюсть третьего.
Но драться он не имел права.
70. Драться означало поубивать, поубивать – значит, бежать и всю жизнь перепрятываться. А дома ждет Анна.
Себастьян подошел первым, помня, что прежде всего должен постоянно помнить беречь жизнь, и успел поздороваться перед тем, как трое накинулись на него (еще больше подставляя гортани, скулы, колени, челюсти и солнечные сплетения), связали, закинули в кузов студебеккера и поехали в ту сторону, откуда Себастьян только что шел.
71. Что из него могут выбить на допросе?
На допросе выпытывают тайны, а не вину.
Вина (муж сечевой стрельчихи, сержант Иностранного легиона, участие в колониальных войнах, зять известного декадента, греко-католик, украинец, контакты с националистами, сионистами, антисемитами, белыми и черными расистами, анархистами, троцкистами, монархистами, иностранными журналистами, пластунами, монахами, офицерами, членами правительства, парламентариями, дипломатами, орнитофилами, наркоманами, родственниками ватиканской верхушки, наемными убийцами, убийство трех наемных убийц (одного несовершеннолетнего), снайпер, незарегистрированное оружие, запрещенные книжки, гашиш, вторая жена – дочка, педофилия, мелкое предпринимательство, частная собственность, нелегальный переход границ, знахарство, местный обитатель, пребывание на оккупированной территории, участие в событиях на Закарпатье 1938-1939 годов, шпионаж, саботаж, нарушение паспортного режима, содействие националистическому подполью, проживание в приграничной зоне, нелегальная психотерапевтическая практика, фрейдизм, морганизм-вейсманизм, ницшеанство, витгенштейнизация, отступление от принципов соцреализма в художественном рассказе, критиканство, преклонение перед Западом, пацифизм, полулемк, сопротивление представителям власти, неучастие в выборах в Верховный Совет, уклонение от всесоюзной переписи населения, нетрудоустроенность, бытовое пьянство, нетрудовые доходы, укрывание преступников, нехорошо смотрит, внимательно слушает, много помнит, слишком много говорит) их не интересует, потому что это не тайна.
Жить без тайн, – говорил Франциск.
Тайн он не знает.
Что он знает?
Он знает тысячи мест и слов.
Что он помнит?
Он помнит тысячи мест и слов.
Что он забывает?
Он забывает тысячи мест и слов.
Что он вспоминает?
Он вспоминает тысячи мест и слов.
Что он выдумывает?
Он выдумывает тысячи мест и слов.
Что он рассказывает?
Он рассказывает тысячи мест и слов.
Что он изучает?
Он изучает тысячи мест и слов.
Что он любит?
Он любит тысячи мест и слов.
Что он выбирает?
Он выбирает тысячи мест и слов.
Что он не выбирает?
Он не выбирает тысячи мест и слов.
Что он умеет?
Он умеет видеть, знать, любить, помнить, забывать, вспоминать, выдумывать, рассказывать, выбирать, не выбирать тысячи мест и слов.
Что он делает?
Любит, видит, изучает, знает, помнит, рассказывает, забывает, вспоминает, выбирает, выдумывает, не выбирает тысячи мест и слов.
Чего он хочет?
Видеть, изучать, знать, любить, помнить, забывать, рассказывать, вспоминать, делать, выдумывать, выбирать, не выбирать тысячи мест и слов.
Что он может?
Видеть, изучать, любить, знать, выдумывать, не выбирать, забывать, вспоминать, выбирать, помнить, рассказывать, делать, хотеть тысячи мест и слов.
Что тогда тайна?
Как и для чего он видит, любит, помнит, рассказывает, знает, хочет, может, умеет, делает, забывает, не выбирает, вспоминает, выдумывает, выбирает тысячи мест и слов.
Как и для чего есть тысячи мест и слов, то есть все, что видится, изучается, знается, помнится, забывается, вспоминается, выбирается, любится, хочется, можется, умеется, выдумывается, не выбирается.
А это уже не его тайна.
Он может спокойно идти на допрос. Хотя боли не избежать, если не знаешь хоть какой-нибудь тайны, но нет необходимости ее выносить – сама как-нибудь пройдет.
72. Дорогой Себастьян пережал себе сонные артерии, чтобы немного поспать перед допросом. Спать – удлинять время на полжизни.
Его еле дозвались на допрос.
73. Прежде всего предложили закурить. Он взял три или четыре сигареты из целой пачки ленд-лизовского Кэмела.
Про сигареты на потом надо думать даже тогда, когда они каким-то чудом появляются теперь, сигареты – лучшее доказательство того, что все заканчивается (Себастьян знал одного убежденного фашиста, который сдался американцам в плен потому, что там ежедневно давали сигареты).
74. Тогда уж поздоровались, назвались фольклористами, велели приготовиться к продолжительной беседе и призвали быть искренним.
Себастьян решил вовсе даже не упоминать, что спешит к Анне. Это может вызвать охоту продержать его как можно дольше.
А что касается искренности, то он знал один неплохой способ. В бае, как и в ласках, все зависит от ритма. Если взять фальшивый ритм, то какая может быть искренность. Правильные высказывания ни к чему не приведут. Он решил попробовать такой стандарт – шесть коротких, одно долгое, одно очень короткое снизу вверх, одно очень долгое с оборотом по спирали и два коротких неполных вправо.
Себастьян так настроился, аж услышал свой голос, не начав еще говорить. И тот голос ему понравился.
В конце концов, еще не было случая, когда бы он не смог пережать кого-то беседой.
75. Себастьян почему-то напомнил себе рассказ одного из растаманов про то, что у сегедской Нанашки есть в Сегеде маленькая частная тюрьмa, в которой держaт случайных людей, арестованных для того, чтобы рассказывать Нанаште всякие байки.
76. Когда Себастьяна через пару часов выпустили, и он снова шел к Мокрой через Кёнингсфельд и спешил к Анне, то никак не мог понять – почему все так легко и безболезненно случилось. То ли потому, что сразу сказал фольклористам, где искать сокровища Довбуша (о разных ценностях стоит признаваться быстрее, чем начнутся пытки, – учил он Анну), то ли он был прав, и попытка понимания посредством разных языков действительно – пик бытия. Хотя могло быть даже проще: или эти люди действительно были фольклористами, или помог фальшивый ритм. Может быть, и то, и другое.
77. Он пришел домой только следующим утром.
Анна очень долго спала, потому что заснула перед самым его приходом. Себастьян не снимал с нее даже обуви, чтобы не разбудить, сидел рядом и ждал, пока она так хорошо спала.
Сыр таки завонялся, он прожаривал его с тмином, а она грела на огне из мягких, потому что мокрых, веток вчерашний суп – хлеб, лук, заячью капусту и сушеные на дереве вишни намочить в сливовице, варить в воде со сметаной, добавить масла, соли, паприки, налить в миски, в каждую порцию плеснуть большую ложку горилки и есть, пока очень горячее (кроме обязательных ингредиентов, Анна утопила в супе весь жареный сыр).
Потом Себастьян рассказывал, что ничего более удивительного никогда не слышал.
Если по карте (легенда)Написанное в Париже в 1976 году блестящее историческое эссе Анны Себастиани о психологии христианского мученичества «Безответственная последовательность плотная» имеет такой лирический эпиграф – «О том, что это приходили святые, узнаешь через столетия. Тодиаска, 1951».
Правдоподобно, что эта фраза автобиографична и касается встречи Анны с будущими мучениками катакомбной украинской греко-католической церкви на горе Тодиаска. Судя по месту и времени, речь идет о путешествии Анны и Себастьяна из Мокрой в Яливец.
Если это действительно так, то самый вероятный маршрут путешествия выглядел так:
Дойче Мокрая – Руська Мокрая – Кёнингсфельд – Свидова – Берлиаска – Пидпула – Тодиаска – Блызныца (пять последних – горы на Свыдовке) – Квасы – Мэнчил – Шэшул – Яливец.
Семь1. Было так холодно, что невозможно было снять с себя хотя бы кожухи.
2. Сидя на каменном полу пустой комнаты, они любились так просто, что Анне показалось, будто она распалась на много частей, каждая из которых любится с Себастьяном.
3. А он чувствовал, что научился летать, хотя понимал, что это оттого, что – в Яливце.
4. Холод не мог протиснуться в раскрытые щели одежды, потому что навстречу ему вырывался жар с особенным привкусом обонятельной галлюцинации.
5. Главное – не спешить выходить, когда ничто не держит и можно поговорить.
6. Если так – ты такая большая, а в действительности – маленькая.
7. Тебя так много и так мало.
8. Так хорошо миру, и мир тоже хорош.
9. Хотя в тебе мир лучше, чем вне тебя.
10. Больше всего хочу касаться своего беременного живота вместе с тобою.
11. Если у тебя будет когда-нибудь другой муж, то он погибнет оттого, что у него будет слишком хорошая жена.
12. Не говори со мной такими интонациями – так говорят, когда закрыто, когда не можешь пробиться.
13. Я хороша тогда, когда ты об этом мне рассказываешь.
14. Анна задремала, сидя на Себастьяне, упершись лбом в плечо, и он должен был так сидеть, хотя очень хотелось разогнуться и лечь.
15. Как и с предыдущими Аннами, с этой всегда было так, как в первый раз в мире.
16. Потом за Анной пришел старый Бэда. С Непростыми ничего не случилось. Сюжеты не могут заканчиваться. Они решили ехать куда-то за край света и ждут ее в броневике. Анна стала страшно грустной. Себастьян сказал, что никому ее не отдаст. Она выпила много джина и заплакала. Бэда пришел еще раз. Себастьян выгнал его и бросил в окно гранату. Анна напилась и начала размышлять вслух про их семью. Себастьян впервые понял, что она воспринимает все совершенно иначе, чем он. Она плакала и пыталась поцеловать его в руки. Он не давал, она перестала плакать и спокойно попросила позволения поцеловать каждую руку по разу. Себастьян позволил, и она сделала то, что хотела. Вторую целовала очень долго. Он вынужден был отнять руку, чтобы кинуть еще одну гранату. Анна сказала, что он делает для нее слишком много. И пошла к дверям. Себастьян не мог этого понять. Помнишь, мы говорили? Она обернулась, но не останавливалась – вышла, пятясь. Себастьян сделал какой-то такой жест, что Анна, когда была уже возле броневика, не удержалась и попробовала его повторить сама себе, словно стала Себастьяновым биографом. Интересно, что делает в эту секунду папа. Поиск интересного – самый человеческий признак, папа такое говорил. Так говорил Себастьян, так говорил Франц.
17. Себастьян не мог ни сидеть, ни идти, ни стоять, ни лежать.
18. В глубине легких было пусто.
19. Три тысячи раз он подумал слово «Анна».
20. Только под вечер смог что-то делать, К тому же сразу четыре дела одновременно.
21. Писал на снег.
22. Присматривался к дереву, на котором какие-то птицы выглядели, словно перезрелые плоды.
23. Ощупывал кончиком языка непривычный от охлаждения рельеф поднебья.
24. И молился за души умерших, за которые больше никто не мог помолиться – за Франца, Лукача, старого Бэду, французского инженера, Лоци, растаманов, слепого убийцу, его ребенка, орнитолога, Штефана, Нанашку, посла Стефаныка, посла Лагодынского, художника Труша, художника Пер– фецкого, инструктора по выживанию, боснийца– капитана, четаря Пэлэнского, сотника Дидушка, сотника Букшованого, полковника Колодзинского, генерала Тарнавского, своих негритянок, Северина, младшего Млынарского, дочку папы римского, Брэма, Витгенштейна, цыган-трубачей, Анну, Анну и Анну.
25. На яблонях в бывшем городском саду висело очень много яблок. Никто их не срывал и не сорвет. Вынул из кармана яблоко, подобранное вчера. Укусил, и в рот попал длинный Аннин волосок.
26. Люблю ее, а не себя, а она есть, всегда где-то есть, такая же прeкрасная. Хорошо хоть где-то кого-то иметь. Хотя бы для того, чтобы было кому рассказать историю дня, который стоит ради этого прожить.
27. На том свете привычнее всего себя чувствуют не воины и не лекари, не строители и не садовники, а рассказчики историй, баильники.
28. С самого высокого дерева среди тех, что Себастьян посадил в 1914 году, взлетели сороки и полетели в тень Пэтроса.
29. Себастьян сосчитал – семь.
30. В тетради орнитолога семь – о том, про что нельзя сказать, надо молчать.
31. Среди всех доказательств существования Бога это может считаться самым лучшим.
Из этого можно сделать несколько рассказовМой двоюродный дед Михась так хорошо клал печи и погреба, что после ареста еще целый год не мог пойти по этапу. Новоприбывшие офицеры оккупационной армии и тайной полиции обживались в городах, городках и больших селах. Они получали государственные квартиры в разрушенных войной каменицах и виллах. Им нужно было озаботиться бытом семьи, ощущением дома и спокойной будущей жизни. Арестованный мастер принадлежал им. Деда забирали на частные работы сначала яремчевские, потом
надворнянские уполномоченные. Ничего удивительного. В конце восьмидесятых мы, солдаты советской армии, так же точно делали ремонты в жилищах офицеров. Наконец какая-то комиссия из Киева обнаружила, что осужденный такой-то все еще числится за местным следственным изолятором, хотя ему совершенно разумно назначено находиться в восточных областях Советского союза. Деда тут же отправили в Станислав с назначением на первый поезд в Сибирь. Знакомый доровский
священник был единственным, кто сумел завезти ему мешочек сухарей. Отец Головацкий не знал, что через несколько лет они станут родственниками, что в Чите дед женится на сестре жены его брата. И что все они вернутся в Карпаты. Первый поезд в Сибирь был уголовным. Деда забросили в вагон, и сухари сразу оказались у пахана. Ясно, что нужно было перебазарить. Уголовные не любили политических. Особенно тогда, когда один
политический попадал в целый вагон уголовных. А дед не любил романов. Он говорил мало, и большая часть того, что он говорил, были шутки и каламбуры, или предельно дозированные фрагменты собственного опыта, появлявшиеся как ассоциации, которые могли зависеть только от очень персональной логики цепи. Из-под языка он вынул половинку жилетинки и, еще держа руку возле губ, сделал пальцами то движение, которое заставило
невесомый кусок стали пролететь несколько метров и углубиться в дощатую стену как раз возле головы пахана. Уже потом дед поздоровался с временным домом, как должен был здороваться бывший боец штрафбата. Ему отдали сухари и уступили место у воздуха. Поезд шел на владимирский централ. Там деда всякий раз снимали с поезда, вычисляя какое-то несоответствие. Много суток он провел на бетонных полах, залитых водой, в самых легендарных этапных тюрьмах. Одна из них была даже на острове, что деда очень веселило. Понятно, что он не любил полицаев и милиционеров. Как настоящий мастер он говорил, что захотеть быть милиционером может только тот, кто не хочет ничего настоящего делать, но хорошо есть. И еще должен иметь особую любовь к беспрепятственному битью людских тел. Дед совсем не удивлялся, когда все перешептывались про дальнего соседа, которому, скорее всего, отбили почки в милиции где-то в конце
семидесятых. Дед не слишком разбирался в общественных и государственных системах, но верил в постоянство человеческой природы. Когда кто-то застрелил женщину, которая жила еще ближе к лесу, чем мы, дед решил уничтожить свой флоберт, который хранился в секретном погребке под домом еще с тридцатых годов. Участковый милиционер стал ходить слишком близко. Между нашим домом и домом убитой не было никакого жилья, только поле, огороды, сады, овраги и заросли шиповника. Покойница
часто приходила к нам, они с дедом Михасем сидели по вечерам на лавке под сливами. Дед любил свой флоберт, но понимал, что пришло время, когда ружье, даже совсем чистое и уникального калибра, должно быть ликвидировано, чтобы его не нашла милиция в доме. Нам дед подарил несколько десятков блестящих патронов. Под холмом, на котором наш дом и сад, были железнодорожные пути. Но мы уже немного понимали в таких вещах и отошли по путям довольно далеко от дома. Туда, где с обеих сторон был лес. И там положили патроны на рельс. Подошел вечерний раховский, из окон выглядывали пассажиры. Шестьдесят патронов при такой скорости создали эффект полного шмайсеровского магазина. Машинист затормозил, выпрыгнул из своей кабины и скатился в овраг. Поезда и пути были частью нашей ежедневной жизни. Когда ехали товарные, трясся дом. Особенно это ощущалось ночью, кровать
вибрировала, как при среднем землетрясении. На чердаке добавлялся еще один балл. Когда действительно произошло землетрясение где-то в восемьдесят первом, наша семья была единственной из каменицы в несколько этажей во Франковске, которая никак не среагировала на сотрясение. Соседи в пижамах, с паспортами и сберегательными книжками стояли на середине улицы и с жалостью смотрели на наши окна. Двоюродный дед в это время стучал какой-то палкой в потолок, потому что думал, что тамошние дети ездят посреди ночи на велосипеде, а
мама спрашивала у брата, зачем он трясет кровать. Только двоюродная бабушка Мира, которая спала в своей комнате в узкой щели между штабелями книг, была уверена, что произойдет то, чего она всегда боялась, о чем часто думала, – когда-нибудь случится трясение земли и ее завалит книжками. А потому даже не пыталась выйти из комнаты. Прежде всего она ценила свою независимость от других людей, даже самых близких. Ненавидела подарки на день рождения. В ее комнату нельзя
было никому заходить. Дверь она всегда закрывала на ключ. Ее комната была зарегистрирована как отдельная квартира. Даже святой Николай оставлял свои мандаринки для бабушки Миры в сумочке, привязанной к дверной ручке ее покоя. Дед Михась, между прочим, не знал многих современных самых простых слов. Комнату он мог назвать «покой» или «комната», но не «шмната». Про потолок сказать – «суфит» или «потолок», но не «стеля». Бабушку Миру это нервировало. Ее много чего нервировало в деде Михасе. Но она
признавала, что – несмотря на отсутствие образования – он чрезвычайно интеллигентен. Просто они оба были слишком упрямыми и сильными, чтобы уметь спокойно воспринимать друг друга. И слишком ироничными, чтобы не видеть в себе агрессора и жертву одновременно. У них был общий духовник. Отец доктор Лаба в двадцатых был духовником в гимназии сестер-василианок, где училась бабушка Мира, а в сороковых – в дивизии «Галичина», где служил дед Михась. Бабушка Мира не любила
свой советский паспорт, потому что в графе «место рождения» стояло – Скрентон, США. Бабушка Мира приучила нас с братом к грейпфрутам. Еще в те времена, когда их только начали экспортировать с Кубы и ими оказались забиты овощные магазины, и все считали их какой-то дрянью по сравнению с дефицитными апельсинами и мандаринами. Еще в овощных магазинах продавали очень плохую квашеную капусту. Ее испорченность пытались перебить лавровым листом. Бабушка Мира была
сестрой моего деда Богдана, маминого папы. Дед Богдан умер за несколько лет до моего рождения. Другой родной дед – папа папы – погиб за несколько месяцев до рождения папы. Поэтому дед Михась был моим единственным реальным дедушкой. Они познакомились с бабушкой в Чите. Папе было тринадцать лет, он привык заботиться о своей матери сам, поэтому сначала активно мешал какому бы то ни было сближению. Папу брали прямо в школе. Они тогда жили в
Моршине. В класс вошли вооруженные энкаведисты и арестовали десятилетнего мальчика. В Чите он сошелся с урками. В один год в их классе стало на шесть мальчиков меньше – трое погибли в поножовщине, а других троих осудили на расстрел за многочисленные случаи разбоя с убийствами. Иногда читинские урки проигрывали в карты чью-нибудь жизнь. Скажем, четвертый ряд, девятое место в кинотеатре «Спартак» на сеансе в четырнадцать
двадцать. Проигравший должен был заколоть случайного зрителя, который оказался в это время на этом месте. Дед Михась сумел вытащить папу из уличной банды, и папа его признал. Папа начал серьезно заниматься классической борьбой, выпиливанием лобзиком и ремонтом часов. Хотя по привычке не переставал носить кастет. Дед Михась убеждал его, что желудь гораздо лучше, потому что им нельзя никого покалечить. Желудь – это металлический шар,
который сжимают в кулаке. Он не столько добавляет веса удару, сколько формирует наиболее эффективную структуру самого кулака. Уже в восьмидесятых папа часто ходил по ночному городу, держа на всякий случай в руке кожаный футляр с множеством ключей. Его читинский кастет я нашел несколько лет назад. Бросил в карман и пошел за хлебом. По пути не удержался и надел его на руку, не вынимая из кармана. Четыре дырки были рассчитаны на более тонкие пальцы. Стоя в очереди, я
никак не мог снять кастет. Также не мог вытащить руку из кармана, не мог достать деньги. Вынужден был выйти из очереди в последний момент. В другой раз мы провожали кого-то на ночной поезд. Целой компанией допивали последние бутылки на вокзале, почему-то между двумя товарными поездами на запасных путях. Мы хотели, чтобы все было как можно тише и приличнее. Бутылки стояли на низеньком столбике, из которого светила синяя лампа. Мы не подозревали, что в том
году было так много краж из товарных вагонов. Оказывается, за всей территорией станции довольно хорошо наблюдали. Вдруг со всех сторон набежало множество милиционеров. Они, когда бежали, забавно прижимали фуражки. Нас задержали и под конвоем повели в отделение. В кармане моего зимнего плаща был кастет. Я хотел его оттуда убрать, но милиционер схватил меня за руку и запретил пользоваться карманами. Я предложил ему покурить хороших сигарет,
у меня как раз была подаренная пачка неизвестного у нас житана. Офицер согласился, потому что до отделения было еще далеко. Вынимая пачку, я должен был успеть прорвать карман и бросить кастет под подкладку плаща. В отделении нас обыскали. Я старательно отводил полы, пытаясь не зацепить никого чем-то тяжелым, что болталось на уровне колен. Потом я выбросил его в реку. Никогда никого не ударил. Даже того омоновца, у которого мы с приятелем отобрали резиновую дубинку. Тогда
Франковск был похож на оккупированный город. Стоял сентябрь, пятидесятилетие присоединения Западной Украины к УССР. Омоновцы из Одессы патрулировали все центральные улицы. Ходили по трое, с собаками, резиновыми дубинками, газовыми баллонами, наручниками. Такого мы еще не видели. Патрули охотились за всеми, кто носил значки с желто-синими или красно-черными флагами. Закончилось тем, что они избили нашего товарища. Когда его госпитализировали,
омоновцев убрали, спасая от ответственности. А семнадцатого сентября мы надели черные траурные повязки и зажгли свечи в темных окнах. Хотя наше окно трудно было сделать темным. Мы жили на главной улице, и гирлянды праздничной иллюминации были натянуты как раз напротив наших окон. Зимой, когда подоконники, крыши, деревья и электрические провода облипали снегом, здорово было раскрыть окно и смотреть на особенное розовое сияние – иллюминация как-то
растворялась в фактуре снега. Во Львове я иногда ночевал на улице Русской. На последнем этаже древней каменицы, прилегающей к Успенской церкви, жила наша старенькая тетя, вдова первого ректора украинского тайного университета. Когда она болела, я оставался там на ночь. Кровать легко вибрировала от трамваев, и время от времени вспыхивали синие сполохи, стиснутые ущельем улицы. Из другого окна можно было осматривать экспонаты одного зала музея мебели и
фарфора. Как-то мы ходили по нему с моими еще маленькими тогда детьми. Я посмотрел через окно на окно давнего жилища. Оно было открыто, но этажом выше. Можно было увидеть тот же самый потолок и совсем другую лампу. Во Франковске было такое время, когда мы с самыми близкими одноклассниками каждый день после школы несколько часов ходили по городу. Нам было по шестнадцать лет. Почему-то почти всегда цвели сливы, груши и черешни. Мы бродили по городским
дворам и бегали по крышам над целыми кварталами. Неожиданно оказались на отвесной крыше, с которой я увидел, что делается в нашей квартире. Я представлял себе, что переживают умершие, дожидаясь нас. После крыш мы всегда еще немного фехтовали в саду музыкального училища. В основном три на три. Иногда три на два. У нас был там тайник с рапирами. Возле музыкального училища стоял древний одноэтажный большой дом, в котором
когда-то жил мой прадед Гнат. Он был главным дьяком в Станиславове, организатором дьяческого движения в Галиции и редактором журнала «Дьяческий Глас». Еще издал нотный сборник «Напевник церковный». В детстве мы играли с братом арапником прадеда. В том доме прадед вел дьяческую школу. В восьмидесятых там был подпольный монастырь сестер-служебниц. Сестра Виталия была нашей дальней родственницей по линии Игнатия. В одной из комнат стояла
большая фисгармония, вероятно, осталась с времен дьяковки. Сестры приносили нам подпольно освященные иорданскую воду, пасхальный кулич и крашенку. На Рождество они пекли для нас отдельный перекладенец и маковник. Мы не признавали официальной церкви и никогда туда не ходили. Разве что перед праздниками любили посмотреть на учительниц и комсомольцев из всех школ города, которые высматривали своих учеников, держа наготове карандаши и блокноты. Мы всегда приблизительно знали,
кто из наших учителей непосредственно сотрудничает с КГБ. Как-то на Пасху Анжела нашла в городе антисоветскую машинописную листовку. Она принесла ее в школу, учительнице истории, которая была самой либеральной и играла в настоящую дружбу учеников и учительницы. Анжела просто хотела, чтобы АПП (так мы называли историчку) объяснила текст листовки. Увидев нечто такое, наша милая учительница изменилась в лице и отправила Анжелу как раз к той завучке, которую мы подозревали. Через окна класса мы видели, как завучка тащит за руку нашу одноклассницу, другой рукой осторожно держа вещдок. Анжела побывала непосредственно в главной конторе по улице Чекистов. С ближайшими приятелями мы начали как раз перед этим готовиться к перевороту, который должен был освободить Западную Украину от Cоветского Cоюза. Начала подготовки состояли в изучении опыта спецслужб всего мира – всего, что могло быть
доступным в СССР. Поэтому нам было очень странно – как можно так непрофессионально палить агентуру на случайном эпизоде с левой листовкой. С АПП мы больше ни о чем серьезном не говорили. Разве что о сталинских репрессиях всяких конченых героев гражданской войны. Это был последний год жизни деда Михася. У него была ужасная астма. Уже несколько лет подряд они с бабушкой зимовали во Франковске. Деду Михасю не хватало воздуха. Иногда мои друзья убегали из нашего дома,
не выдерживая звуков его дыхания. Была странная зима. Бесснежная и лютая. Мы каждый вечер мыли лапы нашей кошке. Она вырывалась, и на наших руках никогда не исчезали тонкие узоры глубоких царапин. Кошка ходила в ящик с песком, постоянно что-то там загребала, а дед Михась слишком сильно чувствовал ночью запах ее невымытых лап. У него ужасно болела поясница. Наконец она вспомнила о холодных лужах на бетонных полах буров. Мы ставили ему на спину какие-то
магнитные пластины. Трижды в день я натирал его гадючьим ядом. Потом долго нюхал свои пальцы, едва удерживаясь от соблазна попробовать их полизать. Все домашние сосредоточивались в одной из комнат, там, где можно было сильнее всего натопить печь, там, где меньше всего тепла выдувал ветер. А с братом Юрой мы придумали новое развлечение – бокс лежа. Я делал записи в дневнике деда Михася, каждое воскресенье мы все пили на завтрак какао. Сразу
после нового года начали показывать французский сериал «Графиня де Монсоро». Именно он помогал нам с Юрой как-то переживать занятия в музыкальной школе. Все учительницы прониклись сериалом. Мы же к тому времени прочитали весь многотомник Дюма и могли рассказать многое, что не попало в экранизацию, – сериалы тогда были сокращенными версиями романов. Так за одну неделю из отстающих учеников класса фортепиано мы
превратились в эрудированных и элегантных братьев – рассказчиков светских историй. Уроки в музыкальной школе нам всегда назначали на самые поздние часы, потому что мы жили напротив. Когда-то в том доме была резиденция одного из станиславских раввинов. Крыша была сконструирована так, что ее можно было раздвигать. Таким образом не нужно было выходить из особняка в те праздничные дни, когда требовалось трапезничать под открытым небом. А наша крыша в
Делятине просто протекала. В период дождей на чердаке стояли в сложнейшем порядке десятки тазов, мисок, жестянок из-под краски и консервов – в зависимости от величины щели. Несколько раз в день мы обходили все эти посудины, сливая дождевую воду в ведро. Дождливым был обычно какой-то целый месяц лета. Иногда говорили, что прорвало тучу. Тогда по каменной дороге текла сплошная река, смывая насыпанный щебень вплоть до старых каменных плит. Вода в колодце не
успевала профильтроваться и пахла размокшей травой. Наша гора становилась недоступной, вода заполняла все подходы. Как только погода налаживалась, мы лезли на крышу и смолили щели. С крыши дома все деревья и кусты выглядели настоящими джунглями. Из засекреченной зоны между ближайшими горами вылетали истребители. Над нашим домом они пролетали еще так низко, что было видно каждую деталь. Поезда, которые что-то возили на зону, выглядели как пассажирские, но все окна были закрыты шторами. В зоне были три зоны. В первой в разных мастерских работали делятинцы с определенным допуском. Вторая была военным городком со своей школой, магазинами, улицами и высокими домами. Мама работала в областной детской больнице и знала, что дети из зоны поступают с адреса Ивано-Франковск, 17, улица Авиационная. Сельские дети рассказывали всякие воображаемые чудеса – что там есть трамвай,
бассейн, зоопарк и цирк. Третья зона была самая секретная. Собственно оттуда отстреливались истребители и туда заезжали поезда без маркировки. Ходили слухи, что там добывают уран. Только позже выяснилось, что в зоне была одна из станций стратегических ракет. Колючая проволока охватывала еще и большой участок леса вокруг зоны. Мы пролезали сквозь проволоку и собирали грибы. Иногда нужно было прятаться от патруля, который обходил ограждения. Однажды мы пошли по грибы, как
всегда, рано. Обычно возвращались через несколько часов, а тогда слишком далеко зашли и хотели пойти еще дальше. Под вечер над нами начал летать военный вертолет. Мы увлеченно играли в наших партизан, за которыми охотится авиация. Каждый раз, когда вертолет снижался и заходил на ближний круг, мы маскировались в можжевельнике, потом перебегали по склону дальше и снова вынуждены были прятаться. Пришли домой поздно вечером и узнали, что вертолет действительно искал нас – перепуганная родня
обратилась к военным, что дети не возвращаются из лесу. Сразу за нашим домом начинались горганские леса. Можно было, не выходя к поселениям, дойти до самого Закарпатья. Через много лет я работал в институте горного лесоводства и часто бывал на закарпатской стороне. В паре с лаборантом мы ездили в долгие командировки, высчитывая формулу состава разных лесных участков. У нас был уже настолько наметан глаз, что даже из автобуса мы не могли
нейтрально смотреть на придорожные леса – шесть бук два пихта один ель один ольха. Мы ночевали в разных лесничествах. Обычно в комнатах для гостей. В некоторых местностях это были настоящие роскошные притоны для номенклатуры. Увешанные кожами комнаты пахли чистым деревом и борделем. Лесники кормили нас мясом, грибами, вареной картошкой, сыром и поили самогоном. В Довгом мы пошли вечером пить чешское пиво. Оказалось, что спокойно попить
тут очень трудно. К нам сразу подходили разные цыганки и просили несколько глотков пива, они садились рядом и тянулись к кружке. В Черновцах мы целую неделю выписывали данные про столетние насаждения из специальных книг в управлении лесов. Ни в одном баре, ни в одном кафе, ни в одном ресторане не было никакого кофе, кроме растворимого. По вечерам мы пили в первом ночном баре. Были в кирзовых ботинках, брезентовых куртках и свитерах, на поясе
телепались охотничьи ножи, у нас было много сигарет, потому что мы собирались на ту неделю в горы, а не в Черновцы, но по горам прошел буран, и нам дали другое задание. У нас даже не было паспортов, и нас не приняли в гостинице. Мы поехали в университетские общежития, записались на прием к врачу, все ему рассказали и получили комнату в студенческом санатории-профилактории на последнем этаже какого-то общежития. В ночном баре мы были
единственными, кто громко говорил по-украински и не носил белых носков. Нас пригласили к столу Князя. Князь подумал, что мы какие-то очень серьезные люди из Львова, поскольку только там нормальные бандиты позволяют себе не стесняться украинского. Нас обоих звали Тарасами, и Князь считал, что это обращение, вроде как «брат». Закончилось тем, что мы захотели посмотреть на ночной город. Князь один, без своих людей, должен был провести нам краткую экскурсию. В каком-то особенно
красивом дворике эпохи модерна он попросил разрешения перейти на украинский. Чтобы что-нибудь себе сварить, мы спускались на нижние этажи общежития в общую кухню. Мы ходили по комнатам в поисках сковороды, пустой сковороды. А перепуганные студенты убеждали взять все, что они только что на сковородах поджарили или потушили. Мы отказывались, и тогда нас звали к общему ужину. Наша лаборатория изучала естественное
лесовосстановление. Лучшее естественное лесовосстановление было в Берегомете. В институте мы проработали год, хорошо поездив по карпатским городкам и лесам, в которых никогда больше не довелось побывать, изучив параллельный мир целой сети лесничеств и затвердив основы лесоводства. Но сложилось так, что позже нас неожиданно сводило снова и снова в совсем других сферах – производстве и продаже шипучих вин, представительстве
популярнейшего еженедельника, создании модного журнала, ловле форели. Именно Тарас предложил мне стать журналистом. Тарас не любил собак, голубей, маленьких детей и цыган. В командировках мы привыкли к кофеиновым драже. Во Франковске тогда было очень тяжело с кофе. В главных кофейнях был только зеленый кофе. Дневного запаса хватало на первые полчаса. Еще до открытия возле кофеен возникала очередь. То же самое происходило с молоком.
Люди приходили к магазинам еще до шести. Зима была снежной и морозной. В городах экономили свет, и улицы не освещались. Темные очереди среди снежных сугробов выглядели очень живописно. Я приходил каждый день в молочную очередь, потому что дети были маленькие. Оттуда шел в кофейню. Зеленый кофе оставлял особые пятна на блюдцах. Мы выходили с чашками наружу, садились на подоконниках, потому что внутри еще не разрешалось курить. Как раз тогда появились
дешевые американские сигареты в достаточном количестве. В буфете стоматологического корпуса медицинского института тоже был кофе, для студентов и преподавателей. Когда приехал Антони Миро из Испании, мы с Игорем повели его именно туда, потому что на городской кофе Миро опоздал. Художник потом говорил, что это был его лучший кофе в жизни – мы вошли в городскую стоматологическую поликлинику, прошли мимо десятков искаженных болью и терпением лиц, за дверями кабинетов гудели
медленные сверла, шли мимо плевательницы с кровавой ватой, через мастерские с гипсовыми слепками и шлифовальными станками, через аудитории, проходили по лестницам, подвалам и коридорам со страшными стенгазетами. Зеленый кофе с плантаций гражданской войны в Никарагуа. Во Франковске он стоил каждый день по-разному, изменение в пределах двух копеек. В зависимости от перемещения линии фронта. Как раз тогда в нашем городе впервые появился Джон.
Джон Сиддхартха, странствующий узник ноттингемский – так Юра Андрухович назвал его в посвященной Джону «Перверзии». Джону было почти шестьдесят. Большую часть своей жизни он провел в тюрьмах и путешествиях. Был даже у далай-ламы. И даже послал его. Дождавшись личного приема, Джон зашел в комнату. Измученный за день далай-лама спросил – ну, что тебе нужно? Джон начал истерику – ю, факинг лама, я приперся аж сюда, выждал несколько
часов перед твоей дверью, я пришел к тебе узнать, что мне нужно, а ты спрашиваешь, что мне нужно, фак ю. У Джона был знакомый, которому нужно было поехать на машине в Украину. Он предложил старику совместное путешествие. Они накрутили полсотни самокруток с марихуаной и поехали. Впервые мы увидели Джона в советской военной шапке, на месте звездочки был прилеплен большой портрет Боба Марли. А для нас Боб Марли как раз тогда был самой главной
музыкой, мы проживали свое регги. Один из нас даже влепил фотографию Марли в свой паспорт. Так что прямо на улице мы познакомились с Джоном. Оказалось, что на несколько лет. Он завис во Франковске. Мы и наши родители были его братьями, наши жены и матери – его сестрами. Мою девяностолетнюю бабушку он не называл иначе, чем мама София. Время от времени Джон ездил автостопом в Ноттингем за пенсией. И возвращался в свой рай, где его впервые в жизни все
ждали. Он обитал по очереди у нас и у наших друзей. Он с нами спал, ел, пил, ходил по городу, попросту жил. Мы возили его в горы, в Киев и во Львов. Он приезжал с персональными подарками каждому. Привозил украденные в костелах серебряные чаши, найденные на дороге фигурные рукоятки зонтов, тома малоизвестных старых поэтов с печатями публичных библиотек, хорошие детские куртки со вписанными именами, домашними адресами и номерами детских садов, флаконы
с фальшивым амфетамином. Джон бешено танцевал на городских праздниках и на дискотеке, где один из нас пускал музыку, а другой стоял на входе. Он устраивал пиры и скандальные сцены ревности. В его бейсболке была приклеена бумажка с надписью латиницей – дорогая, подъезжая к девушкам, он кланялся, снимал шапку и вычитывал слово, которое никак не мог запомнить. В его бумажнике лежала квитанция на штраф за безбилетный проезд в пригородном
поезде Стрый – Ивано-Франковск, выписанная гражданину Сидхардхе. Хотя тогда почти все ездили в пригородных поездах без билета. Как раз началась эпоха невыплат заработанного. Когда я ехал в Делятин один с двумя маленькими детьми, кондукторы даже не спрашивали, есть ли у меня билет. Мои мальчишки очень любили грызть черствый хлеб. Когда я им давал по ломтику черного хлеба в вагоне, на нас все смотрели как на святое семейство. Но денег тогда действительно совсем не было.
Мы ехали на лето в Делятин, потому что там был дешевый сыр, были ягоды, грибы и яблоки, была хорошая колодезная вода. По вечерам, когда дети засыпали, я брал из запасов на чердаке какую-нибудь пилку, или эмалированную миску, или несколько керамических пепельниц и шел это продавать в какой-нибудь из ночных баров, которых в то время в Делятине было больше, чем во Франковске или Львове. Пепельница, «попшьничка» – это было любимое украинское слово Джона. Он говорил, что если бы у
него когда-нибудь родилась дочка, вот так нежно он бы ее назвал. В центре Львова было тогда только два ночных заведения. Один из них – бар гранд-отеля. С Фациком мы хотели выпить ночью кофе. У нас даже было немного денег, и мы зашли в тот бар. Оказалось, что кофе там стоит один доллар. И именно доллар, а не купонами по курсу. Долларов у нас не было. Мы вышли из отеля и через каких-то двадцать шагов нашли на тротуаре какие-то бумажки. Оказалось, что это были два доллара.
Можно было возвращаться пить кофе. Однако мы пошли в другое заведение – под отелем «Львов». Там было очень симпатично, стояли длиннющие столы с такими же лавками с обеих сторон. Незнакомые люди вынуждены были сидеть друг возле друга, как на сельской свадьбе. За два доллара мы поужинали, выпили бутылку и даже кофе на рассвете. Кроме всего прочего, нас с Фациком связывала буря на озере. Оно было большим и глубоченным. Фацик хотел половить щук
на блесну. Лучше всего это делать в движении. Мы нашли настоящий дубок – лодку, вытесанную из одной вербы. Я должен был грести одним веслом, а Фацик – забрасывать и держать удочку, вытаскивать щук. Довольно далеко от берега стало понятно, что пирога пропускает воду. Приходилось вычерпывать ее руками. Но все было хорошо, пока внезапно не поднялся ветер и не начался дождь. Большие и быстрые волны раскачали дубок так, что тяжело было даже усидеть, вода заливала его со всех сторон, били молнии. Мы даже коротко попрощались на всякий случай. Но доплыли до берега, потеряв только туфли, которые были у меня так долго, что даже назывались Петром и Павлом. Фацик был одним из тех троих человек в моей жизни, которых я считал совершенными во всем без исключения. Дед Михась был вторым. О третьем я уже так не думаю. Дед Михась привез бабушку Зоню и папу в Делятин в пятьдесят шестом. Примерно через год в отпуск после Венгрии
приехал один родственник-офицер. Устроили прием. Наконец офицер поднял тост за успех венгерской кампании. Дед не хотел за такое пить и попытался выйти из-за стола. Но он сидел под стенкой, зажатый другими гостями, те его не выпускали. Тогда дед запрыгнул на переполненный стол, пробежал по нему, не зацепив ни одной тарелки, ни рюмки, ни бутылки, перепрыгнул через еще каких-то людей и пошел домой. Как раз в ноябре пятьдесят
шестого погиб дед Марьяны. В Ужгороде его застрелил советский офицер. Он был совсем молодым, у него было двое маленьких дочерей. Должен был много работать. Поздно вечером они с напарником везли картофель для какого-то магазина. По дороге их остановил офицер и попросился третьим в кабину грузовика. Он молча сидел себе и сидел, а водители вскоре начали разговаривать друг с другом, перейдя по привычке на венгерский. Они говорили о том, где можно
было бы раздобыть немного дров для дома. Так же без слов офицер вытащил пистолет и застрелил Марьяниного деда. Напарник едва успел выпрыгнуть из машины и забежать в какие-то кусты. Офицера даже никак не наказали. Рядом была война в Венгрии, на Закарпатье сконцентрировались войсковые резервы. Офицер объяснял, что, услышав разговор на венгерском, понял, что его хотят убить, так что он защищался. Мой двоюродный дед и подозревать не мог о чем-то подобном, но и не мог
хотя бы притворяться, что пьет за победу красной армии в Венгрии. Даже хорошо зная о повешенных венгерскими военными гуцулах в Первую мировую, о погроме на Красном Поле. Он любил петь песни времен Карпатской Украины. Мне было три года, когда дед научил меня и моего делятинского кузена нескольким козацким песням. Он вырезал из доски профили лошадиной головы, прикрепил их к палкам, и это были наши лошади. Еще у нас были деревянные сабли и малиновые
шлыки на шапках. Ездили по огородам и пели про Марусеньку, про Дунай, про платок и стрелецкую могилу. Мы раздавливали на руках, на голове и шее ягоды калины и представляли, что это кровь из ран. Немного позже он сделал нам первые луки. Потом мы каждый год делали луки сами, совершенствуя и лук, и тетиву, и стрелы. У наших последних подростковых стрел были наконечники из автоматных пуль. С расстояния в сто шагов они перелетали еще и через двадцатиметровое дерево, а с тридцати пробивали
доску. Но больше всего времени мы потратили на метание ножей. В нашей коллекции были и багинеты, и штыки, и тесаки разных армий. Были и самодельные ножи, сбалансированные для метания, выточенные из напильников. Мои сыновья нашли еще одну технологию. Они клали большие гвозди или куски толстой стальной проволоки на рельсы, и поезд изготавливал безупречные стилеты. Дед Михась говорил, что человек без ножа – самое беспомощное существо в мире. У него всегда был при
себе не только складной нож, но даже маленький точильный камень. За два дня до начала школы он подарил мне простенький раскладной ножик с одним лезвием, просверлил в рукояти дырку и вдел шнурок. Много лет я носил его на груди. Нечто подобное было и с ремнем. Дед считал, что мужчина должен носить ремень и не ослаблять его, чтобы не позволять себе наращивать живот. Подаренный тогда же пояс перетерся только в
университете. Целое детство я еще и записывал на внутренней поверхности ремня названия всех городов и мест, где бывал. Пояс порвался на Кавказе, в горах Абхазии, на кордоне Пслух. Там происходила секретная конференция всесоюзной нелегальной студенческой природоохранной экстремистской организации, и я был делегатом от Львова и Западной Украины. Дядя Влодко пришил мне в трусах внутренний карманчик, потому что нужно было ехать двое суток в общем вагоне. Дядя Влодко
отбывал срок в Хабаровске, еще дальше, чем Чита и Чита-три. Из вагона поезда Львов-Адлер я смотрел на Восточную Украину. Вдоль путей цвела сплошная сирень. Очень часто между кустами сирени стояли легковушки, которые раскачивались. Там кто-то занимался любовью. Так же точно раскачивались на маневрах кунги радиостанций на ГАЗ-66. На Красную Поляну мы ехали на перегруженном пазе по настоящему серпантину. В каком-то месте все пассажиры – хотя еще минуту назад казалось, что невозможно
даже пошевелиться – стали на колени и начали молиться, закрывая руками лицо. Мы въехали в ущелье дьявола – сказал мне водитель, отводя глаза от узкой дороги между скалами и пропастью. От Красной Поляны до лесничевки на границе нужно было еще двадцать километров идти пешком. Все это время я присматривался к траве и молодым листьям, чтобы убедиться, что на Кавказе все по-другому. Трава была настолько ярче нашей, насколько в Прибалтике
она бледнее. Я шел еще и через ореховые леса, где под ногами орехи укладывались в многолетние слои. Возле лесничевки было сорок источников самого настоящего нарзана. Каждое утро я пил воду из одного, умывался в другом, зубы чистил в третьем. Из четвертого снова хотелось напиться. Хозяевами кордона были супруги Салтыковы. Беглецы от городской цивилизации. Неофиты. Она окончила актерскую школу в Ленинграде, он – дважды доктор физики и
математики. Их черная баня стояла прямо над Пслухом. Там не было электричества, и она каждый вечер декламировала Цветаеву при керосиновой лампе. Дети ездили в школу в Красную Поляну на лошадях, и лошади пять часов паслись под школой. Вся семья всегда ходила с карабинами. Они каждый вечер плакали, потому что каждый день ужасно ссорились. Она говорила, что в заповеднике все должно быть по-заповедному, запрещала мужу даже заготавливать сено лошадям на зиму. А он время
от времени привозил от своих друзей из института космических исследований какие-то фрагменты спутниковой техники и наконец собрал такой дельтаплан с двигателем, который по радиокомандам подлетал, кружил и приземлялся. На дельтаплане была видеокамера, подававшая изображение на наземный монитор, который различал шестьдесят оттенков цветов. Бензина в один полет можно было взять столько, что дельтаплан держался в небе шесть часов. Салтыков посылал его в недоступные места и смотрел, чем занимаются разные звери. Наталья плакала, потому что это было вмешательством в биоценоз. Я ночевал в их спальном мешке, подбитом лисьим мехом. У деда Михася были перчатки без пальцев из лисьего меха. Иногда приходил Лацис, латыш, который сформировал в заповеднике экспериментальный отряд быстрого реагирования по борьбе
с браконьерами. Мы пошли посмотреть, как Лацис работает в преследовании.
Какие-то стрелки с абхазской стороны завалили тура и тащили его домой. Лацис гнал их по горам, иногда они стреляли в нашу сторону. В конце концов начался майский снегопад, и абхазцев вместе с телом тура унесла лавина. Все делегаты жили в бараке с двухэтажными нарами. Большинство этих семнадцатилетних мальчиков и девочек прошло через настоящие бои с вооруженными и беспредельными черными заготовителями икры, красной рыбы, медвежьего жира,
тысячелетней лиственницы, гагачьего пуха, тигровых шкур, женьшеневого корня. Теоретические занятия проводил известный Шпильмарк, внук знаменитого Шпильмарка. Очень скоро закончились каши, и мы целую неделю питались вареными сушеными грушами из близлежащих грушевых лесов. До Арарата было совсем близко. А именно на Арарате стоял едва ли не самый мощный ретранслятор радио «Свобода». Ночью после снегопада, когда птицы не спали, горюя
над гнездами с яйцами, засыпанными снегом, «Свобода» совершенно беспрепятственно сообщила об ужасной ядерной катастрофе на Западной Украине. Говорили, что осуществляется массовая эвакуация, а те края перестали быть пригодными для жизни. Чтобы не потерять свою родину, я должен был немедленно возвращаться домой. Сочинские пляжи были укрыты снегом. Самолет до Львова летел так низко, что в каком-то месте возле Крыма было видно два моря. А в самом Львове я видел сверху, как мои
однокурсники курили на перекладинах ограждения старого корпуса университета. В мае восемьдесят шестого мы не могли понять, почему нельзя есть зеленый лук, на котором даже не появилось ни пятнышка. Мы просто не знали, что делать. Уже через месяц я оказался в армии, и на дверях казармы было написано, что для обеспечения радиологической безопасности надлежит каждые полчаса смачивать тряпку на пороге казармы, а проветривать помещение только ночью
не более пяти минут. Это была учебная часть, и нас готовили на радиотелеграфистов. Основой всего обучения была азбука Морзе. Старший сержант Каракеджба месяцем ранее начитался ротапринтных материалов для служебного пользования про методику тренировки американских зеленых беретов. Поэтому подготовка нашего взвода была уникальной в опыте советской армии. Мы постоянно бегали и отжимались. Занятия по специальности
происходили в основном ночью. Отбой – раздеться, сложить одежду и запрыгнуть на второй этаж – длился столько, сколько горела спичка. У многих из нас были слишком узкие ботинки, поэтому отбой повторялся много раз. Каракеджба придумывал специальные упражнения – висеть на перекладине вниз головой, пробегать полосу препятствий с завязанными глазами. Вокруг были яблоневые сады, и начальник медчасти прапорщик Бек вливал каждому, кто надкусил
яблоко, десять литров воды с марганцовкой. Политрук Маркидонов разрешил мне не конспектировать лекции политзанятий, потому что я мог без ошибки показать на политической карте мира столицы всех стран – участниц Варшавского блока. Каракеджбе и этого было мало, он признал меня после специальной проверки – за пятнадцать секунд нужно было найти остров Робинзона Крузо. Тот, что возле Чили. Капитан Карельский был честным офицером.
Двадцатикилометровые марш-броски в полной выкладке он бежал вместе с нами. При этом непрерывно курил. У сержанта Касатонова был хронический конъюнктивит. На строевой подготовке он любил дать команду держать пятнадцать минут поднятой одну ногу. У всех нас хотя бы однажды гнили раны на ногах. Это объяснялось влажным климатом. Позже я узнал, что такое объяснение использовалось во всех частях советской армии
независимо от географической зоны. Такими же универсальными были обозначения городов – город дождей, блядей и воинских частей. В то лето дождей почти не было. В городскую баню мы шли спокойным шагом, а возвращались бегом по пыльным неасфальтированным улочкам. Где-то на окраинах вороны собирали орехи, прилетали в часть и бросали орехи на плац, разбивая их о бетон. Из Батуми приехала десятиклассница, которая уже больше года страдала без Каракеджбы. Ее тайно поселили в медчасти. Девочка научилась вырезать ножницами гнойные раны, пока три дня ждала Каракеджбу, которого посадили на губу за то, что закрыл несколько нестарательных солдат в погребе с открытыми бочками лизола. Лизол испарялся, доходя до второго этажа, и поэтому в казарме сдыхали все комары. Через десять лет я работал в ночном баре, где не было водопровода. Посуду мы мыли в ведре, а воду набирали из уличной колонки. В ту ночь пьяный
ростовский гость порезал руку франковскому вору. Я промывал его рану и заразился тем видом гепатита, который, как СПИД, передается только половым путем или через кровь. Полностью пожелтев, я напоследок выпил мутного старопраменского, рюмку фальшивого коньяка порто-мария и сдался в инфекционные бараки. Лекарств в то время почти не было, и доктор велел нам есть много арбузов. Какую-то молдавскую семью, у которой заподозрили холеру,
принудительно госпитализировали в той же больнице, и возле дверей палаты круглосуточно сидел вооруженный милиционер. С каждым пациентом, у которого обнаруживали гепатит Б, на следующий день разговаривал офицер отдела по борьбе с наркотиками. Я ничего не сказал про ростовских, он осмотрел мои вены и предположил заражение на приеме у стоматолога. Каждое утро палату мыли раствором хлорки, и уже через полчаса на полу лежали тельца комаров, которые дохли и падали с потолка.
Как-то в Делятин приехал мой приятель-энтомолог. Моих детей он удивил тем, что ужасно проворно ловил комаров и живьем их поедал. Один из лучших снимков Черногоры – его даже брали у меня на время, чтобы сделать открытку – мы с энтомологом украли с виллы знаменитого львовского профессора. Профессор умер, и его наследники собирались продать весь хлам уличным антикварам. Кроме снимков, я крал рогалики в хлебном магазине. Тогда
хлеб нужно было самому выбирать на полках и подходить с ним к кассе. После тренировок в бассейне мы были очень голодны, а денег никогда не хватало на рогалики для всех. Кто-нибудь шел впереди, держа в руке булку и мелочь. Тот, кто шел позади, тоже брал один рогалик в руку, а еще несколько клал в капюшон первого. Если мы были очень голодными, то мог быть еще и третий, и четвертый. Уже гораздо позже в том бассейне работала тренером молодая женщина, которая
влюбилась в моего знакомого. Поздно вечером, после окончания всех тренировок, мы приходили в бассейн. Товарищ с пловчихой лежали на диване перед входом в душевую, а я тем временем купался в одиночестве в неосвещенной воде. Другой знакомый из Франковска встречался во Львове с дочерью шведской красавицы и арабского богача. Я учился тогда во Львове и отвечал за организацию встреч. Для одной из них был выбран гостиничный номер, окна которого выходили на крышу
оперы. Софи спросила у горничной, где можно найти воду, и та показала на ванную в конце коридора. Ванна была наполнена прохладной водой, и Софи, быстро раздевшись, легла в нее. Через несколько минут в ванную вошла горничная с чайником. Оказалось, что вся эта вода предназначалась на целые сутки для чая, мытья рук, полива цветов всего гостиничного этажа. Софи выросла на конном заводе. Перед отъездом она подарила моему знакомому унцию
чистого серебра. Перед тем, как повеситься, пани Ирця принесла нам свою коллекцию серебряной посуды и попросила, чтобы мы отдали ее правительству независимой Украины. Был восемьдесят третий год, и начались андроповские репрессии. Посреди дневного сеанса в детском кинотеатре, где мы прогуливали уроки, включался свет, и функционеры горкома комсомола отправляли прогульщиков в детскую комнату милиции. Начальница детской комнаты
Смирнова не упускала случая ударить кого-нибудь из задержанных резиновым шлангом с песком. Девочкам даже предлагалось выбрать, что им больше нравится, – тонкий и длинный или толстый, но короткий. Мой брат побывал в детской комнате по другой причине. Его дело считалось политическим, потому что брата задержали кагебисты. Юра хотел пофотографировать несколько старых домов, предназначенных к сносу. Ему инкриминировали идеологическую диверсию —
отправленные в зарубежные журналы снимки руин должны были иллюстрировать рассказы о жилищных условиях советских трудящихся. После долгого собеседования версия рассыпалась, но брата для страховки передали на учет в детскую комнату милиции. А за Пуней, который прогуливал математику в парке, активисты добровольной молодежной организации «Юные дзержинцы» гнались до самого озера. Была ранняя весна. Маленький и легонький Пуня выбежал на лед. Дзержинцы два часа блокировали берег, не
решаясь ступить на подтаявший лед, уговаривая Пуню сдаться и даже обещая полную амнистию. Пуня знал, что к чему, и тем временем утопил в какой-то полынье свой дневник и тетрадь, чтобы остаться анонимным. Пуня подорвал себя в армии. Он ошпарил руку, когда нес котел с кипятком, и поскользнулся на жирном бетонном полу в кухне. Пуню лечили в полковой медсанчасти. Он был очень умный, и его оставили у медиков. Много раз военные медики будили Пуню ночью, вешали в петлю, отсчитывали определенное количество секунд, вынимали из петли и оказывали неотложную помощь. Потом я узнал и фамилии, и домашние адреса Пуниных мучителей. В нашем классе никто, кроме Пуни, не умел прилично играть в шахматы, поэтому его отправили на городской шахматный турнир. Пуне попался настоящий профессионал – после первого же хода соперник взял блокнот и записал Пунин ход пешкой. Затем походил сам и
тоже сделал запись. Пуня предложил ему сдаться. Соперник долго осматривал поле, внимательно изучил свои заметки и отказался. Пуня сделал еще один ход и сказал, что дружеская ничья устроила бы всех. Было понятно, что он блефует. После третьего хода Пуня объявил, что признает себя побежденным и поздравил чемпиона. АПП, заметив, что Пуня кусает под партой бутерброд, позволила ему впредь открыто есть на ее уроках. На следующий день Пуня накрыл парту белой
скатертью и целый урок ел пышный товченик-фрикадельку, докладывал из мисочки на тарелку разные салаты, манипулировал всяческими вилками, ножами, ложечками, попивал горячий кофе, а возле тарелки стоял флакон с гиацинтом. Мы не носили в школу бутерброды. На большой перемене ходили в столовую и собирали со столов недоеденный хлеб, который в больших количествах добавляли к завтракам первоклассников. Когда мы пришли в школу, никаких горячих завтраков еще не было. Зато
нельзя было отказываться от двухсотпятидесятиграммовой бутылочки пастеризованного молока после второго урока. Зимой бутылочки целый час грелись, уложенные на ребрах батарей. Я очень любил молоко. И те одноклассники, которые его ненавидели, подпольно отдавали свою порцию мне. Мы учились снимать фольговую крышку с бутылки так, чтобы она не помялась, и, удерживая ее между двумя пальцами, запускали фольгу, как планер,
через целый класс. На табличке «1дальня» на дверях столовой буква «д» была всегда переправлена на «б». Одно время в спортивной школе мне выдавали талоны на дополнительное питание. За этот талон можно было получить любой пищи на один рубль в любой столовой УССР. Когда собиралось побольше талонов, я приглашал своих приятелей в диетическую столовую, и мы устраивали себе пир из бабки, политой киселем. Тогда мы еще не пили даже пива. Правда, Туркмен, наслушавшись рассказов о том, как его кумир Владимир Куц не только на тренировках, но и на олимпиаде в Мельбурне пил стакан водки перед и после десятикилометрового забега, идя на тренировку, выпивал в гастрономе кофе с коньяком. В армии я пробегал кроссы первым. Но только зимой. На финише командир полка выставлял дежурную машину с термосами чая. Я бежал как можно быстрее, дыша открытым ртом, пытался максимально охладить трахею и бронхи. Тогда
горячий сладкий чай действовал как наркотик. С радиостанцией на БТР-е мы с водителем Мики регулярно выезжали на длительные автономные сеансы связи. Неделями жили в железе одни среди леса. Тогда Мики варил настоящий чифирь. Однажды мы не могли заснуть трое суток. Зимой в броневике было так холодно, что на стенах изнутри нарастал слой инея в несколько сантиметров толщиной. Посреди ночи от холодного отчаяния мы выпрыгивали на снег, и мороз под звездным небом
казался облегчением. Чтобы хорошо забить колышки заземления, нужно было на них пописать. Полное имя Мики – Рамиль. У нас была целая компания водителей-башкиров. У Мики была лучшая из виденных мной вживую рельефность мышц. Его двоюродный брат Райиль никогда не знал женщины и не ездил на мотоцикле. Он всегда просил всех как можно больше рассказывать про мотоциклы и ощущение женского тела. Я ему кое-что придумал. Через несколько месяцев после дембеля
Райиль разбился на мотоцикле по дороге к девушке, с которой обо всем договорился. Рафаэль брал у меня пару кубов спирта для промывания шифровальной аппаратуры и вводил его себе внутривенно. Капитан Елизаров выдавал нам только десятую часть спиртовой нормы, а остальное держал в банках, закрытых в сейфе. Мы приняли решение его выпить. Расшатали сейф и бросили его на пол. Банки разбились, и весь спирт стек в приготовленную железную миску. У
старшего лейтенанта Окатова колени сгибались в обе стороны. Прапорщик Деренько был начальником самой мощной радиостанции. Она помещалась не в броневике, а в просторном теплом автомобильном кунге. Мы с ним работали на один оперативный отдел и часто встречались в лесах. Перед тем, как пойти в какое-нибудь село, прапорщик стирал трусы, майку и носки, обрызгивая их одеколоном. На конкурсах художественной самодеятельности Мики
прибавлял нам большущее количество баллов, показывая со сцены один и тот же фокус. Иголкой с ниткой он пробивал мочку правого уха, потом правую щеку, затем язык, далее левую щеку и левое ухо, завязывал нитку узлом, несколько раз прокручивал ее во всех этих дырках, наконец вынимал нитку, и комиссия не могла найти на его теле никаких следов. В одном из тех баров, где я работал, студентки очень часто напивались до бесчувствия. Иногда им становилось плохо, и мы оттаскивали их
в подсобку. Несколько раз мне приходилось вытаскивать девушкам в бессознательном состоянии язык и пришпиливать его булавкой к воротничку, чтобы язык не перекрыл дыхательные пути. Одной я даже сделал в таком виде искусственное дыхание рот в рот. На следующий день эта девушка снова пришла в бар и, не подозревая обо всем, что с нею тут произошло, предложила мне тему классной повести – интересно, что делают девяносто шесть процентов мозга, если у людей задействовано только четыре? Это
научный факт, сказала она. В том баре за длинной стойкой постоянно сидели несколько посетителей. Я должен был переходить от одного к другому, чтобы выслушивать истории их жизни и давать мудрые советы. Труднее всего было вспомнить, о чем именно шла речь, когда кто-то начинал рассказ с того места, на котором остановился несколько дней или недель назад. С ночной смены я приходил за несколько минут до того, как просыпались дети. Мы шли на многочасовые прогулки, и я иногда на мгновение засыпал, работая веслами в лодке посреди озера. В первые месяцы в армии я засыпал так быстро, что не чувствовал от этого никакой радости. Тогда начал выпивать перед отбоем много воды, чтобы ночью самому проснуться, пойти через летнюю ночь в туалет и снова улечься в кроватку. Двоюродная бабушка Мира любила петь нам или себе самой такую песенку – радуюсь, как спать иду, утром снова я встаю, ох и дурочка я, ох и дурочка я. В Подлютом, где ученицы гимназии проводили часть летних
каникул рядом с патроном гимназии митрополитом Шептицким, бабушка Мира никогда не участвовала в утренних девичьих боях за право застилать постель митрополита. Она не могла даже целовать его перстень. Позднее в нее был влюблен Ярослав Галан, тогда еще нормальный украинский драматург. Он предлагал пожениться, но бабушка Мира даже думать о таком не собиралась, потому что Галан постоянно оступался и падал на всех горных тропах. Ее учителем
украинского языка был Василь Щурат, биологию преподавал Мельник, а географию Олена Степанив. Часто бабушка Мира покупала целый круг сыра, и мы с братом вырезали в глыбе замки и пещеры, выедая все лишнее. Ее клубом был магазинчик иностранной литературы «Дружба». Еще там бывал старенький скрипач, который, предчувствуя падение телевизионной башни, никогда не заходил в ту часть города, границей которой была окружность радиусом в высоту башни. Бабушка Мира покупала в «Дружбе»
неимоверное количество книг. В основном польские переводы авторов со всего мира, недоступных в СССР в украинском или русском изданиях. Большинство прочитанных книжек она сразу же сдавала в комиссионный отдел другого книжного. Тех, которые остались, все же набралось несколько тысяч. В дождь бабушка Мира любила сидеть на балконе и считать зонтики какого-то одного цвета. У бабушки Миры было сложное расстройство глотания, и поэтому она варила себе в основном разные
подливы. Невроз сформировался потому, что ее сестре врачи запретили употреблять много жидкости. Бабушка Мира всю жизнь пила очень много воды, и этот запрет и страдания сестры привели к полной неспособности глотать. Тогда бабушка Мира еле выжила. Сестра была одной из пяти первых учеников школы Олексы Новакивского. Сохранилось несколько очень хороших ее работ, но она почему-то вскоре забросила живопись. Как-то знакомые из Америки предложили ей устроить
выставку Новакивского в Нью-Йорке. Оказалось, что Новакивский очень боится за свои работы. Они же должны были ехать через океан на корабле, и художник не решился на такой риск. Он сказал – а вдруг крушение. У нас дома было очень много пейзажей разного размера и разного качества, некоторые попросту неумелые. Мои родственники купили их, чтобы поддержать эмигрантов – старшин армии УНР, которые что-то рисовали, а потом продавали свое творчество на благотворительных
выставках в галицких городах. Дядя Осип, который был начальником медицинского поезда УГА, а поэтому имел шанс закончить медицинское образование только в Праге, хорошо понимал положение военных эмигрантов и покупал картины, не глядя на качество. Все мое детство прошло под ландшафтами Великой Украины. Горы я никогда не видел нарисованными. Они были вокруг. Сначала горы видно было даже из окна нашей квартиры на третьем этаже в центре
Франковска, но потом где-то на окраинах построили высокие дома, и панорама исчезла. В Сопоте я ходил по утреннему холодному берегу в поисках рыбаков со свежей рыбой. Попросил, чтобы они сами выбрали мне какую-нибудь рыбину, потому что я не из приморья. Узнав, что я живу в горах, моряки с завистью признали, что это тоже очень-очень хорошо. С папой мы несколько раз ездили на море теплое. Сама теплая вода была для нас наибольшим чудом. Мы привыкли к горным речкам, которые даже в жару были холодными. Жили в домике возле маяка. С противоположной от моря стороны были поля лаванды. Вдоль полевой дороги росли абрикосы. В воскресенье на маяк приезжали гости, папа пил с ними красное вино. Среди ночи взрослые шли купаться, а мы залегали в кустах полыни, наблюдая, не нужно ли будет спасать папу. Первый раз папа взял брата на море, когда Юре было три года. Папа снимал тогда восьмимиллиметровой камерой. Брата
подхватывали волны и относили от берега, а папа – покуда было можно – делал об этом фильм. Приехав после Читы в Делятин, папа несколько месяцев притворялся в школе, что не понимает по-украински. Он сделал себе лыжи и изучал леса. В лесу все еще попадались одиночные партизанские отряды, потому что лесорубы – папа пошел работать к ним – громко и монотонно пели, чтобы услышали лешие, – мы не хотим, мы обязаны. Папа был единственным в классе, у кого был галстук. Поэтому все
мальчики по окончанию школы фотографировались в одном и том же галстуке. В Чите самым модным набором считались тяжелые ботинки, наручные часы и велосипед. Поэтому пацаны, позаимствовав все это для съемки, позировали одинаково – нога в ботинке на раме, рукав закатан, чтобы видны были часы. В Чите часто были песчаные бури. Буряты носили тулупы и в жару, и на морозе, только выворачивали их в разную сторону, в зависимости от времени года. Зимой молоко продавали на вес, а
большинство улиц образовывались высоченными дощатыми заборами с обеих сторон. Из-за частой смены школ папа до конца жизни в начале предложения писал Э оборотное вместо украинского 6. В ссылке он мечтал стать оперным певцом. Тогда же начал курить. У него даже был эбонитовый мундштук с надписью – Боря 1940. Папа был с сорокового. А Борей его называли урки, поскольку еще никогда не сталкивались с Бодей, с Богданом. Папа и меня назвал Тарасом прежде всего потому, чтобы не образовывалась
уменьшительная русская форма с женским окончанием. Юра звучит по-нашему, поэтому это имя подошло брату. Папин папа носил имя Роберт. Он погиб в первые дни войны в сентябре 1939. А папа родился через несколько месяцев, прямо на Новый год. Новый год мы воспринимали как день рождения папы, а папин день рождения был Новым годом. Папа работал в лесной промышленности, поэтому нам перед Новым годом привозили пышную елку. После Крещения мы снимали с нее
украшения, резали пихту на отдельные ветки и так сжигали в печи в комнате. Возле печи стояло кресло. Дома папа курил в печь, сидя в кресле. В средних классах мы с братом отказались от елок. Когда мои дети были маленькими, мы с ними выкопали на лесной дороге столько крошечных пихтовых ростков, что засадили ими целую грядку возле дома. Большая часть деревцев, не имевших никаких шансов на дороге, выросли. Через несколько лет мы начали рассаживать их в
разных частях двора и сада. Больше всего оставили перед окном. Мой двоюродный дед Михась делал чудесный напиток из ели, засыпая сахаром молодые светло-зеленые побеги. Зимой по утрам он приносил нам с бабушкой по рюмке «смерековки» натощак. Снега были в те годы такие, что приходилось снеговую лопату брать на ночь в дом. Утром оказывались засыпанными двери, чтобы их открыть, вылезали с лопатой через окно и разбрасывали заносы. В городских школах
действовало правило двадцати пяти градусов – при таком морозе можно было оставаться дома. Иногда в классе были только центровые – на окраинах, ближе к реке, всегда было немного холоднее. Местом относительного перемирия между районами становились тогда Валы. Пацаны со всех вентелей – из Центра, Железки, Кирпичного, Канта, Майзлов, Горки, Софиевки, Бельведера, Немецкой колонии, старого и нового Городков, Бама – приходили по вечерам кататься по ледяным
дорожкам на валах. Приходили в кирзовых сапогах и большими группами, потому что перемирие было все же относительным. Рядом с нашей школой было еще пять других, самым простым признаком были украинские против русских. В самых сложных конфликтах выходили один на один короли школы. Беда жил своей жизнью. Его папа был тренером по боксу, а мама – актрисой в театре. Беда не обращал внимания на школы. Он начал со своего класса, заставив
каждого платить ему еженедельно по двадцать копеек. Какое-то время он жил в мебельном магазине, прячась перед закрытием в шкафах, и спал на лучших диванах. Однажды он забрал у меня на улице остатки мороженого. В другой раз хотел забрать девятнадцать копеек, предназначавшиеся на консервированный рыбный паштет «Волна» для кошки. Как раз ремонтировали нашу улицу. Из кучи крупного гравия я выхватил несколько камешков и со всего размаху трижды попал в голову
Беды с малого расстояния. С того времени мы начали здороваться. А незадолго до его смерти даже ходили вдвоем несколько раз на вареную кукурузу с яблочным вином. С начала восьмидесятых во Франковске действовало нетипичное кафе «Золотой початок», где кукурузу варили круглый год. Камни были любимым оружием во времена моего делятинского детства. В критические моменты достаточно было нагнуться, взять камень и стать сильным. Для детей камни были еще и
орудиями для всяческих развлечений – перебросить через провода, попасть в столб. Мы становились друг возле друга, каждый набирал горсти гравия, и все разом подбрасывали камешки высоко вверх. И ждали. Игра называлась «на кого Бог пошлет». На нашем холме было много одичавших черешен. Мы переходили с черешни на черешню, трактуя каждое дерево, как богема – разные кофейни и бары. Мы сидели на отдельных ветвях, перелезали с одной на другую, раскачивались на верхушке,
пробовали черешни, перестреливались косточками. Девочкам, которые не могли залезть на дерево, сбрасывали отломанные ветки с лучшими ягодами. Такие же веточки служили букетами и подарками. Как и земляника, нанизанная на травинку. Больше всего земляники можно было насобирать на железнодорожной насыпи. Ходить по рельсу было нашим променадом. Не сходя с рельса, мы прогуливались до самой запретной зоны перед мостом. На мосту была вооруженная охрана.
Сразу за мостом – остановка пригородного поезда. Охранники пропускали меня, когда я шел с вечернего поезда из Франковска и нес двух маленьких детей, которые уже спали. Туманным утром мы с Марьяной опаздывали на поезд и побежали через мост. Охраны не было видно и не было у кого попросить разрешения. Незнакомый охранник появился позади уже за серединой моста. Он навел на нас автомат и приказал немедленно покинуть мост. Мы решили, что лучше быть застреленными, чем
прыгать с такой высоты и, не оглядываясь, дошли до суши. Одного из часовых в нашей дивизии застрелили из мелкокалиберного ружья только ради того, чтобы забрать автомат. В городе было объявлено чрезвычайное положение. На всех выездах стояли наши бэтээры, и дежурная машина развозила экипажам завтраки, обеды и ужины. Наконец убийц вычислили на каких-то окраинных огородах, и пехота устроила настоящую облаву, загнав их в тупик. Когда я стоял на карауле в
автопарке с законсервированными тягачами, на пост прилетел раненый журавль. Мы его забрали в караулку и согревали и кормили несколько дней, а потом он полетел дальше. Вблизи он казался гораздо меньшим, чем в небе. Я сохранял журавлиное прощальное перо в военном билете, пока его не погрызли какие-то паразиты. Военные билеты мы сожгли во время студенческой революции. Студенческое движение протеста началось собственно с того, что мы, вернувшись в восемьдесят восьмом из армии на второй курс после двух лет армии, отказались от занятий на военной кафедре университета. Мы так и не стали лейтенантами. Дядя Влодко звонил во Франковск папе, чтобы тот убедил меня не отказываться от военной подготовки. Когда стрясется какая-нибудь заварушка – говорил он – то за Тараса, если он погибнет офицером, семья будет получать гораздо большую пенсию. Мы поговорили об этом с папой однажды ночью, и папа
признал, что настало время моего поколения и моего выбора. Если сочтешь нужным, можешь спокойно идти даже в тюрьму – подытожил папа без всякой печали. Во время таких ночных разговоров, где согласовывались взгляды на самые важные вещи, меня больше всего нервировало, что папа непрерывно курил, а я не мог себе никак этого позволить в его присутствии. Как раз тогда он подарил мне блок настоящего Мальборо, переданного из Америки. Одной несбывшейся мечтой
из немногих навсегда останется ужасное желание покурить с папой в ночной поездке на машине. Хотя в раннем детстве я ненавидел сигареты как раз из-за папиного курения в автомобиле. Последний раз папа закурил в предпоследней больнице, прямо в палате, как-то так пуская дым по стене, что он собирался под самым потолком, не распространяя никакого запаха. Этим читинским фокусом папа часто пользовался еще на уроках в делятинской школе.
Это были странные сутки. Я ночевал в больнице возле папы. Ночью папа попросил сигарету, попытался курить и осознал, что больше не сможет этого делать. Под утро умер пациент в соседней палате. Он был очень тяжелый, и я помогал дежурным сестрам перекладывать умершего на тележку, отвозить его через длинные коридоры и подвалы в больничный морг, переносить тело на специальный стол. Днем я сбивал папе температуру, накладывая на лоб и запястья
уксусные компрессы. Вечером пришел домой немного поспать. Младший сын выпал из кроватки и разбил себе лоб. На «скорой» мы поехали к дежурному хирургу в детскую больницу. Хирург был пьян. К операционной сестре пришел жених, и они занимались любовью в неизвестно какой пустой палате на каком-то этаже. Новокаина не было. Хирург согласился работать в паре, и мы вместе, удерживая сына и иголку, удачно наложили несколько швов. После операции доктор угостил меня
спиртом, поздравляя с инициацией, и дал пятьдесят тысяч на такси, потому что «скорая» уже давно поехала на свежие вызовы. В каком-то году папиной служебной машиной была старая пятидверная «Волга», списанная со станции «скорой помощи», такие «скорые» ездили перед появлением рафиков. Стекло в передних боковых окнах постоянно западало. Тогда у нас был пневматический пистолет. По дороге из Делятина я наполовину высовывался из окна и на полной скорости стрелял из пистолета по указанным папой
целям, в основном в дорожные знаки. С этим пистолетом мы с братом прожили несколько лет. Ставили на печи в своей комнате несколько пустых спичечных коробок и перед тем, как заснуть, делали по очереди несколько выстрелов прямо из кровати. Проснувшись, мы добивали последние коробки. Юра нарочно стрелял в стену, постепенно составляя вензель королевы Виктории, потому что так делал Шерлок Холмс. Юра в совершенстве выучил все рассказы про Холмса, он мог безошибочно
назвать фамилии даже второстепенных героев, все топонимы и имена собственные усадеб, поместий и замков, упоминавшихся в любом рассказе. Шерлок Холмс разжег в нем интерес к знаниям. Юра начал изучать историю искусств, архитектуру, страноведение, криминалистику, логику, геральдику, вспомогательные исторические дисциплины, дипломатический этикет и протокол, терминологию самых разнообразных областей знания. Он помнил сотни марок вина. На
специальном свитке бумаги Юра выписывал из всех доступных источников имена писателей и названия их произведений. Его интересовали только те, кто писал перед Первой мировой войной и не был украинцем или русским. К пятнадцати годам в списке было две тысячи авторов. Единственный приличный учитель украинского языка и литературы ежедневно водил Юру в театр, на все концерты классической музыки и художественные выставки. Во время гастролей чужих театров мы ходили дважды, а то и
трижды на один и тот же спектакль, если бывали замены актеров в главных ролях. После спектакля мы с Юрой должны были раздавать актерам охапки высоченных ромашек, которые учитель заранее приносил в ведре с водой со своего огорода. На его участочке росла верба, привезенная из Канева, стоял бюст Аполлона. В кабинете этого учителя на каждой парте лежала подборка основных словарей, он требовал, чтобы каждый научился быстро писать печатными буквами и завел
блокнот с выписанными латинскими выражениями. Только на его уроках украинская литература казалась симпатичной. Наша учительница называла нас гнилой интеллигенцией, буржуазными националистами, и мы писали бесконечные диктанты из книжек Брежнева «Малая земля», «Возрождение», «Целина» и «Воспоминания». Мы даже сдавали деньги, чтобы купить комплект этой абракадабры для каждого ученика. В нашем классе были проигрыватель и подборка пластинок с
речами Брежнева. Нам нравилось слушать Брежневское чмокание на увеличенной скорости. Позднее стряслось какое-то безумие с Продовольственной программой КПСС, и мы изучали разные ее аспекты на географии, биологии, истории, химии и физике. Разумеется, писали из нее диктанты на украинском языке. Я перестал делать домашние задания в пятом классе, когда начал серьезно заниматься легкой атлетикой. Тогда же перестал понимать математику и остаток школы провел в
полнейших математических сумерках. Молодая учительница математики, слишком близко подпускавшая некоторых старшеклассников, каждый урок проверяла письменное домашнее задание. Поэтому много лет мой школьный день начинался на коридорных подоконниках, где нужно было успеть переписать решенные задачи из тетрадей одноклассниц. Однако арифметические действия я выполнял блестяще. Потом в барах никогда не пользовался калькулятором и ни разу
не ошибся в расчетах. Не записывая ничего на бумажке, я сразу называл цифру в несколько сотен тысяч или несколько миллионов, и некоторые посетители подозревали, что это такой барменский прием, чтобы обмануть их на несколько тысяч. Хотя на самом деле мы даже кофе варили из большего количества порошка, чем было заложено в цене. Мы работали в разных барах, но ценители хорошего кофе переносились за нами из бара в бар. Кроме того, мы всегда
подбирали действительно хорошую музыку, приучая франковскую публику к рок-н-роллу, регги, блюзу, джазу и этно. С напарницей мы сами выходили из-за стойки и танцевали, провоцируя общее веселье. Когда же предпочитали спокойное и затяжное питие, запускали Тома Вейтса или Элемент оф крайм. После закрытия своих баров к нам сходились среди ночи бармены со всего города, чтобы немного побыть с другой стороны баррикады. Наше первое место работы – уютнейший
деревянный домик в конце городского парка – сожгли однажды ночью из-за спора с владельцем. Сгорели все причиндалы, которыми мы украсили бар, – большие довоенные снимки Залещиков, авангардные плакаты из Праги, мой домашний проигрыватель с коллекцией пластинок, пучки маковых головок, венки чеснока и снопики крымской марихуаны. Расплавился даже старый латунный гуцульский медно-желтый крест, прибитый над входом. Огонь уничтожил изрезанную доску, прикрытую Залещиками, в которую мы разрешали посетителям бросать ножи, чтобы стало легче. Это было первое место во Франковске, где можно было попить глинтвейна. Нам удалось купить много литров дешевого испанского вина для причастия. Оно было упаковано в картонные пачки. Тогда много чего в городе можно было раздобыть из каналов международной гуманитарной помощи. У Юры была целая куча застиранных изысканных тонких белых рубашек с кружевами, перламутровыми
пуговицами и вышитыми монограммами, которые не хотел брать никто из тех, кому предназначалась помощь. Долгое время мы выглядели в них как пропащие европейцы в опиумных притонах Индокитая. Юра откуда-то достал целый мешок рекламных пачек чудесных сигарет бенсон и геджес, в каждой пачечке помещалось три сигареты. В кафе напротив нашего дома кто-то сдал партию солдатских голуазов-капрал в пачках, не менявшихся с двадцать седьмого года.
Этого сорта никто не знал, инфляция обесценила их до стоимости спичек, и я курил лучшие французские сигареты несколько месяцев, когда был безработным. Мы с папой сделали чудесное калиновое вино, и в одной пустой комнате были только десятилитровые бутыли розового вина, отреставрированный комод и веревки с выстиранными и вываренными пеленками Марчика. На комоде стояли два неодинаковых, не мытых долгое время стакана, чтобы пить вино на протяжение дня. Мой двоюродный дед Михась, применяя технологию повторного брожения, делал подобное вино из белой смородины. Дед наливал его в экзотические бутылки – на нескольких из них был вытиснен на стекле императорский герб – знак поставщика кайзерско-королевского двора – и укладывал лежать на полке в самом большом погребе. Два крошечных погребка в разных уголках дома были старательно замаскированы. В одном из них были спрятаны жернова. Еще дед выдумал такую
систему, что лестница на чердак поднималась и опускалась спрятанным тросиком. От первых дней возвращения и до самой смерти – двадцать семь лет – дед делал дневниковые записи. Каждый день он фиксировал погоду, домашние работы, приезды и отъезды близких, развитие своей слабости, ежегодно – подсчеты сена, дров, отавы, яблок, помидоров, картофеля, смородинового вина, орехов и слив. Кое-где – рецепты лекарственных мазей и ингаляций. Двоюродная бабушка Мира
выписывала в отдельные тетради украинские фамилии, систематизируя их по определенным признакам. Дед Богдан высчитывал максимальную длину электрических проводов между двумя опорами. Потом он заинтересовался Земмельвейсом, венгерским акушером, который впервые начал применять антисептики, от чего смертность новорожденных и рожениц сразу уменьшилась в десятки раз. Дед связался с будапештскими архивами, и ему прислали по почте все известные
портреты Земмельвейса. Он начал собирать материалы для книжки. На одиннадцатилетие папа подарил мне часы. На внутренней стороне ремешка я записывал формулы счастья. Самой странной была – чтение-фрукты-незнакомые страны. Самой простой – спокойная совесть-любимые люди-свое место. А последней – движение-любовь-природа. Я хотел стать журналистом и писать очерки о жизни природы. Но быть советским журналистом считалось
недопустимым, и я стал ботаником. И только через десять лет начал работать репортером. Всегда было легко заниматься разными работами, потому что знал, что в любую минуту можно вернуться к своей специальности. Один близкий товарищ занял у меня очень много денег и сбежал в Америку. Чтобы как-то компенсировать потерю, его мама устроила меня ночным сторожем и дворником в детский садик. Зарплата была такой, что нужно было работать тридцать лет, чтобы заработать одолженную сумму. Садик размещался в старом особняке. Ночью в пустых коридорах и спальнях оживали невнятные детские голоса и шаги. Я спал среди игрушек на полу в зале для музыки и танцев. Там по крайней мере звучал отголосок пианино. На рассвете заметал листья. Они прилипали к мокрой брусчатке. Листья разных видов деревьев и кустов нужно было мести по-разному. В том году снегопады были самыми сильными в новейшей истории. Пока я
доходил с лопатой до конца тропинки, начало снова казалось нетронутым. Детям с родителями было трудно пробираться из-за завалов. Из-за призраков я приглашал в садик гостей. Мы пили вино, лежа в коротеньких кроватках. Одним вечером сразу у нескольких гостей была менструация, и утром меня выгнали с работы из-за нескольких тампонов, которые не утонули в детском туалете. Друг из Америки передал мне дорогую футболку. Из-за него сотрудники американского
посольства целый месяц не выдавали виз никому из Франковска. Он, по рекомендации авторитетного человека, договорился с ними, что заплатит большие деньги за свою визу. Ему все сделали, и он назначил встречу для передачи конверта за час до вылета его самолета. Еще раньше он где-то услышал, что из бычьих пенисов делают какие-то драгоценные лекарства. Призвал меня на помощь, мы выменяли у удивленных работников мясокомбината за ящик водки
несколько мешков пенисов. Он разместил их в домашних холодильниках приятелей и начал искать покупателя. Оказалось, что эта тема устарела и уже никого не интересует. Мы вынесли товар на свалку. Одичавшие псы что-то пронюхали, и через несколько минут по улице разбегалось целое стадо с пенисами в зубах. Во времена, когда не было кофе, мы приходили ночью в главную городскую гостиницу, заезжали на последний этаж, заказывали два кофе у горничной и смотрели сверху
на темные кварталы. Чтобы мама не знала, что он курит, товарищ держал сигарету не пальцами, а зажав ее в расческу с длинной ручкой. Такие расчески в семидесятых торчали в задних карманах джинсов. В руках носили транзисторы, а расстегнутые цветные рубашки завязывались на животе. Венгерские работники прокладывали нефтепровод, дети выпрашивали у мадьяр жевательные резинки Педро и Дональд, подростки покупали презервативы и Мальборо, на домашние
празднества добывались оранжад и пепси в литровых стеклянных бутылках, а городская элита получила квартиры в мадьярском доме с гаражами и домофонами. Деградация достигла такого уровня, что многие наши местные семьи устраивали домашние приемы первого мая и седьмого ноября. На ноябрьских каникулах я отказывался записываться в почетный караул возле памятника чекистам, потому что нужно было хоть несколько дней побыть в осеннем Делятине. Караул был
добровольным, но члены родительского комитета, матери моих товарищей, кричали, что частнособственнические инстинкты не должны быть сильнее чувства благодарности убитым чекистам. На ноябрьской демонстрации мы несколько часов стояли на некоем участке определенной улицы и ждали своей очереди пройти перед трибуной. В руках мы держали палочки, к которым были привязаны надувные шары. Пока стояли, развлекались тем, что разными
способами пробивали друг другу шары. До трибуны у целого класса осталось лишь несколько синих и желтых непробитых шаров. Расследованием занимался горком партии. Нам не разрешили поехать на запланированную экскурсию в Москву, хотя мальчишки уже раздобыли у ветеринара возбуждающее средство, которое предстояло испытать в дороге на одноклассницах. Военный особист много раз вызывал меня ночью на собеседование, предлагая поступать в
высшее училище КГБ на факультет правительственной связи. Он обещал, что у меня будет много денег, баб и зарубежных поездок. Я имел допуск к работе с засекреченной связью. У нас были чемоданчики со странными железными пластинками, которые в определенном порядке вкладывались в кодирующее устройство радиостанции. Каждый понедельник мы получали в секретной части запакованные, как лотерейный билет, бланки с последовательностью пластинок на неделю. Выезжая на сеанс, мы
должны были получать автомат и патроны, чтобы защищать свой чемоданчик. Нарушения режима секретности предусматривали лишение свободы сроком до десяти лет. Один бэтээр поломался среди лесов и болот во время масштабных учений. Вся армия понеслась дальше, не обращая внимания на потери. Экипаж жил в замерзшем железе целую неделю. Потом закрыли машину и пошли погреться и поесть на какой-то хутор. Чемоданчик забрали с собой. И все же после маневров особисты собирались
посадить сержанта за то, что он оставлял секретную аппаратуру без охраны. Официально наш батальон назывался МУиПр. Автомат назывался АКСУ. Рекламные надписи были трех видов – маргарин дешевый вкусный и полезный продукт, пользуйтесь услугами госстраха, летайте самолетами аэрофлота. В девяностом был ужаснейший сигаретный кризис. На базаре можно было купить трехлитровую банку окурков. Полпачки каро хватило, чтобы нанять автобус
от Ворохты до Четырнадцатого километра, когда на ботаническую практику приехали из Люблина Рената, Йоланта, Дорота, Агнешка, Дорота, Малгося, Йоана и Беата. Мы с Адрианом ежедневно водили их по горам, и девушки отказывались собирать учебный гербарий на заповедной территории. Адриан был моим учителем, был молодым и лучшим флористом на Западной Украине. На все свои командировочные девушки накупили шампанского, и мы завезли его автобусом на
высокогорный стационар. Адриан был руководителем моей научной работы, мы ездили на его машине по Львову, разделив город на исторически-цивилизационные зоны, и переписывали флору старых парков, крыш и водостоков, путей и свалок, частных садов и заводских территорий. Кафедра ботаники находилась в самом старом корпусе университета. На кафедре стояли австрийские шкафы, заполненные старинными книжками, гербарными листами и мокрыми препаратами,
было прохладно, окна выходили на ботанический сад с тюльпанным деревом и гинкго. По саду бегали собаки с вживленными фистулами на животах. Другое окно выходило на внутренний двор недействующего костела Николая. В одной из аудиторий стояло антикварное пианино «Вайнбах» без половины необходимых струн, и мы с Фациком и Мациком играли в шесть рук песни «Битлз» с самиздатовских фотокопий нот. Мацик любил футбол, мороженое и фильмы с Софи Марсо. А я
играл за факультет в баскетбол. Я был белым. Еще играли почти синий гвинеец, шоколадный мадагаскарец, какаовый колумбиец и желто-красный боливиец. Мои братья. Сохранился хороший снимок, сделанный с балкона спортивного зала. Наша команда сидела внизу на скамейке, и в кадр попали только разноцветные колени, юнайтед калорз. Колумбиец был соседом Маркеса через забор, а боливиец боялся, когда на Менчиле мы прикуривали сигареты от горячего
воздуха над тубусом керосинки. В последние годы школы мы так увлеклись баскетболом, что приходили ежедневно за два часа перед началом уроков на утренние тренировки, а каждое воскресенье играли по четыре часа. Даже дома с братом мы говорили о самых важных вещах, стоя в противоположных концах длинного коридора, перебрасываясь мячом. На речных или морских пляжах вместо мяча был большой тяжелый камень, который нужно было и добросить, и
поймать. Приблизительно так же мы учили летать нашу ворону Галю. Ее мама подобрала в сквере. Все прочие звери тоже были случайными. Сучка Мушка была названа в честь овчарки Мушки, которую вместе со скрипкой денщик моего двоюродного деда Тараса, брата деда Богдана и двоюродной бабушки Миры, привез семье после смерти Тараса. Дядя с пятнадцатого года был самохотником УСС, служил в УГА и умер от тифа в четырехугольнике смерти. Дед Богдан был тогда в итальянском плену. Два года он ел одни
апельсины и немного рыбы. Сучку Жучку папа подобрал в Надворной, и потом она родила щенят от волка. Кошку бабушка Мира нашла на кладбище. Всю жизнь ее подбитый глаз светился иначе. Кошка умела прыгать на дверные ручки и открывать двери. Спала она на высокой печи, сходила с ума, когда слышала, что раскалывается яйцо, и любила ходить по клавиатуре фортепиано. Мой ближайший друг влюбился в нее как в женщину, каких не бывает. Пес Рыжко сам поселился возле нашего
дома. Он так старательно ее охранял, что к нам перестали приносить почту, а дед Михась ходил по двору, держа в руке чашку с водой, потому что Рыжко часто ошибался и ужасно грыз своих, но боялся воды. Когда дед был маленьким, у них дома жил ястреб. Потом их дом сгорел от искры из трубы паровоза. Первой женой деда была Каролина, полячка из Делятина. У них родилась дочь. В сорок третьем году дед записался в дивизию
«Галичина». В наших краях начались межнациональные конфликты, и таким образом дед Михась обеспечивал безопасность своей неукраинской семьи. Ему был сорок один год. После Бродов он пошел домой, но по дороге попал в руки мобилизационной комиссии, которая шла сразу за войсками и забирала галицких мужчин на фронт. На его правом плече была вытатуирована стрелка, которой в немецкой армии обозначали группу крови. Вместо действующей армии
деда назначили в штрафной строительный батальон и отправили на работы в Казахстан. До демобилизации в сорок шестом дед Михась добывал уголь в карьерах Коркинуголь. Тем временем Каролина с дочерью воспользовались возможностью выехать в Польшу. Вернувшись домой, дед скрывался. Когда же наведался в Делятин, его кто-то увидел и тут же сдал. Деда взяли как человека, бывшего на работах в Германии, и отправили в Читу. Он пытался
переписываться с Каролиной, но тайный цензор МВД Леопольд Авзегер, который вел его переписку, сделал так, что до жены дошло только первое письмо, в котором дед писал, что все хорошо. Все дальнейшие письма оставались у цензора, и дед только получал от Каролины отчаянные просьбы ответить, уверения, что его ждут, потом укоры, обвинения и прощание. Бабушку Зоню арестовали во время разработки спецоперации по ликвидации Роберта,
выдающегося руководителя УПА. Кто-то подумал, что Роберт может быть Робертом Прахазкой и на него можно выйти через жену. Бабушку даже освобождали фальшивые уповцы и прятали в фальшивом бункере, выспрашивая, как можно переправить ее к мужу. В Чите бабушка встретила деда Михася, и они еще тридцать лет успели пожить вместе в Делятине. Бабушка Зоня пережила деда Михася на тринадцать лет, а моего отца, своего сына, на три недели. Она умерла от
печали. С того времени прошло девять лет. Каждое лето мы с детьми живем в делятинском доме на горе. У нас бывают очень разные люди. Однажды целую неделю жили восемнадцать человек одновременно. В прошлом году треснула лучшая яблоня-ранета, посаженная в пятьдесят шестом. Рома Рось приезжал в ботинках, которые могут выдержать три тонны груза…
Как я перестал быть писателем 1.Если бы моя учительница дзен оказалась права, все было бы совсем иначе. Было бы – как она говорила – здесь и сейчас. Она бы была возле меня. Мы бы приехали на поезде к дому на Горе. Мы бы зашли в дом и замкнули дверь изнутри на ключ, не помня, как мы доехали, дошли и что было перед этим. Мы бы немного натопили и выложили из сумки привезенную еду. Была бы зима. Было бы холодно. Были бы незнакомые звезды. Было бы темно. Еще холоднее – в постели. Печь нагреется разве что к утру, которого здесь не должно быть, потому что поезд отсюда еще затемно, до него еще шесть часов. За окнами черно – и нет уже ничего, кроме звуков. Звуки простые – далекие псы, ветер в кроне голого ореха, мерзнут земля, вода и камни, передвигаясь, тучи заслоняют всякий раз другие фрагменты одного и того же созвездия, скрипит вымороженная трава, расправляются деревянные конструкции заборов, стен, срубов и собачьих будок. Твердеют следы и сокращаются рельсы путей за садом, гвозди, забитые в доски, цепи в колодцах, которые должны достигать уровня подземных вод.
Не было бы ничего. Только светильник с разбитым абажуром над кроватью. Какие-то перины, подушки и покрывала. Коврик времен модерна от стены. Серебряные барельефы головы Христа в терновом венце и Леонардовой «Тайной вечери». «Святое семейство» Лоренцо Скьярпелони, репродукция двадцатых годов. Точнейшая копия чудотворного образа Матери Божьей Ченстоховской, принтед ин Поланд, 1936, в рамке с остатками золотой краски, под стеклом. Пейзаж Михайла Мороза – гора, много разных деревьев, весна, снег тает, пятна белые, синие, гранатовые, бурые, бронзовые и даже немного зеленого. Этюд Зория – Краков, Планты, какая-то башня, зеленый каштан. Паутина в углах. Раскладное кресло, кресло, которое раскладывается в кровать. Автопортрет Шевченко, вырезка из журнала, в паспарту и раме. Овальный большой стол посреди комнаты и четыре мягких стула со всех сторон стола. Голландская печь с охряными изразцами. Бывший выдвижной ящик возле дверцы печи, в нем – дрова. Белая дверь в другую комнату. Она замыкается и тонкой латунной ручкой, и щеколдой на правом верхнем углу. Два снимка, цветной – Папа Римский, чернобелый – бабушкина сестра сидит на лавке под яблоней. Еще один большой женский портрет пастелью. Шкаф с зеркалом посредине, зеркало слегка деформирует любое отражение. Диван, накрытый выцветшим и потертым бело-красно-желто-черно-зеленым домотканым одеялом. Окна, занавешенные белыми полотняными шторами. Четырехэтажная этажерка с книгами (Монтень, Украинский календарь, ботанические атласы, разные карты Карпат, многотомник Бальзака, украинско-немецкие словари, учебники садоводства, цветоводства, фотодела, греко-римской борьбы, помологии, фенологии, рукопашного боя, часового дела, «Кобзарь», история средневековой Церкви, Стефаник, записные книжки Чехова, Гамсун, Шклярский, Субтельный, «Доктор Фаустус», альбом чешской фотографии с 1960 года, самиздатовский том Бродского (напечатанный на машинке, 1970 год)). Пол из узких досок, очень давно крашенный красным. Стены лимонные. Потолок белый, но с большими трещинами, залатанными гипсом с синькой. Однако взгляд интенсивнее всего фиксируется на старинных часах (метр на двадцать пять), похожих на ратушу или часовню, ботинках «Доктор Мартинс» под тумбочкой и шестнадцати железных бильярдных шарах в двухрядной деревянной подставке на печи.
Мы бы нагревали собой одеяло, еще и дыша под него, покуда, нагретое нами, оно не начало бы удерживать тепло на нашей коже, на коже моей и ее. Из-за четких границ между нагретым и холодным нам было бы тесно. Если бы моя учительница дзен оказалась права… Она была бы со мной, и не было бы никакого везде и всегда, которые здесь и сейчас.
2.Хотя эта пора осени особенно пригодна для такого вылавливания малейших сезонных изменений, что сделать их значительными событиями своей частной каждодневной жизни чрезвычайно просто, я все-таки пытаюсь не замечать многих деталей. Не потому, что осень навевает естественную грусть, не из-за нелюбви к зиме и совсем не потому, что этой осенью есть нечто поважнее. Это лишь детское стремление убежать от напоминания о чем-то тревожащем.
Я всегда ощущаю эту невнятную тревогу перед радикальной сменой образа жизни, которая, так мне кажется, неминуемо совершается дважды в год. Этот переворот состоит в замене открытого пространства на закрытое, тепла на холод, лавок на кровати, сандалий на ботинки, сочных плодов на сушеные, улиц на комнаты, салатов на картошку и квашеную капусту, белого вина на что-нибудь покрепче, круглосуточных экспедиций на короткие переходы, открытых окон на отопление и наоборот.
Каждый раз необходимо некоторое время, чтобы вспомнить, как теперь нужно будет жить. Нечто подобное происходит, когда рождается еще один ребенок, и кажется, что никогда не вспомнишь всего, чему смог научиться с предыдущим.
В моем случае эти ощущения усиливаются еще и балконом. Полгода он для нас, что называется, родной дом, экологическая ниша, собственная территория. Здесь, между стенами здания и зарослями винограда, протекает наша жизнь, сюда приходят все, кто нас посещает. Жизнь на балконе определяет незиму.
Уже несколько недель только на этом балконе происходит нечто такое, что заставляет меня ощущать дополнительную тревогу. Не связанную даже с тем, что, поскольку это составляющая балконной жизни, которая вскоре должна прерваться, это нечто, возможно, нестойкое и может скоро закончиться. Тревога эта как-то глубже.
На балконе М. учит чешский язык. Она его учит, поскольку умеет учить языки, поскольку не знает чешского, поскольку чешский ей нравится. Мне тоже нравится чешский. Когда выхожу на балкон, восхищаюсь долгими и краткими гласными, создающими неповторимую мелодику, скоплениями четырех согласных в слове из четырех звуков. Мне нравится эта детскость с попаданием в ударения, когда отвечаю на вопросы, вычитанные из учебника. Вспоминаются удивительные детские чешские книжечки начала семидесятых, неповторимая графика, которая тогда значила больше, чем диковинные стишки про то, что был у «дидечка колоточ, и зъев его червоточ». Всплывают переживания пражских рабочих пивных и винных, куда не заходят туристы. Пытаюсь представить, как эти предложения мог выговаривать мой обожаемый Грабал… Только приятное. Никаких оснований для тревоги.
Но я же по крови на четверть чех. И я до сих пор не знаю, почему не знаю чешского. Почему даже не пробовал его выучить. Не знаю, не есть ли моя полная украинскость в этом смысле тем отступлением, которое меня раздражает в украинцах. Не понимаю, почему по-детски убегал и убегаю.
То, что мой дед был моим дедом один год, что мой папа родился после того, как тот умер, и папа не слышал ни одного ласкового чешского слова, вовсе не означает, что он перестал быть и папой, и дедом. В конце концов, остался неоспоримый генотип и вполне узнаваемый фенотип. В конце концов, даже после своей смерти дед стал причастен украинским историям, потому что именно его некоторое время энкаведисты считали Робертом. В конце концов, с годами он кажется мне все более и более близким. И несмотря на все я, выходя на балкон, который скоро станет зимним, не пытаюсь запомнить ни одного урока из учебника чешского языка. Пытаюсь не думать о смене образа жизни и чувствую непонятную тревогу.
3.Когда я был солдатом, мне нравилось думать о разных вещах. Думать было хорошо хотя бы потому, что на самом деле армейский режим не только не распространяется на сферу думанья, но и освобождает для него места больше, чем это возможно на гражданке. К тому же «разных вещей», о которых можно было размышлять, в собственности, в мире солдата не так много, чтобы думать о них поверхностно, не думать о них чуть глубже («Вещи солдата» – одна из лучших песен Тома Вейтса).
Тогда солдат мог иметь только одежду (сапоги и ремень тоже можно считать одеждой, хотя их роль полифункциональна), значительную часть которой сменяли еженедельно – две иголки с разными нитками, военный билет и блокнот с ручкой (что свидетельствует об определенной интеллигентности армии, поскольку во все прочие периоды своей жизни я никогда не носил с собой ни блокнот, ни ручку). В тумбочке могли и должны были быть зубная щетка и паста, мыло, бритва. Где-то рядом в зарешеченном шкафу были знаки твоей судьбы – автомат, сумка с патронами, противогаз, штык и мешок для всего этого. Знаки твоей судьбы тебе не принадлежали, но ты все это время принадлежал им.
Мне нравился такой минимализм. Еще больше нравилось насыщать его минимализмом другого, частного сорта – маленькие ножнички, спрятанные между металлической фляжкой с питьем и полотняным чехлом для нее, фрагмент сделанного братом рисунка, вложенный под обертку документа, несколько слов на последних страницах записной книжки, которые обозначают впечатления целых месяцев или отдельных часов.
Однако не только циклическая история культуры свидетельствует о том, что после чистоты стиля приходит эклектика, после модернизма – постмодернизм, после ренессанса – маньеризм, даже после барокко – рококо. Эволюция каждого частного бытия – более или менее удачный отпечаток борьбы индивидуальности с обреченностью человека на ограниченность возможной стилистики существования.
Так что нет ничего удивительного в том, что через несколько лет после армии всего моего, носимого с собой, было уже очень много. Разными нужными и ненужными мелочами были заполнены мои карманы, сумки, даже тело. В любом месте мира я мог за несколько минут разложить собственный предметный мир, который своей насыщенностью мало отличался от дома, где я родился и прожил большую часть сознательных лет.
Возможно, это длилось бы и до сих пор, если бы не счастливый случай. Как-то меня задержали порядочные милиционеры, которые составили список изъятого при задержании. Тогда я понял, как могу утомить криминалистов, авторов и читателей криминальной хроники, собственную семью (которой бы пришлось забирать весь этот хлам по списку) и себя. Об этих вещах уже не было никакой возможности думать поверхностно.
Уже много лет в любой момент остановленного времени в моих карманах нельзя найти ни одного предмета, сразу указывающего на какие-то привычки. Там нет ничего, кроме сигарет, которые курит значительная часть украинцев, нескольких банкнот и монет, находящихся в обращении на всей территории Украины, однолезвийного складного ножика, которым можно делать почти все, не нарушая в то же время ни одного закона, и ключа от жилища без указанного адреса. Никаких фотографий, кредитных карт, записок и записных книжек, карандашей, мундштуков, часов с посвящениями и колец с именами и датами, медальонов с портретами, календариков с отмеченными днями, портсигаров, никаких кастетов, ядов, анальгетиков и визиток, никакой подборки удостоверений. Даже носить паспорт мне кажется унизительным удобством, удобным унижением.
Нечто совсем иное – зажигалка.
Одноразовая самая дешевая зажигалка прежде всего такой совершенный источник огня (а огнем из зажигалки можно изменять разные жизненные ситуации к лучшему не хуже, чем это делают спецназовцы презервативом), как и самая дорогая зажигалка – произведение самого выдающегося художника.
Одноразовая дешевейшая зажигалка того цвета, который тебе выбирают, – это пропуск в иной мир. Мир, в котором все зависит от твоего выбора. Мир без выбора в том смысле, что выбора нет, потому что не из чего выбирать, потому что выбирать нечего, потому что выбрали уже все. В том смысле, что не от чего отказываться.
Одноразовая дешевейшая зажигалка, если на нее обратить внимание, действует как пропуск в литературную практику. Научившись описывать, какой могла бы быть твоя зажигалка, ты получишь все возможные зажигалки мира.
Необходимость держаться за какие-то вещи исчезнет тогда, когда сможешь представить себе, какими могут быть на ощупь те, которых коснуться никогда не будет возможности. И поймешь, что только то, что в воображении, – самая полная, самая верная собственность.
4.Несколько последних дней июля у нас был приятный и желанный гость. С Петером мы познакомились на нейтральной территории – в Кракове. Для знакомства это и хорошо, и плохо одновременно. Лишенные родной опоры, люди становятся самоценными, но немного неполноценными. Как бы то ни было, мы нашлись, прониклись симпатией и подружились.
Петер живет в Берлине. Он – настоящий писатель. То есть выполняет только одну общественную функцию – придумывает, пишет и публикует романы. От большинства наших писателей он отличается тем, что в высшей школе учился на писателя. Он достаточно талантлив и мудр, чтобы такое профессиональное образование не повредило, а помогало в писании. Другое его безоговорочное преимущество заключается в том, что перед тем, как стать писателем, он был каменщиком. Тоже профессиональным. И так же точно любил работать с камнем, как теперь с предложениями (некоторые его предложения так прекрасны, что иногда мне жаль, что невозможна такая материализация, чтобы провести с ними хотя бы одну ночь – так сказал один известный критик). Петер умеет видеть детали и накручивать на них истории других деталей, создавая таким образом цветистое вязанье выдуманной литературы про невыдуманную жизнь. Показательно, что мы с ним никогда не говорили о литературе – достаточно было других интересов.
К тому же с Петером было очень легко и радостно объясняться. Его языковая толерантность нетипична для немцев. С ним можно говорить неправильно, еле-еле, назывными предложениями, отдельными словами, жестами, мимикой, вспомогательными звуками, указаниями на предметы. Он все понимал и так же давал понимать себя, упрощая, уточняя, сокращая, повторяя, замедляя, показывая руками и улыбаясь. Как бы то ни было, даже мои дети, приехав в Краков, сразу выделили его среди прочих иностранцев, не ощущая чуждости. А из всех немцев и поляков только Петер вслушивался в наш язык, запоминая слова и интересуясь их употреблением. И только про него было известно, что Украина его не минует.
Впоследствии мы были у него в Берлине. Он знал, что показать в этом мегаполисе именно мне, чтобы я сумел полюбить его город.
Его приезд к нам начался еще перед приездом – почему-то отменили рейс автобуса, на который Петер купил билет, и пришлось ждать следующего дня. Потом мы побыли в нашем городе, потом поехали в горы, потом пожили в горном селе, потом – еще два дня в городе. Петер просто жил с нами. Приятнее всего было то, что он жил так, как мы. Совершенно не выглядел гостем в нашей незнакомой прекрасной и чудной стране.
Ему было комфортно в нашем старом доме со множеством бытовых трудностей. Петер вместе с нами мокнул под страшными ливнями и в буром стремительном потоке, в который превратилась дорога. Танцевал на площади под украинский рок на дне города в Яремче. Его совсем не пугала плотная толпа стариков, молодежи, детей, милиционеров, пьяных, веселых и буйных горцев. Петер спокойно ел сыроватые шашлыки и пил квасное местное пиво в переполненном, закуренном, замусоренном вертепе, где подбор лиц просился в какое-нибудь кино. Мы ездили в разбитых пригородных поездах, где все окна завинчены, а туалеты засыпаны килограммами хлорки. Завтракали домашними сырами, обедали кулешей с брынзой, ужинали печеной картошкой и грибами – как каждый день. Петер пил сырую колодезную воду, ел немытые лесные ягоды и помидоры, купался в непрозрачной после дождя реке. Он научился брать воду из колодца, пользоваться банкой и кипятильником, мыть посуду в тазу. Мурлыкал песни, которые въелись в голову после концерта. Ему нравились наши колбасы и сладости, пиво и шампанское.
На кладбище он пробовал на ощупь надгробия разных десятилетий, присматриваясь к техникам обработки камня. Он спрашивал обо всем, чего не мог понять, а получив объяснение, не удивлялся – почему так. Петер непрерывно изучал украинский язык и выслушивал повести из нашей истории.
Никто из окружающих не заподозрил в нем иностранца. Нам же никогда не было стыдно за нашу страну. Наша страна и Петер, кажется, полюбили друг друга.
Я не могу знать всего, о чем он не говорил, что записывал в блокноте, какие фрагменты этого путешествия появятся в его прозе. Не знаю, на какие вопросы Петер не получил ответов. Но после всего, что мы прожили вместе, я не понял только одного. Почему перед самым отъездом в магазине украинских сувениров Петер купил матрешку (и вообще – почему она там была).
5.Думая о том, какой я есть, не могу не думать о тех, кто меня таким сделал. У меня нет другого выхода, кроме как думать о своих воспитателях и учителях. Сразу, словно на каком-то групповом снимке, в воображении появляется несколько десятков человек. Когда же времени на воспоминания немного больше, к этой группе добавляются новые и новые фигуры, их счет переходит на сотни. Иногда они держат, как аллегорические скульптуры, некие атрибуты, которые самым лаконичным и обобщенным образом символизируют основной дар, переданный их носителями мне.
Размещаясь вокруг меня, они в основном придерживаются хронологического принципа. Так правильнее всего, поскольку спорить о значении влияния не то что неуместно, но и бессмысленно, ведь даже мне было бы неимоверно трудно установить принципы приоритета (поскольку я знаю, что было несколько минутных встреч, вклад которых в мое воспитание превосходил многолетнее общение с другими учителями).
Воображаемый фотограф искренне порадовался бы этой пестрой композиции из мудрых старцев, причудливых старух, достойных мужчин, красивых женщин, маленьких детей, покойников и привидений, собак, кошек, коней, птиц и животных, святых и негодяев, призраков со стертыми лицами… Не удивился бы он и несовместимости значительной части этого общества. Но здесь они могут мириться, потому что всех вместе удерживает моя благодарность.
Что касается меня, почему-то всегда хочется сесть возле папы. Хотя бы потому, что никак не могу уловить, что именно в моей школе жизни сделало его таким значимым.
На самом деле папа проводил с нами не так много времени. Да и вообще дома он бывал мало, нам постоянно его не хватало. Но папе удавалось вложить в краткие эпизоды какие-то эпохальные вещи. Несколькими предложениями, манерой двигаться, способом общения с самыми разнообразными людьми, быстрыми решениями запутанных вопросов, улыбкой, готовностью помочь или способностью отказаться, особенным весом слова. Наконец, если говорить о ряде совершенно конкретных знаний, то именно он научил меня квасить капусту и копать землю, ухаживать за яблонями и розами, варить суп и готовить луковый салат, носить кастет и ликвидировать ненужные лишние блокноты, запоминать адреса и имена, ходить по горам и ловить рыбу, делать кутью и натирать мастикой пол, плавать и чувствовать течения, запускать воздушного змея и разделять шоколадку на всех, выжимать яблочный сок и мариновать помидоры (странно, но именно это все я теперь умею лучше всего.).
Даже все папины подарки прежде всего были направлены на определенный опыт – часы, многолезвийный карманный нож, электрический конструктор, коньки, лыжи, пневматический пистолет, фотоаппарат, токарный станок, топор, мини-бильярд, ходули, лук, турник, теннисные ракетки, прибор для выжигания, маленькая химическая лаборатория, микроскоп, антикварная печатная машинка, блок настоящего американского Мальборо, бутыль калинового вина, бутылка французского коньяка. Не говорю уже о поездках в леса и городки, в Киев и Петербург, в Литву и на море. Не говорю о тех нескольких ночных разговорах, когда решались направления судьбы. Даже после смерти школа не прекратилась. Хотя бы благодаря упорядоченности всех оставленных дел, добрым воспоминаниям многих не знакомых мне людей, хотя бы благодаря снам.
И все же, подбирая все эти ключи к основному, я чувствую, что за дверью одна особенность, один плохо пригодный для формулировки урок. Он заключается в том, что папа, чья жизнь (за исключением ареста, лагеря, ссылки, читинских банд) не имела ничего общего с приключенческим романом, умел трактовать ее как писатель, которому даже не нужно писать. Воспринимая мир как литературу, он мог создавать собственную ежедневную высокого качества прозу – наблюдая, запоминая, расставляя акценты, нанизывая эпизоды, конструируя диалоги, делая отступления, экономя слова и комбинируя фразы, изменяя фабулу и подбирая персонажей.
Ему удавалось не только жить внутри своей прозы, но и щедро распространять ее на зрителей, слушателей и условных читателей.
Может казаться, что в воспитании есть нечто более нужное, но если у меня и есть какая-то педагогическая мечта, то она одна – хотел бы суметь передать своим детям немного того ощущения, которое перенял от папы.
6.Пока младший сын экспериментировал с доведением самодельного воздушного шара до совершенства, облегчая проволочную конструкцию, подбирая топливо для нагревания воздуха, старший взялся вытирать и складывать книги в старом шкафу. Последний раз к этим книжкам прикасался я сам, когда был почти ровесником сына. Так что были все условия забыть многие книги из задних рядов на полках. А теперь есть возможность поглядывать на детскую работу, узнавая и удивляясь.
Наконец нашлась одна из самых моих любимых книжек, ее я не могу полноценно читать, но именно эта книжка не нуждается в чтении. Просто я еще не видел тома, изготовленного совершеннее. Конечно, существует множество превосходных изданий. Но этот сборник переведенных на немецкий сказок Оскара Уайльда поражает другим. Это лаконичная совокупность безупречно выполненных деталей, которые создают книжку как промышленный продукт. Еще и с учетом всех дополнительных значений, заложенных в отношение потребителя именно к этому продукту. Сорта бумаги, формат, способ нарезки и скрепления листов, плотность переплета, оттенки красок, все шрифты, соотношение заполненной и пустой площади, даже вес, не говоря уже о конгениальных рисунках, инициалах, заставках, вставках, пред– и послевставках. Техника на службе у человека. Это собственно то, что с гордостью называлось прогрессом.
Еще у этого экземпляра есть собственные артефакты, история и загадка. Обжитость, очеловеченность. То, чего сначала не хватает всем проявлениям прогресса. То, что на нашем фрагменте Европы всегда с прогрессом конфликтовало, поскольку прогресс его попросту уничтожал, сам едва успевая становиться обжитым.
Артефакт, который безоговорочно свидетельствует и о собственной истории, и о загадке, – это написанные имя и фамилия моего деда в дательном падеже, имя и девичья фамилия моей бабушки и ниже – Гмюнд, бараки, 16 декабря 1916 года.
Гмюнд (согласно Энциклопедии украиноведения) – город в Нижней Австрии на границе с Чехословакией, 4 тысячи жителей; в 1914—1918 годах – лагерь для беженцев и депортированных из Галиции, в котором действовали украинские школы (между прочим, гимназия), культурные и общественные учреждения; тяжелые бытовые условия стали причиной высокой смертности: в 1914—1917 годах погибло около 14 тысяч украинцев.
Бабушка была там сестрой в санитарной части. Дед, который к тому времени уже был призван в армию и, оставив инженерные изыскания, окончил школу подстаршин и располагал перед разными фронтами определенной свободой краткосрочных перемещений, заехал в Гмюнд по неизвестным теперь причинам еще в начале года. Возможно, к кому-то из знакомых галичан. В любом случае, дед с бабушкой познакомились в Гмюнде. А эта книжка уже выглядит позднейшим подарком на Николая, им было по двадцать лет. Потом были Альпы, контузии, Ноябрьский переворот, Украинская Галицкая Армия, плен, другие бараки, смерти самых близких людей, распад империи, учеба в Вене, дети, грядущая война и весь двадцатый век. Печальные сказки Оскара Уайльда принимали участие во всех перемещениях. В конечном итоге то, что недавно книгу вытирал от пыли их правнук, тоже можно назвать прогрессом. Или обжитостью. Или обжитым прогрессом. Или прогрессивностью обжитости, или. Загадкой же навсегда останется такое отступление от хронологического принципа: дарственная надпись не может быть неточной (16. 12. 1916), но на первой странице книги пропечатано: «Вышло в издательстве “Остров" из Ляйпцига, 1917 (пятое издание, от 41 до 50 тысяч)».
Недалеко от этой книжки, вероятно, вследствие какой-то ассоциации, была еще одна брошюра, тетрадь. Гмюндовская драма Марийки Подгорянки «Мать-мученица», скрепленная с анонимной повестью про строительство железной дороги где-то на Волыни. Снова о прогрессе. О начале двадцатого века. О конфликте с обжитостью. По своему пафосу повесть близка тому рассказу Джека Лондона, где старые индейские деды, проигравшие в противостоянии наступлению белых американцев, пытались уничтожать их тихо и по одному (весьма актуальная, между прочим, тема для теперешнего времени, особенно в наших горах).
Через несколько дней я ночевал в нашем горном доме. За садом в лощине проложены железнодорожные пути, им уже больше ста лет. Когда проезжают поезда, трясутся кровати. Но меня не будят даже медленные сверхтяжелые поезда, составленные из десятков вагонов, не будят вибрации, грохот, поездные гудки на поворотах и прожекторы тепловозов. Однако я просыпаюсь от того, что на шоссе, на расстоянии километра безлистых сейчас садов и зарослей, бесшумно шипят шины скоростных джипов в направлении карпатских курортов. Этот прогресс еще нужно обжить.
7.Нужно было прожить так много совершенно незначительных лет, чтобы наконец понять, что единственный теоретический вопрос, который по-настоящему вызывает интерес, о котором хочется размышлять и говорить, который время от времени не дает покоя, – это вопрос памяти. Разумеется, собственной.
Иногда появляется такое чистое, глубокое и всеохватывающее ощущение зависимости от того, что помнишь, – что оно переходит в переживание полной свободы. Тогда у тебя нет ничего, кроме всего. Хотя это все может быть и ничем. Но тогда у тебя нет даже рук, не говоря уж о глазах, ушах, языке, носе и коже. Как и ты, руки принадлежат памяти. А ты, как и руки, зависишь только от нее. Что она может вмещать. Что ей нужно, а что не стоит напоминать. Только память есть то, что называется тобой. Она – это то, что здесь и сейчас.
Я помню то, что не следует помнить.
Как пахли старые венские кресла в нашей квартире после того, как на них сидели разные бабушкины гости. Какие ребра были у разных девочек, которых когда-то раскачивал на прикрепленных к верхней ветке большого каштана над оврагом качелях. Как давила горло поспешно проглоченная первая украденная булочка. Как звучал череп напавшего, которому бросил камень прямо в голову. Как много звуков в ночной квартире напоминали тихий плач детей, когда те спали в дальней комнате. Как невероятно изменялись цвета и освещение неба в первую бессонную от самого начала до самого конца ночь. Какая густота, скорость, упругость (и касательность или касаемость) воды в Любежне, Быстрице, Рыбнице, Тисе, Днестре, Днепре, Немане, Дунае, Пслухе, в Шацких и Тракайском озерах. Как смешивалась кровь с молоком, когда упал на ступеньках с полной бутылкой в каждой руке. Как назывались все персонажи книжки «Томек ищет снежного человека». Как скрипела под утро от охлаждения перегретая за день жесть на чердаке, где мы когда-то жили. Как смотрел пес, который сам решил быть нашим и покусал уже почти каждого из нас. Как затекает сухожилие под локтем, когда возвращаешься ночью издалека домой с двумя сонными детьми на руках. Как найти маленькую лавку с молодым вином в Регенсбурге. Как переставлять руки и ноги, когда лезешь по лесенке на бронетранспортер. Как в 1950 году арестовали моего папу на уроке в начальной школе.
Помню множество таких бесполезных вещей. И иногда, когда остаюсь один, ничего не делаю и ничего не говорю, кажется, что именно эти все вещи и есть самый настоящий я. Совокупность хаотического хлама, единственное оправдание которого в том, что он скоро исчезнет, не оставив никакого следа на земле.
Проблема моей памяти состоит в патологически деформированном принципе отбора информации. Понимаю, что забывание – такая же необходимая функция памяти, как и запоминание, но не до такой же степени. Помнить так мало нужных, важных, значительных, дорогих, радостных, трогательных моментов. Забывать даже слова. Даже записанные слова.
Даже не помнить, что что-то нужно запомнить. Забывать события и фразы настолько, что потом не веришь, что тебе рассказывают твои воспоминания. Будто бы тебя не было где-то там, где ты был по-настоящему счастлив. Будто кто-то другой целыми днями был внутри твоего существования, как в плохих фильмах (иногда так еще бывает с синяками и царапинами).
Так что, как ни парадоксально, но есть такие мгновения, когда для возвращения к себе нужно прибегать к фантазии, которая вполне может оказаться самыми настоящими воспоминаниями.
8.Свой первый опыт смерти я пережил, когда мне было семь лет (моему брату, соответственно, пять, то есть у него все произошло раньше, хотя и родился он позже). Тогда умерла первая бабушка.
Нужно было прожить еще семь лет, чтобы понять, что та смерть не была чем-то исключительным, каким-то детским миражем. Что люди действительно постепенно уходят. Что именно этот уход и есть то, что можно назвать собственной смертью или смертью всего мира.
Потому что еще через несколько лет я осознал четкое отличие между Смертью и умиранием. Собственное умирание, независимо от силы пережитых чувств, совсем не вызывает ощущения, присутствия смерти. Это твое частное приключение, которое, кажется, как и самый опасный сон, никогда не завершится действительно окончательным завершением. А реальная Смерть – это когда такие полноценные и важные для тебя миры просто перестают существовать.
Прошло еще немного времени. Я увидел, убедился, что смерти нет вообще. Миры никуда не уходят. Они, без сомнения, укореняются где-то здесь, рядом, в, на, при, за, перед. (Дело даже не в генетике).
Бабушка оказалась невероятно щедрой в том, что называется наследством.
Дело не в том, что я действительно помню. Потому что я не могу помнить слишком много. Помню единственное поучение. «Не будь заурядным», – просила бабушка. Помню несколько пословиц по-немецки, которые она повторяла, когда мы с братом сидели на ее кровати. Помню, как она делала ежедневную гимнастику до последних дней жизни. Помню, как к ней приходил почти святой отец Слезюк, как они долго разговаривали и молились в ее комнате, ставили на стол скульптуру Христа, несущего крест. Помню, когда я лежал больной и напевал какую-то песенку про советскую армию, только что выученную в детском садике, где я пробыл где-то с неделю, бабушка просила этого больше никогда не петь, даже когда буду еще сильнее болеть. Помню, как бабушка иногда не выдерживала без работы и мыла по ночам посуду. Помню ее ласковость к одним гостям и некоторую суровость к другим, – к ней каждый день приходили какие-то люди. Помню, как бешено мы с братом дурачились и кричали в одной из комнат за несколько часов перед тем, как она умерла в другой, как мы испуганно вошли именно туда, какая была тишина, какая была погода, как мы притихли.
Дело не в том, что я могу помнить уже из более поздних лет – фотографии, документы, рассказы мамы и других людей, которые были с ней знакомы. Когда-нибудь я все это тщательно исследую и запишу ее документальную биографию.
Дело не в бабушкиной истории, которая смогла стать частью моей настолько, что в некоторых снах цитаты из нее трудно отделить от фрагментов собственного пережитого.
Дело даже не в воспринятом опыте – бабушка училась в начальной школе немецкой, гимназии польской, медицину начала изучать во Львове, была в Гмюнде, там познакомилась с моим дедом, он ей дарил книги английские и русские, была офицером в УГА, была с ними очень долго, получила несколько наград от Красного Креста, продолжала обучение в Вене, вышла замуж за того, с кем познакомилась когда-то в Гмюнде, в церкви святой Варвары, родила ребенка, вернулась в Станиславов. Бабушка специализировалась в офтальмологии, но единственный станиславовский офтальмолог-украинец попросил ее не создавать конкуренции. Она снова поехала в Вену и переквалифицировалась на отоларинголога. Вернулась с семьей в Станиславов. Практиковала. Лечила, ей доверял каждый, кто хоть раз попал на прием. Благодарные пациенты подарили ей араукарию. В сорок пять лет она родила еще одного ребенка, девочку, которая потом стала моей мамой. Это оказалось Божьей милостью, потому что через несколько лет умер ребенок старший, без которого уже трудно было представить себе жизнь.
Бабушка очень долго работала, даже в пенсионном возрасте.
Еще помню, что она всегда учила нас складывать вечером одежду так, чтобы среди ночи быть готовым к чему угодно за какую-нибудь минуту. Даже в потемках и на ощупь. Стена подвала в нашем доме была так же исписана датами авиационных налетов с бомбардировками, как и последняя страница бабушкиного молитвенника, где множились реестры утрат, за души которых нужно помолиться. Дело не в каких-то вещах, реликвиях и обиходных памятках.
Потому что бабушка оказалась гораздо более щедрой в том, что можно считать наследством.
Бабушка подарила мне этот город. Куда бы я ни пошел, тепло ее перед-тем-пребывания уже меня греет. Дом, в котором она родилась, оказался филиалом художественного музея. Школа, где она училась, возле базарчика, где я покупаю продукты, ее бывшая гимназия – напротив моей бывшей школы. Дом, в котором она поселилась – в том квартале, где я прожил всю свою жизнь. И так далее. Не говорю уже про улицы, по которым она ходила.
То же самое происходит во Львове. Хотя и не с таким напряжением.
Жаль, что я еще никогда не был в Вене. Она жила там много лет. Но знаю, что, попав туда когда-нибудь, не буду чувствовать себя чужим. Что-то да узнается, где-то почувствуется какое-то тепло. Такое уж я получил наследство.
9.Иногда я даже не могу спокойно выпить утренний кофе.
Сажусь на ступеньки. Сажусь на ступеньки своего горного дома, чтобы попить утреннего кофе. И иногда не могу спокойно это сделать. Или это возрастное, или особенность натуры, но то, что я вижу – не в чистом виде то, что я вижу. Сижу на ступеньках и вижу больше, чем следует. Я вижу маленький кусочек мира, который есть весь мир. Вижу сад, заросший молодыми яблонями, которые разрастаются и заслоняют собой все больше мира. Эти деревья посадил папа. Совсем недавно. В середине восьмидесятых. Это недавно, несмотря на то, что прошло уже почти двадцать лет. Этот сад сильно изменил все возможности видения. От дома теперь почти не видно путей. От путей, с поезда, видно теперь только крышу дома. И я вижу силуэты. Вижу то, что можно было бы назвать призраками.
На самом деле, глядя на то, что видно с порога, и зная, что здесь происходило, иногда представляешь себе, как те люди двигались на этом участке ландшафта.
Эти пути, которые за садом, когда-то положили итальянцы. Почему-то было решено, что именно они лучше всего прокладывают железнодорожное полотно в горной местности, их инженеры выискивали каждый удобный поворот между холмами и оврагами, чтобы проложить железную дорогу от Станиславова до Рахова. Рабочие, наверное, приходили к домам, к колодцам. Рабочие, наверное, просили напиться по-итальянски. Еще они как-то должны были проводить свободное от работы время. Говорят, что именно итальянцы принесли в наши горы всяческие любовные болезни. Итальянцы умели прокладывать туннели. Проложенные ими пути навсегда изменили звучание нашей горы. Когда едет поезд, дом прямо трясется. Особенно это слышно ночью. Когда-то из одного паровоза вылетела искра, которая упала на кровлю старого семейного дома. Место, где он стоял, я тоже вижу. Тот дом сгорел без всякой войны.
Войны, по крайней мере две мировые, происходили почти во дворе. В лесу, который справа, была та система укреплений, на которую направлялось то, что позднее было названо Брусиловским прорывом. А еще я вижу мост, построенный на месте того моста, который в свое время подорвали ковпаковцы перед тем, как провести свой настоящий бой, в котором их уничтожили. Могу себе представить, что происходило на наших огородах во время всех этих мировых войн. Из огорода каждый год – до самого начала восьмидесятых – вылезали весенние гильзы, выстрелянные из разных типов оружия. Сорок и семьдесят лет назад.
А еще перед тем, как от поезда сгорел старый дом, на всех этих огородах происходили грандиозные вече радикальной партии. Одно из них описано в определенном номере «Дела» как самое большое в крае, на нем выступали Лагодинский, Шекерик-Доников, Марко Черемшина и тогдашний хозяин этих огородов.
Из-за того, что мост потом подорвали, еще несколько лет импровизированные станции работали на двух берегах большущего оврага, который я тоже вижу. Один поезд доезжал до пропасти, пассажиры переходили по тропинкам через речку и загружались в другой, ехавший до самого Рахова. Потом, конечно, построили новый мост, а обломки старого виадука создали замечательные плесы на горной речке. Слева я могу смотреть на горно-лесную страну, откуда эта речушка вытекает, а справа – на правый высокий берег Прута, куда она впадает. Кроме прутского каньона, на той стороне видно еще начало покутско-косовских Карпат, видно тот хребет, за которым Коломыя, Яблунев и другие интересные места.
Впереди я вижу ту гряду гор, которыми начинается официальная Гуцульщина. За этой грядой при хорошей погоде видно живописные холмы, которыми заканчивается предгорье, и высокую гору, где когда-то, очень давно, было гигантское языческое капище и заканчивалась старая дорога, по которой приезжали купцы из дальней Европы за кремнем. Потому что справа, там, где мост и остатки окопов, – только вход в Горганы. Начало того каменистого неровного леса, который выходит другой стороной уже на Мукачево. Где-то с самого края этого леса еще двадцать лет тому назад вылетали истребители, охранявшие одну из тех секретных баз, где находились те стратегические ракеты, о которых знали только их владельцы и аналитики потенциального противника. Вот как раз на эту базу по путям за городом ездили странные поезда, замаскированные под пассажирские, с плотными шторами на всех окнах.
Еще я вижу купол старинной церкви, входившей даже во все реестры памятников архитектуры, фрагмент кладбища, крыши нескольких трех-четырехэтажных деревянных вилл в закопанском стиле. Все это – остатки того городка, который перестал существовать во время второй из мировых войн. Больше всего уцелели после той войны тропки, которые я тоже вижу. По этим тропкам проходили те, кто находился в лесу, и те, кто делал облавы на о находившихся в лесу. Глядя на эти тропки, можно точно знать, как по ним ходили эти разные люди. Кроме того, были еще и другие, которые, несмотря на всякие истории, шли к соляным колодцам, которые так близко в одном из оврагов, что их даже невозможно увидеть.
Конечно, прежде всего я вижу деревья. Очень много разных деревьев, незаметно изменяющих видение. Из-за них так сильно отличается фон на снимках нескольких десятилетий. Конечно, прежде всего я вижу траву, неизменно вырастающую на всех фрагментах свободной земли, на которой происходило все то, что я не могу не видеть, когда сажусь на ступеньки попить кофе. Иногда я даже не могу его спокойно допить, потому что трава ничего не скрывает.
10.Когда-то давно я уже пытался что-то рассказать о своем ощущении этого человека, описывая, каким образом узнал о его смерти, – это полностью отвечало тому, как он жил, как писал, что писал, наконец, как умер.
Постепенно я узнал о нем еще больше – рассматривал снимки, читал его книги и книги о нем, слушал рассказы разных людей про него, побывал в городах, куда когда-то попадал он. Мне присылали письма на открытках с его портретом. Один его роман я сумел так сильно полюбить, что до сих пор считаю книгой для меня.
Сейчас попытаюсь рассказать об этом человеке несколько иным образом.
Не хотелось бы этого делать, но должен назвать нескольких персонажей. Ю. – мой брат, у него годовалый сын Т., Л. – жена Ю. и мама Т., М. и Б. – мои сыновья, им обоим недавно исполнилось по десять лет. Этого достаточно.
Было воскресенье, был сентябрь (когда я допишу то, что сейчас пишу, можно будет сказать – теперь воскресенье, теперь сентябрь, потому что они действительно тогда будут). Прошло несколько дней, а я уже мало что с того дня помню. Пройдет еще несколько недель, и я забуду даже то, что сейчас написал. Но смогу к этому вернуться и даже вспомнить больше, чем написано.
Было несколько фрагментов. Мы долго спали, потому что предыдущим вечером допоздна ждали, когда из одного бистро – выше уровня крыш – можно будет полюбоваться освещенным на ночь Львовом. Завтракали так же, как и ужинали, обедали и завтракали уже несколько дней – так много нам оставили блинов, которые нужно было начинять творогом. Пропустили несколько маршрутных такси, потому что не ориентируемся по номерам, а пока прочитаешь… В маршрутке М. рассказывал свой сон. Он был уверен, что по качеству изображения, красоте сценок и целостности композиции это едва ли не лучший сон последних лет (Перед грандиозной каменной лестницей белой виллы на травяном газоне две очень белые овцы и две очень красивые козы синхронно и с удовольствием выполняли разные команды, которые в основном подают собакам. Вдоль лестницы посажен высокий можжевельник. Та, что подавала команды, сидела на балконе виллы, возле нее сидел пес, которого эти команды не касались, потом команды сменились очень милой песенкой, а все звери танцевали). Я слышал и понимал каждое слово, – говорил М. Каменная лестница, обсаженная кустами можжевельника, – это очень хорошо. Так заметил Б., который мечтает стать архитектором. Тем временем доехали, вышли на красный свет и зашли купить заварные (там всегда есть очень хорошие заварные). Какая-то бездомная ела молодые орехи на подоконнике гастронома. Поела и ушла, оставив после себя кучу шелухи, среди которой была еще цела невыковыренная из слишком крепкой скорлупы половинка ореха. Мы пошли надолго гулять с Т., М. и Б. по очереди катили коляску. У теперешних колясок колеса гораздо хуже, чем у той, которая была у нас, – сказал я. Л. осталась дома готовиться к завтрашнему спецкурсу. Очень хороший спецкурс, но на него записалось очень мало желающих. Я приду послушать этот доклад, чтобы стало известно, что специально на него приезжают аж из Ивано-Франковска. Ю. изменил голос и интонацию и объявил, что начинает цикл познавательных экскурсий по Львову для М. и Б. Он рассказывал про Лычаков, потому что там мы, собственно, и были. Мы смотрели на домики, которых скоро не будет. Эти пацаны, – показал Ю. на воинственную группу подростков, – имели бы возможность стать настоящими батярами, львовскими гуляками, если бы не необратимые перемены. Мы шли к Кайзервальду. Вокруг были изумительные заросли разных цветов, трав и плодово-ягодных деревьев, за которыми просматривались домики. В некоторых наилучших местах мы видели причудливые дворцы нуворишей. Все равно можжевельник вдоль лестниц и стен выглядит хорошо, – уже во второй раз заметил Б. Потом мы стояли на краю гигантской Подольской плиты, глядя на Львов, Расточье и Побужье. Тучи, которые были над нами, скользили тенью где-то далеко между многоэтажками. Когда смотришь отсюда, оказывается, что тех домов очень мало. А этот лес посередине города очень похож на Венский. Здесь я провел с Т. целое лето, – сказал Ю. – Я раздевал его, и он очень загорел. Такой маленький, а уже был на море, – восторгались знакомые. Действительно, несколько миллионов лет назад здесь было море. Тише, разбудите ребенка, – закричала какая-то громкая полячка своим молчаливым коллегам. За это лето на заповедной территории Вознесения появились новые дома. Дальше, мимо больницы Зарембы, по бывшей Курковой (тоже хорошая история) мы шли до четвертой, третьей, второй и наконец первой оборонной линии Львова. Какая-то пожилая дама в фате из занавески гуляет по площади Рынок, ей кажется, что она молодая, красивая невеста. Центровые пьяницы без насмешки здороваются с ней. «Штобы што-то увидеть, надо хотя бы пальцем о палец ударить», – обращается экскурсоводша к российской группе возле часовни Боймов. Польская туристка покупает какую-то кичевую картинку с собором. Ее подруги увлечены покупками. Из ворот в любой момент может выйти кардинал. Потом – киевские дома, построенные вопреки всему вместо чего-то на местах археологических находок. Потом – монастырь, о котором когда-то так хорошо написал в стихотворении Юра Андрухович. Зачем было уничтожать все львовские воды? – спрашивает М. Они с Ю. еще пошли к истоку Полтвы. Мы с Б. вычитали в газете, чего ожидать от ближайшего книжного форума. Оба отметили, что ждем того же самого, что и корреспондент. Но мы ждем еще и книжку Софийки, – сказал Б. (повесть «Старые люди» Софии Андрухович – Т. П.). Вечером, вопреки правилам дисциплины, мы еще поехали далеко за город, чтобы посмотреть через настоящие телескопы на Марс, который так хорошо будет виден только через много лет, и на любимую Луну, на которую стоит разок посмотреть через увеличительное стекло. Домик телескопа, похожий на батарею береговой артиллерии, спрятан в лесу под звездным небом посреди осенне-ночного холода. Становится радостно, что ты здесь.
Вот, собственно, и все (хотя по пути к телескопу мы еще остановились возле сбитого автомобилем человека). Не могу утверждать, что эти фрагменты – нечто исключительное, что их нужно запоминать. Но знаю, что именно так делал великий чешский писатель Богумил Грабал, о котором я пытался что-то сказать. Его талант состоял в умении не разделять повседневную жизнь и повседневную литературу. От этого выиграла литература. От этого другой может становиться жизнь.
11.На протяжении лета есть несколько таких периодов, которые ассоциируются с настоящим летом. Но если доверяться фонетике, то само слово «лето» – без всяких эпитетов – безусловно, вызывает ассоциации, связанные именно с этим временем, с этими несколькими неделями на стыке июля и августа, с серединой августа. Что, собственно, парадоксально, потому что лето теперь – уже не целиком. Но полностью. Самое глубокое, потому что уже не совсем. Не осень и не темная зима, а этот отрезок года кажется мне самым грустным за весь год. Эти дни – та самая высокая и совершенная точка, продержаться в равновесии на которой можно очень недолго. К тому же всегда знаешь, что равновесие нарушится не в какую-то другую, неожиданную сторону. Еще и, как учат в школе, дни становятся короче, ночи длиннее, солнце уже не так нагревает землю…
Воспоминание о школе снова, как и двадцать с чем-то лет назад, становится невыносимым в середине августа, когда еще лето, но уже. Много лет этого не было, его попросту не существовало. Дети были маленькими, а потому такими, как бы хотелось. Они были независимыми. Теперь у них каникулы. Видя их на плесе горной речушки, я думаю о том, насколько эти радостные тела отличаются от тех же детей, которых я встречу после уроков посреди города где-то в четыре часа в середине, скажем, декабря. Представляю себе, что мне тогда, посреди декабря, даже не придет в голову такая мысль – увидеть в этих дорогих созданиях тех вольных зверят, которые еще несколько месяцев назад сливались с летней водой горной речки. Воображение неподвижно, и наперед – трудно будет усмотреть в них тогдашних черты, которые вдруг окажутся самыми естественными следующим летом.
Каждый год мы с детьми едем к нам в горы. Каждый год мы задаемся целью побыть там как можно дольше. Каждый год выходит по-разному. Но не было еще года, чтобы мы там не были. Приехав туда, дети сразу говорят о том, как им хорошо, что, собственно, не слишком свойственно детям. Они здороваются со своими любимыми кроватями, с домиком, с деревьями. Они здороваются с рекой.
Этим летом у меня появилась странная идея – я хотел записывать все наше лето, все дни и все сказанное. Идея возникла через несколько дней после приезда, я начал вспоминать, что уже было за те несколько дней, дети мне напоминали разные дневниковые фрагменты. Потом они предложили день-два просто отлежать в кроватях и ничего не говорить – чтобы хроника догнала реальное время.
Достаточно было двух часов в начале лета, чтобы понять, что никакой хроники не будет. Стало очевидно, что повесть, история, которую я хотел бы написать для них, им на самом деле не нужна. Записывать же важнейшее для себя самого показалось неуместным. Третий вариант мог бы реализоваться каким-нибудь учебником, который окончательно усложнил бы все. И рисковал бы оказаться совершенно бесполезным. Даже вредным, потому что немного страшно вычитывать в учебнике то, что очень страшно учебнику отдавать, поверив в универсальность своего отсутствия метода. Такое никогда не может конкурировать с нормальными учебными программами. О таком ни в коем случае не вспоминают даже в сентябрьских сочинениях о том, как провел летние каникулы. Всякое такое даже нельзя назвать позитивным приобретенным опытом. Эти переживания – социально опасны. Привязанностью к себе они изымают из подросшего человека элемент общественной заструктурированности. Они подобны мальчишеским или девчоночьим сокровищам, детским реликвиям, найденным через десятки лет. Тому, что нигде не используется, но не подлежит уничтожению. Самая тяжелая ноша радости существования. Ужасная обязанность человеческого пребывания в длительности времени.
Дети каждое утро рассказывали свои сны. Они ждали, пока небо станет достаточно звездным, и рассматривали близкие звезды. Спали на собственноручно постеленных утеплениях в саду под открытым небом. Над ними падали звезды и не падали совершенно очевидные спутники, их жалила крапива, их кусали насекомые, разные типы насекомых. Они спасали ночных бабочек и вытаскивали из воды крота. Они снимали с рельсов перед поездом сотни колорадских жуков, которые там грелись. Делали однодневные луки и луки, больше их самих, толще, чем их руки перед локтями. Катились с холмов. Лазили по деревьям. Объедались вишнями, сливами, белым наливом и грушами. Ходили по чернику и ежевику, но никогда не собирали ягод в какие-нибудь посудины, а съедали все на месте. Часами мокли в реке. Падали в воду, поскользнувшись на скользких камнях. Кидались яблоками, камнями, – кто дальше, кто точнее, кто в кого. Вытесывали стрелы. Залезали в разные укрытия, гнезда и норы. Жгли чесночную ботву. Раздували костры, ели недопеченную картошку, недожаренное и пережаренное мясо. Тяжеленным мачете перерубали подброшенные яблоки. Косили. Клали на рельсы провод, из которого получались кинжалы. Лежали и думали. Говорили с собаками и от имени собак. Собирали удивительные камешки и отшлифованные обломки зеленых, синих, коричневых и прозрачных бутылок на берегу реки. Стреляли из ружья, перевязав глаз, который не закрывался. Слушали чтение вслух. Устраивали большие карточные турниры, запоминая все расклады. Рисовали суперкрепости и генеалогические деревья. Шутили, играли словами, интонациями и языками, придумывали сюжеты и перевоплощались в разных персонажей. Грустили, ощущая приближение середины августа. Научились самостоятельно, преодолевая сопротивление веса и вала, вытаскивать из колодца полное ведро воды. Целое лето они пили только сырую колодезную воду. Хотя ежедневно съедали слишком много сыра. Кроме того, мы очень много говорили. Я с уважением воспринимал их открытия, а им было не с чем сравнить мои объяснения устройства мира.
Как и много лет назад, я переживаю страх приближения школы.
Много лет назад я придумал один ход, который значительно смягчил мое болезненное существование вне летних каникул. Додумался, что мир больше, чем лето, а расстояния меньше, чем кажется. Поэтому приезжать туда, где бывают совсем другие, невиданные времена года, можно чаще, несмотря на систему. Так зависимостью вытесняется зависимость.
Несколько дней назад дети взяли с меня обещание, что мы приедем сюда в сентябре, декабре, марте, мае. Я сказал, что обещаю.
12.Ему всего-навсего шестьдесят шесть лет. Он крепкий, ладный, элегантный, простой и изысканный одновременно, очень рациональный, достаточно видный (настолько, насколько это допускается элегантностью), светлый (то есть ясный), не слишком высокий, но гораздо выше, чем низкий, конечно – немного одинокий, умеет приспосабливаться к переменам (он умеет терпеть перемены, не отказываясь от разных радостей, которые можно отыскать даже в самых худших переменах, переменах к худшему, надеясь на то, что перемены обязательно переменятся). Его теперешние документы отвечают всем требованиям актуального законодательства, хотя и сделаны на основании не вполне признанной метрики.
История этого дома настолько символична, что, зная только ее, можно воспроизвести для себя почти полную картину происходившего на наших землях на протяжении второй половины двадцатого века, десяти лет перед ее началом и уже трех лет после завершения и второй половины, и самого века.
Дом начали строить в 1937 году. Его проектировали украинцы, строили за деньги украинцев. Деньги были тяжело заработаны в тех условиях, когда условия для зарабатывания денег у украинцев были минимальные. Строительство еще не началось, как уже нужно было преодолевать сопротивление домовладелицы-соседки, привыкшей к тому, что ее каменица крайняя в этом ряду.
Всю документацию дома должны были вести по-польски. Работники же, которые строили, были разные – городские и крестьяне, украинцы, поляки, евреи. Таким был тогда город. С одной стороны – непрерывный плотный ряд домов вдоль главной улицы, до самого ее начала, а со всех остальных сторон – пустота, сады, почти сельские одноэтажные хаты. Таким был город. Как бы то ни было, дом получил порядковый номер, который с того времени не изменился (значит, ряд был действительно плотным). Строили тогда так же быстро, как стали строить с недавних пор, и под конец 1938 года собственники поселились в собственном доме.
Через неполный год мир радикально изменился. Но новая власть еще признавала кое-какие старые права собственности, хотя и одновременно со своими. Теперь в это сложно поверить, но в те годы использовались разные польские квитанции и печати.
В сорок первом под балконами этого дома шли люди к открытым подвалам с расстрелянными, провозглашалось Украинское государство, маршировали румынские подразделения, проезжали грузовики с не накрытыми тентом убитыми евреями. Жители дома смотрели из окон и узнавали своих знакомых то тут, то там. Не хватало угля для отопления, к врачам, принимавшим в квартирах, приходили пациенты (стоматолог и акушер нужны даже в годы мировых войн) и благодарили продуктами. Вскоре начались бомбардировки. Бетонные подвалы служили бомбоубежищами, на бетонной стене выцарапывали даты и часы укрытия. Хроника доведена до самого конца только потому, что не случилось прямого попадания.
Сразу после этого пришли военные. Понятно, что штаб каких-то там войск. Заняли целый этаж, но пока война не окончилась, подписали договор об аренде. Уже по-русски. Наконец война закончилась, штаб куда-то перенесли, а дом перешел в собственность нового государства. Много раз солдаты и офицеры расквартированной в городе армии били прикладами в двери в поисках жилья. Однако очень скоро власть захватили штатские, те, что были в тылу. Именно они придумали селить своих функционеров в отдельных комнатах, доведя количество квартир до максимума. В квартиры превратили также полуподвальные помещения, комнату сторожа, лавку и прачечную. Тех, кто строил дом, уместили в одной бывшей квартире. К ним приходили следователи, их забирали в тюрьму. Несколько ночей в печах жгли особенные книги и газеты. Прошло больше десяти лет, пока подселенные советские работники нашли себе лучшие квартиры и выехали из комнат дома. Оставались те, которым оставались освобожденные помещения.
Наконец дошло до стабилизации. Сам дом постепенно приходил в упадок, но количество рожденных здесь медленно приближалось к числу умерших. Соседи становились добрыми соседями. Квартплату платили регулярно. В подъезде писали клиенты центрального водочного магазина, который разместился через улицу. Вид на горы закрыли многоэтажкой. Нетерпеливые разбирали печи. Пьяные работники ЖЭКа перед государственными праздниками проходили через квартиры и вывешивали на балконах флаги и транспаранты, под которыми на следующий день устраивались парады и демонстрации. В мастерской на первом этаже ремонтировали галантерейные изделия, с самого начала предназначенные для того, чтобы их вскоре ремонтировать. Некоторые квартиры попадали в списки всесоюзного обмена.
Вдруг в одной из квартирок открыли кооперативную кофейню. Вдруг прошла другая демонстрация. Вдруг кто-то продал свою комнатку за некоторое количество долларов. Встал вопрос о возвращении дома бывшим владельцам. Несколько лет его рассматривали в разных судах. Наконец было решено, что еще не время. А за это время квартиры продавали и приватизировали, невзирая на какой-то там мораторий. Появились новые люди, которые не слишком заботились о традициях сосуществования. На двери подъезда устанавливали замки самых разнообразных систем. Очень быстро все, что ниже второго этажа, каким-то образом заняли фирмы, магазины, частные предприятия, нуждавшиеся в расширении. В доме постоянно что-то выдалбывали, прокладывали, достраивали. В основном уничтожали несущие конструкции. Счетчики перенесли в квартиры. Лестницу сначала не мыл никто, а потом каждый стал мыть возле своих дверей. Некоторые двери становились бронированными. Двор превратился в крытое помещение. Над парадным появилось несколько вывесок. В каждой квартире что-то ремонтировали. Крыша, принадлежавшая городу, стала совершенно дырявой. Для того, чтобы ее ремонтировать, нужны были какие-то петиции, подписи и прочее.
Теперь дом вошел в фазу без истории. Здесь все распределено и функционирует максимально. Предлагаемые цены за каждую освобожденную квартиру тоже максимальные. Этот период кончится, когда уйдет еще одно поколение, которое еще без принуждения дважды в год (во второй раз – первого ноября) вывешивает государственный флаг на балконах, выходящих на центральную улицу. Сейчас она называется – Независимости. А перед тем была Советская, Гитлера, Сталина и Сапижынская. На Большой Тисменницкой этого дома еще не было.
13.Эта кухня выходит своим окном на прямоугольный закрытый двор, образованный другими частями этого же дома. Окном в окна других квартир. Окном на длинные балконы, с которых заходят в прочие квартиры. Окном на окна лестниц. Еще видно крыши всех частей дома и крышу внизу, которой перекрыли внутренний двор.
В этой большой кухне есть настоящая кухонная печь, которую когда-то тоже называли кухней. Печь действительно похожа на совершенно автономное государство – железные плиты для варки, духовка, отделение для выпекания хлеба или сушки фруктов, котел для нагревания воды, решетки для сушки мытой посуды, дверцы для выемки пепла, заслонки для регуляции дымового канала. К печи подведен газ, но так же точно она рассчитана, чтобы ее топили углем, дровами, торфом, бумагой. Такие свойства кажутся лишними, когда все хорошо. Они же оказываются спасительными в случае энергетических кризисов.
На печи, верх которой обит латунной полоской, стоят старинные весы, еще совершенно функциональные, особенно при взвешивании всяческих ингредиентов для печенья по австрийским рецептам (есть два сорта – настоящий, с максимумом высококачественных составляющих, и кризисный, когда все заменяется чем-то другим) – медовничков, рогаликов, сырников, цвибаков и маковников. Стоят ступки разного размера, несколько керамических изделий с фабрики гениального Ивана Левинского. А еще – цилиндрические флаконы, сделанные в итальянском плену из гильз разного калибра, от мортирных и гаубичных до зенитно-скорострельных.
Рядом с печью – окно в ванную.
Напротив печи – ниша, в которой теперь стоит комод, где издавна сложены разные причиндалы. Изначально эта ниша проектировалась как некий альков, где должна была спать кухарка. Рядом – двери в кладовку. В ней также есть окно, оно выходит на тот же двор. Советские холодильник, газовая плита и колонка кажутся более изношенными, чем печь, комод и пододвинутый к окну стол с вмонтированным ящиком – двумя цинковыми емкостями для мытья посуды. За этим столом едва помещаются пять человек, которые завтракают, обедают или ужинают одновременно. Однако в кухне могут спокойно разместиться множество гостей, когда они пьют, слушают музыку и едят печеную картошку с квашеной капустой. Эта кухня служит гостиной, столовой, кабинетом, поэтому во всех прочих комнатах разве что спят.
Недавно в кухне появились вещи, которых тут никогда раньше не было. Они придают помещению некую эклектичность. Два кресла из берлинского рейхстага и увядший гладиолус. Эти вещи – напоминания о последнем месяце, за который ушли двое соседей, напоминания о двух соседях, которые ушли за последний месяц.
Кресла подарила старенькая женщина, которую, несмотря на возраст, нельзя назвать бабкой. Гречанка, рожденная в Нью-Йорке в начале прошлого века. Каким-то чудом она оказалась в советской России, ее хотели расстрелять, но чекист, который должен был это сделать, очаровался красотой и, словно по средневековому праву, предложил женитьбу вместо смерти. Потом они жили в военных городках, потом – он взял кресла из рейхстага, потом – был комендантом какого-то оккупированного немецкого городка. Уже после того его прислали в наш город бороться с украинско-немецкими буржуазными националистами. Через несколько десятилетий гречанка освободилась, потому что стала вдовой. Большую часть дней в году она работала на огороде, который одновременно был и садом. А в другие дни приносила на эту кухню подарки в виде переработанных плодов огорода и сада. Потому что так понимала соседство. Сложно было себе представить, что бы она еще делала, если б окна кухни не выходили на ее окна. И все же для того, чтобы хоть приблизиться к пониманию чужой жизни, увиденного мало, не хватает по крайней мере звуков. Слишком много значений и определений остаются недослышанными.
Совсем недавно она уехала куда-то на юг к морю. Кто бы мог такое ожидать. А перед отъездом принесла на кухню кресла из рейхстага. Никто не мог ожидать такого.
Увядший гладиолус был просто пятым в букете. Говорят, что умершим нельзя приносить нечетное количество цветов. Об этом соседе можно было бы много хорошего рассказать, если бы главная тема разговоров с ним не была такой важной. Сосед был ученым-медиком, много лет исследовавшим болезнь Ивана Франко (есть такая почти детективная методика, которая позволяет это делать, несмотря на удаленность во времени). Он очень хотел, чтобы все знали, что Франко болел артритом и умер от артрита. Оказывается, это многое объясняет.
Хозяин сидит на кухне. Он ощущает пустоту за окном в окнах напротив. Скоро он отдаст кому-нибудь кресла из рейхстага и выбросит гладиолус. Они делают его кухню несколько эклектичной.
Он понимает, что истории некоторых вещей – это притчи, почти полностью вразумительные. Нужно только закончить последние предложения.
14.Всегда считал себя человеком, у которого нет настоящей потребности что-то писать. То, что писал, писал не потому, что не мог не писать, а потому, что почему бы и нет. Когда уже писал, то всегда чувствовал несовершенство написанного. Всегда предпочитал это кому-нибудь рассказать, потому что знал, что рассказ будет гораздо ближе к моему пониманию совершенной литературы, чем написанное. Впрочем, никогда не чувствовал и не называл себя настоящим писателем. Возможно, потому, что люди, с которыми больше всего находился и которых больше всего люблю, совсем не нуждались в этом признаке во мне.
Поэтому так диковинна ситуация, в которой теперь оказался. Несколько месяцев я должен жить в одной из краковских вилл, занимаясь только писанием того, что бы мне хотелось. Таких идеальных условий для письма не было еще никогда в жизни, как никогда в жизни (за исключением воинской службы) не был также так долго вне дома.
Конечно, в первую неделю ни о каком писании речи не шло. Я же впервые был в Кракове больше, чем два дня. Можно и нужно было наслаждаться городом, переживать его переживания, проживать свои переживания в нем. Смотреть, ходить, наблюдать и слушать. А главное – находить и запоминать подобия, отмечающие самую важную инаковость, и отличия, которые сводят все к тождеству.
В городском парке живет много сов. Рядом – конюшня с лошадьми. Немного дальше – почти ворохтянско-татаровская резная веранда с крышей, бывший тир для общества стрелков. Ночной клуб в квартире на втором этаже многоэтажки (днем железные жалюзи закрыты, так что можно созерцать какую-то турецкую красавицу, на них прилепленную). Гигантское поле, на котором ни деревца, уже ближе к пригороду. Район настолько хороший, что во Львове или Франковске на этом поле уже поместилось бы целое гетто домов улучшенной планировки. Однако это поле неприкосновенно, потому что по случаю 350-летия битвы под Веной вождь державы именно здесь принимал парад двенадцати кавалерийских полков одновременно. Теперь здесь выгуливают собак и мальчишки носятся на велосипедах. Красивые девушки, из тех, что в наших краях не решились бы в своих элегантных плащиках усесться на велосипед, ездят по дорожке вдоль поля.
На скамейке возле университета каждое утро сидят все те же двое пьяниц. Каждое утро они говорят о философии и метафизике. Размышляют о том, может ли Бог напиться, если б этого захотел.
Потом вся эта главная площадь, костелы и каменицы, а хуже всего – толпы немецких туристов, которые интенсивно фотографируются на фоне того, чего совсем не понимают. А более молодые немцы просто напиваются. Чтобы напиться, им достаточно пару крепких пив (главным образом «Татра», слоган «лучшее пиво с наших гуральских гор» написан на таком неправильном польском, что такое же по-гуцульски в Киеве воспринималось бы как нечто сербское или македонское).
На Вербное воскресенье там всё больше похоже на Иерусалим. Никаких верб. Только пальмы. Так называются палочки, удивительным образом обмотанные разными колосками и сухой зеленью, что действительно напоминает какую-то срубленную маленькую пальмочку.
В книжном я наконец-то осмелился (потому что никого из знакомых там не было) посидеть на диване, попить кофе и просмотреть Кама Сутру в фотографиях. Не менее приятно видеть на полках несколько томов украинских романов.
Еще есть кафе «Визави». Когда-то оно было знаменито тем, что служило центром оппозиции, еще в восьмидесятых, во времена военного положения, от которого они так удачно избавились, несмотря на лагеря интернированных, убийство Попелюшко, польские (!!!) танки на улицах польских городов, официальные теленовости (их читали дикторы в военных мундирах, а большинство телезрителей демонстративно выходили на эти полчаса целыми семьями на прогулку). В том же баре пили и офицеры тогдашней службы безопасности (пили почему-то не больше, чем пятьдесят, но семь-восемь раз за день). Теперь барменом там человек, заочно проходящий высший курс украинистики. Переводит с украинского, а на рабочем месте безошибочно определяет, кто из посетителей – украинский поэт, прозаик или эссеист.
Нужно еще успеть зайти в какую-нибудь действительно польскую продуктовую лавочку и купить литр вишневого крепкого вина, потому что скоро Европа его запретит.
Я снова возвращаюсь на ренессансную виллу. Вокруг только совы и лошади. Почему-то не чувствую никакой радости от всех городских переживаний. Разве что усталость молодого Бонапарта, который – хорошо помню это со школы – имел слабость изучать все закоулки каждого города, в котором приходилось бывать, потому что вдруг придется их еще и штурмовать.
И тогда снова оказывается, что трудности – только в деталях. Все самое важное чрезвычайно простое. Видя сложные детали, которые могли бы дарить наслаждение, не имею лишь одного. Не хватает только самого важного. Обо всем этом просто обязательно нужно кому-нибудь хотя бы рассказать, раз не с кем совместно наблюдать.
Появляется первая мотивация к письму.
Примечания
1
Яливец – Yuniperus, можжевельник, вечнозеленое растение семейства кипарисовых, давшее название городу и кинотеатру в нем (здесь и далее примечания переводчиков).
2
Вижлунка – вещунья, провидица.
3
Гадерница – повелительница рептилий.
4
См. прим. на стр. 12.
5
Жереп – горная сосна.
6
Флояр – музыкант, играющий на флояре (многотрубочной пастушьей свирели).
7
Трембитар – музыкант, играющий на трембите (деревянной трубе до трех метров длиной).
8
Дрымба – щипковый музыкальный инструмент, аналог варгана.
9
Гражда – строение по периметру открытого двора.
10
Смерека – канадская ель.
11
Латы – столбы.
12
Ворынье – ограда из длинных жердей, прибитых к столбам.
13
Заворотницы – жерди в ограде, которые раздвигаются.
14
Черес – кожаный пояс.
15
Постолы – мягкая обувь из цельного куска кожи.
16
Гачи – красные суконные штаны.
17
Оборог – сооружение из четырех столбов с подъемной крышей для сберегания сена.
18
См. прим. на стр. 29.
19
Писанки – расписанные куриные яйца.
20
Нотар – нотариус.
21
Пугарчик – рюмочка.
22
НТШ – Научное общество им. Т. Шевченко.
23
Верхоблюд – знахарь-визионер.
24
Баильник – знахарь, излечивающий заговорами.
25
Капшук – мешочек для табака, сделанный из козьей шкуры.
26
Бартка – гуцульский топорик на длинной рукоятке.
27
Бербеница – кадушка для брынзы.
28
Бойки, лемки – малые народности Карпат.
29
Четарь – командир четы (отделения), прапорщик.
30
Офензива – наступление.
31
Кулеша – кукурузная каша.
32
Опрышки – разбойники.
33
Лилики – летучие мыши.
34
ЗУНР – Западная Украинская Народная Республика.
35
Костур – посох, костыль.
36
Юра – День св. Георгия (6 мая).
37
Пляцки – картофельные оладьи.
38
Банно – грустно.
39
Жентица – сыворотка из овечьего молока.
40
Гуслянка – простокваша из пареного молока.
41
Вурда – вареный невыдержанный сыр.
42
Будз – свежий овечий сыр.
43
Ровер – велосипед.
44
Сегед – город в Венгрии.
45
Нанашка – крестная мать; здесь – атаманша сегедской мафии.
46
Паперивка – сорт ранних яблок.
47
Пструг – форель.
48
Тартак – лесопилка.
49
Йордан – Крещение.
ОглавлениеНепрОстыеШестьдесят восемь случайных первых фразХронологическиПисьма к Бэде и от негоГенетическиПервая старая фотография – единственная недатированнаяФизиологическиХодить, стоять, сидеть, лежатьСитуации в колоритеВторая старая фотография – Арджэлюджа, 1892Искушения святого АнтонияЧрезмерные дниТретья старая фотография – разве что в ЛяруссВоображаемые войны – короткоНепрОстыеГоворить или перестатьТридцать лет семьи С.НепрозаИмей красивый бай (например)Если по карте (легенда)СемьИз этого можно сделать несколько рассказовКак я перестал быть писателем1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.


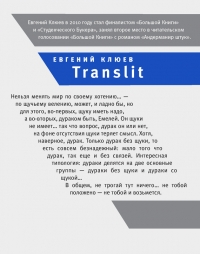




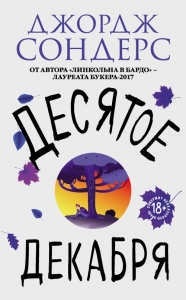


Комментарии к книге «НепрОстые», Тарас Богданович Прохасько
Всего 0 комментариев