В каждом писателе живет страдающий ребенок. Этот пронзительный роман, в котором переплелись прошлое и настоящее, Европа и Америка, история и частная жизнь, построен как опера для четырех детских голосов; в нем Нэнси Хьюстон приоткрывает перед читателем сокровенную суть своего творчества.
«Нувель обсерватер»ЛИНИИ РАЗЛОМА
Посвящается Тамии и ее песням
Что это было: такая способность возгораться и удивляться, и невозможность поступать иначе, и ощущение, будто из самых глубин накатывает сладостный, сияющий прилив слез? Что же это было?
Райнер Мария РилькеI. СОЛ, 2004
Вот оно, пробуждение.
Словно кто-то нажал на кнопку выключателя, и комнату залило светом.
Стоит мне проснуться, и я уже заряжен, до отказа пронизан беспокойным током, моя голова, мое тело — все готово действовать, мне шесть лет, и я гений — первая утренняя мысль.
Мой мозг объемлет весь мир, а мир заполняет мою голову; я все держу под контролем и повелеваю каждой молекулой мироздания.
Ранним утром в Вербное воскресенье нас навещает ПРА.
Мама и папа еще сонные, все озарено солнцем, солнце, солнце, король-солнце, солнце.
Сол, Солли, Соломон.
Я — поток мгновенно вспыхнувшего невидимого сияния, с властительной легкостью освещающего самые темные уголки Вселенной, в свои шесть лет я способен все видеть, озарять и понимать.
Быстрее молнии я умываюсь, одеваюсь, застилаю кровать. Мои вчерашние носки и трусы уже в корзинке для грязного белья, через день-два мама их выстирает, высушит, выгладит и, готовые послужить снова, положит на место в верхний ящик моего комода. Это у нас называется «цикличностью». Все циклы контролируются и временами критически переосмысляются. Например, цикл питания. Пища совершает круговорот в нашем теле и становится нами, а значит, надо очень внимательно относиться к тому, чему мы позволяем проникнуть в нас, а что должно оставаться снаружи. Я — особый случай: мне не положено напихиваться невесть чем; на выходе мои какашки должны иметь здоровый цвет и хорошую плотность, все это тоже часть круговорота.
Вообще-то я никогда не хочу есть, и мама очень хорошо понимает это; она дает мне только такую еду, которая приятна и круговороту не препятствует: йогурт, сыр, макароны, а еще арахисовое масло и хлеб из разных злаков; а на всем том, что относится к разделу «овощи-мясо-рыба-яйца», мама не настаивает; она говорит, я сам к этому приду, когда появится желание. Она делает мне сандвичи с майонезом, прежде обдирая корки, чтобы от хлеба оставался один мякиш, но я все равно съедаю только половину или четверть, мне хватает. Я откусываю крошечные кусочки мякиша, подержав во рту, смачиваю слюной, а после языком проталкиваю их в зазор между губами и деснами, они там сами потихоньку растворяются, потому что, в сущности, мне неохота их глотать. Важно одно — чтобы голова не отключалась, держать ее наготове, остальное приложится…
Папе хотелось бы, чтобы я ел, как все нормальные американские мальчики моих лет. Он задается вопросом, что я буду делать в школьном буфете, когда осенью пойду в школу, но мама говорит, что каждый день будет приходить за мной, чтобы я обедал дома, разве не в этом предназначение матери, хранительницы домашнего очага?
Бог дал мне это тело и этот разум, о которых я должен наилучшим образом заботиться, чтобы извлечь из них как можно больше пользы. Я знаю, что у меня высокое предназначение, иначе Он не позволил бы мне родиться в богатейшем штате самой богатой страны мира, располагающей самым совершенным вооружением, способным в одно мгновение уничтожить весь род людской. К счастью, Бог и президент Буш — в крепкой дружбе. Рай представляется мне большим штатом Техас, что раскинулся на небесных просторах, с Господом, снующим в стетсоновской шляпе и ковбойских сапогах из конца в конец: Он следит, все ли под контролем, время от времени забавы ради постреливая в планету из укрытия.
Когда Саддама Хусейна вытащили наконец из его крысиной норы, у него были жирные волосы, свисающие грязными патлами, гноящиеся глаза в кровавых прожилках, впалые щеки и спутанная борода. Тут папа, сидевший перед теликом, аж завопил от радости: «Вот разгром так разгром! И так будет со всеми этими грязными арабами-террористами, со всеми до последнего!» — «Рэндл, — заметила мама, ставя перед ним поднос со стаканчиком ледяного пива и пиалу с арахисом, — думай, прежде чем говорить. Ты же не хочешь внушить Солли, что все арабы — террористы, ведь правда? Уверена, что среди них есть очень приличные люди, даже здесь, в Калифорнии. Вот я только не знаю никого из них лично». Она произнесла все это словно бы в шутку, но то была чистая правда. Папа отхлебнул пива и кивнул:
— Ну да, Тэсси, прошу прощения, ты совершенно права, — сказав так, он довольно громко рыгнул; мама решила истолковать это как шутку и рассмеялась.
У меня потрясающие родители, они все еще друг друга любят, большинству ребят в моем детском саду такое и не снилось. Что они не разлюбили друг друга, видно по фотографиям в рамочках и поздравительным открыткам времен их свадьбы, еще красующимся на буфете, а ведь они поженились целых семь лет назад! Притом мама на два года старше папы; мне трудно смириться с этим, но ей уже тридцать, правда, некоторые дети из нашей группы школьных приготовишек имеют мамаш, которым за сорок, а родительнице моего приятеля Брайана — все пятьдесят, она старше моей бабушки Сэди. Значит, она родила его в сорок четыре года, это отвратительно, в голове не укладывается, как люди могут трахаться, если они старики. Ну да, я знаю, откуда берутся дети, мне известно все.
По правде говоря, это бабуля Сэди выбрала мне имя. Она всегда жалела, что не назвала когда-то моего отца еврейским именем, так что в следующем поколении не пожелала упустить свой шанс, а мама сказала, что не против. Она человек очень уступчивый, ей хочется одного: чтобы все друг с другом договорились, да и нет сомнения, что Сол — имя не только еврейское, но и христианское.
Влияние бабушки на мою жизнь этим и ограничилось, потому что она, к счастью, живет далеко от нас, в Израиле, я ее почти никогда не вижу. Я говорю «к счастью», потому что мой отец очень ее не любит, но в то же время и боится, не решается всерьез воспротивиться ей, так что всякий раз, когда она приезжает, возникает уйма разных натяжек и затруднений, мою мать это ужасно тяготит. Но стоит бабуле Сэди выйти за порог, папа вдруг становится жутко храбрым, начинает ее критиковать, она ведь так любит командовать, вечно вмешивается в то, что ее не касается. Однажды он сказал даже, что его возлюбленный отец Эрон, непризнанный драматург, именно по ее вине умер в возрасте сорока девяти лет; мама возразила, что это нелепо, Эрона убило его пристрастие к сигаретам, а вовсе не супруга, но папа сказал, что существует очевидная связь между раком и подавленным гневом, только я не совсем понял, что это значит — «подавленный».
Мой отец тоже жил в Израиле, когда был в моем возрасте, и так полюбил город Хайфу, что из всех мест, где мог бы поселиться в Соединенных Штатах, выбрал Калифорнию, ее эвкалипты, пальмы, апельсиновые плантации и цветущие кустарники напоминали ему о добрых старых временах. И арабов он невзлюбил тоже там, в Израиле, а все из-за девочки, в которую он тогда втрескался, но что именно произошло, я не знаю, потому что каждый раз, когда об этом заходит речь, он съеживается и замолкает, даже для мамы эта его любовная история так и осталась тайной.
Бабуля Сэди, в отличие от прочих членов нашей семьи, во-первых, инвалид, во-вторых, правоверная иудейка. Она носит парик, потому что один только муж имеет право видеть волосы правоверной иудейки, ведь в противном случае другие мужчины могут соблазниться и, презрев священные узы брака, захотят ее трахнуть. Если принять в расчет, что она вдова и разъезжает в инвалидном кресле, сомневаюсь, что кто-либо возжелает и трахнет ее, однако же парик она не снимает. Говорят, один раввин из Флориды приказал правоверным еврейским женщинам больше не носить париков, сделанных из волос индианок, потому что в Индии поклоняются богам о шести руках или с головой слона, индианки вконец осквернены тем, что молятся таким божествам, и эта скверна передается еврейкам, носящим их волосы, стало быть, раввин велел им «незамедлительно» купить новые парики из синтетических волос, но бабуля сказала, что это он хватил через край.
Инвалидное кресло — следствие давней автомобильной аварии, но бабушке это не мешает колесить по свету. Она повидала больше разных стран, чем все остальные члены нашей семьи, вместе взятые. Ведь она знаменитый лектор, да еще дочь самой Эрры — это моя ПРА, то есть прабабка, известная певица, а мой отец вскоре станет знаменитым военачальником в Ираке, так что мне осталось решить, в какой именно области я намерен прославиться, но тут проблем не возникнет, слава у нас в роду, она передается по наследству.
Моему отцу в детстве не повезло, его мать только и делала, что моталась по городам и весям, выступая во всех мыслимых университетах, зато у меня замечательная мама, она решила сидеть дома по собственному свободному выбору, а вовсе не потому, что такова женская доля, как думали в старые времена. Ее имя Тэсс, но я зову ее мамой. Конечно, все дети так называют своих родительниц, но когда иной раз в парке какой-нибудь малыш крикнет: «Мама!» и моя мать оглядывается, думая, что это я, мне кажется невероятным, что можно так обознаться. «Да нет же, — говорит она, — это как со звонками мобильников. Если чей-то позвонит, как твой, невольно вздрагиваешь, хотя тут же понимаешь — ах нет, это не тебе».
Как мобильник? Ну уж нет! Мой голос — это МОЙ ГОЛОС. Я уникален.
В старшей группе детского сада я всем пускаю пыль в глаза своим умением читать. Мама научила меня этому, когда я был еще совсем крохой. Я тысячу раз слышал ее рассказы о том, как она подходила к зарешеченной кроватке, где я спал, и показывала мне учебные картинки, читая подписи под ними, каждый день по три двадцатиминутных сеанса, практически с самого моего рождения, так что читать и говорить я научился одновременно, я даже вспомнить не могу той поры, когда еще не умел читать. Мой словарный запас не просто богат, он ошеломителен.
В будние дни папы с утра до вечера нет дома, он ведь тратит больше двух часов на дорогу до Санта-Клары и обратно, у него там очень важная работа — он устанавливает компьютерные программы и получает роскошное жалованье, благодаря которому мы стали семейством с двумя автомобилями: «У нас больше машин, чем детей!» — иногда посмеиваются они оба, ведь мама росла в доме, где детей было шестеро, а автомобиль один! Как истая католичка, моя бабушка не имела права на планирование семьи, вот и рожала без остановки, пока все семейство не впало в самую грязную нищету. Что до отца, его воспитывали по еврейским обычаям, поэтому, когда они с мамой влюбились друг в друга, было решено пойти на обоюдный компромисс. Они поладили, избрав в качестве общесемейной церкви протестантскую, что дало им право на планирование. По сути это означало, что супруга принимает таблетку, а муж может трахать ее, сколько захочет, не рискуя засадить ей в живот младенца, так и вышло, что я у них единственный. Маме хотелось бы когда-нибудь родить второго ребенка, и папа говорит, что через годик-другой они, вероятно, смогут себе это позволить, но сколько бы детей ни было в нашем доме, я конкуренции не боюсь. У Иисуса тоже была целая куча братьев, о них никто и не вспомнит, просто потому, что он не имел себе равных.
Раз в месяц отец ходит на сборище: там мужья решают вопрос, как остаться мужчиной в эпоху, когда женщины работают. Уж не знаю, зачем ему эта группа, если учесть, что мама не работает; так или иначе, каждый из них поочередно садится на скамью — перед всеми, словно подсудимый, — и рассказывает, какие у него проблемы. После этого он должен следовать рекомендациям группы, а кто ее советов не слушается, тех очень высокопарно порицают. Иногда группа в полном составе отправляется заниматься каким-либо исключительно мужским делом, к примеру долго идти куда-нибудь пешком, говорить грубые слова, спать под открытым небом и терпеть комариные укусы, потому что мужчины выносливее женщин.
Я и вправду очень рад, что родился мальчиком, а не девочкой, ведь с мальчиками куда реже случается, что их насилуют; конечно, у католиков с этим иначе, но мы-то не католики.
На одном жутко плаксивом сайте, куда я однажды попал случайно, когда разыскивал в Google кадры войны в Ираке, можно увидеть, как сотни девушек и женщин подвергаются ни за что ни про что грубому насилию, прямо перед камерой, причем, если верить надписям, их так мучают взаправду. Да и с виду не похоже, чтобы все это их забавляло, особенно когда им затыкают рот и связывают. Иногда при этом мужчины не только целуют их в губы, в вагину или анус, но и угрожают откромсать им соски ножами для резки картона, хотя там ни разу не показали, что они вправду такое проделали, так что это, наверное, блеф. Мохамед Атта и другие террористы 11 сентября использовали такие же ножи, чтобы самолеты врезались в башни, мне тогда было три года, я прекрасно помню, как папа подозвал меня к телевизору, чтобы я увидел, как башни на экране снова и снова рушатся, а сам все бормотал «Сволочи арабы!» и пил пиво.
У меня в комнате есть мой собственный маленький компьютер, он стоит на письменном столе среди плюшевых игрушек, книжек с картинками, подарков от ПРА и других членов семьи; на стенах мои рисунки, сделанные в детском саду, они приклеены липкой лентой «Волшебный скотч», которая легко отдирается от раскрашенной бумаги, не портя ее; а еще там есть три буквы моего имени — «С», «О» и «Л», они большие, из дерева, на колесиках, мама тщательно оклеила их золотой фольгой, чтобы они искрились и блестели. Собственный компьютер с набором игр — хорошее занятие, когда я остаюсь совсем один, ведь у меня нет ни братьев, ни сестер, родители в основном для этого мне его и купили: чтобы я не страдал от одиночества. Я могу играть в «скрэббл», в шашки, в крестики-нолики, еще во множество идиотских электронных догонялок для детей, где, к примеру, люди карабкаются на стены, а в них стреляют, и, если попадут, игре конец. Но так как моя комната рядом с родительской, а я умею ходить на цыпочках, причем совершенно бесшумно, мне легко включить мамин компьютер, пока она занята внизу на кухне, войти в Google и узнать обо всем, что происходит в реальном мире.
Мой разум необозримо огромен. Когда тело в чистоте, а пища в нем циркулирует, как положено, я могу поглощать любую информацию. Я обжираюсь Google, становясь президентом Бушем и Господом Богом одновременно. Если верить папе, слово «googol» было когда-то самым большим числом, какое только можно вообразить — единицей, сопровождаемой сотней нолей, в наше время это воспринимается почти как бесконечность. Достаточно загрузить нужный адрес, чтобы увидеть, как насилуют девушек в вагину и анус, причем делают это не только люди, но лошади, собаки и кто угодно еще. Клик-клик-клик — сперма скотов брызжет в их улыбающиеся рты. Мама своим компом пользуется не часто, а поскольку она напевает, чиркая по полу пылесосом, ей нипочем не услышать, как я, улыбаясь, кликаю правой рукой, в то время как левой ласкаю себя, засунув ее между ног. Мое воображение разгоняется во всю прыть, мой желудок почти пуст, и весь я — машина, раскаленная до кипения. Даже если мне этого нельзя, так легко разом стать двумя или сотней существ, чтобы не сказать зверей, и когда все это тщательно проконтролировано, хронометрировано и структурировано, дело идет как нельзя лучше.
Неужели и папа тоже когда-то…?
Я мальчик…
Какая удача…
Еще я обожаю кликать на трупы иракских солдат, валяющиеся на песке, — настоящая диапорама. Иногда даже не разберешь, что там такое, какие части тел. Туловище, может быть? Или нога? Они закутаны в обрывки старой одежды, занесены песком, песок впитал их кровь, все это такое высушенное на вид. А вокруг стоят американские солдаты, смотрят так, будто хотят сказать: ладно, от этих мы избавились… неужели вот это в самом деле еще недавно называлось человеческим существом?
Когда я был маленьким и мой отец работал здесь рядом, в Лоди, в конторе, где жалованье похуже, зато не надо было каждый день тратить четыре часа на дорогу туда и обратно, он каждый вечер укладывал меня спать, пел мне колыбельную, шлепал, чтобы рассмешить, так же, как некогда делал с ним его папа. Теперь, когда он возвращается с работы, я уже сплю, так что песен он мне больше не поет, но я знаю, что он любит меня по-прежнему, просто ему приходится невероятно много работать: надо поддерживать приличный уровень жизни и выплачивать ипотечный кредит за дом с двумя гаражами в одном из самых престижных жилых кварталов здешних мест. Мама говорит, я могу им гордиться.
Помню, в ту пору, когда он еще пел, одной из моих любимых песен была та, что называлась «Иссохшие кости»:
Ие-зе-ки-иль возопил: «Эти кости сухи!» Ие-зе-ки-иль возопил: «Эти кости сухи!» Ие-зе-ки-иль возопил: «Эти кости сухи!» О, внемлите глаголу Господню! Кость стопы, а за нею и голени кость, С костью голени рядом и остов колена, Кость колена приделана к кости бедра…Напевая, он легонько похлопывал меня ладонью сперва по подошвам, дальше — выше, добираясь до самого темени, и его голос с каждой строкой песни тоже повышался на полтона, потом стремительно спускался обратно — и по моему телу, и голосом по нотам. Я это обожал, и теперь всякий раз, когда вижу мертвых иракских солдат или фотографии тел, разорванных на части в автокатастрофе, я вспоминаю ту песню и думаю, что вот такая штука, она просто-напросто «непоправима», сам Бог не сможет их починить, когда они прибудут на небеса. Этот торс — он какой есть, без всего остального. Эта кость голени — она ни с чем не рядом, или надо сказать «рядом с ничем»? В этом есть что-то грустное, ведь когда ты маленький и смотришь по телику стародавние мультяшки, там персонажи вроде Тома и Джерри, Багза Банни или Роуда Раннера могут хоть сто раз умирать: они срываются с вершины скалы и распластываются на шоссе, словно блины, их давят в лепешку огромные камни, их перемешивают с раствором бетона, их терзают и кромсают в электрических вентиляторах, а через пару секунд они уже опять целехоньки и готовы к новым приключениям. Но ведь ясно, что для иракских солдат пора приключений минула раз и навсегда.
Мама против насилия. Она очень позитивный человек, это точно, и я не считаю нужным разрушать ее иллюзии. Она контролирует все, что я смотрю по телевизору, так что «Покемона» мне можно, а «Инуяшу» нельзя, «Медведей Гамми» она разрешает, «Симпсонов» — нет. Что до кино, она говорит, для «Гарри Поттера» и «Властелина колец» я еще мал, это уж вовсе ни в какие ворота! Помню, когда Диана, моя подружка из детского сада, на мой пятый день рождения принесла мне DVD с «Бемби», мама даже это не разрешила посмотреть: боялась, что гибель мамы-оленихи меня травмирует. Она думает, я слишком мал, чтобы осознать, что такое смерть, вот я и стараюсь ее поберечь. На той неделе мы увидели в канаве мертвого воробья, так она принялась гладить меня по головке, шепча: «Не пугайся, мой ангел, он теперь с Господом на небесах», а я зарыдал, цепляясь за ее ногу, чтобы моя слабость придала ей мужества.
Для нее Арнольд Шварценеггер всего лишь губернатор Калифорнии. Она не видела ни одного фильма с ним, я же благодаря моему другу Брайану или, скорее, его родителям, у которых в полуподвале, в зале для игр, полным-полно старых видеокассет, видел трех «Терминаторов», потом «Стирателя» и еще «Возмещение ущерба». У них есть и полный набор «Звездных войн», и «Годзилла», это как римейк или, вернее, предвосхищение 11 сентября, там тоже рушатся небоскребы Манхэттена и ньюйоркцы в панике мечутся туда-сюда, крича и плача. Все это можно смотреть, сколько влезет, потому что мама Брайана не то что моя, она не хранительница очага, а ее беби-ситтер тоже не против, ведь в это время она может лакировать себе ногти на ногах и болтать по мобильнику с дружком. Шварценеггер неподражаем, он как робот, непобедим и неуязвим, если его человеческому телу нанести рану, ему ничего не стоит вскрыть себе руку скальпелем или вырвать собственный глаз, так что и мне незачем особенно тревожиться насчет операции по удалению родинки, назначенной на июль.
Папа далеко не атлет, его и спортивным не назовешь, но летом он все же играет с соседями в бейсбол. И принимает его очень всерьез, потому что это одно из тех занятий, которые он разделял со своим отцом, когда они жили на Манхэттене. Он купил мне игру, которая называется «Бейз»: ставишь пластиковый мячик на подставку и, приноровясь, ударяешь по нему пластиковой битой, потом кто-то бежит и подбирает мяч, и все начинается сначала. Когда папа уходит на свой бейсбол, мама играет со мной в «Бейз». Иногда ее подруги удивляются, видя, как она двести раз подряд бегает за мячом, да еще всякий раз восклицает: «Браво, Сол! Хорошо сыграно!» Они думают, что ей это наверняка очень скучно, но я-то знаю, что все не так, здесь дело в ее материнской любви. Вместо того чтобы превозносить перед своими приятельницами мое славное будущее, она только пожимает плечами и говорит: «Пустяки! Это мой моцион!»
Этой осенью я пойду в школу и намерен все прилежно слушать, записывать и получать блестящие оценки, но носа не задирать: другим пока незачем догадываться, что я король, Уникальное Светило и Единственный Сын, меня породили Google и Господь, я бессмертное и всемогущее дитя Сети. Если перевернуть WWW, получится МММ: кроме Моей Магической Матери, которой я позволил это заметить, никто не подозревает всего блеска, светозарности, лучистости моего мозга, который в свой час преобразится в спасителя Вселенной.
Мой единственный недостаток — родинка на левом виске. Она большая, с двадцатипятицентовую монету, круглая, выпуклая, коричневая и покрыта пушком. Ничтожная мелочь, но коль скоро тело — храм духа, малейший порок на виске Соломона недопустим и должен быть устранен, а потому мама посетила хирурга и условилась об удалении родинки в июле. Папа немного поворчал, но он к тому времени, по всей вероятности, уже отбудет в Ирак.
Собственно, война в Ираке закончилась около года назад, но там полно американских солдат, их еще то и дело убивают. Что приводит папу в бешенство всякий раз, когда он об этом вспоминает, тогда мама старается незаметно сменить тему, направить его мысли на что-нибудь приятное. «Нет смысла так яростно ополчаться против того, чего не можешь изменить, Рэндл, — говорит она ему. — Каждый на своем уровне делает то, что в его силах, чтобы обеспечить безопасность в мире. Президент делает свою работу, ты — свою, я — мою».
Мамина работа состоит в том, чтобы обеспечивать мою безопасность, и я верю, что наш дом — самый надежный на планете. Он создан для того, чтобы вселять в ребенка уверенность, — мама объяснила мне это месяц или два тому назад. (Она всегда твердо стоит на том, чтобы все мне объяснять, притом как можно более полно, ясно и честно, и, когда она мне что-нибудь говорит, это тотчас и навсегда становится моим убеждением, таким же глубоким и основательным, как если бы я сам его выдумал.)
— Тут вопрос обычного здравого смысла, — сказала она мне. — Если мы хотим тебя уберечь, что нам делать? Как по-твоему?
Я попробовал догадаться:
— Надевать на меня плащ, когда дождь идет?
Похоже, это был не слишком удачный ответ, но папа превратил все в шутку:
— Плащ и впрямь лучше надевать, когда дождь идет, чем когда он стоит.
— Нет-нет, — сказала мама, не обратив внимания на папину остроту. — Я говорю не о погоде, а о доме. Все было сделано для того, чтобы он стал для тебя совершенно безопасным приютом.
— Да, но нет веры, что это так уж верно, — сказал папа, — хотя и неверно было бы уверять, что совсем неверно. Как тут верить с полной уверенностью?
Мама посмеялась, ведь папа пытался быть остроумным, но в этом смехе сквозил намек, что хватит уже перебивать ее; потом она перечислила мне все меры, предпринятые ими ради моей безопасности. К примеру, они сделали все электрические розетки с заслонками, чтобы я не мог сунуть туда пальцы и не погиб ужасной смертью, когда волосы встают дыбом и глаза вылезают из орбит, как у кота из мультяшки или как у того преступника, которого президент Буш отправил на электрический стул. Они закрепили на каждом углу стола и кухонной стойки пластиковые закругленные уголки, чтобы я не мог об них ушибиться и меня не увезли в больницу на «скорой» с ужасной раной на голове, чтобы я не писал кровью и не ходил потом со шрамами от швов, чтобы родителям не пришлось стоять у моего изголовья и рвать на себе волосы от страха за меня и от чувства вины. Еще они поставили блокировку на тумблеры кухонной газовой плиты, чтобы я не мог по неосторожности обжечься, сунув руку в пламя, или подпалить занавеску, отчего может сгореть целый дом, а я сам тогда превратился бы в маленькую груду обугленной плоти, как иракский солдат, среди дымящихся руин нашего дома, и все это как раз тогда, когда папа только-только подписался на второй ипотечный кредит. Даже сортир был переоборудован так, чтобы, когда я писаю, сиденье унитаза не могло захлопнуться, ушибив мой пенис, ведь это наверняка было бы ужасно больно. А когда мне нужно покакать, я должен обязательно позвать маму, чтобы она со всеми предосторожностями отцепила крючок и водворила сиденье на место.
Мама знала все эти вещи благодаря тому, что посещала курсы под названием «Родители и дети». Там рассказывали не только про то, как обезопасить дом, но и о множестве других вещей, к примеру как надо уважать собственных детей, выслушивать их, а не обращаться с ними, будто со слабоумными, как было принято в старину, но, должен сказать, мама никогда не считала меня слабоумным. У нас с ней все почти как у Марии с Иисусом: Мария никогда не притесняла своего сына, ибо она ведала, что ему уготован священный жребий, поэтому она лишь оберегала и вдумчиво лелеяла глубоко в сердце все связанное с ним. Но есть разница, притом значительная: кто-кто, а я отнюдь не намерен окончить свои дни, приколоченный гвоздями к кресту, это уж будьте уверены.
Когда настает время спать, мама всегда приходит к моей постели, чтобы вместе со мной помолиться. Каждый вечер мы придумываем новую молитву: можно попросить милостивого Господа установить мир в Ираке и сделать так, чтобы иракцы уверовали в Иисуса, а можно проявить особую заботу о здравии и благоденствии своих близких или возблагодарить Создателя, что послал нам для проживания такой приличный квартал. Молитва — это что-то вроде приватной беседы с Богом, и хоть его ответов не слышишь, надо крепко в них верить.
«Для меня ты — самое драгоценное, что есть на свете», — сказала мне мама однажды вечером, перед тем как покинуть мою спальню.
— Драгоценнее, чем папа? — спросил я.
— О! Это нельзя сравнивать! — засмеялась она, и я не понял, что означал этот ее смех, однако у меня сложилось впечатление, что она имела в виду «Да». Я подумал, что она, в сущности, считает папу добытчиком хлеба насущного для семьи и умельцем, способным сделать все, что потребуется в доме; они обсуждают важные вещи вроде трат на новую кухню, но в то же время она отлично видит его недостатки. Папа из тех людей, которые порой каким-то странным, непредвиденным образом слетают с катушек. К примеру, однажды, это было в прошлом октябре, мы все втроем отправились в национальный парк Секвойи, был чудесный осенний день, мы в прекрасном настроении шагали по дороге, взявшись за руки. Красота природы так растрогала папу, что он вспомнил времена, когда жил на побережье, и стал рассказывать мне, как они с отцом путешествовали по Вермонту, спали под открытым небом и все такое, но мама без конца его перебивала, ведь она так нас любит, что каждую минуту боится, как бы нас не задавили, поэтому стоит ей услышать, что едет машина, даже если она еще далеко, мама сразу требует, чтобы мы не сходили с обочины дороги; в конце концов папе надоело, он и говорит: «Ладно, хватит уже!» — «О, дорогой мой, извини, — отвечала мама. — Прошу тебя, расскажи свою историю до конца, мне так жаль, что я тебе помешала. Но должна же я была убедиться в точности, что Солли понимает, как это важно — вовремя сойти с дороги, когда слышишь, что приближается машина. Вот и все». Но папа так и не рассказал нам, что там дальше было, в этом Вермонте.
Или другой случай. Мы все были дома, но они уже поужинали, а я не садился к столу, потому что не хотел есть, и мы поднялись на второй этаж, чтобы посмотреть фильм по телевизору, он был для всех возрастов, без насилия, и вот посреди фильма я немножко проголодался и попросил маму принести мне что-нибудь поесть. Она пошла готовить для меня поднос с печеньем и молоком, я это, сказать по правде, вполне оценил, ведь она тут-то и пропустила самое интересное в фильме, я сказал ей «спасибо», но папа ни с того ни с сего взорвался: «Боже милостивый, Тэсс! Да перестань же наконец так кидаться исполнять любое его желание! Ты ему мать, а не рабыня! Это он должен тебя слушаться, а совсем не наоборот!» Мама поставила передо мной поднос, я видел, как у нее задрожали руки, она была потрясена, ведь он оскорбил всуе имя Господне.
«Мы поговорим об этом потом, Рэндл», — сказала она. На курсах «Родители и дети» ее наверняка проинструктировали, что детям не стоит присутствовать при ссорах между родителями. Мама прошла все виды курсов медитации и позитивного настроя, релаксации и самоуважения, она стала настоящим знатоком в этих вопросах, так что потом я слышал, как они спорили об этом в постели, пытаясь нащупать, как произошел этот срыв, с какого момента стало нарастать напряжение.
«Может быть, это напомнило тебе какую-нибудь сцену из твоего собственного детства?» — очень мягко подсказала мама. Папа что-то проворчал в ответ. «Или, может быть, в тебе шевельнулось что-то вроде зависти, потому что твоя мать никогда не занималась тобой так, как я занимаюсь Солли?» Со стороны отца снова послышалось приглушенное ворчание и бубнение. В конце концов им, разумеется, пришлось утихомириться и на скорую руку восстановить супружеское согласие…
Однако хотя моя комната рядом с их спальней и дверь между ними из клееной фанеры, я, признаться, ни разу не слышал, чтобы они трахались.
Может быть, женатые пары трахаются бесшумно, не так, как на сайтах «Бруталы XXXX», где они громко дышат и краснеют.
Но в чем мои родители полностью между собой согласны, так это в том, что никто не должен меня шлепать, пороть или применять какие-либо иные телесные наказания. Потому что они прочли много книг, где рассказывалось о том, как поротые дети превращались в грубых, жестоких родителей, обманутые и обиженные дети — в педофилов, а дети изнасилованные — в шлюх и сутенеров. Вот почему они считают, что важно все время говорить, говорить, говорить, выспрашивать у ребенка, почему он ведет себя плохо, чтобы вынудить его объяснить свои побуждения, а потом ласково показать ему, как в следующий раз сделать надлежащий выбор. Но чтобы его ударить — нет, никогда.
Этот принцип кажется мне превосходным, а вот с идеей Иисуса, что, если тебя ударят по щеке, надо подставить другую, не пытаясь защищаться, я менее всего склонен согласиться. Будь я на его месте, уж конечно не позволил бы римским воинам связать себе руки за спиной, нахлобучить на голову терновый венец, плевать в лицо и стегать бичами.
По-моему, в той ситуации Иисус совсем оплошал, и это прямой дорогой довело его до распятия.
«Никто не имеет права поднять на тебя руку, Солли, — говорила мама, глядя мне прямо в глаза. — Никто на свете, ты меня понимаешь?» И я кивал, думая про себя: мне повезло, что я протестант, ведь протестантским пасторам (как и еврейским раввинам) можно жениться и трахать своих жен, и они к тому же не так часто злоупотребляют своим положением в отношении маленьких мальчиков, как это делают католические священники, если верить нынешним теленовостям.
Тем не менее однажды случилось так, что один человек посмел нарушить это правило насчет телесного наказания — дедуля Уильямс, отец моей мамы, но меня бы удивило, если бы он предпринял вторую подобную попытку. Прошлым летом мы гостили у них в Сиэтле, хотя это (гостить у людей) само по себе уже проблема из-за еды: никто не умеет готовить так, как я люблю, а бабуля Уильямс отказалась изменить своим кулинарным обычаям, так что маме пришлось срочно бежать за покупками для меня.
После полудня мама с папой пошли в кино, а дедуля повел меня в сквер. Они никогда не слышали об игре в «Бейз», и, когда мама им ее описала, он сказал, фыркнув: «Посмотрим! Пора ему хлебнуть немножко реальности, этому шалопаю!» Он принес настоящую биту, настоящий мяч и настоящую перчатку; хоть я уже был сильным и очень ловким для своих лет, эта бита в сравнении с пластиковой весила целую тонну. Я встал в положенное место, дедуля — на питчерской горке, и оттуда на меня без остановки посыпались мячи, невероятно быстрые и коварные, а я мазал снова и снова. «Первый мяч! — кричал он. — Второй мяч! Третий мяч! Выбыл!» Тогда я в бешенстве запустил в него битой. Его даже не зацепило, но, когда он понял, что я сделал, у него прямо глаза на лоб полезли, и он заорал: «Ты что, тряхнутый?» Так он мне сказал, и это меня сильно задело, ведь отсюда недалеко до слова «трахаться», а его не подобает употреблять в присутствии ребенка. Он поднял биту, вернул ее мне и сказал со строгим видом: «Послушай, Сол. Я знаю, ты привык к пластиковым битам, но деревянные биты — это совсем другое, они могут быть очень опасны. Поэтому ты никогда больше не должен так делать, понятно? Договорились?»
Я сказал «Ладно», хотя на самом деле был совсем не доволен тем, как провожу время со своим родным дедом, который унизил меня, совершенно не приняв в расчет, что я — Номер Первый и ему вместо того, чтобы говорить со мной таким снисходительным тоном, следовало кричать «Браво, Сол! Хорошо сыграно!», как это делала мама. Мы снова начали играть, но дедуля продолжал подавать мне эти зловредные закрученные мячи, а поскольку я был обижен, то битой орудовал еще менее ловко, чем до того. «Первый удар! Второй удар! Третий удар! Выбыл!» — объявил он, и, когда я во второй раз услышал это «Выбыл!», мои глаза заволокла багровая пелена и я опять швырнул в него битой, изо всех сил, ни капли не заботясь о том, куда она может попасть. Она угодила ему по ноге. Вряд ли ему было уж очень больно, но его заело. Подойдя ко мне большими шагами, он схватил меня за руку, поднял так, что я практически повис над землей, и потом — шлеп, шлеп, шлеп! — трижды ударил меня ладонью по заду.
Я был потрясен так, что словами не выразить. Жгучая боль хлынула из ягодиц прямиком в мои жилы, это было, как будто к бензину спичку поднесли, все во мне воспламенилось, я стал извергаться, как вулкан, изрыгая вопли ярости и негодования, ибо никто не вправе поднять руку на Соломона. Дедуля был ошеломлен, столкнувшись с проблемой, которую создал своим «шлеп, шлеп, шлеп», но я на этом останавливаться не собирался, я хотел, чтобы этот случай раз и навсегда послужил ему уроком. Когда поехали домой, я проорал всю дорогу в автомобиле, а когда он открыл дверцу, чтобы отвести меня в дом, завопил так, что соседи, наверно, решили, что меня убивают. Обеспокоенные расспросы бабули, ее утешительные слова и заботы были напрасны, и, когда час спустя мама с папой вернулись из кино, я все еще ревел.
В совершеннейшей панике мама бросилась ко мне, подхватила меня на руки, и я умолк.
— Солли, Солли! Что стряслось?
Когда я ей сказал, что ее отец меня отшлепал, я почувствовал, как разом напряглось все ее тело, и уверился в том, что дедуле придется горько пожалеть о своей выходке.
— А ты подставил вторую ягодицу? — осведомился папа.
— Рэндл! — воскликнула мама. — Здесь нет ничего смешного!
Мы собрали вещи и уехали, даже не поужинав. Пока папа вез нас обратно в Калифорнию, мама попыталась объяснить мне поведение своего родителя, так как не хотела, чтобы я возненавидел его до конца моих дней. «У него устаревшие представления о воспитании, — говорила она. — Его самого воспитали так, он в своем детстве никогда не знал другого отношения, так что его нужно простить. И потом, не забывай, нас в доме было шестеро детей! Если бы он не следил за дисциплиной, только представь, какой там был бы кавардак!»
Тем не менее полагаю, что мама ни словом более не обмолвилась со своим отцом, прежде чем он написал ей письмо, прося прощения и торжественно поклявшись, что никогда больше меня и пальцем не тронет.
Я ВСЕМОГУЩ.
Та история случилась прошлым летом, когда мне было пять с половиной. И касалась она материнской стороны семейства. Теперь мне шесть с половиной, сегодня Вербное воскресенье (это когда Иисус вернулся в Иерусалим верхом на осле, что, честно говоря, было не очень-то умно), и мы выполняем тягостную родственную повинность с отцовской стороны. Вчера вечером из Нью-Йорка приехала ПРА. Мой отец обожает свою бабулю Эрру, но моя мать к ней относится сдержанно, потому что она, во-первых, курит, во-вторых, не ходит в церковь.
Когда я вышел на веранду, она уже была там, сидела в плетеном из светлых прутьев кресле-качалке с книгой в одной руке и маленькой сигарой в другой; ее взъерошенные волосы распадались на тонкие седые прядки, прямо-таки притягивающие к себе солнечные лучи.
Мне не нравится, что она уже встала.
Я всегда хочу вставать раньше всех, быть тем, кто первым приветствует день и начинает его творить.
— Здравствуй, милый Сол, — говорит она, мельком взглянув на часы и засовывая их в книгу вместо закладки. — Скажите пожалуйста, какая ранняя пташка! Ведь сейчас только семь часов! У меня-то хоть есть оправдание — другой часовой пояс…
Я не удостаиваю ее ответом. Она мне мешает, тормозит циркуляцию мыслей. Так и хочется взять телевизионный пульт и выключить ее.
— Иди-ка сюда, смотри, что я тебе покажу, — говорит она, понижая голос и жестом предлагая мне приблизиться.
Я медленно тащусь через веранду, нарочито волоча ноги. Главное, пусть не воображает, будто меня интересует то, что она хочет показать.
— Смотри! — посадив меня к себе на колени, она тычет пальцем в гибискус, растущий в саду напротив. — Видишь? Не правда ли, какая прелесть?
Я смотрю и вдруг замечаю что-то, трепещущее в воздухе среди ярко-алых лепестков. Колибри! Но я, как правило, не люблю, когда люди привлекают мое внимание к чему-либо. Если бы ПРА здесь не было, я бы увидел колибри сам, один.
— И туда взгляни, сердце мое! Смотри: диадема!
Поневоле гляжу, щурясь от слепящих жарких лучей солнца, всходящего между двумя домами напротив, и вижу сотканную между перекладинами ограды паутину, она переливается тысячами бриллиантов росы. Вот и это тоже я бы увидел, если бы она дала мне время, не приперлась сюда раньше меня, она же считает делом чести первой все замечать, ей только бы продемонстрировать превосходство надо мной. Она обнимает меня и начинает легонько покачивать в своем кресле, напевая «Посмотри на крошку-паука», как будто мне два года. Согласен, голос у нее красивый, даже когда она поет идиотские считалочки, но мне все равно не по себе в ее объятиях, по-моему, она нечистая. Ее тело источает едкий запах пота, дыма и старости. Она что, даже не приняла душ вчера вечером, когда приехала? Чтобы исполнить предначертания Господа, я должен быть чистым — что-что, а это я знаю твердо. Итак, я соскальзываю с ее колен и торопливо сбегаю с крыльца веранды, будто меня ждут неотложные дела в моей песочнице в дальнем углу сада.
В честь прибытия ПРА и потому, что в церковь идти еще рано, мама готовит необыкновенный завтрак с блинами и колбасками, со сбитыми яйцами и кленовым сиропом, с фруктовым салатом, кофе и апельсиновым соком. Сидя у стола, мы беремся за руки, склоняем головы, и мама читает молитву: «За эти яства и за все Твои божественные щедроты, Господи, мы воздаем Тебе хвалу». Все в один голос произносят «Аминь», кроме ПРА — она не говорит ни слова. Потом папа и мама целуют меня и мне аплодируют, это семейный обычай, он возник в тот день, когда я, совсем еще младенец, впервые сказал «Аминь». С тех пор это стало традицией и теперь является неотъемлемой частью застольной церемонии; для меня ясно, что Бога и Сола чествуют одновременно.
ПРА удивляется, видя, что я ничего не съел, кроме единственного маленького блинчика, порезанного мамой на крохотные кусочки, которые я всосал один за другим, медленно возя их языком между губами и деснами вместо того, чтобы прожевать, и часто между двумя глотками еще уходил в свою комнату, чтобы побыть там немножко.
— Ты не хочешь посидеть с нами, Сол? — спросила она, когда я направился к лестнице.
— Нет-нет, — поспешно ответила вместо меня мама. — У Сола всегда были свои особенности в том, что касается еды. Не стоит обращать внимание на его приходы и уходы, он вполне здоров. Мы делаем все, чтобы у него был налаженный режим.
— Я об этом и не беспокоилась, — возразила ПРА. — Мне просто хотелось насладиться его обществом.
— В смысле пищи он трудный случай, — вмешался папа. — А поскольку Тэсс потакает всем его капризам, улучшений и ждать не приходится.
— Рэндл, — сказала мама. — По-твоему, это очень любезно — нападать на меня так в присутствии… третьих лиц?
В этот момент я закрыл за собой дверь детской, а когда вернулся на кухню, они уже сменили тему, теперь речь шла о моей родинке. Мама, видимо, рассказала, что мы собираемся будущим летом удалить ее, и ПРА была неприятно поражена.
— Хирургическое вмешательство? — Она положила вилку на стол. — В шесть лет? Но зачем?
— Дорогая Эрра, — сказала мама с выражением кроткого терпения на лице, — мы просмотрели почти все сайты Интернета, посвященные врожденным пигментным невусам, и, поверьте, есть целый ряд серьезных причин, чтобы удалить это именно теперь.
— Но, Рэндл, — ПРА обернулась к моему отцу. — Ты не можешь… Неужели ты ей позволишь это сделать? А твоя летучая мышка? Как бы тебе понравилось, если бы твоя мать взяла и удалила ее?
…Это у моего отца было в детстве чем-то вроде игры: свою родинку на правом плече он воображал пушистой летучей мышью, которая нашептывала ему на ухо всякие советы. У самой ПРА тоже есть такая на сгибе левой руки — в том и смысл слова «родинка», что это в роду, переходит из поколения в поколение, появляясь на разных частях тела, хотя иногда может и перескочить через поколение: у бабули Сэди ничего подобного нет.
— Эрра, — сказала мама. — Мне очень жаль, но абсолютно необходимо, чтобы мы в этом случае обошлись без метафор. Я знаю, что у вас с Рэндлом всегда было особое отношение к вашим родинкам, знаю, что они служили как бы символом тайных уз, связывающих вас. Но в случае Сола здесь другая сторона медали. Позвольте мне объяснить дело так, как оно выглядит под реалистическим углом зрения. Во-первых, его родинка уж очень на виду, практически на лице, и есть опасность, что в школе его станут из-за нее дразнить. Но даже если нет, она может его смущать и породить в нем комплекс неполноценности, совершенно необоснованный. Во-вторых, в отличие от вас двоих, у Сола такой невус, какой медики называют «беспокоящим». Его родинка находится между виском и щекой; когда через какой-нибудь десяток лет он начнет бриться, ежедневный контакт с лезвием может спровоцировать воспаление. В-третьих, и эта причина, конечно, намного важнее прочих, есть опасность развития меланомы. Мне жаль, что я вынуждена затронуть эту тему, но отец Рэндла скончался от рака, следовательно, Солли подвергается повышенному риску в силу фамильной предрасположенности. Как я уже говорила, Эрра, я невероятно много читала об этом. Я также проконсультировалась с несколькими специалистами. И в конце концов пришла к выводу, что для меня предпочтительнее не рисковать.
— Ах, — вздохнула ПРА.
— У нас выбор между биопсией бритья и биопсией удаления. Удаление травмирует радикальнее, зато существенно уменьшает риск, что со временем разовьется рак. Думаю, мы остановим свой выбор на удалении.
— Ах, — повторила ПРА.
— Ну, наши-то родинки остаются при нас, в этом смысле ничто не изменится, — игривым тоном добавил папа. — А у Солли по отношению к своей никогда не было особых эмоций. Верно, Солли?
— Да нет, — сказал я.
— Вот как? — Папа был малость сбит с толку. — И какие же у тебя эмоции?
— Негативные. У меня это вызывает отторжение.
— Видите? — воскликнула мама торжествующе. — Вот вам и четвертое основание. Итак, мы планируем сделать эту операцию в начале июля. Тогда у Сола все лето будет впереди, ранка успеет зарубцеваться, и он сможет с легким сердцем пойти в школу в сентябре.
ПРА опустила глаза, погладила родинку на сгибе своей левой руки и пробормотала какое-то слово, похожее на «Лютня».
— Прошу прощения? — переспросила мама.
— Моя зовется «Лютней», — буркнула ПРА с усмешкой, и мама бросила на папу быстрый, но настойчивый взгляд, будто говорила: «Нет, ты видишь? У нее крыша поехала…», а папа в ответ покосился на маму свирепо, дескать, «Молчи!». У меня не было ни малейшей охоты присутствовать при этой сцене, так что я поспешил уйти, улизнул в свою комнату.
Когда я вернулся на кухню, атмосфера там изменилась еще заметнее, ведь пора было собираться в церковь. Мама попросила папу помочь ей убрать со стола, и он приступил к этому делу, ни слова не говоря.
В половине одиннадцатого мы уселись в папину машину, он задним ходом выехал из аллеи и повернул к церкви. Я сидел, привязанный ремнем безопасности, на заднем сиденье, и, пока мы на малой скорости проезжали по красивым, обсаженным деревьями улицам нашего спокойного и уютного квартала, папа начал рассказывать нам историю.
— Помню, однажды, когда мне было столько лет, сколько тебе, Солли, я провел несколько месяцев вдвоем с отцом, ведь моя мать, как обычно, где-то колесила, вот Эрра и предложила нам в воскресенье отправиться на пикник в Центральный парк вместе с одной ее приятельницей…
— Извини, Рэндл, — сказала мама; — но я должна заметить тебе, что ты, по сути, чуть не поехал на красный свет. Ты не остановился, только притормозил.
— О-ля-ля, как же я был воодушевлен! Как мне не терпелось дождаться воскресенья! Но в тот самый момент, когда наконец все было готово для пикника, вдруг хлынул ливень.
— Я хочу сказать, что красный свет это красный свет, не правда ли, дорогой? — проворковала мама, гладя папину руку, сжимающую руль. — Ведь нежелательно, чтобы у Сола в голове сложилось мнение, будто правила дорожного движения вещь не столь уж обязательная, ты со мной согласен?
Папа подавил вздох и уступил… но, чтобы подчеркнуть тот факт, что он именно уступил нажиму, стал очень резко тормозить на каждом перекрестке — нарочно.
— Так, значит, вы все отменили? — спросил я, чтобы вернуть папу к его рассказу.
— Нет-нет… Мы отправились к Эрре на метро, она жила на Бауэри-стрит, и устроили пикник прямо на полу!
— На полу? — мама скорчила гримаску. — Учитывая репутацию Эрры как кулинарки, это была еда, наверное… гм… вперемешку с пылью!
— Это была великолепная еда, — отрезал папа, грубо тормознув и потом так же немилосердно рванув с места. — Я бы даже сказал, что это был один из самых волшебных пиров всей моей жизни.
— Как бы то ни было, — сказала мама, выдержав паузу в несколько секунд, — было бы неплохо, если бы ты попросил ПРА воздержаться от курения в нашем доме.
— Как это? — удивился папа. — Она же выходит курить на веранду!
— Насколько мне известно, — сказала мама, — веранда тоже часть нашего дома. И потом, она курит в присутствии Сола, он может наглотаться дыма, это очень вредно для его легких.
— Тэсс, — сказал папа, когда мы наконец выехали на другое шоссе, посущественней, там, благодарение Богу, не было светофоров, а то меня уже подташнивало от стольких рывков взад-вперед, — случилось так, что Эрра — одно из тех человеческих существ, которые мне дороже всего на свете. Как было бы хорошо, если бы она могла чувствовать себя уютно в редких случаях, когда приезжает к нам, то есть примерно… раз в три года!
— Что ж, — пролепетала мама, чуть не плача, — видно, этот гигантский завтрак, который я только что приготовила, хотя он стоил мне и времени, и денег, потраченных вчера в супермаркете, в твоих глазах недостоин твоей бабушки?
— Ну конечно достоин, моя дорогая, разумеется. Извини…
— Сколько бы я ни старалась, тебе, похоже, никогда не угодишь! А Эрра для тебя что-то вроде… богини…
— Я уже сказал: извини. Прошу прощения. Что мне еще сделать? Остановить машину и бухнуться перед тобой на колени?
В этот самый момент мы подъехали к церкви, и папа припарковался.
— Честно говоря, Рэндл, мне кажется, что тебе следовало бы стать на колени не передо мной, а перед Господом. Мне кажется, ты сейчас должен усердно помолиться, Рэндл, и постараться понять, почему приезд бабушки пробуждает в тебе такую враждебность к твоей супруге.
— Почему ПРА не поехала в церковь? — спросил я, когда мы влились в поток верующих, подходивших со всех сторон пешком, стекаясь ни быстро, ни медленно к вратам церкви. На тщательно ухоженных газонах, с двух сторон обрамляющих тротуар, цвели анютины глазки. В этом есть порядок, структура, мне это нравится.
— Потому что она не верит в Бога, — сказал папа таким нейтральным тоном, будто сообщал, что она предпочитает пепси кока-коле. Не верить в Бога — для меня это немыслимо, но, судя по выражению маминого лица, мало шансов, что этот интересный разговор продолжится на обратном пути.
«Бог повсюду везде как же в это не верить?
Он Сила и Слава.
Мощь Движитель Создатель абсолютный источник.
Секрет всего что разбухает и взрывается.
От самомалейшего пакетика под каблуком на газоне.
До раскаленной родилки жеребца, пустившей струю прямо в лицо женщины.
От сердцевины вулкана вскипающей в час извержения.
До гриба водородной бомбы.
Все это Бог Бог Бог.
Эта энергия это разверстое жерло.
Эта пульсация это бурленье материи».
Вот что лезло мне в голову во время богослужения, когда мы вместе с длинной процессией медленно продвигались к алтарю с пением «Осанна в вышних!», неся пучки вербы. Бог это Сила и Слава, а мы все жалкие грешники, поскольку Ева отведала плод с древа познания, в наши дни древо познания — это Интернет, у него миллиарды ветвей, распростертых во все стороны, мы не перестаем поглощать его плоды и все больше грешим в своей плотской искушенности, а следовательно, миру всегда будут необходимы чистильщики, и, если я хочу стать чистильщиком, как Иисус, Буш или Шварценеггер, мне нужно знать о зле все.
К Твоим стопам толпа бросает Охапки верб, свои одежды, «О Божий Сын! — она взывает. — Благой Иисус, оплот надежды!»Пастор принялся что-то там проповедовать насчет войны в Ираке, это напомнило мне кадры с расчлененными трупами иракских солдат, засыпанными песком, а еще — изнасилованных женщин, от этих мыслей мой пенис отвердел, и я, прикрываясь сборником духовных гимнов, стал себя потихоньку ублажать, а коль скоро проповедь была длинной, под конец я от своих наваждений едва в обморок не хлопнулся. Вспоминал, как, бывало, вечером у себя в спальне — «Грядет Господь наш Иисус, Вздымайте вербы, славьте Бога!» — воображал себя конем, исходящим раскаленной пеной, или стреляющим пулеметом, или бомбой в момент взрыва — «Народ Христов, о, пой же хором „Осанну в вышних“!», — и я, ощущая, как силы бушуют в моем нутре, дрочил уже чуть не до крови, а после богослужения родители, пробиваясь сквозь толпу, заполонившую тротуар, все обменивались с кем-то рукопожатиями: «Как дела?», «Рады вас видеть», «Ну, теперь до будущей недели, до Пасхи!» и «Чудесная погода, не правда ли?».
После полудня впрямь сильно потеплело, и я отправился туда, где особенно любил играть, то есть в тенистое местечко под верандой, прихватив с собой «Лего», чтобы показать маме, что я не превратился в фаната компьютерных игр, как она порой опасается, тревожась о моем душевном здоровье. Чуть погодя на веранду вышли папа и ПРА, они сели за стол под солнцезащитным тентом, так что я мог слышать их разговор, оставаясь незамеченным, я эти моменты очень люблю, ведь таким образом можно многое узнать о других без их ведома, а потом изумлять их своей проницательностью.
— Ну что, Рэн, — сказала ПРА, — как там дела с твоей новой работой?
— Да чего уж тут… — вздохнул папа, и было ясно, что этот вопрос, уж не знаю почему, его смутил. — Тут и рассказывать, почитай что, не о чем. Программирование…
— Значит, тебе это совсем неинтересно?
— Да нет же, нет, но… Что там интересно, так это семипроцентная доходность страховых взносов.
— Понятно. А твои коллеги?
— Сборище бездарей.
— Ах, какая досада…
— Да, но, впрочем… не всем же быть талантливыми.
— Разумеется.
— И в конце концов… жалованье хорошее, перспективы карьерного роста у меня великолепные, это дает известное удовлетворение. По крайней мере, приятно знать, что я смогу обеспечить Солли место в престижном университете на побережье, никого не прося о помощи.
— «Никого» — это ты о своей матери, верно?
— Само собой.
— А кстати, как дела у Сэди?
— По-прежнему… если не хуже.
— Да помилует нас Бог!
— Вот именно. Сколько времени вы не виделись?
— Сказать по правде, Рэндл, я и считать перестала. Лет пятнадцать… С тех пор как она опубликовала ту ужасную книгу… это в каком же году?
— Гм… вроде бы в девяностом. «Бай-бай, нацистское дитя»… Я запомнил, потому что она вышла как раз перед папиной смертью.
— Да… Она и меня чуть не убила!
Тут они, как ни странно, засмеялись — видимо, под разговор оба тянули мартини или джин-тоник.
— Стало быть, она продолжает?
— Ох! Ну да.
— Иисусе милосердный!
— А ты-то сама, Эрра? Надеюсь, судьба к тебе благосклонна?
— Да, сердце мое. Пожаловаться не могу. В конечном счете мне живется чудесно.
— Не говори так: «в конечном счете» — это как если бы жизнь уже прошла… Тебе ведь всего… шестьдесят пять?
— М-м-м… Разве? Ну, так и быть. С половиной.
— Но послушай, ты еще проживешь не один десяток лет! Готов поклясться, что тебе можно дать… сорок семь с половиной. Ни днем больше!
— Какой ты милый. Но все эти годы… признаться, я начинаю их чувствовать. И дело не только в том маленьком сердечном приступе, что шарахнул меня два месяца назад, а… представь себе: у меня не осталось ни единого собственного зуба!
И оба опять рассмеялись.
— Ты из-за этого перестала петь? — спросил папа. — Боишься, как бы в разгар концерта у тебя челюсти изо рта не выпали?
Снова хохот.
— Ох! Да нет, — сказала ПРА. — Нет-нет. Просто осознала, что голос уже не тот, что прежде… Но это не трагедия. В один прекрасный день я уселась сама перед собой, взяла себя за руку и говорю себе так: «Послушай, моя милая. Ты записала три десятка дисков, давала по всему свету концерты, загребла много грошей и много сердец, а теперь пора наслаждаться жизнью и ничего больше не делать. Читать книги, которые давно хотелось прочесть, видеться с людьми, которых любишь, увезти Мерседес в волшебные страны, мимо которых ты проскочила, спеша от одних гастролей к другим»…
— В скобках будь сказано, мне ужасно жаль, что так вышло с Мерседес, — пробормотал папа.
— Не глупи, Рэн.
— В каком смысле?
— Перестань на каждом шагу твердить это свое «Мне ужасно жаль». С тех пор как я вчера вечером сюда приехала, ты уже раз десять это сказал. Дурная привычка, знаешь ли. Очень вредная для душевного здоровья.
— Как бы тебе объяснить? В общем-то Тэсс очень терпимый человек, но, невесть почему, когда речь заходит о гомосексуализме…
— Она полагает, что Сол будет травмирован, если увидит двух престарелых дам, которые держатся за руки?
— Мне ужасно жаль, Эрра.
— Ты опять за свое? Прекрати!
Они засмеялись. Я уловил запах ПРА, закуривающей сигару.
— Что до Солли, — заговорила она, помолчав, — я, когда уезжала из Нью-Йорка, хотела купить ему подарок. Провела достаточно смехотворный час, прочесывая большой магазин игрушек на Сорок четвертой улице… Я ни на секунду не позволяла себе забыть, с какой одержимостью Тэсс печется о его безопасности. И потому говорила себе: так, этот подъемный кран был бы всем хорош, но если Сол, чего доброго, проглотит его крюк, он застрянет в кишечнике и спровоцирует внутреннее кровотечение… Ах! Вот чудесный набор для маленького химика, однако в нем полно разных штук, которые могут вспыхнуть или взорваться и которыми он может отравиться… Ладно, так и быть, эта электрическая железная дорога с виду симпатична… но ведь Сол может по неосторожности убить себя током… О-хо-хо… Все игрушки этого магазина, одна за другой, превращались в смертоносное оружие, они только и ждали, как бы накинуться на моего правнука. Так что я отчаялась, вот и приехала сюда с пустыми руками.
Оба заржали во всю глотку.
Мне стало обидно. Я бы охотно получил один из тех подарков.
Пройдя мимо них, я направился на кухню, где мама готовила большое блюдо с закусками: морковные палочки, сельдерей с сыром чеддер, редис, помидоры, вишни, мелко нашинкованные грибы, соленые бисквиты, соус, рокфор. Я сжевал кусочек сыра и полез в холодильник за ломтиком хлеба без корки. Мама прекрасно понимала, что за обеденный стол я с ними не сяду.
— Ты знала, что у ПРА искусственные зубы? — спросил я ее.
— Конечно, мой ангел. Она каждый вечер, ложась спать, кладет их в стакан с водой у своего изголовья.
— Фу, гадость… А почему она потеряла все зубы?
— Наверное, потому, что страдала от недоедания, когда была маленькой.
— Родители ее плохо кормили?
— О, это длинная история… Кажется, она была в лагере беженцев или что-то в этом роде. Она не любит об этом распространяться.
Про себя я подумал: ладно, выходит, можно иметь фальшивые зубы, как у ПРА, или фальшивые волосы, как у бабули Сэди, можно завести себе фальшивые ресницы, фальшивый бюст…
— А фальшивое сердце? — брякнул я вслух.
— О чем ты говоришь? Об операции, когда в твою грудь могут вложить сердце кого-то другого? Да, это возможно.
— И фальшивые ноги?
— Ну, в наши дни, по-моему, почти все научились заменять!
— И мозг? Как насчет фальшивого мозга?
— Про такое не слышала, но думаю, что нет.
— А фальшивая душа?
— Ах, это уж нет! — прыснула мама, в форме разноцветного солнышка выкладывая на овальную тарелку сырые овощи и фрукты. — Насчет этого, Солли, я совершенно уверена. Твоя душа принадлежит только тебе… и Богу. На веки вечные.
И я ощутил бессмертие души Сола, призванной изменить мир, вечной и единственной среди миллиардов google’овых душ.
Страстная неделя закончилась, ПРА смылась в Нью-Йорк, и жизнь снова потекла по привычному руслу. Но однажды, вернувшись домой от Брайана, я застал маму в сильном волнении. Я сразу понял, что она вне себя, потому что она ничем не занималась, просто сидела сложа руки в гостиной, и, когда я подошел поцеловать ее, она не обняла меня, как обычно, и не сказала: «Как чувствует себя мой маленький мужчина?»
— Что с тобой? — спросил я.
— Я жду твоего отца, — прошептала она голосом беззащитной маленькой девочки, какого я никогда прежде у нее не слышал. — Ступай к себе поиграть, ладно? Если проголодаешься, скажешь.
— Конечно, мама, — ответил я тем бодрым тоном, что означает: мол, не беспокойся, я обо всем позабочусь.
Едва папин автомобиль остановился перед домом, я прокрался на цыпочках по коридору, затаился на верхней площадке лестницы и, присев в потемках на корточки, стал слушать, что они скажут.
— Ты видел это, Рэндл? Ты это видел? — произнесла мама тихо, но свирепо.
— Ну как же. Само собой, видел.
— Да ведь это ужасно! Ты не находишь, что это просто кошмар? Я даже не понимаю, как можно публиковать подобные фотографии в газете!
— Конечно, но… Послушай, моя дорогая… Это же война… Да что происходит? Или мы сегодня не ужинаем?
— Война? Что это вообще значит, что за оправдание такое? Это не война, нет! Это банда взбесившихся… извращенцев… они обходятся с людьми, как со скотами… Как они могли совершать подобные вещи?
— Тэсс, тут я могу сказать только одно: когда люди находятся под давлением или им очень страшно, они способны вытворять… что угодно.
— Ты осмеливаешься искать для них оправдания?
И я услышал удар газетой, брошенной на стол, может быть, прямо перед его носом.
— Послушай, Тэсс, мне бы очень хотелось сменить тему. Ты что, действительно считаешь, будто мне необходимо, чтобы на меня кричали, не успел я переступить порог родного дома после четырнадцатичасового рабочего дня? Черт возьми! Так где он, ужин? Или все теперь должны подхватить анорексию вслед за нашим сыном?
Мама рухнула на канапе, я узнал этот характерный звук.
— Я не могу есть, — выговорила она придушенным голосом: похоже, зарылась лицом в подушку, уже рыдая. Но вот она повернулась — ее слова опять стали ясно слышны:
— Как ты мог не потерять аппетит, увидев подобные кадры? Я заболела от них, неужели ты не понимаешь, я больна, больна! Американская армия…
— Я запрещаю тебе поносить американскую армию! — выкрикнул папа и, громко топая, зашагал на кухню. Оттуда донесся грохот — это он шарахнул дверцей холодильника.
На следующее утро, когда мама сушила волосы в ванной — это означало, что в моем распоряжении добрых десять минут — я залез в инет и присосался к кадрам тюрьмы Абу-Грейб. Парни громоздились кучей, один на другом, стоя на коленях, эта человеческая груда немножко напоминала акробатов в цирке, если не считать того, что здесь все были здоровые, крепкие и совсем голые; было видно много арабской плоти, ни белой, ни черной, а золотисто-коричневой, а солдаты-янки, мужчины и женщины, похоже, очень уверенно чувствовали себя перед камерой, позировали рядом с этими голыми арабами, издевались над ними, держа их на собачьих поводках, пытали электрическим током, заставляли совокупляться друг с другом; мой пенис разом затвердел, но возиться с ним я не стал, времени не было. Компьютер пришлось вырубить в ту же секунду, как мама отключила свой фен, а когда она выходила из ванной, я у себя комнате уже зашлепывал липучки фирменных кроссовок, собираясь в детский сад.
…Там мне надо быть сдержанным, всегда настороже, чтобы никто не заподозрил моего сверхчеловеческого интеллекта, моего недостижимого могущества, моих планов, превосходящих их понимание…
После детского сада я пошел на веранду со своими поделками из наборов «Плеймобиля», свалил их там пирамидой, как в Абу-Грейбе, подключал к электрической сети, принуждал трахать друг друга в задницы, дергаясь и задыхаясь, а сам насмехался над ними и хохотал, как Линди Ингланд[1].
Меня тревожило, что время идет, а мой отец все еще не показал себя в Ираке, пора бы уже ему там прославиться. Впрочем, даже если война кончится в течение года, президент Буш говорит, что иракцам все равно будет нужна американская армия, чтобы помочь справиться с тамошними террористами; значит, шанс еще есть. Потом обезглавили Ника Берга[2]. Я узнал об этом без подслушивания под дверью, самым что ни на есть непредвиденным образом: в один прекрасный день это появилось на моем любимом жутко плаксивом сайте, рядом с расчлененными трупами иракцев и женщинами, которых насилуют псы. «Кликните здесь, чтобы увидеть, как отрубили голову Нику Бергу» — ну я и кликнул. «Внимание: эти кадры очень эксплицитны!» Я не знал слова «эксплицитны», но это, наверное, значило, что там все взаправду, и я, понятное дело, кликнул снова. Увидел Ника Берга в оранжевой форме, он сидел у стола с целой бандой арабов, потом один араб встал и большим ножом напрочь перерезал ему горло, поднял голову за волосы и потряс.
Еще раз: можно заказать себе новые зубы, новую лодыжку или там колено, шейку бедра, но вопрос с головой человеку решить не дано, и я не посмел спросить маму, сможет ли Бог починить Ника Берга, когда тот заявится к нему в рай. Здесь ведь совсем не то, что в «Атаке клонов», где машина обезглавила С-3РО, но R2-D2 удается все исправить — это там довольно веселенькая сцена.
— Когда же ты завербуешься в армию, папа?
Мой отец хватает пульт и отключает звук в телевизоре, там сейчас как раз рекламная пауза. Он поднимает меня и сажает к себе на колени так, что мы оказываемся лицом друг к другу.
— Знаешь что, Солли? — говорит он, и я улавливаю запах пива.
— Что?
— Хочешь, открою секрет?
— Конечно!
— Нет, я говорю о том, что без всяких шуток считается секретной информацией.
— Да!
— Что ж, тогда слушай. В свои двадцать восемь лет я немного староват для воинских учений. Но мне нет нужды поступать на армейскую службу, поскольку моя контора и без того принимает участие в военных действиях. Так что об этом можешь не беспокоиться, Сол. Я в деле, ты уж мне поверь. И все у нас выполняют свой долг с таким же рвением, как я. Арабский терроризм теперь долго не протянет. Но держи язык за зубами, смотри же — никому ни слова о том, что я тебе рассказал.
Тут на экране снова появился бейсбольный матч, лапа схватил одной рукой пульт, другой бутылку с пивом, и наша беседа прервалась.
Дни становились все жарче, июнь шел к концу, срок моей операции близился. Хотя мы с мамой вели об этом долгие разговоры и насчет местной анестезии она все подробно разъяснила, я бы не сказал, что мне не терпелось попасть в клинику. Но мама, конечно, будет рядом с начала до конца операции, так что бояться нечего, она должна гордиться мной. Если Арнольд Шварценеггер может взять скальпель и, глазом не моргнув, вонзить его в свою собственную плоть, я тоже сумею стиснуть зубы и вытерпеть боль: не почувствую ее, и всё тут.
В подготовительной группе нашего детского сада по случаю конца учебного года устроили большой праздник. Мама принесла четыре десятка бисквитов с шоколадом домашней выпечки, зал украсили воздушными шарами и серпантином, словно наступил какой-то всеобщий день рождения. Сущая умора смотреть на всех этих родителей и представлять, как они трахались, чтобы сделать всех этих детей, да сверх того у многих детей есть еще тетки с дядьями, а у некоторых отцы — доноры спермы, потому что их матери лесбиянки, как ПРА, хотя мама думает, будто я даже не знаю, что это такое.
Пока длился праздник, я все время играл сразу две роли: был маленьким мальчиком, который пригласил всех сюда, к маме, и скромно улыбается, когда мисс Мильнер расхваливает его исключительные успехи, и Высшим Разумом, что свысока с иронической благосклонностью наблюдает за происходящим, разглядывает эти ничтожные человеческие существа, которые болтают, жуют бисквиты и мнят себя значительными. Я видел, что этот детский сад не более чем крошечная точка на карте Калифорнии, которая и сама лишь малое пятнышко на карте мира, да и вся Земля смехотворно мала в сравнении с Солнцем; а если бы я воспарил еще выше, даже Млечный Путь стал бы всего-навсего пылинкой, затерявшейся вдали…
Садясь в машину, мама спрятала в багажник большую папку с моими рисунками за весь последний год. «Ты фантастический художник, Солли, — сказала она, закрепляя меня на заднем сиденье ремнем безопасности. Ты и сам это знаешь, верно? Мисс Мильнер находит, что твои рисунки лучшие в группе. По мнению мисс Мильнер…»
Похвалы учительницы очень взбодрили маму, ведь они означали, что ее усилия начинают приносить плоды. Я уже теперь — явление исключительное, а мы оба, она и я, знаем, что нынешний успех — сущая малость в сравнении с другими, которые ждут меня в будущем. Тем важнее преодолеть это мелкое препятствие, единственное, что слегка портит мне настроение, — операцию. Зато уж после нее я снова обрету веру в свой жребий героя.
И вот он наступил, тот самый час «Ч». Мама будит меня, ласково тормошит, и я чувствую, как этот день не похож на все прочие, мой мозг не переполнен светом, не устремляется вперед, спеша озарить этот мир, — он, можно даже сказать, забился в угол.
Всего без четверти семь, но папа уже уехал на работу. На кухонном столе оставил записку, прислонив ее к моей пиале с пророщенными пшеничными зернами: «Сол, будь храбрым, я с тобой. Твой папа», это меня сразу проняло, хоть все в один голос долдонят, что операция самая ерундовая, ясно же, что из-за пустяков взрослые не говорят детям «будь храбрым». Стало быть, меня ожидает нечто серьезное, вопрос в том, почему это так. И до какой степени.
Пока ехали в клинику, мы с мамой ни единого словечка друг другу не сказали. Я чувствовал, она тоже вся на взводе или до крайности сосредоточена на «серьезной стороне» этой истории. «Меланома-меланома-меланома», — я прямо слышу, как это стучит у нее в голове, такое приятное слово для такой жуткой штуки. «Меланомы, как змеиный яд, — это она сама мне объяснила, — они способны через посредство лимфатической системы поражать ганглии, а затем и все тело, это называется „метастазами“, если они возникают, можно умереть. Да, мой обожаемый Солли. Неизвестно, почему Господь в своей беспредельной мудрости допускает подобные вещи, но случается, что дети умирают от рака». Стоп, меня повело куда-то не туда: я не умру, в помине же нет никаких метастазов, никакой меланомы, операция, которую мне сделают, — превентивная мера. Папа говорит, я должен благодарить судьбу, что у меня такая предусмотрительная мама, и я благодарю, хотя, если честно, все-таки с души воротит, как подумаешь, что тебя будут резать.
— Ты предпочел бы, чтобы тебе дали снотворное?
— Нет!
(Руки прочь от неповторимого сознания СОЛА!)
Раздеться. Почувствовать себя совсем маленьким. Когда я перед операцией пошел пописать, мой пенис и вправду был крохотным, таким хилым. Врачи и медсестры разговаривают так, будто знают меня лично, это почему-то кажется невыносимым. На них белые пластиковые перчатки и бледно-голубые маски. Они укладывают меня на спину, наклоняют мою кровать и поворачивают мне голову набок. Мерзко и жутко, когда тобой манипулируют, будто ты подопытная обезьяна в экспериментальной лаборатории. Теперь анестезия — мама говорила: «Ничего не почувствуешь». Укол в висок Соломона. Вся левая сторона головы немеет, наливается тяжестью, включая щеку. Мама глядит на меня с другой стороны, ее рот улыбается, но глаза полны страха.
— Ничего-ничего, — приговаривает врач. — Это проще, чем отнести письмо на почту…
Лезвие вонзается в мою плоть. Брызжет кровь. Медсестра тут как тут, она ее останавливает.
— Я вычищу побольше… в глубину, вот… чтобы гарантия была, что вправду все убрано… Видите? Тычь пальцем в ноздрю, да поглубже, как говорят французы.
Медсестра давится от беззвучного смеха.
— Ну уж нет, только не это! — бормочет мама.
— Да что вы, разумеется, нет! — успокаивает врач. — Это просто выражение такое. Я его слышал несколько лет назад, когда учился в Париже.
— Что ж, значит, французы дурно воспитаны, и вы меня очень обяжете, если воздержитесь от подобных выражений в присутствии моего сына.
— Нет проблем, мадам. Вот, мы почти закончили.
Кровь стекает по шее, я это чувствую. Медсестра промокает ее. МОЯ КРОВЬ, КРОВЬ СОЛА струится из ВИСКА СОЛОМОНА.
Дыра в голове.
Рана в точности на том месте, куда тычут пальцем, изображая, будто стреляются. Папа говорил, что муж ПРА таким способом покончил с собой, это было давно, его мозги разбрызгались по кухонному полу, но мои останутся внутри, не вытекут через дырку в виске, они работают во всю мочь, чтобы продержаться, не растечься, удержать все на своих местах, не упустить ни единой подробности.
Врач ушел. Мама сильно сжимает мне руку и говорит, что я был невероятно храбрым, что я ее маленький мужчина, что она так гордится мной. Я пытаюсь улыбнуться, но левая сторона лица онемела, и улыбка удается только наполовину.
День идет к концу, чувствительность восстанавливается, это плохая чувствительность, то есть боль. Я о ней молчу. Никаких жалоб. Я сумею ее вынести. Это испытание, и я его выдержу с блеском.
Наступает время ужина, на столе все безвкусное, мягкое, такое, чтобы я мог это есть: картофельное пюре, йогурт, яблочный компот… Вот я уже доедаю десерт, тут примчался папа, но мне кажется, будто его здесь нет, он словно прозрачный или это его голограмма возникла в клинике, а настоящее папино тело еще в сотнях световых лет отсюда. Когда он дематериализовался, я вздохнул с облегчением.
Мама провела ночь в моей палате на раскладушке. Медсестра дала мне обезболивающее, чтобы я смог уснуть. Я получил порцию крепкого сна без сновидений, а когда проснулся, боль все еще была. Но я ничего не сказал.
Домой мы вернулись позже, к середине дня. Медсестра объяснила маме, как обрабатывать мой висок, чтобы он заживал, а мама растолковала мне все насчет дермы, эпидермы и клеток, которые делятся.
Когда они делятся быстро и упорядоченно, чтобы залатать пострадавшую поверхность, это хороший процесс. Когда они делятся быстро, но беспорядочно, это процесс плохой, он называется рак. Мама сняла мою повязку и старательно потыкала в рану ваткой с дезинфицирующим средством, я ей сказал, что она самая милая сиделка на свете, а она мне сказала, что я самый терпеливый пациент, тогда я наградил ее улыбкой, но слабой, чтобы она чувствовала, каких усилий мне стоило улыбнуться ей.
Дни шли за днями, а боль все не уходила, это было что-то вроде крестной муки.
В воскресенье, через четыре дня после операции, мама попросила папу прийти посмотреть, как она делает мне перевязку. Когда папа увидел мой висок, он побледнел; я это заметил и сразу понял: ситуация ухудшается вместо того, чтобы улучшаться. Туда занесли инфекцию. Неизвестно, как это могло случиться, ведь мама обрабатывала рану дезинфицирующим препаратом, но там все-таки завелся какой-то микроб. Микробы — это как крохотные микроскопические звери, они кормятся живой плотью и пытаются ее убить. Теперь у меня на виске нарыв.
— Абсцесс, — объясняет мама, — содержит все те клетки, которые микробы постарались разрушить. Есть разные породы микробов, это, видишь ли, то же самое, как люди бывают различных рас.
— На тебя подло напали клетки-террористы, — говорит папа. — Надо будет сделать биопсию, чтобы посмотреть, кто сеет смуту. Ведь пока неясно, шииты это или сунниты, а может, тут какие-то злобные козни «Аль-Кайды». Но не волнуйся, мы своей цели достигнем.
— Мы их истребим, — сказал я.
— Ну да. Бросим на них танки-антибиотики.
Врач сказал, что нужна еще одна операция.
На сей раз он меня усыпил. Свет погас. Солнце кануло. Лучезарного Сола выключили в разгаре дня. Когда я пришел в себя и увидел маму, склонившуюся над моим изголовьем, я вдруг запаниковал: несколько секунд не мог понять, кто я, или, вернее, в моей голове еще не было меня, способного быть кем-то. Ужасное ощущение. Когда я наконец всплыл на поверхность и моя личность со своими воспоминаниями и надеждами утвердилась на положенном месте, я разозлился на врача: не мог простить ему этот потерянный час жизни.
Теперь меня продержали в клинике под наблюдением на день дольше и еще оставили на ночь. А когда отправляли домой, маме дали большущий, в руку длиной, список лекарств, которые требуется купить.
Но все равно я паршиво себя чувствую. Летние каникулы вконец испорчены, половина июля уже прошла, а я то валяюсь сонный в постели, то слоняюсь по дому, как неприкаянный; мне ни в Google зайти неохота, ни побаловаться с кончиком. Все потому, что я пока еще не вполне я.
Голова болит.
Мы возвращаемся в клинику, все трое. На этот раз маме приходится объяснить мне еще одно новое слово — «некроз», оно означает, что часть кожи вокруг моей раны совершенно мертва, так хорошо удалась микробам их атака. «Как бандитам в Ираке, — вставляет папа. — Их действия невозможно контролировать, стало быть, если мы хотим помешать распространению терроризма, надо ворваться в Фаллуджу и всех убить».
— А теперь, мой милый, — говорит мама, — тебе сделают пересадку.
— Это еще что?
— Ну, просто надо заменить мертвую кожу на таком видном месте твоего тела живой кожей, которую возьмут с другого места, менее заметного.
— С какого?
— Придется отколупнуть от трона вашего величества, — папа пытается рассмеяться, но вид у них у обоих такой, будто их сейчас стошнит. Врач меня снова усыпляет, а когда прихожу в себя, болит уже все тело, голову мне обрили, к тому же сильно поднялась температура. Пришлось провести в клинике на реабилитации целую неделю, раньше меня не выпустили.
Теперь Джон Керри пытается обойти Джорджа Буша в гонке за Белый дом, но никому в доме дела нет до избирательной кампании, у нас только и разговоров что о моей болезни. Творя молитву перед едой и вечером, укладывая меня спать, мама все просит Господа исцелить меня. В воскресенье утром папа остается дома, чтобы присматривать за мной, а мама идет в церковь одна. Она молится о моем выздоровлении снова и снова, но я все еще чувствую себя ужасно. Папа теперь злится на маму, зачем она настояла на превентивной операции, а мама на папу за то, что сообщил об этом своей матери: похоже, новость привела бабулю Сэди в истерическое состояние — она решила проделать долгий путь из Израиля, только чтобы нас повидать.
— Если честно, Рэндл, — говорит мама, — я должна признаться, что в последнее время чувствую себя довольно неуравновешенной и ранимой. Не знаю, вынесу ли, если придется долгое время прожить под одной крышей с твоей матерью, которая подвергает мои нервы суровому испытанию даже тогда, когда я в наилучшей форме. Сколько времени она рассчитывает здесь провести?
— Не знаю, — вздыхает папа. — По-моему, она купила билет с открытой датой.
— Да ты хоть понимаешь, чем это пахнет? Говори прямо: она зарезервировала себе день отъезда? Да или нет?
— М-м-м, нет, мне кажется, что нет, — мямлит папа. — И что теперь?
— О Боже милосердный…
Обычно именно у папы возникали проблемы со своей родительницей, но теперь, когда мама нападает на бабушку Сэди, папа спешит ее защитить.
— У моей матери большие связи, Тэсс, — говорит он. — Она знакома с важными лицами Калифорнии. Она может нас свести с хорошим адвокатом.
— Адвокатом?
— Само собой! Ты же не думаешь, что я стану сидеть сложа руки, когда осатаневший мясник расправляется с моим сыном? Я притяну его к суду, этого грязного врачишку. Проклятый пакостник, он просто-напросто…
— Рэндл!
— Мне ужасно жаль, Тэсс. По правде сказать, для меня все это тоже… невыносимо…
Тут мой отец кинулся вон из комнаты, ведь мужчины не должны плакать при свидетелях, хоть это и человечно, как утверждает Шварценеггер в «Терминаторе-2».
Большую часть времени я сплю и даже после долгого сна чувствую себя вялым, апатичным. Я тоже не в восторге, как подумаю, что увижу бабулю Сэди. Знаю, она на меня рассчитывает в том, в чем дали осечку все мужчины ее жизни: ее отец, которого она никогда не видела, муж, непризнанный драматург, безвременно умерший, и сын, которому она в один прекрасный день бросила в лицо, что он «бесхребетный чиновник». И я не обману ее надежд, готов даже в этом поклясться, но лучше бы она заявилась сюда, когда я буду поздоровее. Сейчас, видя меня в этом дохлом состоянии, не так-то легко поверить, что я спаситель человечества.
Папа съездил в аэропорт Сан-Франциско, встретил бабулю Сэди, привез ее в своей машине вместе с инвалидным креслом, засунутым в багажник, и несколькими толстыми чемоданами, вид которых нас изрядно встревожил, ибо наводил на мысль о возможной длительности ее пребывания у нас. Мы с мамой, взявшись за руки, ждали на крыльце, пока папа толкал свою матушку вверх по пандусу, приспособленному специально для ее коляски. Со времени последнего своего приезда бабуля растолстела еще больше, пандус скрипел под ее тяжестью. Едва добравшись до кухни, она повернулась, глянула на меня и поманила к себе; я приблизился, хромая, но стараясь выглядеть бодрым, несмотря на эту жалкую повязку на лбу и прочие бинты, скрытые под пижамными штанами.
— Соломон! Посмотри! У меня для тебя подарок!
Она порылась в сумке и достала что-то, завернутое в папиросную бумагу. Когда я ее развернул, там оказалась ермолка, и вправду очень хорошенькая, обшитая черным бархатом, украшенная звездами и ракетами, с вышитыми золотой нитью словами «Звездные войны».
— Примерь ее, Соломон. Когда-то она принадлежала твоему отцу. Ты помнишь, Рэндл? Ее подарили тебе в честь твоей бар-мицвы, тогда как раз вышла видеоигра «Звездные войны». Гляди, она как новая! Невероятно, правда?
— Я, видимо, не так уж часто ее надевал, — буркнул папа.
— Ну же, примерь ее, Соломон! Посмотрим, пойдет ли она тебе!
— Прошу прощения, ма, — раздался мамин голос. Мне всегда странно слышать, что она называет бабулю Сэди «ма», будто вправду приходится ей дочерью, но это просто такой знак уважения, ничего больше. — Знаю, у вас добрые намерения, но мы же протестантская семья.
— Примерь, примерь, — настаивала бабуля Сэди, она не придала маминым словам ни малейшего значения, так что я уже не знал, что мне-то делать; я покосился на папу, и он, проверив, не смотрит ли на него мама, украдкой кивнул; тогда я надел ермолку. Она была мне сильно велика, зато отлично скрывала бинты.
— Бесподобно! — объявила бабуля Сэди. — Будто на тебя сшита! И никаким ядом не пропитана, — добавила она, обращаясь к маме. — Еврейская идея не проникнет из нее в голову. Он просто сможет надевать ее, когда вздумается, в память о своей израильской бабке. Договорились?
Мама опустила глаза и стала смотреть на свои руки.
— Это надо понимать как «да», не так ли?
— Думаю, что так, если Рэндл согласится, — пробормотала мама.
— Я не против, — откликнулся папа с облегчением, довольный, что эти три коротких слова могут примирить его мать с его же супругой. — А теперь, малыш, брысь отсюда! Иди спать.
И я повиновался… так устал, что даже не пошел на верхнюю площадку лестницы подслушивать продолжение их разговора, что не преминул бы сделать, если бы был здоров.
Начиная с этого дня атмосфера в доме стала искрить, перенасыщенная дурным электричеством: папа отсутствовал с утра до вечера, хозяйка и гостья все часы проводили вместе, при столь тесном общении таких двух женщин только и жди короткого замыкания. Маме теперь приходилось не только заниматься мной, бегать по магазинам, готовить еду и поддерживать порядок в доме, но и ублажать беспомощную свекровь, к тому же правоверную иудейку, которой пища, к примеру, требовалась исключительно кошерная.
Сэди — фигура внушительная во всех смыслах этого слова. Однажды я слышал, как папа рассказывал маме, что некогда его родительница поддерживала себя в форме, соблюдала специальную диету, но после автокатастрофы бросила, и тогда ее тело, предоставленное своей участи, стало огромным, перешло все мыслимые пределы. Но в этом изобилии плоти сквозит величавость, этакая природная мощь. Когда бабуля на кухне спорит с мамой, мне из моей комнаты на втором этаже слышно, как она свирепствует, в то время как маминых ответов, если таковые имеют место, я расслышать не могу.
«Что за нелепая история, сущий бред… вот уж чего поистине не следовало затевать… Это чья же была идея?»
«И сколько же вы заплатили за эту так называемую операцию? Что-что?!! Я, наверное, ослышалась?!»
И так без конца.
Единственное, в чем мама и Сэди сходятся, что у них общего, — это любовь к моему папе. Но и любовь эта совсем разная: когда их слушаешь, не верится, что обе говорят об одном и том же человеке.
И еще, само собой, у них есть я.
Свою любовь ко мне бабуля Сэди выражает тем, что каждое утро ровно в восемь устраивается в кресле на веранде и, вытребовав туда же меня, два часа подряд читает мне всякие истории из Ветхого Завета.
— Надо выработать ему режим! — говорит она, когда мама спрашивает, не кажется ли ей, что целых два часа — это немного слишком. — Нечего позволять ребенку без толку слоняться по дому и делать, что в голову взбредет, — есть, спать, смотреть телевизор… Это чудовищно — такой режим у шестилетнего мальчишки! Его ум ослабеет, раскиснет. Когда осенью он пойдет в школу, преимущества, которых он достиг, опережая других детей, будут утрачены!
Когда библейские байки мне надоедают, я ускользаю в пространства своего воображения, включив экранный дисплей: просто надо иногда кивать, чтобы показать, что слушаешь. Но иные из этих историй до того переполнены насилием и яростью, разрушением и местью, что прямо чудно. Мне особенно нравится момент, когда Самсон, обозлившись на Далилу за ее предательство, наваливается на колонны храма так, что здание рушится ему же на голову и заодно всех убивает. «Это вроде людей-бомб в сегодняшнем Израиле!» — говорю я, гордясь возможностью показать бабуле, что немножко разбираюсь в делах ее страны, но она качает головой: «Ничего подобного! Это совсем разные вещи!» И продолжает чтение.
Через две недели ей взбрело в голову, помимо библейских чтений, давать мне уроки иврита, но тут уж мама уперлась:
— Я не желаю, чтобы мой мальчик говорил на иврите.
— Но почему? — удивилась бабуля Сэди. — Так у него хоть появится занятие, и потом, это очень красивый язык. Спросите у Рэндла, он его обожает.
— Кто? Рэндл?
— Ну да, кто же еще… этот тип, за которого вы вышли замуж…
— Рэндл говорит по-еврейски?
— Нет, я просто ушам своим не верю! — бабуля Сэди не скрывала возмущения. — Ведь говорил же он вам, что, когда был маленьким, прожил год в Хайфе?
— Конечно.
— И что он ходил в еврейскую ешиву?
— Да…
— И на каком, по-вашему, языке там давались уроки — на японском, что ли? Он с успехом сдал вступительный экзамен после одного-единственного месяца частных занятий в Нью-Йорке! Ах, мой сын в ту пору — это было нечто необыкновенное! Я лопалась от гордости.
— Могу себе представить, — процедила мама.
Ее прямо затрясло от бабулиных слов, ведь она знала, что, по мнению Сэди, именно брак с ней обрек Рэндла на участь заурядного обывателя. Как мог столь блестящий юноша жениться на девице, которая, кроме Западного побережья Соединенных Штатов, в жизни нигде не бывала, не имела университетского диплома, не говорила ни на одном иностранном языке (сама-то она, Сэди, безукоризненно владела тремя и худо-бедно могла объясниться еще на семи или восьми)? Однако мама, к счастью, не вспылила, успела-таки прибегнуть к приемам, освоенным на занятиях ее семинаров по релаксации и человеческим взаимоотношениям.
— Видите ли, ма, — заговорила она тоном, означающим «я-себя-контролирую-я-владею-собой», — мне понятно, что изучение иврита в тот период принесло Рэндлу известную пользу, но должна вам напомнить, что в нашем доме вы — гостья и дом это протестантский, англоязычный. Когда для Солли придет время изучать иностранный язык, то решать, какой именно, будут не его дедушки и бабушки, а родители. Не так ли?
С этими словами она повернулась и ушла с веранды в дом.
Вскоре на веранде стало слишком жарко, бабуля Сэди тоже выкатилась оттуда и снова затеяла разговор с мамой. У нее в запасе есть еще одна излюбленная тема, вгоняющая собеседников в гроб, — это ее книга о Второй мировой войне. Она маму целыми днями изводит, все перечисляет цифры, касающиеся разных бед, отошедших в прошлое задолго до ее рождения.
— Я на пределе, — с дрожью в голосе жаловалась мама в тот вечер (они с папой уже собирались лечь спать). — Почему она не может оставить в покое эту тему? Откуда в ней такая потребность заставить меня забивать себе голову фактами древней истории?
Папа, как всегда, пустился в рассуждения, привычно пытаясь успокоить маму, смягчить трения между двумя женщинами:
— Ну, Тэсс, как-никак это ее специальность. Военная сторона нацизма известна всем, а она занимается другим его аспектом — зарождением, ее волнует вопрос, каким был нацизм в колыбели. То, что для нас — древняя история, ее «вчера», ее «сейчас»; она сама — порождение этой истории. Постарайся понять ее, прошу тебя…
— Рэндл, — сказала мама. — Я ее понимаю, но моя кухня — не университетская кафедра. У меня в настоящий момент несколько другие заботы, в первую очередь здоровье НАШЕГО СЫНА, я не могу допустить, чтобы мне без конца капали на мозги про эти двести пятьдесят тысяч детей, вывезенных нацистами в сороковые годы из Восточной Европы!.. И про эти мерзкие центры, Лебенсраум или уж не знаю что…
— Не Лебенсраум, а Лебенсборн.
— Да мне на это…!!!
Бранные слова в маминых устах остаются непроизнесенными, потому-то и впечатляют вдвойне. За этим взрывом голосов в их комнате, смежной с моей, последовало тяжеленное молчание, потом они, наверное, в конце концов заснули. И я тоже.
Поскольку мама на грани нервного срыва, папа взял отгул: надумал свозить меня в Сан-Франциско к другому врачу, послушать, что он скажет. Бабуля Сэди поехала с нами, чтобы мама смогла передохнуть.
Новый доктор считает, что я на пути к выздоровлению, но теперь у меня на виске шрам, куда более заметный, чем родинка, что была там раньше, и он вряд ли исчезнет.
Это шок.
Бросающееся в глаза несовершенство, видимый порок на теле Сола — да, такое потрясает.
На обратном пути я отстегнул ремни безопасности, растянулся на заднем сиденье и закрыл глаза.
«Дорогой Боже…» (Нет, сейчас я не знал, что сказать — я зол на Него.)
«Дорогой президент Буш, я от души надеюсь, что в ноябре вы будете переизбраны.
Дорогой губернатор Шварценеггер, пожалуйста, мне бы хотелось, чтобы вы, как в начале „Терминатора“, вырвали сердце у врача, который сделал мне это. Папа затеял против него процесс, но это стоит кучу денег и будет тянуться месяцы, а то и годы. Насколько было бы проще, если бы вы смогли уладить это дело по-своему!»
На переднем сиденье папа и бабуля Сэди, должно быть, решили, что я заснул, они стали говорить полушепотом. Вдруг я навострил уши… тут-то и выяснилось наконец, что именно делает мой папа для усиления нашей военной мощи в Ираке, какой бы там государственной тайной это у них ни считалось. Интересное дело: даже в старости, когда тебе уже двадцать восемь, ты все еще хочешь, чтобы твоя мама тобой гордилась, и стыдишься, если она видит в тебе «nebish» — это слово Сэди мне объяснила, оно означает полный нуль, меньше, чем ничего, то есть, иначе говоря, когда она думает, что ты слабак, «бесхребетный чиновник».
— «Талон» совершит переворот в современной военной науке, — сказал папа.
— Талант? Чей? — рассеянно спросила бабуля Сэди.
— Не талант, а «Талон». Новый военный робот.
— В самом деле? Так вот чем ты занимаешься? Ты конструируешь военных роботов?
— Нет, я не сам их конструирую. Но мы — одна из тех немногих избранных контор Силиконовой долины, на которые возложена задача разработать для них кое-какие технологические аспекты. Головная организация находится на Восточном побережье, в Массачусетсе, она связана с другими, ведущими углубленные изыскания по различным частным вопросам робототехники. Они разбросаны, считай, по всему миру: в Шотландии, в Швеции, во Франции… причем, заметь, в Германии тоже есть одна такая!..
— Я тебя не о схеме управления спрашиваю, — перебила бабуля Сэди. — Лучше расскажи, что представляют собой эти «Талоны».
— Что ж, — папа заметно воодушевился, — сказать по правде, это нечто фантастическое! Можно подумать, будто они вышли прямиком из «Звездных войн». Они располагают всеми преимуществами человека, но без его недостатков.
— А поподробнее?
— Ну, во-первых, они не умирают, а следовательно, не оставляют после себя безутешных вдов и сирот, которым надо потом до конца их жизни выплачивать пенсию. Исключается также синдром возвращения на родину мертвых тел, когда людей будоражат известия о жертвах с американской стороны…
— Понятно.
— Во-вторых, у них нет никаких физиологических и психологических потребностей, что наглядным образом сократит военные расходы. Больше не будет нужды без конца снабжать нашу армию продуктами питания и напитками, отпадет надобность в посттравматической сексо- и психотерапии. В-третьих, это великолепные воины: мобильные, четкие, беспощадные. Они снабжены камерами, благодаря которым можно видеть все то, что видят они; можно ими управлять дистанционно, приказывать целиться и стрелять. В-четвертых: они не нуждаются в развлечениях, их не ждут дома влюбленные девицы, им глубоко плевать на человеческие права и достоинство противника… Одним словом, они свободны от эмоций. Ни гнева, ни страха, ни жалости, ни угрызений. Все это, естественно, повышает их результативность как воинов.
Папа так увлекся расхваливанием своих «Талонов», что мне уже казалось, он никогда не остановится, перечисляя их достоинства, но тут бабуля Сэди его прервала:
— Замолчи! — Голос она понизила еще больше, так старалась не разбудить меня, но и по ее шепоту слышно было, что она в ярости. — Остановись! Ты хоть соображаешь, что сейчас описал, Рэндл? До тебя доходит?
До папы прекрасно доходило, что именно он описал, он сообразил также, что бабулины вопросы не взаправдашние, а риторические, и потому ждал, что она сама на них ответит. Ждать пришлось недолго:
— Идеальный нацист — вот что вы создали! Безукоризненный мачо: твердый, стальной, лишенный человеческих чувств. Рудольфа Гесса ты описываешь, не узнал?! Того самого типа, который управлял работой газовых камер в Освенциме. Главное — никаких сантиментов! Сантименты — это мягкотелость, что-то женственное, мерзкое. Враги — не люди, это подонки, нечисть, а мы — машины. Наше дело сосредоточиться на приказах, свести себя к приказу — и убивать, убивать, убивать.
— Боюсь, ма, что все это не с нацистов началось и не ими кончится. Это азы военной подготовки. Те же призывы на протяжении истории человечества вдалбливали всем воинам от Гильгамеша до Линд и Ингланд. Неужели ты веришь, что в твоем драгоценном Цахале все по-другому? Думаешь, Шарон, инспектируя свои войска, говорит им: «Дамы и господа, смотрите же, не забывайте: палестинцы точно такие же люди, как вы, поэтому, сбрасывая бомбы на Рамаллах, вам надлежит испытывать теплые чувства к каждой из своих жертв, будь то мужчина, женщина или дитя…»
— Рэндл, сейчас же прекрати! Оставь Цахал в покое! Мы же с тобой договорились не касаться этой темы. Но… роботы! Нет, это уж слишком!
Мое сердце колотилось. Я ошалел от восторга: мой отец содействует отправке в Ирак солдат-роботов, которые будут убивать наших врагов! Он говорил мне, что причастен к борьбе, но разве я думал, что он там не где-нибудь, а среди первых и замешан в таких важных, тонких вещах? При одной мысли об этих роботах, как они, ощетинившись оружием, стреляют в арабов, а потом равнодушно смотрят, как те дрыгаются на забрызганном кровью песке, я впервые за последние долгие недели почувствовал, что мой пенис твердеет! Значит, я наконец выздоравливаю! Я натянул на себя покрывало, легонько подрючил свой кончик и соскользнул в сон.
…По городу шастают роботы, они врываются в дома и похищают детей, потом вскрывают им черепа, чтобы посмотреть, как функционирует мозг. Больница полна детей с пустыми черепами: наш мозг удален, зато нас подключили к машинам, чтобы тела продолжали жить. Мама ежедневно навещает меня в клинике, хотя знает, что я больше никогда не смогу думать. Я вижу ее и узнаю, но говорить с ней не могу; как ни странно, мне это безразлично.
Когда я проснулся, мы уже почти приехали, а разговор на переднем сиденье успел вернуться к своему отправному пункту.
— В Санта-Кларе в октябре планируется интернациональная встреча робототехников, — слышу я голос папы. — Это очень масштабное мероприятие. Моя контора в будущем месяце командирует меня в Европу для подготовительных переговоров.
— В Европу? Куда именно? — спрашивает бабуля Сэди, а папа тем временем уже повернул в аллею, ведущую к нашему дому, вот и машина останавливается.
— Как раз в те страны, о которых я тебе только что говорил, — во Францию, Швецию, Германию…
— Ты собираешься в Германию? В августе? — уточняет Сэди.
— У меня там три встречи в разных местах — во Франкфурте, Хемнице и Мюнхене.
— Значит, в августе ты будешь в Мюнхене? — повторяет бабуля, но папа не отвечает, теперь ведь это тоже риторический вопрос; он заглушает мотор. Несколько секунд проходят в молчанье, слышны только птичий щебет да лай собак где-то вдали.
— Знаешь что, Рэндл? — говорит наконец бабуля Сэди. — Знаешь что? Вся семья отправится в Мюнхен вслед за тобой.
— Но я не…
— Да, да!
— Я что-то в толк не возьму, ма.
— Нет, право же, это гениальная мысль. Гениальная! Послушай. Возьмем с собой бабулю Эрру. Ведь Грета, ее старшая сестра, живет в окрестностях Мюнхена, и она очень больна. Она мне писала, что многое отдала бы, только бы перед смертью повидать сестренку. Так что я вас всех приглашаю!
— Извини, ма, но ты несешь полнейшую чепуху. Тебе никогда не уговорить свою мать приехать. Не только потому, что вот уже шестьдесят лет ноги ее не было в Германии, не только потому, что она с тех же пор потеряла всякий контакт с этой… так называемой сестрой… Но для нее даже ты… Вы же с ней уже пятнадцать лет как не разговариваете!
— Четырнадцать.
— Ладно, четырнадцать. Слушай, ма, с твоей стороны это очень мило, но спасибо — нет. Меня психодрамы этого сорта мало соблазняют.
— Да подумай же, Рэндл! Подумай о Тэсс, как полезно ей будет путешествие, она ведь никогда носа не высовывала за пределы Соединенных Штатов. А Соломон? Мальчик подавлен после всех этих печальных испытаний, которым вы его подвергли… Вместо того чтобы торчать здесь все лето и киснуть от скуки, ожидая, пока у него отрастут волосы и начнутся занятия в школе, он переживет дьявольски увлекательное приключение! И Грета… Я многим ей обязана, Рэндл, ведь Грета мне помогала в моей работе. Я никогда не теряла с ней связи. У нее рак, она при смерти, и ее самое страстное желание — в последний раз увидеть сестру… Что до тебя, ты так или иначе должен съездить в Мюнхен, так о чем речь? А? В чем проблема?
Этот замысел бабули Сэди весь дом вверх дном перевернул.
На следующий день, в субботу, за завтраком провели голосование: мы с мамой были «за», а папа «против»; получалось уже трое против одного. Даже если ПРА скажет «нет», все равно «да» в большинстве.
— Не имеет значения! — заявил папа. — Если Эрра проголосует «против», она не приедет, тогда путешествие станет бессмысленным для всех.
— Да ничего подобного! — хором закричали мы с мамой. А мама прибавила: — Так или иначе, мы увидим Германию и познакомимся с сестрой твоей бабушки. Ведь не каждый день узнаешь, что у тебя есть родственники в Европе!
— Есть только один способ разрешить вопрос, Рэндл, — сказала бабуля Сэди. — Ты должен позвонить Эрре.
— Позвони сама. Твоя идея — ты и звони!
— Нет, это нелепо. Мы так давно не разговариваем… Она даже моего голоса не узнает.
— Вот что, ма: если хочешь затащить ее в Мюнхен, тебе придется с ней поговорить. Так лучше начать прямо сейчас, разве нет?
— Ну же, Рэн, прошу тебя, позвони. Ты скорее сумеешь убедить ее. Вы с Эррой всегда были так близки.
— Но у меня нет ни малейшего желания ее убеждать! Это ты жаждешь уговорить ее!
— Ладно, хорошо, о’кей. Как бы то ни было, сейчас еще слишком рано. Вспомни о несовпадении часовых поясов: в Нью-Йорке около шести утра, не больше.
— Э-э нет, ты ошибаешься. Надо не отнять три часа, а прибавить. Стало быть, в Нью-Йорке сейчас ровно полдень, прекрасное время для телефонного звонка.
— Ох ты, Боже милостивый! — воскликнула бабуля Сэди, краснея до корней своего парика. — Ладно, хорошо, о’кей.
Она развернула свое инвалидное кресло и покатила в гостевую комнату, а дверь за собой плотно закрыла, чтобы позвонить без всяких помех, До кухни доносился ее голос, но не слова — расслышать можно было только интонацию, менее резкую, чем обычно. Боясь, как бы кто не подумал, что она навострила уши, пытаясь уловить хоть слово, мама встала:
— Не хочешь помочь мне убрать со стола, Рэндл?
Папа нервно дернулся и буркнул:
— Да-да, конечно.
Потом мама спросила, не выпью ли я еще немного молока, а я ответил, что нет. Тогда, хоть я отхлебнул всего один маленький глоточек, она выплеснула стакан в раковину, ведь никогда не знаешь: может, поднеся его к губам, я успел занести туда парочку микробов; в нашей нынешней ситуации подстраховаться лучше, чем потом лечиться.
— Не пора ли совершить большое дело, мой ангел? — спросила она затем, подразумевая, что мне бы не мешало покакать. Но когда я поплелся в направлении туалета, бабуля Сэди выехала из своей комнаты, преградив мне дорогу своим креслом. И остановилась, ни слова не говоря, с ошарашенным видом.
— Ну? — осведомился папа, захлопывая дверцу посудомоечной машины немного резче, чем обычно. — Как там дела? Что решила Эрра? Она проголосовала?
Бабуля Сэди закрыла глаза, потом открыла и произнесла таким нежным голосом, какого мы никогда от нее не слышали:
— Да. Она проголосовала «за».
Мы с мамой закричали «Ура!», а папа так и застыл столбом посреди кухни, изумленно бормоча про себя:
— Если это не шутка, то неправда.
Прошло каких-нибудь три недели, и вот мы в самолете.
Я летал тысячи раз — на экране монитора, в инете или на игровых приставках моих приятелей: вот я вихрем мчусь в космической пустоте срываюсь падаю парю без усилия кувыркаюсь среди галактик взрывая их одним нажатием кнопки и чувствуя на своем лице мелькание багровых отсветов их разрушения… Но настоящий полет обернулся для меня неприятным сюрпризом.
Когда моторы резко взвыли в самых ушах и жужжащая вибрация машины отдалась в животе, я перепугался жутко, так вцепился в мамину руку, что она отняла ее:
— Извини, миленький, ты делаешь мне больно.
Потом самолет стал подниматься, тут я запаниковал уже по-настоящему, меня распластало, вдавило в сиденье, да вдобавок еще этот стук в висках! Люди вокруг вели себя так, будто ничего не происходит: они читали, болтали, смотрели в окно, а во мне бился, рвался из глотки вопль, я скорчился всем телом, стараясь не выпустить его наружу, но он разрывал мне грудь, полет — это же пытка, желудок подкатывает к горлу, меня сейчас вырвет, «Мама, мама!», ох, мне хотелось закричать: «Как ты можешь позволять, чтобы со мной делали такое?» — совсем как Иисус, он ведь, когда его гвоздями приколачивали к кресту, тоже возопил: «Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил?»
— Оп-ля — держи, мой ангел, — сказала мама. Она достала из кармашка на спинке сиденья напротив белый бумажный пакет и раскрыла его перед моим ртом. Я был потрясен. Выходит, люди заранее знали, что полет может вызвать рвоту, постановили, что беда невелика, и предоставляют в твое распоряжение бумажный пакет для блевотины? Но ведь блевать — это кошмар, это грубо противоречит тому, что должно происходить с пищей, попавшей в желудок. Рвота — не что иное, как хаос, подобие Вселенной, какой она была, прежде чем Бог заинтересовался ею. Я испытал все — озноб и тошноту, мне открылся подлинный смысл слов «холодный пот выступил…» и т. д., но меня так и не вырвало, ведь я ничего не ел за завтраком. Мама ласково подула мне на лоб, и худшие симптомы помаленьку отпустили, но я не мог даже подумать о том, что мне предстоит пережить это еще три раза — в Нью-Йорке мы сделаем пересадку, чтобы ПРА смогла присоединиться к нам и дальше лететь вместе, стало быть, всего выходит четыре взлета: два на пути туда и столько же на обратном.
Все это путешествие — сущий ужас, я не желаю, чтобы меня видели таким, когда я при всем честном народе судорожно цепляюсь за мамину руку от малейшего толчка. Я хочу, чтобы это кончилось. Хочу уничтожить этот самолет с его оглушительным гудением, тряской и сотнями пассажиров, потеющих и отравляющих воздух своим несвежим дыханием, с их ревущими младенцами, с жирными немками, что теснятся в очереди перед туалетом, и стюардессами, у которых, когда они улыбаются, морщится кожа вокруг глаз… щелкнуть бы пальцами, и чтобы все это исчезло, а мы р-раз — и очутились в Германии, на земле.
В Нью-Йорке после стольких лет разлуки мать и дочь встретились наконец, но все выглядело совсем не так, как изображают по телевизору, — никаких слез, вздохов и душераздирающих восклицаний. Встреча произошла в самолете, ведь для нас Нью-Йорк не более чем промежуточная посадка: мы даже не имели права выйти из салона. И к тому же бабуля Сэди со своими парализованными ногами и встать-то не могла, когда в дверях показался белоснежный ореол волос ПРА, она ей только рукой помахала, а ПРА, подойдя к нам, этак легонько, мило чмокнула каждого, всех одинаково, не важно, сколько не виделись — четыре месяца или четырнадцать лет. Потом она двинулась дальше по проходу, ее место было в самом хвосте салона. И снова — кошмар взлета.
Как только мы вправду оказались выше облаков, проблема сменилась: теперь я мучился уже не от страха, а от скуки, ведь в самолете совершенно нечем заняться. Мама просмотрела программу фильмов и решила, что я слишком мал, чтобы смотреть «Дневник Бриджет Джонс». Я подумал, что это вряд ли так же «эксплицитно», как сайт тюрьмы «Абу-Грейб» или «Трахни покрепче», но делиться своими соображениями не стал, чтобы ее не травмировать. Она же развлекалась, листая книгу с описанием всех тех волшебных мест, которые можно посетить в Мюнхене и его окрестностях.
Бабуля Сэди заранее заказала кошерный обед, хотя, по правде сказать, я не понимаю, в чем там, собственно, дело, знаю только, что это для евреев. Мама шепотом прочитала благодарственную молитву и съела все, что было на подносе, потому что, сказала она, обед бесплатный и тем разумнее им воспользоваться, а к тому же это ее первый трансатлантический перелет, его надо отпраздновать. Для меня этот обед, само собой, не годился, но мама, пользуясь тем, что папа уже в Европе и никто ее не раскритикует, приготовила целую сумку мягких закусок, которые я мог пожевать. Когда вздумается, я запускал туда руку и что-нибудь вытаскивал — то сандвич с арахисовым маслом, то ломоть сыра, то банан, я отщипывал кусочки, засовывал в рот и давал им растаять между губами и деснами, разжижая их и контролируя в надежде, что они проявят добрую волю и путем дистанционной загрузки преобразуются в хорошо вылепленные какашки, вместо того чтобы подняться и возбудить мятеж, выплеснувшись из моих уст в виде блевотины.
В ночные часы, когда мы летели над Атлантическим океаном, маме пришлось дважды встать, чтобы помочь бабуле Сэди добраться до туалета. Это целая экспедиция.
Но вот мы прибыли в Мюнхен, и воздух сразу наполнился непонятными словами. Я счел это личным оскорблением, они меня прямо душили, я уцепился за мамину руку и что было сил вслушивался в ее разговор с бабулей Сэди. Я всесилен и всезнающ, но сейчас в этом гигантском модерновом аэропорту волей-неволей чувствовал себя, будто самый обыкновенный маленький мальчик, и наверняка выглядел растерянным. Когда мы добрались наконец до раздвижных дверей, за ними уже ждал папа; на лицо он наклеил широченную улыбку, по сути означавшую, что он предпочел бы не переживать всего того, что ему уготовано в ближайшие дни. Он повел нас к машине, которую нанял здесь же, в аэропорту; одной рукой он подталкивал катучее кресло своей матери, в другой тащил чемодан, одним ухом слушал речи супруги, другим — материнские, одним глазом следил за сынишкой, другим проверял, нс потерялась ли в толпе его обожаемая бабушка.
Я устроился между мамой и ПРА на заднем сиденье машины, а бабуля Сэди села впереди, разложив на коленях карту, а то ведь папа ничего не смыслит в здешних дорожных указателях.
— Скорее говори, куда поворачивать — налево?
— Направо! Направо! — вскрикивает бабуля Сэди, она-то по-немецки говорит бегло.
— Черт! — бормочет папа, успевая развернуться в последний момент, а мама ему:
— О Рэндл, это на каком языке? Что за слово такое?
Но ее шутка терпит крах.
— Черт побери! — с чувством твердит папа. — Не хочешь ли сама сесть за руль, а, Тэсси?
Мама краснеет и съеживается.
Мне тоже не нравится, что указатели на немецком языке. Это как двери, которые захлопываются у тебя перед носом одна за другой. Я упорствую, не спрашиваю у бабули Сэди, что значат все эти надписи: отказываюсь признать, что чего-то не понимаю. Нет уж, к тому времени, когда я достигну совершеннолетия, все обитатели планеты обязаны перейти на английский, а если сами не додумаются, это станет одним из первых законов, которые я провозглашу, как только приду к власти. Меня воротит от чуждости этой страны, знобит аж до гусиной кожи, и мой шрам, хоть и спрятан под ермолкой, становится еще отвратительнее. Я тщусь заново позолотить свой герб, отшлифовать ордена, напомнить себе, что я — шестилетний ребенок, гениальнее которого нет на всей Земле, но это не так-то просто, когда сидишь в машине, которая чуть не лопается от нервного напряжения, нагнетаемого подспудными трениями взрослых; хорошо хоть мама тихонько пожимает мне руку, подбадривает.
Наконец мы въезжаем собственно в Мюнхен, начинаем искать свою гостиницу, бабуля Сэди зычным голосом, для которого автомобиль тесноват, принимается излагать никому не нужную историю разных здешних зданий и сооружений, морочит нам голову россказнями о том, какие кварталы были уничтожены бомбардировками союзных войск, вот уж чему трудно поверить, больно чистеньким и современным выглядит все вокруг. Я замечаю, что руки ПРА непрестанно двигаются, она без конца сплетает, сжимает и выкручивает свои худые пальцы, до меня вдруг доходит, что она не произнесла ни единого слова с той минуты, когда ступила на родную землю. Я наблюдаю за ней украдкой. Надо же, как уставилась невидящими глазами в пустоту! И как бы вдруг разом жутко постарела.
— Ты что-нибудь узнаешь? — внезапно спрашивает бабуля Сэди, но тут же, осекшись, замолкает. Что она обращалась именно к своей матери, сомнения нет: никто другой из сидящих в этой машине здесь отродясь не бывал и не может что-либо узнать. Но ПРА не отвечает. Только все таращится прямо перед собой, ломает руки и дряхлеет, дряхлеет на глазах.
Впервые в жизни мне приходится ночевать в отеле, не вижу здесь ничего приятного, ведь бабуля Сэди помешана на экономии и, хотя наш вояж — ее затея, не может удержаться от намеков, во что ей все это обошлось, даром что гостиница, которую она выбрала, довольно убога, да еще нам приходится втроем спать в одной комнате. У бабули Сэди и ПРА тоже одна спальня на двоих, это для них, видимо, что-то значит, но что именно, мне чихать. Столуемся мы в дрянном гостиничном ресторане, здесь, если верить меню, многие блюда мерзость такая, что хуже не придумаешь, так прямо и называются — «Ворс»! Правда, Сэди утверждает, что это читается не «Ворс», а «Вюрст» и означает «Колбаса». Мама посмеялась: колбаса с ворсом, бр-р! Мне это все так испортило аппетит, что я смог съесть только один ломтик хлеба с обрезанной коркой. Сэди еще прибавила, что здесь, когда хотят сказать: «Плевал я на это», говорят: «Мне это не важнее колбасы». Папу такое выражение рассмешило, а по-моему, это полнейший идиотизм. Потом бабуля Сэди обратилась к ПРА, которая все молчала, открыла рот только один раз, чтобы обед заказать.
— Мама, — сказала она, странноватое слово в устах такой старухи, как бабуля Сэди, но она, видно, пыталась задобрить свою мамашу, развеселить ее, нельзя же было не заметить, как та ненормально онемела, — мама, помнишь песенку, которой ты меня когда-то научила, про Джонни Бёрбека? Ну, про того типа, который стал фаршем, упав в свою же мясорубку? Как там пелось, а?
— Я вас умоляю! — вскрикнула мама, наверняка испугалась, что у меня от такой песни начнутся кошмары или несварение желудка. Но, как бы то ни было, Эрра не отозвалась, так и сидела, уставившись на скатерть, и пила свое пиво. Никто не понимал, что это с ней.
— А еще ты меня спросила: «Что такое болонка?» Помнишь?
В ответ — по-прежнему ни звука.
— Ну-ка, Солли, что такое болонка? — Бабуля Сэди повернулась ко мне.
— Не знаю, — буркнул я.
— Вроде бы собачья порода, — хмыкнул папа, он-то наверняка не впервые слышал эту шутку.
— Нет, простофиля: это дама, которая живет в Болонье! — возвестила бабуля Сэди, и они оба покатились со смеху. Потом Сэди продолжила: — А что такое гамбургер, Солли?
— Ну, еда из «Макдоналдса», — сказал я без особой уверенности.
— Нет, простофиля: это господин из Гамбурга.
И они с папой снова заржали, в один голос, как нарочно.
— А еще был вопрос… ах, помоги мне, Рэндл… какой был третий вопрос?
Но к счастью, папа тоже забыл третью шутку, и они волей-неволей сменили тему.
А Эрра так и промолчала все время, пока мы сидели за столом.
Спал я, как бревно.
Утром — новая неприятность: в этом жалком отеле не нашлось иных яиц, кроме крутых (да еще холодных), а я-то признаю только яйца всмятку (горячие)! Мама бросилась на кухню, хотела им там растолковать, в чем проблема, но она же не говорит по-немецки, вот ничего и не вышло. Она стала просить Сэди пойти с ней, чтобы перевести, но бабуля, которая уже села завтракать, заявила своим трубным голосом:
— Перестаньте баловать своего сына, Тэсс! Если он голоден, будет есть яйца в любом виде. А если не голоден, то нечего суетиться.
Мама вернулась ко мне ни с чем, огорченно пожимая плечами, и тут у меня вся кровь так вскипела от ярости на этих людей, унизивших ее, что, пожалуй, на мне можно было бы сварить яйцо.
К несчастью, сестра Эрры, та самая, что одной ногой в могиле, все еще живет не в Мюнхене, а в том селении, где они обе выросли, туда от города целых два часа пути. Есть от чего прийти в отчаяние!
— Это же далеко! — плаксиво воззвал я к маме.
— Так или иначе, мой ангел, выбор у нас невелик.
— Два часа, — встрял папа, — это время, которое я трачу каждое утро, чтобы добраться до своей конторы.
— Как ты можешь сравнивать, Рэндл? — возразила мама. — Для ребенка это целая вечность.
— Тут ты ошибаешься, — проворчал папа. — Для меня это тоже вечность.
В машине мы расположились так же, как накануне: я на заднем сиденье, ПРА слева, мама справа. Уйму времени потратили, пока колесили по городу, но вот он наконец остался позади, а впереди — шоссе среди зеленых лугов.
— Мы едем на восток, в сторону австрийской границы, — сообщила бабуля Сэди. — Вон там расположен Берхтесгаден, ну, вы знаете, тот пресловутый баварский бункер, излюбленное убежище Гитлера. Он приказал вырыть в недрах горы что-то вроде фантастического лабиринта для него и его приятелей, они там устроили склад, где было столько шампанского, сигар, всяческих лакомств и одежды, что хватило бы на десятилетия осадного положения! Теперь все это превратили в роскошный отель.
— Значит, отсюда рукой подать до места, где родился губернатор Шварценеггер! — воскликнула мама, в восторге от подвернувшегося повода показать, что она изучила карту.
— Гм! — отозвалась бабуля Сэди. — Ну да, можно сказать и так, но если уж подать рукой, эта рука должна принадлежать великану! Шварценеггер родился в Граце, в двух с половиной сотнях километров на юго-запад от Берхтесгадена.
— О-хо-хо! — сказал папа. — Какое счастье, что в этой машине есть некто, столь безукоризненно информированный!
— Нет-нет, — примирительно уточнила Сэди, — сказать по правде, реплика Тэсс была очень уместна. Ведь семейство Шварценеггеров проявляло сильнейшую склонность к нацизму.
Это была именно та тема, которой маме любой ценой хотелось избежать, и она торопливо спросила, повернувшись к ПРА:
— Странно, должно быть, после стольких лет снова увидеть этот пейзаж, а?
И, вдруг понизив голос, прошептала:
— О, да она уснула!
Голова ПРА запрокинулась, рот открылся, она легонько похрапывала. Я никак не мог отделаться от ощущения, будто она дряхлеет с каждой минутой. Если смотреть с такого близкого расстояния, ее кожа смахивает на прозрачный пергамент, покрытый тысячами мелких морщинок, а сама она до того маленькая, маленькая и тоненькая, надо же, я никогда прежде не замечал, как она хрупка, можно подумать, это призрак… или мертвый воробушек… Что, если она умерла? Хотя нет, она же храпит, не может она быть мертвой, но я все-таки отодвигаюсь подальше, вцепляюсь в мамину руку и про себя твержу: «Господи, пожалуйста, я хочу, чтобы мама никогда не старела, прошу Тебя, Боже, сделай так, чтобы она всегда оставалась молодой и красивой…»
Мы едем… едем… едем… едем…
То и дело я спрашиваю, далеко ли еще, тогда мама дает мне советы, почерпнутые непосредственно из ее занятий йогой, буддизмом или чем-то в этом роде:
— Не думай все время о цели пути, мой ангел. Говори себе, что ты уже достиг ее. Сейчас — неповторимый момент твоей настоящей жизни! Упивайся им в полную силу! Посмотри, какой красивый пейзаж!
Я через силу заставляю себя пялиться на него. Холмистые равнины. Зеленые луга. Коровы, трактора, риги, фермерские дома. Еще холмистые равнины. Еще коровы и еще риги. Все это выглядит искусственно уменьшенным, как те маленькие дурацкие макеты ферм, которые иногда демонстрируют в зоопарке, чтобы дать городским детям представление о сельской местности.
Даже шоссе здесь крошечное в сравнении с калифорнийскими.
До сих пор во всем нашем пресловутом путешествии не было ровным счетом ничего интересного, и это еще мягко сказано.
Эрра проснулась в тот самый миг, когда мы въезжали в селение ее детства. Пробудилась, совсем как я: без перехода, во взгляде ни тени усталости, воспряла в одну секунду, будто свет включили, раз — и она уже бодра, энергична, вся настороже.
Похоже, ее молчание заразно — немота охватила всех. Никто в машине больше ни звука не произносит. Пять недвижных ртов. Мой отец ведет автомобиль очень медленно, мы тихо-тихо катим к центру селения.
Вдруг бабуля Сэди делает странный жест — просовывает руку назад и сжимает ладонь ПРА. За этой выходкой следует другая, еще неожиданнее: Эрра берет руку дочери и принимается нежно ее гладить.
И не кто-нибудь, а именно она нарушает общее молчание:
— Это здесь, Рэндл. Поверни налево и остановись. Да. Вот он, дом. Верно, все так.
Ну, тут начинается обычный цирк: надо вытащить из багажника складное катучее кресло, разложить его, помочь бабуле Сэди в нем расположиться, запереть дверцы на ключ и так далее; прохожие пялятся на нас, вылупив глаза, словно мы — труппа клоунов; я более чем отчетливо сознаю, как диковинна наша пестрая шумная орава, тут вам и огромная инвалидка в парике, и махонькая колдунья с серебряной головой, и мальчишка в ермолке с надписью «Звездные войны»; так бы и хлестнул их лазерным лучом по гляделкам, чтобы не смотрели, куда не надо… Но вот наконец мы вваливаемся внутрь дома.
После слепящего дневного света в коридоре темно, словно в погребе, но бабуля Сэди, продвигаясь вперед на своем кресле, показывает нам дорогу. Мы с мамой, рука в руке, топаем следом, и мама, наклонясь ко мне, шепчет:
— Наверное, сейчас тебе лучше снять шапочку, ангел мой.
ПРА опирается на папину руку, вообще-то у нее нет такой привычки, но сегодня она идет тяжело, так медленно, что они отстают, тащатся далеко позади, в конце концов Эрра совсем останавливается.
— В чем дело?! — кричит Сэди, она уже ждет нас у лифта в дальнем конце коридора.
— У нее тахикардия! — в ответ кричит папа. — Пульс слишком частый, сейчас она примет таблетку. Ты можешь потерпеть хоть секунду?
— Конечно, секунду потерпеть можно, — говорит бабуля Сэди. — Ладно, будем терпеть секунду.
ПРА вытаскивает из сумочки пузырек, трясет его, подставив ладонь, чтобы таблетки туда высыпались, потом накрывает этой ладонью раскрытый рот и замирает в ожидании. Еще немного, и она, кивнув головой, снова вцепляется в папин локоть.
И вот мы всей компанией столпились перед дверью с табличкой «3W». Чтобы придать еще больше значительности событию, и без того торжественному сверх меры, бабуля Сэди поочередно устремляет на каждого из нас тяжелый пристальный взгляд и только после этого жмет на кнопку звонка.
Через мгновение раздается скрежет нескольких отпираемых замков, и в дверном проеме перед нами, проступив на черном фоне неосвещенного коридора, возникает массивная женская фигура. Бабуля Сэди о чем-то спрашивает по-немецки, фигура так же отвечает, а я говорю себе, что, если мне придется весь остаток дня слушать разговоры на немецком, я умру. Но бабуля Сэди переводит:
— Она говорит, что ее сиделка, к несчастью, взяла на полдня отгул, так что она одна. Болезнь не позволяет ей принять нас так, как хотелось бы, но завтрак готов, он нас ждет, — и, хотя последнее сообщение абсолютно излишне, бабуля добавляет: — Это Грета.
Грета снова забубнила что-то по-немецки, но тут ПРА, перебивая ее, произнесла ясным, сильным голосом:
— Сегодня разговор пойдет на английском.
Театральным жестом отпустив руку моего отца, она шагнула вперед. Все невольно посторонились.
Сестры стояли теперь лицом к лицу, их разделяло расстояние сантиметров в пятьдесят. Они смотрели друг на друга. Они, мягко выражаясь, совсем не похожи. У Греты лицо грубое, с крупными чертами, глубокие, будто топором вырубленные морщины так избороздили ее воспаленные щеки и отвислый подбородок, словно на ломти изрезали; ее серые волосы заплетены в косу, узлом скрученную на затылке, а громадное тело колышется, как желе, под конфетно-розовым спортивным комбинезоном.
— Кристина! — пробормотала она, протягивая руки к ПРА.
Для меня это имя было полнейшей новостью, но никого больше оно не удивило, значит, во времена, когда ПРА была немкой, ее, видимо, и вправду так звали.
— Кристина! — повторила ее сестра, и я увидел, как в уголках глаз, утонувших в напластованиях жира, блеснули слезы.
Вместо того чтобы броситься в раскрытые объятия Греты, ПРА схватила ее за запястья, притянула к себе и резким, чуть ли не свирепым шепотом осведомилась:
— Что, если мы войдем?
— Ну да, разумеется, — залепетала Грета с акцентом. — Извините меня. Прошу вас, пожалуйте все, входите, входите. Сделайте одолжение, снимите обувь, на улицах столько пыли!
Бабуля Сэди приступила к ритуалу представления, Грета стала каждому из нас пожимать руку; при виде шрама у меня на виске она сдвинула брови так, что на лбу отпечаталась буква w:
— Несчастный случай? — спросила, тыча пальцем в свой собственный висок.
— О, это так, ничего! — хором воскликнули все четверо взрослых; совпадение их развеселило, они засмеялись, тоже в один голос, и это снова насмешило их, однако я не нашел в этом абсолютно ничего забавного.
На столе стояла уйма всяких вещей, которых я не ем. Колбасы с узором из сала, корнишоны и редис, фаршированные яйца, вонючие сыры, картофельный салат с луком, черный жесткий хлеб… К счастью, мама, заглянув на кухню, приметила коробку кукурузных хлопьев и спросила Грету, нельзя ли мне съесть тарелку? Потому что знала: при этой посторонней женщине папа не посмеет шпынять ее из-за моего пищевого рациона.
Мама настояла, чтобы мы все, расположившись вокруг стола, взялись за руки и сотворили молитву, при этом она возблагодарила Господа за необыкновенную встречу двух сестер после шести десятилетий разлуки, хотя остальные, похоже, были не так уж довольны, даже бабуля Сэди, придумавшая вытащить нас всех сюда. По окончании молитвы они забыли поцеловать меня и поаплодировать, так что я начал думать, что вся эта затея с поездкой — чудовищная ошибка. Свои хлопья я старался есть как можно медленнее, потому что мама запретила мне выходить из-за стола:
— Мы не у себя дома, сегодня тебе нужно быть таким умницей, чтобы комар носа не подточил, договорились?
Я изнывал от скуки, озирался, бесцельно натыкаясь взглядом на предметы. Чувство такое, будто тебя заперли в кукольном домике. Всюду, куда ни посмотришь, — мебель и безделушки, вышитые подушечки и салфеточки, граненые хрустальные чашечки, статуэтки, на стенах, оклеенных обоями в цветочек, фотографии и картины в рамках, каждый квадратный сантиметр чем-то занят и украшен, эх, стать бы черепашкой-ниндзя, размахнуться и врезать, крушить руками, ногами, направо, налево — Бах! Трах! Дзынь! Крак! — разнести все это, а потом уйти или, того лучше, стать как Супермен, ему ведь стоит только руку поднять, чтобы ракетой взметнуться вверх, пробить крышу и на огромной скорости врезаться в сияющую голубизну неба. Воздуха! Воздуха!
— Итак, ты осталась здесь, — начала ПРА.
— Да, — ответила Грета. — Я вырастила своих детей в этом доме.
В ответ ни слова. Ясно, что ни единого вопроса насчет этих детей ПРА и не подумает задать. Выдержав паузу, она произнесла:
— Школу закрыли?
— О, давным-давно. Много лет назад. Во всем доме не осталось ничего, кроме квартир, еще с… кажется, с семидесятых годов. Это случилось вскоре после смерти мамы.
Эрра снова застывает в молчании. Не пойму, чего ради ей вздумалось приехать сюда. Если она не хотела ни повидать сестру, ни оживить воспоминания, зачем было голосовать за поездку в Германию? Из того, что Грета рассказывает об их семье, Эрру, похоже, ничто не волнует.
— А знаешь, я выяснила, кто нас выдал. Мне сказали в агентстве, которое прислало ту американскую даму, чтобы вывезти вас… Это наша соседка фрау Веберн, помнишь такую? У нее еще был муж-коммунист…
ПРА как воды в рот набрала.
— Отец… он вернулся в сорок шестом, — бормочет Грета, а бабуля Сэди энергично кивает ей, чтобы продолжала, не обращала внимания на упорное молчание сестры. — Вернулся, проведя год в плену у русских. Мать сказала ему, что тебя и Иоганна больше нет, и он проплакал всю ночь. Он снова стал здесь школьным учителем, потом директором школы и, наконец, уже в шестидесятых, мэром селения. Он до самой пенсии оставался мэром. Но дедушка так и не вернулся, нет, больше никогда не вышел из… из… сама знаешь. Из той… больницы.
Все, что говорит эта толстая розовая женщина, я слушаю и тщательно укладываю в уголке своего мозга на будущее, ведь ничто не должно ускользать от моего сознания, объемлющего Вселенную, однако в настоящий момент я ничего не понимаю в ее речах, а ПРА, та, кому она все это рассказывает, видимо, даже не слушает. Она сейчас выкинула штуку довольно шокирующую: закурила сигару прямо за столом, а ведь другие еще не кончили есть. Но никто не осмеливается сделать ей замечание, даже мама — все потому, что мы не у себя дома.
Итак, повисло молчание. Папа тихонько рыгнул в тишине, это из-за немецкого пива, он все время его пьет с тех пор, как мы приехали, и от меня не укрылось, что мама за такое вульгарное поведение пнула его под столом ногой.
— Я следила за твоей карьерой, Кристина. — Грета меняет тактику, видно, несмотря на холодный взгляд сестры, она не теряет надежды перебороть эту необъяснимую отчужденность. — У меня здесь почти все твои диски — посмотри!
Широким жестом она указывает на полки, и все, как по команде, поворачивают головы. Все, кроме ПРА.
Молчание, опять молчание.
Вмешалась бабуля Сэди, теперь она попробовала разрядить обстановку.
— Это бессовестно с вашей стороны, Грета, мучить меня, искушая столькими вкусностями из свинины!
— О, праведное небо! Я не нарочно!
— Нет-нет, я, разумеется, шучу. Здесь сколько угодно такого, что мне можно. — Сэди показала на свою тарелку, куда успела навалить уже вторую гору картофельного салата.
— А ты, Кристина? Не хочешь еще немного… Leberwurst? — судя по жесту, Грета имела в виду что-то вроде ливерной колбасы, но ПРА, небрежно взмахнув своей сигарой, без слов отвергла это предложение. Тогда Грета, надеясь нас рассмешить, громко спросила: — Вы можете поверить, что эта тощая женщина хотела работать Толстой Дамой в цирке?
Мама и папа захохотали, хотя наверняка уже тысячу раз слышали эту байку, как, впрочем, и я.
— Зато я, — с полным ртом заговорила бабуля Сэди, — теперь почти гожусь для такого амплуа, не правда ли?
Эти слова вызвали новый взрыв дружного смеха, и это вправду смешно: при взгляде на гигантское тело Сэди трудно поверить, что некогда оно вышло из хрупкой, крохотной, как у эльфа, оболочки Эрры.
— Часов больше нет? — вдруг спросила ПРА. — Очень красивые были часы… вон там, в углу.
Снова пауза. Мы с мамой переглядываемся. Потому что на сей раз это какое-то особенное, уж очень странное молчание.
— Ты разве не помнишь? — Грета смотрит недоверчиво. — Дедушка разбил их…
— А… Так он их разбил? Нет, я забыла.
— Как ты можешь… как… это же в тот день, когда… он все, все расколотил… и… Ты хочешь сказать, что ты не..?
— Нет. Извини. Я, наверное, прожила с тех пор слишком много других жизней. В моих воспоминаниях об этой полно… гм… лакун, мягко выражаясь. И не забывай, я ведь младше тебя. Тебе в конце войны было… сколько? Десять лет? А мне всего шесть с половиной. Это разница.
— Да, верно, — вздохнула Грета. И, оттолкнув тарелку, с видимым усилием встала. — Если вам не трудно, Тэсс, не могли бы вы сварить кофе для вашей семьи? — помолчав, спросила она маму. — Мне сейчас нужно немного полежать.
Она пошатнулась. Прошла два шага, и ее качнуло снова. Никто не знал, что теперь делать. Сэди не могла ей помочь, а для нас она оставалась едва знакомой, чужой, кто решится коснуться ее тела? Но вдруг Эрра встала:
— Дай я помогу тебе, Грета.
И две старые женщины, нетвердо ступая, вышли из комнаты вдвоем.
— Какой изысканный фарфор! — воскликнула мама, доставая из кухонного шкафа маленькие цветные чашки и блюдца.
— Да, тонкая работа, не правда ли? — подхватила Сэди. — Это наверняка из Дрездена.
Они тотчас прочно оседлали этого конька, не знаю, как женщины умудряются не спятить оттого, что приходится все время щебетать и чирикать, «Как это тонко, не правда ли?», «Это изысканно, вы не находите?» и все такое прочее, но раз дошло до кофе, я был уже не обязан торчать за столом и улизнул в коридор, намереваясь отыскать туалет, куда пора поместить конечный продукт моей жизнедеятельности.
Мои какашки безукоризненны, по форме они совершенны, как баллистическая ракета, по консистенции плотны, но без жесткости. Выпуская их наружу, я не переставал мысленно твердить: «Мне не хватает Интернета! Google — вот что мне нужно! Держу пари: в этой Богом забытой дыре об Интернете даже не слышали!»
На обратном пути в гостиную, бесшумно ступая в носках по толстому цветному паласу коридора, я бросил взгляд на электронные часы и увидел, что уже пятнадцать минут четвертого. Гениально! Мама сказала, что мы поедем обратно около четырех. Стало быть, еще полчаса, и можно начать дергать ее за рукав, притворяться возмущенным: «Ты же мне говорила… Ты обещала…»
В тот самый момент, когда я вообразил, как прозвучит мой голос, говорящий, это, я услышал те же самые слова, произнесенные точь-в-точь таким же негодующим тоном, только голос принадлежал не мне, а ПРА:
— Ты же говорила! Ты обещала!
Грета ответила что-то. По-немецки.
Дверь комнаты была приоткрыта. Я заглянул в щелку, надо же посмотреть, что там происходит, и глазам не поверил: две старухи спорили из-за куклы, дурацкой куклы в платье из красного бархата; ПРА сжимала ее в руках, морщинистое лицо искажено гневом…
— Она моя! — шипела ПРА. — Она всегда была моей. Но даже если оставить это в стороне… даже если бы она моей не была… ты мне ее обещала, Грета!
И снова Грета ответила ей по-немецки. Вид у нее был совершенно измученный. Она дошла до кровати и рухнула на нее так тяжело, что пружины заскрипели. Потом громко вздохнула и больше не шевелилась.
Все еще прижимая куклу к груди, ПРА подошла к изножию постели. И долго стояла там, неотрывно глядя на сестру, но вот досада, при этом она повернулась ко мне спиной. Я больше не мог видеть ее лица.
II. РЭНДЛ, 1982
Той весной я впервые по-настоящему осознал, что значит год. Когда на деревьях стали распускаться листья, я вдруг ясно припомнил, как они распускались в прошлый раз, и с огромным удивлением сказал себе: «Год! Так вот что это такое».
У каждого времени года свои игры, до обалдения увлекательные. Весной, едва просохнут мостовые, можно играть в шарики. По ним надо сильно щелкать согнутым большим пальцем, они отлетают, так что ходишь потом с ушибленным ногтем. А как приятен этот легкий шумок, когда шарики столкнутся! Еще есть игра «Кот лазает», мы играем в нее с ребятами из нашего дома. Идешь в детский сад, взбираешься на шведскую стенку. Повисаешь там на согнутых коленях, вниз головой. Затем надо покрепче вцепиться в параллельные брусья и продвигаться вперед, перехватывая их руками поочередно, и тут убеждаешься: ага, теперь я могу продержаться до конца, мои руки стали крепкими, не то что в прошлом году, когда они на полдороге ни с того ни с сего слабели, оставалось только сдаться и позорно плюхнуться на песок.
Лето — пора, когда мы с па играем в бейсбол в Центральном парке. Я бросаю мяч снова и снова, пока плечо не заноет, а он его ловит. Иногда. Моего отца не назовешь сильно спортивным, он часто мажет, а промазав, и не думает кидаться за мячом, как сумасшедший, не в пример другим отцам направляется за ним спокойно, легкой трусцой; мне приходится ждать, скучновато, но похоже, его это как раз и забавляет. Потом наступает его очередь подавать мяч, а я ловлю; перчатка ужасно велика, но ничего, к началу школьных занятий мне обещали купить новую, по размеру. Если мяч попадает в массивную кожаную ловушку, я сжимаю громадные пухлые кулаки, ну надо же, у меня получилось, я хватаю мяч и кричу «Аут!» Когда я устаю, мы идем к модели атома, я цепляюсь за стержни и подтягиваюсь повыше, чтобы посмотреть на настоящих взрослых бейсболистов, играющих жестким мячом. Мне велено оставаться по другую сторону ограды, ма боится, как бы я не получил мячом по зубам; странная какая-то боязнь, но я понимаю: передние молочные зубы у меня уже выпали, так что это последние, если и их вышибут, я пропал.
Осень — это рой падающих мертвых листьев, они летят по воздуху и кучами лежат на земле, можно плюхнуться на них и покататься — они потрескивают, как скрипучие подушки.
А зима — пора игры в снежки, настоящих сражений, зима — добрая боль, ледяная и острая, когда снежный ком попадает тебе в шею и вода затекает под одежду, струится по спине. Прыжком настигаешь кого-то, трешь ему снегом лицо, борешься, дерешься, толкаешься, пока не выдохнешься. Еще можно лепить снежных баб. Закопать кого-нибудь в снег, или чтобы тебя закопали. Участвовать в санных гонках… В горах Кэтскилл… А как скрипят сани, когда разгонятся вовсю, аж ветер свистит в ушах! Потом, вылетев на обледеневшую дорожку, сани начинают дрожать, так и ждешь, что их деревянный каркас не выдержит, развалится, будет очень больно, но нет — уф, пронесло! — санки врезаются в сугроб, остановка и мягкая встряска, все валятся друг на друга, куча мала, но какое облегчение! Встаешь, пошатываясь и спотыкаясь, а смех так и разбирает.
Я особенно люблю шумные игры, любые, все, какие ни есть, в такой игре можно забыться. Во все остальное время только и знаешь, что следишь за собой, ведь надо оставаться на высоте.
Одно несомненно: я больше не буду рисовать людей без туловища. Прошлой весной я принес из старшей группы детского сада кипу своих рисунков. Там были сплошь человечки, я ими жутко гордился и сразу побежал показывать их ма, а она спросила:
— Где же у них туловище, Рэндл? Ты забыл нарисовать!
Я посмотрел на свои творенья и увидел, что она права: руки и ноги у моих людей торчали прямо из головы. Что ж, на следующей неделе я засел за новую серию рисунков, собрал их и в пятницу принес домой. Но когда собрался вытащить их из папки, до меня дошло: «Ох! Я опять забыл про туловище!» Мне прямо не верилось, что я умудрился повторить ту же ошибку. Я вконец приуныл, даже не показал рисунки ма: не хотел, что она считала меня дебилом.
Не то чтобы родители не любили меня таким, какой я есть, но в детстве приходится учиться многим вещам, вот и воображаешь, что чем больше выучишь, тем сильнее тебя будут любить, а в тот день, когда вернешься домой с университетским дипломом, все твои печали останутся позади. Не каждому посчастливится закончить университет, как ма и па, которые и друг с другом встретились не где-нибудь, а в нью-йоркском Колледже Бернара Баруха, где па обосновался на правах драматурга, а ма, как всегда, изучала историю, но еще и состояла в клубе любителей театрального искусства. Они там поставили пьесу по мотивам «Алисы в Зазеркалье», где ма играла Соню, а па — Твидлидама. Легче легкого представить па Твидлидамом, эта роль как раз в его духе — толстяк и шутник, но почти невозможно вообразить ма Соней. Ей бы быть Королевой Червей, которая раздает приказы, говорит безапелляционным тоном, а чуть что не по ней, вопит: «Пусть ему отрубят голову!» — вот это бы ей подошло. А Соня — ленивый, рассеянный грызун, который без конца дрыхнет, так что Сумасшедшему Шляпнику и Мартовскому Зайцу приходится перекладывать его из одной тарелочки в другую, у него-то что общего с моей напористой, гиперактивной матерью? Невероятно! Тем не менее все так и вышло: они встретились и влюбились. Чудно думать про своих родителей, как они втюрились, я говорил об этом с ребятами из детского сада и всякий раз, заходя к какому-нибудь приятелю, пробовал представить его предков в процессе влюбления; с некоторыми из них мне такое удавалось, но с моими — никогда. Мой отец такой спокойный, а мать такая вздрюченная, что могло привлечь их друг в друге? Как они мыслили свое будущее супружество? Как могли поверить, что сумеют ужиться?
Ну и, конечно, они не ладят. Беспрестанно пререкаются, в основном о евреях. Евреи интересуют ма куда больше, чем па, что само по себе предел нелепости, ведь это он — еврей по рождению, а ма — гойка, хоть и настояла, выйдя за него, чтобы ее приняли в иудейскую общину. Что до па, он на религию плевать хотел, но был так влюблен в ма, что согласился на всю эту шутовскую церемонию, оттого и я тоже разом стал евреем, это же от матери идет, даром что сама-то она вышла из гоев. Взамен на то, что он не стал противиться ее переходу в иудейскую веру, па получил право выбрать мне имя; теперь они и из-за этого собачатся, ведь он назвал меня Рэндлом в память о своем покойном друге. Ма твердит, что еврейскому мальчику это имя не годится, а па (его-то зовут Эрон) находит, что, учитывая, какое отношение к евреям сложилось за последние тысячелетия, еврейским детям нечего особенно задирать нос, лучше бы затихариться хотя бы века на два — на три, а там будет видно, куда ветер дует. Ма твердит, что в Израиле евреи больше не прячутся, каждый горд тем, что он еврей, а па заявляет, что у него нет ни малейшего желания возвращаться в Израиль, чтобы там жить, уж лучше сразу в пещеру. «Это же будет еще аутентичнее, верно? — говорит он. — Если поворачивать время вспять, зачем останавливаться на четырех тысячелетиях, давай уж попятимся назад на все сорок. Да и это не предел, можно углубиться еще дальше, заново обрести наше изначальное моллюсковое состояние и — плюх! — нырнуть на дно океана, если так уж необходимо обосноваться на исторической родине. Я слышал, что в те времена все замечательно ладили, плавая в общем бульоне…» Тут ма поворачивается и решительным шагом покидает комнату, не желая слушать про моллюсков, ведь евреям не разрешается есть то, что живет в раковинах. Этот их спор — типичный пример супружеских бесед.
Сейчас ма сидит перед трельяжем, готовится к сегодняшней лекции. Она не знает, что я за ней наблюдаю: я лежу в коридоре на животе и притворяюсь, будто увлечен игрой со своими машинками. Сперва она подкрашивает губы, и без того очень красные, чмокает ими пару раз, наклоняется к зеркалу и внимательно осматривает зубы, проверяя, не осталось ли на них следа от помады, достаточно ли они белые и блестящие. Потом легонько взбивает волосы и, кивнув себе головой, встает, проходит через комнату, берет пачку бумаги, возвращается, садится снова, хватает щетку для волос, подносит ее ко рту, как микрофон, кашлянув, улыбается своему отражению в зеркале и начинает. «Дамы и господа!» — восклицает она, но ей не нравится звучание собственного голоса. Буркнув «Черт!», она хлопает себя по губам, оставляет на обратной стороне щетки красный отпечаток и повторяет чуть громче: «Черт!» Вытирает щетку бумажной салфеткой и снова начинает: «Дамы и господа! — но другим тоном. — Я счастлива, что вижу вас здесь в этот вечер и что зал полон»… Дальше она только невнятно бормочет, перечитывая текст, и время от времени вскидывает глаза на свое отражение, будто оно и есть ее публика, или поглядывает на часы, проверяя, сколько времени осталось. Вслушавшись в бормотание, я понимаю, что она успела лихорадочно возбудиться, это меня тревожит, я откатываю машинки подальше в коридор, чтобы ничего больше не слышать, но, когда возвращаюсь, ее голос звучит еще более нервно, она бросается к аптечному шкафчику в ванной, глотает таблетки, вцепляется в край раковины, замирает, уставившись в висящее над ней зеркало, а потом буквально лупит себя по щекам — пощечины всего две, но сильные, я не хочу, чтобы она делала так, и плаксивым голосом зову: «Ма-а-а!» Она подпрыгивает до потолка и возмущенно поворачивается ко мне, но я повторяю, прямо-таки со стоном: «Ма-а-а, живот болит!» Тогда она подходит ко мне со словами «Бедный малыш!». Мне это очень нравится. «Бедный малыш, — говорит она, — тебе надо прилечь. Я скажу твоему отцу, чтобы приготовил для тебя отвар, а я должна бежать, у меня полминуты осталось, не больше».
Однажды приснилось: мама сидит за письменным столом, я подхожу, дергаю ее за рукав, чтобы обратить на себя внимание, но она, даже головы не повернув, каменным голосом говорит: «Нет. Уходи, ты меня понял? Я тебя не хотела. Никогда больше не мешай мне». Наяву она никогда не говорила со мной так.
Я всегда больше времени проводил с отцом, чем с матерью, — ситуация не из самых распространенных. Па хорошо готовит, да и работает, к счастью, дома, ведь он пишет пьесы. Иногда их ставят, но до сих пор ни одна не наделала шуму; я уверен, что когда-нибудь это случится, его талант в конце концов признают, и пора бы, ему уже под сорок, а ма всего двадцать шесть. Она читает свои лекции о Зле, разъезжая с ними по всем университетам страны. Зло — до того странная специальность, что я никак не могу это взять в толк. Когда матери моих друзей спрашивают, чем занимается моя мама, я отвечаю, что она преподает историю и пишет докторскую. Это их заставляет уважительно примолкнуть, хоть сам я и не понимаю, что такое докторская, если ма вовсе не собирается стать доктором.
Тем не менее именно моя мать — добытчик в семье, это явление тоже не назовешь распространенным, и из него следует, что мы часто остаемся вдвоем — я и па. Когда ма уезжает, я по ней скучаю, но вместе с тем это так здорово, вдвоем с па мы проделываем массу разных штук, которых ма не одобрила бы, но это наша тайна, мы дали «клятву друганов», как выражается па. Можем принимать душ, когда вздумается, ложиться спать в любое время дня и ночи, смотреть телевизор за едой, пить коку и сдабривать еду кетчупом, а то и соевым соусом, хотя он теперь запрещен даже в китайских ресторанах, потому что может вызвать рак.
Завтрак готов, я это угадываю по аромату, долетающему в мою комнату, пахнет обалденно, но мне от этого запаха все равно не по себе, ведь ясно: новая ссора неминуема. Па приготовил яичницу с беконом, а ма требует, чтобы мы, соблюдая еврейские запреты, не брали в рот ни кусочка свинины. Сама-то она личной неприязни к свиньям не питает, в детстве она даже верила, будто Соединенные Штаты послали на Кубу миллионы свиней, чтобы те ее захватили, хотя на самом деле ничего такого не было и она смеется, когда вспоминает об этом, но все-таки хочет, чтобы мы соблюдали законы кошерной кухни, а па ни в какую, он предпочитает изобретать свои собственные законы.
У па есть смешной рассказик про бедняка, который облюбовал скамейку перед забегаловкой: он хоть и не мог заплатить за завтрак, но упивался запахом бекона, который там жарился, каждое утро сидел и вдыхал, сколько влезет. Но хозяин ресторанчика приметил, что бедняк появляется снова и снова, и это стало так его раздражать, что однажды он вышел с алюминиевой тарелочкой и потребовал: «Пора заплатить за удовольствие, которое доставляет вам мой бекон!» Тогда бедняк порылся в своих лохмотьях, достал монетку, бросил на тарелочку, тут же опять схватил ее и спрятал в карман. «Это не называется заплатить!» — взбеленился хозяин. А бедняк ухмыльнулся: «По мне так все справедливо: я вдыхал запах вашего бекона, вы слышали звон моих денег!»
Есть у па и другая занятная история: один нищий просил милостыню на улице Хьюстон перед ресторанчиком «У Каца», вид у него был до того несчастный, что проходивший мимо толстый бизнесмен пожалел бедолагу и бросил ему в шляпу пятидолларовую бумажку. Но когда через несколько минут возвращался обратно, он глазам не поверил: нищий сидел в ресторане и обжирался семгой в сметане. Толстяк вошел и напустился на него: «Что вы делаете? Я дал вам пять долларов, а вы их разом потратили на дорогой деликатес?» Нищий поднял на него глаза и говорит (это умора, как замечательно па его изображает!): «Я не могу есть семгу в сметане, когда у меня нет ни гроша, не могу ее есть, когда у меня в кармане несколько грошей; так когда же мне есть семгу в сметане?» Всякий раз, когда па рассказывает эту историю, мы покатываемся от хохота, но ма не смеется, и я знаю, что в глубине души она согласна с толстым бизнесменом: нищему не подобало транжирить деньги.
Я выхожу из своей комнаты и вижу, что мои опасения сбылись: ма сидит за столом, и лицо у нее застыло, как у Голема, глиняного человека, легенду о котором она мне рассказывала.
«Хочешь яичницу с беконом, Рэндл?» — спрашивает па, и я отвечаю: «Еще как!» У меня на это целых две причины — во-первых, и вправду очень хочется, во-вторых, такой ответ доставляет удовольствие па. А в том, чтобы ответить иначе, резон всего один: угодить ма. Вообще-то лучше всего было бы обойтись без сцен с утра пораньше, а то не успеешь глаза продрать, а тебя уже рвут на части.
— Ты превратишь нашего сына в свинью! — гневно взрывается ма, пока па преспокойно наполняет мою тарелку, а я опять вспоминаю Королеву Червей, превратившую младенца на руках Алисы в поросенка. Чего доброго, взаправдашние, не сказочные матери тоже думают порой, глядя на маленьких обкакавшихся зверенышей у себя на руках: «Фу! Откуда оно такое взялось?» Вдруг и ма задавала себе этот вопрос, когда я был сосунком и она волей-неволей осознавала, что я ей противен?
— Ну-ну, Сэди, — ворчит па, но тон у него такой добродушно-насмешливый, как будто он и мысли не допускает, что она может все это говорить всерьез (он не такой спорщик, как ма, я ни разу не слышал, чтобы он повысил голос).
«Ты умывался?» — спрашивает ма, и я отвечаю «да», потому что не хочу, чтобы моя яичница остыла. «Покажи руки», — велит она, я протягиваю их ладонями вверх, а сердце сжимается: вдруг она увидит, что я вру, что на самом деле не мыл их со вчерашнего вечера? Но разве они могли загрязниться во время сна? Она берет мои ладони в свои, поворачивает:
— Рэндл! Ты опять грыз ногти.
— Сэди, дай ему спокойно позавтракать. Ногти отрастут.
— Ногти отрастут?! — Ма в негодовании поворачивается к па, что дает мне время сесть и проглотить хоть немного пищи. — Вот как? Значит, все в порядке? Ногти отрастут!
— Сэди, сладкая моя, давай-ка я согрею тебе кофе, — говорит па, что в переводе означает: этот великолепный летний день в начале июня 1982 года можно было бы начать получше, не попробовать ли еще разок, с нуля, как считаешь?
Ма соглашается на кофе и даже говорит спасибо, потому что не хочет подавать мне дурной пример: я должен научиться быть вежливым.
— Итак, Рэндл, — говорит она, — какие у тебя планы на сегодня?
А я злюсь, хоть и не подаю вида: она что, не помнит, как была маленькой? Ведь летние каникулы тем и хороши, что никаких планов нет, знай себе играй и слоняйся с приятелями, упиваясь несравненной свободой бесконечных дней…
Но прежде чем я успеваю ответить, на выручку мне приходит па:
— Не беспокойся, у него очень насыщенная программа: изучение Библии, чтение, спортивная тренировка — это между девятью и десятью утра, а затем…
— Эрон, — говорит ма, — если ты хотя бы один раз из десяти будешь воздерживаться от демонстрации своего неистощимого чувства юмора, меня это очень устроит.
Она встает, резко двинув стулом, и его ножки со скрежетом царапают пол.
Я не хочу, чтобы она ушла из дома в таком плохом настроении, и говорю примирительно, хотя несколько туманно:
— Не беспокойся, ма, у меня много дел. Я сначала приберусь в комнате, а после двенадцати пойду к Барри, он приглашал меня поиграть.
— Так будет лучше, — откликается ма, проверяя перед большим зеркалом в прихожей, как она выглядит. — Мне бы хотелось, чтобы ты поменьше болтался на улице. Если верить прогнозу, после полудня жара дойдет до тридцати восьми градусов.
Я подцепляю на кончик пальца последний малюсенький кусочек соленого бекона, сую палец в рот и облизываю, но стоящая спиной ма видит меня в зеркале:
— Не ешь руками! — говорит она, впрочем, довольно рассеянно: сейчас она полностью сосредоточена на своей внешности, снова и снова взбивает челку — та, хоть плачь, не ложится, как надо. Ма ни за что не выйдет из дому, пока не будет довольна своим отражением в зеркале, такие проволочки иногда несносно длинны; не пойму, зачем ей это, ведь мою мать считают очень красивой буквально все, кроме нее самой. Вот она разглядывает себя в профиль, проверяет, достаточно ли плоский у нее живот; ма всегда боится, что слишком растолстела, хотя она нисколько не толстая, просто «в теле», как выражается па. Потом снова принимается взбивать челку. Ну наконец-то:
— О’кей, парни, будьте умниками. До скорого.
С тем и захлопнула за собой дверь, а нам даже воздушного поцелуя не послала.
Па облегченно вздыхает — совершенно беззвучно, но я все равно его чувствую, этот вздох. По правде сказать, всякий раз, как только ма выйдет из комнаты, атмосфера мигом разряжается, а стоит ей вернуться, разом возникает напряжение, так-то вот. Моя мать — это нечто, она бесподобна, я ее обожаю, отдал бы все на свете, только бы она была счастлива и расслабилась, и знаю, что па думает так же. На миг мы встречаемся взглядом над столом с остатками завтрака. Потом па встает и начинает убираться, а я отправляюсь в свою комнату, мне пора одеваться.
Па говорит, она жестка ко всем, но более всего к самой себе, это потому, что у нее есть своя идея Совершенства и она умеет всегда быть на высоте, притом без особых усилий. О себе такого не скажу, но я, по крайней мере, делаю кое-какие успехи и никогда больше не забуду, что людей без туловища рисовать не надо.
Я убираю кровать и водружаю на подушку своего медведя Марвина, это его законное место. Однажды ма взяла и выбросила его: я вернулся из детского сада и обнаружил мишку в мусорной корзине под столом. Я глазам не поверил. Заревел во все горло: «Кто выбросил Марвина?! — кричал я, рыдая не только от ярости, но и от ужаса перед утратой, которая мне грозила, если бы я не подоспел вовремя. — Кто выбросил Марвина?!» Ма даже растерялась — она взяла меня на руки и сказала, извиняясь: он ведь такой старый, потертый, о чем тут плакать?
— Но я же его люблю! — продолжая рыдать, выдохнул я. На сердце полегчало, но мне вдруг понравилось непривычное ощущение — впервые в жизни я взял верх в столкновении с матерью. Обеими руками сжимая мишку, я протягивал его к ней с отчаянным укором, пока не вынудил ее извиниться еще раз. Но то, что я сказал, было чистой правдой: я любил Марвина именно потому, что он был до крайности облезлым и ветхим. Цимбалы, некогда прикрепленные к его передним лапам, давно оторвались, ключик, который вставляли ему в спину, чтобы завести и заставить ходить, потерялся, одна из круглых золотисто-коричневых пуговок, что служили ему глазами, потускнела, провалилась, и медведь как будто окривел. Но я особенно любил Марвина по той же причине, по какой ма выбросила его: за то, что он принадлежал бабуле Эрре, когда она была маленькой.
Бабуля Эрра — еще одно яблоко раздора между моими родителями, да и для нас всех троих это тема болезненная: мы с па души в ней не чаем, а ма питает на ее счет, так сказать, смешанные чувства. В доме полная коллекция ее пластинок, и когда я кому-нибудь говорю, что певица Эрра — моя родная бабушка, это всегда производит на людей очень сильное впечатление. По правде сказать, глядя на нее, особенно издали, на ярко освещенной сцене и в макияже, трудно поверить, что она бабушка. Ей всего сорок четыре года, а с виду куда меньше, она такая хрупкая, легкая, живая, это же просто умора, что в детстве у нее была мечта — стать Толстой Дамой в цирке. На спине она смотрится совсем девчонкой. Или воздушной, невесомой феей. Поразительно, что в ее груди могут рождаться такие сильные, ни на что не похожие звуки. Она работает с группой музыкантов, они вместе репетируют, гастролируют, дают концерты, но в решающий момент, когда Эрра выходит на сцену, луч прожектора и взгляды толпы направлены на нее одну, ее легкие белокурые пряди сияют, словно волшебная корона, и тысячи пар ушей ловят головокружительные переливы ее нежного высокого голоса.
Меня с бабулей Эррой связывают особые отношения: у нас одинаковое родимое пятно ~~ круглое, коричневое, только у нее оно на сгибе левой руки, а мое — у основания шеи или, точнее говоря, на полдороге между шеей и левым плечом. Однажды, когда я проводил с ней уикэнд в заведении на Бауэри-стрит, мы сравнили наши пятна и она сказала, что ее родинка помогает ей петь, а я признался, что моя для меня вроде подружки, она, как маленькая летучая мышь, присела ко мне на левое плечо и шепчет на ухо, подсказывает, что делать, когда мне нужен совет. Эрра от радости даже захлопала в ладоши: «Как замечательно, Рэндл! Дай мне слово, что всегда будешь прислушиваться к этой летучей мышке!» И я пообещал.
Она прелесть — порывистая, горячая.
Я в точности не знаю, что ма имеет против бабули, разве что завидует, Эрра ведь такая знаменитая, все ею восхищаются. Но ма, по-моему, считает ее мечтательницей, однажды я сам слышал, как она сказала, мол, это страус наоборот: не в песке прячет голову, а в облаках. Иначе говоря, не желает иметь дело с суровой реальностью этого мира. У бабули Эрры даже телевизора нет, а ма постоянно в курсе всех войн и бедствий планеты. К тому же ма считает бабулю аморальной за то, что она со многими спала. А по-моему, это ужасно мило — быть аморальной. Ма никогда в глаза не видела своего отца, хотя в те времена такое было крайней редкостью, так что она в некотором смысле ублюдок, хотя это нехорошее слово, надо говорить «незаконнорожденный». Некоторое время у нее был отчим no имени Питер, она его очень любила, он каждое воскресенье водил ее в ресторанчик «У Каца», расположенный по соседству, в двух шагах, но потом, откуда ни возьмись, появился некто Янек, бабуля Эрра решила жить с ним, а Питера выставила за дверь. Ма была безутешна. Она терпеть не могла нового отчима: он не обращал на нее никакого внимания, да к тому же грыз ногти, скрипел зубами и отличался способностью на несколько дней подряд погружаться а молчание: сидел на кровати и пил джин, упершись взглядом в стену. Дошло до того, что он покончил с собой прямо у них на кухне, — совсем свихнулся. Хорошо хоть, что ма, в ту пору десятилетняя, не видела, как он забрызгал своей кровью и мозгами плиточный пол, — она была в школе. После этого они переехали в дом на Бауэри-стрит, за пару кварталов от прежнего манхэттенского жилья, у Эрры стали появляться разные женихи, их было много, а сейчас она живет с женщиной, такое тоже бывает, это называется гомосексуализм. Ма считает, что маленькому мальчику не следует видеть подобный образ жизни, он слишком нестабилен, так что я теперь больше не имею права гостить у бабушки и оставаться у нее ночевать.
Все утро я провожу у телевизора; ма наверняка возмутилась бы, а па мне это позволяет; он говорит, что интеллигентному человеку нужно знать, до чего глуп сей мир; таким образом, смотреть телевизор я могу, но это между нами. Сегодня утром программа недурна: «Гарфилд», «Солдат Джо» и, главное, «Человек-паук» — это моя любимая передача; па иногда заходит, чтобы посмотреть ее вместе со мной, она его смешит, напоминает мультяшки времен его молодости.
После завтрака в квартире становится жарко, и па предлагает пойти поплескаться в бассейне нашего квартала; мы тут же отправляемся, надев плавки под брюки. Когда выходишь из дома, в нос ударяет запах расплавленного асфальта — жара такая, будто в печь залез. Мне очень нравится держать папу за руку переходя улицу: через год-другой я стану для этого слишком взрослым, так что надо пользоваться, пока можно.
В бассейне невероятно шумно, добрая тысяча ребятишек всех цветов и возрастов барахтаются в воде и кричат, их вопли эхом отдаются от стен, мне страшновато, но па берет меня на руки, входит в бассейн, и дальше все идет нормально. Он несет меня на глубину, где почти по самую шею, я снова и снова забираюсь к нему на плечи, чтобы нырнуть, но тут, вот досада, тренер свистит нам, потому что это против правил. Мой отец с правилами не слишком считается, что мне в нем по душе: он говорит, что всегда нужно играть с правилами, но не по ним, ведь жизнь без риска — не жизнь. Потом он выходит из воды, струйки стекают по его белому дряблому телу, мокрые волосы прилипли к лысине — я замечаю, что он не так красив, как другие, более стройные, загорелые папы, да наплевать, все равно у меня лучший папа в мире. Он набрасывает на плечи полотенце, садится на стул, сложив руки на своем славном, как он его называет, пузе, и смотрит, как я плескаюсь один в бассейне для малышей. Плавать я еще не умею, зато придумал игру: наберу побольше воздуха и присаживаюсь на корточки, выдыхаю под водой через нос и рот, потом вскакиваю на ноги, вдыхаю, погружаюсь снова — вверх-вниз вверх-вниз, ритм движения, шум в ушах, ощущение невесомости при погружении туманят мне голову, я бы часами так мог, но па подходит, берет меня на руки и говорит, что ему пора домой, ишачить.
Он ведет меня к Барри, это через два квартала от нас; там я провожу остаток дня. У Барри найдутся военные игры всех видов, есть чем поразвлечься: тут тебе и «Экшен Мэн», и «Хозяева Вселенной», и пулеметы, с виду как настоящие, не отличишь. Мама Барри всегда очень мила со мной, она фанатка Эрры, поэтому кроме чашки кукурузных хлопьев угощает сахарной пудрой с лимоном, которая поскрипывает, когда ее слизываешь с ладони! Ма ни за что бы такого не позволила, она говорит, от этого бывает рак. В шесть часов па приходит за мной, на обратном пути мы забегаем в магазины, он покупает свежую треску и бутылку белого вина в надежде, что это приведет ма в доброе расположение духа, но когда она после целого дня изысканий в семь возвращается домой, при одном взгляде на нее становится ясно, что ни цвет вина, ни его количество нам сейчас не помогут. Я иду в свою комнату, играю там в войну с «Плеймобилями» — иметь солдатиков мне запрещено: ма против войны, она не хочет, чтобы я, подобно большинству мужчин, стал тупым мачо.
— Люди ничего не знают об этой истории, Эрон. — Ее голос доносится издалека, в нем столько волнения, что мне становится не по себе. — О лагерях — да, тут они в курсе, но насчет этого — нет. Ничего. Совсем ничего.
Ответа па мне расслышать не удается, потом опять говорит она:
— Двести пятьдесят тысяч детей из Восточной Европы! Отняты! Похищены! Оторваны от своих семей…
Тут меня начинает трясти. Моя летучая мышь советует мне превратить конструктор «Лего» в вертолеты, бомбардировщики и ракеты «земля — воздух», а самому поднять шум, изображая взрывы, чтобы заглушить голос ма; я так и поступаю, дело идет на лад.
Когда па позвал меня обедать, ма сидела, опершись локтями о стол и обеими руками сжимая голову, будто держала на плечах груз в целую тонну. Сняв фартук, па принес свечу и предложил полушутя:
— Сэди, сейчас вечер пятницы — не угодно ли зажечь субботнюю свечку?
Но ма резко выпрямилась и стремительным взмахом руки сбросила свечу на пол:
— Если ты не способен чтить традиции, воздержись хотя бы от насмешек!
Не думаю, что она разбила свечу нарочно, но та разлетелась на куски. Па, не говоря ни слова, собрал обломки и выбросил в мусорное ведро.
Когда я стал есть рыбу, которую па порезал на тоненькие ломтики, потому что я боюсь вдруг рыбья кость застрянет у меня в горле и я задохнусь, ма повернулась ко мне и сказала «Рэндл!» — таким тоном, что сразу захотелось снова оказаться у Барри, сидеть и беззаботно слизывать с ладони лимонный порошок.
— Что, ма?
— Рэндл, я снова должна уехать. В Германию. Я знаю, у тебя, вероятно, создалось впечатление, будто я все время разъезжаю… но, видишь ли, почти все документы, нужные для моей диссертации, находятся в Германии, я ничего с этим поделать не могу.
— Сэди, — вмешался па, — Рэндлу не понять, о чем ты толкуешь. Он бы даже не смог найти Германию на глобусе.
— Что ж, ему пора узнать, где находится Германия, ведь в его жилах течет немецкая кровь! Тебе это известно, Рэндл? Ты помнишь, что твоя бабуля Эрра родилась в Германии?
— Нет, — ответил я. — Я думал, она из Канады.
— Она выросла в Канаде и никогда не вспоминает о первых годах своей жизни, но факт остается фактом: они прошли в Германии. И для меня очень важно выяснить там все, что возможно. Понимаешь, я это делаю и для тебя… Мы не сможем строить будущее, если не будем знать правду о прошлом. Не так ли?
— Ради всего святого, Сэди! — взывает па. — Мальчишке всего шесть лет!
— Ладно. — Мама говорит до странности низким голосом. — Одно несомненно: у меня накопилось очень много вопросов касательно того примечательного фрагмента нашего прошлого… А Эрра то ли не хочет, то ли не может на них ответить. Стало быть… мне необходимо съездить в Германию.
— Это ты уже говорила, — напомнил па.
— Да, я знаю, Эрон, — произнесла ма, не повышая голоса. — Если я и повторяюсь, то потому, что еще не сказала самого важного… а не сказала потому, что у меня от всего этого голова идет кругом. Сегодня я получила письмо… от сестры Эрры. Она пишет, что, если я приеду к ней в Мюнхен, она расскажет мне все, что знает.
В комнате после этих слов повисло тяжелое молчание. Я покосился на па. Он выглядел подавленным и к еде едва притронулся, а такого не бывает почитай что никогда.
Всем стало не по себе от разговора. Стараясь быть как можно незаметнее, я на цыпочках пробирался в свою комнату, когда услышал голос па:
— Ты так одержима мыслями о страданиях, которые те дети пережили сорок лет назад, что не замечаешь своего сына, здесь, рядом с тобой. Брось все это, Сэди. Неужели нельзя оставить в покое эту историю?
— Нет, не могу, — сказала ма. — Как ты не понимаешь? Для меня это зло — не что-то отвлеченное. Оно имеет отношение к моей матери! Она даже теперь отказывается говорить со мной о своих детских годах в Германии. Чтобы признать, что Янек был не усыновленным, а украденным ребенком, ей потребовалось пятнадцать лет и двадцать — чтобы выплюнуть наконец имя своей немецкой сестры и название города, где та живет; у меня есть потребность узнать об этом больше, разве не понятно? Я хочу выяснить, кем были мои дед и бабка! Если взамен умершего сына им дали маленького поляка, они, наверное, были нацистами или в фаворе у нацистов. Мне нужно знать!
Я закрыл дверь и возобновил войну «Плеймобиля» и «Лего» с того места, на котором прервал ее.
Родители в кухне мыли посуду, а когда мне пришло время ложиться спать, па смеху ради отшлепал меня, чтобы заставить забыть о неурядицах. Это делается так: я, уже в пижаме, ложусь на живот, а он меня обшлепывает ладонью сверху донизу, сам же в это время распевает во все горло. В тот вечер он пел песню, текст которой смахивал на тарабарщину:
«Сорокагнездится высоко, утканасамойземле, асовапосередке!»
Или еще так:
«Молотятхлеб, одежукроят, дахлебмолотят, одежукроят!»
Казалось, это не настоящие слова и в них нет смысла, но па их потом пропел очень медленно, и тогда вышло:
«Сорока гнездится высоко, утка на самой земле, а сова посередке».
«Молотят хлеб? Одежу кроят? Да, хлеб молотят, одежу кроят».
После этого он снова спел быстро-пребыстро, на сей раз все было понятно. Взрослым надо бы почаще так садиться и объяснять мне все помедленней, не торопясь, как с этой песенкой.
Шлепки па, как обычно, заставили меня хохотать до упаду, я умолял его продолжать, но тут в комнату вошла ма и сказала, что это меня слишком возбуждает, а чтобы заснуть, нужно успокоиться. Тогда па крепко меня обнял и поцеловал в лоб, а ма присела рядом на край кровати и стала рассказывать историю — это я тоже очень люблю. В моем возрасте она уже умела читать, а я пока не научился, это лишний раз доказывает, что в сравнении с ней я не на высоте, сколько ни стараюсь. В этот вечер она рассказывала про негритенка Самбо, ей для этого даже книги не нужно, она с малых лет помнит всю историю наизусть. Я тоже почти всю ее наизусть выучил, только у меня был другой способ. Поэтому все реплики Самбо я мог подавать сам: «О господин тигр, прошу, не ешьте меня лучше возьмите мой Красивый Алый Плащ!» и так далее, вплоть до момента, когда все тигры растаяли и на земле образовалась масляная лужа, а Самбо и говорит: «О, сколько прекрасного топленого масла! Отнесу-ка его Черной Мамбе! (то есть его маме)», и потом Черная Мамба печет блины и Черный Самбо уплетает их и съедает сто шестьдесят девять блинов, потому что он «очень проголодался». Закончив рассказ, ма обхватила меня руками и стала покачивать, тихонько напевая. Кожа на ее руках мягкая-мягкая, но в том, как эти руки держат меня, нет нежности…
В то утро, когда она уезжала, я проснулся очень рано, в половине седьмого. Мне нравится, что я умею определять время по часам, нас этому научили прошлой весной в детском саду. Среди шуток па есть такая: «Почему маленький глупыш выбросил будильник в окно? — Потому что хотел посмотреть, как улетает время». Для шутки это неплохо, но мне и правда не по себе от того, что я не вижу пролетающего времени. Ма говорит, чем старше становишься, тем оно быстрее летит, и мне страшно: выходит, если не смотреть в оба, вся жизнь промчится перед глазами, как молния, а очнешься в гробу, все будет кончено прежде, чем успеешь понять. Я знаю, мертвецы не отдают себе отчета, что они в гробу, под землей, но все-таки жуть берет, стоит подумать, что их туда запихивают, как дедулю, когда мы были на его похоронах в Лонг-Айленде. Мысль, что в этом ящике взаправду ore и моего отца, казалась невыносимой, хотя с виду было похоже, будто все прочие находят это нормальным. Могильщики установили гроб на канаты, обвязали, затянули узлы, потом поднесли гроб к яме, опустили на дно, спустились сами, развязали узлы и вытащили канаты. Иначе говоря, им хоть бы хны, что там, в этой дыре, они оставляют человека, а вот потерять две добротные веревки не желают! Ну да, ясное дело, они привыкли, целыми днями этим занимаются, для них тут нет ничего необычного. Но для меня тот, кого они засыпали землей, был моим единственным дедом (поскольку ма своего родителя не знала), а теперь я его больше не увижу. Тут-то я и понял, что означает слово «никогда».
Взглянув на будильник, я увидел, что размышлял о смерти три минуты.
После дедулиной смерти бабуле пришлось продать их дом в Лонг-Айленде. Этот дом, полный укромных уголков и закоулков, большущих шкафов и кладовок, был одним из самых моих любимых мест на земле, но бабуля сказала, что ей никак с ним не управиться одной. Она тогда перебралась жить в другой дом, где обитают старые люди. Теперь нам с моими двоюродными братьями и встречаться негде, нельзя же играть в прятки в квартирах на Манхэттене, как прежде в доме деда и бабки. Однажды я там спрятался в подвале, на дне громадного картонного короба, и слышал, как двоюродные братья звали: «Рэндл! Рэндл!», но мое укрытие было таким надежным, что они не смогли меня отыскать, махнули рукой и пошли играть во фризби, совершенно забыв обо мне. А я все сидел в коробе, ждал-ждал, а когда наконец вылез, продрогший и одеревеневший, они даже не спросили: «Где же ты был? Мы тебя всюду искали!» Я обиделся: как легко они без меня обошлись! Тогда я подумал, вот и смерть, наверное, что-то в этом роде: жизнь преспокойно идет своим чередом, а тебя нет.
Будильник ма звонит, значит, мне можно войти к ним в спальню, если захочу, а я именно этого хотел. Я плюхнулся на живот, пополз, как змея, распластавшись на полу, и прижался к ножке их кровати — так они не могли меня видеть. Одеяло сползло на пол, осталась только простыня, накрывавшая их, из-под нее торчали четыре ноги. У па ступни громадные и немножко грязные, потому что он любит расхаживать по квартире босиком, но больше всего меня завораживает твердая желтая полоска кожи по краям его пяток, на ощупь напоминает дерево, а не кожу. У мамы ступни чище, зато у основания большого пальца костистые шишечки, это тоже не слишком красиво. Я вообще заметил, что ноги у взрослых никуда не годятся, — это одна из причин, по которой я не спешу вырасти: противно думать, что мои ступни год от года будут становиться все уродливей.
Ногтем мизинца я пощекотал желтую толстую кожу на левой пятке па — так осторожно, что он сначала ничего не почувствовал. Тогда я стал продвигаться выше, к щиколотке — ага, он зашевелился! Но так как па все еще не догадывался, что я здесь, он решил, что это муха, и дернул ногой, чтобы ее согнать. Тут уж я его пощекотал как следует, он подскочил на постели и зарычал.
— Эй! Ты что, с ума сошел? — вскрикнула ма.
Потому что он сдернул с нее простыню, ее отвисшие груди обнажились, она увидела меня, резко повернулась спиной и схватила ночную сорочку.
Когда я был маленьким, мы часто купались вместе с ма, в ту пору она нисколько не заботилась о том, чтобы прятать груди, мне даже позволялось играть с ними, но несколько месяцев назад она решила, что отныне это табу, и теперь право видеть их имеет только па, больше никто (кроме самой ма, естественно). Спрашивается: если могло наступить время, когда я слишком вырос, чтобы на них смотреть, как она узнала, в какой именно день это случилось? Диковинные штуки эти женские груди: в начале жизни без конца тычешься в них носом, потом мало-помалу отдаляешься, и наконец приходит час, когда тебе даже поглядеть на них не разрешают. Но по телевизору и в кино женщины демонстрируют свои сиськи всему свету, только сосков не показывают, как будто некая священная тайна скрыта именно в сосках, хотя какая уж там тайна, в них обычно и молока-то нет. А того, что скрывается у женщин между ногами, я в глаза не видел: ма, когда принимала со мной ванну, ни разу трусиков не сняла. Статуи в парке не в счет, по ним ничего не поймешь, а когда я спросил об этом у па, он ответил, что у них там, в этом месте, всяких потрясающих штук полным полно, но вперед они не выдаются, не то что у нас.
Ма идет на кухню варить кофе, а мы с па отправляемся вместе в ванную — пописать. Встаем рядышком перед унитазом, две желтые струи встречаются, смешиваясь с прозрачной водой, и, что интересно, сперва граница между желтым и прозрачным еще заметна, но через несколько секунд цвет всюду становится одинаковым — светло-желтым. Я теперь точно попадаю в цель, а когда был маленьким, каждый раз несколько капель разбрызгивались по полу, и ма заставляла меня вытирать их губкой, а губку потом полоскать под краном. Меня тошнило от мысли, что я касаюсь руками собственной мочи.
Самолет ма улетает в семь вечера, но я знал, что весь день на нас будет давить мысль о ее отъезде. Когда она пила утренний кофе, в ее глазах были чемоданы, паспорта, визы и географические карты; я видел, что для меня там места нет.
— Это же невероятно, правда, Эрон? Меньше чем через сутки я буду в Германии. С ума сойти! Ну ладно, ладно. Список, вот что мне нужно. Список, да. Запомни, Рэндл: всякий раз, как почувствуешь, что дел становится выше головы, надо составлять список. Посмотреть своим обязанностям прямо в лицо и переписать их на лист бумаги в порядке убывающей важности. А начинать надо с самого противного, с того, чем хочется заниматься меньше всего. Это и называется «брать быка за рога».
— Только мне никак не удается перешагнуть этот этап, — вставил па. — Бык всякий раз пронзает меня рогами, толпа, вскочив на ноги, ревет от восторга, а я, лежа на песке, истекаю кровью.
— Эрон!
— Нет-нет, серьезно, Рэн, твоя мать права. Никогда не делай сегодня того, что можно отложить на завтра.
— Ты все перепутал! — смеясь, закричал я. — Наоборот: не откладывай на завтра то, что…
— В самом деде? А, ну да, виноват… Вечно я с этой поговоркой попадаю впросак, с чего бы, вот вопрос. Так что там с твоим быком, Сэди?
— С каким?
— С тем, которого ты сегодня возьмешь за рога.
— А… пора уложить мой багаж. Первый пункт в списке: багаж.
Па принялся мыть посуду после завтрака, а она пошла в свою комнату и стала вынимать из шкафа одежду, раскладывая ее на кровати, чтобы выбрать, что взять, что оставить. Я слышал, как она говорила сама с собой: «Так, посмотрим. Это жмет мне в талии. Нет, этот свитер к брюкам не подойдет. Сколько юбок брать — две? Или три? Колготки можно купить и в Германии…» — и все бы ладно, если бы в ее раздумчивое бормотание не вклинивался иногда второй голос: «Так зачем ты это покупала, дура?», «А по чьей, по-твоему, вине?», «Боишься лишний раз встать на весы?», «Так сколько же тебе нужно времени, чтобы найти ответ?». Тут па осторожно прикрыл дверь их комнаты — и очень кстати, кому охота слушать, как твоя собственная мать разговаривает двумя разными голосами?
Обычно поездки ма продолжаются дня два-три, в крайнем случае — неделю. На сей раз это должно занять целых две недели, даже на день больше, потому что хотя дважды семь — четырнадцать, но, если посчитать первый день и последний, получится пятнадцать. А мне сразу стало ее не хватать, проявилось это чудно: почему-то заболел живот. Еще я ломал голову: а вдруг ей тоже не хватает меня? Когда она просыпается в номере гостиницы, так далеко от дома, думает ли она о том, что я сейчас делаю?
Дни проходили за днями, и, сказать по правде, несмотря на разлуку с матерью лето я провел очень неплохо…
Ма позвонила по межгороду, трубку взял я, она сказала: «Привет, дорогой», — и прибавила еще парочку милых фраз, но я чувствовал, что ей не терпится закончить, ведь эти разговоры дорого стоят, а она хотела поговорить с па. Они толковали довольно долго, и, хотя па не повышал голоса, я догадался: ему не нравится то, что он слышит. Стоило мне это понять, как понос сразу погнал меня в туалет. А па потом сказал, что ма просто сама не своя от того, что ей рассказала в Мюнхене сестра бабули Эрры.
На следующий день нам позвонила сама Эрра, и, честное слово, хотя в ее прошлом копаюсь не я, мне стало стыдно. Услышав, что ма в отъезде, она удивилась, тут-то до меня дошло, что она не в курсе насчет своей сестры, и я торопливо прибавил: «Кажется, она поехала в турне с лекциями».
— В разгар лета? — Эрра недоумевала. — Не может быть. Все университеты закрыты.
— Наверное, это в Южном полушарии, — брякнул я, пытаясь и блеснуть своими познаниями в географии, и быть правдоподобным. Эрра рассмеялась:
— Ладно! А не закатиться ли нам всем четверым в воскресенье на пикник?
Когда она сказала про четверых, я смекнул, что наконец увижу ее подругу, это станет еще одним пунктом вдобавок к длинному списку секретов, которые мы с па храним, потому что дали «клятву друганов».
В субботу вечером па вернулся с целой охапкой пакетов из супермаркета, все воскресное утро готовился к пикнику, но, едва он начал паковать корзинку, небеса разверзлись. Пошел не дождик, не летний ливень из тех, после которых небо сияет еще ярче, — нет, это был самый настоящий потоп. Дождь хлестал как из ведра, тяжелые свинцово-серые тучи и не думали рассеиваться. Я ужасно огорчился: сегодня точно никто не станет стелить одеяло на газоне в Центральном парке, а я так ждал этого пикника! Па позвонил бабуле Эрре:
— Милостивый Господь судил иное…
Что она ответила, я не слышал, но он сказал:
— Гениально. Через час мы будем у вас, — повернулся ко мне и объявил: — Мы устроим пикник на Бауэри-стрит.
Мы вымокли до нитки, пока добирались. Бабуля Эрра и ее подруга набросились на нас с полотенцами: они так рьяно мутузили наши головы, что у меня в глазах помутилось. Разразилась гроза, гром рокотал, как грозный дракон, вознамерившийся проглотить наши припасы, но мы счастливо избежали его когтей. Эрра и Мерседес уже расстелили скатерть у себя в студии — прямо на полу, — и теперь расставляли на ней картонные тарелки и пластиковые вилки-ложки. Подруга Эрры оказалась миниатюрной, черноволосой и темноглазой, родом она была из Мексики, и звали ее Мерседес, как шикарную тачку. Пожимая мне руку, она сказала «Счастлива познакомиться, Рэндл», — и это прозвучало так, словно она и вправду была рада.
Бабуля Эрра — она гораздо сильнее, чем кажется с виду, — подхватила меня на руки и стала целовать: поцелуй — улыбка — взгляд. Глаза у нее сапфирово-голубые, в незаметных мелких морщинках, а волосы почти совсем седые, осталось лишь несколько золотистых прядей.
— Милый мой, — сказала она. — Как мы давно не виделись, правда?
И я ответил:
— Да.
Потом мы уселись по-турецки вокруг скатерти. Для своего престарелого возраста — обеим дамам давно перевалило за сорок — Эрра и Мерседес выглядели потрясающе стройными, не то что мой папа, хотя ему и сорока еще нет. Через несколько минут у папы свело ногу, и пришлось сбегать за подушкой. Все было чудесно — вкуснейшая еда и тот особый уют, который возникает, когда небо за окном темно-серое, как своды древнего замка, дождь драконьим хвостом лупит по стеклам, и кажется, что попал в сказочный спектакль. Мерседес зажгла две свечи, в их мерцании все выглядело совсем театрально, а когда мы поели, бабуля Эрра прикурила от свечи сигару.
— Итак, — с легкой лукавой усмешкой процедила она, — моя дочь обшаривает Южное полушарие?
— Южное полушарие? — озадаченно переспросил па, а я стал пунцовым и молил взглядом, чтобы он прикрыл мою маленькую ложь.
— А… — Па сразу все понял. — Рэндл, видимо, перепутал. Он хотел сказать, что она на юге. На юге Германии. Это нужно для ее изысканий.
— Искания, изыскания, разыскания… — Эрра вздохнула. — Я вот думаю — что случится, если она и впрямь что-то отыщет?
Мерседес прыснула и зажала ладошкой рот: не подобает смеяться над матерью в присутствии ее ребенка.
— Германия! — пробормотала Эрра. — О-ля-ля! Если бы я знала, что она станет одержимой… Все-таки странное у нее ремесло, Эрон, не находишь? Что это за занятие — совать нос в чужую жизнь, рыться в ней?
— Хм! Вот уж не знаю, — откликнулся па. — Мое в таком случае еще хуже: я ворую жизни, чтобы наделять ими своих персонажей. Голодное ухо жаднее брюха.
— Папа, ты опять путаешь! — закричал я, хотя знал, что он это нарочно.
— Нет, это не одно и то же, — возразила бабуля Эрра. — Ты художник, а тут совсем другое.
Щурясь от сигарного дыма, она направилась в тот угол, где стояло пианино.
— Иди-ка сюда, Рэндл, — позвала она, и я с радостью повиновался. — Помузицируешь со мной?
— Но я не умею…
Она подняла меня, усадила на табурет, пригладила мне взъерошенные после сушки волосы:
— Прислушайся к летучей мышке на твоем плече, пусть она тебя ведет… Я хочу, чтобы ты играл вот здесь, на басах. Касайся только черных клавиш, понял?.. Нежно, как можно нежнее… Главное, слушай, что играешь, слушай, пока самому не понравится.
Мерседес и па сидели в другом конце комнаты и молчали. Наступила такая тишина, что и правда любую муху можно бы засечь. Я медленно и мягко нажимал десятью пальцами на черные клавиши. Бабуля Эрра стояла рядом, слушала и кивала. Потом загасила свою сигару, и я услышал, как в ее груди возник неясный гул. Я продолжал играть, а она на каждую мою ноту отвечала своей, иногда в тон, иногда — контрапунктом, это было, как идти медленным шагом по лесу, прячась за деревьями. Мои пальцы мало-помалу обретали беглость, ее голос тоже зазвучал быстрее, но мы по-прежнему придерживались изначального намерения играть «нежно», так что стало похоже, будто мы танцуем чечетку под снегопадом.
И вот наступил момент, когда я почувствовал, что пора заканчивать. Мы остановились в одну секунду, и па с Мерседес зааплодировали, на вид сильно, что есть мочи, но все-таки нежно, так мягко и деликатно, что ни звука не было слышно. Нас это рассмешило, мы захохотали. Бабуля Эрра покружила меня вместе с табуретом, потом подхватила на руки:
— Видишь? Ты сыграл!
И она еще раз легко пронесла меня пол мышкой через всю комнату.
— Мне послышалось, будто я различаю там несколько слов, Эрра, — сказал па. — Ну, может, не слов, а слогов, они у тебя выпрыгивали то здесь, то там… Глядишь, и ты постепенно очеловечишься, а?
— Я всегда была человечной! — Бабуля Эрра широко улыбнулась. — Но, что верно, то верно: я теперь иногда вплетаю в свое пение словцо-другое. Это из-за Мерседес. Она — волшебница слова.
— Это правда? — спросил я у Мерседес, когда бабуля усаживала меня в кресло.
— О, — ответила Мерседес, — волшебство не во мне. Оно в людях и во всем, что творится между ними. Чтобы использовать эту магию, нужно научиться сосредоточиваться, вот и весь секрет.
— Для меня это проблема, — вздохнул па.
— Тс-с! — Мерседес приложила палец к губам. В наступившей тишине она низким, резким голосом прибавила: — Иногда для волшебства достаточно закрыть глаза и внимательно вслушаться. Ты готов, Рэндл?
— Готов.
— Отлично. Тогда слушай. У тебя в мозгу белоснежное облако, оно похоже на ватный шар… Ты его видишь?
— Да.
— Ну вот… от этого облака тянется хвост из множества разноцветных лент с бантиками, как у воздушного змея… Банты скреплены друг с другом… Это слова… Если будешь тянуть осторожно — они такое принесут тебе с той стороны облака!
Я открыл глаза, но Мерседес с улыбкой покачала головой:
— Смотри внутрь себя, и глаза будут закрыты. Вот так. Хорошо. Теперь начинается волшебство. Образы будут переходить из моего сознания в твое. И ты увидишь все, что я назову.
Она продолжала говорить глухим низким голосом, делая паузу после каждого слова:
— Вот… мертвый ворон… А это… фея с радужными крыльями… Это — миска с овсяной кашей… Ты видишь их, Рэндл?
Я кивнул утвердительно, потому что и правда… Молчание было долгим и полным, я погрузился в него с головой и увидел недвижного ворона с остекленевшим полузакрытым глазом, диадему, искрящуюся в золотистых локонах феи, и парок, что поднимался над миской с горячей кашей, какую па иногда варил для меня зимним утром, это вкуснятина, если с сахаром, со сливками и даже иногда с изюмом.
Когда я снова открыл глаза, трое взрослых смотрели на меня с улыбкой.
— На самом деле такое происходит все время, — сказала Мерседес. — А магия, она в том, чтобы это осознать.
— И стать поэтом? — спросил па.
Мерседес расхохоталась, и я подумал: похоже на фонтан, от которого разлетаются тысячи сверкающих брызг.
— Нет, — сказала она, — я не поэт, я врач. Моя специальность — психотерапия через образы.
Может, я и не понял, что это значит, но сразу смекнул, что заниматься этим с Мерседес должно быть очень приятно.
— Гипнотическая демонстрация, — протянул па, закуривая сигарету, чего ма отнюдь не одобрила бы. — Но театр — это совсем другая песня. Пьесу о дохлом вороне, о лучезарной фее или о миске с кашей сочинить невозможно. Нужно найти способ соединить их в некое целое.
— И к тому же, — вмешалась Эрра, — волшебство Мерседес действует только на тех, кто говорит с ней на одном языке. Если бы вместо «мертвый ворон» она сказала «cuervo muerto», Рэндл ничего бы не увидел. Вот почему я так ценю чистый голос, без фальши — он-то всем понятен. Мое пение ведь абсолютно прозрачно, верно, Рэндл?
— Не знаю, — честно признался я. — Но оно абсолютно красивое!
Они засмеялись, потому что я сказал «абсолютно», это не детское слово, хотя старшие, говоря между собой, все время употребляют его при нас.
— Спасибо, сердце мое, — тихо-тихо шепнула мне бабуля Эрра.
Потом они затеяли взрослый разговор про президента Рейгана («Это третьеразрядный актер», — припечатал па), он как раз послал войска в Бейрут. Я свернулся калачиком на большой, лежащей на полу, подушке и стал задремывать, представляя себе, что я Соня, как моя мать, и что они, чего доброго, обольют меня чаем. В какой-то момент я уснул по-настоящему, но потом проснулся оттого, что они хохотали. Самой шутки я не слышал, и тут бабуля Эрра вдруг звучным голосом объявила, что инструмент, всегда сопровождающий ее пение, лютня. Паи Мерседес озадаченно переглянулись, мол, «что она городит?», а па сказал:
— Извини, но я никогда не видел, чтобы кто-нибудь из музыкантов твоего ансамбля играл на лютне.
Эрра усмехнулась:
— Возможно, лютнист невидим, но он там, он один там присутствует по-настоящему…
А может, мне это померещилось, я не уверен, что она вправду говорила о лютне, ведь в полусне слова людей часто воспринимаешь искаженно.
В конце вечера мы все пытались постоять на голове. Па каждый раз падал, разбивая себе физиономию. Мерседес удалось вытянуть ноги вверх, но распрямить тело в одну линию с ними она не сумела. У меня при каждой новой попытке получалось все лучше. Но бабуля Эрра всех превзошла. Интересное дело: у нее всегда такая веселая жизнь? Или наш пикник на полу — особый случай?
Вечером, в постели, я попытался поколдовать словами, как Мерседес. Зажмурил глаза и забормотал: «Собака… кошка… тарелка…», — но настоящей магии не вышло. Гораздо удобней, когда кто-то другой называет тебе слова, тогда образы приходят неожиданно. Себя самого удивить трудно, как пощекотать себя, давным-давно па сказал мне: «Я не могу засмеяться, пощекотав сам себя, но мне смешно, когда я представляю людей, которые пытаются рассмешить меня щекоткой и у них ничего не выходит».
Ма снова нам позвонила. В начале их разговора У па был довольный вид, он радовался ее звонку, но потом нахмурился и становился все мрачнее. «Как это так?» — сказал он. Послушал, качая головой, хотя она не могла этого видеть, и добавил: «Невероятно. Украинка, да?.. Вот те на… Ты права. Они устраивали то тут, то там маленькие погромы, хотели развлечься, но в конечном счете не народ принимает окончательное решение… Послушай, Сэди, все это весьма захватывающе, но я женился не на твоих предках, а на тебе. И был бы не прочь время от времени тебя видеть». Несколько минут ничего не было слышно, мама ругалась на другом конце провода, пока он ее не прервал: «Чикаго? Что тебе там понадобилось?.. Ушам своим не верю! Ты что, сыщиком заделалась?.. Меня вовсе не число дней беспокоит, а твоя манера забивать себе голову тем, что…» Однако закончить фразу ему не удалось, он еще послушал, попрощался и положил трубку:
— Твоя мать на обратном пути сделает небольшой крюк, заедет в Чикаго, — сказал он мне. — Вернется в будущую среду.
В те дни, еще до возвращения ма, к нам заехал Джейкоб, приятель па, тоже драматург. Свалился, как снег на голову. Я очень люблю Джейкоба, у него длинная черная борода и густой громовый голос, полный сдержанного смеха. Одну из его пьес только что поставили в летнем театре в Вермонте, он хотел, чтобы па отправился туда с ним и посмотрел.
— Да я бы рад, но у меня малыш на руках.
— Ерунда! — наседал Джейкоб. — Малыша мы возьмем с собой! Будет на одного клакера больше…
В субботу утром, ничего не сообщив ма, мы покинули Нью-Йорк в старом тряском минивэне Джейкоба (с ма случился бы припадок, если бы она увидела, какой он битый-перебитый!) и покатили в Браттлборо: это черт знает как далеко. Па и Джейкоб коротали время, распевая арии из старых мюзиклов. Половину слов забыли, вот и придумали игру: один затягивает песню, другой ее продолжает словами из другой, но в той же тональности и чтобы абракадабра не получалась:
— Если б я был богат, дидли-дидли, буба-буба, дидли-дидли-дам, я бы целый день слонялся по Дороге из желтого кирпича, по Желтокирпичной Дороге, ба-ду-ба… — заводил па, повторяя песенку Мерседес. — Зим-бам-буд-ли, у-у-худли, ба-да-ба, скатти-ва, — подхватывал Джейкоб и добавлял кусок из «Порги и Бесс».
Они горланили, опустив оконные стекла, и, скажу честно, я давно не видел отца таким возбужденным.
В театре па усадил меня к себе на колени, но я почти все проспал и ничего не понял. После представления давали обед в честь Джейкоба, я подумал: а вдруг па завидует успеху друга, но с виду было не похоже, он шутил, спрашивал, кто приготовил всю эту роскошь. Потом вдруг выяснилось, что в отеле «В&В» нет свободных комнат: Джейкоб притащил нас с собой, но ничего не предусмотрел, а номера, оказывается, зарезервированы для туристов.
Джейкоб сказал, что это фигня, возьмем спальные мешки и выспимся под открытым небом. Было уже два часа ночи, но мы снова забрались в минивэн и ехали, пока не нашли спокойное местечко, там па вышел, отодвинул пару стоек заграждения, мы улеглись прямо на землю, завернулись в спальники, и стали смотреть на звезды. Получилось чудесно, и комары не очень кусались. Засыпал я под воспоминания па и Джейкоба об их юности, об эпохе хиппи, когда все носили длинные волосы, ходили с голой грудью и стремились вернуться к природе — здорово, прекрасная была жизнь!
Я проснулся первым, очень рано. Вокруг было тихо. Я увидел, что спали мы на лугу, солнце только-только показалось, воздух был свежим, в прозрачном свете капли росы переливались на высокой траве. С соседней фермы доносилось мычание коров. Я встал, босиком дошел до края вспаханного поля и нырнул в лесную чащу. В это мгновение первые солнечные лучи проникли сквозь листву деревьев. Я сел на старый пень и подумал: как удачно, что ма не поехала с нами, она бы жутко расстраивалась, что мы не почистили зубы и рискуем схватить насморк. Я тихонько погладил летучую мышь на своем плече, и она шепнула мне на ухо: самое время поколдовать. Я попробовал. Подумал слово «роса»… и слово «заря»… и слово «лето»… Все получалось!
Тут возле минивэна Джейкоба, взвизгнув тормозами, остановился автомобиль. Оттуда вылез мужчина с ружьем и быстрым шагом направился к па и Джейкобу, которые все еще спали на земле. Меня он не заметил — я прятался в чаще, но я-то его видел, он явно был в ярости.
— Чего вы здесь разлеглись? — зарычал он.
Па с Джейкобом привстали, протирая глаза и спросонья неловко поправляя свою одежду.
— А ну, вставайте, сукины дети! — заорал этот тип, направив на них дуло ружья: хотел показать, что с ним шутки плохи. Казалось, он вообще не способен разговаривать по-человечески и может только орать: — Вы что, табличку не видели? Там написано: «ЧАСТНОЕ ВЛАДЕНИЕ»! Вы читать умеете?
— Да-да, — сказал па. — Действительно, табличка была…
— Разумеется, мы видели табличку, — ухмыльнулся Джейкоб. — Мы ее сдвинули, так что мудрено было не увидеть. Но мы ее не украли.
— Что-что?
— Ваша табличка целехонька, — подхватил па. — Коль скоро она помечена как «ЧАСТНОЕ ВЛАДЕНИЕ», значит, она кому-то принадлежит, стало быть, мы ее и не трогали.
— А ведь, заметьте, она бы нам очень пригодилась, чтобы развести огонь, — невозмутимо продолжал Джейкоб, надевая сандалии. — Ночка-то выдалась не из теплых.
— Идиотские шуточки! — завопил фермер. — Если не заткнетесь, я вызову полицию!
— Эрон, где твой сын? — спросил Джейкоб.
— Еще чего? Вы и сопляков своих сюда притащили? Ах ты, дерьмо!
— Я здесь, па, — отозвался я, выбираясь из кустарника. Мой голос прозвучал слабо и визгливо, все из-за ружья, тут я ничего не мог с собой поделать.
— Убирайтесь сейчас же, слышите?
— Ну-ну, спокойно, — ответил Джейкоб, наклоняясь и подбирая с земли наши спальники. — Мы уходим.
— Я жду! — рявкнул фермер. — Глаз с вас не спущу! Считаю до десяти!
Когда Джейкоб, выруливая на шоссе, дал задний ход, па сделал неприличный жест рукой. Фермер побагровел от ярости, вскинул ружье, и я задрожал, как овечий хвост, представив, как взрывается, разлетаясь на осколки, ветровое стекло.
Через несколько мгновений па тихо спросил:
— Как ты, Рэн? В порядке?
— Угу… Зря ты его дразнил. Не надо было.
— Ты прав. Глупо с моей стороны.
Было ясно без слов, что вся эта экспедиция тоже останется нашим секретом, одним из тех, что подразумеваются «клятвой друганов».
В следующую среду мы отправились встречать ма в ДжФК — так называют аэропорт имени Джона Фицджеральда Кеннеди, американского президента, которого убили, когда ма было всего семь лет и она это видела по телевизору. Она запомнила, как Жаклин Кеннеди, жена президента, в розовом английском костюме ползала по их новенькому бронированному «линкольну», собирая кусочки мозгов мужа; ма говорит, нет смысла покупать бронированный автомобиль, чтобы потом ехать с откинутым верхом (какое счастье, что тот фермер из Вермонта в нас не выстрелил, ведь минивэн у Джейкоба не бронированный!).
Пришлось довольно долго ждать, глядя, как пассажиры чикагского рейса проходят через автоматические двери. Это очень странно — смотреть в лица людей, отбрасывая их одно за другим, как будто все, кого видишь, не в счет, их вроде бы и нет, потому что они не твоя мама, а ведь для тех, кто ждет, они — центр Вселенной, зато твоя мама им никто. Наконец — хлоп! — и па кричит:
— Вон она!
Она идет нам навстречу с чемоданом в руке, но никакой радости не выказывает, как это делает бабуля Эрра; ма просто констатирует факт нашего присутствия, на лице изображается нечто вроде: «А, вот и вы, что ж, едем домой». Тем не менее она опускается на корточки рядом со своим чемоданом, чтобы я мог броситься в ее объятия. Но в ту самую секунду, когда я прижимаюсь к ее груди, она говорит «Фу, черт!»; не очень-то весело услышать такие слова, обнимая мать после долгих недель разлуки, хотя дело было в том, что, когда она присела, у нее отскочила пуговица на брюках, и она сразу подумала, что потолстела, впрочем, это еще не факт, ведь складки собираются у любого, кто садится на корточки. Она подобрала пуговицу, выпрямилась и принялась возиться с молнией на брюках; па хотел ее поцеловать, но ограничился тем, что взял чемодан. И мы пошли на стоянку.
Я держал маму за руку, ее ладонь была со мной в Нью-Йорке, но мысленно она еще колесила по свету: даже не спросив, как у нас дела, сразу затараторила о своем. Тон ничего хорошего не обещал, и я отключился: пусть слова плавают наверху, рождаясь в устах взрослых, а я буду внизу разглядывать тысячи спешащих мимо, разбегающихся во все стороны ног. Я подумал: что было бы, если бы на аэропорт сбросили бомбу и все эти люди умерли бы разом или бились бы в конвульсиях в лужах крови, без рук без ног. Моя летучая мышка шепотом посоветовала, чтобы я завел у себя в голове бомбардировщики, пусть они гудят изо всех сил, пусть вопят и стонут люди, пусть бьется стекло, пусть с пронзительным свистом и грохотом падают бомбы, а потом пусть будут взрывы, взрывы и взрывы.
В машине голос ма зазвучал еще напряженнее, она жутко перевозбудилась, говорила без остановки о том, что узнала в Чикаго от мисс Мулик, престарелой дамы, которая после войны работала в Германии, в Агентстве по делам перемещенных лиц, и знала Эрру. Па только и делал, что качал головой да время от времени что-то ворчал, но она не давала ему вставить ни звука. Я думал о Мерседес, о ее манере произносить слово, всего одно, — но как! — вспоминал те три примера и что было сил пытался вообразить крылья феи, но воздух в машине был переполнен словами моей матери, они роились, затуманивая и перепутывая все на свете. Некоторые слова возвращались, повторяясь снова и снова: «источник жизни»… «невероятно»… «нацисты»… «уничтоженные архивы»… «источник жизни»… «Lebensborn»… «невероятно»… «кровь»… «моя родная мать»… «источник жизни»…
— Что такое источник жизни, ма?
На переднем сиденье замолчали.
— Ма?
— Сэди… — па тяжело вздыхает. — Ты не находишь, что с этим разговором можно было повременить?
— Да-да, конечно, — отрывисто бросает ма.
Она оборачивается ко мне, протягивает руку, чтобы я снова мог за нее уцепиться, что я и делаю, но от ее заведенности у меня так сосет в животе, как будто произошло что-то ужасное. Она все еще не спросила: «Ну, а вы? Чем вы занимались все это время?» Только смотрит, как по Манхэттенскому мосту вихрем проносятся автомобили. Проходит минута-другая, и она снова принимается рассказывать па все, что узнала от Греты, сестры Эрры, и главное — от этой самой мисс Мулик. Вроде бы немецкие родители Эрры не погибли при бомбежке, как она всегда говорила, и они ей вовсе даже не родные, сначала она была украинкой, но совсем маленькой попала к немцам, а потом Агентство разыскало ее благодаря родимому пятну, нашлась семья из Канады, которая ее удочерила, а умерли совсем другие, украинские родители.
— Подожди, — перебивает па, — я не понял: если ее настоящих родителей не было в живых, откуда агентство узнало о ее существовании? С какой стати они ее разыскивали? Кто сказал им о родинке?
— Я еще не все выяснила, — сказала ма. — Мои поиски не завершены. Я поехала в Германию, чтобы получить ответы, а возвращаюсь с кучей новых вопросов!
Для меня это слишком сложно, я в толк не возьму, как у одной маленькой девочки может быть столько родителей. Пытаясь в этом разобраться, я так устал, что в конце концов заснул в машине и даже не знаю, кто отнес меня в кровать.
Со взрослыми вечно так: свои решения они принимают сами, дети ничего не могут с этим поделать.
На следующее утро за завтраком, когда ма сказала: «Видишь ли, Рэндл…», я даже не спросил «Что?». Никакого желания не было про это спрашивать, я же знаю, ей плевать, чего я хочу, а чего нет.
Так и есть. На мою голову обрушился потолок: мы переезжаем!
Покинуть Нью-Йорк? Не верю. Из-за маминой работы всей семье придется уехать, а меня даже не спросили. Смотрю на па, но он не то что не протестует — еще и поддерживает ма. Я пытаюсь уничтожить эту ситуацию с помощью мерцающего гриба атомного взрыва, как в первом эпизоде «Спайдермена», но фантастика не помогает, тут ведь самая взаправдашняя правда. Мы будем жить в Израиле, в городе, который называется Хайфа. Эта мисс Мулик, с которой ма на нашу беду встретилась в Чикаго, рассказала ей о каком-то университетском профессоре из Хайфы, он один из крупных специалистов по «источникам жизни» («Lebensbornen»). Это новая страсть моей матери, я вообще-то ничего тут не понимаю но, похоже, дело в том, что бабуля совсем маленькой, между своей украинской семьей и немецкой, жила там. Но где это — «там»? Может, источник жизни — что-то вроде родника вечной юности, это бы объяснило, почему Эрра выглядит такой молодой. Как бы то ни было, ма приспичило поработать в архивах Хайфы. Для меня там есть школа (Еврейская реальная — так она называется), и я должен теперь провести остаток лета, обучаясь ивриту, потому что если не знаешь иврита, тебя в эту школу не примут.
— А как же мои друзья? — Мне ужасно хочется зареветь, но родителям начхать на мои слезы. Дети не должны так говорить, но вот на это начхать мне.
— Мы же едем всего на годик, — сказали они. А для меня это вечность. Через год мне будет уже СЕМЬ. Когда мы вернемся в Нью-Йорк, у меня не останется друзей, мне стукнет СЕМЬ ЛЕТ, и я окажусь в пустоте. Не хочу уезжать из Нью-Йорка, не желаю, и все тут! Па тоже не хочет, меня ему не обмануть, он изо всех сил старается шутить, говорит, что перейти от Рейгана к Бегину — это целая поэма. И что если выбора все равно нет, тем больше смысла смотреть на это как на приключение. Еще говорит, что ему ничего не стоит перетащить через Атлантику свой страх перед белым листом, если ма берется оплатить транспорт, потому что — ха-ха-ха! — это весит целую тонну.
Я страшно зол на свою мать. Я мог бы ее убить.
Я снова начинаю рисовать людей без туловища. Назло.
Я рисую женщин, у которых отрезаны груди.
Рисую громадные кинжалы, которые вонзаются в спину женщин, но слежу в оба, чтобы эти женщины не походили на мою мать, — вдруг рисунок попадется ей на глаза?
Ма нашла для меня преподавателя иврита, и я приготовился к тому, что эта зубрежка испортит мне остаток лета. «Не огорчайся, Рэндл», — сказала ма, застав меня в прихожей, где я, с вызовом скрестив руки на груди, ждал своего наставника. И погладила меня по голове, делая вид, будто мои чувства ей все-таки небезразличны. Но я не ответил, мне нравилось дуться и, главное, хотелось вызвать у нее чувство вины. Она отправилась в университет, надеясь там откопать еще немножко Зла, а тут и учитель явился, па пошел открывать ему дверь. Он назвался Даниэлем, а сам был хрупкий, тонкий, со светло-каштановой бородой, мягким голосом и невероятно выразительными руками — они так и порхали туда-сюда, как птицы.
Мы расположились за столиком в столовой, он с улыбкой протянул мне правую руку и сказал «Шолом», ма всегда говорит, что это слово означает «мир», но тут я понял, что на самом деле это просто «добрый день». Тогда я тоже в свою очередь сказал «Шолом» и пожал его белую длинную руку с очень гладкой кожей. Он раскрыл портфель, и я сказал себе: «Ух ты, это и вправду как в школе!», но нет — на самом деле портфель был до отказа набит играми и картинками. Для начала мы сыграли в шашки, а поскольку в шашках я силен, то в пять минут обыграл Даниэля, что дало ему повод научить меня таким словам, как «вы» (атем), «я» (ани), «здесь» (кан), «там» (шам), «да» (кен), «нет» (ло), «помоги» (азор) и «спасибо» (тода). К концу игры он выглядел настолько ошеломленным моими талантами, что я, глядя на него, покатывался со смеху, и тут он мне сообщил, что «смеяться» переводится как «лицхок». Потом мы смотрели картинки, Даниэль вместо всяких глупостей вроде цветов и котят показывал мне фотографии автомобилей и велосипедов, джинсов и сапог, солдат и каких-то рожиц — короче, всяких штук, которые могут мне пригодиться в качестве слов. Его руки все время двигались — глаз было не оторвать, до того выразительными они выглядели. Я спросил, как будет «летучая мышь», и он мне сказал, так я узнал тайное имя моего родимого пятна на иврите: «аталеф».
Мир становится не совсем таким, каким был, когда у каждого предмета оказываются два разных имени; об этом даже думать странно.
Прошло всего несколько дней, и я уже с нетерпением ждал наших занятий; когда я усваивал то, чему учил Даниэль, он сиял, осыпал меня похвалами и побуждал, не медля, сделать следующий шаг. К началу августа я уже начал составлять целые фразы, вроде «Погода отвратительная» (Мезег авир гаруна), «Я проголодался» (Ани разе) или «Не устроить ли нам маленькую прогулку?» (Нетайель кцат?). Я чувствовал, как новый язык поселяется у меня во рту, и полюбил это ощущение, особенно звуки «айн» и «хет», такие мягко скребущие, шершавые.
Я чем дальше, тем больше ценил Даниэля и стал выпытывать у него, как звучат тяжелые слова, например «смерть» (мавет) и «одиночество» (бдидут). Он сообразил, что это сложные темы, и стал сам задавать вопросы, чтобы выяснить, как я их понимаю. Пользоваться английским языком мне не разрешалось, и, когда не хватало слов на иврите, я прибегал к жестам, а учитель кивал и подсказывал недостающие слова. Я рассказал ему о дедулиных похоронах, о той игре, когда я спрятался, а двоюродные братья обо мне забыли, о бабуле Эрре, как она курит сигары и умеет стоять на голове, и даже историю ее второго мужа Янека, который застрелился. Если я ошибался, он меня поправлял, очень деликатно: все время кивал, будто подтверждая «да-да, все так и было», потом повторял мою фразу, но грамотно, и я вслед за ним выговаривал ее без ошибки. Уроки иврита стали для меня любимейшим из ежедневных занятий, хотелось, чтобы лето никогда не кончалось, ведь когда оно пройдет, я не смогу видеться с Даниэлем.
В один прекрасный день я спросил у него, как будет на иврите «источник жизни», потому что без конца слышал разговоры о нем. Улыбка Даниэля медленно испарилась, его тонкие руки бесшумно, как птичьи крылья, упали на стол. «Как? Ани ло мевин», — сказал он, что значит: «Я не понимаю». Тогда я повторил вопрос, прибавив по-английски: «Моя мать думает, что в Германии бабуля Эрра была в источнике жизни, но я не знаю, что это такое».
Даниэль молчал так долго, что мне стало страшно. На меня он не смотрел, уставился на свои руки, они лежали на столе неподвижно, словно мертвые птицы. Наконец он собрал свои бумаги, постучал их стопкой по краю обеденного стола, чтобы сровнять края, и аккуратно запихнул в портфель. Прошел по коридору к двери кабинета моего отца и постучался. Когда па отворил дверь, Даниэль тихим голосом сказал ему:
— Я пришел сюда давать уроки еврейскому мальчику, а не эсэсовскому отродью.
Повернулся и вышел, его походка была такой же мягкой и изящной, как обычно, но я понял, что больше его не увижу, ведь он, уходя, не сказал: «Лехитраот».
Я потерял друга, даже не поняв почему, но, видимо, по своей вине. Горло перехватило, я разрыдался. Па взял меня на руки, я ногами обхватил его за талию, и он, не задав ни единого вопроса, дал мне выплакаться у него на плече.
Мы вышли на улицу, прошлись вокруг квартала. Было решено, что не стоит говорить ма об увольнении Даниэля, ведь в следующее воскресенье мы уезжаем в Израиль, урокам так и так пришел бы конец. Пока лучше делать вид, будто учитель продолжает приходить, а я займусь повторением того, чему он успел меня научить, благо успел он немало.
В тот вечер ма вернулась домой в превосходном настроении: день прошел результативно, это всегда делало ее счастливой. За ужином, даже не заметив, какую дивную лазанью приготовил па, она объявила, что для отъезда все готово.
— Говорят, Хайфа очень красивый город, — сказала она. — Я нашла нам квартиру на улице Хацви, в двух шагах от школы Рэндла. В университет я смогу ездить на автобусе, а у па будет возможность спокойно работать, ему ведь необходима тишина, чтобы писать.
— Да уж, — хмыкнул па. — Израиль в данный момент сверхтихая страна, если принять в расчет, что почти все солдаты отправлены в Ливан…
— О Рэндл, — оживленно перебила ма, — знаешь, что еще? В том квартале находится зоосад! Мы сможем ходить туда вместе. Замечательно, правда?
Я ничего не ответил, ведь здесь, в Центральном парке, тоже есть зоосад, она меня туда сводила всего один раз. Не говоря о том, что, по словам па, в Израиле почти никогда не играют в бейсбол, да и на санках не покатаешься, зимой там нет снега.
В тот вечер, ложась спать, я изо всех сил прижал к себе Марвина. Обязательно повезу его с собой в Израиль, он принесет мне удачу и защитит, потому что когда-то он принадлежал бабуле Эрре. Ах, если бы сама Эрра могла поехать с нами! Но она опять в турне, я даже подозреваю, что ей не известна истинная причина нашего переселения в Израиль — желание ма выяснить, каким образом она связана с источниками жизни.
Мне приснилось, что все мы сидим в кафе и там убивают женщину. Она корчится на полу в луже крови, ее ноги запутались между ножками стола и ногами посетителей, но похоже, никто ее не замечает. «Па! — говорю я. — Смотри, па! Вон лежит мертвая женщина!» Но па слишком поглощен разговором с ма, они не обращают на меня никакого внимания, а мне становится все страшнее. Тут является официант в белой униформе, он наклоняется над трупом и начинает промакать багровую лужу белыми тряпками, они впитывают кровь, и официант выжимает ее в таз. «Ага, вот как! — говорю я ему. — Значит, вы в курсе». — «Ну разумеется, юноша, — отвечает он. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить безупречное обслуживание».
Мы в самолете, это первый в моей жизни полет, ма и па читают книги, я сижу между ними, больной от страха, с Марвином в обнимку. Наконец па догадывается, что со мной неладно. Тогда он открывает свою тетрадь для заметок, и мы начинаем играть в балду и в крестики-нолики. В этом самолете почти нет детей, не считая нескольких младенцев, которые только и делают, что ревут. Па спрашивает у стюардессы, нельзя ли подмешать немножко героина в их бутылочки, чтобы они, пососав, перестали плакать. Стюардесса прыскает, но слово «плакать» напоминает ма о Стене Плача, описание которой она только что прочитала в путеводителе: это место, куда евреи могут приходить, чтобы вспоминать обо всех катастрофах, которые обрушивались на них в течение столетий.
— Довольно плача и жалоб, — говорит па. — Две тысячи лет хватит уже! Я напишу пьесу под названием «Стена Ржача», так-то. Святое место, где люди смогут утешаться, вспоминая шутки и надрывая животики. Час ежедневного обязательного зубоскальства! Смешная история перед каждым ужином! Церковь веселья и облегчения!
— Когда я была маленькой, у меня был пес по кличке Хилари, весельчак, — сказала ма. Но тут подоспел обед, нам стали раздавать салфетки и пластиковые тарелочки, ей пришлось подсчитывать калории в каждом проглоченном кусочке, чтобы не съесть лишнего, и приглядывать за мной, чтобы я ничего не опрокинул. Из-за всего этого она совершенно забыла про своего пса и так мне о нем и не рассказала. После еды она велела мне пойти в туалет и почистить зубы пальцем, раз нет зубной щетки.
Аэропорт Тель-Авива тонул в тумане зноя и гуле зычных голосов. Нас встречали две дамы из университета Хайфы. Они заговорили со мной на иврите. «Барух хаба, — сказали они. — Ма Шломкха». И когда я робким голоском пролепетал в ответ «Тов ме од», их лица просияли. Благодаря урокам Даниэля я смог, навострив уши, ловить обрывки разговора, который зашел между взрослыми. До того рокового дня наставник вбил-таки в мою голову внушительный запас слов на иврите.
Хайфа — белоснежный, сверкающий город на фоне морской лазури. Поначалу кажется, что море с одной стороны, но потом оказывается, что и с другой тоже: город построен на крутом склоне высокого мыса, откуда открывается вид на все стороны света. Солнце пекло вовсю. Дамы отвезли нас на самую вершину холма, на улицу Хацви — спокойную, обсаженную деревьями, в густых кронах которых пели птицы. Все казалось неожиданным, хоть я и сам не знаю, чего ждал. Сквозь ветви пробивались яркие, как молнии, солнечные лучи. А сквозь слова иврита так же пробивался смысл. Все это мерцало ж звуки древнего языка, улица Хацви, здесь и вправду было очень красиво. Дамы охотно помогли нам затащить чемоданы в дом, показавшийся чистеньким и безмятежным, во всяком случае, по сравнению с 54-й улицей… Но и на этом сияющем фоне нашлось-таки темное пятно: телевизора не было.
Прежде всего па решил выяснить, что здесь почем, для него этот вопрос был самым насущным. Он повел меня в супермаркет. Там очень узкие проходы. Перед кассой стояла вереница ручных тележек, люди ставили их тут без присмотра, а сами со всех ног мчались за покупками, чтобы не пропустить свое место в очереди. Мне это показалось странным, но па сказал, что, живя здесь, я наверняка еще многому поудивляюсь.
Жители Хайфы почти сплошь евреи, если не считать отдельных арабов, про которых, по мнению па, не стоит говорить, что они арабы, так как они могут оказаться кем угодно — христианами, мусульманами или иудеями, однако ма заявила, что это не мешает им оставаться арабами. А вот чернокожих здесь совсем не встретишь.
Через неделю мне предстояло сдавать вступительный экзамен в Еврейскую реальную школу, и это вовсе не приводило меня в восторг. Утром па уже помогал мне повторять слова по списку, потому что, как сказала ма, лучше сразу взять быка («шор») за рога. Словарный запас и произношение у па гораздо хуже, чем у меня, он говорит, все дело в том, что клетки мозга, старея, слишком сживаются с привычным и им трудно воспринимать новое. Потом, пока зной не стал невыносимым, мы пошли побродить по кварталу, стараясь вспоминать, как на иврите называется то, что попадалось нам на глаза. Мы вели счет, кто вспомнит больше, и я выиграл, честное слово. Усевшись на скамейку в парке на улице Панорамы, мы увидели у своих ног весь город, окруженный Средиземным морем.
— Смотри, — сказал па. — Вон, впереди… Видишь тот клочок земли, совсем белый, что выступает слева? Это Ливан. Там сейчас, в эгу самую минуту, свирепствует война. Рейган и Бегин вмешались в заварушку и послали туда войска. Их называют миротворческими силами. Потому что надо же сохранять чувство юмора.
Мы долго сидели на скамейке, смотрели на море, на корабли в гавани и холмы, что зелеными волнами вздымались вдали. Все выглядело таким мирным, что трудно было поверить в эти рассказы о войне.
Славный выдался день. Мы даже не заговаривали о том, что будет, если я провалюсь на экзамене, но и так было несомненно, что меня отправят в какое-нибудь подобие детского сада, к сосункам, и до конца года я буду чувствовать себя дубиной, тут уж не до шуток.
Ма проводила меня до школы на улице Ха-Йам, это в двух шагах от нашего дома, но на дне глубокого оврага, куда приходится спускаться по деревянной длинной лестнице. Когда мы ступили на нее, ма так стиснула мою руку и выпятила подбородок с таким решительным видом, что меня аж замутило. Тогда я принялся шепотом считать ступени. Дойдя до цифры сорок четыре (то есть примерно до середины лестницы), я подумал о бабуле Эрре, потому что ей как раз столько лет, и вдруг вспомнил обещание, которое она с меня взяла: никогда не терять связь со своей летучей мышкой. И я стал потихоньку гладить родимое пятно, шепча «аталеф, аталеф» и стараясь успокоиться. Тут я заметил, что лестницу обрамляют большие сладко пахнущие эвкалипты с маленькими обвислыми темно-зелеными листочками. В голове мелькнула мысль о Мерседес, я стал очень медленно повторять по-английски и на иврите названия всех деревьев, какие знал: «пальма» (тамар), «апельсин» (тапуз), «олива» (зайит), «инжир» (тээна), «эвкалипт» (экалиптус) — и мне полегчало. Там, внизу, школьный двор пестрел разноцветными мазками: бегали и прыгали дети, шныряли по углам кошки, цвели в горшках высокие розовые цветы. Я услышал вдали крик петуха, ма сказала, что он, наверное, живет в зоопарке, по другую сторону долины.
Я больше не боялся. Знал, что выдержу испытание. И не ошибся.
Мне вдруг померещилось, будто я — совсем не я, а кто-то другой. Сильный, уверенный в себе. Словно весь мир принадлежит мне. Па повел меня в магазин покупать школьную форму. Она оказалась просто шикарная — рубашка и брюки цвета хаки, а на голубом шерстяном свитере, слева на груди — эмблема школы: темно-синий треугольник с девизом «Вехацнеа Лешет», это значит «Будь скромен в поведении». Каждый день иврит понемногу приоткрывал мне свои тайны, его музыка преображала окружающий мир. Учительница и другие дети относились ко мне с интересом, потому что я — американец: Америка с Израилем в особой дружбе, я и не знал об этом, пока сюда не приехал. Все наперебой старались выразить мне симпатию, объяснить, что непонятно, пригласили в баскетбольную команду, расспрашивали о Соединенных Штатах. Никогда прежде никто меня так не ублажал.
Я возомнил, будто я какой-нибудь принц, а в Еврейскую реальную мало-помалу прямо втюрился. Несколько дней спустя ма сказала, что я могу ходить в школу один, без провожатых, если дам слово дожидаться зеленого сигнала при переходе улицы Ха-Йам. Я это пообещал и сразу почувствовал себя взрослым. В первую неделю мы учили алфавит; дома я проводил часы, рисуя великолепные буквы и колдовским шепотом, как Мерседес, повторяя их имена. (Я и Марвина им обучал).
Ма каждый день спешила в университет, чтобы поработать в своем важном архиве вместе со своим важным профессором: она верила, что стоит на пороге важного открытия. Когда она думала, что я достаточно далеко и ее голос до меня не долетает, она тут же принималась за свое: промывала мозги па своими источниками жизни. Вот только такому голосу, как у моей матери, мудрено куда-то не долететь…
— Эти места, Эрон, они просто невероятны! — восклицала она. — Человеческая история не знает ничего подобного! Истинные дворцы плодородия! Страну терзали бомбардировки, население страдало от болезней, голода, страха… День за днем люди растерянно смотрели, как этим шлюхам целыми грузовиками подвозили самые дорогие продукты. Для них находили все, что угодно: кофе, свежие фрукты и овощи, овсяные хлопья, мясо, тресковую печень, конфеты, печенье, масло, яйца и шоколад, а люди вокруг умирали от голода! Ожидая, пока их дети появятся на свет, эти дамы нежились, как принцессы, били баклуши, загорали. И ни браков, ни крещения — ничего, кроме церемонии приема в лоно Великого рейха! В 1940-м заключенные одного концлагеря изготовили десять тысяч деревянных канделябров для торжеств по случаю рождения, проводимых в этих центрах, нет, ты можешь себе представить?
Ма всегда распаляется, когда произносит обличительную речь против Зла, ее это прямо в какой-то восторг приводит.
А вот па, наоборот, приуныл — ему, похоже, трудно было приспособиться к жизни в Хайфе. По-моему, он все время только и делал, что курил, читал газеты и даже чувство юмора вроде как утратил. Больше не рассказывал забавных историй, не хотел играть со мной в шашки, спина его все заметнее горбилась, словно тоска гнула его к земле. Он говорил, ему, дескать, не по нутру события в Ливане, не может он сочинять комедии в стране, ведущей войну. Ма возражала, что арабы первые начали, они совершали террористические вылазки на севере Израиля, так что же, надо было сидеть сложа руки? Па отвечал, что, если хочешь играть в такие маленькие игрушки, надо заглянуть в отдаленное прошлое, туда, где Гитлер, Версальский договор, убийство эрцгерцога Фердинанда, где мать того убийцы… А? Почему бы нет? Ведь, в сущности, именно она виновата, что люди в эту самую минуту истребляют друг друга в Ливане! Тут ма сказала, что нечего ему морочить себе голову Ливаном, подумал бы лучше, что на носу праздник Рош а-Шана, надо же как-то его отметить. Тогда па ей выдал, что он плевать хотел на Рош а-Шана, а ма заявила, что ему должно быть стыдно говорить так при сыне. Я попробовал представить, как нужно исхитриться, чтобы плюнуть на праздник, но у меня ничего не вышло.
С каждым днем я ухожу из дома все раньше, только бы улизнуть от родительских споров и ничего не слышать. Они ругаются еще яростней, чем обычно, теперь все у них вертится вокруг политики. Но приноровиться можно: как только ма и па повышают голос, я переключаю мозги на иврит, он защищает мою голову от их слов. Теперь я думаю по-еврейски целыми фразами.
В то утро воздух был особенно сладок. К школе я подходил раньше времени, настолько раньше, что лестница была еще безлюдна, я помчался вниз со всех ног, прыгая и перелетая через три ступеньки за раз, но при последнем прыжке наступил то ли на высохшую маслину, то ли на камешек, он покатился под моей левой ногой, я потерял равновесие и очень нехорошо брякнулся на камни мощеного школьного двора. Удар был жесток. От недавнего упоения не осталось и следа. Дыхание перехватило, в ушах зазвенело. Медленно поворачиваясь, чтобы сесть, я увидел, что правое колено в крови, ладони ободраны, в них впечатались инкрустациями мелкие камешки. А птички, как ни в чем не бывало, щебетали на деревьях, из зоосада доносился рев осла… Голова у меня кружилась, колено болело так, что я даже встать не мог и боялся потерять сознание от боли, прямо здесь, в полном одиночестве…
Внезапно я почувствовал, что у меня за спиной кто-то есть. Рука коснулась моего плеча, и нежный голос спросил по-английски:
— Хотел полетать, Рэндл?
Обернувшись, я будто во сне увидел самую красивую девочку на свете: она опустилась на колени рядом со мной. Ей было лет девять, по спине змеилась длинная черная коса, громадные глаза полны ласки, кожа золотисто-смуглая. Школьная форма — голубая юбка и такая же блузка И выглядели на ней, как будто их только что купили у Сакса на 5-й авеню. Она была так хороша, что я напрочь забыл про боль в колене.
— Ты знаешь, как меня зовут? — пробормотал я.
— Кто же этого не знает? Ты ведь американский супергерой, явился к нам прямиком из Нью-Йорка, весь из себя такой нарядный.
Произнося эти слова, она вытащила из кармашка платок, намочила его из лейки, стоявшей у вазонов с цветами, и бережно обтерла мое колено, смыв кровь и мелкие камешки. Следя глазами за умелыми и нежными движениями ее рук, я влюбился в эту девочку без памяти, хотя она была старше меня.
Я спросил, как ее зовут.
— Нузха, — ответила она и взяла меня за руку, помогая встать.
— Мне повезло, что ты пришла в школу пораньше.
— Отец подвозит меня, когда едет на работу. Я почти всегда прихожу первой, но сегодня утром ты меня обошел.
— Почему ты так хорошо говоришь по-английски?
— Я жила в Бостоне, когда была маленькой. Мой отец учился там на доктора.
— Моя мать тоже будет доктором, — сказал я. Потому что сейчас мне хотелось одного: чтобы у нас с ней нашлось хоть что-то общее.
— Это хорошо. Тогда все в порядке. Она вылечит твое колено.
— Нет-нет, она доктор другого типа… Доктор Зла.
— Ты хочешь сказать, она умеет прогонять злых духов?
— Да, пожалуй… Что-то вроде этого.
— А, понятно.
И Нузха серьезно кивнула. Я бы хотел, чтобы наш разговор никогда не кончался, но двор стал заполняться народом. Зазвонил колокол, нам пришло время идти каждому в свой класс. Она была в четвертом.
В полдень я снова поглядел на нее. Издали, в кафетерии. Она мне улыбнулась. Я никогда не видел такой улыбки, у меня от нее все внутри растаяло. Что мне сделать, чтобы эта девочка мною заинтересовалась? Я на что угодно пойду, умру. Съем свои ботинки. Женюсь на ней.
Нузха. Нузха. Нузха. Какое необыкновенное имя.
После занятий я увидел ее у лестницы. Приятели, наверно, станут потешаться надо мной за то, что разговариваю с девочкой из старшего класса, ну и пусть, мне все равно. Я догнал ее и сказал первое, что пришло в голову:
— Ох… ты не могла бы дать мне руку? У меня, по правде сказать, все еще жутко болит колено.
Она любезно взяла меня под руку, и я принялся прыгать со ступеньки на ступеньку — так медленно и терпеливо, как только мог, опираясь на ее руку и посылая ей широкие благодарные улыбки.
— Приятно встретить человека, который так хорошо говорит по-английски, — сказал я ей. — Иврит, когда он не твой родной язык, все-таки очень трудный.
— Он и мне не родной.
— Да что ты?
— Ну да. Мой язык — арабский.
— Значит, мы оба здесь иностранцы! — сказал я, радуясь, что между нами наконец обнаружилось сходство.
— Вовсе нет. Спорим, ты даже не знаешь, в какой стране находишься. Настоящее название этой страны Палестина. Я — палестинская арабка, это моя страна. Иностранцы здесь — евреи.
— А я думал, что…
— Евреи захватили ее. Ты еврей и не знаешь истории своего народа?
— Вообще-то я не такой уж и еврей, — промямлил я, с беспокойством заметив, что мы вступили на последний пролет лестницы. Нузха хихикнула:
— Что значит — «не такой уж»?
— Ну, моя мать по рождению не еврейка, и в семье всерьез не соблюдают еврейских обычаев. По сути, я американец, и все тут.
— Так или иначе, Америка на стороне евреев.
— Ну, я-то ни на чьей стороне, только на твоей, и это здорово, ведь без тебя я бы эту лестницу не одолел.
Я весь взмок: скакать, изображая больного, было ой как нелегко. Нузха смотрела на меня и улыбалась. На самом деле она была не намного старше меня. Встав на цыпочки, я мог без проблем поцеловать ее.
— Если ты не против, я побуду здесь, пока не подъедет твой отец. Ведь ты — моя первая знакомая арабка, мне очень интересно с тобой разговаривать.
— Нельзя. Отец не хочет, чтобы я общалась с евреями вне школы.
— Да ты что? Ну, тогда… а зачем же он послал тебя учиться в Еврейскую реальную?
— Потому что это лучшая школа нашего квартала, только и всего. Он хочет, чтобы его дети получили диплом. И чтобы они боролись за освобождение нашей родины. Вы, американцы, ничего не знаете.
— Так объясни мне. Честное слово, Нузха, я правда хочу понять. Ты не могла бы давать мне уроки истории?
— Если хочешь, встретимся завтра на перемене… под гибискусом у подножия холма, хорошо? Но теперь иди — это машина отца, вон там, у светофора.
Нузха. Взгляд Нузхи. Улыбка Нузхи. Рука Нузхи на сгибе моего локтя. «Я влюблен», — сказал я Марвину.
Листва у гибискуса была пышная, кудрявая и такая тяжелая, что ветви, клонились к земле, образуя внизу подобие ниши, укромной душистой пещерки, где никто не мог нас увидеть. Мы сидели рядышком, подтянув колени к подбородку и смотрели вниз, в долину.
— Ладно, сейчас я расскажу тебе настоящую историю Хайфы, — начала Нузха, и я сразу понял, что она сейчас отбарабанит длинную лекцию, которую ее заставили выучить наизусть, но мне важен был только ее голос — нежный и золотистый, как кленовый сироп. — Давным-давно, в прошлом столетии, в этом городе вместе жили самые разные люди. Первыми пришли палестинцы, в том числе мои предки с обеих сторон, — они живут здесь испокон веков. Потом, привлеченные удобной глубоководной гаванью, сюда во множестве перебрались друзы из Ливана, за ними евреи из Турции и Северной Африки, какие-то чокнутые немцы основали здесь колонию тамплиеров, ставшую со временем немецким кварталом, а также бехаиты, эти построили свою крепость и разбили парк на холме, чтобы трудно было до них добраться. А потом возник сионизм. Евреи решили вернуться в Палестину, где их предки жили в давние времена, но не учли одну маленькую деталь: за последние два тысячелетия здесь пустили корни несколько миллионов палестинцев со своими обычаями и традициями. Им вздумалось захватить всю страну. Случалось, что они врывались в селение и убивали всех, как в Дер-Ясине. В апреле 1948-го моему отцу было восемь лет, он помнит, как по Хайфе взад-вперед носились еврейские машины под крики: «Дер-Ясин! Дер-Ясин!», а из их громкоговорителей слышались крики и стоны истребляемых жителей. Палестинцев Хайфы охватила паника, тысячи людей бежали из города, а евреи вселились в их дома. Семья моего отца разделилась, большинство его дядей и теток с детьми бежали в Ливан, а родители осели близ Наблуса, на западном берегу реки Иордан. Моя бабушка и теперь там живет.
— А моя бабушка — знаменитая певица, — вставил я в надежде, что Нузха тоже проявит интерес к моей истории. Но она смотрела на меня без всякого выражения, и я спросил: — Ее зовут Эрра. Хочешь, расскажу?
Она отрицательно покачала головой и призналась, что даже имени такого никогда не слышала! У меня аж дыхание перехватило: я был уверен, что у Эрры мировая слава. Как продолжать разговор после такого конфуза?
— Своим голосом она творит чудеса, — сказал я. — И она… гм… считает, что я тоже могу их творить.
— Как это?
— Это секрет, но тебе скажу, если я для тебя не слишком еврей и могу быть твоим другом.
Она задумалась, потом кивнула.
Тогда я отогнул воротник рубашки и показал ей безупречно круглое пятно у меня на плече.
Нузха внимательно разглядывала его, будто изучала. Потом спросила:
— Ты его используешь при ритуалах?
— М-м-м… нет, не совсем, — протянул я поглаживая свой «аталеф». — Но для меня оно почти живое. Как маленькая летучая мышка которая со мной говорит, советует, что я должен делать.
— Похоже на «мандал», — почти беззвучно шепнула она.
— Что-что? Извини, я…
— Круг, нарисованный на земле, в котором производят магические ритуалы. У меня тоже есть один знак, «захри», — она протянула мне свою правую руку ладонью вверх, и я увидел в середине, прямо над линией жизни, маленькое фиолетовое пятнышко. — В прошлом месяце, — сказала она, снова обхватив колени руками, — родители возили меня в селение возле Наблуса, повидаться с бабушкой. Это всего в нескольких часах пути от Хайфы, но там другой мир. Когда бабушка увидела, что моя рука отмечена захри, она закричала от радости. Я так люблю бабушку… Ты свою тоже любишь, да?
— Конечно.
— Она мне сказала, что я назир, это значит, мне дано видеть малак — ангела, который приказывает и задает вопросы. Считается, что только малые дети могут быть такими медиумами. Понимаешь, бабушка хочет узнать судьбу своего брата Селима. Много лет от него нет вестей, она не знает, прячется он где-то или евреи уже убили его. Тогда она повела меня к шейху. Он рассматривал мою руку и со строгим видом качал головой. И сказал, что, когда я приеду в следующий раз, нам не обойтись без мандала.
Я чувствовал себя не в своей тарелке от всех этих новых слов, но что с того, главное — она поняла, что мы с ней похожи. И я спросил:
— Что же он станет делать, чтобы привести тебя в контакт с этим… ангелом?
— Сначала он сам должен приготовиться. Для этого нужно много молитв и песнопений. А потом, в урочный день, он воскурит ладан и капнет тушью на мою ладонь, вот сюда, а когда тушь высохнет, — еще каплю масла. — Нузха умолкла и почесала нос. Обожаю, когда она так делает.
— Hy, и? — поторопил я с некоторым сомнением в голосе.
— Потом бабушка задаст ему вопрос о своем брате, и, если я буду очень пристально смотреть на каплю масла на ладони, то смогу увидеть в ней малак и он моим голосом ответит на все вопросы.
— В это довольно трудно поверить, — сказал я.
— Да, но это правда, — твердо возразила Нузха. — И ты тоже наверняка избранный, раз у тебя мандал на плече.
Прозвенел звонок — перемена закончилась. Мы молча, порознь, зашагали прочь от своего волшебного укрытия, где нам никто не мешал.
— Это правда, что евреи оккупировали Израиль? — спросил я в тот же вечер за ужином. Мой голос прошелестел едва слышно, но хохот ма был похож на лай.
— Кто вбил тебе эту чушь в голову? — спросила она, и я почувствовал, что краснею до ушей.
— Да так, слышал где-то, не помню, от кого.
— Ладно. Ответ нет. Евреи не захватывали Израиль, они бежали в Израиль в поисках приюта.
— В Палестину, — поправил па.
— В то время страна называлась так, — признала ма. — Их слишком долго преследовали и убивали по всей Европе, это продолжалось веками, и наконец они решили, что им необходима собственная страна.
— К несчастью, — вставил па, — страна, куда они стремились, была уже занята.
— Эрон, не начинай снова! — ма взвыла, как сирена, и мне стало страшно. — Шесть миллионов жертв за шесть лет — куда им было идти? Что они должны были делать? Спокойно сидеть на месте, сказать убийцам: «Приходите, пожалуйста, развлекитесь, перебейте нас всех!»? — Теперь она кричала, а поскольку па, ничего не ответив, встал и начал убирать со стола, ее последние слова — «перебейте нас всех!» — повисли в пустоте. Па принялся мыть посуду, а ма вдруг смутилась, застеснялась своей визгливой вспышки: она велела мне идти спать, хотя было только семь вечера.
Мне бы так хотелось думать, что Нузха была права, когда назвала меня избранным, но я никак не мог понять, ни кем я избран, ни для чего, чувство раздвоенности мучило меня сильней обычного: теперь разлад начался уже не только между ма и па, но и между Еврейской реальной и Нузхой, да сверх того между Нузхой и ма, а ведь я любил их всех! Это меня жутко изводило, я не понимал, почему люди не могут успокоиться и постараться понять друг друга.
Усевшись на свою кровать, я схватил Марвина и энергично потряс его.
«Ты еврей, Марвин?» спросил я, и он замотал головой. — «Ты немец?» Нет. — «Так значит, араб?» — Тоже нет. Я тряс его все сильнее и сильнее. «Ну, Марвин, — сказал я, тыча его кулаком в брюхо, — это слишком легко — сидеть здесь на кровати и с утра до вечера смотреть в потолок. Надо принять решение, поверить во что-то и бороться за то, во что веришь, иначе ты мертвец!»
В этот момент па постучал в дверь, я вздрогнул и уронил мишку.
— Собрался ложиться, приятель?
— Как раз пижаму надеваю, — ответил я, торопливо срывая с себя рубашку, чтобы все выглядело натурально. Па вошел и, тяжело вздохнув, присел на край кровати.
— Знаешь, какая с родом человеческим главная проблема? — спросил он.
— Нет, па.
— У людей вместо мозгов — требуха, в этом все дело. Повсюду, куда ни глянь, именно эта беда. Отшлепать тебя смеху ради?
— Нет, спасибо. Я сегодня немного устал.
— Ладно, сынок. Спокойной ночи. И не обращай внимания на своих сумасшедших родителей, о’кей?
— О’кей, па.
— Точно?
— Точно, о’кей.
Нузха ведет себя со мной очень мило с тех пор, как я показал ей родимое пятно. У меня было смутное чувство, что таким счастьем я обязан недоразумению, но я на всю катушку использовал возможность быть рядом с ней.
Она жила не так уж далеко, на улице Аббас, на полпути между подножьем холма и его вершиной, но, когда в гости друг к другу приходить нельзя — даже и не мечтай! — остается одно: встречаться под гибискусом — каждый день, но только на перемене.
— Ты веришь во все эти вещи? — спрашивала она.
— Хм… да. Наверно, все-таки верю.
— И в дурной глаз? Знаешь, что это такое?
— …?
— Достаточно поглядеть на кого-то с плохой мыслью, и с человеком случится беда. Это называется «дараба бил’айн» — ударить взглядом. Умеешь так делать?
На миг я засомневался — говорить ей или нет, что у нас людей посылают к черту пальцем, а не взглядом? Решил, что не стоит.
— Вряд ли.
— Я уверена, у тебя есть такая сила, Рэндл. Благодаря твоему мандалу. Звучит почти в рифму, заметил? Рэндл — мандал! Ты должен попробовать. Начни с малого — ты сам удивишься, какая это мощная сила.
— А если кто-нибудь даст мне дурным глазом сдачи?
— Ты сможешь отвести вред, сказав «Ма са’ха Аллах ва кан», это значит «Все, что свершается, — Божья воля». Тогда стрела дурного глаза отклонится от цели и уже не сможет причинить тебе зло. Ма са’ха Аллах ва кан. Повтори.
— Ма са’ха Аллах ва кан, — послушно произнес я, думая совсем иное: «Нузха, у тебя самые красивые глаза в мире, я в тебя жутко влюблен». — Ма са’ха Аллах ва кан.
— Очень хорошо, — кивнула она. — Ты быстро научился!
В тот вечер ма возвратилась домой ликующая. Глаза ее сверкали.
— Я ее нашла! — воскликнула она. — Нашла! Опомниться не могу! Есть данные о привезенной девочке в возрасте «около года», которая два с половиной месяца провела в центре Штейнхёринг зимой тридцать девятого — сорокового. У нее было родимое пятно на внутренней стороне левой руки, ты слышишь, Эрон?!
Па даже головы не поднял от газеты. Только проронил мрачно:
— Последние части французских и итальянских войск, следуя примеру американцев, только что оставили Бейрут.
— Она родом из Ужгорода, городка в Западной Украине. Эту область немцы захватили на несколько месяцев раньше. Ее родимое пятно — в то время его диаметр был восемнадцать миллиметров — Гиммлер измерял собственноручно, что зафиксировано в личном деле. А почему он решил ее уберечь, несмотря на такой недостаток?
— Хабиб предал. Вайнбергер предал. А ведь обещали оставаться там после ухода Арафата, чтобы защищать беженцев.
— Из-за ее светлых волос и голубых глаз! Она была очень красивая, просто чистая арийка! Ты меня слушаешь, Эрон?
— Рейган и Бегин посадили своего Джемаля.
— Тогда он сплавил ее одному из своих друзей, важной шишке из СС, у того дочка канючила, что хочет маленькую сестренку, а его жена больше не могла иметь детей.
— Танки Цахала окружили Западный Бейрут.
— Просто невероятно, правда, Эрон? С Украины в Германию, а после войны раз — и ее перевозят в Канаду! Разве не поразительно?
— Операция «Мир в Галилее» — вот как это называется.
— Все части пазла встали на свои места.
— Плохи дела, мать твою, и то ли еще будет!
— Рэндл, ступай в свою комнату.
Мне не хотелось уходить — пришлось бы засесть за уроки: зубрить названия частей тела. «Рош» — голова, «бетен» — живот, «гав» — спина, «регел» — стопа, «берекх» — колено, «каф йад» — рука, «эстба» — палец, «пех» — рот, Нузха — чудо, я — комок нервов, отец у меня — одержимый, мать — сумасшедшая, скоро Рош а-Шана, дела гадски плохи, и то ли еще будет.
На следующий день Джемаля убили, как когда-то Джона Кеннеди, но его-то выбрали президентом всего три дня назад — для президентского мандата срок, сказать по правде, куцый. В школе, на перемене, учителя только об этом и говорили, но так тараторили, что я не мог разобрать слов. Нузха сказала, что теперь все встало на свои места, ведь Джемаль был пешкой, его привели к власти Израиль и США. Слово «пешка» я узнал, когда научился играть в шашки, но что имела в виду Нузха, не понял. В коридоре мы столкнулись со старшеклассниками в кипах. Один из них что-то выкрикнул, и Нузха побледнела.
— Что он говорит? — спросил я ее.
— «Всех сволочей-арабов надо стереть с лица земли» — вот что он сказал.
Напряжение росло, я чувствовал себя все более скованно. Марвин мне не помогал, мой «аталеф» замкнулся в молчании, а бабуля Эрра была так далеко — все равно что на другой планете.
Мне приснился кошмарный сон, и я проснулся с криком. Примчалась ма в ночной рубашке, стала допытываться: «Рэндл, что случилось? Что с тобой?» — но я не сумел облечь кошмар в слова, воспоминание о нем разбилось в мелкие дребезги, которые стремительно истаяли. Вот ведь стыдобища — ма вскочила с постели среди ночи, а я не могу вспомнить, чего испугался, не знаю, как оправдать свою панику, отчаянно ищу слова, но голова пустая, как котел, и я лепечу: «Извини, ма. Извини, ма. Извини».
Назавтра я встал в семь утра, но па уже сидел с сигаретой перед включенным радиоприемником. Это не предвещало ничего хорошего.
На кухню вошла ма в бигуди и сказала:
— Эрон?
Он не отреагировал — слушал радио, и она повторила громче:
— Эрон, хочу, чтобы ты знал: я искренне благодарна за то, что ты поехал со мной в Хайфу. Знаю, тебе это дается нелегко — жить в окружении людей, говорящих на чужом языке. Ты привык черпать вдохновение из разговоров, подслушанных на улице, в парках и кафе на Манхэттене, и я знаю, как ты тоскуешь по Нью-Йорку. Поверь, мне это совсем не безразлично. Я понимаю, какую огромную жертву ты принес ради меня, и всем сердцем ценю это.
Вид у нее был странноватый — лицо не накрашено, волосы накручены на бигуди, а речугу толкнула будь здоров, я даже подумал, уж не готовилась ли она перед зеркалом, как к своим лекциям. Мне надо было доесть тост, я, давясь, заглотал его второпях, потому что па не отрывался от радио, а лицо ма постепенно заливалось краской — она силилась подавить раздражение.
— Эрон, — сказала она, — наступил канун Рош а-Шана, и я от всей души хочу, чтобы мы начали новую жизнь. Послушай меня, прошу. Рош а-Шана — лучшее время, чтобы сказать себе: остановись, осознай, что ты на распутье, проникнись отвращением к своим грехам и прими благие решения на будущее.
Па сидел, прижав ухо к приемнику, на ма — ноль внимания, и она таки вспылила, промаршировала через кухню и выключила радио.
Па снова его включил.
Она выключила.
Он включил.
Я не горел желанием посмотреть, чем все закончится, и решил улизнуть к себе — собираться в школу. В дверях до меня долетела фраза ма:
— Серьезно, Эрон: ты не думаешь, что мы оба заинтересованы в принятии некоторых решений?
Па ничего не ответил, не отпустил шутки, даже не пожелал мне удачного дня, а просто вышел из дома, хлопнув дверью. Я знал, куда он пойдет — спустится на улицу Ха-Нази и купит там в киоске все газеты на английском языке, какие сможет найти.
Я не могу этого объяснить, но в тот день атмосфера сгустилась и в школе, казалось, надвигается ужасная гроза, хотя на небе не было ни облачка и солнце палило немилосердно. «Смотри в оба, Рэндл, — бормотал мне мой „аталеф“. — Смотри в оба!» Но я понятия не имел, на что именно должен смотреть. В полдень Нузха шепнула:
— Шарон только что захватил Западный Бейрут, ты понимаешь, что это значит?
Я кивнул, хотя даже не знал, кто такой Шарон, и отдал бы все на свете, чтобы оказаться на бейсбольной площадке в Центральном парке.
Вернувшись из школы, я пошел прямо в свою комнату. Жара стояла адская, терпеть не могу такое пекло хочу взорваться хочу чтобы все взлетело на воздух я стал метаться по комнате кружиться как самолет который падает вошел в штопор и все твердил «РОШ, РОШ, РОШ А-ШАНА», и в этом бреду слово «Рош» означало «голова», а «а-Шана» — «взрыв», я чувствовал, что голова у меня вот-вот лопнет, происходит нечто, с чем мне не справиться. Меня всего перевернуло.
Ужин прошел в молчании.
Вернувшись в свою комнату, я принялся рисовать людей без туловища людей без головы людей без рук людей без ног, я приставлял им ноги к шеям и руки к животам, рисовал летящие по воздуху груди, и тут мой «аталеф» приказал мне: «Давай, скажи им все, Рэндл! Но будь осторожен, не допусти промашки!» Он не объяснял, к чему именно надо подступать с осторожностью, и я не знал, что делать.
Мне приснилось, что па хлопнул дверью и ушел навсегда. Дверь в моем сне хлопала снова и снова, и я наконец осознал, что никто не может хлопать дверью так часто и что это, наверное, выстрелы. Танки. Бомбы.
Проснувшись на следующее утро, я прошел босиком на кухню и застал там невиданное — плачущего отца. На столе лежала «Геральд трибюн», он читал ее и рыдал. Я не осмелился спросить, что стряслось, но, когда я подошел, он схватил меня, вцепился так, будто искал у меня защиты, хотя обычно родители защищают детей. Я совсем растерялся. Па был сам не похож на себя: лицо скривилось от горя, глаза покраснели, наверное, он долго плакал. Я не разобрал, какой именно заголовок так его расстроил, потому что сам разревелся и забормотал сквозь слезы: «Что случилось, па? Что?» — тонким, срывающимся голоском. Он не отвечал, но так сильно прижал меня к себе, что я едва не задохнулся и, когда в кухню вошла ма, невольно почувствовал облегчение.
— Веселого Рош а-Шана! — воскликнула она, не успев прикусить язык.
— Сэди, — не сказал, но простонал мой отец, — уедем из этой проклятой страны!
Эти слова сразили ма, она застыла посреди кухни, и праздничная улыбка медленно сползла с ее лица.
— Вот, взгляни! — отец ткнул пальцем в «Геральд трибюн». — Давай, взгляни!
Сердце бухало у меня в груди, как безумное, когда ма, очень бледная, села, взяла газету и начала читать. Тут па обхватил голову руками и снова зарыдал, смотреть на это было просто невыносимо. А потом ма вдруг забормотала:
— О Боже мой о Боже мой о Боже… — и добавила: — Какой кошмар!
Мало-помалу до меня дошло, что мои рисунки воплотились в реальность: в Ливане сейчас уничтожают людей, руки, ноги, головы летят в разные стороны, сотни мертвых тел тысячи мертвых тел мертвые дети мертвые лошади мертвые старики груды целые семьи они смердят…
— И этот кошмар длится и длится! — выдохнул отец. — Они истребляют всех беженцев из Сабры и Шатилы! Полюбуйся, что творит эта проклятая страна!
— Перестань, Эрон! — Ма, слава Богу, на время оставила разговоры о новой жизни и благих решениях. — Израиль ни при чем, ты что, читать не умеешь? Зверствуют фалангисты, христиане из Ливана. Там идет гражданская война.
— Не защищай Израиль! — закричал па, и я подумал, что при мне он впервые повысил голос. — Они оставили с носом Арафата и ООП. Они убедили миротворцев уйти, и те ушли, развязали им руки. Они участвовали в подготовке этой бойни. Они подстрекали. Поддерживали. Защищали. Контролировали. Они и теперь наблюдают — спокойненько смотрят в бинокли и в телескопы с крыши посольства в Кувейте — оттуда отличный вид на Шатилу, никакие постройки не заслоняют.
— Перестань во всем обвинять Израиль! — завопила ма (уверен, у нее тут же заболело горло!).
Родители орали и спорили весь уик-энд, прерываясь, чтобы послушать радио и прочесть газеты, и тут же начинали выяснять, по чьей вине Ливан завален разлагающимися на жаре трупами, которые бульдозеры сбрасывают во рвы. Я совсем растерялся: никогда еще у нас в доме не было такой тяжелой атмосферы. При всей любви к ивриту и Нузхе я начинал жалеть, что мы приехали в Хайфу.
Суббота миновала, наступило воскресенье, надо было идти в школу, и я слегка взбодрился. Зной раскочегаривался уже в семь утра. Подойдя к переходу через улицу Ха-Йам, я увидел, как отец Нузхи высаживает ее из машины у самой лестницы. Сердце подпрыгнуло от радости: Нузха была моей единственной надеждой, она сможет все объяснить… Я бросился за ней следом, крикнул: «Нузха!», но она не остановилась, тогда я помчался еще быстрее и настиг ее на третьем пролете лестницы:
— Эй, Нузха! Что происходит?
Она повернулась ко мне, в ее глазах сверкнула отравленная стрела, а я забыл магическую формулу, отвращающую беду, помнилось что-то про Аллаха, но прочее вылетело из головы — ее взгляд слишком потряс меня.
Когда дошли до третьей площадки, она наконец остановилась и, не глядя на меня, так что я видел только ее застывший, как из камня, прекрасный профиль, отчеканила:
— Я пришла за своими вещами. Отец ждет меня наверху. С Еврейской реальной покончено. С евреями покончено. Даже с тобой покончено. Да, Рэндл. С твоей матерью, с твоим отцом — покончено со всеми. Вы все виноваты и все будете моими врагами на веки вечные. Девятнадцать моих родственников убиты в Шатиле.
Ее лицо ни на миг не смягчилось, «Шатила» — вот последнее слово, которое я от нее услышал. Она со всех ног помчалась вниз, чтобы не находиться рядом со мной. А я остался стоять, ухватившись за перила, — очень закружилась голова.
Остаток дня прошел как в бреду. Я слонялся по коридорам, как тупой зомби, ничего не видя и не слыша, в голове страшно гудело от мыслей о том, чего я не мог понять. Ясно было одно: спешить домой не стоит.
Когда я все-таки приплелся, дома никого не оказалось, и я пошел в свою комнату.
Какое невыносимое пекло… «Слишком жарко сегодня, а, Марвин?» Марвин дернул башкой — да, мол. «Тебе, должно быть, еще хуже, шуба-то у тебя меховая?» — Дал<— «Ну-ка, посмотрим, не смогу ли я помочь твоему горю». Я сбегал в комнату родителей и прихватил из ящика маминого стола ножницы. Вернувшись, я долго смотрел на Марвина, сжимая их в руке. Помутневший слепой глаз придавал ему печальный, но кроткий вид, он склонил голову набок, и я вонзил ножницы ему в брюхо, распоров меховую шубу. «Ну, попробуем снять ее с тебя, вот будет славно, согласен?» Он кивнул. Тогда я разрезал его. Ножницы были наточены, и внутренности Марвина вывалились наружу. Они были вроде бы из ваты, но она давно свалялась в маленькие желтоватые комочки. Я кромсал Марвина, рвал, я перерезал ему глотку. «Теперь тебе лучше, Марвин?» — спросил я, и он кивнул. Я оттяпал его ушки и хвостик, разодрал затылок, чтобы посмотреть, как выглядят мозги, но они были у него такие же, как внутренности. Он и вправду был старый, этот медведь. Он старше меня, старше ма и па. Я собрал все его куски, сложил в пластиковый пакет и отнес на кухню. Потом вынул из холодильника несколько кубиков льда и бросил в тот же пакет со словами: «Теперь тебе не так жарко, Марвин?» И он ответил: «Да». Тогда я завязал пакет, стянул узел покрепче и засунул все это в мусорный бачок, на самое дно, чтобы прочий мусор оказался сверху: «Повеселись в раю, Марвин», — сказал я и пошел мыть руки. Мне чуть-чуть полегчало.
Немного погодя вернулся па. Я едва взглянул на него и сразу взбодрился: понял, что он снова намерен вести себя, как положено отцу. Па нежно обнял меня и сказал:
— А не сходить ли нам вдвоем в зоопарк?
Когда мы зашагали по улице Ха-Тишби, он попросил меня проэкзаменовать его еще разок на знание иврита. Я был доволен: похоже, восстанавливался нормальный ход вещей. «Хаколь безедер, — шепнул я себе под нос: — Все хорошо».
Вскоре выяснилось, что для па наш поход в зоопарк — только повод, что он хочет поговорить со мной на одну деликатную тему. О сложных вещах легче толковать, глядя на обезьян или тигров, чем на собеседника.
— Послушай, Рэн, — начал он, — я хочу, чтобы ты знал: сегодня утром мы с мамой помирились. То, что происходит в Ливане, так ужасно… война в доме нам совсем не нужна. Согласен?
— Да.
— Так вот, мы решили, что нам лучше избегать разговоров о политике. Постараемся использовать наше пребывание в Хайфе как можно лучше и будем считать себя счастливцами уже потому, что наша семья не пострадала. У нас замечательная семья, верно?
— Да.
— А главное, тебе ни о чем не надо беспокоиться. У нас с ма иногда бывают заскоки, но мы умеем их преодолевать, держать удар и оставаться вместе, так что ты не должен тревожиться. Это был кризис, согласен, но кризисы — просто часть жизни. Так ведь?
— Так, — ответил я, думая о Марвине, как он там лежит в мусорном бачке среди растаявших ледяных кубиков.
С этого дня обстановка у нас в доме изменилась, ма и па старались вести себя друг с другом очень мило, интересовались делами и проблемами друг друга, а о войне помалкивали. Па решил в новом году наладить более жесткий рабочий режим, он запирался в кабинете ежедневно с восьми до полудня и с часу до пяти, хотя результаты собственной усидчивости его не слишком удовлетворяли. Ма наскучило ездить в университет автобусом, дорога была длинная, и она надумала взять напрокат автомобиль. Па заметил, что это необязательная трата, но ма возразила:
— Знаешь, Эрон, я ведь трачу не твои деньги. Не припомню, когда ты в последний раз приносил домой чек.
Так она ему напомнила, что он все еще не достиг настоящего успеха как драматург, это был удар ниже пояса, но па, проглотив обиду, спросил, какой марки машину она хочет взять, и дальше беседа потекла в этом направлении.
На самом деле машина всем нам пришлась кстати: теперь мы могли съездить на уик-энд в Кармель, чудесный природный заповедник на вершине горы, бродить там среди цветущих кустарников и деревьев с кронами, полными птиц, притворяясь, будто мы нормальная счастливая семья. Одна беда: ма приходилось туго, она ведь не шофер экстра-класса, она жаловалась, что израильтяне за рулем ведут себя, как взбесившиеся психи, и чуть не лопалась от ярости, когда надо было определить, успеет она обогнать очередного нахала, не признавшего ее права на первенство, или остается только негодовать. Бывало, она резко брала влево, и прямо перед нами оказывался громадный грузовик, готовый врезаться в нас на полной скорости, па хватался за ручку, а ма, раздумав обгонять, круто брала вправо, чтобы вернуться туда, где нам положено быть, да притом еще злилась на па, что посмел усомниться в ее водительских талантах, хотя сам даже права так и не смог получить. Все это накаляло обстановку в машине до предела, но заповедник был так хорош, что дело того стоило.
В школе я очертя голову ударился в баскетбол и прочие спортивные упражнения, лишь бы не думать о том, что больше не увижу Нузху. Каждое утро я ласкаю свой «аталеф», пытаясь войти в контакт с ее «захри» — фиолетовым пятнышком на ладони. Может, когда-нибудь мы еще встретимся как друзья наперекор всем конфликтам, раздирающим этот мир. Ведь я люблю ее, люблю по-настоящему.
Миновал сентябрь, с грехом пополам был пережит октябрь, пришел Хэллоуин. Я вспомнил деревья в Центральном парке, они сейчас, должно быть, такие яркие, будто пламенем охвачены… Я сам не знал, стану ли теперь дружить со своими старыми приятелями вроде Барри, когда мы вернемся в Нью-Йорк.
По дороге из школы я проворачивал все это у себя в голове. А когда вошел в дом, сразу увидел, что дверь отцовского кабинета широко распахнута. В такой час это было странно, учитывая новый режим па. Я направился в гостиную, думая найти его там, но вдруг услышал за спиной такой оглушительный треск, что подскочил до потолка. Это клоуном па с широченной идиотской улыбкой на лице хлопнул воздушный шар. Он накупил уйму конфет и шаров для Хэллоуина, а сверх того все для шутовского макияжа, это было до невозможности мило с его стороны, настоящий сюрприз. Он принялся намазывать мне зеленой краской нос, и тут зазвонил телефон — этого только не хватало, чего доброго, нам все испортят, а мы только собрались развлечься.
Па пошел на кухню, к телефону, произнес: «Алло?» — и больше я ничего не услышал.
Разговор был недолгим, потом па сразу набрал другой номер. Я вошел на кухню и на всякий случай плаксиво осведомился:
— Что это ты делаешь?
Когда он ответил, что вызывает такси, я громко заныл:
— А наша игра?
Тут он поднял глаза, и все мои жалобы разом застряли в горле: я ощутил невозможный, невероятный ужас.
Па напрочь забыл обо всем, кроме новости, которую ему сообщили по телефону. Он подхватил меня на руки и кинулся к двери, чтобы ждать такси на улице. Слова, которые он произнес нелепо-розовым накрашенным ртом, хлестали, как розги:
— Ма попала в аварию. Ее машина врезалась в парапет на бульваре Стелла-Марис. Она в больнице. Рэндл, похоже, все очень серьезно.
С каждой фразой голос его звучал все глуше.
Увидев моего отца, таксист изумленно поднял брови, и только тогда па вспомнил, что все еще размалеван под клоуна. Мы уселись, он достал из кармана платок и принялся обтирать лицо. Краски размазались и смешались, но в конце концов па почти все стер, только вокруг ушей осталось немножко фиолетового. Я не стал ничего ему говорить: чувствовал, насколько то, о чем он сейчас думает, важнее всего остального.
В принципе детей в реанимацию не пускают, но па как настоящий артист разыграл напористого американца, который свои права знает и готов барабанить кулаком по стойке до тех пор, пока все их не признают. В конце концов мне разрешили войти вместе с ним. Остановившись перед дверью палаты, где лежала ма, он сжал мою ладонь. Очень крепко.
Я увидел ма и так перепугался, что почувствовал себя совсем маленьким. Ее подключили к каким-то аппаратам, я такие только по телевизору видел. От страха я едва дышал, сраженный догадкой: моя мать может умереть. Она спала, а я глядел на ее лицо и про себя твердил: «Прости ма прости ма прости, останься живой, умоляю тебя!» Па отошел с доктором в сторонку, они о чем-то тихо говорили, а меня терзала мысль, что у па вокруг ушей все еще лиловеет клоунский грим, вдруг доктор это заметит? Я вспомнил фотографию из арабских газет времен Сабры и Шатилы, на ней была голова младенца и одна рука, она лежала на теле мальчика примерно моих лет, наверное, его брата. Их мать лежала чуть дальше, в груде мусора, оставшейся от их дома, виден был только ее огромный зад в цветастом платье. Казалось, она и после смерти заслоняет своих мертвых детей.
У па после разговора с врачом вид стал совсем очумелый, и я понял: теперь вся жизнь разломилась на до и после 31 октября 1982 года. Он подошел к ма, взял ее руку, но очень осторожно, чтобы не пошевелить, ведь рука была вся в торчащих трубках. Он наклонился и поцеловал ее пальцы, пробормотав «Секси Сэди», он твердил это снова и снова, я давным-давно не слышал от него этих слов. Вдруг веки ма дрогнули, глаза открылись, и она зашептала: «Эрон… Рэндл… Эрон… Рэндл… О Боже…», стало быть, хоть мозг не задет. Стараясь внушить ей желание выжить, я изобразил широченную ласковую улыбку, а сам думал об одном: каким разумным и послушным стану отныне, только бы она не умирала.
Когда мы вернулись домой, па занялся готовкой. Он решил сварить куриный суп с йогуртом, я его обожаю. Я помогал — чистил морковь и лук, а он порубил куриный желудок и печенку на мелкие кусочки, потом показал мне, как густеет бульон, когда в него вбиваешь яичный желток: нельзя бухнуть его в кастрюлю, нужно добавлять бульон по капле, взбивая яйцо венчиком, чтобы не было комков. Еще он попросил меня накрыть на стол, и я тщательно все исполнил — ^каждый жест казался важным, я ощущал торжественность момента. Мы подняли бокалы за здоровье ма и молча выпили бульон: идея такого супа состоит в том, чтобы начать с бульона, мясо и овощи едят потом.
— В аварии у ма пострадал позвоночник, — произнес па в тот самый момент, когда я собрался обглодать куриное горло. Я люблю горло больше всех других куриных частей, но оно вдруг напомнило мне позвонки, и я уронил любимое лакомство обратно в тарелку.
— Это была не ее вина, — продолжал па. — Она ехала по склону холма вверх, к монастырю кармелиток, и какой-то идиот выскочил навстречу, лоб в лоб, ей пришлось резко свернуть и вмазаться в заграждение. Это чудо, Рэн, что она осталась жива. Чудо, чтоб его… Один из тех моментов, когда хочется поверить в Бога, просто затем, чтобы было кого возблагодарить.
— Но она поправится?
— Гм… — пробурчал па и принялся старательно перчить морковь. Он явно тянул время. — Да, она выздоровеет. Но не полностью.
Я снова вспомнил зад мертвой арабской матери в ярких цветах, и головку малыша, подкатившуюся под бок старшего брата. Есть совсем расхотелось.
— Ей потребуется инвалидное кресло, иначе она передвигаться не сможет.
— Хочешь сказать, она будет калекой?
Па отложил ложку протянул правую руку и легонько похлопал меня по левому плечу:
— Да, Рэн. Ходить она больше не сможет. К несчастью, пострадали позвонки, которые управляют ногами. Это страшный удар. У меня голова идет кругом. Но мы будем сильными, договорились? В конце концов, твоя мать всегда предпочитала разговоры ходьбе. Она сможет до посинения переливать из пустого в порожнее… проводить исследования… и путешествовать… В наше время делают прекрасные…
Он не закончил фразу: слезы солеными ручейками медленно текли по его щекам, закапали в тарелку, но он хоть в голос не разрыдался, как тогда, в день Сабры и Шатилы…
Почему я без конца думаю о Сабре и Шатиле?
И вдруг я понял. Шок был так силен, что я едва не упал со стула.
Нузха. Дурной глаз Нузхи, там, на лестнице. Нузха ударила меня взглядом — «дараба бил’айн», пожелала, чтобы со мной стряслась ужасная беда. Я уверен: это она наслала несчастье на мою мать. Ее семью уничтожили в Шатиле, она решила отомстить евреям, а я — ее лучший друг-еврей. Я был так потрясен ее злобой, что позабыл заклятие от дурного глаза. Оно всплыло в памяти: «Ма са’ха Аллах ва кан», — но слишком поздно. Все, что свершилось, — воля Божья.
III. СЭДИ, 1962
— Ты убрала постель, Сэди?
— Да.
Сэди убрала постель (значит, ее можно кормить завтраком).
Бабушка касается губами моих волос. Она еще в пеньюаре, но лицо уже накрасила и не хочет «испортить» помаду настоящим поцелуем, а может, просто не знает, что это такое. Бабушка тщательно расчесала и уложила свои темно-каштановые волосы. Вообще-то они не темно-каштановые, даже не каштановые, а совсем седые, и она их красит, потому что не хочет, чтобы люди знали, что она старая. Интересно, когда она настоящая: в очках или без них, с крашеными волосами или с седыми, нагишом в ванне или разодетая в пух и прах? А еще мне интересно, что значит слово «настоящая» — в данном случае.
Она вынимает из кастрюльки идеальное яйцо в мешочек, кладет его мне на тарелку рядом с идеальным тостом и наливает стакан идеального молока.
— Сэди, сколько раз я просила не приходить на кухню босиком?! За окном минус двадцать.
— Зато в доме плюс двадцать!
— Не умничайте, маленькая мисс! Я хочу, чтобы в Новом году ты надевала тапочки без моих напоминаний, договорились? Давай-ка пошевеливайся, я позабочусь, чтобы яйцо не остыло!
В этот раз она ни за что не хочет попасть впросак — с мамой они были слишком терпимы и все испортили, так что меня муштруют по поводу и без. Я ненавижу свои подбитые мехом тапочки — мамин подарок на Рождество, она в очередной раз отсутствовала: у нее был концерт. (Она не хотела жить с родителями, так почему я должна?) Я стою перед гардеробом, смотрюсь в зеркало и выпускаю на волю себя настоящую гримасничаю, скашиваю глаза к носу, ощериваюсь, как бешеный зверь (бабушка не велит косить глазами, чтобы в один разнесчастный день не остаться такой на всю оставшуюся жизнь), — но, спускаясь по лестнице, снова надеваю маску благоразумной девчушки, потому что, если буду милой, послушной и воспитанной, мама заберет меня и скажет: «Это была всего лишь игра, дорогая, я хотела испытать твой характер, ты блестяще сдала экзамен, и теперь мы наконец-то будем жить вместе!»
Яйцо на тарелке все еще горячее, тонкая белая пленочка прикрывает желток, белок сварился, я протыкаю вилкой желток, он растекается по тарелке жидким золотом, и его можно подбирать намасленной тартинкой — внимание, ни капли на стол, бабушка наблюдает, и Враг тоже! — серебряная вилка, как всегда оттягивает руку, хотела бы я знать — если отрезать руку и взвесить, она будет тяжелее серебряной вилки? Муравьи перетаскивают груз впятеро тяжелее собственного веса. Бабушка взвешивается каждое утро (после того, как пописает, и до завтрака — она говорит, что в это время суток человек весит меньше всего, все-таки ночью мало кто ест!) и много чего рассказывает мне о здоровом питании и режиме, чтобы однажды я стала такой же безупречно здоровой, как она, и не уподобилась маме, живущей в Йорквилле, в кишащей тараканами и дружками берлоге, которую она убирает, только когда беспорядок принимает угрожающие размеры.
— А теперь поднимайся к себе и собирайся в школу, быстренько, кому сказано!
«Спасибо за напоминание, бабуля, сама бы я ни за что не догадалась, куда уж мне, убогой!» — бурчу я себе под нос. Про себя я вообще много чего говорю, даже грубые словечки типа «черт!» и «дерьмо», мамины приятели часто так при мне выражаются (и это здорово!), и власть критикуют, и курят, и называют маму Крисси, а не Кристина, и им по фигу, что мужа у нее нет, а шестилетняя дочка по имени Сэди имеется.
— Можно мне еще кусок хлеба? — произношу я сладким голоском, в котором звучат мольба и надежда.
— Так и быть, — отвечает бабушка, направляясь к блестящему серебристому тостеру — она каждое утро чистит и натирает его после завтрака, — только говорить нужно не «кусок», а «ломтик хлеба».
В этот момент из своего кабинета — он находится в цокольном этаже — появляется дедушка. В кабинет можно попасть с улицы Маркхем, на двери висит табличка «Д-р Крисвоти. Психиатрические консультации», пациенты могут входить и выходить, минуя дом, они ведь не хотят, чтобы их видели, потому что им стыдно, что они сумасшедшие. Никогда бы не поверила, что в Торонто так много психов, но они идут нескончаемым потоком, с утра до вечера, заходят в дедушкин кабинет и выходят оттуда (раньше я подстерегала их у окна — мне хотелось посмотреть, какие они, эти сумасшедшие, но потом перестала, потому что они оказались такими же, как все люди), и не только в дедушкин, но и в другие кабинеты, психиатров на свете много — сотни, даже тысячи, уж и не знаю, как так получается, что психиатров хватает на всех психов, но ведь получается, ну, может, у нескольких психиатров совсем нет пациентов и они бьют баклуши в ожидании звонка, или несколько сумасшедших безуспешно обзванивают всех психиатров по списку в телефонном справочнике, слыша в ответ: «Сожалею, принять вас не могу, у меня все забито!», но, судя по всему, между двумя популяциями сохраняется идеальное равновесие. Но вот вопрос: если будет война или случится катастрофа и многие люди одновременно сойдут с ума, в университете что — начнут по-быстрому обучать студентов на психиатров?
Нехорошо говорить «сумасшедшие», нужно употреблять слово «пациенты». Ломтик, а не кусок.
Дедушка входит в кухню, произносит привычную фразу — «И как у нас дела сегодня утром?» — садится за стол, изображая крайнюю степень усталости, и бабушка молча наливает ему кофе из кофеварки, таков ритуал в половине девятого утра, и началось это задолго до моего рождения, правда, иногда вместо «И как у нас дела сегодня утром?» дед говорит: «Боже, и зачем только я выбрал такую ужасную профессию, просто волосы дыбом на голове встают!», но это шутка: он лысый, как коленка, если не считать похожей на бахрому полоски волос на затылке. Первый дедушкин псих приходит в полседьмого утра, так что к половине девятого он успевает принять двоих, после перерыва на кофе работает с девяти до двенадцати, а потом с двух до пяти, всего выходит восемь психов в день и сорок восемь в неделю, потому что в субботу дедушка тоже принимает, но точно подсчитать невозможно, ведь некоторые приходят по два, а то и по три раза. Я не знаю, в чем заключается лечение, может, на каждом сеансе дед раздает своим пациентам маленькие дозы счастья, отмеренные так, чтобы горемыки дотянули до следующего раза? Они что, постепенно накапливают достаточно счастья, чтобы обходиться без лечения? Есть одна странность: дедушка сам не слишком радуется жизни, он немногословен, рот открывает в основном для того, чтобы неудачно пошутить. Мы живем вместе всю мою жизнь, но я совсем его не знаю. Вот и сейчас, вместо того чтобы поговорить со мной, он пьет кофе и читает газету, которую бабушка забрала с крыльца.
— Сэди, ты опоздаешь.
Я медленно плетусь вверх по лестнице — ненавижу одеваться, но в ночной рубашке в школу не пойдешь. Одеваясь, всегда чувствую, какая я плохая, особенно зимой, когда столько всего на себя напяливаешь. Плохость запрятана глубоко внутри меня, но есть и один внешний признак — ужасная коричневая родинка размером с монетку в пять су на левой ягодице. О родинке почти никто не знает, но я о ней никогда не забываю, это изъян, левосторонний дефект, и мне нельзя спать на левом боку, держать стакан молока в левой руке и наступать левой ногой на трещину в тротуаре, а если случайно ошибусь, должна шепотом пять раз подряд попросить прощения, иначе… У мамы родинка на левой ладони, и она ее не стыдится, ведь место нестыдное, но для меня родинка на попе — доказательство моего позора, как будто я плохо подтерлась после туалета и на коже остался кусочек какашки. Это знак Врага, он был при моем рождении, и обмакнул в вонючую дрянь палец, и пометил меня, а потом произнес зловещим голосом: «Эта принадлежит мне, и я никогда не выпущу ее из своих лап, она всегда будет грязной и не такой, как все». Может, мой отец потому и ушел: посмотрел на меня и подумал: «Брр, гадость какая, это — не моя дочь», — повернулся и навсегда исчез из жизни моей матери. Я совсем не помню отца, знаю только, что его имя было Мортимер, звали его Морт, у него была черная борода и гитара, а бабушке с дедушкой он никогда не нравился. Маме исполнилось семнадцать, когда она стала встречаться с Мортом и его бандой двадцатилетних битников. Они музицировали, пили вино и курили травку, из-за Морта мама бросила лицей, на одной из вечеринок они вместе укололись, и мама забеременела — не специально. Бабушка как-то сказала, что они очень расстроились, потому что Морт был безответственным и не мог содержать семью, да что там семью — ему и на себя денег едва хватало. «Хочешь сказать, что меня не должно быть на свете? — спросила я. — Они что, не хотели ребенка?» — но все мои вопросы натолкнулись на стену молчания.
Какое-то время мама встречалась с безбородым учителем Джеком, ему я буду благодарна по гроб жизни: мне было всего пять, но он научил меня читать еще до школы. Потом они с мамой поссорились, потому что Джек хотел, чтобы она перестала петь для других, но мама в конце концов приняла волевое решение (так она объяснила мне позже) и сказала ему: «Джек, есть вещи, без которых я могу обойтись. Пение в их число не входит. А вот ты — входишь». И все было кончено.
Пояс с резинками нужно надевать под трусы: если надеть поверх, пописать будет сложновато, так что с пояса приходится начинать: маленькие крючочки застегивать ой как непросто, вот и перетягиваешь пояс наперед, а потом переворачиваешь, надеваешь шерстяные чулки и пристегиваешь их к резинкам. Мне не везет — правый чулок надет наизнанку, приходится начинать заново, я стою на левой ноге, теряю равновесие и плюхаюсь на кровать, правая нога застревает на середине, потому что чулок перекрутился, я взмокла и нервничаю, часы на камине тикают, Враг дышит мне в затылок и топает ногой, приговаривая: «Ты опаздываешь, поторопись, ты опаздываешь». Мне никогда не удается сделать все, как надо, потому что, если бы я смогла, если бы не притворялась, а и впрямь была благоразумной маленькой девочкой, то жила бы, как все дети, с мамой и папой.
Я надеваю трусики, и они прикрывают родинку, но я-то знаю, что она никуда не делась.
Следующий номер программы — белая блузка: все пуговицы должны попасть в соответствующие им петли, я очень стараюсь, но все равно часто ошибаюсь, дохожу до последней и вижу, что пола свисает, приходится перезастегиваться. Покончив с блузкой, я принимаюсь за килт. Я не умею застегивать пуговицы не глядя и передвигаю юбку, блузка немедленно перекручивается, и я прихожу в отчаяние. Бабушка то и дело обещает купить мне юбку большего размера, но все время откладывает, она слишком занята работой в саду, партиями в бридж и обедами в обществе других дам, а килты шьют специально для моей школы и продают в единственном магазине города, который находится далеко от нашего дома.
Справившись с килтом, я надеваю блейзер — это легко (всего две пуговицы!), только приходится следить за манжетами блузки, а я иногда забываю, мне еще нужно причесаться и почистить зубы, а на часах уже без четверти девять, через пять минут нам выходить, а мне еще нужно привести в порядок обувь, но времени нет (этой ночью я видела сон: все мои башмаки грязные, нет ни одной чистой пары, мне ужасно стыдно и надеть нечего), я иду за туфлями, и в левую пятку впивается заноза: нечего было скользить по паркету, нужно было поднимать ноги и аккуратно их ставить.
Правда об этом мире заключается в том, что боль подстерегает меня повсюду, если есть хоть малейший шанс причинить себе боль, я, как утверждает бабушка, непременно его использую (я бы сказала — шансы сами на меня сваливаются). Бабушка терпеть не может, когда мне плохо, если я плачу, она говорит, что я «интересничаю», хочу привлечь к себе внимание. Прошлым летом она послала меня купить литр молока в магазинчике на углу, сказав, как обычно: «Поторопись!» Я понеслась, как сумасшедшая, прямо перед входом споткнулась, и — бац! — ударилась грудью о тротуар, да так сильно, что дыхание перехватило. Мимо проходили две женщины, они склонились надо мной со словами: «О Господи, бедняжка, ты ушиблась?» Я с трудом поднялась, стараясь удержаться от слез («Всегда проявляй стойкость при чужих людях!» — наверняка сказала бы бабушка), отряхнула одежду, беспечно рассмеялась, чтобы успокоить участливых дам, и сказала: «Все в порядке». Я так сильно ободрала колено и локоть, что из ссадин сочилась кровь, но я, глотая слезы, все-таки зашла в магазин, сумела попросить литр молока, заплатила и медленно, ковыляя и прихрамывая, с глазами на мокром месте, вернулась домой. Когда я наконец кое-как взобралась по ступенькам и вошла, слезы ручьями полились из глаз, я плакала, рыдала и выла от боли. Бабушка вышла в коридор посмотреть, что случилось, и я, продолжая реветь, показала ей свои царапины: «Я сдерживалась, сколько могла, бабушка, не заплакала ни в магазине, ни на обратном пути». Она забрала у меня молоко и пошла на кухню, бросив напоследок: «Раз ты сумела не распускаться в магазине, сумеешь и дома!» Она занялась приготовлением торта для «дамского» обеда и даже не попыталась меня утешить. Если бы мама знала, как мне больно, она бы точно меня утешила, но к моменту нашего следующего свидания все зажило, так что я даже не смогла показать ей свои «раны».
Повсюду, куда бы я ни шла, меня подстерегают опасности: осколок стекла, разъяренная оса, горячий тостер… Когда я прохожу мимо, они нападают, реакция следует незамедлительно: кожа синеет, тело распухает и начинает нарывать, из порезов и трещин хлещет кровь, в левую пятку впивается заноза, вызывая адскую боль, а у меня нет времени снять чулок и вытащить ее.
Я спускаюсь по лестнице, прыгая на одной ножке, и ненавижу жизнь. Бабушка уже вывела машину из гаража. Она прогревает мотор и, когда я «выхрамываю» на крыльцо, пытаясь застегнуть пальто и одновременно завязать шарф, делает мне знак поторопиться, и вид у нее жутко раздраженный. Когда мы останавливаемся на светофорах, бабушка нетерпеливо постукивает пальцами в кожаных перчатках по рулю, но мы все-таки приезжаем в школу вовремя — как обычно.
В девять исполняется гимн Канады, в четыре — «Боже, храни королеву», и все время между двумя гимнами я страдаю — то от жгучего стыда, то от смертельной скуки.
На утренней перемене я понимаю, что не могу больше терпеть боль от занозы, и иду в туалет, но дверь кабинки не доходит до пола, и другие девочки видят, что я сняла одну туфельку и один чулок, и начинают хихикать: «Что там происходит? Она русская шпионка? У нее телефон в ботинке?»
Одноклассницы никогда не зовут меня прыгать через скакалку, потому что я почти всегда сбиваюсь и моя команда вылетает. На уроках рисования они всегда спрашивают: «Что это должно быть?» — как будто я создала абстрактное полотно. Играя в «музыкальные стулья», я всегда вылётаю первой — музыка поглощает меня полностью, и я забываю перебежать на освободившийся стул. Во время репетиций воздушной тревоги, когда мы прячемся под партами, мне удается просидеть на корточках не больше двух минут, а ведь если на нас сбросят настоящие атомные бомбы, придется так сидеть много часов, а то и дней. Остальные девочки уверены в себе, они проворные и умелые: когда мы делаем снежинки из бумаги, я потею и переживаю из-за того, что у меня затупились ножницы, а они сидят и спокойненько вырезают. Перед физкультурой они ловко и быстро переодеваются в форму, пока я, пыхтя и краснея, борюсь со своими вещами; их одежда опрятна и дружелюбна, моя противится изо всех сил: то пуговица отскочит, то пятно появится, то подшивка отпорется самым подлым образом.
По пятницам я занимаюсь музыкой, но из-за утренней занозы забыла дома ноты. В четыре бабушка везет меня домой, кипя от негодования, она торопится, колеса визжат на льду. «Мы опоздаем, — говорит она. — Ох, Сэди, ну почему ты такая рассеянная?!»
«Покажи, что ты выучила за неделю», — командует мисс Келли, возвышаясь надо мной, как монумент. Она кладет руки мне на плечи и тянет назад, заставляя выпрямить спину, поднимает большим пальцем подбородок, исправляет постановку рук на клавиатуре и в очередной раз напоминает, что пальцы должны держать воображаемый мандарин. Я успеваю сыграть всего три такта, и она велит мне остановиться и упражняться «на месте»: «Прижми средний палец и играй аккорды, сначала указательным и безымянным, потом большим и мизинцем. Поставь указательный на соль, а большой раскачивай между двумя до — но не поднимай запястье, Сэди!» Она хлопает меня линейкой по руке, бьет по выступающей косточке, причиняя ощутимую боль. Я вскрикиваю: «Ой!», у меня выступают слезы. «Сколько тебе лет, Сэди?» — спрашивает мисс Келли, и я отвечаю: «Шесть». — «Так перестань вести себя, как ребенок. Давай, повтори все сначала». Почти весь час мы делаем ее идиотские упражнения, а на пьесы остается минут пять, не больше. Я начинаю с «Эдельвейса», но так нервничаю, что у меня дрожат руки, она говорит, что на прошлой неделе я играла лучше, и принимается строчить фиолетовой ручкой указания в моей тетради: «Округлить пальцы!», «Гибкие запястья!», «Постановка рук!». К следующей неделе я должна нарисовать пятьдесят скрипичных ключей и пятьдесят басовых, а еще выучить соль-мажорные и соль-минорные гаммы — «Без единой ошибки!» — пишет мисс Келли и так энергично подчеркивает последние слова, что ручка рвет бумагу.
— Итак? — спрашивает бабушка, изящным жестом протягивая моей училке конверт с деньгами за урок (они потратили столько денег на мою учебу, еду и одежду, а я ведь даже не их дочь, ты отдаешь себе в этом отчет? Отдаешь или нет?). — Она делает успехи?
— Она должна больше стараться, — угрожающим тоном произносит мисс Келли.
— Но она занимается каждый день, — отвечает бабушка. — Я за этим слежу…
— Просто сидеть за пианино недостаточно, — перебивает бабушку мисс Келли. — Она пока не научилась работать по-настоящему, ей трудно сосредоточиться. Никто не добивается успеха просто потому, что кто-то в семье одарен музыкально. Нужно работать, работать и еще раз работать.
Запястье в том месте, по которому меня била мисс Келли, все еще красное и болит, роптать на взрослых запрещено, но у меня в душе все кипит от возмущения, и я решаю нажаловаться маме, как только мы увидимся. Ябедничать бабушке бесполезно, я знаю, чту она скажет: «Должно быть, ты это заслужила…», но мама не потерпит, что какая-то незнакомая тетка мучит ее маленькую дочку, избивая ее линейкой, она скажет бабушке, чтобы мне сейчас же нашли новую учительницу, а если бабушка возразит: «Хорошие учителя на дороге не валяются, у мисс Келли прекрасная репутация, она готовит учеников к поступлению в консерваторию», мама ее передразнит: «Консерватория, консшмерватория! — обожаю, когда она так говорит. — Я хочу, чтобы моя дочка была счастлива, так что, если ты способна нанимать только садисток, она обойдется без пианино». Эти слова прозвучат для моих ушей как музыка, мне больше никогда не придется сидеть за пианино, и я смогу читать, сколько захочу. Бабушка говорит, что я порчу чтением глаза и мне скоро понадобятся очки (то есть им придется купить мне очки), но, когда читаешь, никто не лупит тебя линейкой, а реальный мир постепенно отдаляется и исчезает.
Садист — это человек, который любит делать больно другим, и я не понимаю, почему мама так меня назвала. Однажды я ее об этом спросила, но она ответила, что оно ей нравится. В имени Сэди есть слово sad, что означает печальный, и у моей мамы (вернее, далеко от нее) очень печальная маленькая дочка.
У каждого дня свой особый аромат печали, я узнаю его, просыпаясь по утрам: в понедельник мне грустно, потому что это первый день недели и впереди еще пять школьных дней; вторник огорчает меня уроком классического танца; среда наводит тоску занятиями гимнастикой; четверг я не люблю из-за кружка скаутов, пятницу — из-за урока музыки, субботу — за то, что надо менять белье, а воскресенье — из-за похода в церковь.
В скаутском отряде нас учат вязать всякие дурацкие узлы — совершенно бесполезное занятие, ведь ни одна из нас не собирается идти в моряки. Еще приходится разглядывать в течение тридцати секунд штук двадцать разных предметов, потом отворачиваться и называть их, один за другим — я сбиваюсь уже на четвертом. Мы ходим в коричневой форме — она еще уродливее школьной — и обязаны быть всегда готовы (хотя никто ни разу нам не объяснил, к чему именно), а шутка о девочке, которая забыла эту заповедь и оказалась беременной, не такая уж смешная. Тем, кто становится лучшим в каком-нибудь деле, дают маленькую ленточку или медальку — их вешают на грудь, но я нигде не отличилась, и моя грудь пуста.
Чтобы заниматься балетом, нужно быть хрупкой и изящной, а у меня круглый животик и так болят ноги от пуантов, что я едва могу стоять, не то что танцевать.
Все это делается для моего блага, чтобы я когда-нибудь стала идеальной домашней хозяйкой — искусной, уравновешенной, и сознательной гражданкой, но ничего не получается: я всегда буду чувствовать себя глупой толстушкой, странноватой, не от мира сего, неумехой, как говорят умные взрослые — несостоятельной. Никто не может изменить моего нутра, тем более что я вроде как и не человек вовсе. Мои учителя и бабушка с дедушкой считают, что я «переживаю этап», вот и пытаются «обтесать» мой мозг и мое тело, чтобы сделать хорошо воспитанной. Я изо всех сил стараюсь «соответствовать», улыбаюсь, киваю, стою на пуантах, делаю фуэте в пачке, старательно вяжу узлы. Большую часть времени мне удается их дурачить, но Врага обмануть невозможно, ему известно, что в глубине души я — плохая. Когда давление становится невыносимым, я могу делать одно — снова и снова биться головой о стену в полной темноте.
Каждый вечер в четверть шестого бабушка говорит: «Сэди пора садиться за инструмент». В этот же самый момент дедушка выходит из кабинета, приняв своего последнего психа, и отправляется выгуливать собаку.
Бабушка и дедушка не просто так завели короткошерстного пса: они не хотели, чтобы повсюду в доме была его шерсть, а характер их не волновал. Нрав у Хилари просто ужасный, хотя имя его — если верить словарю — означает «безмятежно-веселый, всем довольный». Хилари оно совершенно не подходит, он крошечный, дерганый и нервный. Когда я пытаюсь его погладить, он отскакивает и визжит, словно его душат.
«Где моя гончая?» — спрашивает дедушка (он шутит так каждый вечер), а когда Хилари бросается к нему, тявкая и вертя от возбуждения задом, он говорит: «Ну-ну, успокойся, иначе мне придется надеть на тебя намордник!» Все это до ужаса нелепо, но я занимаюсь музыкой как раз во время их прогулки.
Пианино стоит в углу гостиной, черное, застывшее в неподвижности, неприступное и ровным счетом ничего не выражающее, как и вся остальная мебель. Я зажигаю лампы — всего две, ведь нужно экономить электричество! — ту, что на пианино, чтобы читать ноты, и торшер, чтобы не работать в круге света — это портит зрение. Верх пианино застелен салфетками, чтобы стеклянные статуэтки и рамки с фотографиями не поцарапали дерево. Бабушка держит на пианино мамин детский снимок, свадебное фото и дедушкин портрет в длинной черной мантии и плоской четырехугольной шапочке, похожей на плюхнувшуюся на голову книгу. Его сфотографировали, когда он закончил университет. Медицинский диплом в рамке висит на стене среди репродукций с изображениями букетов. Весной бабушка иногда срезает в саду живые цветы и ставит их в вазе на низкий столик. Мне запрещено даже близко к нему подходить, потому что я могу опрокинуть вазу, и тогда вода прольется на ковер, вот будет ужас! (Бабушка вечно боится за порядок в доме, а смятение чувств внучки ее не волнует.) Она каждый день сметает пыль с безделушек, даже клавиатура прикрыта вышитой дорожкой от пыли: каждый раз, открывая крышку, я ее снимаю, а закончив играть, стелю обратно, хотя этот ритуал кажется мне абсолютно бессмысленным и даже глупым.
Аккуратно сложив дорожку, я кладу ее рядом с маминой фотографией: ей столько же лет, сколько мне сейчас, она улыбается — по правде, а не натужно, как я, на ней ярко-синее платье, голубые глаза сияют. Девочка на снимке внимательно меня слушает, и я стараюсь изо всех сил, но чем дальше играю, тем больше ее разочаровываю и в конце концов перестаю на нее смотреть. Я начинаю с гамм — это как алфавит, я повторяю их снова и снова, стараюсь правильно ставить большой палец, округлять кисть и держать ровный темп. Потом настает черед арпеджио — играть их трудно, потому что у меня маленькие руки. Наконец я открываю альбом с заданными отрывками и совсем падаю духом: мисс Келли исчеркала все страницы фиолетовой ручкой. Она отметила дугами фразировку, обвела дуате и подчеркнула рр для pianissimo — на прошлой неделе я играла слишком громко: и вот теперь я вижу только свои ошибки и собственную посредственность. Ни на что я не способна, только и делаю, что все порчу.
Вначале, когда бабушка мне только купила этот альбом, я наслаждалась, переворачивая чистые, свежие страницы. Я разглядывала иллюстрацию к пьесе «Эдельвейс» (девочка наклонилась понюхать эти альпийские цветы), и воображала, как прекрасны цветочки-звездочки в обрамлении зеленых листьев, как блестит снег на вершине горы. Девочка на картинке была именно такой, какой я мечтала быть: милая крошка с длинными прямыми волосами в широкой юбке в сборку, белой кофточке и безупречно-чистых носках и туфельках. Мне очень нравились слова этой песни:
Эдельвейс, эдельвейс, нашим символом будь, Белоснежный и чистый цветок. Тем, кто любит тебя, шлешь ты легкий кивок, Нежный венчик склоняя на грудь.Мало-помалу пьесу испортили мои бесчисленные неотвязные ошибки: мисс Келли исчеркала всю страницу — и даже рисунок! — своей дурацкой фиолетовой ручкой. Теперь, когда я пытаюсь сыграть «Эдельвейс», у меня ничего не выходит. Каждый такт превращается в грозное препятствие. Я так боюсь ошибиться, что изо всех сил пялюсь в ноты и опаздываю при переходе к следующему такту. Я уже ошиблась, и бабушка кричит из кухни: «Фа-диез, Сэди! Басовый ключ!» (Бабушка когда-то играла на пианино и потому имеет право делать замечания, хотя лично я ни разу не слышала, чтобы она взяла хоть одну ноту.) Я начинаю сначала, но на этот раз моя левая рука забывает, что соль нужно держать до второго такта, я прерываюсь и луплю правой рукой левую, та извиняется: «Прости-прости-прости-я-больше-не-буду», но правая в бешенстве, она кричит: «Мне осточертело твое плохое поведение, я не намерена больше этого терпеть ни одной минуты, поняла?», и левая отползает и возвращается на клавиатуру, бормоча: «Я стараюсь, как могу». — «Что ты сказала?» — грозно переспрашивает правая. «Я сказала, что очень стараюсь», — отвечает правая окрепшим голосом, в конце-то концов, она ведь никого не убила, а всего лишь чуточку раньше, чем положено, отпустила клавишу соль. «Значит, нужно лучше стараться, — вопит правая рука, — потому что твоего „как могу“ явно недостаточно!» Весь этот разговор длится долю секунды, бабушка ничего не замечает, и я снова начинаю играть. Когда ошибается правая рука, левая не имеет права на нее кидаться, она указывает на ошибку и ворчит, но не отчитывает. Вся левая половина моего тела находится в подчиненном положении — из-за родинки. (У мамы в Йорквилле тоже есть пианино, и она не только никогда не опускает крышку, но и нотами не пользуется. Она берет аккорды, когда поет, а когда не поет — курит, хотя бабушка называет эту привычку отвратительной.)
Шесть часов. Наконец-то я могу отойти от пианино и начать накрывать на стол. Сначала я кладу три салфетки под приборы, чтобы ни одна гадкая крошка, упавшая с наших неловких пальцев, не попала на кружевную скатерть, откуда ее будет очень трудно извлечь. На салфетки я ставлю большие белые тарелки с золотым ободком, такие же маленькие пирожковые тарелочки должны находиться чуть выше, слева. В первом ящике буфета стоит обитая бархатом коробка, в ней лежат тяжелые серебряные приборы. Вилки я кладу слева от тарелки, ножи — справа, режущей стороной к тарелке, чтобы не порезаться, когда берешь нож в руку (хотя никто не хватается за лезвие). Суповая ложка должна находиться справа от ножа — обед ведь начинается с супа (бабушка учит, что во время парадных застолий, когда рядом с тарелкой лежит несколько ножей, вилок, ложек и ложечек, нужно соблюдать этикет и брать приборы справа налево). Десертная ложка кладется над тарелкой черенком вправо, чтобы ее удобно было брать правой рукой (горе левшам!), стакан для воды занимает место чуть справа над ножом. Дедушка возвращается с прогулки, берет Хилари на руки и вытирает ему тряпкой лапы, чтобы пес не оставил повсюду следов грязи и растаявшего снега, потом включает телевизор и смотрит вечерние новости. Мы узнаем, что Дифенбахер и Пирсон нашли новый повод для разногласий, что Берлинскую стену достроили, а президент Кеннеди хочет наказать Кубу за то, что там переловили всех свиней, которых он посылал туда в прошлом году. Повсюду в мире возникают конфликты, я ничего в этом не понимаю, но каждый раз, когда приезжает мама, затевается спор, например, она возмущается тем, что Америка тратит целое состояние, запуская ракеты в космос, а у миллионов ее граждан, особенно у чернокожих, нет ни денег, ни работы. Я согласна с мамой, а бабушка с дедушкой — нет, они даже спрашивают, не стала ли она коммунистической сволочью. Мамины родители никогда не ссорятся, они и разговаривают друг с другом редко. Думаю, дедушка не имеет права передавать другим то, что ему с утра до вечера рассказывают, лежа на диване, пациенты. Деда интересует только хоккей (Горди Хоу — его любимый хоккеист), а бабушке на эту игру наплевать. Бабушка не сумела бы превратить рассказ о своих каждодневных занятиях в захватывающее дух повествование, так что за столом она ест и ограничивается короткими репликами: «Передай мне масло, пожалуйста», «Еще немного супа?» и всякое такое.
Дни тянутся долго — даже зимой, когда им положено быть короткими; недели кажутся еще длиннее, а месяцы — и вовсе бесконечными, я их считаю, хоть и не знаю зачем, у жизни нет ни конца, ни края.
Как-то раз январским воскресеньем, во второй половине дня, я умираю от скуки и прошу у бабушки разрешения слепить в ее саду снеговика. Она говорит, что на улице слишком холодно, но я умоляю до тех пор, пока она, тяжело вздохнув, не соглашается. Бабушка помогает мне надеть стеганый комбинезон, зимние сапоги, шерстяную шапку и митенки на длинном шнурке (чтобы я их не потеряла). В тот самый момент, когда она завязывает на мне шарф, я понимаю, что хочу писать. «Прости, бабушка, — робко произношу я тонким голоском, — но мне нужно в туалет». Она приходит в ярость. Срывает с меня теплые одежки и шипит сквозь зубы: «Ты нарочно меня злишь, Сэди?» — «Нет, отвечаю я, — нет, бабушка, честное слово, нет, я раньше не хотела!» — «Очень хорошо, — бросает она, — пусть это станет для тебя уроком. В следующий раз будешь внимательнее к сигналам своего организма». Все мои уговоры и слезные мольбы оказываются тщетными — после туалета бабушка наотрез отказывается выпустить меня погулять.
В феврале происходит нечто неожиданное. Лиза (девочка из класса) приглашает меня на день рождения. Я знаю, что она приглашает не лично меня, а всех одноклассниц («Из чистого бахвальства, — говорит бабушка, — не все могут устроить праздник на тридцать человек!»), и было бы слишком заметно, если бы она исключила только меня. Как бы там ни было, желание пописать приводит меня к катастрофе и на Лизином празднике. Ее мама приготовила «Слоппи Джойс» — открытые гамбургеры на жареном хлебе с густым соусом, я никогда не ела ничего вкуснее и наслаждаюсь угощением. Гости, как это всегда бывает на детских днях рождения, говорят все одновременно, громко хохочут, и я притворяюсь, что мне тоже очень весело, но тут выпитый лимонад начинает проситься наружу, я пугаюсь, что написаю в штаны — такого позора мне не пережить! — встаю и тихо спрашиваю у Лизиной матери, где находится туалет. Она ведет меня по коридору и даже не ругает (бабушка непременно сделала бы мне выговор), как будто отправиться в туалет посреди обеда — самая естественная вещь на свете. Я закрываю дверь и долго «облегчаюсь», а потом — о, ужас! — не могу отодвинуть задвижку. Кошмар, кошмар, кошмар, я впадаю в панику, мне начинает казаться, что я проведу в этом туалете всю оставшуюся жизнь, засов все не открывается, и тогда я принимаюсь колотить в дверь и звать на помощь. Я слышу голоса девочек в коридоре: «Что случилось, Сэди?» — спрашивают они, и я отвечаю срывающимся фальцетом: «Не могу открыть!» В конце концов Лизин отец присаживается на корточки перед дверью, велит мне успокоиться, спокойно объясняет, что я должна сделать, и проклятая защелка наконец поддается. Когда я возвращаюсь за стол, Лиза спрашивает: «Ну, Сэди, как дела в туалете?» Все смеются, а я умираю со стыда: праздник окончательно испорчен.
Скоро наступит весна. Мама, как и каждый год, приедет на бабушкин пасхальный прием (она устраивает его не вечером, а в полдень), и я решаю вести обратный отсчет до самого пасхального воскресенья. Дни тянутся нескончаемо долго, я зачеркиваю цифры — 42, 41, 40… и так до единицы, осталось дотерпеть до завтра, и вот уже наступило сегодня. Мама не пойдет с нами в церковь Святого Иосафата — бабушка говорит, она перестала это делать с тех пор, как встретила свою банду битников, а дедушка добавляет: «Да-да, эти молодые безбожники обречены на вечное проклятие!» Я думаю, он так шутит. (Не знаю, по правде ли бабушка с дедушкой верят в чудеса, воскресение, рай и вечное проклятие или просто так говорят, не похоже, будто они верят, что какое-нибудь чудо изменит их собственную жизнь.)
Мы возвращаемся домой сразу после службы, потому что мама приедет в половине первого и стол должен быть накрыт. Распевая гимны о воскресении Иисуса, бабушка беспокоилась об окороке в духовке — не подгорит ли? Теперь Иисус воскрес из мертвых до следующего Рождества, когда Он снова родится, окорок готов, стол накрыт, а часы тикают: уже час, и мама опаздывает — как всегда. «Такие мелочи, как пунктуальность, ее, конечно, не волнуют», — с иронией замечает дедушка. Кастрюли стоят на маленьком огне, но хлеб начинает сохнуть — как и доброжелательная улыбка, которую бабушка «надела» на лицо ровно в 12.30. Хилари чувствует возникшее напряжение: он мечется между бабушкой и дедушкой, повизгивает, стучит хвостом по паркету. Дедушка чешет его за ухом и говорит: «Ты вот никогда не заставишь мамочку с папочкой ждать тебя, правда?» Услышав свое имя, Хилари решает, что настал час прогулки, и лает, дедушка делает вид, что пес ответил: «Нет», и повторяет: «Конечно, не заставишь!»
Я очень хотела выглядеть красивой и умненькой-разумненькой к маминому приходу и, прежде чем отправиться в церковь, соорудила прическу «конский хвост». Время идет, резинка с желтой ленточкой сильно натягивает волосы, я не выдерживаю и чешу голову, порушив всю красоту, но мне все равно неудобно, и я сдергиваю бант вместе с несколькими волосками. От боли у меня выступают слезы, а бабушка раздраженно вопрошает: «Что ты делаешь, Сэди? Хочешь, чтобы твои волосы попали в еду? Поднимись в комнату, приведи себя в порядок и вымой руки — быстренько!» Пока я торчу в ванной и смотрюсь в зеркало — увы, я все та же обычная толстушка и страдания мои были напрасны! — появляется мама.
Я лечу по лестнице и бросаюсь к ней в объятия. Она ловит меня с возгласом «Детка моя любимая, какая ты стала взрослая», сажает к себе на колени и целует в лоб, щеки, нос, глаза и подбородок. «Мы можем наконец сесть за стол, Кристина? — спрашивает бабушка. — Уже час тридцать пять. Если подождем еще чуть-чуть, окорок окончательно пересохнет», — а мама смотрит мне прямо в глаза и шепчет: «Как поживает моя сладкая Сэди?» — и я отвечаю: «Хорошо», — а бабушка сдергивает меня с маминых колен и плюхает на стул, и тогда дедушка, махнув электрическим ножом, отпускает свою вечную шуточку о Джеке Потрошителе.
Самое чудесное в моей маме не ее красота, а то, что она излучает обаяние. Так сказал однажды мамин друг Джек, и я запомнила, потому что это чистая правда. Мама одета во все черное (бабушка наверняка считает этот цвет неподобающим для Пасхи), на ней обтягивающие брюки и свитер, из всех украшений — розовый шарф и серебряные серьги-кольца. Мама не накрашена, у нее обычная прическа, но она улыбается, ее голубые глаза блестят, и я вдруг понимаю, что вот она — моя мамочка, а ведь люди, как правило, не там, где они есть, они думают о тысяче разных вещей, но не о вас и не о том, что может случиться за одно короткое мгновение.
(Когда мама рядом, мне кажется, что от ее присутствия вибрирует воздух, тем ужасней, что она так редко появляется в моей жизни.)
— Итак, Кристина, — говорит дедушка после того, как мясо, ломтики ананаса, сладкий картофель и зеленая фасоль съедены. — У тебя появились серьезные конкуренты.
Мама бросает на него непонимающий взгляд.
— Пол Анка снова в хит-параде, и вдобавок о нем снимают фильм.
Мама весело смеется.
— Мы с Полом Анкой работаем в разных плоскостях, — говорит она.
— Передавать такие песни по радио, — вступает в разговор бабушка. — Kissing on the phone[3], подумать только! Швабры, даже глаз не видно!
— А мне они очень нравятся, — шепчу я себе под нос.
— Браво, Сэди, — восклицает мама.
— Одно могу сказать, — вздыхает дедушка, — человечество стремительно деградирует. Подумать только — всего за два столетия мы скатились от гениальных опер Моцарта к… «агу-агу». И это человеческий язык? Что скажешь, Хилари?!
Он смеется над собственной шуткой и скармливает Хилари кусочек сала под столом.
— Ричард! — возмущается бабушка. — Ты прекрасно знаешь, что не должен давать этой собаке жирного! У Хилари холестерин!
— В детстве я обожала жирное, — мечтательно произносит мама. — Хотела стать Толстой Дамой из цирка.
— Неужели? — удивляется дедушка. (Как он может этого не знать? Неужели забыл?) — Еще одна рассыпавшаяся в прах мечта.
— Мне кажется, что с нашей последней встречи ты еще больше похудела, — замечает бабушка.
— Я прекрасно себя чувствую, — успокаивает ее мама.
Я перестаю прислушиваться к разговору и впадаю в транс: я так долго ждала этого дня, а теперь не знаю, как себя вести, сижу и пожираю маму глазами. В окно за маминой спиной вливается солнечный свет, и ее волосы кажутся золотым ореолом, она здесь, она здесь, она правда здесь, я застыла, завороженная музыкой ее голоса и грациозными движениями рук. Внезапно я слышу: «Хочешь провести у меня следующий уик-энд, Сэди?» — и не верю своим ушам. Следующий уик-энд? До него всего шесть дней. Бабушка и дедушка обмениваются многозначительным взглядом: «Охо-хо, не окажет ли эта женщина дурного влияния на нашу малышку Сэди?» — но потом они вспоминают, что эта женщина — мать их малышки Сэди, она родила ее в восемнадцать и отдала на попечение родителям, потому что у нее не было денег. Теперь маме двадцать четыре, и ничто не помешает ей забрать меня, если она захочет, так что — кто знает? — если я буду хорошо себя вести, когда поеду к ней на выходные, она может меня оставить. Мое сердце колотится, как сумасшедшее.
— Скажем, в субботу, после обеда. Мы с Питером заедем за тобой на машине, а в воскресенье, к вечеру, я отвезу тебя назад. Договорились?
Ответа не последовало.
— Ты согласна, Сэди? — спрашивает мама.
Я готова выпалить, что просто мечтаю об этом, но тут вмешивается дедушка.
— Кто такой Питер? — спрашивает он.
— Питер Зильберман. Мой новый импресарио.
Снова наступает тишина.
— Питер… Зильберман? — повторяет бабушка таким тоном, как будто это имя ей чем-то не нравится.
— Что такое импресарио? — спрашиваю я, представив себе Прекрасного Принца с волнистыми волосами, бросающего в лужу свою красную накидку, чтобы мама не замочила ног.
— Это господин, который занимается тем, чтобы сделать меня знаменитой! Он заботится о моей карьере, организует концерты.
— Ты планируешь концерты? В приличном месте, не в кабаке, не в прокуренном шалмане? — спрашивает дедушка.
— Именно так. — Мама очаровательно улыбается. — Прислать вам билеты?
— Ты прекрасно знаешь, что я ничего не понимаю в твоей музыке, Кристина, — качает головой бабушка. — Не хочу тебя обидеть, но песни без слов еще никому не помогли добиться успеха.
— Я буду первой! — отвечает мама. — Зачем делать то, что кто-то уже сделал до тебя?
Бабушка поджимает губы и насаживает на вилку кусок мяса, словно хочет сказать: и когда только моя дочь научится смотреть правде в глаза?
— У Сэди хороший аппетит, я могу приготовить вам макароны с сыром на вечер…
— Макароны-шмакороны! — смеется в ответ мама. — Один уик-энд Сэди посидит на мамочкиной диете — сухой хлеб и виски… правда, детка?
— Еще бы! — Я лихорадочно ищу, что бы еще остроумного добавить, но в голову ничего не приходит: надежда провести ночь в мамином доме до крайности меня взбудоражила.
— Хорошо, — вздыхает бабушка. — Я соберу ей маленький чемоданчик… У тебя есть лишняя кровать?
— Можно привязать раскладушку к багажнику машины Питера, — предлагает дедушка.
— И речи быть не может! — восклицает мама. — Она может спать на диванчике… да, крошка?
— Еще бы! — Я боюсь показаться дурочкой из-за того, что дважды повторила одно и то же, но мама смотрит на меня взглядом, полным любви и нежности.
— Ну вот, все улажено, — говорит она. — Спасибо за обед, но мне пора бежать на репетицию.
— На репетицию? — изумляется бабушка. — В пасхальное воскресенье?
— Думаешь, Иисус рассердится на меня? Уверена, у него есть дела поважнее…
— Кристина! — восклицает бабушка, разрываясь между желанием отчитать дочь за богохульство и удержать ее в своих когтях. — Не хочешь съесть десерт? Вчера я испекла шоколадный торт, специально для тебя.
— Ты все время забываешь, что я не люблю шоколад.
Следуют поцелуи, объятия, слова прощания — и мама исчезает. Я стою у окна и смотрю, как она легкой, танцующей походкой идет по тротуару, розовый шарф развевается на ветру за ее спиной, потом она заворачивает за угол, а бабушка говорит:
— Сэди, помоги мне убрать со стола.
Я буду благоразумной, я буду безупречной, я не совершу ни одной ошибки за следующие шесть дней, клянусь, что буду наступать на трещины в асфальте только правой ногой, о, мама мама мама мама мама… моя любовь к маме растет и раздувается, как воздушный шарик, так что кажется, что грудь вот-вот разорвется, если бы я только могла раствориться в маме, стать с ней единым существом или превратиться в невероятный, волшебный голос, рождающийся в ее горле, когда она поет.
Получилось. Мама открывает дверь своим ключом, Питер — ее импре-что-то-там несет мой чемодан, мы вместе переступаем порог, мы уже внутри, и я наконец становлюсь частью маминой жизни. Ее квартира находится в полуподвале, это даже не квартира, а одна большая комната — темная и таинственная, как пещера, с крохотными оконцами, выходящими прямо на тротуар, так что можно видеть ботинки и туфли идущих мимо людей. В комнате витает артистический аромат дыма, свечей и кофе, повсюду стоят и лежат книги.
— Будь как дома, детка. Мы с Питером немного поработаем, не возражаешь?
— Вовсе нет!
Я чувствую себя очень неловко, как будто мама — это и не мама вовсе, а чужая женщина, на которую мне нужно произвести хорошее впечатление, но она ведь и правда моя мама. Я сворачиваюсь клубочком на диване. Питер (высокий, угловатый, с длинными темными волосами и в очках) садится за пианино, мама стоит, рядом с ним, и я понимаю, что инструмент для них — не противник, а друг, закадычный дружок. Питер начинает играть, и ноты сливаются в мелодию, как река в половодье.
— Будешь нашей публикой, Сэди, оценишь новый кусок?
— Класс!
Мама поглаживает родинку на левой руке и разогревает голос гаммами и арпеджио, но для нее они не алфавит, она делает это с таким наслаждением, как будто бежит босиком по песку. Она делает знак Питеру, что готова.
Иногда она издает губами такой звук, как будто пробка выскакивает из бутылки, или бьет себя ладонью в грудь, словно хочет подчеркнуть льющуюся из горла музыку. Кажется, что ее голос рассказывает историю — не только своей жизни, но всего человечества с войнами, голодом, сражениями, испытаниями, триумфами и трагедиями. Временами мелодия льется грозными волнами, напоминая бушующий океан, потом начинает звучать, как водопад, льющийся с вершины скалы и обрушивающийся в белую пену на поверхности темной блестящей воды. Мамин голос рисует вокруг моей головы золотые нимбы, подобные кольцам Сатурна, он раскачивается, как будто танцует канкан, жалуется и дрожит, закручивается вокруг ноты фа, как плющ вокруг ствола дерева, ныряет в прозрачные голубые воды аккорда соль мажор, который Питер берет левой рукой… Я потрясена. Мама права: никто никогда не использовал свой голос подобным образом. Таких, как моя мама, больше на свете нет: она изобретатель, гений, богиня пения в чистом виде. Если бы мисс Келли услышала, как мама поет, ее бы удар хватил, она бы тут же на тот свет отправилась, признав, что ее музыка никому не нужна.
Мама заканчивает отрывок, она вся мокрая от пота (по бабушкиным правилам слово «пот» — почти ругательство, а у дедушки есть присказка: «Лошади потеют, мужчины взмокают, а женщины сияют», а еще он говорит о женщинах: «Можно взять лошадь на бал, но танцевать ее не заставишь, можно подвести женщину к полке с книгами, но думать ее не научишь»), даже майка прилипла к телу. Питер вскакивает, хватает маму на руки и начинает кружить ее по комнате, приговаривая: «Это потрясающе, Крисси!» Мама откидывает голову назад, и она мотается, как у тряпичной куклы.
— Что скажешь, милая? — спрашивает она, когда Питер наконец отпускает ее.
— Класс! (Я по-прежнему не могу придумать ничего умнее.)
— Тебе понравилось?
— Еще бы!
— Думаешь, я могу с этим где-нибудь выступить?
— Да!
— Ах, детка… — выдыхает мама и целует меня. — Мы доберемся до небес, понимаешь?
— Теперь моя очередь, — говорит Питер, поворачивает маму к себе и целует в губы, как в фильмах, хотя бабушка всегда выключает телевизор, когда целуются, а тут я могу созерцать всю сцену с начала до конца. Питер, правда, выглядит как-то странно, как будто ничего не кончилось, губы у него влажные и красные, он достает из кармана горсть мелочи и говорит:
— Мне кажется, Сэди хочет сходить в бакалею на углу и купить себе конфет, так ведь?
Мама оборачивается ко мне:
— Отличная мысль, правда, Сэди?
Я, конечно, очень люблю конфеты, а достаются они мне только на Хэллоуин и Рождество (бабушка считает, что сладкое портит зубы!), но мне совсем не улыбается бродить по незнакомым улицам в поисках незнакомой бакалейной лавки.
— Да нет, не надо мне никаких конфет. — Я пытаюсь возражать, но Питер сует мне деньги в ладонь со словами: «Я уверен, что в глубине души эта маленькая девочка умирает от желания отправиться за конфетами», а мама уже несет мое пальтишко и объясняет: «Слушай внимательно, детка, это в четырех улицах от дома, по прямой, иди, а то заскучаешь, пока мы репетируем». — «Мне совсем не скучно!» — протестую я, но она уже ведет меня к двери со словами: «Давай, малышка, не упрямься. Когда вернешься, сядем играть в рами».
Улицы длинные, и я боюсь, что заблужусь, или меня разорвут собаки, или похитит шайка нищих, но я хочу доказать маме, что уже выросла и не стану для нее обузой, если мы будем жить вместе, и как только страх подкатывает к горлу, а на глазах выступают слезы, я их глотаю, ноги как будто отделяются от тела, чтобы убежать, но я заставляю их шагать спокойно и размеренно — левая-правая, левая-правая — и по возможности наступаю правой на трещины в асфальте. Квартал, где живет мама, не такой ухоженный и богатый, как наш, из трещин в тротуаре прорастает трава, штукатурка осыпается, люди сидят на ступеньках, пьют пиво и болтают, потому что сегодня выдался первый по-настоящему теплый день. Когда я наконец добираюсь до магазина, мне кажется, что путешествие заняло много-много часов.
Я толкаю дверь, у меня над головой звякает колокольчик, я подпрыгиваю до потолка, роняю монетки, которые получила от Питера, и они раскатываются по полу. Толстая дама, стоящая за кассой, весело восклицает: «Вот-те на!» К счастью, в магазине нет других покупателей и посмеяться над моей неуклюжестью некому. Я опускаюсь на корточки и начинаю подбирать монетки, одну за другой, и на это уходит целая вечность. Закончив, я поднимаюсь, дрожа от страха, что толстухе надоело ждать, но она на меня даже не смотрит — листает себе лениво журнальчик и позевывает. Похоже, вечером собирается в гости, иначе не надела бы зеленое парчовое платье. Бигуди на голове не очень к нему подходят, но кто захочет надевать платье потом и портить прическу?
— Я хотела бы купить конфет, — сообщаю самым вежливым тоном, на какой только способна, но голос мой звучит так тихо, что она не слышит, мне приходится повторить просьбу, и продавщица тяжело поднимается. Она вперевалку подходит к полке с конфетами и начинает насыпать в бумажный пакет леденцы, драже, засахаренные фрукты, помадку, черно-красные лакричные палочки, называя мне цены. Я кладу монетки на прилавок, надеясь, что женщина не заметит, какие у меня грязные руки — я ведь на полу возилась, — собираюсь сказать спасибо и отправиться восвояси, но тут она говорит:
— Не поможешь застегнуть молнию, детка?
Продавщица поворачивается, и я вижу, что спина у нее белая и мясистая, как брюхо кита, мои пальцы сражаются с застежкой, кожа под блестящей зеленой тканью собирается в складки, я боюсь, что не сумею довести дело до конца, багровею от натуги, и продавщица передергивает плечами, чтобы облегчить мне задачу, но спину не втянешь, как живот, так что, когда молния наконец поддается, она говорит:
— Да уж, дышать мне сегодня вечером точно не стоит! — А потом добавляет: — Спасибо, милая, — и протягивает мне в благодарность двух пупсов-негритят, но я так нервничаю, что едва не роняю подарок на пол.
Волки-оборотни не разорвали меня на куски, когда я возвращалась домой, маму я застала за уборкой постели — вид у нее был рассеянный, волосы растрепались, а Питер куда-то подевался.
— Где Питер? — спросила я.
— Ему пришлось уйти.
— Но ты обещала, что мы сыграем в рами!
— Я помню, дорогая, но ему позвонили — какое-то срочное дело… Он велел тебя крепко расцеловать.
Я ничего не отвечаю, но чувствую себя обманутой, и мне немного обидно.
Мама закуривает и с силой выдыхает дым из ноздрей (я обожаю, когда она так делает).
— Тебе нравится Питер?
— Он ничего.
— Ты ему очень нравишься.
— Он же меня совсем не знает…
— Знаешь, что он сказал о тебе?
— Нет.
— Он сказал: «В этой башке много чего варится…»
— Что такое башка?
— Это твоя голова, ангелочек! — смеется мама.
Я решаю прояснить все до конца и спрашиваю:
— Вы поженитесь?
— Как ты догадалась?
Мамин ответ бьет меня по голове, как ударная волна.
— Вы поженитесь? — повторяю я тоненьким срывающимся голоском.
— Иди ко мне на колени, детка.
Мама распахивает мне объятия.
— Знаешь, пока это секрет, не говори ничего бабушке с дедушкой, ладно? Питер — очень хороший человек, он всерьез занялся моей карьерой, организовал этой весной фантастическое турне, я объехала всю страну из конца в конец. Он сделает меня знаменитой, Сэди!
— Но ты его любишь?
— Ох… люблю ли я его? — Мама долго молча смотрит на меня, потом отвечает: — Знаешь, милая, я не уверена, что разбираюсь в любви, но в одном уверена на все сто: я… люблю… тебя! Поняла? А насчет всего остального… не беспокойся, хорошо? Это моя забота.
— Значит, если вы поженитесь, я смогу жить с вами, потому что это уже не будет так позорно?
— Позорно? Девочка моя! В твоей маленькой башке и впрямь рождаются странные мысли! Стыд, позор… при чем тут эти глупости? Все дело в деньгах. Если дело пойдет так, как идет сейчас, ответ на твой вопрос — огромное-преогромное… да! Но пока и об этом — молчок, идет? Заметано?
Она встает и зажигает все лампы, потому что солнце садится и в комнате совсем темно. Я иду следом за мамой на кухню, она подхватывает меня и сажает на один из барных табуретов, чтобы я наблюдала за готовкой.
— Я приготовлю нам гамбургеры, не возражаешь?
Я не знаю, стоит ли рассказывать маме о «Слоппи Джойс», тех самых потрясающих открытых гамбургерах, которые мне так понравились на дне рождения Лизы, но в конце концов решаю этого не делать — мама может подумать, что я критикую ее стряпню, — и просто говорю «Класс!». Она достает из холодильника мясо, режет его на куски и прокручивает через мясорубку, эта работа навевает ей одну песенку — вообще-то мама всегда, в любых обстоятельствах, вспоминает какую-нибудь песню — и она поет балладу о молодом голландце по имени Джонни Бёрбек. Однажды он придумал сосисочную машину. Его соседи ужасно боялись, что все их собаки и кошки пойдут на фарш. В этом месте я громко смеюсь. В последнем куплете машина ломается, и Джонни Бёрбек забирается внутрь, чтобы ее починить, но его жена — лунатик, она включает машину — ненарочно, конечно, вот умора-то, когда мама поет:
Она взялась за ручку И крутанула раз. Чудесный фарш из мужа Порадовал ей глаз.Мама делает мне знак, чтобы я подпевала, и я радостно подхватываю:
Ах, Джонни, ты окончил Свой путь в расцвете лет. Не надо было делать Машину для котлет! —…и так далее. Я стараюсь петь громко, чтобы мой голос звучал так же чисто и роскошно, как мамин, но ничего не выходит, это все равно что сравнивать обрат со сливками.
Мама ловко лепит из фарша маленькие шарики и спрашивает:
— Знаешь, что такое гамбургер?
Очевидный ответ не может быть правильным, и я отвечаю:
— Нет, скажи сама.
— Это господин, живущий в Гамбурге! А кто такая болонка?
— Ну…
— Ха, ха, ха! Это женщина, которая живет в Болонье! Ну а стейк?
— Мальчик из Стейксвилля? — говорю я, чтобы показать, что уловила, в чем суть игры.
— Нет, глупышка, это толстый ломоть говядины! — хохочет мама, и я точно знаю, что ни у одной моей одноклассницы нет такой замечательной матери.
Когда она поворачивается ко мне спиной, я вспоминаю, что хотела рассказать, как учительница музыки бьет меня линейкой, и добавляю эту ложку дегтя в бочку… счастья.
Мама не отвечает.
— Мам, ты что, не слышишь?
— А?
— Я сказала, что мисс Келли бьет меня по запястьям линейкой, очень сильно, почти на каждом уроке…
— Да, я слышала, дорогая… Должно быть, не слишком приятно, — произносит она отсутствующим голосом, и я вижу, что она где-то далеко, очень далеко, неизвестно где, и говорю, чтобы вернуть мною же разрушенный веселый настрой:
— Если Джонни Бёрбек прокрутил себя на фарш, значит, он больше не голландец, а гамбургер.
И мама весело хохочет в ответ.
На десерт у нас виноградное желе — мы едим его ложками прямо из банки (бабушка такого никогда бы не позволила), губы у меня стали лиловые, мама высовывает язык, и он тоже совсем лиловый, мы хихикаем, а потом она спрашивает: «Можешь высунуть язык и дотронуться до носа?» — я делаю попытку, ничего не выходит, а она говорит: «Смотри, как это легко!» — высовывает язык и касается носа указательным пальцем. Интересно, думаю я, восхитятся в понедельник мои одноклассницы, если я покажу им этот фокус, или скажут: «Какая идиотская шутка!» — и на том все и закончится. Я показываю маме, как умею скашивать глаза: смотрю на указательный палец и медленно подношу его к носу. Она не говорит, что я останусь косой на всю жизнь, и мне хочется, чтобы этот вечер не кончался никогда.
Мы укладываемся в мамину кровать. Я лежу, тесно прижавшись к ее теплому телу, и чувствую себя, как в раю, но она вдруг встает и идет на кухню налить себе виски, берет сигарету. Я смотрю на маму сквозь ресницы и притворяюсь, что сплю, потому что не хочу упустить ни единой секунды времени в мамином обществе, но в конце концов засыпаю по правде. Во сне я вижу, как мама кладет в коричневый конверт крошечного ребенка, пишет на конверте имя красным фломастером и бросает конверт в чей-то почтовый ящик, потом проделывает то же самое с другим младенцем, и мне становится ужасно не по себе при мысли о том, что все эти малыши лежат в заклеенных конвертах совершенно голые и им даже нечего поесть.
Когда я просыпаюсь утром, мама крепко спит рядом со мной. Она закинула левую руку за голову, я несколько минут рассматриваю ее родинку и думаю, почему моя собственная появилась в таком стыдном месте. С этой мыслью возвращается воспоминание о том, что я «грязная» и ничтожная. Правая нога начинает дубасить левую, я боюсь разбудить маму, осторожно вылезаю из кровати и плетусь в туалет. Мама не просыпается, я не знаю, чем заняться, и решаю позавтракать — ем конфеты, а Враг досаждает мне ехидными замечаниями: «Ты и так толстая девочка, а от конфет потолстеешь еще больше». Я пытаюсь отвлечься, ищу на полках какую-нибудь детскую книжку, ничего не нахожу и возвращаюсь к конфетам, потом меня начинает тошнить от запаха застывшего жира — мама не помыла сковородку, на которой вчера жарила гамбургеры, я бегу в туалет, и меня рвет. Я совсем не хочу испортить этот драгоценный уик-энд, но в данный конкретный момент мне совсем не весело и не хорошо: на улице ливень, я жду не дождусь, когда проснется мама, но не решаюсь ее разбудить, потому что она, наверное, не ложилась всю ночь, думала и пила, как часто делают артисты. После рвоты у меня дерет горло, и я лезу в холодильник, чтобы поискать молоко, но там нет ничего, кроме половинки грейпфрута и куска посиневшего сыра, он выглядит так ужасно, что меня снова начинает тошнить, и я захлопываю дверцу.
Мама садится на кровати, и я пугаюсь — вдруг она сердится, что я ее разбудила, но она восклицает:
— Боже, который час? Одиннадцать… Ты давно встала, детка?
Мама вскакивает, и мир снова приходит в равновесие, ведь она здесь, со мной, курит свою первую сигарету, варит кофе, натягивает черные брюки, обнимает меня, включает радио и продолжает разговор.
— Какая мерзкая погода! Ужасно жалко, я хотела повести тебя в зоопарк!
Появляется Питер с продуктами (вместо приветствия он взъерошивает мне волосы, и мне это не слишком нравится — я только что причесалась), без предупреждения заваливаются двое маминых друзей, потом начинает трезвонить телефон, подтягиваются другие приятели, и уже через час шестеро незнакомых мне людей курят, разговаривают и смеются в маминой квартире. Двое гостей — бородачи, и я спрашиваю себя, носит ли бороду мой отец Морт и знают ли его эти люди. Если да, может, они скажут ему при встрече, что видели его дочь Сэди, а он расспросит их обо мне. Все говорят, что рады со мной познакомиться, а я вот совсем не рада — они присвоили мою маму в тот единственный уик-энд, который мне выпало провести в ее доме. Я замечаю, что мамины приятели разговаривают с ней особым, почтительным голосом, стоит ей открыть рот — и они замолкают и слушают, и над шутками ее смеются громче обычного. В какой-то момент Питеру приходит в голову злосчастная идея: он сажает меня на колени и начинает дурацкую игру в «ехали мы, ехали» (взрослые почему-то уверены, что дети это обожают!). Я ерзаю и выворачиваюсь до тех пор, пока он меня не отпускает, и тут одна женщина говорит:
— Крисси, может, споешь нам что-нибудь?
— Почему нет… — отвечает мама и, не вставая со стула, закрывает глаза и скрещивает на груди руки. Она поглаживает большим пальцем правой руки родинку на левой и разогревает связки, выпевая ноты — вполголоса, нежно, сначала высокие, потом низкие, подобно тому, как скрипач водит смычком по струнам, настраивая скрипку. Питер садится за пианино и берет то фа, то ля-бемоль в нижней октаве — это напоминает звучание органа. Сначала мамин голос следует за мелодией Питера, но потом он взмывает вверх, заполняет собой всю комнату, проходит сквозь стены и потолок, устремляется в небеса, и мы тоже закрываем глаза, потому что в реальном мире не осталось ничего интересного, кроме голоса моей матери — такого же прекрасного и совершенного, как воздух, вода и любовь. Когда мама умолкает, ни один человек в комнате не знает, кто он и где находится, а женщина, попросившая маму спеть, и вовсе плачет. Наступает долгая тишина, потом ее разрывает гром аплодисментов.
— Ты знаешь, что твоя мама — волшебница? — спрашивает один из маминых приятелей, но мне нет дела ни до них, ни до их вопросов, я хочу одного — чтобы все убрались и не портили наш с мамой уик-энд. Она, похоже, не понимает, что отпущенные нам драгоценные часы утекают, один за другим, и вот стрелки уже показывают три пополудни, и Питер жарит яичницу-болтушку на сковородке, которую мама так и не вымыла со вчерашнего дня. Он раскладывает еду по чашкам и пиалам, потому что тарелок на всех не хватает. Мне становится веселее, но тут кто-то спрашивает — для поддержания разговора, а не из интереса! — в какую школу я хожу. Я отвечаю, и все принимаются ахать и охать: «Здорово!», «Шикарно!» Я краснею, хоть и не виновата, что учусь именно там, и, чем сильнее краснею, тем больше смущаюсь, потому что другие могут заметить мое смущение, и от этого я вся заливаюсь краской, но тут, слава Богу, вмешивается мама: «Эй, должен же быть в семье хоть один приличный человек!» В ответ раздается дружный хохот, и они меняют тему разговора.
Время бежит. Внезапно мама вскакивает и говорит:
— Ладно, ребята, проваливайте. Уже пять, в семь концерт, мне нужно время, чтобы собраться. Сэди, детка, не возражаешь, если тебя отвезет Питер?
За несколько секунд она собирает мои вещи в чемоданчик, ее дружки гурьбой тянутся к двери, я чувствую себя потерянной и одинокой во всем этом шуме-гаме, но мама присаживается передо мной на корточки, берет мое лицо в ладони и нежно касается губами моих губ. «Итак, ты не забудешь ничего из того, о чем мы вчера говорили, правда?» — спрашивает она, и я киваю, изо всех сил стараясь не заплакать. Я хочу знать, когда мы снова увидимся, но спросить не решаюсь. Мама шепчет мне на ухо — так, чтобы никто не услышал: «Что такое гамбургер?» И я отвечаю: «Человек, который живет в Гамбурге». А она поправляет: «Да нет же, глупышка, это котлета в круглой булочке!» Потом она крепко-крепко прижимает меня к груди — там трепещет ее пение — и подталкивает к двери.
Питер разрешает мне сесть на переднее сиденье (бабушка никогда не позволяет), и мы едем по городу под дождем, по радио поет Элвис Пресли, и дворники разгоняют потоки воды с ветрового стекла в такт его музыке.
Я вдруг вспоминаю взгляд, которым обменялись бабушка с дедушкой, услышав фамилию Питера, и спрашиваю:
— Что это за фамилия — Зильберман?
— Еврейская, — отвечает он. — А что?
— Что значит «еврейская»?
— Как бы тебе объяснить… Это длинная история со множеством неожиданных поворотов, но без счастливого конца.
— Значит, ты не ходишь в церковь?
— Ну почему, многие евреи ходят в свои церкви — они называются синагоги. Я не хожу в церковь не потому, что я еврей, а потому, что я атеист.
— Что такое «атеист»?
— Атеисты — люди, которые не верят в сказочки о добром Боге и страшном дьяволе.
— Но во что-то же ты веришь?
— Ну… конечно… например, в твою маму. Я верю в деньги, хотя доказательств их существования видел пока немного. На все сто верю в «дворники» — взгляни, как здорово они очищают ветровое стекло! Так… свято верю в яичницу-болтушку, лучше с клецками.
— Что такое «клецки»?
— Ох… Ладно, крошка, притормози с вопросами, тебе предстоит узнать массу интересного!
Нелегко возвращаться к привычной жизни, когда голова полнится воспоминаниями о пережитом счастье. Тяжело проснуться в понедельник утром и осознать, что до следующей субботы еще целых пять дней, но, когда они пройдут, ничего хорошо все равно не случится. В каждое мгновение каждой секунды я готова взорваться, нервы напряжены до предела, меня раздражает все — и бабушка с ее вопросами об уборке постели, и Хилари, колотящий хвостом по паркету. Как бы мне хотелось наподдать ногой обоим! Увы, это невозможно.
Я ужасно мучаюсь на занятиях балетом, потому что пуанты стали мне малы, а бабушка не хочет покупать новые, ведь до летних каникул осталось всего два месяца и до сентября ноги у меня еще вырастут, так что придется потерпеть.
В школе я обдумываю идею, не рассказать ли девочкам мамины шутки насчет гамбургера и болонки, но боюсь, что они переглянутся, вздернув брови, и их высокомерное молчание навсегда испортит эти шутки. На уроке рисования я иду поточить синий карандаш, вставляю его в машинку и вдруг вспоминаю, как мама проворачивала мясо в мясорубке и пела песенку о Джонни Бёрбеке — «Она взялась за ручку и крутанула раз», — и мне начинает казаться, что я точу не карандаш, а свой указательный палец, с каждым поворотом ручки он становится короче, правая рука превращает левую в месиво, вырывает из нее куски плоти, разрывает жилы, с хрустом сминает кости, выжимает по капле кровь… «В чем дело, Сэди?» — спрашивает учительница, потому что я стою перед точилкой, застыв как статуя, и ничего не точу.
Апрель робко вступает в свои права. Я внимательно за собой наблюдаю и ежедневно выставляю себе оценку, исходя из десяти баллов. Вернувшись из школы, подхожу к зеркалу в своей комнате и лишаю себя «очков», если волосы растрепались, если шнурки развязались, если подшивка юбки оторвалась. То же происходит, если я рыгаю, пукаю, даю бабушке повод повысить голос или мисс Келли отлупить меня линейкой. Я поступаю честно и принципиально и наказываю себя за произнесенное вслух (даже шепотом!) грубое слово, за грамматическую ошибку, за то, что взяла стакан левой рукой или проглотила сопли, вместо того чтобы высморкаться.
У меня выпал один из верхних клыков, и я часами сосу дырку в десне, снова и снова тычу в нее языком, и глотаю, ощутив во рту металлический вкус крови. Я бы и себя съела, если бы могла провалиться через горло в желудок. Для начала я обгрызла бы ногти, потом схрумкала бы пальцы, ладони, локти и плечи… Нет, пожалуй, начала бы со ступней… Но вот вопрос — как быть с головой? Открыть рот так широко, чтобы губы вывернулись назад, и в один присест проглотить голову? Тогда от меня останется один желудок — маленький трепыхающийся от сытости мешочек.
Я всегда хочу есть. Бабушка говорит, что пищу нужно пережевывать медленно и вдумчиво, а брать добавку — дурной тон. Бабушка не контролирует меня только во время полдника — в пять она возится в саду. Когда она не смотрит, я делаю себе огромные сандвичи с арахисовым маслом и виноградным желе.
Однажды я собиралась насладиться этим преступным сладко-соленым лакомством, и тут в кухне появился незнакомец. Он двигался легко и бесшумно, как кот, у него были лохматые брови и зеленые, с золотым отливом, глаза. Я сразу поняла, что это один из дедушкиных сумасшедших: может, заблудился, когда искал выход на улицу, или просто решил обследовать дом своего доктора. Справившись с удивлением, я сказала: «Привет!» Он ответил: «Привет! Выглядит аппетитно!» — «Хотите?» — спросила я, кивнув на нетронутый сандвич на тарелке. «Нет, нет. Но спасибо. Меня зовут Джаспер, а тебя?» — «Сэди». — «Можно присесть?» — «Прошу вас». Я ощутила легкую сладкую дрожь в желудке, потому что случившееся было событием в моей небогатой событиями жизни. «В детстве я тоже обожал эту смесь», — произнес он, глядя на банки на столе, но тут в кухню ворвался почуявший чужого Хилари: он тявкал, щелкал челюстями, и я наконец сделала то, о чем мечтала много месяцев, — дала ему пинка ногой. Хилари возмущенно завизжал от боли, как пес в мультфильме «Том и Джерри». Джаспер поднялся и сказал: «Нет, нет, Сэди, не наказывай собачку. Собаки не могут быть умнее хозяев. Бедный малыш, бедный малыш…» Он наклонился, чтобы погладить Хилари — тот все еще попискивал, но в этот момент в кухню, размахивая секатором, ворвалась бабушка. «Убирайтесь! — закричала она. — Немедленно! Покиньте дом или я вызову полицию!» Джаспер грустно улыбнулся, тихо сказал: «Приятно было поговорить с тобой, Сэди», — и Событие закончилось, не успев начаться.
Однажды утром, за завтраком, дедушка разворачивает газету и удивленно хмыкает, увидев мамину фотографию и статью о ее турне.
«Ты только посмотри», — говорит он бабушке. Она подходит, бросает взгляд через его плечо и тоже хмыкает: дочь радостно улыбается ей с газетной полосы. «Господи Боже ты мой!» — произносит бабушка, а дедушка отвечает: «Сомневаюсь, что Бог имеет хоть малейшее отношение к этой истории, но должен сказать, мне не слишком нравится, когда „Глоб энд мейл“ упоминает мое имя в рассказе об этих диких звукоподражаниях. Что скажешь, Хилари?»
Хилари весело тявкает в ответ — нечаянная радость наступила, предстоит незапланированная прогулка!
«Неплохо, очень неплохо! — Дедушка благодушно кивает и награждает песика корочкой от своего тоста. — Неделю-другую порепетируем — и сможешь выйти на подмостки вместе с Кристиной!»
Не понимаю, почему они издеваются над мамой, вместо того чтобы гордиться ее триумфальными гастролями. Я вот горжусь, даже очень! Я теперь тоже почти знаменитость, ведь про мою маму написали в газете! В школе об этом вроде бы никто не знает, хотя имя Крисси Крисвоти было напечатано крупными буквами, а меня зовут Сэди Крисвоти, и других Крисвоти в Торонто раз два и обчелся. Я не хочу сама об этом заговаривать: другие девочки или не поверят (и мне будет стыдно), или сочтут меня хвастуньей (что еще хуже).
Вернувшись из школы, я перечитываю статью с начала до конца, от первого до последнего слова, понимаю не все, но испытываю странное чувство, потому что она о моей маме. Я пытаюсь представить, как изумляются зрители в Реджайне или Ванкувере, когда эта хрупкая блондинка в черном вылетает на сцену, здоровается с музыкантами, хватает микрофон, открывает рот и… вместо того чтобы исполнять «Эдельвейс», «My Favorite Things» или другие пошлые песенки, увлекает их в путешествие по миру. Музыка для мамы — питательная среда, земля, на которой она танцует, без труда перепрыгивая через октавы. Иногда, добравшись до самых высоких нот, мамин голос раздваивается, и она «поет хором» с собой.
«Крисси Крисвоти неподражаема, — читала я, — слух о ее таланте распространяется с молниеносной быстротой». Журналист в интервью спросил маму, что она имеет против текстов, и она ответила: «Думаю, голос — сам себе язык». На вопрос о будущем она сказала, что в скором времени собирается выйти замуж (счастливый избранник, видимо, менеджер Питер Зильберман? — предполагает журналист), переехать в Нью-Йорк и записать свой первый диск.
(В статье ни слова о дочери, но…)
В той же газете есть заметка о Мэрилин Монро: накануне вечером, одетая в сексуальное платье «в облипку», она пела «Happy Birthday» для президента Кеннеди, а когда вернулась в гримерку, едва не потеряла сознание. Я ее понимаю — мой килт иногда так впивается в талию, что бывает трудно дышать. Так вот, о Мэрилин: чтобы спасти актрисе жизнь, пришлось немедленно, прямо на ней, разрезать на куски наряд стоимостью в двенадцать тысяч долларов.
Я читаю все лучше и быстрее, читаю так, как будто от этого зависит моя жизнь, чтение — единственное, в чем я талантлива, если бы меня лишили чтения, я умерла бы от апоплексического удара.
Истории о собаках, которые проходят сотни километров, преодолевают горы, леса и реки, чтобы добраться до дверей родного дома и найти хозяина.
Истории о блуждающих по пустыне людях, которые сходят с ума от жажды, рот у них пересох, губы растрескались, они видят вдалеке оазис, но это мираж, там ничего нет, если человек видит миражи, его ждет верная смерть.
Истории о людях, сбившихся с пути на Крайнем Севере, бредущих по снегу, засыпающих в сугробе, как в собственной постели. А еще «Легенда о Сэме Макги» — совсем другая история о том, как человек замерз до смерти по пути на Северный полюс, товарищи бросили его труп в печку и ушли, а когда вернулись, он спокойно курил трубку и грел ноги перед огнем:
И он сказал мне, смеясь, умирая от хохота: «Закрой-ка дверь поскорее, прошу, Не впускай сюда ветер, что лоб леденит. Я впервые с тех пор, как покинул Теннесси, Забыл о своих несчастиях и бедах, Мне впервые тепло, даже жарко!»…Вот это меня развеселило.
Над историей о Маленьком Негритенке Самбо я тоже смеялась, больше всего мне понравилось, как он дразнил тигров, а они, вместо того чтобы сожрать его, бегали вокруг дерева и кусали друг друга за хвост, они бежали все быстрее и быстрее, так быстро, что не видели собственных лап, и в конце концов превратились в один большой, мягкий, полосатый комок.
Я обожаю книги, где кто-нибудь из героев умирает.
Я воображаю мамину смерть, сотни людей, явившихся на ее похороны, бабушку с дедушкой на краю могилы — у них опечаленные лица, а я им говорю: «Ну почему вы не были такими милыми, когда она была жива?»
В мае мой средний балл составляет восемь из десяти, что совсем неплохо, но потом я совершаю ужасную ошибку. Переодеваясь в раздевалке после урока физкультуры, я стягиваю спортивное трико вместе с трусиками — всего на две секунды, но непоправимое происходит: «Что это у тебя на попке, Сэди?» — спрашивает Хитер, нацелив палец на мою родинку. «Ух ты! Смотрите все!» Я не успеваю прикрыться, все девочки видят пятно, они смеются, а я чувствую себя жалким ничтожеством. Враг в ярости, я знаю, он накажет меня за предательство, и так оно и происходит: когда я возвращаюсь домой, он не позволяет мне съесть полдник, не дает даже в зеркало на себя посмотреть, а сразу приказывает сто раз крепко стукнуться головой об стену. «Думаешь, мать тебя заберет? — ехидничает он. — Ха-ха! Ты этого не заслуживаешь, ты даже одеться и раздеться толком не можешь, вот и останешься до конца дней в этом доме».
Неужели из-за одной ошибки я лишусь всех набранных очков?
Вечером я чувствую себя оглоушенной — сто ударов есть сто ударов! — и играю на пианино еще хуже, чем всегда, едва прикасаюсь к ужину, и бабушка спрашивает, как я себя чувствую, но я не могу признаться, я не имею права никому ничего сказать о том, что произошло, но в этот момент звонит телефон, и я кидаюсь на кухню, чтобы ответить.
— Я слушаю…
— Сэди, крошка! Я вернулась!
— МАМА!
Врывается бабушка, отнимает у меня трубку, не преминув прошипеть: «Кто позволил тебе подходить к телефону? Ступай, закончи ужин! — после чего произносит ледяным тоном: — Удивляюсь тебе, Кристина, неужели ты забыла, что мы всегда садимся за стол в четверть седьмого?» Мама, судя по всему, не удостаивает ее ответом — миг спустя бабушка восклицает «Что-о-о?» и театральным жестом захлопывает дверь. Целых десять минут дедушка ест в гордом одиночестве, я жду, но мы не разговариваем.
Бабушка возвращается, и я понимаю, что ее застигли врасплох: она сидит, опустив глаза в тарелку. «Кристина не только выходит замуж за этого Питера… — обращается она к дедушке. — Не только хочет, чтобы все мы пришли на их свадьбу… но и собирается увезти Сэди в Нью-Йорк».
Меня покрывает мягкое, пушистое облако счастья, словно само Небо вздохнуло от облегчения и удовольствия.
Ха-ха! Итак, мои усилия не были напрасны. Несмотря на ошибку в раздевалке, у меня получилось. Я покину этот дом и заживу наконец настоящей жизнью.
Все теперь не важно. Пусть мисс Келли дубасит меня по башке «Полным собранием опусов Людвига ван Бетховена для рояля», пусть девочки в школе берут меня в кольцо, как охотники дичь, указывают пальцем и злобно хихикают, пусть учительница танцев ставит меня в угол, потому что я седьмой раз подряд провалила пируэт… все это не имеет никакого значения: я больше не принадлежу этому миру, я еду в Нью-Йорк!
В начале июня бабушка начинает готовиться к маминой свадьбе. Ее недовольство так велико, что она ходит с поджатыми губами, но все-таки покупает мне новое платье из желтой тафты — пышное, с кружевными вставками и черным пластиковым ремешком. Утром великого дня мы идем в салон, парикмахерша моет мне голову горячей-прегорячей водой и накручивает волосы на бигуди, пришпиливая их розовыми шпильками. Кожа так натягивается, что я готова взвыть от боли. Потом она сажает меня под сушку, и я истекаю потом под обжигающе-горячим гудящим колпаком, бигуди колют и царапают череп, но я терплю, потому что хочу быть красивой на мамином празднике. Меня ждет разочарование: сняв бигуди, парикмахерша так сильно начесывает кудряшки, что я становлюсь похожа на психованную дуру, а потом сооружает пучок à la «шлем Минервы» и заливает его лаком. Я едва узнаю себя в зеркале — такая прическа на голове маленькой девочки просто нелепа. Несколько минут я борюсь с платьем, чулками и туфельками, и наконец бабушка выносит вердикт: «Сойдет».
В церкви полно народу, но я не знаю никого, кроме бабушки с дедушкой да двух или трех маминых друзей, которых видела у нее в тот памятный апрельский день. Бабушка напряжена до предела, она молчит и смотрит прямо перед собой, и я тихонько спрашиваю Питера:
— Почему ты женишься в церкви, если не веришь в весь этот вздор?
— Твоя мама сказала мне, что это театр, — отвечает он. — Спектакль о свадьбе, понимаешь? У каждого своя роль. Кстати, у тебя потрясное платье.
— Спасибо. — Я благодарна Питеру за его маленькую ложь. — Твой костюм тоже ничего.
— Ну так вот… когда наступит мой «выход», я поднимусь, надену Крисси кольцо и произнесу «Да». И знаешь, Сэди…
— Что?
Он наклоняется еще ближе и произносит заговорщическим тоном:
— Я выучил свой текст наизусть.
Я прыскаю от смеха, и бабушка немедленно дает мне тычка локтем по ребрам. Орган с надсадным свистом заводит «Свадебный марш» Мендельсона, и все оборачиваются, чтобы посмотреть, как дедушка медленно ведет маму по центральному проходу. На ней совсем простое платье — белое, длинное, без рукавов, золотистые волосы заплетены в косички и украшены белыми цветочками. В мире никогда не было невесты красивей.
— Смотри, — шепчет Питер, — твоя бабушка плачет, точно в нужный момент! Теперь мой выход. Я боюсь. Так что я должен сказать?
— «Да».
— Ну конечно. «Да». «Да». «Да».
Он медленно идет к алтарю — и через несколько мгновений актер, играющий роль священника, объявляет, что отныне моя мама и Питер Зильберман связаны священными узами брака.
Свадебный прием сражает меня наповал количеством еды. Гости курсируют между столами, угощаясь разнообразными маленькими пирожками. За все, конечно, заплатили родители Питера — они богачи, мои бабушка с дедушкой ни за что не стали бы тратить деньги на все эти фаршированные рулетики, хрустящие слоеные шарики и сочащиеся медом сласти. Я пользуюсь случаем — бабушка не станет выговаривать мне при людях — и объедаюсь, млея от наслаждения и приказав Врагу заткнуться: ну да, я знаю, что ем слишком много, но мама ведь не каждый день выходит замуж!
Среди гостей есть несколько малышей и подростков, но только я достаю взрослым до пояса и, расхаживая по залу, улавливаю много неаппетитных запахов.
Отец Питера стучит ножом по бокалу с шампанским — он хочет произнести тост, следом слово берет дедушка, потом настает черед новобрачного. Я слушаю речи и вспоминаю слова Питера о театре. Может, люди играют роли не только на свадьбах, но вообще всю жизнь? Может, консультируя сумасшедших, дедушка играет роль психиатра, а мисс Келли играет роль злой учительницы музыки, когда бьет меня линейкой по пальцам? Может, в глубине души каждый из них — кто-то другой, но всех заставили выучить реплики, всем выдали дипломы, и они идут по жизни, играя роли, и так к этому привыкают, что не могут остановиться?
Мама — другое дело. Чтобы играть роль певицы, нужно быть певицей, тут не смошенничаешь. Наверное, моя мама — единственная из всех не притворяется, она — та, кто она есть на самом деле.
Додумав эту мысль до конца, я решаю пойти в сад, чтобы выяснить, какую еду можно раздобыть там, и — бац! — врезаюсь в застекленную дверь: я думала, створки распахнуты, а они были плотно закрыты. От удара у меня перехватывает дух, ужасно больно нос, но главное — во все стороны летят осколки. На меня смотрят оторопевшие гости, официанты торопятся убрать стекло, а Враг объявляет: «Ты наказана за чревоугодие».
«Ох, Сэди! — восклицает бабушка, но быстро справляется с раздражением и говорит совсем другим тоном: — Иди ко мне, быстренько!» У меня течет кровь, и она хочет утереть ее салфеткой, пока я не испортила новое желтое платье.
К счастью, отец Питера делает знак оркестру, чтобы отвлечь внимание публики от досадного происшествия, и музыканты играют вальс. Новобрачные кружатся по залу, а потом мама делает невероятную вещь: они с Питером «подруливают» к нам с бабушкой, подхватывают меня на руки (прическа à la «шлем Минервы», воланы из тафты, пластиковый ремешок и нос в крови) и продолжают танец. Когда музыка смолкает, мама и Питер ставят меня на стол, прямо на белую скатерть (они могут делать все, что захотят, это их день), берут за руки, поворачиваются к толпе, и мама гордо провозглашает. «Представляю вам новую семью: Питера, Кристину и Сэди!» Гости бурно аплодируют, а я смотрю на бабушку с дедушкой — у них на лице привычное скорбно-натянутое выражение, словно им все равно, чем заниматься — праздновать свадьбу дочери или сидеть в сортире.
Остаток июня превращается в долгую череду «последних разов».
Я в последний раз меняю белье в этом доме (подстилку — в грязное, простыню — на место подстилки, чистая простыня — поверх подстилки: таково незыблемое бабушкино правило насчет белья, хотя менять обе простыни каждые две недели было бы куда проще). Мисс Келли в последний раз портит мою музыкальную тетрадь своей мерзкой фиолетовой ручкой! Я в последний раз вешаю на гвоздь балетные тапочки, килт и скаутскую форму, накрываю клавиатуру вышитой дорожкой и закрываю крышку пианино.
Дедушка выходит к завтраку и усаживается за стол со словами: «Боже, и зачем только я выбрал эту профессию? Уму непостижимо!» Он произносит эту фразу не в последний раз, но я ее больше не услышу, и внезапно она меня почти умиляет. Бабушка просит меня вытереть посуду, и я почти наслаждаюсь этой работой, потому что прикасаюсь к белым с золотом чашкам и тарелкам в последний раз.
2 июля бабушка собирает мою одежду и аккуратно складывает все в коробки; 3 июля перед домом останавливается машина Питера, и оттуда выскакивает мама. Два часа спустя мы переезжаем американскую границу и на скорости минуем город Рочестер, штат Нью-Йорк.
Я была так возбуждена предстоящим отъездом, что ночью почти не спала и в какой-то момент почувствовала себя отяжелевшей и задремала, приклонив голову на коробку с книгами. Я открыла глаза, потому что мне стало жарко и ужасно разболелась голова. Мама с Питером что-то тихо обсуждали.
«Если ты и правда хочешь, чтобы мы стали семьей, — говорит Питер, — вы обе должны взять мою фамилию. Это все упростит. Господин и госпожа Зильберман и их дочь Сэди Зильберман».
Я потрясена: во-первых, Питер — не мой отец, а фамилии настоящего отца я не знаю; во-вторых, фамилию Крисвоти я получила от мамы, а она — от своего отца — психиатра с улицы Маркхем. Может, если я сменю и имя, и страну, Враг больше никогда меня не найдет?
— Думаешь, я стану зваться госпожой Зильберман?
— Думаю, — отвечает Питер сквозь зубы (и я понимаю, что он прикуривает сигарету), — ты могла бы сохранить имя Крисси Крисвоти как сценический псевдоним. Двойные инициалы легко запоминаются: Мэрилин Монро, Брижит Бардо, Дорис Дей… Но все остальное время — например, на родительских собраниях — будешь почтенной «госпожой Зильберман».
Мама хихикает:
— Вряд ли я буду часто попадать на родительские собрания! Кстати, я решила взять для сцены другое имя.
— Да ну…
— Вот тебе и ну…
— Может, поделишься какое?
— Эрра.
— Как-как?
— Эрра.
— Повтори по буквам.
— Э-Р-Р-А. Эрра.
— Это не имя!
— Теперь — имя!
Мама начинает напевать странным низким голосом — готова поклясться, что она гладит пальцем свою родинку.
— Ты не можешь так поступить, моя милая, — говорит Питер. — Я потратил два года жизни на раскручивание Крисси Крисвоти!
— Знаешь, Питер, кольцо, которое ты мне надел, не дает тебе права командовать.
— Я говорю с тобой не как муж, а как твой менеджер.
— Менеджер-шменеджер! Артистка здесь я, и решения принимаю я: менеджер без артиста — жалкий безработный. Согласен?
Питер не отвечает.
— Так вот, — продолжает мама, — сейчас идеальный момент для того, чтобы сменить имя. Крисси Крисвоти была канадской певицей — ее известность в Канаде и останется. А Эрра прославится во всем мире.
— Где ты раскопала такое имя? — Питер качает головой.
— Эрра, — повторяет мама, и голос ее звучит очень твердо. Она оборачивается, видит, что я не сплю, и спрашивает, что я об этом думаю.
— Что я думаю о чем?
Я тру глаза, чтобы она поверила, будто я только что проснулась.
— О том, чтобы поменять имя. Хочешь зваться Сэди Зильберман?
— Питер меня удочерит?
— Хотел бы, да не могу, крошка, — бросает Питер. — Твой папа все еще жив.
— Значит, нам всем придется врать?
— Врать? Нет, что ты, конечно, нет.
— То есть это будет как в театре?
— Именно так! Ты все правильно поняла. Ты станешь играть роль Сэди Зильберман. Что скажешь?
— Класс! — отвечаю я.
Питер хмыкает, гася окурок в пепельнице.
— Как бы то ни было, Сэди — хорошее еврейское имя, — сообщает он. — «Принцесса» на иврите.
— Да ну? — удивляется мама.
— Ты не знала?
— Представь себе — нет.
— Так почему назвала дочь Сэди?
— Мне просто понравилось имя.
— Ну вот, теперь она будет носить его по праву. Беда с вами, неверными, все приходится объяснять.
Не знаю, почему он называет нас «неверными», но мне впервые в жизни нравится имя Сэди: принцесса — а вовсе не «печаль» и не «садизм».
— А я, — добавляет мама, — отныне и навсегда буду называть себя на сцене Эррой. Не возражаешь?
— Почему нет? — Я усаживаюсь поудобнее — руки и ноги у меня затекли, но на душе легко. Все хорошо, только писать хочется.
Мое первое впечатление от Манхэттена — так себе местечко. Огромный остров напоминает спрута, как и Торонто, но хуже. Первый блин проходит комом, потому что Питер не там поворачивает, мама ехидным тоном произносит: «Поздравляю!» — и в машине на несколько минут повисает напряженное молчание. В конце концов мы находим дом на улице Норфолк. Квартира на шестом этаже без лифта, зато недорого, потому что друг, сдавший ее Питеру, недавно умер от передоза.
Стены выкрашены в черный цвет с желтыми панелями, на окнах черные с желтым занавески, а потолок ярко-красный.
— Потрясно! — комментирует Питер.
Тут есть пианино — иначе мама ни за что не согласилась бы ехать. Она сразу идет к инструменту — проверить, как он настроен.
Пыхтя и охая, мы тащим вещи по лестнице, и я вдруг понимаю, что прежняя жизнь с бабушкой, дедушкой и Хилари стала далеким, почти забытым воспоминанием. В квартире всего одна спальня, и ее отдают мне; мама с папой (я привыкаю называть Питера папой) будут спать на раскладном диване в гостиной. Я высовываюсь из окна и смотрю, что делается на улице: на тротуаре много детей, они во что-то играют, повсюду мусор — отбросы, объедки, собачье дерьмо. В воздухе витает странный запах — и он мне нравится.
Идти за покупками слишком поздно, и мы отправляемся ужинать в китайский ресторан. Питер учит меня есть палочками, но они не желают слушаться, падают на пол, и официант приносит вилку. В самом конце каждый получает пирожок с предсказанием. На бумажке Питера написано: «Вас ждет удача». Мое предсказание — «Наслаждайтесь новой зизнью» — производит на меня ошеломляющее впечатление, несмотря на орфографическую ошибку.
Мама и Питер, он же папа, не придумали никакой специальной «детской» программы на лето, и меня это совершенно устраивает. Они сами с утра до вечера торчат в звукозаписывающей студни, их это заводит, и настроение у них отличное. Недалеко от нашего дома есть библиотека, мама таскает мне оттуда книги целыми стопками, и лето превращается в бесконечное райское наслаждение: я могу есть, читать и спать, сколько захочу, а правил никаких никто не устанавливает. Ну а внутренние… если Враг и следит за всеми моими словами и поступками, он пока не вылезает, не ругается, не заставляет причинять себе боль. Я даже ухитряюсь одеваться без особых мучений, хотя летом это всегда легче.
Ну и вот, я впервые за всю свою жизнь живу «семьей» — и мне ужасно нравится. Каждое утро, когда солнце будит меня, заглядывая в окно комнаты, я отправляюсь в гостиную щекотать Питеру и маме пятки. Они ворчат и брыкаются. Странно видеть голую маму в постели с голым мужчиной, но такова семейная жизнь, и она мне подходит.
Я учусь варить кофе, красиво расставлять на подносе чашки, сливки, сахар и относить им в постель.
Питер по-настоящему добр ко мне, он и правда очень милый. Придумал для нас игру: он берет меня за руки, я подпрыгиваю на месте, потом одним скачком усаживаюсь ему на пояс, обнимаю ногами за талию, откидываюсь назад, достаю волосами до пола, вытягиваю ноги буквой «V» на груди у Питера, он тянет меня вверх, я забрасываю ноги ему на шею, делаю переворот и спрыгиваю на пол. Такая вот забавная игра. Питер шутит, что я ужасно тяжелая, притворяется, будто совсем выбился из сил.
В скором времени у мамы образуется новый круг друзей — точная копия тех, кто крутился вокруг нее в Торонто: бородатые, всклокоченные обожатели ее голоса. Они приходят вечером, пьют вино, курят травку и слушают пластинки. Если мне хочется спать, я ухожу к себе, закрываю дверь и ложусь, а если становится интересно, что происходит у взрослых, всегда можно подсмотреть в замочную скважину.
Наш дом часто напоминает проходной двор, но, как говорит мама, никто не совершенен! Когда беспорядок грозит превратиться в стихийное бедствие — вся посуда грязная, стираного белья тоже нет, — мама со всем пылом, на какой способна, начинает убираться. Она скребет, моет, подметает, гладит и вытряхивает коврики в окно, распевая во все горло на собственный манер хиты Пола Анки: «Put your hed on my boulder!»[4]
29 июля мы празднуем мой седьмой день рождения походом в зоопарк в Бронксе. Когда я устаю, папа сажает меня на плечи. До ужаса здорово смотреть на мир с такой высоты, чувствовать, как щекочут кожу папины волосы, как крепко держат меня за лодыжки его пальцы. На обратном пути мы заходим в кондитерскую, и мама покупает мне пирожное. К моему удивлению, оно оказывается в тысячу раз вкуснее всех бабушкиных тортов, вместе взятых. Я сообщаю о своем открытии маме, и она отвечает, что у бабушки слишком тяжелая рука, а всем остальным ингредиентам она предпочитает чувство вины.
Через несколько дней становится известно, что Мэрилин Монро свела счеты с жизнью, и это кажется невероятным: совсем недавно она расстраивалась из-за слишком узкого платья! Я наблюдаю, как мама с папой смотрят телевизор, они потрясены, и это меня удивляет: упади на Торонто ядерная бомба, бабушка с дедушкой только головой бы покачали с видом крайнего неодобрения.
Сегодня воскресенье, и мама валяется в постели аж до одиннадцати утра. Папа говорит: «Может, пойдем что-нибудь пожуем?» Мы выходим на улицу, держась за руки, и я чувствую себя ужасно гордой, и полной сил, и самой главной. Мы идем вниз по Дилэнси, потом по Ривингтон и выходим на Орчард: все магазины открыты, прилавки ломятся от товаров — в Торонто такого не бывает. Папа указывает на вывески, и я, раздуваясь от гордости, читаю все подряд: «Ручные сумки Файн и Клейн; Кожгалантерея Альтмана; Шерсть, шелк, сукно Бекенштейна: лучший выбор на свете, пожалеете, если не купите здесь; Кожа оптом и в розницу; Одежда, Ткани, Басон, Трикотаж». Папа довольно улыбается и время от времени останавливается посмотреть, пощупать, поболтать с продавцами, все его поздравляют с красивой маленькой дочкой, и мне совсем не хочется их разубеждать. Папа ведет меня в большой ресторан — он называется «У Каца», и там полно народа, в основном мужчин, и Питер объясняет, что это не ресторан, а «деликатесная»: посетители не садятся за столик, чтобы сделать заказ официанту, а стоят в очереди к прилавку и разглядывают тысячи сортов хлеба, колбас и сыров, выставленных за стеклом. Когда подходит очередь, человек сообщает, что хочет съесть, и ему накладывают все на тарелку.
Папа говорит: «Ладно, детка, пора тебе познакомиться с бейгеле». Он делает заказ, мы устраиваемся с подносом за маленьким столиком в углу, и я с неведомым прежде наслаждением вкушаю хлеб с дыркой посредине, начиненный копченым лососем и мягким сыром. Он говорит:
— Помнишь, ты спрашивала насчет евреев?
Я киваю с набитым ртом, и Питер продолжает:
— Так вот, это одна из самых приятных сторон жизни евреев.
От удивления я проглатываю все разом:
— Это что же, здесь все евреи?
— Почти все, — отвечает Питер. — За исключением нескольких туристов — вроде тебя. По воскресеньям, утром, когда в городе все закрывается — якобы ради посещения церкви! — мы считаем делом чести бурно функционировать, если так можно выразиться.
— Но откуда видно, что они — евреи?
— Нужно не смотреть, крошка, а слушать.
Я снова откусываю от бублика и говорю:
— А я заметила, что они говорят на немецком.
Папа не делает мне замечания за то, что я разговариваю с полным ртом, но поправляет:
— Это не немецкий, Сэди, а идиш.
— Что такое идиш? — спрашиваю я, и он объясняет:
— Язык, на котором когда-то говорили евреи Восточной Европы. Слушай во все уши: никто в мире, кроме этих людей, не владеет языком под названием идиш. Когда ты приведешь к Кацу своих детей, их не останется вовсе.
— А что такое неприятные аспекты?
— О… всему свое время. Не торопи события.
Воскресный поход на завтрак к Кацу входит у нас в обычай. Мы отправляемся в заведение на углу Хьюстон и Ладлоу, и папа позволяет мне пробовать все, что захочу, а я хочу всего: огурчиков в укропном рассоле и маринованных зеленых помидорчиков, огромных бутербродов с солониной, копченым языком или теплой бужениной, бубликов и пончиков, селедки и пиццы с салями, а на десерт — дивного яблочного штруделя.
«Боже, Питер, ты ее избалуешь!» — восклицает мама, когда я перечисляю все, что съела, но папа отмахивается: «Она заслуживает, чтобы ее немножко побаловали после стольких лет спартанского воспитания на Крайнем Севере». Слово «спартанский» мне незнакомо, но я совершенно согласна с папой.
Райская летняя жизнь заканчивается, совсем скоро придется идти в школу. «Ты готова, Сэди? — шепчет Враг, желая меня запугать. — Думаешь, ты готова ко второму классу?» Я говорю себе, что во втором уж точно будет лучше, чем в первом, ведь здесь я пойду учиться в государственную школу с другими детьми из нашего квартала, а не в шикарное дорогое заведение, куда учениц привозят на машинах, где все носят одинаковую форму, одинаково думают и одинаково чувствуют.
Все проходит очень даже неплохо. Новая «я» — Сэди Зильберман — ухитряется вступить в разговор с другими учениками общественной школы № 140 Натана Стросса, и они принимают ее за еврейку. Я рассказываю, что приехала из Канады. Невероятно, но им очень приблизительно известно, где находится эта страна. Я говорю, что Канада больше Соединенных Штатов, а они стучат пальцем по виску: «Чокнутая!» — но я не обижаюсь, пожимаю плечами и спокойно добавляю: «По площади, но населения у вас в десять раз больше, чем у нас». У них челюсть отваливается от того, как много я знаю, но они не завидуют и не злятся. Мне нужно быть повнимательней и найти способ потрясать всех своим умом, не вызывая ненависти, и чтобы меня не посчитали подлизой, как случилось в прошлом году, потому что это было ужасно.
Я говорю маме: «Мне кажется, что я иду по тонкому льду!» — и она отвечает: «Понимаю, со мной было так же, потому что я тоже научилась читать в пять лет». (Я забываю спросить, кто научил ее читать, но уж точно не бабушка и не дедушка!) «Дети не любят тех, кто „выбивается из строя“, — продолжает она. — Но сейчас все они в том же положении, что и ты, пытаются набрать очки. Бога среди них нет, понимаешь, что я хочу сказать?» — «Да», — отвечаю я, и меня захлестывает счастье: как хорошо, что я наконец живу с тем, кто меня слушает и принимает всерьез, а не приказывает то и дело застелить постель или убрать со стола.
Я обгоняю всех одноклассников по всем предметам, так что на уроках мне знаний не прибавляется, зато на перемене я получаю то еще образование! В прежней школе мальчиков не было, зато теперь они учатся со мной вместе, а девочки только о них и говорят. Подозреваю, что мальчишки поступают так же. Я вовсе не наивна: в Торонто я иногда сопровождала дедушку на прогулках с Хилари. Если мы встречали собачку-девочку, штука у Хилари становилась твердой и красной, он начинал жалобно повизгивать и пытался оседлать собачку, даже если она была в три раза крупнее. Выглядело это уморительно. Однажды он уже начал делать это с белоснежной карликовой пуделихой, но дедушка резко дернул за поводок и сделал ему выговор: «Прекратите, молодой человек! — сказал он. — Вы не в том положении, чтобы заводить семью». Я тогда призадумалась: те же слова дедушка сказал о моем отце Морте.
Когда-то, листая дедушкину медицинскую энциклопедию, я нашла рисунки голых мужчин и женщин со странными надписями «уретра» и «матка» на интимных частях тела, а теперь мои одноклассницы все время отпускают шуточки насчет этих самых частей, и я поверить не могу, что это происходит все время, что респектабельные мужчины в костюмах и галстуках ведут себя в точности, как Хилари, стонут и суют свои штуки в респектабельных дам, для того люди и женятся, все пары так себя ведут, даже если не хотят заводить детей, значит, и мама с Питером это делают (я иногда слышу всякие звуки по ночам, но в замочную скважину ничего рассмотреть не могу, потому что в комнате слишком темно). Наверное, даже бабушка с дедушкой этим занимались, иначе как бы родилась моя мама, и каждый из миллионов человеческих существ, живущих на Манхэттене и вообще на земле, появился на свет в результате толчков, прикосновений и слюнявого чмоканья, которое называют поцелуем. Верится с трудом, но это правда.
Мальчики в школе пристают к девчонкам. Когда меня впервые оттаскали за волосы, я пришла в ярость, но потом поняла, что это ритуал приобщения, и научилась, как другие девочки, говорить «Лапы прочь!» тоном, подразумевающим обратное. Я научилась хихикать и строить глазки некоторым мальчикам, давая понять, что они мне нравятся. Иногда мальчишки на перемене гоняются за девочками, вытянув вперед руки, и кричат: «Еврейка! Еврейка!», а те притворяются испуганными, пищат, визжат и убегают с воплем «Нацист! Нацист!». Нацист — новое для меня слово. Я ищу его в словаре, но не нахожу никакой связи между немецкой политической партией и муниципальной школой № 140. Через неделю, в воскресенье утром, я задаю этот вопрос папе в заведении «У Каца».
— Что такое нацист, папа? — спрашиваю я громким звонким голосом. Папа подпрыгивает на стуле и становится красным как рак.
— Тих-хо! — приказывает он, и я замечаю, что на мой вопрос обернулось множество голов. (Тут же вылезает Враг с ехидным замечанием: «Браво, Сэди, ты снова ляпнула глупость, вечно ты все портишь, вот и этого нового друга сейчас лишишься».) Папа уже взял себя в руки, допил кофе, многозначительно подмигнул мне и начал объяснять тихим голосом:
— Нацисты были самым неприятным аспектом жизни евреев. Договорим на улице…
Мы выходим на Орчард и оказываемся среди рулонов мануфактуры, чемоданов, сумок и прочей кожгалантереи. Папа спрашивает, почему я задала такой вопрос, и я рассказываю об игре. Папины брови взлетают вверх, он морщит лоб и пускается в объяснения.
— Нацистами, — говорит он, — были немцы, которые хотели, чтобы евреи исчезли с лица земли.
— Почему?
— Потому что они евреи.
— Но почему, папа?
— Потому что гораздо легче заставить людей быть глупыми, чем учить их быть умными и интеллигентными. Если сказать, что все беды — от евреев, людям становится легче, это они понять способны. Правда слишком сложна для большинства людей.
— Ты хочешь сказать, что они их убивали?
— Да! — отвечает Питер, покупая в киоске «Санди таймс», а это значит, что мы скоро пойдем домой, газету он всегда покупает в последний момент, потому что она весит целую тонну.
— А как же ты от них сбежал?
— К счастью, до евреев Торонто у нацистов руки не дошли, — смеется он. — Но они убили моих бабушку и дедушку в Германии.
— Твоих бабушку и дедушку?
Питер кивает. Он ищет взглядом, за что бы зацепиться, чтобы сменить тему, и я выпаливаю еще три вопроса:
— Как они их ловили? Как убивали? Скольких убили?
Папа взъерошивает мне волосы и говорит:
— Послушай, детка, не забивай себе голову. К тебе все это не имеет никакого отношения. Но… ради меня… не играй больше в ту игру, ладно? Если другие начнут, найди себе занятие на другом конце школьного двора. Договорились?
— Договорились. — Я даю обещание серьезно и искренне, хотя ум мой в смятении из-за услышанного.
Той осенью «Санди таймс» и все остальные газеты сообщают, что миру грозит страшная опасность, потому что на Кубу привезли советские ракеты. «Холодная война» рискует перейти в «горячую», но президент Кеннеди решил держаться твердо и не спустит русским их поведения. В школе мы почти каждый день репетируем, как будем себя вести во время воздушного налета, многие люди готовятся к Третьей мировой войне и строят убежища.
Питер с мамой не поддаются всеобщей панике и насмехаются над происходящим. Как-то за ужином они рассказывают мне, что электрическая компания «Вестингхаус» зарыла под гранитной плитой в парке «Флэшинг Мидоу» капсулу-напоминание: если человечество будет уничтожено, а через тысячи лет на Землю прилетят инопланетяне и захотят узнать, как жили обитатели планеты, они увидят типичную для 1962 года квартиру в целости, сохранности, со всей обстановкой, одеждой и домашней утварью. Питер и мама весело хохотали, представляя, как марсианин сует длинные зеленые пальцы в электрический вентилятор, чтобы посмотреть, как тот работает.
На обложке маминого диска огромными золотыми буквами написано ее новое имя — ЭРРА. Мне очень нравится фотография — она поет, закрыв глаза и вытянув вперед руки, как будто приглашает всех разделить ее радость. Звукозаписывающая компания организует концерт и по всему городу расклеены афиши с маминой фотографией.
Когда я просыпаюсь наутро после концерта, мама с Питером пьют на кухне шампанское — они не спали всю ночь.
— Жаль, что ты этого не видела, милая! — говорит мне Питер. — Потолок едва не обрушился от оваций!
Он поднимает меня и кружит, пока я не начинаю верещать, потом дает пригубить шампанского, потому что это воистину великий день.
Мама целует меня в лоб и торжественно объявляет:
— Это только начало, зайчонок, обещаю тебе.
Я завтракаю, а Питер дразнит маму из-за ее манеры трогать родинку во время пения (он, должно быть, слегка пьян, иначе не решился бы ее поддевать).
— Зачем ты так делаешь? — спрашивает он. — Это как камертон или что?
— Нет, — отвечает она, — это талисман. У Сэди есть… — Увидев ужас в моих глазах, мама умолкает.
— Что есть у Сэди? Родинка? — переспрашивает папа.
— Нет, нет, талисман, — небрежно бросает мама. — Маленький камешек в форме сердечка, она держит его при себе уже… как давно он у тебя, дорогая?
— Ну… три года, — отвечаю я, потрясенная тем, как легко солгала моя мать и как просто она позволила солгать мне.
— Три года! — повторяет мама. — Представляешь? Половину ее короткой жизни!
После завтрака я ищу в словаре слово «талисман» и нахожу его значение: вещь, «которую считают наделенной волшебной силой». Я бы хотела иметь талисман, но у меня его нет.
Проходит несколько дней, и папа улетает в Калифорнию — на целый месяц, чтобы организовать концерты Эрры. Я по нему скучаю, особенно по утрам в воскресенье, но это здорово — единолично владеть мамой. Иногда, укладывая меня спать, она устраивается рядом, и мы лежим в темноте и долго разговариваем. Однажды вечером я наконец решаюсь спросить, кто научил ее читать в пять лет, а она говорит:
— Знаешь, что? В «Мэдисон Сквер Гарден» дают классное представление на льду. Хочешь пойти?
Я осознаю, что мама ловко сменила тему, потому что не хочет отвечать, но вопрос повторить не решаюсь.
Декабрь, воскресный вечер, идет снег — крупные пушистые хлопья кружатся в воздухе, медленно опускаются на землю. Кажется, что кто-то заколдовал наш квартал и все погрузилось в сон, люди сидят по домам, снег бархатной шкуркой припорошил мусор и собачьи какашки. Фонари зажигают в четыре часа, я стою у окна, любуюсь красотой и покоем улицы Норфолк, и тут раздается звонок в дверь.
Пауза. Звонят снова. Я выхожу в гостиную и понимаю, что мама не слышит, потому что наливает себе ванну, отвернув краны на полную катушку. Я подхожу посмотреть, кто к нам заявился, и обнаруживаю дядьку, совершенно непохожего на друзей моих родителей. Он светловолосый, бледный и ужасно худой, щеки у него впалые, а челюсти так крепко сжаты, что на скулах ходят желваки. Я даже слегка пугаюсь и решаю сказать: «Вы, наверное, ошиблись адресом», но тут он спрашивает — громко и как-то неуверенно:
— Эрра дома?
Он иностранец — грассирует «р». Я не отвечаю: он мог вчера вечером влюбиться в маму на концерте — вот и заявился, а папы нет, уехал в Калифорнию.
— Эрра дома? — Он почти кричит, как будто куда-то опаздывает. — Скажите ей… скажите — это Лют.
Тут я пугаюсь всерьез. Что делать? Как поступить?
— Подождите.
Я захлопываю дверь перед носом у незнакомца, и он начинает дубасить по ней кулаком. Я стрелой лечу в ванную, где мама нежится в душистой пене.
— Мама!
У меня такой странный — придушенный — голос, что она мгновенно поворачивает голову:
— Что случилось, Сэди?
Пар от горячей воды окутывает меня, заполняет рот и нос, и я забываю все слова на свете, но потом собираю волю в кулак и лепечу:
— Там, за дверью, человек, он хочет тебя видеть. Сказал, что его зовут Лют.
— Люк? — переспрашивает мама, хмуря брови.
— Нет, не Люк: Лют.
Мама замирает и смотрит мне прямо в глаза, но я чувствую: она сейчас так же далеко, как в тот день, когда я рассказала, что меня лупят линейкой. Она опускает глаза и шепчет:
— Лют… — Я едва ее слышу, но вижу, что она прикасается правой рукой к родинке, как будто собирается петь. — Лют… Не может быть…
— Кто это, мама? — спрашиваю я тихим голосом. — Ты его знаешь? Он меня напугал, и я его не впустила.
— Ох, Сэди, ты не должна была! Иди, попроси его войти, усади поудобней и скажи, что я сейчас буду.
Я впускаю мужчину, вежливо произношу: «Садитесь, прошу вас», но он не понимает, и я кивком указываю на кресло. Он присаживается на краешек, не спуская глаз с двери ванной, а я отхожу, чтобы оказаться поближе к двери своей комнаты. Мама выходит из ванной: в длинном черном бархатном халате, с растрепанными влажными волосами она похожа на привидение или на Маленького Принца. Незнакомец поднимается, они стоят, смотрят друг на друга и молчат.
Никогда, даже в те годы, когда мы не жили вместе, она не выглядела такой чужой, ее словно загипнотизировали, заколдовали. Наконец она шепчет: «Янек», хотя мужчина сказал, что его зовут Лют, я совершенно ничего не понимаю, и мне это не нравится. Я кашляю, чтобы вывести маму из транса, заставить взять себя в руки, реагировать, как все нормальные люди («Ну надо же! Какая приятная неожиданность! Сколько лет… Хотите что-нибудь выпить? Может, чаю?») Но все получается совсем не так. Мама поворачивается ко мне — медленно, так медленно! — и глаза у нее стеклянные, как будто в нее вселилась душа покойника, она смотрит, но не видит, и говорит — нет, шепчет:
— Сэди… Иди в свою комнату, закрой дверь и сиди там, пока я тебя не позову.
Мамины слова звучат, как пощечина. Я отшатываюсь, но подчиняюсь и назло ей не только закрываю дверь, но еще и поворачиваю ключ в замке: пусть знает, какая у нее послушная дочь. Потом беру с кровати подушку, кладу ее на пол перед дверью, опускаюсь на колени, вынимаю ключ и наблюдаю.
Это напоминает театральное действо. Мама и незнакомец с минуту стоят неподвижно, не произнося ни слова, потом мама медленно, как лунатик, подходит к нему, он протягивает руки, и она кидается в его объятия, белокурый мужчина прижимает ее к груди, из глаз у него льются слезы. Мама тоже начинает плакать, а потом еще и смеяться. Я сражена — она обращается к мужчине на незнакомом языке. Это может быть идиш или немецкий, они произносят отрывистые фразы, и рыдают, и смеются, и тяжело дышат, не сводя глаз друг с друга.
Так они стоят несколько бесконечно долгих минут, и все это время на улице за моей спиной идет снег. Мама поднимает руки и гладит мужчину по лицу, произнося что-то вроде «мой Янек, мой Янек», но на самом деле она говорит не «мой», а «майн», и он тоже шепчет ее имя — настоящее, не Эрра, только на этом языке оно звучит немного иначе, вроде «Кристинка». Он тянет за пояс ее халата — тот подвязан оранжевым шнурком, узел развязывается, мужчина медленно раздвигает полы, обнажив мамину грудь, и начинает целовать ее в шею, мама откидывает голову назад, он целует ямочку, где бьется синяя жилка, а я смотрю, как завороженная, она что-то говорит на том самом языке, который выталкивает меня из их маленького мирка, и целует мужчину в губы, расстегивает ему рубашку, берет белокурую, как у Маленького Принца, голову в ладони, передергивает плечами, и халат падает на пол. Теперь мама совершенно обнажена, а мужчина совсем одет.
Она раскладывает диван-кровать (ту самую, на которой каждую ночь спит с папой), а мужчина медленно раздевается — догола, и я вижу его стоящую и раскачивающуюся штуку.
Он становится коленями на кровать, и мама, к ужасу моему, делает то же и берет это в рот, а у меня к горлу подступает тошнота, и я покидаю свой пост у двери, сердце у меня бьется сильно-сильно, я пытаюсь успокоиться и смотрю, как кружатся под фонарем мохнатые снежинки. Когда я снова приникаю к замочной скважине, мама стоит на четвереньках спиной к незнакомцу, а он удерживает ее руки, как в наручниках, а сам входит и выходит, как Хилари с карликовым пуделем, только медленнее, и не скулит, а что-то тихо говорит на незнакомом языке. Мама выгибается дугой, из ее горла рвется какой-то немыслимый звук — то ли стон, то ли хрип, я зажигаю свет и ложусь в постель, дрожа всем телом. Враг просыпается, он силен, как никогда, он готов разрушить меня изнутри, окончательно уничтожить. «Сэди, — говорит он, — ты примешь то, что происходит, потому что ты плохая девочка и лгунья и твоя мать плохая и всегда врет, а ты унаследовала все ее пороки. Ты в полной моей власти, как и она, и будешь грешить всю жизнь. Я никогда не отпущу тебя, Сэди!» Меня трясет и колотит. «Вставай, — приказывает он. — Не шуми, не беспокой свою мамочку-шлюху, она тоже мне подчиняется, пусть предает мужа по полной программе — по полной, поняла? Давай, взбодрись, иди в шкаф, закрой за собой дверь, стукнись сто раз об стенку головой — и не забудь посчитать удары».
Я подчиняюсь. Меня трясет и тошнит при мысли о том, чем сейчас занималась, а может, и до сих пор занимается мама. Отсчитав сто ударов, я выхожу из шкафа. У меня кружится голова, и я ужасно хочу писать, но мама велела мне оставаться у себя, и я не знаю, как быть, ищу что-нибудь вместо горшка, но нахожу только стакан для цветных карандашей, выбрасываю их, спускаю брюки и трусы, присаживаюсь и пытаюсь пописать, струйка течет по полу, я вытираю лужу салфетками — но куда теперь девать эту гадость! — сегодня худший день в моей жизни, потому что я больше не смогу доверять моей маме.
Дальше я ничего не помню, потому что заснула и не знаю, сколько прошло времени, но потом мама начала стучать в дверь и звать: «Сэди… Сэди… Ужин готов!» — и я быстро кладу подушку на место, иначе мама узнает, что я шпионила.
— Зачем ты заперлась? — спрашивает она, замечает валяющиеся на полу грязные салфетки, понимает, в чем дело, и произносит: «Ох, детка, прости меня!» — но я не отвечаю. Иду в ванную мыть руки, оставив ее убираться, ведь это она во всем виновата, и я ее ненавижу.
За едой (макароны с сыром) я продолжаю дуться, а она не спрашивает, в чем дело, потому что и так все понимает, но потом все-таки кладет вилку и говорит:
— Сэди, для девочки твоего возраста ты очень многое понимаешь, но есть вещи, которых детям не понять, и я не обязана ничего тебе объяснять.
Я молчу, и она говорит:
— Не сердись, радость моя.
Мне хочется помучить ее еще немножко, и я продолжаю поглощать макароны, а потом спрашиваю:
— На каком языке вы разговаривали?
— Пытались говорить на немецком… — со смехом отвечает она. — Но мы оба почти все забыли — слишком много времени прошло.
— Где ты выучила немецкий? — спрашиваю я, боясь — сама не знаю почему — услышать ответ.
Она долго молчит. Тяжело вздыхает. Потом говорит:
— Ох, Сэди, понимаешь… когда-то давно я была немкой.
Она смотрит мне прямо в глаза, хотя мыслями витает где-то далеко, и произносит несколько странных слогов. Я спрашиваю:
— Что это было?
И она объясняет с тихим смешком:
— Немецкий алфавит задом наперед!
Я не знаю, что мне делать с этой информацией, у меня нет желания задавать новые вопросы, я просто хочу, чтобы этот день закончился, пусть бы он и вовсе не начинался, и Питер не уезжал бы в Калифорнию, и все это оказалось бы дурным сном. Я иду спать, но мозги у меня кипят, вопят и стонут, как лежащий внизу город, по которому носятся, завывая сиренами, машины «скорой помощи», пожарные и полицейские. Если мама — немка, значит, Крисвоти не ее родители, то есть мне они — не бабушка с дедушкой, но она-то — моя мама, а раз моя мама — немка, то и я наполовину немка. «Теперь ты знаешь, в чем корень зла, — шепчет Враг, — ты живешь во лжи с того самого дня, как появилась на свет», — но вдруг она все-таки не моя мама…
На следующий день, на перемене, один мальчишка носится за мной и дразнится: «Еврейка! Еврейка!» — но я пообещала Питеру больше не играть в эти игры и пытаюсь убежать, спотыкаюсь, падаю, ударяюсь коленкой, бреду в медпункт, сестра снимает с меня чулок, и я вижу кровь и слышу, как Враг злобно хихикает и радуется: «Нацистская кровь, Сэди! Нацистская кровь!»
IV. КРИСТИНА, 1944–1945
Нескончаемое удивление и восторг.
Порази меня, говорю я миру.
Взбодри меня, ослепи, обмани, вскружи навечно голову.
Бабушкина шкатулка для драгоценностей: переворачиваешь, вставляешь ключ, чтобы завести, хорошенько придерживая крышку, потом осторожно открываешь, звучит тихая музыка, и прелестная бело-золотая балеринка начинает кружиться перед крошечным зеркальцем, держа одну руку над головой, а другую перед собой. Балеринка неживая, но она движется. «Настоящие балерины, — объясняет бабушка, — могут исполнить на пуантах аж пятьдесят пируэтов, каждый раз, оказавшись лицом к публике, они смотрят прямо в зал, чтобы удержать равновесие. Может, попробуешь, Кристина?» Я пробую, не на одной ноге — на двух, сложив руки на груди, но меня хватает ненадолго, и я падаю на пол, запыхавшись, но в восторге. «Возможно, тебе придется взять несколько уроков, дорогая», — смеется бабушка.
Балерина сторожит бабушкины драгоценности: в нижнем отделении, на красном бархате, лежат сверкающие ожерелья и браслеты, в верхнем — кольца и серьги. Бабушка учит меня отличать настоящие бриллианты от стразов: когда на них падает свет, они рассыпаются радугой цветов. Иногда она разрешает мне примерить ее диадему, я смотрю на себя в зеркало сквозь ресницы и на мгновение кажусь себе прекрасной, как принцесса.
Дедушка купил нам с Гретой по маленькой ветряной мельничке с разноцветными крыльями: когда бежишь, они крутятся, и чем быстрее бежишь, тем быстрее крутятся, а если бежишь по ветру, крутятся так стремительно, что цвета перемешиваются. То же происходит иногда у меня в голове — если я соображаю очень быстро, мысли смешиваются в кучу.
Зимой маленькая карусель на школьном дворе засыпана снегом, но летом я залезаю на нее, а Грета меня крутит. Сначала она хватается за перекладину и бежит, чтобы разогнаться, а потом отцепляется и только подталкивает, а я крепко держусь за центральный столб и смотрю на Грету, когда проезжаю мимо нее, чтобы не закружилась голова, как балерины, которые глядят на публику. Грета и на качелях меня качает — я взлетаю все выше и выше, так высоко, что в конце концов почти достаю ногами до облаков и чувствую, как ветер свистит в ушах. Я запрокидываю голову назад, и мир несется мне навстречу, кажется, еще чуть-чуть — и я достану носом до земли. Я пробую раскачаться самостоятельно — и сидя, и стоя, но, если помогает Грета, можно насладиться движением.
Школьный двор — это и двор нашего дома, потому что школа и есть наш дом, потому что папа — школьный учитель, когда не воюет, но он так давно воюет, что я его почти забыла, а мы все равно имеем право жить в школе. Мама говорит, что нам повезло — можно поспать подольше, по дороге в школу не приходится бороться с ледяным ветром, снегом, ливнем или палящим солнцем, достаточно пересечь двор, войти в последнюю минуту в класс и сказать «Хайль, Гитлер!».
Я пока в школу не хожу.
Когда я смотрю на трамвайные рельсы, в голове у меня рождается мелодия, я знаю, что движутся не рельсы, а я, но они оставляют в глазах блестящий, похожий на бесконечную серебряную лестницу след.
Возле ратуши стоит колокольня с часами. Когда мы с мамой ходим за овощами, она иногда приводит меня на площадь в поддень. Часы бьют, дверки открываются, и появляются двенадцать деревянных человечков. Они качают головами, кланяются, поднимают и опускают ручки и ножки, совсем как люди, только лица у них не меняются. Они ведь не живые.
Мы с Гретой умоляем маму прокатить нас на карусели, и она в конце концов сдается, хоть и говорит, что у нас мало денег. Я сажусь на черную лошадку, Грета — на белую, впереди меня, я крепко сжимаю ногами бока огромного скакуна, а руками держусь за луку, лошадь деревянная, а я — живая, но она везет меня — медленно, поднимаясь и опускаясь на вертящемся круге. В сквере темно, но карусель освещена гирляндами лампочек, громкая веселая мелодия наполняет душу счастьем, мы как будто плывем по воздуху, я купаюсь в музыке и мерцающих огоньках и хочу, чтобы это длилось вечно.
Музыка — это незримое движение.
Дедушка репетирует со мной, чтобы в этом году рождественские гимны прозвучали еще чудесней, чем всегда. Он говорит, что у меня самый красивый голос в семье, мне кажется, за это он и любит меня больше Греты. Дедушка многому меня научил, его голова полна знаний, потому что в молодости он учился в университете (папа, кстати, тоже).
Когда я была совсем маленькая, дедушка объяснил мне разницу между левой и правой стороной. Присев передо мной на корточки, он сказал: «Смотри, Кристина, это — твоя левая рука, а это — правая; вот моя левая рука, а вот правая». — «То есть у мальчиков и девочек они растут по-разному?» — удивилась я. Дедушка расхохотался, и начал объяснять все заново, но сел рядом со мной.
Если я смотрюсь в зеркало и трогаю свой левый глаз, Кристина-в-зеркале прикасается к правому, но это одна и та же я.
Каждый день после обеда мы с дедушкой отдыхаем, но я не сплю, а лежу в полумраке, смотрю, как солнечные лучи проникают в комнату через крошечные дырочки в шторах, и пытаюсь сочинить мотив. Когда дедушка начинает храпеть, я тихонько трясу его за плечо, зову: «Курт» — и он перестает. Странно называть дедушку по имени, но бабушка говорит, это единственный способ, и она права, если я шепчу: «Дедушка!» — он продолжает выводить рулады, рот у него открыт, а из носа торчат волосы. Я размышляю и поглаживаю родинку на сгибе левой руки: она размером с небольшую монетку, круглая, золотисто-коричневая и слегка выпуклая, кожа в этом месте покрыта пушком, как персик, и я обожаю ее ласкать. Когда никто не видит, я очень медленно сгибаю и разгибаю руку и смотрю, как родинка то появляется из норки, то прячется обратно.
«Я уже рассказывал вам сказку о можжевельнике?» — спрашивает дедушка после ужина. Мы собираемся у дровяной печки, я сворачиваюсь клубочком на коленях у мамы, и дедушка начинает. Это сказка про маленького мальчика, у которого была очень злая мачеха. Женщина велела ему взять из сундука яблоко, а когда он наклонился, захлопнула крышку, и голова мальчика упала на яблоки. Потом мачеха разрезала тело пасынка на кусочки и приготовила из них рагу. Блюдо очень понравилось отцу мальчика — он ведь не знал, что ест, обгладывал косточки и бросал под стол, а сестра их собрала и похоронила под можжевеловым кустом, и мальчик воскрес, так что все хорошо закончилось. Я больше всего на свете люблю нежиться на маминых коленях, сосать большой палец левой руки, поглаживать большим пальцем правой родинку и слушать дедушкины рассказы.
Бабушка не велит сосать палец, она читает мне стихотворение про Конрада из книжки «Кудлатая замарашка». Конрад был упрямец, он все время сосал палец, и дело кончилось тем, что явился человек с огромными ножницами и отстриг ему большие пальцы. Мать говорила Конраду, что пальцы не отрастут, и оказалась права. Когда она вернулась домой, бедный маленький упрямец показал ей свои четырехпалые ладони.
Дедушка потерял два пальца левой руки, когда был молодым и воевал на другой, первой войне, но это не мешает ему играть на пианино.
Пальцы не отрастают.
Волосы отрастают, ногти на руках и ногах отрастают, они продолжают расти даже после смерти, дедушка говорит, что волосы и ногти — это мертвые клетки, их выталкивают наружу живые клетки, вообще, все мертвые части тела отрастают, а живые — нет, если подумать, это странно. Глаза не отрастают, но, если теряешь глаз, можно вставить стеклянный или надеть повязку. А зубы отрастают, но только один раз, если выпадут во второй — останешься с дырой во рту. Однажды мой брат Лотар подрался после собрания ячейки гитлерюгенда и получил удар кулаком в лицо, было много крови, и один из передних зубов расшатался, но, слава Богу, не выпал, и дантист его укрепил.
У меня выпало семь молочных зубов.
Хвосты у саламандр отрастают, но я не знаю, до каких пор их можно отрезать, не причиняя вреда, нужно будет спросить у дедушки. Я обожаю саламандр — они могут жить в огне! Дедушка показал мне фокус: когда зажигаешь свечу, воздух над ней горячей самого пламени. Можно сунуть палец в огонь, не причинив себе особого вреда, а если секунду подержать ладонь над ним, сожжешь кожу.
Наездники в цирке прыгают через горящие обручи. Я никогда не была в цирке, но мама рассказывала мне, как акробаты и гимнасты совершают опасные трюки, а зрители следят за ними, затаив дыхание от восторга и страха. Дедушка говорит, что дыхание у людей перехватывает, если они видят что-то опасное или невероятное: тело думает, что ему понадобится кислород, чтобы противостоять опасности, вот и набирает побольше воздуха в легкие.
Я мечтала, когда вырасту, стать Толстой Дамой из цирка, но сейчас мы проигрываем войну, у нас голод, и я совсем не поправляюсь.
Все, что съедает человек, становится его собственным телом, все — кроме отходов, выходящих с другого конца. Не понимаю, почему нельзя удалять эти самые «отходы» из еды до того, как ее съесть, не пришлось бы то и дело бегать в туалет. «Удивительно, — говорит дедушка, — коровы едят траву, и она превращается в бифштексы, а мы поглощаем бифштексы, морковку, картошку, конфеты, яблоки, и они становятся нашими телами». Мы уже много месяцев не видели мяса. Чем больше ешь, тем быстрее растешь, а когда перестаешь расти вверх, начинаешь расти в ширину, уверяет дедушка, а он знает, что говорит — у него самого большой, толстый живот. В «Кудлатой замарашке» Гаспар все худеет, худеет, а потом умирает, потому что не хотел есть суп, и на его могиле ставят крест.
Лотар ходит в форме — настала его очередь идти на войну. Мы потеряли Францию и Англию, но все мужчины, от шестнадцати до шестидесяти, уходят, и теперь в нашем доме совсем не будет мужчин. Лотар обнимает меня, подбрасывает вверх, на какое-то мгновение я зависаю в воздухе, сердце колотится, как сумасшедшее, но он ловит меня и так сильно прижимает к себе, что металлические пуговицы его френча больно врезаются в грудь. Я кручусь, чтобы высвободиться, потому что мне трудно дышать и платье задралось, так что остальные могут увидеть мои штанишки. Лотар отпускает меня со словами «До свиданья, милая моя Кристина!», и я исподтишка бросаю взгляд на Грету: ей, наверно, завидно, ей Лотар не сказал «До свиданья, милая Грета», ее он не обнимал и не подбрасывал в воздух, потому что она уже большая и тяжелая. Но Грета только и делает, что повторяет: «Лотар, не уезжай! Не уезжай, Лотар!» — и размазывает по лицу слезы и сопли. Но Лотар поворачивается и идет к двери: в форме спина у него идеально прямоугольная.
Грета красивей меня, но она не такая интересная, и мне кажется, что дедушка любит меня больше, потому что Грета фальшивит, когда поет. Грета белокожая, у нее нет родинки на левой руке, летом у меня появляются веснушки, а у Греты — нет, хотя веснушки — это здорово, они хорошо защищают от солнца. Одним словом, Грета пустышка, она никакая, плоская, как озерная гладь в тихую погоду, а я как вулкан, меня сжигает внутренний огонь, когда я пою, он извергается, как лава. У нас с ней общая комната, кровати стоят изголовье к изголовью, в ящиках комода ее вещи лежат справа, мои — слева, она проводит уйму времени, расчесывая свои волнистые светло-каштановые волосы, у меня они белокурые и прямые, и я привожу их в порядок двумя взмахами щетки, потому что в жизни есть дела поважнее. Ночью я думаю о множестве вещей, а Грета мгновенно засыпает и спит, не просыпаясь, до утра, как стоячая вода.
Дедушка вырос в Дрездене. Весь наш фарфор сделан на заводе его отца. Он говорит, что это самый красивый город на свете — из-за статуй, которые там находятся. В дедушкином альбоме полно открыток с видами Дрездена, и он иногда рассматривает его вместе со мной. Дедушка показывает мне каменных мужчин на каменных конях, каменных ангелов на дверях соборов, каменных дельфинов и сирен в парковых фонтанах, каменных судей на фронтоне Дворца правосудия, каменные маски на фасадах Театра драмы и оперы, каменных рабов-негров во дворце Цвингера — их тела и лица напряжены, потому что поддерживать балконы, лестницы и окна совсем нелегко, но дедушка говорит, что они не живые и не мучаются. Еще он показывает мне Пана — наполовину человека, наполовину козла, и кентавра — человекоконя или конечеловека, и двенадцать прекрасных женщин в нишах у бассейна — они улыбаются, предвкушая купание. Дедушка объяснил мне, что это нимфы и им позволено раздеваться на людях, потому что они не настоящие, а сказочные, как и десятки голов херувимчиков на колоннах в Цвингеровском парке. Никто не отрезал этим малышам головы, но художнику позволено воображать все, что захочется. Движение каждой из фигур запечатлено в камне: ветер шевелит гривы каменных лошадей, сирены словно выплывают из каменных волн, по их обнаженным грудям стекают каменные капельки воды.
По сравнению с дрезденскими нимфами и ангелами жители нашего города живые и уродливые, они все время куда-то спешат, о чем-то беспокоятся, у них голодные лица, и они не имеют права раздеваться на людях: многие мужчины лишились руки, ноги или даже обеих ног, а они ведь не отрастают.
Отец приезжает на побывку, и я стесняюсь и робею — мы давно не виделись, я с трудом узнаю его. Расцеловав мать и Грету, он подхватывает меня под мышки и кружит вокруг себя в воздухе, а сам стоит неподвижно, как мачта. «Довольно, Дитер! Ее стошнит!» — с улыбкой говорит мама, она совсем не сердится, ведь меня никогда не тошнит.
Отец снова нас покидает. Он должен поступить, как все немецкие мужчины — постараться убить как можно больше русских, пусть даже наша родина проигрывает войну, а Иисус (или Моисей?) сказал «Не убий!». Дедушка говорит, иногда у нас нет выбора, нужно убивать или быть убитым — и точка. Когда мы молимся за столом, он просит Бога защитить отца и Лотара от врага, и меня это смущает, потому что в России тоже есть семьи и они просят защитить их мужчин от врага, но их враги — это мы. В соборе пастор велит нам молиться за Гитлера, а я думаю о людях в русских церквах, которые молятся за своего Вождя, и воображаю, как бедный Всевышний сидит на облаке, обхватив голову руками, пытается помочь всем людям и понимает, что это попросту невозможно.
По средам и субботам мы с Гретой принимаем ванну, она — старшая сестра и моет мне голову, потому что умеет сделать так, чтобы мыло не попадало в глаза, но оно иногда попадает, и глаза щиплет, я уверена, что Грета поступает так нарочно, но она просит прощения, и я не могу на нее наябедничать. У нас есть любимая игра — мы сами ее придумали и назвали «Хайль, Гитлер»: нужно встать в ванне и произнести «Хайль, Гитлер!» дурацким голосом — как призрак, или буйнопомешанный, или клоун, или светская дама, — а потом притвориться, что ошиблась, и поднять не руку, а локоть или приставить большой палец к носу, пошевелить остальными и произнести приветствие. Однажды я так увлеклась, что подняла не руку, а ногу, открыла рот, поскользнулась и ударилась головой о бортик, да так сильно, что не удержалась от крика. Прибежала мама, увидела, что я плачу, а у Греты перепуганный вид, и стукнула ее по голове, ни о чем не спрашивая, так что Грета долго не хотела меня прощать и играть в «Хайль, Гитлер».
Наша игра не совсем безобидна: в прошлом году Лотар столкнулся в коридоре с нашей соседкой фрау Веберн, вскинул руку в приветствии и произнес «Хайль, Гитлер», а она не ответила, и он донес на нее в полицию, и ее арестовали. В самом начале войны мужа фрау Веберн забрали, и их детям пришлось справляться одним. Старшие заботились о малышах, а когда через три недели наша соседка вернулась, она снова, как все вокруг, без задержки произносила «Хайль, Гитлер».
В воскресенье утром мы надеваем лучшую одежду и отправляемся на мессу. В доме Господа женщины должны покрывать голову, а мужчины, наоборот, снимать головные уборы, это тебе не разница между лево-право, тут глубинное различие. Войдя в церковь, нужно обмакнуть пальцы в чашу со святой водой, перекреститься и сказать «Во имя Отца, Сына и Святого Духа». Если честно, я не понимаю, что они делают втроем на кресте, ведь умер там только Иисус. Молитвы и проповеди наводят на меня скуку, зато я обожаю гимны, голос у меня такой сильный и красивый, что я веду за собой голоса всех остальных прихожан, он воспаряет, уносясь на небеса, к Всевышнему.
— Где живет Бог, дедушка?
— Бог повсюду, малышка.
— Если так, зачем Ему дом?
Дедушка с хохотом повторяет мой вопрос бабушке и маме, но ничего мне не отвечает.
— Иисус волшебник, дедушка?
— Что за странный вопрос, детка?
— Ну, Он ведь превратил воду в вино на свадьбе в Кане.
— Нет, дорогая, это было не волшебство, а чудо.
— Какая разница?
— Волшебство — всего лишь иллюзия. Волшебник мог бы изменить цвет воды, но не ее вкус. Чудо же действительно меняет вещи. В Кане вода и правда стала вином со вкусом вина.
— Но ведь причастие…
— Да?..
— Причастие — чудо, правда?
— Да, и что?
— Значит, вино действительно превращается в кровь со вкусом крови?
— Дедушка, Бог правда создал все на свете?
— Да, Кристина, Он создал все сущее.
— И войну?
— Нет, Он создал людей… а люди воюют… и Господь печалится. Люди его разочаровывают.
— Но если Он всемогущ, почему не сделал людей хорошими?
Многие мои вопросы остаются без ответов. Когда я вырасту, стану Толстой Дамой из цирка, знаменитой певицей, прочту все-все книги, все запомню и, когда мои дети и внуки станут задавать мне вопросы, смогу на них ответить.
Вечером свет зажигать запрещено, иначе мы превратимся в мишени, враги пошлют самолеты и разбомбят нас. Дедушка говорит, это не те враги, с которыми воюют отец и Лотар, не русские, а англичане и американцы. «Весь мир ополчился против Германии, — объясняет он. — Думаешь, это игра? Вовсе нет! Представь, моя маленькая девочка, что ты выходишь на школьный двор, а остальные дети — все вместе — на тебя накидываются. Понравится тебе такая игра?»
Сирена воздушной тревоги завывает практически ежевечерне, и все обитатели нашего дома прячутся в погребе и ждут отбоя. Нам повезло, что мы живем в маленьком городке и враги думают, что на него не стоит расходовать бомбы. Иногда по ночам небо становится красным от зарева горящих городов.
Я придумала и пою песенку обо всем, что звенит.
Колокол воскресный небо огласил — дин-дэн-дон, К молитве в церковь пригласил. В понедельник в школе прозвенел звонок — дзинь-дзинь-дзинь, Спешите выучить урок. Ночью рев сирены слышен со двора — у-у-у, Провыло — умирать пора.Когда наша служанка Хельга слышит, как я ее пою, она укоризненно качает головой: мол, не над чем тут смеяться!
Лето подходит к концу, и я иду в школу. В честь первого дня учебы мама дает мне с собой кулек из глянцевой бумаги с яблоками и конфетами, а новый пенал, чистые тетради, линейку, грифельную доску и мел укладывает в кожаный ранец. Все учителя отправились убивать русских, и их заменили молодые незамужние женщины, вдовы или старики, не забывшие, как учились в школе. С нами занимается учительница, она строгая, энергичная и быстро замечает, какая я способная. В первый же месяц она награждает меня тремя золотыми звездами — за успехи в правописании, арифметике и вышивании. В нашем классе три возрастные группы: выполнив все задания для «малышей», я слушаю, чему учат «средних» и «старших», и все запоминаю. Я перегоню Грету, как черепаха кролика, несмотря на фору: вид у нее будет ошеломленный, но ей останется только пыль глотать! Вместо того чтобы учиться постепенно, я хотела бы узнать все сразу, а еще я мечтаю проглотить всю еду, какая есть на столе, чтобы стать Толстой Дамой из цирка.
Научившись читать, я запоминаю наизусть стихи из книги «Кудлатая замарашка». Про маленькую Паулину, которая играла со спичками, подожгла дом и погибла в огне. Про Гаспара, который ни за что не хотел есть суп и умер от голода. Про Конрада, лишившегося больших пальцев. Я снова и снова читаю стихи, сама сочиняю музыку и пою их, как оперные арии, погружаясь в транс.
На перемене мы с девочками из класса играем в штандер. Я бросаю мяч вверх, как можно выше, они разбегаются в разные стороны, поймав мяч, я кричу «Стоп!», и они должны замереть на месте и не делать больше ни шага. Я оглядываюсь, смотрю, кто стоит ближе всех, и кидаю мяч. Если попадаю, жертва «убита», наступает ее черед водить. Промахнувшись, я не огорчаюсь, потому что больше всего люблю кричать «Стоп!» и видеть, как весь мир замирает на полувздохе, на полужесте, подобно статуям в Цвингеровском дворце не двигайся не двигайся сиди смирно я научу тебя сидеть смирно!
Я просыпаюсь и слышу как наяву: «Шесть лет». Выпрыгиваю из кровати, сбегаю по лестнице, и все кричат: «С днем рождения, Кристина! С днем рождения!» — и целуют меня, и обнимают, и прижимают к себе. К праздничному обеду мама купила жирное свиное ребро. Когда мы с Гретой возвращаемся из школы, кость лежит на газете, на кухонном столе, мама готовит чечевицу. Я украдкой хватаю ребро и впиваюсь зубами в сало. Это невыносимо вкусно, но тут раздается мамин возглас: «Эй! Ты что делаешь?! Это на всех. Будешь есть сырой жир — заболеешь!» Я хихикаю и укрываюсь за столом, держа кость в зубах, как собака, мама, не сняв фартук, ловит меня, я ныряю под стол, она наклоняется, хватает меня за ногу, я лежу на полу, так и не выпустив кость из зубов, и тут раздается звонок в дверь. Мама идет открывать. Я грызу сало, мечтая съесть все, без остатка. Нельзя, иначе мама разозлится по-настоящему. Я слышу в прихожей незнакомый мужской голос, мама ничего не отвечает, потом раздается страшный грохот.
Я осторожно кладу кость на стол. Бабушка с дедушкой кидаются в прихожую, Грета и наша служанка Хельга бегут по лестнице, перескакивая через ступеньки. Мама лежит на полу она упала в обморок. Почтальон стоит рядом с мамой на коленях, пытаясь привести ее в чувство, дедушка наклоняется, берет телеграмму, медленно распрямляется, читает и произносит — очень тихо: «Лотар погиб». Потом дедушка с почтальоном относят маму в гостиную, кладут на диван, Хельга приносит мисочку с водой и полотенце для компресса. Мама стонет, бабушка плачет, служанка Хельга ломает руки, а я говорю себе, что теперь все забудут про мой день рождения, потому что он стал днем смерти Лотара, всю оставшуюся жизнь мой день рождения будет для семьи днем скорби, но потом понимаю, что ошиблась, Лотар, должно быть, умер вчера или позавчера, известия теперь доходят до людей не сразу — не важно, хорошие они или плохие.
Мой брат мертв. Я не очень хорошо его знала, он был слишком взрослый — семнадцать лет! — и даже перед самым уходом на фронт все время пропадал на собраниях. Мой брат погиб, но что я чувствую? Горе? Не знаю.
Все отменяется.
В доме траур, все ходят печальные. У мамы красные от слез глаза, она надела черное платье. Бабушка застыла, заледенела. Дедушка закрылся у себя и слушает радио. В школе учительница велит Грете встать перед классом и рассказать, как она гордится братом, отдавшим жизнь за Вождя. Голос сестры дрожит, в глазах стоят слезы, и ее слова звучат не слишком убедительно.
— Можно мне поиграть с твоей шкатулкой, бабушка?
— Оставь меня в покое, Кристина, прошу тебя.
Интересно, будем мы праздновать Рождество в этом году или нет? Мне хочется подобраться как можно ближе, проследить и понять, что именно происходит — фокус или чудо.
Когда день начинает угасать, мы собираемся в гостиной, и мама зажигает белые свечи на елке. Дедушка садится за пианино, а я должна запевать. Мы становимся полукругом у елки и поем гимны. У меня самый сильный и самый нежный голос, я чувствую, как он рождается и растет в моей груди и выходит в мир точно в нужный момент, «Звените, колокольчики, звените, звените», Грета фальшивит, было бы куда лучше, если бы она только делала вид, что поет, она уродует красоту, все время берет не те ноты, путает строфы, ей все равно, как она поет, а мне не все равно, я знаю каждое слово каждого гимна, и любимого гимна Гитлера тоже. «В сердцах наших матерей бьется сердце нового мира», я пою эти слова и смотрю на маму сияющим взглядом, чтобы она не грустила так сильно из-за смерти Лотара и из-за того, что папа на фронте, мама гладит меня по голове, она гордится мной, я хочу, чтобы она лопнула от гордости.
Пока мы пели, в комнату прокралась ночь, кажется, что пламя свечей на елке горит ярче, гирлянды и серебристые шары отражают их свет, они переливаются, сияют, сверкают, как в сказке, белый передник Хельги и дедушкины седые волосы блестят серебром. Он знает все пьесы наизусть, он играет в темноте и ни разу не ошибается, хоть у него и не хватает двух пальцев.
«Тихая ночь» всегда поется последней, каждый куплет звучит чуть тише предыдущего, так что последние слова — «безграничная любовь» — напоминают дуновение ветерка, шепот, шорох, потом бабушка говорит: «Ти-хо» — и все умолкают. Я слышу, как тикают большие ходики, чувствую, как колотится в груди сердце. Когда мое сердце перестанет биться, я умру. Часы — НЕ живые, но маятник мерно раскачивается справа налево, слева направо, иногда часы останавливаются, но не умирают, так бывает, если дедушка забывает их завести. Даже если часы однажды сломаются и починить их будет невозможно, никто не скажет: «Они умерли», не станет покупать гроб и хоронить их, а просто купит другие.
«Разбитое сердце» — это просто слова, сердце ведь нельзя разбить, как чашку или статуэтку.
Наконец дедушка тихим голосом обращается к Богу, благодарит за лучший и главный подарок, который Он всем нам сделал — за Иисуса Христа, имена Христос и Кристина означают «помазанник Божий», тебе мажут голову маслом — и ты благословлен на всю жизнь, а потом говорит: «Ты призвал к себе нашего Лотара, как твоего собственного сына Иисуса», но тут его голос срывается, он не может продолжать. Мама подавляет рыдание, а дедушка, справившись с чувствами, произносит «Аминь», что означает «Да будет так!», все эхом отзываются: «Аминь», и снова воцаряется тишина, а часы начинают бить. Я насчитываю семь ударов, но не знаю, когда было семь часов — на первом ударе, на последнем или между третьим и четвертым.
Бабушка кивает служанке Хельге: «Пора!»
Хельга, шурша в темноте юбками, подходит к двери, открывает створки и — о, чудо из чудес! — это снова случилось! Как это выходит? Мы были здесь, все вместе, кроме папы, который убивает русских за тысячи километров от дома, пели гимны в гостиной, а в столовой сам собой накрылся праздничный стол. О-хо-хо! Белая льняная скатерть проплыла по воздуху через комнату и плавно опустилась на стол, самое красивое столовое серебро и дедушкин дрезденский фарфор выскочили из шкафов и выстроились с двух сторон, хрустальные бокалы вылетели из буфета и встали по стойке «смирно» над каждым ножом, а рождественский венок с четырьмя красными горящими свечами разместился точнехонько по центру. «Ой-ей-ей! — восклицаю я. — Ну как же это получается?»
Я смотрю на маму.
— Ты попросила соседку, да?
— Я? — Ее щеки покрываются румянцем. — Соседку? Конечно, нет.
Мама не может говорить неправду, так как же это получается? Каждый год одно и то же, а я не могу разгадать тайну. Что это — фокус или чудо?
Рождественский ужин окончен, пирожки и пряники вышли не очень вкусные, потому что не было яиц, мы с Гретой сидим на ковре в гостиной, положив свертки с подарками на колени. Мама расположилась в кресле и наблюдает за нами. Она очень старается выглядеть веселой.
— Надеюсь, через год каждая из вас получит много подарков, — говорит она.
— Ты и в прошлом году обещала, — напоминает Грета.
Матушка горестно морщит лоб, но быстро справляется с собой, и не бранит Грету за эгоизм, и не напоминает, что наш брат погиб на фронте и что страна воюет. Она просто говорит: «Ну же, дорогие мои, открывайте подарки!» — но голос ее звучит хрипло, и я знаю, что она тревожится за отца, потому что уже потеряла сына и боится потерять мужа, такое случилось со многими соседками. («Где он, мой возлюбленный Дитер, — думает мама, — что делает в это рождественское утро?»)
— Может, и папа будет с нами… — Я пытаюсь подбодрить маму, а она похлопывает меня по руке и повторяет:
— Открывайте поскорей.
Мы хватаем свои подарки, нетерпеливо срываем газетную бумагу (что делать — война!), и уже через мгновение, открыв коробку, я вижу что-то желто-мохнатое и блестяще-металлическое, но не успеваю понять, что мне досталось, потому что Грета радостно взвизгивает, размахивая куклой.
Я застываю.
Ну что тут скажешь? Произошла ошибка. Мама ошиблась, кукла предназначалась мне, а эта… плюшевая штуковина… Грете. Почему она молчит, почему не скажет: «О Боже, какая же я глупая, прости, Грета, отдай куклу Кристине и возьми медвежонка, дорогая!»
Кукла — моя, я это знаю. Она одета в красное бархатное платье с белым кружевным воротничком и манжетами, у нее длинные каштановые волосы, розовые щечки, коралловые, сложенные сердечком губы и темно-синие глаза, которые к тому же (Грета показывает мне, не выпуская ее из рук) открываются и закрываются! Когда кукла стоит, она смотрит на всех широко распахнутыми глазами, а если ее положить, веки медленно опускаются, ресницы касаются щек, и она уплывает в мир грез. Я с ума схожу по этой кукле, я даже знаю ее имя — Анабелла. Она — моя. Мне приходится сдерживаться из последних сил, чтобы не подскочить и не вырвать куклу у Греты. Мама говорит: «Ну же, Кристина, покажи нам, что ты получила?» — а я стою, как прибитая, и думаю, что никогда больше не буду счастливой. Не все ли равно, что лежит в моей коробке, я страстно хочу одного — сейчас же, немедленно стать единоличной владелицей потрясающей, одетой в красный бархат Анабеллы, играть с ней, любить ее. Грета принялась качать куклу на руках, она что-то напевает — и как всегда фальшивит, а я запускаю побелевшие от напряжения пальцы в коробку и достаю мохнатого медвежонка с тарелками в лапках. «Ух ты, Кристина, какой он миленький!» — фальшиво восхищается Грета, и мне хочется повалить ее на пол, отнять Анабеллу и вылететь с ней в окно, как Питер Пэн и Венди.
— Посмотри, милая, — говорит мама, — у него в спине ключик, его можно завести… Давай помогу!
Она подходит, берет медвежонка в левую руку, поворачивает ключ правой — раз, другой, третий — и ставит его на ковер. Медведь бьет в тарелки, делает два шажка и падает мордой вниз.
— Вот те на! — смеется мама. — Ковер медвежонку не по душе, может, поставим его на стол? Смотри, Кристина, смотри!
Я заставляю себя смотреть, как этот кретинский медвежонок, подпрыгивая, вышагивает по столу и бьет в тарелки. Левая-правая, левая-правая, медвежонок похож на солдата, но он неживой. Солдаты двигаются, как роботы, но роботы — неживые, а солдаты — живые (если, конечно, не мертвые, как Лотар), в них стреляют, бьют штыком в сердце или в голову, они попадают под бомбежку, их закидывают гранатами, и они перестают двигаться — навсегда, их кладут в гроб и зарывают в землю, и больше никто никогда их не видит, потому что они отправляются на небеса. Я смотрю на маму, она смотрит на медвежонка, командует «левой-правой» и хлопает в ладоши, а когда он оказывается на краю стола, произносит «Кру-гом марш!», и он отправляется в обратный путь. Потом шаги медвежонка замедляются, он останавливается на середине стола, замирает, как ходики, когда дедушка забывает их завести. Мама сияет: она очень горда, что сумела раздобыть для меня такой чудный подарок в наши трудные времена. «Давай, Кристина, заведи его!» — просит она, а мне хочется умереть.
Грета дала Анабелле другое имя, такое нелепое, что я отказываюсь его произносить. Каждое утро она сажает куклу на свою подушку — идеально прямо, со сложенными на платье ручками. Она не велит мне ее трогать, но, стоит ей уйти играть с подружками, я «общаюсь» с Анабеллой: разговариваю, пою, изливаю душу, качаю, а потом возвращаю на место.
Бабушка издает пронзительный крик, от которого у меня кровь стынет в жилах. Это такое образное выражение, на самом деле у людей кровь теплая, она всегда одной и той же температуры, даже очень холодной зимой — такой, как эта, например, у немецких солдат кровь тоже горячая — если им не стреляют в грудь, тогда она вытекает и застывает красными сосульками на снегу. От бабушкиного крика моя кровь не превращается в лед, но с ней происходит что-то странное, я это чувствую в шее и запястьях. Мама зовет меня: «Кристина, иди скорей сюда!» — и я лечу вниз по лестнице, едва касаясь ногами ступеней.
Они стирали, и бак с кипятком опрокинулся бабушке на руки. Она больше не кричит, а тихонько стонет, даже поскуливает, как щенок, и раскачивается на стуле, стараясь ни к чему не прикасаться. Мама стоит перед ней — она в ужасе от случившегося, достала бинты и мазь, но не решается сделать перевязку. «Иди за врачом, Кристина, — приказывает она, не глядя на меня. — Беги, дорогая, беги со всех ног!»
Когда обжигаешься, кожа надувается, на ней образуются пузыри, они наполняются гноем, если их проколоть, гной вытекает, и это больно, но на месте старой кожи нарастает новая. Удивительнее всего, что все линии и отметины проявляются точно на прежних местах, поэтому преступники не могут избавиться от своих отпечатков, даже если нарочно сожгут кончики пальцев. Так говорит дедушка.
Врач перевязывает бабушку, и тут наверху раздаются дикие вопли.
Грета. О, нет…
Я оставила Анабеллу на своей кровати, и Грета нашла ее. Она врывается на кухню и, не глядя в мою сторону, начинает жаловаться маме. Та едва слушает, она слишком огорчена несчастьем с бабушкой. «Боже мой, Грета, — говорит она, чистя к обеду картошку, — неужели вы с Кристиной не можете играть с этой куклой вместе?» — «Нет, я не хочу! — отвечает Грета. — Не хочу, чтобы она трогала мою куклу своими грязными пальцами. Это частная собственность!» — «Ладно… — вздыхает мама. — Кристина, деточка, у тебя есть собственные игрушки, не бери без разрешения Гретины вещи».
Я горюю. Я предала Анабеллу, оставив ее на своей кровати, она, должно быть, из последних сил карабкалась по ножке, чтобы перебраться на Гретину подушку, но ей это не удалось, и все узнали наш секрет. Грета знает, что я люблю ее куклу, это дает ей власть надо мной, и я ужасно горюю.
Прочитав на ночь молитву, я переворачиваюсь на живот и рыдаю в подушку — очень тихо, чтобы не услышала Грета. Неожиданно она становится на коленки, высовывает голову из-за спинки кровати и что-то шипит. Я перестаю плакать и прислушиваюсь, ушки у меня на макушке (это просто выражение такое, уши стоят только у собак, лис, ну и кошек). Грета снова шипит по-змеиному — что-то насчет сестер, такой звук бывает, когда опускаешь горячий утюг на влажное белье. Слова Греты просачиваются в мой мозг, как яд, обжигают его: «Ты все равно не моя сестра».
Что она имеет в виду? Хочет сказать, что отрекается от меня? Что больше не считает меня сестрой? Мечтает, чтобы я перестала быть членом семьи?
А Грета все шипит, и каждое слово терзает меня все сильнее.
«Мама и папа — не твои родители. Бабушка и дедушка — не твои бабушка и дедушка. Мы — не твоя родная семья. Мама тебя не рожала, как Лотара и меня, где-то живет твоя другая мать, но она от тебя отказалась. Тебя удочерили. Я прекрасно помню день, когда тебя сюда привезли. Мне было четыре года, а тебе полтора. Это секрет, я обещала ничего тебе не рассказывать, но ты так ужасно себя вела, так что сама виновата. Я тебе не сестра. У нас с тобой нет ничего общего. Я бы хотела, чтобы ты убралась туда, откуда явилась, и никогда не возвращалась».
Она плюхается на кровать, пружины взвизгивают, и в комнате снова становится тихо. Я лежу на спине, глядя на темные прямоугольники штор, мысли разбегаются, мозг пытается защититься от услышанного. Я закатываю рукав пижамы и тихонько поглаживаю родинку, пока не засыпаю.
На следующее утро Грета будит меня поцелуем. Я вскакиваю.
— Завтрак готов, Кристина. Забудь все, что я тебе вчера наговорила. Я все придумала, потому что злилась из-за куклы. Прости, если обидела. Ну что, мы помирились? Послушай… — Я чувствую, как ей трудно быть со мной милой. — … я и правда не хочу, чтобы ты играла с… — она называет то смешное имя, которое дала своей кукле, — потому что ты маленькая и можешь испачкать воротничок или выбить глаза. Но если пообещаешь ничего не говорить маме, я расскажу тебе все, что мы проходим в школе. Договорились? Идет?
Голова у меня гудит, как котел, и кружится. Я киваю один-единственный раз и замираю, чтобы голова не оторвалась и не покатилась по полу.
Я весь день пребываю в растрепанных чувствах. Мама просит меня помочь ей сложить простыни — обычно я обожаю это делать: мы беремся за углы простыни, я отхожу как можно дальше, мы встряхиваем простыню и складываем ее точно посредине, а потом повторяем все еще раз… Но сегодня утром я чувствую себя усталой, тело как будто затекло и онемело, у меня судорожные движения, и я не могу вымолвить ни слова.
— Моя маленькая Кристина сегодня грустит, — говорит мама, когда мы наконец заканчиваем с бельем. — Это из-за куклы?
Я киваю, мама опускается на стул, сажает меня на колени и прижимает к себе. Я чувствую нежную кожу ее рук и мягкость груди под халатом, она укачивает меня, я сую большой палец в рот, а другим поглаживаю родинку. Мне бы следовало чувствовать себя счастливой, но, если Грета не соврала, эта женщина — не моя мать, а если она не моя мать, то кто она и что я здесь делаю?.
Я выхожу из дома, замираю по стойке «смирно» рядом с сугробом, потом падаю ничком, как будто мне выстрелили в спину, и лежу неподвижно, пока от снега не начинает гореть лицо, «ужасно холодно» превращается в «жутко горячо», так же бывает, когда случайно опускаешь ногу в слишком горячую воду: в первый момент кажется, что она ледяная. Я переворачиваюсь, сажусь в сугробе, зачерпываю пригоршню снега и тру лицо и глаза, пока они не начинают гореть.
Грета держит слово. Сразу после зимних каникул она делает домашние задания вместе со мной, помогает мне писать «по-письменному», рассказывает о славном тевтонском прошлом нашей страны, дает решать примеры на дроби и проценты. Я поглощаю ее знания и мгновенно все усваиваю, сразу даю правильные ответы, но никак не могу забыть ночной разговор. Я дала слово молчать — это был всего лишь кивок в темноте, но клятву нарушить нельзя — как договор, не с Россией, а с Италией или Японией, кивнул головой, значит, сказал «да», то есть пообещал, и я ничего не должна говорить маме.
С кем же мне поговорить? С бабушкой? Или с дедушкой? Я смотрю на них и в конце концов отказываюсь от мысли о разговоре. Они пока не оправились от потери внука, нельзя делать им еще больнее.
Я разглядываю их и постепенно начинаю видеть — не только дедушку с бабушкой, но и маму с Гретой. Я изучаю их лица, а после ужина закрываюсь в ванной и разглядываю свое отражение в зеркале. Кристина… как знать? У меня волосы белокурые, мама — светлая шатенка, как и Грета, но это ничего не доказывает, Лотар тоже был блондином. У папы волосы рыжеватые, глаза зеленые, у меня они голубые, но и у бабушки тоже. Ладно, забудем о глазах и цвете волос. Почему только у меня курносый нос? Почему лоб у Греты выше, чем у меня?
Я могу продолжать так часами.
Мне снятся кошмары. Я сижу на горшке, мимо проходит женщина в юбке и белых туфлях, она так сильно бьет меня по голове, что я падаю, горшок опрокидывается, и содержимое выливается на меня. Увидев, как я сижу в желтой луже, маленький мальчик покатывается со смеху и показывает на меня пальцем, другие дети окружают нас, они голые, у них текут сопли, они хныкают, их одеялки валяются на полу, они воняют мочой.
В другом сне я залезаю на стул, чтобы выглянуть в окно, и вижу в снегу ребенка, он дрожит, он плачет, кожа у него совсем синяя, его бросили умирать.
Кому задать вопрос? Не маме. Не бабушке и не дедушке. Наконец я решаюсь: задам вопрос нашей служанке Хельге. У Хельги золотисто-каштановые волосы, она сильная и крепкая, ходит в накрахмаленном фартуке и любит говорить, что провела в этой семье полжизни. Мама два года не платит Хельге жалованье — просто нет денег, но она осталась и выполняет всю грубую работу, пока мужчины воюют: колет дрова, сгребает снег, таскает тяжести, а мама и бабушка готовят еду и убирают дом. Хельга — старая дева. Однажды они с мамой пили чай, и я подслушала, как Хельга пожаловалась, что ей уже тридцать и она никогда не найдет мужа, потому что все молодые мужчины погибли на войне. Половина от тридцати — это пятнадцать, значит, Хельге было пятнадцать, когда она нанялась на работу, и должна помнить, как родились мы с Гретой.
Простой и невинный вопрос: Ты помнишь тот день, когда я родилась?
Время идет, а я пытаюсь собрать все свое мужество в кулак и сделать то, что задумала. Дедушка говорит, когда нам страшно, сердце начинает биться быстрее, потому что хочет нам помочь, оно думает — если предстоит драться или убегать, нам понадобится прилив энергии, вот и гонит кровь по жилам, готовя нас к штурму, но беда в том, что учащенное сердцебиение усиливает страх! Каждый раз, когда я застаю Хельгу одну и готовлюсь задать вопрос — Ну же, давай! Спроси! Не медли! — сердце только что из груди не выскакивает, руки и ноги леденеют, страх парализует меня, я начинаю напевать и делаю вид, будто случайно проходила мимо.
Наступает день, когда терпение у меня кончается, я должна это сделать. Хельга сидит в кресле-качалке перед изразцовой печкой и вяжет, Грета наверху, мама и бабушка на кухне, а дедушка слушает радио в своей комнате. Я крещусь, стоя в дверях, как будто собираюсь переступить порог церкви, складываю руки на груди, крепко-накрепко прижимаю большой палец к родинке и устраиваюсь на скамеечке у ног Хельги.
«Сделай это! — говорю я себе. — И следи за ее реакцией!»
— Хельга… — Я очень стараюсь, чтобы мой голос звучал беззаботно.
— Хммммм?..
— Ты помнишь тот день, когда я родилась? — Я сверлю ее взглядом.
Хельга не подскакивает, не краснеет, не начинает заикаться, она все так же смотрит на свое вязанье, но спицы на одно короткое мгновение замирают, и я получаю свой ответ.
Неподвижность не лжет.
Спицы снова мелькают в воздухе — одна петля изнаночная, одна в накид, Хельга вяжет носок, а я — инородное тело в этом доме.
— Конечно, помню, — отвечает она и снова умолкает, а я пытаюсь припереть ее к стенке и уличить во лжи.
— Ты уверена, что меня не удочерили?
— Удочерили? — повторяет она, чтобы выиграть время. — Скажи еще, что ты — найденыш! Дедушка рассказывал тебе слишком много сказок, малышка! — Она отталкивается ногой от пола, раскачав качалку, и добавляет: — Ладно, беги! Помоги маме готовить ужин.
Я отправляюсь — не на кухню, а в туалет: я получила ответ, получила ответ, я извергаю все содержимое желудка, а когда извергать больше нечего, спускаю воду, плюхаюсь на сиденье и извергаю оставшееся с другого конца. Жидкие «отходы» вытекают из моего тела, я обливаюсь потом, сидя на толчке, и воображаю лежащих на спине и вопящих во все горло младенцев в обкаканных пеленках, и детишек постарше — они ползут по земле, руки и лица измазаны какашками, и малышей двух-трех лет, несущих горшки, доверху наполненные письками и какашками, они хотят их вылить, но эта гадость выплескивается им на ноги. Я вижу, как женщины в белых юбках бегают между детьми и раздают оплеухи налево и направо, вижу тяжело ступающие ноги в белых туфлях, изящные голые ножки с накрашенными ногтями, розовые шелковые оборки, белокурые косы и локоны, водопадом ниспадающие на плечи, вижу круглые и прекрасные, как у цвингеровских нимф, груди, они колышатся и сочатся молоком, вижу десятки детских головок — они похожи на головы ангелов наверху колонн, — приникших губами к соскам и жадно сосущих молоко, вижу белые халаты, прикрывающие огромные женские животы, слышу крики женщин, вопли младенцев, а еще — грубый мужской голос. Наконец я слезаю с унитаза, тяну за цепочку и снова склоняюсь над темным, дурно пахнущим фаянсовым зевом, меня больше не рвет, но тело сотрясают приступы тошноты, на лбу выступает ледяной пот.
Выйдя из туалета, я сталкиваюсь в коридоре с мамой — она несет стопку тарелок в столовую. Свет в коридоре тусклый, но она замечает, какая я бледная, и ставит тарелки на пол.
— Маленькая моя, что случилось? — спрашивает она. — Ты не заболела?
Я прижимаюсь к ней, она забывает о тарелках, берет меня на руки и несет по лестнице в мою комнату, раздевает и помогает надеть пижаму, шепчет нежные слова утешения: «У тебя жар, тебе нужно отдохнуть, сейчас я напою тебя отваром ромашки с медом».
Проходит несколько дней. Я витаю в облаках. Вообще-то люди так говорят, когда они счастливы, а со мной все наоборот — горе делает меня легкой, как клубок тумана, который вот-вот развеет солнце. Никто меня не видит, и я глажу свою родинку, но это не успокаивает притаившуюся под ложечкой боль.
Кто подарил мне мою родинку?
По ночам я так боюсь кошмаров с младенцами, что стараюсь не заснуть и тихонько напеваю. Грета велит мне умолкнуть. Анабелла улыбается с верхней полки и говорит, что все будет хорошо и не нужно беспокоиться, но я ничего не могу поделать и беспокоюсь.
Дедушка учит меня новой песне об эдельвейсах. Она такая красивая, что я очень быстро ее заучиваю. Дедушка целует меня в лоб и говорит: «У тебя одной в семье абсолютный слух».
Кто подарил мне мой голос?
Суббота, полдень. Семья сидит за столом. Молитва прочитана, мы подносим ко рту первую ложку супа, и вдруг мама откашливается и говорит:
— Дорогие мои, я должна сообщить вам что-то очень важное, слушайте внимательно.
Мы поднимаем глаза и после мгновенной задержки кладем ложки.
За столом воцаряется молчание. У меня бурчит в животе, потому что я хочу есть, и Грета дает мне тычка в ребра.
— Ну же, давай, — подбадривает маму дедушка. — Ты должна им рассказать.
— Так вот… Грета… Кристина… Сегодня вечером к нам… Сегодня у нас появится новый член семьи. Мальчик, его зовут Иоганн. Отец в курсе. Они познакомятся, когда он приедет в отпуск. Иоганн потерял родителей и остался совсем один на свете, он теперь сирота. И я… предложила… сказала, что возьму его к нам и воспитаю, как собственного сына. Никто не займет место Лотара в наших сердцах, но вы должны относиться к нему, как к родному брату.
Я не спускаю глаз с мамы, поворачиваю голову влево и встречаю многозначительный взгляд Греты. Это длится не дольше секунды, но действует на меня, как удар хлыста: «Видишь? — как будто говорит Грета. — Это происходит во второй раз. Первой была ты». Потом она склоняется над тарелкой и начинает громко дуть на бульон. Вообще-то шумно есть за столом не полагается, но на суп этот запрет не распространяется, иначе можно обжечь язык и нёбо.
— Сколько ему лет? — спрашиваю я.
— Десять, — отвечает мама. — Он на год старше Греты.
Я слушаю звяканье ложек по тарелкам.
— Когда он приедет?
— Я уже сказала — сегодня, во второй половине дня.
Вторая половина дня начинается ровно в полдень, а на часах уже половина первого, значит, это может случиться немедленно, или через час, или через два, три, четыре… неведение и ожидание убивают меня. Вторая половина дня растягивается до бесконечности. Грета идет кататься на санках с подругами, а я остаюсь с дедушкой. Два часа. Стрелки часов тикают, подгоняя время пинками по заднице: «Ну же, давай! Двигайся вперед!»
Я вот-вот лопну от любопытства.
Когда дверной звонок заливается наконец высокой нотой соль, я тихонько распеваю на ре и си-бемоль имя Иоганн.
В прихожей двое мужчин — они привезли Иоганна — топают ногами на половичке, стряхивая снег, и я не вижу его за их высокими спинами. Они проходят в гостиную, и мама склоняется над столом, чтобы подписать бумаги. Они о чем-то очень серьезно разговаривают, но я не улавливаю смысла, потом щелкают каблуками, прощаются — «Хайль, Гитлер!», «Хайль, Гитлер!», «Хайль, Гитлер!», и дверь за ними наконец-то захлопывается: свершилось!
— Кристина, иди познакомься с братом!
С этими словами мама подходит к мальчику, чтобы помочь ему раздеться, но он резко отстраняется, сбрасывает пальто и вешает его на крючок. Я подхожу и тихо бормочу: «Здравствуй, Иоганн!» Боже, как бы мне хотелось пропеть эти слова: «Здравствуй, Иоганн!» — но он не отвечает. Глаза у него открыты и в то же время закрыты, они отгораживают Иоганна от мира непроницаемой стеной. Он высокий и выглядит старше десяти лет, взгляд синих глаз непроницаем, челюсти сжаты. Я вижу, как под гладкой кожей щек ходят желваки, и говорю себе: он красивый, этот мой новоиспеченный брат.
Грета возвращается с гулянья, щеки у нее разрумянились, глаза блестят. Бабушка готовит нам горячий шоколад, и вся семья собирается на кухне. Мы поднимаем чашки за нового члена семьи, но Иоганн сидит прямо и неподвижно, молчит и не улыбается. Мама и бабушка переглядываются, шоколад плавно перетекает из горла в желудок, Хельга несет чемодан Иоганна в его комнату (раньше эта была спальня Лотара), и он, не говоря ни слова, идет за ней следом, всем своим видом выражая неприязненную настороженность.
Дедушка садится за пианино и подзывает меня, чтобы я спела. Я стараюсь, чтобы мой голос звучал тепло и радостно, надеясь, что Иоганн услышит его в своей комнате и успокоится, расслабится. Он потрясен смертью родителей, мы для него — незнакомцы, но, когда он выходит к ужину, я понимаю, что ничего не вышло: челюсти по-прежнему сжаты, глаза — не глаза, а заслонки, молчание непробиваемо.
После молитвы (он опускает голову, но не отвечает «Аминь») мама пробует осторожно расспросить его и краснеет, когда он не отвечает. Она хочет поговорить с Гретой, но сбивается. Иоганн принес в дом ощущение неловкости, он словно наказывает нас своим молчанием. Разговор затухает, и мы не можем вспомнить, о чем обычно говорили.
После ужина все собираются у печки, но я не забираюсь к маме на колени и не сосу палец — не хочу, чтобы Иоганн считал меня несмышленой малышкой. Дедушка рассказывает нам сказку о бременских музыкантах, и мы смеемся, слушая, как кот, пес, петух и осел навели страх на разбойника, но Иоганн смотрит куда-то в пустоту, и нам уже не так смешно и совсем не весело.
Утром в школе происходит то же самое: учительница представляет нового ученика классу, произносит короткую приветственную речь, а он стоит, как оловянный солдатик — непроницаемый, недоступный, безразличный. Он выполняет все, что ему велят, выдержав небольшую паузу, чтобы все поняли: он сам так решил, но отказывается отвечать на вопросы, читать вслух и не произносит ни единого слова.
Никто его не ругает и не наказывает.
Это невероятно. Мы сироты: я — музыка, он — молчание. О мальчик, сцепивший зубы, слышишь ли ты мое пение? Отныне все мои песни будут звучать только для тебя.
У нас кончились дрова, а Хельга заболела, у нее жар, и она не встает с постели.
— Мне нужна твоя помощь, Иоганн, — говорит мама. — Сегодня ты — самый сильный, и тебе придется пойти за дровами. Возьми санки, Кристина покажет тебе дорогу. Закутайтесь хорошенько, на улице настоящая пурга. — Она протягивает ему деньги и добавляет с улыбкой: — Не забудь принести мне сдачу.
В коридоре мы встречаем госпожу Веберн — раньше ее «Хайль, Гитлер!» звучало без должного восторга. Она не здоровается, не смотрит на нас и шипит сквозь зубы, поворачивая ключ в замке: «Надо же, как растет эта семья!» К счастью, Иоганн ее не слышит.
Мы идем рука об руку, и мне кажется, что на улице не так уж и холодно. Снег падает крупными хлопьями, цепляется к нашим шапкам и шарфам, тает на щеках, задерживается на ресницах… Я должна воспользоваться нежданной удачей. Торговец дровами живет далеко за сквером, дорога туда займет не меньше часа. И я начинаю разговор.
— Все снежинки — разные, — говорю я. — Они похожи на звезды, хотя звезды — не холодные и не крошечные, они обжигающие и огромные, это далекие солнца, правда, удивительно?
Он не отвечает.
— Иоганн, — не сдаюсь я, — ты, конечно, считаешь, что я девчонка и не заслуживаю разговора, но Грета учит меня всему, что вы проходите в классе, у меня прекрасная память и абсолютный слух.
Никакого эффекта.
— Иоганн, я понимаю, что ты пока не привык к нашей семье, но мне ты можешь доверять. Потому что я тебе и вправду как сестра… меня… я тоже приемная.
Ага. Он посмотрел на меня. В первый раз действительно посмотрел. Сердце начинает колотиться как сумасшедшее, я ускоряю шаг и торопливо добавляю:
— Я им тоже неродная.
Иоганн смотрит прямо перед собой, но я вижу, что он чуточку смягчился, и — о, чудо! — слышу его вопрос:
— Это правда?
Слова звучат странно из-за акцента. Я киваю. От облегчения, что у меня теперь есть с кем поговорить по душам, я едва не плачу, не от печали — от счастья.
— Хорошо хоть, что мы попали в милую семью, — говорю я.
— Меня не усыновляли, — отвечает Иоганн, и это звучит смешно, я сама видела, как мама подписывала бумаги, но молчу, чтобы он продолжал.
— Как тебя зовут?
Вопрос Иоганна ошарашивает меня.
— Меня зовут Кристина!
— Я хочу знать твое настоящее — прежнее — имя!
Не знаю, что он имел в виду, но тут мы подошли к дровяной лавке, и я почувствовала, что Иоганн снова замкнулся в молчании, как черепаха, прячущая голову и лапки под панцирь. Когда я стучу в дверь, он бросает на меня красноречивый взгляд: «Говорить будешь ты». Тоненьким застенчивым голоском я объясняю, зачем мы пришли, протягиваю продавцу деньги, беру сдачу, и мы выходим.
На улице стало еще холоднее, день клонится к закату. Пустые санки везти было легко, а теперь Иоганн тянет их с трудом, он сейчас похож на темнокожих рабов, поддерживающих балконы Цвингеровского дворца, но он живой, ему тяжело, и сил на разговоры у него нет. Он задыхается, и в сквере мы останавливаемся передохнуть.
С другого конца, от карусели, доносится тихая музыка.
Иоганн поворачивается ко мне и говорит на своем странном, неуверенном немецком:
— Хочешь прокатиться, Лже-Кристина?
— Мы не можем, — со смехом отвечаю я. — Это стоит денег.
— А мы богачи! — С этими словами Иоганн достает из кармана сдачу и протягивает мне сверкающее сокровище.
— Ты что, шутишь, Иоганн?
— «Ты шутишь, Иоганн?» — передразнивает он. — Нет, не шучу, и я — не Иоганн. Ну же, соглашайся, фрейлейн Не-Знаю-Как-Вас-Там! — Он хватает меня за руку.
Карусель не крутится, музыка больше не звучит, аттракцион остановлен до утра, матери уводят детей домой.
— Мы не можем, Иоганн, — говорю я. — Деньги не наши, и вообще, они закрываются…
Но Иоганн тащит меня к окошечку кассы и шепчет на ухо: «Давай!» — и я спрашиваю голосом перепуганной мышки: «Можно нам покататься?»
Седой служитель с усталым морщинистым лицом собирается захлопнуть окошечко, но перед ним двое детей, они стоят, держась за руки, идет снег, наступает ночь, страна вот-вот проиграет войну…
— Что ж, — говорит он, — кругом больше, кругом меньше… Ладно, только быстро!
Иоганн протягивает ему монетки, но карусельщик машет рукой:
— Уберите, уберите, касса уже закрыта. Ну, залезайте: два круга — и по домам.
Музыка звучит оглушительно громко, старик подхватывает меня и сажает на белую лошадку, а Иоганн, к моему удивлению, садится сзади, обнимает меня, берет в руки уздечку, карусель набирает скорость, и мы кружимся под музыку, с каждым мгновением становится все холоднее и темнее, но мое тело горит огнем. Я хохочу, и ледяной ветер разносит мой смех, лошадки поднимаются и опускаются, огоньки мерцают, музыка веселит душу. Два круга подходят к концу, я машу рукой карусельщику в знак благодарности, он кивает в ответ, как будто у него не осталось сил на слова, как будто единственное, на что он еще способен, это осчастливить двух детей, и он дает нам проехаться еще раз, я кричу «Спасибо!», он кивает и не останавливает карусель, круг, еще один, и еще, и я благодарю, а он кивает, и так может продолжаться до бесконечности, зачем останавливаться…
Сколько раз могут повторяться одни и те же вещи, можно ли умереть, снова и снова повторяя одну и ту же фразу — гадкая маленькая идиотка гадкая маленькая идиотка гадкая маленькая идиотка гадкая маленькая идиотка — пока она не утратит свой смысл?
В тот момент, когда мы подходим к дому — мама еще не накричала на нас за опоздание, не наказала Иоганна за свой испуг и не послала его спать без ужина, еще не завыла сирена воздушной тревоги, отправив всю семью в погреб босиком и в пижамах, еще не погас свет в моей душе и не умолкла музыка, звучавшая в сердце, пока мы с Иоганном шли по темным улицам, — он вдруг забывает о санках, берет меня за плечи и поворачивает к себе.
Приложив палец к губам, он медленно произносит на своем странном немецком:
— Не Иоганн — Янек. Не немец — поляк. Не приемный — похищенный. Мои родители живы, они в Щецине. Меня похитили, дорогая Лже-Кристина. Как и тебя.
С этого дня у меня начинается новая, полная тайн и умолчаний, жизнь: мы с Янеком-Иоганном ведем себя, как заговорщики. Палец у губ означал: отныне никто не должен знать, что нас связывает.
Почти каждый день мы улучаем несколько минут и продолжаем исследовать собственное происхождение. Мы разговариваем очень тихо, и шепот придает особый смысл каждому слову. Я узнаю, что по-польски мое имя пишется иначе, чем по-немецки, а уменьшительное от него — Крыся. Янек произносит его так: «Кррры-ся» — и мне становится щекотно в животе. Он говорит, что я больше никогда, ни за что на свете не должна кричать «Хайль, Гитлер!», а перед другими нужно притворяться, беззвучно открывая рот. Янек учит, что немцы — наши враги, что все в этой семье наши враги, хоть и относятся к нам по-доброму, он считает, что после войны я вернусь в свою родную семью и будет ужасно, если я не смогу разговаривать на родном языке, вот и учит меня главным словам: мать, отец, брат, сестра, я люблю тебя, сон, песня…
— Ты совсем ничего не помнишь? — спрашивает он.
— Совсем.
— Даже то, как называла мать мамусей?
— Нет, но… начинаю вспоминать.
— Наверное, они похитили тебя совсем крошкой, когда ты еще не умела говорить. Должно быть, тебя вырвали из рук матери. Я не раз видел, как они это делали, Крыся…
Я запоминаю каждое польское слово, которому учит меня Янек, а сама деликатно, но настойчиво исправляю его немецкий. Он делает успехи, но по-прежнему молчит — и дома, за столом, и в школе.
Мы сидим на дне коридорного стенного шкафа — он такой большой, что похож на комнату, с потолка даже свисает электрическая лампочка.
— В наших документах все неправда, — говорит Иоганн. — Имя, возраст, место рождения.
— Возраст?
— Мой, во всяком случае. Меня забрали в два года.
— Значит, тебе двенадцать?
— Да.
— Ты вдвое меня старше!
— И вдвое злее. Ты тоже должна быть в ярости, Крыся: настоящие родители много лет ищут тебя, плачут, ломают голову, где ты можешь быть. Они живут, погрузившись в пучину отчаяния.
— Ты так думаешь?
— Уверен.
— Кто тебя похитил?
— Темные сестры.
— Что еще за сестры?
Янек рассказывает, как на улицах Щецина появились жуткие «вороны» — женщины в строгих коричневых платьях с белыми манжетами и воротником, этакие Анабеллы из страшных снов. Они караулили у школ, ждали, когда дети выйдут на большую перемену, изучали их, заговаривали с теми, кто им подходил, угощали конфетами, улыбались.
— Как они тебя выбрали?
Иоганн отворачивается, и я вижу, как у него напряглось лицо.
— Нас, Кристинка. Они нас выбирают, потому что мы похожи на немцев. Потому что у нас белокурые волосы, голубые глаза и очень белая кожа.
— Это не может быть правдой.
— Почему?
— У меня кожа не…
Я придвигаюсь ближе, закатываю рукав и показываю Янеку свою родинку. Сердце у меня бешено колотится.
— Это знак, что я не такая, как все. Я пою, потому что у меня есть эта родинка. Когда я до нее дотрагиваюсь, могу погрузиться в собственную душу, забрать оттуда всю красоту и вылететь, как птичка, через рот. Можешь потрогать, если хочешь.
Иоганн осторожно кладет два пальца на родинку и внезапно хмурит брови. Я напрягаюсь. Неужели моя тайная отметина показалась ему уродством?
— В чем дело?
— Нет, нет, ничего… Просто… я удивился. Там я видел детей, которых отсылали за меньшее.
— Отсылали?..
— Расскажи еще о себе, Кристинка. Ты любишь петь, это мне известно, а чем еще тебе нравится заниматься?
— Есть. Особенно все жирное. Когда вырасту, буду Толстой Дамой из цирка.
Он весело хохочет, глядя на мои ноги-спички, и говорит:
— Тебе придется потрудиться!
Внезапно дверь шкафа распахивается. В коридоре стоит Грета, вид у нее оскорбленно-торжествующий. Она слышала, как мы шептались. Иоганн никогда, ни разу за все время, что живет в доме, не сказал ей ни единого слова, хотя по возрасту она ему ближе. Да как он смеет интересоваться такой малявкой, как Кристина, когда рядом с ним за столом сидит прелестная девочка! Грета просто умирает от зависти и ревности. Она хватает меня за руку, тащит в нашу комнату и запирает дверь.
— Рассказывай, что вы там делали, — шипит она, — или я все скажу маме!
— Нечего рассказывать, Грета, — отвечаю я (новый язык, новообретенный брат и новая национальность придают мне сил и уверенности в себе).
— Вы шептались, я слышала!
— Шептаться — не преступление…
— Но это значит, что Иоганн вовсе не немой! Так почему же он с нами не разговаривает?
— Спроси у него.
— Он мне не ответит.
— Это меня не касается.
— Знаешь, что я думаю, Кристина?
— Что? — Я поворачиваюсь к Грете.
— А вот что!
Она плюет мне в лицо.
Я ни за что на свете не отказалась бы от наших с Иоганном тайных бесед, расцвеченных теперь польскими словами. Хорошо — это добже, да — так, а нет — жьяден, «Я ваша дочь» — «Естем вашим цурка»… Я хочу всему научиться.
— Темные монахини сажают отобранных детей в поезд, отвозят их в Калиш, а там передают мужчинам в белых халатах, может, врачам, а может, и нет. Они разделяют мальчиков и девочек…
— А потом?
— Потом они нас обмеряют.
— Рост?
— Нет. Да. Все. Раздевают догола, чтобы обмерить все части тела. Голову, уши, нос. Ноги, руки, плечи. Пальцы рук. Пальцы ног. Угол между носом и лбом. Между подбородком и челюстью. Расстояние между бровями. Тех, у кого брови растут слишком близко, отсылают назад. И тех, у кого есть родинка… или если нос слишком большой, а кое-что слишком маленькое, или ноги не так вывернуты. Следом они проверяют наше здоровье, наши знания, нашу сообразительность. Дают один тест за другим. Всех, кто набирает мало баллов, тоже отсылают.
— Отсылают?..
— Не перебивай, Крыся, слушай внимательно… Они дают нам новые имена. И говорят: давным-давно вы были немцами, в вас течет немецкая кровь, ваша польская национальность — ошибка, но еще не поздно ее исправить. Ваши отцы — предатели, их нужно убить. Ваши матери — шлюхи, они не имеют права растить вас. Теперь вам дадут немецкое воспитание. Если будете говорить друг с другом по-польски, вас накажут. Общаетесь на польском — получаете наказание.
— Бедный ты мой…
— Нет. Никогда больше не называй меня бедным, иначе я перестану с тобой разговаривать.
— Прости! — Я торопливо прошу прошения по-польски: — Przepraszam.
— Среди ночи они приходят и бьют нас по голове. — Иоганн закрывает глаза и рубит ладонью воздух. — Бац… бац… бац… бац… Каждый считает удары, а утром мы сравниваем. Часто их бывает больше ста, бац… бац… бац… бац… Вначале чувствуешь боль, но скоро перестаешь: воображаешь, что это топор в лесу стучит по дереву, или молоток забивает гвоздь, бам… бам… бам… бам… бам… чувствуешь удар, но не боль, не головокружение, а тяжесть. Я продолжаю говорить по-польски. И тогда одна монахиня зовет меня в часовню. Ставит на колени, велит вытянуть руки, вот так. Следит за мной весь день и, если я опускаю руки, бьет кнутом. Лупит, как сумасшедшая — по спине, по шее, по голове, тяжело дышит и всякий раз, когда кнут касается моего тела, с наслаждением произносит на выдохе: «Аах!» В конце концов я не выдерживаю, поворачиваюсь, выхватываю у нее кнут, и удовольствие на ее лице сменяется ужасом, теперь я сильнее, и я начинаю сечь ее, и кричу на нее по-польски, оскорбляю, пачкаю словами, она забивается в угол, прикрывает голову руками, дрожит… Я могу убить ее, клянусь тебе, Крыся.
Он умолкает. Я смотрю на него во все глаза, но не произношу ни слова.
— Когда они узнают — потом, позже, то запирают меня на два дня в чулан с метлами, держат в темноте, не дают ни есть, ни пить. Я не прошу пощады, хочу доказать, что у меня воля сильнее, замираю и жду. За мной приходит главный доктор, отводит в свой кабинет и говорит: «Знаете, молодой человек, вы с вашим характером годитесь для Германии, но за следующий проступок вас отошлют обратно».
Он снова умолкает.
— И я перестаю говорить по-польски. Они вырвали мой язык с корнем.
— И мой тоже.
— И твой тоже.
Во сне я вижу крепкую крестьянку в платке, она похожа на бабушку. Она копается в огороде, лицо у нее красное от натуги, она изо всех сил тянет что-то из земли, а потом бросает это в корзину… Что она вытащила? Женщина распрямляется, вытирает пот со лба и говорит: «Уф! До чего тяжело!» Я подхожу ближе и вижу, что в корзине полно человеческих языков, они напоминают крошечных омарчиков, их корни беспомощно трепыхаются в воздухе. «Они не смогут отрасти! — кричу я. — Вы же вырвали их с корнем!» — «В этом цель операции», — отвечает она и возвращается к работе.
— Они забирают нас в сорок третьем, в Рождество, — продолжает Иоганн. — Целый год, с утра до ночи, мы зубрим немецкий. Это как битье по голове: бац… бац… бац… бац… Немецкие слова, немецкая история, немецкие стихи и сказки… а потом, когда снова наступает зима, нас терзают рождественскими гимнами — тоже на немецком. Тихая ночь… Радостная звездная ночь… Звените, колокольчики! Звените, звените… Бам, бам, бам, бам. Ох, Лже-Кристина, знала бы ты, как я ненавижу эти глупые гимны! А ты?
— Ну… конечно…
Раньше я любила гимны — когда думала, что живу в родной семье и говорю на родном языке в родной стране. Что я получила взамен? Несколько польских слов и любовь к Иоганну, но скоро все изменится. Я отгоняю от себя гимны, выковыриваю их из памяти. Новые слова, которые я узнаю в школе, отравлены воспоминаниями Иоганна, я не могу не вспоминать, как его били по щекам и секли кнутом, и не хочу ничего учить, но потом решаю: скоро я буду произносить все слова на родном польском, а немецкий забуду, смою его из мозгов, как «отходы» в унитазе, отправлю их в далекое плавание. Дедушка называет тех, кто попадает в ад, отбросами человечества, но я больше не буду его цитировать, он меня, конечно, любит, но он мне не родной, а значит, я обойдусь без его премудростей.
Главная беда у меня с пением: если я не должна петь на немецком, значит, не буду петь вообще.
Придется забыть рождественские гимны и все красивые песенки, которым научил меня дедушка. Он хочет выучить со мной еще одну, но я отговариваюсь уроками. Дедушка расстроен, я целую его в лоб и обещаю: «Может, попозже, дедуля…» Я обсуждаю это с Иоганном, и он говорит: «Я мог бы научить тебя польским песенкам, но это нас выдаст. Прости, но пока тебе лучше петь без слов».
И я учусь петь без слов. Играю со звуками у себя в горле, беру такие высокие ноты, что голос взлетает под облака, а потом возвращается в глубины моего существа — туда, где клокочет лава.
— О чем вы разговариваете? — интересуется Грета, причесывая Анабеллу. Кукольные волосы не нужно мыть два раза в неделю, они неживые и не растут.
— Да так… о жизни.
— Что значит «о жизни»?
— Посмотри в словаре, — отвечаю я, потрясенная собственной дерзостью.
— Ладно. Все, Кристина, ты своего добилась, больше я с тобой заниматься не буду.
— Ах так? Тогда я расскажу маме, что ты мне разболтала сегодня ночью.
— Давай. Рассказывай, если посмеешь!
В конце января стоят такие морозы, что уроки в школе отменяют. Воздушные налеты случаются и днем, и ночью, и мне кажется, что мы большую часть времени просиживаем в погребе. Это еще скучнее, чем в церкви, здесь нечего делать, разве что слушать, как храпят, стонут и вздыхают люди, да нюхать ужасную вонь. Что-то происходит, все это чувствуют, мы больше не разговариваем за едой, и не из-за Иоганна, тяжелое молчание сгущается, накрывает нас, угнетает, давит, как железная крышка. Кажется, весь мир вот-вот остановится. Каждый член семьи выполняет свои обязанности: встает утром, одевается, убирает постель, складывает белье… но вся эта чистота, весь этот порядок кажутся обманом, как если бы взрослые хотели надуть детей. В их глазах плещутся ужас и хаос, если буду вглядываться слишком долго, могу провалиться внутрь, в адские потемки, и все это потому, что мы проигрываем войну, вернее, с учетом того, что я — полька, войну проигрывает Германия, так почему она не может проиграть побыстрее, чтобы все закончилось?
— Ты и правда потратил бы мамины деньги на карусель?
— Конечно. Немцы обкрадывают мою страну, они украли меня самого, несколько жалких монеток — ничто в сравнении со всем этим. На чьей ты стороне, Лже-Кристина? Выбирай.
— Я на твоей стороне.
— Докажи это.
— Как?
— Когда будешь в следующий раз играть с дурацкой бабушкиной шкатулкой, укради что-нибудь из драгоценностей.
— Я не могу так поступить!
— Значит, ты не со мной.
— Но зачем все это, что ты хочешь сделать с ее украшениями?
— Сначала сделай, что я велю, потом узнаешь.
На следующий день я достаю из кармана пару сверкающих сережек и болтаю ими перед Иоганном, страстно надеясь, что он не сумеет отличить поддельные бриллианты от настоящих.
Надежда сбывается. Он показывает мне большой палец, и я краснею от удовольствия.
— Что ты с ними сделаешь?
— Это только начало, Лже-Кристина, но это хорошее начало. Ты станешь ловкой воровкой. Теперь ты будешь каждый день брать немного денег из бумажника лжедедушки, договорились?
— Но зачем?
Его огромные ручищи крепко сжимают мои ладони.
— Ты со мной, Кристинка?
— Да.
— Ты меня любишь?
— Больше всех на свете.
— Тогда слушай… Мы убежим вместе, ты и я. Продадим драгоценности и на эти деньги вернемся в Польшу. Когда деньги кончатся, ты сможешь заработать пением. Ты будешь петь, я — собирать деньги в шапку, и мы сможем идти дальше.
Кровь застучала у меня в висках.
— Но, Янек… если кто-нибудь заметит на дороге двух детей-беглецов, то сразу вызовет полицейских!
Иоганн смеется.
— Сейчас на всех дорогах полно беженцев, разве не понимаешь? Тысячи людей — дети, старики — спасаются бегством. Двумя больше, двумя меньше… А у полиции много других дел. Никто не станет с нами возиться.
— Ох, Янек… Я знаю, что мы живем у врагов, но… Если я… Знаешь, они меня любят, и я не могу…
— Крыся… Реши, кто ты — ребенок или взрослая девочка, немка или полька. Подумай хорошенько, выбор за тобой. Я уйду летом — с тобой или без тебя.
Снова остаться в этом доме без Иоганна… нет, об этом я даже думать не хочу.
Когда дедушка начинает храпеть, я не зову его, не трясу за плечо, а крадусь на цыпочках к стулу, где висит его одежда, и обыскиваю пиджак. Бумажник лежит во внутреннем кармане, я покрываюсь потом, у меня дрожат руки. Не знаю, почему так происходит, должно быть все наоборот: когда волнуешься, нужно сохранять спокойствие, иначе ничего не получится. В бумажнике всего три банкноты, я не осмеливаюсь взять одну из них и решаю сказать Иоганну, что денег вообще не было. Будь у дедушки целых десять банкнот, я бы стащила одну, потому что одна — это всего десять процентов, а одна из трех — тридцать, вернее, тридцать три, запятая, и еще сколько-то, не знаю сколько. Высчитывать проценты меня научила Грета, когда мы еще делали уроки вместе: множества скрыты во всем.
Дедушкин кошелек набит мелочью. Я достаю полдюжины монет, стараясь, чтобы они не зазвенели, прячу в туфлю и отправляюсь к Иоганну.
— Прекрасно, Крыся. Пошли, покажу тебе тайник… Я припас нам еды.
Мы ползем на четвереньках среди старых, пахнущих нафталином платьев и пальто. Иоганн отодвигает пару старых сапог — наверное, это дедушкины, еще с прошлой войны, и я вижу в глубине шкафа пакеты с сахаром, печеньем и финиками…
— Господи, Янек! Семья и так недоедает…
— Они — не моя семья, а я хочу увидеть мою. Вот, держи…
Он протягивает мне маленькую жестяную коробку, и я кладу в нее монеты.
Ночью, лежа в постели, я пытаюсь представить, какой будет моя жизнь в Польше. Мысли разбегаются, как блохи. Когда дедушка был мол одой, он видел в Берлине блошиный цирк. Я думаю о том, сколько у меня братьев и сестер, помнят ли они меня, будут ли обращаться со мной лучше Греты, жив мой родной отец или умер, но главное — какая она, моя настоящая мама и как я ее узнаю. Она меня наверняка узнает — по родинке, увидит мою левую руку и закричит, раскатывая «р», как Янек: «Кристина! Кристина! Наконец-то! Любимая моя Кристина!» — и прижмет меня к себе, плача от счастья.
Сильнее всего я сейчас тревожусь за… маму: когда она узнает о нашем побеге, это разобьет ей сердце. Но Янек говорит, что она сама во всем виновата, нечего было принимать в свой дом украденных детей, и мы тут ничего не можем поделать.
— Теперь тебе надо научиться врать.
— Нет, Янек. Зачем? Мы все от них скрываем, крадем деньги и еду, довольно и этого.
— Ты должна быть твердой, Лже-Кристина, и толстокожей — иначе не вынесешь долгого пути домой.
— Я не могу, Янек.
На следующий день Грета, вернувшись домой после уроков, находит в нашей комнате полный разгром: все вещи — трусики, носки, чулки, майки и свитера — выкинуты с полок и разбросаны по полу. Она стрелой взлетает по лестнице с криком: «Мама! Иди посмотри, что наделала Кристина!»
Я поднимаюсь наверх и столбенею от ужаса.
— Ты это сделала? — спрашивает мама, с трудом сдерживая гнев.
Я не могу выдать Янека и отвечаю «Да». Внутри у меня все дрожит.
— Зачем? — Она повышает голос.
— Я… я кое-что искала, ну и… забыла убрать все на место.
— Что ты искала?
— Что ты искала, Кристина?
— …Моего медвежонка с тарелками.
— Она врет! — кричит Грета. — Вот ее медведь, на этажерке, она всегда сажает его на полку и никогда не кладет в комод!
Мама все рассказала дедушке. Он позвал меня, поставил перед собой, вздохнул и спросил:
— Что с тобой происходит, малышка?
Глаза у дедушки были ужасно грустные.
— Ты изменилась. Твоя мать говорит, что ты стала гадкой девочкой. Зачем ты устроила беспорядок в комнате?
— Захотела — и устроила.
Уголки дедушкиного рта опустились, взгляд стал суровым. Он схватил меня за запястья, притянул ближе и силой уложил к себе на колени. Я попыталась вырваться, но он был сильнее и принялся бить меня ладонью по попе — шлеп, шлеп, шлеп, это случилось впервые, боль привела меня в ярость, я вопила и отбивалась, дедушка ужасно разозлился, от его частых и резких шлепков кожа покраснела, как будто кровь устремилась на поверхность, чтобы понять, в чем дело, я орала и лягалась. Когда гнев прошел, дедушка отпихнул меня, и я упала на пол, дрожа и рыдая, а он велел мне убираться.
Я вышла из гостиной и увидела Грету — она стояла в дверях с Анабеллой в руках и с улыбочкой наблюдала за поркой.
— Браво, Кристина, — говорит Янек. — Ты прошла испытание. Больно было?
— Ну… да.
— Дольше смогла бы терпеть?
— Так, — отвечаю я по-польски.
— Молодец! Теперь понимаешь, какие они на самом деле, эти немцы?
— Так.
День святого Валентина. Мы завтракаем — макаем сухой хлеб в горячий цикорий, потому что у нас больше нет ни шоколада, ни масла, ни сыра, ни ветчины, ни варенья, и тут это происходит. Жизнь дает трещину, хаос обрушивается на наш дом: с дедушкой случается истерика в его комнате. Когда из его груди вырывается первое рыдание, все застывают, как в игре в штандер, мама и бабушка переглядываются, я вижу панику в их глазах и понимаю: случилось худшее. Но что именно? Отец погиб или Гитлер умер? Так что же? Рыдания усиливаются, дедушка выскакивает из комнаты — там работает радио, он в нижнем белье, его свисающий живот напоминает огромный белый шар, у него текут слезы, он дергает себя за волосы, седые пряди стоят на голове торчком, как у клоуна. Он что, не понимает, как нелепо выглядит? Не знает, что нельзя расхаживать перед всеми полуголым?
— Курт, — зовет бабушка. Она встает, подходит к дедушке, но он отворачивается и начинает биться головой о стену, стукается снова и снова, словно считает удары, как делал Иоганн в том центре в Калише.
Постепенно рыдания складываются в слово. «Дрезден, — произносит дедушка. — Дрезден, Дрезден, Дрезден, Дрезден, Дрезден…» Интересно, если повторить слово миллион раз, оно утратит свой смысл?
Мама велит нам идти в свою комнату, в полдень мы спускаемся в столовую, но никакого обеда никто не приготовил, а Хельга заметает с пола осколки дрезденского фарфора, сделанного руками дедушкиного отца. Разбились чудесные часы и бабушкина шкатулка, крошечная балеринка откатилась в коридор, но она все так же смотрит прямо перед собой, чтобы не потерять равновесие. За дедушкой приехали санитары, но он закрылся на ключ в своей комнате, один из медиков наступает на куколку, и она раскалывается пополам, а он этого даже не замечает, мама с бабушкой неподвижно сидят на диване, и Хельга снова отправляет нас наверх.
Мы с Иоганном смотрим через окно на пустой школьный двор. Все застыло от холода. На голых ветвях нет ни одной птицы.
— Ничего страшного, — говорит Иоганн, — они этого заслуживают.
— Кто?
— Немцы… все немцы. Они заслуживают смерти.
— Не говорит так, Янек… — Я обращаюсь к нему по-польски. — Пожалуйста, не говори так.
— Буду говорить. Немцы — чудовища, Крыся. В год, когда я родился, они выбрали своим канцлером чудовище, всю мою жизнь они убивают поляков, уничтожают наш народ, наши земли, наши города, ты это знала? Варшаву, нашу столицу, в прошлом году сожгли дотла, ты знала?
Он говорит так тихо, что я с трудом разбираю слова.
— Но дети, Янек… маленькие дети…
— Ты правда веришь, что они спасают польских детей? Кристина, дети чудовищ — сами чудовища.
— А животные? Они тоже заслуживают смерти?
Ответа не последовало, и я почувствовала, что он снова от меня отдаляется.
— Возможно, для тебя уже слишком подано, — устало роняет Янек. — Наверное, ты была такая маленькая, когда тебя украли, что превратилась в настоящую немку. Скорей всего, мы с тобой не друзья, а враги.
От этих слов волосы у меня на затылке встают дыбом.
— Пожалуйста… — в отчаянии шепчу я, прижимая большим пальцем правой руки родинку на левой. — Умоляю, Янек, я такая же полька, как ты. Мы должны держаться вместе.
— Вместе… против врага.
— Tak, tak, — по-польски отвечаю я.
Он обнимает меня за плечи и отвечает:
— Dobrze. Хорошо.
— Скажи, Янек… Если у кого-нибудь в Дрездене были саламандры в клетках… они, наверное, выжили, так ведь? Саламандры могут жить в огне.
— Это легенда… Саламандры живут в лесу рядом с нашим домом в Щецине. Ты видела живых саламандр?
— Нет.
— Ты очень умная, Кристина, но ничего не знаешь о жизни. Ты хоть раз гуляла по лесу?
— Нет.
— Саламандры — волшебные создания. У них черно-оранжевая чешуя, черные глазки и широкая пасть, и они теплые на ощупь. Мы с братом подстерегали их в лесу — они всегда появлялись в сумерках после дождя и прятались под корнями… Как-то брат поймал одну и принес домой. Мы посадили ее в коробку и пытались кормить, но она ничего не ела. Мы приносили ей зерно, траву, земляных червей, жуков и бабочек… Она ни к чему не притронулась. Неделя проходила за неделей, саламандра стала не такая шустрая, но была жива… Через полгода она превратилась в прозрачный, обтянутый кожей скелет, но все еще шевелилась. В конце концов ее тельце покрылось белой жидкостью… она сохла и гнила… Однажды мы пришли навестить нашу пленницу и увидели, что от нее осталась горка дрожащего желе.
Мы садимся обедать после пяти.
Дедушку увезли. Хельга подала нам только вареную картошку. Мама и бабушка не вышли к столу, и молитву читает Грета. В конце Иоганн произносит «Аминь» — впервые в жизни. Да будет так.
Этой ночью я видела во сне тысячи валяющихся на земле дрезденских статуй: разбитый Спаситель на кресте, разбитый бородатый философ, разбитая величественная богиня, разбитый человек без головы, голова без человека, разбитый печальный святой, маленький музыкант с отбитыми руками, Пречистая Дева, с ужасом глядящая на лежащего рядом голого мужчину, катящиеся каменные головы, мечущие молнии каменные глаза, израненные каменные лошади, изуродованные темнокожие рабы, искалеченные нимфы и кентавры, сложенные в пирамиду головы херувимов. «Смотри, Кристина!» — говорит дедушка. Я поднимаю глаза и вижу, что на фронтонах Оперы и Дворца правосудия распяты голые люди, их кровь стекает по стенам. Настоящие, живые руки и лица «украшают» фасады, они шевелятся, пытаясь привлечь наше внимание. В общественных парках и скверах, на газонах и клумбах, стоят живые женщины, их груди полны молоком, оно брызжет в разные стороны — это новые фонтаны. «Смотри, Кристина! — повторяет дедушка и широко разводит руки, как будто хочет объять всю панораму города. — Мы выиграли войну!»
Сны проникают в реальную жизнь, дни и ночи меняются местами, люди и статуи меняются местами, повсюду царит хаос, стоит март, люди измучены холодом, не умолкая воют сирены, небо истекает кровью, наступил апрель, в школе возобновились занятия, деревья во дворе цветут, птицы щебечут, бомбы падают на сквер, наутро от ратуши и церкви остались дымящиеся развалины, столбы карусели погнулись, лошади лежат на боку или на спине, но они как будто все еще скачут галопом, толстые деревья, переломленные пополам, опасно наклонились и прислушиваются, словно хотят услышать правду, исходящую из земли, уроки прекращены, Гитлер умер — так сказали по радио, пришел май, на клумбах расцвели цветы, школьный двор заполнен беженцами с востока, весь город кишит беженцами, они шли много дней, неся на себе пожитки и детей, у них серая кожа, они растеряны и голодны, и мы запираемся в ломе, не зная, чего ждать. Однажды на улице раздается крик, и мы бежим к окну — посмотреть, что происходит, мать не хочет расставаться со своим умершим ребенком, когда его пытаются забрать, она заходится воплем, хватает чемодан, вытряхивает из него вещи, прячет туда мертвого малыша и смешивается с толпой. Наступил июнь, Иоганн говорит, что Германию разделили на четыре части, как пирог, каждый из победителей получил свою часть, и наша досталась американцам.
Мы голодаем. Ждем, ждем и ждем до бесконечности, когда вернется отец, не зная, попал он в плен к русским, погиб в бою или умер от голода, пробираясь домой, никто ничего не знает, начинается летняя жара, и город превращается во вместилище страданий, люди отнимают друг у друга хлеб, болеют одними и теми же болезнями, нам совсем нечего есть, и Иоганн составляет список всех ценных вещей, оставшихся в доме — бабушкины драгоценности, несколько чашек и блюдец дрезденского фарфора и пианино, — отправляется на улицу, кое с кем встречается, торгуется, находит покупателя на пианино, приезжает грузовик, инструмент забирают, а мы получаем целый мешок картошки, это даже не волшебство, это чудо, пианино превратилось в картошку, как вода в вино, а Иоганн — наш спаситель. На улице он вслушивается в разговоры усталых людей и узнает, откуда бежали эти люди, что они видели, что потеряли, что вынесли, что оставили позади, а потом пересказывает все это мне.
«Отдай Иоганну куклу, Грета, может, он сумеет обменять ее на сало или хлеб», — говорит мама, но Грета качает головой, у нее надутый вид, она прижимает Анабеллу к себе и не желает с ней расставаться. «Тебе придется красть, Иоганн, — тихим голосом произносит мама. — Кради все, что сумеешь. Кради! Кради — или мы умрем от голода». И Иоганн крадет, отдает матери добычу, она принимает ее со слезами стыда и благодарности, а он на нее даже не смотрит.
В сумерках грязно-серого цвета мы с Иоганном сидим на краю сломанной скамейки в тенистом уголке сквера, оборванные беженцы спят вповалку на земле, подложив под голову свертки и заплечные мешки. Я сижу с закрытыми глазами и слушаю звучащую вокруг странную музыку — писк младенцев, вздохи женщин, молитвы стариков и бурчание в моем собственном животе. Неожиданно Иоганн говорит:
— Время пришло, Лже-Кристина.
— Время для чего?
— Я говорил тебе, что уйду этим летом. Ты со мной?
— Янек, мы не можем уйти сейчас!.. И оставить семью… на…
— Уже август. Скоро похолодает, и у нас будут трудности с ночлегом. Так ты пойдешь со мной? — снова спрашивает он на польском, и я начинаю плакать.
Слезы — загадочная вещь. Дедушка говорит, что слезные каналы, промывающие наши глаза, это очень сложные и хрупкие механизмы, но никто не знает, почему эти механизмы самозапускаются, когда нам грустно, какая связь существует между печалью и соленой влагой, но я вдруг понимаю, что мне ужасно не хватает дедушки, и, чем дольше я плачу, тем больше мне его не хватает. Одна причина для слез всегда неизбежно влечет за собой другую, так что остановиться бывает очень трудно, я скучаю по деду, скучаю по отцу, скучаю по Лотару, я хочу, чтобы вся семья собралась вместе и мама снова была веселой и довольной…
— Ну, Кристинка, да или нет?
Я прижимаюсь к Иоганну, как если бы он был олицетворением всех живущих на земле мужчин, и рыдаю у него на груди, он обнимает меня и неумело, неловко гладит по голове, прохожие бросают на нас равнодушные взгляды и идут себе дальше, они слишком много пережили, их города сгорели, они видели обугленные трупы людей, втрое уменьшившихся в размерах, они знают, как горит на телах белый фосфор, перед глазами у них стоят навечно застывшие в неподвижности багровые, лиловые, коричневые мумии, трамваи, набитые зажаренными заживо пассажирами, оторванные женские руки, валяющиеся на земле, человеческие головы размером с теннисный мячик, кучки пепла и кости, бывшие когда-то живыми людьми… Их не могут взволновать такие пустяки, как слезы маленькой девочки.
— Можешь ответить мне завтра. Завтра мой день рождения, Кристинка. Мне исполнится тринадцать, и в полночь я уйду.
Дедушка когда-то говорил, что «завтра» никогда не наступает, и рассказал мне историю о цирюльнике, который заманивал клиентов табличкой с надписью «Завтра бреем бесплатно». Люди возвращались на следующий день, надеясь побриться задарма, а цирюльник говорил им с насмешкой: «Вы что, читать не умеете? Бесплатно мы обслуживаем завтра». Все, кто попадался на эту уловку, все равно брились — раз уж пришли! — и за несколько месяцев хитрец стал самым богатым цирюльником Дрездена.
Завтра не наступает никогда, но следующий день приходит неизбежно.
На следующий день мы сидим в кухне за столом, пьем чай и едим вареные картофельные очистки. Кто-то звонит в дверь. От неожиданности мама подскакивает на стуле, подумав, что это может быть отец, но сразу понимает, что у него есть ключ и он не стал бы звонить в дверь собственного дома, хотя ключ мог потеряться, когда он сражался с русскими, и может быть, все-таки… но это, конечно, не отец. Хельга идет открывать и возвращается с какой-то дамой.
Она столь элегантна, что кажется неземным существом, мы целую вечность не видели такой нарядной, сытой, ухоженной женщины. Ее темно-каштановые волосы забраны в гладкий блестящий пучок, она в форменном кителе, на ногах у нее кожаные туфли, а в руке кожаная папка для бумаг. Она представляется, говорит, что ее зовут мисс Мулик, просит прощения за то, что прервала нашу трапезу. С первых же слов становится ясно, что она иностранка, и мама велит всем детям выйти из комнаты.
Мы сидим в гостиной и ждем. Заняться нам нечем, вот мы ничего и не делаем. Часов на стене больше нет, и мы не знаем, сколько прошло времени, но цвет неба постепенно меняется, а значит, время все-таки идет, внезапно я вспоминаю, что сегодня день рождения Янека, но чувствую, что сейчас не время для поздравлений. Голоса оставшихся на кухне женщин звучат все громче, бабушка почти кричит, но слов мы не разбираем, только интонацию, мелодию боли. Наконец Хельга открывает дверь и зовет нас с Иоганном.
«Нет, Грета, оставайся здесь, — говорит она, когда та поднимается, — только Иоганн и Кристина».
Мы с Гретой переглядываемся, и я говорю себе: «Вот и кончилась наша непростая совместная жизнь».
Кухонный стол завален документами и фотографиями, мама сидит между Хельгой и бабушкой, я вижу их ноги под столом, но не осмеливаюсь посмотреть на их лица, потому что знаю, что мама плакала, и не хочу этого видеть.
Незнакомка о чем-то неуверенно спрашивает Янека по-польски.
— Так, — отвечает он, и мама издает стон.
Потом дама поворачивается ко мне. Я думаю, что она и со мной заговорит на польском, и собираюсь объяснить, что не очень хорошо говорю на родном языке, но она протягивает мне руку и говорит по-немецки:
— Иди ко мне, дорогая…
— Нет! — восклицает мама таким голосом, какого я никогда прежде не слышала, — нутряным, скорбным, изнемогающим от боли. — Только не Кристина!
Женщина просит ее успокоиться.
— Я знаю, как все это тяжело для вас, — говорит она и просит Хельгу принести стакан воды, но та не реагирует. Тогда гостья снова протягивает ко мне руку, и мама заходится в рыданиях, уронив голову на стол.
Я медленно прохожу через кухню, беру мисс Мулик за руку и торжественно заявляю по-польски:
— Я тоже полька.
Женщина поднимает брови.
— Нет, моя дорогая, не думаю, — говорит она, отпускает мою правую руку, берет левую и осторожно поворачивает ладонью вверх. Я застигнута врасплох и очень удивлена ее поведением — женщина рассматривает внутреннюю сторону моей левой руки. Из-за жары я одета в кофточку без рукавов, так что она сразу замечает родинку и говорит:
— Я абсолютно уверена, что ты украинка и что твое настоящее имя — Клара.
Земля уходит у меня из-под ног, я потрясенно смотрю на Иоганна. Он встречается со мной взглядом, я вижу в его глазах смятение и вопрос: «Кто ты?» — и не знаю ответа. Я много месяцев готовилась к воссоединению с мамой и отцом в Польше, но если они меня не ждут, то кто тогда ждет? Украина — это где, это что? Я боюсь, что меня сейчас вырвет, как случилось в тот день, когда я впервые поняла, что меня удочерили. Но тогда я была одна, ведь это произошло до появления в моей жизни Янека, и теперь я отчаянно цепляюсь за его взгляд, а его глаза говорят: «Что бы ни случилось, мы всегда будем вместе, ты и я».
Когда мисс Мулик уходит, я иду в ванную — единственное место в доме, где можно остаться одной, и пускаю воду, чтобы никто не слышал, как я пою. Если я правда украинка, а вовсе не полька, не начать ли мне снова петь по-немецки? Поглаживая большим пальцем родинку, я пою песню об эдельвейсе, чтобы отблагодарить дедушку за все, чему он научил меня, пока я жила в этом доме.
Ночью, в темноте, Грета подходит к моей кровати. В руках у нее Анабелла, она спрашивает:
— Кристина, американская дама увезет тебя далеко отсюда, так ведь?
— Думаю, да.
— И она отправит тебя на Украину, к твоим настоящим родителям?
— Наверно.
— Тогда слушай. Мы не очень ладили в последнее время, но мне будет тебя недоставать, дом без тебя опустеет, а у меня не будет младшей сестры, которую можно донимать. — Помолчав, она добавляет: — Сегодня кукла будет спать со мной, а потом… когда ты уедешь… можешь взять ее с собой. Это будет… подарок на память от семьи.
Я кидаюсь ей на шею, и мы долго обнимаем друг друга — в первый… и последний раз в жизни.
— Большое спасибо, огромное, огромное, огромное спасибо, Грета, я этого никогда не забуду.
Хельга все утро собирает наши вещи. К полудню на кровати стоит открытый чемодан со всем моим имуществом: начиная с зубной щетки и кончая медведем с тарелками, а поверх всего — Анабелла Великолепная в аккуратно расправленном красном бархатном платье. Сразу после обеда мы с Янеком подходим к окну и видим, как у дома останавливается машина мисс Мулик. На этот раз с ней приехали двое мужчин, один из них чернокожий, из чего Янек делает вывод, что они американцы. Мама с утра не выходила из своей комнаты, не обедала с нами, но как только раздается звонок в дверь, она появляется — причесанная, с накрашенными губами. Я знаю, что она из последних сил пытается сохранять самообладание, но, увидев, как Хельга и Иоганн спускаются по лестнице с нашими чемоданами, не выдерживает: из ее горла снова вырывается тот страшный глухой звук, который так потряс меня накануне. Мама бросается ко мне, изо всех сил прижимает к груди и повторяет стонущим голосом: «Кристина, Кристина…» Мужчины относят наши чемоданы в машину, Иоганн следует за ними, не поблагодарив и не попрощавшись ни с мамой, ни с Гретой, ни с Хельгой, ни с бабушкой. Потом мисс Мулик подходит к нам и пытается убедить маму отпустить меня. Ее голос звучит твердо, но не грубо, и я чувствую облегчение, потому что уже начала задыхаться.
Когда за нами закрывается дверь, мама издает долгий пронзительный крик, эхом отражающийся от стен коридора. Любопытные соседи приоткрывают двери, чтобы посмотреть, а госпожа Веберн даже выходит на крыльцо. Она стоит, сложив руки на груди, и как будто пытается испепелить мисс Мулик взглядом, но та, глядя прямо перед собой, как балерина, шепчет мне: «Держись, Клара».
Мужчины сидят впереди, а мы втроем — на заднем сиденье. Я зажата между Янеком и мисс Мулик, и мне кажется, что мы никогда не приедем. Погода в этот августовский день стоит очень жаркая и влажная, и я ужасно потею. Дедушка говорил, что потение — это система охлаждения человеческого тела, пот вырабатывается железами, расположенными ниже лба, под мышками и где-то еще — не помню где; пот испаряется, тебе становится прохладней, но сегодня мой пот не испаряется, а просто стекает по телу — и все тут. Никто не произносит ни слова, но я вижу, что Янек снова сжал зубы. Я закрываю глаза и притворяюсь спящей, а сама подглядываю через ресницы за мисс Мулик. К моему удивлению, она плачет, и я не понимаю: ей-то из-за чего расстраиваться? Наверное, в этот момент повод для слез есть у каждого, даже у американцев. Наконец я и правда засыпаю, положив голову на плечо Иоганна.
Меня высаживают перед домом, я поднимаюсь по ступенькам крыльца и звоню в звонок, но дверь не заперта, и я вхожу, дрожа от нетерпения, пересекаю коридор и попадаю в большую ярко освещенную комнату. На другом ее конце, спиной ко мне, стоит женщина. Наконец-то! Наконец-то! — говорю я себе. Наконец-то я нашла мою настоящую мать! «Мама… — зову я, но она не отвечает, даже не оборачивается, и тогда я подхожу ближе, трогаю ее за руку и повторяю: — Мама…» — а она оказывается каменной.
Проснувшись, я понимаю, что наступила ночь и мы приехали. Голова у меня тяжелая, хочется писать.
Пока мы вылезаем из машины, Янек шепчет мне на ухо:
— Я видел монахинь, хорошего от них не жди, так что я тут надолго не задержусь.
— Они были темные? В коричневых платьях?
— Нет, в черно-белых. Но точно немки.
Негр и второй американец куда-то уносят наши чемоданы.
— Какое-то время вы побудете в этом центре, — объясняет мисс Мулик, ведя нас в дом. — Понадобится время, чтобы привести в порядок все документы. Спальня девочек слева, мальчиков — справа, но вы будете встречаться каждый день за едой, во всяком случае, до тех пор, пока мы не найдем для вас семьи.
— Семьи? — восклицает Иоганн. — Вы хотели сказать — нашу семью!
— Да, да, конечно… — Она кивает с рассеянным видом. — Увы, дела не всегда идут так быстро, как нам бы того хотелось. Отнесите вещи и приходите ужинать с остальными. Столовая там.
И она уходит… так поспешно, что мне кажется, будто она снова вот-вот расплачется.
Я не понимаю, что происходит.
В спальне для девочек я вижу на одной из кроватей свой чемодан.
Я пробегаю через дортуар, хватаюсь за чемодан, лихорадочно пытаюсь открыть защелки, пальцы у меня дрожат, и получается не сразу, но крышка наконец откидывается.
Никаких следов Анабеллы. Я переворачиваю вещи вверх дном — все тщетно. Я сворачиваюсь тугим клубком на кровати, прижимаю кулаки к глазам и шепчу сквозь стиснутые зубы: что со мной будет? Во всем мире у меня остался только Янек, но и его скоро отнимут.
Янек говорит, что мы в монастыре, потому-то все здания похожи на церкви: добрые сестры помогают американцам. Меня представляют остальным обитателям центра: здесь живут сорок шесть несчастных, замкнувшихся в себе детей — семнадцать девочек и двадцать девять мальчиков в возрасте от четырех до четырнадцати лет, но они мне неинтересны. Никто не хочет тут оставаться, это ненастоящее место, пересадочная станция между прошлым и будущим. Все мы только и делаем, что думаем о прошлом — я мечтаю, чтобы вернулась прежняя жизнь с часами на колокольне, маленькими ветряными мельницами, церковью, каруселью, шкатулкой для драгоценностей, пианино, дрезденскими почтовыми открытками, ведь будущее — это один огромный знак вопроса.
— Как мисс Мулик узнала про мою родинку?
— Наверное, где-нибудь есть твое досье. Она взяла и заглянула.
— Но что это значит?
— Я не знаю.
Начинается новая скучная жизнь, один бесконечный день тянется за другим.
По утрам, убрав постели и сделав зарядку, мы отправляемся на пешую прогулку по окрестностям. После обеда нас делят на маленькие группы, и мы идем на урок. Я ужасно скучаю, потому что другие девочки даже не умеют читать и мне приходится все начинать с нуля. Я хотела бы помечтать, чтобы отвлечься, но не знаю о чем. Любое направление мыслей заводит в тупик, ведь я не та, кем себя считала, и не знаю, кто я. После урока чтения я вместе с двумя девочками иду заниматься английским. Учителя зовут мистер Уайт[5], и это смешно, потому что он чернокожий. Мистер Уайт — американский негр, кожа у него шоколадного цвета — повсюду, кроме ладоней и губ, они коричневато-розовые или розовато-бежевые. Он учит нас произносить «mummy» и «daddy», «please» и «thank you», «what a nice day» и «I am your daughter» и говорит, что у меня отличный слух и замечательное произношение.
— Тебя тоже учат английскому?
— Нет.
— А меня почему учат?
— Не знаю, сестричка.
Янек теперь зовет меня сестричкой, потому что просто не знает, как еще ко мне обращаться. Может, мисс Мулик была права насчет «Клары»?
Наступает мой седьмой день рождения, но я об этом даже не вспоминаю.
По ночам, в постели, мое собственное тело составляет мне компанию. Я считаю и пересчитываю пальцы, пытаясь повторить фокус, которому меня научил дедушка (у него получалось не десять, а одиннадцать пальцев), но задурить голову самой себе непросто. Еще я ковыряю в носу — это одна из тех вещей, которыми можно заниматься, когда тебя никто не видит. Я выковыриваю грязь из пупка, обследую заветную горячую щелку, а потом нюхаю и облизываю пальцы. Иногда я пытаюсь вылизать себя повсюду, как делает кошка, когда умывает котят, но не везде могу достать языком. Я выворачиваю нижнюю губу и сразу вспоминаю, как дедушка говорил, когда я дулась: «На сердитых воду возят. Крис тина!» А еще у него была смешная до колик шутка. Он спрашивал: «Можете высунуть язык и дотронуться до носа?» Мы с дедушкой смеялись до слез, глядя, как они скашивают глаза, тщетно пытаясь достать до носа языком, а потом он говорил: «Смотрите, как это легко!» — высовывал кончик языка и дотрагивался до носа указательным пальцем.
Я глажу пальцем родинку и вполголоса напеваю под одеялом: раз в неделю я мысленно пою все песни моего репертуара со словами, чтобы не забыть ни одной, бесшумно пою часами, другие девочки вздыхают и сопят, и мне это мешает, когда все песни исполнены, я начинаю повторять таблицу умножения, а потом называю буквы алфавита с конца, все быстрее с каждым разом, и через несколько недель скорость произнесения «туда» сравнивается со скоростью произнесения «обратно», и не важно, что я не знаю, для чего в один прекрасный день может пригодиться эта «доблесть».
Листья на деревьях рыжеют и темнеют, сморщиваются, трескаются, и ветер сбрасывает их на землю. Я стою у окна спальни и смотрю, как блекнут и, медленно кружась, слетают на землю листья. Никогда еще мне не было так грустно: моя жизнь утратила краски, иногда я тоже хочу скукожиться, как листок, упасть, уронив голову на руки, и умереть.
И вот наступает 18 октября — день Великого Поворота. Мы с Янеком уже два месяца живем в центре, многих детей за это время увезли, другие появились, теперь настала наша очередь.
— Ну… — спрашивает Янек, когда мы сходимся на ежевечернюю беседу.
Мы сидим бок о бок на верхней ступеньке лестницы, на улице совсем темно и ужасно холодно. Я не надела пальто, и это очень кстати — можно дрожать вволю, а именно этого мне сейчас хочется больше всего на свете.
— Ну… — повторяет он, глядя в какую-то воображаемую точку у себя под ногами, хотя там ничего нет. — Они сказали, что тебя ждет?
— Да. А тебе?
— Да.
— Рассказывай.
— Сначала ты.
— Нет, ты.
Я вижу, как у него цепенеют челюсти, он изо всех сил сжимает зубы, чтобы даже словечко не сорвалось с языка.
— Расскажи мне, Янек…
Он издает полувздох-полурыдание, набирает в грудь воздуха, немыслимо долго задерживает дыхание и наконец говорит:
— Мои родители погибли, мой брат погиб, вся моя семья погибла, они точно знают, что никого не осталось… и помещают меня в пансион.
— Что? Куда?
Он изо всех сил сжимает ладонями колени, но я в темноте не вижу, побелели фаланги его пальцев или нет, вообще-то они всегда белеют, потому что кости притискиваются к коже, раздвигая кровеносные сосуды… кажется, таково научное объяснение.
— Куда, Янек?
— В Познань. У меня дядя в Познани. Они хотят отправить меня к нему на следующей неделе.
— Но… твои родители, как они погибли?
— Мне не сказали. Они уверены, но доказательства представить отказались. Считают, что я должен верить им на слово, что это для моего же блага, и ехать в Познань.
Мы долго молчим, тишина обволакивает нас, укачивая в своих объятиях.
— Ладно… как они поступят с тобой? — говорит Янек, когда молчание становится невыносимым, я собираюсь с силами, чтобы ответить, предчувствуя, что Янеку мой ответ не понравится.
— Они посылают меня в Канаду.
— В Канаду? Зачем? Я думал, им известно, кто твои настоящие родители!
— Тут что-то странное, Янек. Я сидела в коридоре, а они ждали в кабинете директора и говорили по-английски, вернее, кричали, и я разобрала слова. Директор спрашивал: «Но как быть с письмом матери?» Мисс Мулик отвечала: «Украина под властью красных». Директор снова: «Но письмо…» А она ему: «Этого письма не было, договорились? Мы никогда не пошлем Клару к красным!» Что все это значит?
— Я думаю… Думаю, красные — это русские, — отвечает Янек.
— Потом меня позвали в кабинет… а директор ушел. Мисс Мулик сказала, что у нее ко мне особые чувства, потому что она тоже украинка… У нее друзья-соотечественники в Торонто по фамилии Крисвоти, у них нет своих детей, и они будут счастливы меня удочерить. Получится, что я буду жить со своими соотечественниками, в большой богатой стране, и стану носить фамилию Крисвоти.
Янек молчит, давая мне время успокоиться.
Потом медленно произносит:
— Познань, Торонто.
Я слушаю его голос, и на меня наваливается ужасная тяжесть, она давит, прижимает к холодному серому цементу лестницы, и мне начинает казаться, что я больше никогда не смогу встать.
— Это невозможно, — шепчу я.
Янек поворачивается, убирает волосы с моего лица, ощупывает его кончиками пальцев, как слепой.
— Слушай меня внимательно, мисс Крисвоти, — говорит он наконец. — Они могут отправить меня в Познань, а тебя в — Торонто, они могут изменить наши имена, снабдить нас фальшивыми документами, фальшивыми родителями и фальшивой национальностью, но кое-что им не под силу — они НЕ могут нас разлучить Поняла? Мы всегда — всегда! — будем вместе, и с этим они не справятся. Мы знаем, кто мы есть на самом деле, и мы здесь и сейчас выберем себе истинные имена, которыми и будем зваться с сегодняшнего дня. Готова, сестричка?
Я завороженно киваю.
— Хорошо.
Янек берет мою левую руку, отодвигает рукав свитера и целует родинку. Губы у него ледяные, тело сотрясает дрожь.
— Я с тобой… здесь, — говорит он. — Мое настоящее имя — Лют, потому что мой отец делал лютни в Щецине. Мое имя происходит от названия этого инструмента, так оно звучит на всех языках. Дотронься до родинки или просто подумай о ней — и почувствуешь, что я вибрирую в тебе, как струны лютни, аккомпанирую тебе, когда ты поешь. Лют, Лют, Лют. Повтори.
— Лют, — говорю я. — Лют, Лют.
— Теперь выбирай имя для себя.
Имя вспархивает надо мной, как птица в небо, и я тихо-тихо произношу:
— Эрра.
— Эрра, — повторяет он. — Эрра. Да, это то, что надо. Я забираю Эрру с собой в Познань, а ты увозишь Люта в Торонто. Эрра и Лют. Тебе нравится?
— Лют и Эрра.
— А потом, когда-нибудь… Я найду тебя. Когда мы вырастем. Я отыщу тебя очень быстро — по твоему пению.
— И мы будем вместе всю жизнь.
— Да. Давай дадим клятву.
Он приложил два пальца к моей родинке и сказал:
— Я, Лют, клянусь, что люблю Эрру, найду ее и останусь с ней навсегда. Твоя очередь.
— Я, Эрра, клянусь любить Люта, встретиться с ним снова и остаться вместе навсегда.
Наша клятва была очень серьезной и торжественной, а назавтра Янек исчез, повергнув весь центр в хаос, а неделю спустя я стояла на палубе корабля и смотрела на убегающие вдаль серые волны Атлантики.
От автора
В период между 1940 и 1945 гг., чтобы восполнить понесенные на войне людские потери, на территориях, оккупированных вермахтом, осуществлялась обширная программа «германизации» детей разных национальностей. По приказу Генриха Гиммлера в Польше, на Украине и в Прибалтийских странах было похищено больше двухсот тысяч детей. Школьников отправляли в специальные центры, где они должны были пройти «арийское» обучение; малыши, в том числе множество грудных детей, прошли через центры Лебенсборна («жизненный источник» — пресловутые нацистские «конюшни»), а потом были отданы на усыновление в немецкие семьи.
После окончания войны UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), при содействии Организаций помощи перемещенным лицам, вернули около сорока тысяч детей в родные семьи.
Источники
Марк Гиллель. Во имя расы. — Файяр. Париж, 1975.
Гита Серени. Немецкая травма: Опыт и размышления, 1938–2001. — Пингвин. Лондон, 2001.
Фернанда Венсан. Знаешь, кто такой Гитлер? — «Дружба через книгу», Безансон.
Ева Варшавяк. Как я стала демократкой. — Изд-во «НВ», Эг-Вив (Гард), 1999.
А также:
Документальный фильм Шанталь Ласбат «Лебенсборн» (1994).
Интернетовские сайты.
Примечания
1
Рядовая армии США, в 2005 г. приговоренная к трем годам тюрьмы за издевательства над заключенными в иракской тюрьме Абу-Грейб. (Здесь и далее примеч. переводчика.).
(обратно)2
Гражданин США, взятый в заложники и казненный в Ираке в мае 2004 г. Видеозапись казни была размещена на сайте террористической группировки «Мунтада аль-Ансар».
(обратно)3
Поцелуй по телефону (англ.).
(обратно)4
Искаженное «Put your head on my sholder» — «Положи голову мне на плечо», строчка из песни Пола Анки.
(обратно)5
Уайт (white) по-английски — белый.
(обратно)
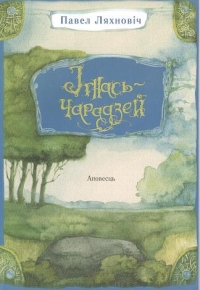

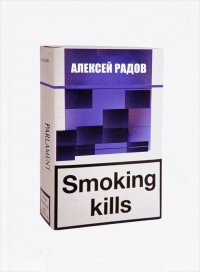






![Банда слепых и трое на костылях[истерический антидетектив]](https://www.4italka.su/images/articles/521946/primary-medium.jpg)
Комментарии к книге «Линии разлома», Нэнси Хьюстон
Всего 0 комментариев