Юрий Павлович Герман Один год
С утра до вечера
Окошкин
За завтраком, по обыкновению, Окошкин рассказывал истории, которыми его начинял начальник музея Грубник – ходячая летопись всех уголовных происшествий во всем мире.
– Вот еще тоже ничего себе фрукт был, аферист класса «экстра», – говорил Вася, засовывая в рот непомерно большой кусок хлеба с маслом и тараща глаза, – некто Отто Стефан, не слышали, Иван Михайлович?
– Не слышал.
– Это после войны четырнадцатого года случилось, после империалистической бойни, когда в Берлин, в Германию, приехала комиссия военного контроля…
– Между прочим, что Берлин в Германии – мне известно, – сказал Лапшин.
– Ну вот, – продолжал Окошкин, – вы слушайте, Иван Михайлович, это здорово интересно. Встретил комиссию прусский генерал Тюдерен, и притом в полной парадной форме. Приветствовал чин чинарем и о багаже так любезно позаботился. Багаж, конечно, пропал. На целые миллионы.
– Про миллионы – соврал, – шурша газетой, заметил Лапшин. – Сознайся, Василий. А?
Но Окошкин захохотал и не сознался. Немецкая марка тогда ничего не стоила – вот в чем все дело. Так что по тем ценам багаж, может быть, и в миллиарды обошелся комиссии военного контроля.
– А у тебя за них душа болит, да?
– Не болит, но должны же мы знать преступное прошлое, – возразил Окошкин. – Изучать должны, анализировать.
– Ты свою квартирную кражу на Васильевском лучше бы анализировал, – посоветовал Лапшин. – Уже вроде бы третий месяц анализируешь.
Окошкин сделал оскорбленное лицо и сходил к почтовому ящику за газетой. Когда он вернулся, из репродуктора доносились тоненькие звуки музыкальной передачи для детей, Патрикеевна – домоуправительница Ивана Михайловича – сердито убирала со стола, а Лапшин делал пометки в своем «псалтыре», так в обиходе называлась его записная книжка в потрепанном клеенчатом переплете. Так как Василий Никандрович не умел долго молчать, то он почитал кое-что из газеты вслух и прокомментировал Лапшину и Патрикеевне новости:
– Ничего себе собаки! – сказал Вася. – Совсем расхамились. Чиано и Риббентроп встречаются на днях в Вене – делить Чехословакию. Видали?
– То ли еще будет, – рассеянно ответил Лапшин.
Патрикеевна с хлебницей в руке сказала зловеще:
– Катятся по наклонной плоскости, вот что!
Она любила такие выражения, но употребляла их обычно несколько загадочно.
Вася прочитал еще про дрейф «Седова», про бомбардировку Мадрида, про изгнание евреев из Германии и опять вернулся к Мюнхену.
– Крепко им товарищ Эренбург дает! – произнес Окошкин. – Наверное, Адольф здорово ругается, когда читает про себя такие выражения.
– Коричневая чума! – заметила Патрикеевна вскользь.
Лапшин посмотрел на нее снизу вверх, встал и пошел в переднюю одеваться. Окошкин поплелся за ним. Ему хотелось еще почаевничать, полистать журнал, но возражать Ивану Михайловичу было бесполезно. Единственное, что посмел Вася, – это намекнуть насчет машины.
– Пешочком полезнее! – холодно ответил Лапшин.
– Но если положена машина и Кадников все равно ждет. Да и вообще, в вашем возрасте…
– Ты за своим возрастом следи, – посоветовал Иван Михайлович. – Тоже, «в вашем возрасте»…
– Если вы начальник и заслуженный товарищ…
– Оделся?
И они вышли на морозец, оба высокие, статные, Лапшин покряжистее, Вася еще юношески легкий, гибкий, невероятно болтливый, до того, что Иван Михайлович иногда даже морщился, словно от головной боли. До самых Пяти углов Окошкин говорил не останавливаясь, – выспавшийся, с блестящими глазами, переполненный энергией. На все ему нужно было отвечать, на все решительно.
– А? – спрашивал Вася. – Верно, как вы считаете? Психологически правильно? А?
Василий Никандрович Окошкин – он же Васька – возник в жизни Лапшина давно. Как-то ему доложили, что его желает видеть какой-то мальчик по неотложному делу. Лапшин оторвал взгляд от протокола допроса, подумал и переспросил:
– Какой такой мальчик?
– Ну, мальчик, товарищ начальник. Так вроде бы приличный…
Приличный мальчик сел в предложенное ему кресло и, страшно побагровев, сказал, что желает работать в органах уголовного розыска. Сейчас он заканчивает учебу в школе и параллельно изучает в тире стрельбу, а также с одним частным лицом (Васька тогда утаил, что частным лицом был его дружок, по кличке «Гаврош») изучает джиу-джитсу. Он недурной велосипедист, неплохо плавает, знаком с химией в пределах, необходимых для работы в розыске. Судебную медицину, правда, знает только теоретически…
Здесь, под взглядом Лапшина, мальчик вдруг словно бы скис.
– Пир… Пил… Пинкертона читал? – спросил Лапшин. Ему с трудом сразу давалось это слово.
– Читал! – кивнул Окошкин.
– И Шерлока читал?
– Читал. И читал про вас, товарищ Лапшин, в «Красной вечерней газете», как вы…
– Да, Пиркентон… – задумчиво произнес Лапшин. – И Шерлок… Играл на скрипке. Трубку курил. «Положите бумаги на солнечные часы». Его друг Ватсон…
– Доктор Ватсон, – поправил Окошкин почтительно. – Знаменитый, который в истории обряда дома Мейсгревов…
Лапшин серьезно, без усмешки, смотрел на мальчика. Тот напомнил ему пять зернышек апельсина, пляшущих человечков, собаку Баскервилей и высказал свое суждение о дедукции в сыскном деле.
– Вы разве не согласны со мной? – спросил наконец мальчик.
Лапшин молчал.
– Конечно, я понимаю, что Шерлок Холмс защищал интересы правящих классов, – горячась и опять краснея, заговорил Окошкин, – но тем не менее мы не можем игнорировать его метод. Дедукция – такой способ…
– Ты вот что, друг, – перебил Лапшин, – ты, сделай одолжение, закончи сначала школу. Начнут у тебя усы прорезываться, бороденка, заговоришь побасистее, побреешься, пиркентонов своих закинешь на шкаф. Тогда и подумаешь, как тебе быть, куда идти, куда заворачивать. А сейчас мало ли… еще в пожарные захочешь пойти, и в летчики, и в моряки… У нас ведь тут дело трудное, скучное… Например, скажу я тебе… чердачная кража. Украли у дворничихи две простыни, споднее тоже украли, юбку… Вот и ищем. Трудящийся человек, надо отдать вещички…
– Разумеется, – подтвердил Окошкин. – Дактилоскопия, привлекаются служебные собаки…
– Вот придешь работать – тогда увидишь.
Мальчик ушел расстроенный. А через шесть лет, когда в милицию прибыло пополнение по мобилизации комсомола, Лапшин узнал в одном из новичков того самого мальчика, которому советовал «закинуть пиркентонов на шкаф». Юноша трудился неумело, но старательно и даже страстно, и вскоре Лапшин взял его в свою бригаду. Внимательно приглядываясь к Окошкину, Иван Михайлович решил про себя, что у Василия Никандровича горячее сердце и чистые руки, не хватает же ему холодного ума, а именно три этих слагаемых, по формуле Дзержинского, и составляют настоящего чекиста. «Наживет со временем и ум, – думал Лапшин, – а вот с горячим сердцем, пожалуй, надо родиться».
В первой же серьезной перепалке Окошкин показал себя человеком далеко не трусливым, хотя и изрядно бестолковым, за что и получил соответствующее внушение.
– Лезть под пулю ума не требуется, – говорил Лапшин багрово-красному Василию, – а вы сунулись, даже не предполагая, что вам окажут вооруженное сопротивление…
– Я не мыслю себе… – начал было Окошкин.
– Мыслят мыслители, – сурово сказал Лапшин, – а толковому оперативному работнику надо соображать. Идите.
Окошкин ушел. Тупо-сухие звуки пистолетной пальбы еще не забылись ему. И то, как повис он на руке бандита, и то, как оба они упали на вонючий асфальт, и то, как блеснул нож, – все это произошло так недавно, всего два часа назад, и никто не поблагодарил Василия, никто не пожал ему руку «коротко и сильно», как бывает это в книгах, никто не призвал брать пример с мужественного и скромного комсомольца товарища Окошкина. Ничего себе угодил он в коллективчик! И ухо саднило – бандит в драке больно его укусил.
В санчасти к укушенному уху отнеслись тоже довольно бездушно. Намазали йодом и заявили, что все в порядке.
– А если у меня хрящ перекушен и теперь ухо повиснет, как у сеттера? – спросил Окошкин.
– Не повиснет! – таков был ответ.
То, что Лапшин сказал Окошкину насчет мыслителей, было уже откуда-то известно в бригаде, и старший оперуполномоченный Бочков теперь часто говорил Василию:
– Вы мыслите так, а я рассуждаю иначе.
Раза два в неделю Иван Михайлович спрашивал:
– Ну как, Окошкин? Отыскались чемоданы?
– Вот, ищу, товарищ начальник.
– А собаки? А дактилоскопия? А дедуктивный метод.
– Так какие же собаки? Она заявление написала через восемь дней после кражи. Поразительная, должен отметить, несознательность. Мы тут тоже не боги, мы люди…
– Да ну? – удивлялся Лапшин, уходя к себе.
Вначале Окошкин обижался на своих товарищей по работе и даже на самого Лапшина, но потом, и довольно скоро, понял, что подшучивать друг над другом, замечать самомалейшие черточки хвастливости друг в друге и выставлять эти черточки на всеобщее осмеяние, никогда не произносить высокие слова и даже наоборот – все крупное, из ряда вон выходящее превращать в норму поведения – таков тут стиль работы, иначе нельзя, иначе пропадешь. И не Бочков, и не Побужинский, и не сам Лапшин это придумали, так здесь повелось с того далекого времени, когда на смену старым царским сыщикам пришли работать парни с Лесснера, с фабрик Голодая, матросы из Ревеля, суровые солдаты в пропотевших гимнастерках. Тогда погнали отсюда полицейских репортеров в канотье и в котелках, заломленных на ухо, тогда исчезли из газет заголовки типа «Кроваво-кошмарная драма на Гончарной»; наверное, именно тогда, как казалось Окошкину, был издан приказ о запрещении хвастаться.
Впрочем, все это теперь для Окошкина не имело большого значения. Он пошел в ногу с лапшинской бригадой, хотя наедине сам с собой еще и употреблял такие фразочки, как «холодный глаз пистолета», «львиная отвага» или «скупая мужская слеза».
Тем не менее работать Окошкину было не легко, и далеко не сразу он понял, что к чему в бригаде у Лапшина.
Однажды Василий, очень бледный, в черной старенькой косоворотке под пиджаком и в сапогах бутылками, вошел в кабинет к Ивану Михайловичу и сказал срывающимся голосом:
– Товарищ начальник! Положение складывается так, что я у вас работать не могу категорически.
– Это с чего же? – спокойно удивился Лапшин.
– А с того, что вы совершенно невинных людей, да еще больных, арестовываете. Это ужасно – то, что здесь происходит. И я не намерен потакать, а желаю вывести некоторые явления на чистую воду ввиду нетерпимости вопиющих фактов…
– Может, вы заболели? – осведомился Лапшин. – Или личные неприятности?
– Я не шучу! – почти крикнул Окошкин. – Здесь происходят средневековые жестокости.
– Застенок здесь? – улыбаясь, спросил Лапшин.
От этой улыбки Василию стало немножко не по себе, но он не сдался.
– Да, – сказал Окошкин, – это ужасно!
– Кого вы допрашиваете? – спросил Лапшин.
– По обвинению в вооруженном налете Чалова Ивана Федоровича, – скороговоркой сказал Окошкин. – Но он в налете участия не принимал, он душевнобольной. А мне приказывают…
– Пойдем! – сказал Лапшин.
Они вошли в комнату, где был стол Окошкина. Чалов в шапке сидел за столом и, мелко нарывая бумагу грязными пальцами, ел кусочки один за другим.
– Хорошо, – при этом говорил он, – люблю, хорошо…
В глазах у него было отвращение, и кадык, как и все горло, содрогался от рвотных судорог.
– Встать! – сказал Лапшин.
Чалов встал.
– Узнаешь? – спросил Лапшин.
– Хорошо, – падающим голосом пробормотал Чалов, – люблю, хорошо…
Подумал и прибавил:
– Семьдесят один.
Некоторое время Лапшин молча глядел на Чалова. Тот было еще протянул руку к бумаге, чтобы пожевать, но под взглядом Лапшина сжал пальцы в кулак.
– Был ты хороший вор, – сказал Лапшин, – и никогда не филонил. Взяли тебя – значит, и отвечай за дело. По мелкой лавочке идешь, Моня. Стыдно!
– Семьдесят один, – сказал Моня, – тридцать два, сорок.
– Ну и дурак! – сказал ему Лапшин. – Как был дурак, так и остался дураком. Сявка![Безобидный воришка.]
Моня снял с головы шапку, бросил ее на пол, наступил на нее ногой и сказал решительно:
– Начальничек, ты меня прости, это – Моня. Это Моня, как в аптеке. Это не Чалов. Это Моня, живой и здоровый, жизнерадостный и приветливый, как первый луч солнца. Это не Чалов. Хорошему человеку, имеющему то, на что одевают шляпу, – завсегда расколюсь. А если меня колет ребенок и сам с этого плачет, тогда извините…
И он косо, величественно и пренебрежительно взглянул на Окошкина.
Моню увели в камеру, а Лапшин с Окошкиным просидели в кабинете часа два. Лапшин сидел на подоконнике, покуривал и говорил:
– Вы, Окошкин, еще действительно ребенок и многого не понимаете. Вернее – недопонимаете. Допустим, интересует вас вопрос террора. Товарищ Ленин неоднократно указывал, что террор навязан нам терроризмом Антанты. Я в ЧК давно работаю и сам помню, как обстоятельства складывались. Об этом и товарищ Ленин писал, и товарищ Дзержинский нам, молодежи, разъяснял. Например, после революции семнадцатого года советская власть даже не закрыла буржуазные газеты. Министров Керенского из-под стражи освободили, сволочь Краснова, который на нас шел. А вот когда мировая буржуазия заговор учинила, когда Маннергейм, Деникин, разные другие на деньги капиталистов собрались с нами покончить, тогда пришлось и нам ответить террором…
Окошкин слушал внимательно, Лапшин вдруг спросил:
– Ты Ленина читаешь?
– Изучал…
– Изучал! Его, товарищ Окошкин, нужно том за томом внимательно читать. Тогда и разбираться помаленьку начнешь. И Дзержинского, советую тебе, тоже читай, читай и вдумывайся…
– А вы Ленина видели? – спросил Окошкин.
– И видел, и охранял, и слышал.
– Вы – лично?
– Я – лично.
– Страшно было?
Лапшин усмехнулся, разминая пальцами новую папиросу.
– Почему страшно? Смешно было. Он это не любил, чтобы его охраняли, сердился. Ну, мы так, осторожненько. Чтобы не замечал он нас. А он, Владимир Ильич, к нашим рожам-то привык, выйдет и со всеми за руку. Какая уж тут может быть негласная охрана!
– И с вами за руку?
– И со мной.
Василий почтительно посмотрел на большую крепкую руку Лапшина. А Иван Михайлович рассказывал о своем бывшем начальнике Алексее Владимировиче Альтусе, о том, как тот повел на расстрел белых офицеров и как спросил, какое у них будет последнее желание.
– И тогда один из этих беляков – слышь, Окошкин, – заявляет: «Делайте ваше дело, господин красный пролетарий, потому что когда наши вас поставят к стенке, то, поверьте слову бывшего фанагорийца, не спросят, какое такое ваше желание…»
Они разговаривали еще долго, и в заключение Вася сказал со вздохом:
– Интересную жизнь вы прожили, Иван Михайлович.
– Это почему же прожил? – насупился Лапшин.
– То есть я не так хотел выразиться, но в общем-то вы пожилые…
– «Пожилые»! – передразнил Лапшин и вдруг вспомнил, что когда был в Васиных годах, то все, которым за тридцать, казались ему стариками.
Они вышли из Управления вместе, и Окошкин проводил Лапшина до самого дома.
– А то хочешь, пойдем ко мне? – сказал Лапшин: – Будем боржоми пить…
Один раз в своей жизни он был в Боржоми, и с тех пор у него осталась любовь к этому месту. Темные бутылки с водой, пахнущей йодом, напоминали ему душные вечера в парке, прогулки в горы, любезного и обходительного врача, книги, которые он там прочитал…
Окошкин попил с ним боржому, поел огурцов с помидорами, погодя сказал, перейдя на почтительное «ты»:
– Я у тебя переночую, Иван Михайлович. Мне сейчас уже некуда идти.
– То есть как это некуда? – не понял Лапшин.
– А у меня комнаты нету, – сказал Окошкин, – я у товарищей ночую. У меня сестренка разродилась, и мама к ней приехала, так что мне спать совершенно негде.
Он махнул рукой.
– Ну, ночуй! – сказал Лапшин. – Если так, то уж ночуй!
Сняв со стены гитару, он потрогал струны и запел украинскую песню с мягкими и печальными словами. Пел Лапшин плохо, врал и любил аккорды позадушевнее. Окошкин взял у него из рук гитару и, сделав лицо идиота, спел очень глупую частушку.
– Это да! – сказал Лапшин удивленно.
Потом Окошкин два дня сидел в засаде на Стремянной улице – поджидал жуликов, и Лапшин его не видел и не думал о нем. Но когда Васька явился, Лапшин обрадовался ему и терпеливо выслушал весь его рассказ о том, как ждали, как нечего было пить, потому что внизу ремонтировали водопровод, какие смешные и замечательные даже истории рассказывал «старик» Бочков, как «повязали» жуликов и какой «колоссальный» и «поразительный» «старик» Побужинский.
«Тоже – старики!» – подумал грустно Лапшин.
А из Окошкина в это самое время, как из прохудившегося мешка, вдруг посыпались блатные слова. Тут были и «болотник», и «колода», и «щипач», и «клифт», и «мокрушник», и «хавира», и «майдан», в общем, решительно все или почти все, что Василий успел запомнить за свою не слишком долгую деятельность в уголовном розыске.
Лапшин слушал молча, с выражением тоскливого недоумения на лице, потом резко прервал Окошкина и велел ему на веки вечные выбросить из своего лексикона всю эту пакость.
– Но специфика… – попробовал возразить Окошкин.
– Я вам такую специфику покажу, что небо с овчинку покажется! – багровея, крикнул Лапшин. – Здесь все этот язык получше вашего знают, но стыдятся его, а не хвастают жаргоном преступного мира. Мы здесь нормальным русским языком говорим и только в случае крайней необходимости расшифровываем то, что нуждается в расшифровке. Не опускаться до блатного языка мы должны, но заставлять преступника разговаривать здесь нормально. Ясно?
Ему на мгновение стало жалко загорелого Окошкина, только что такого веселого и довольного жизнью, а теперь подавленного и растерянного. Но, пожалуй, лучше, если Окошкину достанется от него, чем от кого-либо другого.
Почему?
Он не знал этого, как, впрочем, не знал и того, что успел привязаться к Окошкину, к его открытому сердцу, к его смешливости, неустроенности, чистоте, порывистой смелости, к его вере в людей. И, проводив глазами Василия, понуро уходившего из кабинета, Лапшин вдруг надолго задумался над грудой спешных и важных бумаг.
С силой и ясностью представился ему он сам, таким же молодым, как Окошкин, но неловким, что называется «деревенщиной», совсем почти неграмотным, с вечно сосущим, почти физическим голодом по «справедливости», которую осуществлял под руководством старых большевиков и молодых чекистов сначала в Петрограде, потом в Москве. Упрямо и с неимоверным трудом читал он тогда книги по судопроизводству и праву, ничего в них толком не понимая, потом понимая и отрицая, потом отрицая со злобой. Все старые законы и судебные установления казались ему обращенными в защиту сильных, в защиту богатых, в защиту тех, кто убил его отца. В те далекие дни, затягиваясь зеленым махорочным дымом, они – молодые чекисты на Лубянке и на Гороховой – впервые стали защищать мир угнетенных от мира угнетателей. Ошибаясь и нервничая, полуголодные и лихорадящие, они бешено спорили друг с другом, ощупью искали свою истину и в муках сами рождали ее. Речи Ленина и уроки каждого дня победившей революции, первый субботник и песня «Мы – молодая гвардия рабочих и крестьян», сочиненная комсомольцем Безыменским, – все обсуждалось чекистами в перерывах между допросами, очными ставками, арестами и обысками. Жизнь творила нормы поведения, вырабатывала еще неписаный кодекс новой справедливости, небывалой в мире.
Теперь все стало спокойнее. Ее, эту отвоеванную справедливость, надо только бережно охранять. Как-то справятся с охраной нового правопорядка парни вроде Окошкина, не испытавшие настоящего лиха, не знавшие того горя, которое знало поколение Лапшина!
«Справятся ли?» – спрашивал себя Лапшин. И отвечал: «Справятся, если учить по-настоящему. Чтобы действительно у каждого было горячее сердце, холодный ум и чистые руки!»
Несколько раз Вася Окошкин ночевал у Лапшина, потом как-то невзначай спросил:
– Иван Михайлович, а что, если я у вас немного поживу?
– Поживи немного, – сказал ему Лапшин. – Только гулянок у меня не устраивай, не люблю.
– Боже сохрани! – сказал Вася.
У него не было почти никаких вещей, зато была масса желаний: он хотел сшить себе сапоги, как у Побужинского, собирался купить велосипед, рассуждал, что бриться нужно самому, а для этого необходим бритвенный прибор, хотел купить настольный вентилятор, зажигалку, охотничье ружье и уйму других вещей. Как все люди, страстно желающие чего-либо, он научился быстро и ловко оправдывать каждое свое желание. Так он говорил, что велосипед экономит время и развивает мускулы ног, которые у него, у Васьки, почему-то ослабли; бритвенный прибор ему был нужен для экономии, чтобы не бриться в парикмахерской; настольный вентилятор, по его мнению, обеспечивал очень высокую производительность труда в жаркие летние дни; зажигалка экономила деньги, затрачиваемые на спички, и т. д. Все эти рассуждения очень утомляли Лапшина, и, когда Васька начинал болтать о своих мечтах, Лапшин ему говорил: «Отвяжись!» – и ложился на кровать лицом к стене. Мечты оставались мечтами: Васька получал немного, половину из каждой получки отдавал сестре, а остальное растрачивал с жаром и рвением в два-три дня. Деньги жгли ему руки, он обожал дарить и покупал все, что подворачивалось под руку: мундштук, камеру для футбольного мяча, носовые платки, распялку для костюма, ароматическую бумагу «Фиалка», комплект журнала за прошлый год и прочее в таком же роде.
– На, товарищ Лапшин, – говорил он, вынимая из кармана коробочку мятных лепешек. – Это тебе!
– А чего это?
– Такие штучки, – говорил Васька, – для освежения во рту.
– Да у меня во рту и так свежо, – отвечал Лапшин, недоуменно вертя пальцами коробочку. – Что тебе в башку взбрело?
За стол и квартиру Лапшин у Васьки ничего не брал, и Васька в благодарность покупал «для дома» то чайное полотенце с петухами, то зубную пасту, то дорогих папирос или ветчины. Васькино присутствие причиняло Лапшину много хлопот, но это не раздражало его, наоборот, ему нравился тот шумный беспорядок, который Васька удивительно быстро создавал вокруг себя. Изводили Лапшина только вечные телефонные звонки, которые начались вслед за Васькиным въездом. Звонили всегда только женщины, и так как ни Васьки, ни Лапшина днем дома не бывало, звонили ночью. Телефон висел над кроватью Лапшина. Сонный, он снимал трубку, и женский голос спрашивал:
– Васеныш?
Они давали Окошкину каждая свое имя, и поэтому Лапшин никогда не понимал, кого спрашивают.
– В чем дело? – кричал он, раздражаясь. – Кого вам надо?
Васька просыпался от крика, но не подавал признаков жизни, надеясь, что как-нибудь обойдется без него и что ему не придется вставать.
– Какой вам номер нужен? – надрывался Лапшин.
Женщина, пугаясь, вешала трубку, а Васька говорил:
– Постоянно телефонная станция путает номер. Экое безобразие…
Если же голос в трубке объяснял, что Васюрка, или Вавка, или даже Котик – на самом деле Окошкин, то Ваське приходилось вставать с постели, и тогда он томительно долго болтал над головой Лапшина, не давая ему заснуть и раздражая его до того, что Иван Михайлович кричал:
– Ты дашь мне спать или нет, черт паршивый? Третий час ночи! Нашел время…
– А я виноват? – огрызался Васька, закрывая ладонью трубку. – Чего вы орете?
Утром он оправдывался и говорил, не глядя в глаза Лапшину:
– Ей-богу, Иван Михайлович, она по делу. Это моей сестренки подруга Катька Осокина. Не знаете?
– Не знаю, – мрачно отвечал Лапшин.
Но наступал день с работой и делами, Васька являлся в кабинет к Лапшину с докладом, стоял перед столом смирно и докладывал, и говорил уже «не товарищ Лапшин», а товарищ «начальник», и выяснялось, что дело, которое он вел, шло блистательно, а главное с легкостью, без пота, бестолковой беготни, без многословия и проволочек – одним словом, шло так, как должно было идти в бригаде Лапшина. И Лапшину делалось жалко Ваську, и он говорил ему что-либо примиряющее, но строгое, например:
– Побрился бы ты, товарищ Окошкин! Эдак не годится.
Или:
– Тут-то у тебя ладно, а вот почту ты не очень читаешь.
Или еще:
– Прошу заняться комнатой для ожидающих! Там черт знает что творится. Посажу под арест, тогда поздно будет.
На что Васька неизменно отвечал:
– Слушаюсь. Можно идти?
– Идите, – говорил Лапшин и строго глядел в спину Окошкину, шедшему к двери.
Вася был способным работником и любил дело, оно казалось ему самым интересным на земле, и, кроме того, он был еще, что называется, «грамотным»: специальные юридические работы читал легко, улавливал в них основную мысль, быстро и без напряжения писал необходимые бумаги, но не хватало ему еще выдержки и упорства – жизнь этому поколению далась куда легче, нежели сверстникам Ивана Михайловича. И Лапшин нарочно придерживал его на должности помощника уполномоченного, хотя Окошкин почти самостоятельно вел дела.
– Вот так, товарищ Окошкин, – говорил он ему, – нервничаете часто, в уныние впадаете. То «всё в порядочке, завтра повяжем жуликов», а то «гнать меня надо, я позорю бригаду, я – тупое ничтожество». Нехорошо. И подкованы вы теоретически, и голова у вас не пшеном набита, и желание есть работать, а выдержки не хватает.
Относился Лапшин к Окошкину куда строже, чем к другим работникам своей бригады, жучил его чаще и обиднее, чем других, решительно ничего не прощал ему, но Окошкин не обижался, понимая, что Лапшин хочет из него сделать больше, чем он есть, хочет увидеть в нем настоящего работника, такого, какими были погибшие старые чекисты, учителя Ивана Михайловича, – балтийский комендор Хромов и Исаак Фридман. Фотографии этих людей висели в комнате Лапшина на самом почетном месте, в красивой кованой железной рамке.
И чем дальше, тем больше Окошкин привязывался к Лапшину, и хотя давно было ему пора съехать от Ивана Михайловича, но он этого не делал и даже совершенно перестал хвалиться тем, что подаст рапорт по начальству и получит, разумеется, отдельную комнату со всеми удобствами.
Молчал и Иван Михайлович. Ему даже и думать невозможно было, что Окошкин от него съедет.
Перед тем как дать Окошкину рекомендацию в партию, Лапшин долго пил любимый свой боржом и говорил с Василием о пустяках. Потом, уставившись в него голубыми яркими глазами, спросил, как спрашивал на допросе:
– Это все хорошо, а что у тебя там с дамочками происходит?
Окошкин долго глядел в пустой стакан от боржома, бессмысленно его поворачивал, потом сказал тем развязно-наглым тоном, который Лапшин до глубины души ненавидел:
– Ну уж и с дамочками, Иван Михайлович. Просто у меня много знакомых, наших советских славных девушек, так сказать – товарищей. Чисто товарищеские отношения, которые…
– Васька! – угрожающе сказал Лапшин.
– Да ну, чего «Васька», «Васька»! – уже искренне заговорил Окошкин. – Все вы мне «Васька» да «Васька»! Ну, ей-богу, я не виноват, что они ко мне лезут. Васюта, да Васеныш, да Васюрочка! Побыли бы вы на моем месте! Вы не верите, ну до того разжалобят, спасения нету! И так мне, и так…
– А ты женись, – наставительно сказал Лапшин. – Будь человеком.
Он вылил в свой стакан остатки боржома и унылым голосом добивал:
– Не гляди на меня, женись, детей заводи. Назовешь кого-нибудь по-лошадиному: Электрон или там Огонек…
Он засмеялся и поглядел на Окошкина по-стариковски, снизу вверх.
– На ком жениться-то, Иван Михайлович! Тут весь кошмар в том, что они мне все нравятся. Одна всегда веселая, другая поет хорошо, у третьей – папа эдакий симпатичный и в семье уютно. А один товарищ – некто Конягина – вареники делает дома с творогом, ну до чего вкусно…
– Это значит, ты еще не полюбил человека, – сказал Лапшин. – Может, и верно, товарищеские отношения…
Он чуть порозовел от неловкости – полюбил, не полюбил, тоже еще слова! И предложил сыграть в шахматы Окошкину, пока они играли, раза два позвонили по телефону, разговаривал он недомолвками и при этом пожимал плечами, как бы объясняя Лапшину, что звонит не он, а звонят ему – серьезному и занятому Василию Никандровичу Окошкину. Ивану Михайловичу надоело; не доиграв партию, он принялся бриться, фырча, вытер лицо одеколоном и надел шинель.
– В Управление?
– Угу.
Вошла, как всегда загадочная, Патрикеевна и спросила, не может ли Лапшин отдать распоряжение, чтобы выпороли розгами некую внучку, которая плохо учится и дерзит своей бабушке.
– Нельзя, Патрикеевна! – ответил Лапшин. – Милиция такими делами не занимается.
– Так. Не занимается. Но старушка-то сама не может, совсем она старенькая. А папашка с мамашкой в отъезде.
– Вы и наймитесь, товарищ Патрикеевна, – посоветовал Окошкин. – Производить экзекуции в вашем характере…
Патрикеевна сделала вид, что не слышала слов Василия.
– Значит, никак нельзя! – зловещим тоном произнесла она. – А попищу нашего наказать не можете?
– Это еще какого попищу? – удивился Иван Михайлович.
– А нашего батюшку, отца Иоанна. Давеча обедню служил – вовсе пьяный. Кадило из рук вырвалось, дьякону невесть что громко брякнул. Народ даже из церкви стал уходить…
– Ну а я тут при чем? – с раздражением сказал Лапшин.
Патрикеевна не ответила, махнула рукой, ушла к себе в нишу. Оттуда было слышно, как угрожающе и двусмысленно она ворчит:
– Правая рука всегда правее. И то истинно, что лозою обуха не перешибешь. Начальники, на машинах ездиют, все кругом в пистолетах, а того не знают, что с нагольной правдой в люди не кажись. Я самому Михаилу Ивановичу Калинину напишу, тогда будете помнить. Мы в групкоме тоже лекции слушаем, не попки закрепощенные, царя-то свалили… Всем древам древо – кипарис!
– Ну при чем тут кипарис? – удивился Лапшин.
– Разберемся!
На улице крупными легкими хлопьями падал снег. Окошкин подставил ладонь, слизнул с пальца снежинку и выразил удивление, что Лапшин столько лет терпит Патрикеевну с несносным ее характером, туманными угрозами и полным неумением по-настоящему хозяйничать.
– А куда ее денешь? – сказал Иван Михайлович. – Она же одинокая, инвалид. Нога как-никак деревянная.
– Нога деревянная, а характер железный! – сказал Василий.
– Посмотрел бы я на тебя, проживи ты такую жизнь, – с коротким вздохом произнес Иван Михайлович.
Они шли рядом, оба высокие, широкоплечие, в хорошо пригнанных шинелях, и чувствовали, что прохожим приятно на них смотреть.
– Да… а жениться человеку надо! – вдруг задумчиво сказал Лапшин. – Непременно, понимаешь, надо…
И Окошкин не понял, про кого говорит Лапшин: про самого себя или про Васю. Но спросить постеснялся.
Когда Окошкина принимали в партию, одним из первых взял слово красавец Андрей Андреевич Митрохин. Говорил он, как всегда, складно, цветисто и не слишком одобрительно по поводу личности Василия Никандровича. Окошкин слушал потупившись, то бледнея, то вспыхивая пятнами. Лапшин, сидя в президиуме, искоса, спокойно и холодно наблюдал за Митрохиным, понимая, что речь идет не столько об Окошкине, сколько о нем, Лапшине, и о том, как в его бригаде воспитываются молодые кадры. Что ж, Андрей Андреевич иначе и не мог выступить – дело старое, борьба давняя, и идет эта борьба «с переменным успехом».
После Митрохина говорил Бочков. Он, как всегда, выступая, волновался, но сказал то, что следовало сказать, и Лапшин, слушая его, одобрительно кивал. Правильно, Николай Федорович, дельно! Бдительность, бдительность, оно так, но эксплуататорские классы ликвидированы, и не убедить тебе нас, практических работников, что нынче классовая борьба обострилась. Нам с нашей колоколенки неплохо видно. Советский народ монолитен, един, и нечего искать в посредственном воришке «озлобление представителей недобитой помещичье-буржуазной России». Вздор это и демагогия!
Потом говорил Побужинский, и Лапшин, слушая его, вдруг вспомнил, как Виктор начал работать в лапшинской бригаде. Лет шесть-семь назад, душной июльской ночью, дежурный по Управлению вызвал Ивана Михайловича вниз к подъезду. С десяток милиционеров толпилось у автокачки, запряженной першеронами и груженной мукой. Возле коней прогуливался плечистый парень. Милиционеры, дежурный и начальник музея Грубник покатывались от могучего хохота. Оказалось, что грузчик Побужинский, как сказано было впоследствии в протоколе, «подвергся нападению двоих бандитов, каковые были стукнуты вышепоименованным гражданином Побужинским В.Е. друг об друга лбами с силою, повлекшей взаимную потерю сознания вышеназванными бандитами, а гр. Побужинский, погрузив их на мешки с мукой, покрыл брезентом, привязал и доставил на площадь Урицкого в Управление…»
Был грузчик, а теперь вот уполномоченный, и говорит толково, умно, спокойно. Слова Ленина привел к месту, не как начетчик. И по митрохинским методам ударил тоже правильно, даже смех вызвал в зале. Прокофий Петрович Баландин, начальник Управления, улыбнулся и подмигнул Лапшину: вот, дескать, какие у тебя ребята, Иван Михайлович, орлы!
Криничный тоже выступил за Окошкина, но тем не менее Василий с тревогой ждал речи Лапшина. Ему представлялось, будто то, что скажет Иван Михайлович, определит всю дальнейшую его, Окошкина, внутреннюю жизнь. И когда Лапшин не торопясь подошел к трибуне, Вася даже облизал пересохшие губы – так ему стало жутко.
Как это ни показалось Окошкину странным, но Лапшин начал не с Василия Никандровича, а с себя, с того, как пришел Лапшин на работу в ЧК и какие у них, у молодежи, были в ту пору недостатки. Теперь, слушая Лапшина, задумчиво кивал Баландин, тоже, наверное, вспоминая свою юность; все, кто помоложе, слушали затаив дыхание, а сам Иван Михайлович порою улыбался на собственные свои промахи, на былое неумение, на ошибки, и как-то вдруг незаметно оказалось, что у Окошкина те же ошибки, что у старшего поколения, что, конечно, не лишен он недостатков, но недостатки его несерьезные по сравнению с достоинствами.
И здесь Лапшин стал рассказывать о достоинствах Василия Никандровича. С испугом и радостью Окошкин узнал, что у него «горячее сердце», но тут же вздрогнул, услышав про то, как заступился за симулянта Моню Чалова. Похоже и смешно Лапшин изобразил в лицах все ту, даже страшную нынче по воспоминаниям, позорнейшую сцену с Моней, но оказалось, что Иван Михайлович вовсе не осуждает Василия за это, а даже хвалит, считая, что работник розыска обязан со всеми сомнениями идти к начальству, а не дуть в одну дуду с ним.
– Правильно! – басом сказал Баландин.
– Теперь о чистых руках…
В этом коротком разделе своего выступления Лапшин рассказал, как Вася помогает сестре и матери, какой он вообще бессребреник, как ему, Окошкину, лично для себя ничего не нужно всерьез, не считая детских (тут Окошкин опять покраснел) разговоров насчет мотоциклета, зажигалки, настольного вентилятора и прочей чепухи.
В зале смеялись, а Прокофий Петрович Баландин поднял руку и пообещал:
– Ничего, товарищ Окошкин, не расстраивайся, доживешь, что будет, возможно, у тебя даже личный автомобиль.
Приняли Василия единогласно.
Голосовал за него и Андрей Андреевич Митрохин, который после собрания подошел к Василию Никандровичу и сказал доверительно:
– Ты, друг, на меня не обижайся. Пропесочил я тебя маленько для твоей же собственной пользы. Вырастешь большой – подразберешься!
– Да что вы, Андрей Андреевич, я не обижаюсь, я понимаю, – искренне и горячо воскликнул Окошкин и крепко пожал протянутую руку. – Разве можно обижаться, когда такой у меня нынче день!
Он и вправду нисколько не обиделся на Митрохина, так он был счастлив в этот вечер – Василий Никандрович Окошкин, ученик Лапшина.
Утром – попозже
В Управлении, в коридоре, на жесткой желтой скамейке сидел старый приятель Лапшина, журналист Ханин, и, позевывая, курил папиросу.
– Честь-почтение, Иван Михайлович, – сказал он. – Написал свое сочинение и явился с утра пораньше, чтобы ты прочитал.
– А оно – обязательно?
– Как же не обязательно. По твоей специальности написано.
Вдвоем они вошли в большой, с очень высоким потолком, кабинет Лапшина. Иван Михайлович аккуратно повесил шинель на распялку, сел, вытряхнул из коробочки прописанную врачом таблетку, проглотил и запил водой.
– Превозмогая болезнь, товарищ Лапшин продолжал гореть на работе, – произнес, протирая очки, Ханин. – Никакие физические страдания…
– Вот-вот, так и пишете, черти, – усмехнулся Лапшин. – Написали, что у Бочкова у нашего бухгалтерская внешность. Ничем, дескать, не примечательный с первого взгляда, скромный труженик, и нос у него бульбочкой. Бульбочкой! – повторил Иван Михайлович. – За что человека расстроили? И разве есть бухгалтерская внешность?
– Ладно, не сердись! – миролюбиво попросил Ханин. – Про Бочкова не я писал…
– Из вашего же брата кто-то…
– Братьев у меня нет, и ты это отлично знаешь…
Он вынул из бокового кармана рукопись и положил ее перед Лапшиным. Иван Михайлович скосил глаза на название, прочитал: «Берегитесь, смертельно!» и одобрительно хмыкнул. Потом сел поудобнее и стал читать о старом жулике, по фамилии Жигалюс, о сложных его комбинациях и о том, как он подводил честных людей «под монастырь» – так выражался сам Жигалюс.
Перо у Ханина было острое, и писать он умел. Жигалюс, с его висячим брюхом, с большими хрящеватыми ушами, с напряженным взглядом, словно скрывающимся порою под тяжелыми темными веками, появился перед Лапшиным на первой же странице небольшой статейки и вновь вызвал то же самое чувство гадливости и удивления, которое испытывал Иван Михайлович, допрашивая этого человека и прослеживая все сложные ходы и переходы жизненного пути мошенника с двумя высшими образованиями за границей и с прохождением «наивысшей школы» в драке с лесными воротилами за океаном.
«Там я приобрел некоторые навыки, – читал Лапшин характерные обороты речи Жигалюса, – там я освоил технику перебивания ног противнику-конкуренту, там я постиг науку разгадывания недомолвок, чтения улыбок, там я превратился в бесценный, но еще не обработанный камень. Или не полностью обработанный. Я нуждался в обработке, как обрабатывают алмаз, чтобы засверкали все грани. И они засверкали, но слишком поздно… Когда я приехал в Россию, был канун Октябрьской революции. И покуда я добирался до Петрограда – она уже случилась. В перспективе я видел миллион, он где-то лежал, этот миллион, но я не мог его взять. А пока маленькая служба по лесному делу, суп из воблы и мечты…
И я дождался…
Кстати, служба вообще, даже самая маленькая, в нашем деле – обязательна… Нельзя жить человеком без определенных занятий. Дворник любит, чтобы жильцы его дома ходили на работу. Иначе ты рискуешь вступить в противоречие с укладом нашей общественной жизни. Дворник моего возраста – не осудит, но дворник молодой начнет спрашивать, потом поглядит искоса, потом… Я и этот опыт тоже имею. И я поэт зарплаты, поэт службы. Служба обязательна и для той специфической деятельности, которой я занимался. Я человек симпатичный, веселый, с обаянием, имею порядочный жизненный опыт, повидал разного, знаю и помню массу анекдотов к любому случаю, имею наготове латинские изречения, обожаю Козьму Пруткова, – ну и готов незаменимый человек. А если начальник пишет доклад своим дубовым слогом, я как-нибудь отредактирую и подпущу пару острот, – разве это забывается? И при всем том люблю детей… Люблю искренне. Там день рождения супруги, здесь дочка вышла замуж – почему не пригласить меня?»
– Похоже? – спросил Ханин, когда Лапшин кончил читать.
– Вылитый, – задумчиво ответил Иван Михайлович. – Хорошо ты дал типа, Давид Львович, молодец! И еще важно, что ты убедительно показал невиновность тех людей, которые попадали в его лапы – этого самого Жигалюса. Полезная получилась статья, предупреждающая. Вот так, товарищ Ханин. Теперь насчет недостатков. Я конечно, по литературной части человек малосведущий, но насчет фактов позволь возразить. Мою фамилию упоминать здесь не для чего. Дело целиком бочковское, он его начал, он его и закончил. И Крипичный ему сильно помог. Еще помяни, пожалуйста, одного паренька – это, можно сказать, его первая победа. Толя Грибков, не знаешь такого? А меня убери!
Он опять перелистал рукопись, осторожно и аккуратно вычеркнул свою фамилию и вписал: «Грибков А.».
– Так мы не пишем! – хмуро возразил Ханин. – Это, наверное, в ваших протоколах так пишут – Грибков А….
– Ну, извини, пожалуйста… Еще деталь, – катая граненый карандаш по столу, произнес Лапшин, – и существенная. Если можно, отметь: Грибков обнаружил у Жигалюса список – девять будущих жертв. Девять честных советских людей, которых он собирался опутать. Вот у тебя написано, что он – паук! Правильно и художественно дано. Раскинул свою паутину. А теперь эти девять человек спокойно спят и даже не знают, какой кошмар их ожидал.
– Так и написать – кошмар? – осведомился Ханин.
Иван Михайлович улыбнулся:
– Это, брат, тебе видней. Но только мы здесь так рассуждаем: главное – вовремя предотвратить преступление. Конечно, оно не просто. Вот давеча с Андреем Митрохиным крупный разговор у нас состоялся, что-де Жигалюса рано мы взяли и не получили богатое дело. Если бы еще девять погорело молодцов – тогда шуму на весь Союз. Вникаешь?
– А Занадворов как на это смотрит? – осведомился Ханин.
Иван Михайлович промолчал. Ему не положено было рассуждать с Ханиным о Занадворове, Занадворов – приезжее начальство, чего тут лясы точить.
– Воздерживаешься? – осведомился Давид Львович. – Я понимаю, служба – она служба и есть. Ну а еще какие новости?
– Новости у нас, к сожалению, часто бывают, – ответил Лапшин. – Тебе в каком духе требуются? Острый детективчик или как проморгала школа с родителями? По ком нынче ударишь своей сатирой?
Они всегда немножко подкалывали друг друга. Например, Ханин утверждал, что лучше жить грязно и интересно – так, как живет он, чем чисто и неинтересно – так, как живет Лапшин, на что Иван Михайлович только улыбался и «устраивал страшную месть» Ханину, дождавшись случая, когда тот развивал ему свои планы на будущее.
– Через годок засядешь? – спрашивал он добродушно. – Значит, сорок тебе стукнет?
Ханин кивал:
– Сорок один.
– Интересно: ты только засядешь, а Пушкин уже четыре года как умер.
Ханин не обижался. Он вообще умел не обижаться на Лапшина, хотя тот говорил ему подчас очень горькие вещи.
Так и нынче. Выслушав кое-какие шуточки Ивана Михайловича насчет того, что самый страшный враг Ханина – это слово «пока» («пока напишу несколько очерков», «пока съезжу, пока подразберусь с материалами, а потом засяду всерьез»), Давид Львович уехал в редакцию, а Лапшин отправился читать лекцию.
После лекции было много вопросов, и так как преподаватель судебной медицины Коровайло-Крылов заболел гриппом и попросил своего старого ученика Лапшина «занять окно», Иван Михайлович после перерыва вернулся опять в аудиторию. Руки у него были в мелу, он чувствовал себя разгоряченным и понимал, что говорил хорошо, что возникший между ним и курсантами контакт не исчез за время перерыва, что курсанты сами про» должали в перерыве его тему, – и с ходу стал продол» жать.
– Вот вам обстоятельства дела, – говорил Лапшин, постукивая мелом по доске и любуясь второй схемой, которая тоже вышла удачной – четкой и твердой. – Понятно, почему именно мы пошли теперь этим путем?
Аудитория одобрительно загудела.
– Таким образом, – поворачиваясь к аудитории и щегольским жестом бросив мел, заговорил Лапшин, – таким образом, мы, следовательно, оказались в глупейшем положении. Верно? А инженер продолжает ходить ко мне, волнуется, плачет. Я его отпаиваю водой и вообще чувствую себя плохо. Что я ему скажу? И вот однажды, во время чуть не шестого посещения, я гляжу на него и думаю: «Слабый, ничтожный человек, а какую деятельность развел вокруг смерти своей жены! Как угрожает, как кулаком стучит!» Взглянул ему в глаза. Взглянул и ясно вижу – в глазах у него выражение ужаса, истерического ужаса. И тут меня, как говорят, осенило. Он, думаю, он самый! Сижу, слушаю, как он мне грозит, и как поносит следственные органы, и как ругается, а сам в уме перебираю хозяйство свое и обстоятельства дела и спорю сам с собой и, еще недоспорив и недовыяснив, негромко говорю ему: «А не вы, простите за нескромность, убили свою жену?» У него даже пена на губах. Вскочил, ногами топает: «Я в Москву поеду, я вам покажу, меня тот-то знает и тот-то, вам не место здесь!» Прошу учесть, товарищи, основное положение того, что я вам рассказываю: не имея улик, я знал только одно: что инженер мой – слабый и ничтожный человек и что именно такие люди в подобных ситуациях поступают так. Но, не имея улик, я не мог его посадить и вел дело почти в открытую…
Вместо сорока минут Лапшин проговорил час с четвертью, и все-таки его не отпустили. Он еще долго стоял в кольце слушателей и долго отвечал на вопросы, а потом все провожали его по коридору, по лестнице, до гардероба. Застегивая шинель, он говорил:
– Вот вы спрашиваете о первопричине этого тягчайшего преступления. Действительно, невероятная вещь: прожить с женой, казалось бы, в мире и согласии около сорока лет и убить ее зверским способом. Почему?
Иван Михайлович вновь расстегнул шинель, снял фуражку, положил ее на барьер гардероба. Усатый дядя Федя, гардеробщик школы, наклонился вперед, подставил ладошку под ухо. Курсанты сжались еще теснее, кто-то охнул:
– Легше, Гордиенко, задавишь…
– А ты сам на ногах держись…
– Тш-ш-ш! – зашипели ближние. – Говорить не даете…
– Да тут уже и говорить ничего не осталось, – не торопясь сказал Лапшин. – Пришлось искать свидетелей свадьбы этого самого моего инженера. Ну, нашелся один в Омске, другой на Украине проживал уже на покое – старичок, по фамилии Венецианов. Занялись мои работники с ними. И что же мы увидели, какую картину? А вот какую: инженер мой женился не этого… не по любви, что ли… Был студентом-технологом, квартировал неподалеку от Техноложки у попа некоего, по фамилии Веселитский. Ну, дело молодое, приглянулась студенту, поповская дочка Аглая Васильевна. Так, ничего особенного не было, даже и по тем строгим временам. Ну а дочка бы вроде перестарок, засиделась в девках. Попище – Веселитский, отец Василий – многосемеен, ртов много, студент и охнуть не успел – его поп с попадьей образом и благословили. Он туда-сюда: «Да я, да за что, да ведь…» Слабый человек, как я вам уже докладывал. А попище на испуг его: «Пойду в Технологический». Там тоже свой поп, пошла писать губерния. Ну а надо еще отметить, что инженер наш сам из поповской семьи, и из беднейшей, захудалой. Были попищи, а были и попики, что сами и бороновали, и сеяли, и жали. Вот из таких отец-то Захарий был – попишка сельский, неудачливый, да и приходишко хуже нельзя. Ну, консистория дала команду – из губернии в уезд, из уезда ниже. Собралась гроза над Захарием, тот в Петроград, да сыну в ноги и упал. Плачет, и архиереевым гневом стращает, и руки сыну целует. Куда, дескать, я, старый лапоть, денусь, куда голову с больной попадьей приклоню. Слаб студент – тут совсем ослабел. Повенчали. А за свадебным столом, выпив для куражу, он, молодой-то, возьми и скажи товарищу своему, Венецианову этому: «Я ее, Виктор, все едино со временем убью. Вот вспомнишь. Она меня погубила, и теперь навсегда лишен я и семьи любимой, и угла своего – так и я ее погублю». Конечно, и Венецианов и другой товарищ – теперь он крупный ученый – посмеялись. Знаете, готовые есть такие присказочки, на все случаи жизни: «стерпится – слюбится». Ему это и сказали все под рюмочку да под закусочку. Дескать, не робей, воробей, все со временем утрясется. Так вот ведь, не утряслось. Покойница эта, Аглая Васильевна, норовистая была и властолюбивая, все его, мужа, как он сам потом на следствии рассказал, все, понимаете ли, толкала вверх, в профессуру, а он, как говорил, назло ей ничего не хотел и, несмотря на свои способности, толок воду в ступе. Товарищи его обгоняли, имена многих из них становились известными, а он не желал ничего только потому, что она желала его восхождения. Вот в такой войне и жили – и чем дальше, тем хуже. И с каждым днем все более он зверел на нее за то, что, как он считал, погубила она ему жизнь. Из сорока лет брака более тридцати он готовил убийство, обдумывал его, строил свой немыслимые комбинации и мечтал, как, освободившись от Аглаи Васильевны, начнет заново свою жизнь…
Курсанты слушали молча, словно бы не дыша. Гардеробщик дядя Федя пошевелился, на него зашипели.
– Вот так! – произнес Лапшин. – Вон какие случаи-то случаются на свете…
– Почему же, товарищ Лапшин, не развелся он с нею? – спросил белолицый, ясноглазый курсант Авдеев. – Ведь простое дело…
Иван Михайлович внимательно посмотрел на Авдеева, ответил с невеселой строгостью в голосе.
– Она бы наш развод не признала. Поповская дочь, – они в церкви венчаны, ей дела до загса нет. Она бы от него не ушла, а ежели бы он от нее ушел – отыскала бы.
– И сознался? – спросил маленький Пинчуков.
– Конечно, сознался. Трудное, товарищи, было дело. Вот так он сидит, так – я, а так – врач. Старенький инженер-то мой, волнуется. Сердчишко слабое, самому страшновато. Он ведь ее убил чем? Он ее убил тогда в парке связкой металлических прутьев, такие прутья есть для занавесок. Вот шесть штук он бечевкой и обмотал. Ну и… то ли кто позвонил, когда он это свое орудие преступления готовил, то ли еще что, – возьми мой инженер и пихни моток бечевки в банку с крупой, с пшенной. А потом, естественно, забыл. Бечевка-то сама по себе не улика. А я эту бечевку в его отсутствие при обыске с понятыми обнаружил; экспертиза показала: та самая, что и на орудии убийства. Ну, положил обратно в крупу, привез Захарыча, усадил в кресло, говорю: «Вот произведу при вас обыск и если ничего не найду – быть вам свободным человеком и даже извинюсь перед вами». Он сел, развалился, нога за ногу, папиросу курит, говорит мне всякие грубости. А я по всей квартире пошел – от кухонного шкафчика, где банка с пшеном стояла, в другую сторону. Длинный обыск… За это время всю свою жизнь вспомнить можно. Он, конечно, бечевку вспомнил. Вижу, чем дальше моя работа продвигается, тем труднее инженеру. Почти что невыносимо ему делается. А ведь попрошу учесть – сама бечевка еще не улика. Короче говоря, к тому моменту, когда, обыскав всю квартиру, вернулся я к кухонному шкафчику с другой стороны, инженер был, что называется, готов. Попросил нитроглицерину и все мне подробно, толково и ясно изложил. Потом, у меня в кабинете, мы с ним только формальностями занимались, доуточняли некоторые моменты…
– Эта бечевка в музее выставлена у нас! – с гордостью в голосе сказал маленький Пинчуков. – И банка с крупой там. Помнишь, Величко?
– Там и еще одно дело товарища Лапшина я видел! – сказал, чему-то радуясь, Величко. – Бандитское нападение. Ох, здорово…
Они все смотрели на Ивана Михайловича восторженными глазами, говорили наперебой, точно устав от молчания, даже дергали его за рукав шинели. Он вновь застегнул шинель, взял фуражку с барьера и ласково усмехнулся: «Пинкертоны вы, пинкертоны!» Ему почему-то вспомнился Васька Окошкин, как он первый раз пришел в Управление – заниматься в сыщики. Но он про это не сказал ни слова, а только посоветовал:
– Разъедетесь к себе – во всех затруднительных случаях пишите. Я с удовольствием буду отвечать, а найду возможным и целесообразным – приеду. Главное же – не думайте, что обратиться ко мне за помощью значит признать себя побежденным…
Вернувшись в Управление, Лапшин застал у двери своего кабинета Толю Грибкова, который, видимо, только что туда стучался.
– Ну, чего, Анатолий? – спросил Лапшин. – Чего подписать?
У Грибкова было одновременно официальное и немного испуганное выражение лица.
– Я… тут… написал…
– По личному вопросу? – сбрасывая шинель, осведомился Лапшин.
– По личному.
– Доложи на словах.
Толя доложил, собравшись с силами, коротко, сухо, без единого лишнего слова. Он должен ехать в Испанию. Положение там тяжелое. Вот и все.
– А ты приедешь и поможешь? – как бы даже порадовался Лапшин.
Конечно, ему следовало обстоятельно поговорить с парнем. Но Грибков его начинал злить. Поминутно куда-то рвется, вечно его заносит, нет с ним ни единого спокойного дня.
– Вот у капитана Бадигина тоже имеются трудности, – произнес Лапшин, – давай езжай к нему, спасай положение, пропадет «Седов» без Анатолия нашего…
Толя вздохнул.
– Китайцам помоги японских империалистов бить. Валяй!
Грибков тоскливо молчал.
– Что не отвечаешь? Сильно соскучился на нашей работе? Так ведь тебя сюда силком никто не гнал, сам набился. А насчет Испании я бы тебе советовал обстоятельно подумать – у одного тебя за Испанию душа болит или еще есть некоторые товарищи, ничем тебя не худшие! Порассуждай в холодке, подумай…
– Разрешите идти?
– Иди. А что касается до войн, то предполагаю я, что твое поколение, Анатолий, еще хлебнет настоящей войны. Понятно?
– Понятно, – вяло ответил Грибков, и дверь за ним закрылась.
Строгий Павлик, туго перетянутый ремнем, очень чистенький, в сапогах зеркального блеска, принес почту. В глазах его не было решительно никакого выражения, кроме холодной старательности. Одна довольно грязная открытка сразу привлекла внимание Лапшина.
«Начальничек! – сурово сдвинув брови, читал он. – Вам, конечно, наплевать с высокого дерева, но меня опять упекли. Где же правда? Предупреждаю – готовьтесь к большому развороту. Жмакин не намерен пропадать. Жмакин вернется и сделает вам хорошие хлопоты. Вы еще наберетесь неприятностей за Жмакина, товарищ начальник, вспомните ваш курорт и как мне тут опять довесили, пока вы наслаждались природой. Те проклятые гады, которые виноваты в моей судьбе, все равно в порядочке, но я добьюсь своего. Ждите. Будет шум и тарарам. К сему – Жмакин».
И картинка была нарисована на открытке: крошечный человечек убегает, а в него палят из винтовки.
Лапшин перечитал открытку дважды, сердито покрутил головой и велел Павлику вызвать Криничного. Огромный, очень сильный, немножко как бы стесняющийся своих могучих плеч и тяжелой поступи, Криничный сел в кресло, прочитал открытку и тоже покрутил головой.
– При чем тут курорт? – спросил Лапшин.
– А это, Иван Михайлович, когда вы в Кисловодске были, он сюда заявился – Жмакин. Правду искал после заключения. Крик поднял, что по первому разу его неправильно осудили, и вас добивался. Но Андрей Андреевич перехватил, какую-то кражу приплел, а тот возьми и со знайся…
– Да что ты! – воскликнул Лапшин.
– Точно! Вы же Андрея Андреевича знаете: ему главное – раскрываемость. Палки! Отметить в диаграмме.
– А ты молчал?
– Нет, не молчал. Я посоветовал Митрохину – полегче на поворотах. Видно же, что доведен этот самый Жмакин до предела. А Андрей Андреевич свое: «Твоему, говорит, Жмакину давно на том свете паек идет. Стрелять гада нужно, а не чикаться с ним. Вы, говорит, вообще нетерпимый либерализм разводите с психологией», – это про всю нашу бригаду. Знаете же его песню. Ну, я тоже, конечно, рассердился, некультурно ответил.
Лапшин молчал, катая свой граненый карандаш по стеклу на столе.
– Ладно, иди, Дмитрий Ипатович, – сказал он наконец. – «Культурно», «некультурно»! Если человек в таком состоянии, от него чего хочешь ждать можно. Не сорвался же тогда Жмакин, отбыл срок, сам пришел за правдой. Я его не оправдываю, но понимать мы обязаны, иначе грош нам цена. Ладно, идите работайте, товарищ Криничный, а насчет митрохинской системы – воевать нам сильно придется, ох, сильно…
Криничный ушел. И сразу же зазвонил телефон.
Приглашение во дворец
– Товарищ Лапшин? – спросил дежурный по внутреннему телефону.
– Он самый, – ответил Иван Михайлович, узнав голос Липатова. И, подчеркивая красным карандашом несуразицу в служебной бумаге, осведомился: – Чем порадуешь, Липатов?
Липатов доложил, что к Ивану Михайловичу опять пришла делегация из Дворца пионеров. «Они были уже дважды, но вы отсутствовали, теперь ребята явились в третий раз».
– Ладно, пускай идут, – сказал Лапшин. – Только вели там милиционеру проводить, а то запутаются в наших ходах-переходах.
Делегатов было двое – оба раскрасневшиеся от мороза, совершенно под цвет своих галстуков, оба чуть взволнованные, поскольку они находились «внутри самого уголовного розыска», оба напряженные, ибо момент, с их точки зрения, был ответственный и от успеха или неуспеха их речей зависело многое в смысле авторитета.
– Будем знакомы, – сказал Иван Михайлович. – Лапшин.
– Борис! – сказал мальчик покоренастее и посмуглее лицом.
– Леонид! – представился другой мальчик. И добавил: – Котляренко.
Мальчики сели, и тотчас же опять зазвонил внутренний телефон. Секретарь комсомольской организации милиции Петрусь Овчаренко жалостно просил Лапшина не отказывать «делегатам». Дело было в том, что Шилов уже дважды не по своей вине надувал Дворец пионеров. Первый раз сорвал мероприятие, уехав в Москву, а нынче, как известно Лапшину, заболел. Ребята ничего не знали до самого последнего момента и сегодня толкутся у дежурного бог знает сколько времени.
– Так, – сказал Лапшин, повесив трубку и вглядываясь в мальчиков. – О чем же, собственно, вы желали бы от меня услышать?
Борис слегка толкнул Леонида локтем, тот посмотрел на Лапшина исподлобья и ответил:
– Как вы боретесь с преступностью, причины ее в наши дни, а также различные методы работы наших органов безопасности. И примеры, конечно, так, чтобы оживить доклад.
«Ух ты!» – подумал Лапшин, но промолчал.
– Вообще повседневность угрозыска, ее, то есть его, героические будни, – перебил Борис. – Конечно, мы никакие тезисы вам предложить не можем, просто беседа.
– А когда же она должна состояться, эта беседа?
– Как когда? Сейчас. Ребята ждут. Товарищ Шилов нас не предупредил, народ собрался, положение просто безвыходное получается.
Лапшин усмехнулся и запер сейф. Мальчики тоже поднялись. У Главного штаба они пересекли Невский. Мальчики шагали чуть спереди, Иван Михайлович изредка слышал фразы, которыми они обменивались.
– Шпага – оружие мужественных! – говорил Леонид, сильно размахивая портфелем. – И не спорь. А хочешь, спросим у товарища Лапшина.
Борис, видимо, не захотел. Погодя Леонид толкнул своего товарища плечом и осведомился:
– Сколько живет клоп, как по-твоему, Борька?
Борька о клопах знал мало.
– Человек должен быть энциклопедически образованным, – услышал Лапшин. – Знай, ничтожество, в сухом виде клоп может просуществовать до четырехсот лет…
Лапшину стало смешно и захотелось потолкаться и повозиться с этими мальчишками, вываляться с ними в снегу и забыть свой возраст. Но, разумеется, он ничего этого не сделал, а только спросил:
– Неужели до четырехсот, товарищ энциклопедист?
– А вот честное пионерское под салютом всех вождей! – яростно поклялся Леонид. – Своими глазами читал, не верите?
Они дошли до Садовой и остановились, пережидая, покуда проедут грузовики и трамвай.
– «Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге, – вдруг утробным голосом продекламировал Борис. – Для него он составляет все. Чем не блестит эта улица-красавица…»
– Что это такое? – спросил Лапшин.
– Как чего? Гоголь – «Невский проспект».
Теперь они шли мимо Публичной библиотеки.
– Вы разве Гоголя не читали? – спросил Борис. – Гоголя, Николая Васильевича?
– Гоголя я читал, – задумчиво и немного печально сказал Лапшин. – Читал Гоголя Николая Васильевича, как же, читал…
И вдруг ясно и отчетливо представилось ему, о чем он нынче будет говорить во Дворце пионеров, что он расскажет всем этим Борисам и Леонидам, для чего и зачем произнесет свою речь мальчикам и девочкам в пионерских галстуках. И от сознания того, какой будет его речь, он повеселел, подтащил обоих мальчиков к себе за плечи и повторил:
– Читал я Гоголя, читал, но не так, как вы, а совсем, совершенно иначе.
– В связи с каким-нибудь жутким преступлением? – сладострастно осведомился Леонид. – Расскажите, а, Иван Михайлович! Если не нам, то всем, пожалуйста, да? Гоголь дал вам ключ к раскрытию тайны? Там был шифр, да? Может быть только, если девчонки набьются, то вам неудобно будет давать расшифровки шифров?
– А ты, друг, за меня не волнуйся, – сказал Лапшин. – Я товарищ выдержанный, чего не надо, того не выболтаю.
– Это конечно! – согласился Леонид. – Гостайна – дело нешуточное.
– Вообще-то это замечательно, что мы вас приведем, – перебил Борис. – У нас ребята терпеть не могут, когда мероприятия срываются. Давеча Аркашка набивался знакомого крокодила, то есть, вернее, от знакомого капитана дальнего плавания крокодиленка привезти юннатам и не привез, соврал, а мы…
– Соображай, чего мелешь! – сурово оборвал Леонид.
Борис замолчал, закусив губу. Леонид распахнул перед Лапшиным дверь, и они вошли в огромный, ярко освещенный вестибюль «их дворца».
«Странно, что я здесь никогда не был, – подумал Иван Михайлович. – А ведь это и есть подлинная частичка того, что мы защищаем, для чего мы живем и жить будем. Надо бы сюда свой народ привести на экскурсию, что ли, а то изнанку видим, а самое главное только по газетам знаем».
Борис и Леонид представили ему Марью Семеновну, высокую, костистую, с большим подбородком, более подходящим для мужчины, нежели для женщины.
– Товарищ Шилов? – спросила Марья Семеновна, подавая Ивану Михайловичу твердую, холодную, негнущуюся руку.
– Лапшин моя фамилия.
– Товарищ Шилов болен, – ввязался Леонид, – и нам удалось организовать…
– Пройдемте ко мне, – сурово пригласила Марья Семеновна и пошла вперед, широко шагая ногами, обутыми в мужские, как показалось Лапшину, полуботинки.
Девочки в пионерских галстуках – три подружки – одевались возле вешалки, одна из них, толстая, крепкая, коротконогая, держала зубами яблоко и завязывала капор, другие две что-то тараторили, очень быстро и сердито, наверное ссорились. Леонид умчался по широкой лестнице, а Бориска с восторгом глядел на ордена Лапшина, на значок Почетного чекиста, на статного, плечистого, широкого в кости Ивана Михайловича. И другие мальчики и девочки разглядывали Лапшина, пока он поднимался по лестнице с Марьей Семеновной в какую-то золотую или гранатовую гостиную. У Марьи Семеновны был недовольный вид, она не понимала, что будет делать этот седоватый, со смеющимися голубыми глазами человек здесь, во Дворце пионеров. Рассказывать о преступлениях? Но педагогично ли это? О разных там перестрелках, кровавых происшествиях и жестокостях? Зачем это детям? Несмотря на свою крайне суровую внешность, Марья Семеновна была человеком той особой доброты и нервности, который не поможет в несчастье ближнему своему только потому, что не переносит страданий, стонов и особенно крови…
Угадывая беспокойство Марьи Семеновны, Лапшин поглядывал на нее сбоку и загадочно помалкивал. Борис и Леонид перешептывались сзади, и было слышно, как они говорят что-то про шифр, и когда Лапшин оглянулся на них, то увидел, что за ним идут не два мальчика, а по крайней мере тридцать, и что сейчас их будет пятьдесят, даже сто…
В небольшом кабинете рядом с гостиной, на инкрустированном столе горела лампа под розовым абажуром. На стенах висели веселые, цветастые картинки, наверное их рисовали дети, и, по всей вероятности, они не очень нравились Марье Семеновне. А на подоконнике стояла модель парусного корабля, такая непохожая на настоящий корабль и такая милая, что Лапшин даже улыбнулся.
– Так вот, – потирая мужские руки, заговорила Марья Семеновна. – Прошу простить меня, но за детей здесь именно я несу ответственность. Мне необходимо уточнить тему вашего доклада. С товарищем Шиловым Котляренко Леонид договаривался во время моего отпуска…
– Вы, Марья Семеновна, можете на меня положиться, – не обижаясь, спокойно произнес Лапшин. – Я понимаю, что тут дети, но за них и мы, грешные работники милиции, несем ответственность. Речь же моя пойдет о Гоголе.
– О Гоголе? – чуть повеселев, удивилась Марья Семеновна. – О Николае Васильевиче? Но разве вы литературовед?
– Нет, зачем же? Я, как видите, милиционер.
– Значит, так или иначе это связано с преступлением…
– Это ни так ни иначе не связано с преступлением! – без всякой обиды в голосе, но очень твердо произнес Лапшин и поднялся: – Я просто хочу рассказать, как я в свое время читал Гоголя. Вот и все. Разрешите?
Марья Семеновна пожала плечами и тоже встала. Вдвоем они вошли в маленькую, битком набитую гостиную.
– Ребята, – сказала Марья Семеновна, – сейчас работник милиции товарищ Лаптев…
– Лапшин, с вашего разрешения, – вежливо и холодно поправил Иван Михайлович.
– Простите, товарищ Лапшин поделится с вами своими воспоминаниями о том, как он читал Гоголя…
Недоуменный шумок пронесся по гостиной. Кончиками пальцев Лапшин уперся в крышку маленького столика, на котором стоял стакан воды, подождал, подумал, вздохнул и спросил, глядя в глаза Борису, сидевшему в первом ряду:
– Вы все, конечно, читали о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском? Знаете, какой он был человек, что делал? Понимаете, что таким людям, как железный Феликс, вы обязаны тем, что вот у вас, например, есть дворец, ваш дворец, собственный настоящий дворец?
– Мы понимаем! – сказала тоненькая беленькая девочка.
– Ну так я начну с товарища Дзержинского! – произнес Лапшин. – Лично с него. Я его хорошо знал, работал в ВЧК под руководством Феликса Эдмундовича много лет и никогда те времена не забуду…
Он помолчал, хмурясь, словно вглядываясь в те далекие годы, и, еще раз вздохнув, произнес:
– Я сам из мужиков, из крестьян. Отец у меня жил плохо, трудно, нас, ребятишек, было много, все есть хотим, а хлеба нет. Ни хлеба, ни картошек, ничего нет. И горели мы дважды. Не задалась жизнь. А в селе нашем хозяевали и пановали два богатея, два сына лавочника – Семичкины. Вот пошел однажды батя мой в город, в Петроград, в артель проситься, по плотницкому делу. Шел на зорьке и повстречал обоих братьев – те с похмелья. Спросили, нет ли у папаши моего деньжат на косушку водки, опохмелиться. У него два рубля было на всё про всё, они его косой смертельно ранили, деньги отобрали и ушли. Умирая, папаша мой сказал, кто его зарезал, но деньги Семичкина оказались сильнее правды. В те времена так случалось. Вот когда великая революция наша произошла, взял я револьвер-наган, было мне в ту пору не много лет, зашел в дом к Семичкиным, хороший у них дом был, каменный, под железом, и повел убийц папаши моего под наганом в город Петроград на Гороховую улицу, к самому товарищу Дзержинскому. А вести далеко. Помню, лаптишки все по грязи разъезжались – упасть боялся, упустить бандитов. Ну, потом еще солдат со мной шел, старый солдат, сибиряк, бородища эдакая. Помог мне довести до Гороховой…
– И наказали их? – спросила беленькая девочка.
– Вопросы будут потом! – сказала Марья Семеновна. – Ясно?
– Тут я увидел в первый раз товарища Дзержинского. Он мне и сказал тогда, что правда на свете есть, что бандитов будут судить по закону. Потом поглядел на меня, покачал головой и велел, чтобы выдали мне со склада сапоги или ботинки.
– Выдали? – крикнул Бориска.
– Выдали. Хорошие ботинки, новые. И оставил меня товарищ Дзержинский работать в ВЧК. Нас тогда мало было, сорок человек всего чекистов. Больше образованные, повидавшие жизнь революционеры, а я среди них совсем был как лесной пень. И ничего толком не поспевал. Работы много, контрреволюция, саботаж, интервенты, тяжело было. И образования у меня никакого. А годы идут. Вот отвоевались мы, потише стало, поспокойнее, да и нас, чекистов, побольше накопилось, научились мы и работать потолковее. Надо вам сказать, что Феликс Эдмундович имел привычку по вечерам нас, работников ВЧК, обходить. Хоть раз в неделю, но к каждому, самому рядовому, незначительному работнику непременно наведается. Усталый, измученный, а зайдет, сядет, побеседует попросту, какие у кого вопросы накопились, посоветует, и тоже поинтересуется, как чекист живет, например, не холодно ли в комнате, есть ли дрова, не болен ли кто в семье, жена, ребенок. Мы его между собой всегда «отец» называли. Вот однажды зашел он так ко мне. Вернее, к начальнику моему, но начальник уехал на операцию…
– В больницу? – спросила беленькая девочка.
– Зачем в больницу? – удивился Лапшин. – На операцию – нормально бандита ловить. Вот сижу я, входит Феликс Эдмундович. Я, разумеется, встаю, он говорит: «Сидите, товарищ Лапшин» – и сам садится. Закурили, он самокрутку в мундштучок вставил, ему кто-то из наших умельцев отличный черешневый мундштучок выточил, покуриваем, молчим; он, Феликс Эдмундович, любил несколько минут так с человеком помолчать, подумать с глазу на глаз, ну и приглядеться, конечно. Потом начался разговор.
Как Лапшин читал Гоголя
– Вы что такой зеленый, товарищ Лапшин? – спросил Дзержинский. – И не просто зеленый, а даже ярко-зеленый. Недоедаете? Больны?
Иван Михайлович ответил не сразу. Ему было стыдно жаловаться на свои недомогания, но Дзержинский спрашивал строго, и Лапшину пришлось сознаться, что чувствует он себя день ото дня хуже, есть ничего не хочется, по ночам потеет.
– И вот эдакий кашель? Да? Мухи перед глазами летают? Слабость? Одышка? Не туберкулез ли? Вы знаете, что такое туберкулез?
– Грудная болезнь, Феликс Эдмундович?
– Грудная болезнь, – не торопясь, грустно повторил Дзержинский. – Грудная… Послушайте, а какое у вас образование?
– Три класса церковно-приходского…
– А потом?
Лапшин молчал.
– Так, так… церковно-приходского… Сами сейчас хоть немного занимаетесь?
– Не занимаюсь, – едва слышно ответил Лапшин. – Некогда, Феликс Эдмундович. Газеты вот – это, конечно, читаю. В двадцатом, когда ранили меня, отдыхал в госпитале, тогда «Коммунистический манифест» проработал, еще песенник прочитал.
– Ну а «Мертвые души» вы, например, читали?
– Не читал.
– Прочтите.
И с коротким вздохом Феликс Эдмундович прибавил:
– Есть много прекрасных книг на свете, товарищ Лапшин. Великолепных. А «Мертвые души» – прочитайте.
Это название он тогда запомнил. И когда его выслушивали и выстукивали врачи в санчасти на Лубянке, и когда ехал он в поезде и выходил прогуляться по тихим южным перрончикам, где шелестели акации, и на линейке, которая везла его в санаторий (тогда здесь и помину не было об автобусах), – он часто шепотком повторял про себя: «Мертвые души»…
В первый же день санаторного жилья он пошел в библиотеку и строгим голосом спросил:
– Есть у вас книга «Мертвые души»?
– Гоголь? Есть, – ответила старенькая библиотекарша.
– Не гоголь, а «Мертвые души»! – еще строже произнес Иван Михайлович. – Ясно же говорю – «Мертвые души».
Библиотекарша вздохнула. Маленькая, вся пыльная, с седыми букольками возле сморщенного личика, с недобрыми глазками, она выбрала книгу погрязнее и протянула ее через барьер Лапшину.
– И это – читатель! – патетически сказала она своей помощнице, внучке князя Абомелик-Лазарева, ловко скрывшей свое происхождение. Внучка ответила из-за книжного стеллажа:
– Право, мадам, я думала, что расхохочусь. Я ведь ужасно смешлива.
А Иван Михайлович качался в гамаке и читал. Он читал весь день и половину ночи в палате, читал за завтраком, читал, ожидая приема врача. Еще никогда в жизни он не был так счастлив. И, дочитав, он все никак не мог расстаться с истрепанным, засаленным томом, все подходил то к одному отдыхающему, то к другому и говорил сконфуженным, умиленным басом:
– Манилов, а? Это же надо себе представить…
Или:
– А повар наш в санатории – вылитый Плюшкин…
Отдыхающие недоумевали, пожимали плечами. Всем здесь было более или менее хорошо известно, что такое маниловщина, каковы бывают Плюшкины, что представляют собою Собакевичи. В неделю Лапшин прочитал всего Гоголя и особо предисловие к первому тому. Там, в не очень понятной статье были поименованы русские классики. За них и принялся Иван Михайлович. И читал еще одиннадцать дней, покуда его не выследил главный врач санатория – весь заросший колючей бородой, маленький, сутуловатый, кривоногий Сергей Константинович.
– Э-э, батенька! – взвизгнул он за спиной Лапшина и выхватил из его рук тургеневские «Записки охотника». – Вот где вы скрываетесь, вот почему вы никак в себя прийти не можете. Отправляйтесь за мной, будем беседовать…
В своем кабинетике доктор предложил Лапшину стул, сам сел на диванчик, подумал и, заложив ногу за ногу, начал допрос. В открытое окно не доносилось ни звука, был «мертвый час», санаторий спал.
– И не милорда глупого, Белинского и Гоголя с базара понесет! – неожиданно сказал доктор, выслушав Лапшина. – Вот случилось. И как это ни смешно, я дожил и вижу оное своими глазами…
Иван Михайлович ничего не понял. Только через много лет, читая Некрасова, он чуть не подпрыгнул, наткнувшись на эту строчку.
– Понес мужик – произошло! – опять непонятно сказал доктор. – Ну и тем не менее надо мужику нынче лечиться, отдыхать и приводить свой организм в порядок. Ибо…
Тут доктор поднял палец:
– Ибо – дабы выдержать все, что ожидает наше молодое государство – наше государство рабочих и крестьян, – надо им, то есть сознательным и рабочим и крестьянам, быть здоровенькими. Понимаете, молодой человек, надо быть здоровенькими. Идите, ваша книга мною пока арестована, а в библиотеку я отдам соответствующее распоряжение. Идите и занимайтесь только вашим здоровьем. Необъятное же авось обнимете со временем. Большевики – поразительный народище. Им это удается. Заметьте, никому другому в истории человечества, а им – вполне…
Распоряжение в библиотеку действительно было отдано. Иван Михайлович туда больше не ходил. Но съездил на линейке в город и, потратив все деньги, которые были при нем, купил все, что отыскал в бедном книжном магазинчике: тут оказался и Шпильгаген, и Гауптман, и Фет-Шеншин, и Шиллер, и также некто Игорь Северянин. Сергей Константинович поджидал Лапшина у двери в вестибюль санатория.
– Купили! – радостно сказал он. – Целый тюк. Нет, батенька, так не пойдет…
Тюк целиком был арестован до отъезда. А некто Игорь Северянин так и остался у доктора. Прощаясь, Сергей Константинович сказал твердо:
– Вот вам в обмен – поручик Михайло Лермонтов писал. Тут есть «Выхожу один я на дорогу…» Горячо рекомендую. А гений Игорь Северянин – это когда на кисленькое потянет или репейного маслица захочется – с купцами такое, с миллионщиками, в старопрежнее время бывало. Так-то, Ваня, товарищ Лапшин. Поезжайте с миром, чахотки у вас, слава создателю, нет, поживете еще годочков полсотни…
Попытался разгладить рукой свою ежеобразную бороду, кивнул и ушел в свой кабинет…
А Иван Михайлович, еще сидя на линейке, прочитал «Выхожу один я на дорогу…»
– Знаете это стихотворение? – спросил Лапшин.
– Знаем! – тихо ответила беленькая девочка.
– А я вот в первый раз его взрослым прочитал, – произнес Лапшин. – И не было бы революции, может так и по нынешний день не узнал бы про Лермонтова. Вопросы имеются?
Вопросов не имелось. Ребята сидели тихие, думали. Марья Семеновна заговорила размягченным голосом:
– Надеюсь, вам понятно, что товарищ рассказал вам о том, в каких жутких условиях находилось юношество при царизме и в каких прекрасных условиях находитесь вы…
Она еще долго, скучно и тягуче разъясняла девочкам и мальчикам все то, что рассказал им Лапшин, потом повернулась к нему и предложила:
– Давайте же поблагодарим товарища из милиции за очень теплую, дружескую, глубокую беседу…
Провожали Ивана Михайловича Бориска и Леонид вдвоем. Они все-таки надеялись, что он расскажет им какую-нибудь жуткую драму или в крайнем случае разъяснит, как поступают в институт сыщиков. Но он ничего не рассказал и ничего не разъяснил.
– Наведывайтесь к нам во Дворец! – пригласил на прощание Леонид. – Запросто приходите, к нам некоторые взрослые часто заходят…
«К нам во Дворец! – опять про себя повторил Лапшин. – Слышали что-нибудь подобное? Запросто во дворец!»
Он усмехнулся, поворачивая на Невский, но вдруг нечто новое привлекло его внимание, и он тотчас же забыл и про пионеров, и про Дворец, и про то, как в далекие годы читал Гоголя.
Некоторое время он даже сам не мог понять, что заставило его сосредоточиться: женщина с муфтой или ее спутник в боярской шапке, высокий, чернобородый? Старуха с кульком, опасливо шагающая по скользкому тротуару? Военный с мальчиком?
Лапшин еще огляделся – быстро, коротко, тревожно, вбирая в себя эту вечернюю, бодро морозную, сверкающую огнями улицу рано наступившей зимы. Что же? Кто ему тут нужен?
И почувствовал: вот тот парень в кокетливо надетом вязаном колпаке, позванивающий коньками, вот тот светлокудрый юноша в длинном свитере, конькобежец со слишком чистым, чересчур открытым взглядом девичьи синих глаз.
Почему ему кажется знакомым весь этот облик, эти широкие, но устало-покатые плечи, этот легкий, размашистый, но не очень ровный шаг, эта поступь, это лениво-равнодушное и в то же время пристальное разглядывание женских лиц…
Невзоров, конечно же это он.
Нет, не он!
Лапшин ускорил шаг, обогнал юношу с коньками, резко повернулся и увидел искреннее изумление в больших, широко открытых, слишком чистых глазах. Не Невзоров, но из этих мальчиков. Не тот, который заступился за девушку в этой истории со Жмакиным, но из тех хороших мальчиков, которые всегда заступаются, в то время как плохие мальчики, вроде Жмакина, – всегда плохие.
– Извините! – сказал Лапшин, слегка дотронувшись рукой в перчатке до коньков юноши.
– Пожалуйста! – ответил недоуменно юноша, похожий на Невзорова.
«Ах ты, Жмакин, Жмакин! – подумал Лапшин. – Ах ты, Жмакин!»
Нет, это вовсе не был Невзоров. Возможно, что великолепный парень – тренированный спортсмен, нежный сын, добрый брат и так далее, букет моей бабушки. И все-таки Лапшин думал о Жмакине. О его жестких глазах, отрывистой речи, о том, что у Жмакина нет такого цветастого колпака и добротного свитера, нет и давно не было семьи, товарищей, отца, который бы громко обиделся за своего положительного сына. И коньков у Жмакина тоже, наверное, не было…
В ноябре
Побег
Партия была небольшая – восемь человек, всё мелочь, уголовное отребье, угрюмые жулики, злая городская шпана. Шли молча и очень быстро, чтобы не обморозиться. Дыхание на глазах из пара превращалось в изморозь. Мороз был с пылью. Пыльный мороз – любой бродяга тут начинает охать. И деревень не попадалось, только кочки, покрытые голубым снегом, да мелкие сосенки до колен, не выше.
Захотелось есть.
Жмакин вытащил из-за пазухи хлеб, но хлеб замерз, сделался каменным. С тоской и злобой Алексей принялся сосать кусок за куском. Сначала сосать, а потом жевать. Сала осталось совсем немного, он берег его на потом, на будущие времена.
Под ногами все скрипело.
День кончался. Ничего не было слышно, кроме мертвого скрипа, – ни собачьего бреха, ни голосов. К вечеру краски сделались фиолетовыми, пыль сомкнулась в сплошной туман. Лица у всех были замотаны по глаза – платком, портянкой, шарфом.
К ночи вошли в городок. В морозном тумане едва мерцали желтые огни. Пахло дымом, навозом, свежим хлебам. В большой комнате убийца – техник-протезист Нейман – разулся и заплакал.
– Ножки жалеете? – спросил Жмакин. – Натрудили ножки?
– На войне как на войне! – сказал бывший заврайунивермага Казимир Сигизмундович. – Впрочем, надо было запастись валенками.
– Они обязаны сами предоставлять! – заныл убийца. – Если у них машина вышла из строя…
– Начнете работать – дадут! – заявил Казимир Сигизмундович. – Я имею опыт, можете мне поверить…
Жмакин усмехнулся: весь мир был проклят, тем более все эти – убийцы, мошенники, сволочь, те, про которых пишут в газетах: «Еще случаются такие явления, как…»
Нейман зарезал старика, чтобы взять у него золото, и нашел два золотых империала и колечко.
Казимир Сигизмундович любил рассказывать, как командовал целой шайкой «настоящих ребяток», которые натягивали ткани в магазинах, где он был начальником. Натянуть – большое дело. Особенно большое – натянуть и передернуть. Особенно если ткань дорогая, шерсть, бостон, сукно. Еще шикарная работа в смысле выгодности – пересортица. Например, резинки для подвязок, для трусов, – кто может учесть, что один сорт стоит шестнадцать копеек метр, а другой семьдесят восемь. Есть даже рубль двенадцать. А товар ходкий, резинки нужны всем – и детям, и дамочкам, и мужчинам.
– Не так ли? – спрашивал Казимир Сигизмундович.
Конвойный слушал, подремывая в углу на табуретке. Иногда он вздыхал и говорил густым басом:
– От же ж хитрый народ…
А рыжий старик?
Калечил людей, мальчишек, превращая их в каких-то там голубков безгрешных. А теперь намазывает печенье топленым свиным жиром и кушает истово, словно богу молится.
Потом люди уснули – вповалку, наевшись, напившись кипятку. В углу на месте бывшей иконы светил фонарь – «летучая мышь». Пышная, чистая изморозь пробивалась в щели между бревнами и как бы дышала холодом, морозной звенящей пылью. Люди спали тяжело – со стонами, с руганью, с назойливым злым бредом. Ничего хорошего, наверное, никогда никому тут не снилось. Под фонарем страшный, рыжий, молчаливый старик чинил прохудившийся ботинок. Жмакин глядел на него, пока не уснул. Во сне не мог согреться, думал: «Уйду!» Казалось, что уже ушел. Просыпался, но было то же – комната, изморозь, фонарь, старик, Казимир Сигизмундович выкрикивал:
– Ставлю на черное! Еще на черное! Скушали?
Жмакин засыпал и во сне шел, ведомый товарищем Митрохиным, красивым, улыбающимся, веселым Андреем Андреевичем. Его опять вели в тюрьму, хотя он и не убежал и не украл больше, хотя он только хотел «ухватиться за жизнь», «подняться», «начать все сначала». Он сам пришел на площадь, но Митрохин сказал ему, что он «хитрый, как муха», однако же тут работают люди «поумнее его». И предложил взять кражу, с ходу сознаться в краже.
– Поедешь обратно! – посулил он, ослепительно улыбаясь.
Сон мешался с явью. Жмакин то засыпал, то садился на полу – тяжело дыша, ругаясь, бормоча. Зачем он просил Митрохина, чтобы тот отправил его к Лапшину?
– К Ивану-то Михайловичу? – сверкал зубами Андрей Андреевич – Иван Михайлович сейчас в нарзанной ванне сидит. Понятно, гражданин Жмакин? И, кстати, я вам не товарищ, а гражданин начальник, потому что ваш товарищ не кто иной, как тамбовский волк!
Потом зевал и спрашивал:
– Ну как? Будем сознаваться или будем морочить голову?
Пожалуй, сон был страшнее яви: явь осталась позади, с явью он покончил. А сон мог привязаться надолго, мог стать таким же неотвязным, как Митрохин. С таким сном пропадешь.
…Утром Жмакин долго стоял в очереди, но потом надоело, обошел всех и положил руки на стол перед военным. Тот поднял глаза, потом почти изумленно спросил:
– Обратно?
– Обратно, – глухо повторил Жмакин.
– Так вы же…
Жмакин знал, что хотел сказать военный: он хотел сказать, что Жмакин хорошо работал, даже больше чем хорошо, что его портрет висел на Доске почета, что на него можно было положиться. Но начальник ничего этого не сказал, не время было и не место. Он только спросил:
– На какую встанете работу?
– Могу портсигар принять или часы за десять секунд, – сказал Жмакин. – Не потребуется?
Очередь негромко зашумела, здесь любили спектакли. Начальник смотрел в упор на Жмакина – серьезно и не обижаясь. Он повидал многое в своей жизни, этот человек с залысинами и запавшими глазами, и умел понять человека в настоящей беде.
– Отставить шуточки! – сказал он, помедлив. – Пойдете работать на молочную ферму.
– Я коров боюсь.
Очередь заржала. Спектакль начался. Но Жмакин в бешенстве повернулся. Он и в самом деле с детства боялся коров.
– Чего ржете? – крикнул он. – Вы, рвань! Шпана несчастная!
Лицо его дрожало. Теперь было понятно, почему блат окрестил его «Психом». Глаза его сузились, одно плечо выдалось вперед. Очередь шарахнулась кто куда. Начальник с любопытством смотрел на него своими запавшими глазами.
– Не шумите, Жмакин! – сухо сказал он. – Зайдете ко мне завтра в тринадцать часов. Разберемся. Вы не больны?
Жмакин не ответил, ушел, скрипя зубами. Его трясло. Если бы здешний начальник Кулагин был на месте Митрохина, разве повернулось бы все так? Или если бы он дошел до Лапшина? Впрочем, черт с ними, гори они все синим огнем, сейчас он им покажет, кто такой Жмакин. Теперь они узнают, каков таков «Псих» и с чем его кушают. Дайте только сорваться – весь Ленинград заходит ходуном, а там пускай расстрел. Все равно так жить нельзя. Подождет его завтра Кулагин в тринадцать ноль-ноль. Подождет и почешет в затылке.
Поостыв, он зашел в контору, потолкался там среди всяких раздатчиков и кладовщиков, перемигнулся со старым корешом Люнькой, посвистал и вынул из большой коробки пачку накладных на хлеб. Многие здесь знали Жмакина и относились к нему как к своему, честно отбывающему срок. Ну, вернулся, большое дело. Но теперь и здесь он был чужим, волком, как назвал его Митрохин, он делал сейчас то, чего бы никогда не сделал, когда отбывал прошлый срок.
Вечером он продал накладные хозяину избы за тридцать рублей и за нож. Нож был паршивый, но Жмакин, забравшись в сарай, наточил его на камне. Расположение кордонов он знал как самого себя. Конвойного уже ныне не было.
Когда все заснули, Жмакин взял у Казимира ватник и у рыжего старика валенки, потом какую-то рыбу. Больше не было блатных законов, он переступил последний – взял у своего. За это полагается убивать. Сердце его стучало, ладони были мокры от пота. На улице он переобулся – замотал ноги газетами – теплее. Все было в порядке – ни луны, ни часовых. Впереди лежало более трехсот километров волчьего пути. Он готов был принять смерть.
– Рвань! – сказал он, вспомнив шпану, с которой ехал, шел и жил.
За околицей он пошел ровнее, спокойнее. Было время подумать. Он уже поостыл, злоба пропала, ровный путь лежал впереди. Вот и старая кузня. Здесь надо было сворачивать. Жмакин ступил в снег. У кузни он остановился, оттянул дверь и понюхал. Изнутри тянуло морозом и едва уловимым запахом ржавого железа и жирного угля. Кусок доски отскочил. Тоненький, как посошок. Он взял его с собой и пошел, переваливаясь, покручивая посошком, позевывая.
Волки
На пятые сутки пути начались галлюцинации. Четыре раза он слышал волчий вой, на пятый воя не было, а слышался. Жмакин заткнул уши под шапкой ватой, надерганной из пиджака. Но вой все слышался. Тогда Жмакин покорился. «А хоть бы и так, – думал он себе в утешение, – хоть бы и не на самом деле. Еще лучше. Настоящий повоет, повоет, а потом придет и съест. А этот только воет. Пусть».
Но как-то на снегу, озаренном бледной лунной радугой, возникла волчья стая. Жмакин посчитал – волков было пять. Он повернул влево – и волки пошли влево. Он повернул вправо к холму – и волки повернули к холму. Он побежал, задыхаясь и обжигая легкие тридцатиградусным морозом. Он бежал, пока совершенно не изнемог. Обессилев, он повернулся. Волков не было. Он посмотрел вперед. Они стояли точно на таком же расстоянии, что и раньше. Жмакин протер глаза – волки исчезли. Потом опять появились. Потом вновь исчезли.
Утром он увидел хутор. Хутора на самом деле не было. Потом ему стало казаться, что он в Ленинграде. Или во Владивостоке. Он лежал на снегу, ему делалось все теплее и теплее, как в бане. Но он поднимался и шел дальше. Все эти хитрости он уже разгадал и ко всему относился подозрительно.
Подозрительно он отнесся и к настоящим волкам. Они бежали, как собаки, только головы держали иначе. Он не обращал на них внимания. Они были его вымыслом, он привык уже к таким вещам. Внезапно он понял, что это – волки, а не вымысел, и что надо драться. Он понял, что от них не убежать. И посчитал: раз, два, три. Посчитал еще раз: три. И еще. Они были совсем близко. Он стоял на самой опушке леса. Страх пропал. Жмакин оперся спиной на сосну как можно крепче и вынул нож. Волки были совсем близко. Бока их запали, жалко и нелепо выглядели холодные, осатаневшие морды. Самый матерый зверь шел впереди. Жмакину казалось, что они должны остановиться «перед этим», но они не остановились. Матерый вдруг сразу прыгнул, так что полетел снег. Жмакин защитил лицо левой рукой, а правой – ножом ударил и почувствовал, что попал. Шкура пропоролась, и волк взвизгнул. Жмакин ударил еще раз и бил, не останавливаясь, в морды, в бока, в животы, в лапы. Матерый повиснул на его плече, рвал зубами кожух, ватник и не смог добраться до тела – свалился. Жмакин поддал его ногой, как поддают злого пса. Но тот – матерый, раненый, уже хрипящий – вновь кинулся к горлу, и Жмакин опять ударил его ножом и, не видя, почувствовал, что теперь остались только два, что матерый кончен. Он все бил и бил ножом, – руки его были разодраны зубами, и лицо было в крови, но он не слабел, наоборот, как из железа, и что каждый его удар убивает. Но он убил только одного волка, а двух искалечил, и они ушли. Да и первый, матерый, еще не был убит – он бился и грыз снег, вывернув шею. Крови было очень мало, он все взрывал лапами, спиной и боками снег и хрипел, как хрипят неумело зарезанные свиньи. Жмакин стоял у своей сосны и смотрел на зверя молча, не двигаясь. Кровь заливала ему глаза и замерзала на лице, – он нашел в кармане тряпку и отер лицо. На лбу кожа свешивалась клочьями; еще не чувствуя боли, он сложил пальцами лоскутья и надвинул шапку пониже, чтобы закрыть рану и чтобы кровь не мерзла. Потом, трудно передвигая искусанные волками ноги, он подошел к издыхающему зверю и сел на взрыхленный борьбою снег. Волк все еще бился и хрипел. Тогда Жмакин, перевалившись на бок – лень и усталость не позволили ему встать, – замахнулся и ударил зверя ножом в напруженную хрустящую глотку. Мгновенная судорога свела тело волка. Он вытянулся и закусил длинный, багровый еще язык.
– Все! – сипло сказал Жмакин. – Конец волку!
И вдруг страшная мысль словно бы ожгла его. Вот так и ему придет конец. Ему – Жмакину. Так или почти так. Его убьют, как он убил сейчас этого зверя. Не ножом, вряд ли ножом, его настигнет пуля стрелка или конвойного, или в него пальнет Митрохин – небось не промахнется, не из этаких, – или молодой Окошкин, или Бочков. И он, Алексей Жмакин, Алеша, Лешенька, – высунет язык и захрипит, силясь ожить, но будет поздно, все поздно, потому что волку должно умереть, как умирает волк, – от пули.
Волку не жить среди людей.
– Но разве я волк? – так же сипло, почти неслышно спросил себя Жмакин. – Волк.
Да, волк.
Ему вспомнились те «тринадцать часов», которые назначил ему Кулагин, чтобы «разобраться», и вспомнилось, как крал он у своих в конторе, а потом в избе. И представилось, как морщит лоб Кулагин, узнав о побеге и о кражах, и как думает, пожевывая папироску по своей привычке: «Не зря, видно, довесили Жмакину еще срок! Начудил, наверное, порядком!»
Может быть, вернуться?
Он оживился, закусил израненную губу. И тотчас же подумал: нет, не дойти.
А тайга все тянулась. Особенно страшны были тихие, бессолнечные, мглистые дни с падающим снежком, с палящим морозом, с охающими, стонущими, щелкающими деревьями. Все вымерзло, все погибло. Только один Жмакин шел – несмелой походкой, отсчитывая шаги: еще десять или еще двадцать. Пройдя, добавлял – пять или семь. Так казалось легче. Думать он уже не мог – обо всем передумал, да и боялся: мысли какие-то появлялись подплясывающие, сумасшедшие. «Психую», – решал он и вновь отсчитывал шаги или деревья или просто считал через один – семь, девять, одиннадцать, тринадцать – и торопливо четырнадцать, потому что тринадцать – плохая цифра, на ней можно упасть и замерзнуть или помешаться, запсиховать до конца.
Путь был бесконечен. Иногда ему казалось, что он прошел тридцать верст, – оказывалось меньше. И все оставалось двести километров, – они не уменьшались.
Ноги, руки и лицо распухли, кожа лопалась, он стал безобразным, похожим на утопленника. Его не пускали в избы. Он ночевал в холодных банях, пахнущих сырыми головнями и мыльной плесенью. Дети шарахались от него, собаки рвали ошейники и хрипели, роняя с морды пену. Попадая в тепло, он мучился еще больше, чем на морозе. Его жгло от тепла, – он выл и стонал, казалось, что трещат кости. Ни до этого, ни после он не думал, что могут быть на свете такие мучения. Но призрак шумного, огромного города, грохочущего и веселого, в оранжевых зимних закатах, в голубых искрах трамвайных разрядов, в сияющих электричеством витринах, призрак всего этого великолепия – и сфинксов на гранитной набережной, и музыки в пивных, – призрак все время, непрерывно, ежесекундно был перед ним, требовал его, и он только покорялся и день за днем, неделю за неделей шел на юг.
Иногда он спал в лесу. Для этого он нарезал ножом сосновых ветвей – очень много – и устраивал из них большое птичье гнездо, потом выкапывал в снегу яму, укладывал туда это гнездо, закрывал крышей из сосновых ветвей, заваливал всю берлогу снегом и тогда ложился, предварительно разувшись. От его дыхания сосновая смола начинала издавать легкий, прозрачный, словно летний запах. Но мороз пробирался под одежду, и это был не сон, а забытье, вроде того, что испытывает пьяный. Все было тревожно вокруг. Мог прийти зверь и взять его сверху – навалиться и порвать опухшее горло. И ему было бы уже не справиться – так он ослабел. Даже финку он не мог теперь как следует сжать рукою – вздутые отмороженные пальцы никуда не годились. Он забывался, потом, вздрогнув, открывал глаза. Все было тихо – на много верст вокруг, все лежало под снегом, все замерзло, все застыло, спряталось. Внезапно он пугался своего одиночества, начинал часто дышать, сердце его колотилось. На четвереньках, разутый, он выползал из своей берлоги и оглядывался. Трепетали и взвивались на черном небе бесконечные молнии, стрелы и радуги северного сияния. Сверкал снег. От деревьев падали огромные крутые тени. И ничего решительно не было слышно. Он не дышал десять секунд, двадцать. Нюхал. Прислушивался. Он уже казался себе зверем – больным, умирающим. Иногда он думал: «Пора умереть, пора». Но непреодолимая сила несла его на юг, к станции железной дороги, к городу, огромному, гудящему веселым, всегда праздничным шумом.
Однажды, уже незадолго до конца пути, его пустил обогреться и переночевать высокий, костистый мужик с умным и чистым лицом. Жена мужика дала ему ветошки, мыло и золы из подпечка, чтобы он вымылся в бане. Это была радость. Потрескавшаяся, кровоточащая кожа болела нестерпимо, но он мылся и парился и охал тем настоящим банным голосом – с дурнотою и всхлипами, которым охают все искренние любители русской бани. После бани старуха-бабка дала ему миску наваристых щей со снетками. Он сидел за чистым выскобленным столом, сам чистый, и ел, скрывая свое счастье и показывая на лице суровость и утомление баней. Потом, уже со всей семьей, он пил чай и степенно что-то рассказывал – врал и не глядел на хозяев, потому что врать ему не хотелось.
Утром, распрощавшись и поблагодарив, дав детям последние три рубля на конфеты, он вышел из избы и сразу же столкнулся с милиционером. Милиционер был молодой и, дожидаясь его здесь на морозном ветру, посинел. Он поднял винтовку, но Жмакин ударил рукой по стволу, сшиб милиционера с ног и под чей-то длинный, захлебывающийся вопль кинулся в хлев, там взял нож в зубы, разворошил соломенную крышу и снег на ней, выбросился наверх, спрыгнул в мягкий сугроб и побежал резкими зигзагами к близкому спасительному лесу. Сзади щелкнул выстрел. Жмакин побежал еще быстрее, бросаясь из стороны в сторону, совсем как заяц. Пули стали слышны – они визжали совсем близко. Но и лес тоже был близок. Он бежал еще и по лесу не меньше чем километр и упал, только совсем обессилев. Падая, он зацепил рукояткой ножа о пень и сильно порезал себе рот. Но это все ничего. Лежа он засмеялся. Милиционер был дурак – разве так можно взять настоящего парня? Он опять засмеялся: и такой синий! Сколько времени он простоял в своей дурацкой засаде возле крыльца, – может быть, всю ночь?
Жмакин лизнул снег. До станции было уже близко – день пути.
«Но ведь и тому матерому волку, тому зверю казалось, что человек уже в его власти? – подумал Жмакин. – Я был готов, по мнению того волчищи. И, наверное, даже свою смерть он как следует не расчухал. Э, да что!»
Он тряхнул головою, чтобы отогнать глупые думы о волке. И вновь призрак города встал перед ним. Призрак того города, где спокойно, счастливо, тепло и уютно живут братья Невзоровы, славные мальчики, дети хорошей, симпатичной мамы и серьезного, доброго папы. Мальчики, которые всегда прилично учились, мыли руки, ходили на день рождения к своей тете или дяде. Ох, мальчики-мальчики, братья Невзоровы…
Жмакин зажмурился и еще лизнул снег. Порезанную губу стало жечь, кровь все еще лилась.
День рождения
После обеда Лапшин допрашивал старого своего знакомого, вора-рецидивиста Сашеньку, и пили чай. Сашеньку взял минут двадцать назад в трамвае Бочков, и настроение у Сашеньки было препоганое.
– Это надо так угодить! – сердился Сашенька. – Это надо так налететь на Николая Федоровича! Даже смешно, никто не поверит. Конечно, я мог оказать сопротивление, не самбо там ваше научное, а просто дать раза, но зачем, с другой стороны, мне это надо – это сопротивление? Оно ведь тоже к делу подшивается, верно, гражданин начальник?
– А зачем ты у меня спрашиваешь, если сам все знаешь?
– Для разговору, – сказал Сашенька, – для беседы.
Он был великолепно одет, курил дорогую папиросу и, казалось, даже радовался встрече с Лапшиным, огорчали его только сами обстоятельства ареста.
– Да, нехорошо! – согласился Лапшин. – Всё тебя водят ко мне и водят. Сколько раз уже встречались. Покажи-ка зубки, золотые, что ли, вставил?!
Сашенька оскалился и сказал, пуская дым ноздрями:
– Ага! Один к одному, двадцать семь штук. Чтобы в заключении иметь капитал. Они же золотые. И для игры, если я, допустим, азартный, и вообще…
– А сейчас в Ленинграде гуляешь?
– Сейчас именно я лично гулял и намеревался еще гулять, но оборвалась золотая струна. Только приоделся, любовь заимел…
– Покажи костюмчик-то!
Сашенька развел полы пальто и показал отличный, шоколадного цвета новый костюм.
– Хорош?
– Приличный костюмчик.
– Узковат в проймах немножко, – пожаловался Сашенька. – Люблю вещи свободные, широкие. Впрочем, это сейчас, как говорится, темочка не в цвет. А вы как живете?
– Да, как видишь, помаленьку работаем. Всё ловим, ликвидируем преступность, стараемся…
– «И ни сна, ни покою, ни грез голубых? – продекламировал Сашенька. – И ни знойных, горячечных губ?»
– Это кто же сочинил?
– Не я!
– А магазин на Большом тоже, скажешь, не ты брал?
– Ну и с подходцем же вы, гражданин начальничек! – почти восторженно произнес Сашенька. – Даю слово жулика, орел вы здесь, на площади Урицкого. Лев и орел.
– Значит, не ты?
– Не я.
– А кто?
– Боже ж мой! – воскликнул Сашенька. – Дорогой гражданин начальник, зачем мне было мараться с вопросами соцсобственности, когда я работал на фронте атеизма? Иметь высшую меру за дамский конфекцион, когда я, может быть, православной церковью, как поборник идеи, предан анафеме?
Лапшин подумал, вздохнул и закурил.
– Идейный, – сказал он, – тоже!
И осведомился:
– Церковь в Александровске ты брал?
– Не отрицаю.
– Еще бы ты отрицал, когда и Кисонька и Перевертон у меня сидят. Их же Бочков в церкви и засыпал на Левобережном кладбище. Ты там тоже был, но удрал.
– У меня к вам такое отношение, – сказал Сашенька, – что для вас я ничего отрицать не буду. И для вас, как для уважаемого Ивана Михайловича Лапшина, поскольку вы гроза нашего угасающего мира…
– Не подлизывайся, Усачев, – строго сказал Лапшин. – Мне это совсем не интересно. Давай по делу говорить.
– По делу – пожалуйста! – с готовностью сказал Сашенька. – Дело есть дело. Писать будете?
– Вздор – не буду, а дело – буду.
– Значит, так! – Сашенька загнул один палец на руке. – Первое: я решил твердо покончить с преступным миром. Поскольку наша профессия…
Лапшин вдруг зевнул.
– Извиняюсь, – сказал Сашенька. – Сначала дело, а потом раскаяние, так?
– Пожалуй, оно вернее. И давай, Усачев, сознавайся покороче, без лишних слов, не впервой тебя сажают, рассказывай по существу.
– Что ж, я не вор, чтобы я вам трепался! – обиженно сказал Сашенька. – Что мы, мальчики тут собрались? Когда хочу – говорю, когда не хочу – не говорю.
Он закурил новую папиросу, попросил разрешения снять пальто и, внезапно побледнев, рубанул в воздухе рукой и сказал:
– Амба! Пишите, кто магазин на Большом брал. И адрес пишите, где ихняя малина. Пишите, когда я говорю. И когда они меня резать будут, и когда вы мое тело порубанное найдете – чтобы вспомнили, какой человек был Сашенька. Пишите! Я – железный человек, я – стальной, но я для вас раскололся, потому что таких начальничков дай бог каждому… Пишите!
Он рассказывал долго и курил папиросу за папиросой. Потом спросил:
– Пять лет получу по совокупности?
– За старое. А новое я еще не знаю.
– Пишите новое! – сказал Сашенька. – Располагайте мною.
И он стал рассказывать, как они втроем с Перевертоном и Кисонькой взламывали в деревнях церкви и сдавали в приемочные пункты ценности…
– Была у нас карта старинная, – говорил Сашенька, – с крестиками, где церкви. Ну, мы и работали! С одной стороны, ценности государству сдавали – польза. С другой стороны, когда мы церковь опоганим, ее поп больше не освящает, не решается. Сход не велит. К свиньям, говорят, твое заведение! Тоже польза. Верно?
– Ты мне голову не крути! – сказал Лапшин. – Я тертый калач.
– Дай бог! – сказал Сашенька. – Таких других поискать… Действительно, орел среди млекопитающих…
– Ну, загнул? – усмехнувшись, сказал Лапшин. – И не стыдно тебе, Усачев…
Сашенька покраснел, но заспорил:
– Может, я и загнул, Иван Михайлович, но некоторые вас сильно уважают, даже которые вами обижены. Вот, например, Жмакин. «Псих» иначе, знаете его? Он на ваше все заведение справедливо обиженный, но считает лично, что не вы его погубили и жизнь ему поломали…
Опять – Жмакин?
– Ты когда с ним сидел? – спросил Лапшин.
– А сидел, точно не упомню. У вас и сидел, в ДПЗ, гражданин Окошкин меня тогда повязали на станции Сестрорецк. Они еще совсем молоденькие были – Василий Никандрыч, можно сказать, молоко на губах не обсохло. Я у них тогда два раза из-под самого носа уходил, смешно даже вспомнить…
И Сашенька хихикнул.
Едва Сашеньку увели, позвонил адъютант начальника и сказал, чтобы Лапшин не уезжал, так как сейчас начальник беседует с артистами и собирается вместе с ними к Ивану Михайловичу.
– А ну, дай мне Прокофия Петровича! – попросил Лапшин.
В трубке щелкнуло, начальник осведомился:
– Ты что, Иван Михайлович, занят?
– Да день рождения у меня нынче, – сказал Лапшин, – дружки соберутся кое-какие.
– Так, так…
– Я уж было собрался.
– Значит, идем, Иван Михайлович! – суховато известил Баландин. – Дело такое, надо помочь товарищам…
Досадливо поморщившись, Лапшин сбросил надетую было шинель, зажег бронзовую люстру, которую зажигал в особо торжественных случаях, и зашелестел уже прочитанной сегодня газетой.
Первым, поскрипывая сапогами и ремнями, блестя стеклами пенсне и официально покашливая, вошел Баландин, за ним шли артисты. У Прокофия Петровича на лице было то плутовато-суровое выражение, которое всегда появлялось у него в подобных случаях и которое означало, что хоть мы и не пинкертоны, но найдем что показать. Артисты же держались робко и с таким видом, будто входили в комнату, где могло быть все решительно, начиная с трупа, злодейски разрезанного на куски, и кончая взрывчатыми веществами.
Пожав Лапшину руку во второй раз (они уже виделись сегодня) и предложив артистам садиться, Баландин закурил прямую английскую трубку и, расхаживая по комнате с трубкой, зажатой в кулаке, стал говорить о том, что он привел их к Лапшину не случайно, а привел их потому, что Лапшин – старейший работник розыска, и не только старейший, но и опытнейший…
– В нашем деле, – говорил он, живо блестя стеклами пенсне, – как и в вашем, товарищи, необходимы не только опыт и настойчивость, но еще и талант. Товарищ Лапшин – талантливый работник, очень талантливый и очень настойчивый.
Лапшину от этих похвал стало совестно и, не зная, что делать с собой, он деловито потушил и опять зажег настольную лампу.
– Смущается наш Иван Михайлович! – сказал Баландин, и Лапшин вдруг почувствовал, что смущается сам Прокофий Петрович и именно потому разговаривает несвойственным ему тоном, курит вдруг трубку и слишком много говорит, чего Лапшин не замечал за ним никогда.
Иван Михайлович стоял возле своего кресла и курил папиросу, пристально и спокойно разглядывая артистов зоркими ярко-голубыми глазами: многих он знал по кинокартинам, других видел в театре, третьих помнил в концертах. Но никто ему не нравился: ни красивый молодой человек, снявший широкополую шляпу и отиравший явно подбритый лоб платком; ни старуха с двойным подбородком и любезно-безразличными, уже потухающими глазами; ни еще один молодой, но уже сильно лысеющий человек, все время сладко кивающий яйцеобразной головой; ни тучный, нарочито благообразный пожилой мужчина в крагах и с тростью; ни молодая артистка с рыжими волосами, с очень белой шеей в каких-то блестках и ярко накрашенным ртом. Во всех этих людях было нечто нарочитое, подчеркнутое и раздражающее, такое, что заставило Лапшина с досадой подумать: «Зачем же вы все такие какие-то особенные?» И только одна женщина привлекла его внимание: она сидела сзади всех, и вначале он ее даже не увидел – так скромно по сравнению со всеми она была одета и так незаметно держалась: ни головой не кивала, не смеялась слишком громко, не говорила «удивительно», или «черт знает что!», или «невообразимо!». Она сидела за спиною старухи с двойным подбородком и, вытянув тонкую шею, следила за всем происходящим с испуганно-внимательным и в то же время мило-насмешливым выражением глаз. Она была в берете и в шубке из того пегого меха, про который принято говорить, что он тюлений, или телячий, или даже почему-то кабардинский, и который в дождливую погоду просто воняет псиной. Из-под собачьего воротника у нее выглядывал голубой в горошину платочек, и этот платочек вдруг очень понравился Лапшину.
Когда Прокофий Петрович неуверенно-свободным голосом стал рассказывать о преступлениях годов нэпа и сказал: «Это жуткая драма», – артистка в берете, так же, как Лапшин, от неловкости опустила глаза, а потом усмехнулась, словно поняв и простив Баландина.
Покуривая и слушая начальника, Лапшин смотрел на артистку, видел ее круглые карие глаза, вздернутый нос и думал о том, что если ему придется говорить, то говорить он будет ей и никому другому, разве что еще низенькому старику с большой нижней челюстью, который сидел рядом с ней и порой что-то ей шептал, вероятно смешное, потому что каждый раз она улыбалась и наклоняла голову. «Он с ней вдвоем против всех, – с удовольствием подумал Лапшин. – Злой, наверное, старикан!» И он вспомнил фамилию старика, и вспомнил, что видел его в роли Егора Булычева, и вспомнил, как хорошо играл старик.
Наконец Баландин попрощался и ушел.
– Товарищ Лапшин обеспечит вам помощь и руководство, – сказал он в дверях, – прошу адресоваться к нему.
Артисты по-прежнему сидели у стен. Лапшин потушил окурок, сел в свое кресло и негромко, глуховатым баском спросил:
– Я не совсем понимаю, чем могу вам помочь. Может быть, вы расскажете?
Тогда взял слово молодой артист с очень страдальческим и изможденным лицом и стал объяснять содержание пьесы, которую театр ставил. Насколько Лапшин мог понять, пьеса на протяжении четырех действий рассказывала о том, как перестраивались вредители, проститутки, воры, взломщики и шулера – числом более семнадцати – и какими хорошими людьми сделались они после перестройки. Как ни внимательно вслушивался Лапшин в запутанную и шумную речь артиста, он так и не понял, когда же и отчего перестроились все эти люди. Кроме того, артист рассказывал с большим трудом и стесняясь – с ним происходило то, что происходит с каждым непрофессионалом, рассказывающим профессионалу, – он путался, неумело произносил жаргонные слова и часто повторял: «Если это вообще возможно». Очень раздражал Лапшина также и полупонятный лексикон артиста, все эти – «на сплошном наигрыше», «наив», «крепко сшитый эпизод», «обаяние», «формальные искания завели нас в тупик, и мы пошли по линии» и прочее в таком же роде.
– Понятно! – сказал Лапшин, хотя далеко не все ему было понятно. – Но я вас должен предупредить, что вы не очень правильно ориентированы…
Он поморщил лоб, взглянул на артистку в береге и на старика и понял, что они довольны его тоном и что они ждут от него каких-то очень важных для них слов. У артистки глаза стали совсем круглыми, а старик с ханжески скромным видом жевал губами. Глядя на старика, Лапшин продолжал:
– Уж не знаю, откуда эти идейки берутся, но они неверны. Вот я по вашим словам так понял, что все эти воры, и проститутки, и жулики с самого начала чудные ребята и только маленечко ошибаются. Это не так. Это неверно. Вор в Советском государстве – не герой. Это в капиталистическом государстве могут найтись… люди (он хотел сказать «дураки», но постеснялся и сказал «люди»)… люди, – повторил он, – которые считают, что вор против собственности выступает и потому он герой, а у нас иначе. Ничего в этом деле ни героического, ни возвышенного нет, – сказал Лапшин, раздражаясь, – поверьте мне на слово, я этих людей знаю. Вот у нас в области один дядя Пава украл из колхоза семь лошадей. Мужики из колхоза разбрелись и говорят: «Не были мы колхозные – и лошади были, а стали колхозные – и лошадей нет». Я дядю Паву поймал и посадил в тюрьму, и дядя этот, оказалось, работал не от себя, а от целой фирмы. Сознался. Воры – народ неустойчивый, их легко можно купить. Вот Паву-то кое-кто и купил. А потом он кое-кого!
– Пьеска прелестная, – вдруг сказал старик, – необыкновенно грациозно написанная и колоритная, и все такое, и даже проблемная, в том смысле, что там жулики куда интереснее порядочных людей…
Он закашлялся и сказал лживо-взволнованным голосом:
– Побольше бы таких пьес!
Рыжая актриса огрызнулась, и Лапшин опять подумал, что тут происходит бой.
– Артист представляет собою комок нервов! – вдруг воскликнул молодой человек с подбритым лбом. – Артист все время находится в самой гуще жизни, а писатель фантазирует, сидит, понимаете, в своем красивом далеке и выдумывает, а мы отвечай.
– Почему же это выдумывает? – возразил старик с челюстью. – Ничего он не выдумывает, он в данном случае неправильно решает вопрос. Проблема не туда повернута. Восторженность захлестнула.
Они надолго заспорили между собою, и Лапшину сделалось скучно. Как бы занимаясь своим делом, для себя, он открыл сейф и вынул старый альбом годов нэпа. Перелистывая страницы, он заметил, что артистка в собачьей шубке подошла к нему. Он переложил еще лист и услышал голос:
– Можно мне взглянуть?
Иван Михайлович кивнул.
– Она похожа на провинившуюся курицу! – вдруг тихо, почти шепотом сказала артистка. – Видите?
На листе было несколько фотографий, но Лапшин сразу угадал, кто именно тут «провинившаяся курица». Это была аферистка Сайнер, провалившая всех своих дружков.
– Знаете, от нее все ждут, что она снесется, а она и не снеслась!
Сравнение было таким живым, метким и смешным, что Иван Михайлович с удовольствием засмеялся.
– Точно! – вглядываясь в куриное лицо Маргариты Сайнер, подтвердил он. – Это вы замечательно сказали…
– А ведь многие люди чем-то на зверушек похожи, – тоже смеясь, ответила актриса, – разве не правда?
Но в это мгновение спор внезапно затух, и артисты обступили Лапшина и его альбом.
– А наша Катерина свет-Васильевна уже подобралась к самому интересному, – ласково произнесла старуха с двойным подбородком и воскликнула: – Товарищи, вот кладезь премудрости – преступные типы…
Все столпились вокруг альбома, посыпались замечания, остроты, требования «зарисовать», «перефотографировать», «достать для театра в собственность». Одни утверждали, что здесь все «утрировано», другие говорили, что это и есть «сама жизнь».
– Дайте мне меня! – требовал артист с подбритым лбом. – Я хочу видеть себя! Имею я на это право? Подвиньтесь же, Викентий Борисович, просто невозможно.
– Вы бываете у нас в театре? – спросила Катерина Васильевна Лапшина.
– Редко.
– Заняты очень?
– Бывает, занят…
Она помолчала и сказала с расстановкой, словно взвешивая слова:
– Наш театр сейчас переживает кризис.
– Что?
– Кризис! – пояснила Катерина Васильевна. – Так называется большая склока, которую мы у себя развели!
Засмеялась, и Лапшину опять стало смешно.
– Какая-то вы чудная! – произнес он. – Никогда не знаешь, что вы скажете в будущую минуту.
– Это и я сама не знаю! – ответила она. – Оттого мне и попадает часто.
– Балашова, почему вы не смотрите? – сердито осведомился тот, которого называли Викентием Борисовичем. – Здесь типичная ваша роль…
Катерина Васильевна заглянула в альбом и молча пожала плечами.
Зазвонил телефон – это Окошкин осведомлялся, не отменен ли день рождения.
– Нет! – коротко ответил Лапшин и положил трубку.
Строгий Павлик – сердитый, потому что его задерживали, – принес большие, унылого вида учебные альбомы. Лапшин роздал их артистам, а один положил на дубовый столик для Балашовой и старика с челюстью. Выражение глаз у него сделалось таким, какое бывает у художника, показывающего свои картины, он, улыбаясь, перекладывал лист за листом и говорил с усмешкой:
– Тут, знаете, мы кой-чего разыграли, такие, как бы живые, картины. Это все сотрудники наши изображены. Это, например, разбойный налет. А это, знаете ли, вон он, лично я, в кепке, налетчика изображаю с маузером. Это здесь все точно показано, – говорил он, возбуждаясь от поощрительного покашливания старика. – Здесь все как в действительности. А здесь уже показано, как наша бригада выезжает на налет. Тут – уже я в форме… А здесь я опять налетчика разыгрываю…
– Чудно! – сказала Балашова и повернулась к нему всем своим улыбающимся розовым лицом, и он увидел, что щеки ее покрыты нежным пушком.
– Верно, ничего разыграли? – весело и просто спросил он. – Это, знаете ли, в учебных целях, своими силами, а уж мы разве артисты?
– Все очень живо и естественно, – сказала Балашова, – напрасно вы думаете…
– Смеялись мои ребята, – говорил Лапшин, – цирк прямо был…
И, очень довольный, Лапшин завязал папку и стал рассказывать о налете, который инсценировал. Артисты его обступили, и он понимал, что им хочется рассказа пострашнее, но врать он не умел, да по привычке совсем убирал из рассказа все ужасное и ругал бандитов.
– Да ну, – говорил он, посмеиваясь, – так, хулиганье вооружилось. Разве это налетчики?
– Так как же все-таки с перековкой? – капризным голосом спросил бритолобый артист. – Должны мы знать, в конце концов, ведь подтекст решается не в день премьеры, а нынче, немедленно…
Лапшину приходилось одновременно отвечать и насчет перестройки, и по поводу «манер» жуликов, и про то, как бывшие бандиты играют в карты, и про воровские песни. Но главное, что интересовало их, – это были убийства – двойные, тройные, трупы в мешках, все то, с чем Иван Михайлович никогда почти не сталкивался.
– Да выдумывают невесть что! – с досадой наконец решился сказать он, – вздор все это, базарные сплетни!
– А Ленька Пантелеев? – не без ехидства спросила старуха с двойным подбородком.
– Давно было это дело.
– Но тем не менее было?
Лапшин промолчал и, сделав вежливое лицо, стал собирать и ставить в шкаф свои альбомы и папки.
– А вот скажите, это убийство тройное на днях произошло, – не унималась старая артистка с двойным подбородком, – как вы себе представляете психологию убийцы?
– Не знаю, – сказал Лапшин. – Бандит еще не найден.
– Ах, так! – любезно сказала артистка.
– Да! – сказал Лапшин. – К сожалению.
Прижав коленкой дверцу, он запер шкаф и остановился посередине кабинета в ожидающей позе.
– А вот, скажите, – спросил лысый артист и склонил свою яйцеобразную голову набок, – убийство на почве ревности, страсти роковой вам случалось видеть?
– Случалось, – сказал Лапшин.
– И… как же? – спросил артист.
– Я работаю по преступности много лет, – сухо сказал Лапшин, – мне трудно ответить вам коротко и ясно.
– Ну, спасибо вам! – сказал вдруг тучный артист в крагах и стал пожимать Лапшину руку обеими руками. – Я очень много почерпнул у вас. От имени всего коллектива благодарю вас. Надеюсь и впредь бывать у вас и пить от истоков жизни.
– Пожалуйста! – сказал Лапшин. – Прошу.
Пока они собирались уходить, он открыл форточку, надел шинель и позвонил, чтобы давали машину. Досады и раздражения он уже не чувствовал и, спускаясь через две ступеньки по привычной лестнице, с удовольствием представлял себе Балашову. «Вот бы кого нынче на пирог позвать, – вдруг подумал он, – то-то бы славно было! Милый она, наверное, человек!».
Машина к подъезду еще не подошла.
Стоя в дверной нише служебного выхода и оглядывая огромную, белую от снега площадь, Лапшин вдруг явственно услышал голос одного из актеров, с досадой говорившего:
– Да полно вам, дурак ваш Лапшин! Дурак, и уши холодные! Чиновник, тупой, ограниченный человек и грубиян в довершение…
Мимо, табунком, прошли артисты, и толстый старик в крагах, тот самый, что давеча обеими руками пожимал руку Лапшину, брюзгливо говорил:
– Чинуша, чинодрал, фагот!
«Почему же фагот? – растерянно подумал Лапшин. – Что он, с ума сошел?»
Сидя в машине, он по привычке припоминал свой разговор с артистами и, только восстановив все до последнего слова, решил, что был совершенно прав, коротко отвечая на вопросы, что отвечать пространно было невозможно и что психология преступления и все прочие высокие темы не укладываются в вопросы и ответы на ходу, а потому прав Лапшин и неправ толстый артист в крагах.
«И не чиновник я, – рассуждал Лапшин, – и не дурак, и не фагот, это ты, товарищ артист, все врешь. Правда, я грубоватый иногда и образование у меня подкачало, так ведь не по моей вине. Вопросы же вы сами задавали глупые. И вообще чудак-народ! – неодобрительно, но уже весело думал Лапшин. – Чудак, ужели все наши артисты такие – в глаза одно, а за глаза другое? Нет, вряд ли, это, конечно, исключение!»
Дома, открыв парадную своим ключом и стараясь не скрипеть сапогами, Лапшин умылся в ванной, с удовольствием надел шлепанцы и вошел в комнату, где уже пахло пирогами с капустой, которые Патрикеевна держала покуда «с паром», то есть под толстым полотенцем.
– Я уж и в Управление звонил! – сказал Окошкин. – Ждем, ждем!
Ждали: сосед по квартире хирург Антропов; полный, с иголочки одетый брюнет, которого Василий довольно пренебрежительно представил: «Некто Тамаркин, в одной школе имели честь учиться, вот и пришел»; и еще старый товарищ Лапшина по ВЧК и гражданской войне, теперь начальник крупной автобазы Пилипчук.
– Алексей-то Владимирович не появлялся? – спросил Лапшин, крепко пожимая руку Пилипчуку, которого очень любил, но с которым встречался редко.
– Сейчас заявится, – ласково ответил Егор Тарасович. – Большое теперь начальство наш Леха.
На столе среди тарелок с угощением были разложены подарки: от Патрикеевны – вышитая бисером туфелька для часов, от Окошкина – портсигар с изображением стреляющего из пистолета, почему-то полуголого юноши, от Антропова – флакон одеколона, про который доктор сказал, что он – «мужской», от Пилипчука – шкатулка карельской березы неизвестного назначения.
– Изящно сделано! – произнес Егор Тарасович. – Марки почтовые будешь держать, конверты там, вообще письменные принадлежности.
Шурша шелком, пришла из кухни Патрикеевна, сказала, что гусь перепреет и она ответственность с себя снимает.
– Заметьте, Иван Михайлович, наша начальница губы себе подмазала, – сообщил Окошкин. – Переживает, я считаю, вторую молодость.
– У меня всегда губы удивительно красные! – рассердилась Патрикеевна.
– Как у вампира, – сказал Окошкин.
В ожидании Алексея Владимировича за стол не садились, а сели у топящейся печки и стали разговаривать о возрасте.
– До сорока оно, конечно, еще козлом прыгается, – говорил Антропов, – нет-нет, какое-либо антраша и выкинет человек. А сорок – порожек. Перешагнул и задумался. Солидность появляется в человеке, лысина блестит, и в волейбол играть даже неловко. Одним словом, хоть еще и не старость, но уже и не молодость.
В голосе Антропова Лапшину слышались грустные интонации, он понимал, что Александр Петрович, рассуждая, думает о своей милой Лизавете, ему хотелось подбодрить доктора, сказать ему что-нибудь резкое, такое, чтобы тот встряхнулся, рассердился, но при Пилипчуке и совсем чужом, развязном Тамаркине нельзя было касаться того, что болело у Александра Петровича, и Лапшин лениво поддакивал:
– Да уж чего, конечно, возраст паршивый, переломный. Годам к пятидесяти опять все налаживается, там картина ясная и приговор апелляции не подлежит. Пожилой человек – и все. И с точки зрения пожилого человека вполне спокойно можно прожить, что тебе в дальнейшем положено.
– А у нас есть родственник, ему сто шестьдесят, – фальцетом сказал Тамаркин. – И представляете, Иван Михайлович, веселый, бодрый, полный сил, абсолютный оптимист.
Лапшин покосился на Васькиного товарища и промолчал. Он знал, что люди, случается, живут и больше, но не поверил Тамаркину.
– Тоже Тамаркин? – угрожающе спросил Окошкин.
– Нет, как раз у него другая фамилия.
– А то мы проверим через Академию наук, – сказал Вася. – Эти лица все там на учете, верно, Иван Михайлович? Мы по нашей линии вполне можем проверить. Ты скажи, Тамаркин, может, врет твой родственник?
Потом рассуждали о событиях в Австрии и Чехословакии.
– Все ж промолчали, когда они вкатились в Вену, – задумчиво говорил Лапшин. – Промолчали и признали. А стратегическое значение этого дела нешуточное. Австрия для фашистов мост на пути в Италию, Венгрию, Югославию, вообще на Балканы, и охватывается фланг Чехословакии. Муссолини теперь тоже не сам по себе, а, извините-подвиньтесь, без фюрера пискнуть не сможет.
– А вы не чересчур мрачно рассматриваете вопрос? – вежливо осведомился Тамаркин.
Иван Михайлович не ответил, только слегка покосился на Тамаркина.
– А теперь смотрите, что дальше получается, – говорил Лапшин Пилипчуку. – В газетах писали, что английская какая-то там «Дейли» имела бесстыдство заявить, будто захват Австрии ничего не меняет, поскольку она всегда была германской страной, и что, дескать, англичане должны заниматься своими собственными делами, а Чехословакия – это их, дескать, не касается…
– Нахальство! – со вздохом заметил Окошкин.
– Что именно – нахальство? – с неудовольствием спросил Лапшин.
– Так вы предполагаете, что мирового пожара не избежать? – почтительно осведомился Тамаркин.
Лапшин опять ему не ответил и заговорил о Бенеше, который отверг помощь Советского Союза и пошел на капитуляцию. Спокойно и подробно он рассказал, что вся каша у озера Хасан минувшим летом была, конечно, заварена японцами для того, чтобы проверить нашу боеспособность.
– Так они ж там по морде схлопотали! – живо сказал Окошкин. – И сами пардону запросили – японцы…
Пилипчук, покуривая и пуская дым в печку, кивал. Ему приходилось часто бывать за границей, и, невесело посмеиваясь, он рассказал, какую шумиху учинили правительства Англии и Франции перед Мюнхеном. Егор Тарасович сам видел призыв резервистов, видел, как раздают населению противогазы, видел, как готовят убежища и щели на центральных улицах, видел, как пугают народ возможностью близкой войны.
– Коммунисты так и считают там, что это шантаж войной, диверсия. И правильно считают: буржуазным правительствам нужно вбить в головы людей мысль, что лучше капитуляция перед Гитлером за счет Чехословакии, чем война. Старый метод провокаторов. Расчет на подлость: своя рубашка ближе к телу.
– Мыслишка в основе одна, – сказал Лапшин. – Хоть с чертом, но против коммунизма. Не вышло Черчиллю удушить большевизм в его колыбели, надеется теперь, когда мы взрослые…
– Но это же смешно! – воскликнул Тамаркин. – Крайне смешно! А если еще они не учитывают массированные налеты нашей авиации, которые должны дать огромные результаты…
Лапшин знал о том, что массированные удары нашей авиации непременно дадут соответствующие результаты, но то, как об этом сказал Тамаркин, было неприятно ему. А Окошкину сделалось неловко за своего школьного приятеля.
– А ты что? В летчики подался? – спросил он.
– Нет, но просто интересуюсь. Разве гражданину Советского Союза нельзя интересоваться авиацией?
На этот вопрос Тамаркин ответа не получил, так как приехал Альтус и все сели за стол. Алексей Владимирович выглядел гораздо моложе Лапшина, хотя они были почти одногодками, а Пилипчуку по виду годился в сыновья, и тот по-отцовски называл его своим крестником. Окошкин смотрел на Альтуса с немым восхищением, он кое-что знал о нем, слышал, что Альтус бывает нелегально за рубежом, что недавно его тяжело ранили, что в годы своей юности он не раз выполнял очень опасные задания самого Дзержинского. И то, что этот человек сидел с ним рядом, весело и просто разговаривал со всеми и даже осведомился у Василия, доволен ли он своей работой, – наполняло его восхищением и даже умилением.
– Вы – пирога, товарищ Альтус, – сказал он, внезапно пьянея. – И внутрь масла пихните. Вам чего налить – коньяку или водки?
– Коньяку! – сказал Альтус.
Окошкин взял непочатую бутылку коньяку, ловко откупорил ее, налил сначала себе чуть-чуть, потом полную рюмку Альтусу, потом свою до краев.
– Лихо! – удивился Альтус. – Вы у кого так научились?
– А у официанта в ресторане «Ша-нуар», – самодовольно разъяснил Окошкин. – Старый официант, толковый.
– Знаете что? – тихонько сказал Алексей Владимирович. – Мой вам совет – ничему никогда у официантов не учитесь. Особенно у старых. У них другая, особая школа вежливости. Называется эта школа – лакейством. Ясно?
– Ясно, – густо краснея, согласился Окошкин.
Ему бы провалиться сейчас сквозь землю – вот бы был выход из положения. Или скончаться скоропостижно – ведь бывает же, случается с людьми. Так нет, сиди здесь под прямым, светлым, смеющимся взглядом этого чекиста. И не огрызнуться никак – тут не подойдут слова вроде «не ваше дело», «не вам меня учить», «и сам знаю».
После гуся с капустой, который действительно разопрел до того, что непонятно было – где гусь, а где капуста, Антропов с Тамаркиным сели за шахматы, Окошкин вышел в коридор «прохладиться», а Лапшин, Пилипчук и Альтус стали негромко переговариваться, вспоминая прошлое, старых товарищей по работе и шумные дела, в которых все они участвовали.
– А дело Павлова помнишь, Иван Михайлович? – вдруг спросил Альтус.
– Это я его брал, а не Лапшин! – чуть обидевшись, сказал Пилипчук. – В феврале девятнадцатого мы его с покойником Пашей Федоровым брали, а в марте Пашу убили анархисты.
– Точно, – сказал Альтус. – Хорошая у тебя память, Егор Тарасович. Ну, а резолюцию Феликса Эдмундовича помнишь? Постановление коллегии ВЧК, написанное рукой Дзержинского? А я вот помню.
И, словно читая по бумаге, ровным голосом он произнес:
– За сознательную злостную провокацию, результатом которой было лишение свободы целого ряда лиц, Исая Исаевича Павлова расстрелять.
Он помолчал, рассеянно помешивая чай в стакане, отпил глоток и резко заговорил:
– Я вот недавно с курсантами беседу проводил, задал им вопрос о первом применении высшей меры, о первом расстреле органами ВЧК. И, знаешь, Иван Михайлович, удивился: никто на мой вопрос не ответил.
– Чего ж тут не ответить – князь Эболи.
– Хорошо, а почему именно князь Эболи? – резко перебил Лапшина Альтус. – Тут ведь вопрос чрезвычайно глубокий, серьезный, в этом расстреле очень многое можно увидеть, много понять и навечно извлечь выводы…
– Князя Эболи при мне привезли, – не торопясь, задумчиво сказал Лапшин. – Я тогда, конечно, не понимал, а теперь, предполагаю, разобрался. Тут дело в чем? Сволочь эта – Эболи – выдавал себя за чекиста, так?
– Так, – кивнул Альтус.
– И под видом чекиста обыскивал и грабил. А на нас лились помои, что мы-де грабители и бандиты. И здесь не только наказание было со стороны Феликса Эдмундовича, но и предупреждение всем навсегда, и даже тот смысл, который уже позже он сформулировал, помнишь, Алексей Владимирович? «У чекиста должны быть горячее сердце, холодный ум и чистые руки». Верно? Так что расстрел Эболи есть не просто наказание, а утверждение всей нашей будущей морали – как нам жить и что такое настоящий чекист. Правильно я говорю?
Из коридора, «охладившись», вернулся Окошкин и подсел к Пилипчуку.
– Ну что, смена наша? – спросил Альтус. – Чего такой бледненький?
– Да коньяк больно крепкий, – сказал Окошкин. – Или работа наша такая нервная, что ослабел я?
Пилипчук, посмеиваясь, погладил Окошкина по голове.
– Видали? Работа у него нервная!
Они о чем-то заговорили вполголоса, а Лапшин с Альтусом сели на широкий подоконник, и Иван Михайлович почти шепотом спросил:
– Когда начнется, как считаешь, Алексей Владимирович?
– Так ведь уже началось, – спокойно и твердо ответил Альтус. – И кончим это дело только мы, больше некому. Суди сам по газетам. Они ему всё продадут по кусочку, он по кусочкам их сожрет, наберется сырья и всего, чего нужно, а потом рванет по крупным странам.
– Ты его видел?
– Видел и слышал.
– Ну что?
– Дерьмо и кликуша. Но высокую ноту забрал, не легко ему голову будет открутить. Хитер, конечно, бобер.
В первом часу Альтус уехал, прихватив с собой Пилипчука. Тамаркин тоже стал прощаться. Он очень долго тряс Лапшину руку, кланялся всем своим рано жиреющим туловищем и говорил:
– Очень рад знакомству, очень рад и надеюсь вас с Васей видеть у себя дома. И мама будет очень, очень рада.
Захлопнулась дверь и за Тамаркиным. Окошкин ушел в ванную умываться. Антропов еще присел, пожаловался:
– Совсем я пропадаю, голубчик Иван Михайлович. Хоть в Неву с гранитной набережной кидайся.
– Говорили с Лизаветой?
– Боже сохрани! – испугался Антропов.
– Так как же будет?
– А так и будет: никак!
Александр Петрович насупился, долго барабанил пальцем по столу, сказал сердито:
– Черт знает что. Ну, понятно, – жажда материнства, а я? Представляете себе – из больницы нет никакого желания идти домой. Сорок лет! У человека должна быть семья, лампа над столом, глупости, вздор, может быть мещанство, но надо же не куда-то, а к кому-то идти после рабочего дня. К кому-то! Понимаете? Чтобы тебя, старого беса, ждали и чтобы тебе говорили примерно такую фразу: «И где ты, Саша, все ходишь? Я просто места себе не нахожу!»
Он вдруг засмеялся счастливым смехом и повторил:
– «Я просто места себе не нахожу!» А? Как вы считаете? Она себе места не находит?.. Ну, спокойной ночи…
Когда подрагивающий после холодного душа Окошкин ложился в постель, Лапшин сказал ему, что Тамаркин, с его точки зрения, чепуховый человек и что он просит его больше не приводить.
– Да ведь он случайно, Иван Михайлович…
– То-то, что случайно…
Они легли и долго еще читали: Василий – журнал с картинками, а Лапшин большую книгу, которую трудно было держать лежа.
– Интересно вам? – спросил Окошкин.
– Ничего работа, толковая, – ответил Иван Михайлович. – Мне исторические труды всегда читать интересно.
Постукивая деревянной ногой, сердитая, вошла Патрикеевна, принесла вымытые тарелки. Окошкин попросил у нее порошок от головной боли.
– Нету у меня порошков, – сказала Патрикеевна.
– Тогда поколдуйте надо мной, вы же это умеете! – съязвил Вася.
– Колдовство не существует! – отрезала Патрикеевна. – Колдовство – обман.
– А имя Патрикеевна существует?
– Патрикеевна не имя, а отчество, а вот почему это вас, товарищ Окошкин, взрослого человека, никто с отчеством не называет – это удивительно.
Они еще долго пререкались, мешая Лапшину читать. Потом Патрикеевна ушла, и Окошкин спросил:
– Действительно, Иван Михайлович, это она правильно подметила: почему меня никто по отчеству не называет? Неужели я такой несолидный?
– Солидности в тебе действительно маловато, – зевая, сказал Лапшин и велел гасить свет.
Так кончился день рождения Ивана Михайловича.
В вагоне
Жмакин подошел к поселку со стороны станции – железнодорожных путей. Наступало утро, рассвет мутный, морозный, и красные товарные вагоны были в гроздьях инея, пакгауз совсем завалило снегом, и станция словно спряталась в снегу, только рельсы недавно вычистил снегоочиститель, те самые рельсы, которые столько раз представлялись ему в эти мучительные дни. Но теперь он видел рельсы, он даже потрогал их рукой – одну и, на всякий случай, другую рельсу, а потом долго, внимательно, недоверчиво разглядывал станционный колокол, столбы, гудящие провода, все подлинное, железнодорожное, «без дураков», – подумал Жмакин, – «всамделишное».
Он устал до изнеможения и хотел есть. На станции был буфет, но ему там ничего не удалось украсть, и он пошел в город, едва передвигая разбухшие, саднящие ноги. В Дом крестьянина его пустили, – он зарос бородой и на нем был кожух.
– Документы у брата, – сказал он, – а брат в райисполкоме.
Ему дали койку с бельем, пахнущим карболкой, с одеялом и подушкой. Ему было странно ко всему этому прикасаться. На тумбе возле койки лежала подсохшая корка ржаного хлеба. Он сжевал ее кровоточащими деснами. Вымылся в бане, выстирал там свое белье, выжал почти досуха и повесил на горячую трубу досушиваться. Белье досушивалось, а он дремал, сидя в предбаннике и положив ладони на острые колени. Влажное тепло волнами ходило возле него. Раны, и кости, и ссадины – все болело и ныло, но ему было сладко и легко, и город был в его воображении совсем близко – рядом. Протяни руку, и будет город, и он был в городе хозяином – ходил свободно и всюду, и вовсе не оглядывался и не боялся, и жил не на малине, а в настоящей квартире, и начальник Иван Михайлович Лапшин, повстречавшись с ним на улице, вежливо и спокойно козырнул ему рукою в черной кожаной перчатке.
Ночью в Доме крестьянина он вышел из комнаты, как бы по нужде – без брюк и пиджака, огляделся в коридорчике и с хрустом, мгновенно, вывернул висячий замок с двери камеры хранения. Здесь же, в камере, он переоделся – хороший теплый свитер и два костюма – один на другой, потом полупальто с воротником из барашка и шапка-ушанка. Тут же в бауле были и паспорта каких-то геологов, и деньги, и справки, и командировочные удостоверения.
Все в доме спали, натрудившись за день, спали крепко, надежно. О «шалостях», подобных жмакинской, тут не слыхивали, замок на камере хранения висел только для обряда, чемоданы и вещевые мешки сдавали на хранение тоже для обряда, «как везде». И потому, что Жмакин крал почти без риска, наверняка, – ему самому было и стыдно и весело одновременно.
Он мог взять еще что-нибудь – сапоги, бурки, унты, всего тут было достаточно, в избытке, но он не взял ничего, сунул кольцо от замка, где ему надлежало быть, потом привернул фитиль в лампе, что горела в коридоре, и отворил кухонную дверь.
Жирная стряпуха спала на лавке, сладко храпела и причмокивала. В большой дежке у печи дышало тесто, наверное для пирогов. Была поздняя ночь – ходики показывали два-третий. Стряпуха вдруг села на лавке, обознавшись спросила:
– Уезжаете, Борис Федорович?
– Нет, – солидно ответил он, – не уезжаю. Депешу надумал срочно отправить, схожу на станцию…
Улыбочка была на его лице, и душу угнетало ощущение грязного дела, но он тряхнул плечом и пошел к двери. Стряпуха оттянула засов, скинула крючки. Жмакин рванул – дверь примерзла, рванул еще, и пурга сразу ударила в разгоряченное лицо. Собака бросилась ему под ноги, вокруг все шуршало, и было слышно сухое похрустывание. Собака ластилась к нему и прыгала, повизгивая. Он не торопясь пошел по дороге, разыскивая глазами хоть одно светлое окно. Пурга выла в проводах, и чем дальше он шел, тем легче и свободнее ему становилось на сердце. Потихонечку он запел:
Что ты смотришь на меня в упор — Я твоих не испугаюсь глаз. Так прекратим же этот разговор, Мы его ведем не в первый раз…Пел он, чтобы подбодрить себя, чтобы не было так подло на сердце. Его не могли хватиться в Доме крестьянина этой слепой, воющей ночью: и геологи, и инспектор, и фельдшер, и инструктор райкома спали, уверенные друг в друге, и никогда они не поймут, кто мог обокрасть их – работников Заполярья, уставших, намучившихся, продрогших командировочных.
Ну что же, брось, ну брось Жалеть не стану. Я таких, милок, достану. Ты же, поздно или рано, Все равно ко мне придешь…Пурга била ему в лицо, когда прыгнул он на тормозную площадку длинного товарного состава, и никакого страха он не испытывал, когда врал главному кондуктору, что отстал от пассажирского, так же как никого и ничего он не боялся, когда на станции со странным названием Мырмыши Вторые купил билет и, постреливая зелеными веселыми глазами, почти полноправным, почти законным пассажиром ввалился в плацкартный спальный вагон номер три, место номер восемнадцать, верхнее.
Взобравшись на полку, всем своим существом ощущая свободу, вымытый, сытый, с папиросой в зубах, он рассказывал девушке, читавшей толстую книгу на соседней полке:
– Никогда чемоданов не вожу, не имею такой привычки, все на себе. Два костюма надел, видите, как капуста, зато руки свободны и не продует…
Девушка смеялась, показывая ровные, белые зубы, и пассажиры добродушно посмеивались. В вагоне было уютно и жарко, играли в шашки, в домино, пили чай, закусывали. Окна совсем замерзли, и весь день в вагоне стоял теплый полумрак, тайга не лезла сюда, здесь человек был сильнее ее, сильнее морозов, волков, свистящего ветра.
Моряк с длинным белым лицом часто заводил патефон, и все слушали «Румбу», «Парадиз», «Лимончики», все много и интересно рассказывали – и толстый агроном, выводивший томаты за полярным кругом, и моряк, участник многих далеких и трудных экспедиций, и маленький старик в очках – зубной врач, – он, оказывается, разъезжал со своей бормашиной в нартах, запряженных собаками и оленями, и лечил зубы в юртах, а то и под открытым небом. И жена зубного врача тоже рассказывала про своего мужа, а он посмеивался и говорил:
– Ну уж ты, Маша, не преувеличивай, пожалуйста…
Жмакину было обидно.
Он мог рассказать такое, что все бы они раскрыли рты, но это рассказывать было нельзя, и он молчал, иронически поглядывая своими зелеными острыми глазами. Черт их всех возьми! Им легко, когда их посылает государство, когда у них бумаги и мандаты, подписанные государственными людьми, когда о них беспокоится и каждодневно печется государство, когда у них радио, телеграф, телефон, когда правительство посылает искать их корабль самолеты и самых лучших в мире летчиков, когда их снабжают специальным питанием, разными там витаминами, консервами и шоколадами. Потеряйся такой зубной врач в тундре – какой шум подымется. А он, он – Жмакин?
Он слушал, и чем больше слушал, тем отчаяннее хотелось говорить о себе, о том, что он видел и пережил за свою, еще такую короткую, жизнь. Хотелось сказать им, что все они – щенки, и старик в золотых очках – тоже щенок, хотя и здорово пожилой, и что они, в сущности, при нем не имеют права даже рассказывать. Ему было просто противно слушать, как толстый агроном, потягивая чай из кружки, рассказывал, что однажды на охоте заблудился и двое суток ел какие-то корешки, и было обидно, что моряк слушает, и девушка слушает, и старушка сочувственно охает.
Наконец все устали и уснули. Была ночь, паровоз ревел где-то очень далеко в морозной мгле, и вагон раскачивался. А Жмакин не спал и думал. Он казался себе лучше, чем все они. Теперь те недели в тайге казались ему замечательными, и сам он рисовался себе героем – точно он не плакал тогда и не шептал полузабытые детские молитвы, точно он и не превращался в животное, а всегда был смелым, сильным, решительным, с ножом в руке, с песней… И мир представлялся ему очень несправедливым: они – и доктор, и агроном, и старик в очках – могли хвастаться и рассказывать, а он, переживший куда больше, ничего не мог рассказать, не мог никого удивить, поразить. Своим, блату, рассказывать было неинтересно, там не удивлялись и не верили, потому что и про волков и про все решительно рассказывали кому только не лень: ложь была в почете, умение врать ценилось и в тюрьме, и на воле, и на этапе – везде. Но ведь волки, и страшные эти недели, и галлюцинации – все это было в действительности. Так почему же он не мог рассказать это здесь, в вагоне, и старику, и агроному, и девушке – он уже знал, что зовут ее Катюша Малышева; она спала тихо, едва дыша, и лицо ее было спокойное во сне, – он долго на нее смотрел. «Расскажу, – решил он, – будь что будет!»
Ему не спалось, он слез со своей полки и пошел по проходу. Поезд притормаживал. Проводник побежал в тамбур с фонарем. Жмакин вошел в уборную и пригладил волосы перед зеркалом. Весь лоб был в шрамах, еще свежих, кожа плохо срасталась, он слишком долго голодал. «Жмакин», – сказал он перед зеркалом и насупился, чтобы видеть себя серьезным. Потом он оскалился, изображая, как артист, какое-то грозное-грозное чувство, и сделал движение вперед, к самому зеркалу, но зеркало тотчас запотело, и он ничего не увидел. Поезд остановился, проводник постучал в дверь:
– Гражданин! На остановке…
– Я не пользуюсь, – сказал Жмакин. – Я причесываюсь.
И, точно проводник мог видеть, он причесался украденным вместе с одним из костюмов гребешком.
Потом он долго разглядывал себя – свое лицо с бородкой, узкие злые брови, решительные и острые глаза. Что-то понравилось ему, он сказал: «Ах ты, Каин» – и вышел из уборной.
Поезд все еще стоял, в тамбуре носились белые свежие снежинки. Проводник сердито кашлял.
– Все задувает, – сказал Жмакин, – вот погодка!
Ему хотелось поговорить.
– Задувает, – сказал проводник, – в пятом вагоне чемодан задули у пассажира.
В тамбур влез летчик, открыл ногой дверь и, грохоча чемоданами, пошел по вагону. Жмакин из своего отделения видел, как он, стоя в проходе, снимал кожанов пальто на меху и перепоясывался. Он что-то тихонечко насвистывал одними губами. Выражение его лица было праздничное, немного даже глуповатое.
– У кого это чемодан сперли? – спросил он издали, заметив, что Жмакин смотрит на него. – Не слышали?
– Не слышал.
Хлопнула дверь из тамбура. По вагону шли стрелок железнодорожной охраны и штатский в высоких сапогах и в полушубке нараспашку. Лицо у штатского выражало раздражение. «Сейчас возьмут», – решил Жмакин и полез в карман за папиросой. Страха не было, даже сердце не забилось чаще. «Возьмут, довесят еще пять лет – будет десять», – подумал он, закуривая и не пропуская ни одного движения штатского. Штатский остановился возле него. Стрелок стоял немного сзади, от него несло холодом, снегом.
– Через ваш вагон никто не проходил? – спросил штатский. – С желтым чемоданом?
Жмакин молчал.
– Нет, – сказал он наконец, – не упомню.
Он еще не верил своему счастью. Ему хотелось сделать приятное штатскому.
– Один тут проходил, – будто вспомнив, сказал он, – но не сюда, а отсюда.
Штатский пошел дальше. Жмакин показал ему вслед кукиш. И тотчас же обессилел и полез наверх спать.
А с утра он рассказывал о своем побеге. Но побега не было. Были какие-то медикаменты, которые нужно было доставить, – такое вранье, что сам запутался. В вагоне было нестерпимо жарко; все пассажиры уже перезнакомились, и летчик успел стать своим человеком. Он слушал, положив локти на обе полки, и лицо его выражало сочувствие, немножко даже жалостливое. Слушая, он волновался, расстегнул ворот гимнастерки и иногда говорил: «вот», «хорошее дело», или «шут тебя дери», или что-нибудь еще в этом роде. Катюша Малышева тоже слушала, уперев подбородок в ладони и свесившись с полки, глаза ее ровно и настойчиво светились, нос блестел. Слушал и толстый агроном, и старик в золотых очках, и его старушка, и было ясно, что все они сочувствуют Жмакину, а главное, верят ему с начала до конца. Да и почему им было не верить ему? Он говорил настойчиво, со страстной нервностью жестов и интонаций, с многочисленными смешными и страшными подробностями, говорил то посмеиваясь сам, то пугаясь уже пережитого, ввертывая ловкие, «тонные», круглые слова, – ему просто нельзя было не верить.
– Ну и что – передали? – спросил моряк, когда Жмакин кончил рассказывать.
– Что?
– Да ну, то, что несли…
– Это? Да, передал, – сказал Жмакин, вдруг щурясь, – как же не передать!
Летчик покрутил головой и сел. Он был просто потрясен.
– Да-а-а, – протянул он, – бывает, бывает.
Все вдруг заговорили негромко, оживленно, но никто уже не вспоминал – после такого повествования невозможно было рассказать какую-либо историйку, охотничью, докторскую. Все были подавлены величием того, что совершил этот остроглазый парнишка, и Жмакин слышал осторожный и назидательный шепоток:
– Вот ищем мы героев, фотографируем, читаем… А рядом с нами едет доподлинно героическая натура, и никто о нем никогда не узнает… А? Это жаль, жаль…
Потом зашипел что-то старик в золотых очках, и агроном громко сказал:
– А не выпить ли нам всем по маленькой в знак взаимного уважения и начавшегося знакомства? Давайте, товарищи, слезайте сверху, объединимся и выпьем.
На маленьком столике уже была постлана салфетка и стояла нехитрая вагонная посуда: эмалированные кружки, граненый зеленого стекла стакан, серебряная червленая чарочка. Моряк открывал консервы, старуха резала свою курицу, что-то нежно ей приговаривая, доктор, прищурив один глаз, заглядывал в жестяную фляжку – старался, видимо, определить, много ли там водки.
Жмакин не торопясь слез со своей полки и пошел в вагон-ресторан. Он понимал, что выпивку эту затеяли спутники в его честь, и странное чувство и неловкости, и гордости, и радости, и благодарности волновало его. Что-то было не так во всем этом, он знал, что солгал им в главном – в цели своего путешествия через тайгу, но ни в чем ином он не солгал – ни в выносливости, ни в мужестве, ни в настойчивости, ни в муках, которые перенес, ни в риске, которому подвергался. Э, да что! Если б знали они, что Жмакин не мог даже выйти на дорогу, что в него, кроме всего прочего, стреляли, – тогда бы они поняли, кто здесь настоящий человек.
Состав било и валяло из стороны в сторону, в тамбурах вился снег. Не пожалев денег, Жмакин купил водки и закусок, папирос, шоколаду и вернулся к себе в вагон. Катюша Малышева уже сидела внизу и обгладывала куриную лапку. Жмакин расставил бутылки и молча сел. Странное у него было чувство: вдруг показалось, что совершил он какую-то подлую кражу, обокрал этих людей своим рассказом, обокрал по-сволочному, гнусно. Вспомнилось вдруг, как на этапе в камере молодой ворюга рассказал: в лавке ребенку никто не мог разменять тридцатку. Этот самый ворюга «разменял» – вручил девочке три трешки. Урки посмеялись, потом Жмакину стало противно, он развернулся и от плеча дал ворюге в ухо. Ворюга взвыл, кинулся на Жмакина, но получил от всей камеры и скис.
– Чего задумался, друг? – сказал летчик. – Давай, браток, иди в авиацию…
– Я и так авиатор! – с насмешливым вызовом в голосе ответил Жмакин. – Все мы понемножку авиаторы.
Летчик не понял.
– Это как? – спросил он, чистыми глазами всматриваясь в Жмакина.
Агроном оказался из тех, которые, выпив две рюмки водки, начинают петь, и не потому, что им хочется, а потому, что они считают, будто так обязательно нужно. Он похлопал доктора по колену и запел:
Сильва, ты меня не любишь, Сильва, ты…– Давайте лучше патефон заведем, – предложил моряк, и все опять слушали «Румбу», а доктор дирижировал пальцем и вдруг сказал:
– Воображаю, как это негры разделывают где-нибудь в тропиках, а?
И, помолчав, добавил:
– Прелестная вещь юг.
Выпивка не удавалась. Все говорили: «Э, люблю выпить», и никто толком не пил, предлагали петь и не пели, смеялись, но смешно не было. Жмакин сидел насупившись, глотал рюмку за рюмкой и с каждой минутой раздражался все больше.
Ему казалось, что его арестуют именно сейчас. Подойдет штатский в высоких сапогах и выведет его на какой-нибудь полустаночек. И все эти будут сидеть по-прежнему в вагоне, а доктор скажет:
– Да-с…
И значительно покачает дурацкой своей головой. А поезд будет гудеть и грохотать, и с каждой минутой этого гула и грохота все ближе и ближе будет огромный прекрасный город.
Он выпил еще рюмку и съел кусок рыбы. Катюша смотрела на него в упор, не отрываясь. Он ей подмигнул, медленно обвел всех злыми, светлыми глазами и неожиданно неприятным, блатным, металлическим тенором запел:
Мы повстречалися с тобой на вечериночке, В кино ишел тогда «Багдадский вор», «Оксфорд» коричневый и лаковы ботиночки Зажгли в душе моей пылающий костер…Что-то шальное появилось в его лице, тонкие брови поднялись, голову он слегка откинул, и выражение глаз ежесекундно менялось – от злого к грустному, от грустного к бесшабашному, и наконец все это замерло, и лицо сделалось наглым, вызывающим и в то же время мертвым – все шрамы выступили, рот чуть скосился, кровь отлила от загрубелой кожи, и только один какой-то мускул играл возле виска, мелко бился, подрагивал, дергался.
– Что же вы не подпеваете? – перестав петь и слегка задыхаясь, сказал Жмакин. – Песня хорошая…
Но сам петь больше не стал, выпил рюмку водки, закусил и, обдав всех наглым, но уже и равнодушным взглядом, полез на полку, укрылся с головой пиджаком и сразу же заснул.
Была уже глубокая ночь, когда он проснулся, – ужасно хотелось воды. Все спали, только Малышева стояла возле тамбура, упершись лбом в заиндевелое окно. Услышав шаги, она обернулась, взглянула на Жмакина и опять стала смотреть в искристую, снежную мглу.
– Любуемся? – спросил Жмакин.
– Ага! – ответила она.
– Пейзажик ничего случается. Сфотографировать, взять на память и никогда не возвращаться обратно.
Она промолчала. Жмакин видел ее гибкую шею в растянутом вороте заштопанного свитера и нежное ухо, выглядывающее из-под платка, и думал о том, что мог бы ей порассказать еще про себя и сломить то небольшое уже сопротивление, на которое ее сейчас хватит. Но рассказывать свое, да не про себя ему почему-то не хотелось, и он молчал, продолжая смотреть на Катюшу. Потом спросил:
– Вы ленинградская?
– Да, – сказала она, поворачиваясь от окна. Ее нос смешно побелел, – она все время прижималась им к стеклу.
– Учитесь там?
– Учусь, – сказала она, поправляя обеими руками платок.
Он поглядел на ее локти, и ему захотелось вытолкнуть ее из вагона и остаться с нею где-нибудь в пурге. А потом отдать ей все пиджаки и замерзнуть, чтобы она видела – какой он. Но он только спросил, где она учится, и так как спрашивать было уже нечего – закурил папиросу.
– Послушайте, – сказала она, – вот вы рассказали замечательную историю. Ее никто не узнает, вероятно. У меня в Ленинграде живет один знакомый парень – он работает в газете «Смена», он журналист. Хотите, я его к вам приведу и он напишет об этом? Ну, такую статеечку, знаете?
– Вряд ли напишет, – сказал Жмакин.
– Нет, обязательно напишет. Ведь это все-таки героизм…
– Да?
– Конечно!
Ох, как ужасно захотелось ему сказать ей вдруг всю правду о себе, сказать, что он вор, по кличке «Псих», что у него не один привод и не одна судимость и что ему наплевать и на зубного врача с его бормашиной, и на летчика, и на агронома с его томатами, и на Катю, что он сам по себе, а они сами по себе, что непреодолимая стена разделяет их и вечно он будет по одну сторону, а они по другую.
– О моем героизме, значит, дружок ваш напишет? – кривя губы, осведомился Жмакин. – О моей истории?
– Непременно напишет, – чуть-чуть тревожно, словно бы опасаясь чего-то, сказала Катюша. – Обязательно.
– А если бы я был, например, жуликом? – опасно пошутил он. – Тогда как?
– Жуликом?
– Так точно, вором.
Катюша молчала, весело и широко глядя на него большими, светлыми, ясными глазами.
Жмакин засмеялся.
– Ну, ладно, ладно, – сказал он, – запишите мой адресок и приходите. Напишет наш парень статейку, получит дублоны, иначе рублики, культурно с ним отдохнете, в кино или в театре…
И опять засмеялся.
Она записала адрес тюрьмы вместо дома и вместо квартиры номер той камеры, в которой он когда-то сидел.
– Заходите! – сказал он. – Если застанете, буду рад. С корешами познакомлю со своими, интересные типы попадаются…
Рано утром поезд подошел к Ленинграду. Настроение у Жмакина было скверное, болела голова, и когда все вышли на перрон, то вдруг показалось, что ничего здесь хорошего нет, что не стоило так мучиться и что хорошего, конечно, никогда ничего не будет. Он шел вместе с летчиком. Летчик тащил два чемодана, и полное лицо его было восторженным. Жмакин предложил помочь. Они уже вышли на площадь.
– Да-а, город, – тянул летчик, – это городок!
Жмакин взял чемодан летчика, немного поотстал и на Старо-Невском вошел в знакомый проходной двор. Злоба и отчаяние переполняли его. «Рвань! – бормотал он, скользя по обмерзшим булыжникам. – Иди в авиацию!» Поднявшись на шестой этаж чужого дома и послушав, тихо ли, он одним движением открыл чемодан, выложил все вещи в узел, покрутился по переулкам и уже спокойно, валкой походочкой, дымя папироской, пошел в ночлежку на Стремянную.
Так рецидивист Жмакин Алексей, осужденный на пять лет по соответствующим статьям Уголовного Кодекса, прибыл в Ленинград ровно на четыре года и восемь месяцев раньше того срока, когда это могло бы произойти по закону.
Тамаркин проворовался
Вернувшись из суда, Лапшин застал у себя в кабинете Окошкина, сконфуженного, словно бы ощипанного.
– Ну? – спросил Иван Михайлович. – Что у вас?
Василий принялся мямлить, испуганно и искоса вглядываясь в непроницаемое лицо Лапшина.
– Ты не ходи вокруг да около! – велел Лапшин. – Ты прямо говори. Не человек, а каша-размазня.
– Тамаркин проворовался! – сказал Василий. – Он в артели работал, там актировал моторы, перебирал их и через другую артель на черный рынок…
– Какой такой Тамаркин? – морщась, спросил Лапшин. Он уже знал, какой это Тамаркин, и от отвращения у него даже засосало под ложечкой, но Василий обязан был все сказать сам, и подробно.
– А тот, помните, ваш день рождения… Вот он был… Вы еще с ним беседовали. В отношении Мюнхена и…
– Я с ним беседовал в отношении Мюнхена? Да ты что, Окошкин?
– Нет, конечно, он ко мне пришел, я не отрицаю, Иван Михайлович, это тот самый, который тогда говорил, что и он и его мама были бы очень рады, если бы мы к ним пришли. Помните?
– И ты к ним пошел?
– То-то и счастье – не пошел. Однажды собрался, а вы меня тут задержали – я и не пошел. Ну, прямо как насквозь вы видели, прямо спасли меня, ведь это надо себе представить кошмар, который мог бы…
– Ладно! Дальше что было?
– Ну и проворовался. Ордер оформлен я на обыск, и на арест. Соучастников тут брали…
– Так я-то здесь при чем?
– Его сажать надо, – сказал Вася, – а мне как-то неловко. Может, вы кого другого пошлете?
– Нет, тебя, – сказал Лапшин. – Именно тебя.
– Почему же меня?
– А чтоб знал, с кем дружить! – краснея от гнева, сказал Лапшин. – Некто Тамаркин и некто Тамаркин, а Тамаркин – ворюга…
Краснея все больше и больше и шумно дыша, Лапшин смял в руке коробку спичек, встал и отвернулся к окну.
– Ну тебя к черту! – сказал Лапшин, не глядя на Василия. – Пустобрех ты какой!.. Поезжай и посади его, подлеца, сам, и сам дело поведешь, и каждый день будешь мне докладывать…
– Слушаюсь! – тихо сказал Окошкин. – Можно идти?
– Постой ты! Откуда он у тебя взялся-то?
– Ну, чтоб я пропал, Иван Михайлович! – быстро и горячо заговорил Вася. – Учились вместе в школе, потом я его встретил на улице, обрадовался – все-таки детство…
– «Детство»! – передразнил Лапшин. – Дети! И на парткоме еще о своих друзьях расскажешь. Дети – моторы красть! Возьми машину и поезжай, а то он там наторгует! Ребятишки у него есть?
– Нет.
– А жена?
– Тоже нет, официально.
– Подлец какой!
– Да уж, конечно, собака! – сказал Васька примирительным тоном. – Я и сам удивляюсь.
– Удивляешься! – вспылил Лапшин. – Теперь поздно удивляться. Поезжай сейчас же!
И он с силой захлопнул за Василием дверь.
– Теперь поздно! – повторил Окошкин слова Лапшина. – Да, теперь поздно. И все-таки, Иван Михайлович, я выполню свой долг. Вы недаром доверяли Окошкину. Ему можно доверять, клянусь!
Васька иногда любил подпустить патетики.
…Тамаркин служил в переплетной артели «Прометей» и еще по совместительству в организациях под названиями «Свой труд», «Учпомощь» и «Росбумизделие». В «Учпомощи» Тамаркин находился на должности шофера директора, а в «Росбумизделии» для него была использована штатная единица заместителя начальника планового отдела. Что касается до «Своего труда», то здесь Тамаркин числился консультантом. Все это было чудовищно незаконно и как-то необыкновенно нагло организовано. По дороге в «Прометей» Окошкин томился от стыда и обиды, ему все виделся уничтожающий взгляд Лапшина и вспомнилось, как он позвал Тамаркина на день рождения Ивана Михайловича. От стыда сосало под ложечкой и хотелось сказать Тамаркину целую речь, исполненную пронзающих и клеймящих слов, но говорить было уже незачем, да и что понял бы этот мелкий жулик в тех чувствах, которые терзали Окошкина?
Они столкнулись в узком, заваленном картоном и штуками коленкора коридорчике, причем не Василий остановил Тамаркина, а Тамаркин окликнул его.
– Привет, Окошкин! – крикнул Тамаркин и толкнул Васю ладонью в грудь. – Чего это ты к нам попал?
Он протянул руку, но Василий спрятал свою за спину. На Тамаркине был синий подкрахмаленный комбинезон, под ним рубашка из шелка и галстук в горох. На шее он для щегольства имел еще белое кашне.
– Разглядываешь меня? – болтал Тамаркин. – Люблю и на работе культурно выглядеть. А то некоторые есть – еще молодые люди, а уже опускаются. За мной очень мама следит, чтобы я имел тот вид. Знаешь, приходится по делу бывать у больших людей, чтобы не было неудобно…
Рядом за тонкой фанерной стеною грохотала какая-то машина, шипел и шлепал приводной ремень.
– Ты что слушаешь? – спросил Тамаркин. – Это наша индустрия. Тоже кое-что имеем. Как отметил недавно председатель нашей артели – маленькое, но важное дело здесь делаем. Добротный переплет для книги – это продолжение ее жизни. Неплохо сказано, а?
Он неуверенно и немножко испуганно засмеялся, а Окошкин переспросил:
– Продолжение жизни?
И, вынув из бокового кармана ордер, велел:
– Ознакомьтесь.
Сзади, из-за поворота коридорчика вышли два сотрудника Управления. Тамаркина сразу ударила дрожь, он кляцнул зубами, рассердился:
– За кого вы меня считаете?
– Пройдемте! – приказал Окошкин.
– Я сойду с ума! – крикнул Тамаркин. – Пусть знает наш председатель товарищ Дзюба, что вы со мной сделали. В конце концов, это просто произвол.
– Пройдемте! – повторил Окошкин.
– Но куда?
– Попрошу, пройдемте.
На обыске в квартире Тамаркина Вася окончательно убедился в том, что тот – вор. Он понял это, открыв рояль и увидев там шесть сберегательных книжек на фамилию Тамаркина, понял по обилию костюмов, по двум очень дорогим фотоаппаратам, по радиоприемнику, по толстой пачке денег, спрятанной в фаянсовую вазу для цветов, по пишущей машинке.
– Зачем вам пишущая машинка? – спросил Василий. – Что вы – работаете машинисткой?
– Да! – с вызовом ответил Тамаркин. – Допустим! И вас это, кстати, совершенно не касается, товарищ Окошкин…
Толстая мадам Тамаркина, которая всхлипывала, стоя у двери, крикнула:
– Странно, почему машинка привлекла ваше внимание? Почему вы интересуетесь сберегательными книжками? Или есть такой закон, что должна быть только одна сберегательная книжка? Или мальчик не имеет права делать сбережения? Может быть, мы кушаем исключительно кашу на воде и все откладываем на черный день? Шесть книжек – какой кошмар! А сколько книжек у товарища Дзюбы – это вам известно?
– Оставьте, мама! – крикнул Тамаркин с дивана. – Вы понимаете, что вы несете?
– Ой люди, боже ж мой, что за люди! – вздохнул понятой – дворник. – Это же надо – шесть книжек!..
Когда обыск был окончен, Тамаркин попросил:
– Скажите, товарищ Окошкин, я еще могу немного покушать напоследок? Или это не положено? Я хочу делать только то, что можно, а если нельзя, то я не буду ставить вас в сложное положение.
– Можете прощаться! – сурово сообщил Окошкин.
Мадам Тамаркина страшно закричала, сотрудники вдвоем принялись опечатывать комнату Тамаркина. Запахло сургучом, дворник вздохнул:
– Значит, теперь прощайте, Боречка! Пошиковали, погуляли, теперь все.
– За что? – спросил Тамаркин в машине. – Именем школьной дружбы – я требую ответа. Что я такое сделал?
Василий молчал и смотрел в окно.
– Тогда берите Дзюбу тоже! – произнес Тамаркин. – И Солодовникова. И обоих кладовщиков. Что я в их руках? Пешка! Ребенок! Вы думаете, я делал комбинации? Вы думаете, они святые? Весь «Прометей» – это жулик на жулике. Если хотите знать правду – они меня втянули в это дело. Я ничего особенного не хотел. А когда мы первый раз поужинали в «Европейской», когда приехал Солодовников, когда…
Он вдруг заплакал.
– Вот тогда…
И, схватив Василия за руку, зашептал:
– Послушайте, Вася, мы же все-таки с вами сидели на одной парте, Васечка, разве такое можно забыть…
– Никогда я с вами на одной парте не сидел, – вырвав руку, сказал Окошкин. – Я с Жоркой сидел и с Перепетуем. А вы всегда слоеные пирожки на переменах кушали, с дружком вашим Блимбой. У меня память тоже как-нибудь сохранилась…
Сдав Тамаркина, Окошкин явился к Лапшину и доложил. От Ивана Михайловича он сбегал к врачу и смерил себе температуру. Было тридцать восемь и шесть, и в горле оказались налеты.
– Надо идти домой! – сказал врач. – И в постель, да-с. Чаю с малинкой, аспиринчику можно таблеточку…
Почесав вставочкой густую бровь, он написал рецепт и объяснил:
– Вот это микстурка, а это – полоскание…
– Товарищ доктор, а вот я слышал, – сказал Окошкин, – будто открыто новое лекарство. Препарат какой-то… Саль… или суль…
– Покуда разговоры есть о сульфидине. Ну да посмотрим, я, дорогой товарищ, очень много на свете прожил и чрезвычайно много всяких открытий помню. Возникают и исчезают…
Щеки у Окошкина горели, и по спине пробегал неприятный холодок. Настроение у него было приподнятое, и хотелось действовать. Побужинский в своем маленьком, очень чистеньком кабинете допрашивал Тамаркина. У того на сытом личике была написана готовность и приветливость, он кивнул Васе и сказал, как доброму другу:
– Вот – даю самые правдивые показания. Ничего не скрываю. Сейчас занимаемся деятельностью в кавычках нашего председателя, гражданина Дзюбы. Надеюсь, что органы следствия разоблачат и разгромят всю преступную шайку… Ну… и мои откровенные показания будут учтены…
И, обернувшись к Побужинскому, Тамаркин спросил:
– Итак, пойдем дальше?
– Пойдем! – загадочно ответил Побужинский. – Отчего же не пойти…
Ночью Вася бредил, а Лапшин и Антропов играли в шахматы, и Александр Петрович говорил:
– Не понимаю я вас, Иван Михайлович! Зачем вам понадобилось посылать его за Тамаркиным? Он молод, это его школьный друг, сложное, щекотливое положение…
– Ничего, будет знать, с кем водиться! – вздохнув, сказал Лапшин. – И злее станет. А что касается до щекотливых положений, Петрович, то вы с этим делом немножко того… высоко берете… Попроще надо на некоторые дела смотреть…
– Это в каком же смысле?
– Да вы знаете, в каком… в любом эдаком…
Антропов подозрительно взглянул на Лапшина, но ничего не ответил, только сурово сдвинул брови. Погодя, мотая конем над доской, вдруг вспомнил:
– Когда болел сыпняком, то все время бредил. И знаете ли чем? Тем, что свет какой-то звезды долетает до нас через две тысячи лет. Это казалось чудовищно страшным…
– Почему же страшно? Две так две! Пусть себе…
– Врешь! – с постели крикнул Окошкин. – Неправда! И не имеешь права…
– Разбирает парня! – сказал Лапшин и внимательно посмотрел на Василия.
…Из Управления Иван Михайлович два раза звонил по телефону, и оба раза ему отвечал Окошкин.
– А ничего! – говорил он. – Слабость, мысли какие-то глупые…
– Какие же, например, глупые?
– А вот – помру, как – с оркестром хоронить станете? На лошадях или при помощи автомототранспорта? Кто речь скажет? Может, сам начальник, а может, кому поплоше велят…
– И верно, что мысли глупые.
– Я ж сам говорю. И еще в отношении товарища Бочкова. Я с ним в субботу поругался, так он на похороны пойдет или нет? Ты спроси у него, Иван Михайлович, скажи, что я беспокоюсь…
Погодя Окошкин позвонил Лапшину и спросил томным голосом:
– Иван Михайлович, как ты считаешь, можно мне, вторую тарелку щей? Патрикеевна не дает…
Лапшин швырнул трубку.
От безделья и скуки Окошкин известил всех своих знакомых, что тяжело, может быть даже смертельно, болен, и поэтому, когда Лапшин вернулся домой, телефон беспрерывно трещал и Василий с кем-то подолгу и очень жалостно объяснялся. Пока обедали, Иван Михайлович терпел, потом рассердился:
– Может, и довольно, а, Василий Никандрович?
Телефон опять зазвонил, Вася сказал в трубку:
– Все! Закрыто на переучет. Сам с работы вернулся, ясно?
И бешено стрельнул в Лапшина хитрыми, веселыми глазами.
Иван Михайлович разулся и, наморщив лоб, сел возле радиоприемника. В эфире не было ничего интересного. Женский голос читал из «Крестьянской газеты», потом диктор объявил, что будут исполняться вогульские народные песни. Окошкин рассказывал:
– А я тут без вас прочитал, Иван Михайлович, что будто уже скоро построят такую машину – телевизор, что ли? И радио можно слушать, и кино на дому смотреть, и постановку, и что хочешь… Поразительное дело: вот препарат сульфидин…
– Помолчал бы…
– Ей-богу, целый день молчал…
– Ну и сейчас помолчи. Телевизор, сульфидин. Ой, Вася, Вася…
– Да ведь интересно, Иван Михайлович… Честное слово, расскажу не хуже радио. А вот радио вы слушаете, а Окошкина Васечку, больного человека, – не хотите…
Иван Михайлович отмахнулся. Радиодиктор с железными перекатами в голосе говорил, кто кого будет играть в пьесе, название которой Лапшин прослушал.
– Видишь, балаболка! – сказал Иван Михайлович укоризненно. – Теперь и неизвестно, что станем слушать…
– А это про посевы, – сказал Вася, – я уж знаю. В это время всегда про посевы. Один артист будет за корнеплода играть, другой – за подсолнух, третий – за сельдерей…
– Помолчи! – сказал Лапшин.
– Тут давеча без вас картошка пела, – не унимался Вася, – так жалобно, печально: «Меня надо окучивать – окучивать…» Не слыхали?
– Нет, – сказал Лапшин и лег в постель.
Он любил театр и относился к нему с той почтительностью и серьезностью, с какой вообще относятся к театру люди, не сделавшие искусство своей специальностью. Каждое посещение театра для Лапшина было праздником, и, слушая слова со сцены, он обычно искал в них серьезных и поучительных мыслей и старался эти мысли обнаружить, даже если их и вовсе не было. Если же их никак нельзя было обнаружить, то Лапшин сам выдумывал что-нибудь такое, чего хватило хотя бы на дорогу до дому, и рассуждал сам с собой, шагая по улицам. И, как многие скромные люди, он почти никогда не позволял себе вслух судить об искусстве и, если слышал, как его товарищи толкуют о кинокартине, книге или пьесе, то обычно говорил:
– Много мы, ребята, что-то понимать стали! А? Грамотные, умные! Ты поди сам книгу напиши, а я погляжу…
Но огромный жизненный опыт и знание людей волей или неволей научили его отличать жизненную правду от подделки ее искусством, и он знал и любил то ни с чем не сравнимое чувство острой радости, которое возникало в нем при соприкосновении с подлинным искусством. Тогда он ни о чем не думал и только напряженно и счастливо улыбался, глядя на сцену или на экран или читая книгу – независимо от того, трагическое или смешное он видел, и в это время на него приятно и легко было глядеть. И на следующий день он говорил в Управлении:
– Сходил я вчера в театр. Видел пьесу одну. Да-а!
И долго потом он думал о книге, или о пьесе, или о картине, что-то взвешивал, мотая своей крутолобой, упрямой головой, и опять говорил через месяц или через полгода:
– Представлен там был один старичок. Егор Булычев некто. Нет, с ним бы поговорить интересно. Я таких видал, но не догадывался. Это старичок!
И долго, внимательно глядел на собеседника зоркими голубыми глазами.
– Интересно? – спрашивал собеседник.
– Да, пожалуй что интересно, – неторопливо и неуверенно соглашался Лапшин, боясь, что слово «интересно» чем-то оскорбит пьесу, которую он видел.
По радио передавали одно действие из пьесы, о которой Лапшин довольно много слышал, но которую ему не довелось повидать. На эту пьесу устраивали культпоход, но Иван Михайлович в культпоходах не принимал участия – любил бывать в театре один, за что как-то его заклеймил Митрохин, назвав «ярко выраженным индивидуалистом». Лапшин только усмехнулся на это обвинение. Ему не нравилось в антрактах пить лимонад и болтать о постороннем. И праздник ему не удавался, если ходили вместе: слишком уж было шумно, суетно и слишком много говорили.
В нынешней пьесе речь шла о пожилом человеке, который предполагал, что умирает, заболев неизлечимой болезнью, и все-таки держался жизнерадостно, бодро и деловито. Очень многое из того, что говорил герой пьесы, раздражало Лапшина, но многое восхищало поразительной точностью изображения характера – сильного и крупного, дельного и выполняющего свой долг даже на пороге смерти.
Не совсем таких, но в чем-то именно таких людей, как герой пьесы, Лапшин встречал в своей жизни немало, и сейчас, слушая по радио эту драму, Иван Михайлович вспоминал смерть своего дружка чекиста Першенко. Покойный Жора вновь ожил перед его глазами, и, слушая пьесу, Лапшин узнавал голос Жоры, его насмешливые и острые слова незадолго до смерти, когда везли Першенко в оперативном фаэтоне, смертельно раненного, в госпиталь. Тогда моросил дождь, было мозгло и холодно, и Першенко – украинец с Полтавщины – сердился на то, что даже «напоследок» его солнышко не погрело, хоть он и «заработал» себе хорошее отношение тем, что схватил пулю в живот не в начале боя, а в самом конце. И ехавшие с Першенко в этот последний путь и слезы утирали, и посмеивались…
Вспоминая смерть Першенко, Иван Михайлович вдруг приподнялся и вслушался в голос нового персонажа – девушки-комсомолки, которую играла – он мгновенно узнал – та самая Катерина Васильевна Балашова, что давеча была с другими артистами в Управлении.
Разбитная, искренняя, неглупая и очень наивная девочка внезапно появилась перед Лапшиным, хотя он слышал только ее голос. Может быть, на сцене она вовсе не была такой, как виделась Лапшину, но видел он не ее, а молодую жену Першенко – Зою, видел такой, какой она вбежала тогда в госпиталь, и такой, какой была на Жориных похоронах: в кургузой кожаной куртке с бархатным воротником, длинноногая, длиннорукая, с выпавшей из-под косынки косой, не верящая в реальность смерти, не понимающая – какая это смерть, – такой видел он Зою, и такой, казалось ему, была на сцене сейчас Катерина Васильевна Балашова. И чем дальше, тем глубже захватывала Ивана Михайловича пьеса и тем ближе становились ему люди, которых изображали артисты, но которых он знал в жизни…
– Здорово играет! – размягченным голосом, лежа на своей кровати, сказал Окошкин. – Замечательно! И он тоже. Верно, Иван Михайлович?
Патрикеевна загремела тарелками, Василий на нее прикрикнул.
– Сейчас будет сцена смерти! – предупредил он.
Лапшин не ответил. Из радиорупора донесся жалобный и некрасивый плач девушки, узнавшей, что ее собеседник умер.
– Все там будем! – по-бабьи сказал Васька и закурил, чтобы не волноваться.
Спектакль кончился.
Диктор медленным голосом еще раз прочитал, кто кого играл. Комсомолку играла Балашова, артистка театра, по названию напоминающего ДЛТ – Дом ленинградской торговли.
– Важно разыграли! – сказал Васька. – Верно, Иван, Михайлович?
– Важно, – согласился Лапшин и опять вздохнул. – Как бы она ревела, – сказал он, садясь на матраце, – ежели бы видела смерть настоящих людей! Умирал у меня в группе – я тогда на борьбе с бандитизмом работал, и был у меня такой паренек Ковшов, молодой еще, совсем юный, – так вот он умирал. Ну, брат…
Лапшин поискал вокруг себя на постели папиросы, закурил и стал рассказывать, как умирал Ковшов.
– А когда мы его хоронили, – говорил Лапшин, – то лошаденка по дороге на кладбище от голода пала. Понесли гроб на руках. Двое детишек осталось. А наша группа, когда банду всю повязали, постановила: от своего пайка за месяц десятую долю послать ребятам Ковшова. И вышло пятнадцать фунтов сахару-мелясу, знаешь, желтый такой? Я год назад заходил к Ковшовым, ничего живут, оба паренька работают. Чай у них пил с медом. А мамаша опять замуж вышла. И муж у нее такой ерундовский, такой пустяковый мужчина. Говорит солидно, собой доволен, кассир в банке. Конечно, кассир тоже свое дело делает, кто спорит, – можно деньги быстро считать, а можно и медленно, только за Ковшова как-то вроде неловко. Орел был, а в доме даже портрета его теперь не видно.
– Башмаков еще не износила, – сказал Окошкин.
– Башмаки-то, положим, и износила, и не одну пару, да фотографию бы все-таки следовало сохранить – для ребят хотя бы.
– А может, кассир ревнивый. Разве не бывает, Иван Михайлович? – спросил Вася. – Это же надо понять – каждый день с утра до вечера смотри на человека, который был мужем твоей жены. Я бы лично на это не пошел…
Постучал Антропов, поставил Окошкину термометр и рассказал:
– Умерла у меня нынче одна старушка. Черт его знает – и прооперировал удачно, и послеоперационный период шел нормально. Весь день хожу и места себе найти не могу. Терпеливая женщина, помучили мы ее изрядно, ничего, даже не жаловалась. Вчера подозвала меня, спрашивает: «А что, Александр Петрович, верно говорят, что в мыло перетопленное человеческое сало кладут?» Я отвечаю – конечно, не верно. Она вздохнула: «Сколько, говорит, жизни своей я погубила – и себе, и детям сама мыло делала. Хорошее – землянику клала в него или липового цвета…» Обещала мне своего мыла прислать и вдруг – запятая. А?
– Бывает! – сказал Лапшин.
– Тридцать семь и семь! – значительно произнес Василий. – Привет от старушки. И как это вы, Александр Петрович, при больном человеке такие печальные истории рассказываете? Вот у меня температура и вскочила…
Лапшину стало скучно. Он взглянул на часы – было начало двенадцатого – и вызвал машину.
– Куда? – спросил Василий.
– Поеду к Бочкову, – сказал Лапшин, – на квартиру. Ему баба житья не дает, надо поглядеть.
Он надел шинель, сунул в карман дареный браунинг и сказал из двери:
– Ты микстуру пей, дурашка!
– Оревуар, резервуар, самовар! – сказал Вася. – Привези папирос, Иван Михайлович.
Лапшин и Жмакин
Когда он вошел в комнату, на лице Бочковой выразилось сначала неудовольствие, а затем удивление. Она стирала, в комнате было жарко и пахло мокрым, развешанным у печки бельем.
– Бочкова нет дома, – сказала она, – и он не скоро, наверно, придет.
– Я к вам, – сказал Лапшин. – И знаю, что он не скоро придет.
– Ко мне? – удивилась она. – Ну, садитесь!
Стулья были все мокрые. Она заметила его взгляд, вытерла стул мокрым полотенцем и пододвинула ему.
– Вы стирайте, – сказал он, – не стесняйтесь! Я ведь без дела, так просто заглянул.
Она ловко вынесла корыто в кухню, вынесла ведра, бросила мокрое белье в таз и очень быстро накрыла стол скатертью. Потом сняла с себя платок и села против Лапшина. Лицо у нее выражало недоверие.
– Полный парад! – сказал Лапшин.
Бочкова промолчала.
– А вы кто будете? – спросила она. – Я ведь даже и не знаю.
Голос у нее был приятный, мягкий, выговаривала она по-украински – не «кто», а «хто».
– Моя фамилия Лапшин, – сказал он. – Я начальник той бригады, в которой работает Бочков. А вас Галиной Петровной величать?
– Да, – сказала она.
Лапшин спросил, можно ли курить, и еще поспрашивал всякую чепуху, чтобы завязался разговор. Но Бочкова отвечала односложно, и разговор никак не завязывался. Тогда Лапшин прямо осведомился, что у нее происходит с мужем.
– А вам спрос? – внезапно блеснув глазами, сказала она. – Який прыткий!
– Не хотите разговаривать?
– Что ж тут разговаривать?
Он молча глядел на ее порозовевшее миловидное лицо, на волосы, подстриженные челкой, на внезапно задрожавшие губы, и не заметил, что она уже плакала.
– Ну вас! – сказала она, сморкаясь в полотенце. – Вы чуждый человек, чего вам мешаться… Еще растравляете меня…
Полотенцем она со злобой утерла глаза, поднялась и сказала:
– А он пускай не жалуется! Як баба! Ой да ай! Тоже герой!
– Герой, – сказал Лапшин. – Что же вы думаете, товарищ Бочков – герой!
– Герой спекулянтов ловить, – со злобой сказала она. – Герой, действительно!
– Ваш Бочков герой, – спокойно сказал Лапшин, – и скромный очень человек. Он по конокрадам работает, а лошадь в колхозе – дело первой важности. Он дядю Паву поймал, слыхали?
– Слыхала, – робко сказала Бочкова.
– А кто дядя Пава, слыхали?
– Конокрад, – сказала Бочкова, – лошадей уворовал.
– «Уворовал», – передразнил Лапшин. – Увел, а не уворовал.
– Ну, увел, – согласилась Бочкова.
– А что он в вашего Бочкова из двух пистолетов стрелял, это вы знаете?
– Нет, – сказала она.
– Не знаете! – как бы с сочувствием сказал Лапшин и загнул один палец. – Не знаете, – повторил он. – А что вашему Бочкову два года назад, когда вы спокойненько в школе учились, кулаки-конокрады перебили ногу и он в болоте, в осоке, восемь суток умирал от потери крови и голода, это вы знаете?
– Нет, – тихо сказала она, – не знаю.
– Так! И это не знаешь! – со злорадством в голосе, внезапно перейдя на «ты», сказал Лапшин и загнул второй палец. – Что же ты знаешь? – спросил он. – А, Галина Петровна?
Она молчала, опустив голову.
– Твой Бочков знаешь какой человек? – спросил Лапшин. – Знаешь?
Она взглянула на него. Он вдруг чихнул и сказал в платок:
– Нелюбопытная вы женщина, вот что!
Лапшин еще чихнул и крикнул, морщась:
– Понесли черти! У меня форточка в кабинете, и в затылок дует.
Отдышавшись, он сказал:
– Вот как!
И добавил:
– Так-то! Вы бы меня про него спросили. Ему лично со всего Союза письма пишут, он спаситель и охранитель колхозного добра…
– Я ж этого ничего не знаю, – сказала она, – он же мне ничего не говорит. «Поймал жулика, жуликов поеду поймаю, в колхоз поеду, в совхоз поеду, хорошего жулика поймал…»
– А вы спросите, – назидательно, опять перейдя на «вы», сказал Лапшин. – Чего ж не спросить?
– Да он не скажет.
– Чего нельзя – не скажет, а что можно – скажет. Я его знаю, из него всякое слово надо клещами вынимать. Он боится, что неинтересно, что подумают, будто он трепач, хвастун. Он знаете какой человек? Махорку всегда курит, а хороший табак любит, это мне известно. Премировали мы его, так он табаку себе все-таки не купил. Говорит – а чего там, подумают, Бочков загордился. А деньги небось вам отдал?
– Мне, – сказала Бочкова, – на пальто. У меня пальто не было зимнего.
– А вы ему табаку купили?
– Так он не хочет, – густо краснея, ответила она, – курит свою махорку.
– «Махорку», – передразнил Лапшин, – «махорку»! Эх вы, дамочка!
– Я не дамочка, – сказала Бочкова, – сразу же в дамочки попала.
Она заморгала, готовясь заплакать, и, несмотря на досадливый вздох Лапшина, все-таки заплакала.
– Сами плачете, – кротко сказал Лапшин, – а сами ему глотку переедаете. Нехорошо так!
– Я себе в Каменце жила, – говорила она, плача и пальцами вытирая слезы, – он приехал, в гостинице жил. Я с ним познакомилась. Говорят – поедем, поедем! В опережу два раза сходили, на «Марицу», знаете, и на «Веселую вдову». Видали? И потом я как-то влюбилась в него, что он такой тихий, молчаливый. Смотрю – гимнастерку сам себе зашивает белыми нитками…
Она засмеялась, и слезы чаще полились из ее черных больших глаз.
– Жалко, так жалко мне стало! «Дайте, кажу, вашу гимнастерку…» И потом гуляли мы с ним до самого утра, а потом уже пошли расписались. Несчастье мое, поехала с ним в Ленинград. У нас, каже, театры, кино, опера, балет…
– Ну? – спросил Лапшин.
– От вам и ну! – плача все сильнее и сильнее, воскликнула она. – Чтоб она сгорела, тая жизнь. Знакомых у меня тут нет, родственников нет, ничего нет – одна эта комната, а он зайдет, покушает, поспит и пошел. А то уедет на месяц! Позвонит из Управления: «До свидания, Галочка, будь здорова, я в Петрозаводск уезжаю!» – «Уезжай, кажу, к свиньям, чтоб ты подох, чертяка!» Трубку телефонную як кинула об стенку, аж брызги полетели. Двенадцать рублей за ремонт отдала…
Закрыв лицо руками, она вышла на кухню, и оттуда послышались ее горькие, громкие рыдания.
Лапшин вспотел, уши у него горели. «Вот антимония!» – думал он, уставившись в полуоткрытую дверь.
– Чай будете пить? – крикнула она из кухни. – Мне мама варенья прислала вишневого.
– Буду, – сказал он.
Было слышно, как она на кухне наливала в примус керосин, как мыла что-то под краном, как сказала:
– Опять чайник утянули, холера вам в бок!
И как старушечий голос ответил:
– На! Задавись своим чайником!
Лапшин покрутил головой и вздохнул.
Она вернулась в комнату, напудрилась и сказала, садясь на прежнее место против Лапшина:
– Вот так и живу. Хорошо?
– Ничего, – сказал Лапшин, – надо лучше.
– А то гулять пойду, – сказала она и вспыхнула, – пойду и пойду…
– Очень вы себя жалеете, – сказал Лапшин. – Что тут особенного, подумаешь!
Он поднялся, сбросил шинель и прошелся по комнате из угла в угол.
– Я сама машинистка, – сказала она, глядя на него снизу, – я в Каменце в милиции работала – двести ударов в минуту делала, а тут уже не работаю. Если работать, тогда я его вовсе не увижу. Он прибежит, а меня и дома нет. Кто ему покушать даст? Вы?
– Почему я? – удивился Лапшин.
Она принесла чайник, масло, варенье и нарезала хлеба.
– Если хотите, – предложил он, – то я могу вас к себе взять в бригаду машинисткой. А нашу я тогда налажу к Куприянову – он просил. Будете вместе с Бочковым работать.
– Хочу, – тихо сказала она.
Чай они пили молча, изредка поглядывая друг на друга, и Лапшин видел, что глаза у Бочковой еще полны слез. Выпив два стакана, Лапшин объяснил ей, как надо заваривать чай. Она слушала его покорно и внимательно.
– И табаку Бочкову купите, – неожиданно сказал он. – Уважьте его. Есть табак под названием «Ялта», или «Особенный». Вы купите четвертку. Он и будет заворачивать.
Наклонившись через стол, Лапшин добавил:
– Время не такое. Неловко, с другой стороны, махорку курить. Поняла?
– Поняла.
Потом, покуривая папиросу и прихлебывая чай, Лапшин говорил о том, что им обоим – и мужу и жене – надо бы летом съездить на море или в Боржоми.
– О, брат, Боржоми! – говорил Лапшин, налегая на стол и тараща глаза. – Лечение блестящее, но моря нет. Без воды. А? Помиритесь без воды?
– Нет, с морем лучше, – сказала Бочкова. – Я море обожаю. Разве может быть курорт без моря?
– А Кировск? – воскликнул Лапшин.
– Хорошо?
– Спрашиваете! – сказал Лапшин. – Конечно, хорошо.
– Нет, уж север это какой курорт! Это не курорт…
– Глупо говорите! – сказал Лапшин. – Не знаете – не говорите.
Он помолчал, потом вынул записную книжку и спросил, ставя карандашом точку:
– Ленинград?
– Да.
– А сюда Рыбинск. Раз, два, три – через Горький до Астрахани по Волге. Из Астрахани по Каспию до Баку. Из Баку в Тифлис. Раз! Из Тифлиса в Батум – два! Из Батума на теплоходе до Одессы – четверо суток, представляете себе? Потом из Одессы в Ленинград – раз, два, три!
– Да, – сказала Бочкова.
В первом часу ночи вернулся Бочков. Увидев у себя в комнате начальника, он смутился, но скоро повеселел, сел возле горячей кафельной печи на стул верхом и молча пил чай стакан за стаканом.
– Вы заходите, – говорила Бочкова, провожая Лапшина по коридору. – Или, хотите, я к вам зайду?
– Ладно, зайдите, – сказал Лапшин. – А завтра пришлите мне заявление и справки там, какие нужно. Ну, будьте здоровы!
Захлопнув за собой дверь, он сразу почувствовал себя дурно. Это был еще не настоящий припадок, не форменный, это было еще нечто такое, что можно «разгулять», как выражался Лапшин про себя, но ошибиться он не мог. Ломота в затылке и в плечах, судорожное и частое позевывание, настойчивый звон и мелькание в глазах – последствие тяжелой контузии тогда, на кронштадтском льду, «оно» всегда накатывало невесть почему, и никогда нельзя было знать наперед приближение этой пакости.
Облизав губы и посчитав до десяти, испытывая, как всегда в этих случаях, острую, неутолимую жажду, Лапшин начал медленно спускаться по лестнице. Разумеется, он мог еще вернуться к Бочкову и вызвать машину или позвонить в санчасть, но все это было стыдно, и было страшно, что настоящий припадок с потерей сознания и со всем тем, что этому сопутствует, произойдет у Бочковых, обеспокоит и напугает их.
На улице, на холоде, ему стало несколько легче. Только ужасно хотелось пить, с каждой секундой все сильнее. Из-за угла вынырнуло такси, он попытался остановить машину, но шофер газанул и исчез из виду.
Неподалеку, на углу канала Грибоедова, был ресторан-подвальчик, в просторечьи «под тещей» или «шестерка». Оттуда можно было позвонить по телефону, но, спустившись по ступенькам, Лапшин подумал, что сначала попьет боржому, передохнет, а потом, если «оно» не отпустит, – позвонит.
Едва только ему принесли две бутылки минеральной воды, сквозь стеклянную дверь он увидел, как лысый и усатый гардеробщик приветливо снимает пальто с барашковым воротником с человека, чем-то знакомого. Напрягшись, Лапшин вгляделся и узнал Жмакина, Алешку Жмакина, по кличке «Псих».
По-прежнему мучительно ломило в затылке и неприятная зевота заставляла стискивать челюсти, но теперь Лапшин, не мог уйти, не задержав Жмакина. «Ничего, справлюсь! – думал Иван Михайлович. – Доведу. Да и лучше мне как будто, бывает же, проходит».
Конечно, он мог позвонить дежурному, но для этого надо было идти в кабинет директора, а Жмакин в это время мог его заметить и исчезнуть. Нет, нужно сидеть за столиком и попивать боржом как ни в чем не бывало…
Жмакин швырнул кепку и медленно пошел по залу. Все было так же для него, наверное, совсем так же, как и раньше, – и буфетная стойка, и папиросный дым, и моряки в тигровых джемперах, и дирижер с набрякшим, бессмысленным лицом.
«Оглядывается, – думал Лапшин. – Беспокоится!»
Не торопясь, Иван Михайлович слегка переставил перед собой вазу с искусственными бордовыми розами и, закурив, стал смотреть на Жмакина, который бродил по залу, отыскивая свободное место. Глаза Жмакина поблескивали, наверное он уже выпил нынче и сейчас пытает судьбу, появившись в «шестерке», – возьмут сразу или не возьмут, пропадет с ходу жизнь молодая, или еще наворочает делов. «И страшно ему, и весело сейчас, – думал Лапшин про Жмакина, – а что веселого ждет его? Ах, дурак, дурак парень!»
Но Лапшин ошибался.
Жмакину не было сейчас ни весело, ни страшно. Азарт былых юношеских годов кончился. Нужно было найти хоть кого-нибудь из старых дружков-корешков, напасть на след, встретиться со своим человеком. Но никого тут не обнаружив, он подошел к буфетной стойке и ткнул пальцем в большую стопку – выпить и уйти.
Буфетчик налил.
Жмакин поднял стопку почти ко рту и даже немного запрокинул голову, как вдруг заметил невдалеке нечто страшно знакомое, заметил и тотчас же потерял. Это Лапшин отставил вазу с цветами и вновь спрятался за ней. Пригубив водку, Жмакин поставил стопку на поднос и принялся разглядывать пьяные, красные, возбужденные лица – от одного столика к другому. Но то, знакомое, исчезло, и он, решив, что ошибся, и даже облегченно вздохнув, нащупал сзади себя на подносе стопку и опять было пригубил, как то знакомое, страшно знакомое вновь мелькнуло, но уже больше не скрывалось – он успел заметить бордовые розы и веселые, насмешливые, светлые глаза.
«Шалишь, мальчик! – думал Лапшин. – Сам ко мне придешь!»
Медленно бледнея, Жмакин выпил наконец свою водку, закусил маринованным грибом, расплатился и, чувствуя слабость в коленях, пошел к столику с дурацкими розами. У него достало сил смотреть прямо перед собой, и он глядел вниз на нечистую скатерть, на пачку дешевых папирос и на бутылку боржома, не допитую и до половины.
– Ну, садись, Жмакин, – сказал ему негромкий насмешливый знакомый голос. – Присаживайся. С приездом! Боржомчику налить?
Он сел и наконец взглянул на Лапшина, ожидая увидеть его живые, полные насмешливого блеска, ярко-голубые глаза, но в них, в самой глубине зрачков, Жмакин увидел поразившее его выражение растерянности и страдания, так несвойственное Лапшину. И лицо Лапшина стало иным – с пепельным оттенком, только во всем облике сохранилась твердость, даже жестокость, как бы отдельная от той муки, которую Жмакин увидел в первые секунды.
– Сорвался? – тяжело, с напряжением спросил Лапшин.
– Что вы! – все еще вглядываясь и не веря себе, произнес Жмакин. – Что вы! Смеетесь!
Это у него была такая манера – в разговорах с большим начальством прикидываться простачком-дурачком, польщенным, что с ним шутят.
Он уже овладел собой понемногу. Слабость в коленях прошла. Конечно, он правильно сделал, что подошел, – бежать от Лапшина бессмысленно. Да и не могло ему прийти в голову, что Иван Михайлович здесь один – без своих сотрудников. Но только почему он так изменился – этот Лапшин?
– Значит, не сорвался?
– Что вы!
Надо было оттянуть время и придумать – но что?
– Значит, за пять лет просидел всего месяца четыре?
– Что вы…
– Так как же…
– Гражданин начальник…
– Выдумывай побыстрее!
– Я оттуда в служебную командировку прибыл…
Лапшин не глядел на него – глядел в стакан, в котором быстро и деловито вскипали пузырьки. Жмакин врал. Конечно, Лапшин не мог поверить, да он и не верил. Настолько не верил, что даже документы не спросил.
– Ах ты, Жмакин, Жмакин, – сказал он вдруг с растяжкой и небрежностью, – ах ты, Жмакин…
Несколько секунд они оба глядели друг на друга.
– Ах ты, Жмакин, – повторил Лапшин, но уже с какой-то иной интонацией, и Жмакин не понял с какой.
И опять они помолчали.
– Ожогина мы расстреляли, – сказал Лапшин, – и Вольку Матроса расстреляли. Слышал?
– Нет, не слышал.
– На бандитизм пошли ребята, четыре убийства взяли. А начали вроде тебя, с мелочей. Хорошие были ребята, жалко.
– Это вам-то жалко?
– Мне – жалко! – подтвердил Лапшин. – Предупреждал, как тебя: кончится плохо, мальчики, будем вас расстреливать, избавим советское общество…
Жмакин усмехнулся:
– Пожалел волк овцу!
– А Волька с Ожогиным сявки были? – серьезно и жестко спросил Лапшин. – Или, Жмакин, ты с ними не поругался за здорово живешь? Я знаю точно – ты с ними на бандитизм идти не хотел, более того, они даже думали, что ты их Бочкову продал.
– Я не сука! – сказал Жмакин. – И не покупайте меня, начальник, на задушевный разговор, не продается.
– Глуп ты, Жмакин! – вразумительно, но словно бы даже со стоном в голосе произнес Лапшин и с трудом, опираясь на стол, поднялся: – Глуп! – сердясь на себя, добавил он, и Жмакин заметил, что все лицо Лапшина в поту. – Пойдем! – велел он. – Пойдем, я тебя посажу.
«Вроде совсем ему худо? – подумал Жмакин. – Помирает, может быть?»
Но Лапшин не собирался помирать. Сцепив зубы, он вышел вслед за Жмакиным на Невский. Дикая боль в затылке и судорога в плече не отпускали его больше, в голове стучали молотки, он уже плохо соображал, но все-таки шел ровной, спокойной походкой мимо Дома книги, мимо аптеки, что на углу Желябова, – шаг за шагом, только бы дойти, довести, не упасть.
– Гражданин начальник! – сиплым от волнения голосом сказал Жмакин где-то возле плеча Лапшина. – Отпустите меня, я в тюрьме удавлюсь.
– У нас в тюрьме нельзя вешаться! – не слыша сам себя, сказал Лапшин. – Мы запрещаем.
– Повешусь…
Уже открылась им обоим площадь из-под сводов арки. Фонари горели через один, в молочном теплом свете среди летящего снега смутно вздымалась колонна, а за нею чернела громада дворца. И небо было видно – сплошная чернота, и автомобили, огибающие площадь, и маленькие фигурки людей…
Лапшин вдруг остановился, словно задумавшись, прислонившись плечом к стене.
– Отпустите меня, начальничек!
Иван Михайлович молчал, вобрав голову в плечи и, казалось, вглядываясь в Жмакина из-под лакового козырька фуражки. Снежинки садились на его небритую щеку возле уха.
– Отпустите! – крикнул Жмакин. – Я не виноват, что у меня жизнь поломалась. Это вы виноваты, а не я!
– Если ты не виноват, то мы тебя освободим, – зажимая на слова, как бы с тяжким трудом и даже заикаясь, произнес Лапшин. – Раз-раз-беремся и освободим.
– Не можете теперь вы меня освободить! – не понимая, почему они не идут дальше, и приписывая эту остановку сомнениям Лапшина, горячо заговорил Жмакин. – Не можете! Первый срок я несправедливо получил, ни за что ни про что, а потом уже жизнь поломалась и все пропало к чертовой матери. Вам, пока братья Невзоровы не сознаются, – ничего не понять. Возьмите их, труханите, начальник, за что же мне гибнуть, как собаке? Неправильно поломана моя жизнь, отпустите, начальник! Никто не видел, как вы меня брали, и никаких вам неприятностей не будет. А как вы Невзоровых возьмете, я сам явлюсь, тогда делайте как хотите, хоть вышка, хоть полная катушка. Начальник, я ж человек тоже, как и вы, как и все…
– П-п-постой! – негромко, кривя лицо, сказал Лапшин и вдруг стал сползать, вывертываясь всем своим крупным, тяжелым телом и пытаясь удержаться на ногах. – П-постой!
Но удержаться ему не удалось, и Жмакин тоже не смог его удержать. Царапая рукой стену под аркой, Лапшин, немножко оттолкнулся от нее и, сделав косой шаг, упал навзничь, мучительно скрипя зубами и вытягивая шею…
Еще секунду, две, десять Жмакин, забыв о себе, пытался ему помочь. Потом он понял, что ему одному не справиться. Уже собралась толпа вокруг, уже кто-то посетовал насчет пьянства, кто-то назвал Ивана Михайловича эпилептиком. Жмакин все пытался поднять его, не смог, но, почувствовав под рукой в нагрудном кармане пистолет, быстро вытащил его и сунул себе в карман. Все было кончено, он мог уходить. И, крикнув в толпу: «Я за скорой помощью!», побежал на площадь мимо знакомых подъездов, побежал, все ускоряя шаг и чувствуя себя небывало, неизмеримо, неслыханно, нечеловечески свободным.
И вдруг остановился.
Ведь никто не пойдет больше за «скорой помощью», потому что он сказал, будто пошел за ней.
И пистолет?
Низкое окно с большой полуоткрытой форточкой было чуть позади него, он пробежал дежурного, уходя от Лапшина. И мгновенно, как короткие голубые молнии, стали бить, сечь, вонзаться в него мысли: обокрал своих – ватник, валенки, обокрал геологов, обокрал летчика, я теперь… так кто же он теперь? Не о Лапшине он думал, не о его жизни и смерти, а о себе, только о том, как же теперь станет он жить – Алешка Жмакин, совершив эту последнюю подлость? И только тогда предстал перед ним Лапшин, тот, о котором все ворье во всех тюрьмах всегда говорило с уважением, попасться к которому считалось удачей, побеседовать с которым о жизни – едва ли не счастьем!
Еще минута прошла, прежде чем Жмакин решился.
Потом резко повернул, широко распахнул форточку и крикнул в большую комнату дежурного, туда, откуда оперативники вызывали машины:
– Под аркой Лапшин помирает! Вот его пистолет! Быстрее к нему, вы, растетехи, так вашу и так и еще раз так…
Кто-то выскочил, грохнула дверь, но Жмакин уже бежал. Он помнил, как упал пистолет в комнате дежурного, как там повскакали люди, и убегал, не ожидая от них ничего хорошего, не понимая, что никто за ним не побежит, потому что никому не придет в голову, что беглый вор Жмакин украл лапшинский пистолет и именно он, Жмакин, сообщил об умирающем Лапшине. Он бежал, чувствуя всем своим измученным, истерзанным существом, что в него целятся, что сейчас будут стрелять, убьют, непременно убьют, и все шаги возле Капеллы, и дальше по Мошкову переулку, и еще дальше на набережной – казались ему шагами преследователей.
Только возле памятника Суворову он отдышался.
«Свобода! – думал он, тяжело шагая над замерзшей Невой. – Свобода! Может, и лучше было бы сидеть за Лапшиным, чем эдакая воля?»
Злоба поднималась в нем.
Опять он сделал глупость, не рассчитал.
Остаться бы возле захворавшего Лапшина, ведь не помер же он, передать его ребятам пистолет, сказать что-нибудь слезливое, вроде того, что он не мог покинуть товарища Лапшина с его именным оружием, – разве не помогло бы?! Конечно, помогло бы. Непременно! Потом бы зачлось, такой случай! А он ушел, ушел, и черт его знает, что еще обрушиться на него впоследствии – какой срок и сколько довесят по совокупности.
Сколько бы ни довесили, сейчас он сам себе хозяин.
И, остановившись, Жмакин посмотрел на Петроградскую сторону: фонари еще горели, но во всех домах окна были темными. Во всем городе, во всем огромном городе никто не ждал его этой темной ночью. И рестораны были закрыты. Даже выпить нельзя после всего происшедшего. И негде лечь, некому пожаловаться, некому сказать: «Я устал!»
В декабре
Нона, Балага и другие
Осторожно Жмакин стал нащупывать старые связи. Друзей не было никого – Лапшин с Бочковым, видно, не зря получали свою зарплату. Кое-кто отсиживал срок, кое-кто сидел под следствием, одного малознакомого, немножко придурковатого, по кличке «Марамура», он встретил в зале ожидания на Московском и опять узнал, что ходит слух, будто он, Жмакин, выдал угрозыску Ожогина и Матроса.
Они сидели рядом на скамье, Марамура ел жареный пирожок с повидлом и говорил уныло:
– Я что, я ничего, а другие некоторые так думают, будто даже упрятали тебя временно, чтобы не сделали тебе ребята толковище[Толковище – воровской самосуд.].
– Толковище? – усмехнулся Жмакин. – Я б вам показал толковище!
– А чего? Ножа под левую лопатку с приветом, – все так же вяло сказал Марамура. – Нонка говорила, что никто, как ты.
– Ах, Нонка?
Идти к ней было опасно, очень опасно, и все-таки Жмакин пошел. Нона – вдова Вольки – должна была жить на Васильевском, на Малом проспекте, в старинном доме с четырьмя колоннами по фасаду. В грязном, вонючем дворе на него набросилась собака, Жмакин пнул ее ногой и поднялся на крыльцо. С поднятым воротником заграничного, купленного на барахолке пальто, с пестрым шарфом, замотанным вокруг шеи, в светлой пушистой кепке, он выглядел не то киноартистом, не то иностранцем, и Нона никак не могла его узнать, а когда узнала, то испугалась и попятилась. Она худо видела, щурилась близоруко, и было страшно, что после расстрела Вольки Нона по-прежнему красит перекисью волосы, мажет помадой губы и на ресницах у нее накрап.
– Ну? Чего боишься? – садясь и вытягивая ноги, спросил он.
Нона не отвечала, силясь закурить, длинные ее пальцы дрожали.
– Как дело-то сделалось? – спросил Жмакин.
Она пожала плечами.
– Не знаешь? А я знаю, – бешеным срывающимся голосом крикнул Жмакин. – Я-то знаю, через кого он к стенке пошел…
– Я, что ли, его заложила? – наконец закурив, нагло спросила Нона. – Нужно больно!
– Он не нужен, его деньги нужны были, – наклонившись к ней, опять крикнул Жмакин. – Он тебя любил, он слишком тебя любил я для тебя все делал, чего и вовсе делать не хотел. Потому Лапшин и сказал – а Лапшин не врет никогда, – потому давеча и сказал: жалко было Матроса, и Ожогина тоже жалко…
– А ты теперь с Лапшиным подружился? – наклонившись к Жмакину и щуря на него свой близорукие глаза, спросила Нона. – Потому и приехал досрочно? Правильно, Алексей?
Жмакин усмехнулся: вот куда она вела, куда заворачивала, оказывается. Ей нужен был человек, на которого могли бы подумать, что он заложил, то есть выдал розыску Вольку.
– Брось, Нона, – сказал Жмакин ровным голосом. – Ты толковище хочешь собрать и чтобы меня за тебя, за дело твоих рук воровским обычаем кончили? Не пойдет, дорогуша. И Ожогина и Вольку, конечно, ты заложила, и хавира твоя кругом в мусоре, но я человек спокойный и надеюсь на судьбу. Возьмут так возьмут, моя жизнь сломанная, и никуда не денешься, но вот кое в чем разобраться мне надо, совсем даже необходимо…
– В чем же это разобраться, Алешенька?
– Во многом, что тебя не касается. И в одном, что не без тебя сделано. Магазин ювелирный Волька для тебя брал…
– Погоди! – попросила она. – Ты подумай…
– Думать не стану. Я его и Ожогина предупреждал – дело нехорошее, соцсобственность, сторожа надо будет пришить. Ты тогда сказала, что я ссучился и надо делать толковище. Было?
Она молчала, прижавшись к спинке стула.
– Это ты, стерва, его погубила! – вновь задохнувшись, прошипел Алексей. – Это ты его гнала на бандитизм, это ты барахло себе покупала и всякие камешки в уши, это для тебя он норковую шубу купил, а мне жаловался, что хочет идти с повинной, ломать свое прошлое, все сначала начинать. И Ожогин хотел виниться Лапшину, но ты не дала. Ты закричала, что они сморкачи, что пеленки у них мокрые и что ты обойдешься без ихних профсоюзов…
– Я шутила! – белыми губами прошептала она.
– Пришить бы тебя здесь и концы в воду! – кривя лицо, сказал Жмакин. – Только не могу я людей убивать, мутит. Запомни, Нонка: возьмут – все про тебя открою, ничего не утаю. Они дурни, а зло – ты! Они напились и пошли на дело, а напоила и научила их ты. И живешь, змея, а их нет. И сторожа они зарезали, как ты их научила, я в пересылке слышал подробности, я ведь разговор помню, и помню, как плюнул и ушел от вас, и еще помню, как ты Ожогину сказала, что меня надо кончать. Было?
– Не кричи!
– Боишься, падло?
Она, как бы в рассеянности, как бы едва держась на ногах, подошла к окну, чтобы открыть форточку. Жмакин дернул ее за руку, приказал:
– Садись! Я тебе покажу сигналы давать – здесь, дескать, товар, берите! Выйду во двор, увижу открытую форточку, живой тебе не остаться.
Плюнул и ушел.
Во дворе огляделся внимательно – все форточки были закрыты наглухо. «Любовь!» – вдруг вспомнил Жмакин покойного Вольку. «Я ее люблю, ты не шути с этим делом, Псих!» Вот она – любовь.
Но зачем он сюда приходил, для чего?
Весь день он пил, пил и вечером, справлял тризну по Вольке и Ожогину, но вновь наступила ночь, он устал невыносимо, и опять надо было куда-то деваться, не мог же он вечно дрожать на улицах?
Опять перед ним был проспект 25-го Октября.
Трамвай-мастерская стоял на перекрестке, большие окна уютно светились. Алексей заглянул внутрь: там были верстаки, на одном верстаке спала баба в тулупчике, и в ногах у нее пылал зеленым венчиком примус, на примусе кипел чайник. У другого верстака, у тисочков, стоял здоровый сивоусый дядька в железных очках и делал какую-то мелкую работу. Сложив губы трубочкой, он маленько присвистывал и с удовольствием наклонял голову к своей работе – то слева, то справа. А вокруг трамвая на рельсах работали бабы – все в тулупах, в платках, в валенках, разгребали снег и орали друг на дружку, как галки весною; тут же была лошадь, впряженная в специальную повозку для ремонта проводов, – наверху что-то мастерили, а лошадь сонно и вкусно перебирала замшевыми теплыми губами, и от нее шел такой замечательный запах кожаной упряжки и острого пота.
Жмакин постоял около лошади, обошел трамвай кругом и, ни о чем не думая, влез на площадку. Здесь стояли ведра, метлы, какие-то палки непонятного назначения. Он откатил дверь и сказал дурашливым голосом:
– Эй, хозяин, пусти Христа ради погреться.
– Погрейся Христа ради, – сказал сивоусый, не оглядываясь.
Алексей сел на скамью в угол, поглядел на крепкие колени спящей на верстаке бабенки, надвинул кепку пониже и уснул сразу же мертвецким сном. Часов в шесть утра его выгнали из трамвая. В вагон битком набрались женщины, от них несло холодом, примус уже не горел, и сивоусый, надсаживая глотку, командовал горланящими бабами.
Жмакин, шатаясь, вышел на улицу. Дул ветер, и ему сделалось отчаянно холодно. К тому же он никак не мог закурить, спички фыркали и не загорались, и голова спросонья была тяжелой, дурной.
Трамвай заскрежетал, голубые искры вспыхнули на проводах, колеса забуксовали, из открытой двери донесся обрывок песни – женщины запели, усевшись на верстаки, веселыми, шальными от ветра и от работы голосами:
Чтобы с боем взять Приморье…Дверь захлопнулась, и трамвай ушел.
Улица теперь была пустая, наступило предрассветное, самое мерзкое для бродяг время. Вот промчался автомобиль скорой помощи, кто-то там подпрыгивал за едва освещенным матовым стеклом, еще раз завыла сирена, и все совсем стихло.
Жмакин пошел к Садовой. Возле Гостиного длинная и худая, в смешных коротких ботах и в шляпе бадейкой, стояла немолодая и не очень трезвая женщина. Он пошел с ней. Она торопливо и пьяно ему жаловалась на какого-то шофера, а он не слушал ее и равнодушно думал: «Утоплюсь».
– Дай ему три рубля, – сказала она, кивнув на дворника, – знаешь, нельзя!
И глупо засмеялась.
Комната была маленькая, бывшая людская. Женщина сняла шляпу и села на кровать, внезапно раскиснув.
Он стоял не раздеваясь.
– Как тебя зовут? – спросил он.
– Люся, – не сразу ответила она.
– Почем ходишь? – спросил он.
– Нипочем, – ответила она, – дурак!
Он все стоял. У нее было пьяное, накрашенное лицо и жидкие, спутанные, желтые волосы. Он зевнул два раза подряд.
– Противный, – говорила она, – противный, сволочь…
Начиналась истерика. Алексей ничего не понимал, ему хотелось спать и хотелось ударить ее как следует, чтобы она не выла таким мерзким голосом. Но она уже топала ногами в коротеньких ботах и захлебывалась. Он ждал. Потом, зевая, вышел на кухню, чиркнул спичкой, нашел черную дверь, спустился по лестнице и, показав дворнику кукиш, пролез в калитку. Трясясь от озноба, он доехал до Финляндского вокзала, сел в поезд и задремал. Поезд был круговой, сестрорецкий. Топились чугунные печи. Три часа сна, потом еще билет и еще три часа сна. Уже засыпая, он зевнул от блаженства.
Все его тело затекло, когда он вышел на перрон. Он шел спотыкаясь и разминался на ходу, выделывая замысловатые движения, чтобы не ныла спина, не болела шея, чтобы вернуть себе легкость, четкость, чтобы голова стала ясной. В трамвае он вытащил кошелек у кашляющего мужчины и удивился неудаче – в кошельке был рубль, ключик и двадцатикопеечная марка. Он опять влез в трамвай и взял бумажник – уже удачнее, но даже не очень – семьдесят рублей и паспорт. Все это была не работа. Он немножко прошелся и вскочил в автобус; здесь, проталкиваясь к выходу, нащупал карман, взял пачку, толкнул, извинился и спрыгнул возле улицы Жуковского. В пачке было триста – сто штук по три рубля – «ответственная» получка. В почтовом отделении на Невском Жмакин запечатал в конверт украденный паспорт, написал адрес по прописке, наклеил марку и опустил в почтовый ящик. В паспорт он вложил еще записочку: «С благодарностью за деньги и с извинением. Не зевайте!» Но все это было не смешно и не развлекало, а наоборот, настроение с каждой минутой ухудшалось, и гнетущая скука наваливалась все больше.
Обедал он в столовой, бывшая «Москва», сидел возле окна и, мелко ломая хлеб, глядел на улицу, на потоки людей, на крыши трамваев, покрытые снегом. Даже сквозь стекла было слышно гудение толпы, сигналы автомобилей и автобусов, звонки трамваев. Алексей выпил рюмку водки, понюхал корочку. Воздух за окнами сделался зеленым, потом синим, потом стал чернеть, и все четче выступали огни. Жмакину хотелось плакать, или ломать посуду, или ругаться в веру, в божий крест, или, может быть, порезать кого-нибудь ножом. Он ел мороженое. Кто-то остановился перед ним. Он взглянул круглыми от ненависти глазами – это был нищий, оплывший старик во всем рваном и сальном и в опорках. Жмакин вынул пятак и положил на край стола. К нищему, помахивая салфеткой, уже шел официант – гнать взашей.
– Леша, – сказал нищий ровным голосом, – не узнал меня?
И Жмакин узнал в нищем ямщика Балагу, самого крупного скупщика краденого, знаменитого Балагу, грозу и благодетеля петроградских жуликов…
– Старичок будет обедать, – сказал Жмакин официанту, – дай водки, студня, хрену, пива дай…
Он вдруг обессилел. Балага уже сидел перед ним и чмокал беззубым, мягким ртом. Из его левого глаза катились одна за другой мелкие слезы. Водку он не стал пить и пива не пил, а в суп накрошил хлеба и ел медленно, вздыхая и охая. Потом вдруг сказал:
– Околеваю, Леша.
И опять принялся хлебать суп.
– Где Жиган? – спросил Жмакин.
– Сидит.
– А Хмеля?
– На складах работает на Бадаевских, – чавкая, говорил старик, – я у него был. Пять рублей дал, и валенки, и сахару…
– Ворует, – спросил Жмакин, – или в самом деле?
Старик не отвечал, чавкал. Лицо его покрылось потом, беззубые челюсти ровно двигались.
– А Лошак?
– Лошак в армии.
– В ополчении?
– Зачем в ополчения? Он паспорт имеет. В армии честь по чести.
– Продал?
– А чего ж, – сказал старик, и глаза его вдруг стали строгими, – все равно конец. Кого брать? Инкассаторов? Банк? Кассира? С ума надо сойти.
Он опять стал есть. Жмакин выпил еще водки и, не закусывая, закурил папиросу. Старику принесли биточки, он раздавил их вилкой, перемешал с гарниром, полил пивом и стал есть, с трудом перетирая беззубыми челюстями.
– А ты сам, Балага?
Старик тихонько засмеялся.
– Я?
– Ты.
Старик все посмеивался. Слезящиеся глаза его стали страшноватенькими.
– Я божья коровка, – сказал он, жуя, – я брат, ищу, как бы потише сдохнуть. Пять лет в лагерях отстукал, выпустили ввиду старости. Вот хожу – прошу. Лешка Жмакин пятачок дал, я не обижаюсь. И копейку возьму. Мне что!
– А Ванька-сапог? – спросил Жмакин.
– За Ваньку не знаю. То ли ворует, то ли сидит.
– А Свиристок?
– Свиристок кончился.
– Как кончился?
– Нет такового больше.
– Убили?
– Зачем убили. Вышел наш Свиристок на правильную дорогу жизни. Женился, слышно, ребенка заимел, семья, все нормально.
– Ссучился?
– Отстал ты, Псих, от быстротекущих дней. Бывший Свиристок теперь называется по фамилии Сдобников, имеет паспорт, постоянную прописку и снятие судимости.
– Давай выпьем, – с завистливой тоской в голосе сказал Жмакин, – давай, старик, пропустим по чарочке, чтоб им всем легко в аду пеклось…
– И без нас испекутся, а мне пить нельзя по болезни. Почками болею.
– Бережешься, значит?
– Берегусь…
Жмакин выпил один и задумался. Свиристок, он же Женька Сдобников, представился ему таким, каким он видел его в последний раз на гулянке – в стального цвета тройке, выпивший, с колодой карт в руках, – он тогда показывал фокусы, а теперь женатик! Что же это делается и как это все понять?
– Закажи мне еще биточки! – попросил Балага. – Накушаюсь на твои неправедные деньги.
Алексей заказал. На улице уже горели фонари.
– А ты никак сорвался?
– Ага! – ответил Жмакин, глядя в окно.
– Издалека?
– Хватит.
– Рожу на ходу поморозил?
– Заметно?
– Кто понимает – тому заметно. Слышишь, Лешка, – сказал вдруг старик, – бросай ремесло. Пропадешь.
Балага наклонился к нему через стол, быстро жуя, посоветовал:
– На пустяках пропадешь! Как перед истинным говорю! Или большое дело делать и надолго заховаться, или завязывать.
– На какое это – на большое? – щуря зеленые, опасные глаза, осведомился Алексей. – Как Матрос с Ожогиным?
Но Балага уже испугался:
– Шутю, шутю! – скороговоркой, быстро моргая, заговорил он. – Шутю, Алешенька. Разве я тебя, деточка, не знаю? Разве ты мараться станешь? Это я шутю и тебя подлавливаю – какой ты нынче сделался. А ежели по чести хочешь знать, что старичок про тебя думает, – так иди работать. Нету больше твоего ремесла. За кассира, за банк – высшая мера. Расстреляют, а жизнь молодая! Да и с кем работать нынче, Лешечка?
– Что ж, жуликов нет?
– Есть, отчего же нет, сегодня начал работать, а завтра его посадили. Сморкачи, хулиганы, а не жулики. Один будешь, Лешка, баба продаст, все продадут. И дрожать будешь как собака, веселья нету, малины нету, дружков-корешков нету, в ресторанчик тоже не пойдешь, выпьешь под воротами – вот и вся радость. И так-то, пьяненький, от отчаянной жизни пойдешь глушить кассира – и точка. Налево.
– Брешешь, Балага, – сказал Жмакин, слегавился, старый черт!
– Чего мне брехать из могилы-то, – усмехнулся Балага, – только мне виднее, всего и делов.
– Что же делать? – спросил Алексей.
– Иди к Лапшину, винись.
– А дальше?
– Поедешь в лагеря – копать.
– Это медведь поедет копать, – сказал Жмакин, – я не поеду. На мой век дураков хватит, будьте покойны.
– Это чтобы по карманам лазить? Хватит. Да какая радость-то? Все равно лагеря.
– Убегу.
– Куда?
– Сюда.
– Опять посадят.
– И опять убегу.
– Дальше Советского Союза не убежишь, вернут в лагеря и будешь работать или сдохнешь, дурак ты!
– Не буду работать.
– Почему?
– А почему ты не работал?
Балага усмехнулся:
– Зачем же мне было работать, Лешенька?
– Может, ты в комсомол вступил? – спросил Жмакин. – Или в юные пионеры? Или в октябрята? Что-то я тебя, старичок, никак не разберу…
– А чего меня разбирать, когда я шутю! – дробно засмеялся Балага. – Я, Леша, старичок веселый, болтунишка, мне с человеком посмеяться – лучше не надо удовольствия. Дай-ка, сынок, денежку мне, я и пойду…
– Сколько ж тебе дать?
– Сколько не жалко.
– Мне ничего не жалко, – вглядываясь в опухшее лицо Балаги, сказал Алексей серьезно. – Мне и тебя не жалко, а потому денег я тебе не дам. Пожрал и беги, старая холера, хватит, заработал с меня…
– Чего же я заработал, – захныкал Балага, – супу да биточки всего заработка?
Жмакин, прищурившись, глядел на Балагу.
– А ты цыпленочек, я примечаю, – сказал Балага. – Ох, сынок, допрыгаешься с твоим карактером…
– Иди! «Карактер»!
Балага пошел, прихрамывая, оглядываясь. Алексей выпил еще стопку и обогнал Балагу на лестнице: чтобы чего неожиданного не приключилось, выходить лучше было первым. И что его тянет все время черту в зубы? Впрочем, наплевать! Не попался у Нонки, не попадется и здесь! Уж если от самого Лапшина ушел на площади, от дверей розыска, – значит, не скоро его возьмут. Значит, судьба!
Балашова
Его разбудила Патрикеевна – нужны были деньги на рынок. Иван Михайлович долго ничего не понимал, потом рассердился:
– Поди ты, ей-богу! Откуда у меня деньги перед получкой? Рождение праздновали, коньяки эти, черт бы их подрал…
– И не коньяки, а Василию вы давеча под предлогом его сестры сотню отвалили! – перебила Патрикеевна. – Я тоже, между прочим, не слепая.
– Между прочим, это мое дело – кому я деньги одалживаю! – вконец рассвирепел Лапшин.
Патрикеевна постояла, помолчала. Лапшин сопел, глядя в потолок.
– Я на свои куплю, – торжественным голосом произнесла Патрикеевна, – только вы запомните.
Наконец она ушла. Лапшин поднялся, включил чайник и отправился под душ.
– Вставай, Васюта, – сказал он, вернувшись, – пора! Царство небесное проспишь.
И уселся пить чай. Окошкин долго охал, потягивался, даже сказал, что ночью у него «в сердце были острые перебои».
– Смотри-ка! – удивился Иван Михайлович. – А спал – хоть из пушки пали.
– Это от слабости. Ужасная у меня слабость, Иван Михайлович, прямо-таки до смешного…
– Это верно, что до смешного! – подтвердил Лапшин.
– Но на работу я пойду!
– А что, – спокойно согласился Иван Михайлович. – Конечно, можешь работать.
Окошкин ненадолго обиделся. Он думал, что Лапшин удивится его мужеству или похвалит, а тот допил чай, натянул сапоги и велел Василию поторапливаться.
– Может, машину вызовем? – томным голосом осведомился Окошкин. – Я все-таки…
Машину не вызвали.
В Управлении, едва Лапшин снял шинель, к нему в кабинет влетел Окошкин в сообщил:
– Жмакин сорвался, Иван Михайлович.
– Да что ты?
– В Ленинграде он.
– Ты думаешь? – спросил Лапшин.
– Точно! – воскликнул Окошкин. – Его брать надо.
– Ну и бери. Кстати, как там Тамаркин – дружок твой? Все в порядке?
Окошкин скис. Лапшину привели дядю Паву – степенного, очень красивого конокрада. Покашляв в ладонь, дядя Пава сел на стул и положил большие, в крупных узлах вен, руки на колени. «Такой и задавить может своими ручищами, – подумал Иван Михайлович, – только попадись на дорожке». Когда Лапшин взглянул ему в глаза, тот почтительно произнес:
– Здравия желаем, гражданин начальник.
– Здравствуйте, – ответил Лапшин. – Что имеете добавить к показаниям?
– А никаких показаниев и не было! – произнес дядя Пава лениво. – Которое у вас написано – все вранье. В расстройстве был за несправедливость и наговорил невесть чего.
Злобно-лукавые его глаза внезапно погасли, сделались мутными. Он пригладил большой ладонью синие, с цыганскими кольцами, кудри и потупился.
Лапшин молча перелистывал дело Шкаденкова.
– Везде ваши подписи…
– Мало ли…
– Но это вы подписывали.
– Хотел – подписывал, не хочу – говорю, не подписывал. Плевал я на вас, гражданин начальничек.
Он с хрустом почесал седеющую бороду и значительно произнес:
– Торопиться нам некуда, куды вы меня направляете – не опоздаем. Там завсегда место найдется – хушь нынче, хушь завтра. Назад не вернут. А тут все ж в окошко взглянуть можно. Хоть и в крупную клетку небо, а все ж небо, облачка в небе плывут…
Иван Михайлович молчал. Его большое лицо потемнело. Он покашлял, еще порылся в деле, потом позвонил и велел вызвать Бочкова. Тот пришел, хромая, в дверях вынул изо рта пустой мундштук и встал смирно.
– Картина ясная, – сказал Лапшин. – Следствием установлено, что кулак Шкаденков действительно совершал налеты, уводил коней, убил колхозного конюха Мищенко. Вот в этой части – доработайте…
Он показал Бочкову лист дела.
– Ясно?
– Слушаюсь.
Вошел секретарь, строгий Павлик, и сказал, что к Лапшину «явилась» артистка Балашова Е.В. из театра, находится в бюро пропусков.
– Пропустите! – велел Иван Михайлович.
Тяжело поднявшись с кресла, он встретил Балашову у двери. Она была в той же пегой собачьей шубке, и лицо ее с мороза выглядело свежим и даже юным.
– Можно? – робко спросила она, но, заметив огромную спину дяди Павы и фигуру Бочкова, торопливо шагнула назад в приемную.
– Ничего! – сказал Лапшин. – Посидите пока.
Она послушно села на стул у двери, а он вернулся к своему креслу.
– На расстрел дело натягиваете! – сказал дядя Пава. – Верно, гражданин Бочков? Но только помучаетесь со мной, долго будете дядю Паву поминать…
Он глядел на Бочкова и на Лапшина таким острым, ничего не боящимся взглядом, что Лапшину вдруг кровь бросилась в лицо, он хлопнул ладонью по столу и велел:
– Помолчите!
– Это конечно, – согласился Шкаденков. – Отчего и не помолчать.
Дядя Пава вновь пригладил кудри, и Лапшин заметил его мгновенный взгляд, брошенный на Бочкова, – косой, летящий и ненавидящий. Бочков перехватил этот взгляд и неожиданно добродушно усмехнулся.
– Дело прошлое, – сказал он, – это вы мне в прошлом году ногу прострелили, Шкаденков?
– Боже упаси, – ответил дядя Пава. – В жизни я по людям не стрелял. И оружия огнестрельного не имел и не обучен с ним управляться. Резал, верно, ножиком, тут отпираться не стану. И вас порезал на Бересклетовом болоте, ударил, да что-то неловко, не забыли?
– Как же! – сказал Бочков. – В плечо. Да не в цвет дело вышло, Шкаденков…
– И в спину еще ударил! – облизывая красные пухлые губы, произнес дядя Пава. – Думал, грешный человек, мертвого режу, а вы, видать, живучий…
– Живучий!
– Вот я и говорю, сильно живучий. Надо было мне под ребро ударить, не сварил котелок, не сработала голова. А ежели бы под ребро – не взять вам меня. Ушел бы…
– Недалеко бы ушел, Шкаденков, у меня вокруг люди были…
– Люди? – усмехнулся дядя Пава. – Таких людей на фунт дюжина идет. Тоже – «люди»…
– Ну ладно! – сказал Лапшин. – Хватит! Вечер воспоминаний! Займитесь с ним, товарищ Бочков, вот по тому поводу, что я вам показывал.
Дядя Пава и Бочков вышли вместе, словно приятели. Катерина Васильевна поежилась и, проводив их взглядом, вопросительно сказала:
– Страшный господинчик. Живешь и не знаешь, что такое еще существует на свете…
– Бывает, существует, – словно извиняясь за Шкаденкова, ответил Лапшин.
– И этот ваш тихий Бочков сам арестовал его где-то на болоте?
– Не просто оно все сделалось, Катерина Васильевна. Два месяца Бочков за дядей Павой ходил. Один. Нелегкая была работа.
– Расскажите, если можно.
– Отчет же нельзя. Вполне можно!
И, поблескивая глазами, радуясь на своего Бочкова, он рассказал, как тот ходил за дядей Павой, выслеживал его день за днем, заманивал на себя, словно на лакомую приманку, и наконец взял сам, «повязал», как выразился Иван Михайлович. И холодный, сквозной осенний лес увидела Катерина Васильевна, и горький дымок костра, и то страшное болото, где насмерть бились два человека – один «за свое за доброе», как сказал Лапшин, а другой – вот этот, с деревянным мундштучком, с умным в насмешливым, спокойным взглядом бывалого человека, вот этот Бочков, – вовсе не «за свое за доброе», а за иную, подлинную жизнь, за будущее в этой жизни, за какую-то колхозную конеферму, с которой дядя Пава увел двух жеребцов…
– И лошади отыскались?
– А как же? Перекрасил он их – ходок по жульничествам, да ведь и мы тут не лаптем щи хлебаем… Добрые кони, резвые. Один давеча жеребец приз на бегах взял – «Рекорд» ему фамилия, бочковскому жеребчику…
Иван Михайлович молча поглядел Катерине Васильевне в глаза, потом спросил:
– За что это меня ваш старый артист чиновником обругал? И фаготом. А я для них, между прочим, очень старался.
– Между прочим, – взглядом отвечая на его прямой взгляд и нисколько не смущаясь, ответила Балашова, – между прочим, Иван Михайлович, я думаю, что в моих коллегах говорила зависть…
– Это почему же? – удивился он.
– Я не раз замечала проявление этого не слишком высокого чувства у моих коллег по отношению к людям мужских профессий: к летчикам, морякам, вот в данном случае…
– Но они же мужчины, – наивно сказал Лапшин. – Сегодня он артист, а завтра тоже летчик…
Катерина Васильевна улыбнулась:
– На сцене? На сцене все что угодно – и мыслитель, и летчик, и умный следователь, и волевой командир корабля…
– Здорово вы не любите своих товарищей.
– Не люблю, – миролюбиво согласилась Балашова. – Я, Иван Михайлович, выросла в семье, где все были настоящими мужчинами. Отец у меня пограничник, брат – подводник, другой брат – военный, на Хасане погиб. И мама у меня – настоящий парень, мы ее так зовем, и верхом ездит, и вообще… Так что трудно мне привыкнуть к тем моим коллегам, которые носят брюки, но улицу перейти очень уж подолгу не решаются…
Она смотрела на Лапшина строго, а он вдруг подумал: «Вот перец» – и плутовато улыбнулся.
– Чего это вы?
– А ничего, – сказал Лапшин. – Подумал – серьезный у вас характер.
– Серьезный! – невесело ответила Катерина Васильевна. – Некоторые даже считают меня синим чулком, ханжой и, простите, занудой. Я вас, наверное, задерживаю?
– Что вы! – даже испугался Иван Михайлович. – Нисколько.
Ему очень хотелось рассказать ей, как он слушал давеча их радиопьесу, но подходящие слова как-то не приходили на ум, и Лапшин осведомился – чего бы хотела Катерина Васильевна: показать ей типов, ход следствия, или она еще посмотрит фотографии?
– Не знаю, – ответила Балашова, – как вам удобно, мне все интересно. Я, видите ли, должна играть проститутку в этой пьесе, воровку и немного даже психопатку. Такую, правда, которая во втором действии начинает перестраиваться, и процесс у нее протекает очень бурно…
– Вот насчет бурной перестройки, – сказал Лапшин опасливо, – тут я, знаете, не ручаюсь, но тетенька одна есть интересная, заводная дамочка – «Катька-Наполеон» ее кличка…
– Значит, еще и тезка…
– Тезка. Но вы мне про вашу роль поподробнее изложите, я вам, может, что-нибудь толковое посоветую, этот народишко кое-как знаю…
Она стала рассказывать, а он слушал, подперев свое большое лицо руками и иногда поматывая головой. Вначале Катерина Васильевна путалась и шутила, потом стала рассказывать спокойно и подробно.
– Мне, в общем, не все нравится, – сказала она, – но роль может выйти. Как вам кажется? Не вся, но хоть что-то.
– А вы с тем стариком, который с челюстью, против пьесы?
– Ах, с Захаровым! – улыбнувшись, сказала Балашова. – Нет, мы против режиссера. Режиссер у нас плохой, пошлый. А Захаров – сам режиссер. Кажется, теперь Захаров будет эту пьесу ставить. У него интересные мысли есть, и мы с ним тогда у вас так радовались потому, что все наши мысли совпадали с тем, что вы говорили. И мы пьесу теперь переделываем… Драматург сам приехал сюда…
И Балашова стала рассказывать о том, как будет переделана пьеса.
– Так, конечно, лучше, – сказал Лапшин, – так даже и вовсе неплохо!
Он перестал чувствовать себя стесненным, и на лице его проступило выражение спокойной, даже ленивой деловитости, очень ему идущее. Катерина Васильевна сидела у него долго, спрашивала, он охотно отвечал. Говорил он обстоятельно, серьезно, задумывался и, как человек много знающий о жизни, ничего не обшучивал. Слушать его было приятно еще и потому, что, рассказывая, он избегал какой бы то ни было наукообразности и держался так, точно ему самому не все еще было ясно и понятно.
– Темные дела происходят на свете, – говорил он, и нельзя было разобрать – осуждает он эти темные дела или находит их заслуживающими внимательного изучения.
– Вам, наверное, все люди кажутся жуликами, ворами, конокрадами или убийцами? – спросила Балашова.
Он внимательно взглянул на нее, подумал и не торопясь ответил:
– Нет, Катерина Васильевна, не кажутся мне люди такими. Люди – хороший народ.
– Ой ли?
– Люди – хороший народ! – еще более уверенно, чем в первый раз, повторил Лапшин. – Я знаю!
И Катерина Васильевна подумала, что люди действительно хороший народ, если Лапшин говорит об этом с такой настойчивой уверенностью.
– Ну а этот? – спросила она, кивнув на стул, на котором давеча сидел кудрявый и седой дядя Пава.
– Шкаденков-то? Ну, Шкаденков разве человек? Взбесился, с ним кончать надо.
– Это как – кончать?
– Ликвидировать! – с неудовольствием объяснил Лапшин. – Освободить людей от такого… собрата, что ли…
– И вам никогда не бывает их жалко? – понимая, что этого спрашивать не следует, все-таки спросила Катерина Васильевна.
– Да как вам ответить? Есть у меня доктор, дружок – хирург Антропов. Вот он однажды такую мысль выразил, что если он совершенно убежден, что надобно ногу ампутировать, иначе человек погибнет, то ему эту ногу не жалко. Человека жальчее! Так и тут – общество наше жальчее!
– Я понимаю! Я очень понимаю! – сказала Балашова. – Мой Василий Акимович тоже так считает…
– Это кто же ваш Василий Акимович? – вдруг против своей воли неприязненным голосом осведомился Лапшин.
– Кто? – немножко растерялась Балашова. – Как кто? Папа мой…
Разговор, словно бы иссяк на мгновение, Иван Михайлович прокатил по столу граненый карандаш, потом сказал:
– Был у меня дружок один – хороший чекист, помер в одночасье от сыпняка, так он, бывало, говорил: «Вычистим мы с тобой, Ваня, от всякой пакости нашу землю, посадим сад, погуляем на старости лет в саду». И не погулял. Не дожил.
Иван Михайлович словно с досадой махнул рукой и спросил – звать ли «Наполеона».
– Позовите, – тихо ответила Балашова. И повторила: – «Вычистим землю, посадим сад и погуляем на старости в саду». Удивительно хорошо! Чисто, главное, необыкновенно…
– Наше дело такое, – твердо и задумчиво произнес Лапшин. – Только чистыми руками можно делать. Так Феликс Эдмундович нас учил, так партия говорит, так мы и про себя думаем. Работа, можно сказать, до крайности грязная, а делать ее можно исключительно чистыми руками. Антропов мой – врач вот этот самый – такую мысль высказал как-то в беседе: «Это, говорит, вроде хирургия. Гнойник удаляешь, а асептику, что ли, или антисептику, ну, когда кипятят все это, говорят Антропов, полностью соблюдать надо. Целиком и полностью». Не ясно?
– Ясно, – с готовностью кивнула Балашова.
Лапшин позвонил и велел привести «Наполеона».
Пока ходили за «Наполеоном», пришла Бочкова в коричневом кожаном пальто и в белой шапочке, принесла очень длинное и выразительное заявление.
– Садитесь, – сказал Лапшин. – Гостьей будете!
Написав резолюцию, он спросил:
– Своего видела?
– Видела, – сказала Бочкова, – якогось цыгана допрашивает.
– Этот цыган ему ногу прострелил, – сказал Лапшин, – и ножом его порезал.
– От зверюга чертова! – сказала Бочкова угрожающим голосом.
– Теперь идите в отдел кадров, – сказал Лапшин, – оформляйтесь!
– Она уполномоченной работает? – спросила Катерина Васильевна, когда Бочкова ушла. – Тоже жуликов ловит?
– Главный Пиркентон, – сказал Лапшин смеясь. – Машинисткой она у нас будет.
Катька-Наполеон была в дурном настроении, и Лапшин долго ее уламывал, прежде чем она согласилась поговорить с Балашовой.
– Мы здесь как птицы-чайки, – жаловалась она, – стонем и плачем, плачем и стонем. За что вы меня держите?
– За налет, – сказал Лапшин. – Забыла?
– Налет тоже! – сказала Наполеон. – Четыре пары лодочек…
– И сукно, – напомнил Лапшин.
– Надоело! – сказала Наполеон. – Считаете, считаете. Возьмите счеты, посчитайте!
– Не груби, – спокойно сказал Лапшин, – не надо.
– Как-то все стало мелко, – говорила Катька, – серо, неизящно. Взяли меня из квартиры, я в ванной мылась. Выхожу чистенькая, свеженькая, а в комнате у меня начальнички. Скушала суп холодный, чтобы не пропадал, и поехала.
Она была в зеленой вязаной кофточке с большими пуговицами, в узкой юбке, в ботах и в шляпе, похожей на пирожок. Потасканное лицо ее выглядело еще привлекательным, но глаза уже потеряли блеск, помутнели, и зубы тоже были нехороши – желтые, прокуренные.
– Стонем и плачем, – говорила она, – плачем и стонем. Поеду теперь на край света, буду там, как бывший Робинзон Крузо, с попугаем проводить время. Да, товарищ начальничек? И на гавайской гитаре выучусь играть…
– Там поиграете! – неопределенно ответил Лапшин и нехотя пошел к Прокофию Петровичу Баландину.
Здесь он застал обычно инспектирующего их, курчавого, очень длиннолицего, смуглого человека по фамилии Занадворов. У этого Занадворова было прозвище «на местах», потому что он очень любил выражение – «в то время как мы даем совершенно определенные указания, на местах все-таки…» У Лапшина с Занадворовым сложились издавна чрезвычайно дурные отношения, и чем дальше они узнавали друг друга, тем нетерпимее становились один к другому. Все, что делал Лапшин, представлялось Занадворову провинциальным, местническим и самонадеянным, а все, что говорил Занадворов, Иван Михайлович заранее считал пустозвонством и собачьей ерундой. Разумеется, как всегда в таких случаях, оба они были не слишком правы, но на свете уже не существовало такой силы, которая смогла бы их примирить. Лапшин не раз крупно говорил с Занадворовым и, увидев его нынче у начальника, насулился, не ожидая ничего хорошего от этой встречи.
– Привет! – сказал Занадворов, обернувшись на скрипнувшую дверь. – Заходи. Иван Михайлович, давненько не виделись…
– Да вроде бы давненько, с месяц не имел я удовольствия вас видеть.
– Всего месяц, а ты постарел. Все стареем понемножку. Вот и я седеть начал. У кого что… у кого сердчишко, у кого очки, у кого прострел, кто сверх меры злой сделался, очень уж на свою интуицию рассчитывает, на бас людей берет. Случается?
– А я не в курсе, о ком идет речь, – сердито ответил Лапшин, хотя и догадывался, что Занадворов толкует о нем.
– Поставить в курс? – спросил Занадворов, «сверля» Лапшина своими черными жгучими глазами.
Этот мнимо-сверлящий, липово-следовательский взгляд всегда раздражал Лапшина, как раздражало все поддельное, неискреннее, наигранное.
Начальник все посвистывал, крутя на пальце свое пенсне и прогуливаясь возле широкого кожаного дивана. Он тоже не любил Занадворова, но был, как сам про себя выражался, «выдержаннее» Лапшина и терпел обычно дольше, чем Иван Михайлович. И сейчас он тоже терпел, посвистывал и даже заставлял себя считать до пятидесяти и еще раз до пятидесяти, чтобы не сорваться раньше времени и не наговорить лишку.
– Ладно, – после большой паузы сказал Занадворов. – Я сначала с деталей начну, товарищ Лапшин. Это вы статью Ханина – подписано Д.Ханин – санкционировали для печати? Насчет дела Жигалюса?
– Не Лапшин статью санкционировал, а я! – внезапно вмешался Баландин. – Статья написана крепко, суть дела освещает правильно, предупреждает наш советский народ в отношении всякой дряни, которая подлости совершает, которая подрывает экономическую мощь, безобразничает, понимаешь, черт знает что делает. А вы, вместо того чтобы побольше освещать нашу работу в отношении разоблачения преступности, вы, товарищ Занадворов, все стараетесь так изобразить жизнь, будто тишь, гладь да божья благодать, будто ни преступлений не совершается, ни наказаний не бывает. Придумали себе теорийку, что у нас все преступления при помощи профилактики на корню ликвидируются. Оно, конечно, хорошо, да не доскакали мы еще до этого! Нет, ты меня послушай, Занадворов, я тебя давно сегодня слушаю, надоело даже поучения слушать, тоже не мальчики. Вредное дело делаете, товарищи дорогие, кого обманываете? Народ, партию, правительство? Народ должен знать правду, преступность у нас еще существует, мы ее с каждым годом снижаем, но существует, и в каждом индивидуальном случае вы обязаны разбираться, выяснять причины, анализировать, обобщать. А вы стараетесь спрятать преступление, сделать такой вид, что не было факта, допустим, убийства. Было, и надо народу рассказать, как ничтожен у нас процент нераскрытых преступлений, как такие люди, как, допустим, товарищ Лапшин, здесь сидящий, все силы свои отдают борьбе с преступностью, как преступление любое, понимаешь, тягчайшее, все равно будет раскрыто и как преступнику от возмездия не уйти. А вы даже хронику происшествий, из зала суда, приговор стесняетесь в печати дать. И какие-нибудь, понимаешь, дураки мальчишки совершают преступление и думают, что их никто не найдет, потому что о том, как находят, благодаря вам, товарищ Занадворов, ничего в периодической печати не печатается. Небось как о нечуткости какого-либо милиционера – это пожалуйста, это моментально. А о том, какую этот милиционер ночку провел, допустим, новогоднюю, сколько пьяных оскорблений принял, как домой пришел – об этом я что-то нигде не читал. Может, ты, товарищ Лапшин, читал?
– Не читал! – взглянув на разгоряченное лицо начальника, ответил Лапшин. – Не приходилось. Что же касается до статьи товарища Ханина, то эту статью я тоже санкционировал, Жигалюс у меня проходил…
– Хорошо, не будем об этом, – сказал Занадворов. – Я имею свое мнение, вы – свое. Начальство впоследствии разберется, оно грамотное, тоже газеты читает, выясним, чья точка зрения партийная – моя или ваша. Заявляю, пока что в качестве предупреждения, – заливать страницы наших газет всеми этими помоями мы постараемся никому не позволить. Ясно? И материал нашим врагам по собственной воле давать мы тоже не разрешим.
Начальник и Лапшин молча переглянулись. Во взгляде начальника Ивану Михайловичу почудился вопрос – «выгнать его отсюда, что ли?» Лапшин пожал плечами – «Шут с ним! Пусть болтает! Выгнать – хуже будет!»
С минуту, а то и больше, все трое молча курили. Потом Занадворов полистал блокнот и вновь воззрился на Лапшина своим «следовательским» взглядом.
– Я бы попросил вас, Иван Михайлович, – подчеркнуто сухо произнес он, – я бы убедительно попросил вас объяснить мне, что именно вы имеете против известного спортсмена, своего парня, представителя нашей смены, человека с незапятнанной репутацией Анатолия Невзорова? Какими материалами вы располагаете? Почему его однажды вызывали к вашему… – Занадворов еще заглянул в блокнот, – к вашему Криничному, почему Криничный, не выдвигая никакого обвинения, ничего во всяком случае конкретного, снимал протокол допроса, почему Невзоров, допустим, подсознательно чувствует, что к нему присматриваются, почему, наконец, папаша Невзорова, человек почтенный, геолог с именем, обращается к нам с жалобой по поводу ваших действий на местах…
– Разрешите? – прервал Занадворова Лапшин.
Занадворов кивнул, но Иван Михайлович ждал не его кивка, а разрешения Баландина. Прокофий Петрович тоже «службу знал» и в свою очередь осведомился у Занадворова – можно ли Лапшину говорить. Инспектирующий еще раз кивнул, Лапшин же вновь обернулся к Баландину и очень жестко спросил, подчеркивая то обстоятельство, что вопрос адресуется непосредственно и только к нему:
– Разрешите, товарищ начальник, для пользы дела на темы, затронутые товарищем Занадворовым, не беседовать?
– Это как же? – воскликнул Занадворов.
– А так же, что в этой стадии разработки материалов я не могу допустить, чтобы папаша Невзоровых находился в курсе дела, – отрезал Лапшин и поднялся…
Лицо у него побурело, глаза смотрели холодно.
Баландин молчал долго, потом сильно крутанул на пальце пенсне и со вздохом произнес:
– Что ж, идите, товарищ Лапшин, работайте. Мы тут с товарищем Занадворовым разберемся помаленьку. Я ведь тоже в курсе дела… Закруглимся, тем более что и я временем ограничен! Вот таким путем!
Лапшин мягко закрыл за собою дверь, думая: «Ничего, Баландин – мужик, с таким не пропадешь!» И сочувственно вздохнул, представляя себе, на каком «градусе накала» Прокофий Петрович «закругляет» свою беседу с бешено самолюбивым Занадворовым…
Когда, обойдя всю бригаду и допросив кассира, сбежавшего из Пскова с чемоданом денег, Лапшин вернулся к себе в кабинет, Катька-Наполеон и актриса сидели рядом на диване и разговаривали с такой живостью и с таким интересом друг к другу, что Лапшину стало неловко за свое вторжение.
– Вот и начальничек! – сказала Катька. – Строгий человек!
Он сел за свои бумаги и начал разбирать их, и только порой до него доносился шепот Наполеона.
– Я сама мечтательница, фантазерка, – говорила она. – Я такая была всегда оригинальная, знаете…
Или:
– Первая любовь – самая страстная, и влюбилась я девочкой пятнадцати лет в одного, знаете, курчавенького музыканта, по фамилии Мускин. А он был лунатик, и как гепнулся с седьмого этажа, – и в пюре, на мелкие дребезги.
«Ну можно ли так врать?» – почти с ужасом думал Лапшин и вновь погружался в свои бумаги.
– А один еще был хрен, – доносилось до Лапшина, – так он в меня стрелял. Сам, знаете, макаронный мастер, но жутко страстный. Я рыдаю, а он еще бац, бац. И разбил пулями банку парижских духов. Какая была со мной истерика, не можете себе представить…
На негнущихся ногах, словно проглотив аршин, вошел строгий Павлик, положил перед Лапшиным конверт и сказал, что человек, который принес письмо, ждет внизу в бюро пропусков. Иван Михайлович аккуратно вскрыл конверт, развернул записку и улыбнулся. Бывший правонарушитель-рецидивист, ныне работающий токарем на Октябрьском заводе, приглашал Лапшина в гости по случаю «присвоения имени народившейся дочурке».
«Дорогой товарищ начальник! – было написано в письме. – Не побрезгуйте, зайдите. Имею я комнату, живу барином, хоть комната и небольшая, на четырнадцать метров с четвертью. Обстановочку я тоже завел приличную, приоделся на трудовые сбережения, и все от вас – от ваших горячих слов, когда вы меня ругали и направили не в тюрьме отсиживать, а дело делать и учиться, хоть и за решеткой, но на человека. И как я вас помню, товарищ начальник, сколько вы на меня потратили здоровья, и вашей крови, и, извиняюсь, нервов, то только тогда соображаю, что есть наша эпоха и какого в вашем лице я видел партийца-коммуниста, который до всего касается и ничего ему не постороннее. Прошу вас, товарищ начальник, если вы ко мне придете – значит, и вы все перекрестили, т. е. забыли и кончили, и, значит, вы мне теперь доверяете и не боитесь обмарать ваше чистое имя моим знакомством. Прошу вас об этом исключительно, чтобы вы пришли не в форме, а в штатском двубортном костюме, – я вас в нем видел, когда вы сажали меня в последний раз на Песочной. Если гости увидят вас в форме, то могут чего про меня подумать нежелательное, а судимость с меня снята за мой героический труд, и паспорт у меня чистенький, как цветок, даже вы лично не заметите в нем ничего, как раньше были у меня некрасивые ксивы. И приходите с супругой или с кем желаете, а звать меня по-настоящему Евгений Алексеевич Сдобников, а не Шарманщик, не Женька-Головач и не Козел… Придет еще один ваш крестник, некто Хмелянский, если такого помните…»
Прочитав письмо, Лапшин позвонил в бюро пропусков и сказал Сдобникову укоризненно:
– Что ж ты, Евгений Алексеевич, в гости зовешь, а адреса не указываешь. Нехорошо.
– А придете? – спросил Сдобников по-прежнему картавя, и Лапшин вдруг вспомнил его живое, веселое лицо, сильные плечи и льняного цвета волосы.
– Я с одной знакомой к тебе приду, – сказал Лапшин. – Разрешаешь?
И он кивнул взглянувшей на него Балашовой.
– Наговорились? – спросил он, когда Наполеона увели. – Интересно?
– Потрясающе интересно, – с азартом сказала Балашова, – невероятно! Я к вам каждый день буду ходить, – с мольбой в голосе спросила она, – можно? Ну хоть не к вам лично, к вашим следователям. Мне это так все необходимо!
– Ну и ходите на здоровье! – улыбаясь, сказал Лапшин. – Вы мне не мешаете. Только ребят моих строго не судите – народ они толковый, честный, но культуры кое у кого недостает…
Посмеиваясь, он протянул ей полученное давеча письмо и, когда она прочитала, предложил пойти вместе.
– Но у меня спектакль! – со страхом в глазах сказала Катерина Васильевна. – Меня во втором действии расстреливают…
– Значит, в третьем вы уже не играете?
– Не играю.
– Ну и чудно! Я за вами заеду…
– Часов в десять, – сказала она, просияв. – Да? Я как раз буду готова.
Лапшин, скрипя сапогами, проводил ее до лестницы и крикнул вниз, чтобы выпустили без пропуска. Возвращаясь по коридору назад, он чувствовал себя совсем здоровым, словно и не было того проклятого припадка и мучительного дня потом, когда непрерывно трещал телефон и все спрашивали о здоровье, будто он и впрямь собирался помирать.
Плотно закрыв за собой дверь, Лапшин подвинул к себе бумаги и начал читать, подчеркивая толстым красным карандашом то, что казалось ему существенным. Так в тишине, сосредоточенно читая и раздумывая, он просидел часа два. Осторожно звякнул телефон, Иван Михайлович, продолжая читать, снял трубку и, прижав ее плечом к уху, сказал:
– Лапшин слушает.
Трубка молчала, но кто-то дышал там на другом конце провода.
– Слушаю! – повторил Иван Михайлович.
– Пистолет вам вернули? – спросил знакомый, чуть сипловатый голос.
– Ты моим пистолетом, Жмакин, чернильницу у дежурного разбил, – произнес Лапшин.
– Дело небольшое.
– Большое или небольшое, а факт, что разбил. Пришел бы, Жмакин, а?
– Зачтете как явку с повинной и дадите полную катушку?
– Разберемся.
– Нет уж, гражданин начальничек, спасибо.
– Как знаешь.
– А здоровье ничего? На поправку?
– Получше маленько, – сказал Лапшин.
– Между прочим, откуда вы знаете, что именно я пистолет кинул дежурному?
– А кто еще мог это сделать? – спросил Иван Михайлович. – Кто мог сначала у меня, у потерявшего сознание человека, украсть оружие, а потом психануть и кинуть его в дежурку? Кто у нас такой удивительно нервный?
– Психологически подходите, – сказал Жмакин. – Я бы на вашем месте, гражданин начальник, хоть благодарность мне вынес. Попортил я тогда с вами крови.
– Я с вашим братом больше попортил, – невесело усмехнулся Лапшин.
– Значит, баш на баш?
– Нет, Жмакин, это ты оставь.
– Тогда приветик.
– Ну что ж, приветик так приветик. Только пришел бы лучше, все равно возьмем.
– Это видно будет, – сказал Жмакин злобно. – Покуда возьмете, я еще пошумлю маленько, подпорчу кое-кому настроение. А выше вышки все равно наказания нету.
В трубке щелкнуло. Лапшин сморщился, длинно вздохнул и велел себе больше не думать о Жмакине до времени, до того, когда думать понадобится. О неприятном разговоре с Занадворовым в кабинете начальника он тоже больше не вспоминал, шелуху и дрязги жизни он умел отсекать от себя напрочь, чтобы вздор не мешал работе. И работа спорилась нынче, и все было ловко ему и удобно: и перо, которым он писал, и кресло, и телефонная трубка, которую он прижимал к уху плечом, и погожий зимний день за огромным окном. И когда он по своему обыкновению каждый час или два обходил бригаду, всем было тоже ловко, удобно и приятно глядеть в его зоркие ярко-голубые глаза, слушать его гудящий бас и безусловно во всем всегда с радостью подчиняться ему – самому умному, самому взрослому, самому смелому из всех работающих в бригаде. А общее доверие к нему пробуждало в нем еще какие-то новые силы, придавало четкость мыслям, стройность схемам, которые он набрасывал, разрабатывая то или иное дело, направляя внимание не на частности, а на главное, на самое существенное в готовящейся крупной операции.
Товарищ Хмелянский
И все-таки надо было жить. Надо было где-то ночевать и не слишком мозолить глаза всяким Лапшиным, Бочковым, Окошкиным и Побужинским. Надо было с кем-то разговаривать и радоваться, что опять в этом огромном городе, и что никакие пути не заказаны, и что сам себе хозяин. Надо было непременно найти старых друзей, ведь не все же они сидят.
Жмакин разыскал Хмелю.
Хмеля жил на Старо-Невском, в доме, что выходит одной стеной на Полтавскую, и Жмакину пришлось излазить не одну лестницу, пока он нашел нужную квартиру. Он приехал днем, и, по его предположениям, Хмеля должен был быть дома; но Хмеля был на работе, и на его комнате висел маленький замочек. Пришлось приехать во второй раз вечером. Дверь из Хмелиной комнаты выходила в коридор, и матовое в мелких пупырышках дверное стекло теперь уютно светилось. Томные звуки гитары доносились из-за двери.
Жмакин постучал и, не дожидаясь ответа, вошел. Странное зрелище предстало перед его глазами: в комнате, убранной с женской аккуратностью, на кровати, покрытой пикейным одеялом, полулежал высокий очкастый Хмеля и, зажав зубами папиросу, не глядя на струны, играл печальную мелодию.
– Старому другу! – сказал Жмакин.
– Здравствуйте, – видимо не узнавая, ответил Хмеля и, прихватив струны ладонью, положил гитару на подушку, но не встал.
– Не узнаешь?
– Узнаю, – нехотя сказал Хмеля и поднялся. Лицо его не выражало никакой радости. Он даже не предложил Жмакину снять пальто.
– Сесть-то можно? – спросил Жмакин.
– Отчего же, садись.
Жмакин сел, усмехаясь от неловкости и оттого, что надо было хоть усмехнуться, что ли. По стенам висели фотографии. На столе стопкой лежали книги, и в шкафчике виднелась банка с какао «Золотой ярлык».
– Культурненько живешь, – сказал Жмакин, – форменный красный уголок, да еще и с какао. Интересно!
– Ничего интересного, – сказал Хмеля, покашливая.
Он не садился – стоял столбом посредине комнаты.
– Может, поговоришь со мной? – спросил Жмакин. – Как-никак, давно не видались. То ты сидел, то я. Раньше встречались не так…
– Да, не так, – согласился Хмеля, – это верно.
Лицо его ничего не выражало, кроме скуки.
Тогда Жмакин, сдерживая начинающийся припадок бешенства, предложил выпить. Водка у него была с собой в кармане и закуска тоже – коробка сардин.
Они сели за стол, покрытый скатертью, вышитой васильками, и налили водку в два стакана. Хмеля пил по-прежнему – ловко и быстро, и по-прежнему лицо его не менялось от водки.
– Значит, работаешь? – спросил Жмакин.
– Выходит, так.
– А у меня дельце есть.
– Хорошее?
Жмакин улыбнулся. Значит, работа у Хмеля работой, а дельцем все-таки заинтересовался? Недаром смотрит в упор.
– Какое же дельце? – спросил Хмеля, покашливая и наливая водку.
– Складишко один надо взять небольшой, – врал Жмакин. – Шоколад – ящики, марочные вина есть, коньяки дорогие, консервы, разная хурда-мурда. На продажу не потянет, а для себя пригодится, день рождения справить или красиво к девушке пойти, не с пустыми руками. Дельце чистое, сторожа не держат, опасности никакой. Сделали?
– Нет, не сделали, – ответил Хмеля, словно не замечая протянутой руки. – Ты ж, Алешка, карманник, щипач, для чего тебе соцсобственность брать?
– За мою жизнь тревожишься?
– Э, да брось, Жмакин!
– С чего мне бросать! Или ты мне зарплаты будешь платить?
– Да что, Псих, нам с тобой говорить, – лениво произнес Хмеля, – для чего?
– Хмеля! – предостерегающе, почти грозно сказал Жмакин. – Эй, Хмеля! – он поставил стакан. – Продаешь?
Хмеля молчал. Несколько секунд Жмакин внимательно его оглядывал, потом осведомился:
– Куда в гости собрался? Костюмчик приличный, бостон, что ли? На трудовые деньги построил или как?
Хмеля с тихим вздохом рассказал, что действительно собрался в гости к одному старому дружку, некоему Сдобникову. Вот и приоделся. Костюм же построен на трудовые, других денег у него теперь не бывает.
– Не продаешь, значит?
– Покупаю, Жмакин, – сказал Хмеля грустно и подергал длинным белым носом, – покупаю, и задорого.
– Что покупаешь?
– Все.
Он замолчал и опустил голову.
– Да ну тебя к черту! – крикнул Жмакин. – Не крути мне! Что ты покупаешь?
– Разное.
– Ну что, что?
– Три года на канале покупал, – сказал Хмеля. – По четыреста процентов выработки плачено, а на канале знаешь какой процент? – Он вздохнул и посмотрел пустой стакан на свет. – И купил. На! – Он порылся в кармане, вынул паспорт и протянул его Жмакину. – Чего смотришь? – вдруг изменившись в лице, крикнул он. – Чего разглядываешь? Думаешь, ксива? Не видал ты такого паспорта, Псих, в своей жизни. Все чисто. На, гляди! Хмелянский, Александр Иванович, год рождения, на! Видал? И не Хмеля! Никакого Хмели здесь нет. И попрошу! – Он стукнул ладонью по столу так, что зазвенели стаканы, но вдруг смутился и, забрав у Жмакина паспорт, отошел к шкафчику. – Да что говорить, – сказал он, – как будто я виноват. «Продаешь?» А того не понимаете… – Он что-то забормотал совсем тихо и улегся на свою белоснежную постель с сапогами, но тотчас же сбросил ноги и выругался.
– На сердитых воду возят, – сказал Жмакин, – шагай сюда, выпьем еще, Александр Иванович Хмелянский.
Хмеля сел к столу. Волосы его торчали смешными хохолками.
– Итого, перековали тебя чекисты? – спросил Жмакин. – Все в порядке?
– Все в порядке.
– А рецидивы бывают?
– Ничего подобного, – сказал Хмеля, – я, брат, строгий.
Он взглянул на Жмакина из-под очков и хитро улыбнулся.
– Законники, – сказал он, – юристы.
– И провожали из лагерей-то, – спросил Жмакин, – с оркестром?
– С оркестром. Костюм этот дали, – добавил Хмеля, – ботинки, рубашку.
– А здесь как же?
– Ничего.
– Ты за какой бригадой сидел? У Лапшина сидел?
– Сидел.
– А когда вернулся – был у него?
– Нет. В кинематографе встретил.
– И что он?
– Подмигнул мне.
– А еще?
– Велел зайти. Я, конечно, зашел. «Все, спрашивает, в порядке?» – «Все в порядке», – говорю. Посмотрел мой паспорт. Спрашивает: «Балуешься?» Я говорю: «Нет, гражданин начальник, с нас довольно». – «Да, говорит, иди, Хмелянский, будь здоров». Я ему: «Слушаю, товарищ начальник, до свиданьица». А он мне: «Нет уж, говорит, Хмелянский, зачем до свидания, наши свидания, говорит, авось кончились. Будь здоров!»
– С тем и пошел? – спросил Жмакин. Ему вдруг стало жарко до того, что он весь взмок.
– Да, – медленно и важно сказал Хмеля, – с тем и пошел. Может, чаю хочешь? – неожиданно спросил он.
Жмакин молчал.
– Ты ему теперь позвони, Лапшину, – сказал он погодя, – позвони, что, дескать, Лешка-Псих в Ленинграде, сорвался из лагерей. Также Жмакин и Володеев. Позвонишь?
– Позвоню, – в упор глядя на Жмакина, сказал Хмеля.
– Неужто позвонишь?
– Позвоню, – отводя взгляд, повторил Хмеля.
– За что же это, Хмеля? Чем я перед тобой провинился?
– Передо мной ты не провинился, – с трудом сказал Хмеля, – но как же я могу? Вот, к примеру, я работаю на Бадаевских складах, на разгрузке продуктов из вагонов. И вдруг, допустим, я узнаю, дескать, подкопались и делают нападение на наше масло. Как я должен поступить?
– Хмеля, – сказал Жмакин, – мы же с тобой в одной камере одну баланду одной ложкой жрали. Кого продаешь, Хмеля?
– Лучше бы ты ушел от меня, Лешка, – сказал Хмеля со страданием в голосе, – ну чего тебе от меня надо?
– А где я ночевать буду? – спросил Жмакин.
– Где хочешь.
– Я здесь хочу, – криво усмехаясь, сказал Жмакин, – во на той кровати.
– Здесь нельзя.
– Почему?
– Не могу я жуликов пускать, – с тоской и страданием крикнул Хмеля, – откуда ты взялся на мою голову? Уходи от меня…
– Гонишь?
– Разве я гоню…
– Конечно, гонишь…
– А чего ж ты мне – продаю, да легавый, да ксива…
– Ну, раз не гонишь, я у тебя останусь на пару дней, пока квартиру не найду.
– Нельзя у меня, – упрямо сказал Хмеля, – я говорю нельзя, значит, нельзя.
– Да тебе же выгодней, – все так же криво улыбаясь, сказал Жмакин, – напоишь меня горяченьким, я спать, а ты в автомат и Лапшину. Меня повязали, тебе благодарность – всем по семь, а тебе восемь. Четыре сбоку, ваших нет. – Он скорчил гримасу, допил водку и, глумливо глядя на Хмелю, снял пальто. – Для твоей выгоды остаюсь.
Хмеля смотрел на него из-под очков с выражением отчаяния в близоруких светлых глазах.
– Уходи, – наконец сказал он.
– Не уйду.
– Уходи, – еще раз, уже со злобой, сказал Хмеля. – Уходи от меня.
– Не уйду! Понравилось мне у тебя в красном уголке…
– Это не красный уголок, – дрожащим голосом сказал Хмеля, – какие тут могут быть пересмешки…
– А вот могут быть!
Бешенство заливало уже глаза Жмакину. Он ничего не видел. Руки его дрожали. Выдвинув плечо вперед, он пошел вдоль стены, нечаянно сшиб столик, что-то разбилось и задребезжало; он с маху ударил ладонью по фотографиям, стоявшим на этажерке, – это была старая неутолимая страсть к разрушению. И Хмеля понял, что сейчас все нажитое его потом будет изломано, разбито, исковеркано, уничтожено – будет уничтожена первая в его жизни трудом заработанная собственность – тарелки, которые он покупал, гитара, которой его премировали, красивый фаянсовый чайник с незабудками – подарок приятеля…
И, поняв все это, Хмеля схватил первое, что попалось под руку, – столовый тупой нож, и сзади ножом ударил Жмакина, но нож даже не прорвал пиджака, а Жмакин обернулся, и в руке его блеснула узкая, хорошо отточенная финка.
– Резать хочешь? – спросил он, наступая и кося зелеными глазами. – Меня резать…
Левой рукой, кулаком, он ударил Хмелю под челюсть, Хмеля шлепнулся затылком о беленую стенку и замер, потеряв очки. Его светлые близорукие и маленькие глаза наполнились слезами, он поднял ладони над головой, пытаясь защищаться, и в Жмакине вдруг что-то точно оборвалось: он понял, что с Хмелей уже нельзя драться и что это была бы не драка, а простое убийство. Матерно выругавшись, Жмакин перекрестил, по блатному обычаю, острием ножа подошву ботинка, скрипнул зубами, накинул пальто и вышел во двор. Ноги его разъезжались на обмерзшем асфальте, и ему внезапно сделалось смешно. Посвистывая, он добрался до трамвая и поехал куда глаза глядят – коротать ночь. Но эта ночь была очень плохой. Город, который мерещился ему в тайге, изменился. В нем некуда было деться, дома были сами по себе, а он сам по себе. Для чего же было так рваться сюда?
В гостях
Второе действие еще не кончилось, когда Лапшин приехал в театр. С ярко освещенной прожекторами сцены доносились беспокойные и неестественные крики, которыми всегда отличается толпа в театре, и между кулисами был виден гнедой конь, на котором сидел знакомый Лапшину актер с большой нижней челюстью, в форме белогвардейца, со сбитой на затылок фуражкой и с револьвером в руке. Немного помахав револьвером, артист выкатил глаза и два раза выстрелил, а затем стал пятить лошадь, пока она не уперлась крупом в большой ящик, стоявший за кулисами. Тогда артист сполз с нее и сказал, увидев Лапшина:
– И на лошади уже сижу, а не слушают! Что за пьеса такая!
Двое пожарных отворили ворота на улицу и, не смущаясь клубами морозного пара, стали выталкивать коня.
– Он на самом деле слепой, – сказал Захаров Лапшину, – я весь дрожу, когда на нем выезжаю. Авария может произойти.
Лапшину сделалось очень жарко, и он, оставив артиста, вышел в коридор покурить. У большой урны курил Ханин, приятель Лапшина.
– А, Иван Михайлович! – сказал он, блестя очками.
– Ты где пропадал? – спросил Лапшин.
– На золоте был, на Алдане, – сказал Ханин, – а теперь полечу с одним дядькой в одно место.
– В какое место?
– Это мой секрет, – сказал Ханин.
Они помолчали, поглядели друг на друга, потом журналист подмигнул и сказал:
– А ты любопытный. Пельмени будем варить?
– Можно, – сказал Лапшин.
– У меня, брат, жена умерла, – сказал Ханин.
– Что ты говоришь, – пробормотал Лапшин.
– Приехал, а ее уже похоронили.
Он отвернулся, поглядел в стенку и помотал красивой, немного птичьей головой. Затем сказал раздраженным голосом:
– Вот и мотаюсь. А ты зачем тут?
Лапшин объяснил.
– Балашова? – сказал Ханин. – Позволь, – позволь! – И вспомнив, он обрадованно закивал и заулыбался. – Молодец девочка, – говорил Ханин, – как же, знаю! Она вовсе и не Балашова, она вовсе Баженова, кружковка. Я ее хорошо знал…
Взяв Лапшина под руку, он прошелся с ним молча до конца длинного коридора, потом, уютно посмеиваясь, стал рассказывать про Катерину Васильевну. Говорил о ней только хорошее, и Лапшину было приятно слушать, хотя он и понимал, что многое из этого хорошего относится к самому Ханину, – время, о котором шла речь, было самым лучшим и самым легким в жизни Ханина. И Лапшин угадывал, что кончиться рассказ должен был непременно покойной женой Ханина – Ликой, и угадал.
– Ничего, Давид, – сказал он, – то есть не ничего, но ты держись. Езжай куда-нибудь подальше! Работай!
– И так далее, – сказал Ханин, – букет моей бабушки.
– Отчего же Лика умерла? – спросил Лапшин.
– От дифтерита, – быстро ответил Ханин, – паралич сердца.
– Вот как!
– Да, вот так! – сказал Ханин. – На Алдане было невыразимо интересно.
Лапшин посмотрел в глаза Ханину и вдруг понял, что его не следует оставлять одного – ни сегодня, ни завтра, ни вообще в эти дни, пока Ханин не улетит.
– Послушай, Давид, – сказал он, – поедем сегодня к моему крестнику вместе, а? Только об этом писать не надо. И вообще никто не знает, что он вор.
– Как же не знает? – сказал Ханин. – Все они, перекованные, потом раздирают на себе одежду и орут; я – вор, собачья лапа! Не понимаю я этого умиления…
– Так ты не поедешь? – спросил Лапшин.
– Поеду.
Со сцены донесся ружейный залп, и в коридоре запахло порохом.
– Пишешь что-нибудь? – спросил Лапшин.
– Пишу, – угрюмо сказал Ханин. – Про летчика одного жизнеописание.
– Интересно?
– Очень интересно, – сказал Ханин, – но я с ним подружился, и теперь мне трудно.
– Почему?
– Да потому! Послушай, Иван Михайлович, – заговорил Ханин, вдруг оживившись, – брось своих жлобов к черту, поедем бродяжничать! Я тебе таких прекрасных людей покажу, такие горы, озера, деревья… А? Города такие! Поедем!
– Некогда, – сказал Лапшин.
– Ну и глупо!
Лапшин улыбнулся.
– Один здешний актер выразился про меня, что я фагот, – сказал Лапшин, – и чиновник…
Он постучал в уборную к Балашовой. Она долго не узнавала Ханина, а потом обняла его за шею и поцеловала в губы и в подбородок.
– Ну, ну, – говорил он растроганным голосом, – тоже нежности. Скажи пожалуйста, в Ленинград приехала, а? Актриса?
У Балашовой сияли глаза. Она стояла перед Ханиным, смешно сложив ноги ножницами, теребила его за пуговицу пиджака и говорила:
– Я так рада, Давид, так рада! Я просто счастлива.
Ладонями она взяла его за щеки, встала на цыпочки и еще раз поцеловала в подбородок.
– Худой какой! – сказала она. – Прошли мигрени?
– Что вспомнила! – усмехнулся Ханин.
Лапшину сделалось грустно, они говорили о своем, и ему показалось, что он им мешает. Деваться было некуда, уйти – неловко. Он сел в угол на маленький диван и не узнал в зеркале свои ноги – в остроносых ботинках.
– Вы знаете, Иван Михайлович, – обернулась к нему Катерина Васильевна, – вы знаете, что для меня Ханин сделал? Он написал в большую газету о нашем кружке и в нашу городскую – еще статью. И так вышло, что меня потом отправили учиться в Москву в театральный техникум. И они с Ликой меня на вокзал провожали. А Лика где? – спросила она.
– Лика умерла, – сказал Ханин, – от дифтерита пять недель тому назад.
И, вытащив из жилетного кармана маленький портсигар, закурил.
– Я не поняла, – сказала Балашова. – Не поняла…
– Поедем, пожалуй, – предложил Лапшин. – Время позднее…
И, выходя первым, сказал:
– Я вас в машине ждать буду…
Дверь отворил сам Сдобников, и по его испуганно-счастливому лицу было видно, что он давно и тревожно ждет.
– Ну, здравствуй, Евгений! – сказал Лапшин и в первый раз в жизни подал Сдобникову свою большую, сильную руку. Женя пожал ее и, жарко покраснев, сказал картавя:
– Здравствуйте, Иван Михайлович!
Этого ему показалось мало, и он добавил:
– Рад вас приветствовать в своем доме. А также ваших товарищей.
– Ну, покажись! – говорил Лапшин. – Покажи костюмчик-то… Хорош! И плечи как полагается, с ватой… Ну, знакомься с моими, меня со своей женой познакомь и показывай, как живешь…
Он выглядел в своем штатском костюме, как в военном, и Балашовой слышался даже характерный звук поскрипывания ремней.
Ханин пригладил гребешком редкие волосы, и все они пошли по коридору в комнату. Их знакомили по очереди с чинно сидящими на кровати и на стульях вдоль стен девушками и юношами. Стариков не было, кроме одного, выглядевшего так, точно все его тело скрепляли шарниры. Лапшин не сразу понял, что Лиходей Гордеич – так его почему-то называли – совершенно пьян и держится только страшным усилием воли. Он был весь в черном, и на голове у него был аккуратный пробор, проходивший дальше макушки до самой шеи.
– Тесть мой! – сказал про него Женя. – Маруси папаша!
Маруся была полногрудая, тонконогая, немного косенькая женщина, и держалась она так, точно до сих пор еще беременна, руками вперед. Она подала Лапшину руку дощечкой и сказала:
– Сдобникова. Садитесь, пожалуйста.
А Ханину и Балашовой сказала иначе:
– Маня. Присядьте!
В комнате играл патефон, и задушевный голос пел:
В последний раз на смертный бой…Гостей было человек пятнадцать, и среди них Лапшин увидел еще одного старого знакомого, «крестника» Хмелянского.
– Производственная травма, что ли? – спросил Лапшин, разглядывая огромный запудренный синяк на подбородке и щеке Хмели. – Охрана труда, где ты?
Хмеля кротко улыбнулся и ничего не ответил. Но тут же решил, что Иван Михайлович может подумать, что он, Хмеля, пьянствует и дерется. Эта мысль испугала его, и он сказал, что упал в подворотне своего дома, поскользнувшись и подвернув ногу.
– Хромаю даже! – добавил Хмелянский.
– Жмакина давно не встречал? – спросил Иван Михайлович, словно о знакомом инженере, или токаре, или бухгалтере. Спросил походя, легко, без нажима и, услышав, что давно, кивнул головой, словно иного ответа не ждал. Потом задумчиво произнес: – Заявился он, по Ленинграду ходит. А мне побеседовать с ним надо, очень надо…
Потом смотрели сдобниковскую дочку. Маруся подняла ее высоко, и все стали говорить, как и полагается в таких случаях, что дочка «удивительный ребенок», «красоточка», что вообще она вылитый папаша, а глазки у нее мамашины. Веселый морячок Зайцев даже нашел, что ручки у девочки «дедушкины». Наконец наступила пауза, про дочку сказали всё. Тогда патефон заиграл «Кавалерийский марш», – это была старая, дореволюционная граммофонная пластинка, и все сели за стол. Лапшина посадили рядом с Балашовой, а Ханина и Хмелянского, как знакомых Ивана Михайловича, напротив. Женя сел слева от Лапшина и налил ему водки.
– Пьешь? – спросил Лапшин.
– Исключительно по торжественным случаям, – горячо сказал Женя. – Надо, чтобы все чин чинарем было. Закусочка, семейный круг. Конечно, тут тоже такое дело, надо глаз да глаз иметь, чтобы мещанство не засосало, тут правильно Маяковский подмечал…
– Ну, мещанство тебе не опасно! – со значением сказал Лапшин. – Ты не такой человек. Буфет давно купил?
– Нынче. Исключительно удачно приобрел. Богатая вещь, верно?
– Верно, вещь богатая.
– И замки хорошие, любительской работы, – с азартом добавил Женя и густо покраснел под внимательно-лукавым взглядом Лапшина. – А что?
– Да ничего! – усмехнулся Иван Михайлович. – Это ведь ты про замки заговорил, а не я…
В эти мгновения оба они вспомнили одно «дельце» Сдобникова вот как раз с таким «богатым» буфетом.
– Ну ладно, товарищ Сдобников, – чокаясь с Женей, сказал Лапшин, – будем здоровы и благополучны.
– Будем! – твердо глядя в глаза Лапшину, ответил Сдобников. – И вы на меня надейтесь, Иван Михайлович!
После третьей рюмки он поднялся, постучал черенком вилки по салатнице и потребовал тишины.
– Я поднимаю эту рюмку с большим чувством за своего бывшего командира, начальника, за товарища Лапшина Ивана Михайловича и хочу его заверить, как члена партии большевиков, от имени всей нашей молодежи, что если случится война и какой-либо зарвавшийся сволочь, я извиняюсь, империалист нападет на нашу советскую Родину, то мы все встанем на защиту наших завоеваний и как один отразим удары всех и всяческих наемников. За Ивана Михайловича, ура!
Прокричали «ура», выпили еще. Хмелянский вытер слезы под очками.
– Вы что? – спросил у него Ханин. – Перебрали?
– Есть маленько. Я вообще-то нервный! – сказал Хмелянский. – И сегодня неприятности имел.
– Ну, тогда за ваше здоровье! – произнес Ханин. – Чтобы кончились все неприятности у всех людей навсегда.
Было много вкусной еды – пирогов, запеканок, заливного, форшмаков, а для Лапшина и его друзей – отдельно зернистая икра. Женя ничего не ел и все подкладывал Ивану Михайловичу.
– Вы кушайте, – говорил он, – девчата сейчас жареное подадут. Наварили, напекли, всем хватит без исключения.
– Пурпуррр! – страшно крикнул Лиходей Гордеич. – Под турнюррр котурррном!
– Не безобразничайте, папаша! – попросил Сдобничков. – Очень вас убедительно прошу, соблюдайте себя.
– Он – кто? – спросила Балашова.
– Портной в цирке, – с готовностью ответил Хмелянский. – Приличный человек, хороший, а вина выпьет и начинает свои цирковые слова кричать.
У Жени на лице появилось страдальческое выражение. Ему очень хотелось, чтобы все сегодня было чинно и спокойно, и, когда старик начал скандалить, Сдобников побледнел и подошел к нему и к двум здоровенным парням в джемперах, стриженным под бокс.
Пили в меру, разговаривали оживленно, соседи Балашовой рассказывали что-то мило-смешное, и она смеялась, закидывая голову назад. Хмелянский, как показалось Лапшину, несколько раз что-то порывался ему сказать, но так и не сказал.
– Домой не пора? – спросил через стол Ханин.
Лицо у него было измученное, и когда он ел, то закрывал один глаз, и это придавало ему странное выражение дремлющей птицы.
На другом конце стола отчаянно зашумели.
– Униформа! – воющим голосом завопил Лиходей Гордеич. – На арррену!
Его уже волокли к дверям. Вернувшись, Женя вытер руки одеколоном и сказал всему столу и особенно Лапшину:
– Простите за беспокойство. Пришлось применить насилие, но ничего не поделаешь. Еще раз извините.
– Ладно, – сказал Ханин, – что тут Версаль вертеть. Выпил гражданин, с кем не бывает.
– Вы его любите? – тихо спросила Балашова у Лапшина.
– Кого? – удивился он.
– Да Ханина, Давида, кого же еще…
– Ничего, отчего же… – смутился Иван Михайлович. – Мы порядочное время знаем друг друга.
– Отчего вы всё на мои руки смотрите? – спросила она и подогнула пальцы.
Притушили свет, в полутьме запели грустную, протяжную песню. Лапшин искоса глядел на Катерину Васильевну и вдруг с удивлением подумал, что нет для него на свете человека нужнее и дороже ее. «И не знаю ее вовсе, – рассуждал он, – и живет она какой-то иной, непонятной жизнью, и вот поди ж ты! Куда же теперь деваться?» Она тоже взглянула на него и смутилась. Ему хотелось спросить ее – что же теперь делать, но он только коротко вздохнул и опустил голову…
Ханин опять сказал, зевая:
– Не пора ли, между прочим, спать?
На прощание Сдобников долго жал Лапшину руку и спрашивал:
– Ничего было, а, Иван Михайлович? Если, конечно, не считать рецидив с папашей. Вообще-то он мужчина симпатичный и культурный, ко мне относится как к родному сыну, семьянин классный и на работе пользуется авторитетом, а как переберет – горе горем. Вы не обижайтесь!
В машину Лапшин позвал еще и Хмелянского, надеясь, что тот скажет то, что хотел сказать и не решался. Но Хмеля не сказал ничего. Когда он вылез, Ханин надвинул на глаза шляпу и осведомился:
– Не надоели тебе еще твои жулики, Иван Михайлович?
– Нет, – угрюмо отозвался Лапшин.
– Идеалист ты! Выводишь на светлую дорогу жизни и дрожишь за каждого, чтобы не сорвался, а другие твои сыщики ловят и под суд, ловят и увеличивают процент раскрываемости – всего и забот.
– Пройдет время, и таких сыщиков мы повыгоняем, – негромко произнес Лапшин. – Хотя среди них есть недурные, а то и великолепные работники.
– Повыгоняете?
– Ага.
– А вас самих не повыгоняют?
Лапшин промолчал. Он не любил спорить с Ханиным, когда того «грызли бесы», как выражалась Патрикеевна.
– А Балашова наша спит, – заметил Ханин. – Отмаялась сибирячка.
– Она сибирячка?
– Коренная. А там, как сказано у одного хорошего писателя, пальмы не растут.
И тем же ровным голосом Ханин произнес:
– Иван Михайлович, мне крайне трудно жить.
– Это в каком же смысле?
– В элементарном: просыпаться, одеваться, дело делать, говорить слова. Почти невозможно.
Лапшин подумал и ответил:
– Бывает. Только через это надо переступить.
Ханин хихикнул сзади.
– С тобой спокойно, – сказал он. – У тебя на все есть готовые ответы. Сейчас ты посоветуешь мне много работать, не правда ли? А жизнь-то человеческая ку-да сложнее…
Иван Михайлович молчал, насупясь. Ох, сколько раз хотелось ему пожаловаться – вот так, как всегда жалуется Ханин. И сколько раз он слышал эти дурацкие слова о готовых ответах. Ну что ж, у него действительно есть готовые ответы, действительно надо переступить через страшную, глухую тоску, когда гложет она сердце, действительно надо много работать, и работа поможет. Так случилось с ним, так будет и еще в жизни. Не для того рожден человек, чтобы отравлять других людей своей тоской, не для того он произошел на свет, чтобы искать в беде слова утешения и сочувствия.
– Ты бы меньше собой занимался! – сказал Лапшин спокойно. – Сколько я тебя знаю – все к себе прислушиваешься. Правильно ли оно, Давид? Нынче горе – оно верно, а ведь, бывало, все себя отвлекаешь и развлекаешь…
– Разве?
– Точно.
Ханин опять длинно, нарочно длинно зевнул. Он часто зевал, слушая Ивана Михайловича. Спрятав лицо в воротник, неслышно, как бы даже не дыша, спала Балашова. И Лапшину было жалко, что скоро они приедут и Катерина Васильевна уйдет к себе. Все представлялось ему значительным, необыкновенным сейчас: и ряд фонарей, сверкающих на морозе, и красные стоп-сигналы обогнавшего «паккарда», и глухой, едва слышный рокот мотора, и тихий голос Ханина, с грустью читавшего:
…в грозной тишине Раздался дважды голос странный, И кто-то в дымной глубине Взвился чернее мглы туманной…Потом Ханин приказал:
– Стоп! Вот подъезд направо, где тумба.
Иван Михайлович велел развернуть машину так, чтобы Балашовой было удобно выйти.
– Проснитесь, товарищ артистка! – сказал Ханин. – Приехали!
Она подняла голову, вытерла губы перчаткой, сонно засмеялась и, ни с кем не попрощавшись, молча открыла дверцу.
– Дальше! – произнес Ханин. – Больше ничего не будет…
– Чего не будет?
– Ничего, решительно ничего. Облетели цветы, догорели огни…
И вздохнул:
– Ах, Иван Михайлович, Иван Михайлович, завидую я тебе. Просто ты живешь, все у тебя как на ладошке…
Лапшин усмехнулся: и это он слышал не раз – просто, как на ладошке, элементарно…
– Куда поедем?
– А к Европейской, есть такая гостиница, там я и стою.
– Ко мне не хочешь? Чаю бы попили…
– Боржому, – поддразнил Ханин. – Нет, Иван Михайлович, не пойдет. Может, со временем я к тебе и прибегу угловым жильцом, как твой Окошкин, а нынче невозможно.
Он вылез из машины и, сутулясь, пошел к вертящейся двери. Лапшин закурил и велел везти себя домой.
В январе
Зеленое перышко
Четыре дня подряд тянулись неудачи, одна другой глупее, позорнее, мельче.
Он ничего не мог взять, точно кто-то колдовал над ним: женщина, к которой он почти забрался в сумочку, внезапно и резко повернулась, ремешок лопнул, и военный, дотоле читавший спокойно газеты, понял – шагнул к Жмакину. Пришлось выпрыгивать из трамвая на полном ходу. В другом трамвае его просто-напросто схватили за руку, он рванулся так, что затрещала материя, и убежал. Потом вытащил из бокового кармана вместо бумажника сложенную во много раз клеенку. Потом вытащил бумажник, но без копейки денег. И, наконец, срезал часы, за которые никто не давал больше десяти рублей.
Так тянулось изо дня в день. Нервы напряглись – он уже не очень себе доверял. Призрак тюрьмы становился реальным – Жмакина могли взять в любую минуту.
В этот же день на улице он столкнулся, ударился грудью об уполномоченного Побужинского, сломал о его кожаное пальто папиросу и, заметив, что тот узнал его, рванулся во двор. Двор был непростительной, катастрофической оплошностью, ловушкой. Жмакин поднялся на шестой этаж и, понимая, что пропал, попался, – длинно позвонил в чью-то неизвестную квартиру. По лестнице уже поднимался Побужинский, сапоги его часто поскрипывали, он бежал. Жмакин все звонил, не отнимая палец от звонка. Дверь отворилась, он отпихнул рукою какую-то крошечную старуху, пробежал по коридору, заставленному вещами, на звук шипящих примусов, очутился в кухне и через черную дверь спустился вниз во двор. Если бы старуха спросила – кто там? – все было бы кончено, он попался бы. Теперь Побужинский был в дураках. Раскачиваясь в шестом номере автобуса, Жмакин представлял себе лицо Побужинского и как он сморкается и встряхивает головой, – это было смешно и приятно.
На углу Невского и улицы Восстания он выскочил.
Этот город был ненавистен ему, он понял это внезапно, и очень точно понял, что город как бы организовался, чтобы его, Жмакина, посадить в тюрьму, что эти Дома, и улицы, и магазины ему враждебны. На секунду он уловил даже как бы выражение лица города, смутное, предостерегающее, суровое. Он потер щеку шерстяной перчаткой и еще поглядел – все ерунда, город как город, пора пообедать, что ли! Но обедать он не шел, а стоял на морозе возле айсора – чистильщика сапог – и глядел, прищурив глаза, скривив бледное, красивое лицо, сжав губами незакуренную папироску. Был шестой час вечера. Уже стемнело, и народ двигался с работы сплошною стеною, город гудел и грохотал. Все разговаривали и смеялись, трамваи трещали звонками, какой-то парень, стоявший возле парадного, неподалеку от Жмакина, перекинул портфель из руки в руку и сделал движение вперед, к румяной девушке в шапке с большим помпоном. Она засмеялась, откинув назад голову и блестя зубами, и точно припала к плечу парня. Он крепко, легко и ловко взял ее под руку. Жмакин видел, как толпа в мгновение проглотила их обоих, даже помпон пропал – ничего не осталось; опять шли люди с портфелями, смеялись и болтали, а он глядел на них и грыз мундштук папиросы.
Потом он поехал в поезде искать комнату, вылез в Лахте и стал стучаться в каждый дом подряд. Был тихий, морозный вечер. На шоссе стайками гуляла молодежь. Две гармонии не в лад играли марш. Две девушки в платках по самые брови таинственно на него поглядели. Еще одна неумело проехала на лыжах, кокетливо засмеялась, потеряла палку, охнула и, заверещав, упала в канаву. Жмакин помог ей выбраться и спросил про комнату.
– Да вон, Корчмаренки будто сдают, – сказала она, отряхивая снег, – идите сюда, за забором влево.
Он пошел, подчиняясь маршу, доносившемуся с шоссе, подсвистывая, потирая озябшие уши. Во дворе Корчмаренко лаял простуженным голосом цепной пес. Жмакин свистнул ему и заметил, что пес с бородой и борода у него покрылась инеем. Алексей усмехнулся и, прежде чем стучать, взглянул в окно, незанавешенное и незамерзшее, видимо потому, что была открыта форточка.
Корчмаренки, сидя за большим, покрытым розовой клеенкой столом, пили чай. Кипел самовар. Какой-то парень здесь же что-то читал из маленькой книжечки, все смеялись, даже старуха, сидевшая у самовара, смеялась, закрывая глаза платочком. Сам Корчмаренко, здоровенный всклокоченный детина с пухом в волосах и в бороде, хохотал страшно, потом вдруг замирал, делая несколько даже страдающее лицо, и потом хохотал с новой силой, да еще и бил кулаком по столу…
«Во идиот!» – одобрительно подумал Алексей. Ему всегда нравились смешливые люди.
Молодая женщина с ребенком на руках стояла возле стола и тоже смеялась до слез, глядя на Корчмаренко. Наконец парень кончил читать, спрятал книжечку в карман, потом поднял палец и что-то сказал, наверное из прочитанного, потому что всклокоченный Корчмаренко вновь начал прыгать, стонать и выкрикивать так, что затрясся дом.
Жмакин постучал.
Ему открыла старуха, та, что сидела у самовара, и сказала, что комната, действительно, есть в мезонине. Алексей попросил показать «жилплощадь». В переднюю вошел сам Корчмаренко, наспех расчесывая бороду, и спросил – откуда Жмакин.
– Как откуда?
– Ну, откуда, одним словом. Где работаете?
В передней очутилась вся семья, и все глядели на Жмакина.
– Работаю особоуполномоченным по пересылке грузов, – вяло лгал Алексей, не зная, что говорить дальше, – работаю на узлах…
– На каких узлах? – спросил парень, тот, что читал книжку.
– Да уж на железнодорожных, – сказал Жмакин, – на каких больше?
– Значит, ездите? – спросил Корчмаренко.
– Не без этого.
– Теперь все ездиют, – сказала старуха, и Жмакину показалось, что она намекает.
– Как все? – спросил он, щурясь.
Но старуха не ответила, спросила, женат ли он и есть ли у него дети.
– Ни того, ни другого, – сказал Алексей, усмехаясь. Ему сделалось смешно от мысли, что он может быть женат, и дети…
– И хорошо, – говорила старуха, – комнатка маленькая, лестница крутая, с детьми никак нельзя. Мы уж так и уговорились, если с детьми – то нельзя! Ну а как женитесь? – спросила она. – Да как пойдут детишки?
– Могу дать подписку. Разрешите посмотреть комнату? – ему уже надоел весь этот разговор.
Его повели всей семьей наверх по темной, скрипучей, очень крутой лесенке. Комнатка оказалась прехорошенькой, теплой, сухой, чистой, оклеенной голубыми в цветочках обоями.
– Кройка останется? – спросил Жмакин.
– И койка, и стол, и стул, и шкафчик, – сказала старуха. – И занавеску тебе оставим, – она внезапно перешла на «ты», – и белье постираем. Чего уж, раз холостой.
– А сколько положите? – спросил Жмакин.
– Да рубликов семьдесят надо, – сказала старуха, – с обмеблированием.
– Да чего, – сказал Корчмаренко, – семьдесят рубликов… Вы, мамаша, кощей. Дорого!
– А сколько? – спросила старуха.
– Он парень ничего, – сказал Корчмаренко, – свой. Мы, с другой стороны, люди зажиточные. Комнату сдаем неизвестно по какой причине, – всегда здесь жилец, а теперь возьми ноги в руки да смотайся на флот. Федю Гофмана не знали?
– Не знал.
– Он теперь трудовому народу служит, – сказал Корчмаренко, – комната пустая. А уж он вернется, мы тебя, извини, попросим. Федя, уж он у нас свой. Уж ты не обижайся.
– Я не обижусь.
– А мы с тебя возьмем, сколько с Феди брали. Мамаша, сколько мы с Феди брали?
– Уж с Феди возьмешь, – сказала старуха, – от него дождешься.
– Так как же?
– Он человек молодой, – улыбаясь, говорила старуха, – он мне так и наказал: «Бабушка, ты у меня денег не спрашивай, мне и на свои расходы не хватает, а у тебя дом собственный, с налогом сама управишься».
– Ну и Федька, какой ловкий! – крикнул Корчмаренко. – Ах, собачья лапа!
И топнул ногой.
Договорились по сорок рублей, но со своим керосином. Про керосин придумала старуха. За стирку тоже отдельно и за уборку в комнате пять рублей в месяц. Жмакин заплатил семьдесят рублей вперед задатку и уехал в город якобы за вещами. Ночевал он опять в поезде и весь следующий день «работал». В одном Пассаже ему удалось срезать четыре сумочки. Три из них он выбросил, в самую лучшую сложил деньги и документы, завернул ее в бумагу и отдал на хранение. Как раз в эти минуты дежурный по пикету Пассажа, простодушный, очень румяный Радий Хомяков, позвонил своему учителю и наставнику Бочкову с просьбой «выручить», выслать «толкового человечка», потому что какой-то «болотник», то есть тертый вор, режет «дурки» (на воровском жаргоне – ридикюли) один за другим. Бочков поморщился, он не выносил жаргонных словечек, и, не преминув сделать замечание по этому поводу Хомякову, взглянул на Окошкина, который в это время сосредоточенно заправлял бензином из пипетки свою новую «незаменимую» зажигалку.
– Давайте, товарищ Окошкин, быстренько в Пассаж, там, предположительно, Жмакин шурует, его рука, – сказал Бочков. – Моментально попрошу, одна нога здесь, другая там.
– Ясно, – ответил Василий Никандрович и чиркнул колесиком зажигалки. – Ясненько!
Прикурив от голубого пламени, Окошкин сделал суровое лицо и отправился по Невскому с твердым намерением доставить в розыск проклятого Алешку Жмакина и тем самым раз навсегда утвердить свой авторитет в глазах сотоварищей, которые все-таки частенько относились к нему довольно иронически.
Но тут судьба сыграла с Василием Никандровичем чрезвычайно злую шутку с крайне неприятными последствиями.
Быстро опросив в пикете потерпевших и убедившись в том, что «работает» здесь, конечно, не кто иной, как Жмакин, Василий Никандрович Окошкин внезапно, мгновенно и страстно влюбился в потерпевшую, на которой была шапочка с зеленым перышком. Милое личико потерпевшей, залитые прозрачными слезами голубые глазки, вздернутый носик и выражение горькой беззащитности просто-таки свели с ума Окошкина, и, вместо того чтобы немедленно и энергично действовать, он, что называется, «забуксовал»: и еще раз прикурив от своей зажигалки, Вася поморгал и предложил «зеленому перышку» пройтись с ним вместе по огромному магазину «в целях опознания личности преступника». Напрасно «перышко» утверждало, что никакого преступника оно не может опознать, потому что и в глаза-то его не видело, сумочку украли таинственно, срезали – и все, – Окошкин волевым голосом твердил свое:
– Мы в мистику, девушка, не верим, мы свое дело знаем, и я убедительно вас прошу – прогуляемся для пользы нашей общей цели.
На ступеньках Вася деликатно поддержал «перышко» под локоток, от чего его пронзила дрожь, у хозяйственного отдела пожаловался на свою неустроенную личную жизнь, а в электроотделе заявил напрямик, что холост и не имеет над своим обеденным столом своего уютного абажура.
– Я недавно видела такую пьесу про одинокого человека в театре, – сочувственно произнесла девушка.
– Про одинокого? – угрюмо и таинственно усмехнулся Окошкин.
– Да.
– Так то театр! А наша жизнь, гражданочка, похлеще всякого театра! – интересничая, произнес Вася и тотчас же на мгновение с ужасом представил себе, что случилось бы, услышь Лапшин эту фразу. Но Иван Михайлович, естественно, ничего не слышал, и Окошкин, словно скользя на лыжах с высокой горы, добавил, сам слегка содрогаясь спиной: – Поминутно играем с огнем. Слабонервные не выдерживают. Жуткое напряжение и днем и ночью.
– Так опасно? – воскликнула девушка, и ее не просохшие от слез глаза с восторженным изумлением остановились на Васином довольно обыкновенном лице. – Вы не шутите?
– Какие тут могут быть шутки!
– Сопряжено с риском жизнью?
– Да, сопряжено! – ответил Окошкин, уже совершенно не владея собою, не слыша собственного голоса и думая при этом, что любовь с первого взгляда несомненно существует и нынче, а не только в истории литературы.
О, если бы на него напала сейчас целая банда, если бы тут оказались крупные и бесстрашные налетчики, если бы надо было выхватить пистолет и даже пожертвовать собою в неравной схватке! Тогда бы он показал себя!
Налетчиков, к сожалению, не было, банды тоже, выхватывать пистолет, показывая свое мужество, совершенно не требовалось. Происходило же нечто гораздо худшее для Окошкина: Жмакин в кепке, надвинутой низко, зеленоглазый Алешка Жмакин, по кличке «Псих», смелый до наглости, потому что сразу разгадал ситуацию, шел за спиной Василия Никандровича, держа руки в карманах щегольского пальто, выдвинув вперед плечо, издевательски ухмыляясь над словами своего врага.
– Я не скажу, что мы каждый день поминутно рискуем жизнью, – говорил Окошкин, чувствуя, что все быстрее и быстрее мчится на лыжах под гору, – но с оружием мы не расстаемся. Удар ножом, неожиданное нападение из-за угла, перестрелка, которая может кончиться кровавым эпизодом…
Влюбленный Окошкин вернулся, сам не замечая этого, к годам своей ранней юности – к Шерлоку Холмсу, его другу Ватсону и газетам, в которых писалось о Леньке Пантелееве. Лыжи несли его черт знает куда, они вышли у него из подчинения, спуск был слишком крут.
Впрочем, Жмакину было достаточно и того, что он услышал. «Дьявольский план», выражаясь стилем брошюрок о Нике Картере и Нате Пинкертоне, «созрел в одно мгновение». Приотстав от влюбленного Василия Никандровича, Жмакин купил открыток, мороженого, лизнул из стаканчика и, пристроившись в закутке обувного отдела, принялся сочинять послание Ивану Михайловичу Лапшину.
«Подтянули бы Вы, товарищ начальник, Ваших золотых работничков, – мусоля химический карандаш и наслаждаясь предвкушением лашпинского гнева, писал Жмакин, – а то я, один Ваш знакомый, некто Жмакин, работаю свое дело в Пассаже, ломаю рога, как мы по-блатному выражаемся, рискуя днями свободы, а Ваш уполномоченный В.Окошкин толчется с дамочкой в шляпочке под зеленым перышком и врет различные небылицы про свою опасную профессию, как-то: «с оружием мы не расстаемся, удар ножом, перестрелка, кровавый эпизод», даже слушать неудобно такую трепотню. И где же ваша скромность, т. Окошкин? Извиняюсь, что пишу накоротке, мимо прошла гражданка с красивой сумкой под лак, пойду отрежу эту сумку, чтобы не форсила. Надеюсь на Ваше строгое взыскание в отношении В.Окошкина. Остаюсь с уважением к Вам А.Жмакин».
Про сумку он, разумеется, соврал. Больше воровать нынче не следовало. Получив из камеры хранения пакет, на полутемной лестнице Стоматологического института Жмакин подсчитал дневную выручку – две тысячи рублей без нескольких копеек. Он подмигнул самому себе, надо было, пожалуй, отдохнуть.
В Гостином дворе он сделал кое-какие покупки, чтобы приодеться, в гастрономе приобрел закусок и бутылку водки. Пожалуй, полезно бы навестить семейство Невзоровых, это он делывал всегда, бывая в Ленинграде и наслаждаясь страхом обоих братьев и мамаши, но сегодня он устал. Все равно он их навестит – завтра, послезавтра, в воскресенье. Надо только подумать, как держаться в этот раз с этой семейкой…
Поезд вез его в Лахту.
«Ничего, проживем! – думал он, покуривая в тамбуре и поплевывая. – Посмотрим, кто кого. Поживем втихаря, может и не спалимся какое-то время. Как-нибудь, как-нибудь…»
Болота, покрытые снегом, едва освещенные бледной луной, холодные и неуютные, кружились перед ним. Его передернуло, он вспомнил побег, свои трудные странствия. «Как-нибудь, как-нибудь», – бормотал он, стараясь попасть в лад с перестуком колес. «Как-нибудь, как-нибудь…»
И вновь виделись ему лица братьев Невзоровых и собачьи слезы в оттянутых книзу веках мамаши. Сильнее, как всегда при этом воспоминании, забилось сердце, похолодели ладони, захотелось завыть. Но он сдержался. И обещал сам себе: «Еще встречусь!»
«Как-нибудь, как-нибудь, как-нибудь!» – стучали колеса. Поезд, коротенький дачный составчик, приближался к Лахте.
А открытка, написанная Жмакиным о В.Окошкине, в это время ехала в мешке с другими письмами и открытками на Главный почтамт. Разящая сатира Жмакина должна была попасть на глаза Лапшину завтра утром, а нынче ничего не подозревающий Василий Никандрович провожал «зеленое перышко» в трамвае на Поклонную гору. Конечно, ему не следовало этого делать; разумеется, он даже казнил себя за легкомыслие, проявленное в деле задержания Жмакина, но потерять «зеленое перышко» было свыше Васиных сил.
– Не в деньгах счастье, – говорил Окошкин убежденно. – Заверяю вас, что ваша сумочка и ваши трудовые сбережения, так же как паспорт и пропуск, будут вам возвращены полностью. На сегодняшний день мы имеем девяносто шесть процентов раскрываемости, наши органы оставили далеко за собою полицию США и других империалистических стран, мы…
– Ну а четыре процента? – перебила девушка. – Если я с моим паспортом попаду в четыре процента? И пропуск. И фото.
– Какое еще фото? – угрюмо насторожился Окошкин.
– Мало ли какое может быть фото? Ведь есть же у вас чье-нибудь фото?
У Окошкина в бумажнике было три фотографии, в столе на работе – две, и дома в чемодане еще несколько, но сейчас их не существовало. И совершенно искренне он сказал:
– У вас лично не должно быть теперь никакого фото. Вот как я ставлю вопрос. Ясно?
Она просто свела его с ума, эта Лариса Андреевна Кучерова, как значилось в протоколе. Околдовала! Никогда с ним раньше ничего подобного не происходило. «Я в тупике!» – с отчаянием подумал про себя Окошкин и даже не заметил, как очутился в низкой, жарко натопленной комнате, с диваном и множеством пестрых подушечек, с гитарой на стене и еще миловидной мамой, которая собирала на стол.
«Моя теща! – безрадостно констатировал Окошкин. – Тут уж никуда не денешься! Тут исключительно через запись актов гражданского состояния».
Теща рыдала над Лариными похищенными деньгами, отдельно по поводу паспорта, позже насчет пропуска. Окошкин щелкал зажигалкой, курил, рекомендовал мамаше прилечь. Но она смотрела на Василия Никандровича подозрительно, даже валерьянку из его рук не приняла. Время шло, часы тикали. Лапшин, вероятно, уже вернулся домой. Жмакин небось безнаказанно гуляет на своей «малине». Угрызения совести мучили Окошкина…
Наконец, отрыдавшись, теща сухо пригласила Василия Никандровича к столу. Несмотря на то что его грыз голод, обедать он не стал, согласившись только присесть для компании. Будущая теща спросила у него, сколько он получает на руки заработной платы. Это она непременно спрашивала у всех Лариных молодых людей при первом знакомстве.
– Что ж, ничего, – вздохнула она. – Если аккуратно – на одного хватит. Но для семьи не больно жирно.
– У нас премиальные, – уныло солгал Окошкин.
– Процент дают с уворованного?
– Не имеет значения. Если человек работает с душой, с огоньком…
– С огонька детей не прокормишь, – оборвала теща. – Вы лучше скажите – на угощение преступному миру выделяются средства?
– Преступного мира нет, существует среда…
– Ну, на угощение преступной среды?
Окошкин молчал. Лара, грустно поглядывая на него, ела биточки в сметанном соусе. Теща ровным голосом спокойно продолжала допрос:
– На дополнительное питание даются же средства? Все-таки работа у вас вредная, не могут не давать на отпуск, допустим, в Сочи с семьей…
Василий Никандрович отказался от компота из сухофруктов, утер платком потный лоб, поднялся:
– Значит, вы, Ларочка, и вы, Анастасия Семеновна…
– Степановна! – поправила теща.
– Извиняюсь, Степановна! – покорно согласился Окошкин. – Значит, попрошу вас на меня полностью надеяться. Вернем похищенное, и все будет, заверяю вас, о-кэй!
Это «о-кэй» вырвалось у него совершенно непроизвольно. И, выйдя от будущей своей горячо любимой жены и будущей высокоуважаемой тещи, Василий Никандрович вдруг представил себе лицо Лапшина, когда тот услышал бы вышеупомянутое «о-кэй». Неприятное привиделось Окошкину лицо, и грубый почудился ему отзыв о себе как о работнике. Такой грубый, что бедный Вася даже вобрал голову в плечи и негромко с удивлением присвистнул.
Краденая сумка
Ему отворила старуха, веселая, с засученными рукавами, простоволосая. Из кухни несло запахом постного масла, там что-то жарилось, шипело и трещало. По всему домику ходили красные отсветы, везде топились печи, блестели свежевымытые полы, казалось, что наступают праздники.
– А старый новый год, – сказала старуха Жмакину. – Очень даже просто. Новый не успели справить, сам в отсутствии находился, будем старый гулять. Ну, дружки к нему придут, Дормидонтов-мастер и Алферыч – Женькин крестный.
– А кто этот Женька?
– Вот уж здравствуйте, – засмеялась старуха, – не знает, кто Женька! Внучек мой, который лампу вчера держал, он и есть Женька. Самому – сын.
Жмакин потащил чемодан наверх по скрипучей лестнице. В комнате было темно, за окнами – маленькими, заиндевелыми – лежали уже снега, сплошные, насколько хватало глаз. Он постоял в темноте, не снимая пальто, отогреваясь, привыкая к дому, к хозяйственным шумам, к властно-веселым окрикам старухи. Потом заметил, что и у него здесь топится печка, открыл дверцу и сел на корточки – протянул руки к огню. Дрова уже догорали, горячие оранжевые угольки полыхали волнами почти обжигающего тепла. Сделалось жарко. Не вставая, он сбросил пальто, кепку, устроился поудобнее и все слушал, разбивая кочергой головни и покуривая папиросу. Было слышно, как кто-то, вероятно не старуха – слишком легки были шаги, – а та молодая, с ребенком, выходила в сенцы, как она набирала там из обмерзшей бочки ковшиком воду и возвращалась, и как она однажды разлила – вода шлепнулась, и старуха сказала басом:
– Лей, не жалей.
А молодая тихо и ясно засмеялась.
Потом пришел Женька и разыграл целую сцену: будто бы он наступил впотьмах на кошку, и кошка будто бы рявкнула исступленным, околевающим голосом, и как он сам испугался и заорал, и как пнул кошку, и кошка еще раз рявкнула.
На весь этот шум выскочила старуха, потом наступило молчание, старуха плюнула, сказала: «Тьфу, чертяка» – и хлопнула двумя дверьми, и настала полная тишина. Потом Женька начал один смеяться. Жмакин уже понял, что Женька был в представлении и за кошку, и за самого себя, и ему тоже стало смешно. Он засмеялся и икнул. А внизу, в темной передней Женька крутился, охал и обливался слезами от смеха. Опять заскрипели двери, и в переднюю вышла старуха, и Женька рявкнул, будто бы старуха наступила на кошку. Старуха вскрикнула и шлепнула Женьку чем-то мокрым, очень звонко в, наверное, больно, потому что Женька завизжал. Жмакин икнул уже громко, на всю комнату. Икая, он спустился вниз – попить; икая, заглянул на кухню – попросил лампу – и с лампой пошел опять к себе. Пока он раскладывал вещи, Женька внизу возился у приемника, в доме возникала то далекая музыка, то какие-то фразы на нерусском языке, то вдруг знакомый мотив.
Печка истопилась. Жмакин закрыл вьюшку, причесался перед зеркальцем, открыл водку и выпил из розовой чашечки, стоявшей на подоконнике. Мерная, торжественная музыка разливалась по дому. Жмакин развернул консервы и заметил на первой полосе мятой газеты Указ о порядке принятия военной присяги.
«Я всегда готов, – стал медленным шепотом читать он, – по приказу Рабоче-Крестьянского правительства выступить на защиту моей Родины – СССР, и как воин Рабоче-Крестьянской Красной Армии я клянусь…»
В горле у него запершило, он сложил газету, положил ее на подоконник и постарался ни о чем не думать, ничего решительно не вспоминать, ничего в себе не ворошить.
По радио внизу громко сказали, что какую-то премию на всесоюзном конкурсе вокалистов получил молоденький студент Гмыря.
– Ну и на здоровье! – произнес Алексей. – Ты получил, а я нет. Ты Гмыря, а я Жмакин!
Он прошелся по комнате из угла в угол, посасывая папиросу, сунул руки в карманы новых брюк. Особое удовольствие ему доставляло смотреть на постель, на которой он будет нынче спать. «Чудесная постель, – думал он. – Завтра никуда не пойду. Отосплюсь. А потом пойду в кино. И ничего не буду делать. И спать буду, спать. Эх, хороша кровать?»
Но его что-то беспокоило, он долго не мог вспомнить, что, и наконец вспомнил – паспорт, вот что. Наде было сделать ксиву – вытравить из какого-нибудь украденного паспорта настоящую фамилию, переправить что-нибудь в номере и в серии, вписать якобы свою фамилию. Он сел за столик, разложил все три украденных сегодня паспорта и стал раздумывать – как бы вышло попроще. Но он никогда еще не подделывал документы и, хотя кое-что об этом слыхал, ничего толком не знал. Пришлось выпить еще немного из розовой чашки. Он посвистывал и разглядывал – имя, отчество, фамилия – все чужое. Мощная, грохочущая музыка лилась по дому. Жмакин взял карандаш и на газете стал подделывать почерк того неизвестного, который заполнял графы паспорта. Ничего не вышло. Он нарисовал чертика, потом сову, потом зайца, почесал карандашом щеку и полистал паспорт девушки с зеленым перышком: «Лариса Андреевна Кучерова», – прочитал он и вдруг почувствовал, что нехорошо поступил по отношению к В.Окошкину. В открытке, которую он написал Лапшину, почудилось ему нечто низкое, немужское, склочное, бабье. Чем, в сущности, так уж плох Окошкин? Парень как парень, делает свое дело, кушает не на золоте, спит не на сале, сапоги стоптанные, папироски курит какие подешевле. Ну, распустил хвост перед девушкой, ну, прозевал Жмакина, так стоило ли писать начальнику? Смешно ли это? Нет, не смешно! А Лапшин и вовсе не улыбнется, не говоря об Окошкине. Еще и выговор заработает, и на гауптвахту может попасть В.Окошкин. Конечно, у них драка, с одной стороны Лапшины и Окошкины, а с другой – Жмакины, но был ли, например, случай, чтобы Жмакин, арестованный, на допросе, даже когда он хамит и куражится, попросил у следователя или оперативника закурить и тот отказал бы? Нет, такого случая не было, потому что они мужчины и не могут не понять, что к чему.
А он, Жмакин, гордый, воображала, признанный повсеместно «болотником» – хорошим вором, поступил нынче как последний полузекс, как сука в воровской кодле, подвел Окошкина, поддался минутной глупости.
Что же делать?
Ведь и сам Лапшин не слишком будет его уважать за донос на оперативного работника, потому что Окошкин не изменил своему делу, а только немножко, чуть-чуть возвысил себя в глазах девушки. Да и какой парень этого не сделает? Разве он сам не врал в поезде черт знает какие героические небылицы про себя?
Нехорошо, очень нехорошо получилось.
Паспорт Кучеровой Ларисы Андреевны и ее пропуск на завод лежали перед Жмакиным. И фотография молодого человека с чуть выпученными глазами и круглыми щечками тоже была здесь. Надписанная фотография. Это, видать, Ларисы кавалерчик.
На мгновение Жмакину даже обидно стало за Окошкина. В.Окошкин все-таки делает на земле мужскую работу, а кто этот кролик? И не кролик даже, а суслик! Поросенок с кашей! Нашла кого на кого менять!
И, высунув старательно язык, Жмакин, посапывая, принялся уродовать кавалерчика Ларисы. Снабдив его пакостной бороденкой и парой рогов, он при помощи той самой бритвы – «письма», как зовется она по-блатному, – искусно выскоблил кавалерчику начисто нос, так что все это теперь походило на бородатый и рогатый человеческий череп. Плюнув от омерзения, Жмакин подумал и написал В.Окошкину письмо.
«В утешение Вам, – было сказано в письме, – посылаю лично для Вас документы Вашей Ларисы, которые Вам дороги как память. И ее (тут он написал слово, совершенно непригодное для печати) тоже посылаю Вам после ретуши в моем художественном ателье. Деньги, находившиеся при сем, не посылаю, так как сам в них нуждаюсь, а Вы можете восполнить вышеупомянутый пробел из вашей ответственной получки. Документы вручите лично, соврав по Вашему обыкновению, что вырвали их у меня из глотки после перестрелки из-за угла и кровавой драмы. К сему – Жмакин».
Строго перечитав написанное, Жмакин подумал, что, несмотря на допущенные соленые словечки, получилось все-таки сопливо, настолько, что Окошкин, пожалуй, подумает, будто Жмакин раскаялся. И так как лист бумаги был почти чист, то Жмакин стал рисовать на нем серию разных, оскорбительных для Окошкина, рисунков и делать к ним подписи, уничтожающие Василия Никандровича как представителя УГРО. Тут был и Жмакин, идущий за спинами Ларисы с Окошкиным, и Жмакин (фантазия), отрезающий сумочку на глазах у Окошкина, и Жмакин, считающий свою выручку (тоже фантазия) в толпе рядом с влюбленным Василием Никандровичем. Рисовал Жмакин недурно и работой своей остался доволен, особенно миниатюрой, где изображен был Окошкин, принимающий от Жмакина паспорт девушки с зеленым перышком и благодарно целующий Жмакину некоторую часть его тела.
Сведя таким образом концы с концами в своих сложных отношениях с Окошкиным, Жмакин надписал на конверте адрес милиции и фамилию адресата с припиской: «Лично, совершенно секретно, в собственные руки, никому не вскрывать». Прошелся на станцию, опустил письмо в ящик почтового вагона и, вернувшись, положил в боковой карман пиджака паспорт, предназначенный к переделке.
Лестница заскрипела, вошел Женя.
– Гулять ходили?
– Прогуливался.
– Теперь совсем к нам переехали?
– А чего ж.
Женьке шел четырнадцатый год. Он был в красной футболке, в синих лыжных брюках и в обрезанных валенцах. Он еще краснел и опускал глаза, но уже выставлял вперед ногу, вскидывал голову и старался смеяться ненатурально, каким-то кашляющим басом.
– Новости слышали?
– Какие еще такие новости?
– В отношении «Седова»?
– А чего там?
– «Пять часов самоотверженной борьбы со стихией!» – заголовком из газеты сказал Женька. – Там форменный кошмар был. Вблизи аварийной продуктовой палатки началось сжатие молодого льда. Торосистый вал с адским шумом приблизился к палатке и к горючему…
– Выдюжили? – перебил Жмакин.
– А как же! Пять часов аврала. Весь груз спасли и перевезли в безопасное место.
– Разве там имеются безопасные места?
– Это я так читал…
– Ну, написать всякое можно.
Женька поморгал и немножко посмеялся.
– Может, в шахматы сыграем? – погодя спросил он.
Алексей молчал, с завистью разглядывая ухоженного Женьку. Разве так жилось Жмакину в Женькины нынешние годы?
– Или в шашки сыграем? – потише спросил Женя.
– А ты уроки выучил? – удивившись на собственный вопрос, осведомился Жмакин. Или, может быть, он спросил об уроках потому, что никто ему не задавал никогда такого вопроса. – Выучил?
– Здравствуйте, – сказал Женька, – а чего я с Морозовым целый день делал?
– Чертей небось гонял, – сказал Жмакин, – хулиганил где-нибудь возле станции?
– Я не хулиганил, – покраснев, сказал Женька, – я как раз хорошо учусь.
– А может, как раз плохо?
– Нет.
– Хорошо?
– Да.
Женька опустил голову. Он был явно обижен.
– Пионер?
– Да.
– Что ж вы там, пионеры, вокруг елочки ходите, что ли? – спросил Жмакин.
– Вокруг елочки? – очень удивился Женька. – Почему вокруг елочки?
– А чего ж вам больше делать?
Женька даже не ответил. На секунду он вскинул голубые удивленные глаза, потом отвернулся. Потом слегка покачал головой. Еще раз взглянул на Жмакина и тихо, но раздельно и твердо сказал:
– А если вы комсомолец, то мне странно, что вы так говорите.
– Я пошутил, – серьезно сказал Жмакин.
– Раз пошутили, тогда другое дело, – повеселевшим голосом сказал Женька, – может, сыграем в шахматы?
– Сыграем! Тащи!
– А может, вниз пойдем? Там приемник.
– Ну, пойдем.
Они сели возле ревущего приемника и сразу же задумались и замолчали, как полагается всем шахматистам.
– Д-да… – порою говорил Жмакин.
– Уж, конечно, да, – отвечал Женька.
Финляндия ревела им в уши, потом захлопала дверь, пришли и хозяин, и гости, – они не слышали и не видели.
– Так, так, так, – говорил Жмакин.
– Да уж, конечно, так, так, так, – отвечал Женька.
Он раскраснелся, открытое, розовое, детски-припухлое его лицо покрылось мелкими капельками пота.
– Рокируюсь, – говорил он, раскатисто нажимая на «р».
– Рокируйся, – в тон ему отвечал Жмакин.
Только теперь он заметил и окончательно понял, что пришли гости. Они сидели за овальным столом и мирно беседовали в ожидании ужина. Дормидонтов был очень велик ростом и очень широк в плечах, и выражение лица у него, как у всех слишком уж рослых людей, казалось немного виноватым. Второй гость – Алферыч – был тоже велик ростом, но как-то казался уже, складнее, проворнее. В лице у него было что-то очень деловитое, и вместе с тем казалось, он вот-вот выкинет такое коленце, что все просто-таки умрут, а он ничего не выкидывал, наоборот, держался очень серьезно и мало смеялся.
Гости молчали, говорил и смеялся один Корчмаренко. Он бил ладонью по столу, толкал кулаком в бок Алферыча, подмигивал Дормидонтову и, вытягивая шею, кричал в кухню:
– Граждане повара, каково там кушанье?
А из кухни отвечали:
– Сейчас, гости дорогие, сейчас, милые!
Жмакин поднялся, чтобы уйти к себе, но Корчмаренко его не пустил.
– Ничего, ничего, – говорил он, – оставайся. Успеешь отоспаться – молодой еще. Кабы жена была, ну, дело другое.
И смеялся, сотрясая весь дом.
Жмакин тоже присел к овальному столу.
– И пить будем, – сказал Корчмаренко, – и гулять будем, а смерть придет – помирать будем. Верно, Алферыч?
Алферыч взглянул озорными глазами на Жмакина и, вздохнув, сказал:
– Не без этого, Петр Игнатьевич.
Потом Корчмаренко вынес из соседней комнаты скрипку, поколдовал над ней, отвел бороду направо и, взмахнув не без кокетства смычком, сыграл мазурку Венявского. Играл он хорошо, лицо у него сделалось вдруг печальным, большой курносый нос покраснел. Дормидонтов слушал удивленно, почти восторженно, Алферыч задумался, выдавливая ногтем на скатерти крестики. Жмакин слушал и жалел себя. Из кухни вышла Клавдия – дочь Корчмаренко – раскрасневшаяся от жара плиты, миловидная, прислонилась спиной к печке, сразу же заплакала, махнула рукой и ушла.
– Эх, Клавдя, – с грустью сказал Корчмаренко, – сама мужика выгнала и сама жалеет. А мужик непутевый, дурной…
Он вдруг зарычал, как медведь, налился кровью и захохотал.
– Как она его метелкой, – давясь от смеха, говорил он, – и слева, и справа, и опять поперек. А я говорю – правильно, Клавдя! Так и выгнала!
Он вскинул скрипку к плечу, прижал ее бородою и начал играть что-то осторожное, скользящее, легкое, бросил на половине, чихнул и, угрожающе подняв скрипку над головой, пошел в кухню. Через секунду из передней донесся его уговаривающе-рокочущий бас и всхлипывания Клавдии, потом слова:
– Ну и пес с ним, коли он такой подлюга, подумаешь, невидаль…
Ужин был обильный, вкусный, веселый. Много пили. Клавдия развеселилась и сидела рядом со Жмакиным, он искоса на нее поглядывал, и каждый раз она ему робко и виновато улыбалась. Пили за хозяина, он смущался, тряс большой, всклокоченной головою и говорил каждый раз одно и то же:
– Чего ж за меня, выпьем за всех.
Говорили про завод, про техника Овсянникова, про бюро технического нормирования и про то, что всю «еремкинскую шатию» надо гнать с производства в три шеи.
– Разве ж это рабочий класс? – сердился Алферыч. – Халтурщики они, а не рабочий класс. Особо секретными замками на толкучке торгуют, это что же? Позор, стыд и срам!
Жмакин слушал внимательно: про такое он только читал в газете, прежде чем свернуть из этой самой газеты «козью ножку». Или со скукой слушал по радио. А тут пожилые люди толковали об «еремкинской шатии» как о своих кровных врагах. Кто они – эта «еремкинская шатия»? Наверное, перевыполняют нормы, и из-за них снижаются расценки? Но по ходу спора Жмакин понял, что все совсем не так. «Еремкинская шатия» позорила рабочий класс – вот в чем было дело.
– Ворье! – цедил Корчмаренко. – Расхитители времени. Из государственного материала, из дефицитного, замки строят налево. И за счет своего рабочего дня. Сажать их надо как преступников, а не чикаться и речи говорить…
Страх прошиб Жмакина. «Ворье, сажать!» О чем это? Может быть, они знают, чем он промышлял нынче? Может быть, это намек? Нет, нет, они говорили вовсе не о нем!
– Ты партийный, – сказал Дормидонтов Корчмаренко, – тебе начинать. Поставь вопрос на производственном совещании.
– Тут дело не в партийности, – сказал Корчмаренко, – при чем тут партийность? Пожалуйста – выступай!
Они заспорили.
Жмакин вдруг очень удивился, что Корчмаренко – партийный.
Пришла старуха с огромным блюдом горячих оладий и села между Жмакиным и Алферычем. Жмакин все больше пьянел. Старуха положила ему на тарелку оладий, сметаны, какой-то рыбы.
– Не могу, наелся, – говорил Жмакин и проводил по горлу, – мерси, не могу.
Но старуха отмахивалась.
Он налил ей большую стопку, чокнулся и поклонился до самого стола.
– Вашу руку, – сказал он, – бабушка! Мерси!
Он пожал ей руку и еще раз поклонился, потом выпил с Клавдией. Теперь ему казалось, что он уже давно, чуть ли не всегда живет здесь, в этом домике, участвует в таких разговорах, слушает радио, играет в шахматы.
– Позвольте, – сказал он и протянул руку с растопыренными пальцами над столом, – позвольте, я так понимаю, что вы, как новаторы производства, имеете принципиальные разногласия с отстающим элементом. Везде имеются новаторы и прочие элементы, вплоть до вредительства…
– Дурачок ты! – вздохнул Корчмаренко. – Дурачок, и уши холодные. Какое у нас вредительство? Есть шайка-лейка ворья, надо ее ликвидировать, а у нас существуют, понимаешь, предрассудки товарищества, не понимают некоторые, что хотя наш заводик и не гигант индустрии, а наш, собственный…
– Ну, хорошо, – согласился Жмакин. – А дальше?
Все они были ему врагами. Не только Лапшин, Окошкин, Побужинский, не только стрелок из охраны, не только те, у кого он срезал сумочки, но и эти, которым он ничего дурного не сделал, эти – тоже его враги, у них есть свой завод и шайка-лейка ворья, которую они хотят ликвидировать. Со страхом он огляделся и опять спросил:
– А дальше?
– Ну и все! – сказал Корчмаренко. – Ты, конечно, молодой человек, тебе не разобрать, какая еще драка идет между старым и новым. Нам, пожилым, виднее.
– Тогда – выпьем! – предложил Жмакин.
– Это – можно.
– Я беспартийный человек, – отчаянным голосом, опрокинув стопку, заговорил Жмакин, – но я понимаю. Вы – прогрессивные, вот вы кто!
Ему очень хотелось, чтобы его слушали, хотя говорить было совершенно нечего. И хотелось, как тогда, в вагоне, походить по опасному краешку, над устрашающей крутизной, над пропастью, о которой он где-то когда-то что-то читал.
– И ворье надо душить! – крикнул Жмакин. – Беспощадно! Всех, кто мешает строить новую жизнь, – к ногтю? На луну! Высшая мера социальной защиты – расстрел!
– Горяченький ты у нас! – без улыбки, жестко сказал Корчмаренко. – Расстрел, шуточки? Беспризорник булку стянул – его к стенке, да? Да и нашу шайку-лейку стрелять нельзя. Разбираться надо в каждом отдельном случае, не торопясь, спокойненько. Дай, брат, власть такому, как ты, – сразу вредительство откопаешь. А какой он вредитель, наш, допустим, Есипов, когда он чистая шляпа и собственные калоши по десять раз на дню забывает. Давеча золотые часы фирмы «Павел Буре» на гвоздике в уборной оставил. А бородочка совершенно как у вредителя в кино и голос тоже скрипучий, занудливый.
– Все это ли-бе-ра-лизм! – с трудом выговорил Жмакин. – Буржуазный либерализм!
– Э, браточек! – засмеялся Корчмаренко.
Жмакин вдруг увидел, что Корчмаренко трезвый, и ему стало стыдно, но в следующую секунду он уже решил, что пьян-то как раз Корчмаренко, а он, Жмакин, трезвый, и, решив так, он сказал: «Э, брат!» – и сам погрозил Корчмаренко пальцем. Все засмеялись, и он тоже засмеялся громче и веселее всех и грозил до тех пор, пока Клавдия не взяла его за руку и не спрятала руку вместе с упрямым пальцем под стол. Тогда он встал и, не одеваясь, без шапки, вышел из дому на мороз, чтобы посмотреть – ему казалось, что надо обязательно посмотреть, – все ли в порядке.
– Все в порядке, – бормотал он, шагая по скрипящему, сияющему под луной снегу, – все в порядочке, все в порядке.
Мороз жег его, стыли кончики пальцев и уши, но он не замечал – ему было чудно, весело, и что-то лихое и вместе с тем покойное и простое было в его душе. Он шел и шел, дорога переливалась, везде кругом лежал тихий зимний снег, все было неподвижно и безмолвно, и только он один шел в этом безмолвии, нарушая его, покоряя.
– Все в порядке! – иногда говорил он и останавливался на минутку, чтобы послушать, как все тихо, чтобы еще больше удовольствия получить от скрипа шагов, чтобы взглянуть на небо.
Но вдруг он замерз.
И сразу повернул назад. Теперь луна светила ему прямо в лицо. Он бежал, выбросив вперед корпус, отсчитывая про себя:
– Раз, и два, и три, раз, и два, и три!
У дома на него залаял пес.
– Не сметь! – крикнул Жмакин. – Ты, мартышка!
Дверь была приоткрыта, и на крыльце стояла Клавдия в большом оренбургском платке. Она улыбнулась, когда он подошел.
– Я думала, вы замерзли, – сказала она, – хотела вас искать.
– Все в порядке, – сказал он, – в полном порядочке.
У него не попадал зуб на зуб, и он весь просто посинел – замерз так, что не мог вынуть из коробки спичку, не гнулись пальцы.
– Давайте, я вам зажгу, – сказала она, – вон у вас пальцы-то пьяные. Я заметила, у вас пальцы давно пья-я-яные…
– Просто я замерз, – сказал он.
Они стояли уже в передней. Там за столом всё еще спорили и смеялись. Из кухни прошла старуха, усмехнулась и шальным голосом сказала:
– Ай, жги, жги, жги!
Она тоже выпила.
– Клавдя, – сказал Жмакин, – я тебе хочу одну вещичку подарить на память. – Он вдруг перешел на «ты». – Она у меня случайная.
Клавдия молчала.
– Постой здесь, – сказал он и побежал к себе по лестнице.
В своей комнате он вынул из чемодана сумку, украденную днем, вытряхнул из нее деньги, подул внутрь, потер замок о штанину, чтобы блестел, и спустился вниз. Клавдия по-прежнему стояла в передней.
– На память, от друга, – сказал Жмакин, – бери, не обижай.
Она смотрела на него удивленно и сумку не брала.
– Бери, – сказал он почти зло.
– Да есть же у меня сумка, – кротко сказала Клавдия.
– Бери!
Он уже косил от бешенства.
– Задаешься?
Клавдия молчала.
– Фасонишь?
В голове у него шумело, он вздрагивал.
– В кухню пойдем, – сказала Клавдия, – морозно же!
– Либерализм! – крикнул он в сторону комнаты, туда, где по-прежнему спорили. – Да!
Клавдия засмеялась. А он вдруг заметил, что лакированный ремешок на сумке разорван. Неужели она еще не успела разглядеть?
– Не берешь подарок? – почти спокойным голосом сказал он. – Не надо!
И, мгновенно открыв дверцу плиты, сунул сумку в раскаленные оранжевые угли.
– От, крученый! – сказала Клавдия. – От, дурной! Ну, просто бешеный.
– Ладно! – величественно отмахнулся Жмакин, пошел в столовую и сел на свое место.
Все слушали Корчмаренко, который густым басом вспомнил империалистическую войну. Мазурские болота и ранения – дважды пули пробили ему легкое, в сантиметре одна от другой. Рассказывал Корчмаренко хорошо, совсем не жалостно, все точно видели, как полз он, раненый, умирающий, и как помогал ему тоже раненый, так и оставшийся неизвестным, бородатый солдат-сибиряк.
Жмакин налил себе водки, выпил и спросил:
– А кто из вас знает тайгу?
Никто толком не знал. А Жмакину страшно хотелось говорить. Он чувствовал, что у кафельной печки стоит Клавдия, так пусть же послушает и про него, про то, как жилось ему на этом свете.
– Все мы нервные, – сказал он, – все немного порченые. У кого война, у кого работа. Достижения тоже даром не даются. Вот, например, я – молодой, но жизнью битый и даже психопат. И сам знаю, а удержаться не могу. Прямо накатывает иногда…
– Ничего себе жильца подобрали, – подмигнул Корчмаренко Клавдии.
– Кроме шуток, – продолжал Жмакин. – Такие были переживания – не каждый выдержит. Работал на Дальнем Севере, и происходит, понимаете, такая история…
Он опять рассказал о побеге, о волках, о ночевках в ямах. Старуха тихонько плакала. Корчмаренко вздохнул. Жмакин не оборачивался, он знал, что рассказывает недурно и что Клавдия слушает и жалеет его.
– Еще не то бывает, – сказал он значительно и опять выпил.
Ему очень хотелось рассказать, как страшно и одиноко в Ленинграде, как он бежал от Лапшина, но то уже нельзя было рассказать, и тогда, таинственно подмигнув, он рассказал о себе так, как будто он был Лапшиным: как он, Лапшин, ловил Жмакина, и как он этого Жмакина поймал и привел в розыск, и как Жмакин просил его отпустить, и как он, Лапшин, взял да и не отпустил.
– И очень просто, – говорил Жмакин, чувствуя себя как бы Лапшиным. – Их не очень можно отпускать. Это народ такой. Вот у меня был случай…
И он рассказал про себя как про сыщика, как он, сыщик, ловил одного жулика по кличке «Псих», и как этот «Псих» забежал на шестой этаж, позвонил, проскочил квартиру, да по черному ходу – и поминай как звали.
– Ушел? – спросил Корчмаренко.
– И очень просто, – сказал Дормидонтов.
– Во, черти! – восторженно крикнул Корчмаренко, захохотал и хотел шлепнуть ладонью по столу, но попал в тарелку с растаявшим заливным и всех обрызгал. После этого он один так долго хохотал, что совсем измучился.
– Вы что ж, агентом работали? – спросил Алферыч, пронзая Жмакина озорным взглядом.
– Разное бывало, – отвечал Жмакин уклончиво.
Потом Корчмаренко играл на скрипке, и все сидели рядом на диванчике и слушали. А когда гости уже совсем собрались уходить, Корчмаренко предложил спеть хором, и Клавдия начала:
Среди долины ровныя, На гладкой высоте…Спели и разошлись. Но Корчмаренко еще не хотел спать и не пустил Жмакина. Они сели за шахматы. Оба закурили и насупились:
– Спать, греховодники, спать, – говорила старуха, – слать!
– Ничего, завтра выходной, – бурчал Корчмаренко.
– Дай-ка, сынок, паспорт, – сказала она, – я утречком раненько сбегаю, да и пропишу.
Алексей хотел сказать, что паспорт у него на работе, но взглянул на Клаву – и не смог. Что-то в ней изменилось, он не понимал, что; она смотрела на него иначе, чем раньше, – не то ждала, не то усмехалась, не то не верила.
– Поднимись, принеси, – сказала старуха, – не то утром разбужу…
Уже поздно было говорить, что паспорт на работе. Жмакин сунул руку в боковой карман пиджака и вынул краденый паспорт, но все еще медлил, затрудняясь все больше и больше. Он даже не помнил имени в паспорте… Алексей открыл паспорт и прочел: «Ломов Николай Иванович». Теперь прописка.
– Чего ищешь? – спросил Корчмаренко.
– Да тут фотография была, – сказал Жмакин, – как бы не потерялась…
Он запомнил и прописку.
Старуха взяла паспорт.
Это была его верная гибель, то, что он делал. Через три дня, самое большее, его возьмут. Разве что Ломов Николай Иванович дурак и не заявил. Нет, конечно, заявил.
Он не доиграл партию и ушел к себе. Надо было спать. Три дня можно спать спокойно. А дальше – конец. Он разделся, лег. Сколько времени он не спал в постели? И тотчас же заснул. Но проснулся очень скоро, закинул руки за голову и стал думать. На мгновение ему даже смешно сделалось – хорошо, что не сунул старухе какой-либо женский паспорт спьяну, то-то бы дело было.
Ах, да что! Три дня у него есть верных. А это уже не так мало – три дня.
Пошли неприятности
Накрывая к завтраку, Патрикеевна рассказывала:
– Хотите верьте, хотите не верьте, но точно было, факт. Скончался, значит, один гражданин.
– Фамилия, имя, отчество! – жестко спросил Окошкин.
– Абрамов Григорий Фомич, – без запинки ответила Патрикеевна. – Сам он ветеринарный врач по мелким животным. Ну, известно, если которые люди собачку любят или кошечку, они над ней, словно бабушка над внучонком, ничего не пожалеют…
– Как вы нам, – сказал Окошкин.
Патрикеевна не удостоила его ответом. Лапшин брился, надувая одну щеку. Было еще темно, шел восьмой час утра.
– Значит, человек состоятельный, – продолжала Патрикеевна. – Ну, скончался. Конечно, отпели чин чином, а на кладбище уже гражданскую сделали панихиду, речи там – «спи спокойно, дорогой усопший товарищ» и всякое такое прочее, одним словом, как говорится, и на погосте бывают гости, – эти гости ночуют…
Лапшин слушал вполуха; все это время, преимущественно по утрам, вспоминалась ему встреча Нового года в театре, куда его потащил Ханин. Сидел Иван Михайлович рядом с Балашовой, напряженно улыбался, глядя на маленькую сцену, на которой артисты разыгрывали свой «капустник», зло высмеивая и самих себя, и пьесы, которые они ставили, и режиссера, про которого они говорили, что он у них «первый настоящий». Лапшину было неловко, он чего-то не понимал и совсем перестал что бы то ни было понимать, когда тот самый артист, который сказал про него, что он «фагот», полез вдруг с ним целоваться. Катерина Васильевна все время улыбалась своей неторопливой, умной улыбкой. Ханин грозился написать драму и пьянел, а Лапшину хотелось встать и сказать: «Знаете что? Давайте, прошу вас, перестаньте кривляться!»
– А хоронили его, надо знать, – продолжала Патрикеевна, – в новом костюме, ветеринара этого по мелким животным…
Она нарезала батон, заварила чай и села, выставив вперед ногу:
– Говорилось по-старому: пропели «Со святыми упокой», так всему конец, ан нет. Жил – почесывался, помер – свербеть хлеще стало. Пришли ночью воры и давай откапывать могилу, поскольку еще приметили на покойнике запонки из цветного металла, не скажу точно – из какого, врать не буду. Вот, конечно, раскопали, а он и не мертвый вовсе, заснул летаргическим сном. Стали с него пиджак стаскивать, он, конечно, матюгом их, привык с мелкими животными. Один вор от страха тут возьми и помри. А другие ему в ноги: «Простите нас, товарищ покойник, мы в ничего такого до настоящего дня не верили, извините нашу темноту!» Он их отпихнул, забрал свой пиджак, да давай поскорее к воротам, надеется еще на какой-либо ночной трамвай попасть. Попасть-то попал, да денег на билет ни копья, а главное, вид какой-то не тот у человека – зимой, знаете, а он без пальто и шапки не имеет, поскольку хоронить в шапках никто себе не позволяет. Кондукторша требует за проезд, ее, конечно, дело маленькое…
– Ой, Патрикеевна! – негромко вздохнул Лапшин.
Он добрился, протер лицо одеколоном и пошел к столу Окошкин ел пшенную кашу с молоком и хлебом. Иван Михайлович намазал себе ломоть хлеба, круто посолил и отхлебнул чаю. Новогодняя ночь все еще вспоминалась ему: как он провожал Катерину Васильевну и как она смешно, точно и в то же время грустно рассказывала ему про своих товарищей, как хвалила многих из них и как обещала «ужасно удивить» его одним спектаклем, она не сказала в ту ночь – каким.
Ему было нелегко с Балашовой, он робел перед ней, как редко перед кем в жизни, она умела сердито не соглашаться с ним, умела вдруг передразнить его с такой скрупулезной похожестью, что он даже пугался, умела выслушать его самую простую, как казалось ему, фразу необыкновенно внимательно, радостно-удивленно, умела воскликнуть: «Подумайте, как здорово!», и так, что он долго помнил самый звук ее голоса, но умела вдруг и зевнуть внезапно, сказав, что устала и пора спать…
– Не слушаете вы, Иван Михайлович! – сказала Патрикеевна.
– Да слушаю, слушаю! – с досадой ответил он.
– Заругался он, конечно, с кондукторшей, этот самый ветеринар – нервный, и хоронили его, и пиджак воры сдирали, и свою собственную полностью панихиду слышал, тут кто угодно расстроится. Кондукторша свистит постового, ведут нашего ветеринара в отделение за хулиганство. Ну, конечно, как у вас, безжалостно – документы. Нету, какие у захороненного документы? Кто может удостоверить личность? Супруга. А ему, конечно, неохота среди ночи свою собственную вдову с ума сводить. Я, говорит, здесь пересижу до утра, только подайте мне чаю и чего покушать, я почти трое суток маковой росинки во рту не имел и еще грипп могу схватить от лежания в том месте, где находился. Тут его спрашивают, где же он находился. Раскалывают – как наш товарищ Окошкин выражается. Ну, он под секретом все и рассказал. Сейчас же оперативную машину на кладбище – проверили: могила разрыта, одинокий труп вора лежит, все в порядке. Тут уже и утро. Повели ветеринара на квартиру. Вдова еще спит, столы после поминок не убраны, двери дочка открыла – и в обморок. Он с квартальным, который его привел, присели к столу – покушать, перцовки взяли по двести грамм, пивка, пирога поминального. Тут выходит вдова и видит картину – покойник с квартальным выпивают и закусывают. Брык – и разрыв сердца.
– Померла? – с полным ртом спросил Окошкин.
– На месте! – победно ответила Патрикеевна. – Обратно ветеринар видит свою мертвую вдову и от всех переживаний сходит с ума. А квартальный, поскольку ему отвечать, что никого не подготовил, берег револьвер – и себе в голову. Не верите? Дворничиха наша Зинаида сама даже эту умершую вдову видела.
– Вот, товарищ Окошкин, – сказал Лапшин, наливая себе чай. – Слышали? Живем с вами, живем, хлеб жуем, а все в стороне от жизни. Надо бы сегодня проверить это дело, как вы считаете?
– А проверьте! – согласилась Патрикеевна. – Проверьте, очень даже хорошо будет.
Позвонил телефон. Лапшин взял трубку. Окошкин прислушался.
– Так, так, – сказал Иван Михайлович, – хорошее дело. На каком вокзале?
– Не Жмакин? – осведомился Окошкин.
Лапшин отмахнулся.
– Ладно, еду, – произнес он. – Вышли машину поживее. Жду.
С Новым годом было покончено, по крайней мере на сегодня. Вряд ли рабочий день даст ему возможность повспоминать еще какие-нибудь подробности…
Закурив, Лапшин и Окошкин вышли на улицу. Зимнее, круто-морозное утро только еще занималось. Машина выскочила из-за угла, кренясь, на полном ходу, развернулась, старый лапшинский шофер Кадников, распахивая дверцу, сказал:
– Ну, красиво брали, Иван Михайлович, ну, орлы у нас ребята…
– Деньги при них?
– Все до копеечки.
– Не сопротивлялись?
– Какое! Бочков ихнему старшему только правую ручку чуток назад завернул.
– Оружие было при них?
– Вот не знаю, не скажу.
Машина, завывая сиреной, уже неслась по Невскому.
– Опять без меня, – сказал Окошкин. – Это удивительно, если что дельное – так я непременно в это время не участвую. Просто до смешного. Даже перед товарищами, Иван Михайлович, неудобно.
В комнатах, где работали люди Лапшина, царило приподнятое, даже праздничное настроение, которое всегда возникает в тех случаях, когда давно начатая трудоемкая и кропотливая работа приходит наконец к своему благополучному и, как всегда в бригаде Лапшина, красивому завершению. И Бочков, и Криничный, и Побужинский, и другие работники, молодые и старые, не спавшие всю нынешнюю ночь, наливали себе чай из электрического чайника, закусывали, курили, подталкивали друг друга, вспоминали смешные подробности операции; не скрывая и не стесняясь, рассказывали каждый о каком-то своем крошечном промахе, дразнили молоденького Грибкова, который уронил впопыхах пачку денег, потому что никогда «столько подряд не видел», и все порывались подробно доложить лично Лапшину. А он, гордясь и радуясь на этих своих «орлов», на бесстрашных и чистых сердцами ребят, на свою школу – они же были его учениками, – слушал, стараясь не улыбаться, перекатывая граненый карандаш по толстому стеклу стола, а когда все замолчали, внезапно спросил:
– Оно все так, сделано на совесть, но почему же мне ночью не доложили?
Бочков обдернул на себе жестом старого солдата гимнастерку, подправил сборки на спине за поясом и, глядя Лапшину в глаза, сказал твердо:
– Я виноват, товарищ начальник. Слишком вы уставши вчера были, даже серого цвета, извините. Ну а ввиду того, что на днях с вами совсем нехорошо случилось, я лично принял под свою ответственность решение – вас не беспокоить. Мне даже в санчасти сказали, что после той ночи для вас необходимо месяца два полного покоя, а вы совсем даже не отдохнули.
– За чуткость спасибо, – холодно перебил Лапшин, – но превышать свои полномочия я никому не разрешу. Ясно?
– Ясно.
– Чтобы впредь такие штуки не повторялись. Вы поняли, Бочков?
– Понял.
– Всем принимавшим участие в операции отдыхать до обеда! – приказал Иван Михайлович. – Вопросы есть?
Вопросов не было. Кабинет Лапшина опустел. Только очень бледный почему-то Окошкин стоял рядом с креслом Ивана Михайловича.
– Ты что это, Окошкин? – удивился Лапшин.
Василий проглотил слюну. Даже говорить он не мог.
– Заболел?
– Не заболел! – выдавил из себя Василий.
Утренняя почта лежала непрочитанной слева на лапшинском столе. И нечаянно Окошкин прочитал открытку Жмакина. Прочитал раз, и другой, и третий от начала до конца, читал все то время, пока Лапшин разговаривал со своей бригадой, читал, едва держась на ногах от ужаса, стыда и злобы.
– Иди в санчасть, – велел Лапшин. – Иди, быстро!
– Не пойду, – фальцетом ответил Окошкин, помолчал мгновение, еще более побледнел и решительно подвинул Лапшину открытку. – Вот.
Не торопясь Иван Михайлович протер стекла очков, аккуратно заправил дужки за уши и начал читать. Окошкин обошел стол и не сел, а рухнул в кресло. Лапшин читал медленно, деловито, словно это был вовсе не смертный приговор Окошкину, а скучная бумага, допустим, из финчасти.
– Клевета? – как сквозь вату услышал Окошкин.
Василий потряс головой.
– Правда?
Окошкин кивнул.
Вот тут-то и произошло самое удивительное. Вместо того чтобы, побагровев от гнева, закричать на Ваську, посадить его, выгнать вон, вообще покончить с ним как с личностью и гражданином, Иван Михайлович потянулся, снял очки, поглядел на Окошкина долгим взглядом и со вздохом сказал:
– Мальчишка!
– Иван Михайлович! – мгновенно приходя в себя и прижимая руки к груди жестом несколько театральным, и даже в какой-то мере балетным, заговорил Окошкин – Иван Михайлович, я это дело искуплю. Но тут вопрос серьезный. Это девушка, это самое Лариса… – Язык его все еще немножко «сбоил», и «зеленое перышко» он от волнения называл «это». – Она… я женюсь, понимаете? Она мне невеста, я ее как товарища и как человека полюбил…
– Но? – чистосердечно удивился Лапшин. – Верно, полюбил?
– С первого взгляда, слово даю, Иван Михайлович, – вдохновляясь все больше и больше, говорил Окошкин. – Я уж и дома у нее был, с мамашей познакомился, женщина очень культурная, разбирающаяся, беседовали мы…
– Так, так, – кивнул Лапшин. – Ты и мамаше небось про нашу работенку рассказал откровенненько, подробненько. Поделился, какие у нас разработки, поделился, что Побужинский делает, что Бочков, что Криничный, как и на кого Тамаркин показывает, где мы нынче брать будем…
– Иван Михайлович! – взвыл Окошкин.
– Идите, товарищ Окошкин, – сказал Лапшин. – Идите, ваш поступок мы еще разберем и вас накажем по всей строгости. А пока что займитесь делом Самойленко и доложите ваши соображения, как будете поступать в ближайшее время.
Василий Никандрович поднялся.
Ему нарочно дают это гиблое дело для того, чтобы он не справился с ним и чтобы проще было от него навсегда отделаться. Все понятно!
– Иван Михайлович, разрешите? – почти шепотом спросил он.
– Ну, разрешаю.
– Иван Михайлович, я двести двадцать установок сделал с охотниками, сами знаете, тут…
– Две тысячи двести сделаете…
– Но, Иван Михайлович…
– Выполняйте.
Окошкин пошел к двери.
– Кровавая драма! – ужасным, как показалось Васе, голосом произнес Лапшин. – Выстрел из-за угла. Рискуем жизнью…
На подгибающихся ногах Окошкин дошел до двери, немного помедлил, ожидая слов поддержки, и, ничего не дождавшись, долго пил воду из графина в комнате, где стоял его заляпанный чернилами стол. А Иван Михайлович в это самое время, закрыв большими ладонями лицо, беззвучно хохотал, хохотал, утирая слезы, хохотал до колотья в сердце, до полного изнеможения. И когда к нему на допрос привели главаря банды аферистов, пойманных сегодня ночью, знаменитого Мирона Яковлевича Дроздова – старого лапшинского знакомого, тот никак не мог понять, с чего это Лапшин нет-нет да и улыбнется хитро, насмешливо, добродушно.
– А вы здорово, Дроздов, постарели, – откладывая бланк показаний обвиняемого и закуривая, сказал Лапшин. – И постарели, и вообще что-то вид у вас не слишком здоровый.
– Язвочка! – пожаловался Мирон Яковлевич. – Оперироваться в моем положении неудобно, пригласил одного портача на квартиру, говорю: «Сделайте в домашних условиях, будете с меня иметь в лапу приличный гонорар», так он даже обиделся.
– В тюремной больнице прооперируют, – пообещал Лапшин. – У нас хирург великолепный.
– Профессор?
– Почему непременно профессор?
– Потому что для меня, извините, гражданин начальник, врач начинается с профессора. Я даже зубы никогда у дантистов не лечил, а исключительно у стоматологов. При моей работе я не нуждаюсь во врачебных ошибках.
– Конечно, работа у вас пыльная.
– Именно так. Язва, между прочим, у меня исключительно нервного происхождения. У вас, кстати, с желудочно-кишечным трактом все в порядке?
– Не жалуюсь пока.
– А работа тоже нервная, – усмехнулся Дроздов. – Начальство, наверное, теребит товарища Лапшина – подавай нам Мирона, почему ты Мирона взять не можешь, где наш Мирон?
– Вот он – Мирон, – показывая вставочкой на Дроздова и посмеиваясь, сказал Лапшин. – Заявился из Харькова к нам, мы его и взяли.
– Все-таки была с нами хлопотная ночь, – улыбаясь всеми своими морщинами, произнес Дроздов. – Вокзалы закрывать, большой переполох мы сделали. Шурум-бурум над красавицей Невой. А между прочим, ваш Бочков способный работник. Далеко пойдет.
– Плохих не держим.
Оба помолчали.
– И вы ведь, Дроздов, человек не без способностей, – вздохнув, не спеша заговорил Лапшин. – Много бы могли сделать толкового…
– Наследие проклятого…
– Ну, завел! Неужели своего не можете придумать – на одном наследии все едете да едете. Родимые пятна! Бросьте, Дроздов! Лет вам не мало, пора закругляться. Комбинации, аферы, штуки, но вы-то нас слабее. Все равно поймаем, а со временем получите высшую меру.
– Такая у нас деятельность. Мы – строим аферы, вы – нас разоблачаете.
Глаза Мирона остро смотрели на Лапшина, но былой их блеск уже угас, это был другой Дроздов, словно подмененный, плохой двойник. Не было в нем прежнего шика, заносчивости годов нэпа, исчезло дерзкое высокомерие. Перед Лапшиным сидел пожилой человек с твердым подбородком, с седыми бровями, с тонкими губами, человек болезненный, может быть мнительный, а главное, очень усталый.
– Ну, так как? Займемся дальше делом? – спросил Лапшин.
– Какая разница, – ответил Мирон. – Займемся ли, не займемся – моя песня уже в основном спета. Недавно была красивая мода – являться с повинной. Хорошо придумали, но я, как нарочно, отбывал срок. Попросился у начальника на минуточку съездить в Москву, явиться с повинной, он принял мои слова за шутку. А я, между прочим, имел что сказать в Москве, потому что сидел за пустяки, нарочно взял на себя одну мелочь, чтобы схоронить кое-что покрупнее. Но теперь это все никому не нужно.
– Правда всегда нужна, – глядя в глаза Дроздову, твердо и тяжело сказал Лапшин. – Не вертитесь, Дроздов. Вы много знали и знаете порядочно. С вашим делом мы успеем управиться. Ответьте мне на один вопрос, но, по чести, как порядочный жулик: где Корнюха?
Дроздов вскинул на Лапшина свои острые, золотисто-коричневые зрачки. Это была старая штука – «глядеть в глаза следователю», все они, матерые жулики, отлично знали вредоносность бегающего взгляда, и ни у кого Лапшину не случалось встречать таких светлых и чистых глаз, как у подлинных преступников.
– Корнюха? – выигрывая время, задумчиво и очень искренне, слишком даже искренне, переспросил Дроздов. – Это какой же Корнюха? Может, Филимонов? Того тоже, кажется, кличка была Корней?
– Ладно, Дроздов, – без всякого раздражения, спокойно произнес Иван Михайлович. – Вы делаете вид, что забыли Корнюху, – значит, все ваши рассуждения о явке с повинной – вздор. По некоторым данным нам известно, что вы осведомлены о пребывании Корнюхи. И если случится беда, а вы знаете не хуже меня, какова штучка – Корнюха, – мы взыщем и с вас.
– Я за вашего Корнюху не ответчик, – сверля Лапшина взглядом, огрызнулся Мирон. – И судить меня за него не станут. Я как-нибудь УПК изучил, время было…
Не отвечая, Лапшин положил перед собой лист показаний обвиняемого. Лицо Ивана Михайловича, как показалось Дроздову, набрякло, всякая тень добродушия исчезла. И вспомнил вдруг Мирон – он же Полетика, он же Рука, он же Сосновский, он же Дравек – жаркий летний вечер в Крыму, треск цикад, ровный шум близкого моря, гравий под ногами возле маленького ресторанчика и спокойный голос Лапшина: «Руки вверх, Мирон…» У Дроздова в боковом кармане модного, в талию, пиджака лежал пистолет. И очень не хотелось поднимать руки. Вот в это мгновение он и увидел лицо Лапшина, лицо простого русского мужика, деревенского парня, «фоньки», но исполненное такой силы, такой уверенности и вместе с тем такого превосходства над ним – контрабандистом и аферистом самого высокого класса, – что Полетика, словно одурев, поднял обе руки и признал себя полностью побежденным, хоть вполне мог уйти, потому что Лапшин, как выяснилось впоследствии, был совершенно один и конечно бы не стал стрелять возле ресторана…
– Значит, опять «руки вверх», как тогда, в Крыму? – спросил Дроздов-Полетика невесело.
– Я рекомендую вам говорить по делу, – строго и сухо ответил Лапшин. – Значит, займемся вашими соучастниками…
Постучавшись, вошел Окошкин, уже не с таким «опрокинутым» лицом, с каким давеча уходил из лапшинского кабинета. Иван Михайлович просмотрел бумагу, мелко, но разборчиво исписанную Василием Никандровичем, подумал и кивнул.
– Можно выполнять? – спросил Вася.
– Действуйте! – ответил Лапшин.
И Окошкин вновь отправился к магазину «Охота и рыболовство», одна вывеска которого нагоняла на него тоску. Ведь дело совершенно безнадежное, зачем, для чего вновь возиться с этими калибрами, кустарной дробью, собаками, женатыми и холостыми охотниками, их знакомыми местами, в которые они ездят охотиться? Но в нынешнем своем состоянии он не мог, не имел права обсуждать приказания начальства. Велено – делай. И, стараясь возбудить в себе азарт человека, который вот-вот нападет на след и уложит крупного зверя, Окошкин пошел по Литейному к осточертелому магазину, возле которого, как обычно, толкались охотники, продавцы дроби и особых крючков, спиннингов «самой последней марки» и ружей «три кольца». Сильно морозило, скрежетали сердито трамваи с заиндевелыми стеклами, с розового студеного январского неба светило негреющее полуденное солнце. И возле магазина, и в самом магазине Окошкин не увидел ни души из полезных ему людей, из старых знакомых – продавцов дроби и покупателей. Только продавщица Тася, стрельнув в Окошкина черными галочьими глазками, сообщила, что может ему устроить кое-что «шестнадцатого калибра».
«Черта мне в ваших калибрах!» – подумал Окошкин и отправился по адресам района. Настроение у него было препоганое, и потому даже симпатичнейшие люди – охотники – казались ему глубоко отрицательными типами, а один – инвалид Спиров – и вовсе убийцей несчастного Самойленко. Но тут же он разуверился в первом своем впечатлении, потому что Спиров нянчил внуков, да еще не своих, а соседских, легкомысленная мамаша которых позволила себе среди бела дня уйти «ни больше ни меньше, как в кино, видали, как засвербило, а деточек на меня кинула». Судя по всему, деточки обожали «отрицательного типа», в буквальном смысле слова сидели у него на голове, ездили на нем по коридору и не пожелали с ним расстаться, даже когда он поспешил по «стариковским делам» в туалет. Покойного Самойленко Спиров не знал, но, почесав в затылке, вспомнил, что в районе хутора Трехозерный охотился в те времена некто Губавин Терешка, «субчик», от которого любого лиха ждать можно. И не столько даже охотился, сколько промышлял разными темными делишками, например спекуляцией.
Не помня себя от внезапной удачи, Окошкин вернулся в розыск и занялся Губавиным. Спекулянт, темная личность, охотился в тех же местах! Чего угодно можно ожидать! И вот перед ним уже лежали фотографии Губавина – низколобый, глазки страшненькие, рожа в каких-то рытвинах и подтеках. Не в силах более сдерживать ликование, он поделился своими мыслями с Бочковым. Тот выслушал Василия Никандровича молча, зевнул, сказал рассеянно, думая о своем:
– Спекулянт-то спекулянт, Васечка, но как раз именно Губавин и обнаружил тело Самойленко. Он известил милицию. Труп-то ведь уже был разложившийся. Давай, брат, все сначала.
И пришлось начинать все с самого начала. Вновь он шагал по улице Жуковского и по улице Белинского, по набережной Фонтанки и по улице Пестеля, по улице Рылеева и по улице Восстания, по улице Каляева и по улице Воинова. Час шел за часом, стемнело, вызвездило, еще крепче задул морозный ветер, ниже опустился столбик в термометре.
«Шел по улице малютка», – почему-то вспомнилось Окошкину.
Мысли его вдруг прыгнули бог знает куда – на Поклонную гору, в маленькую комнатку с гитарой на стене.
И тут же он обругал сам себя – никаких размышлений о Ларе, покуда не будет сделано это дело. И вновь Вася подумал патетически, из чего-то прочитанного: «Кто же я? Человек или тварь дрожащая?» Патетически и приблизительно.
«Нет, я человек, – твердо решил Окошкин. – Пора кончать все мои недоделки, промахи и ротозейство!»
Решив так и этим решением раз навсегда покончив со своим легкомысленным прошлым, Василий Никандрович вспомнил каверзную историю, рассказанную ему на днях начальником музея Грубником: ампутировали ногу царьку карликового племени людоедов. После благополучной ампутации царек потребовал свою ногу на предмет отправки ее царскому семейству для изготовления жаркого. Главный врач госпиталя выдать ногу отказался. Царек нанял адвоката. Адвокат заявил, что невыдача ноги есть акт, инспирированный рукой Москвы, – покушение на собственность царя. Старые большевистские штуки!
– Вопрос правовой! – сказал Грубник Васе Окошкину. – Поломай голову с таким казусом…
И Василий Никандрович принялся развлекать себя этим «правовым» вопросом.
Тореадор, смелее в бой!
Он проснулся в два часа пополудни, легкий, отдохнувший, выспавшийся за все это время, охнул, зевнул, попрыгал по комнате, взглянул в окно: солнце светило, был морозец, молодежь косячком шла на лыжах, новенький сияющий грузовичок бежал по дороге.
«Сколько же я проспал?» – удивился Жмакин.
И, подсчитав, сердито сдвинул брови. Две полных ночи и кусок дня, потому что вчера он только поел колбасы в полдень и опять завалился. Надо же! Наверное, смеются все над ним, вот так жилец!
Сразу же явился Женька с шахматами и, смешной, на тонких ногах, обутых в отцовские валенки, стоял посредине комнаты, щурился на солнце и ждал, пока Жмакин мылся, причесывался, готовил чай.
– Будешь со мной пить? – спросил Жмакин.
– Спасибо, – сказал Женька.
Он пил и рассказывал о модели шаропоезда, которую строит Илька Зайдельберг.
– А Клавдя где? – спросил Алексей.
– Пошла с ребенком гулять, – ответил Женька и опять стал рассказывать о шаропоезде. Они играли в шахматы, и Жмакин прислушивался к тому, что делалось внизу. Хлопала дверь – Корчмаренко таскал в кухню наколотые дрова и переругивался со старухой. Потом стало потише, и сразу во всю мощь заговорил приемник, – Корчмаренко сам говорил громко и слушать любил громкое.
«Ллойд-Джордж подчеркнул, – грохотало снизу, – что Советский Союз заявил о своей готовности прийти на помощь западным демократиям. Так почему же, – спросил Ллойд-Джордж, – английское правительство не шло на сближение с Советским Союзом?»
– Он не знает! – гаркнул снизу Корчмаренко. – Объясни ему, жилец!
– Шах королю! – сказал Женька.
– А где нынче Клавдин муж? – спросил Жмакин.
По радио говорили о падении Барселоны. Корчмаренко приглушил звук, – про грустное он не очень умел слушать.
– Так где же нынче муж Клавдин? – опять спросил Жмакин.
– Шах королю! – повторил Женька.
– Сдаюсь! – сказал Алексей. – Где Клавдин муж, Женька?
– По-нарочному сдались, – сказал Женька, – вы ж могли во как пойти. – Он показал, как мог бы пойти Жмакин. – Верно?
– Верно, – согласился Жмакин, – она что, с мужем не живет?
– Кто она?
– Да Клавдя.
– Ах, Клавдя? Нет, не живет, – рассеянно сказал Женька, – у нее муж пьяница, она его выгнала вон.
– Здорово пил?
– Ну, говорю, пьяница, – сказал Женька, – орал тут всегда. Босяк! – Он кончил расставлять фигуры, помотал над доскою пальцами, сложенными щепотью, и сделал первый ход. Глаза у него стали бессмысленными, как у настоящего шахматиста во время игры. – Босяк, – повторил он уже с иным, сокровенно шахматным смыслом, – босяк…
Всю игру он повторял это слово на разные лады, то задумчиво-протяжно, то коротко-весело, то вопросительно.
– И что ж она, не работает? – спросил Жмакин. – Так и живет?
– И живет, – сказал Женька, – и живет. – Его глаза блуждали. – И живет, – без всякого смысла говорил он, – и живет!
Жмакин с трудом удержался от желания шлепнуть Женьку ладонью по круглой голове. Наконец доиграли.
Солнце светило прямо в лицо. Женька сидел, вопросительно склонив белобрысую голову набок.
– Еще? – подлизывающимся голосом спросил он.
– Будет, – сказал Алексей и лег на кровать, подложив руки под голову.
Тогда Женька стал играть сам с собою. Он сопел и хмурился. Его волосы золотились на солнце.
– Женя, – спросил Жмакин, – а где Клавдя работает?
– На «Красной заре», – сказал Женька, – на заре. И на заре, и на… – Он помолчал. – На «Красной заре», и на «Красной заре», и на «Красной заре», – лихорадочно быстро забормотал он, – на «Красной заре»…
– А как же ребенок?
– Что?
– Я спрашиваю – ребенок как?
– Какой ребенок?
Жмакин отвернулся к стене. Женька ничего не понимал. Он все еще бормотал про «Красную зарю». Потом пришла Клавдия. Жмакин спустился вниз. Корчмаренко, старуха и Клавдия – все втроем раздевали девочку. Корчмаренко держал ее под мышками, Клавдия снимала малиновые рейтузы, а старуха возилась с туфлями. Девочка не двигалась – красная, большеглазая, строгая, только зрачки ее напряженно и смешно оглядывали всю эту суету.
– Какова невеста, – крикнул Корчмаренко, завидев Жмакина, – видал таких? Буся, буся, бабуся! – бессмысленно и нежно заворковал он, прижимаясь к внучке бородатым лицом. – У-ту-ту, у-ту-тушеньки…
– Папаша, не орите ей в ухо. Барабанные же перепонки лопнут! – строго сказала Клавдия. – Или опять напугаете.
Девочку раздели, и, переваливаясь с боку на бок, она мелкими аккуратными шажками пошла вон из комнаты.
– У-ту-ту, у-ту-тушеньки! – вдруг крикнул Корчмаренко и сделал такой вид, что сейчас прыгнет.
– Папаша! – строго сказала Клавдия. Она, с улыбкой глядя на семенящую дочь, шла за ней – несла ее верхнее платье.
– Большая, – сказал Алексей.
– А чего ж, – ответила Клавдия.
– На вас сильнее похожа?
– Вся в отца, – сказал Корчмаренко, – такой же бандит будет. И пьяница. Уже сейчас от лимонада не оторвать.
Они вышли в переднюю за девочкой.
– Долго ж вы спите, – сказала Клавдия, по-прежнему следя за дочерью, – я думала, до вечера не проснетесь.
– А чего ж, – передразнивая Клавдию, усмехнулся Жмакин.
Она коротко взглянула да него и тотчас покраснела.
– Может, в шахматы сыграем? – предложил Корчмаренко.
Алексей отказался. Он немного поболтал со старухой в кухне, дожидаясь, когда выйдет Клавдия. Но она, как нарочно, долго не выходила; было слышно тоненькое пение – она пела дочке и не выходила ни в переднюю, ни в кухню. Он постоял в передней, потом сразу вошел к ней в маленькую, тепло натопленную комнату. Клавдия с дочкой сидели на полу, на коврике, возле избы, выстроенной из кубиков. В избе был слон, голова его с блестящими бусинками-глазами торчала в окошке, у хобота был насыпан овес.
– Заходите, заходите, – сказала Клавдия, опять краснея и стараясь закрыть юбкой ноги, – мы здесь дом построили.
– Клавдя, – сказал Жмакин, – поедем сегодня в город, в театр.
Она помолчала, потом осторожно отвернулась.
– Не хочешь? – спросил он.
– Почему? – неожиданно согласилась она. – Поедем. Только в какой театр?
– В любой.
– У вас билетов нет еще?
– Купим, – сказал он, – в чем дело? Пара пустяков!
Он стоял, не зная, что делать в этой маленькой, ярко освещенной и тепло натопленной комнатке. Даже руки ему было некуда девать. Девочка смотрела на него серьезными круглыми глазами.
– Как тебя зовут? – спросил он, садясь на корточки и разглядывая ребенка так же, как разглядывал бы мышь или ящерицу.
– Мусей ее зовут, – сказала мать.
Жмакину показалось, что он уже достаточно поговорил с девочкой. Он поднялся и спросил, не пора ли собираться. Сговорились, что он будет ждать Клавдию на станции, вместе выходить не стоило, – Корчмаренко задразнил бы потом.
– Он привяжется, так не спасешься, – сказала Клавдия, не глядя на Жмакина, – засмеет до смерти!
Она погладила дочку по голове, потом спросила:
– Вас звать Лешей, а в паспорте написано – Николай. Почему это?
– С детства Лешей звали, – помолчав и задохнувшись, но спокойно сказал он, – сам не знаю почему.
Она все гладила дочку по голове.
– Ну ладно, идите, – наконец сказала она, – уже время собираться.
– Да, время.
Он побрился у себя в комнате, пригладил волосы перед зеркалом и ушел на станцию. Уже звезды проступали, все было тихо вокруг, все присмирело, только снег сердито поскрипывал под ногами.
Жмакин, шел, потряхивая головою, чтобы не думать ни о чем. А вдруг он встретит Лапшина в театре? Или Окошкина? И, усмехаясь, он представлял себе, как все это будет выглядеть в глазах Клавдии. Но ему совсем не хотелось усмехаться. Он вздохнул, сплюнул. В калитке показалась кошка, видимо, хотела перебежать дорогу. Он крикнул на нее, хлопнул в ладоши и побежал вперед сам, чтобы она не успела, потом оглянулся и обругал ее, стыдясь своего позорного поведения. К тому же кошка была с белыми пятнами, так что и беспокоиться не стоило. «Чем кончится вся эта волынка, – думал он, покуривая на станции, – когда она кончится?» Уже зажглись в домах огни. Тихо, мерно, уютно гудели в морозном воздухе провода. Он приложился ухом к телеграфному столбу, как делывал в детстве, – гудение усилилось, стало мощным, вибрирующим. «Эх ты, Жмакин, Жмакин, – с тоской и злобой думал он, – пропала к черту твоя жизнь, расстреляют, отправят пастись на луну. Сегодня еще переночую, а завтра уже надо уходить, иначе возьмут. А может, не возьмут? Нет, возьмут, обязательно возьмут. И Лапшин спросит: «Ну что, брат, почудил?»
Он сжал кулаки в карманах пальто и оглянулся – на мгновение показалось, что они приближаются, что они сейчас возьмут, сию секунду! Но их не было, по перрону шла Клавдия в белом беретике, в шубе с маленьким воротничком, в постукивающих ботах. От растерянности он пожал ее руку. Поезд, лязгая замерзшими буферами, остановился. Они влезли в вагон, набитый до отказа. Клавдию прижали к Алексею. Он обнял ее одной рукою, она робко взглянула на него, но ничего не сказала. Их слегка покачивало, свечи едва мерцали в грязных фонарях, пахло военными шинелями, духами, пивом, вагоном. Жмакин поглядел на нее сверху – она точно бы дремала.
– Клавдя! – негромко позвал он.
Она опять робко на него поглядела и медленно улыбнулась. «А что, если ей все сказать, – подумал он, – сказать как, почему? И со слезой? Пожалобнее».
– В какой же театр поедем? – спросила она.
– В любой, – сказал он с таинственной интонацией в голосе, – в какой хочешь.
– Ах ты, Леша-Николай, – ответила она и сильно, с ловкостью высвободилась из его руки. Выражение ее лица было по-прежнему робким.
Нужно еще было придумать, в какой театр пойти. Он не знал театров, а у Клавдии спрашивать, казалось, не следовало.
В Музкомедии уже не было мест. Театрик в Пассаже показался им обоим скучным, а Жмакину очень хотелось, чтобы это их посещение театра оказалось праздничным и как можно более шикарным.
Возле Пассажа на улице Ракова они постояли, подумали, Клавдия улыбалась. Алексей хмурился.
В Малом оперном тоже не было билетов. Жмакин долго приставал к кассирше и лгал, что приезжий, но кассирша даже не слушала, пила в своем окошечке чай и разговаривала по телефону. Клавдия все улыбалась, глядя на Алексея.
У бывшей Думы Жмакин нанял такси, и они поехали в Кировский театр. Клавдия сидела в уголочке, глаза ее непонятно блестели. Алексей придвинулся к ней совсем близко и со зла обнял ее тем привычным жестом, которым обнимал уже многих в своей жизни. Она ничего не сказала, отодвигаться ей было некуда, единственное, что она могла сделать, это дать ему по морде, но она этого не делала. Свободной рукой он погладил ее по колену и немного выше – там, где кончается чулок. Юбка была из тонкой шерсти, и он ясно чувствовал конец чулка, потом гладкую кожу, потом резинку трусиков.
– Пусти-ка, – сказала она.
Он с трудом оторвал руку от ее колена, она что-то поправила, резинка щелкнула, и такси сразу остановилось. Это был театр. Расплачиваясь с шофером, он внезапно вспомнил, что здесь с Гаврюшкой Шестовым они когда-то собирались «взять» квартиру. Вот в этом угловом доме, на третьем этаже. Собрались, но Жмакин отказался, дело могло быть «мокрым», он не пошел на это. И действительно, Гаврюшке не повезло. И Гаврюшке, и другим его товарищам. Их поймали здесь же, в подворотне, сразу после убийства, и Шестов получил вышку.
Ах, шоколад мой американский, А он Гаврюшенька Таганский, Гаврюшку шлепнули, а я остался, И нерасстрелянным я оказался…Жмакин вздохнул, они вошли в театр. Старая женщина в генеральском башлыке продавала два билета. Алексей купил и еще вздохнул.
– Чего это ты все вздыхаешь? – спросила Клавдия.
– Вспомнилось кое-что, – медленно ответил Жмакин. – Товарищ вспомнился, дружок – Гаврюшка. Вот тут, неподалеку, на углу судьба сыграла с ним злую шутку. Шутку-прибаутку. Был Гаврюшка, нет Гаврюшки.
Она молча снимала шубу, развязывала на шее платок. Щеки ее были розовы с холоду, глаза блестели, и пахло от нее морозом.
– Ну?
Он взял ее под руку и крепко прижал к себе. Она засмеялась.
– Ну что ты говорил про Гаврюшку? – спросила она. – Досказывай.
– Не хочу. Сдох – и баста.
Жмакин тоже улыбался. Они зачем-то подымались по лестнице, хотя места их были в партере. Их обогнал человек в гимнастерке военного образца, в сапогах с узкими голенищами. На бегу он обернулся, и Жмакин замер. Это был Бочков.
– Чего ты? – спросила Клавдия.
Он молчал. Сапоги поскрипывали уже совсем наверху. Или не Бочков?
– Чего ты? – дергала за локоть Клавдия.
– Паренек один знакомый, – почти спокойно сказал он, – давно знакомый. Погоди! – быстро добавил он. – Постой здесь!
И побежал по лестнице, оставив Клавдию внизу. Он должен был знать – Бочков это или нет. Обязательно. Если Бочков? Но что, если? Что он может сделать? Уйти? Да, конечно, уйти. Но что сказать Клавде? Леший с ней, не все ли равно! Да, но что ей сказать? «Клавдя, – скажет он, – понимаешь, какое дело?» – «Какое?» – «Это Бочков». Уши совершенно как у него, прижаты. Нет, вовсе даже не в штатском! А этот, с пробором? Нет, это другие. А вот тот, что обогнал на лестнице…
Он продирался сквозь людей, сквозь надушенную, праздничную толпу. Ему непременно нужно было знать – Бочков это или не Бочков, потому что, если Бочков, тогда крышка, хана, амба. Бочков не Окошкин, его не проведешь, от него не уйти никогда, никуда от него не деться.
Выследил?
Но если выследил, то почему не взял в вестибюле?
В гардеробе?
Чего ждет?
Еще одна лестница. На бегу он сунул голову в ложу. Здесь лежали шубы, не в самой ложе, а в комнатке за ней. Две дамские шубы и каракулевая жакетка. Ха, Клаве бы такую жакетку. Он услышал бой сердца и звонок, наверное уже не первый звонок. Из ложи доносились голоса, театр шумел и сверкал. Алексей все еще разглядывал круглые пуговицы жакетки. Потом немножко поднял голову. Голые спины женщин и опять театр, противоположная сторона – ложи и часть партера… Какая-то дамочка смеялась маленьким круглым ртом. Взять? Он сделал легкое движение к жакетке, даже не само движение, а начало его, просто сократились мускулы, приготовившись к движению. Осторожно! Зекс! А если Бочков? И куда потом деть жакетку? На номер?
Он вынул голову из приоткрытой двери, огляделся… Нет, нельзя, нельзя! Коридор уже почти совсем опустел. Старик в галунах смотрит. Нельзя! Он пошел по коридору развинченной походкой – так он любил ходить в минуты особого душевного напряжения. И кто был этот человек в сапогах?
Клавдия по-прежнему стояла на лестнице, лицо у нее было растерянное. Он подошел к ней вплотную, увидел ее лоб, ее брови, ее волосы. Уже совсем пусто было вокруг, только одиночки торопливо пробегали в зал. Теперь он заметил, что лицо у Клавдии вовсе не растерянное, а испуганное.
– Все в порядке, – сказал он. – Слышь, Клавденька?
Он в первый раз ее так назвал, и она еще больше испугалась.
– Ну тебя, – сказала она, – дурной!
Взяла его под руку, и они пошли в зал. Дирижер уже стоял за пультом и стучал палочкой. На них шикали. Алексей огрызнулся на кого-то и наступил на ногу лысому, бородатому человеку. Блестели красные пожарные лампочки. Все шелестело вокруг. Занавес дрожал. Все застывало, напрягалось, приготавливалось смотреть. Гремела увертюра. Жмакин никуда не смотрел – он закрыл глаза. Наверное, полчаса протянется первое действие. За это время никто не возьмет. Это время можно сидеть спокойно. Можно думать. Можно слушать. Сейчас петь начнут. Можно Клавдию за руку взять. Это время Бочков тоже не двигается. Слушает, смотрит. Может, глаза закрыл, жаба! Погоди, дай срок, разочтемся на узкой дорожке.
Он сжал Клавдину руку. Тореадор, тореадор! Дай срок, дай срок! Он вдруг подумал о кокаине – как было бы хорошо сейчас, и все забыть, к черту, совсем. Он еще сильнее сжал руку Клавдии. Рука была влажной, теплой, и шея Клавдии была совсем близко, и вся она становилась с каждой секундой все покорнее и покорнее, а он все больше делался хозяином. Что она, жалеет его или боится, что он пьян, что скандал поднимет? Он почувствовал необходимость выяснить все сразу и нагнулся к ее уху, но ничего не выяснил и только сказал:
– Клавденька!
Она не ответила, но по ее лицу он понял, что она слышала.
А на сцене что-то творилось, все пели вместе, и женщина с цветком в волосах красиво и ловко танцевала.
В антракте он никак не мог решиться – что делать: то ли оставаться на своем месте в зале, то ли выйти в фойе. И там и тут его мог увидеть Бочков и взять. Потом он решил, что все равно – возьмет или не возьмет. Но это должно так случиться, чтобы Клавдия не видела, и поэтому он отделался от Клавдии и пошел в фойе один, стараясь глядеть всем прямо в глаза, будь что будет. Народ гулял по кругу. Бочкова здесь явно не было. Тогда Алексей пошел в буфет и у стойки выпил несколько рюмок водки, и коньяку, и даже вина. Он очень волновался и все думал, что же будет с номером от пальто, если его возьмут. Потом решил, что умолит Бочкова разрешить оставить номер на вешалке.
– Еще стопку, – сказал он буфетчице и поглядел на нее так, как если бы она была Бочковым.
Буфетчица налила.
Он выпил, расплатился и, поежившись, стал в сторонке. Ему сделалось совсем невыносимо. Поеживаясь, сунув руки в карманы, он отправился бродить по театру и сразу же у двери буфета увидел Клавдию в целой компании девушек и парней. Пройти мимо уже было нельзя, потому что Клавдия увидела его и позвала, и ему пришлось подойти. Девушки и парни были, наверное, с той фабрики, на которой Клавдия раньше работала, и все они с любопытством оглядывали Жмакина. Одна девушка что-то сказала другой, когда он подходил, может быть про него, и обе засмеялись. Какой-то парень, веселый, с плутовским лицом, глядел на Жмакина очень неодобрительно. Клавдия стала знакомить его со всеми и сама покраснела. Он вынул одну руку из кармана, но так же сутулился и за все время разговора ничего не сказал. Они все стояли у двери в толпе, и тут должен был пройти Бочков – взять Жмакина на глазах у всех. «Не дамся, – вдруг подумал он, – зарежусь и его порежу. И сам зарежусь, и его…» Он попробовал в боковом кармане нож. Толпа все шла и шла, и было много людей с гладкими волосами, как Бочков, и каждую секунду Жмакин готов был уже вынуть нож и ударить Бочкова правой рукой от левого плеча наотмашь под дых – насмерть. Дурацкие тюремные вирши вдруг пришли в голову:
Я жулик и карманник И очень веселый молодец, Но, к моему сожалению, Мне приходит конец.Бочков не шел. Клавдия что-то рассказывала своим подругам и вся разрумянилась, но глаза ее то и дело с беспокойством останавливались на Жмакине. Наконец зазвонил третий звонок. Побежали. На бегу она спросила, что с ним делается.
– Ничего, – сказал он, – ничего, Клавденька.
До антракта оставалось не меньше получаса, а то и поболее. Неизмеримо мало по сравнению с теми сутками, после которых его, конечно, возьмут из-за проклятого паспорта, но все же целых полчаса или сорок минут Алексей наверняка мог просидеть рядом с Клавдией, держа ее руку в своей, глядя на нее сбоку и слушая пение, могучие, великолепные слова:
Тореадор, смелее в бой, Тореадор, тореадор…Чертов толстяк тореадор! Ему бы хлебнуть того, что хлебает нынче Жмакин! Еще изгаляется там, на своей сцене, воображает!
А Клавдия не смотрела на Алексея, ей интересно было то, что происходит на сцене. Она была разгорячена, от нее шло спасительное, райское тепло, а он мерз и все время как бы чувствовал нож в кармане. Зачем он ему нужен теперь, этот нож? Что он, резаться станет с Бочковым, что ли? Сидеть бы и сидеть так с этой женщиной рядом, держать ее руку в своей, чувствовать, как она вздыхает над горестями этой самой черненькой Кармен, над глупостями того, который ее ревнует, как вся она с ног до головы вздрагивает, когда возникает марш тореадора. И больше ничего не надо человеку.
«Может, я влюбился? – подумал с удивлением Алексей, – может, я присох к ней?»
– Послушай-ка, Клавденька, – прошептал он и ничего больше не сказал, показалось, что она все понимает и ни в каких словах совершенно не нуждается.
Потом он с опаской стал ждать последнего антракта. Теперь Жмакин твердо решил не прогуливаться больше с Клавдией. Если ему суждено, то пусть возьмут без нее. Пусть она не видит этого позора. Был и пропал, был и нету, был и кончился. И Лапшина он упросит никому никаких справок о нем не давать. Да, впрочем, и не отыскать ей Жмакина, ведь она думает, что он Ломов. И станет ли она искать?
В антракте он сказал, что пойдет покурить. Она осталась – задумчивая, тихая, милая, настороженная. Медленным шагом он добрался до большого буфета и спросил стопку коньяку, ему казалось, что это помогает «от нервов». Ему налили. И тотчас же он увидел Бочкова. Тот стоял к Жмакину боком и чему-то улыбался, разговаривая с черненькой, хорошенькой, красногубой женщиной. В руке у нее была тарелочка с пирожными, а Бочков наливал лимонад ей в стакан и рассказывал что-то, наверное смешное, потому что она отмахивалась от него, и улыбалась, и качала своей черной, с пробором, головой. И маленькие сережки у нее в ушах поблескивали.
«С жинкой он пришел, – тоскливо и в то же время обрадованно, завистливо и теперь спокойно подумал Жмакин. – Пришел с супругой в театр, честь по чести, никого не боится и ест себе пирожные. И он здесь хозяин, хотя выходного костюма не имеет, а, видать, как на работе, так и тут – в гимнастерке, ремень солдатский, сапоги. А я вот вырядился, но я боюсь и вечно буду бояться и трястись, и нет мне даже минуточки спокойной, провались она к черту, вся эта моя жизнь!»
Они смеялись и говорили, а он, держа стопку коньяку в руке, не мог разглядывать Бочкова в упор. И совсем уж глупо было не сдвинуться с места, когда они прошли мимо него. Он только слегка отвернулся и услышал слова бочковской жены:
– Муж, объелся груш…
– Да ну, Галочка, – ответил Бочков, и больше ничего не было слышно в шуме и гаме огромного буфета.
«Галочка! – без всякой злобы подумал Жмакин. – У него Галочка, а у меня Клавочка, но как же мне теперь жить? Как? Кто научит?»
– Кого видел? – спросила Клавдия, когда он вернулся и сел с ней рядом. – Наших видел?
– Ваших не видел, а своего одного видел, знакомого старого, – протягивая ей шоколадку, сказал Жмакин. – Бочков с супругой – Галочка ее звать. Интересная женщина.
– А он кто?
– Сыщик он, – ответил Жмакин. – Толковый мужчина. Сам в прошлом бухгалтер, финансово-экономический институт кончил, или вроде этого. Голова не задом наперед привинчена, к нему попадись, знаешь…
– Почему – попадись?
– А потому что лучше не попадаться! – невольно смешавшись, сказал Жмакин. – Особенно если по части там подделок документов или, знаешь, растратчики. С виду простецкий парень, а ловкий. И честный очень…
– Разве в наших органах нечестные люди могут быть?
– Я точно знаю, – блестя глазами и не слушая Клавдию, говорил Жмакин, – от верных людей знаю, ему тридцать тысяч на блюдечке принесли, чтоб он дело замял, так ничего подобного. Денежки пересчитал, в звонок позвонил, и пожалуйста вам – небо в крупную клетку.
– В какую – крупную? – не поняла Клавдия.
– Это у них такое выражение имеется – означает сесть за решетку. Специфичное.
– Ты так говоришь, словно сам там работаешь, – сказала Клавдия. – Все тебе известно.
Жмакин ответил скромно:
– Все не все, но некоторые частности известны. В жизни всякое повидал, научился разбираться…
Свет в зале погас, дирижер поднялся к своему пульту, встряхнул кудлатой головой и сердито постучал палочкой.
– Тоже, начальник! – сказал Жмакин. – Куда ни глянь, везде начальники.
Клавдия боком взглянула на него и усмехнулась.
Смерть Кармен не произвела на Жмакина никакого впечатления. Это его не касалось. Ему важно было знать, как жить самому. И только, и больше ничего. И контрабандисты ему не понравились.
– Я одного знал, – говорил он Клавдии, когда они одевались. – Такой мужчина с пузиком, сам, между прочим, баптист. А тут развели бодягу…
– Кого ты только не знал…
– Были встречи! – загадочно ответил Жмакин. – Под небом знойным Аргентины…
Назад они ехали тоже в такси, и не до вокзала, а до самой Лахты. Было очень холодно. Шофер попался старый и рассерженный. Тотчас же за лесопильным начало сильно трясти, расхлябанный автомобиль так грохотал, что говорить сделалось невозможно. Клавдия сидела в уголке, поджав ноги и глядя на прыгающие за слюдяным окном снега, на желтую луну, на убегающие назад огни города. Жмакин закрыл глаза, спрятал руки в карманы, надвинул кепку поглубже. Несомненно, он вел себя глупо, глупее глупого. Клавдия подозревала. Зачем он швыряется деньгами? Вот нанял такси и заплатит рублей сорок, никак не меньше. Что она думает о нем, сидя в углу? Он покосился на нее уже враждебно. Или накупил в магазине вина и закусок и дорогих невкусных папирос. И сыру, которого терпеть не может. Зачем? Корзина стояла в ногах, он слегка уперся в нее носком сапога, ее легко раздавить. Автомобиль вдруг стал приседать на левую сторону, потом остановился. Шофер велел вылезать. Клавдия уронила перчатку и нагнулась, чтобы ее поднять. Шофер прикрикнул.
– Что? – спросил Жмакин.
– Поторопиться прошу, – сказал шофер, сбавляя тон.
– Просишь? – спросил Жмакин.
– Так точно, прошу, – роясь в инструментах, сказал шофер.
Жмакин ему нарочно не помог менять резину.
– Мы пойдем, – сказал он, – а ты нас догонишь.
И, крепко взяв Клавдию под руку, пошел. У столбиков Клавдия неожиданно тяжело на него оперлась. По-прежнему она даже не взглянула на Жмакина. Они шли молча. Да и о чем им было говорить? Он спросил у нее – холодно ли ей? Она сказала: «Да, немножко холодновато». Но когда он предложил ей свой теплый шарф, она отказалась. Он старался вести ее побыстрее, чтобы она не очень застыла, но она точно упиралась.
– Устала? – спросил он.
– Нет, – не сразу ответила Клавдия.
Наконец машина догнала их. Они опять сели. Он вдруг почувствовал, что Клавдия дрожит.
– Ну вот, – сказал он, – теперь простудишься.
Он поднял повыше ей воротник, застегнул пуговицу у горла и обнял ее за плечи. Она прижалась к нему, и он почувствовал, что она вовсе не дрожит и что плечи ее вздрагивают, что она плачет. С беспокойством, со злобой и с жалостью – на него всегда слезы женщин так действовали – он спросил ее, что с ней. Она не отвечала. Потом высвободилась от него, вытерла лицо перчатками, высморкалась и опять стала смотреть в прыгающее слюдяное окошко, Жмакин молчал, ничего не понимая. Так они доехали до дому. Пока он расплачивался с шофером, она отворяла двери своими ключами. Он поднялся в мезонин. В печке еще тлели уголья. Он подбросил дров, засветил лампу, сел на постель не раздевшись, почувствовал себя очень усталым. Клавдия ходила внизу, умывалась, он слышал плеск воды в кухне и бренчание рукомойника. Потом зашла к нему. Он встал ей навстречу. Она сильно напудрилась и переоделась в домашнее, застиранное платье с пояском на пуговках. На плечах у нее был платок.
Она молча улыбалась. Он подошел к ней вплотную, напряженный, измученный, поглядел на нее, потом сказал:
– Давай покушаем.
Она ответила:
– Давай.
Села, сбросила с одной ноги туфлю и спрятала ногу под себя. Он снял пальто, расставил на столике еду, налил водки в розовую чашку, но Клавдия пить не стала.
– И ты не пей, – сказала она, отодвигая от него чашку.
Но он выпил и эту чашку, и еще две. Он очень волновался. Ему все казалось, что Клавдия встанет и уйдет.
– Ты не скучай, – говорил он ей, – ты кушай. Ты не смотри на меня, что я не кушаю, я, когда пью, я не могу кушать. На-ка, съешь яблоко.
Она не ела и улыбалась.
– Что ты улыбаешься, – спрашивал он раздраженно, – чего нашла смешного?
– Так, – отвечала Клавдия.
Водка согрела его, он раздражался все больше, ему не нравилось, что Клавдия улыбается.
– Ничего смешного, – говорил он, наливая в чашку портвейн, – на, выпей.
– Не хочу.
– Дамское же, сладенькое.
– Не буду.
– Тогда я выпью.
– Пей, если дурной.
Он выпил сладкое противное вино и закурил папиросу. Он косил немного. Алкоголь сделал его вдруг настороженным, подозрительным.
– Ты за мной не следи, – сказал он, – не следи, что у меня много денег. Я на транспорте премию получил и теперь гуляю. Как ты считаешь – могу я гулять на премию?
Клавдия перестала улыбаться.
– Можешь, Коля, – сказала она твердо.
Он взглянул на нее, ему показалось, что она издевается над ним, – почему Коля? И встретился с ее глазами. Теперь он вспомнил, почему Коля.
– А как твоего мужика звали? – спросил Жмакин. – Которого ты метлой? Как его звали?
– Алексеем. Лешей.
Он засмеялся и покрутил головой. Клавдия сидела серьезная, кутаясь в платок.
– Дочка спит?
– Спит.
– А мы гуляем, – сказал Жмакин, – верно? Все спят, а мы гуляем. И дочка спит, и гражданин Корчмаренко спит, и Женька спит. А у нас вся жизнь в огнях.
– Где же ты огни увидел? – спросила Клавдия.
– Все в порядке, – сказал Жмакин, – все, Клавочка, в порядке.
Она внимательно на него посмотрела, потом вздохнула.
– Пьяненький?
Встала, подошла к нему, взяла его за волосы и отогнула ему голову слегка назад.
– Псих ты, – медленно говорила она, – что ты за человек такой? Пьяный, совсем пьяный…
Он закрыл глаза: ему сделалось легко, немного качало.
– Клавдя, – сказал он, опять открыв глаза, – Клавденька…
Ему захотелось плакать. Она гладила его по лицу, потом он почувствовал, что она целует его мягкими, горячими раскрытыми губами в щеки, в переносицу, в висок.
– Клавдя, – говорил он тихо и покашливал. – Клавденька, выходи за меня замуж. А? Я тебя с дочкой возьму. И поедем куда-нибудь. На линию. – Он вспомнил это слово и убежденно его повторял. – На линию поедем. А? И на линии, знаешь? Устроимся. Чего тебе здесь?
Он налил себе еще из бутылки и выпил, потом протянул Клавдии яблоко.
– На.
Она взяла, смеясь.
– Ешь.
Она откусила.
Жмакин потирал лицо ладонью. Мысли разбегались, он не мог их собрать.
– Я, Клавдя, напился, – сказал он, – но это ничего не значит. Все будет в порядочке… Выйдешь за меня?
– Нет, – сказала она серьезно.
– Почему?
– Не выйду, – сказала она. – Ты пьяненький и болтаешь пустяки разные. Иди лучше спать ложись, и я пойду. Ночь уже.
– Ты не пойдешь, – сказал он.
– Почему?
– Ты здесь ляжешь!
Он поднялся и с трудом подошел к ней. Она молчала. Жмакин неловко обнял ее за шею и поцеловал в горячий рот.
– Клавка, – сказал он, – живо!
– Не дури, – строго ответила она, – какой командир!
И отошла к печке. Он смотрел, как она швыряла дрова в огонь, как заглянула – хорошо ли горят, как поднялась и поправила платок на плечах. Он сел на постель. Его раздражало Клавдино спокойствие, ее уверенность, неторопливые и плавные движения.
– Поди сюда, – сказал он.
Она подошла. Кровать была невысокая. Жмакин, не вставая, обнял ноги Клавдии выше колен. Она уперлась ладонями в его плечи. Он уже ничего толком не соображал, но она все же вырвалась от него и прикрутила фитиль в керосиновой лампе, потом дунула в стекло. Сразу обозначился серебристый квадрат окна. В комнате стало теплее и тихо сделалось так, что Жмакин услышал, как Клавдия расстегивает на себе какие-то кнопки. Одна не расстегнулась, и Клавдия дернула материю с такой силой, что материя разорвалась. Он сидел в той же позе, упираясь руками в колени и глядя в темноту, туда, где, вероятно, раздевалась Клавдия. Она сбросила туфли. Потом он услышал шелестящий легкий звук снимаемых чулок. Потом что-то стукнулось едва слышно – вероятно, пряжка от подвязки, и тотчас же Клавдия оказалась перед ним, но он ее не увидел, она встала на кровать, отбросила ногой одеяло и легла, закрывшись до горла.
– Ну, – сказала она, – Коля!
Он разделся и лег рядом с ней, не веря всему тому, что произошло, и немного уже презирая Клавдию, как привык презирать тех женщин, которые ему отдавались.
– Коля, – говорила она едва слышным шепотом и целовала его в грудь, в шею, в плечи.
Он слышал и не слышал чужое имя, которое она произносила, видел и не видел ее белое искаженное лицо. Потом она замолчала. Глаза ее раскрылись и вновь закрылись. С каждым мгновением все ближе становилась она ему. Она была близка и дорога ему даже тогда, когда все совершенно исчезло, когда исчез он сам, – она существовала. Он был уже трезв и не был более одинок. Ни о чем не думая, легкий, счастливый, он целовал ее плечи еще дрожащими губами. Потом он закрыл глаза. Сердце его билось все ровнее и спокойнее, он лежал навзничь, вытянувшись, и чувствовал себя сильным и добрым – таким, за которым не страшно.
Клавдия приподнялась на локте и наклонилась над ним. Ее волосы коснулись его лица. Она дышала горячим открытым ртом, он не видел ее, но понимал, что она прекрасна, и обнял ее за шею обеими руками. Он не поцеловал ее, а только прижал ее лицо к своему и заснул так мгновенно, на секунду, и так проснулся – с тем же чувством счастья. Она принадлежала ему, а он все не мог поверить этому. Она понимала это и, ничего не говоря, без слов, сама собою доказывала ему, что он не прав, что она вся здесь, что больше ничего не остается, что ничего решительно не скрыто от него, что он единственный и настоящий хозяин. Непонятным своим женским чутьем она угадывала, что ему неприятно имя Николай, и перестала его так называть. Он был горд, зол и одинок, и, несмотря на жалость к нему, она ничем не показала, что жалеет его и понимает, как ему плохо.
Так прошла почти вся ночь. Под утро Клавдия встала, накинула на голое тело платье и босиком пошла вниз посмотреть на дочку. Дочка спала с бабушкой, и там все было благополучно. Клавдия вернулась, но Жмакин не мог ее отпустить, и она опять легла к нему. Он был теперь не одинок, так казалось ему порою, но тотчас же он чувствовал себя таким одиноким, каким никогда еще не был. И это чувство одиночества возникало из-за Клавдии, из-за того, что он все ей лгал и думал, что она верит его лжи. А она не верила, но не смела сказать, что не верит, чтобы не оскорбить его или не напугать – он был еще далек ей, хоть она и знала, что он будет ей близок, что он раскроется, что она заставит его все рассказать, и если это рассказанное окажется плохим, то она заставит его все переменить. Огромная сила любви и нежности к нему могла сокрушить горы, и Клавдия уже ничего не боялась; нужно было только немного выждать, и все тогда наладится, и все будет превосходно, отлично. Она знала, что он счастлив с нею, и благодарен ей, и удивлен, что такое бывает на свете – у него еще не было своей женщины, своей любви, – что это только сейчас ему открылось, что он плохо верит всему этому. «Ничего, – думала она, целуя и разглаживая ему волосы и глядя в его зеленые, потерянные сейчас глаза, – ничего, все будет иначе, все будет лучше, все будет прекраснее…»
А он, словно читая ее мысли, неожиданно и быстро сказал:
– Клавдя, ты про меня некрасиво не думай. Слышишь? С человеком разное бывает, так у меня в данный период неприятности.
Клавдия молчала.
– С одной стороны премия, и я гуляю, – говорил он, – а с другой на линии на меня накатка…
– Что значит «накатка»? – спросила она.
– Ладно, Клавка, – тихо сказал он, вновь притягивая ее к себе. – Не думай никогда ничего. Неприятности – и все. Недоразумение. Ясно?
– Ясно, – вздохнула она, – ясно. С одной стороны, премия, и ты гуляешь, а с другой – на линии «накидка».
– Накатка! – вяло поправил он.
Она ушла, когда уже рассвело, – ослабевшая, со звоном в ушах, ничего не понимающая. Она оставила его спящим. Алексей лежал навзничь, его рот был полуоткрыт, светлые тонкие волосы спутались. Клавдия укрыла его одеялом по голую татуированную грудь, поплакала немного и пошла.
В феврале
Мирон Дроздов и еще одно письмо
– Ох, и опера! – сказал Бочков Побужинскому. – Очень, ты меня прости, Виктор, доволен я, что у тебя зубы разболелись, иначе бы не собраться. И Галина довольна. Вообще, люблю я этот наш театр. Конечно, Иван Михайлович правильно говорит – многого мы не понимаем, но все-таки театр – это должен быть праздник. И здание чтобы красивое было, и музыка, и артисты…
Побужинский слабо охнул от горячего супа, схватился за щеку, минуту помотал головой, потом, когда «отпустило», возразил:
– Что значит «все красиво»? А допустим, Горького произведение «На дне»? Там тебе никто не поет, и красоты никакой нет, одни, можно сказать, лохмотья, а разве не забирает за душу? Между прочим, Николай Федорович, «старик» наш вчера тоже был в театре.
– А я его не видел.
– Да не в Академическом, а в нашем. «Марию Стюарт» смотрел.
– Откуда это тебе известно?
– Окошкин стукнул. Очень, говорит, довольный Иван Михайлович из театра вернулся. И хотя из жизни королев и всяких ихних интриг, но похвалил. Василий считает, что, может, «старик» теперь в конце концов и женится.
– На ком это? – удивился Бочков.
– А на Марии Стюарт. На Балашовой. Великолепно, Окошкин говорит, играла.
– Что ж ему, на всех жениться, которые хорошо играют? И почему обязательно жениться, ты мне объясни, Виктор?
– Да какая-то неполноценность есть в человеке, если он неженатый, – задумчиво произнес Лобужинский. – Особенно если это человек немолодой.
Бочков насупился:
– Значит, Иван Михайлович неполноценный?
– Почему?
Доев суп, они посовещались и заказали себе по шницелю. Но Побужинский раздумал, позвал официантку и попросил:
– Перебей мне, Нюра, на биточки. Мне шницель не поднять с моим состоянием полости рта…
Он давно ухаживал за белокурой Нюрой и нынче стеснялся своей раздутой щеки. И стеснялся, что, пригласив Анну вчера в театр, не смог пойти. Ему уже было известно, как она ждала его под аркой, но объясниться по этому поводу он еще не успел.
– Вот, Анюта, за нас с тобой Николай Федорович с супругой вчера побывали на «Кармен», – сказал Побужинский, когда Нюра принесла биточки, – но мы непременно пойдем, ты не обижайся…
– Очень надо! – ответила Нюра.
– Быть тебе скоро полноценным человеком! – посулил Бочков и ушел из столовой, чтобы не мешать товарищу в трудном деле примирения с оскорбленной Нюрой.
Выкурив папироску, он засел за липовые документы по делу Тамаркина, быстро выписал в блокнот несколько цифр, выругался, что нет под рукой счетов, и сложил в уме. Получилась недурная цифра. В это мгновение зазвонил телефон, и он услышал голос Лапшина:
– Николай Федорович? Ну как «Кармен»?
– Здорово, – сказал Бочков. – Замечательно. А как «Мария Стюарт»?
– Ишь, уже знает. Сильный спектакль, и пьеса хороша. Вот взял в библиотеке, перелистываю. Фридрих Шиллер. Окошкина там нет?
– Был, убежал, товарищ начальник. Он же с охотниками занимается.
Лапшин помолчал, Бочков почувствовал, что Иван Михайлович смеется.
– Опять Окошкину письмо прибыло от Жмакина, – сказал Лапшин. – Целый, понимаешь, пакет. И надписи – «Не вскрывать, лично, секретно…»
– Не вскрыли?
– Зачем же! Вскроет сам лично товарищ Окошкин…
Бочков тоже засмеялся. Окошкинскую историю теперь знали все в отделе, и бедному Василию проходу не было – эту казнь придумал для него Лапшин.
Трубка щелкнула, Бочков вновь вернулся к своим цифрам. Пожалуй, эту работу он любил не меньше, если не больше, чем оперативную. Здесь тоже виделись ему засады, увертки, почти непреодолимое упрямство, здесь тоже нужно было разгадывать, решать, делать точные и строго рассчитанные выводы. И, покуривая дешевую папироску после шницеля с картофельным пюре, Бочков находил для своего государства сотни тысяч рублей, совершенно не придавая значения суммам, а лишь выполняя свой долг, долг часового, поставленного охранять народное добро. Это, впрочем, не совсем точное определение он выдумал сам, и оно ему очень понравилось – и мозглыми ночами в болотах, когда ловил он конокрадов, и в прокуренной комнате за всякими дебетами, кредитами и сальдо, и в скучных засадах, и во время допросов, которые вел он всегда точно, умно, жестко и, по словам Лапшина, «нацеленно».
Распахнулась дверь, влетел Окошкин – красный, с блестящими глазами, сердито-гордый. Бочков вскинул глаза, присмотрелся. Таким Василия Никандровича он, пожалуй, еще не видывал.
– Я за советом, – сказал Вася и, близко придвинув стул к Бочкову, начал чиркать своей знаменитой зажигалкой.
– Возьми, вот спички, – сказал Бочков.
– Я к Ивану Михайловичу боюсь идти, – пояснил Окошкин, – у меня полоса такая, неполадка за неполадкой. Может, я вправду очумел маленько. Ты, Николай Федорович, не смейся, но сам знаешь – пришла беда, отворяй ворота. А нынче, даже представить себе не могу, может, это опять прокол будет, но в Ленинград приехал человек, который жил в одной квартире с Самойленко, когда тот ушел на охоту. И он, может быть, даже знает, с кем именно Самойленко в последний раз ушел. Можешь себе вообразить?
– Что ж его не опрашивали ни разу все это время? – холодно осведомился Бочков.
– То-то и оно, что не опрашивали! – воскликнул Окошкин. – То-то и оно! Тут цепь случайностей. Самойленко утром ушел на охоту, а этот инженер, этот самый товарищ, в тот же день уехал надолго за границу. И вот все думали, что Самойленко уходил один, а дворничиха Васильева Анастасия Филипповна, которая уже давно не работает и тогда тоже не работала, но зашла навестить племянника, сама видела, как только часа в четыре дня за этим самым геологом прибыла машина и он с чемоданом и пакетом уехал. Ему должно быть точно известно: один уходил или не один.
– Интересно! – произнес Бочков.
– А? – крикнул Окошкин. – Верно ведь?
– Ты с ним не беседовал?
– С геологом-то? Да, Николай Федорович, думаешь, так просто? Он человек масштабный, занятой, в годах в больших, как подступиться?
– Поезжай, отыщи и расспроси, – сказал Бочков. – Действуй быстро, решительно, спокойно. Если это все так – значит, порядок. Ивану Михайловичу докладывать сейчас ничего не надо, он занят, да и не разорваться ему со всей нашей бригадой. Быстренько, Окошкин!
Василий Никандрович нахлобучил шапку, вздохнул и медленно пошел по тусклому коридору Управления. Он устал, хотелось есть, было неловко тревожить человека, только что приехавшего из-за границы, пожилого, чуть ли не профессора, вопросами о давно погибшем Самойленко.
Но геолог принял Окошкина против ожидания очень вежливо и даже гостеприимно. Угостил Васю сигарой, от которой того чуть не стошнило, подумал и, прохаживаясь по толстому ковру, сказал:
– Видите ли, мой друг, Самойленко был человеком нелюдимым, довольно одиноким, как вам известно, вдовцом. Старый рабочий, коренной петербуржец, натура цельная, великолепный токарь. Сюда на улицу Пестеля он перебрался, овдовев, незадолго до моего отъезда. И все-таки у нас с ним были недурные отношения. Мы оба чаевники, вот на этой почве и сошлись. И охотники оба – я несостоявшийся, а он состоявшийся. У меня и ружье отличное, а у него дрянь, я и книг массу на этот предмет проштудировал, а он ни одной, я и на тигров охотился, а он тигра только в зоосаде видел, тем не менее он был великолепным охотником, я же – никаким, потому что он был талантлив в этой области, а я бездарен…
Окошкин слушал напряженно, вглядывался в геолога до боли в глазах – в этот халат с широкими рукавами, в крученые шелковые шнурки, в набрякшее лицо с подстриженными усами, вглядывался и не понимал, о чем, собственно, идет речь, вплоть до того мгновения, когда услышал совершенно поразившую его фразу:
– Тогда он отказался брать меня с собой на охоту и стал ездить с двумя парнями, кажется братьями, фамилию которых я нынче запамятовал. Спортивной внешности юноши, очень приятные, воспитанные, из интеллигентной семьи…
– И в этот день… вот в четверг шестнадцатого… – слегка даже заикаясь, перебил Окошкин, – он тоже с ними поехал? С братьями?
Геолог потер пальцами виски, подумал и ответил:
– Знаете… боюсь сказать… Он уезжал рано, на рассвете, я еще дремал, хотя мне предстоял тоже отъезд, и длительный притом.
– Но голоса… голоса вы слышали, товарищ профессор? Их голоса?
– Меня зовут Георгий Андреевич, – произнес геолог. – И я не профессор. Что же касается голосов, то что-то слышал, но чьи именно голоса, не упомню.
– Не этих братьев?
– Может быть, и они были. Но я исключаю возможность убийства, даже если бы мальчики и поехали с ним. Совершенно интеллигентные юноши, если я не ошибаюсь, кстати, они-то из профессорской семьи.
– Хорошо бы вспомнили вы их фамилию, – попросил Окошкин, – или, может быть случайно, адрес.
– Адрес – Фонтанка, – морща лоб, сказал Георгий Андреевич. – Это совершенно точно. На Фонтанку, не доезжая Невского, я их однажды на машине вместе с Самойленко подвозил.
Окошкин поднялся. В ушах у него звенело. Ему не нужна была теперь фамилия братьев. Ему нужен был только Лапшин, возможно скорее Лапшин. Братья Невзоровы жили именно на Фонтанке, не доезжая Невского, и братья Невзоровы утверждали, что никакого Самойленко они и в глаза никогда не видели. Значит… Впрочем, Василий Никандрович даже не решался додумать до конца, что все это значит.
Лапшин сидел один, когда Окошкин к нему постучался. Слушая Василия, он чинил карандаши – граненый красный, потом граненый синий. Окошкин знал, что Иван Михайлович всегда чинит карандаши, когда волнуется… Потом, вскинув на Окошкина светлые глаза, Лапшин сказал:
– Хорошо, Вася. Очень хорошо! Мы их непременно всех тут на минуточку сведем, очную ставочку сделаем, и будет у нас порядок.
– Без меня?
– Почему же без вас? – опять переходя на официальный тон, произнес Лапшин. – Конечно, при вашем участии. И кстати, тут ведь что еще важно, товарищ Окошкин, что чрезвычайно важно. Жмакин, ваш друг – кстати, тут вам еще одно письмо от него поступило, – и он бросил Окошкину через стол пакет, – на ваше имя… Так вот этот Жмакин самый первый свой срок получил именно за Невзоровых, по их показаниям. Тут с особой тщательностью нужно разобраться и все как следует взвесить и продумать…
Окошкин моргал. Пакет жег ему руки, все толковое, что сделал он за сегодняшний день, растаяло, вновь он стал конченым человеком, несчастным и погибшим.
– Ладно, идите к себе, ознакомьтесь с вашей почтой, – велел Лапшин, – а часов, что ли, в девятнадцать поговорим совместно о деле Самойленко… – Он подумал и добавил: – Самойленко – Невзоровых. Так?
– Есть, товарищ начальник, – вставая, сказал Окошкин.
Он мог еще получить пулю в спину, но Иван Михайлович не сказал больше ничего о пакете Жмакина. Бочков за своим столом все еще считал, копаясь в толстых книгах. Побужинский ласково допрашивал кого-то из шайки Мирона Дроздова. Окошкин воровато огляделся и сел спиной ко всем – читать жмакинское послание.
– Рисует, между прочим, Жмакин исправно, – сказал Бочков, встав у плеча Окошкина. – Тут кое-какие детали хорошо подмечены.
Погодя он подошел, ласково положил убитому Окошкину руку на плечо и тихо посоветовал:
– Не огорчайся, Васюра. Все проходит, как выразился кто-то из мудрецов. Лучше расскажи, как там с твоим профессором…
Окошкин начал рассказывать, в это время к Лапшину провели Дроздова.
– Селям алейкум! – сказал он Бочкову. – Привет, Николай Федорович!
И Окошкину он тоже помахал рукой.
– Ну так как? – спросил Лапшин, когда Дроздов сел и закурил папиросу. – Вы будете говорить, или мне рассказать ваше последнее дельце?
– Сначала, может быть, установим для точности адрес?
– Геслеровский шесть, – сухо сказал Лапшин.
– Ваш верх! – согласился Мирон. – Наводку на гражданина Каравкина сделал Соловейчик из артели «Прометей». Он с нами связан не первый год.
– Врете! – усмехнулся Лапшин.
– Гражданин начальник…
– Врете! Соловейчик умер два года тому назад в Херсоне. Вы плохо осведомлены. О том, что Каравкин – преступник и что у него много денег на дому и немало ценностей, знал только один человек…
Дроздов медленно бледнел.
– Этого человека Каравкин покрывал и снабдил его даже некоторыми документами, разумеется липовыми. Этот человек, способный на все, решительно на все, потому что его давно ждет расстрел, этот человек продал Каравкина вам за хороший документ. Вы его снабдили паспортом. Так? Человек этот не кто иной, как Корнюха, тот самый Корнюха, которого вы будто бы совершенно не знаете. Помолчите, Дроздов, я сейчас вас не спрашиваю, и теперь явка с повинной не пройдет.
– Сделайте мне очную ставку с Корнюхой! – почти взвизгнул Дроздов. – И прошу меня на бас не брать, я не маленький!
– Я тоже, Дроздов, не маленький! – сказал Лапшин. – Слушайте меня внимательно. Каравкин положился на Корнюху, думая, что тот в его руках. Но люди типа Корнюхи ищут где глубже. Ему нужно было уйти от Каравкина, перестать зависеть от него, исчезнуть. И он перекинулся к вам, попросив очень небольшое, с вашей точки зрения, вознаграждение. Так как Корнюха был своим в семье Каравкина, то он точно выяснил для вас, что Каравкина вызвали в правление и что он там будет не менее двух часов. Именно Корнюха позвонил в квартиру семнадцать после часа дня, вошел и сказал, что Каравкин арестован нами. Супруга Каравкина – Анна Александровна – по совету Корнюхи собрала в желтый кожаный чемодан все деньги, бриллианты, золото и прочее. А вы с вашими мальчиками ждали ее в подъезде. Вас было трое. Когда Анна Александровна захлопнула за собой дверь, вы вежливо задержали ее, отрекомендовались сотрудником уголовного розыска, изъяли чемодан, сели в машину и уехали. Операция эта на вашем языке называется «разгон», так? И при всем этом вы были совершенно уверены в успехе, так как знали, что Каравкин не поднимет шума, потому что деньги его и ценности – краденые. И Каравкин действительно шума не поднял. И не поднял бы…
– Так как же? – сухими губами, едва слышно спросил Дроздов. – Так как же вы…
– Вам желательно узнать, как же? – лениво усмехнулся Лапшин. – Нет, Дроздов, вам это не узнать. Во всяком случае, не так же, как об этом пишут в книжках. Совсем не так же. Ну а теперь будем писать.
– Шофер был ваш, – сказал Дроздов. – Я тоже как-нибудь разбираюсь.
– Шофер-сыщик, это я видел в кино, году в двадцать шестом, – сказал Лапшин. – Может быть, мы даже вместе видели, вы тогда очень любили кино, Дроздов…
Мирон вздохнул.
– Мало ли что я любил! – сказал он, подвигая к себе чернильницу, перо и бумагу. – Мало ли что? А чашечку черного кофе по-турецки в Батуми? А лангусты? А макрель с холодным белым вином?
– Где Корнюха? – внезапно, грубо и угрюмо спросил Лапшин.
– Я не приставлен к вашему Корнюхе! – нагло ответил Дроздов. – Откуда я могу знать, что этот губастый наводчик и есть Корнюха?
Лапшин молча поднялся и пошел к окну. На площади уже зажглись фонари. Вечер был бесснежный, морозный, сухой. Там, где-то в этом вечере, ходит Корнюха, мучается Жмакин, позванивают коньками братья Невзоровы. Нелегкий нынче день, и завтра будет не легче, и послезавтра.
– Когда кончите с делом Каравкина, напишите подробно всю историю ограбления завхоза Федулина, – будничным голосом произнес Лапшин. – Вы слышите, Дроздов?
– Что я – писатель, все время писать? – ответил Мирон. – Кто вам дал дело, пускай и пишет.
– Двое уже написали – Маркевский и Долбня.
– Написали? – воскликнул Дроздов.
– А почему же не написать? Картинка ясная, запираться глупо. А вы все не дураки.
– Это разумеется, – согласился Дроздов. – Просто, гражданин начальник, я не люблю процесс писания. Рука устает, честное слово.
– Оно так, – подтвердил Лапшин, – тем более вам, Дроздов, длинно приходится писать, голова-то всей шайке – вы, вам с горы виднее.
Некоторое время Мирон молча писал, потом осведомился:
– Кстати, гражданин начальник, я могу надеяться на получение передачи? У меня тут проживает одна дама, она уже не очень молодая, но я лично помню ее «еще светлокудрой», как написано у поэта.
– Адрес и фамилию дамы тоже напишите! – посоветовал Лапшин. – Мы с ней побеседуем, а там видно будет.
– А это по-джентльменски?
– Абсолютно. Тем более, что фамилия дамы – Жерносеков и зовут ее Севастьян Модестович. Так, Дроздов?
– Какой-то вы прямо гипнотизер! – сказал Мирон. – Чтение мыслей на расстоянии. Если хотите знать мое искреннее мнение, то вы блестящий работник, и я совершенно не понимаю, почему вы еще не самый большой начальник по нашей части.
Когда Дроздова увели, Лапшин позвонил Николаю Федоровичу и велел прислать Толю.
– Он свою кашу пошел есть! – ответил Бочков.
Толя был самым молодым в бригаде и, как выразился о нем однажды Криничный, «настырно храбрым». Либо он что-то доказывал сам себе, либо закалял свою волю, либо рисовался перед более опытными работинками – понять было трудно, но во всяком случае хлопот он доставлял немало. И сейчас Иван Михайлович решил провести с Грибковым душеспасительную беседу.
– Вот что, – прикрывая трубку ладонью, негромко говорил Лапшин. – Вот что, Николай Федорович, посмотри ты, пожалуйста, за ним, вернее – присмотри. Как говорится – греха бы не случилось. Лезет парень на рожон.
– Трудный случай! – со вздохом сказал Бочков. – Исключительно трудный. У Анатолия, главное, еще теория своя есть.
– Какая такая теория?
– А он ее сам доложит, не утаит. Он ее любит развивать – эту самую теорию. И вам разовьет. Да, очень трудный случай…
– Да чем трудный?
– Горит парень, Иван Михайлович. И я вам прямо заявляю: когда смотрю на комсомольский значок Грибкова, думаю – хорошо батьке, родившему такого сына.
– А как его батьке будет, когда такого сына, например, ранят? Инвалидом сделают? Ты об этом думал или не думал, Николай Федорович?
Бочков молчал.
Лапшин заговорил строже:
– В ближайшие дни надо без шума и без обиды нашего Толю на какую-нибудь тихую работенку поставить. Аккуратно только и дипломатично. Повзрослеет чуток, охладится, тогда вернем на оперативную. А нынче из столовой придет – пусть ко мне явится, я ему мораль прочитаю…
Положив трубку, Лапшин потянулся, закурил и опять открыл томик Шиллера. Перелистывая страницу за страницей, он словно бы слышал опять глуховатый и усталый голос Стюарт – Балашовой, когда она говорила:
Могут с нами низко Здесь поступить – унизить нас не могут…«Черт его знает, в чем дело! – подумал Лапшин. – Из жизни монархий и династий, а прямо за горло держит. Отчего?»
Он еще полистал том и опять услышал голос, исполненный усталого презрения, холодно-насмешливый и в то же время совсем не театральный:
Я вижу этих доблестных вельмож При четырех монархах без стыда Четырежды меняющими веру…Строгий Павлик принес почту и вечернюю газету. Лапшин кивнул. Павлик сухо доложил:
– Там Грибков дожидается. Войти ему?
Зазвонил телефон, это с Трехозерного хутора сообщали, что водолазы работают четвертый день, но лед очень толстый, покуда «предмет» не найден. Лапшин улыбнулся – конспираторы тоже – «предмет»! И взглянул на Толю Грибкова. Тот стоял перед письменным столом, покусывая губы, – подтянутый, светловолосый, стройный. Разговаривая по телефону, Иван Михайлович машинально поглаживал томик Шиллера. Грибков – он перехватил его взгляд – старался прочесть на корешке золотое тиснение.
– Шиллер, Шиллер! – сказал ему Лапшин, закрыв трубку ладонью. – Фридрих Шиллер! – И протянул книгу.
Потом, отговорив с Трехозерным, велел:
– Садись вот в кресло, побеседуем!
Анатолий сел, поглаживая корешок книги. Иван Михайлович осведомился!
– Это правда, что ты для укрепления воли спишь дома не на кровати, а на тонком одеяле, на полу?
Толя мучительно и мгновенно покраснел.
– Правда?
– Мама нажаловалась?
– Мама. И не нажаловалась, а просто позвонила мне и попросила, чтобы я с тобой поговорил. Масла тоже не ешь? И конфет? И вместо чая или кофе пьешь горячую воду?
Грибков теперь был красен так, что Лапшину стало его жалко.
– В быту необходимо отделять то, без чего нельзя прожить, от того, что находится на грани роскоши, – не глядя на Лапшина, произнес Грибков. – Сегодня я пью кофе с молоком и с сахаром, завтра я желаю пить шоколад, а послезавтра мне не хватает денег на шампанское, ликеры и такси. Изучение психологии преступника…
– Ты мне глупости не говори, – крикнул вдруг Лапшин. – Родная мать ему сварила кофе с молоком, а он ей, понимаешь, заявляет, что не намерен скатываться. Значит, если я ем котлеты с макаронами, то я скатился? Чтоб этот вздор я больше никогда не слышал!
– Но Дзержинский…
– Так ты не Дзержинский! Ты пока что Анатолий Грибков, и даже еще без отчества. Набрался, понимаешь, идей! Я старый чекист и со всей ответственностью тебе заявляю – туго придется стране, подтянем пояса. Первыми подтянем, детям нашим пайки отдадим, как мы это делали, когда нужно было. А сейчас мне твое здоровье нужно, чтобы калориев тебе хватило и витаминов. И на полу нечего спать, когда койка имеется…
– Но, привыкнув спать на кровати, товарищ начальник…
– Ну и привыкай! – без всякой злобы, но очень громко перебил Лапшин. – Но, между прочим, царя сваливали, кстати, еще и для того, чтобы каждый трудящийся не на полу валялся и не на нарах, а жил культурно, по-человечески. Может, и к бане привыкать тоже вредно, потому что вдруг такой случай произойдет, что бани не окажется?
Толя не отвечал, понурившись. «Ах ты, господи, какой он парень!» – счастливо подумал Лапшин и перешел на другую тему:
– Как там с Мамалыгой все произошло?
Толя вскинул на Ивана Михайловича глубокие, широко распахнутые глаза и подробно, ничего не тая, строгим и осуждающим голосом рассказал, как упустил Мамалыгу. Он рассказывал о себе как о другом человеке, бесстрастно и жестоко, ни в чем не ища ему оправдания.
– Ладно, – переходя на официальное «вы», заговорил Лапшин. – Несмотря на самокритику, которой у вас в избытке, вы, Грибков, не с того конца начали. Вам было известно, что Мамалыга крепко вооружен?
– Предположительно…
– Следовательно, было известно. Так же, но уже точно, а не предположительно, вам было известно, что терять этому гаду нечего. Согласны? Пойдем дальше: вы не мальчик, хотя и молоды, работаете не первый день, хотя и не очень давно, и не можете не понимать, что в данном случае подвергали себя безрассудно и бессмысленно смертельному риску. Ну, убил бы вас Мамалыга, а убив, в условиях пустынного в эту пору парка, спокойно ушел бы. И, уходя, знал бы, что мы на следу, что ему нужно уезжать из нашего города. Кому польза?
– Разрешите? – спросил Толя.
– Разрешаю! – буркнул Лапшин.
– Если бы все советские граждане, все решительно, – упрямо и страдальчески глядя в глаза Лапшину, заговорил Толя, – не думали бы о риске, то уже сейчас, на данном этапе, мы бы не имели ни одной хулиганской публичной выходки. Разве вы не согласны, товарищ начальник, что многие и многие еще рассуждают, что их хата с краю! Разве вам неизвестны случаи, когда наши работники милиции после рабочего дня, переодевшись в штатское, «не вмешиваются»! Понимаете? Это что же такое? Он с супругой находится, и поэтому он уже «не служит». И проходит стороной. Больше того… вот, например, мой брат…
Толя задохнулся, но справился с волнением и спросил, можно ли ему закурить. Лапшин кивнул. Он слышал что-то неопределенное о том, что у Грибкова погиб брат, но как и при каких обстоятельствах – не знал.
– Он был учителем, – продолжал Грибков, – он в своей жизни мухи не обидел. Маленького роста, слабый, болезненный, очень близорукий. И вот на гулянии в Петергофе шпана привязалась к двум девочкам. Они дергали их за косы и говорили всякие нецензурные слова, хватали… Короче, брат вступился. И тогда они начали его избивать. Они закинули его в болото, за кусты, а люди стояли и смотрели, и был даже один военный, который тоже смотрел. И когда какая-то старуха крикнула ему, как это он так смотрит, то он ответил: «Я, мамаша, военный человек, а не милиционер». И на суде он был свидетелем, и на суде имел нахальство сказать, что если каждый человек будет вмешиваться в функции милиции, то произойдет кавардак и анархия. А брат через два месяца умер, так и не мог поправиться, и все удивлялся, уже умирая, удивлялся на посторонних. Вы меня простите, товарищ начальник, может, я неправильно рассуждаю, но вот, например, есть статьи за контрреволюцию, за спекуляцию, за разбой, за воровство. А как же вот это? Посторонний? Как это может быть такое на свете – «посторонний»?
– Погоди, Анатолий, – опять переходя на «ты», мягко сказал Лапшин. – Я же не предлагаю тебе быть «посторонним». Я только прошу, убедительно прошу не совершать необдуманных поступков.
– Этот военный тоже, наверное, не хотел совершить необдуманного поступка, – почти дерзко сказал Грибков. – Тут думать, товарищ начальник, не приходится. Тут действовать надо.
Лапшин усмехнулся.
– Ладно, – ответил он, – я твое состояние понимаю, но все же не только прошу, но и приказываю глупостей не делать. Иначе…
Он подумал и добавил:
– Иначе мы вас от работы отстраним. Понимаете? Разъясняю также: если ваша жизнь вам не дорога и вы желаете с молодой жизнью по-дурацки расстаться, черт с вами. Но срывать нам поимку Мамалыги – это дело уже наше. Вы вот свою храбрость проявили и то, что вы не посторонний, а Мамалыга ушел и, может быть, благодаря вашей горячности будет совершено этим Мамалыгой новое преступление. Тогда как? С кого взыскивать? Тогда вы окажетесь посторонним?
В конце концов Толя согласился с Лапшиным.
– И вот еще что, Анатолий, – вставая, сказал Иван Михайлович. – Это, конечно, частность, но хочу, чтобы вы ее запомнили. Как оно ни странно, а оно именно так – в нашем деле требуется бодрость. В нашем деле, как ни в каком другом, надо замечать не только всякую дрянь жизни, на и красоту этой самой жизни… – Лапшин чуть-чуть смутился. – Понимаете? Иначе задохнешься.
– Это я понимаю! – серьезно и упрямо сказал Грибков. – Это, товарищ начальник, нельзя не понимать. Я очень слежу за всем хорошим в жизни, я знаю, что и от чего мы защищаем.
И неожиданно он добавил:
– Я художественную литературу очень люблю.
– Какую же именно?
– Где человек изображен настоящий. С большой буквы. Чтобы я этому человеку завидовал и старался на него походить. Разные биографии люблю замечательных людей, как, например, они боролись со своими недостатками и изживали в себе раба. Путешествия люблю разные, где показаны трудности борьбы с природой…
– И хватает тебе времени читать?
– Большей частью не хватает! – сказал Толя. – Сплю здорово много. Дам себе зарок проснуться в три часа ночи и позаниматься, но не могу. Слабость воли, наверное…
– Молодость, а не слабость воли! – сердито усмехаясь, сказал Лапшин. – Ты сколько в среднем спишь?
– Не меньше пяти часов! – с готовностью сознался Толя. – И бывает мало. Еще стихи…
– Какие стихи?
Грибков молчал, строго глядя Лапшину в глаза.
– Какие еще стихи?
– Пишу стихи, – сухо ответил Анатолий. – Не получаются…
– Это дело трудное, – сказал Иван Михайлович. – Здорово трудное. Меня вот хоть убей, я бы рифму не смог подогнать. Ну, давай посиди еще, расскажи про стихи…
Они оба опять сели и заговорили о стихах…
В Лахте
Днем Клавдия его кормила. Дом был пуст, все разошлись – Корчмаренко на завод, Женька в школу, старуха уехала в город покупать Мусе валеночки, и Мусю тоже взяли с собой. Жмакин и Клавдия остались вдвоем.
Он еще спал, пока она жарила ему большую сковороду картофеля. Она начала жарить вчерашний вареный картофель целиком, но потом передумала и, обжигая пальцы, порезала каждую картофелину на ломтики, так, чтобы жареные ломтики были тонкими и рассыпчатыми. Вычистила селедку, посыпала ее зеленым луком и заправила постным маслом с горчицей. Приготовила чай, наколола сахар. Вынула из горки розовую скатерть, покрыла стол и пошла наверх будить Жмакина. Солнце светило ему в лицо, но он спал.
Они сидели за столом друг против друга, и им совершенно нечего было сказать друг другу. Жареный картофель еще шипел на сковороде. Голова у Алексея была мокрая. Он ел опустив глаза, держал ломоть хлеба у подбородка – по-крестьянски. Она украдкой поглядывала на него, а он на нее, и оба по-разному. Она была в клетчатом стареньком платье, немного севшем от стирки и обтягивающем, и он видел ее широкие плечи и высокую грудь, а когда она выходила на кухню, он видел ее прямые уверенные ноги с узкой ступней и ее бедра, и не мог поверить, что она была с ним в одной постели, и принадлежала ему, и была раздета, и он мог делать с ней, что ему вздумается. Клавдия же, глядя на него, была решительно убеждена в том, что произошло, и видеть его ей доставляло радость, потому что он ей принадлежал и потому что она решительно все помнила, даже такие подробности, которые помнят и могут помнить только очень любящие женщины; ей доставляло радость видеть его еще и потому, что он был смущен, и неуверен, и даже растерян сейчас, а все это были признаки любви, потому что, если бы он ее не любил, зачем было бы ему теряться от звука ее голоса, или не поднимать на нее глаз, или отвечать на ее вопросы невпопад.
Он пил много чаю и между глотками размешивал ложечкой в стакане, куда забыл положить сахар. Она сказала ему об этом, он ничего не ответил. Потом ушел к себе наверх и долго ходил там из угла в угол, а Клавдия слушала – сидела в своей комнате на полу, на лоскутном Мусином коврике, и напряженно вслушивалась, ни о чем не думая, только представляя его себе.
Уже под вечер он спустился из мезонина и вышел на крыльцо. Она выскочила за ним без пальто, даже без платка. Морозило, и небо било красное, предвещавшее стужу. Жмакин стоял на сложенных у крыльца столбах и курил. Небо было такое красное, что походило на пожар, и рядом за забором что-то визжало так, что Клавдии вдруг сделалось страшно.
– Николай! – крикнула она.
Он услышал и подошел. Пальто на нем было расстегнуто, он косил и вдруг неприятно и коротко улыбнулся.
– Свинью бьют, – сказал он и кивнул на забор, – бьют, да не умеют… Вот она теперь убежала и блажит…
Он говорил не глядя на нее, и она поняла, что он пьян.
– Напился, – сказала Клавдия с укоризной, – один напился! Стыд какой!
Она дрожала от холода и от обиды. Неужто ему так худо, что он напивается в одиночку?
– Пойдем, – сказала она, – ляжь! Я тебя уложу! Куда ты такой…
Жмакин засмеялся.
– Я – свободная птица, – сказал он, – меня на сало нельзя резать. Куда хочу, туда лечу. А ты иди в дом, застынешь!
Он легонько толкнул ее, и она увидела в его помертвелых от водки глазах выражение страдания.
– Пойдем, ляжешь, Коля, – дрогнувшим голосом сказала она, – пойдем, Николай.
Она взяла его за руку, но он вырвался и зашагал к шоссе. Не раздумывая ни секунды, Клавдия вернулась в дом, надела шубу, подвязалась платком и побежала за Жмакиным по шоссе. Он шел к станции, черная маленькая фигурка на сверкающем багровом закате, слишком свободно размахивающая руками, и был он до того несуразен и жалок, что Клавдии показалось, будто у нее разрывается сердце от сострадания к нему. Несколько раз она его окликнула, но он не слышал, все шел вперед. Наконец она его догнала, совершенно уже задыхаясь, и схватила за рукав. Он лениво улыбался. От морозного ветра его искалеченное севером лицо пошло пятнами.
– Пусти! – сказал он.
Клавдия молчала, задыхаясь.
– Пусти! – повторил он, потряхивая рукой.
Мимо проезжал обоз – сани, покрытые рогожами, скрипя полозьями, тащились к Ленинграду.
– Посторонись, – сказал Жмакин Клавдии и, схватив ее за руку, отодвинул в сугроб, иначе лошадь ударила бы ее оглоблей.
Клавдия посторонилась и еще раз почувствовала, какой он сильный, Жмакин, какие у него стальные пальцы, и все вспомнила. Она еще задыхалась от бега по шоссе и от ветра, хлеставшего в лицо, у нее звенело в ушах, а тут скрипели полозья, и они оба – и Клавдия и Алексей – стояли в сугробе, и он мог уйти и пропасть. Она знала, что без нее теперь он может пропасть, она должна была его не пускать, пока все не образуется, она не знала – ни что могло образоваться, ни как его удержать, у нее не было таких слов, которые бы его удержали, и она его держала просто рукою, вцепившись в него, и говорила:
– Ты не ходи, Николай. Ну зачем тебе в город? Чего ты там потерял? Ты же пьяный. Гляди, едва ноги держат. Пойдем домой, ляжешь. Выспишься, а там видно будет. Но только сначала выспись. Нельзя пьяному, слышишь, Коля!
Она теребила его, стоя в сугробе и чувствуя, как мокнут чулки, и никуда не шла, хотя обоз уже давно проехал, боялась просто переменить позу, боялась выпустить его рукав из своих замерзших пальцев, боялась, что он отвернется и, не видя уже ее лица, уйдет и исчезнет навсегда.
– Не ходи ни за что, – говорила Клавдия. – Ты же человек скандальный, Коленька! Еще напьешься и обязательно скандал устроишь, а как завьешься со скандалом, то тут и милиция…
– Неужели? – со странным смешком спросил Жмакин.
– Запишут тебя в протокол, для чего? А ты слишком принципиальный, ты свое будешь гнуть, тебя и поведут.
– Куда это? – быстро спросил он.
– Да в милицию же, господи, – продолжала Клавдия, решив напугать его во что бы то ни стало, – и оттуда перешлют протокол на твой транспорт, что ты в пьяном виде скандалил и оскорблял при исполнении. Это, Коля, правильно, что вас – таких скандальных – на карандаш берут, потому что…
– Дурочка ты, – тихо и почти ласково перебил Жмакин. – Мамаша, ребенка имеешь, жизнь, кажется, повидала, а все равно девчонка. Чем меня пугаешь, чем на пушку берешь?
Он глядел на нее трезвеющими глазами, и только лицо его, покрытое пятнами, в испарине, было еще пьяно.
– Хочешь, я тебе все скажу? – спросил он быстрым шепотом.
– Не надо! – так же быстро и испуганно ответила она. – Не надо, Коленька, миленький…
Если бы не это чужое имя – Коленька, может быть, он еще бы и не сказал ничего. Но теперь все его прошлое, и этот последний «липовый» паспорт, и ложь, и шикарная жизнь на краденые деньги – все вместе показалось ему таким отвратительным, что он не смог пересилить себя и начал говорить, держа Клавдию за руку, чтобы она не убежала и дослушала все до конца, до самой последней точки.
– Я – вор, карманник, щипач, – говорил он, глядя в Клавдино внезапно застывшее лицо. – Я несколько лет уже ворую, и судили меня, и сроки я имел. Я вор, и то, что на мне надето, – ворованное, и в театре мы были на ворованные деньги, и в такси, и в поезде мы ехали на ворованное. Я вор, и я вас всех обманул, – уже интересничая, продолжал Жмакин, – я сын преступного мира, и меня давно расстрелять пора, и то, что меня не расстреливают, это исключительно моя ловкость и сила воли. Я беглый вор, чтобы ты знала, я с ножом всю тайгу прошел, и тундру, и непроходимые для человека местности. По мне, как по волку, били из винтовки, и волки меня задрать хотели, и я замерзал, и никому из вас того не пережить, что я пережил в свои юные годы…
Он видел, как она бледнела, и мысль о том, что эта женщина, единственная, которую он любил в мире, сейчас повернется и уйдет и сама, своими руками, никого не дожидаясь, выкинет его вещи из комнаты, мысль эта доставляла ему такую острую боль и вместе с тем так облегчала ему то решение, которое он внезапно и твердо утвердил в себе, что теперь он должен был выговориться и довести затеянное до самой последней точки. «Я убью себя! – думал он, не слыша тех жалостных, сентиментальных и чувствительных слов, которые говорил Клавдии, – убью себя и кончу эту незадавшуюся житуху. Так просто, как же это я раньше, дурак, не догадался!»
Жмакин говорил ей о себе и знал, что сейчас начнется у него самое последнее и самое короткое в жизни одиночество и что, когда Клавдия уйдет, у него не будет уже никакой ответственности ни перед кем, а все эти удивительные дни ему так хотелось именно ответственности перед Клавдией и ответственности за нее, так ужасно хотелось приходить в этот дом на Лахте не жильцом, а Клавдиным мужем, усталым, озабоченным, даже грубоватым, как бывает «сам», «хозяин», «батя». Ну что же, не вышло! Не вышло и не могло выйти! Не выйдет никогда! Где-то он читал или слышал, что смерть – слабость или трусость, такая смерть, какую он придумал, да что поделаешь – кому нужно, тот знает, что трусом он не был, слабым не был, а какая уж досталась ему судьба, такая и досталась, и никуда от нее не денешься. За все он расплатится теперь и всем насолит. – и гаду Митрохину, который ему не поверил, и тому первому, утомленному своей специальностью судье, и братикам Невзоровым, и Лапшину, который мог бы помочь, но не помогает, и мамаше-покойнице, и Клавдии, которая его сейчас выгонит, позабыв те любовные слова, которые так недавно шептала ему.
И то, что он сейчас говорил Клавдии, после мгновения, когда твердо решил покончить с собой, было началом его расплаты с людьми, вытолкнувшими его из своей среды, с людьми вялыми, хитрыми, скучными, до того правильными, что не задумались дать ему срок за преступление, в котором он вовсе не был повинен. Конечно, все то, что с ним сделали, по видимости своей было правильно. Конечно, профессорские сынки, спортсмены, вежливые мальчики, не могли ударить ножом, за здорово живешь, парнишку с чужого двора. Конечно, ножом ударил Алешка Жмакин, ведь стащил он серебряные ложки и продал их, когда нечего было ему кусать. И вообще был он дерзким и нахальным, а то, что бесстрашно ставил всем в доме антенны и лазал черт знает по какой обледенелой крыше, так это делают все хулиганы-сироты – подумаешь, невидаль!
Теперь Жмакин не кривлялся перед Клавдией. Он не говорил жалкие слова, не пенял никому своей «поломатой» жизнью. Он был перед нею тем, кем стал на самом деле, он был вором надломанным и надорванным, усталым и замученным до крайности, не понимающим, как и для чего жить, и ненавидящим свою никому не нужную, позорную, бесполезную, унылую и пьяную жизнь. И, рассказывая Клавдии всю правду о себе, он уже чувствовал ненависть к этой женщине, минута за минутой все более становилась она ему врагом, как все те, которые знали, кто он на самом деле, и он ей говорил, как своему врагу, да еще такому, которому правдой можно только досадить.
Они всё стояли на дороге. Солнце уже догорало, и ветер потрясал деревья, с них сыпался снег. Были синие, холодные, ветреные сумерки. Мимо очень быстро проехала новая легковая машина «ЗИС-101», освещенная изнутри, и Жмакин с ненавистью взглянул ей вслед – в затылки людей, едущих в машине, – и опять стал говорить Клавдии про себя и про нее, и так как говорить ему было, в сущности, уже нечего, то он вдруг стал бранить Клавдию и издеваться над ней, а она все слушала и только изредка бормотала едва слышно:
– Что ты говоришь, что ты говоришь, ну как тебе только не стыдно…
Ему было очень стыдно, и только поэтому он мог говорить ей о том, что она легла с ним в постель, рассчитывая заработать на нем как на премированном, загулявшем молодом парне.
– Да не вышло, – говорил он срывающимся голосом, – не вышло, дорогая. Впуталась только в грязную историю. Вот начнут тебя катать по розыску, узнаешь, почем фунт лиха. Ко-оля, Николай! – шипел он исступленным голосом, передразнивая шепот Клавдии. – А какой я, к чертям собачьим, Коля, когда я всю жизнь Алешкой был. Заработала на Коле, убила бобра, стерва… В театр ее веди, сумки ей разные… Может, тебе туфли купить, – спрашивал он, – или шубу? Жмакин может, у него деньги, слава богу, не казенные…
Она плакала. Из ее широко открытых глаз катились слезы, и она не смахивала их и не вытирала, а все глядела ему в лицо с выражением ужаса и сострадания.
– Ну, чего? – спрашивал он. – Чего ревешь? Обидели? На любимую мозоль наступили? Все вы, бабы… – Он назвал слово, и ему этого показалось мало, он еще уродливо и длинно выругался и опять крикнул, кто она, Клавдия, и кто все женщины, а затем стал убеждать Клавдию пойти с ним к милиционеру, всего только до станции, и сдать его милиционеру, под расписку.
– Я не убегу! – говорил он глумливым голосом. – Не убегу никуда, а тебе награждение может выйти. Записочку получишь, что сама лично сдала в органы рецидивиста Жмакина, и в газете про тебя могут напечатать, какая ты смелая личность. И все похвалят, и ценный подарок подарят, будьте здоровы, за преподобного Жмакина. Ну, веди! – кричал он. – Веди, давай показывай сознательность! Не задерживайся, чего моргаешь!
Он толкнул ее плечом и дернул за шубу и за конец головного платка, но она не шла, смотрела на него с тем же выражением ужаса и сострадания в глазах. И не ужас, черт с ним, с ужасом, так и должно было быть, а сострадание больше всего бесило Жмакина.
– С ума ты сошел, – сказала она, почти не разжимая рта, – ну куда я тебя поведу, куда?
Он молчал, потрясенный интонацией ее голоса, – она точно не слышала всего того, что он ей рассказал о себе.
– Ладно, – сказал он, – иди, и я пойду. – Он почувствовал себя вдруг очень усталым. – Иди домой, а я уеду.
– Куда ты уедешь?
Клавдия подошла к нему совсем близко и взяла его пальцами за лацканы пальто.
– Куда ты поедешь? – во второй раз спросила она. – Воровать поедешь?
Он молчал.
– Я тебя не отпущу, – сказала она совсем ему в лицо, – тебя из дому не пущу, понял?
Она дернула его за лацканы, и он увидел ее глаза совсем близко от себя. Она дышала часто, и слезы все еще катились по ее щекам.
– Лешка ты, или Николай, или черт, или дьявол, – говорила она, – ты мне все скажешь, и я за тобой куда угодно поеду, а сейчас я тебя никуда не пущу. Слышишь? И не ты будешь меня выбирать, а я тебя выбрала, понял, и теперь ты от меня никуда не уйдешь, а если уйдешь, так я найду, понял? Я тебя выбрала, – повторила она со страшной силой, – и я знала, что ты мне врешь, и я все понимаю, почему ты кричал сейчас, и все равно тебя не пущу: вот если убьешь, тогда уйдешь. Ну, пойдем, – говорила она и тянула его за собой по дороге, – пойдем, дай руку, я тебя за руку возьму, ты же пьяный, погляди на себя, какой ты… Ну, иди же, иди, не упирайся…
В ней точно что-то прорвалось, и она, доселе молчаливая, сейчас говорила, не переставая ни на секунду, и тянула его за собою, и в то же время прижималась к его плечу и заглядывала ему в глаза, и даже смеялась, но слезы все текли из ее глаз, и спазмы порой прерывали голос.
Так, почти силой, она довела его до дому и проводила наверх в комнату, сняла с него, обессиленного, пальто, шарф, кепку, уложила его и еще что-то кричала вниз веселому Корчмаренко, и голос у нее был такой, будто ничего, в сущности, не произошло.
Потом села рядом с ним, подложила теплую руку под его щеку и заговорила негромко, ласково, как с больным:
– Сразу мы, Алеша, ничего не придумаем, да ты еще и пьяненький к тому же. И пьяненький, и дергаешься весь, хотя и сильный, но я тебя куда сильнее. Ты не обижайся только, не лезь в бутылку. Ты ведь не такой, Алеша, каким себя показываешь, ты измученный очень человек, и жить ты хочешь, как все, – трудом, пускай даже самым тяжелым, но как все, и порядка ты хочешь, и чтобы все свой смысл имело. Ты нынче даже ударить меня мог, очень распалился на ту свою, первую, обиду, и я за тебя обиделась, но ведь не может же быть, чтобы мы с тобой правду не нашли. Не при царе живем, Алеша, и не…
– Не при капитализме, – с презрением перебил он, – знаем, слышали…
– Не шуми, – попросила она, – не шуми на меня, Лешенька. Я не пугливая, я никакого страху с самого своего детства не знала. Я до большого начальства дойду, и батька мне поможет, и Алферыч поможет, мы попросим разобраться и понять, как это с тобой все случилось. А когда разберутся и получишь ты окончательный срок, небольшой, – поспешно и ласково добавила она, – немного, я ждать стану, передачи тебе носить. Это ничего, когда человек ждет, Алешенька, он все может перенести, потому что есть для чего…
– А потом? – приподымаясь на кровати, спросил он. – Потом? Какая у меня специальность? Что я – знаменитый токарь, или профессор наук, или кто? На кой тебе хрен такое сокровище сдалось?
Ему нужно было теперь, чтобы его утешали, за всю его жизнь с ним никто так не говорил, и в груди его сладко спирало. А Клавдия понимала это и говорила самые нужнейшие ему слова:
– Да, господи, – сказала она, – да что ты, Алеша! Сам же рассказывал, какие антенны на крыши, да еще на скользкие, ставил, мальчиком, маленьким еще. Ты захочешь, все сможешь, ты горы, Алеша, перевернешь, твоя жизнь только не туда завернулась, а когда напрямик, на большак выйдешь, знаешь, как будет? Выйдем с тобой из дому на станцию, и все говорить станут: «Во, Клавка себе какого орла отхватила, Жмакин это, про которого в газетах было».
– А что было-то? – пренебрежительно спросил он.
– Как что? Например, трудовой подвиг ты можешь осуществить!
– Из зала суда будет, вот что.
– Ах, раскапризничался? – с живым, милым смехом сказала она. – Ах, разнесчастненький!
И, захватив его ладонью за подбородок, жестко добавила:
– За мной не пропадешь. Как ни виляй, я из тебя человека сделаю. И не какого-нибудь, а советского. Я за швалью запьянцовскую замуж не пойду, а ты теперь мне муж, и когда будут с тебя допрос снимать, обязан ты, чтобы чин по чину записали – женат на такой-то и на такой-то.
– Посадят и тебя.
– Врешь, не посадят. Нет такого закона.
Она поднялась. Он попросил ее остаться.
– Не останусь! – с прежним своим легким смехом ответила Клавдия. – Нынче думать надо, а с тобой тут какие думки.
Вздохнула, потянулась и посулила:
– Ох, достать бы мне до этих братьев Невзоровых, я бы им показала, почем фунт лиха.
И все-таки ночью она пришла к нему, сказала шепотом, что все надумала, и легла рядом. Ночь кончалась, наступало утро. Жмакину захотелось пить. Голый, в одних трусах, он спустился ощупью из мезонина, пробрался в кухню, разыскал ковшик и зачерпнул воды из бочки. Он пил жадно и медленно, ковшик был неудобный, вода проливалась и текла по голой груди, по животу. Ему сделалось холодно, он повесил ковшик и вышел из кухни. В передней стоял Корчмаренко. Огромный, он одной рукой поддерживал сползающие кальсоны, в другой у него была свеча. Он был всклокочен и, видимо, выскочил из своей комнаты, заслышав скрип ступеней. «Сейчас врежет», – спокойно подумал Алексей и крепче уперся в пол ногами, приготовляясь к драке. Но Корчмаренко не двигался с места и не проявлял даже никаких признаков раздражения. Потом сунул толстую руку за ворот рубашки и с хрустом почесался. Жмакин моргал. Узкое красное пламя свечи слепило его.
– Ну? – спросил Корчмаренко.
– Чего «ну»?
– Выбрала? – Корчмаренко кивнул головой на лестницу мезонина.
– Чего выбрала?
– Пошел чевокать, – опять почесываясь, сказал Корчмаренко, – другой бы батька на моем месте так бы тебя шмякнул, а я, видишь, добродушный.
Жмакин молчал.
– Хочешь квасу выпить? – спросил Корчмаренко. – У меня есть пара бутылок с изюмом. Анафемской силы.
Жмакин наконец перестал моргать и уставился на Корчмаренко. Но тот внезапно повернулся спиною и, шлепая огромными, вывороченными ступнями, пошел в комнату.
– Иди, – сказал он не оборачиваясь. – Иди, потолкуем.
Жмакин пошел. Корчмаренко зажег керосиновую лампешку, вынул из буфета квас и разлил в два стакана. Подавая стакан Жмакину, он взглянул ему в глаза, потом оглядел все его крепкое, мускулистое тело и сурово сказал:
– Ничего бычок, подходящий.
И, смакуя шибающий в нос, действительно очень вкусный напиток, добавил:
– Я жизнь до чрезвычайности люблю. Здоровье обожаю, когда дети рождаются благополучно, когда собака от молодости скачет, когда почки на деревьях лопаются. И квасу люблю попить, и водочки могу принять, и музыку слушать. Я» брат Николаша, уважать люблю. Понимаешь меня?
– Понимаю.
– Врешь, меня так сразу не раскусишь. Я уважать люблю умелые человеческие руки, золотые, так называемые в печати рабочие руки. Если человек что делает ловко, с душой, а не только по форме, я до слез это уважаю. И ум человеческий за беспредельные его возможности. Чего глядишь?
– Нормально, – сказал Жмакин. – Слушаю вас и гляжу. А что – нельзя?
– Можно! – разрешил Петр Игнатьевич. – Любуйся на мое рыло. Но лучше слушай. Мне, например, какой сон часто снится, желаешь узнать? Снится мне восхождение на гору. Что вот сейчас вся полнота жизни для меня откроется, весь мир. А между прочим никакой я не альпинист и разные там Эльбрусы, Арараты и другие высоты исключительно на картинках видел. Отчего так?
Жмакин не знал.
Корчмаренко налил еще квасу, понюхал и добавил:
– А паразитов человеческих ненавижу я. Всяких там побирушек, несчастненьких, чересчур одиноких. Которая одинокая вдова, пусть в больницу идет нянечкой и не ноет нам свое нытье. Или, например, спекулянты. Как это можно, чтобы делать такое дело на земле, от которого не радость, а стыд? Чего они своим женам и детям квакают? Деньги? Да на кой ляд мне такие деньги неправедные, растолкуй.
Жмакин насупясь молчал.
Петр Игнатьевич еще отхлебнул квасу, повел глазами на потолок, осведомился деловито:
– Женишься? Или так, для препровождения времени?
– Она не пойдет.
– Это почему же?
– На кой я ей сдался! – печально и искренне ответил Жмакин. – Вы сами посудите, кто я есть?
– Кто? – воскликнул Корчмаренко. – То есть как это кто? Трудовой человек, и больше ничего нам не требуется? Вон личико-то у тебя обмороженное – это как, не в счет? Или, может быть, она желает за банкира, мистера, лорда замуж выйти? Так она у меня не такая…
– Не такая, – подтвердил Жмакин.
В соседней комнате сонно вздохнул Женька.
– Ты ее измором бери, – ласково посоветовал Корчмаренко. – Ты бери и женись, чего бы она ни вякала. Ты парень бывалый, ты в жизни хозяином можешь стать, из такого теста, как твое, хорошие калачи можно печь. Женщина разберется, а Клавка тем более. Пускай только увидит, каков ты есть человек. Она – Клавка-то – особенная. Другой такой в целом свете не сыскать. Как мать-покойница, жинка моя, Ксения Сергеевна. Знаешь, какая была?
Усмехнувшись невесело, он приопустил веки, заговорил глухо:
– И вредная, и веселая, и бранилась, и песни пела, и когда не надо плакала, и вдруг смеялась. Все нипочем Ксении было, любая беда – пересмешки, гордо свою жизнь прожила. Здоровая до удивления. Клавку родила, и молока столько, что двоих других выкормила. Не пропадать же товару, как считаешь?
– Верно.
– То-то, что верно. Я через нее учиться начал, от стыда. А то байбак был форменный. Померла тоже по-особенному. Лежит, умирает, а мне так говорит: «Ты, говорит, конечно, как хочешь – можешь жениться, можешь не жениться, но лучше не женись. Разве после меня можно с какой ни есть раскрасавицей жить?» И сама смеется. Мучается, знаешь, кривится, а сама смеется. Характер такой. Всего и осталось, что глаза и зубы, а смеется. Все ей смешно. «Не женись, говорит, перетерпишь как-нибудь. Дров, говорит, побольше коли. Я, говорит, тебя опоила, медведя, других таких на свете нет, как я. Я, говорит, ведьма, а ты и не знал… Ну, хоть бы ты и знал, все равно бы не поверил. И если женишься, все равно погонишь через месяц или через год». И потом так вот покривилась и говорит, и уже не смеется: «Я, говорит, не хочу, чтобы ты женился. Мне, говорит, очень противно и гадко даже подумать, не женись, и все». И действительно, одна она такая была на целый мир. Вот теперь Клавка вся в нее. Знаешь, почему она мужа погнала? Выйти-то замуж вышла, девчурочкой еще, а потом он ей сразу опротивел. Вот она его и начни гонять. Все в нем не по ней, да и правда, не мог я ее осудить. Дрянь парень, разбалованный выпивошка, хвастун. Взяла Клавдия его и выгнала помелом средь бела дня. И деньги на дочку не берет от него. Вот она какая. Клавдия-то!
Он помолчал.
– Холодно голому?
– Ничего, потерпим, – ответил Жмакин.
– Ты на ней женись, – еще раз строго посоветовал Корчмаренко. – Она очень сильной души девушка. А ты еще, как я понимаю, на свою дорогу не совсем вышел?
Жмакин спросил угрюмо:
– Это как?
– Еще смысла не имеешь главного. Вот у меня цех маленький, а все ж, как мне сдается, пропадет мой цех без меня. Оно, здраво рассуждая, конечно, неправильно. Обошлись бы. Но каждому человеку, когда что трудно, обязательно нужно свой смысл иметь. Ксеньку похоронил и потерял смысл, думал, хоть ложись за ней в землю. Ай нет! Уговаривают люди: «Петр Игнатьевич, перестань колобродить, выходи на работу, пропадаем без тебя». Врали, возможно, а к жизни обратно прицепили. Повеситься, я тебе скажу, в ту пору было мне куда легче, чем жить. Однако переступил и рассуждаю: тут я нужнее, чем в среде повесившихся товарищей. Удобрить землю своей тушей еще поспею, однако же срок не вышел. Вот, брат, в каком смысле я насчет дороги спросил.
– У каждого своя дорога, – опустив глаза, сказал Жмакин. – Я тоже свою имею, так что вы зря.
– Ой ли? Ты человек характера скрытного, да врешь чего-то, сдается, нет?
– Нет.
– А мне думается – подвираешь, но это мелочь. Клавка лучше меня людей понимает. И ежели что брешешь, то брехню из тебя вытряхнет. Спит она сейчас?
– Спит.
– Ну, иди и ты спи, время мало осталось до побудки. Квасу вот прихвати ей, мы с Ксенькой любили, бывало, ночью с устатку квасу хлебнуть.
Корчмаренко погасил керосиновую лампу и сказал уже в темноте совсем глухо:
– Ой, как вспомню, как вспомню! Не надо было ей помирать… Взяла кинула меня, разбирайся теперь тут…
И зашлепал босыми ногами.
Длинной ночью
– Ты бы, что ли, заехал за мной, – сказал Ханин по телефону. – Я спущусь. Сил нету одному сидеть. Или зашел бы, у меня тут коньяки прекрасных ароматов.
– Один и пьешь? – неприязненно спросил Иван Михайлович.
– Еще не пил, но буду! – пообещал Ханин.
– Ладно, заеду.
Потом Лапшин немного поговорил с матерью Грибкова Ириной Ивановной, похвалил ей ее сына и осведомился, спит ли он теперь на кровати. Толя это время спал на кровати, пил кофе с молоком и, задумавшись, съел вчера очень большой кусок пирога.
– Значит, проходит, – сказал Лапшин. – А парень он замечательный. Еще ему влюбиться надо…
– Ну, это успеется, – суховато ответила Ирина Ивановна.
Широко без стука распахнулась дверь, вошел Криничный в полушубке, за ним, раскатываясь сапогами по паркету, влетел Окошкин. У Криничного в руках было ружье «Зауэр», шестнадцатый калибр.
– Оно самое? – спросил Лапшин.
– Точно, оно! – ответил Криничный. – Номер сходится.
– Значит, все! – сказал Иван Михайлович. – Погорели братья.
И он стал обдумывать с Криничным способ, путем которого с наименьшими хлопотами можно было бы уговорить прижимистого Баландина подписать ведомость на оплату водолазов, а Окошкин в это время рассказывал подробности извлечения ружья из озера, «закованного льдом».
– «Закованного», «закованного»! – сказал Иван Михайлович Окошкину, понимая, что тот никак не может дождаться похвалы. – Молодец ты, Вася, такой сыщик – лучше на земле нет. Конечно, не без недостатков, но ты их поборешь со временем. Поборешь и далеко пойдешь…
– Смеетесь всё! – пожаловался Окошкин.
Ружье Лапшин поставил в свой шкаф, а документы из Общества охотников вложил в дело и закрыл сейф на ключ.
– Домой? – осведомился Василий Никандрович.
– За Ханиным заеду.
И, распорядившись вызвать повестками братьев Невзоровых, Лапшин спустился по лестнице, представляя себе, какое сделается лицо у Занадворова, когда с делом Самойленко будет покончено.
Ханин сидел в номере один, накинув пальто на плечи. Номер был унылый, длинный, со снятыми почему-то занавесками и скатанным ковром. На диване навалом лежали газеты, несколько номеров журналов, раскрытый том «Войны и мира».
– Чего киснешь, Давид? – спросил Лапшин.
– Размышляю – не застрелиться ли, – уныло ответил Ханин. – Только не из чего.
– За этим дело не станет, могу одолжить! – почти любезно сказал Лапшин. – Только поможет ли?
– «Только», «только», – кисло передразнил Ханин. – Оттуда никто не возвращался, неизвестно.
– Вот ты и давай, с возвратом. Записку не забудь напиши, если из моего пистолета станешь стрелять, как положено: «Прошу в моей смерти никого не винить». А то неприятностей по службе не оберешься.
Говорил Лапшин непривычно раздраженно, почти зло.
– Ладно, не сердись, Иван Михайлович, – попросил, шмыгая носом, Ханин. – Давай лучше коньяку выпьем с холоду. Насморк еще одолел.
Они выпили по рюмке. Лапшин искоса поглядывал на Ханина, на его худое, желтое, в резких морщинах лицо, на большие круглые стекла очков. Долго молчали. Было слышно, как внизу, в ресторане, играл оркестр.
– К пограничникам бы поехал, что ли? – тоскливо сказал Лапшин. – Вот к Федорову, он тебя знает и уважает. У меня участок – не соскучишься. Написал бы чего, у тебя прошлый раз сильно получилось, выпукло.
– Выпукло? – усмехнулся Ханин.
– А разве нельзя выразиться, что выпукло? – немножко испугался Лапшин. – Я хотел в том смысле, что не похоже, как у других. Ты, вообще, имей в виду, Давид, тебя народ, например у нас, хорошо читает. Всегда говорят – вот это наш Ханин дал так дал.
Опять донеслись звуки оркестра.
– С приветом! – сказал Ханин и выпил еще рюмку.
– Ничего не пишешь?
– Давно и ничего.
– На пьяную голову, да не выходя отсюда, вряд ли чего даже толковый журналист сочинить может.
– А может быть, я не журналист? Может быть, я писатель и теперь буду писать исключительно из головы, откуда ты знаешь? И не учи меня, убедительно прошу.
– Я и не учу. Я свои мысли высказал, всего и делов. И еще мне интересно, что бы твоя Лика сказала, посмотрев нынче на тебя.
Ханин подумал, потер руками лицо и ответил:
– Сказала бы, что это холуйство так жить. Она любила слово «холуйство» и многое им объясняла. Она как-то заявила: «Ты не хозяин жизни, ты ее холуй!»
– Кому сказала?
– Слава богу, не мне. Я холуем у жизни не бывал.
– Еще тут поживешь – станешь, – посулил Лапшин. – Поехали-ка, давай, Давид Львович!
– Вот допьем коньяк и поедем.
– Значит, ты будешь жрать коньяк, нализываться, а я после рабочего дня буду на это занятие глазеть? Так, что ли? Нет, брат, я чаю хочу и лечь хочу. Одевайся!
Спокойным шагом он пересек комнату, взял со стола бутылку, закупорил ее свернутой бумажкой и сунул в боковой карман реглана. Ханин сердито высморкался, надел пальто в рукава и нахлобучил шляпу.
– Небритый какой-то, черт тебя знает, – брезгливо произнес Лапшин, – мятый, лицо желтое. А помню, был молодой, пел «Мы молодая гвардия». Встреча была с чекистами, забыл, как мы познакомились?
– Ладно, поедем, чего там…
Кадников развернул у «Европейской» машину, Ханин поднял воротник, зябко съежился. Лапшин молчал, сосредоточенно и сурово сдвинув брови. За слюдяные окошки газика со свистом задувал морозный ветер.
– А что, товарищ Лапшин, будто с Корнюхой чего-то налаживается? – осведомился Кадников.
– Чего налаживается?
– Да Николай Федорович сейчас мимо проехали, остановились, спросили – не в гостинице ли вы.
– Ну?
– Я так понял, будто Корнюху брать.
В передней у Ивана Михайловича Ханин долго раздевался. Лапшин в это время вынул браунинг, вытащил из него обойму, вытряхнул патроны и обойму сунул опять в пистолет. Когда Ханин вошел, пистолет лежал на столе, на видном месте. Ланин прислушался и воровато спрятал браунинг в карман.
– Теперь я разочек позвоню, – сказал Лапшин, вернувшись из ванной, с полотенцем на шее и без рубашки, – а потом будем чай пить.
Пистолет исчез, Лапшин заметил это, но промолчал.
– Мне никто не звонил, Патрикеевна? – спросил Иван Михайлович, оборачиваясь к занавешенной нише. – А?
– Бочков звонил! – недовольно ответила старуха. – Всю ночь звонют и звонют, а преступлений совершенно никаких не ликвидируют…
– Да уж где уж нам уж, – пытаясь соединиться с розыском, сказал Лапшин. – Это ты верно, Патрикеевна, правильно…
У телефона оказался Толя Грибков, его оставили пока для связи. Новостей особых не было, но Корнюха будто где-то неподалеку от города заночевал. Бочков и Побужинский с Окошкиным выехали.
– Держите меня в курсе дела, – велел Лапшин. – Без меня ничего не начинать, ясно? И чтобы машина там была оперативная обеспечена.
– Так ведь Кадников дежурит.
– Ну и ладно.
Лапшин включил чайник и принялся резать хлеб.
– Там мясо есть с макаронами в духовке! – длинно зевая в своей нише, сказала Патрикеевна. – Возьмите…
– Возьмем и мясо…
Ханин, размахивая полотенцем, ушел в ванную. Там он заперся на крючок, снял очки, как всегда собираясь мыться, и, положив их в сетку на мочалку, сунул в рот револьвер. Ствол был широкий и, чтобы устроиться поудобнее, Давид Львович повернул ручку так, что ствол пришелся боком. «Разнесет, пожалуй, череп к чертям», – это было последнее, что он подумал, перед тем как нажать спусковой крючок. Потом он закрыл глаза. Щелкнул боек, во рту у Ханина зазвенело, но выстрела не было. Все еще не закрывая рта, Давид Львович вынул обойму и покачал головой.
– Ты скоро? – спросил Лапшин из-за двери.
– Иду! – ответил Ханин, с трудом соображая. Машинально он вымыл руки, вздохнул и сел с Лапшиным пить чай.
– Отдай пистолет! – негромко сказал Лапшин.
Ханин покорно положил браунинг на стол.
– Это ты все нарочно подстроил.
– Хотя бы и нарочно.
– Для чего?
– Лучше, чтобы ты у меня это попробовал, чем у какого-либо растяпы.
Иван Михайлович положил себе в стакан ломтик лимона, отхлебнул чаю и со вздохом сказал:
– А эгоисты вы, самоубийцы! Застрелился бы ты, Давид, из моего пистолета и без всякой записки, не написал же записку?
– Не написал…
– Вот видишь! Застрелился бы, и пошло. Возьми-ка мяса, поешь.
– Это кто застрелиться должен? – строго спросила Патрикеевна из ниши.
– Да тут один… – растерянно сказал Ханин. – Здравствуйте, Патрикеевна.
Молча он ел битое мясо с макаронами, по худому лицу его вдруг поползла слеза. Лапшин делал вид, что ничего не замечает.
– Даже Горький, – вдруг шепотом заговорил Ханин, – даже Горький, между прочим, писал, что человек, который не пробовал убить себя, дешево стоит.
– А разве все люди, которые не стрелялись, дешево стоят? – осведомился Лапшин. – Я товарища Горького очень уважаю, но могла, между прочим, выйти у него, допустим, описка. Может, как раз хотел написать «дорого», а написал – «дешево». Давай лучше, Давид Львович, соснем, утро вечера мудренее.
Он лег и закрыл голову подушкой, а Ханин в носках зашел в нишу к Патрикеевне и попросил:
– Ты меня, старая, покорми, покуда я здесь. Вот тебе две сотни на расходы. Согласна?
– Тут будешь жить?
– Тут. И там. Всяко.
– А жена не заругает?
– Жена у меня померла, – сказал Ханин петушиным голосом. – Приказала долго жить.
И вдруг, всплеснув длинными руками, он зарыдал так горько, так тихо, хрипло и исступленно, что Патрикеевна побелела, а через несколько секунд и сама заплакала.
– Ты не знаешь, старая, какая она была, – говорил Ханин, уже успокоившись и только стараясь подавить судорожные подергивания лица. – Ты не знаешь. Никто не знает. Только я один знаю. Я – журналист, пишу. Я очень много дурного писал, ну, как бы это тебе объяснить, шелухи, мусору. И она всегда судила меня, мое все судила и всегда права была. Она половина меня, и лучшая. Ты должна понять, ты не можешь не понимать. Я спорил с ней, ссорился, мучил ее, требовал объяснений – почему то плохо, а это хорошо. И она никогда не могла объяснить. Она чувствовала и жалела меня, что я злюсь. И вот она умерла. Понимаешь?
Выплакавшись, он сидел возле кровати Патрикеевны на табуретке, пил воду и жаловался, что пропал. А она советовала ему ходить в церковь, молиться, говеть и разное другое в этом же духе. Вначале он не понимал, потом рассердился. В это время зазвонил телефон. Лапшин, шлепая босыми ногами, обошел кровать, взял трубку и свежим голосом сказал:
– Выезжайте! Спускаюсь.
– Ты куда? – спросил Ханин. И зашептал: – Возьми меня с собою, Иван Михайлович, сделай одолжение, пожалуйста…
…Лапшин сел впереди, рядом с Кадниковым, Ханин втиснулся на заднее сиденье с Криничным и Толей Грибковым. Кадников сразу так нажал на педаль акселератора, что всех отбросило назад.
– Далеко? – спросил Ханин.
Толя, узнав журналиста, почтительно ответил:
– В Детском Селе. Он там не один.
– Кто он и почему не один?
– Да Корнюха, – с готовностью стал объяснять Грибков. – Сначала мы имели сведения, что там просто одна… женщина…
– Понятно…
– Короче, с которой у него связь. Ну а потом выяснилось, что их вообще там несколько. Кажется, вооружены.
– «Кажется»! – передразнил со своего места Иван Михайлович. – Такие вещи точно нужно знать. Вот Мамалыга «кажется» был не вооружен, что из этого вышло?
Толя виновато промолчал.
– Жми, жми, Кадников, не стесняйся! – велел Лапшин. – Обгоняй колонну.
Он сам потянул поводок сирены, и длинный вой разнесся над спящим городом.
– Над чем вы сейчас работаете? – спросил Толя Ханина. – Я читал, будет серия очерков о полярной авиации.
– Вроде бы! – угрюмо отозвался Ханин.
– Это здорово интересно, наверное, полярная авиация. Действительно соколы там могут работать. Вообще, моряки, скажем, и всякие исследователи белых пятен – замечательный народ. Вы, когда на «Красине» находились, еще там свою книжку написали или потом?
– Книжку я тоже читал, а вот что вы автор, не сообразил, – сказал Криничный. – Будем знакомы.
– А я – Грибков! – сказал Толя. – Анатолий.
Машина миновала бойни и вырвалась на прямую мглистую и холодную дорогу. «Дворники» со скрежетом обметали леденеющее ветровое стекло. Ханин взглянул на светящиеся стрелки часов – было десять минут четвертого.
– Вот бы вы о ком написали, – доверительным шепотом произнес Толя, указывая на широкую спину Лапшина. – Вот бы про какого человека.
– А как о вас писать, когда вы все кругом засекречены? – усмехнулся Ханин.
Криничный посипел трубкой, опять раскурил ее и сказал:
– Люди, товарищ Ханин, не засекречены. А в нашем деле, знаете, главное – человек. Я, конечно, со своим мнением не навязываюсь, я как читатель говорю, но возьмите вы, к примеру, нашего Бочкова Николая Федоровича. Это ж золотой мужик. Как он, допустим, ненавидит людей, которые пренебрежительно отзываются о бухгалтерах, о счетоводах; вообще в кино, например, бывает, если идиот – то главбух, а если дура – то пишмашинистка. И вообще, если взять жизнь Бочкова, целиком…
– Где нас ждать будут? – перебил Лапшин.
– У лицейской арки, – сказал Криничный.
Кадников резко переложил баранку, машина повернула налево. Огоньки Пулкова мелькнули наверху.
– Стесняешься ты ездить что-то нынче, – сердито сказал Лапшин. – Давай мне баранку.
– Так гололед же, Иван Михайлович.
– Бандитам это наплевать – гололед или не гололед. Уйдут, тогда с кого спросим? С господа бога?
Тяжело протиснувшись за руль, Лапшин сразу же нажал на акцелератор так, что стрелка спидометра показала девяносто.
– Гробанемся! – пообещал Кадников.
– Охрана труда, где ты! – сказал Лапшин. – На поливочную машину тебе, старик, надо переходить. Или есть такие машины, песочницы, что ли? Песком улицы посыпать. Спокойная работа. Давай сирену, там какой-то лопух разворачиваться вздумал…
Над застывшими, замороженными полями вновь взвыла сирена, мигнул и погас фонарь шлагбаума. Ханин, слушая рассуждения Толи Грибкова, вдруг восхищенно подумал о Лапшине: «Вот ведь черт! И нипочем ему, что машину так и водит по льду. В бессмертие верит, что ли?»
– Хорошо бы у нас кружок для начинающих создать, – говорил Толя. – У нас многие ребята пишут. Кто стихи – знаете, балуются, – но есть со способностями. Есть частушки комические пишут, есть раешник, один у нас роман написал.
– Про что?
– Вообще-то не слишком удачно, из жизни капиталистической зарубежной полиции…
– А он там был?
– Нет, но материалы поднял большие. Там любовь описана сильная и как полиция применяет к забастовщикам слезоточивые бомбы…
– Ну что ж, – рассеянно сказал Ханин. – Возможно.
В свете фар мелькнули и исчезли Египетские ворота. Кадников жидким от страха тенором бормотал что-то насчет лысых покрышек и насчет тормозочков. Под аркой лицея, на морозном ветру, мучительно продрогший, стоял Побужинский, Лапшин, несмотря на предупреждение Кадникова, тормознул, машину занесло, крутануло раз и другой. Побужинский распахнул дверцу.
– Где? – спросил Иван Михайлович.
– Ушли, – ответил Побужинский. – То есть не совсем ушли, – поправился он, – к железнодорожной линии ушли. Там будка есть стрелочника, вот засели…
От стужи у него не попадал зуб на зуб.
– Залезайте к ним на колени, – велел Лапшин.
Побужинский просунулся к Ханину, залез всем на колени, тихо пожаловался:
– Ну и ну! Все кости проморозил. И челюсть ноет!
От него шел холод, как от куска льда. И дышал он холодом, словно вьюга.
– Хоть бы спирт нам давали для таких происшествий, – вздохнул Криничный. – Небось у Корнюхи есть чем согреться.
Машину кидало по скользким, глубоким ухабам, Побужинский изредка командовал «направо», «налево», «в переулок». Ханин тоже начал мерзнуть, было холодно и очень неудобно сидеть. Все смолкли, кроме Толи Грибкова, который продолжал свой литературный разговор. Ханин отвечал на его вопросы все короче и все резче, а когда Толя спросил его, что он думает насчет творческой лаборатории писателя, Ханин совсем обозлился:
– Бросьте вы эти слова, юноша! Писатель, творческая лаборатория! Ваять, творить, поэты! Я журналист, газетчик, понимаете, и от этого высокого стиля у меня всегда такое чувство, будто меня обкормили соевыми шоколадками.
– Куда? – спросил Лапшин.
– Прямо, вдоль линии!
Морозный ветер засвистел пронзительнее.
– Вон, где огонек светится! – сказал Побужинский. – Левее немного.
Иван Михайлович поставил машину у обочины. Жестяно захлопали дверцы, Побужинский вынул маузер и на бегу крикнул:
– Там поезд идет, товарищ начальник, нужно их от поезда отрезать, Николаю Федоровичу и Окошкину не совладать при помощи курсантов.
Поезда еще не было видно, но уже слышалось его далекое и натужное пыхтение. И свет паровозного прожектора мелькнул на верхушках телеграфных столбов.
Они побежали по неглубокому, жесткому снегу, и Ханин тоже побежал рядом с Грибковым. На бегу, немножко задыхаясь, он услышал, как Толя спрашивает, есть ли у него оружие, но отвечать не хотелось, и Ханин сделал вид, что не слышит. Слева, там, где чернела будка стрелочника, громко и отчетливо затрещали выстрелы, но людей не было видно, наверное, залегли.
– К полотну, к полотну! – крикнул Лапшин. – За мной, и рассыпайтесь вдоль рельсов!
Он успел обогнать Побужинского и бежал легко, легче других, иногда только поскальзываясь сапогами на ледяных проплешинах полосы отчуждения.
Все остальное, как показалось Ханину, произошло в одно мгновение.
Мгновенно появился паровоз, заливая ярким светом прожекторов залегших в снегу военных, мгновенно распахнулись двери будки, и три черные тени, непрестанно стреляя из пистолетов, побежали навстречу Ханину. Они, разумеется, бежали не к нему, а к поезду, чтобы прыгнуть на подножки вагонов и через три километра исчезнуть в лесу. Но Ханину показалось, что они все трое бегут на него. И как это было ни нелепо, как ни глупо было безоружному кидаться на трех вооруженных бандитов, – он все-таки кинулся. Кинулся им наперерез, нелепо размахивая длинными руками, потеряв шляпу, путаясь в длинных полах пальто. И так же молниеносно, как и все предыдущее, он увидел перед собою невысокого, тонкого, ловкого, успевшего обогнать его Толю Грибкова. Под мерный и глухой грохот колес медленно ползущего пригородного состава Ханин услышал и одновременно увидел, а может быть, сначала увидел, а потом услышал, что в него стреляют, услышал цоканье пуль и увидел человека, который возник вплотную перед ним, закрыл его собою и, стреляя, закричал ругательные слова. Светлые квадраты окон поезда проносились почти у плеча Ханина, грохотало железо, гудел почему-то паровоз, а Толя Грибков лежал в наступившей внезапно тишине у ног Ханина, и рука его странно вытягивалась и заламывалась, словно он пытался достать что-то невидимое во вновь наступившем мраке ночи. Выстрелов больше не было, поблизости слышалось только какое-то кряхтение да отрывочные слова: «Вяжи руки, гляди, у него нож, осторожнее, Бочков!» И еще раз где-то далеко, по мосту может быть, прогрохотал поезд.
– Анатолий! – крикнул Ханин. – Грибков!
Только теперь он начал понимать, что случилось. И, опускаясь на корточки за спиной юноши, поворачивая его к себе, сам не слыша своих слов, он закричал хриплым, не своим голосом:
– Иван Михайлович! Лапшин! Кто тут есть! Грибкова убили… Окошкин!
– Ах, да не убили, – с досадой и со стоном сказал Толя. – Живой я. Наверное, ранили.
Рука его все еще скребла снег, и лицо было под цвет снега, когда Лапшин, Бочков и Побужинский склонились над ним, освещая его карманными фонарями. Ханина трясло. Кто-то из курсантов подал ему шляпу. Возле самого его лица мелькнули ноги Криничного, две машины сорвались и на полном газу исчезли за поворотом. Лапшин, вздыхая, накладывал повязку Грибкову, Побужинский ему светил. Вновь пошел снег, но теплее не стало.
– Как же это случилось? – уже в машине, усталым голосом, спросил Лапшин.
– Это я виноват, – помолчав, ответил Ханин.
– То есть?
– Он знал, что у меня нет оружия. И когда началась пальба, закрыл меня. В нем сидит не его пуля, а моя.
«Творческая лаборатория! – внезапно вспомнил Ханин и ужаснулся, представив себе, как обидел тогда своей нелепой раздраженностью Грибкова. – Зачем, для чего я так шуганул мальчика?»
В Детском Селе в больнице Лапшин получил документы Грибкова, его разряженный пистолет, какую-то тетрадку, книжечку Маяковского «Как делать стихи» и комсомольский билет. Тетрадку он протянул Ханину. Тот протер очки, сел здесь же, в приемном покое, на белую табуретку и стал читать. Это были Толины стихи, такие, какие пишут все мальчики в его возрасте. Тут было и про то, что такое настоящая любовь, – «без слез, без вздохов, без нелепых мук, товарищ, девушка, подруга и жена», было и про речку – «тиха, задумчива, прозрачна, глубока», было и про авиацию – «ревя моторами, идут в последний штурм», было и про уголовный розыск – «гражданин, спокойно, вы арестованы…»
– Что, хорошие стихи? – негромко спросил Иван Михайлович.
– Не знаю, – глядя в тетрадку, ответил Ханин. – Впрочем, это и не важно. Я вообще теперь не понимаю, что важно, а что совсем не важно…
Стаскивая на ходу резиновые перчатки, вошел круглолицый, молодой врач, попросил у Лапшина папиросу, сел и сказал, пытаясь закурить:
– Ну что ж, товарищи, дело серьезное. Покуда мне не совсем все ясно. Состояние его, разумеется, тяжелое. Утром соберем консилиум, позвоните…
Дежурная сестра спала, положив голову в косынке на скрещенные руки. За большими окнами серело, занимался морозный рассвет. Когда Лапшин и Ханин поднялись, в приемный покой вошел Окошкин, с красными глазами, замученный.
– Жив еще? – спросил он у врача.
– Жив, – сказал Иван Михайлович. – Пойдем, Васюра.
В машине Окошкин уныло рассказывал:
– Ушел Корнюха. И Мамалыга ушел. Которого взяли – еще личность не установлена. Корнюха с ним поменялся шапками, напялил его треух. Хитрый! Он на подножке повис и соскочил где-то на ходу, черт его знает где, – по гололеди разве разберешь? Собаку, конечно, вызвали, согласно науке…
– А Мамалыга-то как ушел? – сердито спросил Ханин.
Окошкин не ответил.
В городе ехали медленно.
Дома Иван Михайлович достал ханинскую, наполовину опорожненную бутылку коньяку, налил всем по стопке и сказал негромко, так, чтобы не разбудить Патрикеевну:
– Ну, братцы… Чтобы Толя наш поправился. Выпей, Давид Львович, вон тебя до сих пор дрожь пробирает…
Выпили и легли поспать хоть на часок. Но уснул только Окошкин: на полу, на тощем тюфяке. А Лапшин и Ханин, попритворявшись часа полтора друг перед другом, что спят, притворились, что проснулись, и сели пить чай. После чаю Ханин сразу же уехал в больницу к Грибкову, а Иван Михайлович, не велев Патрикеевне будить Окошкина, отправился в Управление.
Амба!
Жмакин лежал на кровати и курил, когда Клавдия одевалась на работу. Было слышно, как она разговаривает со старухой внизу. «Если еще зайдет сюда, – загадал Жмакин, – значит, жизнь моя кончена, если не зайдет – выберусь!» Он всегда загадывал наоборот. Клавдия вошла.
– Не спишь?
– Сплю! – угрюмо ответил он.
– Пойди в милицию, – садясь в пальто на кровать, сказала она. – Или куда там надо! Заяви – пришел добровольно. Ничего не таи, выложи все. Слышишь, Леша?
Она отвела волосы с его лба. Жмакин не глядел на нее.
– А дальше?
– Что дальше?
– Во я и спрашиваю – что дальше? Ну, явлюсь. Ну, поднесут мне цветы и музыка сыграет туш от радости, что Жмакин явился. А дальше?
– Дадут тебе срок, я ждать буду.
– Ты-то? – с презрением усмехнулся он. – Ты и недели одна не выдержишь! Что я, теперь тебя не знаю? Даже смешно, честное слово!
Клавдия опять отвела волосы у него со лба и спокойно ответила:
– Дурачок.
– Ничего не дурачок. Это сегодня у тебя в голове такая смесь пошла, что ты мне различные клятвы даешь, а через неделю сама на себя удивишься. Передовая, честная, нужен ей какой-то ворюга! Нет, дорогуша, как-нибудь обойдемся без покаяния – коли ежели нужен, изловят и отправят по назначению.
– Клавка, на работу опоздаешь! – крикнула снизу старуха.
– Не опоздаю. По какому такому назначению?
– На луну! – сказал он, хотя отлично знал, что ни о каком расстреле никто и не подумает. – На расстрел, поняла?
Но Клавдия не испугалась.
– Врешь ты все! – сказала она с улыбкой. – На нервах мне играешь. Разве ты убийца, чтобы тебя расстреливать? Или изменник родины? Просто карманник, сумочки воровал.
– Ну-ну! – угрожающе произнес Жмакин.
– Зарежешь меня, да? – спросила она. – Вот такую славненькую возьмешь и зарежешь? А что ты мне нынче ночью говорил? А когда квас от батьки принес? Ты какие мне тогда слова говорил? Ты мне и «лапушка» говорил, и «солнышко» говорил, и «ласточка» говорил, и «зайчик» говорил. Теперь вон развалился, весь перекошенный…
И она вдруг смешно, мгновенно и очень точно показала, какой он лежит весь перекошенный.
– Шла бы ты на работу, – вяло произнес он, – ну что переливать-то из пустого в порожнее. Учите все, учите, туда покайся, там сдайся! Надоели вы мне все, чтоб вас черт побрал, ну жулик и жулик, ну вор и вор, ну и кончено…
– Не кончено! – крикнула Клавдия. – Ничего не кончено! И не начато даже!
Она смотрела теперь на него со злобой, почти с ненавистью. Губы у нее дрожали.
– Я верила, что ты мужик! – жестко сказала она. – А ты тряпка. Барахло. Никто ты, никакой даже не человек, мусор…
Теперь улыбнулся Жмакин: «Воспитывает!»
Она ушла, чуть не плача.
До двух часов пополудни Жмакин лежал и курил. Дом опустел. В сущности, ему следовало уйти, вновь на вокзалы, в поезда, как раньше. Но на это не хватало воли. Дождаться бы Клавдию, тогда другое дело. И он представлял себе, как она войдет и спросит, неужели его с утра так и не покормили. А он ответит: «И что особенного?»
Только бы дождаться.
Но в два часа внизу постучали. И Жмакин понял, что теперь уже никогда не дождаться Клавдии. Спокойно, не торопясь он натянул брюки и с маху отворил дверь. Вошел милиционер – вежливый, солидный, выбритый до лоска.
– Ломов Николай Иванович здесь проживает? – спросил милиционер.
– Здесь, – сказал Жмакин, – только он вышел неподалеку. Я сейчас за ним смотаюсь. Вы посидите, погрейтесь.
Милиционер потопал сапогами и вошел в комнату. Это был рослый, очень здоровый человек с солидностью в манерах. Пока Жмакин одевался у себя наверху, он слышал, как милиционер сморкается и покашливает. Надо было еще взять деньги и паспорта – те, другие, краденые. Но тут же ему стало все равно. Он натянул пальто, прошелся по комнате и спустился вниз.
– Так я пошел, – сказал он милиционеру.
– Идите, – солидно ответил милиционер.
Жмакин отворил дверь и вышел на крыльцо. День был мягкий, пасмурный, серенький – вчерашний красный закат наврал. Летели крупные хлопья снега. Жмакин закурил, стоя на крыльце и всматриваясь в конец улочки: нет, Клавдии не было видно.
«И не увижу я ее теперь никогда, – со спокойной тоской подумал Жмакин. – Никогда!»
На ступеньках крыльца лежал чистый снег. Крупные следы сапог милиционера отпечатались здесь. А Клавдиных следочков уже не было, запорошил снег. «И не попрощался я с ней! – осудил он себя. – По-хорошему слова не сказал, а она такая – одна!»
Вновь следы милиционера озлобили его.
«Теперь подождешь Ломова! – про себя сказал Алексей. – Ломов не скоро к тебе явится. Посидишь! Набрился, черт, наодеколонился!»
Еще раз он оглянулся на дом и шепотом простился:
– Прощай, дом!
Теперь все кончилось. Железнодорожные рельсы чернели под свежим снегом. Вдали шумел поезд. Жмакин встал на колени в снег и прижался шеей к рельсу. Поезд стал еще слышнее. Он поправил колено – было больно упираться в шпалу. «Машинист увидит, – уныло подумал он, – наверняка увидит». Машинист действительно увидел его – дал два коротких предостерегающих гудка. Жмакин встал и пошел в лес. Ему казалось теперь, что он как кусок бумаги – плоский, бессмысленный, жалкий. Он шел по лесу, размахивая руками. Потом он забормотал. Первый раз он подумал про себя, что он страдает и что он несчастен. Главное, ему решительно ничего больше не хотелось: ни отомстить, ни ударить, ни напиться. Ничего. Он вдруг стал задыхаться и сел на груду валежника. Валежник был гнилой и провалился под ним, ноги нелепо поднялись в воздух, пальто зацепилось за ветки – очень трудно было подняться. Он пошел дальше, глубже, снег засыпался в туфли. Его поразило – а Клавдия? Волна невыразимой нежности обдала его. Он вспомнил все. Он вернулся, потом опять пошел в лес, потом попал к оврагу и стал слушать: какая-то птичка попискивала. Он собрал немного рассыпающегося в руках снега и швырнул в сторону писка. Птичка все попискивала.
– Все в порядке, – сказал он, согревая дыханием озябшие руки, – в полном порядочке.
И пошел к станции.
Но он запутался и не попал к станции, а вышел на шоссе и по шоссе добрел до Новой Деревни. Он даже не заметил, как добрел, – все время думал о Клавдии и о том, что теперь уже все кончено. Он не мог прийти в этот дом – сейчас там уже все знают, что он жулик и жил по украденному паспорту. Да, Клавдия… Каждую секунду образ ее возникал перед ним. Вот и город. Он заметил, что уже город, только в самом городе, возле какого-то тихого почтового отделения.
В общем, ему повезло – так он почему-то подумал здесь, у почтового отделения. Несколько дней, не два, не пять, больше, он прожил в Лахте – в тишине и спокойствии. Теперь можно было начинать все сначала, если бы это имело смысл. Если бы он был разведчиком в чужой стране, или Лапшиным, или даже Окошкиным. А он начнет без всякого смысла. Все равно его посадят. И никому, решительно никому никакой пользы. И нынче, и завтра, и послезавтра некуда идти спать, негде и не с кем сыграть в шашки, не с кем поговорить по-человечески, посоветоваться, некому пожаловаться, так зачем же еще тянуть эту опостылевшую лямку?
Завизжала дверь на блоке, из почтового отделения пахнуло теплом. Еще не зная, кому писать, Жмакин вошел в большую низкую комнату, купил конвертов, марок и бумаги, подумал и написал сначала Митрохину. Царапая плохим пером бумагу, он сообщил ему все, что о нем думает, и кончил тем, что не кто иной, как Митрохин, довел его до петли, за что Митрохину не поздоровится. Потом он написал Клавдии несколько печальных строчек. Он написал, что любит ее и чтобы она не считала все это за шутку. «Никогда я таких женщин даже и не видел, – писал он, – никогда, Клавденька, а теперь уж ничего не увижу. Не до свидания, а прощай, так как поканчиваю (тут он задумался на минуту, можно ли написать – «поканчиваю с собой», но решил, что сейчас это наплевать, и даже подчеркнул слово «поканчиваю»), так как поканчиваю с собой и больше никого не обеспокою своим существованием».
Последнее письмо было Лапшину. Здесь он кратко сообщал, уже в прошедшем времени, что Алексей Жмакин тогда-то и тогда-то лишил себя жизни «по причине отсутствия правды на земле, различных подлостей, бюрократизма и таких личностей, как Митрохин». Все три письма он отправил для верности заказными.
Теперь оставалось придумать смерть.
Дверь почтового отделения захлопнулась за ним. Письма ушли. Не мог же он теперь остаться живым и здоровым. Да и не хотел. Надо бы отравы. Яда. Какие-то названия вспомнились ему, наверное из блатных песен, – сулема, мышьяк. И вдруг еще одно слово вспомнилось, из давних времен, из тех, когда он мальчиком, в кухне, читал книжки про людоедов, про таинственные клады, про пиратов. «Кураре», – вспомнил он и улыбнулся замученной улыбкой.
Кураре, сулема, мышьяк! Это все можно купить в аптеке, наверное, по рецепту. А если очень попросить?
Но как он ни просил – ему не дали. Не дали даже, когда он придумал, что срочно нужно травить крыс. Ему вежливо посоветовали обратиться в специальное учреждение, и тогда придет специалист, который особым составом уничтожит крыс.
– Тоже бюрократизм! – уныло ответил Жмакин директору аптеки.
И долго потом разглядывал лекарства, мыла, спринцовки и мочалки в витрине. И духи. Глупый человек, ни разу он не сообразил своей дурацкой башкой подарить Клавдии духи. Или коробку с мылом и пудрой. Вот эту, за сорок пять рублей шестьдесят копеек. Кто это придумал шестьдесят копеек? Он увидел пачечки «безопасных» лезвий и долго на них смотрел. Потом вспомнил все. Это очень хорошо укладывалось. Он и согреется, и не надо идти в чужой двор – очень ловко придумал.
Он купил лачку лезвий и порошков от головной боли. У него болела голова. Тут же он подумал, что это смешно – проглотить лекарство, а потом зарезаться. И выкинул из трамвая порошки.
Баня была новая, роскошная, с колоннами из мраморного, похожего на асфальт, материала, с яркими лампами, заключенными в матовые цилиндры, со злым швейцаром в галунах.
– А буфет у вас имеется? – спросил Жмакин, внезапно подумав о водке.
– Наверх и налево, – нелюбезно ответил швейцар.
В буфете Алексей сел за столик и заказал себе столку и бутерброд с икрой. Он был один в высокой комнате со стойкой – больше посетителей не было. С голоду и от усталости его разобрало после первой же стоики. «Слаб стал, – укоризненно подумал он, – не человек стал, мочалка стал. Пора, пора!»
Ему принесли еще водки, он выпил еще и еще одну стопку заказал. «Теперь сделано, – решил он, – теперь в порядочке. Теперь я храбрый, теперь ничего не испугаюсь».
Но все еще сидел, шевеля губами, прощаясь со всей своей так глупо прожитой жизнью. Что следовало вспомнить в эти минуты? Он не знал. Сиротство? Кухонные вопли, когда они не досчитались двух украденных им серебряных ложек? Завуча, спросившую у него, правда ли, что он вор? С кем попрощаться? С Клавдией, которая, несомненно, его забудет и только поморщится, если вспомнит. Впрочем, с одним человеком он бы попрощался, но этот человек давно умер, и даже фамилии его Жмакин не помнил. Это был старенький начальник отделения милиции, единственный, который при нем тогда сказал, что украсть от голода две серебряные ложки – это еще не стать преступником.
Подперев голову руками, пьянея все больше и больше, Жмакин настойчиво вызывал перед собой совсем потускневший образ старенького начальника отделения и говорил ему шепотом:
– Видите, стал все-таки преступником. А теперь кончаюсь. Но это ничего. Это – так и надо. Короче, я вас подвел, начальник, но временно. Мои ошибки в ближайшие минуты будут исправлены.
Миловидная официантка подошла со сдачей. Он взглянул в ее сомлевшее от скуки лицо, сделал губами стреляющий звук и поднялся, загремев стулом.
Он был полон чувства свободы.
«Без сожаленья, без усмешки, – в стихах думал он, – недвижим, холоден как лед».
Это была особая стадия опьянения: он сделался таким решительным теперь! Он поднимался по лестнице, как никто, – уверенно, легко. Ноги сами несли его. И он потешался: Лапшин-то, Лапшин! Пожалуйста, берите Жмакина. Вот он! Хоть пять лет, хоть десять! И Клавдия! «С тобой туда-сюда!» Извиняюсь, вы свободны. Нам с вами не по дороге. Вам – направо, мне – налево…
А вдруг здесь возьмут?
Опираясь на перила, он думал.
Вдруг сюда пришел Лапшин? Или Бочков захотел помыться в баньке? Или Окошкин?
«Без сожаленья, без усмешки, – повторил Жмакин стих, – без… Нет, не может быть такого случая».
Он вошел в комнату для ожидающих своей очереди.
В ванные кабинки была очередь, небольшая, человек семь. Было жарко, из открытой двери тянуло банным духом, паром, слышался плеск воды, голос банщика: «Ваши сорок минут кончились, поторопитесь…»
Жмакин сел на скрипящий стул под часами-ходиками, громко отстукивающими время. Комната была окрашена голубовато-зеленой краской. Банщик был в халате и в русских сапогах, с длинным острым лицом. Они оба внимательно поглядели друг на друга. «Ихний, – подумал Алексей, – лапшинский!» Ему сделалось ясно, что банщик – подставное лицо, что на самом деле он вовсе не банщик, а, скажем, помощник уполномоченного. «А если даже и банщик – то все равно легавый, – думал он, – все они сейчас слегавились». И, встретившись еще раз глазами с банщиком, он ему подмигнул, как жулик жулику, – весело, нагло и в то же время как бы вовсе и не подмигивая.
Настроение у него все поднималось. Рядом сидел человек – тупоносый, обросший щетиной, ковырял в зубах спичкой и читал маленькую книжечку. Он отгораживал от Жмакина входную дверь и сидел в напряженной, не очень удобной позе, видимо рассчитывая взять Алексея в ту же секунду, когда он встанет, чтобы убежать. «А я вас всех обману, – думал Жмакин, глядя на тупоносого с чувством собственного превосходства и презрения к нему, – я всех обдурю, да еще как. Не судить вам меня и не выслать, и над тюрьмой над вашей я смеюсь». Он немножко засвистел сквозь зубы, потому что тупоносый на него покосился, а ему необходимо было показать полную свою независимость. Тотчас же он увидел некоторую растерянность в глазах тупоносого, но приписал ее испугу оттого, что он, Жмакин, раскрыл игру тупоносого, и, посвистывая, отвернулся с чувством удовлетворения.
Ожидающие очереди сидели почти полукругом, и Алексей был вторым от правого конца полукруга. Он закурил и, отмахивая дым ладонью, с точностью выяснил, что все тут имеют отношение к уголовному розыску. «Психую», – на секунду подумал он, но не додумал до конца, отвлеченный видом толстого человека в черном пиджаке и в черном галстуке. Человек этот внимательно и строго глядел прямо в лицо Алексею черными без блеска глазами и одновременно, не отрывая взгляда от Жмакина, шептал на ухо своему соседу – маленькому горбуну, тоже поглядывающему на Жмакина. И горбун и толстый в черном чем-то его поразили, он затаил дыхание и отвернулся от них, раздумывая. Они не могли быть оперативными работниками, он понимал это. Кто же они в таком случае? Может быть, это те, которые занимаются наукой, печатают пальцы заключенным и считают приводы и судимости? Интересно стало поглядеть, как будут крутить Жмакину руки?
– Следующий! – сказал банщик.
Из коридорчика бани вышел распаренный дядька и валкой походочкой прошел мимо Жмакина, но не спустился по лестнице, а встал на площадке и закурил. «Грубоватый приемчик», – подумал Алексей и постарался подавить неприятную пляшущую дрожь, которая то начиналась в нем, то сама исчезала, но справиться с которой он не мог.
– Следующий! – повторил банщик.
Жмакину кровь кинулась в лицо, он встал и неожиданно для себя произнес:
– Следующая моя.
Ему показалось, что все стали переглядываться и улыбаться, и что заскрипели стулья, и ходики защелкали чаще и громче, но на самом деле ничего этого не было, и он вдруг понял, что сходит с ума.
– Восьмой номер, – вслед ему сказал банщик.
– А где восьмой? – машинально спросил он.
– Вот восьмой, – с насмешкой сказал бантик и, обогнав его, раскрыл перед ним дверь.
– Это восьмой? У меня ванна!
– Да, это восьмой. Ванна.
Жмакин молча, как бы в раздумье, стоял перед раскрытой дверью.
– Не нравится? – спросил банщик. – Извиняюсь, у нас все кабинки одинаковые.
Жмакин сдержался, чтобы не ударить банщика снизу вверх под челюсть, и вошел в кабинку. Крючок, вырванный с мясом из двери, лежал на решетчатом полу. Алексей нагнулся, поднял его, подбросил на ладони. Он опять дрожал. Дверь была полуоткрыта. Он думал, морщась от напряжения, зажав крючок в вспотевшей ладони. Потом сообразил. Вынул из кармана финский нож, наметил в двери дырку повыше того места, где раньше был крючок, и стал ввинчивать в дерево основание крючка. Он делал это медленно и с ненужной силой, весь обливаясь едким, мучительно обильным потом, и мелко дрожал. Он дрожал до того, что вдруг застучали зубы – сами собою, и он не мог сделать так, чтобы это прекратилось. «Или с голоду, или что такое, – силился он объяснить себе свое состояние, – или они меня сейчас возьмут…»
Завинтив крючок до отказа, он попытался закрыться в кабинке, но дверь набухла, и крючок не лез в петлю. Надо было посильнее захлопнуть. Быстро раскрыв дверь, для того чтобы потом с силой притянуть ее к косяку, он внезапно увидел в коридоре того толстого в черном. Жмакин не закрыл дверь и вгляделся. Толстый стоял на белом кафеле, и сзади него тоже был кафель, и сам он – смуглый, в черном – казался вырезанным из бумаги.
– Послушайте, – сказал толстый своим приказывающим голосом и, выбросив короткую руку из-за спины, сделал шаг к Жмакину. Но Алексей с размаху захлопнул дверь и забросил крючок. Сердце у него колотилось. Он слышал сухие шаги по кафелю за дверью.
– Послушайте, – повторил толстый и стукнул в дверь.
– Да, – сказал Жмакин.
– Извините, нет ли у вас папироски?
– Папироски у меня нет, – солгал Жмакин, – чего нет, того, знаете ли, нет!
Толстый не отходил от двери. Или это ему казалось?
Переждав еще несколько секунд, Жмакин пустил воду в ванну и стал раздеваться. Ужасный страх мучил его. Он обливался потом. Из ванны поднимались клубы пара. Все было враждебно ему, весь мир ополчился против него, все желали ему гибели, все ликовали, что его сейчас возьмут. Толстый стоял за дверью. Банщик распоряжался людьми там, в той странной зелено-голубой комнате. Сейчас здесь будет Окошкин. Вода с хрипом и клокотанием вырывалась из труб. Он взглянул наверх. Красная лампочка едва мерцала в сыром, горячем воздухе. «И подыхать в темноте», – со злобой и отчаянием подумал он. Ему представилась та свинья, которую неумело и нелепо резали давеча в Лахте, и красный закат, и лицо Клавдии, залитое слезами. «Конец, точка, амба! – думал он, прислушиваясь сквозь вой воды ко всем шумам бани. – Сейчас войдут!» Хлопнула дверь на пружине. И еще раз. «Поперек горла кое-кому Жмакин». Он почти реально видел Окошкина с его легкой походочкой и легкой усмешкой, с его румянцем, видел его стоптанные сапоги, широкий ремень… Даже поскрипывание старых окошкинских сапог слышалось ему.
– Врешь, Жмакина так не возьмешь, – бормотал он, – ни-ни! Жмакин сам решает свою судьбу, вот каким путем…
Он рвал на клочки паспорта, которые были в кармане, швырял клочки в форточку. Потом мокрыми руками он изорвал деньги, чтобы никому не достались, и тоже швырнул их в форточку.
Какие-то обрывки старых, полузабытых песен шумели у него в ушах, он отгонял их, но они лезли вновь и вновь:
Централка, все ночи, полные огня, Централка, зачем сгубила ты меня? Централка, я твой бессменный арестант, Погибли юность и талант в стенах твоих…«Какой талант? – с бешенством сопротивлялся он песне. – Вот он – талант, вот его конец. Таланты, сволочи, научили меня жизни!»
Цыганка с картами, дорожка дальняя, Дорожка дальняя, казенный дом, Быть может, старая тюрьма центральная Меня, мальчишечку, давно уж ждет…У него темнело в глазах от головной боли, и он внезапно подумал, что когда сделает «это», голова наверняка перестанет болеть.
Опять по пятницам пойдут свидания И слезы горькие моей семьи…«Где семья? Какая?» – огрызнулся он на слова песни.
Наконец он нашел в кармане пиджака, а вовсе не в брюках, пакетик с «безопасными» лезвиями и сорвал обертку. Каждая бритва была в отдельном конвертике из пергамента, и чувство злобы на всю эту аккуратность охватило Алексея. Он выбрал одно лезвие и, чтобы не порезать пальцы, снял конвертик только с половины лезвия, на второй же половине устроил из бумаги нечто вроде ручки, какая бывает у чинки для карандашей.
Вода уже была налита; он попробовал, не слишком ли горяча, ногою, добавил холодной и, опираясь одной рукой о стенку, а в другой – в пальцах – держа бритву, встал в ванну. Воды было по колено, и, стоя, он увидел свой живот, втянутый и розовый от жары, увидел напруженные мускулы ног. Тотчас же ему вспомнилась Клавдия, и его охватило такое отчаяние и такая жалость к самому себе, что на глазах появились слезы. Потом ему показалось, что Клавдия говорит голосом Лапшина, с его растяжечкой: «Ах ты, Жмакин, Жмакин!» И опять: «Ах ты, Жмакин!»
Но тут же он вспомнил, что за ним следят и могут его взять, подумают, что он уходит в окно, и он решил, что для того, чтобы привести в исполнение задуманное дело, надобно хотя бы свистеть до тех пор, пока хватит сил, тогда они убедятся, что он здесь, и будут спокойно ждать его выхода.
И он засвистел, ровно и не напрягаясь, легонький и вместе с тем вызывающий какой-то мотивчик, какую-то забытую одесскую босяцкую песенку со странными, лихими и наглыми словами:
В Олеховском переулке — Там убитого нашли, Он был в кожаной тужурке, Восемь ран на груди, На столе лежит покойник, Тускло звездочки горят, Это был налетчик, За него отомстят.Опершись левой рукой на борт ванны, а правой подняв над головой лезвие, он лег и закрыл глаза. Слезы проступили на ресницах. Потом вытянулся так, что хруст прошел по всему телу, и поднес руку к самому лицу. Еще нужно было сжать кулак, чтобы голубая вена выступила с тыльной стороны запястья. И она выступила, та вена, которую он сейчас перережет. Машинально он все еще насвистывал:
На столе лежит покойник, Тускло звездочки горят…Опустив правую руку неглубоко в воду над грудью, Алексей приставил к тому месту на левой руке, которое только что разглядывал – к голубоватой вене, – лезвие и, сделав круглые глаза, все еще не переставая свистеть, полоснул им сверху книзу. Боли он не почувствовал, только немножко сбился в свисте и прислушался: в коридоре из репродуктора бурно гремела какая-то незнакомая музыка. «Смотрите-ка, – удивился Жмакин, – под музыку помираю».
Вода в ванне медленно розовела. «Эдак я до завтра кончаться буду», – подумал Жмакин и, переложив лезвие под водой из правой руки в левую, он крепко прижал локоть к груди и опять полоснул, не почувствовав решительно никакой боли. А за дверью, из репродуктора, сытый мужской голос предупредил, что сейчас будет петь какая-то народная артистка, и тотчас же раскатились звуки рояля, и Жмакин в предсмертной полудремоте услышал удивительные слова:
Начинаются дни золотые Огневой непродажной любви. Эх вы, кони мои вороные, Черны вороны, кони мои…«Что это? – с тревогой, но как бы во сне спросил он себя. – Что это? О чем она?»
Вода теперь не розовела, а краснела. «Еще на ногах вены перерезать, – подумал он, – на ногах, да!» И, совсем почти засыпая, принялся подниматься и подтягивать к себе ногу, так, чтобы перерезать вену возле щиколотки. Но едва только он начал резко двигаться – слабость и немота до того вдруг усилились, что он на мгновение потерял способность слышать, понимать, думать. Отвалившись назад, Алексей уронил руки в воду, и вода опять стала краснеть, с каждой секундой все более. Но он нашел в себе силы еще раз сесть и, преодолевая резкую тошноту, нагнуться вперед и совершенно уже немеющей рукой, пальцами, сжимающими лезвие, полоснуть не по вене, а просто так – наугад, и еще раз наугад, и еще, и успел сам на себя подивиться – на свою выносливость. В глазах у него зарябило, а прекрасный сильный голос все еще доносился из репродуктора:
Мы ушли от проклятой погони! Перестань, мое счастье, дрожать. Нас не выдадут черные кони, Вороных никому не догнать!«Что же я сделал? – вдруг подумал Жмакин и стал приподниматься в ванне из последних сил. – Что же это я делаю! – крикнул он сам себе, зажимая пульсирующую кровью артерию ладонью. – Ведь я же себя убил…»
Нас не выдадут черные кони, Вороных никому не догнать…– Товарищи! – крикнул Жмакин. – То-ва-ри-щи!
Кровь заливала белый кафель, край ванны. Он толкнул плечом дверь, но было уже поздно. На него шла Клавдия в застиранном узком платье, и Лапшин шел, и Бочков, и, щурясь узкими глазками, шел хитрый Митрохин. И где-то пели, кричали, смеялись, что-то рушилось, ломалось, клокотала и брызгала вода. Губастый Корнюха протянул ему руку лодочкой. Мутнеющие глаза Жмакина брезгливо закрылись, и шепотом, с ненавистью в голосе, он сказал:
– Амба! Привет от Жмакина!
В марте
Садитесь, Невзоров!
Следствие по делу Тамаркина все тянулось и тянулось, и украденный мотор давно уже стал казаться совершеннейшей мелочью по сравнению с масштабами деятельности всех тамаркинских начальников, помзаводов, дружков, поддужных, толкачей и доставал. Лист за листом прибавлялись документы в пухлые папки, пальцы следователей немели от писания, бесконечные комбинации шарашкиной артели распутывать было трудно и довольно-таки противно. Один только Николай Федорович Бочков оставался в ровном расположении духа, распутывая моток преступлений, тщательно запутанный не только Тамаркиным, но и председателем Савелием Ефимовичем, и неким беглым Штаде, и двумя Ивановыми, и спившимся подонком Игнацием Зобиным. Все эти люди называли других, другие третьих, третьи возвращались опять к первым, но с изменениями и дополнениями, и бедный Окошкин только головой крутил и вздыхал, чувствуя себя в какой-то мере виноватым за всю эту историю.
Внезапно вынырнули какие-то (почему-то на тонны) четыре тонны коленкора, потом стекло в таре заказчика, потом Игнаций Зобин показал на Тамаркина, что тот продал семьдесят один ящик куриных яиц «экстра» и много сливочного маргарина. Все это было, разумеется, краденое.
– Вы подтверждаете хищение маргарина и яиц? – спросил Окошкин.
– При чем здесь хищение? В данном случае как раз я был не больше чем комиссионером. Толкнул левый товар, и ничего больше.
– Хорошенькое «ничего больше».
– Разрешите папиросочку? – попросил Тамаркин.
Он уже совершенно освоился в тюрьме, был старшиной в камере и даже написал Лапшину жалобу, таким языком и с такими намеками и вывертами, что Иван Михайлович, читая ее, сделал губами – будто дул, и сказал:
– От чешет. Ну прямо Александр Федорович Керенский.
– Куда же вы яйца распродали? – спросил Окошкин, кладя перед собой новый бланк допроса. – Только сразу, Тамаркин, откровенно.
– Я же с вами как с братом! – ответил Тамаркин. – Можете не сомневаться, гражданин начальник, если пришло время платить по векселям, то я плачу. Итак, куда ушли яички? Яички ушли через мою маму. Дальше Агнеса Юльевна Лазаревич, через нее прошло около шестидесяти ящиков. Знакомым, друзьям, я знаю…
Окошкин предостерегающе взглянул на Тамаркина, и тот понял этот взгляд, так как добавил:
– Это же одна шайка-лейка, я в том смысле утверждаю, что в этом паршивом мире спекуляции все знакомые. Мадам Лазаревич сделала себе на яичках норковую шубу, а ее муж – эта крупная щука Соловкин, – тот пропустил через свои руки маргарин. И еще Сонин Эдуард Максимович…
Ему было уже море по колено, он выдавал всех и держался так, будто его запутали и будто он ребенок. На допросах Тамаркин часто говорил про себя:
– Ах, гражданин начальник, все мы, Тамаркины, слабовольные люди. Мой покойный папаша ужасно играл в карты, и у нас не было нормального семейного очага, потому что власть над ним захватила одна женщина с железным характером, не будем касаться этих могил.
А на очной ставке с беглым Штаде Тамаркин произнес:
– Это мучительно! Поймите, гражданин Штаде, что я еще дитя, а вы – матерый хищник.
На что Штаде ответил пропитым басом:
– Если кто получит стенку за расхищение соцсобственности, то это вы, дитя.
Поговорив про краденые яйца, Тамаркин спросил, правда ли, что у Окошкина неприятности из-за дружбы с ним, с Тамаркиным.
– Это вас не касается! – сухо ответил Василий Никандрович, но слегка покраснел.
– Во всяком случае, – сказал Тамаркин, прикладывая руку чуть выше желудка, – клянусь своим больным сердцем, я в любое время дня и ночи могу подтвердить, что никакой дружбы между нами никогда не было…
И он сделал такую пакостнически-сообщническую, поганую морду, что Окошкин швырнул вставочку и крикнул:
– Вас не спросят! И никому ваша доброта не нужна и все ваши подтверждения. Никто не нуждается…
В двенадцатом часу дня к столу Окошкина подошел Лапшин, взял протокол допроса, почитал и покачал головой.
– Ужас! – сказал он. – Что только делается!
И опять покачал головой с таким видом, будто не встречал в своей жизни более страшных преступлений.
– Даю самые чистосердечные показания, – произнес Тамаркин. – Можно считать, действительно, не за страх, а за совесть.
– Совесть! – усмехнулся Лапшин. – Эх, Тамаркин, Тамаркин!
– Совершенно верно! – согласился Тамаркин. – Еще вернее, что я бывший Тамаркин, или все, что осталось на сегодняшний день от Тамаркина. Но я исправлюсь. Я готов к перековке. И, поверьте, меня перекуют.
– Ой ли?
– Перекуют! – воскликнул Тамаркин. И тотчас же довольно развязно осведомился: – На пять лет потянет мое дело? Или больше? Или суд даст снисхождение на основании моего полного и чистосердечного раскаяния?
– Там увидим! – сказал Лапшин. – Суд знает, кому что требуется. Получите по заслугам, не больше, но и не меньше.
Попыхивая папироской, он написал Окошкину записочку, чтобы «закруглялся, так как в 13.00 прибудут наконец братья Невзоровы».
Открывая дверь к себе в кабинет, он услышал телефонный звонок, и недоброе предчувствие словно холодом обдало его. Из Детского звонил Ханин. Он рассказал, что только что уехали профессора, нового ничего не сказали. Положение по-прежнему тяжелое.
– В сознания он?
– Так. Не очень. Смутное сознание.
– Мамаша его сильно переживает?
– Трудно ей, – ответил Ханин. – Женщина еще не старая, один сын. Держится. Давеча сказала как про мертвого про Толю: «Он всегда такой был – себя не щадил…»
– А ты что ж там, Давид Львович, жить поселился?
– Пока поживу. Ты пойми – я не могу уехать.
– Да, я понимаю.
Они помолчали.
– Ну а у вас что? – осведомился Ханин.
– Да ничего особенного, – сказал Лапшин. – Вот в газете пропесочили нас нынче за нерадивость. Один пьяный тещу побил – куда смотрела милиция. По Демьянову врезали, двадцать лет ни одного взыскания не имел, наверное погонят. Пресса – великое дело. Ну ладно, будь здоров, Давид, я поближе к вечеру приеду с Антроповым, он хирург толковый, хотя и не профессор.
Повесив трубку, Лапшин попил жидкого чаю и по телефону стал проверять, что слышно с Корнюхой. Побужинский и Криничный опять уехали, сообщений от них не поступало. Было уже двадцать минут первого. Выбритый, вылощенный, с подстриженными, ровными щеточками седых усов, ни дать ни взять голубых кровей офицер, пришел кротчайший Леонид Лукич Коровайло-Крылов, судебно-медицинский эксперт, старый учитель Лапшина, спросил строго:
– Здоровье как?
– Скрипим помаленьку.
Папка с делом братьев Невзоровых лежала возле локтя Лапшина. Коровайло взглянул на нее боковым зрением, словно воробей перед тем как клюнуть. Поговорив для приличия слегка о погоде, Иван Михайлович развязал тесемки, Коровайло протер стекла очков.
– Вы ведь и на место выезжали? – осведомился Лапшин.
– Так точно!
Глубоко штатский Леонид Лукич страстно почитал военную дисциплину, форму, манеру держаться, лаконизм, четкость. Пиджак, жилетка, галстук тяготили его. Года два, сразу после революции, он ходил во френче и в английских бриджах, носил краги и даже портупею, был принят за белого офицера и доставлен на Гороховую, 2 Лапшиным. Недоразумение быстро выяснилось, чекисты посмеялись, профессор Коровайло навсегда расстался с крагами и портупеей. Но держался по-прежнему, словно старый боевой генерал в отставке.
– Убежден, – сказал Коровайло, – совершенно убежден, дорогой Иван Михайлович, что тяжелораненый Самойленко сам прополз вот эти два и три десятых километра, иначе – два километра триста метров…
– Следовательно, при своевременном оказании медицинской помощи он бы мог спастись?
– Сейчас и Александра Сергеевича Пушкина спасли бы, – наклонив голову с пробором, сказал Коровайло, – и Лермонтова.
– Можно предположить, что Самойленко умер от потери крови и переохлаждения? Помню, вы читали нам лекцию о смерти Лермонтова…
– Совершенно верно, – все еще вглядываясь в фотографию, ответил эксперт, – здесь аналогия уместна. Если бы Михайлу Юрьевича дураки не оставили под проливным дождем, да еще и холодным…
Лапшин поправил:
– Дураки и трусы…
– …и трусы, а сразу согрели бы, то…
– Выжил бы?
– В то время вряд ли, но сейчас почти наверняка. Имеется предположение, и очень обоснованное, что скончался Лермонтов много позже, а именно тогда, когда его снимали с арбы…
– Когда он вздохнул?
– И это помните?
– Я ваши лекции, Леонид Лукич, отлично помню…
Коровайло покраснел сизым, стариковским румянцем. Относился он к Лапшину с огромным уважением, до сих пор не понимая, как из неграмотного деревенского парня «образовалась вот эта интеллектуальная силища», и всегда радовался, если случалось Лапшину обратиться к нему за советом.
– Интереснейшее дело, – произнес Коровайло. – До чрезвычайности.
– Мне оно не слишком интересно.
– Почему так? Со стороны этической?
– Пожалуй.
И он вновь открыл папку, уже завязанную руками Коровайло, и стал – в который раз за эти месяцы – перекладывать фотографии истлевшего трупа, страшного, лишенного лица, кожи, волос, такие фотографии, которых нигде больше не увидишь, кроме как в этих папках, да еще в Музее уголовного розыска. А старый мудрец Коровайло рассказывал, как все произошло, откуда стреляли, как Самойленко еще прошагал немного, как повалился и пополз…
– Не верил, что его бросили, звал на помощь, – произнес Лапшин. – А? Или это по науке не определишь?
– По моей нет, по вашей – весьма возможно! – отозвался Коровайло.
Лапшин велел подать старику машину, проводил его до двери и приказал привести Глеба Невзорова.
– Слушаюсь! – строгим, служебным голосом сказал Бочков. И добавил шепотом: – Напуганы оба до невозможности.
Иван Михайлович кивнул.
Ему на мгновение стало душно, он распахнул форточку и подышал морозным воздухом Дворцовой площади. И странно: не радость от того, что дело, по существу, распутано, не ощущение близкой и окончательной победы, не облегчение испытывал он сейчас, а горечь. Горечь от того, что в том мире, который он столько лет и с таким трудом создавал, существуют, и не только существуют, но и живут припеваючи братья Невзоровы. Горечь от того, что несомненно погибнет Толя Грибков, а Невзоровы отбудут положенный срок и возвратятся, и будут считаться, что в молодости мало ли какое бывает. Самойленко забудут, и Толю Грибкова забудут, так уж устроена жизнь, а у Невзоровых – это непременно им скажет их папаша – «все еще впереди…»
Потом, не торопясь, он обернулся.
И Невзоров Глеб увидел такие глаза, которые запомнил если не навечно, то на долгие, на очень долгие годы. Это не были «ледяные» глаза, о которых он читал в книгах. Это тем более не были «пронизывающие» глаза, которые попытался час тому назад «организовать» Вася Окошкин. И «холодными» не были эти глаза, в них читалось только одно выражение – выражение брезгливого презрения, тяжелого, давящего, уничтожающего.
– Садитесь, Невзоров, – сказал Лапшин, кивком показывая, что Невзоров может сесть не в мягкое кресло возле стола, а поодаль, на стул. – Вы Невзоров Глеб?
– Да, Невзоров Глеб.
Теперь оба сидели. Лапшин курил глубокими затяжками, стараясь перестать думать о Толе Грибкове, еще живом, и о тех своих товарищах, которые погибли на протяжении таких нелегких лет во имя того, чтобы радостно, светло и тепло росли эти, допустим, братья Невзоровы. Вот и выросли! Вот и выросли, как говорилось раньше, «церкви и отечеству на пользу». Выросли, не зная нужды, под крылом папеньки-профессора и маменьки, обожающей «своих мальчиков». Выросли…
Сильно придавив пальцем окурок в пепельнице, Лапшин тяжело вздохнул и, не глядя на Невзорова, осведомился:
– Вы понимаете, почему тут очутились?
– Не желаю понимать! – наглым, звенящим и бешеным голосом ответил Глеб. – Вы еще ответите за все ваши действия. Не на того напоролись. А когда вас поволокут к ответу – тогда прощения не просите. Ясно вам?
Лапшин едва заметно улыбнулся. Эх, Бочков, Бочков, простая душа. Напуганы? Нет, эти не таковские. Ну да что ж, посмотрим. В восемнадцатом, в девятнадцатом были мальчики и похлеще, и зубы были у них поострее, и враги были ясно выраженные, из другого, раздавленного класса. Ничего, все понимали и смирялись со своей судьбой. Спокойствие только нужно, железное спокойствие, как учил Феликс Эдмундович: никогда голоса не повышать, ибо враг подумает, что аргументов у тебя – один только голос.
– Если мы неправы, то, разумеется, попросим прощения, – мягким, почти что дружественным голосом сказал Лапшин. – Но пока об этом рано поднимать вопрос. Так что давайте, гражданин Невзоров, спокойненько, без нервов, побеседуем. Согласны?
Боль моя плачет…
Жмакин очнулся на чем-то белом, ярком, твердом и с ненавистью обвел зелеными, завалившимися глазами часть стены, сверкающий бак, вроде как для питьевой воды, узкую сутуловатую спину в халате.
Никто не обращал на него решительно никакого внимания.
Напрягая нетвердую еще память, он осторожно вспомнил все то, что произошло с ним в бане. Кажется, он попытался покончить жизнь самоубийством?
Терзаясь стыдом, слабый, зыбкий, с неверным взглядом косящих глаз, он лежал на тележке в перевязочной и заклинал: «Умереть! Ах, умереть бы! Умереть, умереть…»
Кого-то вносили и уносили, на его зелено-серое лицо падали блики от стеклянной двери, и эти блики еще усиливали его мучения. К тому же он был безобразно, нелепо голым и таким беспомощным и слабым, что даже не мог закрыть себя краем простыни… «Ах, умереть бы, – напряженно и страстно, с тоской и стыдом думал он, – ах, умереть бы нам с тобой, Жмакин…»
Он слышал веселые голоса и даже смех, а потом сразу услышал длинный, захлебывающийся, хриплый вой…
– Но, но, – сказал натуженный голос, – тише, пожалуйста!
Вой опять раздался с еще большей силой и вдруг сразу умолк.
– Поздравляю вас, – опять сказал натуженный голос.
Сделалось очень тихо, потом раздались звуки работы, топанье ног, шарканье, отрывистое приказание; потом мимо голых ног Жмакина проплыла тележка с чем-то покрытым простыней. «Испекся», – устало подумал Алексей и позавидовал спокойствию того, кто был под простыней.
– Ну, Петроний, – сказали совсем близко от него.
Он скосил глаза.
Высокий, сутуловатый человек, еще молодой, с худым и потным лицом, в величественной белой одежде, измазанной свежей кровью, стоял над ним и, слегка сжимая ему руку, считал пульс.
– Чего? – сказал он, заметив взгляд Жмакина и продолжая считать. – Плохо?
– Ничего, – слабо ответил Алексей.
– Вот и ничего, – сказал врач и ловко положил руку Жмакина таким жестом, будто это была не рука, а вещь. – Как фамилия? – спросил он.
– Бесфамильный, – сказал Алексей.
Врач еще поглядел на него, устало усмехнулся одним ртом и ушел. А Жмакина повезли на тележке в палату. Здесь было просторно, и свет не так резал глаза, как в перевязочной. Он полежал, поглядел в огромное, без шторы окно, подумал, морща лоб, и уснул, а проснувшись среди ночи, слабыми пальцами снял повязку с левой руки и разорвал свежий шов. Простыня стала мокнуть, а он начал как бы засыпать и хитро думал, засыпая под какой-то будто бы щемящий душу дальний звон и как бы качаясь на качелях, думал о том, что всех обманул и убежал и что теперь его уже никак никому не поймать. А душу все щемило сладко и нежно, и он все падал и падал, пока звон не сомкнулся над ним глубоким темным куполом и пока его не залила черная, прохладная и легкая волна. Тогда он протяжно, с восторгом, со стоном выругался, и к нему подошла сестра.
– Что, больной? – спросила она.
Жмакин молчал. Глаза его были полуоткрыты, зрачки закатились.
Сестра поджала губы и монашьей, скользящей походкой побежала в дежурку. Минут через десять Алексея с перетянутой ниже локтя рукой положили на операционный стол. Белки его глаз холодно и мертво голубели. Он лежал на столе нагой, тонкий, с подтянутым животом и узким тазом, подбородок его торчал, и в лице было лихое, победное выражение.
Ему сделали переливание крови и отвезли в маленькую палату для двоих. На рассвете он очнулся. В кресле возле него дремала сиделка. На второй кровати тихо плакал злыми слезами черненький, носатый, бровастый человечек.
– Заткнись, ты! – велел ему Жмакин.
Человечек всхлипнул, помолчал, кусая губы, потом спросил:
– Самоубийца, да?
Жмакин не ответил, чувствуя какой-то подвох. Потом задремал. Утром его чем-то кололи, а черный человечек в это время был на перевязке.
– Он кто? – спросил Алексей.
– Этот? – сестра кивнула на пустую кровать, и глаза ее вдруг блеснули, словно у восемнадцатилетней девушки. – Замечательный парень. Агамирзян. Испытатель и вообще изобретатель. Обгорел ужасно, страдает и терпит.
– Ну да, терпит. Всю ночь ревел, как баба.
Сестра, поджав губы, промолчала. Вновь она сделалась старенькой. Погодя на каталке привезли черного, он сопел и скрипел зубами, а когда сестра ушла, спросил, как ночью:
– Самоубийца, да?
– Отвяжись! – длинно выругавшись, посоветовал Жмакин. – Изобретатель – изобрел ножик хлеб резать!
– А ты – дурак! – завизжал Агамирзян, и Жмакин даже испугался, такой у него был тонкий, писклявый и пронзительный голос. – Дурак, самоубийца, осел! Ах, она пошла под ручку с другим, ах, она придет плакать на мою могилу, ах, – визжал он, изображая какую-то девицу. – На меня она тоже наплевала, дурак ты, ничтожный мальчишка, вот мне теперь, наверное, ногу будут резать, так кто я? Советский человек или проходимец из Порто-Рико? И без ноги можно делать мою работу, осел ты, мне нога не нужна совсем, плевал я на ногу, сволочь она, если не держится, нате, берите, режьте…
Внезапно он опять заплакал и сквозь слезы пожаловался:
– Боль моя плачет, не я плачу, злость моя плачет, на себя злюсь, зачем делал не так, как меня конструктор учил. Дерьмо я, не человек…
И быстро добавил:
– И ты тоже дерьмо, хуже меня дерьмо, совсем последний дурак, вот ты кто. Слышишь, да?
Жмакину стало смешно, впервые за это время. А может быть, Агамирзян был сумасшедшим? И никакой он не изобретатель и не испытатель, взорвался в руках у пьяного примус – всего и делов. Эту нехитрую мысль он высказал вслух.
– В общем, почти что примус! – неожиданно кротко согласился тот.
В обед Агамирзяну принесли массу дорогих цветов в корзинах и горшках, и кровать его сразу стала похожа на гроб. «Нет, такие цветы по случаю примуса не посылают, – сердито рассудил Жмакин, – такие цветы на многие сотни тянут, это от завкома или что повыше».
– Самоубийца, цветочка хочешь? – спросил из своего гроба Агамирзян.
Няни и сестры по настойчивому его требованию унесли все корзины, горшки и букеты, и Жмакин вновь увидел тонкий горбатый нос, сердитые брови и белые губы.
– Дураки! – ворчал Агамирзян. – Чуткость мне показывают. Главный конструктор пишет, что вина целиком его. Я-то знаю, кто опережение ставил, он и я. Слушай, самоубийца, я сейчас немножко стонать буду, не зови сестру, а? Мне от уколов не легче, мне, когда зубами скрипишь, легче…
И все-таки Жмакин позвал сестру. Почему-то не мог он видеть, как страдает этот маленький, черненький человечек. И не то чтобы жалел его Алексей, а просто не мог видеть, и все тут. Сестра уколола Агамирзяна, он еще немножко поскрипел зубами и похныкал и сразу опять разговорился:
– Самоубийца? Ха! Два раза самоубийца? Два раза, ха! Мне человек нужен, лаборант, вообще помощник. Мужчина нужен настоящий. Иди, пожалуйста, прошу. У нас работа не как в цирке – знаешь, да, со страховкой. У нас такое положение, что приходится без всякой страховки, потому что неизвестно, куда эту страховку совать. Конечно, ты можешь возразить – для самоубийства смелость нужна. Не знаю, не философ. Но мне лично самоубийца – как дохлая мышь, очень противно в руки взять. Конечно, это субъективно, но я и не утверждаю, что могу быть объективным. Мне интересно жить, чтобы все время кипеть. А смерть – это совершеннейший покой. Наверное, придется, но неинтересно. У меня дед был – хороший человек, конечно, немного разбойник, завещал отцу: «Умру, похорони в степи, не на кладбище, не хочу с покойниками лежать, скучно, могилу потом заровняй, один раз на коне проскачи через могилу – и забудь. Орел увидит – никому не скажет…»
– Так и сделали? – спросил Жмакин.
– Абсолютно!
– Это как – абсолютно?
– Ну – точно.
– А какой он разбойник был?
– Зачем про мертвого болтать, – вздохнул Агамирзян. – Все мы в душе немножко разбойники. Есть сильнее, есть меньше. Вот ты – человека убил.
Жмакин вдруг испугался:
– Я?
– Конечно. Два раза сам себя убивал. Один раз резал. Если в газету написать – зверское убийство: ножом, бритвой долго себя берет и режет, пилит! А себя – это тоже не курица.
– Иди ты! – зевнул Жмакин.
В сумерки к нему пришел квартальный или еще какой-то чин из милиции – ему было скучно понимать, – здоровый, с обветренным лицом, хорошо пахнущий земляничным мылом, табаком и морозом. Поверх формы, ремней и нагана на нем был больничный халат, который его, вероятно, стеснял, потому что милиционер держался неестественно, подбирал под себя ноги в сапожищах, говорил сипатым шепотом, всячески подчеркивая, что он здесь небольшой человек и охотно подчиняется всем особым больничным правилам.
– Как будет фамилия? – спросил он, присев на край табуретки и деловито приготовившись записывать.
– Бесфамильный, – сказал опять Алексей.
Квартальный быстро и укоризненно взглянул на Жмакина, как бы призывая его относиться с уважением к обстановке, в которой они находятся, но, встретив насмешливый и недобрый взгляд, вдруг сам густо покраснел.
– Фамилия моя будет Бесфамильный, – повторил Жмакин.
– Отказываетесь дать показания?
– Вот уж и отказываюсь, – сказал Алексей. – Никак я не отказываюсь.
– Имя, отчество.
Жмакин сказал.
– Адрес?
– Не имеется…
Квартальный покашлял в сторону.
– Бросьте, товарищ начальник! – сказал со своей койки Агамирзян. – Разве не видите, он над вами смеется. Это ж самоубийца!
– Заткнитесь, гражданин учитель! – крикнул Алексей. – Я с вами вообще не разговариваю, это вы ко мне все время лезете с вашим героическим прошлым. «Абсолютно!» – вдруг вспомнил он. – «Абсолютно!»
Помолчал и произнес:
– Ни с кем не желаю беседовать, кроме вашего большого начальника – товарища Лапшина Ивана Михайловича. Ясно?
Ему казалось, что при одном имени Лапшина милиционер вскочит, откозыряет и попросит разрешения быть свободным, но ничего такого не произошло. Квартальный строго подвигал скулами и осведомился:
– А он кто – этот самый товарищ Лапшин? Родственник вам?
– Кузен! – со смешком сказал Агамирзян.
Милиционер поднялся.
– Ладно, разберемся, – пообещал он. Обдернул халат, как гимнастерку, и вежливо попрощался. – Желаю выздоравливать.
А когда он ушел, Жмакин нажал кнопку звонка и не отпускал ее до тех пор, пока не прибежала нянечка.
– Дадут здесь когда-нибудь ужинать? – срывающимся от бешенства голосом спросил Жмакин. – Или больные подыхать должны?
– Кого-нибудь из нас двоих надо перевести из этой палаты, – сказал Агамирзян. – Или его, или меня. Если он меня не укусит, то я его – непременно. Ха?
Нянечка примиряюще замурлыкала. Агамирзян сразу после ужина уснул, оглушенный морфием. Жмакин повздыхал и тоже задремал. Но, вдруг открыв глаза, испугался, что сошел с ума. Над ним стоял Лапшин в халате и спокойно всматривался в его лицо. «Сейчас убьет! – подумал Жмакин. – Кончит со мной. Убьет за мое хамство, и за письмо, и за то, что я его к себе потребовал».
Но Лапшин, по всей вероятности, и не думал убивать. Грузно опустившись на табуретку, он вздохнул и спросил:
– Это ты – Жмакин?
– Точно! – слипшимся спросонья голосом и все еще с испугом ответил Жмакин. – Это я.
Лапшин помолчал, вглядываясь и укоризненно качая головой.
– Чего вы, гражданин начальник?
– Здорово подтянуло тебя.
– Это на почве потери крови.
– Научно выражаешься.
Опять помолчали. Алексей соображал, как это так быстро квартальный нашел Лапшина и как это Лапшин мгновенно сюда приехал. «Испугался моего самоубийства, – злорадно подумал он. – Конечно, кому понятно – затравили человека».
– Быстро это вы…
– Что быстро?
– Да ко мне приехали. Часа, может, полтора назад я квартальному фамилию вашу назвал…
Иван Михайлович откинул полу халата, вытащил пачку папирос, хотел было закурить, но, вспомнив, что здесь больница, положил папиросы на тумбочку. Лицо его выражало недоумение.
– Не знаю, – произнес он, – я никакого квартального не видел. Оказался в этом здании случайно, доктор тут у меня знакомый, вспомнил про твое письмо, кстати довольно дурацкое, и поинтересовался – не доставляла ли к ним скорая субчика твоей наружности. В моргах-то тебя не нашли…
Жмакин слушал, моргая, больше всего он боялся, что проснется Агамирзян и услышит что-нибудь уничтожающее жмакинское достоинство. Но Агармизян спал крепко, хотя и стонал порою и даже всхлипывал во сне.
– Кто такой? – спросил про него Лапшин.
– Замечательный человек, – с гордостью ответил Жмакин: ему вдруг показалось, что здешнее больничное соседство с Агамирзяном хоть немножко повысит Жмакина в глазах Лапшина. – Поискать, гражданин начальник, таких ребят. Я толком не знаю, но он испытатель какой-то, обжегся сильно, ногу ему будут резать. Верно говорят – кому какая судьба на роду написана. Вот – герой человек. А я?
– Что ты?
– А я, гражданин начальник, конченый человек.
– Дурак ты – это верно, – спокойно согласился Лапшин, – но почему конченый человек? Вот, например, как ты волка порезал в тайге или в тундре…
– Вы ж откуда знаете? – приподнимаясь на локте, спросил Жмакин. – Вы ж…
– Девушка одна сказала, – не торопясь, своим низким голосом ответил Лапшин. – Приходила она ко мне, думала, что ты действительно покончил с собой, плакала очень…
Жмакин сжался, засопел.
– Я не нарочно, – сказал он быстро, – я пугать никого не собирался, я верно думал эту лавочку кончать, да сорвалось дело.
– «Дело»! – передразнил Лапшин.
Он потрогал папиросы на тумбочке, ему, наверное, очень захотелось курить.
– Вы в рукав, – посоветовал Жмакин, – аккуратненько. Да и чего вам бояться, никто не зайдет теперь.
– Думаешь?
Вдвоем они жадно покурили. Лапшин думал какую-то свою невеселую думу, а Жмакину хотелось спросить про Клавдию, но он не смел. Было что-то в молчании Лапшина такое, что нарушать не следовало. Но все-таки Алексей решился и спросил:
– Кто-либо из родственников здесь у вас лежит?
– Нет. Лежит Толя Грибков.
– Сотрудник ваш?
На мгновение лицо Лапшина странно скривилось, он отвернулся, помолчал и глухо ответил:
– Быть бы Толе Грибкову золотым работником, да вот сволочь из вашей братии убила его. Сколько промучается – неизвестно, а помрет непременно. Вот над тобою и лежит, этажом выше.
– Кто же его? – шепотом спросил Жмакин.
– Корнюха, – тяжело, словно выругался, назвал Лапшин и сжал на колене кулак. – Корнюха.
– И не взяли его? Ушел?
– А тебе-то что? – с горечью спросил Лапшин. – Тебе-то больше всех болит. Какое тебе, Жмакин, дело до всех наших ребят? Чужой ты нам и всей нашей жизни чужой, паразит ты, Жмакин, посторонний человек. Понял?
Нечаянно сорвалось у него это грибковское слово – «посторонний», и вдруг перед глазами его опять предстало лицо Толи, такое, каким видел он его совсем недавно, серое, не мальчишеское, лицо человека, которого нельзя никакими силами вытащить оттуда, куда он уже двинулся. И страшная, лютая тоска опять, как давеча, стиснула сердце Лапшина, он даже не кивнул Жмакину, поднялся и пошел к двери.
«Посторонний! – с внезапным ужасом, не замечая ухода Лапшина, думал Алексей. – Посторонний. Я им всем – посторонний! И тому летчику, у которого взял чемодан в вагоне, и Хмелянскому, которого ударил, и этому Агамирзяну. Посторонний – и ничего больше…»
Парнишка ты не молодой!
Едва Иван Михайлович зашел к себе в кабинет, чтобы на вечернем досуге ознакомиться с новостями прошедшего дня, как зазвонил телефон, и в трубке Лапшин, робея, узнал голос Балашовой. Несвязно и беспокойно она спрашивала, куда делся Ханин, что у него случилось и почему он так «неряшливо» с ней разговаривал. Не понимая, о чем, собственно, идет речь, Лапшин ответил, что лично у Ханина ничего особенного не случилось, что он в больнице у одного их общего знакомого и что будет там, наверное, еще долго.
– А кто этот… знакомый? – тревожно спросила Балашова.
– Анатолий Грибков.
– Может быть, я могу чем-либо помочь?
– Вряд ли.
Они помолчали. Потом Балашова неожиданно предложила:
– Приезжайте ко мне, Иван Михайлович, чай пить.
И он поехал. Поехал, боясь того, что едет, поехал, стесняясь сам себя и ругая себя на чем свет стоит, поехал, по дороге выдумывая тему разговора и сердясь на того «гармонического», все умеющего человека, о котором недавно читал в каком-то полутолстом журнале. «Гармонический» и работал посвистывая, и отдыхал раздумывая, все давалось ему с легкостью, хотя и не без преодоления трудностей, и спортсменом он был недурным, и в музыке разбирался, и на диспуте о литературе говорил так, что все присяжные литераторы только ахали и переглядывались.
«А я – однобокий», – словно курсивом из той же статьи подумал Лапшин и засвистал тихонько:
Ты красив собой, Карие очи, Я не сплю уж двенадцать ночей…Поднимаясь по лестнице, он никак не мог решить – сказать Балашовой, что видел ее в роли Марии Стюарт, или лучше ничего не говорить. На площадке третьего этажа, перед большим лопнувшим зеркалом он даже остановился, но, так ничего и не придумав с Марией Стюарт, зашагал дальше – на пятый.
Комната у Катерины Васильевны была узкая, длинная, вся какая-то неудобная для жилья, с диванчиком – тоже узким, и столом, мало того что узким, но и неустойчивым – на какой-то странной кривой ноге в виде копыта. Были еще и кресла, о которых Балашова предупреждала, что они ненадежные, и по стенам висело много разных фотографий: пожилые и помоложе мужчины в гриме с наклейками и ненатуральными улыбками делали рожи, изображая перед объективом разные сложные чувства, как-то: ужас, радость, любовный восторг, иронию, суровый гнев. На фотографиях были надписи на птичьем языке, например Лапшин не без удивления прочитал такую: «Нашей колибри от вечного ее старого индюка». И подпись с росчерком. Тут же висел портрет военного человека.
– Это отец мой, я вам про него говорила, он пограничник, – пояснила Балашова.
Были портреты и самой Катерины Васильевны – один в чепчике, а другой в платочке, – тут Балашова была изображена ударницей на стройке. Портрета в роли Стюарт Лапшин не заметил и сказал Катерине Васильевне об этом.
– А вы видели спектакль? – быстро спросила она.
– Видел, – негромко ответил он.
– Когда? Раньше или недавно?
– Недавно, – открывая коробку папирос, сказал он. – Вот в пятницу…
– Просто купили билет и пришли?
– А как же, – удивился Лапшин. – Купил и пришел.
– И так не понравилось, что вы даже ко мне не заглянули?
В ее голосе, наверное, почудилась Лапшину настоящая заинтересованность, и он поспешно ответил, что, наоборот, очень понравилось, до чрезвычайности, а насчет «заглянуть» – он не знал, что это «разрешается».
Балашова глядела на него с усмешкой.
– А вы, однако, человек робкий! – заметила она.
– Бывает – робею! – спокойно согласился он, все еще оглядывая комнату.
Лампа слабо горела, прикрытая шелковой пестрой материей, на подоконнике свистел паром электрический чайник, чашки были щербатые, и Иван Михайлович подумал, что у Балашовой какое-то сиротское житье, «вроде как у меня», мысленно сравнил он. «Выкинуть бы всю эту рухлядь отсюда, – рассуждал Иван Михайлович, щуря уставшие за день глаза, – поставить коечку нормальную с сеткой, стол о четырех ногах. Табуретки покрепче! И рыла, конечно, убрать со стен, индюка этого в первую очередь, смотрит больно нахально!»
Чай они пили жидкий, и от Лапшина требовалось, чтобы он рассказывал о Ханине подробно. Вслух копаться в душе Давида Львовича Лапшину было неловко, о ханинской попытке застрелиться он, естественно, не сказал ничего и, по смутному чувству целомудрия, свойственному людям, видевшим не раз смерть в глаза, не рассказал и о том, как Толя Грибков заслонил собой Ханина в перестрелке и как Ханин теперь, задним числом, понял то, чего не мог ему Лапшин доказать и объяснить словами. По всем этим причинам рассказ у Ивана Михайловича получился куцый, невнятный и маловразумительный.
– Что-то я почти ничего не поняла, – сказала Катерина Васильевна и задумалась. Погодя сказала: – Давид – человек добрый, одаренный, но, знаете, Иван Михайлович, вялый… Ох, какая это беда в людях – вялость. Я бы за эту черту человеческой натуры карала. Как за уголовное преступление…
Лапшин усмехнулся:
– Ого!
– Не сильно, только обязательно карала бы. Я бы еще одну статью ввела в ваш кодекс – карала бы за назначение дураков на ответственную работу, но не самих дураков, а тех, кто их назначает. И за вялость!
Румянец заиграл на высоких скулах Балашовой, круглые коричневые глаза весело заблестели, смешно и точно, как тогда про провинившуюся курицу, она рассказала про недавно назначенного к ним директора театра, который на просьбу Захарова дать возможность ему поставить «Федора Иоанновича» Алексея Толстого деловито ответил:
– Федора Ивановича? Это про чего же?
– Он – дурак, понимаете? – держа чашку возле рта, говорила Балашова. – Советская власть не первый год, кричать о том, что «мы в гимназиях не обучены», больше никто, из нашего, по крайней мере, поколения, не имеет права, есть у нас и Дома культуры, и великолепные, причем совершенно бесплатные библиотеки, и все возможности заниматься самообразованием. Только тупая и самодовольная глупость может позволить себе не знать азы, находясь на руководящей идеологической работе. Ему тридцать два года, директору, а он только и умеет, что кичиться своим рабочим происхождением. Недавно, между прочим, у нас была зрительская конференция в театре, вот наш директор и стал сражаться с одним зрителем, совершенно, кстати, профессорской внешности. Внушал этому самому зрителю, что в нем мертвый тянет живого, как во всей интеллигенции. Тот вдруг и огрызнулся – показал зубки: токарь он какого-то наивысшего разряда. Абсолютно образованный, истинно интеллигентный человек, с широким кругозором, с великолепным юмором. Под овацию буквально говорил. «Мы, говорит, класс, а не люмпены, и если моему поколению в гимназиях действительно, по ряду объективных причин, как-то: бои за революцию и все такое прочее, обучиться не удалось, то с вас мы сурово спросим, потому что вот этими руками, товарищ директор театра, мы вам все возможности завоевали для нормальной учебы и для того, чтобы вы были не всезнайками, а знающими товарищами…»
– И чем же кончилось? – спросил Лапшин.
– А ничем! – сердито ответила Балашова. – Лихорадит театр, тянется глупая и утомительная склока, к директору можно войти, только доложившись через секретаршу, уныло все до слез…
– Так почему же вам вашего директора не снять? – удивленно осведомился Лапшин. – У нас же советская власть. Соберитесь, попросите, чтобы вас кто-либо принял из секретарей городского комитета, вас примут, не могут не принять, вас же очень – артистов – уважают, я все по правде расскажите. Дескать, малый он не плохой, но только дурак! Вот как вы мне говорили, так и там расскажите. Все, можно выразиться, единым фронтом…
– Нет у нас единого фронта, – грустно перебила Катерина Васильевна.
– Это как же так?
– А так, что некоторые с ним в хороших отношениях я не рискнут…
– Ну, тогда я не знаю, – сказал Лапшин. – Тогда…
– Вот то-то и оно-то!
И, раздражаясь все больше и больше на свой театр и на своих товарищей по работе, Балашова стала быстро и неловко объяснять всю «сложность» театрального быта, маленькие тамошние страстишки, борьбу интересов, а Лапшин строго смотрел на Катерину Васильевну и думал о том, что эту совершенно неизвестную ему женщину с тревожным, неспокойным взглядом коричневых глаз он бы сейчас, сию минуту мог увести к себе, напоить не теплыми помоями из полупростывшего чайника, а горячим, золотистым, душистым чаем, уложить в постель, укрыть и сказать слова, которые никогда еще в жизни не говорил никому: «Спи, жена! Успокойся! Перестань дрожать, и ладошки стискивать, и волноваться. Отоспись! Утром изжарю я тебе яишню с салом, еще поспишь, я уйду на работу и буду помнить, что в глупой комнате моей ждет меня жена. Я тебе звонить буду раз или два в день, как делают это мои товарищи, и говорить буду служебным, сухим, деловым голосом, как все они говорят: «Это я. Как там? У меня нормально. Нет, задерживаюсь. А это поставь в духовку, сам отыщу. С пламенным!»
Сердце его билось, лицо горело. И на рожу «старого индюка» он больше не поглядывал, мало ли что у кого было. «Спи, жена!» – вот что казалось ему главным в эти мгновения слабости и одиночества, ужасающего одиночества вдвоем с женщиной, которая не любят и никогда не полюбит его. «Да разве я ее люблю?» – пугаясь того, что творилось с ним, спрашивал он себя и вспоминал, что, никогда не думая о Балашовой словами или фразами, он все-таки все это время как бы не расставался с ней, не отпускал ее от себя, не позволял ей бросить его навсегда, хотя, разумеется, ей и в голову никогда не могло прийти, что он ей нужен и что то особое состояние энергичной напряженности, духовной бодрости и свежести связано с тем, что он ее полюбил, не понимая сам того, что с ним случилось.
Какой-то большой кусок из того, что она говорила, проскользнул мимо него, потому что он в своем особом состоянии не мог сосредоточиться на смысле ее рассуждений о театре и о людях в театре, а мог только слушать ее голос и смотреть, как она все перебирает пальцами и поправляет цветастую тряпочку, которой была полуприкрыта лампа. Голос у нее был глубокий, чуть с сипотцой, люди, наделенные таким голосом, хорошо поют дома, вернее напевают, и еще раз Лапшину представился его дом, чтобы она там напевала – спокойная и незамученная, не такая, как теперь в этих стенах, среди развешанных нечеловеческих рож.
– Наш постановщик, – совсем о другом рассказывала Катерина Васильевна, – вы знаете, Иван Михайлович, он просто из ума выжил. Вчера на мою просьбу объяснить мне подтекст сцены на плотине вдруг заявляет: «Советский человек говорит без подтекста, у него что на уме, то и на языке, он рубит в лоб, а вы играете именно советского человека, а не распадающегося инвалида…»
Лапшин не понял и кивнул головой.
– Вы с ним согласны? – смешно показав на Лапшина пальцем, спросила Балашова. – Вы?
– А бог его знает! – улыбнулся Иван Михайлович. – Я и слово такое «подтекст» никогда не слыхивал…
Она молча поглядела на него и спросила, о чем он все время думает. Иван Михайлович немножко смутился и, не ответив на вопрос, опять вспомнил «Марию Стюарт» и сказал, что замечательно в этой трагедии играл тот самый артист, который обозвал его чиновником и фаготом.
– Удивительный талант! – оживилась и обрадовалась Балашова. – Мы все на него любуемся. Это такое счастье – любоваться! – воскликнула она. – Я всегда это действие на репетициях в зале сижу, меня же на сцене нет… Помните?
Поставив чашку на стол, вовсе не изображая лицом Роберта Дидли, графа Лейстера, она только чуть-чуть прищурилась и притушила блеск своих глаз. И голос не изменила, но Лапшин мгновенно увидел того самого Лейстера, которого помнил в спектакле, и даже про себя удивленно ахнул, услышав в голосе Балашовой ту холодную медоточивость и гордую силу, которая заставляла предполагать, что именно в данный момент Лейстер искренен.
Балашова же между тем спрашивала:
А кто мне, сэр, поручится за вас? Не обижайтесь на мои сомненья. Судите сами: в двух вас вижу лицах Здесь, при дворе. Одно из них, конечно, Личина. Так которая из двух?Помолчала и осведомилась:
– Грандиозно, а?
– Здорово! – согласился Лапшин.
– А у меня средне! – просто сказала она. – Никогда мне не сыграть это по-настоящему. Отчего, Иван Михайлович? Только не говорите мне, что все хорошо! Я отлично знаю, уж это-то я знаю – что хорошо, а что плохо, а что средне. У меня – средне!
Глаза ее лукаво блеснули, и она добавила:
– Средне-то средне, но из наших лучше никому не сыграть. А вообще, среднее тоже имеет право на существование, верно, Иван Михайлович? Ведь нужно же, чтобы были средние артисты тоже? Что вы молчите? Ведь бывают же средние геологи, врачи, инженеры, летчики, агрономы…
– Сыщики! – подсказал он, улыбаясь.
– Сыщики! – повторила Катерина Васильевна. И удивилась: – Куда вы?
Он поднялся.
– Для первого раза вполне достаточно, – сказал Иван Михайлович. – А насчет среднего – не согласен с вами. Очень вы хорошо играете, замечательно. Это я по совести, поверьте…
Она глядела на него снизу вверх, пристально и серьезно.
– Может быть, потом лучше пойдет, – произнесла Катерина Васильевна. – Кто-то из умных написал, что сначала нужно самому поверить в себя, тогда и другие поверят. Мне бы в себя поверить!
И протянула ему руку, ту руку, которую он столько раз рассматривал, с короткими ногтями, широконькую, некрепкую. Он пожал и спустился по лестнице на мороз. Все в нем ломило и болело от усталости, и не от дня, а только от этих последних двух часов. И еще оттого, что больше он не в силах был сопротивляться тому чувству, которое так тщательно прятал сам от себя. Теперь он не может больше не видеть ее, и начнется такая ерунда, что хоть караул кричи.
Домой он не пошел, а поехал в больницу к Толе Грибкову. Ханин с каким-то тощим, в больничном застиранном халате, парнем сидели вдвоем на подоконнике, курили в приоткрытую форточку. В парне Лапшин неожиданно для себя узнал Жмакина, удивился и рассердился.
– Ты здесь зачем? – спросил он густым шепотом.
– А что? И это мне не разрешается? – с ударением на «это» осведомился Жмакин.
Лапшин немного смутился.
– Тебе лежать надо!
– Вам обо мне больно много беспокойства! – опять огрызнулся Жмакин.
– С тобою у меня действительно хлопот достаточно! – ответил Лапшин и заглянул в палату.
Там, в кресле, возле сына дремала Толина мама. Грибков смотрел на Лапшина молча, широко распахнутыми, но мутными глазами, видимо не узнавая. Было совсем тихо, и Лапшин вдруг понял, что это за «отдельная» палата. Она была последней в коридоре – самой последней, возле двери на черную лестницу. Не первый раз в своей жизни Лапшину доводилось бывать в таких «отдельных» палатах…
– Антропов здесь? – спросил он у Ханина.
– В ординаторской, – безразлично ответил Ханин и отвернулся к темному, холодному окну.
Жмакин тоже смотрел в темные стекла, точно видел там что-то.
– Ну? – спросил Лапшин, боком протискивая свое грузное тело в узкую дверь ординаторской Антропова. – Не получше ему, как считаешь, Александр Петрович?
– Нет!
Широкое, скуластое лицо Антропова было измучено, глаза смотрели сурово, свою докторскую белую шапочку он мял большими руками.
Помолчали.
– Ты что эдакий пришибленный? – спросил наконец Лапшин. – Устал здорово?
– Ничего я не устал, – высоким, не своим голосом ответил Антропов. – А впрочем, если и устал, так что? Нельзя мне и устать? Непрестанно еще по телефону звонят, понукают, свои мнения мне докладывают. Я – Антропов – на все эти звонки начальственные как, по-вашему, должен отвечать? Товарищ Анатолий Грибков будет жить, так, да? Наша лучшая в мире хирургия тому порукой?
– Да ты для чего на меня напустился? – растерянно спросил Лапшин. – Я тут при чем?
– А при том, что нечего мне кровь свою предлагать. Как будто бы здесь мы без ваших советов и предложений баклуши бьем. А, черт, разве в этом суть. Если не мы, никто в мире, нигде не умеет с этим бороться. Консилиумы собираем, академиков везем, зачем? Э, да что Шрек! В сущности, ничего Шрек. Он – Шрек, я – Коростелев, больше ничего…
– Не понимаю я, – с тоской в голосе сказал Лапшин. – Какой Шрек? Какой Коростелев?
Антропов ответил:
– Жил на свете такой врач, Чехов Антон Павлович. Был он гениальным писателем, что известно всем, и, наверное, гениальным врачом, о чем догадываются лишь некоторые. В повести его «Попрыгунья» одна пошлая и вздорная бабенка велит послать за знаменитым Шреком, когда муж ее помирает. А неглупый Коростелев говорит: «В сущности, ничего Шрек!» Удивительная у вас вера в Шреков. Любые Шреки, равно как и Коростелевы, посидят, поглядят друг на друга и разойдутся. Безнадежно! И нету такого лекарства, нету препарата, невозможна операция, конец. Грибков живет уже за счет смерти. Живет искусственно. И никому его не вытянуть!
– Непременно, ты думаешь, умрет?
– Непременно, я думаю, умрет.
– Бывают же ошибки.
– Да, бывают, но редко.
– Он молодой, крепкий, совсем даже мальчик! – в голосе Лапшина зазвучали искательные, просящие нотки. – Здоровый… А?
Невозможно было представить себе Толю Грибкова мертвым. И Лапшин просил Антропова помочь ему поверить, что Толя выживет.
Но Антропов молча развернул газету и сделал вид, что читает. Дважды звонил телефон, и дважды он отвечал холодно:
– Да, без изменений. Не лучше. Да, крайне тяжелое.
Потом ушел, вернулся с другим врачом и спросил у Лапшина:
– Вы собираетесь домой?
– Конечно!
Когда они выходили, Антропова вызвали наверх, и Лапшин один долго ждал в вестибюле. Здесь было холодно, голо, казалось, что дуют сквозняки. Нянечка-гардеробщица дремала за полированным барьером; там в полумраке, словно три привидения, виднелись три белых халата на распялках. Блестели намытые кафельные полы. Громко, со скрежетом отбивал время маятник огромных старинных часов. А стрелок не было вовсе, их отломал кто-то, и стучал маятник бессмысленно. «Удивительно глупо! – подумал Лапшин. – Неужели стрелки поставить трудно?»
И сказал об этом Антропову.
Тот удивился, потом махнул рукой:
– Все к этому привыкли, никто внимания не обращает.
– И главный ваш?
– Главный тем более.
– Вы бы ему сказали, – посоветовал Лапшин. – Такие вещи непременно нужно говорить, потому что в конце концов из этого черт знает что получается.
– Что же именно вы называете «черт знает что?» – тоже раздражаясь, осведомился Антропов.
– Все! Если к таким часам можно привыкнуть, то и к тому, что уход за больным плохой, – тоже можно привыкнуть. И за это надо наказывать…
Он сдержался, чувствуя, что теряет самообладание. Антропов смотрел на него боком, ожидая продолжения фразы. Но Лапшин не договорил и подумал, что правильно не договорил. Потом, садясь в машину, извинился:
– Ты прости, Александр Петрович, тяжелый у меня день выдался…
И дружеским жестом дотронулся до плеча Антропова. Тот вздохнул и пожаловался, что сам замечает за собой какие-то дурацкие вспышки раздражительности, раньше ничего подобного не было. Наверное, это наступает старость. Или жизнь вообще не задалась.
– Насчет Лизаветы, что ли? – спросил Лапшин.
– Похоже.
– Все в том же состоянии?
– Хуже.
– А почему?
– Влюбись, Иван Михайлович, в девочку, которая на двадцать лет тебя младше – тогда узнаешь почему…
Они всегда так разговаривали – то на «ты», то на «вы». На «вы», когда спорили, а на «ты», когда соглашались.
– Да неужели на двадцать?
– А что, много? Ничего особенного.
И Антропов с горячностью стал называть Лапшину романы, повести и пьесы, в которых описывались такие истории. А Лапшин не слушал и думал о том, что, когда очень уж дурно на сердце, нужно непременно заставлять себя говорить о другом, нежели то, из-за чего так скверно на душе. Непременно, иначе вовсе пропадешь. И поэтому он поддержал Антропова и согласился с ним, что дело, разумеется, не в возрасте, хотя и возраст, конечно, играет роль. При слове «роль» ему вспомнилась Катерина Васильевна, он покривился, но с живостью в голосе спросил:
– А вообще-то вы встречаетесь? Когда, например, в последний раз виделись? Давно?
– Недавно, в Музыкальной комедии.
– Лимонад, значит, в антракте пили. А еще где?
– До этого я у нее дома был, на вечерушке. В складчину.
– Студенты?
– Студенты, потом родственники некоторые. Лиля с мужем.
– Это какая же Лиля?
– Она из мира искусств. Точно не знаю, но участвует в кино. Ассистент – вот какая у нее должность.
– Это вроде как у тебя на операции, который наркоз дает или инструменты считает?
– Она так примерно и объясняла. Режиссеры у них народ рассеянный, а у нее обязанность за всем следить и давать указания…
– Ну, хорошо, черт с ней, с Лилей, отвлеклись. Значит, Лиля была с мужем, но это все народишко молодой. А посолиднее?
– Еще дядя Володя был, ему лет тридцать…
– Значит, ты вполне за дедушку проходил?
– За дедушку! – хмуро произнес Антропов. – Я еще, понимаешь, Иван Михайлович, надувался там, изображал. Они, конечно, из вежливости меня в игры вовлекали, а я не вовлекался. Круглым дураком себя показал.
– А если бы вовлекался? Помнишь, на каток пошел и что вышло? Упал!
– Упал! – подтвердил Александр Петрович. – И здорово шмякнулся. Предполагал, говоря по чести, вести себя самого в свое собственное хирургическое отделение. Смешно…
– Думаешь? А я о другом хотел сказать. Вот, например, живем мы в одной квартире, знаем друг друга неплохо, много лет, почти что с молодости, и все-таки, какие мы такие – в подлинности – нам неизвестно.
– Это в каком же смысле?
– А в таком, что когда люди знают друг друга по совместным чаепитиям или даже водочку пьют под выходной день, то чужие они еще люди. А когда на деле друг друга знают – тут все иначе. Вот, например, зашумел ты на меня сегодня в ординаторской в своей, и увидел я тебя, Александр Петрович, – доктором…
– Я – врач, а не доктор! – огрызнулся Антропов.
– Для меня, может, ты и профессор, а по бумагам фельдшер, – спокойно сказал Лапшин. – Я к тому, что разделяет тебя с Лизаветой не возраст, а Музкомедия.
– Это как же?
– А так же! Вот небось набрился, плешь волосенками прикрыл, галстук два раза перевязывал, брючишки отпарил. Было?
– Было! – со смешком ответил Антропов. – Еще даже шляпу напялил, которую никогда не ношу, и набок ее посадил, эту самую шляпу. А Лизавета заметила и высказалась в том смысле, что если человек носит шляпу, то носит ее всегда, а не только в театр.
– Видишь, значит, это правильно – насчет Музкомедии…
– Так что же делать? Смешно предлагать ей жениться, если она просто меня считает симпатичным дядюшкой…
Они вышли из машины и не заметили, как оба оказались в коридоре. Лапшин повернул выключатель, оба они закурили. Антропов смотрел на Лапшина так, словно тот сейчас ему все окончательно объяснит и всему научит. И Лапшин действительно сказал все, что думал, но так, что Александр Петрович почти ничего не понял.
– В человека она в тебя вряд ли влюбится, – сильно затянувшись, произнес Лапшин. – Суди сам, парнишка ты не молодой, хотя, конечно, и не старый. В волейбол играешь с натугой и слишком, знаешь ли, старательно. На рестораны и разные там такси – денег у тебя не густо. В Эрмитаж ты с ней ходил и сам мне рассказывал, что очень тебе там было скучновато. Еще были вы в Музее почт и телеграфов, так, что ли?
Антропов кивнул.
– Устроил я тебе также посещение Музея уголовного розыска. У нас она чуть не заплакала и попросилась на воздух. Было это?
– Было.
– Поднимались вы на вышку Исаакиевского собора. Ездили дважды в Петергоф и в Детское Село, что твой бюджет слегка подкосило…
– Да ну вас, Иван Михайлович, – с досадой сказал Антропов. – Словно на допросе.
– А ты на допросах не бывал и помалкивай. Теперь дальше – водил ты ее туда, где чучела крокодилов и мамонтов, что ли? Был недавно на катке и упал. И был ты везде не ты, не доктор Антропов Александр Петрович, а ферт. Пожилой ферт в шляпе. Лизавета же девушка умная и не может это не замечать. Ты будь собой. Самим собой.
– Это как же?
– Не знаю, Александр Петрович. Разберись. Одно только мне понятно – через Музей почт и телеграфов ты в женихи не пробьешься. Пойдём, что ли, поспим?
Здесь, под лампочкой, они попрощались. Антропов, по обыкновению, уронил ногой неловко прислоненную к стене кроватку соседского мальчика Димки, а Лапшин, ложась, подумал, что советовать он умеет, а вот как самому жить дальше – не знает, и спросить совета ни у кого никогда не решится.
Полежав минут двадцать неподвижно, он заметил, что Окошкин еще не вернулся, позвонил на работу, выяснил, что Вася «отбыл» только что, и назвал телефонистке номер больницы. Коммутатор не отвечал. Наконец его соединили со второй хирургией.
– Как там Грибков? – спросил он жестким, командирским голосом. – Как состояние?
– Состояние тяжелое, – ответили ему. – Вы слушаете? Крайне тяжелое.
– Так! – сказал Лапшин и медленно положил трубку.
«Музей почт и телеграфов! – почему-то подумал он. – Музей».
Лечь Иван Михайлович не смог. Все ходил и ходил по комнате, шаркая старыми туфлями и дожидаясь Окошкина…
Очная ставка
– Значит? – спросил Лапшин, все еще держа перед глазами Невзорова ружье. – Что же это значит?
Глеб держался руками за щеки.
– Значит…
– Вы номер видите? Он соответствует номеру в билете? Значит, это ваше ружье?
Глеб держался руками за щеки.
– Я не стрелял. Стрелял мой брат.
– Из вашего ружья?
Яркое мартовское солнце заливало комнату. Сверкала пепельница на столе, сверкали и переливались чернильницы, стаканчик для карандашей. И мартовский, еще холодный, но уже весенний воздух хлестал в открытую форточку.
– Я спрашиваю – из вашего ружья?
– У нас одинаковые ружья. Мы никогда не смотрели, какое чье. Мы не чужие люди, мы – братья.
– И потому вы говорите, что стрелял ваш брат?
– Я говорю правду.
– До сих пор вы не сказали ни одного слова правды. Кто стрелял?
Глеб Невзоров сжал ладонями виски.
– У меня нестерпимо болит голова, – сказал он. – Я прошу прекратить допрос. Я – болен. В таком состоянии я не могу…
Зазвонил телефон, Лапшин взял трубку.
– Это ты, Иван Михайлович? – угрюмо спросил Ханин.
– Ну, я.
– Совсем плохо. Вряд ли дотянет до вечера.
– Антропов там?
– Да.
– Хорошо.
Несколько секунд он молчал. Глеб вглядывался в него исподлобья – что узнал этот человек? Ничего не понял и глухо застонал, якобы от невыносимой боли.
– Не прикидывайтесь. У вас ничего не болит. Если вы сейчас не скажете, кто стрелял, я устрою вам немедленно очную ставку с Олегом. Вам ясно, о чем я говорю?
Неслышным шагом к Лапшину вплотную подошел Бочков, показал записку: «О.Невзоров утверждает, что стрелял брат. Слышал также крики в отношении помощи раненого Самойленко. Похоже на правду. Очень плачет».
Иван Михайлович подумал и кивнул. Вновь он перехватил исследующий, ненавидящий взгляд Глеба. Бочков плотно притворил за собой дверь.
– Мое ружье было похищено братом! – гортанным голосом сказал Невзоров. – Можете записывать – именно похищено. Я вообще не был на охоте. Я даже не знал о ней. Но о несчастном случае с Самойленко брат мне впоследствии рассказал. Ему тогда не было известно, что Самойленко скончался…
Лапшин прикрыл ладонью глаза. Это с ним случалось не часто, но все-таки случалось – вот так, внезапно, делалось стыдно за лгущего человека. А Глеб все говорил и говорил. Он рассказывал, как не мог донести на брата, потому что любил его и жалел родителей. Как мучился «психологически». Как даже советовался с одним доктором-психиатром. И фамилию доктора и адрес он тоже назвал…
– Хорошо, Невзоров, – негромко перебил Лапшин. – Хорошо. Помолчите.
Написал записку, позвонил и, ничего не говоря, передал листок Окошкину. Тот ушел. В наступившей тишине был слышен только посвист веселого мартовского ветра. Через несколько минут Бочков привел Олега Невзорова с покрасневшими глазами, с дрожащим подбородком. Глеб мгновенно съежился, но тотчас же вскинул голову и спросил:
– Это как понять? Очная ставка?
– Ваш брат утверждает, – вглядываясь в Олега, заговорил Лапшин, – что вы похитили у него ружье и на охоте Невзоров Глеб не был, а следовательно, выстрела не производил. Он утверждает также, что только впоследствии вы рассказали ему о несчастном случае и о смерти Самойленко. Это так?
– Так! – кивнул Глеб и сразу же отвернулся к окну.
– Это все ложь! – глотая слюну и стараясь растянуть пальцами воротник свитера, крикнул Олег. – Он подлец и свинья! Он выстрелил, конечно, нечаянно, когда мы шли по болоту за Самойленко, он…
Опять зазвонил телефон. Ханин сказал невнятно:
– Приезжай…
– Разберитесь тут до конца, Николай Федорович, – попросил Лапшин Бочкова и положил трубку на рычаг.
Оба Невзорова смотрели на Лапшина не отрываясь. Бочков сел на место Ивана Михайловича. Тот, не попадая в рукава, натягивал реглан. Опять стало слышно, как свистит ветер в форточке. Лапшина вдруг зазнобило. Дрожа крупной дрожью, он сел в машину, приказал Кадникову:
– В больницу!
– Кончается Толя?
Лапшин не ответил, свело челюсти. Он не мог сейчас говорить. И смотрел в сторону, ничего не видя, не понимая, не различая улиц, времени, скорости, с которой летела машина, завывая оперативной сиреной. Только одно он понимал всем своим существом – Толи уже нет. Да, да, разумеется, не одна смерть сделала свое дело в его глазах, разумеется, он знал, что Грибков не жилец, и все-таки это было так жестоко-нелепо – мертвый Толя, что Лапшин едва сдерживал набегающие, душащие слезы.
А потом пошло все как обычно: Грибкова еще не вынесли из маленькой палаты, но у двери стояла ширма. В изножье, уткнувшись лицом в простыню, неподвижно лежала Ирина Ивановна – Толина мама. Прокофий Петрович приехал раньше Лапшина, и странно было видеть его, всегда энергичного, всегда на ходу, всегда бодрого, – здесь, в этой особой, ни с чем не сравнимой тишине, рядом с пожелтевшими Ханиным и Жмакиным, возле крутых углов белой ширмы.
Погодя, закуривая на черной лестнице, по которой только что санитары унесли в морг то, что осталось от Толи Грибкова, Ханин неожиданно обернулся к Жмакину и сказал строго своим чуть скрипучим голосом:
– Я слышал, что вы пытались покончить с собой, юноша. Хочу вас уведомить, что нет большей подлости по отношению к жизни вообще, чем самоубийство. Человек обязан жить во что бы то ни стало, жить всегда, до последнего мгновения осмысленно. И поверьте, что я имею право это говорить.
Внизу хлопнула дверь на блоке, это она в последний раз закрылась за Толей Грибковым. Лапшин закурил, вглядываясь в желтое лицо Ханина. Баландин, зябко ежась, предложил Лапшину:
– Подождем, Иван Михайлович, пока Ирина Ивановна управится, а погодя свезем ее домой.
Ждать пошли в кабинет Антропова. Александр Петрович только что вернулся с операции, сидел тяжело отвалясь на спинку стула, смотрел прямо перед собой сосредоточенным взглядом. Потом, словно очнувшись, сказал Лапшину:
– По-моему, Иван Михайлович, с твоим подопечным самоубийцей происходит неладное. Сдвинулось что-то в психике. Всю ночь он на окошке просидел, на подоконнике, и сестра мне рассказывала, все плакал. Соображает с трудом…
– Это какой же подопечный? – спросил Баландин.
– Тот, что мой пистолет когда-то в окошко швырнул, помните? – ответил Лапшин. – Только он больше Митрохина подопечный, чем мой.
Баландин протер толстые стекла пенсне платком, осведомился:
– Митрохинский?
Интонация у Прокофия Петровича была особая, понятная только Лапшину. Баландин Митрохина не любил и даже фамилию его произносил по-своему, почему-то с ударением на последнем слоге – Митрохин!
– Если он митрохинский, то при чем же тогда ты? – опять спросил Баландин.
– История запутанная, – вздохнул Лапшин. – Если помните, связана она с приездом Занадворова и с вопросом санкции на братьев Невзоровых…
– Разбираешься?
– Похоже, что разбираюсь…
Они еще помолчали, покурили. Антропов неожиданно сообщил:
– Надо было желудочное соустие сделать…
Лапшин и Баландин переглянулись, а Александр Петрович смутился. В матовое стекло двери постучал санитар, сказал, что ждать Грибкову не надо, она тут надолго останется. В машине Баландин попросил Лапшина:
– Ты вот что, Иван Михайлович, я тебя убедительно попрошу, займись насчет Демьянова. Жалко мужика, знаешь, как он переживает. Сколько лет в милиции, и теперь здравствуйте… Проверь там корреспонденцию эту самую…
Но проверять нынче Лапшину ничего не пришлось. Едва он вошел к себе в кабинет – зазвонил телефон: Криничный сообщил, что хотя Мирон Дроздов о Корнюхе ничего не показал, но сведения насчет Мамалыги правильные и бандита надо брать немедленно.
– Сейчас? – спросил Лапшин.
– Вечером, но именно сегодня. Я сейчас явлюсь, доложу обстановку.
Едва Лапшин повесил трубку – пришел Бочков с листами протокола допроса. Братья Невзоровы полностью сознались на очной ставке. Лапшин, хмурясь, читал четкие строчки, потом жестко взглянул на Бочкова и велел:
– Завтра нужно все выяснить с Невзоровыми и Жмакиным. Драку эту на Фонтанке поднять и все митрохинские материалы…
– Так ведь это архивы…
– За архивами или черт знает за чем человека теряем, – не повышая голоса, продолжал Иван Михайлович. – За глупостью, за туполобостью, за дурацкой, заранее подготовленной схемой…
– К завтрему, пожалуй, не поспеть материалы поднять…
– А ты постарайся, Николай Федорович, – неожиданно ласковым голосом попросил Лапшин. – Я знаю, ты мне не говори, понятно, что устаешь, а все-таки. Он ведь там в больнице с ума сходит, это точно, доктора признают…
– Я постараюсь! – тихо ответил Бочков.
Дорогу орлам-сыщикам!
В девятнадцать часов Лапшин созвал оперативное совещание у себя в кабинете. Выслушав Криничного и Побужинского, Иван Михайлович помолчал, полистал свой блокнот, который в бригаде звался «псалтырем», «святцами», «напоминальником» и еще по-разному, помолчал и заговорил:
– Таким образом, тут, как совершенно справедливо отметил Криничный, который, кстати, в эти дни вместе с Побужинским проявил неплохое умение работать, орудовала группа, возглавляемая Корнюхой. И Корнюху и Мамалыгу мы, к сожалению, упустили. Корнюха удрал у нас из рук, так же как и Мамалыга. Он самый близкий к Корнюхе человек, этот самый Иофан Мамалыга, и тесно связан с рядом других преступников.
Скрипнула дверь, и вошел запоздавший Окошкин.
– Вы ко мне? – спросил Лапшин.
– Разрешите доложить срочное сообщение.
– Докладывайте.
Окошкин подошел к столу и необыкновенно скромно рассказал, что им в будке телефона-автомата у Гостиного Двора только что задержан аферист, по кличке Воробейчик, с подложными документами, а главное, с накладными на отправку большой скоростью трикотажа и обуви, похищенных Корнюхой и Мамалыгой из главного базового склада Опторга. Грузы адресованы в Тбилиси, в Малоярославец и в Ярцево. Есть еще накладные на Зеленый Бор и на Некурихино. Но главное – это то, что Воробейчик был задержан после телефонного разговора с самим Мамалыгой и подтвердил нынешнюю гулячку.
– Что ж, годящие сведения, – сказал Лапшин. – Годящие и, пожалуй, верные. Ну, ладно, Окошкин, садитесь, мы тут совещаемся.
Василий Никандрович сел и жадно затянулся папиросой, а Лапшин начал развивать свой план операции. Говорил он сжато, вычерчивая указательным пальцем в воздухе направление ударов на нынешний вечер, и тон его был спокоен и благодушен, хотя дело касалось не просто изъятия похищенных товаров, а, по всей вероятности, перестрелки, потому что такие люди, как Зубцов, легко не садятся в тюрьму. Такой тон был в его характере, и бригада, отлично зная Ивана Михайловича, понимала, что скрыто за этим внешним спокойствием и неторопливой деловитостью…
Минут за сорок до выезда Лапшин залпом выпил стакан чаю с лимоном и, поскрипывая сапогами, пошел по кабинетам, чтобы узнать, все ли готовы и как готовы.
Везде было тихо и пусто, и только в той комнате, где сидел Окошкин, были люди, проверяли оружие и разговаривали теми сдержанными легкими голосами, которые известны военным и которые означают, что ничего особенного, собственно, не происходит, ни о какой операции никто не думает, никакой опасности не предстоит, а просто-напросто что-то заело со спусковым механизмом пистолета у Окошкина, и вот товарищи обсуждают, что именно могло заесть.
– Ну как? – спросил Лапшин.
– Да все в порядке, товарищ начальник! – весело и ловко сказал Побужинский. – Вот болтаем.
Лапшин сел на край стола и закурил папиросу.
– Побриться бы надо, Побужинский! – сказал он. – Некрасиво, завтра выходной день. Пойди, у меня в кабинете в шкафу есть принадлежности, побрейся!
– Слушаюсь! – сказал Побужинский и ушел, оправляя на ходу складки гимнастерки.
Окошкин и Бочков оба машинально попробовали, как у них с бородами, очень ли заросли.
– А почему у тебя на губе чернила, Окошкин? – сухо осведомился Лапшин.
– Такое вечное перо попалось, – сказал Вася, – выстреливает, собака. Как начнешь писать – оно чирк! – и в рожу.
– Вот напасть!
Пришло еще несколько человек, курсанты – вспомогательная группа. В комнате запахло морозом, шинелями. Два голоса враз сказали:
– Здравствуйте, товарищ начальник!
Лапшин поглядел на часы и ушел к себе в кабинет одеваться. Побужинский, сунув в рот большой палец и подперев им изнутри щеку, брился перед зеркалом.
– Не можешь? – сказал Лапшин. – Стыд какой! Давай сюда помазок!
Он сам выбрил Побужинского, вытер ему лицо одеколоном, запер за ним дверь, надел на себя кожаное короткое пальто, подбитое белым бараном, и постоял посредине комнаты.
Ему захотелось позвонить Балашовой, но он не знал, о чем сейчас с ней говорить, и не позвонил. Вынув из стола кольт – оружие, с которым не расставался больше десяти лет, – Лапшин проверил его, надел шапку-ушанку, фетровые бурки и позвонил вниз в комнату шоферов. Когда он выходил из кабинета, народ уже ждал его в коридоре.
– Давайте! – сказал Лапшин. – Можно ехать.
Рядом с ним по старшинству сел Бочков, сзади Побужинский, Окошкин и шофер.
– Тормоза немножко слабоваты, – сказал Кадников, – так что вы не надейтесь, товарищ начальник.
Машина тронулась, и было слышно, как глухо захлопали дверцы во второй машине, идущей следом. Там командовал Криничный.
Окошкин сзади шепотом спросил Побужинского что-то о дне похорон Толи Грибкова. Побужинский ответил коротко и, как показалось Лапшину, сердито. Кадников поддержал Побужинского.
– Тоже солдаты! – сказал он неодобрительно. – Кто это, спрашивается, перед боем убитых поминает. Убитого надо в сердце иметь, а не на языке.
– А что ж, анекдоты рассказывать?
– Неплохо и анекдоты, – согласился шофер. – Верно, Николай Федорович?
Бочков промолчал.
– Тогда слушайте про попа, попадью и работника, – сказал Окошкин. – Скоромно, а неплохо. Народный рассказ.
Машина вылетела на Невский. Не доезжая Садовой, Лапшин рванул поводок сирены, и регулировщик сразу же дал зеленый свет, перекрыв поперечное движение.
– Дорогу орлам-сыщикам! – сказал Бочков.
Был подвыходной. Невский в этот ветреный, теплый, почти весенний вечер кишел народом. Дворники в тулупах и белых фартуках ломами сбивали с торцов мокрую ледяную кору. Ревело радио, и даже в машине было слышно шарканье ног гуляющих, смех, голос какой-то девушки, которая звала:
– Нина! Нина, куда же ты подевалась?
Над подъездом кинематографа вилась и блистала огненная реклама, со скрежетом тормозили трамваи, весело сверкали огромные витрины гастрономических магазинов…
– Живет наш городишко, а, товарищ начальник? – спросил Бочков.
– Поживает помаленьку, – озабоченно ответил Лапшин.
Несмотря на то что он уже дважды дергал поводок сирены, регулировщик не давал дорогу.
– И не даст! – сказал Бочков. – Хозяева нового мира идут.
И действительно, под грохот дюжины барабанов Невский пересекали пионеры. Их было много, отряд шел за отрядом, барабаны мерно и в то же время возбужденно выбивали и чеканили шаг. Ощущение предпраздничного, мирного и спокойного города вдруг с такой силой охватило Лапшина, что он с трудом представил себе, куда и для чего спешат через этот город его две машины с вооруженными людьми и что предстоит этим людям делать через какой-нибудь час, и, представив, озлобился. Все было просто и ясно – под грохот барабанов шли дети с какого-то своего праздника, в театрах люди жадно смотрели на сцену, в Филармонии слушали музыку, в кино следили за тем, что происходит на экране, в квартирах накрывали столы, а здесь…
– Эх! – громко и огорченно произнес Бочков, не дав Лапшину додумать, но чувствуя, вероятно, то же, что и он.
– Чего, Николай Федорович?
– Да так, товарищ начальник, – с сердцем сказал Бочков, – надоели мне жулики. И что только корысть с людьми делает! Ради чего? Ведь все едино в миллиардеры у нас не пробьешься – так за каким же бесом?
– Именно, что за бесом!
Пионеры прошли, и сразу же Лапшин стал обгонять автомобили, автобусы и трамваи. Василий сзади все рассказывал про попадью с работником, и Побужинский восхищенно спросил:
– На том и порешили?
– Точно. Договорились – и в овин…
– А поп? Слышал или не слышал?
– Да погоди ты с попом. Ты дальше слушай. Вот, значит, попадья…
– Будет вам! – строго сказал Лапшин. – Нашли смехоту…
Окошкин помолчал, потом сзади опять послышался сдавленный смех. Проехали Фарфоровый завод, Щемиловский жилищный массив. С Невы хлестал ветер, морозный, порывами.
– А наши едут? – спросил Лапшин.
– Едут! – с готовностью ответил Василий и опять зашептал Побужинскому: – Тогда работник этот самый берет колун, щуку – и ходу в овин. А уж в овине, конечно…
Лапшин остановил машину возле каменного дома, вылез и пошел вперед. Бочков свернул на другую сторону переулка. Окошкин и Побужинский, словно посторонние, шли сзади. Оглянувшись, Иван Михайлович увидел, что вторая машина уже чернеет рядом с первой.
Мамалыга гулял на втором этаже в деревянном покосившемся доме, открытом со всех сторон. Несколько окон были ярко освещены, и оттуда доносились звуки гармонии и топот пляшущих.
– Обязательно шухер поднимут, – сказал Лапшин, дождавшись Бочкова. – Ты со мной не ходи, я сам пойду!
Бочков молчал. По негласной традиции работников розыска, на самое опасное дело первым шел старший по званию и, следовательно, самый опытный.
– Обкладывай ребятами всю хазу! – сказал Лапшин. – Если из окон полезут, ты тово! Понял?
Из-за угла вышли Окошкин, Побужинский, Криничный, еще трое оперуполномоченных и курсанты.
– Ну ладно, – сказал Лапшин, посасывая конфетку. – Пойдем, Окошкин, со мной.
Они пошли по снегу, обогнули дом и за дровами остановились. Звуки гармонии и топот ног стали тут особенно слышны.
– За пистолет раньше времени не хватайся, – сказал Лапшин. – И вообще вперед черта не лезь.
– А что это вы сосете? – спросил Василий.
– Мое дело, – сказал Лапшин.
Он вынул кольт, спустил предохранитель и опять сунул в карман.
Подошли два уполномоченных, назначение которых было – стоять у выхода. Лапшин и Окошкин поднялись по кривой и темной лестнице на второй этаж. Здесь какой-то парень тискал девушку, и она ему говорила:
– Не психуйте, Коля! Держите себя в руках! Зараза какая!
Они прошли, и Лапшин отворил дверь левой рукой, держа правую в кармане. Маленькие сенцы были пусты, и дверь в комнату была закрыта. Лапшин отворил и ее и вошел в комнату, которая вся содрогалась от топота ног и рева пьяных голосов. Оба они остановились у порога, и Лапшин сразу же узнал Мамалыгу – его стриженную под машинку голову, большие уши и длинное лицо. Но Мамалыга стоял боком и не видел Лапшина. Любезно улыбаясь, он разговаривал с женщиной в красном трикотажном платье. Вася сзади нажимал телом на Лапшина, силясь пройти вперед, но Лапшин не пускал его.
Гармонь смолкла, и в наступившей тишине Лапшин вдруг крикнул тем протяжным, все покрывающим, хриплым и громким голосом, которым в кавалерии кричат команду «По коням!»:
– Сидеть смирно!
Из его рта выскочила обсосанная красная конфетка, и в ту же секунду Мамалыга схватил за платье женщину, с которой давеча так любезно разговаривал, укрылся за нею и выстрелил вверх, пытаясь, видимо, попасть в электрическую лампочку.
– Ложись! – покрывая голосом визг и вой, крикнул Лапшин. – Не двигайся…
Мамалыга выстрелил еще два раза и не попал в лампочку. Женщина в красном платье вырвалась от него и покатилась по полу, визжа и плача. Мамалыга стал садиться на корточки, прикрывая локтем лицо и стреляя вверх.
– А, свинья! – сказал Лапшин и, не целясь, выстрелил в Мамалыгу. Василий в это время прыгнул вперед и, ударив кого-то в сиреневом костюме, покатился с ним по полу.
Слева еще кто-то выстрелил в Лапшина, он услышал только короткое цоканье пули возле себя. Сзади тяжело навалился на него Криничный, стараясь оттереть начальника и самому вырваться в бой. Почти тотчас же вылетело окно – это Бочков, приставив лестницу снаружи, вместе с Побужинским били из маузеров по засевшему за комодом Мамалыге. Внезапно он поднялся во весь рост, кинул к ногам Лапшина пистолет и крикнул:
– Сдаюсь! Стрелять нечем! Берите Мамалыгу, давитесь…
Шагая через лежащих и глядя прямо в глаза Лапшину, он дал себя обыскать. Из его шеи и из правой руки лилась кровь. Пока Бочков обыскивал, Мамалыга, дергая щекой, осведомился:
– С кем, так сказать, имею честь?
– Лапшин моя фамилия, – сказал Иван Михайлович, – Лапшин, запомните, Зубцоа. – И быстро шепотом спросил: – Где Корнюха?
Зубцов-Мамалыга таким же шепотом ответил:
– Святой крест, не знаю. Должен был прийти, да, видать, испугался чего. А я, гражданин начальник, совершенно ни при чем.
Лицо у него было серое, он понимал, что его ждет. И, когда они выходили, он все-таки попытался вырваться, но Бочков и Криничный быстро втолкнули его в машину, а Василий Никандрович Окошкин сказал угрожающе:
– Ну-ну! Гроза морей чертов! Еще брыкается!
В драке Васе разорвали губу, он сплевывал кровь и злился.
– Здорово досталось? – спросил у него Кадников.
– А я в вашей чуткости не нуждаюсь! – угрюмо ответил Вася.
Все вышло иначе, чем он думал: стрелять ему на пришлось, человек в сиреневом костюме, про которого Окошкин думал, что это главный, оказался случайным собутыльником одной из женщин, и рана была не рана, только говорить было больно, «маленько рот разорвали», как выразился Бочков…
В Управлении Криничный сразу занялся допросом Зубцова-Мамалыги. Бочков пошел к Митрохину «поднимать» старое дело Жмакина – братьев Невзоровых, а Лапшин, чувствуя себя невероятно усталым, неудобно прилег на узенький клеенчатый диванчик, что стоял у него в кабинете, и подумал о том, что хорошо бы задремать и вскочить от телефонного звонка Катерины Васильевны. Но задремать после всего нынешнего напряжения ему, конечно, не удалось, и Балашова не позвонила. Телефон, впрочем, позвонил, и Иван Михайлович сразу узнал голос начальника.
– Подразобрался там с Демьяновым? – спросил Баландин.
– Не успел, только что с операции, товарищ начальник…
– А ты постарайся, Иван Михайлович, – попросил Баландин, и Лапшин с удивлением услышал свою собственную интонацию, когда он уговаривал Бочкова постараться с делом Невзоровых – Жмакина.
– Что молчишь? – спросил Баландин, и по его голосу Иван Михайлович понял, что он улыбается.
– Так, ничего. Будет выполнено, товарищ начальник…
В столовой он съел две порции биточков по-казацки, выпил бутылку «Ессентуков» номер 17, внимательно при этом прочитав на этикетке, от чего они помогают, и, подивившись на противный вкус воды, такой удивительно целебной, вернулся к себе и вызвал Демьянова «для беседы».
В апреле
Митрохин
Прикрыв глаза ладонями, Иван Михайлович почти не слушал. Он отлично все знал, но сейчас ему нужно было задать неожиданный для них вопрос о Жмакине, и поэтому он терпел.
Братья Невзоровы говорили, перебивая друг друга, стараясь выслужиться перед следствием правдивостью и полнотой показаний, припоминая никому не нужные подробности и уличая друг друга в неискренности. Они даже планчик нарисовали с рельефом местности, как шли туда к болоту, где произошел «трагический выстрел», и как потом они убегали, чтобы не слышать стонов и криков ползущего Самойленко. Кричал он долго, и, несмотря на шум дождя, крики были явственно слышны много времени спустя.
– Вообще здорово сильный был старикан! – сказал Олег. – Выносливый замечательно, англизированный тип.
– Какой, какой? – спросил Лапшин.
– Англизированный! – повторил Олег. – Ну, в общем, англосакс по натуре.
– Это Самойленко-то?
– Ходок мировецкий! – заметил Глеб. – Недаром он свои ноги называл ходилками. Он нам многое дал в смысле тренинга.
Положив ладони на стол, Лапшин внимательно глядел на обоих братьев. Пожалуй, единственное, что уважали эти профессорские сынки, – была физическая сила. Перед силой оба юноши благоговели. И убитого ими Самойленко они ценили не за то, что всю жизнь он честно и умно трудился, не за то, что научил также трудиться многие десятки, если не сотни людей, не за то, что ходил он с винтовкой на Юденича, воевал всю гражданскую и все же оставался скромнейшим человеком, а только за то, что у него были «феноменальные», по их выражению, бицепсы, «неслыханный объем» легких и «чудовищное» какое-то «второе дыхание».
– Вообще, старикан неправильно построил свою жизнь, – сказал Олег доверительно. – Ему, конечно, следовало идти на тяжелую атлетику, и притом профессионально…
Глеб подтвердил задумчиво:
– Не сработал котелок. Мог бы мировое имя схватить. И жил бы как боженька, а на старости в тренеры или в судьи подался бы. Вплоть до заграничных поездок, такие товарищи всё имеют…
Постепенно братья начали болтать.
Потом на мгновение они испугались, потом опять заговорили на самые невинные темы – спорт, охота, закаливание организма, доброе здоровье. Они очень следили за собой, они, наверное, хотели долго жить, они любили себя, свое крепкое самочувствие, они, конечно, следили за зубами, «за полостью рта», как выразился Глеб. И гимнастикой они занимались всегда, в любых условиях, с детства.
– Укрепляющей! – пояснил Олег.
Лапшин не прерывал их. Пусть вымотаются, не зная, чего он хочет от них, не понимая, почему так внимательно слушает. Пусть переглядываются, пугаясь его спокойствия. Пусть совершённое преступление перестанут они выдавать за случайность, за происшествие, которое будет наказано условно, а при помощи папиного имени – просто общественным порицанием.
И неожиданно для них, во всем, как им казалось, чистосердечно сознавшихся, Иван Михайлович стал шаг за шагом, но не с их точки зрения, а со своей, восстанавливать подробную картину выезда на охоту, прибытия на место и последующих затем событий. Последующие события, даже не самый выстрел, а то, что произошло после, вслед за выстрелом, интересовали его. И чем дальше и подробнее он рассказывал им, как они слышали стоны и крики ими раненного человека и уходили от этих стонов и криков, превращая тем самым ненамеренный выстрел в неизмеримо более страшное преступление, – тем серее становились лица братьев, тем чаще пытались они перебить Лапшина возгласами жалостными и почти что даже слезными, и тем неожиданнее делался для них заранее подготовленный вопрос по поводу давней драки во дворе на Фонтанке, за штабелями кирпича…
Как бы для того, чтобы достать папиросы или блокнот, Лапшин открыл ящик своего письменного стола и мгновенно, в ничтожную долю секунды положил перед братьями финский нож с коричневой роговой ручкой, тот самый нож, которым якобы ударил ни в чем не повинного Борю Кошелева босяк и хулиган, дворовый мучитель Алешка Жмакин.
– Чей? – жестко и быстро спросил Лапшин. – Чья финка? Только скорее отвечайте, потому что я теперь понимаю, кому этот нож мог принадлежать и кто в самом деле этим ножом ударил. Ну? Чей нож?
Олег острым красным языком облизал губы и с ужасом взглянул на брата, но нет такого прибора, который мог бы засечь и представить суду на рассмотрение этот, все объясняющий разговор преступников взглядами, нужен протокол, и, как известно, даже сознание обвиняемого недостаточно без многих прочих юридических атрибутов, поэтому переглядка братьев ничему не помогла в следствии, не помогла даже лично Лапшину, и так абсолютно убежденному в той версии, которую выработали они с Бочковым и Криничным. Для начала ему нужно было сознание, но он его не добился сразу и понял, что братья теперь станут все отрицать, потому что история с ножом проливала новый свет на характеры братьев Невзоровых и на то, что убийство Самойленко вовсе не простая случайность, хотя и трагическая, но нечто совсем иное, гораздо более отвратительное, и такое, что уходит корнями куда глубже, чем выстрел на болоте. Братья это поняли, взгляды их стали как в былые времена – прямыми, в два голоса они ответили:
– Не знаем!
Ах, если бы можно было привести Жмакина сюда, если бы не плакал он сейчас на своей привинченной койке в клинике для душевнобольных, если бы не умер от менингита честный и хороший паренек Боря Кошелев, если бы не запутал на корню много лет назад все дело Митрохин!
– Значит, вы не знаете, Невзоровы, чей это нож?
Нет, они не знали. И не желают, чтобы им «шили» чужое дело. Не такие они дурачки, гражданин начальник. Они в тюрьме тоже кое-чему научились. Их предупредили, что начальнички любят раскрываемость и ради того, чтобы побольше раскрыть нераскрытых дел, пользуются и уговорами, и папиросками угощают, и грозятся, и иное всякое разное устраивают. Но с братьями Невзоровыми не выйдет. Да, они очень виноваты в смерти Самойленко. Но они, в сущности, даже и не помнят, как его бросили. Конечно, это безобразие с их стороны, и они готовы понести заслуженное наказание. Но надо учесть, что с «фактором» смерти они столкнулись впервые. Откуда им могло «вскочить» в голову, что такой «дуб» и здоровяк, как Самойленко, возьмет и умрет. Они испугались, что «поранили» его и что он ругаться станет на них, это надо учесть. Испугались, а когда опомнились – уже поздно было.
– А вы разве опомнились? – осведомился Лапшин.
– А мы, по-вашему, такие закоренелые преступники? – воскликнул Олег.
– Не выйдет! – сказал Глеб. – Не выйдет показательный процессик из нас организовать! Не удастся, гражданин начальник! Не на таких напали!
В два голоса они не оправдывались, нет, нисколько, они вели наступление. Сколько раз в своей жизни Лапшин уже слышал такие слова: об отце, которого знают «наверху». О чести спортивной организации, в которой «кое-кто заинтересован настолько, что не позволит запятнать честь этой организации». О старшем брате какого-то Зейдлица. Сколько раз он слушал и не слышал всякие эдакие угрозы…
И об адвокатах они рассказали.
Им не нравится здешнее отношение к адвокатам.
– Чем же оно вам не нравится? – вежливо спросил Лапшин. – У нас все по закону. Придет время, и будет у вас адвокат, какого пожелаете. Адвокаты есть замечательные…
Это они знают. Он их может не учить насчет адвокатов. И своего адвоката ему не удастся им подсунуть. У их папы, и у друзей отца, и у друзей Зейдлица много знакомых знаменитых адвокатов, крупнейших, с всесоюзными именами, и наступит день, когда они своим адвокатам (а у каждого из братьев будет знаменитый адвокат) расскажут обо всем, и о том, в частности, как велось следствие, как вдруг вынимался какой-то нож и как им «шилось» дело, о котором они и понятия не имели. И на суде они тоже доведут этот эпизодик до всеобщего сведения, не побоятся.
Иван Михайлович опять их почти не слушал, задумавшись и вспоминая. Это нигде не было зафиксировано, ни в одном документе из поднятых Бочковым, но он почему-то помнил, ясно помнил, то ли со слов Жмакина, то ли еще откуда-то, что в драке на Фонтанке косвенным образом была замешана девочка, во всяком случае, какое-то еще одно имя – наверное, Аля. И, приказав увести Невзоровых, он принялся перекладывать листы в папке. Никакой ни Али, ни Ляли, ни Нали он нигде не обнаружил, но все время, листая, морщился и даже кряхтел, принуждая себя вспомнить – откуда привязалось это имя. Потом с досадой захлопнул папку, вышел к Бочкову и спросил – откуда привязалось к нему это имя. И Бочков спокойно, как всегда, ответил:
– Так я же вам докладывал, товарищ начальник; в записке, что Жмакин, перед тем как резаться, написал Митрохину, есть гражданка Неля, которую Митрохин якобы не допросил, чем участь Жмакина и была решена. Только записку эту Митрохин мне не дал, как нецензурную, а тут же уничтожил. Я вам и доложил – еще Нелю нужно найти. А вы в это время говорили по телефону.
– Давайте ищите мне немедленно эту самую Нелю.
– Слушаюсь, – вставая и обдергивая гимнастерку, сказал Бочков. – Можно ехать?
Кивнув, Лапшин пинком ноги отворил дверь и пошел к Митрохину. Зачем – он не совсем еще понимал. Но не пойти именно сейчас он не мог. В конце концов, не мог он всегда сдерживаться. Все в нем кипело, когда он шел переходами Управления и когда на разные лады успокаивал себя. Ужели нет Митрохину никакого дела, что по его вине срок получил не только ни в чем не повинный человек, но человек, который защищал слабейшего от двух сильных? Неужели может он спокойно сидеть в своем кресле, рассуждать, приказывать, потом спокойно укладываться спать, пить чай?
««Анатолий Невзоров!» – вдруг приходя еще раз в бешенство, вспомнил Лапшин Занадворова. – Заступается, мораль читает, а даже имя преступника ему неизвестно».
– Ну ладно, разберемся, во всем разберемся. Будет порядок, наведем, постараемся, – шептал он, поднимаясь по лестнице. – Припечатаем вас, Митрохин, сургучной печатью, скромняга-работяга…
«Скромнягой-работягой» назвал себя однажды Митрохин на собрании в ответ на крутое и не без перца высказывание Баландина насчет всего стиля митрохинской деятельности, и кличка эта, хотя и с особым, ироническим смыслом, накрепко присохла к Митрохину.
Когда Лапшин вошел в кабинет Андрея Андреевича Митрохина, тот кончал говорить по телефону и приятным, баритонального тембра голосом повторял свое любимое словцо:
– Лады! Лады-лады-лады! Лады!
Приглашая Лапшина кивком сесть, он в то же самое время скосил глаза на телефонную трубку, давая понять, что не виноват в липучести собеседника, который там, на другом конце провода, никак не желает прекратить разговор. Но, мгновенно забыв об Иване Михайловиче и оживившись, попросил:
– Так ты не забудь! Два, ясненько? Понял, сундук? Два, а не одно. И оба нижние. Ага. Для хорошего человека. Как в копилке народной мудрости указано – пригодится воды напиться. Ну, привет, голуба, у меня народ. Желаю…
Положив трубку на аппарат, он протянул Лапшину руку, извинился и, сказав, что «даст только еще один звонок», назвал номер по другому, городскому, телефону.
– Порядок, Ваня, – сообщил он. – Поедешь, как папа римский. Ага. Нет. Ага. Лады-лады. Нет, народ у меня…
Договорив, он хитро боком взглянул на Лапшина, и тот еще раз искренне и с неудовольствием подивился на красоту Митрохина – дана же человеку эдакая вывеска. В черной, из глянцевитой какой-то материи косоворотке под серым пиджаком, матово-бледный, неправдоподобно белозубый, с двумя сильно и круто прочерченными морщинами от крыльев тонкого носа, с широким сильным подбородком, с копной рыжеватых волос, небрежно и легко падающих на высокий лоб, широкоплечий и тонкий в талии, – он являл собою внешне образ подлинного положительного героя в кино, если бы внешность человека хоть в малой мере определяла внутренний его мир. Но люди, к сожалению, и в этом Лапшин хорошо убедился за многие годы работы, склонны ошибаться, не замечая за внешностью заурядной сильные характеры и доверяя и доверяясь таким, как Митрохин, с их якобы «обаятельностью» – ненавистнейшее для Лапшина слово, – с их подкупающей красивостью, с их показной лихостью, с их внешней легкостью, показной добротой и душевной широтой на словах, а не на деле.
Ох, эта душевная широта с гитарой и блатной песней под стопку водки, ох, надрывные эти, мутные, никогда не кончающиеся разговоры, – как брезговал этим всем Иван Михайлович, как не доверял дружеским объятиям, начинавшимся, как правило, с железной, никогда не сменяемой формулировки:
– Давай, Иван Михайлович, побеседуем! Я понимаю, ты, конечно, меня не любишь, да и не за что такому человеку, как ты, любить такого, как я. Думаешь, не понимаю? Все понимаю, хоть я, Иван Михайлович, парень и простой. Но мы с тобой люди одного класса, мы не какая-нибудь там вшивая интеллигенция…
Хитрый митрохинский взгляд был брошен недаром, Андрей Андреевич умел мгновенно и совершенно безошибочно угадывать состояние тех людей, во мнении которых он был заинтересован, и, с ходу определив сейчас всю степень накала Лапшина, Митрохин подумал, что нужно выкинуть трюк, и пошел своим первым номером – откровенным признанием тяжелой ошибки.
– Да, знаю! – сказал он, играя человека, который даже ломает папиросы, одну за другой, «от нервности». – Знаю, Иван Михайлович, можешь ничего мне не говорить. Маху дал, ошибся, сильно ошибся. Но ты ж помнишь, по-товарищески должен помнить, у меня как раз в то время мамаша скончалась…
(Иван Михайлович слегка вытаращил глаза – он совершенно не помнил, когда именно у Митрохина скончалась мамаша.)
– Вспомнил? – спросил Андрей Андреевич, наваливаясь грудью на стол. – Ты же знаешь, в каком я был состоянии. Женщин у нас у всех много, так сказать – по темпераменту, а мама-то одна, а? Ты скажи – одна мама? Нет, не молчи, ответь, ты мне старший товарищ и наставник, мы все тут твои ученики, ты скажи – одна у человека мама? Мамаша? Мать? Мать одна?
– Ну, одна! – несколько даже робея, неловким басом ответил Лапшин.
– Вот я и говорю – одна-единственная, – обрадовался Митрохин. – И ты помнишь, Иван Михайлович, в каком я был состоянии? Меня мама подняла, я без батьки рос, простой же парень с Выборгской стороны, вот я весь тут, на ладони, а вот померла мама. Эмфизема. Помнишь?
– Помню, – солгал Иван Михайлович. Ему сделалось стыдно, что он не помнит ни маму, ни эмфизему. И одновременно стыдно было за Митрохина, который обо всем этом говорит. – Так что же? Не понимаю я, к чему ты это?
– А к тому, что все мы люди. И не такие уж плохие люди. У меня мама помирает, а тут эта драка, разбирайся, мучайся со шпаной, когда сам переживаешь. У меня ведь тоже, как у всех у нас, нервы имеются…
Зазвонил телефон. Андрей Андреевич положил руку на трубку, немного помедлил и сказал:
– Митрохин слушает!
В трубке долго и пронзительно квакало, Митрохин морщился, но, как показалось Лапшину, с облегчением на него поглядывал: беседа по телефону оттягивала разговор с Иваном Михайловичем, и Митрохин не мог этому не радоваться.
– А если я веду у вас занятия, то это не значит, что вы сами не должны работать над собой, – сказал он сердито. – И материал должны прорабатывать, и собеседования проводить в мое отсутствие. Объективно, да! Ну, расчленил Гитлер Чехословакию, ну, агрессор, ну и что? Почему от этого мы должны в истерику впадать? Подчеркните эту деталь, но проверьте. Хорошо, допустим, гестапо посадило в Праге десять тысяч человек, и французы сообщают, что чехи боятся между собой разговаривать, – так это же французская точка зрения на вещи, буржуазная, а не наша. Наша какая? А такая, милый друг, что свободолюбивый чешский народ в любых обстоятельствах будет разговаривать, и никаким террором его не запугаешь… Вот таким путем.
Прижимая плечом к уху трубку, он еще долго что-то объяснял, и Лапшин, нехотя вслушиваясь, вдруг понял, что Митрохин говорит о Гитлере ругательные слова, как бы не слишком им веря, говорит громко, но не убежденно, словно бы признавая за фашистским фюрером право сильнейшего над слабыми. И, почувствовав это, Иван Михайлович еще более весь подобрался, уже с усмешкою вспомнил эмфизему и приготовился к жестокому бою.
– Ты ноту, кстати, читал Литвинова? – спросил он, когда Митрохин кончил свою телефонную беседу. – Насчет того, что советское правительство не может признать включения Чехии в состав Германской империи?
Андрей Андреевич лениво пожал плечами:
– Диалектически надо к вопросу подходить, – произнес он с усмешкой. – А Гитлер…
– Что – Гитлер? – с едва уловимой злой улыбкой спросил Лапшин. – Здорово чешет Адольф? Ты это хотел сказать?
– Больно ты сегодня меня не любишь, – засмеявшись, заметил Митрохин. – И в былые времена не жаловал, а сегодня – прямо-таки ужас. На чем это мы остановились?
– А насчет мамы, как она помирала…
– Да, мама, правильно. Вот ты все, Иван Михайлович, шумишь на меня. У тебя полет другой, недаром ты у нас первый человек, а я нормальный работник, стремлюсь, конечно, стараюсь, этого у меня никто не отнимет, но до тебя-то, как и всем нашим, не дотянуть. Мне все кажется, понимаешь ли, проще: шпана, драка, кровищу льют в нашу эпоху, на нашей родной, на нашей любимой советской земле, так кончать надо, поторапливаться, все гайки до отказа завинчивать, а не интеллигентщину разводить, не либерализм, не чикаться туда-сюда, базар кончать со всей решительностью, по-нашему, как от большевиков требуется, а не от всяких там сопливых нытиков-маловеров…
Лапшин усмехнулся: Митрохин, по старой своей привычке, переходил из обороны в наступление…
– Слов у тебя, Андрей Андреевич, хватает, – прервал Лапшин, – но я не за этими словами к тебе пришел. Насчет эпохи и советской земли понемножку разбираюсь. А вот в том, что против Жмакина никаких улик, кроме тех двух серебряных ложек, не было, – ты не посчитал нужным разобраться.
– Каких еще ложек?
– Не помнишь?
– Ложек? – страдальчески вскрикнул Митрохин. – Ну, не помню, разве в нашей работе все упомнишь? Не бей лежачего, Иван Михайлович, не подсылай ко мне ревизовать бухгалтера, у меня тоже самолюбие есть…
– Это какого же бухгалтера и что ревизовать?
– Да Бочкова! Николая Федоровича твоего. Копает, копает, удавиться можно. Ведь под меня копает!
– Не под тебя! – жестко, со вздохом сказал Лапшин. – За Жмакина копает…
– Но если за Жмакина, так ведь это же под меня! – искренне и горько произнес Митрохин. – Вы меня копаете все и коллективно хотите в землю живым закопать. Это же последний будет удар по моему авторитету…
– По авторитету? – удивился Лапшин. – Да разве признать свою ошибку и вовремя исправить ее означает удар по авторитету?
Пожалуй, Иван Михайлович поостыл от своего гнева в эти минуты и вдруг с тоской понял, что Митрохин искренне верит в свою правоту и что спорить с ним совершенно бессмысленно. Что тут доказывать? Но как раз в это мгновение Митрохин пошел выписывать такие кренделя, что Лапшин вновь побагровел и закричал:
– Брось ты мне про мой полет мысли! Я и сам свою рабочую возможность знаю, и сколько во мне лошадиных сил заложено, тоже знаю. Брось ты мне льстить, Андрей Андреевич, я к тебе не за этим пришел, я пришел к тебе сказать впрямую, что так действовать нельзя. Понимаешь ты это или нет? Есть в тебе то, что люди совестью называют, или одни только хитрости в твоей голове? Шевельни мозгами, пойми: разберись ты вовремя, по совести, по-человечески, а не только формально с братьями Невзоровыми – и Самойленко был бы жив по нынешний день, так? И Жмакин бы не попал в преступники, так? Это ты можешь сообразить?! Ведь совесть тебя должна мучить?
– Мучить? – с грустной улыбкой воскликнул Митрохин. – Это ты мне такой вопрос задаешь, Иван Михайлович? Ты? Старший товарищ, учитель, наставник! Я ни одной ночи не сплю, потому что как представлю себе…
И тут Митрохин «дал маху» форменно, по-настоящему, по уши залез в болото. При всем лапшинском жизненном опыте, Лапшин все-таки мог попасться, и на малое время почти даже попался, на удочку с умирающей от эмфиземы мамашей, но тут Андрей Андреевич так ужасно грубо «перебрал», что Лапшин даже не поверил своим ушам, когда услышал, как не спит Андрей Андреевич «ночи напролет, до самого, понимаешь, рассвета», все представляя себе окончание этой истории на партийном собрании, затем за белыми с золотом дверьми кабинета Баландина, а потом где и повыше.
– А не спутал ли ты, Митрохин, и совесть с собственной трусостью? – напирая на слово «трусость», спросил Лапшин. – Не спутал ли ты, Андрей Андреевич, шкурнические свои переживания, страх баландинского разноса, ежели я ему все по науке доложу, с совестью? А?
Но Митрохина не так было просто схватить за руку. Оказалось, что в партийном собрании, в разносе Баландина, в «беседе» с тем, кто и повыше, Андрей Андреевич как раз и видел свою совесть – нате-с, выкусите! Он и коллектив неразделимы. Он не мыслит себя вне коллектива. Конечно, осуждение коллектива – страшное горе, это Лапшину незачем и объяснять, но грани между коллективом и осуждением самого себя Митрохин не признает, что бы с ним ни делали, хотя бы угрожали электрическим стулом. Впрочем, все, что он сейчас говорил, не могло попасть в Лапшина, как попала эмфизема. Иван Михайлович поднялся и слушал разглагольствования Митрохина терпеливо, даже как будто бы с интересом. Но вдруг круто оборвал его вопросом:
– Кто эта такая Неля, которую Жмакин назвал в личном письме тебе?
– Неля? – помаргивая и понимая, что разговор с Лапшиным окончательно проигран, осведомился Митрохин. – Неля? Какая такая Неля?
– Неля – единственная свидетельница драки на Фонтанке, не опрошенная тобой, несмотря на все просьбы Жмакина. Борис Кошелев тогда был в тяжелом состоянии, так? Да, собственно, за него и заступился Жмакин! Это ты помнишь?
– Ну, помню! – тупо произнес Андрей Андреевич, и было видно, что он совершенно ничего не помнит, как ни силится.
– И Филимонова помнишь? – спросил Лапшин.
– А как же!
– Никакого Филимонова не было, – глядя, как на врага, на Митрохина, сказал Лапшин. – Филимонова я сейчас придумал. Ты, Митрохин, все лжешь. Ты даже после самоубийства Жмакина не поинтересовался его делом. Ни Кошелева ты не помнишь, ни Нелю эту самую, да и Жмакина, наверное, позабыл. «Мало ли их», – как любишь ты выражаться. Больше того: ты, получив письмо Жмакина, наверное, даже порадовался – концы в воду. Нет, Андрей Андреевич, не вышло! У нас коммунисты работают, а коммунизм и совесть – понятия неразделимые, как бы некоторые демагоги вроде тебя эту самую совесть диалектикой ни старались запутать. Был случай, помню, ты кричал: совесть – понятие сложное. Есть наша совесть, есть совесть буржуазная, так же как порядочность. Тоже, видишь, тебе это слово не подходит – порядочность. Эти понятия фашистам не подходят, – оно правда, а мы, большевики, знаем, что такое порядочность и совесть. Так вот, на нонешнем этапе, предполагаю я, пришел твой, Андрей Андреевич, конец. Ты меня знаешь, известно тебе, что слов я на ветер кидать не люблю, так вот, слушайся совета, последнего совета: давай, Митрохин, сам уходи от нас. Нельзя тебе с людьми дело иметь – много бед натворишь. Так много, что и не расхлебаться потом. Самой советской власти за твои дела придется отвечать, за лично твоя поступки и поступочки. Не смерди, Митрохин, уходи. У чекиста ясная голова должна быть, горячее сердце и чистые руки, так нас наш хозяин учил. А ты? Нет, уходи! Уходи на склад, что ли, строительных материалов или на тару. Мужик ты энергичный, в газетах пишут, что с тарой неполадки, – может, и поднимешь тару. Давай, Андрей Андреевич, не мешкай. Уходи!
– А разве вы мне начальник? – спросил Митрохин, перейдя на «вы» и отваливаясь на спинку кресла. – И разве вы мне можете приказывать? Ну а совет ваш я принимать не хочу. Не хочу, Иван Михайлович, потому что у нас с вами совершенно разные взгляды на вещи и я вам как кость в горле. Вы ведь меня боитесь?
– Я – тебя? – спокойно удивился Лапшин. – Почему же мне тебя бояться?
– Потому, что я противник вашего гнилого либерализма, – раз. Потому, что я не потворствую преступникам, – два. Потому, что я не развожу с ними интеллигентщину, – три, и в больницах беглых аферистов не навещаю, – четыре! Доказательства желаете? Корнюха, вами упущенный, свободно разгуливает и людей бьет как хочет, а всю вашу бригаду из-за одного вора-рецидивиста лихорадит. Вы Анатолия Грибкова под пулю поставили, и это вам сошло пока что, Иван Михайлович, но мы еще об этом, надеюсь, поговорим, как и о вашем Окошкине, который является другом подследственного Тамаркина. Вы не обижайтесь, Иван Михайлович, – испугавшись собственной злобной наглости, грядущего «раздолба» у Баландина и спокойно-насмешливых глаз Лапшина, заспешил Митрохин, – я, может, и горячо говорю, но у меня свои взгляды, а у вас свои, и это вроде дискуссии…
– Так, так, дискуссии, – ровным тоном, чуть вздохнув, сказал Лапшин. – Хорошая у нас с тобой дискуссия получилась. А получится еще похлеще. Ну ладно, пока. Но учти, я ведь тебя, Андрей Андреевич, осилю, – совсем тихо, так, чтобы за дверью никто не услышал, добавил Лапшин. – Осилю, потому что я – это мы, а ты – это ты один, как та паршивая овца…
Он стоял уже у двери, и на лице Митрохина было написано облегчение, но, раздумав, Лапшин опять подошел к столу и повторил:
– Я – это мы, а мы – большое дело, Митрохин. Нам крутиться нечего, мы перед партией какие есть. Вот ты про Корнюху сказал. Да, нехорошо получилось. Про Толю Грибкова и того плоше. Ужасное, можно сказать, происшествие. Но, понимаешь, на войне случается – убивают. Никуда не денешься. Но мы – не посторонние, мы и с ошибками нашими есть все же мы. А ты – один и, как Толя покойный выражался, – посторонний. Вот так-то…
Поскрипывая сапогами, не торопясь, он дошел до двери, толкнул ее плечом, и долго еще Митрохин стоя прислушивался к грузным шагам в длинном коридоре Управления…
«По служебной надобности»
От последнего слова подсудимого Тамаркин отказался. Председательствующий объявил перерыв, и Лапшин, взглянув на часы, решил съездить в больницу к Жмакину.
Дважды он бывал здесь и оба раза не замечал в Алексее особых перемен, хотя лечащий врач, брюнет с отливом в синеву и выпуклыми глазами, утверждал, что «имеется некоторый прогресс».
Жмакин вышел к гостю в комнату для свиданий. Лапшин сидел на скамье, широко расставив колени, в одной руке у него был пакет с передачей, в другой – незакуренная папироса. Жмакин сразу же жадно посмотрел на папиросу, но Иван Михайлович перехватил его взгляд и сказал:
– Нет, Алеша, категорически нельзя. Я у доктора у твоего специально спрашивал, он заявил – ни в коем даже случае, иначе вообще передач лишу. Никотин – для тебя яд.
– Никотин для всех яд! – грустным голосом подтвердил Жмакин. – А вот доктор наш курит – я сам видел.
Некоторое время они посидели молча, потом Лапшин спохватился и отдал передачу.
– Спасибочки.
– Как сам-то себя чувствуешь?
– Да вот психую! – как бы с удивлением сказал Жмакин. – Иногда ничего, а иногда, знаете, все во внутренностях прямо-таки трясется. И слезы текут. Ничего такого нет, обращаются культурно, а текут слезы и текут. По-научному объясняют, что у меня нервная перегрузка была. Как вы считаете?
– Да не без того.
– А чего вы ко мне ходите? – неожиданно, без паузы, спросил Жмакин.
– По служебной надобности! – холодно ответил Лапшин. – У меня чуткость тоже в распорядок дня входит. Ты же сам сказал об этом – не помнишь?
Жмакин молча пожал плечами. Ему, как все эти дни, хотелось плакать, и тоска щемила сердце; он отвернулся от Лапшина и глазами, полными слез, стал смотреть в окно. Лапшин напряженно посапывал за его плечом. Пока Жмакин плакал, пришел на свидание сумасшедший шахматист Кристапсон, потом пришел жалкий человечек Мансуров, заболевший манией величия, – нынче он был Бонапартом и вел себя соответственно тому, что знал о Наполеоне. За ним явился толстый, бурно-веселый отец большого семейства Александр Георгиевич – коллекционер, очень надоедливый и шумный. Кристапсон – бледный, гибкий, с блестящими глазами – вдохновенно ругал своей миловидной жене всех знаменитых шахматистов мира, а она кротко и грустно кивала; Александр Георгиевич бурно здоровался с семьей; Мансуров скомандовал «смирно» своим воображаемым гвардейцам и тотчас же так разбушевался, что его увели. Народу было все больше и больше, комната свиданий гудела ульем.
– Во, психи! – улыбнувшись и быстро рукавом халата утирая слезы, сказал Жмакин. – Ей-богу, здоровый человек тут запсихует.
– Ты почему Клавдию не пускаешь? – спросил Лапшин. В сущности, он из-за этого сюда и приехал. – А, Алексей?
– Мое дело.
– Обижаешь человека. Она к тебе со всей душой, а ты специально заявил, чтобы никакую женщину к тебе никогда не пускали, иначе ты за себя не ручаешься. Так?
– Она вам жаловалась?
– Не жаловалась, а советовалась. Разные вещи.
Жмакин молчал. Иван Михайлович всмотрелся в него: как пожелтело лицо, как запали виски, каким безразличным и даже туповатым стало выражение зеленых глаз! И где прежняя резкость, легкость, порывистость?
– Лечат тебя здесь?
– А как же? Капли дают, и давеча я автобиографию писал. Сначала короткую, а потом доктор сказал, что нужны подробности. Чтобы я на всем останавливался. Въедливый, черт!
– На чем же тебе надо останавливаться? – спросил Иван Михайлович.
– На разных там деталях. Например, в отношении взаимоотношения полов.
– Каких еще таких полов? – не понял Лапшин.
– Обыкновенно. Насчет мужчин и женщин. Это у него такой специальный вопрос, у нашего доктора, все больные знают, спросите у кого хотите, если не верите. Большой науки человек – доктор наш. Ты ему одно, а он тебе свое. Легальный фрейдист, – не без труда выговорил Жмакин. – Это он так сам про себя выражается.
– Легальный фрейдист?
– Ага. Так что, может, вы мне закурить дадите?
Лапшин сердито сунул Жмакину оставшиеся в пачке папиросы, попрощался и отыскал лупоглазого психиатра. Тот рылся в бумагах, страшно волосатый, с буйно торчащими бровями, с вздыбленными кудрями, с лезущей вперед бородой.
– Послушайте, – сказал Лапшин, – я насчет Жмакина.
Врач продолжал шуршать бумагами, кося на Лапшина свои налитые, сверкающие глаза.
– Нельзя ли его в какую мастерскую определить, чем эти ваши автобиографии, – не слишком вежливо попросил Лапшин. – Это, конечно, дело не мое, и специальность у меня иная, но кое-что в жизни я повидал. Покой ему сейчас нужен и занятие какое-никакое – отвлекающее. А вопросы пола здесь ни при чем.
– Выйдите вон! – спокойно сказал доктор.
– Это как? – не понял Лапшин.
– Очень просто. Я вас не приглашал, часы у меня не приемные, вот я и требую – выйдите вон.
– Ух, вы какой! – удивился Иван Михайлович. – И с больными вы так?
Врач высунулся в дверь и крикнул:
– Пальчиков! Проводите от меня посетителя!
Дюжий санитар в коротком халате, держа ручищи за поясом, проводил Лапшина до вестибюля, пригорюнился и сказал гардеробщику:
– Слышь, Альбертыч, нынче третьего посетителя провожаю. С чего бы оно?
Альбертыч, посасывая трубочку-носогрейку, ответил не скоро:
– Думаю, с волосатиком с нашим неладно. Первые-то двое знаешь, кто были? Из здравотдела – обследователи.
Жмакин в это время высунулся в вестибюль, спросил негромко:
– Дядечки, ко мне девушка сегодня не приходила?
– К кому это к тебе? – осведомился Альбертыч.
– Да Жмакин я.
– К Жмакину приходила, но не допущена по его личному заявлению.
– И не пускайте! – попросил Жмакин. – Ладно?
– Иди ты отсюда! – велел Пальчиков. – Нельзя вам здесь быть…
Покурив в уборной, Жмакин вернулся в свою палату, с тоскою взглянул на бегущие в небе веселые весенние облака, зевнул и лег на койку. Как и вчера, как и позавчера, ему решительно ничего не хотелось. Вновь внутри томительно засосало, задрожало, слезы навернулись на глаза, и незачем и не для чего было сдерживаться. Слезы еще лились, а он уже дремал, вернее, задремывал, вспоминая, с чего это все началось. Тогда, после смерти Толи Грибкова, вернувшись к Агамирзяну, он внезапно все рассказал ему про себя, про Невзоровых, про Клавдию, про Митрохина, про драку на Фонтанке, про побег и про многое другое. Агамирзян слушал, опершись на локоть, обычно злые глаза его блестели состраданием и полным пониманием той сумятицы, которая происходила в жмакинской душе. Жмакин говорил долго, а потом стал торопиться, захлебываться, заговариваться. Агамирзян крикнул сурово:
– Перестань! Я тебе слово даю честного человека – займусь этим. При советской власти живем, слышишь, дурак ты и больше никто! Иди сюда, говорить будем, я тебе сейчас все разъясню…
Но Жмакин не шел, тряс головой, слезы бежали по его лицу. Агамирзян позвонил, прибежала нянечка, потом сестра. Жмакин, босой, с одеялом в руке, жалкий, худой и желтый, читал стихи:
В саду расцветают черешни и вишни, И ветер стучится в окно, А я, никому здесь не нужный и лишний, По шпалам шатаюсь давно…Сестра попыталась уговорить его лечь, он выругался. Позвали врача.
– Да я вовсе не сумасшедший! – внезапно о чем-то догадавшись, воскликнул Жмакин. – Какой я сумасшедший! Я расстроился, товарищи, я устал маленько, и сердце у меня здорово щемит. Но это ничего, я вам хорошую песню спою, ты послушай, Агамирзян…
Его начали уговаривать, он сжался, сел на свою постель и опять заговорил, пока сестра его колола шприцем:
– Не в том дело, – бормотал он, кося зелеными, запавшими, тоскующими глазами, – слышите вы? Не в том! Я вам все расскажу, как было. Вот, например, Толя Грибков, который…
Под утро два санитара-студента положили Жмакина на носилки и понесли по коридорам клиники. Сестра шла сзади, и это было похоже, как выносили в последний раз Грибкова. Жмакин лежал на спине, лицо у него было покорное, в глазах стояли слезы, всем встречным он виновато улыбался. И все время его не покидало чувство, что слишком много беспокойства он причиняет другим людям своим существованием…
Возле подъезда, под медленно падающими хлопьями мокрого весеннего снега урчала коричневая машина санитарного транспорта. Носилки со Жмакиным вдвинули в кузов, один юноша-санитар сел напротив и положил руку Жмакину на грудь. Жмакин вздрогнул и испуганно улыбнулся, машина двинулась по снежным лужам. Жмакин сел, но санитар вновь его уложил, негромко говоря:
– Ничего, ничего, все будет хорошо, товарищ. Все будет очень хорошо, великолепно…
Правительственная награда
Нелю Бочков отыскал только на четвертый день, и не ее самое, а сведения о том, что «таковая Евгения Анисимовна Гудзевич вышла замуж за инженера Руднюка и выбыла на постоянное жительство в город Киев, где и проживает по улице…»
Перечитав справку, написанную Николаем Федоровичем, Лапшин пошел к Баландину за разрешением срочно послать Криничного в Киев. Это было дорого, – хоть дело того стоило, но без визы рачительного и скуповатого на казенные деньги Прокофия Петровича Лапшин не мог послать своего работника самолетом.
Попыхивая папиросой, Лапшин вошел в приемную и, перебросившись двумя словами с Галей Бочковой, которая состояла теперь при Баландине вроде бы адъютантом, осторожно приоткрыл белую с золотом дверь кабинета. Баландин слушал радио и приложил палец к губам, а когда Лапшин неосторожно громыхнул стулом – погрозил кулаком.
– Диц Михаил Маркович, – торжественно и четко говорил диктор, – Дьяконов Степан Степанович, Желтов Александр Парамонович…
Фамилии были знакомые, все милицейский народ, и Лапшин понял, что диктор читал Указ о награждении орденами и медалями работников Управления. И когда он услышал свою фамилию, произнесенную так же четко и торжественно, как фамилии своих товарищей, то вдруг густо покраснел и взял со стола газету. Баландин подмигнул ему и шепнул, словно диктор мог их услышать:
– Бочков из твоих награжден и посмертно Толя Грибков. Толя – орденом Красного Знамени. Надо мамаше сейчас телеграмму отбить.
Они дослушали Указ до конца, составили телеграмму Толиной маме, и тогда Иван Михайлович приступил к делу. Но, несмотря на хорошее настроение, Баландин в самолете Криничному отказал.
– Поездом поедет, как зайчик, – сказал он, раскручивая пенсне на цепочке. – Авиация знаешь какая штука? Погоды нет – сиди. А поезд идет себе и идет в любую погоду.
Они поговорили еще о приговоре по делу Тамаркина, посетовали на прокурора, что-де хорош прокурор, но немножко вяло обвинял, и тогда Лапшин перешел к самому главному – к вопросу о Жмакине и его дальнейшей судьбе. Баландин слушал Ивана Михайловича внимательно, все вертя на пальце пенсне, потом неожиданно спросил:
– Но побег был?
– Был побег, Прокофий Петрович, и многое еще было, – задумчиво ответил Лапшин. – Все было, только сажать этого самого Жмакина больше нельзя.
– Ну а если он еще какое художество учинит – тогда как? Лепешку из нас сделают, ты это учти. С нами запросто, Иван Михайлович: вон старик двадцать лет служил, а за тещу бахнули. И тут за либерализм вполне могут пропесочить, да так, что костей не соберешь. Делай, но умненько, осторожненько, чтобы комар носа не подточил. А ежели что – извини, взыщу. Я этого твоего Жмакина совершенно не знаю, Митрохин же поспел быть у меня…
– Уже был? – осведомился Лапшин.
– Был, как же, – с особым выражением ответил начальник. – Он у меня непременно и ежедневно бывает, не так, как некоторые другие, он человек обходительный и как раз сегодня рекомендовал мне врача-гомеопата специально по желудочным болезням…
Лицо Баландина на секунду сморщилось, и Лапшин опять понял, как умен, наблюдателен и внутренне независим Прокофий Петрович, как понимает он митрохинскую натуру и как хорошо работать за такой гранитной скалой, как Баландин. «Извини – взыщу!» Иван Михайлович знал, как взыскивает начальник. Случалось, что и страшно взыскивал, но тогда, когда лгали и изворачивались. За ошибки же учинял он разносы разных степеней, по «двенадцатибалльной» системе, как говорили о нем в Управлении, но не в смысле лицеев и институтов благородных девиц, а в смысле шторма на море. С Лапшина он еще ни разу не взыскивал и даже никогда не грозился взысканиями. Видно, сильно сегодня поработал Андрей Андреевич, если так осторожен Баландин. Поэтому, вставая, Лапшин довольно сухо произнес:
– Разрешите, товарищ начальник, мне со Жмакиным поступать под мою полную ответственность?
Прокофий Петрович улыбнулся, вздохнул и велел:
– Сядь. Ты что думаешь, Баландин ответственности боится? Нет, дорогой товарищ, Баландин не ответственности боится, а кляуз. Приустал я маненько от всяких комиссий. Дело делать надо, а тут сиди с Занадворовым и давай ему объяснения. Ты думаешь, я митрохинскую тактику и стратегию не понимаю? Но ведь Корнюха-то ушел действительно? И от тебя ушел. А от Андрюшеньки никто не ушел. Не ушел, потому что он и не брался взять, но это вопрос уже другой. И так как ты, насколько я понимаю, вышеупомянутому Митрохину кое-что высказал, то Андрюша соображает теперь, как выжить. Он твоего очередного промаха ждет, чтобы полностью перейти в наступление и изобличить тебя как либерала, интеллигента и потатчика. С Занадворовым он беседовал, и Занадворов о нем неплохого мнения. Поэтому и говорю я тебе, Иван Михайлович, делай, но осторожненько и умненько, чтобы не комар, а Митрохин носа не подточил. Ясно?
Когда Лапшин вышел от Баландина, Галя Бочкова уже сменилась и на ее месте у телефонов сидел Рязанкин, читал «Курс физики». Лицо у него было напряженное, непонимающее.
– Учитесь, Рязанкин? – спросил Лапшин.
– Да надо немножко, хочу в явлениях природы подразобраться.
– Разбираешься?
– Трудновато, Иван Михайлович.
Лапшин заглянул в книгу, она была раскрыта на «Теплоте», на больших и малых калориях. Он читал и чувствовал, что Рязанкин тоже читает, чуть шевеля губами от напряжения.
– Ты листочек бумаги возьми, – посоветовал Лапшин. – Точные науки всегда советую тебе с бумагой, с карандашиком, графически выражать. Это не в кино сходить, это – наука.
Он сел на стул Рязанкина возле бюро, толкнул столик с телефонами так, что они все задребезжали, велел Рязанкину тоже сесть и, заглядывая в книгу, стал объяснять «Теплоту», которую читал во время ночных дежурств на Гороховой при свете лампочки, горевшей в четверть накала, а то и при коптилке. Рязанкин благодарно посапывал возле его плеча, и это напоминало Лапшину собственную юность, как они, несколько человек, сидели возле Дзержинского, а он рассказывал им о живописи, о полотнах великих мастеров, и в холодной комнате странно звучали никогда не слышанные имена: Веласкес, Ван-Дейк, Тициан, Домье, Рембрандт. Так он и запомнил навсегда именно в этом порядке эти имена. И странную, мягкую, блуждающую улыбку Феликса Эдмундовича, когда, внезапно поднявшись, он произнес: «Заболтались мы с вами. Пойдем работать…»
– Понятно теперь, Рязанкин? – спросил Лапшин.
– Вроде бы разбираюсь.
Поднявшись к себе, Иван Михайлович позвонил домой Бочкову.
– Где сам-то? – спросил он у Гали.
– А где? Обыкновенно! – обиженно ответила она. – Сидит, мабуть, в засаде.
– Когда вернется, скажи ему, что награжден он орденом. Понятно?
– От правительства? – робея, спросила Галя.
– Уж не от меня. Орден называется «Красная Звезда». Только не забудь спросонок.
Бочкова немножко обиделась:
– Не такая я уж тетеха! – сказала она. – Когда так, пойду блинчики сделаю со свининкой и со шкварками. Он их сильно уважает.
«Со свининкой и со шкварками, – рассердился Лапшин. – А мне кто блинчики сделает? Может, я тоже такие блинчики люблю».
Телефон непрерывно звонил – поздравляли работники Управления, потом очень торжественно, на высокой ноте произнес длинную речь Сдобников, сразу за ним своим глуховатым голосом осведомился Ханин:
– Ну как? Доволен? Мы вот тут с Катериной сидим, с закусками и с шампанским, а у тебя телефон хоть плачь – не отвечает. Передаю трубку.
– Иван Михайлович, миленький, – быстро и ласково заговорила Катерина Васильевна, – поздравляю вас. Мне Давид Львович сообщил, мы тут приготовились. Если можно, приезжайте…
– Так точно, – не узнавая свой голос, ответил Лапшин, – сейчас буду.
Закурив, он сел в машину и, чувствуя себя таким счастливым, как в раннем детстве, когда выгонял в ночное отцовского мерина, поехал к Балашовой. Стол был заботливо и даже красиво накрыт, ярко горела электрическая лампочка, Ханин без пиджака топил печку.
– Ну, здравствуй! – сказал он. – Сейчас Катя придет, она в кухне картошку жарит. Хотели мы пельмени сообразить, но долго. Чего глядишь? Ведь ты приехал, чтобы поскорее повидаться со мной, а не с Катериной Васильевной, так?
– Оставь, пожалуйста!
На подоконнике возле этажерки стопкой лежали книги. Иван Михайлович взял одну, раскрыл и, прочитав строфу, заробел:
Потом, может, ветры расскажут раздолью, Как жил я, ликуя, воюя, любя; Но честь не по чести, и доля не в долю, И слава не в славу, коль нету тебя…Почти с испугом захлопнул он книжку и обернулся на скрипнувшую дверь. Балашова в сером платье с белым плоеным воротничком поставила сковороду и подошла вплотную. Он видел пробор – ровную ниточку на ее милой голове, видел розовое ухо, ресницы, круглые глаза. И даже не понял, что, поздравляя, она крепко поцеловала его в губы. И спросила:
– Посмотрите, здорово я волосы сожгла? Наклонилась и, понимаете, примус… Как пыхнет…
– У нее вечно что-то пыхает! – проворчал Ханин. – Катька – золотая ручка. Часы сломала, утюг, теперь обожглась… Давайте, братцы, похарчим, очень есть хочется.
Лапшин сел на неудобный стул, а Катерина Васильевна ходила мимо него, отыскивая недостающую вилку, и он чувствовал, что счастлив, и стыдился на нее смотреть, потому что понимал – так не смотрят на знакомых женщин, так на них нельзя смотреть. И был бы счастлив еще больше, если бы не пялилось на него со стены актерское загримированное рыло – подарок – колибри от индюка.
Ужиная, Лапшин много ел и изредка говорил:
– Так точно.
Или:
– Совершенно верно.
Или еще:
– Нет, очень даже вкусно.
Ханин, зевая, попросил:
– Рассказал бы ты что-нибудь, Иван Михайлович. Криминалистическую загадку или нечто героическое…
И, обернувшись к Балашовой, объяснил:
– Он ведь рассказчик замечательный, но иногда словно заколодит. Или еще учит меня, подымает до себя. Тоже неинтересно. Расскажи, верно, Иван Михайлович!
– Устал же человек, разве вы, Давид, не видите? – заступилась Катерина Васильевна, и Иван Михайлович благодарно взглянул на нее. Угощая, она часто дотрагивалась до его руки или клала ладонь на обшлаг его гимнастерки. И он ждал этих прикосновений, ждал жадно и сердился на себя за то, что скован, робеет, за то, что не может выдавить из себя ни одного путного слова.
На обратном пути Ханин спросил:
– Ты меня прости, Иван Михайлович, но у тебя романы в жизни были?
– Нет, – помолчав, сказал Лапшин. – Не было у меня никаких романов. Не занимался.
И, поскользнувшись, добавил:
– Вот у Василия у моего романы, так это да! Но сейчас, думаю, остепенится. Похоже, что серьезное у него дело.
– А у тебя и серьезных не было? – опять осведомился Ханин.
– Серьезное было, – не торопясь, грустно ответил Лапшин. – Лежал я как-то в госпитале, вот случилась там одна сестричка медицинская. Лисичка-сестричка. Быстренькая такая, веселенькая, пересмешница. Ты ей слово – она тебе десять. Сильно я по ней, Давид, тосковал.
– Почему же тосковал?
– А не понравился я ей в конце концов. Драка в те годы большая шла, я на колесах больше, а то и пешком. На границе сильно неспокойно было, случалось, месяцами домой не заглядывал. Однажды вернулся – прочитал записку: ушла моя сестричка и просила ее розысками «не беспокоить».
– Тем и кончилось?
– Да как тебе ответить? Вроде бы тем и кончилось. Запиской этой очень она меня оглоушила – вот с того утра я как бы заробел чуток. Может, и действительно серая я личность и ничего, кроме серой жизни, дать человеку не могу?
– Это она тебе так написала – сестричка-то?
– Точно так и написала. Долго я тогда, Давид, критику на себя наводил. Со всех сторон свою всю, что ли, биографию оглядел, все проверил, вроде бы как в микроскоп себя исследовал. Никуда не денешься: таков уж есть, и другим не бывать…
Они остановились на перекрестке в сырой свежести весенней ночи, закурили, помолчали.
– Вот и сейчас, – неожиданно для себя сознался Лапшин. – Ударила меня эта Катерина Васильевна, а при ней словно немею. Все думаю – серой ты жизни человек, куда суешься, что судишь!
– А что же ты судишь?
– Да вот, например, хоть фотография эта – колибри от старого индюка. Наверное, юмора не понимаю, но не нравится.
– Ей, думаешь, самой нравится? То-то, что нет. Но это у них большой артист, иногда заходит душу отвести, вот и неловко со стенки снять. Ты на Катеньке женишься и снимешь, ей с тобой страшно не будет…
– Да ты, брат, что? – испугался и сконфузился Лапшин. – Жениться! Да на кой ей я? Ты соображаешь? Она артистка, а я…
– А ты? – с веселым любопытством спросил Ханин. – А ты? Договаривай! Или это обязательное свойство положительного персонажа – скромность? Скромный ты у нас, да, Иван Михайлович? Серый? Лаптем щи хлебаешь?
Взяв Лапшина под руку, он близко посмотрел на него и сказал убежденно, настойчиво и громко, словно глухому:
– Сволочь твоя лисичка-сестричка, а ты замечательный человек, Иван Михайлович, на таких, как ты, советская власть стоит и такими, как ты, держится. Ты знаешь, я сентиментальности лишен начисто, лишних слов не болтаю, за редким, впрочем, исключением. И восторженную истеричность в людях не терплю. Но тебе я должен сказать, чтобы в жизни ты эту проклятую серость не вспоминал. Я тебе должен сказать, что когда я как журналист вижу где-либо и какое-либо безобразие, а оно случается не раз и не два, покуда живешь и дело делаешь, – я всегда рассуждаю так: есть у нас Лапшины, много их, этих Иванов. Именно так я думаю, чтобы дрянь, пошлость, безобразие не застило мне перспективу. Ты не думай, что я спьяну, мы все одну бутылку шампанского выпили, я тебе, Иван Михайлович, этого никогда не говорил и не скажу больше никогда, но ты знаешь, что ты со мной сделал в одну худую минуту моей жизни? Помнишь?
– Это с пистолетом-то? – улыбнулся Лапшин. – Да, ничего, хитро обделал. Но покуда что-то не помогло, а? Все ведь киснешь!
И так буднично, так спокойно он это сказал, что Ханин даже немножко обиделся, толкнул Лапшина плечом и молчал до самого дома. А Лапшин тихонько насвистывал: «Ты красив сам собой, кари очи» – и шагал, сунув руки глубоко в карманы реглана, будто не замечая насупившегося Ханина.
В комнате за празднично накрытым столом сидел насмерть разобиженный Окошкин, такой ужасно разобиженный, что даже не обернулся, когда вошли Лапшин с Ханиным. И Патрикеевна тоже была оскорблена, молчала, только шуршаньем шелка своего платья выдавая обуревающее ее негодование.
– Вы чего оба словно мыла наелись? – спросил Ханин.
– А того, – ответил Василий Никандрович. – Того… того, что мы с ней, как радио услышали, так и занялись, а вам до нас дела нет. Я вот, например, консервы купил, совершенно новый выпуск – «Лещ в желе», я икру достал свежую и слоеное тесто, а Патрикеевна, хотя и инвалид, но развернулась – и с жарким, и с пирожками, и с курицей под этим…
– Под соусом пикан, – железным голосом сказала Патрикеевна. – И еще лоби зеленое сделала по-грузински, как товарищ Альтус учил.
– Вот именно! – кивнул Окошкин.
Ханин и Лапшин переглянулись и, ни о чем не уславливаясь, поняли друг друга.
– Так мы же не виноваты! – воскликнул Ханин таким лживо-искренним голосом, что даже Иван Михайлович ему поверил. – Мы безумно есть хотим. Мы маковой росинки не имели во рту. Я вашего Лапшина в редакцию возил, в эту, в как ее, в радиоредакцию, интервью брать. И Иван Михайлович там все подробно рассказывал, а я спрашивал, а он опять рассказывал, а я опять спрашивал. Это же не шутка…
– Хоть бы позвонили на квартиру, – сказала Патрикеевна. – Верно, Вась?
– Ну, уж чего, – сдался Окошкин. – Простим, что ли? Сейчас за Антроповым сбегаю, он тоже ждет не дождется. Тут еще вот что, Иван Михайлович, – добавил он шепотом, наклоняясь к Лапшину, – тут у меня по личному вопросу неприятности будут, так вы подмогите, а? Я думал, вечер свободный, договорился с ней и не пришел… В случае чего…
Пришел Антропов, сели за стол. Давясь, Ханин и Лапшин ели и закуски, и проклятую курицу соус пикан, и пирожки, и новый выпуск консервов. И водку пили, и мадеру, и пиво. А телефон все звонил – без конца. Последней позвонила Галя Бочкова:
– Иван Михайлович, дорогой наш! – заговорила она, чему-то смеясь. – Вы ж меня простите, глупую дуру, но я вас не пригласила на блинчики со шкварками. Не разобралась. Завтра форменно сделаю. Мой Бочков ругал меня и корил меня, а теперь я запьянела-а… Ой, Бочков, да не липни же! Вы скажите ему, товарищ начальник, разве ж мы молодожены? Тут люди сидят – Побужинский сидит лично…
Бочков вырвал у нее трубку и сказал все, как положено, про высокую правительственную награду и про то, что завтра Галя приглашает товарища Лапшина «форменно», а потом добавил, видимо закрывая трубку ладонью:
– Повязали, товарищ начальник, обоих. Крышка теперь Дроздову.
– Сопротивлялись?
– Нормально всё.
– Ну, будь здоров, Николай Федорович, – сказал Лапшин. – Желаю и дальше тебе, как ты заслуживаешь, всего самого лучшего.
– Надеюсь, товарищ начальник, награду оправдать…
– Давай, брат, оправдывай…
Патрикеевна, покраснев от выпитой мадеры пятнами, разливала чай. Антропов курил, думая о своем невеселом, Окошкин жаловался Ханину, как психологу человеческих душ, на поведение Ларисы. Лапшин вышел в коридор и по коммунальному, общеквартирному телефону позвонил Балашовой. Это было свинством ее будить, но он не мог иначе. Он должен был сейчас услышать ее голос, услышав, повесил трубку, улыбнулся, покачал укоризненно головой сам себе и сел в коридоре на сундук…
Парень смелый
Он еще читал газеты, когда начались утренние поздравительные звонки. «Лапшин И.М.» – прочитал Иван Михайлович и почему-то пожал плечами. Вздохнув, принялся одолевать изложение речи Гитлера о том, что Австрия, Чехословакия и Мемельская область захвачены имперскими войсками как «необходимый вклад в дело мира».
Услышав по телефону голос Митрохина, Лапшин подумал: «Хитер бобер», вежливо поблагодарил за поздравление и осведомился, как насчет предложения «уйти на тару». Андрей Андреевич весело посмеялся, превращая все в шутку, потом серьезно добавил:
– Хаханьки-то хаханьки, но порохом здорово пахнет. Речь дочитал?
– Нет, читаю.
– С Польшей пакт о ненападении аннулирован. Ловко?
– Что ловко-то?
После Митрохина позвонили из пригорода, и старческий голос сказал:
– Не помните? Густав Густавович Леман, конфетчик. Не помните?
– Не помню, – сказал Лапшин.
– В девятнадцатом году вы в моей хижине отлеживались, – сказал Леман, – вас тогда ранили в голень. Не помните?
– А, помню, – радостно сказал Лапшин, вспоминая домик уютного седоусого богатыря, возившегося с канарейками, вкусный кофе и булочки из картофельной кожуры…
– Мы с женой вас поздравляем, – сказал старческий голос, – и желаем вам долгой жизни.
Лапшин молчал, вспоминая молодость.
– Храбрость и доблесть мужчины всегда награждаются правительством, – сказал Леман, – а вы храбрый и доблестный человек. Между прочим, эти годы тоже не прошли для меня даром. Я сделал три новых рецепта с большим успехом. Шоколадные с начинкой «Веселая лакомка», недорогой сорт, но чрезвычайно высоких вкусовых качеств. «Утеха» и специальные дорожные «Турист». Об этом было в газетах.
– Что ж, поздравляю! – сказал Лапшин. – Спасибо, что позвонили.
– До свидания, – услышал он. – Я звоню с почты, мои три минуты кончились. Большой привет вашей супруге и деткам…
Потом принесли телеграмму из Мурманска, и Лапшин опять вспомнил прошлое – перестрелку на севере, и ему почему-то стало грустно. Потом приехали три парня и девушка в красном берете с жестянкой вроде кокарды. Они привезли Лапшину торт, и парень, у которого под пальто была маечка, сказал длинную фразу, из которой Лапшин понял, что он где-то кого-то спас и при этом что-то предотвратил. Они ушли, а Лапшин так и не понял, кто они и откуда. Торт оставался на письменном столе, и Лапшину было неловко на него глядеть – словно он краденый. Подумав, Иван Михайлович разрезал все это сооружение с ягодами, цветами и вензелями на куски и каждому, кто заходил, протягивал ломоть на листке отрывного календаря. Окошкин съел два куска, потом довольно развязно позвонил куда-то по телефону и попросил Лапшина подтвердить.
– Что подтвердить?
– А вчерашнее! Где я находился, забыли? – испуганно воскликнул Василий. – Иначе знаете, что мне будет? Ни в сказке сказать, ни пером описать…
Тотчас же голос его изменился, словно это говорил не Окошкин, а крем с торта, он попросил весовую и сказал:
– Ларисенок? Это я, ага, я. Передаю трубку. Иван Михайлович вчера правительственную награду отмечал, он сам объяснит…
Злобно глядя на Окошкина, Лапшин повторял за ним:
– Он действительно находился при мне неотлучно, мы отметили и легли спать. Скромно отметили. Присутствовали журналист Ханин, товарищ Окошкин, врач Антропов и я. Еще Патрикеевна…
В трубке щелкнуло, Окошкин спросил:
– Ну, что она? Не поверила?
– Знаешь, Василий! – слегка даже заикнувшись, сказал Лапшин. – Знаешь!
– Знаю, Иван Михайлович, – устало опускаясь в кресло, ответил Окошкин. – Все знаю. Конечно, некрасиво. Но ревнивая, просто жутко. Можно папиросочку у вас взять?
Покурив, он подвинул к себе торт и спросил:
– Разрешите, я еще скушаю? Крем здорово вкусный, просто великолепный. Если бы еще личная жизнь сложилась окончательно. Вы войдите в мое положение, разберитесь по-товарищески…
Но, заметив недобрый блеск в зрачках Лапшина, сделал вид, что заинтересовался газетой, и даже воскликнул:
– Смотрите-ка, Костя наш чего делает?
– Какой он тебе Костя?
– А что особенного? Наши ребята его так между собой всегда называют – Коккинаки, Костя! Молодой же парень!
Иван Михайлович не нашелся что ответить и только вздохнул, а Василий прочитал вслух сообщение о перелете самолета «Москва» в США и стал объяснять Лапшину сложности в сооружении тяжелых самолетов.
– Много ты, Васюра, знаешь, но неточно, – сказал Лапшин. – Здорово приблизительно.
Попозже пришел артист с большой челюстью – Захаров, – и, здороваясь с ним, Лапшин глядел на дверь, ему казалось, что сейчас войдет Балашова.
– Я, батюшка, нынче один, – словно поняв его взгляд, сказал Захаров, – фертов своих к вам не повел. Не умеют себя вести, пусть и сидят дома…
И он начал длинно говорить про неизвестных Лапшину французских братьев Гонкуров, которые, перед тем как описать смерть, долго ходили по больницам и наблюдали умирающих. Он говорил, а Лапшин слушал и не понимал, всерьез рассказывал Захаров или шутил.
– Так уж я вам надоедать не буду, – сказал артист, – пойду попасусь среди ваших работников, понаблюдаю тихонько, если позволите. А завтра-послезавтра Катюшу прихвачу, очень она к вам просится…
Лапшин проводил Захарова к Побужинскому, с радостью повторил про себя слова насчет Катюши и приказал привести к себе Мирона Дроздова. После Мирона он допрашивал Мамалыгу, потом еще двух дружков, взятых нынешней ночью. К обеду он вычертил схемку – все сошлось на Балаге, не раз судившемся по самым разным делам. Но Балагу трогать было решительно нельзя, тогда бы потерялась последняя ниточка, ведущая к Корнюхе. Отхлебывая простывший чай, он вызвал Бочкова и спросил ровным голосом, стараясь не выдать своего волнения:
– Николай Федорович, ты, по-моему, этой подробностью тоже занимался, – сидел Жмакин вместе с Корнюхой?
– Абсолютно точно, сидел.
– Корнюхе известно, что Жмакин сорвался?
– Поскольку Балага Жмакина видел и тот даже его кормил обедом, надо думать, известно. Если, разумеется, Балага с Корнюхой и сейчас связан.
– То-то, что связан… Каким путем, неизвестно, а только связан.
Несколько минут они оба молчали сосредоточенно и хмуро.
– А пойдет Алешка на это? – догадываясь о мыслях Лапшина, спросил Николай Федорович. – Не испугается кодлы?
– Не кодла, а воровской сход! – нравоучительно заметил Лапшин.
– И не сорвался, а совершил побег! – поддел Бочков начальника.
Оба улыбнулись. Лапшин сильно, всем телом потянулся, потом заговорил:
– Корнюха убил Толю. Как умирал Грибков, Алешка видел. Это произвело на него сильнейшее впечатление. Все остальное зависит от нас, Николай Федорович. Если мы с тобой вернем Жмакину правду, то есть веру в справедливость, он – наш, советский парень. Конечно, с вывертами, но ведь за Митрохина грошами не расплатишься. И Хмелянский, и Сдобников, и другие ребята нам немало крови испортили, однако ж сейчас люди. Балагу мы «пасем», хоть и плохо. Если он выведет Жмакина, разумеется по желанию самого Корнюхи, – бандит этот у нас. И дело, как говорится, можно будет полагать законченным. Ты еще учти, что Алешка – парень смелый, очень смелый. Ведь вот про волков-то он своей Клавдии не врал, это не выдумаешь. И когда он сердцем почувствует, что Корнюха похлеще, чем те волки, – полный порядок. Наше дело будет только техническое. Согласен?
– Согласен, – ответил Бочков.
Чай на двоих
В это воскресное утро безразличие и тупость вдруг покинули его. Может быть, от письма Клавдии, которое он жадно читал и перечитывал накануне вечером и где она писала, что отыщет его, «дурака», где бы он ни был, хоть на дне морском, может быть, оттого, что Агамирзян прислал ему тоже писульку о правде и справедливости, может быть, оттого, что новый врач разговаривал с ним не как с больным, а как с совершенно здоровым человеком, – во всяком случае Жмакину захотелось двигаться, захотелось хорошо помыться, переодеться, выйти в сад. Если бы новый, кривоногий, коротенький и толстый, доктор хоть в чем-нибудь нынче отказал Жмакину, он бы, наверное, вернулся в прежнее свое состояние, но доктор Лаптев согласился, что и вымыться хорошо, и переодеться не мешает, и по парку побродить тем более. Самое же главное заключалось в том, что Лаптев, вопреки всем правилам, заперся со Жмакиным в своей маленькой ординаторской и «втихаря» выкурил с ним по папиросе.
– Знаю, что безобразие, а не могу бросить! – сказал Лаптев, отряхивая пепел с папиросы в раковину. – Кстати, вы кто по специальности?
Хотя вопрос был задан вовсе не «кстати», Жмакин солидно ответил:
– Вор.
– Нервное дело?
– Работенка, конечно, пыльная.
– Хорошо бы переквалифицироваться, – посоветовал доктор. – С вашими нервами долго не протянешь.
– Мы в тюрьме отдыхаем, – сказал Жмакин. – Наше нервное дело имеет отпуск.
– И это верно…
Часа через два они встретились в парке. Лаптев уютно грелся на весеннем, уже припекающем солнышке, Жмакин подсел к нему на широкую, со спинкой, садовую скамью. Где-то высоко в ветвях еще голых старых берез суетливо орали вороны. За высокой кирпичной стеной скрежетали на закруглении трамваи, перекликались разноголосые автомобильные гудки.
– Стена-то у вас ничего себе, солидная! – сказал Жмакин. – Но уйти все-таки не так уж трудно.
– Для здорового легко, для больного не слишком.
– А я вот, например, мог бы уйти? – дипломатично осведомился Жмакин.
Доктор не задумываясь ответил:
– Разумеется. Как и всякий здоровый человек.
– Так зачем же вы меня здесь держите?
– Во всяком случае вы тут не как душевнобольной…
– А как кто?
– Просто нервы у вас издерганы.
– От нервов санатории бывают, а не сумасшедшие дома.
– Здесь не сумасшедший дом, кстати, а клиника для душевнобольных, – ответил Лаптев. – Что же касается до санатория, то я думаю, что мы вас туда и направим в ближайшее время.
– Я, между прочим, не член профсоюза, – усмехнулся Жмакин. – Так что через что мне путевку выписывать – убей бог, не знаю…
Доктор промолчал, послушал, как орут вороны. К ним осторожно, кланяясь и улыбаясь, волоча ноги и даже приседая, подошел седенький музыкант Подсоскин, автор всего написанного композитором Чайковским.
– Ну что, молодые люди? – спросил он. – Дышим?
– Дышим, – хмуро сказал доктор.
– Разрешите к вам подсесть?
Жмакин молча подвинулся.
– Дышите, дышите, – сказал Подсоскин. – Вода и камень точит. Я вам всем горлышки перегрызу, в могиле не подышите. Я своей правды добьюсь. Шестьсот заявлений, семьсот заявлений, мир завалю заявлениями, а докажу. Среди невежества и неверия я один провозвестник. Тысяча заявлений сработают. Один правый, другой левый, третий связан с дефензивой, четвертый с сигуранцей, пятый подкуплен лично Чемберленом, и мне возвратят мое. Я – Чайковский Петр Ильич! И я прорвусь. Ву компренэ?
Он заглянул снизу вверх в глаза Лаптева, подмигнул и ушел.
– У меня бешеный темперамент! – крикнул он издали. – Для меня нет пределов и нет недостижимого. Слышите?
– И такие на свете водятся, – сказал доктор, когда Подсоскин скрылся за серебристыми елями. – Пойдемте?
Жмакин лениво поднялся. Не торопясь, вдвоем, они дошли до низкого кирпичного сарая под черепичной крышей, Лаптев вошел первым, Жмакин следом.
– Вот, рекомендую, – сказал доктор, – товарищ, которого я к вам привел, долгое время ставил антенны, налаживал приемники и вообще в этом деле кумекает. У вас, по-моему, в этом смысле небогато?..
Жмакин пригляделся. Здесь работало всего двое. Высокий бледный старик в спецовке и юноша с выпуклым лбом, синеглазый, в толстовке и сапогах. Яркий свет весеннего полдня лился в широкое окно, блестели мотки медной проволоки, обрезки цинка, латуни, шурупы в банке, светился красный глазок какого-то непонятного прибора.
– Ну что ж, милости прошу к нашему шалашу, – покойно и ласково сказал старик. – У нас в части радиотехники как раз пробел.
– А что у вас в шалаше? – спросил, улыбаясь, Жмакин. – Какой ремонт делаете?
– По хозяйству, – ответил бледный старик, – особого разделения специальностей нет. Хурду-мурду разную починиваем, паять-лудить для заведения всегда найдется.
Жмакин, по-прежнему улыбаясь и вспоминая детство, вернее, то, что казалось ему детством, а было юностью, взял с верстака моток антенной проволоки, подкинул на руке и положил на место. Здесь и радиоприемник стоял поблизости, наполовину разобранный, Жмакин никак не мог понять, какого завода и какой марки, и тотчас же понял, что многое миновало за эти годы и приемники, наверное, теперь совсем другие, чем те, которые он ставил, живя на Фонтанке и пропадая в школьном радиокружке.
– Давно психуешь? – спросил старик.
Жмакин ответил. Старик еще выспрашивал, какая у него точная специальность, где работал, какой разряд, писал ли он на себя анкеты «легальному фрейдисту». Жмакин аккуратно и вежливо на все ответил, но для интересу все решительно наврал. Специальность он себе придумал небывалую – «сцепщик-арматурщик».
– Это что ж такое? – удивился старик.
– Секретное дело, – сказал Жмакин. – По оборонной части. Объяснить не могу, подписку, папаша, специально давал…
– А мне и ни к чему. Ты вот только что… – старик беспокойно огляделся. – Ты когда этого самого… ну, психуешь, что ли, ты тогда держись, не болтай. Мало ли. Везде может находиться вражеское ухо…
Жмакин согласился, но пояснил, что, когда на него «находит», за ним специально назначают особое обслуживание. Молочная диета к тому же. Дают даже вино, если он пожелает…
– Скажи пожалуйста! – восхитился старик.
И перешел к делу, уважительно называя Жмакина Алексеем.
– Ты вот что, – говорил он, – ты давай пока у нас работай. Копейку зашибешь и для препровождения времени. Со слесарями у нас, Алексей, туго. Слесаря чего-то никак не психуют, токари тоже. И плотники, и столяры. Краснодеревщик, правда, один был, так он, понимаешь, баптист. Поправился от своего баптизма. Изобретатели, как я заметил, те, случается, психуют. Но злые они, ну их к ляду! И инструмент держать не могут, только чертежи.
– Рыбаки-любители еще психуют, – сказал синеглазый юноша. – Один тут все крючок хотел сделать электрический на акул. Жаловался, что никто его не поддерживает…
– Таким путем мы тут только и всего работников, что я да Андрейка, – перебил старик. – И каждому новому человеку рады…
Старик говорил круглым говорком, а Жмакин, слушая его, развернул тисочки, зажал в них железинку и от нечего делать стал ее обтачивать напильником. Руки у него были слабые и неловкие, но ему казалось, что работает он отлично и что старик с Андрейкой должны на него любоваться. Напильник поскрипывал, Жмакин посвистывал. Посредине сарая догорала чугунная буржуйка, дышала жаром, а из раскрытой настежь двери несло острым апрельским воздухом, запахом тающего серого снега, сосен, хвои.
– Чего свистишь? – сказал старик. – Нечего тут посвистывать. Петь пой, а свистеть нечего.
– Ладно, – сказал Жмакин, – петь я тоже могу.
И, прищурившись на тисочки, на напильник, он запел, и пел долго, думая о себе, о своем детстве и испытывая чувство торжественного покоя.
В понедельник он тоже вышел на работу, во вторник нечаянно проспал и испугался – погонят. Но никто его не погнал. Старик рассказывал, как запсиховал, похоронив единственную дочку; Андрейка, оказывается, был запойный и на этой почве, как выразился старик, «получил разные видения, вплоть до того, что ловил чертей».
– Ну да? – удивился Жмакин.
Андрейка, весь красный, кивнул…
Работал Жмакин не торопясь, пожалуй только для удовольствия и для того, чтобы не чувствовать себя больным. С приемником дело подвигалось туго. Это был не виданный еще им тип, в схеме он разбирался с величайшим трудом, но все-таки понемножку разбирался, и наконец приемник заработал. В мастерской вдруг заиграл рояль, Жмакин победно зыркнул зелеными глазами и сказал:
– Это что! Ремонтировал я один «супер», так вот где закачаешься. Никакой отстройки, никакого фона, кнопочку нажал и пожалуйста – слушай любую столицу мира…
Немножко поврав и послушав концерт, он пообедал, а потом отправился в контору за получкой. Кассирша выдала ему четырнадцать рублей сорок копеек. Усмехнувшись, он сунул деньги в карман. Давно-давно не было у него денег, заработанных таким путем. И странно ему было, и смешно, и почему-то неловко чего-то…
А в парке его ждал Лапшин, покуривая на солнцепеке, щурясь и думая какую-то свою особую думу.
– Ну как? – спросил он, протягивая Жмакину передачу.
– Можно в тюрьму, – сказал Алексей, косясь на Ивана Михайловича. – Кстати, помните, Корнюхой вы интересовались…
Лапшин вдруг быстро, коротко и очень серьезно на него взглянул.
– А что?
– Да ничего. Рассказывал он мне, когда мы с ним вместе сидели. Брал Корнюха магазин здесь неподалеку, на Петроградской. Не в цвет дело вышло. Подняли по нем ваши дружки стрельбу, в том числе товарищ Бочков. Подранили. Он, конечно, свалился. Его в больницу. Лечили чин чинарем, бульончик там, сухарики, киселек, это вам для здоровья нельзя, а это можно. Вылечили. А потом – десять лет.
– Бывает! – сказал Лапшин равнодушно. И спросил: – Тебе известно, что именно Корнюха убил Толю Грибкова?
Жмакин чуть-чуть отшатнулся от Лапшина, подумал и тихо ответил:
– Нет. Неизвестно.
– Так вот знай. И байки про этого гада лучше не рассказывай.
– А он верно гад? Может, как и у меня, судьба поломатая?
– У него не «поломатая», – передразнил Лапшин. – У него, Алеша, своя судьба. Своя.
И такая спокойная, такая уверенная и ничем не поколебимая ненависть прозвучала в этой короткой фразе Лапшина, что Жмакин даже голову втянул в плечи и замолчал надолго. Молчал и Иван Михайлович. Яркое весеннее солнце пекло им лица, от доброго пьянящего воздуха клонило ко сну. Уже набухли почки, крепко пахло землей, молодой березой…
– Что ж, давай съездим, – сказал Лапшин, – тебе полезно по улицам проехаться, хорошо для здоровья…
– Ох, об моем здоровье у всего вашего Управления одно только и есть беспокойство, – сказал Жмакин. – Ночи не спите, включая самого товарища Баландина.
– Может, и не спим, – усмехнувшись чему-то, ответил Лапшин. – Кто нас, Жмакин, знает, мы люди секретные…
У ворот больницы стояла машина. Жмакина выпустили беспрепятственно, неловко ему было только, что позабыл переодеться, так в спецовке и сел рядом с Лапшиным. Иван Михайлович, крякнув, захлопнул дверцу, вывернул руль, машина двинулась, разбрызгивая сияющие весенние лужи.
– Для чего вы меня везете? – спросил Жмакин.
– Для одной встречи.
– Подходики, – сказал Жмакин. – Все вы ко мне подходите. Кабы еще молодой, а то слава богу.
– Прожита жизнь?
– Не надо ко мне подходить, – жалобно заговорил Жмакин. – Честное слово, товарищ начальник, не надо. Я больной человек, психованный, нахожусь на излечении, самоубийство со мной было, чего вы меня тревожите? Папироски, лимончики, беседы. В тюрьму так в тюрьму. Воспитание ребенка. Я не ребенок! Я – жулик! Правильно?
– Правильно! – сказал Лапшин.
В Управлении он своим ключом отпер дверь кабинета, аккуратно повесил плащ на распялку, сдвинул кобуру назад, собрал со стола все бумаги и уложил их в сейф. Взглядом Жмакин следил за ним, ожидая подвоха. Лапшин подмигнул ему и сказал весело:
– Ладно, Алеха, не сердись, печенка лопнет.
Засмеялся и позвонил. Косолапо ступая, вошел огромный Криничный, мельком взглянул на Жмакина, подал Лапшину записку. Иван Михайлович прочитал и велел:
– Когда пообедает – сюда. А нам распорядись, сделай одолжение, чаю. И бутербродиков, что ли? На всех троих. Будем мы тут чай пить. Будешь, Алексей, со мной чай пить, или оно тоже подходцы?
– Буду! – веселея, сказал Жмакин.
Криничный вышел. Лапшин велел Жмакину сесть рядом с собой. Алексей покорно сел. Его немножко лихорадило от предчувствия чего-то удивительного, небывалого еще в жизни. И лицо горело, и сердце колотилось. Лапшин задумался, потирая щеки ладонями, большое, свежее лицо его стало грустным. Тикали часы в деревянной оправе. Под большим зеркальным стеклом на сукне стола были разложены фотографии – незнакомые, суровые военные люди.
– Это дружки мои, – словно самому себе, сказал Лапшин. – Никого уже в живых не осталось. Боевые дружки, не штатские. Эх, войны, Алеша, войнишки, вот повоюешь – узнаешь, где люди познаются…
И он с серьезным вниманием, несколько даже по-детски, склонил голову к фотографиям. Жмакин тоже глядел, чувствуя неподалеку от себя широкое, жиреющее плечо Лапшина.
– Вишь, сколько их у меня, дружков…
Но Жмакин уже не видел их.
Он смотрел на дверь, в которой, словно в большой раме, стояла маленькая, рыженькая. Неля, почти не изменившаяся с тех дней, та Неля, из-за которой все и случилось, та Неля, которую не вызвали в суд потому, что она уехала, убежала, испугавшись братьев Невзоровых…
– Алеша! – прижимая руки к груди, сначала негромко, потом громче сказала она. – Алеша! Алешенька!
Лапшин сбоку своими яркими глазами смотрел на него: Жмакин медленно, словно не веря себе, поднялся. Иван Михайлович стиснул его локоть – худой локоть больного человека – своей большой рукой. Он, казалось, не заметил и руки Лапшина. Он смотрел, вытягивая шею, не веря своим глазам. Его трясло, било, он рванулся, но Иван Михайлович с мягкой силой удержал худой локоть в своей руке. Тогда Неля крикнула:
– Алеша, прости, прости меня, это мама меня увезла, она Глебки боялась, он сказал, что зарежет меня насмерть, если я хоть что-нибудь… Алеша, я на колени встану, Алешенька, я только потом разобралась и поняла, от меня они скрывали, что ты в тюрьме…
Он ничего не говорил, только вытягивал шею. Он не рвался больше. Зеленые бешеные его глаза погасли, затем в них заиграл какой-то новый, горячий свет. И, перекрывая ее крики своим сиплым, страшноватым сейчас голосом, Жмакин спросил:
– Не верещи! Ты сама приехала? Сама так решила? Сама меня нашла?
– Нет, – сквозь слезы ответила Неля. – Это они меня нашли, вот эти работники милиции. Они ко мне в Киев приехали. И тогда, – быстрее заговорила она, – тогда мы с мужем решили, что так невозможно, что нужно скорее, и он мне дал сколько угодно денег, я прилетела на аэроплане, я на свои деньги, Алеша, прилетела, и я все подтвержу, потому что они разоблачены – эти мерзавцы, я все сделаю, все, и присягу…
И вдруг Криничный засмеялся. Он стоял за Нелиной спиной, у косяка, – огромный, успевший загореть, стриженный наголо, по-солдатски, и смеялся. Жмакин испуганно взглянул на Лапшина и увидел, что тот тоже улыбается, по-прежнему держа его за локоть. Улыбается с таким спокойным и усталым презрением, с таким выражением брезгливости, что, пожалуй, Жмакину ничего уже не стоило говорить. И он промолчал. Он ничего больше не сказал. Он сел вновь рядом с Лапшиным, чувствуя по-прежнему его плечо, и опустил голову. И даже не слышал, как Иван Михайлович попросил Криничного:
– Проводите, пожалуйста, гражданочку на выход. И пусть нам принесут чаю, но не на троих, а на двоих…
Дверь закрылась. Потом еще раз зашел Криничный, как сквозь сон Жмакин понял, что Криничный ищет валерьянку «для дамочки». Опять закрылась дверь. И в наступившей тишине Лапшин негромко спросил:
– Так при чем же здесь, Алеха, наша советская власть?
В мае
Личная жизнь
После майских праздников все в бригаде Лапшина внезапно поняли, что Василий Никандрович Окошкин окончательно и смертельно влюблен. И в бумажнике, и в кошельке, и в ящиках стола, и под стеклом на столе – везде появились самые разные фотографии Ларисы Кучеровой. Вася разглядывал их и строго и сдержанно говорил и Побужинскому, и Бочкову, и Павлику, и Криничному:
– Приговор окончательный и обжалованию не подлежит!
Лицо у него при этом делалось торжественным, будто он и впрямь читал приговор. Кроме того, Окошкин всюду таскал с собой сентиментальные сувениры, как-то: маленькие, с Ларисиными метками платочки, ее старую пуховку для пудры, кусочек карманного зеркала, каменного слоненка и еще всякую дрянь в этом роде. На подковырки Побужинского Окошкин отвечал односложно и опять-таки строго:
– Я в вашу личную жизнь, кажется, не лезу? И слоненок вас на касается!
Каждые два-три часа, где бы он ни был, Василий Никандрович отыскивал телефон, с тяжелой настойчивостью маньяка подолгу добивался какого-то коммутатора, дул в трубку, требовал соединить его с номером тридцать вторым и, убедившись, что это весовая, жалким голосом просил:
– Кучерову, сделайте одолжение, очень буду благодарен, из контроля, пожалуйста, будьте так любезны, срочно нужно…
Себя он называл при этом почему-то «из Главметизсбыта», благодарил и благоговейно ждал, а когда Кучерова подходила, задыхался и спрашивал:
– Ларечек? Ларисенок? Лисонька?
Лицо у него стало обалделым, он подолгу бессмысленно глядел перед собой, часто ронял и даже разбивал дома посуду и вовсе не изводил Патрикеевну. Шутить над собой он никому не позволял и все праздничные дни делился своими переживаниями с Ханиным, подолгу жаловался ему и требовал ответа на «свои жгучие вопросы», как выражался Давид Львович.
– Пропадаю! – говорил Вася. – Взяла и вместе с мамашей уехала на все три дня. Неизвестно куда. Как это понять?
– Не любит! – холодно отвечал Ханин. – А если и любит, то имея в виду брак по расчету. Ты же, Вася, золотое дно!
– Вы думаете?
– Это совершенно очевидно! Блестящие способности, фундаментальное образование, острый и совершенно зрелый ум… Пройдет немного времени, и ты займешь пост Ивана Михайловича…
– Шутите все! – уныло отмахивался Окошкин и жаловался, что принимает без всякой для себя пользы порошки «для укрепления нервной системы», что раньше никогда не пил столько воды, что потерял аппетит и может «кушать» только острое и соленое.
– Потребуй в ультимативной форме согласия на брак! – посоветовал Ханин. – Иначе действительно пропадешь. И похудел и позеленел…
– Но? – пугался Окошкин.
На третий день праздника – в воскресенье – отправившись к Балашовой, Лапшин и Ханин обогнали Васю Окошкина возле кинематографа «Титан». Он шел, ведя под руку «зеленое перышко», ту самую девушку, фотографии которой он постоянно разглядывал и на работе и дома. Девушка глядела на него снизу вверх и смеялась чему-то, и по ее влажным, сердито-веселым глазам было видно, что она влюблена в своего Васю и с наслаждением слушает тот вздор, который он ей говорит.
Завидев Ханина и Лапшина, Окошкин отпустил локоток «зеленого перышка», и у него сделалось то выражение лица, которое бывало, когда его распекал Лапшин.
– А, Вася! – сказал Давид Львович. – Тебя твоя супруга ищет, мне звонила.
– Супруга? – с легким стоном спросил Вася.
– Ага! Пульхерия Пудовна. У меньшого у твоего вроде коклюш, а старшенькая все папку зовет…
– Позвольте пройти! – сказала девушка и, слегка толкнув Василия плечом, пошла вперед.
– Ну, товарищ Ханин! – воющим голосом, уже издали, крикнул Василий Никандрович. – Это вы запомните!
Он побежал за своей Ларисой, и было видно, как она вырвала у него руку и перешла на другую сторону улицы.
– Для чего это ты, собственно? – осведомился Лапшин.
– А им кризис нужен, – загадочно ответил Ханин. – Им нужно раскричаться, рассориться, помириться… Рыдания им нужны, Иван Михайлович, проклятия и полное выяснение отношений…
Лапшин купил торт, Ханин пирожков и еще чего-то «грызть». Катерина Васильевна открыла окно, накинула на плечи теплый платок, и все втроем они долго молчали, глядя на смутные кроны Таврического сада, на сиреневое, холодное небо, на огни автомобилей. Потом Ханин взял гитару, вопросительно взглянул на Балашову и погодя осведомился:
– Ну?
Катерина Васильевна помедлила, потом встряхнула головой и запела негромко, низким голосом:
Заводы, вставайте! Шеренги смыкайте! На битву шагайте, шагайте, шагайте. Проверьте прицел, заряжайте ружье, — На бой, пролетарий, за дело свое…Басовые струны гитары были едва слышны, и негромкий голос Балашовой брал за душу, привычные слова лозунгов приобретали новый, исполненный огромной внутренней силы смысл, и как-то яснее, понятнее становилось то, что происходило нынче на земле:
Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных! Вы с нами, вы с нами, хоть нет вас в колоннах: Не страшен нам белый фашистский террор — Все страны охватит восстанья костер…Лапшин сидел, подперши лицо ладонью, и вглядывался в Балашову, а она, тихо радуясь, что он не знает эту песню, пела ему, словно бы рассказывая:
Огонь ленинизма нам путь освещает, На штурм капитала весь мир поднимает — Два класса столкнулись в последнем бою. Товарищ! Борись за свободу свою!– Кто это написал? – спросил Лапшин.
– Не знаю, – ответила Катерина Васильевна. – А пел Эрнст Буш. У него много песен, неужели вы не слышали? И человек он замечательный. Сам слесарь, удивительный актер, певец-антифашист. Его всегда ловят, а он поет и скрывается, а потом опять поет на митингах, на собраниях, на демонстрациях…
Помолчала и с грустью добавила:
– Вот это актер! Не то что кривляться и выламываться в чужих ролях.
И предложила:
– «Болотных солдат» еще споем, хорошо, Давид Львович?
Эту песню она пела по-немецки, в голосе ее слышались и гнев, и отчаяние, и надежда, а Ханин потихоньку переводил:
Как уйти от часового? Как дожить жизнь? Пуля за слово и за взгляд, За побег тоже пуля. Мы болотные солдаты — И все-таки уйдем из проклятых болот…Помолчав, Катерина Васильевна сказала:
– Потом Буш был в Испании, пел там республиканцам и сражался, а теперь неизвестно. Ах, какой человек… Если он жив и вернется к нам, мы обязательно пойдем его слушать, ладно, Иван Михайлович?
– Пойдем! – с радостью согласился Лапшин.
Катерина Васильевна опять запела негромко, прижав руки к груди и глядя мимо Лапшина печальными, круглыми глазами, а Лапшин думал про наступающие трудные времена, про неизбежность, неотвратимость войны и про то, что без Катерины Васильевны ему просто невозможно жить. Невозможно и глупо. Так глупо, что, по всей вероятности, рано или поздно он не выдержит и скажет Балашовой о том, что любит ее и что без нее ему немыслимо жить. Возьмет, наберется смелости и скажет:
– Совершенно невозможно!
Или не скажет? Вернее всего, что не решится. Так живешь помаленьку и хоть надеешься на что-то, а когда Катя предложит оставаться хорошими друзьями, надеяться станет совсем не на что…
Раздумывая об этом, он жевал пирожок с капустой и прихлебывал чай, а Ханин, скашивая на него глаза, прикидывал, как бы взять и поженить этих людей, которые необходимы друг другу и не желают понять, насколько необходимы. Балашова кончила петь, Ханин прижал ладонью струны гитары, вздохнул и произнес сам себе:
– Глупо! До чрезвычайности глупо.
– Что, Давид Львович, до чрезвычайности глупо? – спросила Балашова.
Ханин не ответил, предложил пройтись. И опять, как много раз, вышло так, что Давид Львович и Катерина Васильевна весело разговаривали друг с другом о чем-то таком, чего Лапшин не знал, а он шел, отстав на несколько шагов, и думал, что он тут не очень нужен и говорить Балашовой и Ханину с ним не о чем. Было немножко обидно, что они порою обращались к нему и вовлекали его в свой разговор, как делают это с тещей или с бабушкой, чтобы те не обижались, когда веселится молодежь. «Хорошо еще, что я не туг на ухо, – печально подумал Лапшин, – а то бы им пришлось мне кричать…»
Они шли по набережной Невы, глядели на разведенные мосты, на баржи, словно заснувшие на реке, на длинно целующиеся парочки, на зеркальные стекла особняков, на уходящие в Кронштадт эсминцы, сторожевики, подводные лодки.
– Господи, какая красота! – воскликнула вдруг Балашова. – Видите, Иван Михайлович?
– Отчего же, вижу! – глуховато ответил он и понял, что смутил ее своим ответом не потому, что она задала ненужный вопрос, а потому, что тон вопроса был какой-то уж слишком настойчивый, словно Лапшин не мог понимать то, что понимала она и Ханин. – Вижу! – хмуро повторил он. – И все, кто на это смотрит, – видят!
– Ты что? – удивился Ханин.
– А ничего! – произнес Лапшин. – Меня спросили – я ответил.
Провожая Балашову домой, Лапшин не сказал ни слова и попрощался тоже молча. И она притихла, присмирела, только Ханин мужественно, с трудом тащил какие-то фразы – одну за другой.
– Ну вас к бесу! – ругался он на обратном пути. – Стараешься, стараешься, а толку – лбом о стенку.
Лапшин хмуро осведомился:
– Какой такой толк?
Когда они вернулись, Окошкин уже спал и улыбался во сне. На столе лежала записка:
«Извиняюсь, я по рассеянности съел всю колбасу, а также булку, а также масло. Прошу Патрикеевну ни в чем не винить. Ваш Василий».
– Видишь, – сказал Ханин. – А ты беспокоился. Иначе он бы не съел все по рассеянности…
В понедельник с утра в бригаду к Лапшину пришли артисты во главе с Захаровым, но Иван Михайлович был занят, и с ними занимался Бочков. Ревнивая Галя, услышав про артистов, тотчас же явилась и, сердито сдвинув бровки, периодически давала понять гостям, что она здесь хозяйка и, кроме того, состоит в законном браке с Николаем Федоровичем, который для всех них герой, а для нее только Коля и никак не больше. Побужинский и Криничный на все это перемигивались…
Балашова погодя постучала в кабинет Лапшина. Он крикнул: «Войдите!» – и опять заговорил по телефону, а когда понял, кто к нему вошел, неожиданно для Катерины Васильевны устало и виновато улыбнулся. И заметил, что со вчерашнего вечера Балашова побледнела, словно вовсе не спала, и что на ней новая вязаная кофточка, которую он никогда раньше не видел. Сумки у нее по-прежнему не было, и карманы кофточки оттопыривались, как у школьника-первоклассника.
Иван Михайлович говорил по телефону долго, и не столько сам говорил, сколько слушал, односложно отвечая своему собеседнику и глядя на Катерину Васильевну, которая по своей привычке что-то грызла. Она очень любила ту странную, негородскую еду, которая нравится детям, – дынные семечки, капустные кочерыжки, кедровые орехи, и часто жаловалась, что не могла достать моченых яблок, а еще лучше мороженых, или стручков гороха, притом еще какого-то конского. А Ханин уверял, что своими глазами видел, как Балашова ела обыкновенную сосновую шишку.
– Можно, я у вас тут немножко посижу? – спросила Балашова, когда Лапшин повесил трубку.
– А там неинтересно?
Лапшин кивнул головой в ту сторону, где Бочков беседовал с артистами.
– Нет.
– Почему?
– Неинтересно! – упрямо произнесла Катерина Васильевна.
– А все-таки почему?
– Они прикидываются, – с усмешкой ответила Балашова. – Наверное, потому они и не любят меня, что я вижу их насквозь и не участвую никогда в их штуках…
– Кто они?
– Мои сотоварищи. Наверное, в других театрах иначе; наверное, у нас просто народ не тот подобрался, но, знаете, не могу я, и все тут. Все эти высказывания, что для них не пишут достойных пьес, что они принуждены играть плохие роли, в то время как…
– А разве это не верно?
– А разве Варламов и Давыдов изумляли зрителей только в хороших пьесах? Они черт знает в чем играли, и это черт знает что становилось чудом…
– Не знаю, не слыхал, – сказал Лапшин.
– А я слыхала! – с вызовом ответила Катерина Васильевна.
– За это вы на них и сердитесь?
– Да нет! Просто сама я злой человек. А вообще… Ну что они прикидываются? Сейчас играют в то, что им очень интересно слушать Бочкова. На днях были мы у врачей в Академии, и они все притворялись, что сами в душе врачи…
– Сердитая вы сегодня! – сказал Лапшин.
– А вы добренький! – блеснув глазами, сказала Балашова. – «Люди – хороший народ», – похоже и смешно передразнила она Ивана Михайловича. – Люди – хороший народ, а сами берете свой револьвер и в этих хороших стреляете!
– Я в хороших не стреляю, – ответил Лапшин. – Я преимущественно стреляю, когда в меня стреляют.
– А в вас только плохие стреляют?
Иван Михайлович молча и удивленно взглянул на нее и встретил ее злой и напряженный взгляд.
– Плохие? Значит, и я очень плохая, потому что иногда мне хочется в вас выстрелить.
– За что же это? – искренне удивился он.
– Ах, да что, – сказала Катерина Васильевна, – что о глупостях толковать!
Потянув из карманчика зеркальце, Балашова рассыпала орехи, ключи, серебро и выронила две скомканные пятирублевки. Губы ее внезапно, совсем по-детски дрогнули, по всей вероятности она бы заплакала в голос, не войди в это время строгий, с осиной талией Павлик и не доложи на ухо Лапшину, что профессор Невзоров прибыл и ожидает.
– Просите! – сказал Лапшин.
Катерина Васильевна все еще собирала свои орехи и пятиалтынные. В дверях она столкнулась с Невзоровым. Он уступил ей дорогу и растерянно остановился у косяка. Это был человек лет за пятьдесят, с густыми, сросшимися у переносья бровями, с обветренным, дубленым лицом. Седые волосы были стрижены коротко, глубоко сидящие глаза смотрели настороженно. Несколько мгновений он взглядом словно бы примерялся к Лапшину, потом вздохнул и, сразу устав, спросил:
– Я – Невзоров. Вы…
– Я Лапшин. Садитесь.
Выражение муки мелькнуло в глазах Невзорова, но руку он Ивану Михайловичу не протянул и сел поодаль, словно Лапшин был ему врагом.
– Вы желали ознакомиться с делом ваших сыновей, – твердо произнес Иван Михайлович. – Дело закончено и в самое ближайшее время будет передано в суд. Садитесь вот сюда, к столу, здесь вам будет удобнее читать…
– Какие уж сейчас удобства, – с горькой и короткой усмешкой сказал Невзоров. – Сейчас, да еще здесь…
– В каком смысле – здесь? – холодно осведомился Лапшин.
– Да в самом нормальном, – вскипел Невзоров. – Арест, сыск, милиция…
– Не понимаю вас.
– Да что же тут понимать! – воскликнул Невзоров. – Что же понимать, когда во всем мире полиция и сыщики…
– Во всем мире полиция и сыщики защищают интересы имущих классов, – жестко и угрюмо сказал Лапшин. – И мне странно, что вы, кажется профессор, уподобляете нас…
Невзоров перебил:
– Знаете, мне сейчас не до прослушивания лекций…
– А я бы хотел досказать фразу: в данном деле, кроме всего прочего, мы, товарищ профессор, вели сложную борьбу за обездоленного человека, за сироту, за его будущее – против довольно организованной силы в лице многих значительных имен. И в вашем раздражении вы это, пожалуйста, не забывайте!
– Не забуду! – отмахнулся Невзоров, и по его лицу было видно, что он не слышал слов Ивана Михайловича.
Лапшин положил на стол толстую папку, Невзоров вынул из футляра очки, закурил и, сильно затянувшись, зашелестел листами. Читал он быстро, крупные губы его перекатывали мундштук давно погасшей папиросы, левой рукой он почесывал шею, потом пальцами стал отдирать воротничок, словно задыхался. Погодя это прошло. Лапшин делал вид, что ничего не замечает, людям невзоровской складки не подашь стакан воды, не скажешь утешительное слово, – Лапшин это понял сразу.
Дважды приходил Побужинский, заглянул Криничный, принес почту Павлик, Невзоров все читал. Наконец он захлопнул папку, закурил новую папиросу и сказал едва слышно, словно сам страшась своих слов:
– Что же, расстреливать их теперь?
– Это кого?
– Братьев… Невзоровых… Олега и Глеба… моих сыновей? Стрелять, как бешеных собак?
– Почему… как бешеных? – сурово удивился Лапшин.
– Глупости… читал где-то…
Ладонью Невзоров прикрыл глаза.
– Стрелять – много, а изолировать надо, – спокойно сказал Лапшин. – Вы, конечно, понимаете, что дело не в факте ранения Самойленко, а в том, что они оставили его умирать, зная, что он жив. Факт этот подтверждается давней историей со Жмакиным. Жмакин защищал, а не нападал, а они, кстати при вашей помощи, вернее, при помощи вашего имени, – безжалостно добавил Лапшин, – ваши сыновья, сделали из Жмакина преступника, а сами оказались защитниками. В результате Жмакин почти погиб, так как потерял веру в справедливость, и покатился черт знает куда, а ваши сыновья совершили второе преступление той же категории, что и первое. И во втором случае вы тоже их защищали вашим именем, вашим ученым званием, вашим служебным положением. Так?
Невзоров молчал, крепко стиснув бледное лицо ладонями.
– Вы мешали нормальному ходу следствия, – продолжал Лапшин, – вы ездили в Москву и жаловались, вы, вопреки известным вам фактам…
– Неизвестным! – сипло крикнул Невзоров. – Неизвестным! Я ничего не знал, даю вам честное слово, я думал, что Жмакин, укравший ложки, почти беспризорник, шпана, гроза нашего двора, и есть подлинный преступник…
– Вы – геолог? – вдруг спросил Лапшин.
– Геолог.
– Изыскатель? Или как там… Ну, в общем, вам приходится много бывать в поле – так это называется?
– Да. В последнее время меньше, но в молодости…
– И с вами вместе никогда не работали люди ершистые, трудные, почти шпана, как вы выражаетесь, но тем не менее люди настоящие?
Невзоров ничего не ответил.
– Войну вы воевали? Помните? Что такое разведка боем, вам известно? Языка взять – это кто, аккуратные мальчики делают? Рекорды, допустим, в авиации кто ставит? Так уж непременно пятерочники? А насчет беспризорника Жмакина – позвольте, товарищ профессор, вам кое-что разъяснить, если вы и нынче сами до этого не додумались… Недавно погиб у нас юноша, прекрасный человек, Грибков Анатолий. И было у него такое слово – «посторонний»! Самое ругательное слово. Так вот вы, понимаете ли, «посторонний». Вы знали, что Жмакин осиротел. Вы знали, как складывается у него жизнь. Вы видели, как он антенны ставил, и даже вам он антенну ставил, не ваши барчуки, а нанятой мальчик, для этого и «шпана» пригодилась, дом высокий, крыша крутая, зачем своим ребенком рисковать. Так вот, зная эту самую судьбу этого самого Жмакина, вы пальцем не пошевелили. Разве вы помогли парню? Нет, зачем вам! Вы – заняты! Мальчик этот вам «посторонний». А вот когда вас коснулось, когда вы почувствовали, что вашим сыновьям грозят неприятности, тут вы и в Москву, и к большому начальству, и куда угодно…
– Но это же естественно! – тихо перебил Невзоров. – Я тогда не верил, что они виноваты. И ведь они… мои сыновья.
– Да, да, – вдруг почувствовав усталость, сказал Иван Михайлович. – Конечно, ваши сыновья. И то, что они девочке угрожали и она из Ленинграда уехала…
Сильно и круто повернувшись к Лапшину, Невзоров крикнул:
– Нет! Они не угрожали! Тут я кругом виноват. Я посоветовал Нелиной мамаше увезти девочку от скандала. Зачем ей все эти пересуды, сплетни, грязь, гадость! Они имели возможность уехать, собирались, давно собирались, и Неля сама трусила, тут мои мальчики ни при чем.
– Ну, ни при чем так ни при чем, – совсем устало сказал Лапшин, – на суде дадите показания, все это сути дела не меняет.
И совсем холодно осведомился:
– Есть у вас вопросы ко мне?
– Нет… пожалуй, нет! – тяжело поднимаясь, произнес Невзоров. – Впрочем, есть. Не мог бы я… быть чем-нибудь полезен… этому Жмакину? Например, послать денег ему в заключение, ведь он в заключении? Или какое-либо ходатайство…
– А вы думаете, что он от вас принял бы деньги?
– А почему же, собственно, и не принять?
Иван Михайлович вздохнул:
– Почему? И это вы у меня, у полицейского, профессор, спрашиваете? Извините, но что-то все у вас в голове, товарищ Невзоров, перепуталось, сместилось, простите; и думаю я, что во многом случившемся с вашими сыновьями повинны вы лично. Не машите на меня рукой, виноваты и со временем поймете. Забыли вы, что живем мы при советской власти. Начисто забыли. Формально вы, конечно, советский ученый и, наверное, в геологии своей пользу приносите. Ну а по мыслям, по кругозору, что ж…
– Мещанин? – горько осведомился Невзоров.
– Это дело не мое – ярлыки клеить. Но со всеми этими вашими высокими связями, с деньжонками для Жмакина, с угоном Нели, с фанаберией, которой заражены ваши сынки, с нескромностью…
– Послушайте, мне и так достаточно тяжело нынче, – сказал Невзоров, – а вы еще меня на медленном огне поджариваете…
– Боюсь, что без меня вам будет еще тяжелее! – раздельно произнес Лапшин и, сильно нажав кнопку звонка, велел Павлику: – Проводите товарища профессора на выход.
Павлик слегка подщелкнул каблуками. Краткосрочные курсы очень его подтянули, теперь это был не просто строгий Павлик, но очень строгий, сугубо выдержанный, отличный работник Павлик…
Стану человеком – приду!
Мама покойного Толи Грибкова ушла. Лапшин опять сел в свое кресло, потер щеки ладонями и сказал со вздохом:
– Так-то, Жмакин. Лежит наш Толя в сырой земле, а Корнюха гуляет. Гуляет по свету, и не можем мы его взять. Может, и нынче кого убил…
– Всё вы с подходцем, товарищ начальник! – вяло сказал Жмакин. – Всё мне на психику давите. А я не сука!
Лапшин продолжал спокойно, будто и не слышал слов Жмакина:
– Ходит-бродит, очередное преступление готовит. И не можем мы его взять. Глубоко, мерзавец, ушел…
– Вы со своим аппаратом не можете, один Жмакин может, – позевывая, сказал Алексей. – Интересно получается. Через кого я Корнюху возьму в таком случае? Вы мне скажите, на кого вы вышли, я тогда еще подумаю. А если вы такие секретные, может мне и вязаться незачем.
Задумавшись, постукивая пальцами по стеклу, Иван Михайлович долго смотрел на Жмакина, потом спросил:
– Ты ведь Балагу знаешь?
– Смеетесь, Иван Михайлович? Балага вот как меня уговаривал воровство перекрестить. Он до того сознательный стал, прямо пионер.
– Сознательный на такую мелкоту, как ты.
– Это почему же я мелкота?
– А кто ты? Людей режешь, что ли?
Опять помолчали. Жмакин слышал, как колотится его сердце. Несмотря на то что Иван Михайлович назвал его мелкотой, говорили они нынче на равных, и тем, что Лапшин назвал ему Балагу, он как бы полностью выразил свое доверие Жмакину. С этого мгновения они были вместе против Корнюхи. Вместе с убитым Толей Грибковым, вместе с Бочковым, с Побужинским, со всеми теми, кто выдирал Жмакина из «поломатой» жизни, – против убийцы Корнюхи. Вместе с Криничным, который летал в Киев за Нелей, вместе с Окошкиным, который искал ружье в озере.
– Ну? – откуда-то издали спросил Лапшин.
Жмакин огляделся. Иван Михайлович стоял теперь у окна, покуривая.
– Я на тебя, Алеха, надеюсь, – сказал он, шагнув к Жмакину. – И я надеюсь, и откровенно признаюсь, мне и народу моему очень важно, чтобы именно ты нам сейчас помог. Мы на тебя, как говорится, поставили, мы тебе давно поверили, еще до всяких доказательств твоей непричастности в этой истории с ножом. Я тебе по-товарищески говорю: нам с тобой трудно пришлось. И неприятности у нас были. Да, впрочем, что нам с тобой толковать, если ты, как я понимаю, просто кодлы боишься, жизнью дорожишь…
Жмакин хитро, боком взглянул на Лапшина, усмехнулся. И Иван Михайлович понял – этот маневр с воровским судом он применил зря, да и вообще, пожалуй, со Жмакиным хитрить больше не следует. В открытую так в открытую.
– Ну ладно, это я – из воспитательных соображений, – тоже усмехнулся Лапшин, – давай прямо. Нам Балага Корнюху не даст. Да и Корнюха не прост – Балага сам не знает, где тот окопался. Если мы Балагу возьмем – последняя связь оборвется. Ты парень неглупый, должен понять. Кстати, Балага твои последние художества знает, как ты резался и в больнице находился.
– А еще что он знает?
– Знает, что из больницы ты убежал.
– Симулировал там?
– Допустим, в психиатрической и симулировал.
– Ладно, попробую, – поднимаясь, сказал Жмакин. – Но не обещаю ничего. Сорвется – не моя вина.
– Дров только не наломай! – вглядываясь во внезапно побледневшее лицо Алексея, не торопясь сказал Лапшин. – Вот Толя Грибков покойный…
– Толя Грибков, я слышал, хорошего человека спас своей грудью, – перебил Жмакин. – Это не называется дров наломать…
Лапшин промолчал: что-то происходило со Жмакиным на его глазах, какая-то трудная внутренняя работа, и понять ее было не легко.
– Ладно, – сказал Лапшин, – иди, Алексей, действуй. Деньги-то у тебя есть?
– А полон город. Сумочки, бумажники, кошельки, часы. Все ваше – будет наше. Техника на грани фантастики…
Он криво и болезненно усмехнулся, еще стыдясь того, что происходило в нем. И Лапшин, понимая это, как бы пропустил его слова мимо ушей. Впрочем, пожалуй, и не следовало ему в его нынешнем состоянии предлагать деньги.
– Записочку мне дайте, чтобы не взяли меня ваши орлы раньше времени, и телефоны все ваши, и служебные и личные, – сказал Жмакин. – Более ничего не требуется. Согласно закону божьему.
Лапшин все написал, Жмакин аккуратно спрятал подальше, в маленький карманчик брюк.
– Пересуд мне еще будет? – погодя спросил он.
– А как же? Воровать-то ты воровал?
– Значит, получу по совокупности?
– Согласно науке, по закону.
– А за братишек Невзоровых, когда я у них финку из рук выкрутил и срок имел, – это в зачет или бог простит?
Иван Михайлович не ответил.
Взяв со стула кепочку, обмахнувшись ею, словно веером, Жмакин пошел к двери. Лапшин догнал его, повернул к себе за худое, мускулистое плечо и сказал сурово:
– У нас, когда человек на серьезное и опасное дело идет, принято желать ему удачи. Так вот я тебе, Алексей, желаю удачи…
– У вас человек притом пистолет имеет, не говоря об удостоверении. А у меня бумажечка от начальника – всего арсеналу…
Быстро и жестко взглянув на Лапшина своими зелеными окаянными глазами, Жмакин вывернул плечо и аккуратно закрыл за собой дверь.
Из той получки в мастерской у него еще оставалось рубля три с мелочью. Трамвай домчал его до Старо-Невского, очкастый Хмеля сам ему отпер дверь и отступил, открыв от изумления рот.
– Не бойся, дурашка, – ласково и быстро сказал Жмакин, – я за делом. Помоги как другу: денег надо…
Хмелянский отступил на шаг, потом еще глубже.
– Много денег надо, но ты не бойся. А если мне не веришь – можешь Лапшину позвонить. Да не бойся ты, чудило, ясно говорю, есть телефон?
И, наступая на совсем потерявшегося Хмелянского, Жмакин впихнул его в узкий коридор большой перегороженной коммунальной квартиры, заставил зажечь лампочку и назвал телефонистке номер коммутатора, а потом кабинет Лапшина. Иван Михайлович еще был на работе и нисколько не удивился, когда Жмакин попросил его удостоверить «бараньей голове» Хмелянскому, что все в порядке.
– Все в порядке! – подтвердил Лапшин. – Ты его, Хмеля, поддержи.
– Морально? – испуганным тенорком спросил Хмелянский.
– Поддержи по-товарищески. Ясно?
– А это действительно вы, товарищ начальник?
– Это я, Иван Михайлович Лапшин, кстати тебе нынче никакой не начальник. Вот так! Будь здоров.
Хмеля покрутил в руке телефонную трубку, взглянул на Жмакина совсем испуганно и повел его к себе в комнату. Окно здесь было распахнуто настежь, белую занавеску раздувал весенний ветерок. На столе стопкой лежали тетрадки и учебники, заношенные как у школьника.
– Патефончик приобрел! – заметил Жмакин. – Ты какую музыку больше любишь – танцевальную или посерьезней? Я-то лично за развлекательные мелодии.
Развалившись на стуле, он стрелял по комнате зелеными глазами, дразнил робеющего Хмелю, рассказывал ему, что теперь он у Ивана Михайловича первый человек, тот его даже на машине возит, а когда он болел, то Лапшин ему в клинику возил передачи. Вообще, жизнь налаживается, туговато пока с деньгами. Обещают платить тысячи четыре в месяц, на меньшее он, разумеется, не согласен, но на сегодняшний день еще затирает. Так вот, не будет ли Хмеля так добр и не слазит ли за своей кубышкой. Только быстренько, без затяжек, проволочек и бюрократизма.
– Вообще-то у меня деньги в сберкассе, – на всякий случай соврал прижимистый Хмеля. – Тебе сколько нужно?
– Пару тысяч нужно.
– С ума сошел?
– Ага, – охотно согласился Жмакин. – Я, между прочим, на излечении в сумасшедшем доме был. У меня даже справка есть…
И он полез было за справкой, но Хмеля совсем испугался, и Жмакин милостиво съехал с двух тысяч до пятисот. Пока Хмеля рылся за платяным шкафом, вздыхая и томясь особой, ни с чем не сравнимой тоской скупого человека, навеки расстающегося с собственными деньгами, Жмакин рассказывал ему, как в трамвае заметил у одного «придурка» толстый бумажник и не взял исключительно потому, что сейчас вышел на честную дорогу и хочет во всем подражать своему другу Хмелянскому, чтобы затем впоследствии выйти в большие начальники. Ведь и Хмелянский не всегда будет только грузчиком. И ему «засветит солнце на небосводе», и ему «подадут персональную автомашину».
– Вот, ровно пятьсот! – сказал Хмелянский.
– А там у тебя еще целая куча! – ответил Жмакин. – Ничего себе, хороший ты товарищ, не можешь подкинуть другу пару тысяч для нового, светлого пути! Ты ж меня сам, своей рукой на новые преступления толкаешь… Имей в виду, попадусь – тебя продам, на твою скупость все свалю.
Он болтал всякую чепуху, но взгляд его был таким же ищущим и сосредоточенным, как давеча у Лапшина, он что-то напряженно и трудно обдумывал и не мог окончательно решиться, не мог ухватить какую-то ниточку, веревочку. «Веревку!» – решил он и понял, что действовать будет веревкой, сам, и только потом позвонит, когда дело будет сделано, не наведет, а позвонит и скажет, что «повязал», – вот это будет номер, это будет шик, это будет работа. «Если он меня, конечно, сам первый не кончит, это он умеет, на такие штуки он мастак», – подумал Жмакин о Корнюхе и спросил у Хмели, не найдется ли еще ко всему прочему в придачу кусок хорошей веревки.
– Какой такой веревки? – обиженным голосом спросил Хмелянский. Сидя на краю белоснежной девичьей постели, он платком протирал очки. – Еще веревка теперь, оказывается, нужна…
Но веревка нашлась, не такой у Жмакина был характер, чтобы он душу не вытряс, если ему что понадобилось. Нашлась хорошая, короткая, крепкая, удобная веревка. Жмакин свернул ее кольцом и сунул в карман, потом подмигнул Хмеле и отправился в знакомый подвальчик – выпить и все подробно обдумать. Добродушные старички, упившиеся до того, – что стали совсем тихими, пригласили его за свой столик. Жмакин со скуки сказал им, что работает воспитателем в детдоме.
– И тяпаешь?
– Тем не менее.
– А дети?
– Французские дети все пьют, но исключительно вино, – сказал другой старичок. – И в Грузии пьют с малолетства…
Нет, здесь не подумаешь!
Опять Жмакин побрел по улице, думая на ходу. А когда все продумал и все решительно, как ему казалось, предусмотрел, легко вошел в мраморный с позолотой вестибюль бывшего ресторана, а теперь столовой номер девятнадцать, что в переулке неподалеку от Манежной площади. Ливрейный швейцар отворил ему дверь и низко поклонился.
– А, Балага! – вяло сказал Жмакин, но подал руку и внимательно вгляделся в набрякшее и нечистое лицо старика. – Здорово, Балага!
– Всё ходите-бродите, – почему-то на «вы» сказал тот.
– Хожу-брожу.
– А был слушок, что вас взяли.
– Болел я сильно.
– Резались?
– Ты и это знаешь, старый черт…
– Я все знаю.
– Ну и знай…
Отмахнувшись от Балаги, Жмакин сел за столик под гудящим вентилятором и приказал официанту подать водки, пива, бефстроганов и мороженое. Сделав вид, что захмелел, он назвал официанта «папашей» и попросил позвать к его столику старичка швейцара. Балага подошел в своей дурацкой ливрее, полы ее волочились по грязному паркетному полу.
– Садись, – велел Жмакин.
– Нам нельзя, – сказал Балага, – мы теперь при дверях. А часиков, скажем, в двенадцать мы в туалет перейдем, в мужской. А сюда один мужчина покрепче станет. На случай кровопролития.
– Так, – сказал Жмакин. – Выпей.
– Не пью, – смиренно сказал Балага. – Почками сейчас болею.
– А какие новости на свете?
– Разные, – сказал Балага.
– Ну, примерно?
Балага вытер слезящиеся глаза и попросил в долг пять рублей.
– Бог подаст, – сказал Жмакин. – Говори новости.
Вентилятор назойливо гудел. Жмакин захлопнул дверцу вентилятора и сурово приказал:
– Садись и не размазывай. Говори, согласно закону божьему!
Привязался нынче к нему этот «закон божий»!
– А чего мне размазывать?
– Часики у меня купишь золотые, имени «Павел Буре»? – шепотом спросил Жмакин.
Балага утер слезинку и с изумлением воззрился на Жмакина:
– Да ты в уме? За такие дела сейчас знаешь…
– Знаю, знаю, – нетерпеливо сказал Жмакин. – Я все, старый черт, знаю, да жить-то надо?
– А как жить хочешь?
– Дружков искать хочу. Одному никуда не податься. А с хорошим напарником можно. Мне богато жить надо.
Дверца открылась сама, вентилятор вновь завыл.
– Непробойный ты человек, – вздохнул Балага. – На что только надеешься, интересно.
– На себя. Исключительно на свои способности.
– А зачем резался?
– Из-за любовного момента. Были некоторые неувязки по личному вопросу.
– Слышно, вовсе помирал?
– И помирал, и психовал. Уйти хочу, Балага, помоги. Глубоко нырнуть для хорошего дела.
Балага усмехнулся и ушел к своей двери. Жмакин съел бефстроганов, вылил водку в плевательницу под стол и хлебнул пива. Время тянулось невыносимо медленно. И никаких развлечений не происходило, никакой драки, столовая как столовая, за причитающимся ей номером. Наконец в двенадцатом часу ночи Балага подошел к Жмакину и сказал:
– Если желательно, иди до гостиницы бывшая «Гермес». Там прогуливается один твой старинный знакомый. Я тут ни при чем, я вас всех знать не желаю. Лезете ко мне, как банный лист липнете…
Жмакин сжал зубы, расплатился, нарочно пошатываясь, встал.
– Тогда старичка не забудьте, соколы, – прошамкал Балага.
– Фигу с маком!
Балага захлопнул за ним дверь и повернул ключ: столовая закрылась со скрежетом.
Но никакого Корнюхи возле «Гермеса» не было – сколько ни прогуливался тут Жмакин. Впрочем, может быть, и был, но Жмакину он в этот раз не показался.
«Щупает, нет ли за мной хвостов, – думал Жмакин, прохаживаясь и покуривая. – Ну, щупай, щупай, все равно никуда от меня не денешься! У меня хватка железная, ты мой характер еще узнаешь!»
Его уже радовало ощущение предстоящей смертельно опасной драки и томило, мучило, угнетало то, что драка эта откладывалась. Он любил, чтобы все делалось сразу, как решил, так и произошло, а тут жди теперь, когда эта гадина выползет на свет божий, жди сам, не то чтобы он тебя ждал…
Ночь кончилась, короткая весенняя ночь. Не торопясь Жмакин побрел по Фонтанке, потом на Марсово поле… Почки на деревьях, рассаженных геометрически правильно, уже набухали, и в короткой предутренней тишине какая-то птичка восторженно посвистывала и попискивала, устраиваясь в голых, необжитых ветвях. Пахло корьем, мокрой землей, прошлогодними листьями, с Невы порывами летел свежий ветер, было тревожно и неуютно, и чувствовалась, как всегда весной в Ленинграде, близость моря…
Жмакин посидел на скамье, раскурил на ветру папиросу, насунул кепку поглубже и задумался:
«Так, – приводил он в порядок впечатления последних дней, – так. Предположим, сделают мне снисхождение и на работу даже поставят в порядке дальнейшей профилактики от рецидивов. Скинут к свиньям судимости! И условия мне создадут. Но буду ли я работать, вот в чем для меня загвоздка. Для них я так себе, средний бывший жулик, но для себя самого я довольно загадочный тип. Что мне надо? Чего я хочу? Спокойствия и безмятежности? Эдак и протухнуть недолго с ихним спокойствием. Эдак мы с тобой в два счета, Жмакин, постареем, зубы выкрошатся, плешь нас ударит, и станем мы седые, как те два гренадера. И что дальше? В грузчики? Радиоприемники в артели чинить? Ну хорошо, допустим, выучусь на шофера, квалификация будет самая низкая, и безусловно папиросы придется курить за тридцать копеек. А если меня от таких папирос воротит? Тогда как?»
И с той легкостью в мыслях, которая свойственна людям слабовольным, он вдруг стал думать о том, что неплохо было бы совершенно одному, без дружков и помощников, обчистить магазин, например Мосторг, и взять ценностей тысяч на триста и махнуть на юг, в Крым, в Одессу…
«Листья падают с клена», – засвистал он, вспомнив Одессу. И тут же представилось ему, как зимней морозной ночью в Лахте он насвистывал эту песенку Клавдии, а она стояла у печки и смотрела куда-то вбок, печально и ласково улыбаясь своим мыслям.
– Клавдия! – сказал он, шагая к Неве. – Клавдия!
И, стоя над черной, холодной Невой, подставляя разгоряченное лицо холодному ветру с моря, он стал думать о Клавдии, вспоминать ее, умиляться чему-то, каким-то полузабытым ее словам, жестам, звукам ее голоса. И так как он был слаб, измучен и, главное, растерян, он вдруг решил ехать к ней сейчас же, сию же минуту, но вдруг отменил свое решение и совсем наконец запутался.
В поезде он не думал, о чем будет с ней говорить и как произойдет встреча, а когда выскочил на знакомый перрон, то почувствовал ужасное волнение, и страх, и неуверенность…
«Выгонит, – страшась, думал он, – не выйдет ко мне или скажет мне… Что же скажет?..»
В Лахте тоже была весна и, как в городе, еще, пожалуй, острее, пахло морем, тянуло откуда-то смолою и запахом тающего снега – здесь он белел еще до сих пор…
Вот и знакомый домик, вот и собака залаяла.
Он стукнул в окно, в ее комнату, и подождал, потом еще стукнул.
«Вставай, девочка, вор пришел», – с отчаянием подумал он.
И она вышла, босая, чистыми узенькими ногами на скользкие, серые доски крыльца, побледнела и сбежала вниз к нему навстречу, обняла его, прижалась к нему, заплакала, затрепетала, и он заплакал тоже мучительными и радостными слезами.
– Ну чего, – шептал он ей, – ну ничего, ничего…
– Алешенька, – говорила она, – ох ты, мое горе, горе мое, бедный мой, маленький…
Она прижималась к нему все туже, все крепче, родная ему, растрепанная, чистая, дрожала от сырости, от слез, от радости и страдания и, захлебываясь, называла его такими словами, которых он никогда ни от кого не слыхал, и тянула его за собой, но тотчас же останавливалась, гладила его по лицу, потом повисла на нем, потом опять разрыдалась…
В комнате ничего не изменилось с тех пор, только вид из окна стал другой – без снега.
Он снял пальто и шепотом сказал:
– Обкраду Мосторг, уедем к черту из этого города. Одно на одно. Какой есть, весь тут.
– Не обкрадешь, – сказала она, глядя сияющими глазами ему в лицо. – Ты и не вор вовсе. Мальчишка ты, вот что. Ей-богу, мальчишка. Шалопут! Уши надрать надо, розочкой постегать! В угол поставить!
– Настоялся я в углах! – угрюмо ответил Алексей.
Она подошла к нему, обняла за шею и села на колени – в одном платье на голом теле.
– Синий весь! Худой! Косточки наружу полезли. Псих ты!
– Я псих?
– Ты.
– Это верно, – сказал он, – есть маленько, растерял в дороге шестеренки. Запутался сильно, наверное не распутаться.
– Кушать хочешь? – не слушая его, спросила она.
Оба пили чай с молоком и ели творог из глубокой тарелки, прислушиваясь к дыханию спящей девочки, и глядели друг на друга.
– Ну вот, – сказал он, – требуется мне одно дело для начала сделать. Какое – государственная тайна. Ясно тебе?
– Неясно! – смеясь, ответила она. Да и не слушала она его, наверное.
– Чего неясно?
– Холодно! – сказала Клавдия. – Застыла я.
– Ты пойми! – велел он. – Мне на дорогу выходить надо…
– Леша, я беременная, – тихо, по-прежнему сияя глазами, сказала Клавдия.
Он поставил кружку на стол, помолчал и нахмурился.
– И ничего такого не сделаю, – продолжала Клавдия, – рожу. Ты убежишь, ребята помогут.
– Какие ребята?
– Комсомольские.
– А ты тут при чем?
– Как при чем? При том, что я комсомолка.
– Ты?
– Я.
Смеясь, она наклонилась к его лицу и стала целовать его теплыми, сладкими от чая губами.
– Ты погоди, – сказал он, – ты не прыгай. И давно ты комсомолка?
– Четыре года, – целуя его, сказала она. – И знаешь ты, да забыл. Ты все сам, бывало, себя слушал, как все равно кенарь! И заливается, и щелкает, и свистит. А я что ж! Тебе не до меня было, ты занят был. Переживания были. Теперь небось посвободнее…
Он засмеялся и сказал:
– Напишу теперь на тебя заявление в комсомол, на твое прошлое с вором.
– Ну и что, – сказала она, – ну и пиши. Кабы ты от меня вором стал… Ты бывший вор, а теперь уж ты герой.
– Я еще пока что до героя не дотянул. На сегодняшний день.
– Будешь, – сказала она, – я баба, я все знаю. Я без тебя, бывало, лежу и думаю: вот дадут ему орден за большой подвиг. Или он будет летчиком. Или в стратосферу полетит…
– На луну без пересадки, – хмуро сказал он.
– Дурак, – сказала она, – хватит. На луну, на луну. Не будет тебе никакой луны. А, решил Мосторг обокрасть, – сама на тебя первая донесу и, когда шлепнут, не заплачу. Подыхай. Надоело.
Жмакин удивленно на нее покосился.
– И ничего особенного, – сказала она, – поплакала, будет. Черт паршивый, пугает еще, страхи наводит!
Толкнув его ладонью в грудь, она встала, всхлипнула и вышла из комнаты. Тотчас же вошел Корчмаренко в пальто, из-под которого болтались завязки подштанников. Жмакин встал ему навстречу.
– Отыскался, сокол, – сказал Корчмаренко.
Лицо у него было набрякшее, борода мятая.
– Пойдемте выйдем, – предложил Жмакин, – тут ребенок спит.
Клавдия тоже вышла вместе с ними.
– Ничего, можно здесь, в сенцах, – сказал Корчмаренко, – там Женька спит, а наверху жилец. Стой тут!
– Ну-с, – вызывающе сказал Жмакин. – Об чем разговор?
– Обо всем, – холодно сказал Корчмаренко. – Ты что ж думаешь дальше делать?
– Что хочу, – сказал Жмакин.
– Что же ты, например, хочешь?
– Мое дело.
– Ах, твое, – тихим от сдерживаемого бешенства голосом сказал Корчмаренко, – твое, сукин ты сын?
– Прошу вас не выражаться, – сказал Жмакин, – здесь женщины.
Клавдия вдруг засмеялась и убежала.
– Ну ладно, – тяжело дыша, сказал Корчмаренко, – давай как люди поговорим. Пора тебе дурь из головы-то выбросить.
Они стояли друг против друга в полутемных сенцах, возле знакомой лестницы наверх. Лестница заскрипела, кто-то по ней спускался.
– Федя идет, – сказал Корчмаренко, – давай, Федя, сюда, праздничек у нас, Жмакин в гости пришел.
– А, – сказал парень в тельняшке, – то-то я слышу разговор. Здравствуйте, Жмакин.
И он протянул Жмакину большую, сильную руку. Чтобы было удобнее разговаривать, все поднялись по лестнице наверх и сели в той комнатке, в которой Жмакин когда-то жил. Тут Жмакин разглядел Федю Гофмана, и тот разглядел Жмакина. А в комнате теперь было много книг, и на полу лежал коврик.
– Были мы у товарища Лапшина, – сказал Корчмаренко, – Клавдия была, и я к нему ездил, и Алферыч, и Дормидонтов. Хотели тебя на поруки взять, но ты как раз тогда психовал…
– Психовал! – согласился Жмакин.
– И Клавдию даже запретил к себе пропускать.
– Я за это не отвечаю, – сердито сказал Жмакин. – Может, у меня даже шизофрения была; может, я до сих пор параноик…
– Как, как?
– Неважно. Медицинские это диагнозы.
– Ну, диагнозы диагнозами, а все ж таки пришли мы все коллективно к такому заключению, что пора тебе все эти пустяки бросать.
– Извиняюсь, что вы называете пустяками? – спросил Жмакин.
– Воровство и жульничество, – сказал Корчмаренко. – Хватит тебе. Пора работать.
Жмакин взглянул на Гофмана и вдруг заметил в его глазах презрительное и брезгливое выражение.
– Так, – сказал Жмакин, – ладно. Все?
– Все, – сказал Гофман, – довольно, побеседовали.
– А в итоге? – спросил Жмакин.
– В итоге – иди ты отсюда знаешь куда, – багровея, сказал Гофман и тяжело встал со своего места. – Сволочь паршивая…
– Но, но, – крикнул Корчмаренко.
– Спасибо за беседу, – кротко сказал Жмакин.
Он снизу вверх смотрел на высокого Гофмана и рассчитывал, куда можно ударить. Но Гофман сдержался. «Струсил», – подумал Жмакин, повернулся на каблуках и сбежал вниз по лестнице. Дверь на улицу была открыта. Клавдия стояла на крыльце. Глаза у нее были пустые, измученные, и он сразу это заметил.
– Жуликом ты был, жуликом и останешься, – сказала она, – сломал мне жизнь. Иди, надоело!
Молча он глядел на нее.
– Не нужен ты мне, иди!
Он все стоял, бледный, косил глазами. Он так был уверен в ней. Только она одна оставалась у него. Теперь она отвернулась и заплакала.
На крыльцо вышел Гофман в тельняшке, с мокрыми, зачесанными назад волосами, с полотенцем в руке.
– Разговариваете? – спросил он.
И по тому, как он дотронулся до Клавдиного плеча, Жмакин вдруг решил, что этот человек любит Клавдию и ненавидит его.
– Ладно, – сказал он, – желаю счастья.
Помахал рукой и пошел по дороге.
А Клавдия побежала за ним, он слышал ее дыхание, но не останавливался. Она схватила его за руку и сказала:
– Не мучай меня, Леша.
– Я никого не мучаю, – сказал он, не глядя на нее, – я сам себя мучаю.
– И меня, и меня.
– И тебя, – сказал он, – и вот тебе слово: стану человеком – приду, не стану – не приду. Поняла?
Он был совершенно бледен, и голос его дрожал.
– К черту, – сказал он, – понятно? И этого холуя гони, я лучше его. Он вылитый жираф…
Клавдия засмеялась с глазами, полными слез, и легонько толкнула его.
– Иди.
– Да, иду.
Еще они посмотрели друг на друга. Она была такая некрасивая в эти секунды, такая жалкая, синяя, измученная.
– Иди, – еще раз сказала она, – иди, маленький мой, иди!
Он пошел обессиленный, давая себе страшные клятвы, что не обернется, но не выдержал и обернулся.
Жалко улыбаясь, она глядела ему вслед. Такой он и запомнил ее и такой любил всегда, когда ее не было с ним.
В театре и дома
Накануне премьеры Балашова и Лапшин провожали Ханина, уезжавшего на несколько дней в Москву. На Невском нельзя было протолкаться, продавали привязанные к палочкам букеты фиалок, а Катерина Васильевна жаловалась, что ей жарко даже в вязаной кофточке и что хорошо бы, наверное, искупаться. Ханин перекинул свой плащ через плечо, купил Кате много фиалок и весело хвастался:
– Не верите, что именно меня отправят на это дело? А я вот говорю – лучше меня никто такой материал сделать и подать не может. Лика и та с этим соглашалась…
Сквозь стекла вагона было видно, как он ходил по коридору, точно по своей комнате, как он с кем-то быстро познакомился, как умело и удобно повесил в купе палку на крючок, а чемодан забросил в сетку. Когда поезд ушел и открылось свободное пространство путей, рельсов, стрелок и зеленых далеких огоньков и когда стало видно розовое вечернее небо, Катерина Васильевна взяла Лапшина под руку и сказала спокойным голосом:
– А я ведь завтра непременно провалюсь, Иван Михайлович.
– Это почему?
– Очень просто. Только поймите меня правильно, я пьесу не ругаю, но такое я играть не могу. Там одни только подтексты, я это ненавижу.
– Какие такие подтексты? – туповато осведомился Лапшин.
– Ну, это трудно растолковать! – В голосе ее прозвучало раздражение. – Это, например, когда меня бросил муж и мне это горько, то я никому не говорю про то, что меня муж бросил и что мне от этого плохо, а говорю, например: «Вторые сутки не горит электричество и водопровод испортился», а зрители должны понимать, что я страдаю по мужу и что это у меня такой образ.
– Ну да?
– А я не могу, хоть это нынче очень модно. Я хочу нормальную бабу играть и завыть, как в жизни брошенные бабы воют. Я не хочу про водопровод.
– Так-то так, а Абрамов и Давыдов? – хитро напомнил Лапшин.
– Не Абрамов, а Варламов. И я вовсе не о том, – сказала Катерина Васильевна. – Я не о пьесах, а о себе.
Весь этот вечер Лапшин сидел у нее и с неприязнью слушал, как она несколько раз разговаривала по телефону с каким-то человеком, который, по-видимому, имел над нею какую-то власть и в то же время был неприятен ей, слушал, как она называла этого человека «милый мой» и как пожаловалась ему на него самого: «Вы знаете же, как все это мне нестерпимо и как ужасно я от всего этого устала, да, да, и от вас тоже». Потом она бурно и зло поиграла на рояле, то, что Ханин называл «Екатерина срывает характер», погодя попела, а Лапшин слушал и искоса поглядывал на фотографию «старого индюка», от которого, как ему казалось, исходило все грустное в жизни Балашовой.
Провожая Лапшина по коридору, Катерина Васильевна попросила завтра прийти в театр пораньше, и непременно к ней, потому что она хочет, чтобы он увидел ее в гриме и в костюме прежде, чем другие.
Он пришел в семь часов, ее еще не было, и сразу же столкнулся с человеком, которого про себя называл «индюком». Это был средних лет, выхоленный и, видимо, удачливый живчик, с тем значительным выражением взгляда, которым бывают наделены глупые и даровитые артисты, научившиеся играть умных людей и с успехом изображающие в театре те образы, в которых нужно «вылепить» интеллект. Несмотря на свои не слишком молодые годы, Днепров – так звали артиста – был отменно элегантен в кремовом шерстяном костюме и распоряжался у туалетика Балашовой совершенно как у себя дома: видимо, он принес сюда цветы какие-то бледные, наверное оранжерейные, и, расставляя их в вазочки, сказал Лапшину, как старому знакомому:
– Катерина Васильевна, к вашему сведению, терпеть не может эдакие полутона ни то ни се, но я ее приучаю. Ей, видите ли, подавай цветок мака вульгарис! Яркие краски, сильные чувства, целеустремленные герои. А в жизни все сложнее, куда как сложнее. Вы не находите? Кстати, давайте познакомимся, я о вас немало слышал. Вы, по всей вероятности, тот самый Лапшин, в котором Катерина видит черты нового. Что ж, и я хочу видеть эти черты…
Густо краснея, Лапшин сказал, что никаких черт никто в нем не видит, так как их у него не имеется, и что он немножко помогал артистам, рассказывая о жизни преступников…
– Э, батенька мой, – словно со сцены, особым голосом, с присвистом и весь при этом колыхаясь, произнес Днепров, – я стреляный воробей, меня на мякине не проведешь. Женщины – такой народец, что до смерти ищут нечто идеальное. Но имейте в виду…
Что именно ему следовало иметь в виду, Иван Михайлович так и не узнал: вошла Балашова и, не поздоровавшись с Лапшиным, громко и гневно сказала Днепрову:
– Я же вас просила не приходить! Два часа тому назад просила, а вы все-таки пришли…
– Но это не только ваш театр! – воскликнул артист. – Это и мой театр.
И ушел, хлопнув дверью.
– Артист Артистыч! – сказала Балашова. Села и грустно извинилась: – Простите, Иван Михайлович, но знаете – не просто на свете живется, ох как не просто!
– Мне это самое сейчас Днепров заявил, – с невеселой усмешкой сказал Лапшин. – Дескать, не так все просто в жизни.
– Правда? – удивилась Катерина Васильевна.
– Точно. По другому только поводу.
Пока толстый парикмахер с губами, сложенными так, будто он только что выронил соску, прикладывал Балашовой букольки, она говорила, что вставила в роль фразу Катьки-Наполеона.
– Знаете, эту? Помните? «Мы тут, как птицы чайки, плачем и стонем, стонем и плачем». Ничего?
– Очень хорошо.
– И без подтекста. Впрямую. Так она и думает, понимаете? Она себя всерьез считает птицей чайкой. Да?
– Да, – любуясь Катериной Васильевной, ответил Лапшин. – Конечно!
Балашова вздохнула, потом прошлась по уборной и спросила, хорошо ли она выглядит. Глаза у нее были сердитые. Лапшин похвалил жакетку и шляпочку, совершенно такую же, как была на Катьке-Наполеоне, но Катерина Васильевна грустно покачала головой:
– Нет, ничего не поможет, увидите. Скучно мне, печально, и никогда я не научусь говорить про ваши водопроводы.
– Почему про мои? – удивился Лапшин.
– Не знаю! Идите в публику, пора, там полно ваших друзей. Вы утешать не умеете, а я сама себе нынче противна.
Проходя через низкий, набитый народом буфет, Лапшин увидел Баландина с женой, Галю Бочкову с мужем, Побужинского, Криничного и Васю Окошкина с той самой девушкой, которую они с Ханиным встретили тогда на Невском. «Значит, на телефоне Павлик», – подумал Иван Михайлович и пожалел Павлика. Окошкин аккуратно ел песочное пирожное, и, когда Лапшин подошел, у Василия Никандровича сделалось настороженное и опасливое лицо.
– Добрый вечер, Окошкин! – сказал Лапшин.
– Это – товарищ Лапшин! – представил Окошкин Ивана Михайловича, а про девушку сказал: – Товарищ Кучерова.
А она протянула руку и произнесла, мило краснея:
– Лара.
– Скоро начнут, – сказал Лапшин таким тоном, каким никогда не разговаривал с Васькой и каким обычно разговаривают старые друзья в присутствии малознакомых женщин. Тон этот означал, что все прекрасно, любезно и обходительно, и что еще долго можно разговаривать на незначительно-вежливые темы, и что во всем этом нет ровно ничего особенного.
– Приличный театрик, – сказал Васька, – культурненько обтяпано! Мебель стильная, люстрочки ампир.
Они вошли в ложу, и мужчины стоя еще поговорили.
– Ну как? – спросил Баландин у Лапшина. – Принял парад? – И, наклоняясь к своей жене, крупной и белокожей блондинке, пояснил: – Он у нас самый главный насчет артистов. Верно, Иван Михайлович? И переживает, – засмеялся он, – волнуется и переживает. Волнуешься, Иван Михайлович?
– Не особенно, – сказал Лапшин, – но все-таки…
В зале погас свет, и Окошкин, поскрипев стулом, сразу же обнял Ларису.
Начался спектакль.
Первую сцену, изображавшую организацию лагеря, Лапшин проглядел, так как все время ждал Балашову и вглядывался в елочки, из-за которых она должна была появиться, а потом смотрел только на Катерину Васильевну, слушал только ее и самого спектакля почти не замечал.
Балашова играла нехорошо.
Лапшин давно знал ее роль, она показывала ему и Ханину у себя дома разные сценки: ходила по комнате, пела, плакала, ревновала, злословила, ссорилась с большим начальником, и все это – там, дома – было несравненно лучше, чем нынче на спектакле. Наверное, потому, что показывала она в своей комнате то, что наиболее ей удавалось, а то, что не выходило, откладывала на «потом», до того как оно «получится», а оно не могло получиться и не получилось вовсе. Не получилось потому, разумеется, что так не бывает в жизни, а то, что не может быть в жизни, невозможно изобразить на сцене…
Глядя на Катерину Васильевну и слушая ее голос, Лапшин испытывал сейчас такое мучительное чувство жалости к ней, что даже порою закрывал глаза, чтобы не видеть, как ей трудно там, на освещенной прожекторами сцене. И чем хуже она играла, тем ближе была ему, тем роднее и понятнее становилась и тем сильнее и острее делалась его любовь к ней.
«Ну вот, – думал он порою, – разве же такие нечеловеческие слова она может говорить? Ей бы ему сейчас глаза выцарапать, серной кислотой плеснуть, а она подтекст про крышу в бараке. Ах ты, боже, незадача какая человеку!»
Во втором действии Катерина Васильевна играла ровнее, было видно, что больше она не волнуется, и даже после песенки ей похлопали, но разве так она могла бы спеть, если бы на душе у нее было легко! В антракте Иван Михайлович заглянул к ней, но ее переодевали, и она велела прийти после эпилога. Пришлось подсесть к столику, за которым Окошкин рассуждал, что верно артистами подмечено, а что они «переигрывают, впадая при этом в шарж». Подошел Побужинский, попросил у Василия гребенку и, поправляя пробор, сказал:
– А наш Захаров изумительно дал тип! Верно, Иван Михайлович? И вообще, я считаю, что они жизнь мало знали, когда к нам пришли, а теперь кое-как подразобрались, верно?
– Садись, Побужинский, – предложил Окошкин. – Хлопнем крем-соды!
И он стал длинно говорить о том, как некоторые изучают жизнь и дают типов, а другие не изучают и не дают типов.
Все третье действие Лапшину отравил Днепров. Каким-то образом он подсел рядом и, притворяясь человеком, глубоко обиженным за «традиции» своего театра, свистящим шепотом, иронически произносил не очень понятные и раздражающие Ивана Михайловича слова, например:
– Ах, какой наив!
Или:
– Полное отсутствие специфики режиссерского видения!
Или еще:
– Где наше новаторство, где мужественное, прямое решение поиска? Где театр как таковой? Почему они убрали свечи?
Кроме того, от Днепрова пахло крепкими духами, как от женщины, и часто, оборачиваясь к Лапшину, он спрашивал у него громко, будто не в театре, а дома:
– А? Куда же они идут, куда заворачивают?
Тяжело насупившись, Лапшин молчал. Катерина Васильевна казалась ему больной, измученной, и сам он в конце концов тоже измучился. В антракте, с трудом отвязавшись от Днепрова, который вдруг почему-то решил, что Лапшин может помочь ему установить в новой квартире телефон, Иван Михайлович ходил по фойе, и по курительной, и по коридорам и жадно слушал, как говорили о спектакле. Балашову никто не упоминал, только Окошкин многозначительно объяснял своей Ларе:
– А публичной женщины тип не удался. Не подметила товарищ Балашова ее специфику. Все-таки артисты находятся далеко от жизни…
Он постеснялся сказать «проститутка», слишком уж торжественной была обстановка, и спектакль этот работники розыска считали «своим», как бы неся за него полную ответственность.
– Не надо было нам в таком виде пьесу допускать, – сказал Лапшину Баландин, жуя бутерброд с ветчиной. – Недоработана она автором. И понимаешь, Иван Михайлович, вот мы тут обменивались впечатлениями кое с кем, неправильно автор наш контингент дает. Какие-то они все особенные, какие-то, понимаешь, все исключительные. Вот у Захарова удался жулик. На Дроздова, на Мирона на твоего, здорово похож… Жалко, что в четвертом действии его не будет…
Зато Гале Бочковой все очень нравилось, и особенно она была польщена тем, что артист, изображающий начальника бригады, играл очень похоже на ее Николая Федоровича, так же одергивал на себе за спиной гимнастерку и так же, необыкновенно похоже, покашливал в кулак. И Побужинский с Аней из столовой Управления, и Криничный находили, что «Бочков» хорошо удался. Даже нос бульбочкой.
Когда поднялся занавес и началось четвертое действие, Лапшина кто-то окликнул. Он встал и вышел из ложи. Захаров, уже без грима, сказал ему, чтобы он зашел к Балашовой.
– Пойдите, пойдите! – говорил он Лапшину, дружески касаясь пальцами его портупеи. – Пойдите, ей там, знаете ли, невесело…
Лапшин быстро обогнул по коридору зрительный зал и пролез в маленькую дверцу, ведущую за кулисы. Катерина Васильевна сидела у себя в уборной перед зеркалом и плакала, громко сморкаясь и откашливаясь.
– Ничего я не больная, – ответила она. – Здорова как корова, просто настроение такое!
Она повернулась к нему и, не стесняясь своего некрасивого сейчас и жалкого лица, мокрого от слез, спросила:
– И вам небось уже стыдно за меня? Стесняетесь там, что столько времени на меня потратили? Да?
Он хотел сказать, что не стесняется, и что любит ее, и что нет для него дороже человека, чем она, но только кашлянул и поджал ноги.
Балашова всхлипнула и попросила его, чтобы он больше не ходил в зал и не глядел спектакль, а чтобы он подождал ее здесь. Она ушла играть дальше, а он пересел на ее место перед зеркалом и долго рассматривал принадлежности для грима: баночку с вазелином, растушевку, кисточки и большую лопнувшую пудреницу. Со сцены смутно доносились голоса, грянул одинокий выстрел. Лапшин послушал, подумал, вынул из кармана кусочек сургуча, растопил его на спичке и, слегка высунув язык, стал залеплять полоской сургуча лопнувшую пудреницу. Делал он это с присущей ему аккуратностью и точностью, и выражение его ярко-голубых глаз было таким, как в бою, когда он стрелял из винтовки по далекому врагу.
Заклеив пудреницу, он взял ее в левую руку, отставил далеко от себя и оглядел работу с некоторой враждебностью.
Домой он провожал Катерину Васильевну пешком. Шли молча. Лапшин нес ее чемоданчик и курил.
– Знаете, почему я провалилась? – спросила Балашова.
– Ну, почему?
– Потому что он мне все время под руку говорил, – с отчаянием в голосе быстро сказала она. – Ему Терентьева не дал Захаров играть, а он у нас все больше положительных играет, и он стал иронизировать. Он над всем решительно смеялся, ему никакие наши пьесы не нравятся, никогда; он актер, правда, великолепный, и не верить ему невозможно, особенно когда он глумится. А он глумливый, понимаете, Иван Михайлович, он все решительно умеет перевернуть и заплевать, я ведь просто измучилась. Что вам и Ханину нравилось, то ему непременно не нравилось, и, чем больше я настаивала на своем, тем сильнее он глумился и показывал меня самое, вот и развалилось все…
Они остановились возле гранитных ступеней, сбегающих к Неве под медленным теплым дождиком. В сумерках белой ночи лицо Катерины Васильевны казалось бледным как мел, а глаза черными.
– Вы не огорчайтесь! – спокойно сказал Иван Михайлович. – Я догадываюсь, что вы говорите об этом артисте – Днепрове, да? Тут только вам самой нужно решить раз навсегда, кто прав. Думаю, что по части нашей нонешней жизни мы с Давидом больше знаем…
– Пойдемте ко мне чай пить! – негромко попросила Екатерина Васильевна.
Булку она одолжила у соседей, чайник закипел быстро, Лапшин, прихлебывая из граненого стакана, смешно рассказывал, как еще в гражданскую войну, в лютые морозы, Феликс Эдмундович приказал в Перми сыграть спектакль. На афишах было напечатано, что «раздеваться обязательно». Местная труппа поставила спектакль «Отелло». В гардеробе, с номерками, чин по чину стояли чекисты. На спектакль пришла вся местная буржуазия, все вырядились в шубы. Покуда шло четвертое действие, в театр привезли на санях ватники, а шубы забрали фронтовикам и медперсоналу – сестричкам, докторшам – на передовую. Буржуи, покручивая номерки, после спектакля встали аккуратно в очередь за своими хорьками и енотами, им стали молча выдавать ватники. Поднялся гвалт, ругань, вопли, делегация пошла жаловаться Дзержинскому. Он, кашляя, сказал:
– Я ехал сюда нездоровым, Владимир Ильич приказал мне взять с собой из Москвы вот эту шубу. Но так как я больше нахожусь в Перми, чем на передовой, то эту шубу я тоже сейчас обменяю на ватник. В Перми вполне можно обойтись ватниками, они хорошие, новые, чистые. Пожалуйста, принесите мне ватник…
– И принесли? – смеясь, спросила Катерина Васильевна.
– Я лично принес.
– И шубу он отдал?
– Обязательно.
– А буржуи?
– Буржуи что ж… Похныкали и разошлись.
– Спектакль-то был хороший?
– Не помню. Да я и не видел почти ничего. Покуда инструктировали нас, потом шубы сдавал, потом ватники принимал, потом галдеж весь этот…
В коридоре зазвонил телефон, позвали Катерину Васильевну. Она недоуменно спросила:
– Кого, кого?
И крикнула:
– Это, оказывается, вас, Иван Михайлович.
Он взял трубку и услышал голос Павлика:
– Товарищ начальник, я извиняюсь, что беспокою. Это мне Жмакин сказал этот телефон. Он заявил, что прогуливается с Корнюхой и сейчас будет его единолично брать, чтобы мы были наготове.
– Где прогуливается?
– Это он отказался пояснить. Он, наверное, выпивши. Он сказал, чтобы мы все его звонок ждали и что Корнюху он нам лично сдаст как его подарок. Он из автомата звонил.
– Ладно, давай сюда машину. И кто там есть – чтобы наготове были… Из театра народ уже вернулся, собери…
Назвав адрес, он вернулся, залпом допил чай и спросил у Балашовой:
– Я к вам еще зайду, можно?
– Конечно! – тихо ответила она. И попросила: – Вы бы все-таки поосторожнее, Иван Михайлович. Когда вы так разговариваете по телефону, мне всегда немножко страшно.
– А вот Гале Бочковой уже ве страшно.
– Врет она. Я с ней говорила, ей очень страшно. Ей всегда страшно. Как жене летчика-испытателя. Она мне сама так сказала.
– Так ведь вы же не жена! – напряженно сказал он. – Вы же…
Она молча, с грустной укоризной взглянула на него и закрыла за ним дверь. Едва он спустился – подкатила машина. Кадников сообщил:
– Больше новостей нет. Криничный и Побужинский уже в Управлении. А как с этим Жмакиным, товарищ начальник?
Спокойной ночи!
Опять он спал в вагонах, на какой-то постройке, словно беспризорник, возле лесного склада ва Ржевке, опять в поезде. Пожалуй, для дела, которое он должен был сделать, это было даже лучше: в клинике он немножко отъелся, отдохнул, перестал быть загнанным волком. Теперь опять белки его глаз покраснели, щеки завалились, губы потрескались, лицо поросло щетиной. И опять, как в те времена, на него недоверчиво косились люди. На такого должен был выйти Корнюха, такому обязан был довериться Балага…
Нарочно Жмакин не брился, не мылся, не чистил сапоги. Чем хуже, тем лучше. Пусть эту его крайность разглядит Балага. Впрочем, обо всем этом он мало думал теперь. Он думал о двух людях – о Толе Грибкове и Клавдии. Умирающий Толя Грибков виделся ему, и слышал он при этом горькие слова Клавдии:
– Иди, маленький мой, иди…
И свои собственные:
– Стану человеком – тогда вернусь…
Или что-то в этом роде. Такими словами на ветер не бросаются.
Дни стояли жаркие, безветренные, город к вечеру сбегал на пляжи, к Петропавловской крепости, на Острова, на взморье. Все, как казалось Жмакину, могли спокойно жить, кроме него. А он не мог.
В этот вечер он опять зашел к Балаге. Отчаяние было в его голосе, когда он сказал, прижав старика к зеркалу, в простенке мраморного вестибюля:
– Сегодня, или я смотаюсь. Пусть, жаба, кушает себе локти! Трус! Или ты не видишь, до чего я дошел? Может, он мне дает деньги на жратву, пока я его дожидаюсь? Может, он мне платит суточные и командировочные?
Глаза Балаги полезли из орбит, он купил Алексею суп и рагу, а погодя велел идти к Александровскому саду и прогуливаться там со стороны Адмиралтейства.
Собирались тучи, отчаянно кричали ласточки, ветер бил порывами по кронам деревьев. Потом ударила пыль, но все это ничем не кончилось, чуть заморосил дождик…
И под дождиком Жмакин увидел Корнюху. Он был в хорошем макинтоше и в руке нес трость с набалдашником в виде головы тигра. Из кармана макинтоша торчали перчатки. Молча он подал руку Жмакину. Пошли рядом.
– Доходишь? – спросил Корнюха.
– А заметно? – удивился Алексей.
Корнюха хохотнул. У него было чистое, румяное лицо и большие, навыкате глаза, характерные тем, что не имели никакого выражения. Голос у Корнюхи был вежливый, разговаривал он протяжно.
– Что ж ты, сволочь, заховался, – сказал Жмакин. – Хожу, хожу, думал нынче уматывать. Аж один.
– А я проверял. Я на все свиданки выходил – смотрел. Я – бдительный. Своя шкура ближе к телу, особенно когда вышку имеешь.
– За что вышку-то?
– По совокупности. А позже легавого пристрелил, не слышал?
Жмакин пожал плечами: откуда, мол, мне слышать.
Корнюха попросил Жмакина зайти в магазин – взять водки. Сам он боялся. Его очень ищут, но навряд ли возьмут, ведет он себя аккуратно и тактично. Он именно так и выразился – «тактично».
– А я, думаешь, не боюсь? – сказал Алексей. – У тебя вон вид какой, а на меня все косятся. Лучше ты зайди…
Один магазин они уже миновали. Сюда не имело смысла заходить – и народу мало, и автомата нет. Если уж заходить, то так, чтобы Лапшин был наготове.
– Ты обыкновенный щипач, – сказал своим ровным голосом Корнюха. – А мне еще неохота ликвидировать свою молодую жизнь. Вон магазин – возьми два поллитра.
Он дал Жмакину тридцатку и завернул в переулок. Алексей проводил его взглядом, позвонил Павлику в Управление и купил не два пол-литра, а одну маленькую и кусок колбасы.
– Чего так мало? – удивился Корнюха.
– Того, что я жрать хочу.
И на ходу стал рвать зубами свежую, мягкую колбасу. Корнюха выбил ладонью пробку, легко вылил в свой мятый рот водку и вздохнул. Шли переулочком, не по тротуару, а по булыжной мостовой. Лицо Корнюхи блестело от пота. Внезапно из-за угла выехала длинная, черная, лакированная машина и, светя подфарками, промчалась мимо.
– Раскатывают! – сказал Корнюха. – Начальнички.
Они немного поговорили о Корнюхиных побегах, о том, что Мамалыгу тоже взял Лапшин и что нужно сделать одно хорошее, крупное дело, а потом надолго притихнуть или даже уехать вместе в далекие края.
– А может, не дело сделаем сначала, а бандочку? – спросил Корнюха, обняв Жмакина за плечи и прижав его к себе. – Дело – это мелочь, банда – это дело. Будем кое-кого убивать. Мне обратного хода так и так нету, ты кровишкой замараешься – тебе тоже не будет. Я тебя пока на связь поставлю, на организацию. Потом дисциплинку заведем, кое-кто знает – со мной шутки плохи. Родственники у меня имеются, братишка еще есть, слава богу, нерасстрелянный. Из лесу можно налеты делать. У меня, кстати, наколот один старичок из пограничных жителей. Если что не в цвет – уйдем за рубеж.
– Валюта же нужна…
– Валюта – дело наживное. Пароходы приходят с туристами, туристы в гостинице валюту обменивают. Ежели умненько – кассирша быстро лапки кверху, никто и не опомнится, как вся валюта наша. Я приглядывался, у меня все нанюхано.
– Оружие надо!
– Есть! При себе два шпалера! – Корнюха похлопал себя по карманам. – Наган и браунинг второй номер. На хавире еще кое-что.
– Богато живешь…
Они вышли на канал. Дождь все еще моросил. Жмакин жевал колбасу. Он играл свою роль вяло, как бы вовсе не желая идти в банду, как бы все более разочаровываясь в предложениях Корнюхи, как бы даже жалея, что встретился с ним. Впрочем, здесь тоже нельзя было пережимать, уже совсем поздно, и на канале нет людей. Пристрелит и сбросит в воду, потом кому будешь жаловаться, бедный Жмакин?
– Чего молчишь? – осведомился Корнюха. – Может, ты покамест ссучился? Ты учти, моей голове цена дорогая. Кто меня продаст, тот жив не останется…
– А ты не пугай, – сказал Жмакин. – Я давно испуганный. Я вот только тебя слушаю и раздумываю: разве я бандит? Я рецидивист классный, а бандит, может, еще из меня и не выйдет? Или научите?
Внезапно они вышли к ночному магазину. Здесь стояло несколько такси и переругивались под дождиком морячки в лихо заломленных фуражках. И милиционер прохаживался неподалеку – в плаще, в капюшоне.
– Водочки бы тут взять! – сказал Жмакин.
– Иди бери.
– Народу больно много.
– Да кому ты нужен?
Стоя у деревянных перил канала, Корнюха опять дал ему денег – все из той же пачки, не считая, тридцатками. Давал деньги он надменно, словно Жмакин уже служил у него, нанялся ему в холуи и боялся его. Алексей, втянув голову в плечи, подрагивая от сырости, протолкался в магазин, купил бутылку какой-то мудреной, особой крепости водки, пива, папирос, фасованной грудинки и обсыпанный мукой калач. Когда он выходил, морячки продолжали весело ругаться, у них все пуще разгорался какой-то спор, и они спрашивали прохожих, но прохожие не знали. У Жмакина они ничего не спросили, такой, по их мнению, наверное, не мог знать ответа на тот вопрос, о котором они спорили. И Жмакину вдруг ужасно захотелось быть с ними, таким, как они, в такой же фуражке и в черном клеенчатом плаще, с ними, а не с Корнюхой.
«Да я ведь уже с ними! – подумал он. – Больше с ними, чем с ним. Я сейчас, скоро с ним кончу и тогда буду почти совсем с ними. Я тоже куплю себе такой плащ и буду стоять с компанией и спорить, и никто меня не станет бояться, потому что я сделаюсь другим…»
Он еще оглянулся на морячков, боясь, что они разойдутся, прежде чем он выполнит то, что ему непременно надо было сделать. Но они не уходили, наверное, кто-то из них жил здесь поблизости.
– Теперь я первый! – сказал Жмакин Корнюхе в подворотне мокрого, старого доходного дома. – Я – сначала, а то озяб.
Водка была непривычно крепкая, даже перешибла дыхание. Но он быстро закусил калачом, зашел немного сзади за Корнюху, и, когда тот запрокинул голову и послышалось медленное бульканье, Жмакин, вдруг забыв про веревку и про весь свой детально и расчетливо продуманный план, повинуясь только чувству удушающей ненависти, ударил раскрытой ладонью, как бы выбивая пробку, по донышку бутылки. Корнюха издал короткий, хрюкающий звук и, заливаясь кровью, повалился навзничь, а Жмакин принял его на себя, упал с ним, перевернулся и, впившись зубами в его жирную, пахнущую одеколоном шею, ударил его лбом о мокрый щербатый плиточный тротуар. Несколько секунд ему казалось, что он одолел и что Корнюха совсем обмяк, но внезапно тот весь спружинился, и оба они покатились на мостовую, в лужу, приподнялись и снова грохнулись. Чем дольше продолжалась эта схватка, тем хуже делалось Жмакину, потому что у него не было никакого оружия, а Корнюха исхитрился вытащить наган и бил теперь Алексея тяжелой рукояткой револьвера, не успевая только перехватить оружие, чтобы из него можно было выстрелить…
Уже совсем теряя сознание, весь под какими-то красными, плывущими на него кругами, Жмакин все-таки успел услышать топот тяжелых ботинок по мостовой, догадался, что это морячки, и крикнул им из последних сил, чтобы они береглись, потому что – «оружие»! Морячки не догадались, у кого именно оружие, и скрутили на всякий случай руки обоим – и Жмакину и Корнюхе. У Жмакина голова валилась на грудь, и стоять он не мог, Корнюха же, приняв морячков за сыщиков, кусался и отбивался до тех пор, пока не получил такой удар под челюсть, что тихонечко присел в самую лужу возле тротуара. Тогда морячок, очень сердитый, потому что ему в этой чужой драке разорвали клеенчатый плащ от плеча до самого низу, обыскал Корнюху, кинул на камни браунинг и, обтерев руки белоснежным платком, сказал:
– Тут дело не простое, братцы. Тут дело крупное…
Побежали за постовым. Когда постовой явился, Жмакин уже пришел немножко в себя. На всякий случай его держали крепко. Отплевывая кровь, он приказал постовому равнодушным и усталым голосом:
– Позвоните немедленно в Управление на площадь Урицкого, в бригаду Лапшина, добавочный семь пятьдесят шесть. Пусть едут сюда. Скажите, Жмакин…
Сознание вновь покинуло его, опять завертелись круги. Постовой, козырнув, побежал трусцой звонить. Морячки переглянулись почтительно, один сказал про Жмакина:
– Это надо же! Берет такого Поддубного один на один. Ничего у нас ребята в органах работают…
Двое на всякий случай встали поближе к Корнюхе, теперь было понятно, кто – из розыска, кто – бандит. Браунинг и наган положили на старую, кривую чугунную тумбу. Морячок помоложе попросил у того, кто все еще сокрушался по поводу плаща:
– Боцман, одолжи закурить.
– «Скорую» бы еще для этого агента вызвать, – вынимая портсигар, сказал боцман. – Вишь, здорово из него кровища хлещет.
Одного отрядили вызывать «скорую». Другой сбегал за коньяком, где-то в книжке этот молоденький палубный матрос когда-то вычитал фразу, что «рюмка доброго коньяку сразу подкрепила силы раненого графа д'Артье». В рот Жмакину влили глоток, он встряхнул головой. В это самое время, завывая сиреной, подлетела машина Лапшина. Дверцы открывались еще на ходу, на ходу привычно, с разгоном выскакивали Криничный, Бочков, Побужинский. В мутном свете мглистой белой ночи, под недалеким фонарем сразу видно было оружие на тумбе, смутно поблескивающие глаза Жмакина, отвалившийся, окровавленный Корнюха. Иван Михайлович принял Жмакина на руки, обнял за плечи, сказал неровным голосом:
– Ах ты, Жмакин, Жмакин, бедовая голова…
– А… алит го-ова… – подтвердил Алексей.
– Пройдет, Алеша, – сказал Лапшин, оттаскивая непослушное тело Жмакина к машине. – Пройдет, все пройдет! Мы тебя вылечим. И голову тебе вылечим…
– Го-ова алит! – упрямо повторил Жмакин.
Сигналя, подошла «скорая», морячки в это время наперебой рассказывали Бочкову, Криничному и Побужинскому, как геройски, один на один, бился их «сотрудник» с этим чертовым Поддубным…
– Браунинг – его?
– Его… – после некоторой паузы ответил Криничный. И положил пистолет себе в карман.
А боцман посоветовал:
– Все-таки на такое дело одного человека пускать рискованно, товарищ начальник. Тут, я думаю, группой надо действовать…
Вокруг, несмотря на поздний час, густела толпа; сердито расталкивая людей, свистел постовой. Врач из «скорой помощи» сначала сделал укол Жмакину, потом Корнюхе. Алексей сразу же забеспокоился, чтобы не упустили «его», имя он не мог вспомнить. Сильно завывая сиреной, подошла вторая машина, туда посадили Корнюху – между Побужинским и Криничным. Постовому велено было позвонить в санчасть, чтобы к подъезду вынесли носилки. Про Корнюху, как это ни странно, Лапшин сейчас не думал. Голова Жмакина лежала на плече Ивана Михайловича, глаза Алексея странно блестели в темноте машины. Кадников вел машину осторожно, притормаживая перед каждым ухабом, перед самой маленькой впадиной на мостовой. Алексей дышал тяжело, со свистом.
– Один это он сделал? – спросил Кадников.
– Один! – со вздохом ответил Лапшин.
– На грудь за такое дело надо дать! – убежденно сказал Кадников. – Для будущего порядка и в назидание. Это ж надо, без всякого оружия на такую гидру напасть.
Лапшин молчал, медленно и осторожно поглаживая плечо Жмакина.
– Партийное собрание скоро будет? – вдруг строго осведомился Кадников.
– А что?
– Хочу немного выступить в отношении Митрохина. Как вы считаете, товарищ начальник, этично это будет с моей стороны, если я, не оперативный работник, а всего лишь извозчик…
– Не прибедняйся, Кадников, не прибедняйся, – сказал Лапшин. – И давай чуть побыстрее, тут асфальт…
Носилки Жмакину не понадобились. В санчасть он дошел сам, с помощью Криничного…
– Это кто ж такой? – спросила старенькая докторша Жуковская, знающая всех работников розыска в лицо. – Что-то я такого парня не помню. Ваш?
– Наш, – спокойно сказал Криничный, – новенький…
Лицо Жмакина дернулось, он повернулся к Криничному.
– Сиди, сиди, – сказал тот. – Сейчас тебя перевяжут, а потом поедем ко мне. У меня народу много, и сестренка сама фельдшерица. Иван Михайлович приказал, ясно? Отлежишься у меня, придешь в порядочек, а тогда в Лахту поедешь. Неудобно ж тебе свою семью таким видом пугать…
Лапшин приоткрыл дверь в перевязочную, поманил Криничного пальцем. Тот вышел. В коридоре было полутемно, у далекой арки горела только одна лампочка.
– Ни одним словом не проболтайся в своем семействе насчет его прошлого, – сурово сказал Лапшин Криничному. – Понял? У него такое право теперь есть. Он нынче, дурак эдакий, на смерть за это право шел.
– Ясно! – ответил Криничный.
– Ну, так. Сделай все аккуратненько. А я поеду…
Дома, еще в коридоре, он услышал, как звонит телефон. Не снимая плаща, он поднял трубку и услышал голос Катерины Васильевны:
– Это вы, Иван Михайлович? Я уже беспокоилась. Все хорошо?
– Нормально! – ответил он. Поглядел на пустую кровать Окошкина и добавил: – Очень все хорошо, отлично даже. Спокойной ночи.
– И вам! – тихо ответила она.
Лапшин вызвал квартиру Баландина. Долго никто не отвечал, потом Прокофий Петрович сердито произнес:
– Баландин слушает.
– Прости, что тревожу в такое время, – сказал Лапшин. – Но, думаю, спать будет вам лучше, товарищ начальник, если эту новостишку узнаете. Жмакин Алексей один повязал Корнюху.
– Ну? – крикнул Баландин.
– Точно.
– Сильно побитый?
– Не без этого.
Баландин длинно выругался.
– Ну, добро, – после паузы сказал он, – добро, Иван Михайлович.
И, неожиданно засмеявшись, спросил:
– Знаешь, о ком я подумал? Об Андрее Андреевиче о нашем… О Митрохине. Ты про это думал?
– Не успел.
– Теперь вот подумай. Ну что ж, хороших, как говорится, тебе сновидений!
В июне-июле
На досуге
Может быть, неделю он пролежал, а может быть, и больше, прислушиваясь к могучей и веселой возне в квартире братьев, дядей, зятьев и шуринов Криничных. Он плохо разбирался во всех этих тонкостях и никогда не знал, чем отличается сноха от золовки, а тут пришлось изучить этот вопрос досконально, потому что семейство обижалось на недопонимание внутренних родственных связей. Да и делать было, собственно, нечего, кроме как почитывать да слушать радио. Читать все-таки было еще тяжеловато, вот Жмакин и разбирался, постреливая своими зелеными, окаянными глазищами, в проведывающих его Криничных, тем более что все они были ему симпатичны – летчики, моряки дальнего плавания, один парашютист, другой инструктор по мотоспорту, еще теща, в прошлом лыжница, ныне домашняя хозяйка…
Все приходили в разное время, телефон в коридоре звонил непрестанно с рассвета до глубокой ночи, по телефону, не слишком стесняясь семейства, произносили крепкие, соленые слова, по телефону же шепотом говорили о любви, о том, что «я тебе запрещаю, слышь, мое слово твердое, запрещаю с ним идти, тогда будет поздно, вот поглядишь, поплачешь тогда!» По телефону также придумывали имя новорожденному дяде, который почему-то на три месяца был моложе своего племянника, тоже Криничного.
Жмакин молчал, сладко щурясь на солнечные лучи, пробивающиеся в комнату, потягиваясь, покряхтывая от боли в плече, в колене, в пояснице. На телефонные разговоры он улыбался, ему казалось, что он умнее, даже мудрее этой вечной молодой суеты, горьких, ревнивых подозрений, старых и вечно новых слов, вроде «ясочка моя», «лапушка», «котенька». Впрочем, Котенька был просто Костя, иначе Котофей. Внимательно слушал Жмакин только тогда, когда звонил один из еще неизвестных ему Криничных – начальник или заместитель начальника какой-то арктической экспедиции. Речь обычно шла о мотоботах, о двигателе, который еще не доставлен и где-то принимается, о капитане Анохине, который собирается в Сочи, о бочках, банках, такелаже, брезенте, ружьях, фотопленке, синоптиках, собачьих упряжках и еще о всяком таком, что вызывало у Жмакина чувство томления и зависти. Конечно, мог он нынче и помечтать, но на всякий случай воздерживался. В дни своего унылого и голодного сиротства на Фонтанке он тоже мечтал, засыпая с голодным брюхом, и тоже виделись ему далекие, неоткрытые материки, белые пятна, окруженные льдами. Оказалось впоследствии, не так просто попасть даже на подступы к исполнению мечтаний…
Потягиваясь, покряхтывая, слушал он и других Криничных, не только начальников, но и совсем подчиненных людей. Один, помоложе, Криничный Сенька, со срывающимся на петушиное кукареканье голосом, школьник, зарабатывал себе какие-то особые секретные деньги на приобретение чего-то тоже секретного – разноской телеграмм – и доверительно сообщал какому-то Мотьке, что сурик у него уже есть, дело за «еловым шпунтом». А Шура Криничная через посредство телефонного аппарата проверяла свои знания по некоторым частностям неорганической химии, от чего парашютист приходил в тихое бешенство, так как он ждал звонка «по личному вопросу, который никого не может касаться». Личный вопрос тоже занимал не пять минут как раз в то самое время, когда инструктору нужно было заказать Москву. И ходил инструктор по коридору из конца в конец, громко высвистывая «Мы кузнецы, и дух наш молод», в то время когда парашютист спрашивал упавшим голосом: «Это окончательно? Ты понимаешь, что именно ты сказала? Ты все продумала?»
«Эх, молодо-зелено!» – свысока улыбался Жмакин.
Его бестолково – часто, не слишком вкусно, но почти силком – кормили. В огромной семье Криничных свято верили в пользу обильной, жирной и непременно мясной пищи. Жарили шкварки, запекали окорок, готовили какие-то круглые штуки из теста с салом. Едово вечно шипело, скворчало, подгорало на кухне. Хлебали томленый борщ из огромных мисок, страшно перчили, мазали мясо горчицей, лили уксус. Сухие грибы назывались «дедовы» грибы. Дед слал их откуда-то из-под Киева. Лук был тоже особенный – назывался молочный, его выращивала особым способом тетя Евдоха. Иногда на все семейство внезапно нападала тоска по чесноку, это так и называлось – «тоска», не иначе. Тогда ели чеснок не по дольке, а головками, заражая гостей этой тоской и запивая чеснок самоварами чаю…
Жмакин лежал до отупения объевшийся, прибранный, всегда выбритый. Через день топили ему колонку – попарить кости. Отец Димы, Ипат Данилович Криничный, заходил к Алексею чаще других, приносил ему газету, журнальчик, сообщал прогнозы погоды, – он многое знал от своих родственников, а Жмакин был хорошим слушателем. И не пытался рассказывать сам, довольствуясь той легендой о нем, которая существовала в семье: сотрудник розыска, один на один взял опаснейшего преступника, пострадал, отдыхает.
– Ну так, так, – говорил Данилыч, – продолжайте отдыхать. Покушать не желаете? Соляночку вчерашнюю, подделаю маленько, закипячу и подам…
Подолгу Жмакин раздумывал о Клавдии, не зная, как быть дальше. Затем решил со всевозможной для себя твердостью – ее не видеть. Знал – до человека, которым он ей обещал быть, еще далеко. И давал себе зароки сдержаться, покуда не выйдет на настоящую дорогу. Какая она, эта дорога, он не совсем еще разобрался, но время подумать оставалось.
Подолгу спал, как бы отсыпаясь за прошлое и на всякий случай для будущего. Ел тоже впрок. Ночами, когда на диване стелил себе сыщик Дима Криничный, подолгу с ним разговаривал, выспрашивал про Лапшина, про Корнюху, про Балагу, который успел уйти, воспользовавшись тем, что Жмакин забыл той ночью сразу, по горячему следу рассказать о нем Ивану Михайловичу. Да и не забыл, пожалуй, а просто не хватило сил.
Дмитрий Ипатович отвечал односложно, его валил сон. Про братьев Невзоровых он рассказал, что они осуждены – оба получили по пять лет. Заседание суда проходило при переполненном зале, был общественный обвинитель и помянул добрым словом Жмакина.
– Это за что же?
– Вспомнил, как ты за Кошелева заступился.
Жмакин угрюмо молчал.
– Недоволен? Мало дали?
– Почему это мало? – внезапно освирепел Жмакин. – Очень вы, товарищи сыщики, на тюрьму щедрые. Я бы на месте вашего большого начальства вам самим для практики по недельке отвешивал, чтобы вы расчухали, какое она золото – эта ваша тюряга. Дело ж не в том, что больно там плохо, для некоторых даже и хорошо, а дело в том, что ты за решеткой. Помню, как я первый раз туда угодил…
– Плохая тюрьма была?
– Опять двадцать пять! Зачем плохая! Все культурненько – паровое отопление, душ бесплатно, питание трехразовое, а я не жрамши был…
– Ну?
– То-то, что ну. Тюрьма…
Отвернувшись от Криничного, он закурил и еще раз вздохнул. Вновь предстали перед ним братья Невзоровы с их синими, девичьими глазами, вновь увидел он тоненького Борю Кошелева, вновь увидел длинный коридор, по которому его вели тем бесконечным, тоскливым вечером.
Курил и Криничный, по-солдатски прикрывая папиросу ладонью. За открытым окном собирались тучи, белая ночь помутнела, угрюмо перекатывался в небе негромкий грохот грома.
– И что это все дожди… – сказал Криничный. – Изо дня в день…
Он уже засыпал, держался только из вежливости и гостеприимства. Но Жмакин что-то спросил, и Криничный приподнялся на локте.
– Кто была? – не понял он.
– Да Неля. Которую вы из Киева доставили.
– Была, была, – с готовностью подтвердил Криничный. – Все показала правильно. Только Невзоровы ее вовсе не запугивали, это точно доказано и следствием и судом. Папаша Невзоров – верно – присоветовал. Она и смылась…
Жмакин молчал. Криничный опять принялся усердно засыпать.
А наутро, когда Жмакин еще толком не проснулся, пришел вдруг Агамирзян. Вначале, сквозь сон, он услышал его характерное «ха» – весело-насмешливое, с придыханием, но сейчас гораздо более громкое и напористое, чем в больнице, потом услышал уговаривающие слова парашютиста, и сразу же дверь с грохотом распахнулась настежь, показался костыль, за костылем, грохоча непривычным еще протезом, закидывая его чересчур далеко и спеша за ним, ворвался Агамирзян в роскошном, светло-сером костюме, с галстуком бабочкой, с тонкими усиками, надушенный, наутюженный, помахивающий цветным платком.
– Пламенный привет самоубийце! – закричал он, стараясь взять власть над своим протезом. – Привет дорогому другу, ха! Опять лежишь, да? Солнце светит горячими лучами, гроза мчится над городом Ленина, луна проливает поэтический свет на лицо любимой, а он валяется…
В двери мелькнуло опрокинутое лицо парашютиста, всякое видывали в доме Криничных, но такое появилось тут первый раз. Жмакин сел на кровати. Агамирзян повалился в кресло, руками, не без омерзения, развернул протез, откинулся на спинку, обтер лицо душистым платком.
– Нарочно так приоделся! – доверительно, почти шепотом сказал Агамирзян. – Чтобы не жалели. Знаешь эти разговоры – такой молодой, а уже без ноги. Старичку без ноги хуже, чем молодому, ты не согласен, ха? Пижона жалеют меньше. Ехал тебя навестить, сажусь в такси, шофер спрашивает: «В чем дело, молодой человек, откуда такая неприятность?» Я закурил папиросу с золотым обрезом, нахально пыхнул ему в лицо, сказал в ответ, что, будучи сильно пьяным, ударил на трамвайной площадке пожилую бабушку и за это был выкинут ее озверевшими родственниками прямо под колеса трамвая. И тю-тю ножку! Шофер на меня взглянул боком и больше не жалел. С другой стороны, он прав. За побитую старушку вполне справедливо молодому подлецу отрезать ногу…
Алексей слушал внимательно и вглядывался в Агамирзяна. Все это, конечно, вовсе не было так весело. И смеялся Агамирзян не очень от души. Щеки у него совсем запали, губы были синие, галстук бабочкой странно выглядел на цыплячьей шее…
– Что смотришь? – перестав улыбаться, спросил Агамирзян. – Плох, да, ха?
– Не очень чтобы очень, – ответил Жмакин. – Жрать тебе надо побольше.
– Жрать! – обиделся Агамирзян. – Жрать – это просто, а вот к этой сволочи привыкнуть – думаешь, легко? Есть такие – идут с костылем, смотрите все, какой-такой я пострадавший инвалид. А я не хочу! Я еще танцевать буду! Я эту механику одолею, а не она меня. Теперь новый мне протез сделают, тогда посмотрим, кто хозяин будет – я или он…
– Над кем хозяин? – не понял Жмакин.
– Над своей судьбой, – строго произнес Агамирзян. – Впрочем, это все пустяки. Я к тебе за делом приехал. Иди ко мне работать, сначала в лаборанты, а там видно будет.
– Это которые посуду моют? – вежливо, но с некоторым презрением в голосе осведомился Алексей.
– Почему непременно посуду?
– Все лаборанты всегда посуду моют, – сказал Жмакин. – И надеются впоследствии в люди выйти. Но только никогда не выходят. Это я читал в книге. Ну и, конечно, для вашей специфической работы анкетка моя не тянет. У меня даже паспорта нет.
– Сегодня нет – завтра есть!
– Это еще неизвестно, – медленно и значительно сказал Жмакин. – Совершенно неизвестно. И опять же вопрос прописки. Если человек сильно поднаврал в истории своей жизни, то с пропиской, дорогой товарищ Агамирзян, у нас долго и бдительно разбираются. А я, как тебе известно, поднаврал.
Глаза его смотрели задумчиво и чуть-чуть насмешливо.
Агамирзян осведомился:
– Что же вы предполагаете делать? Опять покончите с собой?
– Зачем?
– А как же! Вы вновь попали в тупик, Жмакин. А такие, как вы, очень любят тупики, это я заметил.
Жмакин, казалось, не заметил тона Агамирзяна. Потянувшись, он сказал:
– Получил я однажды в библиотеке в одной книжку. И так как временем располагал достаточным, то книжку эту хорошо изучил и даже сдал по ней экзамен одному здорово подкованному «бандиту за рулем».
– Кому-кому?
– А про него так написано было в газете. Он эту газету при себе всегда имел. Кудрявый ему фамилия была, шофер он. В пьяном виде сильно набезобразничал и получил хороший срок. Вот я ему всю теорию автомобильного дела и сдал. Отметка была ровно «пять».
– Автомобили будете конструировать?
– Ну, на это другие мозги нужны. Подучусь практически – дело невеликое – и стану шоферить. Шоферишка шоферит. Всего делов.
Бывшая лыжница, ныне теща и домашняя хозяйка Александра Андреевна принесла Жмакину обильный завтрак, а Агамирзяну, как гостю, стакан крепкого чаю с лимоном. Агамирзян галантно поблагодарил, выпил чай, записал Жмакину все свои телефоны и поднялся. Жмакин на прощание сказал задумчиво:
– Ты меня, друг, прости, но я имел время для рассуждений и решил так: ежели завязать, как у нас говорится, ежели начисто завязать, то нужно самому подыматься. И не через конторскую работу, а лаборант – это вроде в конторе. У меня теперь семья, подниматься нужно на ноги, заработок нужен приличный. Заимею права, получу грузовичок, буду и шоферить, и грузить – я мальчичек здоровый, управлюсь…
Агамирзян, стоя у двери, помахал рукой. Ему было немножко обидно, что он ничем не помог этому странному парню, но он понимал, что Жмакин прав. Предложить, что ли, денег? Нет, не таков Жмакин.
А Жмакин сидел и покуривал, размышляя. Ох, о многом следовало ему еще подумать, об очень многом…
Окошкин женился
В субботу поздно вечером Окошкин официально сообщил Лапшину и Ханину, что женится, а в воскресенье прямо с ночного дежурства пришел домой за вещами.
– Ух, у тебя вещей! – говорила ему Патрикеевна, швыряя на середину комнаты носки, старый ремень и грязные гимнастерки. – За твоими вещами на грузовике надо приезжать. На, бери вещи! Ве-щи ему подай!..
– И синий штатский пиджак, – плачущим голосом просил Василий Никандрович, – там в кармане был такой футлярчик металлический…
Лапшин и Ханин сидели на стульях рядом, и обоим было жаль, что Васька уезжает.
– Жалованье мне заплатил! – сказала Патрикеевна. – В чем дело?
– И была у меня еще такая вещичка из клеенки, – ныл Василий, – что ты, правда, Патрикеевна?..
– А сам ищи! – сказала Патрикеевна. – Раз так, то ищи сам! Хоть бы десятку подарил: дескать, на, старуха, купи себе пряничков, пожуй. Не буду искать!
Она села и с победным видом встряхнула стриженой головой. Только что у себя в нише она выпила мерзавчик водки, и теперь ей казалось, что ее всегда обижали и что надо наконец найти правду.
– Тяпнула небось, – сказал Окошкин, запихивая все свое добро в корзинку и в чемодан.
– На свои тяпнула, – сказала Патрикеевна. – На твои не тяпнешь.
– Ура! – сказал Васька.
Уложив вещи, Окошкин сел на свою кровать, на которой уже не было матраца и подушек, и помолчал. Ему было чего-то неловко и казалось, что Лапшин недоволен.
– На свадьбу не зовешь? – спросил Ханин.
– После получки, – сказал Васька, – обязательно.
Патрикеевна вдруг засмеялась и ушла в нишу.
– Психопатка! – обиженно сказал Окошкин. – И чего смешного?
Он вообще был склонен сейчас к тому, чтобы обижаться.
Поговорили о делах, о комнате, в которой молодые будут теперь жить, о теще.
– Теща замечательная, – вяло произнес Окошкин. – Культурная и хозяйка – таких поискать. Пироги печет – закачаешься…
Ханин вдруг засмеялся.
– У одной народности, – сказал он, – не помню у какой, читал я: когда что-либо утверждают, то головой качают отрицательно, и наоборот. Для нас тут ужасающее несоответствие жеста и содержания. Так же и с твоими рассуждениями по поводу тещи.
Василий сделал непонимающее лицо и стал надевать перед зеркалом фуражку. Лапшин тихонько насвистывал «Кари очи». Фуражка у Окошкина была новая, и надевал он ее долго: сначала прямо, потом несколько наискосок и кзади. Ханин долго и серьезно следил за ним, потом поднял руку и крикнул, как кричат, когда на веревках подтягивают вывеску или что-нибудь в этом роде:
– О-то-то! Стоп! Хорош!
– Хорош?
– Хорош! – подтвердил Лапшин.
– Ладно! – сказал Василий Никандрович. – До свиданьица!
У него было такое чувство, что его все время разыгрывают. Подойдя к Лапшину, Вася подщелкнул каблуками и козырнул, глядя вбок.
– Будь здоров, Вася! – сказал Лапшин и подал Окошкину руку.
– Будь здоров, не кашляй! – из ниши сказала Патрикеевна.
– Не поминайте лихом! – сказал Васька, по-прежнему глядя вбок.
– Чего там! – сказал Лапшин.
Попрощавшись с Ханиным, Васька взял корзину, чемодан и постель. Лицо у него сделалось совсем обиженное.
– Легкой дороги! – сказала Патрикеевна из ниши и захохотала.
– Счастливо оставаться! – ответил Васька.
Лапшин и Ханин сидели на своих стульях. Ханин морщил губы.
– Заходи в гости! – сказал Лапшин.
Васька ушел, и Патрикеевна сказала:
– Баба с возу – кобыле легче.
Она достала со шкафа постель Ханина, разложила ее на пустой кровати и повесила в изголовье бисерную туфлю для часов.
– А на него я жаловаться буду, – сказала она, – напишу куда следует. Повыше групкома тоже есть начальство.
Солнце ярко светило во все большие окна, с улицы доносилась глухая музыка – проходила военная часть с духовым оркестром, – и настроение у Лапшина было и приподнятое, и печальное. Он сидел на венском стуле, подобрав ноги в новых сапогах, и жевал мундштук папиросы. А Ханин все расхаживал по комнате со стаканом боржома в руке и говорил:
– Почему-то похоже на Первое мая, правда? От оркестра, наверное? Ты как провел нынче праздник? Я, кстати, довольно глупо все злился из-за вашего Занадворова. Порядочная он дубина и в то же время какой-то гуттаперчевый. Нажмешь – поддается, а отнимешь палец – все опять как было. Я с ним буквально измучился. Уперся с концом очерка. «Вы, говорит, как хотите, а нам совершенно незачем этот пессимизм разводить. Это, говорит, как понять – что наших товарищей даже сейчас убивают? Это значит, что у нас переразвит бандитизм?» Так и выразился – переразвит. И попросил смерть Толи Грибкова изъять. Но ты ведь знаешь, как товарищи типа Занадворова просят. «У нас такая точка зрения». У кого – у вас? «У нас!» – И хоть плачь.
– Убрал смерть? – спросил Лапшин.
– И не подумал. Он еще, знаешь, как всю эту главу назвал?
– Не знаю.
– «Расхолаживающий момент»!
– Брось! – не поверил Лапшин.
– А вот ей-богу!
Выпил боржом и спросил у Патрикеевны:
– Ну как, поедем или нет, начальница?
– Если так цветы везти – не поеду, – ответила она из ниши, – а если сначала за рассадой – тогда с пользой. У меня рука легкая, от меня любые цветочки растут…
Ханин вопросительно взглянул на Лапшина. Тот молча встал, позвонил в гараж и велел Кадникову приехать. По дороге взяли с собой Катерину Васильевну, долго все вместе ходили за Патрикеевной по душной оранжерее и смотрели, как она выбирает рассаду и препирается с маленьким, корявым и сердитым цветоводом. Балашова ела миндаль. Она еще больше осунулась за это время, и еще больше веснушек выступило на ее лице.
На кладбище она не подошла близко к Ликиной могиле, а стояла, опершись плечом на ствол молодой березы, и смотрела на Ханина, который, сидя на корточках без шляпы, помогал Патрикеевне сажать цветы.
Было очень тепло, пахло влажной землей и молодыми березами, и за белыми крестами и белыми стволами деревьев ходили люди, и порой женский, сильный голос пел:
Погост, часовенка над склепом, Венки, лампадки, образа, И в раме, перевитой крепом, — Большие, ясные глаза…– Пойдемте к Толе Грибкову! – сказала Катерина Васильевна Лапшину.
И взяла его под руку робким и доверчивым движением.
Толина мама, как всегда, сидела на скамеечке и думала о чем-то, подперев подбородок ладонями. Балашова и Лапшин тоже сели, и Толина мама спросила, нет ли у Ивана Михайловича покурить. Они закурили оба и долго молчали, но здесь было такое место, что невозможно, казалось, болтать, а говорить было не о чем. Впрочем, уходя, Лапшин вспомнил, что именно следовало непременно сказать Толиной маме.
– Одно словцо Анатолия очень нынче привилось у нас. Говорил он, ежели кого сильно осуждал, – «посторонний». Так вот, этим словом у нас теперь часто пользуются…
– Да, посторонний, – мягко улыбнулась Толина мама. – Это он часто говорит. Это он не переносит…
Она так и произнесла – в настоящем времени: «говорит», «переносит».
Немного побродив по кладбищу, они вернулись к Ликиной могиле. Патрикеевна выговаривала Ханину, что он ничего делать не умеет, даже на малые цветочки давит и жмет их, а он робко улыбался, и почему-то, глядя на него, казалось, что он сейчас замахает своими длинными руками и улетит, и в этом не будет ровно ничего удивительного, а удивительно, что он сажает цветы и сидит на корточках. Балашова сказала об этом Лапшину, он улыбнулся и согласился.
– На кузнечика похож.
Лапшин кивнул: действительно, Ханин сейчас чем-то напоминал кузнечика.
– А что такое смерть? – неожиданно спросила Катерина Васильевна.
– Черт ее знает, – ответил Лапшин. – Я про нее думать не люблю.
– И не думаете?
– Бывает – думаю, – неохотно отозвался он. – Но стараюсь не слишком о ней раздумывать.
За березами сильный голос опять запел:
Венки, лампадки, пахнет тленьем… И только этот милый взор Глядит с веселым изумленьем На этот погребальный вздор.– Вот именно – погребальный вздор! – вздохнув, сказал Лапшин. – Не понимаю я ничего про эту самую смерть…
– А я думала, вы все понимаете и на все у вас есть ответы, – лукаво сказала Катерина Васильевна. – И Ханин так считает…
– В том смысле, что готовые?
Она поняла, что обидела его, и горячо воскликнула:
– Вы только, пожалуйста, Иван Михайлович, не думайте, что это я нехорошо сказала. В вас самое главное – это что вы такой… Понимаете? Вы как… ну, как скала…
Щеки ее вспыхнули, а он, не улыбнувшись, кивнул:
– Понятно. Как вроде каменный. Что ж, не так плохо иногда.
– Ах, я всегда все не так говорю, – быстро зашептала она. – Не в том смысле, что камень, а вот именно скала, гранит. С вами спокойно, и, если видеть и думать, как вы, тогда ничего не страшно, и все имеет свой смысл, и жить всегда есть для чего, и люди хорошие… И на обиды не надо обижаться, и на… впрочем, все это не то, не умею я с вами говорить…
– А разве со мной нужно как-то особенно говорить?
Она совсем смешалась и не нашлась, что ответить. Ответил за нее он сам:
– Это я не раз замечал, что вы мне вроде бы с одного языка на другой переводите или даже громко очень говорите, будто я тугоухий. А я русский, и слух у меня нормальный.
Глаза его твердо смотрели на Балашову, и говорил он будто прощаясь. Она поняла эту особую интонацию, поняла, как ему трудно сейчас, и поняла, что случится, если этот человек решит больше не разговаривать с ней. И, потянув его за рукав, она сказала голосом, исполненным отчаяния, что он не смеет так думать, что все это совсем иначе и что она не понимает, как это произошло, какая-то чепуха, которая затянулась в узел и душит их обоих.
– Почему же чепуха? – ровным голосом возразил Лапшин. – Никакая не чепуха, а просто какие-то сплошные подтексты, которых вы хотя и не любите, но без которых обойтись никак не можете. Двойная жизнь, как в цирке у фокусников двойное дно!
Катерина Васильевна, внезапно побелев, спросила:
– Вы обидеть меня хотите?
– Нисколько! – угрюмо отозвался он. – Надо только, понимаете, чтобы четкость была.
– Это в чем же четкость? – вдруг сбоку спросил Ханин. – Все он обучает тебя, Катерина, да?
– Ох, если бы! – странно пожаловалась Балашова и отвернулась.
Назад ехали молча, одна Патрикеевна ворчала, и Лапшину было жалко и больно оттого, что он сказал нынче. Выболтал все, и теперь кончено, теперь все сам поломал. Как ни было грустно ему заходить к Балашовой, все-таки он заходил часто, и пил чай, и на что-то надеялся, и о чем-то мечтал. А теперь этому всему конец…
Сидя за рулем, на мгновение в водительском зеркальце он увидел Катерину Васильевну: она по-прежнему ела свой миндаль, рот у нее запекся, и лицо было страдающее и замученное.
Ночью Ханин трещал на машинке и спрашивал:
– Ты рад, Иван Михайлович, что я вернулся к тебе в дом? Рад, что старик приехал? Хороший, уютный, симпатичный старичина Ханин, легкий человек, смешливый, душа-парень, рубаха…
И сам себе отвечал:
– Никто старику не рад, всем на старика наплевать, один он, как перст, верно, Патрикеевна?
У Ханина была бессонница. Он стыдился ее и, глотая веронал, говорил, что это от живота. А поздно ночью пожаловался:
– Знаешь, Иван Михайлович, мне эта твоя канитель начинает, право, приедаться. И сам ты измучился, и Катерину мучаешь. Какого тебе еще беса нужно? Чего молчишь, отвечай!
– Я хочу все понимать, – угрюмо ответил Лапшин.
– Что именно?
– Я хочу жениться, – густо и как-то даже нелепо краснея, сказал Иван Михайлович. – Я хочу, чтобы она полностью разобралась в себе. Ты понимаешь, о чем я толкую. Я, Давид, человек грешный, я не весь наружу, но хамство это в отношениях с женщинами мне противно нынче. Наверное, отгулялся…
Ханин смотрел на Лапшина удивленно, моргал под очками. Иван Михайлович сердито стягивал сапоги. Аккуратно поставив их возле кровати, он сильно повел плечами и совсем уныло добавил:
– А кому эти наши откровенности нужны?
– Ты ей прикажи, чтобы она разобралась! – насмешливо посоветовал Ханин. – Вели!
– Иди к черту! – ответил Лапшин.
Как нужно убегать
Весь вечер в понедельник Жмакин пробыл в Управлении. Шатался по темноватым, мрачным коридорам, дремал на скамье в комнате ожидания, перемигивался с Криничным и Бочковым, а потом нечаянно для себя осуществил небольшой подвиг: незнакомая старуха, приподняв вуаль, хотела закурить, вуаль вспыхнула, и Жмакин ловко «погасил» старуху, набросив на ее породистую голову свой пиджак.
– Мерси, – галантно поблагодарила старуха и добавила загадочные слова: – Ко всем моим делам мне не хватало только спалить морду.
Как объяснил позже Жмакину Лапшин, старуху поймали на крупных аферах, – она продавала иностранцам купчие на доходные дома. Но тем не менее Жмакин с ней немного поболтал о превратностях судьбы и о великолепном прошлом титулованной старой дамы.
Уже ночью за Жмакиным пришел Окошкин.
В коридоре они встретили Лапшина. Глаза у Ивана Михайловича хитровато поблескивали, он, видимо, только что побрился, щеки были слегка припудрены, и пахло от него чуть слышно одеколоном. И во всем его облике было нечто торжественное, приподнятое и вместе с тем напряженное.
– Ну? – спросил он, натягивая перчатки и быстро, не оглядываясь, шагая по коридору. – Как самочувствие?
– Нормальное.
– Надумал, чего делать будем?
– Мне утруждаться не приходится, – угрюмо ответил Алексей. – За меня давно большие начальники все думают…
– Ты брось! – велел Лапшин.
Он сел за руль, и они молча поехали.
– Правительственную награду мне будут вручать? – спросил Жмакин.
– Нахальный вопросик…
– Одно из двух. Или обратно в тюрьму, или чего-нибудь особенного, – сказал Жмакин по-одесски. – Мне еще, между прочим, причитается за тушение пожара на лице одной гражданки…
Тут Лапшин рассказал Жмакину суть дела старой дамы, и Жмакин даже восхитился размахом работы старухи.
– Министерская голова! – воскликнул он. – И многих буржуев она обдурила?
– Кое-кого обдурила…
– Это надо же!
– А ты не радуйся! – посоветовал Лапшин. – Тебе о другом думать надо. Сейчас начальство с тобой толковать будет, держись в рамочках, убедительно прошу. – И, неожиданно вздохнув, Иван Михайлович пожаловался: – Устал я с тобой, учти…
– Со мной действительно хлопотно! – подтвердил Жмакин.
На площадке лестницы, в самом здании, уже когда они поднялись в лифте, по поводу которого Жмакин не преминул заметить, что это удобный способ сообщения, Лапшин остановился и сказал, сердито глядя на Жмакина.
– Поскромнее только веди себя, Алеха. Говорю как человеку, не просто все с тобой обстоит. Не я решаю, и даже не тот товарищ, с которым будешь говорить.
– Ясно! – произнес Жмакин.
Они пошли молча по коридору – Лапшин впереди, Жмакин сзади. В большой приемной Жмакин сел на край стула. Его вдруг начало подзнабливать, он зевал с дрожью и искоса следил за Лапшиным, читавшим газету. Но и Лапшин не очень внимательно читал, он о чем-то сосредоточенно и напряженно думал, устремив глаза в одну точку. Наконец низенький короткорукий адъютант крикнул:
– Товарищ Лапшин!
Глазами показал на тяжелую дверь.
– Ты тут сиди, – шепотом сказал Лапшин, обдернув гимнастерку, и щеголеватой походкой военного, слегка выдвинув вперед одно плечо, пошел к двери и скрылся за портьерой.
Мелко трещали телефонные звонки: адъютант порой брал короткими руками две трубки сразу и разговаривал очень тихо, убедительно и иногда крайне сухо. Жмакин все зевал, потрясаемый какой-то собачьей дрожью. Опять зазвенел звонок. Жмакин взглянул на адъютанта, адъютант сказал: «Идите», и Жмакин пошел к тяжелой, плотно закрытой двери, неверно ступая ослабевшими ногами.
Двери открылись странно легко, и Жмакин очутился в небольшом скромном кабинете. Посредине комнаты, слегка расставив ноги, стоял Лапшин со стаканом чаю в руке и ободряюще улыбался, а возле стола, подперев подбородок руками, читал бумаги в папке невысокий, узковатый в плечах человек. Услышав шаги, человек быстро поднял голову и, обдав Жмакина блеском светлых глаз, спросил, закрывая папку:
– Жмакин?
– Так точно, – по-военному ответил Жмакин и составил ноги каблуками вместе.
Секунду, вероятно, длилось молчание, но эта секунда показалась Жмакину такой огромной, что на протяжении ее он успел весь вспотеть и задохнуться. А начальник все улыбался и смотрел на него с выражением веселого любопытства.
– Ну, садитесь, – сказал он и показал глазами на стул, стоявший совсем рядом с его стулом. Стулья эти стояли так близко один от другого, что, садясь, Жмакин дотронулся своим коленом до колена начальника. Начальник взял закрытую было папку, полистал и спросил у Жмакина:
– Что же вы к нам не пришли, когда вас там травили? Мы бы как-нибудь размотали. Не так уж это и сложно, а, товарищ Лапшин?
– Но и не так уж просто, Алексей Владимирович, – сказал Лапшин.
– Так чего же вы все-таки не пришли? – опять спросил начальник.
– Постеснялся, – тихо сказал Жмакин.
– Постеснялся, – повторил начальник, – ты видел таких стеснительных, Иван Михайлович?
Посмеиваясь, он встал, прошелся по кабинету и, остановившись против Лапшина, начал ему рассказывать тихим голосом что-то, видимо, смешное. Он рассказывал и поглядывал на Жмакина, и Жмакин, встречая прямой и яркий свет его глаз, чувствовал себя все проще и проще в этом кабинете.
– Ну что ж, – кончая разговор с Лапшиным, сказал начальник, – картина у тебя, Иван Михайлович, намечена правильная…
Еще пройдясь по кабинету, он поговорил по телефонам – их было штук семь-восемь, и все разные, – потом почесал ладонью затылок и сел опять возле Жмакина. Лапшин тоже сел и закурил папироску.
– Так что же, Жмакин, погулял, пора и честь знать, – сказал начальник, – верно? Или как?
– Ваше дело хозяйское, – сказал Жмакин и съежился. Он только сейчас начал понимать, что в его судьбе с минуты на минуту должен произойти какой-то страшно важный и решающий перелом.
– Чего же хозяйское, – сказал начальник, – никакое не хозяйское. У нас есть законы, и надо законам подчиняться… Тебя приговорили к заключению, ты бежал, верно?
– Это так, – согласился Жмакин, – бежал… Два раза бегал.
– Пять раз, – сказал Лапшин.
– Виноват, ошибся.
Начальник засмеялся и спросил:
– Как же ты бегал?
– Разные случаи были, – сказал Жмакин, – тут имеется техника довольно развитая. Один раз, например, в пол убежал.
– Как так в пол?
– В вагонный пол. Вагон был не международный, попроще… Мы пропильчик сделали в полу. Так называемый лючок. Значит, на ходу поезда спускаешь туда ноги, руками за край лючка держишься и постепенно опускаешься ровно спиной к шпалам. Но ровно нужно. А то, если перекривишься, что-нибудь оторвет. Башку свободно может оторвать. Ну, так опускаешься, опускаешься, а потом хлоп на шпалы. И лежишь ровненько-ровненько. Ну, конечно, легкие ушибы, это всегда получишь.
– Интересно, – сказал начальник, – я в шестнадцатом году из вагона убойной в окно прыгал. Покалечился.
– Небось не разделись, – сказал Жмакин.
– Не разделся, – несколько виновато сказал начальник. – А надо было раздеваться?
– Ясное дело, – сказал Жмакин, – обязательно надо. Решетка куда была вывернута, внутрь или наружу?
– Внутрь.
– Конечно, крючки получились. Сразу вы и повисли. Раз такое дело, прыгать надо вперед, с ходу, а не с крючка. Хорошенькое дело одетому в окно прыгать. Рассказать – никто не поверит. А вы, между прочим, за что сидели?
– Между прочим, за царя.
Жмакин слегка смутился: вопрос был явно бестактный, но человек, которого Лапшин называл Алексеем Владимировичем, нисколько не обиделся. Он о чем-то думал, перелистывая страницы в папке. Потом отрывисто спросил:
– Кто такой вам, Жмакин, Корчмаренко?
– Отец жены. Между прочим, учтите, я с ней не зарегистрирован, но считаю, между прочим…
Вот привязалось это «между прочим». Вечно к нему привязываются лишние слова.
– А Дормидонтов?
– Товарищ Корчмаренко. И он и Алферыч – члены партии, – облизывая пересохшие губы, сказал Жмакин. Он уже догадывался, что там в папке есть бумаги, подписанные друзьями Корчмаренко. – Петр Игнатьевич человек видный, положительная личность.
– Алферыч, – это, по всей вероятности, Алферов?
Жмакин кивнул головой и для убедительности произнес:
– Точно.
Он едва еще раз не сказал «между прочим», но в последнее мгновение спохватился и только издал коротенькое «мэ».
– Значит, отбывать срок не желаете?
– Нет, – сказал Жмакин, – переутомился. Я за свое хлебнул, сейчас хочу на светлую дорогу жизни выходить и участвовать в строительстве нашего будущего.
Эту довольно-таки книжную фразу он произнес, не обдумав ее заранее и совершенно искренне. Она складывалась в нем все эти длинные, трудные, иногда мучительные дни. И в конце концов как бы впечаталась буквами где-то в его мозгу, а быть может, в душе. И ни Алексей Владимирович, ни Лапшин не удивились этим словам – так просто и даже с какой-то горечью они были сказаны.
– Ну что ж, участвовать так участвовать, – сказал начальник и поднялся. – Попытаемся, доложим…
«Значит, это еще не все?» – подумал Жмакин.
Видимо, это было еще не все. Наверное, существовал кто-то главнее этого начальника с его худым, утомленным лицом, с его черно-рубиновыми знаками различия на алых нашивках, с его орденами и значком Почетного чекиста.
– Ладно, вы погодите, Жмакин, – велел Алексей Владимирович, – мы тут с Иваном Михайловичем потолкуем…
Жмакин закрыл за собою дверь. Альтус прошелся по кабинету из угла в угол, потом быстро взглянул Лапшину в глаза и отрывисто сказал:
– Трудно, Иван Михайлович. Очень трудно.
– Трудно! – спокойно ответил Лапшин.
– А? – на мгновение задумавшись, не расслышал Альтус.
– Подтверждаю – трудно. А тебе еще труднее, Алексей Владимирович. Неизмеримо труднее.
– Труднее не труднее, – слабо усмехнувшись, но с досадой в голосе произнес Альтус. – Не суть оно важно. Важно другое! Что о нас наши дети думать станут? Ужели не разберутся, что нас какими Дзержинский воспитал, такими мы…
Он помолчал и добавил:
– Такими мы и умрем. Как считаешь?
– Точно так и считаю, Алексей Владимирович. Только зачем же умирать?
– А это обстоятельство не от нас с тобой зависит. Пойдем?
Они еще взглянули друг другу в глаза без улыбки, серьезно, взглянули молча – два человека, совершенно понимающие друг друга, привыкшие понимать один другого и уверенные в том, что никогда не ошибутся в этом взаимопонимании.
Потом Альтус взял папку с жмакинским делом и быстро пошел вперед. В приемной, кивнув на дверь напротив и как бы не заметив Жмакина, сидящего на стуле, Алексей Владимирович спросил у адъютанта: «У себя?» – и исчез, словно в большом шкафу, в странном, черном предбанничке – так показалось Алексею Жмакину. Лапшин, покуривая, сел неподалеку от Жмакина, невесело подмигнул ему и взглянул на большие стенные часы. Было без десяти час пополуночи. А обратно появился Альтус из странной черной двери около двух. Он был очень бледен, глаза его неприятно поблескивали, странный, словно чужой или приклеенный круглый румянец горел на щеках. И бледные губы его дернулись, когда, протягивая Лапшину папку, он сказал сухо:
– Будь здоров, Иван Михайлович. Резолюция наложена.
На мгновение задумавшись, он помолчал, потом повернулся к Жмакину и, светло и пристально глядя на него, произнес:
– Что ж… выходите, товарищ Жмакин, на светлую дорогу жизни. Все, что в наших с Иваном Михайловичем силах, мы сделали, теперь сами карабкайтесь! Желаю, тезка!
Дверь в кабинет Альтуса закрылась. Жмакин и Лапшин быстро спустились вниз, сели в машину, Иван Михайлович включил зажигание и с места нажал на педаль акселератора.
– Что это вы будто расстроены? – спросил Жмакин. – А, товарищ начальник?
– Тебя к Криничному подкинуть? – не отвечая на жмакинский вопрос, спросил Лапшин.
Большие его руки в черных кожаных перчатках лежали на баранке руля, и Жмакин представил себе, как он будет вот так же сидеть на шоферском месте, но не в легкой пассажирской машине, а в тяжелом большом грузовике, как перед ним будет тянуться длинная, черная, без огней дорога и как после тяжелого пути он вернется в гараж, кинет рукавицы, закурит и скажет каким-то своим будущим товарищам, сипатым парням, которым и черт не брат:
– С этими дорогами, черт им батько!
Нечаянно он сказал эту фразу вслух, но Лапшин не удивился. У дома, в котором жили Криничные, Иван Михайлович притормозил и велел:
– Жди моего звонка. Дня через два, не позже.
– Ясно! – сказал Жмакин.
Покуда дворник возился ключом, Алексей смотрел вслед лапшинской машине и опять, в который раз, не понимал, что они все за люди – и Лапшин, и Криничный, и Бочков, и Окошкин – его бывшие «враги.
Потом немножко поговорил с солидным дворником, выкурил с ним «для баловства», как выразился дворник, папироску и осторожно позвонил в квартиру семь.
Как моют грузовики
Под вечер, свежевыбритый, приглаженный щеткой в парикмахерской под хорошего пай-мальчика, Жмакин сидел в кабинете у Лапшина и сворачивал самокрутку из голландского табака.
Табак был душистый, но слабенький, и Лапшин, немного покурив, сказал:
– Назад подарю. Хоть упаковка и роскошная, а силы в нем никакой нет. Я с малолетства люблю такой табак, чтобы душил. А это не табак. Баловство.
– А за границей, интересно, дамы трубки курят? – осведомился Алексей. – Я, будучи ребенком, помню, видел картинку – сидит пожилая женщина и курит трубку. Некрасиво как-то… Но, возможно, это раньше было, а сейчас уже нет.
Иван Михайлович не знал – курят ли сейчас дамы за границей трубки – и ничего Жмакину ответить не смог. Еще покурили, помолчали, потом Лапшин крепко прижал окурок в пепельнице и сообщил:
– Завтра встанешь на работу. Вернее, послезавтра – завтра оформишься. В большой гараж тебя определим, и начальником там старый мой товарищ Егор Тарасович Пилипчук. Вот он этот табачок мне из США нынче в подарок привез. Умный человек, будет тебе у него неплохо. Практической езде, то есть вождению автомобиля, тебя там подучат. Права получишь…
– А они меня не будут подозревать, что я ихний гараж обкраду?
– Не обкрадешь.
– Значит, доверяете?
– Доверяем, Жмакин.
– Странное дело, – усмехнулся Алексей. – То мне Корнюха доверял, нынче вы с товарищем Пилипчуком, а пару дней назад большой начальник Алексей Владимирович. Опять же Криничный. Прихожу тогда к нему на квартиру, он сам спит, как божий ангел, а пистолет возле на столике валяется. Это как – доверие или проверка?
– Брось ты, Алеха, психологию разводить, – сказал Лапшин. – Ты мне ответь по делу. Подходит тебе гараж?
– Другого ж ничего нету?
– В Арктику я тебя послать не могу, – прохаживаясь по кабинету, говорил Лапшин. – Покуда не тот ты еще человек. Директором завода тебя навряд ли назначат по причине малограмотности и недалекого прошлого…
– Анкетой меня, между прочим, попрекать не надо. Я и сорваться могу по своему характеру, несмотря на все ваши поручительства.
– Опять грозишь?
Жмакин тихо улыбнулся:
– Это по привычке, – сказал он. – Сами знаете, Иван Михайлович, очень наши ребята любят из себя психов корчить. Я такой, я – особенный, хризантема, недотрога, у меня психика поломатая…
Дверь без стука отворилась – вошел немолодой человек, еще рыжий, но уже седеющий, плечистый, с медвежьей перевалочкой, в костюме, несколько пестроватом для простецкой наружности вошедшего, но, ежели внимательно поглядеть, то вовсе не столь уж простецкой оказывалась эта наружность, глаза смотрели с веселой проницательностью, крепкий рот подрагивал от насмешливой улыбки. Выбрит вошедший был до лакового блеска, который, видимо, не даром ему дался – не менее дюжины порезов заклеил он маленькими пластырями.
– Это чего тебя так изукрасило? – спросил Лапшин, весело вглядываясь в гостя.
– А новую технику осваивал, американскую, – сказал тот, и Жмакин догадался, что вошедший и есть Егор Тарасович Пилипчук, прибывший из США. – Купил, понимаешь ли, бреющий агрегат, вот и мучаюсь с ним. Вещь хорошая, но покуда не могу я из этой техники выжать все. У нее там имеется одна деталь, обозначенная литерой «Р», так эта деталь мясо из щеки выдирает…
Садясь, Пилипчук внимательно посмотрел на Жмакина, полоснул по его лицу своими неласковыми, хоть и веселыми, глазами и осведомился:
– Он?
– Он.
– Который из жуликов?
– Вор был хороший, – сказал Лапшин. – Ловкач парень.
– Специальность имеешь? – опять полоснув Жмакина взглядом, спросил Пилипчук. – По автоделу разбираешься?
– Теоретически вполне, – стараясь не обижаться на резкий тон Пилипчука, ответил Жмакин. – Слесарить могу маленько, монтер также. Но управлять машиной не приходилось.
– Не приходилось, но можешь?
– Раз не приходилось, значит, не могу, – взбесился Жмакин. – Ясно же говорю.
– А ты не кусайся, – не отрывая своего режущего взгляда от Жмакина, произнес Пилипчук. – Я тебя на свою ответственность беру, несмотря на разные поручительства. Ежели что – с меня спросят, а не с господа бога нашего. Ты человек без паспорта, трудом на пользу человеческую не слишком намученный, человек бесквартирный, следовательно, мне тебя и поселить где-то нужно, а мне тебя селить негде, кроме как на территории автобазы. Вот и думай: вскочит тебе в голову какая-либо поганая идея обокрасть – обкрадешь. Я тебя и спрашиваю, и еще спрашивать буду, и душу из тебя вытряхну, покуда не разберусь, какой ты есть человек…
Жмакин молчал. Молчал и Лапшин, поглядывая то на Егора Тарасовича, то на Алексея. Пилипчук вынул пачку папирос, закурил, наморщил лоб и, шевеля рыжими с сединой бровями, написал записку, потом другую, порылся в бумажнике и, протянув Жмакину деньги – трешками штук двадцать, велел расписаться в получении аванса. Алексей расписался нетвердою рукой.
– Теперь езжай по указанному адресу, – сказал Пилипчук строго. – Эту бумажку предъявишь во второй проходной. Адрес я не указал – запомни: Васильевский, Вторая линия, девяносто три, автобаза. Все ясно?
– Ясно! – поднимаясь, сказал Жмакин.
– Еще запомни. Человек, с которым жить будешь вместе, – замечательный человек. Его обидишь – башку тебе наш народ напрочь удалит, а я не заступлюсь. Вот так…
Алексей все стоял, не зная, как дальше себя вести.
– Ну что ж, иди, Жмакин, – произнес наконец Лапшин. – Будь здоров, иди! Наведывайся, если время будет.
– До свидания, Иван Михайлович, – сказал Жмакин и вдруг заметил, что Лапшин в его глазах как бы расплылся и пополз, как квашня из дежки. Тогда он почувствовал, что плачет, и быстро пошел к двери.
Его никто не окликнул.
Они оба – и Лапшин, и Пилипчук – понимали, как трудно нынче Жмакину, как нелегко будет ему и нынче, и завтра, и позже. Но они не говорили об этом. И об ответственности своей тоже не говорили. Мало ли приходилось им отвечать в жизни не за свои прегрешения. Мало ли придется еще отвечать. Они не боялись этого и не собирались бояться. Не из того материала они были скроены, чтобы опасаться ответственности, ежели внутреннее убеждение подсказывало им, что они должны взять на себя эту ответственность…
– Вот, значит, так, – произнес Иван Михайлович, задумчиво перекатывая карандаш по настольному стеклу. – Побывал ты в США, дорогой товарищ Пилипчук? Ну, чего видел?
Егор Тарасович подумал маленько и стал рассказывать, чего видел, а Жмакин в это самое время показывал записку вахтеру автобазы. Тот повертел ее в руках и позвонил по телефону. Вскоре появился небольшой старичок, аккуратный, сухонький, чистенький, в кремовом чесучовом пиджачке, в жилетке; оседлав носик золотым пенсне, закинув назад голову, прочитал записку, осмотрел Жмакина и повел за собой в деревянную часовню. Воротца в часовне были закрыты и забиты наглухо войлоком, а действовала одна только калиточка, такая низкая, что Алексею пришлось нагнуться, протискиваясь за старичком. И жутковато на мгновение стало оттого, что лезет он в какую-то часовню. Старичок велел Жмакину захлопнуть за собой калитку, потому что-де «сквозняки ужасные», и предложил гостеприимно:
– Располагайтесь, прошу вас!
Жмакин не торопясь огляделся. Часовенка была превращена в квартирку, странную, но уютную, немножко только слишком уж заставленную вещами, главным образом койками. Посредине из купола спускалась лампа под пестрым, с кружевцами даже, абажуром. Стол был накрыт скатертью – белой и очень чистой. Было много книг на простых, деревянных некрашеных полках, был чертежный стол, а на свободных стенках висели «портреты» автомобилей, моторов, задних и передних мостов и всякого иного автомотохозяйства. Телефон висел у притолоки, пахло ладаном, застарелым запахом свечного воска и табаком.
– Интересная квартирка! – произнес Жмакин.
– В высшей степени! – с воодушевлением ответил старичок. – Но только это не квартирка, а в некотором роде общежитие. Так сказать, гостиница. Она редко бывает переполнена, в основном тут живу лично я. И заметьте, юноша, тут наличествуют все удобства: паровое отопление, телефон, электричество, а неподалеку, буквально несколько метров, – душевые…
Сняв плащ, кепку, Алексей сел за стол. Старичок представился – назвал себя Никанором Никитичем Головиным.
– Алексей! – сказал Жмакин.
Сидели молча. Никанор Никитич покашливал, Жмакин барабанил пальцами по столу, не находя темы для разговора. Старик предложил кофейку, Жмакин отказался.
– А вещички ваши? – спросил старик.
– У меня нету вещей!
– Вот как?
– Вот так! – сказал Жмакин и потянул к себе газеты.
Ему хотелось произвести на Никанора Никитича сразу очень хорошее впечатление, и, шурша газетным листом, он сообщил, что так сегодня замотался, что даже газеты проглядеть не успел.
– Газета – это привычка, – говорил он. – Если я имею привычку, то мне невозможно без нее. И, несмотря на различные обстоятельства моей жизни, я без газеты как без рук…
Старик согласился, что без газеты трудно.
А Жмакин уже рассказывал о том, что читал. Например, немцы сообщали, что Польша готовится к завоеванию Восточной Пруссии, Померании и Силезии, что ими вывезено в Германию чехословацкое золото и что…
Здесь Алексей помедлил, а погодя воскликнул:
– Это да! Это – Юра! Это – работа!
– Какой такой Юра? – заинтересовался Никанор Никитич.
– Юра Поляков, ну это да!
Бледное лицо Жмакина порозовело, глаза весело заблестели, и голосом, исполненным восторга и завистливого восхищения, он прочитал заметку о некоем ловком воре Полякове, который, «используя симпатии, которыми у нас пользуются летчики», завязывал знакомства, а потом обкрадывал свои жертвы, среди которых оказались: писатель Евгений Петров…
– Это, знаете, который «Золотой теленок», который про Остапа Бендера написал, – прервал свое чтение Жмакин. – Ну что вы скажете? Этот же Юрка нормальный щипач, я же его прекрасно знаю, мы с ним даже корешки, и вот – вошел в историю…
И Жмакин прочитал про то, как Поляков обокрал артиста Ханова, кинорежиссера Фрезе и многих других.
– Ах ты, Юрка-Юрец! – бормотал Алексей. – Это надо же… Дружок-корешок, можно сказать…
Старик нисколько не удивился, и это немножко раздражило Жмакина. Он шел сюда размягченным, смаргивая слезы с ресниц, и ждал, что тут встретят его по-особенному, а ничего трогательного не происходило – сиди теперь, как попка, с этой мымрой в пенсне и молчи, когда охота разговаривать, петь и выпить даже хочется по случаю начала новой, светлой жизни.
– Может, выпьем по малости? – спросил Жмакин.
Но Никанор Никитич даже испугался:
– Что вы! – замахал он сухими руками. – Ни в коем случае!
– Запрещается?
– Но я же ал-ко-го-лик! – воскликнул Головин. – Именно поэтому Егор Тарасович меня здесь и поселил. Я – запойный, – пояснил Никанор Никитич, – у меня тяжелейшие запои, и это наследственное. Это – болезнь. Понимаете?
– Хорошенькое дело!
– Вот именно – хорошенькое дело! Меня отовсюду совершенно справедливо выгоняли, и я главным образом проводил жизнь в больницах, а товарищ Пилипчук подобрал меня и поселил вот тут. Я и работаю, и не пью, за исключением редчайших теперь припадков…
Старик рассказывал про себя долго и немножко испуганно, как бы даже осуждая свою жизнь и ужасаясь всему, что он испытал, а Жмакин слушал, сердился и наконец не выдержал:
– Если в записке не написано, – сказал он, – то я вам должен объяснить, кто я такой в прошлом: я вор-профессионал. Много лет воровал. Теперь кончено, крышка, завязано. Буду в люди пробиваться, как вы, например, пробились. Это я вам сказал, чтобы вы не думали, будто я скрываю. И выпить тоже крышка. Нынче хвачу последний раз. Как-никак, на пороге новой жизни. Не верите?
– Почему же, вы пейте, – с тоской в голосе сказал Никанор Никитич, – это ваше дело. Но Егор Тарасович категорически запретил на территории автобазы вообще…
– А мне вообще наплевать! – перебил Алексей и ударом ладони вышиб из бутылки пробку. – Мне никто не указчик. Запретил!
Он открыл шпроты, наломал халу и, взяв с полки стакан, выпил одним махом больше половины. Никанор Никитич смотрел на него брезгливо.
– Может, примете немножко, папаша? – осведомился Жмакин. – Со знакомством!
Никанор Никитич отказался, объяснив, что когда он «не в этом состоянии», то даже смотреть ему неприятно на пьющих.
– Ну, тогда будьте здоровы!
– Пейте на здоровье.
– А вы что именно здесь делаете? – спросил Жмакин.
– То есть как что? Я – инженер. Я же назвал вам свою фамилию – Головин. Занимаюсь, преподаю, помогаю. У нас очень много народу учится. И вы, несомненно, станете моим учеником.
– Возможно! – согласился Алексей. Ему опять захотелось удивить старика, явиться перед ним необычайным человеком. – А я одного крупного бандита недавно сам лично повязал и представил уголовному розыску в упакованном виде. Кореш мой…
– Что значит «кореш»?
– Вроде приятеля. Мы с ним в заключении встречались. Кличка – «Корнюха». Гад большой руки. Людей, понимаете, стал убивать, собака.
– Ай-яй-яй! – задумчиво удивился старик.
– Повязал к черту с риском для своей молодой жизни. У него два пистолета было, а я голый и босый, с одним только своим мужеством. Можете себе представить? Конечно, есть такие, что думают, будто я ссучился, но мне наплевать. Я знаю, ссучился я или нет…
– Простите, а что такое «ссучился»? – опять не понял Никанор Никитич.
Жмакин объяснил.
– Так, так, – сказал старик. – Значит, это ваш специфический жаргон?
– Ага! – моргая, согласился Жмакин. – Спе-ке-спе-цефикетский… – Он немножко запутался, но вышел из положения, спросив: – Желаете, я спою?
– Пожалуйста, буду вам очень благодарен, – заваривая кофе, вежливо попросил Головин.
– Нет, не стоит. Я лучше еще выпью. Вам, как алкоголику, не надо, а мне еще можно. Я еще не алкоголик, я – выпиваю. Выпью и лягу. Интересно в часовне небось спать. Вроде – мертвец. Покойничков сюда раньше клали на ночь, а теперь мы с вами…
Он выпил еще водки, потом еще. Глаза у него посветлели. Он много говорил. Никанор Никитич молча слушал его, потом вдруг сказал:
– Вы долго страдали, голубчик?
– Смешно, – крикнул Жмакин, – что значит страдание! Что значит страдание, когда я зарок дал с Клавдией не видеться, пока человеком не стану. А она беременная. А там Гофман Федька.
– Не понимаю, – сказал Никанор Никитич.
– Не понимаешь, – со злорадством произнес Жмакин, – тут черт ногу сломит. Не понимаешь! Корнюху взяли, так? Теперь его, может, сразу налево? Так?
– Убийц надо казнить, – сказал Никанор Никитич, – это высшая гуманность.
– Чего? – спросил Жмакин.
Старик повторил.
– Ладно, – сказал Жмакин. – Это вы после расскажете. Гуманность. С чем ее едят?
– Все не так уж сложно, – сказал старик. – То, например, что вас не посадили в тюрьму, есть, на мой взгляд, проявление гуманности.
Он аппетитно пил кофе с молоком и аппетитно намазывал булку маслом. Жмакин совсем разорался.
– Да вы, батенька, совсем пьяны! – без всякой неприязни констатировал Головин. – Пить еще не умеете, а пьете!
– Пью на свои! – угрюмо отозвался Жмакин.
Никанор Никитич уложил его спать в алтаре на раскладушку. Раскладушка скрипела, и Жмакину казалось, что ветхая материя вот-вот расползется. Во дворе гаража выли и гремели тяжелые крупповские пятитонки. Часовенка содрогалась. Заснуть Жмакин не мог, ворочался, от водки сердце падало вниз. Никанор Никитич шелестел бумагой. Потом и он улегся. Жмакин лежал на спине, сложив руки, глядя в сереющие узкие окна.
С утра сменный техник, мужчина в желтой кожаной куртке, с папиросой в крепких лошадиных зубах, поставил Жмакина на мойку машин. Освоить эту работенку было нетрудно, и Жмакин немножко обиделся, что техник долго объяснял ему, словно он полудурок, как таскать шланг и куда направлять струю. Но на объяснения кротко кивал и говорил, что ему ясно и что все будет в полном порядке. Вечер он провел в часовне, перелистывая учебники по автоделу и записывая разные мелочи в тетрадку. Все шло бы куда лучше и проще, если бы Пилипчук о нем вспомнил, но Егор Тарасович отчитывался в Москве, и Жмакин день за днем мыл машины, уже скрипя зубами от злобы и произнося почти вслух разные грубые и бессмысленные слова.
Однажды к нему подошел все тот же техник с лошадиными зубами и от нечего делать принялся переучивать Жмакина обряду мойки машины. Вся та сноровка, которой Алексей овладел, оказалась неправильной и ненаучной, хотя Жмакин мыл машины куда более споро, чем прочие мойщицы. Но и тут Жмакин сдержался и выслушал самодовольного техника, кивая головой на его поучения и соглашаясь, что безусловно прав техник, а он, Жмакин, конечно, не прав.
– Под низ бей! – говорил техник, щурясь от мелких водяных брызг. – Кузов и так не грязен. Погляди, что под низом делается, там все облеплено грязью, и грязь присохла. Да воды не жалей, вода у нас невская, казенная, а машины – наши, автобазовские. Ясно?
Жмакин не ответил.
– Не ясно?
– Нет, не ясно, – как можно мягче сказал Жмакин. – Как я понимаю, воду нам подают через водопровод, и она тоже платная. Она… казенная, – несколько стесняясь, продолжал он, – но не бесплатная…
Он еще не мог полностью выразить свою мысль, но чувствовал, что в чем-то прав. Около техника и Жмакина уже собралось несколько человек мойщиц-баб, острых на язык, голосистых и умевших солоно сказать.
– Мне вот она, – Жмакин кивнул на черненькую, с лукавым ртом мойщицу, – Любка, она объясняла, что за воду автобаза платит большие деньги…
– А ты деньги жалеешь, – присюсюкивая, словно маленькому, и при этом вытягивая губы трубочкой, заговорил техник, – ты такой сознательный стал, что деньги жалеешь. Интересно… – техник обернулся к мойщицам, – интересно, ты раньше тоже так чужие деньги жалел, как нынче, а?
– Уйдите! – белея, ответил Жмакин. – Уйдите, я вас очень попрошу…
Техник испуганно взглянул в белые от бешенства глаза Жмакина и быстро ушел. Любка-мойщица засмеялась ему вслед. Жмакин опять принялся за мытье машины. Но сердце его тяжело бухало в груди, а он понимал, что долго ему не совладать с собою. Особенно ясно чувствовал он это, когда к нему слишком внимательно приглядывались или перешептывались за его спиною в столовой, где из экономии он питался трижды в день супом.
Изо дня в день он по-прежнему мыл машины, все больше и больше озлобляясь. Машины были грязные, в кузовах налипали капустные листья, земля, ботва, шелуха от лука. И ходовая часть тоже всегда была грязной. На мойке работали только женщины, это считалось женским делом, и мойщицы постоянно трунили над Жмакиным, приглашали его идти с ними в душ или интересовались, когда он наконец займется правильным мужицким делом. Он сначала отшучивался, потом стал огрызаться. Мойщицы отстали, постреливала на него глазами одна только черненькая Люба. Его теперь побаивались, а он совсем обозлился.
Однажды молодой парень в короткой красноармейской шинели, шофер-загонщик, на обязанности которого лежала «загонка» вымытых машин в гараж, дожидаясь очередной машины, подошел к Жмакину перекурить. Жмакин злобно выругался.
– Сердитый, – сказал шофер.
Двигая желваками под бледной кожей, Жмакин продолжал работать – еще отворотив кран шланга, сбивал с покрышек налипшую и присохшую за ночь грязь.
– Ох, сердитый, – повторил шофер, – чего такой сердитый, дядя?
– Уйди, – сказал Жмакин.
– Сам ты иди, знаешь куда? – ответил загонщик.
И не ушел, засвистав танго. Жмакин спокойно обошел машину, поддернул кишку и под таким углом направил струю воды, что как бы нечаянно окатил загонщика с головы до ног. Шофер рванулся к Жмакину и сдавленным голосом спросил:
– Сдурел, малый?
– Уйди, – сказал Жмакин.
– Набью морду, – сказал парень.
Молча Жмакин поднял шланг и направил струю воды снизу вверх – в лицо загонщику. Тот, захлебнувшись и кашляя, кинулся на Жмакина, но Жмакин бил в него водою, отступая шаг за шагом. Со всех сторон бежали женщины, работавшие на мойке машин. Загонщик, совершенно мокрый, с перекошенным от злобы лицом, опять кинулся на Жмакина, но тот стоял, прислонившись спиной к радиатору автомобиля, и с радостной яростью хлестал из шланга. Наконец кто-то догадался и перекрыл воду в шланге, повернув кран. Но Жмакин поднял над головой медный ствол шланга и хрипло сказал:
– Не лезь, убью.
Уже порядочная толпа собралась вокруг загонщика и Жмакина. Все молчали. Было понятно, что затевается нешуточная драка. Шофер вдруг плюнул и ушел. Жмакин, глупо чувствуя себя и порастеряв уже злобу, не двигаясь стоял со своим оружием в руках и поглядывал на удивленные лица собравшихся женщин.
– Ты что, скаженный? – спросила самая молодая и бойкая женщина в вишневом платочке и в ватнике на крепком теле.
– Ну чисто бешеная собака, – сказала другая женщина и сделала такой вид, как будто дразнит собаку. – На, укуси, – крикнула она, показывая свою ногу, туго обтянутую в икре сапогом. – На, куси!
Все засмеялись.
– Брось свой пулемет, – сказала жирная старуха, – слышь, дядя. Все равно патронов нет.
– А красивенький, – крикнула черненькая Люба-мойщица и блеснула глазами. – Полюби меня, парнишечка!
Опять засмеялись. Жмакин бросил шланг и с независимым видом, открыв перекрытый кран, вновь начал мыть машину. Женщины разошлись, только Люба стояла возле Жмакина и улыбалась.
– Глядите, дядя, меня не облейте, – сказала она.
– А не надо? – баском спросил он.
– Конечно, не надо, – сказала она, – я могу через это воспаление легких схватить…
Он промолчал.
– Вы, наверное, отчаянный, – опять сказала Люба. – Да? Ох, вы знаете, я до того люблю шпану. Наша маловская шпана известная, но я всегда со шпаной раньше гуляла. Честное слово даю. Мальчишки должны быть отчаянные. Верно? А не то, что этот Генка.
– Какой такой Генка?
– Да загонщик! Сразу испугался. Я, мол, сознательный.
– А может, он и в самом деле сознательный, – сказал Жмакин.
– Сознательный.
– А тебя как зовут? Любовь?
– Вы же знаете! – сказала девушка. – А вас как?
– Альберт, – сказал Жмакин, – пока до свидания.
И повернулся к черненькой спиной.
Минут через пятнадцать мокрый Геннадий вернулся я машинам. Лицо его было сурово, белесые брови насуплены. Когда Жмакин на него посмотрел, он отвернулся.
– Где же твоя милиция? – спросил Жмакин.
Генка, не отвечая, влез в машину, включил зажигание и нажал стартер. Стартер не брал. Геннадий опять нажал. Опять не взяло.
– Не любишь ручкой, – сказал Жмакин.
– На, заведи, – коротко сказал Геннадий и протянул из окна кабины Жмакину ручку.
– Сам заведешь, – сказал Жмакин.
Несколько минут он смотрел, как мучается Геннадий, – в одно и то же время надо заводить ручку и подсасывать воздух. Гена бегал к кабине и каждый раз не успевал. Мокрую шинель он сбросил и бегал в одной, тоже мокрой, гимнастерке. На одиннадцатый раз Жмакин сунул руку в окно кабины и подсосал воздух, в то время когда Геннадий заводил. Генка сел за руль и угнал машину на профилактику, потом вернулся за другой. Мокрая его шинель лежала на старом верстаке. За тяжелыми пятитонными машинами пели женщины-мойщицы. Больше готовых к угонке машин не было. Геннадий сел на верстак и сказал Жмакину:
– Директор меня убедительно попросил, чтобы я с тобой подзанялся. Ты будешь Жмакин?
– Я.
– Директор говорит, так что с тебя спрашивать нечего, бо ты немного, как это говорится, с бусырью…
– Ненормальный, что ли?
– Ага. Директор говорит – болел ты сильно…
– Было дело. А ты что – к нему жаловаться ходил?
– Как же, жаловаться! Он сам из окна весь ваш театр видел. Он нынче только из Москвы прибыл. Пускай, говорит, тот Жмакин на мойке работает, а заниматься вечерами будет, и ты, Геннадий, в порядке комсомольской нагрузки его будешь учить на первых порах. А потом тебе форменного инструктора дадут – для практической езды по городу. А шефство тебе будет от нас – от комсомольцев. Только ты водой не обливайся, ну тебя к дьяволу…
Жмакину вдруг сделалось стыдно простодушного этого парня. Геннадий неловко переобувался, завертывал ноги сухими частями портянок и кряхтел.
– Да, бувает, – говорил он, нажимая на у, – чего только не бувает. Директор правильно отметил, что к тебе без чуткости подошли. Он, наверное, сам с тобой побеседует. Он у нас хороший директор, поискать таких…
Они поговорили еще, и Жмакин опять взялся за шланг. До семи часов он мыл машины, а когда пошабашил, к нему подошел Геннадий и заявил, что с завтрашнего дня они начнут заниматься «регулярно».
– А инструкторское разрешение у тебя есть? – щуря глаза, спросил Жмакин.
– Да тут же на дворе, какой ты все-таки принципиальный! – сказал Геннадий. – Больно мне нужно…
– Ну ладно, поглядим, – уходя в душевую, милостиво бросил Алексей. А Геннадий, проводив его глазами, покачал головой, подергал носом и отправился на солнышке – досушиваться.
Опять наступил вечер, уже не первый после рабочего дня. И этот вечер сулил нечто новое, завтра должно было быть совсем иное, чем нынче. Что ж, поглядим. Вымывшись под душем, Жмакин поел в столовой пшенного супа до отвала и, посвистывая, вышел вновь во двор. С грохотом возвращались на автобазу тяжелые, пропыленные, издалека машины. Перекликались сипатыми, усталыми голосами шоферы. Так и он когда-нибудь вернется из дальнего рейса и так же по-хозяйски будет перекликаться в «своей» автобазе, как эти усатые, седые, сипатые дядьки…
Что ж, поживем, поглядим…
Во всяком случае, скучно Жмакину нынче не было.
Сколько же человеку денег надо?
Под аркой Главного штаба этим ранним, очень жарким утром Лапшин встретил Женю Сдобникова. Несмотря на духоту и пекучее июльское солнце, Женя был «при полном параде» – в темно-сером, с очень широкими плечами костюме, в ботинках на белой резине и даже с галстуком, поддерживаемым специальной медной с камушком машинкой. Лицо Сдобникова выражало некоторую помесь торжественности, подчеркнутой скромности и с трудом скрываемого лукавства.
– Чего тут прогуливаешься? – протягивая руку, спросил Лапшин. – Нашалил небось и сдаваться пришел?
Евгений улыбнулся сдержанно, давая понять, что такому начальнику, как Лапшин, простительна и не слишком удачная шутка.
– Зачем шалить, – произнес он. – Я свое, Иван Михайлович, отшалил. Пришел вот с докладом.
И, сняв резинку со щегольского, желтой кожи бумажника, он показал Лапшину повестку из военкомата.
– Так, – медленно идя рядом со Сдобниковым, сказал Лапшин. – Прекрасно. Послужишь, значит, трудовому народу. Дело хорошее.
Они остановились у парадной Управления. Мимо, козыряя Лапшину, шли сотрудники из других бригад, из ГАИ и ОРУДа, бежали секретарши, машинистки, весь в поту промчался Окошкин, стрельнув глазами на Ивана Михайловича.
– Я совета у вас хочу попросить, – сказал Сдобников.
– Давай проси.
– Насчет анкеты. Все мне свое прошлое писать, или как? Поскольку судимость снятая, может и не надо те времена ворошить?
– Не знаю, Сдобников, что тебе посоветовать, – хмурясь, ответил Лапшин. – Тут ведь две стороны есть – юридическая, что ли, и моральная, или этическая. Армия – большое дело. Конечно, судимость снята. Это правильно. Можешь и не писать – так тебе, по всей вероятности, ученый юрист скажет. А я бы лично написал правду. И про беспризорничество, и про дальнейшее. Ты теперь человек советский, наш человек, мы тебе на всех участках полностью доверяем…
– Я на флот хочу, – робко перебил Сдобников, – а там отбор особенный. Как бы…
– Как бы? Скрыть собираешься? Плохо, милый, про наших особистов думаешь? Они без анкеты разберутся. И посмотрят на тебя иначе, чем ты того заслуживаешь. Вот, брат, каким путем.
– Значит, все писать?
– Все, всегда, везде. Покуда анкеты не отменят. Ясно?
Он смотрел в лицо Жени, в милое, с ямочками, торжественно-гордое лицо, и вспоминал, сколько сил ушло у него на этого парня, на когда-то несносный его характер, на скандалы, которые он устраивал в ДПЗ, на борьбу с беспризорническими, дикими выходками. И вот нынче они обсуждают вопрос этического характера.
– Э! – вдруг весело вспомнил Лалшин. – У тебя же с флота все началось. Ты, ежели я не ошибаюсь, из приемника в юнги первый раз убежал?
Женя молча улыбался. Он был явно польщен, что Лапшин помнил эти давние времена.
– Ладно, если что затрет, ты мне напиши, я обращусь по форме к тому, к кому надо, напомню твое морское прошлое, – может, уважат нашу с тобой просьбу. А насчет анкеты – правду. Одну, брат, правду. А что переросток ты – тоже не сомневайся. Поработал зато, доказал и людям и себе, что нынче ты полезный гражданин своей Родины. Так?
– Так! – согласился Сдобников, и опять на его лице проступило торжественное и в то же время скромное выражение. – Ну, я извиняюсь, товарищ Лапшин, что задержал вас. И за совет вам спасибо. Большое спасибо. Но еще не откажите на один вопрос ответить.
– Давай валяй, спрашивай.
– Война будет?
– С кем? – после паузы осведомился Иван Михайлович.
– Мы так среди своих говорили, что, конечно, с фашизмом. То есть с гитлеровской Германией.
– Будет, – вздохнув, сказал Лапшин. – Непременно будет, Женя. И твоему поколению эту войну решать.
– Мы не подкачаем, Иван Михайлович, – задумчиво произнес Сдобников. – С нами очень советская власть намучилась, мы это понимаем, и мы можем заверить…
– Ладно, чего там!
Лапшин не любил, когда его «заверяли». Сдобников пожал ему руку и зашагал своим путем, а Иван Михайлович, поднявшись по лестнице, отворил окна в кабинете, вызвал Павлика, совсем загордившегося в последнее время на той почве, что успешно кончил краткосрочные курсы, и велел Павлику распорядиться насчет Дроздова.
– Я не совсем понял ваше приказание, – сказал Павлик.
– А чего ж тут не донимать, – перелистывая дроздовское дело, удивился Лапшин. – Тут и понимать, Павлик, нечего. Мне нужен Дроздов, я с ним беседовать буду.
Изобразив на лице стоическую покорность судьбе, строгий Павлик отправился вызывать Дроздова. Лапшин сделал в своем «псалтыре» некоторые заметки, закурил и усмехнулся своим мыслям. Будущий день представился ему довольно занимательным, во всяком случае такие дела ему еще не доводилось распутывать. Соединившись с Бочковым, он спросил:
– Дворник у тебя, Николай Федорович?
– А как же, – весело ответил Бочков. – Как раз беседуем.
– Скоро вызову, – посулил Лапшин.
Дроздов явился томный, разморенный духотой. Кофейные его зрачки между тем зорко поблескивали, уже давно Лапшин его не вызывал, и Мирон не мог не понимать, что нынче его ждут некоторые сюрпризы. Играя разморенного духотой старого и больного человека, он нынче был в идеальной «спортивной форме», как сам про себя любил выражаться, и не без азартного томления ждал начала крупной игры.
– Ну, как после операции самочувствие? – спросил Лапшин. – Не имеете претензий к нашему хирургу?
– Нормальный ремесленник, – сказал Дроздов. – Работа на три с минусом, не больше. Но вообще-то, конечно, особых претензий я не имею, за тем исключением, что после такой операции по поводу такой язвы, как у меня, надо провести по крайней мере месяц в специальном санатории, а я, как видите, уже вышел на работу.
– Но мы вас долго не тревожили, Дроздов, – сказал Лапшин. – Все дело застопорилось…
– А разве есть дело? – пошутил Мирон. Посмеялся и попросил разрешения курить.
Лапшин подвинул ему пачку папирос, но он ногтем прорезал бандероль на своей коробке дорогих, черных с золотом, и протянул Ивану Михайловичу. Тот улыбнулся. Улыбнулся и Мирон.
– Каждый живет по средствам, – кидая в рот мундштук папиросы жестом фокусника, сказал Дроздов. – В этом смысле на протяжении долгих лет вас все уважают, гражданин начальник.
Еще минут двадцать они играли в кошки-мышки друг с другом. Лапшин начинал было свои «подходцы» и притормаживал, Мирон собирался догадаться и почти догадывался, но Иван Михайлович ловким ходом его вновь уводил в сторону и запутывал следы. Разговор – веселый и непринужденный – велся главным образом вокруг темы «сколько человеку денег надо». Мирон острил, подшучивал и Иван Михайлович. От его непонятных шуточек Дроздов, он же – Полетика, он же – Рука, он же – Дравек, он же – Сосновский, заливался потом, но, сдерживая ужас, не показывая, как напряжен каждый его нерв, тоже пытался смеяться перхающим смехом, от чего все его лицо совсем скукоживалось, а морщины налезали одна на другую.
– А? Так как? Много надо? Очень много? – спрашивал Иван Михайлович. – Что молчите, Дроздов? Тысяч полтораста по среднему расчету в месяц вы имели? Тратили? Или в ценности обернули? В бриллианты там, в золотишко, в серебро? Да что это вы все смеетесь, Дроздов, я не шучу, я имею основания спрашивать. Я с вами сейчас серьезно толкую…
Мирон зашелся в смехе, отмахиваясь руками, отвалился назад и даже дал понять, что послеоперационный шрам у него разболелся от этого веселья, но, полузакрыв глаза, острым взглядом, исподволь следил за Лапшиным неотрывно, за каждым его движением, за каждым взмахом карандаша, который был в руке у Ивана Михайловича…
– С Каравкиным у нас за вашу болезнь все установлено, – совсем негромко, перегибаясь к Мирону, говорил Лапшин. – Тут вы со своими мальчиками работали – с Маркевским и Долбней, да еще Корнюха вас навел на Каравкина – тот самый Корнюха, которого вы много лет не видели. А вот как обстояло дело с Коркиным из артели «Текстильтруд»?
Перестав смеяться на мгновение, Мирон как бы застыл, пораженный, и в негодовании крикнул:
– Коркин? Еще будет Шморкин, потом Поркин? Не в вашей манере, гражданин начальник, брать старого человека на пушку…
И он опять тихохонько засмеялся, вглядываясь в Лапшина острыми зрачками, ища в его лице «слабину», «незнание», «приблизительность». Но большое, с угловатым подбородком, с плотными губами лицо Ивана Михайловича было спокойно, и ничего в этом выражении нельзя было прочитать – ни неуверенности, ни слабости, ни растерянности.
– Каравкина вы взяли на «разгон», – холодно заговорил Лапшин, – и это подтверждено как семьей Каравкина, так и всеми вашими соучастниками – и Маркевским, и Долбней…
– Может быть, и вашим знаменитым Корнюхой? – радостно вскрикнул Мирон. – А, гражданин начальник?
В это мгновение Лапшин отвел глаза от Дроздова, и Дроздов понял, что первый тайм этого странного матча выиграл он. Лапшин отвел глаза, смутился, это значит, что никакого Корнюхи у него нет, а если Корнюхи нет, то остается только один «разгон» у Каравкина, от которого, конечно, он отопрется, потому что Каравкину нет никакого резона Дроздова опознавать. Каравкин – воротила в торговом мире, его сознание потянет других, другие тоже не лыком шиты, они все обратятся к настоящему адвокату, и так как, думал Дроздов, все обвинение построено на пустяках – дело лопнет. Но тут же он почувствовал какую-то слабость в ногах и понял, что она вызвана именем Коркина. Дело с Коркиным они делали вдвоем – он и Корнюха, а Корнюхи нет и быть не может. О Коркине и его махинациях Корнюха знал тоже от Каравкина, но никто третий ничего не знал и знать не мог. И дело с Коркиным, как и многие другие такие же дела, имеют двухлетнюю давность, откуда же…
Он думал напряженно, уже не следя за собой, и вдруг услышал тихие слова Лапшина, которые поразили его и словно перешибли ему дыхание.
– Ордера кончились? – спрашивал Лапшин. – Их у вас было немного – ордеров – не так ли? И пришлось с тихого, спокойного, безопасного метода перейти на шумный «разгон»?
– С какого такого метода? – изображая оскорбленное достоинство, осведомился Дроздов. – С какого такого нового метода? Что вы мне шьете, хотел бы я знать, гражданин начальник?
– А вы и знаете, – перегибаясь к Мирону через стол, сказал Лапшин. – Вы все знаете, но вы пока не хотите говорить. Вы в больнице лежали, а мы пока разматывали ваше дело, мы немало потрудились, и у нас есть результаты. Так как же с ордерами? – впиваясь ледяными, белыми сейчас глазами в потное лицо Дроздова, шепотом крикнул Лапшин, именно крикнул, и именно шепотом. – Кончились? И тот, кто для вас их изготовлял, – исчез. Так? Отвечайте мне быстренько, потому что другие ответят, те, которые все в подробностях знают, и вам от этого станет только хуже, значительно хуже…
– Кто же именно за меня может ответить?
– Вам неизвестно?
Ответить по поводу ордеров мог опять-таки один только Корнюха, но Мирон знал, что Корнюха ответить не мог, так как он гулял, и потому ему показалось, что и второй тайм в этом нынешнем матче он все-таки выиграл. Лапшину было что-то известно вообще, а не в частности, и он, несомненно, пытался получить показания у Мирона, потому что, не имея Корнюхи, больше ни на кого не рассчитывал. И голосом наглым и медленным Мирон произнес:
– Если есть тот, кто может за меня все подробно информировать, то нехай, как говорят украинцы, я не гордый, гражданин начальник. Нехай и про вашего Шмоткина информируют, и про ордера, и про что хотите…
– Значит, никто ничего не знает? – спросил Лапшин деловито и коротко. – Решительно никто и ничего?
– У меня есть дети, – сделав торжественное лицо и слегка приподнявшись на стуле, произнес Дроздов. – Хорошие, честные, симпатичные дети. У детей есть внуки. У меня есть внучек Боречка. Так пусть я так увижу Боречку, как я замешан в этих ордерах и в этих ваших Шморкиных-Торкиных.
– Боречка, вы не путаете? – вдруг зевнув, осведомился Лапшин. – Тут, в вашей автобиографии, сказано – «любимая внучка Елена».
Один тайм пришлось отдать назад, впрочем еще не все было потеряно. Лицо Мирона напряглось, морщины заходили ходуном. Черт его дернул поклясться каким-то несуществующим Бочечкой. Но к старости он делался все более и более суеверным, и ему не хотелось лгать именем существующей Ленки.
– Пойдем дальше, – сказал Лапшин.
– Одну минуточку! – попросил Дроздов.
Ему и тут, наверное, удастся выкрутиться, причем довольно ловко и даже трогательно.
– Пусть эта тайна навеки останется между двумя мужчинами, – сипло и сурово сказал Мирон. – В этом нет, гражданин начальник, бытового разложения. Эта история древняя, как мир. И вообще, первый мой срыв сделался из-за женщины. Я полюбил, но она принадлежала другому…
Как все жулики и воры, Дроздов был сентиментален. Он мог без всякого для себя труда пустить слезу по поводу выдуманной тут же истории. И лексикон у него был довольно-таки изысканный, от грубых слов его корежило.
– Она принадлежала другому, – повторил Мирон, – в то время как я тоже был связан узами брака. Я уважал свою супругу, она прекрасная женщина, вот с такими глазами. Моя покойная мамочка утверждала, что ее взор напоминает ей подстреленную лань. И все-таки та, другая, вся огненная, я ее называл Сирокко, – знаете, есть такой ветер, она…
– Ладно, – сказал Лапшин, – это к делу не относится…
И взглянул на Дроздова пустыми, очень светлыми, все понимающими глазами. Мирон задохнулся, облизал губы. «Знает! – подумал он. – Знает! Имеет доказательства. Корнюху он не взял, но Корнюха на меня написал ему письмо. Корнюха может все, этот мерзавец способен продать лучшего друга и своего наставника, чтобы выслужиться, он, конечно, написал письмо».
Вновь его прошиб пот.
Опять он задохнулся.
И тут уже наверняка проиграл тайм, проиграл глупо и совершенно безнадежно: скрипнуло открытое окно, и Дроздову показалось, что мяукнула кошка. И тотчас же он совсем одурел от страха при одном ничтожнейшем воспоминании. Нынче, когда его вели по коридору Управления к Лапшину, невесть откуда взявшаяся кошечка, маленькая и темная (он не мог сейчас точно вспомнить, была ли она темная или черная), перебежала коридор Управления. Ее кто-то звал – «кис-кис-кис», – уборщица, наверное, и сейчас это «кис-кис-кис» звучало в ушах Мирона погребальным звоном. Как он не обратил внимания сразу на эту кошку, почему он не отступил на три шага и не отплюнулся по правилам? Но, может быть, все-таки она была не черная?
И совершенно непроизвольно для себя Мирон спросил:
– Будьте любезны, гражданин начальник, сделайте одолжение, скажите мне, пожалуйста: кошечка, которая живет в Управлении, случайно, какого цвета? Я пошел в пари с одним гавриком…
– Что? – удивился Лапшин.
И тотчас же глаза его блеснули.
– Кошка-то наша? Мурка? А, черная, – произнес он серьезно. – Совершенно черная.
Дроздов впился в Лапшина глазами, веря и не веря, пугаясь и страстно ненавидя Лапшина за то, что он отгадал его испуг и посмеялся над ним, над самым уязвимым в нем, над его дурацкой суеверностью. «Ладно, Кириллин день еще не кончен, государь», – попытался успокоить себя любимой своей цитатой Мирон, но не успокоил, а, наоборот, вдруг почувствовал, что «Кириллин день» кончен, и не завтра-послезавтра игра будет окончательно проиграна и ответит он полностью за все, целиком, по совокупности.
Что-то заметил он в Лапшине сегодня новое, спокойно-уверенное, даже немножко насмешливо-скучающее. И это – сегодняшнее – больше всего напугало Дроздова. Логически рассуждая, без Корнюхи Лапшин ничего не мог сделать с Мироном, но Иван Михайлович не принадлежал к тем людям, которые были понятны Дроздову.
Старый аферист Сосновский, он же Полетика, он же Дроздов, он же Дравек, много прочитал в своей жизни, было у него время подумать, немало он и повидал всякого, чтобы научиться понимать нехитрую истину: не только очными ставками, перекрестными допросами или предъявлением улик и прочими юридическими тонкостями решается, в конце концов, судьба такой выдающейся личности, как он, Дроздов. Это все больше в книгах и в кинокартинах. А в жизни все и проще и сложнее. Судьба его – старого, прожженного, матерого жулика, афериста экстра-класса, легендарного выдумщика и сочинителя почти гениальных проектов – полностью в руках этого мужиковатого, такого простака с виду и такого умного человека, как ненавистный ему Лапшин. Этому начальнику со значком Почетного чекиста на груди, седоватому, невероятно спокойному, нужно для начала только одно: самому убедиться в виновности подозреваемого. И когда наступает это коротенькое мгновение, передышка после атаки, когда словно остывают светлые глаза Лапшина – тогда конец, точка, тогда деваться больше некуда. Тогда нужно спешить, вовсю спешить с чистосердечным, полным, искреннейшим раскаянием, когда непременно необходимо еще хоть разок поставить Лапшина перед неразрешенной загадкой, заинтересовать его, увлечь и разрешить ему эту загадку, не дожидаясь того, чтобы он сам разрешил. Это, разумеется, ничему не помогало, но давало некоторую надежду на смягчение наказания, на уменьшение срока. И в этих случаях Мирон выдавал. Ему нечего было терять, толковища он не боялся, уголовных от мелочи до самых крупных щук называл «быдлом». Чем меньше этой шушеры будет бродить по свету – тем лучше. В конце концов, он никогда или почти никогда сам не заваливал дело, ни разу он не «спалился» по собственной вине, заваливали его случайности, непредусмотренные, дурацкие, например, нынче его наверняка опознал где-нибудь кто-нибудь из дворников. Ну что ж, это еще нужно доказать, на дворника он не поддастся, на мякине его не проведешь. А вот потерпевший пусть его опознает – это будет интересно: поглядеть на человека, который сам, по своей воле, так, за здорово живешь, сунет голову в петлю…
Э, да что!
И сейчас, стараясь забыть о проклятой черной кошке, спеша поскорее отвести Лапшина от истории с ордерами, он кислым голосом подкинул кое-какие фамилии, назвал два дела о квартирных кражах, одно насчет текстиля. Лапшин вяло улыбнулся, пожал плечами:
– Так они ведь сидят, Дроздов, – что старое ворошить.
– Кто сидит? – недоверчиво осведомился Дроздов.
– Кузьмичев и Шпильман.
– Так там же не они главные, гражданин начальник. Главный – Цветочек.
– Положим, не Цветочек, а Шмыгло, – опять усмехнулся Лапшин. – Разве не так?
Дроздов утомленно опустил взор долу. Он и впрямь измучился. И с вялой тоской подумал, что для такой работы у него вышел возраст, не хватает здоровья, нет сил сопротивляться всесокрушающему натиску этого проклятого Лапшина.
– Водички попить разрешите? – тихо спросил он.
– Пожалуйста! – радушно ответил Лапшин.
И покуда Дроздов пил, Иван Михайлович нажал кнопку звонка. Все шло по заранее подготовленному расписанию, гладко, спокойно, разумно, продуманно. И невероятно, дико, чудовищно неожиданно для Дроздова.
Дверь неслышно отворилась, на пороге возник Василий Никандрович Окошкин, прижался к притолоке и сказал кому-то невидимому:
– Проходите!
Мирон издал горлом короткий, хрюкающий звук, стакан в его руке заплясал, золотисто-кофейные зрачки померкли, но тотчас же опять засветились, чтобы неожиданно исчезнуть под припухшими, темными веками. А Лапшин спокойно переводил взгляд с него на Корнюху, с Корнюхи на Мирона, и Вася Окошкин тоже поглядывал как Лапшин, с той только разницей, что Иван Михайлович совершенно не скрывал своего интереса к происходящему, а Окошкин соблюдал себя – он ведь уже не был мальчиком в сыске и не мог позволять себе разные не сдержанные железной волей проявления обывательского любопытства.
Иван Михайлович кивнул Корнюхе на стул, тот присел, осторожно шмыгнув носом. Белый, оплывший от постоянного сна – он все время спал в камере, спал сидя, стоя, спал всегда, – весь размякший, ни к какому сопротивлению больше не способный, неспособный даже к страху предстоящего конца, Корнюха равнодушно и спокойно стал повествовать о том, как по приказанию Дроздова, согласно тексту, им предложенному, Корнюхин старший брат Кузьма – большой в этом деле искусник – изготовил печатные ордера на право производства обысков и арестов. Ордера эти сделаны были не очень хорошо, в малом количестве, но имели круглую печать и номер, как полагается. Дроздов выплатил наличными Кузьме десять тысяч рублей…
Тут Корнюха задумался, как бы потеряв нить, за которую держался.
– Дальше что было?
– Дальше погостили мы у одного зубного техника в Парголове, – сказал Корнюха. – Техник дал адрес председателя артели «Текстильтруд» товарища Коркина и сказал нам, что именно у Коркина на канале Грибоедова в детской комнате под паркетом – третья паркетина от окна – сложены деньги на полмиллиона, не меньше. Гражданин Дроздов заполнил ордер на производство обыска и ареста, надел гимнастерку военного образца, галифе, сапожки желтые взял в комиссионке на Герцена, и мы прибыли по назначенному адресу. Я нашел дворника, и гражданин Дроздов с этим дворником в качестве понятого зашел в квартиру гражданина Коркина. Я находился на стреме, но дело было безопасное, и потому я у киоска пил жигулевское пиво… Гражданин Дроздов вынул из этого Коркина, как он мне сбрехал, не пятьсот тысяч, а всего двести, и я получил только двадцать.
– Только? – покачал головой Лапшин.
– Ага, только.
– Все?
– Потом гражданин Дроздов уехали отдохнуть в Симеиз.
– Так это было, Дроздов? – спросил Лапшин.
– Вам виднее! – сипло ответил Мирон.
Иван Михайлович нажал кнопку один раз. Опять Корнюха замигал глазами, словно засыпая. Мирон попросил разрешения взять газету «в виде веера, – сказал он, – немножко обмахнуться от этой жарищи».
– Обмахнитесь! – ответил Лапшин.
Бочков, загорелый дочерна (он был из тех ленинградцев, которые все свободное летнее время проводят на маленьком пляже возле Петропавловской крепости), в рубашке апаш, ни дать ни взять никакой не сыщик, а нападающий удачливой сборной футбольной команды, привел степенного, в годах дворника с канала Грибоедова, дом 9-а.
Дворник, неожиданно для Лапшина, Бочкова и Окошкина, учтиво поздоровался за руку сначала с Дроздовым, потом с Корнюхой, потом с остальными. Впрочем, это могло и помочь нормальному течению дальнейших событий…
Бочков сразу же ушел, Окошкин присел на диван. Дворник двумя руками разгладил генеральскую, на два конца, сивую, холеную бороду, сел, закурил предложенную папиросу. С удовольствием даже опознал Дроздова, назвав его «из органов, как же!».
Беседа завязалась спокойная, неторопливая, солидная. Дворник все точно помнил. К Дроздову он оборачивался уважительно, не понимая, разумеется, сути дела, хвалил его за вежливое обращение с этим «жуком Коркиным, на которого пробы негде ставить». Деньги, верно, были изъяты из большой банки жестяной, которая находилась в тайнике под паркетом. Тут они были и пересчитаны. И «в акурат» товарищ из органов их в чемоданчик сложил, а он – дворник Паршин Илья Петрович – «к сему» расписался на бланке. «Все форменно, честь по чести». Насчет Корнюхи он показал тоже хорошо, что «они сейчас, верно, больные, потому что видоизмененные, но нахальства с их стороны и тогда не было, они охраняли квартиру Коркина снаружи, вот как обстояло дело».
Дроздов слушал молча. Глаза его постепенно раскрылись, заблестели желтым светом. Меж морщин пробежала одна улыбочка, другая, потом улыбки пошли подряд. И наконец он сказал, сложив руки на впалом животе, поигрывая пальцами, вытягивая вперед тонкую шею:
– Оно все так, гражданин начальник, и прекрасно все для вас складывается, но за малым дело: за потерпевшим. Вот когда он меня опознает, когда, более того, он сознается в том, что вышеуказанные огромнейшие деньги действительно хранил в тайнике, тогда мое дело битое. А так как ничего подобного никогда не было и вы мне шьете чистую липу, вместе с неизвестным мне этим вот бандитом и подкупленным вами дворником, то я заявляю протест, требую немедленно прокурора, которому надеюсь подчеркнуть все, что о вас думаю. Я старый человек с погибшей жизнью, но издеваться над собой никому никогда не позволю. И делать на моей судьбе карьеру я тоже никому не разрешу…
Ушел он с поднятой головой.
Оставшись один, Лапшин позвонил Бочкову и попросил его зайти. Николай Федорович с порога вгляделся в Лапшина и посоветовал:
– Поехали бы вы, товарищ начальник, на острова, что ли. Нехорошо выглядите. Я и раньше смотрел на вас, ей-богу, отдохните денечек-другой.
Против ожидания Лапшин согласился. Сидел он сбычившись, взгляд у него был напряженный.
– Душно действительно здорово. Я и вправду нынче махну на травку, отдышусь. Ну а ты, Николай Федорович…
– «Текстильтруд», – подхватил Бочков. – Понимаю, Иван Михайлович. У меня уже там ребятки давно разбираются…
– Сам займись. Дело богатое, – сказал Лапшин, – и по твоей натуре…
Глаза у него засмеялись.
– Ты парень такой – деньгу любишь!
– Я большие тысячи люблю, – живо и весело подхватил Бочков. – Мне, Иван Михайлович, лестно с миллионами копошиться. И, знаете, ведь что замечательно в нашей жизни. – Он присел на подлокотник кресла. – Знаете, что? Вот крадет такой Коркин, ну и что? Какая ему надобность, кроме страха? Ну, запрется в комнате, покушает там, допустим… – Бочков помедлил, ему не шло в голову, что особенное может «покушать» Коркин, потом сообразил: – Покушает, допустим, анчоусы в соусе, торт крем-брюле, котлеты четыре порции, а дальше? Для чего он живет? Какой у него при этом смысл? Ну, еще напьется…
Лапшин молчал.
А Бочков вдруг неожиданно, с тоской в голосе, со злобой и даже с отчаянием сказал:
– Не воровали бы, не безобразничали, господи твоя воля, какая бы жизнь у нас открылась, а, Иван Михайлович? Это ж уму непостижимо! Комбинаторы чертовы!
Уходя, он вдруг сконфузился и попросил у Лапшина до получки тридцатку. Иван Михайлович, чему-то улыбаясь, вынул из кармана деньги, а Бочков, краснея, подробно объяснил, что с получкой нынче получилось неладно, он купил Галине ко дню рождения велосипед и немножко неподрассчитал ресурсы.
– Я могу еще дать, – сказал Лапшин, – у меня во! Четыреста рублей полных. Не веришь – посчитай.
Но Николай Федорович не взял.
Лапшин плотно притворил за ним дверь и позвонил Катерине Васильевне.
– Тут вот какое дело, – робея, сказал он, – я что-то приустал нынче малость. Может, махнем к морю? Душно, и солнце припекает. Как у вас в отношении времени?
Катя сказала, что времени у нее сколько угодно и что она «с громадным удовольствием».
– Ну, значит, заметано, – счастливым голосом ответил Иван Михайлович. – Пообедаем там в ресторане, все честь по чести. Ждите, я за вами заеду.
Кадникова он постеснялся вызывать и, побрившись у себя в кабинете, натянул белую, свежую гимнастерку, почистил сапоги и вышел из Управления под пекучее, совсем не ленинградское солнце.
В августе
Давай поехали!
В часовне шел урок.
Никанор Никитич Головин еженедельно по вторникам и пятницам от пяти до семи преподавал всем желающим работникам автобазы теорию автомобильного дела, дабы впоследствии нынешние мойщицы, уборщицы, вахтеры и счетоводы с машинистками могли сами сесть за руль автомобиля. Этот маленький отряд своих учеников Никанор Никитич не очень жаловал за «текучесть» состава и за «верхоглядство», как он выражался. Современный автомобиль представлялся эталоном сконденсированного человеческого гения, старый инженер никогда не уставал восхищаться остроумной простотой устройства того или иного узла автомобильной конструкции, не уставал находить особую, «неповторимую прелесть» в самых разных системах двигателей, в том, как организованы приборы системы смазки, даже процесс карбюрации вызывал в нем чувство гордости за человека, который «такую штуку, черт дери, выдумал».
С совершенно особым жаром рассказывал он разные невеселые притчи, связанные с историей автомобиля, с тем, как бесславно, в глубокой нищете, никем не признанные, гибли талантливейшие конструкторы, не пожелавшие пойти в услужение к автомобильным магнатам. Вся автобаза со слов Никанора Никитича знала печальную повесть о жизни и смерти инженера, построившего прекрасный автомобиль «Линкольн». Несколько таких машин с хромированными собаками на радиаторах порою проносились по Ленинграду, и странно было думать, что человек, построивший этот прекрасный автомобиль, умер в глубокой нищете и гроб его везли на кладбище ребристые, нарочно очень плохие лошади, чтобы все видели, как не надо вступать в конфликт с сильными мира сего, особливо с такими, как Генри Форд.
И сейчас, когда Жмакин вошел в часовню, Никанор Никитич тоже рассказывал о самоубийстве талантливого итальянского конструктора моторов и о том, что секрет этого, по всей вероятности замечательного мотора погиб вместе с изобретателем. Вахтер дядя Веня, всегда сердитая, с поджатыми губами уборщица Еля, мойщицы, счетовод Анна Анфилопиевна, которую звали «Антилоповна», слушали пригорюнившись, потом поднаторевший на международных вопросах кладовщик Лошадный подытожил:
– Я так считаю, товарищ Головин, что в капиталистических странах развитие различных видов транспорта происходит хаотично, на основе конкуренции крупнейших промышленных и транспортных акул. Исключительно в погоне за прибылями и в страхе перед кризисами…
– Да, да, пожалуй, так! – торопливо согласился Головин. Он всегда очень быстро соглашался с Лошадным…
Жмакин немного еще послушал, потом пробрался к себе в алтарь, где теперь стояла его койка, немножко подремал, с полчасика, не больше, проснувшись, взглянул на ходики и опрометью кинулся во двор к Геннадию, который его уже ждал. Дежурный техник, тот самый давний неприятель Жмакина, который всегда расхаживал в желтой кожаной куртке – фамилия его была Цыплухин, – велел взять «девяносто шестьдесят два».
– Так она же бросовая машина! – возразил Геннадий. – На ней нормально заниматься совсем невозможно.
– Вам же ломать? – сказал Цыплухин. – Или вы хотите ломать новую?
И закусил лошадиными зубами свежую папиросу.
– Ладно, пойдем! – сказал Жмакин. – Не расходуй на него свои нервы, Геннадий. Со временем разберемся.
Вдвоем, как близкие друзья, они сели в кабину – Жмакин за руль, Геннадий сбоку. Вечер был тихий, ясный, теплый. Наморщив нос, Геннадий заговорил точно таким же голосом, каким говорил его инструктор:
– Итак, приступим! Прежде всего ознакомимся с рабочим местом водителя. Вот ваше рабочее место.
– Это где я задом сижу? – осведомился Жмакин, немножко поерзав на сиденье.
– Ага. Перед вами рулевое колесо – штурвал, в центре кнопка сигнала. Под правой рукой вы имеете рычаг коробки передач, слева рычаг ручного тормоза. Под ногами у вас слева педаль механизма сцепления, а правее рулевого колеса педаль ножного тормоза. Дальше вы имеете…
– Ладно, – сказал Жмакин, – теоретически я на все четыре ноги подкованный. Давай поехали.
– Чего, чего? – спросил Гена.
– Поехали, говорю, – повторил Жмакин. – У меня время ограниченное, я через две недели должен права иметь. И так, брат, полжизни псу под хвост ушло.
Геннадий немножко потянул носом. Тон у него стал жалобный.
– Ты погоди, Алеха, – попросил он. – Тут сначала автоматизма нужно добиться. Это не шуточки. Отработать нужно рабочее положение рычагов, чтобы не глядя на них…
– А ты не сомневайся! – жестко произнес Жмакин. – Я такой человек, что, если захочу, через месяц самолетом управлять буду. Во мне «горит огонь желаний», – сурово процитировал он. – Ты давай, Гена, не мешай, и порядок. Ясно? Короче, поехали!
Но Гена заупрямился.
Жалостным голосом он воззвал к жмакинской сознательности и рассказал, что машина дана Геннадию под его личную ответственность. А он так нынче в штрафниках, загоняет машины, потому что попал «в историю». И даже самую историю он хотел рассказать, но не вышло.
– У каждого, брат, своя история, – перебил Жмакин, – некогда нам нынче истории рассказывать.
– Тогда повторяй! – сурово велел Гена. – Что мы имеем перед собой?
– Мы имеем штурвал, – стараясь сдержать раздражение, сказал Жмакин. – Имеем два тормоза – ручной и ножной, имеем стартер – вот он – пупка торчит, имеем конус, иначе сцепление, имеем акселератор и рычаг скоростей – вот оно – яблочко. Так?
– А передний щиток?
Жмакин рассказал о приборах на переднем щитке. Геннадий два раза его поправил – он стерпел, хотя поправки были пустяковые. К Геннадию он не поворачивался – глядел прямо перед собой, в смотровое стекло. Геннадий велел ему плавно выжать конус и поставить первую скорость, потом вторую, наконец четвертую.
– Может, поедем? – спросил Жмакин.
– Быстрый ты слишком! – сказал Геннадий. – Меня, знаешь, сколько долбили теоретически, пока я до практики дошел? Итак, слушай, в чем заключается фактор сцепления.
Алексей смотрел перед собой и не слушал: вот по двору, виляя бедрами, прошла мойщица Люба. Вот вернулся из часовни к себе вахтер дядя Веня. Вот пробежала сердитая Еля, размахивая локотками и стуча каблучками.
Геннадий раскраснелся, с каждой минутой он говорил все увлеченнее, потом заставил Жмакина выйти из кабины и поднять капот.
– Теперь гляди сюда со всем пристальным вниманием, – приказывал он, – наклонись, не стесняйся спинку погнуть. Шоферское дело – знаешь какое? Которые себя сильно жалеют, могут попечение оставить – тогда шоферские права не про них.
Из конторки второго корпуса вышел техник Цыплухин и позвал Геннадия. Жмакин подумал, вздохнул, сел в кабину, захлопнул дверцу, поднял опущенное стекло и, сжав зубы, включил зажигание. Потом нажал стартер, выжал конус, поставил скорость и дал газу. Грузовик, как жаба, прыгнул вперед. Раздувая ноздри, Жмакин на первой скорости стал разворачивать машину. На секунду он увидел Генку, бегущего навстречу, потом Генка пропал и навстречу побежала каменная стена гаража. Жмакин сильно вертел рулевую баранку, но стены были везде. Тогда он рванул тормоз. Машина остановилась в двух шагах от стены, задрав радиатор, – передними колесами Жмакин успел въехать на кучу щебня.
Он заглушил мотор, вздохнул и закурил.
Через секунду к машине подбежал Геннадий. Пот катился с него градом, на лице была ярость. Жмакин запер кабину изнутри и сказал Гене через стекло, что машина побежала сама.
– Врешь нахально, – крикнул Геннадий и затарабанил в стекло кулаком.
– Успокойтесь, – сказал Жмакин.
Гена походил вокруг машины, покурил.
– Ну, теперь заходи, – сказал Жмакин, – только не верещать. Подумаешь, делов.
– Поставь задний ход, – сухо сказал Гена. – Теперь пять. Да не рви конус, черт паршивый.
Жмакин схватился за руль.
– Пусти руль, – сказал Геннадий.
Машина пятилась на кирпичный брандмауэр.
– Разобьешь машину, – в отчаянии закричал Геннадий, – пусти руль.
– Не пущу, – сказал Жмакин, – а ты пусти. Иначе разобью.
Гена со стоном отпустил. Жмакин быстро вывернул руль и схватился за тормоз. Машина остановилась.
– Ну, ученичок, – сказал Геннадий, – с ума сойти можно.
– То ли еще бывает, – заметил Жмакин. – Давай покурим.
Они закурили, косясь друг на друга. Жмакин засмеялся.
– Чего ты?
– Потеха, ей-богу, – сказал Жмакин.
Докурив, он велел Геннадию вылезать из машины.
– Новости, – сказал тот.
– Вот тебе и новости, – сказал Жмакин, – без вас обучимся. Вытряхивайся.
Но Геннадий не вылез. Жмакин вновь завел машину и поехал крутить по двору. Машина уже слушалась его, он сидел торжествующий, но бледный. Когда Гена хватался за руль, он бил его по руке и говорил: «Не лапай, не купишь». Крутили долго. Жмакин ездил между зданиями гаражей, объезжал кладбище грузовиков, пятился, разворачивался, тормозил, и под конец так ловко, что Геннадий выразил ему одобрение, после чего Жмакин немедленно высадил его и начал ездить один.
Возле второго корпуса собрались дежурные мойщицы, дядя Веня, Цыплухин, даже Никанор Никитич пришел из часовни посмотреть на упражнения своего жильца. Уже совсем стемнело, но во дворе автобазы было светло от больших фонарей на столбах. Рыча, завывая на больших оборотах, кренясь, с воем вылетала то справа второго корпуса, то слева бешеная машина Жмакина, делала восьмерки, пятилась, неожиданно подскакивала, кренилась на крутом, невозможном вираже, вновь исчезала за третьим корпусом, за мастерской. Геннадий грыз ногти, высоконькая Люба интересничала:
– Ах, не могу, ах, жалко мальчика, ах, разобьется на котлетку…
Никанор Никитич ласково улыбался, Цыплухин грыз мундштук папиросы.
– Ничего веселого, товарищ Головин, в этом деле я не вижу, – сказал техник. – Разобьет машину вдребезги, кто ответчик?
– Ей-ей, не разобьет! – ответил Никанор Никитич. – Он храбр, но осторожен и скоро будет отличным водителем. Кстати, мой опыт говорит мне, что немало аварий происходит, кстати, из-за трусости.
Было десять минут третьего пополуночи, когда в баке грузовика кончился бензин. Жмакин сидел за рулем белый, потный. Геннадий сел рядом, оба закурили.
– Ты меня не матери, – сказал Алексей кротко. – Я тебе верно толкую – нужно мне позарез скорее в люди выбираться. И я тебя предупреждаю, Гена, завтра на всю ночь заряжу практиковаться. Теперь будешь со мной сидеть, отрабатывать станем детально, чего я неправильно делаю. Согласен?
Геннадий ничего не ответил, только вздохнул.
Свадьба
Воскресным вечером в Петергофе праздновали свадьбу Побужинского и Нюры. Вся лапшинская бригада поехала на пароходике, харчи и выпивку повезли с собой в двух больших чемоданах. В кошелках была посуда, в двух портфелях по скатерти. Орлы-сыщики набрились до блеска и лоска, Криничный приоделся в новый шевиотовый штатский костюм, «для смеху» надел даже шляпу брата – панаму с лентой. Окошкинская Лариса почему-то «не смогла» быть, и поэтому Вася сначала пребывал в несколько меланхолическом состоянии. Из «посторонних» были званы Ханин и Александр Петрович Антропов с Лизаветой. Попозже, когда веселье было в полном разгаре, на машине приехал Прокофий Петрович Баландин, привез две бутылки шампанского и баян, на котором мастерски играл.
Распоряжалась всем и «командовала парадом», по выражению Криничного, Галя Бочкова. Она придумала и Петергоф, и печеную картошку, и самовар, который доставлен был в багажнике баландинской машины.
Пели, ели и пили на откосе, на опушке рощи. Далеко впереди серело подернутое рябью море. Было прохладно, посвистывал ветер. Картошку ели руками, потерялась соль, всем было легко и просто, один строгий Павлик хмурился.
– Ты чего? – спросил у него Лапшин. – Нездоров, что ли?
Павлик вяло улыбнулся, закопал в землю окурок и ответил, что здоров, но не одобряет этого брака.
– Это – как? – удивился Лапшин.
– Очень просто: она – официантка, Побужинский – юрист, человек с образованием.
Иван Михайлович внимательно взглянул на Павлика – не шутит ли тот. Но Павлик не умел шутить. И на траве он не умел сидеть. И веселиться, пожалуй, не умел.
– Так, так, – сказал Лапшин. – Это ты сам придумал или у кого выучился?
– Чему?
– Да вот – рассуждениям…
– Горько! – закричал Баландин за спиной Лапшина. – Горько, молодые!
Павлик брезгливо сморщился и сказал задумчиво:
– Предполагаю, впоследствии против таких браков, возможно, будут возражать коллективно. Я, например, не желаю иметь в своей среде неинтеллигентных людей. Образовательный ценз…
– Ладно, все! – внезапно побурев, сказал Лапшин. – Ясно.
Поднялся и пошел к костру, где шумели Бочков с Криничным, наскакивая за какую-то провинность на Ханина. Молодая – Анюта, теперь уже Побужинская, – торжественно разливала чай из ведерного самовара. На Анюте было розовое в цветочках платье и в волосах розовый бант, развязавшиеся концы которого трепал ветер с залива. Виктор Побужинский, сидя возле жены на корточках, никак не мог завязать ленту и что-то при этом шептал Анюте, а она закидывала голову и хохотала…
– Вы чего на Ханина нажимаете? – спросил Лапшин, стараясь побороть неприятное чувство, которое вызвал в нем строгий Павлик. – Чем наш Ханин провинился?
– Да вот, дескать, мало я энергичный, – блестя очками, ответил Ханин. – Ваш же Занадворов калечит мне книгу, а я малоэнергичный. Ладно, черт вас всех подери, напишу настоящий роман, тогда будете знать…
Иван Михайлович молча, тяжелым взглядом посмотрел на Ханина и взял у Анюты чашку с чаем. Рядом Прокофий Петрович с Галей Бочковой все пристраивались запеть в два голоса, но что-то у них не ладилось, и Галя сердилась, а Баландин оправдывался гудящим басом.
– Ты чего на меня волком глядишь? – перебираясь к Лапшину поближе со своей бутылкой кахетинского, спросил Ханин.
– Не люблю разговоры о романе, да еще настоящем, который ты, черт нас всех подери, напишешь.
– Почему? – испуганно и быстро спросил Ханин.
– Ничего ты не напишешь, Давид Львович! Люди, которые делают все «пока», а «настоящее» откладывают «на потом», ничем не кончают. Не обижайся. Впрочем, это разговор не свадебный.
– Почему? – испуганно и быстро спросил Ханин. – Ты, наверное, Иван Михайлович, прав. Я не состоялся. Что ж. На том, как говорится, простите.
– Не прощу! – твердо глядя в глаза Ханину, сказал Лапшин. – За тобой, кроме всего прочего, должок, Давид Львович.
– Это какой же?
Лапшин немного помолчал, потом залпом выпил чай и произнес с беспощадной и гневной силой в голосе:
– Жизнь Толи Грибкова. Одно время ты это хорошо понимал и даже теории по этому поводу разводил. А нынче во всем Занадворов виноват. Словно нет сильнее зверя во всем свете, чем этот нормальный перестраховщик и бюрократ. Ты в ЦК был?
Ханин отвернулся от Лапшина и молча смотрел на серый залив.
– Тоже посторонним оказался, – со спокойной злобой сказал Лапшин. – Посторонним в том смысле, в котором Толя Грибков это говорил. Книжечка уж давно выйти могла, да где там! То у тебя нервы, то различные переживания, то ты свои записные книжки на машинке печатаешь. Нам не твои записные книжки нужны, товарищ Ханин, а жизнеописание Грибкова, понятно? И если ты от этого дела так легко отказался, наплевал и забыл, то мы сами, своими силами составим про него книжку…
– Составить книжку нельзя, – опять блеснув на Лапшина глазами, обернулся к нему Ханин. – Книжки пишут. А что до моих настроений, или записок, или еще чего-либо в этом смысле, то все оно касается только меня и никого больше.
– Врешь! – тихо перебил Лапшин. – Толя Грибков нас касается. Ты взялся про него написать, было это?
– Послушай, Иван Михайлович, что за тон? – спросил Ханин. – Ты, кажется, на меня решил покричать?
– А, да иди ты к черту с тоном! – сказал Лапшин. – Когда речь идет о деле, то незачем к тонам прислушиваться. Я о работе с тобой толкую, а не хочешь – твое дело. Обижайся на Занадворова, обидеться – это самая легкая позиция. Еще, обидевшись, коньяку надраться и на диван лечь. От вас, от этих вот обидевшихся, да вялых, да сложных, да нервных, беды не оберешься. Впрочем, дело твое!
Он опять поднялся и, испытывая смутное чувство недовольства самим собой и всем своим нынешним поведением, подсел к Антропову и к смуглой Лизавете, открыл бутылку вина и осведомился:
– Не продрогли на ветру?
Баландин наконец договорился с Галей, и она запела:
Там, вдали за рекой, загорались огни, В небе ясном заря догорала, Сотня юных бойцов из буденновских войск На разведку в поля поскакала…– Баландин наш – сам бывший конник, – сказал Лапшин, – ты ведь его знаешь, Александр Петрович?
– Немного знаю, – вздохнув, ответил Антропов.
И здесь разговор не вязался.
– Может, выпьем? – спросил Иван Михайлович. – Все-таки, знаете, свадьба…
Лизавета выпила, съела пирожное, запела вместе с Галей Бочковой. Голос у нее был сильный, глубокий, глаза блестели, и вся она, гибкая, молодая, в ярком платье, вдруг оказалась на виду у всех, сразу всем понравилась; взмахнув платочком, прошлась, вроде бы танцуя, потом весело захохотала и выбрала Прокофия Петровича себе кавалером. Он грузно поднялся, обошел Лизавету кругом, как бы дивясь на нее, потом повел плечами, сделался моложе себя лет на двадцать и так перебрал лады баяна, что все поднялись смотреть, как «наподдаст» сейчас сам «старик» Прокофий Петрович Баландин. Он, не заставив себя просить, действительно «наподдал», пошел мелким перебором – сам себе музыкант, потом ударил еще дробнее каблучками, пошел коленцами, присядкой, охая и повизгивая лешачьим голосом вокруг гордой, уходящей, смеющейся Лизаветы, поднял Галю Бочкову, поманил ее к Побужинскому, молодую Анюту вытащил из-за самовара к Окошкину, свистнул Соловьем-разбойником, гикнул старым бесом и, присев на пень, остался только оркестром, тогда как все, кроме Антропова, Лапшина и Ханина, плясали во всю мочь.
Уже совсем смерклось, костер ярко пылал на ветру, шофер Баландина дважды ездил куда-то к станции за дровами. Пришел милиционер, поинтересовался, кто тут гуляет; Вася Окошкин, при галстуке, в кепочке, не без сладострастного удовольствия наврал милиционеру, что Прокофий Петрович – директор треста «Эскимо», а остальные присутствующие – сотрудники данного треста. Милиционер попросил особенно не шуметь «ввиду дачников» и удалился. Вспомнили про патефон с пластинками, еще покричали «горько», а погодя, забыв про Антропова, решили женить холостого Криничного на Лизавете, чтобы в лапшинской бригаде был «полный порядок». Но тут вышла заминка из-за появившегося близ костра Александра Петровича и еще из-за того, что Ханин издали посоветовал сначала женить Лапшина, а потом «наводить порядок в бригаде».
Назад ехали в грузовом автофургоне, «организованном» старанием Васи Окошкина. Лизавету, Аню, Галю Бочкову и Побужинского посадили в легковую Баландина. Антропов насвистывал в темном кузове грузовика, Ханин раздраженно курил и отпускал язвительные шуточки по адресу Лапшина. Иван Михайлович отмалчивался.
– В общем, ты, как всегда, Иван Михайлович, прав, – сказал ему Ханин, когда они вошли в комнату. – Но, понимаешь ли… Не все в жизни так просто…
– И это я тоже не раз слышал, – спокойно ответил Лапшин. – Не раз, и не два, и не три. Много, очень много раз слышал. Только ведь это «не так просто» ваше ничего решительно, Давид Львович, не объясняет. Это отговорка лежебоков, слюнтяев и ленивых людей. В тебе всякого скопилось понемножку. Постарайся, вытряси! И большой книжкой не грозись, в твои годы Пушкин уже давно помер и Чехов помирал…
– Однако!
– Никакое, брат, не однако! Давай спать ложиться, поздно!
Патрикеевна из ниши спросила, как погуляли и в чем была молодая. Ханин ей подробно ответил, потом потянулся и пожаловался:
– Знаешь, еще что глупо, Иван Михайлович? Глупо то, что я не могу на тебя обидеться. Ведь ты, в сущности, мне невероятные вещи нынче наговорил. А я – смотри, не обиделся.
– Зря не обиделся. Пора обидеться, обиделся бы, авось за ум бы взялся, – угрюмо сказал Лапшин. – Вот сам посуди, Давид Львович, хорошо это? Просил я тебя несколько раз – потолкуй в редакции насчет фельетона этого про Демьянова. Ведь человеку жизнь поломали, оклеветали, Давид, человека, а за что? Бухнули с бухты-барахты, а он ни сном ни духом. Почему опровержение не дать?
Ханин зевнул:
– Ты меня спрашиваешь или редактора?
– Через твое посредничество – редактора.
– А он со мной, Иван Михайлович, говорить не желает. Я нештатный. А у него честь мундира. Тещу-то побили в тот раз.
– Но при чем тут Демьянов? Не мог он вламываться в квартиру, не зная, что там бьют тещу?
– Не знаю, не знаю, – устало сказал Ханин. – Я вот равнодушный, я вот посторонний, поезжай – сам хлебни нашего Конона Марковича. Он тебе разъяснит.
– Да ты с ним говорил?
– Дважды. И дважды он мне разъяснял, что опровержение марает имя газеты, и притом навечно. Что же касается до твоего Демьянова, то, проходя в это время по Озерному переулку, он обязан был слышать крики тещи.
– Но откуда ваш фельетонист взял, что Демьянов шел «под градусом»?
– А там не написано, что «под градусом». Там написано, Иван Михайлович, что «возможно, зашел выпить и, под градусом, напевал что-то увеселительное». Вот как там сказано. А это допустимая вольность художника…
Они оба замолчали. В нише ровно посапывала Патрикеевна – спала. В передней упала Димкина кроватка – проводив Лизавету, пришел Антропов.
– Ты отрицаешь формулировку – «не все в жизни просто», – холодным голосом в темноте заговорил Ханин, – так? Ты считаешь, что все в силах и в возможностях человеческих. Ан, не все! И далеко не все. Настолько, что я бы на твоем месте, Иван Михайлович, прекратил хоть на время этот цикл лекций. Если все просто и все в силах человеческих, то какого черта ты не женишься на Катерине Васильевне свет-Балашовой? За какие грехи ты ее мучаешь и сам мучаешься? Что у вас происходит? Ни она, ни ты толком ничего ответить не можете. Ты ей чего-то не прощаешь или в чем-то подозреваешь, она не может понять, чем она тебе неприятна, и все это вместе у тебя называется «просто». Да?
– Просто! – угрюмо ответил Лапшин.
– Так в чем же дело?
– Робею, Давид Львович.
– Но ведь глупо же!
– Наверное, глупо. Впрочем, давай-ка спать.
– То есть не лезь в мою личную жизнь?
Лапшин не ответил.
Утром Баландин ходил по своему огромному кабинету и сердито говорил Лапшину:
– Они и с нами переговоры вели, и одновременно с гитлеровцами. Идея знаешь какая? Включить в число подлежащих разделу стран Китай и Советский Союз. Это я тебе точно докладываю…
Лицо у Прокофия Петровича было растерянное.
– Германия и Япония должны ударить по нас с обеих сторон, а когда все зальются кровью – тогда США, Англия и Франция скомандуют, какой дальше будет земной грешный шарик. Ничего не поделаешь. Подписали пакт с немцами, войну оттянем. Я лично так думаю…
Часов в одиннадцать, когда Лапшин допрашивал Мамалыгу-Зубцова, позвонила Балашова, что простудилась на выездном спектакле, лежит одна и пропадает, как «собака». Даже чаю некому подогреть. Иван Михайлович засуетился, заспешил, рабочее время целиком подчинило его себе. В двенадцать двадцать сам Конон Маркович обещал его принять по «демьяновскому вопросу», потом вызван был с величайшим трудом отысканный Бочковым знакомый Коркина, который присутствовал при изъятии Мироном Дроздовым ценностей из-под паркета в коркинской детской. Дроздовское дело почти с каждым днем расширялось, и уже не аферист Дроздов-Полетика-Сосновский со своими поддужными представлял для Лапшина основной интерес, а те, кого грабила банда, их «неправедное богатство», источники обогащения – все то, что азартно разгребал нынче неутомимый Николай Федорович Бочков.
И поэтому, сказав Катерине Васильевне, что он освободится только к вечеру – не раньше, и попросив по телефону Антропова «наладить одной старинной знакомой медпомощь, поскольку она одинока», Иван Михайлович вышел из Управления.
Через полчаса он поднялся на третий этаж, прочитал табличку: «Секретариат», обдернул гимнастерку и вошел в светлую, скучную, высокую комнату, где делала вид, что занята общеполезным делом, немолодая секретарша. Осведомившись, к кому Лапшин и зачем, и выяснив, что «по личному вопросу и имеется договоренность», она отплыла в комнату, дверь которой была обита черной клеенкой, очевидно для звуконепроницаемости. На эту звуконепроницаемость Иван Михайлович слегка подивился – чего, в сущности, там могло происходить особо секретного, за дверью редактора вечерней газеты, какие такие особенно оперативные совещания?
Секретарша наконец выплыла, попросив подождать. Стрелка круглых стенных часов не спеша миновала половину первого. Дважды зевнула в кружевной платочек секретарша. Молчали телефоны, никто не проносился мимо, шурша листами рукописей, не было видно ни метранпажей, ни наборщиков, ни репортеров – всего того, о чем Лапшин читал в книгах. Зато услышал Иван Михайлович странную фразу:
– Конон Маркович, – сказала секретарша в телефонную трубку, – просил вас срочно сделать материал главного инженера. Да, это пойдет от имени главного инженера. Завтра на вторую полосу. Встанет в центр второй полосы. С главным инженером Конон Маркович уже беседовал, возражений нет, но согласовать надо будет. Вот так…
Бережно она положила трубку, и опять потекло время.
Без четверти час Лапшин проверил – не забыли ли про него. Нет, оказалось, не забыли, но Конон Маркович еще занят.
Иван Михайлович утер пот с лица и, сдерживаясь, подумал, что не он нужен Конону, а Конон ему – потому пресловутый Конон так себя и ведет. Однако не прошло и десяти минут, как зазвонил звонок, и Лапшина с холодной вежливостью попросили пройти в кабинет.
Добродушного вида, круглолицый, с ямочками и на щеке и на подбородке, Конон Маркович встретил Лапшина как старого и доброго друга, не объясняя причин, но очень живо и даже искренне извинился за опоздание, усадил в кожаное кресло перед своим столом, протянул папиросы и приготовился слушать. Что было потом, Лапшин впоследствии представлял себе неясно. То ли вдруг сработало напряжение всего этого трудного времени, то ли он сам оказался не на высоте положения и потерял власть над собой, то ли Конон уж слишком перебрал остротками и подзуживаниями насчет горькой правды и неумолимой силы фактов, но Иван Михайлович внезапно раскричался. Поднявшись из глубокого кресла, в котором ему было неудобно и которое как бы даже давило его мягкостью своего естества, эластичностью пружин и неверностью скользящих, кожаных, на пуху подушек, Лапшин в весьма резкой форме заявил, что старый и честный работник милиции Демьянов газетой оболган, что речь идет о судьбе человека и что редактор обязан напечатать опровержение. Фельетонист, написавший о Демьянове, врет не в первый раз, – побагровев, кричал Лапшин, – наврал он в свое время также и об одной старой коммунистке, которая, якобы использовав служебное положение, устроила роскошное совершеннолетие своему сыну. Ничего этого и в помине не было, Лапшину известно это из прокуратуры, которая прекратила следствие по данному делу. Так какое же право у Конона Марковича шельмовать честных людей? И тем более как он может спокойно отмахиваться от необходимости напечатать опровержение и тем самым вернуть людям утерянное спокойствие?
Сначала кричал Лапшин, потом разобрало и Конона. Крепко стукнув ладонью по столу, он начал с преамбулы, в которой кратко осветил Лапшину различие печати нашей от печати буржуазной. Лапшин и здесь попытался перебить Конона, однако безрезультатно, потому что Конон более не позволил ему толком сказать ни слова. Он уничтожал его смертно-общими понятиями, с которыми Лапшин был абсолютно согласен, но которые не имели решительно никакого отношения к тем печальным фактам, которые привели Ивана Михайловича в этот большой, светлый и чистый кабинет. Лапшин давно знал степень продажности буржуазной печати, и не для того, чтобы выслушать лекцию на эту тему, он пришел сюда. Ему не менее хорошо была известна та роль, которую играет наша советская печать в жизни советского народа, и не от сытенького Конона Марковича узнал он это, а из всей своей жизни. Но перебивать собеседника не имело никакого смысла по той простой причине, что опровержение, как сознался в этом походя, между строк своей речи редактор, явилось бы признанием его личной, Конона, ошибки, а он ни в коем случае не хотел совершать ошибки, а тем более в них печатно признаваться. Самое же печальное во всем этом неприятном деле заключалось в том, что, ловко манипулируя гладкими и в то же время значительными понятиями, Конон Маркович, словно фокусник, подменял по мере надобности печать собою, а себя печатью, и к концу его речи вдруг все вышло так, что Иван Михайлович Лапшин имеет претензии вообще к партийной печати, и в частности к той заслуженной и авторитетной газете, которую редактирует нынче такой стоящий человек, как Конон Маркович Шебуев.
Лапшин не то чтобы растерялся, но выдохся. Он не мог спорить с такими людьми, как нынешний его оппонент. Он не находил для них ни достаточно убедительных слов, он не мог довести до их сознания ни одной своей мысли; мыслишки такого рода собеседников с легким бульканьем и позваниванием лились мимо его всегда ясной, простой и даже грубой мысли.
Уже поднимаясь со стула, а не из кресла (Шебуев так долго говорил, что Лапшин и на стуле успел посидеть), Иван Михайлович услышал, как Конон сделал заявление, что он, Шебуев, может извиниться перед Демьяновым лично, исключая тем самым опровержение печатное.
– Так ведь лично – это только здесь, в комнате, один на один, а печатно на весь наш Союз осрамили! – опять теряясь от гнева, сказал Лапшин. – У человека существует честное имя…
– А у газеты? – воскликнул Конон. – У газеты честного имени нет? На нее же сразу пятно ляжет! Или вам наша советская пресса…
Дальнейшего Иван Михайлович не дослушал. Впрочем, он это уже слышал ранее, тогда, когда Конон Шебуев произносил свой основной, оснащенный цитатами монолог…
Надо же человеку куда-то пойти!
В вестибюле Управления Лапшина поджидал измученный всей этой длинной канителью Демьянов. Лицо его за эти месяцы пожелтело, под печальными глазками повисли мешочки. И гимнастерка на нем плохо сидела, и ремень был застегнут на боку.
– Чего, Демьянов, приуныл? – нарочно бодрым голосом спросил Лапшин. – Болеешь, что ли?
– Ливер отказывает, – ткнув себя куда-то в левую часть груди, сипло сказал Демьянов. – Да и сами поймите, товарищ начальник, как мне в глаза людям смотреть?
Иван Михайлович коротко рассказал о своей беседе с Шебуевым и как бы даже курсивом выделил желание Конона лично извиниться.
– А народ? – поднял на Лапшина свои страдающие медвежьи глазки Демьянов. – Народ как же? Или наш народ газеты не читает? Вроде я лично извинения выслушаю, а перед народом жуком и пьянчужкой останусь? Нет, товарищ начальник, не согласный я на это. Никак не согласный! Тогда пусть демобилизуют меня, пойду, где народ с моим стыдом не ознакомлен…
Закурив внизу, в вестибюле, Лапшин пошел к себе наверх. И, поднимаясь по знакомым ступенькам, с горечью думал о том, насколько лучше Демьянов понимает народ и народное отношение к печати, чем Конон, погубивший верного и хорошего работника.
У себя в кабинете он позвонил Пилипчуку и спросил, есть ли у него хороший начальник охраны автобазы. Пилипчук, прикрывая трубку ладонью (у него шло диспетчерское совещание начальников колонн), ответил, что есть, но оставляет желать лучшего.
– Я тебе пришлю замечательного человека, – сказал Иван Михайлович. – Золото мужчина. Можешь на него положиться.
– Как на Жмакина?
– А что? – обеспокоенно поинтересовался Лапшин.
– Да ничего, – после небольшой паузы ответил Пилипчук, – теперь ничего. А ночки две довольно нервные были.
– Чего-нибудь дров наломал?
– Теперь ездит нормально, а переживания были. Так я жду, Иван Михайлович, присылай.
Выпив чаю и «подразобравшись» со всякими срочными новостями «по линии Дроздова», Иван Михайлович велел привести к нему того самого приятеля обокраденного Коркина, который присутствовал при обыске, учиненном Мироном.
Беседа, проходившая при участии уже известного Лапшину дворника Паршина Ильи Петровича, вынудила Мирона Дроздова сознаться в том, что он «действительно случайно в это же время зашел к гражданину Коркину». Но сам Коркин категорически отрицал свое знакомство с Дроздовым, так же, впрочем, как и возможность изъятия у него суммы «более чем в двести рублей наличными». И здесь вдруг, совершенно неожиданно для грабителя и ограбленного, Николай Федорович Бочков, славный лапшинский бухгалтер, продемонстрировал Коркину кое-какие подписанные им документы, несколько накладных, банковский чек и жалостное письмо родственнику в Симферополь насчет того, чтобы тот, «не щадя никаких решительно ресурсов», купил и вообще скупал где угодно выигравшие облигации.
Мирон Дроздов, уже переставший быть интересным объектом, сидел в это самое время перед Василием Никандровичем Окошкиным и, заложив ногу на ногу, говорил бархатным голосом:
– Если бы не Мирон Дроздов, гражданин начальничек, так эта недобитая шлюха, Эдуард Коркин, и по сей день делал бы свои операции. Это вы на мне взяли его, и если по совести, то я должен иметь премию, потому что, бог с вами, я вам укажу, где находятся некоторые остатки из его – моих – ваших денег…
– Вы укажете не некоторые, а все! – с достоинством произнес Окошкин. – Все, гражданин Дроздов.
– Все – нет! – ответил Мирон. – Я же выйду из заключения и навряд ли получу от гражданина Лапшина хорошую пенсию. Учтите, в моей биографии есть белые пятна…
– Хорошо, будем писать! – вздохнул Окошкин.
Свидетель налета на Коркина, так же как и дворник с расчесанной надвое бородой, были отпущены. Василий Никандрович с Мироном и двумя милиционерами уехали на Волково кладбище изымать спрятанные там Дроздовым более двух лет тому назад государственные деньги, похищенные у казнокрада. Эдуард Леонович Коркин плакал навзрыд и каялся скороговоркой, сидя перед Лапшиным. Фамилии сыпались из него, как из прохудившегося мешка. Бочков нервно почесывался – успех этой бухгалтерской атаки и нескольких «глухих перепроверок» ошеломил даже его. Быстрым, легким шагом в кабинет к Ивану Михайловичу вошел Баландин, посмотрел на колонки цифр, на адреса артелей, с интересом вгляделся в скромного и очень интеллигентного с виду воротилу-миллионщика Эдуарда Леоновича и спросил:
– Вам выигрыши нужны были, чтобы иметь возможность легально тратить похищенные тысячи, так я вас понимаю?
– Абсолютно точно! – воскликнул Коркин. – Более того, проникновенно точно. Наши формы быта принуждали меня лишь консервировать средства. А я желал пускать их в оборот. Деньги для меня тогда представляют собою ценность, когда я могу их тратить. Именно поэтому я искал легальную возможность к легальным тратам. Это же смешно, обладая сокровищами в таких масштабах, не купить себе хороший костюм, обстановку, не пойти с товарищами в ресторан…
– Но в ресторанах вы бывали. Тут, кстати, ваши ресторанные счета…
– В возможностях легального! – приподняв руку с обручальным кольцом, возразил Коркин. – В возможностях выигрышей…
Состояние удрученности сменилось в нем возбуждением, даже восторженностью. Но это все было уже неинтересно. И Баландин, позвав с собою Ивана Михайловича, вышел с ним из кабинета.
– Что же, опять тебя поздравлять? – спросил он, глядя по своему обыкновению чуть-чуть насмешливо в спокойные и усталые глаза Лапшина. – Большие деньги нашел государству, Иван Михайлович!
– Тут я вовсе ни при чем, – сказал Лапшин. – Тут целиком бочковское дело. И он, и даже Окошкин мой хорошо материал подработали. Так что, если возможно, Прокофий Петрович, учти, пожалуйста: у Николая Федоровича кое-какие материальные затруднения сейчас, он, понимаешь ли, велосипед купил женке…
Лапшин помедлил.
– Ну?
– А Галине вроде бы рожать вскорости…
– Да что ты! – воскликнул Баландин. – Вот не замечал. И бестактный я человек, – вдруг сердито сказал он. – Упрекаю ее, что она толстеет. Придумал, понимаешь, старый дурак, что мужа своего плохо кормит, а сама как на дрожжах. А она чуть не плачет… Да, надо будет помочь ребятам – на мебелишку, что ли…
– И Окошкину, – ввернул, краснея, Лапшин. – Тоже женился парень…
– И Побужинскому! – иронически поддержал Баландин. – Вчера как раз гуляли у него на свадьбе. Нет, Иван Михайлович, больно ты размахался.
Не торопясь они вошли в приемную Баландина, и Прокофий Петрович своим ключом открыл белую, с золотом дверь в кабинет. Галя Бочкова принесла на подносе два стакана чаю – начальнику и Ивану Михайловичу. Баландин расстегнул крючки кителя, спросил про визит Лапшина к редактору.
– Да, такое дело, – произнес он, выслушав рассказ Ивана Михайловича. – Ну, видать, ничего не поделаешь, но проводим мы его от себя честь по чести. Он часом не охотник, не знаешь?
Иван Михайлович не знал, охотник Демьянов или нет. Баландин на минуту призадумался – для премии у него было хорошее охотничье ружье. Вдвоем, попивая чай, они обмозговали вопрос замены ружья, в случае чего, часами для Демьянова. Потом опять вернулись к делу Коркина и всей его бражки.
– Богатое будет дело, – вылавливая ложечкой ломтик лимона из стакана, сказал Баландин. – Очень богатое. Сейчас, я предполагаю, ты, Иван Михайлович, только у истоков его находишься. И еще что тут интересно, – живо заговорил он, – я вот все об этом думаю, Жмакин твой много нам здесь помог…
– Это как же? – следя за ходом мыслей Баландина, не сразу понял Лапшин. – Почему именно Жмакин?
– Как же – почему? Корнюху он, рискуя жизнью, взял. А Корнюха, спасая свою шкуру, показал на Дроздова и, в связи с дроздовскими делами, – на Коркина. Тут и пошли большие тысячи. И трикотажные махинации, и скупка облигаций с выигрышами, и участие во всем этом уголовного отребья, и помесь с бандитизмом. По существу, все это одно, весьма даже характерное дело. Попытка возрождения капиталистического нарыва в нашем нынешнем обществе. Ну а мы этот нарыв вскрыли. Так? И вышли на всю эту пакость благодаря человеку, который длительное время заблуждался, но которому помогли подняться и встать на ноги. Как он, кстати, Жмакин твой?
– А ничего, нормально. На шофера обучается.
– Рецидивчиков не слышно?
– Будто нет.
Только в седьмом часу Лапшину удалось выйти из Управления. В аптеке он купил все лекарства от простуды, какие продавались без рецепта, а в гастрономическом магазине разных полуфабрикатов, цыпленка (где-то он читал, что больным нужно есть курятину), в булочной два батона и сухарей (сухари тоже полагались больным). Пакетов получилось много, и неприятно было то, что на углу Невского и Рубинштейна прямо перед Лапшиным с писком затормозила машина и красивый, как всегда, Митрохин предложил подкинуть Ивана Михайловича вместе с его «товаром».
– На вечеруху, что ли? – спросил Андрей Андреевич и засмеялся, а его шофер Гришечкин, тоже красивый и необыкновенно наглый сердцеед, засмеялся вместе со своим начальником и поддакнул ему в том смысле, что товарищ Лапшин, хотя с виду и скромный, но, наверное, «ого-го»!
Машина стояла на пешеходной дорожке, мешая людям, Митрохин ослепительно улыбался, и Лапшин едва ушел от Андрея Андреевича и его веселой услужливости…
Но едва Иван Михайлович успел вздохнуть с облегчением по поводу того, что Митрохин оставил его в покое, как тот нагнал Лапшина пешком и заговорил с ним тем тоном, который означал, что Митрохин знает куда больше того, о чем позволяет себе говорить, и как бы даже несколько снисходит своей осведомленностью до неосведомленного собеседника.
– Вот ты, Иван Михайлович, тогда на меня нашумел за Гитлера, – сказал он, касаясь лапшинского локтя. – А теперь чего думаешь?
– Что думал, то и думаю, – угрюмо отозвался Лапшин.
– Что же именно ты думаешь, ежели не секрет?
– А то думаю, что некоторые другие державы тайно вели переговоры с фашистами о пакте и насчет раздела сфер влияния. И это тебе так же, как мне, известно.
– Ну а диалектически?
– У тебя диалектика означает что-то довольно-таки паршивое, – уже зло сказал Лапшин. – Подозрительное нечто, смахивающее… ну, да что!
– Да ты, Иван Михайлович, не переживай, – все так же ослепительно улыбаясь, мирно и весело произнес Андрей Андреевич. – Чего переживать! Я, например, очень нашим пактом удовлетворен, и рад, и приветствую…
– Ну, приветствуй, приветствуй, – прервал Митрохина Лапшин, – это дело твое. – И уже совсем невежливо и даже грубо добавил: – Пока, Андрей Андреевич! Что-то мне с тобой неинтересно разговаривать…
Катерина Васильевна сидела одна в теплом, застиранном халате в углу своей комнаты. Большой рот ее запекся, глаза блестели жаром, и, когда Лапшин стал уговаривать ее прилечь, она вдруг расплакалась. Иван Михайлович стоял у дверного косяка, прижимая свертки к груди, вечернее солнце светило ему в лицо, и он совершенно не знал, что делать и как поступать.
– Чайник перегорел, – говорила Балашова сквозь слезы, – керосина нет, весь день пью холодную воду. Простите меня, Иван Михайлович, но, знаете, я не помню, где-то написано: должен же человек куда-то пойти…
Вывалив свертки в колченогое кресло, Лапшин спросил, не присылал ли Антропов врача; Катя ответила, что, может быть, и присылал, но весь день, во всей квартире не было ни души, а она, кажется, спала и могла не слышать звонка.
– Вы бы легли хоть, что ли! – с досадой сказал Лапшин. – Как это можно, больной совершенно человек…
Не договорил, махнул рукой и ушел хозяйничать в кухню. Большой сонный зеленоглазый кот спрыгнул с подоконника и потерся о сапоги Лапшина. «Тоже голодный!» – подумал Иван Михайлович и кинул коту лангет-»полуфабрикат». Потом закатал рукава гимнастерки, накачал первый попавшийся в коммунальной кухне примус, поставил на него наиболее красивую и чистую сковородку и принялся по-своему, по-солдатски готовить обед Катерине Васильевне. Занятие это так поглотило его, что он и не заметил, как в кухню вошла огромного роста старуха в закрытом фартуке, басом ахнула, увидев у своего столика солидного военного с орденами, который на ее примусе и на сковороде Жанны Евгеньевны, при помощи ножа скрипача Лурье, жарил какие-то котлеты. Вскоре и Лурье заглянул в кухню, но тоже не посмел ничего сказать. Лапшин был красен и, чертыхаясь, искал сковородник по чужим шкафчикам и столикам… Втроем жильцы коммунальной квартиры посовещались в ванной комнате и решили происшествие это оставить без последствий. Уж больно неприступный вид делался у Ивана Михайловича, когда он стряпал.
Настряпал он много и очень жирно, Балашова только поклевала, но зато долго пила чай и сосала ломтики лимона. Слезы по-прежнему часто появлялись на ее глазах, пересохшие губы дрожали, и она жаловалась:
– Вы не обращайте внимания, Иван Михайлович! Это у меня с детства, когда температура – плачу. Самой стыдно, а вот ничего не могу поделать!
Чтобы не пропадала пища, он тоже поел своих лангетов, плавающих в сале, попил чаю и вспомнил, что там, в кухне, кипит давным-давно так необходимый Кате цыпленок. Старуха-гренадер, оглаживая зеленоглазого кота, сдержанно заметила ему, что цыпленок непотрошеный и что вряд ли этот «супчик» годен к употреблению. Иван Михайлович густо покраснел и, чертыхнувшись про себя, вернулся к Балашовой. Термометра у нее не было, и Лапшин опять вышел на кухню. Скрипач Лурье, востроносенький, с галстуком бабочкой, в жилете, жарил себе перед концертом омлет. Услышав про термометр, он пожал плечами: пожалуйста, но под вашу личную ответственность, товарищ. Катерина Васильевна человек прекрасный, но всем известно, что она никогда ничего никому не отдает. Она может взять в долг литр керосина – и забыть! Конечно, не злонамеренно, а все-таки надо же отдавать. Правда, сама она никогда не спрашивает, но никто бы ее не упрекнул, если бы она и спросила, – ведь свое, не чужое, не так ли?
Лапшин послушал, насупился и ушел в аптеку, а когда вернулся, в комнате Балашовой сидел, закинув ногу на ногу, Днепров, ел со сковороды лапшинский лангет, пил принесенную с собой водку и рассказывал про какого-то проныру Завадовского, который, не имея «ни милиграмма божьего дара», ухитрился пролезть к самому Голощекину. Балашова смотрела на Днепрова со злой тоской во взгляде, Иван Михайлович молчал, а Днепров чавкал и с наслаждением слушал свои рулады. И по тому, как он поднялся и нашел перечницу, и по тому, как поглядывал на Катерину Васильевну, и по тому, как он называл только ей, а не Лапшину известные фамилии, Иван Михайлович вдруг понял, что ему, пожалуй, самое лучшее сейчас уйти. Но Катя жалостно попросила его остаться, «непременно остаться», и он, хоть и понял, что тем более надо уходить, все-таки остался, вступил в разговор, чувствуя искусственность собственных фраз, и даже выпил с Днепровым рюмку противной теплой водки.
Захмелев – а хмелел он быстро, – артист пожаловался Лапшину на Балашову. По его словам, в последнее время Катерина Васильевна стала относиться к нему «высокомерно и холодно». А он ей настоящий, верный, преданный и добрый друг. Именно друг, друг в полном и высоком значении этого слова. Товарищ по работе, старший товарищ, более опытный, не бездарный в своем ремесле, полезный. И вот такое охлаждение. Чем это можно объяснить?
Иван Михайлович пожал плечами.
– Не знаете? – воскликнул Днепров тем голосом, которым играл в «Марии Стюарт». – Не знает он, и я не знаю…
«Вот, черт! – уныло подумал Лапшин. – Не мальчик уже, а все кривляется!»
– Роль Стеллы? – непонятно спрашивал Днепров. – Я же Екатерину с голоса натаскивал.
Лапшин заметил:
– Это собак натаскивают, а не артистов!
– Зрители – идеалисты, – крикнул Днепров. – Они не знают нашей кухни. А у нас кухня. С солью, с перцем, с собачьим сердцем, и кто этого не поймет, тот погибнет…
– О, господи! – сказала Катерина Васильевна.
– «Марию Стюарт» не я тебе вылепил? – спросил Днепров. – Скажи честно, не я?
– Не вы!
– А кто же?
Катерина Васильевна отвернулась. Все еще жуя, Днепров ладонью касался колена Лапшина, как бы призывая его в свидетели и друзья, обнимал за плечи и даже раза два попытался назвать Иваном, а потом Ваней, но Иван Михайлович угрюмо молчал, а Катерина Васильевна томилась и говорила:
– Послушайте, честное слово, это все никому не интересно.
От Днепрова пахло крепкими духами, он сказал, что покупает их у контрабандиста-морячка и что называются они «запах кожи». То, что он сказал при Лапшине о контрабандисте, было по меньшей мере бестактно, и Балашова быстро и виновато взглянула на Ивана Михайловича, но он как бы ничего не слышал, глядел рассеянно в сторону.
Порывшись в стенном буфетике, Днепров вытащил недопитую бутылку коньяку, погладил ее и, подмигнув Лапшину, сказал ласково:
– Молодец Катюша! Это мы тут как-то немножко кутили, вот и осталось…
– Не мы кутили, а вы пришли сюда и напились! – жестко сказала Катя.
– К сатане подробности! – воскликнул Днепров. – Налить, Ваня?
– Нет, не хочу.
– Ну, как угодно.
Заставив себя для приличия взглянуть на часы, Лапшин попрощался и, чувствуя спиной укоризненный взгляд Кати, вышел. Парадную за ним закрыл Днепров.
На улице Иван Михайлович еще раз взглянул на часы – там, в комнате, он не заметил, который час. Было десять.
– Как же жить? – в который раз за эти месяцы спросил себя Лапшин. – Как же мне теперь жить?
Надо было куда-то идти, к кому-то, на люди! Это Катя сегодня сказала – надо же человеку куда-то пойти?
И не торопясь, усталыми шагами, он пошел в сторону Васильевского, туда, где жил Егор Тарасович Пилипчук, старый и верный друг. Кстати, и повод был – потолковать насчет Жмакина и поподробнее о Демьянове. Надо ведь и повод иметь, когда вот эдак, к ночи, шагаешь в семейный, нормальный дом, где есть и дети, и теща, и зять, и все то, что положено иметь человеку на возрасте…
Опять в Лахте
По утрам он по-прежнему мыл машины. И утром, и днем, и после обеда. Мыл лихо, зло, хитро, по-своему. На своеобразные, особые повороты его шланга заглядывались, кое-кто перенял, кое-кто даже спросил, какой у него такой метод. Алексей ответил угрюмо:
– Метода не имею. Но к рукам надо еще мозги иметь в виде довеска.
Водители-дальнобойщики старались, чтобы их машины попадали к невеселому парню в насунутой на уши порыжевшей кепке. Черненькая Люба, виляя бедрами, не один раз в день проносилась мимо Жмакина, узывно спрашивая:
– Вы и сегодня до ночи будете на шофера обучаться, Альберт?
«Альберт» отвечал чем-нибудь двусмысленным, но поощряющим. Лицо у него еще усохло, но на шутки он отвечал незлобивыми шутками, его перестали бояться, и даже занудливый техник Цыплухин вступал с ним в беседы, когда курил у бочки за водонапорной колонкой.
В редкие теперь часы досуга Алексей, нетерпеливо урча, рылся в книгах по автомобильному делу. Ему казалось мало того, чему учил его когда-то в тюрьме «бандит за рулем». Теперь хотелось докапываться до первопричин. «А почему это?» – впиваясь зелеными глазами в Никанора Никитича, спрашивал он почти свирепо. «А почему так?» На некоторые вопросы Никанор Никитич отвечал не без напряжения. «Потому что потому!» – хотелось ответить ему иногда глубокой ночью на невозможный, немыслимый вопрос.
Вечерами они с Геннадием по-прежнему занимались практической ездой. Покуда Алексей упражнялся в своем «высшем пилотаже» по территории автобазы, Геннадий зевал, подремывал, читал газеты возле бочки, где можно было курить. Иногда, очень редко, Алексей подзывал к себе инструктора и задавал ему свои устрашающие «почему», касаемые правил уличного движения, светофоров, объезда площадей и прочей премудрости.
– Глупо! – иногда утверждал он.
Геннадий почесывался. У этого проклятого Жмакина про все было свое мнение. Даже на священные для каждого шофера правила он смотрел сверху вниз и заранее предупреждал робеющего Гену:
– В этом вопросе я непременно буду нарушать!
Но ездил он уже хорошо. Вовсе не лихачил, автомобиль жалел, сам крякал, не выжав сцепление на ухабе, вел машину ровно, мягко, одним словом «шоферил как боженька» – по собственному жмакинскому, лишенному ложной скромности выражению.
Недели через две Цыплухин сам со Жмакиным отправился по городу и остался доволен, хотя Алексей дважды «по принципиальным соображениям борьбы с предрассудками и суевериями» въезжал под «кирпичи».
– Права заимеете, тогда и боритесь на здоровье, – сухо заметил Цыплухин. – А пока что я над вами царь, бог и воинский начальник…
Пилипчук о себе знать не давал. Впрочем, Жмакину не было известно, что окна директорского кабинета выходят во двор и многие жмакинские художества Егор Тарасович наблюдал самолично, сидя на широком подоконнике и подписывая служебные бумаги.
Однажды, когда Алексей обучал себя загонять полуторку с ходу задом в неудобный шестой бокс, перед вторым корпусом неожиданно появился Пилипчук. Он пришел в легком светло-сером костюме, здоровеннейший, косая сажень в плечах, помахивая картонной папочкой с завязками, чем-то озабоченный. Оказалось, его машина уехала с главным инженером, а он торопился в Новую Деревню, там надо было срочно посоветоваться с каким-то строительным начальником. Цыплухин предложил доставить, но Пилипчук сказал, что его свезет Жмакин. В кузов, утирая рот от простокваши, залпом выпитой в столовке, грохоча сапогами, ввалился Геннадий; Пилипчук, посапывая, разместил свое грузное тело рядом с Алексеем.
– Давай побыстрее только, – сказал он, закуривая, – там ждать не станут.
Вахтер, увидев директора, не спрашивая пропуска, отворил ворота. Осторожно объезжая колдобины, Жмакин поехал по Второй линии и мимо больницы Веры Слуцкой, выскочил на Тучков мост. Громыхнули доски, с Невки потянуло холодной сыростью, осенним ветерком.
– Закрой стекло-то, – ворчливо велел Пилипчук, – застудишься в майке.
– Я не простудливый! – суховато ответил Жмакин. Больше всего он боялся заробеть начальства или заговорить с ним не так, как с другими людьми. «Проверочку мне делает! – зло подумал Алексей. – Тоже, инспектор!»
На Большом проспекте по Петроградской он посильнее нажал железку и покосился на Пилипчука, – тот как бы дремал. Для сокращения пути Жмакин поехал переулками, затормозил перед рвом, дал задний ход. Пилипчук сквозь дрему ровным голосом посоветовал:
– Впредь учти, хороший водитель предпочтет крюку дать несколько километров, нежели станет машину калечить по рытвинам да колдобинам. Запомнил?
– Запомнил, – нехотя буркнул Жмакин.
На повороте к шоссе Жмакин зазевался и едва не стукнул бамбером в задок автокачки, но Пилипчук вовремя схватил руль и вывернул машину левее. Замечания, однако же, никакого не последовало, дальше ехали молча. Генка в кузове встал, оперся на кабину локтями.
– Мотор хорошо знаешь? – вдруг спросил Пилипчук.
– Дай боже! – сказал Жмакин.
– Скромности тебе бы надо поболее! – посоветовал директор.
– А что в ней, в скромности?
Пилипчук на мгновение опешил. Стрелка спидометра дрожала на восьмидесяти.
– Я бы со скромностью и поныне этот щиток теоретически изучал, – сказал Жмакин. – А вот нескромный – и вас везу, пожалуйста, с ветерком.
В Новой Деревне Жмакин совсем обнаглел и, узнав, что Пилипчук будет здесь никак не менее часа, попросил разрешения «смотаться по личному вопросу на десять минут в Лахту». Пилипчук разрешил.
Геннадий, шваркнув сапогами по кузову, кулем свалился в кабину, жадно прикурил у Жмакина и рассказал, что очень переживал там наверху, особенно когда Алексей чуть не въехал в автокачку. Жмакин ответил, что это все пустяки, не такое еще случается в жизни.
– А ты куда это? – забеспокоился Геннадий.
– Да тут, в Лахту, по делу…
Болотца курились перед ним в потухающем свете осеннего вечера. Слева неподвижная, серебристо-свинцовая блестела вода, торчали тоненькие мачты спортивных яхт.
– Жмакин, а Жмакин, – сказал Геннадий, поворачиваясь к Алексею своим курносым лицом, – это правда или неправда, что люди говорят про тебя?
– А чего они про меня говорят?
– Мало ли…
– Ну чего «мало ли»?
– Вроде ты из преступного мира. Из жуликов. Неправда, наверное?
– Врут суки, – невозмутимо сказал Жмакин. – Ты, братан, не верь. Мало ли чего врут. Про тебя тоже треплют – спасения нет.
– Чего же про меня треплют? – быстро и испуганно спросил Гена.
– У-у, кореш, – сказал Жмакин. – У-у! – Он никак не мог придумать, что могли соврать про Геннадия, и только усмехался, покачивая головой. Потом придумал: – Будто у тебя две женки и два паспорта. По одному ты с одной записан, а по другому – с другой.
– А я вовсе и ни на одной не женатый! – радостно сказал Гена. – Чего выдумали.
И повторил:
– Два паспорта! Это надо же!
Машина, набирая скорость, плавно бежала по дороге, возле бесконечного ряда столбиков, беленных известью. Неожиданно сзади вырвался поезд – черный, длинный, с освещенными окнами, сердито взвыл и стал обгонять. Железнодорожный путь лежал рядом с шоссе. Жмакин нажал носком на железку газа, грузовик пошел вровень с паровозом, потом отстал от него, громкая песня раздалась из вагона, мелькнул красный сигнал, и опять стало тихо, сыро и холодно.
В засыпающей Лахте Жмакин остановил машину и, сказав Геннадию, что сейчас вернется, побежал по знакомым переулочкам. Все было тихо вокруг, печально и загадочно. Дорогу вдруг перебежала черная кошка. Жмакин с ожесточением плюнул, вернулся назад и побежал в обход мимо станции. Залаяла собака. Он окликнул ее негромко и услышал, как она застучала по забору хвостом. Он забыл, как ее звать.
– Жучка, Жучка, – шепотом говорил он. – Шарик…
Погладил по сырой шерсти и заглянул в Клавдино окно. Там сидел Гофман и что-то рассказывал. Лампа-молния горела на столе, покрытом плюшевой знакомой-знакомой скатертью… Гофман был выбрит, в пиджаке с галстуком, лицо его, как показалось Жмакину, имело нахальное выражение. Жмакин зашел сбоку и заглянул в ту сторону, где стояла Клавдина кровать. Клавдия лежала на кровати, укрытая по горло своим любимым пуховым платком, беленькая, гладко причесанная, и улыбалась. Сердце у Жмакина застучало. «Дочка небось в столовой спит, – думал он, – небось мешает». Уже задыхаясь от неистовой злобы, не помня себя, он наклонился, взял кирпичину и отошел, чтобы, размахнувшись, швырнуть в окно, но вовремя одумался и так, с кирпичом в руках, пошел назад по тихим и сонным переулочкам к шоссе. Возле шоссе он бросил кирпич в канаву, придал лицу выражение деловитости и влез в кабину. Геннадий пел длинную песню.
– Повидал дамочку? – спросил он разомлевшим голосом.
– Какую дамочку, – сказал Жмакин, – за папиросами на станцию бегал.
И, развернув грузовик, он с такой стремительностью поддал газу, что Геннадия откинуло назад и сам Жмакин стукнулся головой.
– Полегче бы, – сказал Гена безнадежным голосом, зная, что Жмакин все равно не послушается.
– Ладно, полегче, – ответил Жмакин и, отчаянно нажав сигнал, погнал машину в обгон осторожно плетущегося бьюика.
Состязание это продолжалось до самой Новой Деревни, – видимо, водителя легковой машины тоже заело. У дачи в зеленом переулочке стояло несколько машин, и Пилипчук сказал Жмакину, чтобы не ждал, он вернется не скоро.
– Может, подкинешь до общежития? – попросил Гена. – Чего-то притомился я нынче.
Жмакин «подкинул» Геннадия на Карповку, лихо развернулся и минут через двадцать загнал машину в бокс. Никанор Никитич спал. Страшная тоска вдруг сдавила сердце Алексея. Вздрагивая от вечернего холода, он накинул на плечи пиджак, подсчитал деньги – как раз на триста граммов и яичко, покурил, все еще как бы вглядываясь в лицо Клавдии, такое, каким видел его нынче, толкнул дверь и, предъявив вахтеру пропуск вышел из проходной с твердым намерением напиться. Но, представив себе Гофмана и его радость, когда он узнает, что «некто Жмакин» опять свихнулся, Алексей решил сейчас не пить, а посидеть в скверике и обдумать свое положение, тем более что до двенадцати, когда закрывалось ближайшее заведение, времени было совершенно достаточно.
Отвалившись на спинку скамьи, он сказал себе: «Значит, продумаем все сначала» – и опять представил себе Клавдию, но вдруг кто-то окликнул его, и тотчас же на соседней скамейке он увидел Лапшина, который, покуривая и отряхивая пепел в урну, исподлобья смотрел на Жмакина.
– Отдыхаешь? – спросил Иван Михайлович.
– Да вот вышел… подышать, – несколько смешавшись, ответил Алексей и поймал себя на смешной мысли о том, что Лапшин знает все его мысли, все огорчения и даже догадывается, что Жмакин собрался напиться.
– Живешь как? – спокойно осведомился Иван Михайлович.
– В смысле производства – нормально, – пересаживаясь к Лапшину, ответил Жмакин, – в личной же жизни имеются неполадки.
Внезапно, как это не раз случалось с ним в былые времена, Жмакин рассказал Лапшину подробно и горько, как был сегодня в Лахте и какой там «порядок чин чинарем» в отношениях между Клавдией и Федей Гофманом. Он рассказывал, сердце его бешено колотилось, слова были какие-то нелепые, то блатные, то вдруг он ругался, кося на Лапшина свои бешеные глаза.
– Поломалась моя личная жизнь! – заключил он с тоской. – Но все равно, Иван Михайлович, я удержусь. Никто меня больше на наклонной плоскости не увидит. Вы на меня надейтесь!
– Я и надеюсь, – спокойно ответил Лапшин.
– Хотя вам моя судьба, конечно, не совсем понятна, – сказал Жмакин, – у вас личная жизнь небось сложилась нормально, полный в ней порядок – жена, детишки, теща, все как положено…
Лапшин внимательно посмотрел на Жмакина, странно усмехнулся и ничего не ответил. Впрочем, Жмакин даже не заметил этого. Он внезапно удивился – почему в двенадцатом часу Иван Михайлович сидит в этом скверике.
– Да вот, знаешь, хотел наведаться к Пилипчуку, а у него, сколько ни звонил, никто не отвечает. Присел на лавочке покурить.
– А они все на даче в Мельничном Ручье, – сказал Жмакин. – Семья то есть. А самого я только что в Новой Деревне оставил, они там собравшись у какого-то начальства по строительству…
Лапшин кивнул, бросил окурок в урну и поднялся.
– Так как же мне жить, Иван Михайлович? – тоже поднимаясь, спросил Жмакин. – Как вы посоветуете?
– Не знаю, брат, – негромко, словно все еще продолжая думать свою отдельную от Жмакина думу, произнес Лапшин. – Не знаю. Разве тут чего присоветуешь толкового! Надеяться надо, что ли. Ведь не хуже мы с тобой других людей, как ты считаешь?
Усмехнулся невесело, протянул Жмакину большую, горячую руку и зашагал между клумбами к выходу из скверика.
В сентябре
Не слишком приятная встреча
Почему он ревновал? Какие у него были основания? В чем провинилась перед ним Клавдия? Не смыкая зеленых глаз, он лежал часами на своей раскладушке в алтаре часовни. Лежал, картинно курил, скрипел зубами, распаляя себя, пил воду, чтобы остыть.
За узкими стрельчатыми окнами плыли тяжелые, набухшие влагой, низкие облака. Не то светало, не то темнело. Алексей ревновал, смутно представляя себе красивое, сухое лицо Гофмана и вспоминая, как тот поглядывал на Клавдию. Лежа на своей коечке, он тупо думал о том, что происходит там сейчас, или происходило вчера, или позавчера, когда лил проливной дождь, а он, Жмакин, «мучился» с машиной. Стискивая челюсти, он придумывал самые оскорбительные фразы, он составлял их из бесчисленных, ужасных по своему безобразию слов. «Ладно, – думал он, – ничего! Посчитаемся вовремя или несколько позже! Вы все узнаете, каков таков простачок Жмакин, все удивитесь, ахнете, о ума сойдете!»
И улыбался кисло: ну, станет он шофером хорошего класса, – есть от чего с ума сходить!
Никогда теперь не был он уверен в том, что Клавдия не изменяет ему. Отчего бы, собственно, не изменять? Почему? Все люди на земле лучше, чем он, вор, непутевый бродяга, психопат и бездельник. Зачем он ей? Ей дядя нужен наподобие Гофмана, специалист, серьезный человек, член профессионального союза с вовремя уплаченными взносами. Небось у Гофмана целый бумажник напихан справками! Наверное, он трудовой список имеет какой полагается. А у Жмакина что? Чужая койка в бывшей православной часовне?
И она, с его, Жмакина, ребенком, будет жить с Гофманом, будет женой Гофмана, и в паспорте ее зачеркнут фамилию Корчмаренко и напишут Гофман, Клавка Гофман.
Тряся головой, он вскочил, накинул пальто и вышел на крыльцо часовни.
Какое утро сияющее и великолепное наступало! Куда делись тучи, сырость, мозглятина! Какой удивительно прозрачный и чистый начинался день! Как хорошо и остро попахивало бензином на огромном дворе автобазы! Как равно, в струнку стояли зеленые грузовики! И какое солнце взошло!
«Ладно, ничего, – думал он, вздрагивая от утренней сырости, – найдем и мы себе под пару. Наслаждайтесь, любите! Мы тоже не шилом шиты, не лыком строчены. Насладимся любовью за ваше здоровье. Будет и наша жизнь в цветах и огнях. Оставайтесь с товарищем Гофманом, желаю счастья. Но когда Жмакин станет человеком – извините тогда. Вы тут ни при чем. Не для вас он перековывался из жуликов, не для вас он мозолил свои руки, не для вас он мучился и страдал. Черт с вами».
А он действительно мучился и страдал. Не привыкший к труду, раздражительный и нетерпимый, он вызывал в людях неприятное чувство к себе, и его сторонились, едва поговорив с ним. Злой на язык, самолюбивый, он никому не давал спуску, задирал всех, все делал сам, никого ни о чем не спрашивал, и если говорил спасибо, то как бы посмеиваясь, – говорил так, что уж лучше бы не говорил вовсе. Даже покорный и скромный Геннадий раздражал его. Он видел в нем не просто безобидного курносого и мечтательного парня, а соглядатая, кем-то к нему подосланного и подчинившегося Жмакину только внешне, потому что иначе кашу не сваришь. Это и в самом деле было так: Гена хитрил со Жмакиным по совету Пилипчука.
– А ты, – сказал Геннадию директор, – с ним осторожненько. Станет человеком, обломается. Это пока он такой индивидуальный господин.
И Гена действовал осторожненько, но Жмакин был хитрее его и скоро раскусил дело. А раскусив, понял, что Гена сам по себе, и что вовсе Жмакин им не командует, и что как раз в подчиненном якобы Генином положении – сила Генки.
«Все воспитывают, – со злобной тоской думал Жмакин, – все с подходцем, ни одного человека попросту нету…»
И не везло ему, с его точки зрения, просто редкостно.
Например, как было бы хорошо попасть в армию. Попахивало войной. Фашистская Германия напала на Польшу. Несколько шоферов из автобазы получили повестки явиться в военкомат. Для Жмакина такая повестка была бы спасением. Уж он бы показал себя, случись какая-либо заваруха. Но повестку получить он не мог, потому что не было у него ни паспорта, ни военного билета. А дело явно шло к войне, и Никанор Никитич это подтверждал. Вдвоем они внимательно читали газеты и поносили президента панской Польши Мосьцицкого за его нерешительность. Узнав о том, что польское золото вывезено в Лондон, Жмакин сказал со свойственным ему апломбом:
– Это первое дело – золотишко утащить. На черный день. Будет там пан Мосьцицкий жареных курок кушать, а остальные подыхай…
– Почему именно курок? – удивился Головин.
Алексей не ответил – читал сообщение ТАСС насчет призыва в Красную Армию нескольких возрастов.
– Пожалуйста, – сказал он, – Украина, Белоруссия, Ленинград, Москва, Калинин, Орел – призывы, а я должен тут гнить. И не возражайте, Никанор Никитич, я-то знаю, как через армию можно в люди выйти, не то что на нашей автобазе…
Вечером он спросил у Геннадия:
– А почему это тебя в армию, между прочим, не берут? Молодой, здоровый, вполне можешь послужить родине. Может, белые пятна в биографии имеются?
– Как дам! – замахнувшись, но без злобы ответил Генка…
Несколько раз Алексей собирался пожаловаться Лапшину, но понимал, что это ни к чему не приведет. И тосковал…
Однажды, возвращаясь домой с одинокой и унылой прогулки, Жмакин на Петроградской обогнал черненькую Любку. Люба плелась, позевывая, с сумочкой в обнаженной руке, в светлом платье, несмотря на прохладный вечер, простоволосая. Было в ней что-то испуганное и жалкое, и, вероятно, оттого, что она показалась ему жалкой, он вдруг почувствовал себя таким одиноким, заброшенным и никому не нужным, что с неожиданной для себя лаской в голосе окликнул ее и взял под руку.
– Вот так встреча! – обрадовалась она. – Прямо как в кино. Верно? А вы и не Альберт вовсе! Вы как раз именно Алексей Жмакин…
– Я – Альберт-Мария-Густав-Федот Жмакин! – сказал он, и оба засмеялись.
Люба шла от подруги, у которой было заночевала, но, по ее словам, ребята начали там безобразничать, и она решила уйти.
От нее пахло вином, и чем дальше они шли, тем больше и острее Жмакин испытывал то чувство, которое прежде, до Клавдии, испытывал всегда к женщинам: чувство презрительной и брезгливой жадности. Он вел ее под руку, она опиралась на него, он слышал, как пахнет от нее пудрой и вином, прижимал ее голую руку к себе и испытывал тяжелое раздражение оттого, что не обогнал ее, а идет с нею, и оттого, что Клавдия бросила его, и оттого, что он одинок, заброшен и несчастен. «На! – думал он. – Гляди со своим Гофманом! Плевал я! Вы там, мы тут! Без вас обойдемся. Во, чем нам плохо? Раз, два – и в дамки!»
И, заглядывая Любе в глаза, он запел нарочно те лживые и паршивенькие слова, которые пел когда-то давно, в одну из самых отвратительных минут своей жизни:
Рви цветы, Пока цветут Златые дни. Не сорвешь, Так сам поймешь — Увянут ведь они.Люба смеялась, а он, близко наклоняясь к ее миловидному круглому лицу, спрашивал:
– Правильно? А, детка? Верно я говорю?
У Народного дома они сели на лавку. Жмакин замолчал и подсунул свою руку под спину Любы.
– Не щекотать, – строго сказала она, и оба они тотчас же сделали такой вид, что пробуют, кто из них боится щекотки.
Немного поговорили о гараже, о том, что он «растет», потом Люба сказала, что ей надоело жить без красок.
– Жизнь должна быть красочная, – говорила она, слегка поднимая ноги и щелкая в воздухе каблуками. – Мне, Алеша, охота чего-то необыкновенного, жуткого и захватывающего.
– Например? – спросил он.
– Например, если война, то чтобы не находиться в глубоком тылу, а реализовать свои знания.
– Какие такие вдруг знания?
– А такие! Я на МПВО закончила. И я смелая девчушка, ничего не побоюсь.
Жмакин слушал сжав зубы, втягивая ноздрями запах пудры. «Она смелая девчушка, – думал он сердито и добродушно, – она ничего не побоится. Скажи пожалуйста».
– Ну а, например, что такое война, ты знаешь? – осведомился он насмешливо.
Люба не ответила, напевала себе под нос. Положенный срок прошел. Все вокруг было как полагается или почти как полагается. И теплая осенняя ночь, и звуки духового оркестра где-то неподалеку, наверное в саду Народного дома, и парочки, целующиеся на скамьях, и даже то, что Жмакин отдал свой пиджак Любе (на всех соседних скамьях мужчины были без пиджаков), – все было как полагается, но в то же время не совсем так…
Что-то Жмакина неприятно тревожило, более того – угнетало.
Раньше он бы подумал, что опасается встречи с Бочковым, или с Митрохиным, или с Окошкиным, или с самим Иваном Михайловичем.
Но теперь он их не боялся.
Так в чем же дело?
Нет, ему нечего бояться!
Молча он прижал Любу к себе, но она неловко уперлась локтем ему в грудь. Он прижал сильнее, локоток ее подогнулся, и тихим, как бы сонным голосом она произнесла привычные и скучные слова:
– Не надо так нахально!
– Не надо? – удивился он. Помолчал, вздохнул и согласился: – Не надо так не надо.
В это самое мгновение к нему подошли двое. Электрический фонарь ярко высвечивал и девушку и мужчину, и Жмакин узнал их еще до того, как мужчина положил руку ему на плечо. Это был тот самый летчик, чемодан которого Жмакин украл, возвращаясь в Ленинград после побега, а девушка была Малышева, которой он так ужасно врал тогда в тамбуре.
– Не узнаешь? – глуховатым голосом спросил летчик.
– Узнаю! – спокойно ответил Жмакин. – Отчего же не узнать? Я своих старых друзей всегда помню!
Ему ужасно было думать, что Любка наболтает в гараже, как его увели, и он нарочно говорил без умолку, вставая и пятясь от Любы к Малышевой и летчику:
– Извиняюсь, Любочка, что проводить не удастся, вы на меня не будете в претензии, – трещал он, – но старые дружки – дело такое…
И, обернувшись к летчику, он широко раскинул руки, обаял его и, напирая на него грудью, чтобы отойти подальше от Любы, поцеловал в щеку, и громко произнес:
– Ну и медведь ты стал, Степка, ну просто-таки медведь. Хорошо небось на государственных харчах питаешься, безотказно!
Летчик, которого, кстати, звали вовсе не Степаном, а Виталием, мгновенно понял, чего хочет от него Алексей, и подыграл ему, подхохатывая и в обнимку с ним отходя к центральной аллее. А Малышева шла рядом, и Жмакин успел заметить, как она бледна и с какой тревогой поглядывает то на летчика, то на Жмакина.
– В милицию желаете сдать? – спросил деловым голосом Алексей.
– Именно! – спокойно ответил летчик.
– Закурить нету?
– Закурить есть.
– Тогда присядем и перекурим это дело, – сказал Жмакин. И предупредил: – Я не побегу.
– Побежишь – выстрелю! – обещал летчик. – У меня оружие при себе.
– Тут стрелять не полагается, – возразил Жмакин. – Здесь же народ.
– А я не в народ. Я в тебя!
– Перестань, Виталик! – попросила Малышева.
– Между прочим, все это получается довольно странно, – сильно затягиваясь, сказал Алексей. – Международное положение острое, как никогда. Франция объявила войну Германии, Гитлер выехал на Восточный фронт, фашистские бомбы падают на Львов, очень многие штатские товарищи отправились служить трудовому народу, а один летчик – Виталик – в это время, как сумасшедший, занимается своим пропавшим барахлом. Это барахло давно моль сожрала…
Даже при электрическом свете Жмакину было видно, как побелел Виталик. Алексей нанес удар чудовищной силы, такой, что бедняга Виталик даже задохнулся.
– Пойдем! – с тоской в голосе сказала Малышева и потянула летчика пальцами за рукав. – Я тебя умаляю, пойдем, Виталик!
– Нет! – ответил Виталик. – Это вопрос принципиальный…
– Ага! – охотно согласился Жмакин. – Именно принципиальный. Весь частнособственнический мир это утверждает. Они толкуют – не вещь им важна, а принцип…
Он вдруг повеселел. Окаянные глаза его засветились зеленым, кошачьим светом. Теперь был явно его «верх». Да и чего ему было бояться, в конце-то концов?
Втроем, мирно, словно и вправду друзья, сидели они на скамье близ памятника «Стерегущему». Трамваи с грохотом превышали дозволенную скорость, далекий оркестр играл вальс, мимо, чинно беседуя, прохаживались два высоких милиционера.
– За свое за доброе человек кулацкой натуры может невесть каких бед натворить, – с добродушной назидательностью объяснял Жмакин. – Я – калач тертый, повидал и наслушался всякого в жизни, искалеченной не по моей вине. Ошибиться каждый может. Вот вы, например, летчик, вовремя не явились на работу, а тут как раз война – как на это начальство посмотрит?
– Я – гражданский летчик! – окрысился вдруг Виталий. – Чего вы…
– Разницы особой нет, – миролюбиво заметил Алексей. – Все мы гражданские, но есть такое время, когда все мы военные…
Летчик посмотрел на Жмакина искоса, вздохнул и сказал:
– Ох, и язык у тебя подвешен, прямо колокол громкого боя…
– На свои умственные способности никогда не жаловался, – скромно сообщил Жмакин. – Мальчишечка я развитой. Так вот, продолжаю беседу насчет своего доброго. Слышал я, будучи временно в заключении, попросту – в тюряге, что мироед в давние времена конокрада убивал смертью. Или, я извиняюсь, – Алексей изысканно вежливо повернулся к Малышевой, – извиняюсь за выражение, загоняли конокраду кол пониже спины, то есть в область таза, и через страшные мучения такой бедолага помирал. Всё за свое, за нажитое…
– Это для меня – мораль? – поинтересовался летчик.
– Никакая не мораль, а к слову.
– Ну, если к слову, то пойдем! Где у вас тут ближайшее отделение милиции?
– Меня в отделение нельзя сдавать, – значительно произнес Жмакин. – Не тот, братушка, у меня профиль. Меня исключительно на площадь Урицкого можно сдавать – в Управление.
– Смотаться хочешь по дороге?
– Можете не трепать чего зря свои нервы, – сказал Жмакин. – А ежели беспокоитесь, можете послать вашу даму на стоянку за такси…
И на мосту, и на набережной Жмакин молчал. Малышева что-то шептала все время своему Виталику, а он отвечал односложно:
– Не выйдет!
Или:
– Чтобы впредь неповадно было.
Или еще:
– Нахален больно!
На площади Жмакин провел уже несколько смутившегося летчика к дежурному и попросил разрешения соединиться с Лапшиным. Дежурил Макаров – тот самый, который помог когда-то Жмакину добраться до санчасти, – это было, когда Алексей «повязал» Корнюху, и нынче, узнав Жмакина, он сказал, что Иван Михайлович уехал домой, а в его кабинете, кажется, Окошкин.
– Соедините-ка меня, попрошу, – уже совершенно расхамев, произнес Алексей, подул в трубку и, кося глаза на Виталия, сказал:
– Окошкин? Приветик, Василий. Это Жмакин беспокоит. Как жизнь молодая? Тут я снизу, от дежурного. Дело имеется довольно-таки неотложное. Нет, не один, со мной двое. Во-во!
Покуда он говорил, на лице у Макарова появилось загадочное выражение, а бедный Виталик совсем приуныл и расстроился.
– Вот таким путем, – сказал Жмакин, передавая трубку Макарову. – Сейчас разберемся во всей этой баланде, выясним, что к чему и отчего почему…
В голосе его прозвучали даже немного угрожающие интонации.
Молча, в сопровождении помощника дежурного, пошли они по лестницам и коридорам и наконец отворили дверь в комнату, где прилежно чистил маузер Криничный. Вскинув на Алексея глаза, Криничный сказал весело: «Здорово, старик, чего это ты заявился на ночь глядя?» – чем уже донельзя смутил бедных Малышеву и Виталика, Жмакин же буркнул человеку с маузером нечто загадочное и, как показалось летчику, даже высокомерное…
В лапшинском кабинете, где расположился со своими папками Василий Никандрович Окошкин, Жмакин, подробно и ничего совершенно не скрывая, рассказал, как «воспользовался» вещами летчика и как «ввел в заблуждение» Малышеву. Оттого, что Жмакин называл Окошкина «Васей», Василий Никандрович слегка поморщился, словно бы побаливали у него зубы, но терпел, зная штуки Жмакина.
– Все? – спросил он довольно раздраженно, когда Алексей «закруглился».
– В основном, все.
– Тогда пойдите пройдитесь, я вас вызову.
– Новости! – удивился Жмакин. – Это зачем?
Но потерявший терпение Окошкин так на него взглянул, что Алексей, решив не портить отношения с человеком, когда-то им обиженным, взял у него из пачки папироску и пошел поболтать с Криничным.
– Кого это ты приволок? – поинтересовался Криничный.
– Опознал меня в скверике чертов летчик, – вздохнув, сказал Жмакин. – Привязался со своим чемоданом.
– А было дело?
– Было дело под Полтавой, дело славное, друзья, – сказал Жмакин и потрогал маузер. – Хорошо бьет?
– Ничего машина.
– Со временем заимею.
– С паспортом как дела?
– А никак. Тянут – бюрократы. Права днями получу, а паспорта и военного билета не имею. Вроде бы и не человек. Другие в армию идут, а я как собака…
– Навоюешь еще, успеется.
– Война-то будет?
– Война? Непременно. И большая. Иван Михайлович недавно рассказывал…
Отворилась дверь, и Окошкин сердитым голосом позвал Жмакина в лапшинский кабинет. Когда Жмакин вошел, Малышева сидела вся красная, а летчик негромко говорил:
– Вообще, наплевать, единственно что жалко – зажигалка там была дивная, ребята подарили…
– Да у тебя их десять, – со слезами в голосе воскликнула Малышева. – Десять или двадцать…
– Четыре! – кротко сказал летчик.
Он поднялся.
– Товарищ Пичета к вам претензий не имеет, – повернувшись к Жмакину, сказал Василий Никандрович, – но лично я считаю, что рано или поздно вам придется расплатиться за нанесенный ущерб…
– А какая это Пичета? – нарочно спросил Жмакин.
– Пичета – это я! – сказал летчик.
– Об чем речь! – воскликнул Алексей. – Гарантия есть, нужна только рассрочка. Если товарищ Пичета ошибочно предполагает, что я взял за всю свою кошмарную жизнь только его барахло, то он горько ошибается. С того чемодана обносков я не больно забогател, и на день, кажется, покушать не хватило…
Жмакин говорил, коверкая слова, юродствуя и распаляя себя. Теперь ему казалось, что он и впрямь глубоко и незаслуженно оскорблен бедным Пичетой. И он искренне возмущался.
– Ладно, Жмакин! – прервал его Окошкин. – Хватит, картина ясная…
– Далеко не ясная! – заявил Жмакин. – Мне это, например, что Пичета вроде прощает, совершенно без внимания. Я тоже имею свое самолюбие. И будьте покойны, им все будет возвращено, до последней паршивой зажигалки, но зарабатывать на себе я никому не позволю, поскольку я человек трудовой и должен знать точно, во сколько пострадавший оценивает свои шмутки…
– Ладно, пойдем, – попросил потный Пичета, – договоримся…
– Договариваться я желаю в официальном месте при большом начальнике товарище Окошкине! – произнес Жмакин. – Чтобы было оформлено документом.
– Мы никаких претензий решительно не имеем, – звонко сказала Малышева. – Мы все поняли и просим извинения.
Жмакин повернулся к Окошкину и велел!
– Вы – запишите!
Василий Никандрович тихонько скрипнул зубами. Алексей со своими «пострадавшими» ушел. На улице летчик попросил:
– Пойдем, закусим маленько.
Алексей заломался:
– Я человек малозарабатывающий, одет некрасиво, могут и не пустить…
– Пустят! – угрюмо пообещал летчик.
И опять они пошли – Малышева впереди, а Пичета и Алексей на несколько шагов сзади.
– Я, кстати, на ней женат! – сказал летчик про Малышеву. – Приехал тогда – гол как сокол, она меня и приютила. Обогрела, понимаешь, накормила. А когда в саду я тебя увидел, ни за что не хотела подходить. «Он, говорит, нашу личную жизнь создал, а ты ему его жизнь ломаешь…»
– Хоть какую-то благодарность имеет! – нагло сказал Жмакин. – За мелкие шмутки свое счастье не отдаст!
Ему и впрямь казалось, что он здорово обижен.
– Да я не за себя! – виновато сказал Пичета. – Я в смысле профилактики. Свое, понимаешь, черт с ним, а вот…
– Принципиальный ты, – усмехнулся Алексей. – Ну, здорово принципиальный! За других мучаешься…
И, окликнув Малышеву, он сухо с ней попрощался, объяснив, что не может с ними «выпивать и закусывать», так как завтра ему работать с утра, а работа у него нелегкая, «не в самолетике летать!»
Так кончилось это приключение, и, хотя он и вышел из него вроде бы победителем, все равно на сердце было тошнехонько.
Никанор Никитич не спал, когда Алексей вернулся в часовню.
– Добрый вечер, – сказал Головин, – чайку не желаете?
Он отложил книгу, снял пенсне и, улыбнувшись доброй улыбкой, подошел к Жмакину.
– Ну? – спросил он, упираясь пальцами ему в живот. – Значит, завтра?
– Что завтра?
– А вы не знаете?
– Ничего я не знаю.
Оказалось, что в отсутствие Жмакина звонил Пилипчук: завтра Алексею получать права.
– Это как получать?
– Естественно, как всем. Сдадите экзамены и получите эдакую книжечку – водительские права.
И началась сумасшедшая ночь.
Почти до рассвета Никанор Никитич должен был экзаменовать Алексея. Он спрашивал и о правилах проезда регулируемых перекрестков при совместном движении различных транспортных средств, и про дегазацию автомобиля. Ему требовалось знать во всех подробностях, как наблюдают за дорогой через левое и правое плечо. Подробно и дотошно Жмакин докладывал ему схему главной передачи с коническими шестернями и схему дифференциала, кривошипно-шатунного и распределительного механизмов, систему смазки двигателя и способы устранения неисправностей системы питания.
Головин крутил пенсне на пальце, прихлебывал холодный чай, важно, словно и вправду был экзаменатором, наклонял голову, кивая на точные и короткие ответы Жмакина.
– Думаю, что вы в курсе предмета, – наконец сказал он. – Надо надеяться, что все будет отлично. Знания ваши фундаментальны, человек вы способный, даже одаренный…
Вот этого Жмакину говорить и не следовало. Во всяком случае, Лапшин никогда такой опрометчивой фразы бы не произнес, особенно на рассвете. С достоинством выслушав похвалы уважаемого им Головина, Алексей позволил себе с ним не согласиться. Иронически улыбаясь, он сказал, что не считает себя просто способным. Он еще всем покажет – каков он таков, некто Жмакин. Они у него слезами умоются – все эти шоферишки и инструкторишки. Пусть только дадут ему машину и права. Он не две и не три плановые нормы «ездок» будет выполнять, он переворот сделает в технике вождения грузомашин и в технике переброски грузов…
Уже совсем заря занималась, уже бедный Головин и засыпал и просыпался, уже заурчали во дворе автобазы прогреваемые машины «дальнобойщиков» перед выездами в далекие рейсы – Жмакин все хвастался. По его мнению, здесь вообще не было ни единого водителя, достойного управлять хорошей машиной. И заработки у них плохие исключительно по собственной вине.
– Вот увидите! – вдруг закричал Жмакин так громко, что бедняга Никанор Никитич проснулся и подхватился бежать. – Вот увидите, я с первой получки целиком в бостон и габардин оденусь. Я себе такие корочки куплю…
– А зачем же вам… корочки? – удивился Головин.
– В смысле ботинки…
– Ах, ботинки?
И старик опять задремал сидя. Он не смел лечь в этой жмакинской буре, в этом воющем смерче хвастовства, в этих бешеных раскатах мечтаний о том, как Жмакину предложат комнату, нет, не комнату, а квартиру, как ему автобаза сама все обставит и как почему-то его вызовут в Кремль.
– Куда? – вновь подхватился Головин.
– В Кремль! – непоколебимо твердо сказал Жмакин. – А что?
– Конечно, почему же, – закивал головой Никанор Никитич. – Непременно…
Почистим желтые?
…Дядечка в очках в углу лапшинского кабинета шуршал журналом. Алексей погодя вспомнил – это тот самый дядечка, который в больнице, когда умирал Толя Грибков, сидел на подоконнике и кричал на Жмакина, чтобы тот не смел кончать с собой.
– Ну, дальше! – сказал Лапшин. Выражение лица у него было строгое.
– Дальше, Иван Михайлович, материальный фактор тоже кое-что значит…
Лапшин вежливо попросил не обучать его «элементарным основам». Дядечка в углу смешно хрюкнул.
– Поконкретнее! – попросил Лапшин.
– Поконкретнее будет то, что мне на эти деньги, я извиняюсь, не прожить, – подрагивая щекой, сказал Жмакин. – Я ведь все в долг, гражданин начальник, все, понимаете, «за потом», а когда это «потом» наступит? Я вроде бы женатый, мне пора и к месту, в семью идти, а я что же, их объедать стану? Ребенок народится – я ему вроде никакую там рогульку купить не смогу?
– Какую такую рогульку? – спросил Лапшин.
– Ну, игрушку, шут их знает, какие игрушки бывают.
– А долги у тебя какие? Вернее, что ты долгами считаешь?
– Разные у меня долги, – угрюмо ответил Жмакин. – Не будем уточнять.
– Все-таки, может, уточним?
– Пожалуйста, гражданин начальник…
«Гражданин начальник» он говорил нарочно, от бешенства. А Лапшин как бы ничего не замечал.
– Например, имел я несколько подачек. Подал мне «на бедность» поначалу Егор Тарасович Пилипчук. Я в бухгалтерии проверял, там эти суммы не значатся, таким путем – из его кармана. Раз. Опять же Хмелянскому охота в его очкастую рожу кое-какие, как прежде выражались, ассигнации запустить. У Криничного жил – кушал, и пил, и его курево курил, – это как? Если у меня замаранное прошлое – значит, я вроде попрошайки, без отдачи? У Головина, божьего старичка, десятку стрельнул. У вахтерши Анны Егоровны…
– Допустим, – сказал Лапшин. – Согласен, так! А другие долги ты не собираешься возвращать?
– Это какие же такие долги?
– Не догадываешься?
Жмакин догадывался и молчал. Что он мог сказать? Что отдаст? Из каких денег мог он выплачивать уворованное – большие тысячи, которые числились за ним. А Лапшин между тем, вздев на нос очки, полистал толстую тетрадку и стал вслух читать вписанные туда даты, обстоятельства и суммы, причем даже сумочки и бумажники были оценены.
– Это кто же на меня такую бухгалтерию двойную завел? – угрюмо осведомился Алексей.
– У нас на все бухгалтерия имеется, – ответил Лапшин. – Только ты, Алеха, не злись, злиться-то не на кого, надо выход из положения искать. Что можешь предложить?
Дядечка в углу аппетитно закурил. Жмакин хотел было попросить у него папироску, но, заметив, что тот чему-то улыбается, не попросил и отвернулся от него. Лапшин, насупившись, листал свой «псалтырь».
– Предложить я могу, да толку не будет, – совсем угрюмо, почти злобно сказал Жмакин. – Предложение у меня такое, что могу я сам и грузить мясные туши и прочие изделия, и разгружать могу. Но только с моим прошлым и без паспорта меня на пушечный выстрел к такой миллионной ответственности не подпустят.
– Это вздор! – сказал дядечка в углу.
– Подожди, Львович! – попросил Лапшин.
Дядечка замолчал.
– Я как грузчик вполне справлюсь, – сказал Жмакин. – Я мальчишечка здоровущий, мои жилы никто не перервет, а за баранкой – это же для дамочек работа. И тут, гражданин начальник, как хотите…
– Брось ты с «гражданином начальником»! – неожиданно крикнул Лапшин.
– Как хотите, – дрожащим голосом продолжал Жмакин, – но вопрос принципиальный. Или давайте меня обратно за решетку после всех кошмаров моей жизни, или будьте так добры, доверьте машину с говядиной…
– А со свининой? – глядя в зеленые глаза Жмакина, спросил Лапшин. – Ох, Алеха, Алеха, кто кошмар моей жизни – так это ты!
Жмакин опустил голову. Он знал, как не выносит Лапшин всякие жалкие и жалобные слова, и опять не удержался. Верно, что кошмар его жизни!
Молчали долго, Лапшин опять думал. Погодя спросил:
– Львович, ты понимаешь, в чем дело?
Худой дядечка в очках поднялся со стула, прошелся по кабинету и сказал хмуро:
– Понимаю и предполагаю, что мы это дело пробьем.
– Вы – прокурор? – строго спросил Жмакин.
– Почему это прокурор? – удивился Ханин. – Почему?
– А потому, что прокурору такую бесчеловечность пробить – запросто.
– В общем, мы разберемся, – поглядывая на Ханина, сказал Лапшин. – Предполагаю, что это дело вот товарищ – он журналист – выяснит, и мы все сообща тебе поможем. Будешь грузить свинину, говядину, баранину, чего там еще?
– Колбасные изделия, – без улыбки сказал Жмакин.
– Еще что?
– Еще… паспорт бы!
– Помню. Еще?
– Вроде бы все.
– Ну все так все.
Алексей поднялся. Лапшин внимательно на него смотрел. Что-то изменилось в Жмакине, а что – он не мог понять. То ли плечи стали шире, то ли весь он погрузнел, то ли глаза глядят строже…
– Чего вы? – смущаясь, спросил Жмакин.
– Вроде бы изменился ты.
– Я? Уже две недели самостоятельно работаю – может, это?
– Может.
– А вы, слышно, приболели?
– Приболел малость…
– Ваши годы, конечно, не молодые! – с приличным вздохом произнес Жмакин. – За здоровьем нужно внимательно следить.
– Ладно, иди, – усмехнулся Лапшин. – «Ваши годы»! Куда сейчас двинешь?
– В знаменитое кафе «Норд», – сказал, подумав, Жмакин. – С получки, никого не боясь, пирожки стану кушать и кофе с молоком пить. А то и какао. Красиво и смело начинаю новую жизнь.
В «Норде» Жмакин сел за столик под белым медведем, нарисованным на зеленом стекле, почитал газету и с маху наел на двадцать семь рублей одних сладостей, решив, что теперь по крайней мере месяц не захочется сладкого. Осталось меньше семидесяти рублей. Два рубля он дал на чай, купил пачку папирос за пять и уткнулся в газету, а когда поднял глаза, то увидел, что в кафе входят Клавдия в миленьком синем платье и Федя Гофман, розовый, подобранный, сухощавый и самодовольный. Жуя приторное пирожное с кремом, Жмакин спрятался за газету и взглядом, полным гнева, следил, как белобрысый Федя по-хозяйски выбирал столик и как улыбалась знакомой робкой улыбкой Клавдия. На ней были новые туфли с пряжками, и Жмакин сразу же подумал, что эти туфли купил ей Гофман. Жадными и злобными глазами он оглядел ее фигуру и вдруг заметил уже округляющийся живот, заметил, что бока ее стали шире и походка осторожнее.
«Мой ребенок, – подумал Жмакин, – мой». И, как бы споткнувшись, застыл на мгновение и усмехнулся, а потом тихим голосом подозвал официанта и заказал себе сто граммов коньяку и лимон.
Клавдия и Гофман сидели неподалеку от него, наискосок, в кабинете, и не замечали, что он следит за ними, а он смотрел, и лицо у него было такое, точно он видел нечто чрезвычайно низкое и постыдное.
Гофман сидел вполоборота к нему, и особенное чувство ненависти в Жмакине возбуждала шея Гофмана, подбритая и жилистая. «А ведь ничего парень, – думал Жмакин, – даже не хуже меня, если не лучше». И он представлял себе, как Гофман обнимает Клавдию и как Клавдия дотрагивается до этой жилистой подбритой шеи. Мучаясь, облизывая языком сухие губы, он с яростным наслаждением вызывал самые мерзкие образы, какие только могли возникнуть в мозгу, и примеривал эти образы к Клавдии, и тут же грозил ей и ему, и придумывал, как он подойдет сейчас к ним к обоим, скажет какое-то главное, решающее слово на все кафе, а потом начнет бить Гофмана по морде до конца, до тех пор, пока тот не свалится и не запросит пощады.
Он выпил коньяк и заказал себе еще.
Гофман подпер лицо руками и говорил что-то Клавдии, а она, роясь в сумочке, рассеянно улыбалась. Им принесли кофе и два пирожных.
«Небогато», – со злорадством подумал Жмакин.
Уронив папиросы, он нагнулся, чтобы поднять их, и, когда брал в руки газету, увидел, что Клавдия смотрит на него.
«Поговорим», – холодея и напрягаясь всем телом, как для драки, подумал он, но не встал, а продолжал сидеть в напряженной и даже нелепой позе – в одной руке палка с газетой, в другой – коробка папирос.
Она подошла сама и остановилась перед ним, робкая, счастливая, прелестная. Грудь ее волновалась, на лице вдруг выступил яркий и горячий румянец, и какая-то дрожащая и неверная улыбка появилась на губах.
– Лешенька, – проговорила она покорным и потрясающе милым ему голосом.
Он молчал.
– Леша, – опять сказала она, и он увидел по ее глазам, что она испугалась и что она понимает – сейчас произойдет нечто ужасное. – Леша, – совсем тихо, с мольбой в голосе сказала она.
Тогда, почти не раскрывая рта, раздельно и внятно, на все кафе, он назвал ее коротким и оскорбительным площадным именем. И спросил:
– Съела?
В соседних кабинах поднимались люди. Гофман встал и, обдергивая на себе пиджак, крупным шагом подошел к Жмакину. Явился откуда-то кривоногий швейцар. Все стало происходить как во сне.
– Тихо, – сказал Гофман, – сейчас же тихо.
– Я вас всех убью, – скрипя зубами и наклонив вперед голову, сказал Жмакин. – Я вас всех порежу…
В его руке уже был нож, тупой нож со стола, и он держал его как надо, лезвием в сторону и книзу. Подходили люди. Женщина в зеленой вязаной кофточке вдруг крикнула:
– Да что же вы смотрите! Он же пьян!
– Отдать нож, – фальцетом сказал Гофман.
Жмакин поднял голову и поднял нож. И тут, неловко присев, Гофман отпрянул за Клавдию. Нож в занесенной руке Жмакина дрожал. Он сразу не понял, что произошло. А когда понял, почти спокойно положил ножик на тарелку, сказал: «Извините» – и пошел к выходу. Его остановили. Он отмахнулся. Его опять остановили.
– Извините, товарищ, – сказал он, – мне идти надо.
И, чувствуя странную легкость в теле, вышел на улицу. Там его догнала Клавдия. Он посмотрел на нее, улыбнулся дрожащими губами. Она взяла его за руку и повела в Пассаж.
– Ничего, ничего, – говорила она, – ничего, пойдем.
Он шел покорно, молча.
В углу, возле автоматов, они остановились.
– Ну, – сказала она, – что с тобой?
– Я тебя люблю, – ответил он, и губы у него запрыгали, – я тебя люблю, – повторил он со злобой, страстью и отчаянием, глядя в ее лицо. – Слышишь ты? Я, я…
Слезы мешали ему говорить.
– Не плачь, – голосом, полным нежности и силы, сказала она, – не плачь.
– Я и не думаю, – ответил он, – меня только душит…
И он показал на горло.
– Почистим желтые? – спросил вдруг из темного угла притаившийся там чистильщик сапог.
– Зачем ты с ним? – спросил Жмакин. – Зачем он тебе нужен?
– Он мне вовсе не нужен, и вовсе я не с ним, – спокойно произнесла она. – Мне, Леша, никто ведь не нужен…
– Давай почищу желтые, – опять сказал чистильщик и сердито ткнул Алексея щеткой в ногу. – Почистим, начальник?
Алексей поставил ногу на ящичек, чистильщик принялся за работу. Потом, взявшись под руку, они вышли на улицу и сели в садике. Жмакин все еще задыхался.
– А Гофмана своего кинула?
– Потерялся наш Гофман, – сказала она, прижимаясь лицом к плечу Алексея.
Он засмеялся, потом закашлялся папиросным дымом и сказал:
– Я б его зарезал, не посмотрел, что моя жизнь будет окончательно кончена. Но только курей я не могу резать. Курица твой Гофман, хотя с виду довольно интересный.
Кашляя, он тряс головой и крепко сжимал ее холодную руку в своей горячей, уже загрубевшей ладони.
– Табак какой непривычный, – говорил Жмакин. – Ужас, какой табак. И тебя бы, как это ни странно, я насмерть зарезал, слышишь, Клавдя!
– Ох, страшно, – смеясь и все теснее прижимаясь лицом к его плечу, ответила она. – Ужас как страшно!
Потом она стала расспрашивать. Он отвечал ей про то, как живет, и что делает и, кто ему стирает белье. Мимо шла лоточница с мороженым, он подозвал ее и купил порцию за девяносто пять копеек. Но деньги он куда-то сунул и никак не мог найти. Лоточница стояла в ожидании, он все рылся по карманам. Клавдия поглядывала на него снизу вверх и облизывала мороженое.
– О, черт, – сказал Жмакин и принялся выворачивать карманы наружу. Денег не было.
Клавдия положила мороженое на бумажку, открыла сумочку и заплатила рубль. Лоточница дала ей пятак сдачи и ушла.
– История, – сказал Жмакин растерянным голосом, – тиснули у меня последнюю двадцатку. Я ее вот сюда пихнул, в кармашек.
Клавдия внезапно взвизгнула, захохотала и затопала ногами по песку.
– Ну, чего ты, дура, – сказал он, – чего смешного? Залезла какая-то сволочь в карман и тиснула…
У нее по лицу текли слезы, она швырнула в песок недоеденное мороженое и так хохотала, что Жмакину сделалось обидно.
– Да брось ты, – сказал он, – хороший смех!
И, подумав, добавил:
– Очень даже просто. В Пассаже тиснули, в подъезде. Такая толкучка безумная, а милиция ушами хлопает…
Клавдия опять прыснула, тогда он превратил все в шутку:
– Я же знаю, сам тут работал. Если с умом, толково можно действовать.
И, вновь рассердившись, передразнил чистильщика:
– Почистим желтые, почистим желтые! Одна банда! В пикет бы надо пойти, объяснить им по-русски, что к чему!
– Да ну тебя! – сказала Клавдия. – Еще в пикет!
Вечерело.
Погодя она попросила проводить ее в Лахту – если, конечно, он может. Она встала первой, а он еще сидел и смотрел на ее ноги в узеньких новых туфлях.
– Господин Гофман справил?
– Господин! – поморщившись, сказала она. – Какой ты, Лешенька, право, дурачок! Ну, вставай, пойдем!
И потянула его за руку.
На вокзале они влезли в вагон посвободнее и встали в тамбуре. По радио говорили о капитуляции Варшавы. Клавдия спросила шепотом:
– Тебя в военкомат вызывали?
– Ага, – быстро соврал он, – два раза.
– Без паспорта-то?
– А чего особенного? Паспорт мне подготавливается.
И он показал ей новенькое водительское удостоверение с фотокарточкой, где у него было старательное лицо.
Они стояли очень близко друг к другу, Клавдия дышала на него, и глаза у нее сделались робкими и печальными. Он держал ее руку в своей и перебирал пальцы.
– Теперь скажи, – велела Клавдия, – путаешься с девочками?
– Нет, – ответил он.
– И ничего такого не было?
– Одна была, Любочка, – запинаясь, сказал он, – но только я ничего такого не позволил себе. Ты что, не веришь?
– Дрянь какая, – сказала она, – сволочь паршивая…
Отвернулась и замолчала.
– Ну чего ты, Клавдя, – сказал он, – даже странно, Клавдя, а Клавдя?
Он дотронулся до нее, она ударила его локтем и всхлипнула.
– Чтоб я провалился, – сказал Жмакин, – чтоб мне руки-ноги пооторвало, чтоб я ослеп навеки. Слышь, Клавдя?
Она молчала.
– Играете со мной, – сказал он, – сами с Федькой путаетесь. Знаем ваши штучки!
Клавдия засмеялась со слезами в голосе, повернулась к нему, взяла его за уши и поцеловала в рот.
– Вор, жулик, бандит, – сказала она, – на что ты мне нужен, такая гада несчастная…
Поезд остановился.
Рядом стоял другой, встречный.
– Пойдем ко мне ночевать, – сказала Клавдия, – иначе я умру. Бывает, что среди ночи я проснусь и думаю, что если ты сейчас, сию минуточку не придешь, то я умру. С тобой так бывает?
– Нет, как раз так не бывает!
– А как бывает?
– Как-нибудь, – сказал он.
– А знаешь, – сказала она, – я тебя теперь все равно не отпущу. Это точно, как в аптеке. Точно и навечно.
Она говорила быстро, он никогда не видел ее такой.
– А мне отец знаешь, что сказал, знаешь? Он сказал: «Клавка, рожай. Ничего, прокормимся. Я заработаю. А ты маленько отойдешь – сама работать будешь. Бабка справится». Бабка тоже говорит: «Справлюсь», но плачет. В три ручья плачет. Стыдно ей, что без мужа. Какие глупости, правда?
– Я хвост собачий, – сказал Жмакин, – я не муж.
– Какой ты муж, – сказала Клавдия, – так, мальчишечка!
Они подошли к дому. На крыльце в рубашке «апаш» сидел Федя Гофман, курил папироску и глядел на небо. Жмакин обошел его, как будто он был вещью, и вошел в сени. Навстречу с грохотом вылетел Женька и, как когда-то, повис на Жмакине. Потом вышел Корчмаренко и спросил у Клавдии мимо Жмакина:
– Нашла?
– Нашелся, – розовея, сказала Клавдия.
Женька робко заговорил со Жмакиным. Он, видимо, ничего не знал. Появилась бабка. Увидев Жмакина, она увела его в кухню и, называя Николаем – по старому паспорту, – стала упрашивать записаться с Клавдией. А Клавдия стучала в кухонную дверь и кричала:
– Баб, не мучай его. Лешка, ты еще живой?
– Живой, – смеясь, отвечал он…
А бабка плакала и, утирая слезы концами головного платка, говорила ему, как сохнет и мучается без него Клавдия и что, какой он ни есть человек, пусть женится и дело с концом, а там будет видно.
– Эх, бабушка, – сказал Жмакин, – недалекого вы ума женщина. Что, я не хочу жениться? Если жизнь сложилась так кошмарно, при чем здесь я?
До ужина они сидели с Клавдией в ее комнатке и тихо разговаривали у открытого окна. Потом Клавдия принесла лампу и ушла собирать на стол, а он взял с подоконника книгу и тотчас же нашел в ней телеграмму на Клавдин адрес. Телеграмма была Клавдии, а подпись такая: «Целую. Жмакин». «Что за черт, – подумал он, – когда это я депеши посылал?» В книге была еще одна телеграмма, а в ящике и на полочке под слоником целая пачка телеграмм, и все подписанные Жмакиным. Он совершенно ничего уже не понимал и все перечитывал нежные и ласковые слова, которые были в телеграммах. «Это кто-то другой под меня работает, – вдруг со страхом подумал он, – это она с кем-то путается, это она вкручивает, что ли?»
Вошла Клавдия. Лицо у него было каменное. Она поглядела на него, на телеграммы и вспыхнула. Никогда он не видел таких глаз, такого чистого и в то же время смущенного взгляда.
– Это что? – спросил он и постучал пальцем по столу.
– Ничего, – сказала она.
– Это что такое? – опять громче спросил он.
– Дурной, – сказала она и, глядя ему в глаза, добавила: – Это я сама писала.
– Как сама?
– А сама, – сказала она, – не понимаешь? Сама. Чтоб они все не думали, будто ты меня бросил. Я ж знаю, что ты не бросил, – быстро сказала она, – я-то знаю, а они не знают. И еще я знаю, что ты, кабы догадался, такие телеграммы обязательно бы посылал. Или нет?
Румянец проступил на его щеках.
– Да или нет?
– Я не знаю, – сказал он.
– А я знаю, – ответила она, – я все знаю. И когда я, бывало, помню, все про тебя думала, так читала эти телеграммы…
Он молчал, опустив глаза.
– Пойдем, – сказала она и взяла его за руку. – Идем, там картошка поспела.
И они пошли в столовую, где вроде ничего не изменилось, но в общем изменилось все. Как будто бы так же, как тогда, зимой, лилась густая музыка из приемника, но почему-то все было немножко иначе. Жмакин посмотрел на приемник внимательно – нет, это был тот же приемник и стоял на том же месте. Женька, совершенно как в ту пору, размешивал какую-то дрянь в пробирке – занимался опытами по руководству «Начинающий химик», но и опыты выглядели иначе. На том же самом стуле с газетой в руке сидел Корчмаренко, но выглядело это не так, как раньше.
«Ах, вот оно что! – внезапно догадался Жмакин. – Я не боюсь больше! Я теперь ничего не боюсь, вот в чем все дело!»
Еще раз Балага
К ужину подавали рассыпчатый отварной картофель в чугунке, сельдь, залитую прозрачным подсолнечным маслом и засыпанную луком, и для желающих водку в тяжелом старинном графине. Старик Корчмаренко со значительным видом налил сначала себе, потом Жмакину, потом вопросительно взглянул на Федю Гофмана. Не отрываясь от газеты, Федя Гофман накрыл свою рюмку ладонью.
– Читатель, – сказал Корчмаренко.
Женька влюбленными глазами разглядывал Жмакина. Окна были открыты настежь, – в комнату с воли вливался сырой вечерний воздух. Протяжно и печально замычала в переулке корова. Гукнул паровоз. Старуха с хлопотливой миной на лице подкладывала Жмакину побольше картошки. Все молчали. Федя Гофман стеснял и Клавдию и Жмакина, может быть безотчетно он стеснял и других. На лице у него было написано недоброжелательство, а встретившись нечаянно глазами со Жмакиным, он покраснел пятнами и на висках у него выступил пот.
– Ну что ж, – сказал Корчмаренко, – выпьем по второй.
– Можно, – сказал Жмакин.
С третьей рюмки он на мгновение захмелел и сказал в спину уходившему Феде Гофману:
– А вы на земле проживете, как черви слепые живут, ни сказок о вас не расскажут, ни песен о вас не споют.
Федя дернул плечами и скрылся, а Корчмаренко спросил:
– Чего это случилось, а?
– У нее спросите, – ответил Жмакин, кивнув на Клавдию. – Она знает.
– Ладно, – сказал Корчмаренко, – потом на крылечке отдохнем.
Клавдия ушла к дочке, Женьку услали спать, а двое мужчин вышли на крыльцо курить табак. Корчмаренко молчал, пуская дым к светлому небу. Жмакин подозвал Кабыздоха и почесал ему за ухом. В соседних домах уже не было света, все тише и тише становилось в поселке, только собаки порою побрехивали да гукали на Приморке паровозы.
– Но, Жмакин? – спросил наконец Корчмаренко неуверенным голосом.
– Чего – но? – отозвался Алексей.
– Как вообще дела?
– Да никак, – сказал Жмакин, – в правительство пока что меня не выдвинули. На сегодняшний день.
– А я думал, выдвинули, – сказал Корчмаренко. – Незадача!
– То-то, что нет, – подтвердил Жмакин. – Нет и нет!
Помолчали.
Корчмаренко притворно зевнул.
– Спать, что ли, пойти, – ненатурально предложил он.
– Можно и спать, – согласился Алексей.
– Ой, Жмакин, – кашляя, сказал Корчмаренко, – не выводи меня из себя.
– Да ну там, – усмехнулся Жмакин, – как это я вас вывожу?
– Воруешь?
– Нет.
– Работаешь?
– Да.
– Хорошо работаешь?
– А зачем хорошо работать? – понемножку раздражаясь, сказал Жмакин. – Это нигде не написано, что надо хорошо работать.
– Значит, филонишь?
– Филоню. Вы же знаете, какой я несерьезный человек!
Молча и быстро они поглядели друг на друга.
– У, подлюга, – жалобно сказал Корчмаренко.
Жмакин рассмеялся, отпихнул от себя собаку и встал.
– Если я такой уж распоследний негодяй, – щурясь на Корчмаренко, сказал он, – если я, по вашему мировоззрению, только и могу, что филонить, то зачем вы все коллективно за меня поручились и к самому товарищу Лапшину ходили? Думаете, Жмакин не знает? Жмакин на большие километры под землей видит – вот какой он человек, этот самый Жмакин.
– Ишь! – сказал Корчмаренко.
– За ваши поручительства я, конечно, благодарен, – продолжал Алексей, – но они ни к чему. Я сам кое-что из себя представляю. И если я поддался на уговоры товарища Лапшина и дал слово перекрестить – значит, все, амба!
Корчмаренко опять удивился или сделал вид, что удивился.
– Но?
– Точно! Вы мою жизнь не знаете и не дай бог вам узнать!
– Здорово героическая?
Наконец Жмакин понял, что Корчмаренко его дурачит, рассердился, сухо попрощался и ушел.
Клавдия уже лежала в постели, когда он вернулся. Снял башмаки, пиджак, аккуратно развесил на спинке стула и спросил у Клавдии, как ей показался Иван Михайлович Лапшин.
– Замечательный товарищ, – сказала Клавдия. – Очень даже хороший.
– Все мы хорошие для себя, – сказал Жмакин. – Я для себя, например, самый лучший.
– Вот и неправда, – не согласилась Клавдия, – ты для себя самый худший, а не самый лучший.
Он подумал и согласился.
В пять часов утра он, оставив ее спящей, уехал в город, сгонял в автобазовский душ и, не позавтракав (не на что было), погнал машину на бойню. Дождь сек в смотровое стекло, хотелось есть, и неинтересно вдруг до одури стало слушать рассуждения грузчика Вереи насчет того, как он отрежет «кусманчик» баранинки и отдаст его на кухню тете Тасе сжарить к обеду.
– С чесночком… Понятно? – говорил Верея и причмокивал толстыми губами. – С чесночком и с перчиком. Это, брат, не нарпитовский гуляш – кусманчик килограмма на полтора.
– Ты, Верея, слышал, что я сидел? – спросил, лихо вертя баранку, Алексей.
– Мало чего люди болтают…
– А за что сидел – слышал?
Грузчик покосился на Жмакина. Что-то в жмакинском тоне ему не понравилось.
– Не слышал? Так я тебе скажу: упер у меня напарник мой, грузчик, ящик макарон «экстра». Я его пером и кончил.
– Каким таким пером? – блеющим голосом осведомился Верея.
– Это у нас, у кровавых бандитов, нож так называется, которым мы людей режем. Так вот именно за это я срок получил – все-таки убивать, конечно, некрасиво, неэтично вернее, а теперь я выпущен и получаю чистый паспорт.
– Так, господи, мяса ж кусманчик – никто не обеднеет!
– Я это не люблю! – коротко сказал Жмакин и расстроился: у Вереи он хотел стрельнуть хоть пятерку до получки, теперь из этого, конечно, ничего не получится.
Покуда принимали машину, Алексей дремал за рулем. В кабину заглянула Люба, спросила:
– Чего это вы, Алеша, такие нынче тихие?
– Одолжи пятерку! – строго велел Жмакин. – Я получку обронил…
Люба ахнула и одолжила. Жмакин, кряхтя, отправился в столовую, съел три разных супа, купил штучных папирос и отворил дверь в часовню. Здесь Пилипчук и Никанор Никитич пили чай и играли в домино – забивали козла. Вежливо поздоровавшись, Алексей улегся на своей раскладушке в алтаре и сразу же задремал.
– Тебе письмо, Алеша, – сказал, покашливая, директор, – я за тебя расписался.
Жмакин вышел, шлепая босыми ногами. Пилипчук протянул ему большой твердый конверт со штампами и наклейками. Сделав непринужденное лицо, Жмакин вскрыл конверт и вынул оттуда несколько бумаг, сколотых булавкой. Бумаги были твердые, толстые, аккуратные, и на всех были фиолетовые печати и значительные подписи с энергическими росчерками и хвостами. От волнения у Жмакина тряслись руки и глаза бестолково косили, так что он толком ничего не мог разобрать и разобрал только одни штампы и подпись прокурора республики. На другой бумаге сообщалось решение Верховного суда и было слово «отклонить», и Жмакин сразу же помертвел и выругался в бога и в веру, но Пилипчук взял у него из рук бумаги и мерным голосом все растолковал ему.
– Значит, дадут паспорт? – страшно расчесывая голую грудь ногтями, спросил Жмакин. – Или я ошибаюсь, товарищ Пилипчук?
– Несомненно дадут, – сказал Пилипчук, – тут имеется прямое на этот счет указание.
– Временный?
– Зачем же временный, – поблескивая медвежьими глазками, сказал Пилипчук, – получишь отличный паспорт, постоянный.
– Интересно, – сказал Жмакин и ушел опять к себе в алтарь.
Тут на раскладушке он разложил на голом животе бумаги и конверт и стал, нахмуриваясь, вчитываться в драгоценные фиолетовые слова, рассматривать подписи, печати с гербом Союза и даже поглядел одну печать на свет. Все было точно, ясно и правильно, и эти бумаги вполне заменяли ему паспорт на сегодняшнюю ночь, они даже были почетнее паспорта, потому что паспорта есть у всех, а такие бумаги отыщутся далеко не у каждого, особенно эта большая бумага с подписью самого Михаила Ивановича Калинина. Это он, всероссийский староста, подписал бумагу Жмакину, тут все правильно в этой бумаге, и никто уже теперь ничего не посмеет возразить, потому что Михаил Иванович не такой человек, с которым может спорить, допустим, начальник какого-нибудь паспортного стола.
«Чуть что – теперь к нему! – раздумывал Жмакин, глядя в потолок, – чуть что, прямо в приемную и прямо к главному секретарю товарища Калинина. Извиняюсь, не помните ли вы одного чудака, по фамилии Жмакин. Так я и есть этот самый Жмакин. Ну, тут, конечно – очень приятно, садитесь, пожалуйста, будьте любезны…
И ему рисовались необыкновенно приятные картины, связанные с тем, что вот тут у него эта бумага, но тотчас же он вдруг испугался, что когда станут выдавать паспорт, то бумагу с подписью Калинина отберут.
– Ну, это не выйдет! – вслух сказал он. – Не пройдет ваш номер.
– Что? – спросил Никанор Никитич.
– Это я машинально! – сказал Жмакин и, задремывая, стал обдумывать, как украдет бумагу с подписью Калинина после того, как ему выпишут паспорт.
Тотчас же появился Лапшин, большой стол, на нем стопкой, как блины на блюде, лежали чистые паспорта, Алексей сам себе заполнял одну за другой – эти книжечки, а главная бумага была, разумеется, при нем.
…Проснулся он очень скоро, перечитал все свои бумаги, завернул их в газету, спрятал за пазуху и, еще раз одолжив у Никанора Никитича червонец, пошел на почту – отправлять в Лахту телеграмму про Калинина и насчет будущего паспорта.
На Малом проспекте, на углу, возле пивного ларька, стоял знакомый человек: Жмакин заглянул сбоку поближе и узнал Балагу. Желтый свет изнутри ларька освещал мятое лицо старого ямщика, нечистую руку с отросшими ногтями и толстую махорочную самокрутку, которую Балага посасывал, беседуя с одноглазым инвалидом-ларечником.
«Отыскался старичок!» – подумал Жмакин и немного удивился, что Балага крутится тут, на Васильевском острове. А может, это и не он?
Миновав один раз ларек, он вернулся и, слегка оттолкнув Балагу, спросил себе папирос «Блюминг» – пачку за шестьдесят пять копеек.
– Леха! – приветливо и осторожно сказал Балага. – Здравствуй, орел!
– А, Балага! – равнодушно ответил Жмакин и, взяв сдачу, пошел по Четвертой линии мимо тяжелых каменных домов, осклизлых и намокших от нынешнего унылого и длинного дождя.
– Не осенний мелкий дождичек, – сказал Балага, ковыляя сзади, – брызжет, брызжет сквозь туман…
Жмакин внезапно и резко остановился. Балага, едва не налетев на него, тоже затормозил и даже уперся посошком в мокрый тротуар перед собою.
– Тебе чего тут надо? – негромко спросил Алексей.
– Мне? А ничего! Совсем даже ничего, – торопливо заговорил Балага. – Случайность это, Леха, исключительно случайность…
– Где прятался?
– Я-то? И не прятался вовсе. Зачем мне прятаться? Разве я чего худое делал?
В большом черном провале ворот старого доходного дома, под лампочкой, на стуле сидел парень в кепке и медленно перебирал струны гитары. Вокруг него несколько девушек и парней молча лузгали семечки.
– Не сажали тебя? – спросил Балага.
– За что же меня сажать?
– А за Корнюшеньку? – усмехнулся Балага. – Или вы с ним так и не увиделись?
Жмакин молчал. Ему было понятно, что Балага спрашивает не из любопытства, что здесь замешана кодла, но в жмакинском кармане было письмо за подписью Калинина, завтра ему идти получать паспорт – чего же ему бояться? Расправы воровского судилища?
– Тебя, старый пес, кто подослал?
– Меня? – воскликнул Балага. – Меня-то? Да разве я? Да ты что? Ты как обо мне думаешь…
– Ну ладно, черт с тобой! – произнес Алексей. – Некогда мне болты болтать. А кодле доложи: плевал на них Лешка-Псих. Ясно?
Он резко, плечом вперед повернулся и пошел к Среднему проспекту, к почтовому отделению. Шел и слышал, что Балага не отстает от него, покашливает, постукивает посошком по плитам тротуара, словно слепой, стараясь не потерять его из виду.
– Жмакин! – наконец позвал он. – Леша!
– Чего? – замедляя шаг возле ярко освещенной витрины молочного магазина, спросил Алексей.
– Леша, – спеша и задыхаясь, заговорил Балага, – ты им скажи, на площади, скажи товарищу Лапшину, кто тебе Корнюху дал. Я дал, Балага. Я вас свел и дорогим нашим товарищам милицейским помог. Ты скажи, Лешенька, выручи старичка, что ж мне так-то и вовсе пропадать. За Корнюху тебе одному благодарность вышла, а я как? Пусть меня милицейские простят…
– Полицейские тебя простят, а не милицейские, – с жесткой усмешкой отрезал Жмакин. – Тоже, нашелся. Кодла тебя ко мне подослала, а ты два дела враз хочешь сделать. И нашим и вашим. И кодле рассказать, где ты меня отыскал, и к Корнюхиной амбе примазаться… Пошел, старый козел, отсюдова вон, понял?
– А если я в своей преступной жизни давно раскаялся? – зашипел Балага. – Если я тоже желаю на светлую дорогу жизни выйти? Знаю, ищут они меня, Балага все знает, но ты-то, гусь, разве Корнюху бы без меня повязал? Герой какой! Я тоже желаю благодарность заиметь, я тоже желаю премию, прописку…
Не дослушав, Жмакин опять зашагал к почте. Было тошно и мерзко на душе и хотелось уйти подальше от Балаги, забыть его или, может быть, ударить. Но он тащился и покряхтывал сзади и в почтовое отделение тоже вошел почти вместе со Жмакиным.
В окошечке Алексей взял бланк и долго сочинял телеграмму, которая никак не получалась. Измучившись, он подал какую-то ерунду. Здесь было написано и про Михаила Ивановича Калинина, но так непонятно и путано, что телеграфистка, раздражительная, морщинистая, с бархоткой на шее, велела переписать все короче. Жмакин опять уселся за стол. Балага поглядывал на него с мутной улыбкой, подбирал пальцем слезинки, кашлял. Телеграфистка позвала Жмакина из своего окошечка:
– Молодой человек!
Он подошел.
– В чем у вас, собственно, там дело? Объясните, я напишу.
– Дело ясное, – строго ответил он. – Я находился в заключении, в тюрьме, понятно?
– Понятно!
– Еще бы не понятно! – со смешком просипел, кашляя, Балага. – Очень даже понятно!
– Был несправедливый приговор, – громко сказал Жмакин. – То есть он справедливый, но не совсем…
– Вы упоминаете товарища Калинина, – сказала телеграфистка, – я не могу, не заверив…
Жмакин показал ей бумагу с подписью Михаила Ивановича.
– Замечательно! – сказала телеграфистка. – Я вас от души поздравляю.
– Спасибо, – сказал Жмакин. – А подпись напишите так: вечно твой Алексей.
– Вечно твой Алексей, – продиктовала себе телеграфистка. – Так. Семь рублей сорок три копейки…
На улице Жмакин сказал Балаге:
– Теперь проводи меня, раз так.
– Раз как? – испуганно не понял Балага.
– Раз ты в курсе. Я ни от тебя, ни от кодлы скрываться не намерен, ясно?
– Брось, Леха, чего ты, – заныл Балага. – Я за тебя очень даже рад, что ты вышел на светлую дорогу жизни…
– Кодле перескажи, – продолжал Жмакин жестко, весело и насмешливо, – Лешка Жмакин не сука, он сам один повязал вооруженного Корнюху, дело было чистое, а повязал за кровь. Кровь никому не положено проливать, а Корнюха ваш в кровище по колени. Скажи еще кодле, что теперь Жмакин имеет пистолет и никого к себе не подпустит, чтобы забыли даже навечно про меня. Все! Катись!
Балага снял картуз и поклонился.
– Может, со своего сумасшедшего богатства старичку десяточку подаришь? – попросил он. – Или побольше? Рубликов пятьдесят?
– Вали! – приказал Жмакин. – Иначе порежу! Не лазай, чертов козел, где не надо!
– Да ты что, одурел? – спросил Балага. – Я где переспать ищу, а он – порежу.
– Знаем, переспать, – сказал Жмакин. – Что у тебя – квартиры нету?
– Моя квартира, брат, сто первый километр, – сказал Балага. – Парий я, вот кто.
– Ну и вали на сто первый, если ты парий!
И он пошел вперед, стараясь не думать о том, что Балага его выслеживает. Что, в самом деле! На перекрестке прохаживался милиционер в каске, в перчатках, при нагане. «Как-нибудь, – решил Жмакин, – как-нибудь! Не звонить же, в самом деле, Лапшину на смех людям. А завтра паспорт получим и финку приобретем. А финку не приобретем – нож наточим! Покупай, кодла, нашу жизнь за бешеные деньги, если кто желает, дешево не продадим!»
Все-таки он прислушался: Балага постукивал сзади своим посошком. И Алексей вспомнил, что про Балагу говорили на пересылке, будто он был при царе выдающимся филером и ему поручали жандармы разные крупные дела.
– Уйди от меня! – обернувшись на ходу, крикнул Жмакин. – Слышишь, филер?
– Да мне же одна с тобой дорожка! – ласково ответил Балага и заспешил, догоняя Жмакина. – Одна, друг, дороженька…
Дождь по-прежнему моросил.
Жмакин остановился, закуривая: черт с ним – пусть знает, где автобаза.
– Быстренький ты, молоденький, – догоняя Жмакина, сказал Балага. – Ножки хорошо бегают, не то что я…
И спросил:
– Филер – это кто?
– Ты!
– Ой, нехорошо!
– То-то, что плохо!
Тут тянулся очень высокий забор, и возле забора мерно ходил часовой с винтовкой и в фуражке, низко надвинутой на глаза. Миновали забор, вышли к воде. От сонных барж потянуло запахом смолы. Большой бородатый мужик в брезентовом плаще сидел на корточках у костра, разложенного на кирпичах на крайней барже.
– Барочник, – сказал Балага. – Барочный человек! У них в старое время золотишко водилось. Был один такой из колонистов, немец, тюкал их в темечки – барочников, красивый дом на Петроградской построил.
– Теперь прощай! – сказал Жмакин и зашагал мимо решеток заброшенной набережной к себе, на Вторую линию…
Новый начальник охраны – Демьянов, костистый и узкоплечий человек, посмотрел пропуск Жмакина и сказал негромко:
– Тебя тут какой-то старикан спрашивал.
– Не с батожком? – спросил Жмакин.
– С посошочком, – внимательно вглядываясь в глаза Жмакину, сказал Демьянов. – Личность мне немного знакомая…
– Откуда же она вам знакомая?
– Вроде швейцаром он в ресторанах работал…
Алексей пожал плечами и отправился спать. Разбудили его очень скоро – не прошло и часу. Во дворе, возле часовни, в плаще и кепке стоял Криничный.
– Ты что же делаешь? – злым шепотом спросил он. – Ты для чего Балагу упустил? Смеешься над нами?
Дождь по-прежнему сыпался из черного низкого неба. За спиной Криничного покуривал Демьянов, – это он, конечно, позвонил на площадь Урицкого. Бдительный начальник охраны.
– А чего особенного, – дрожа спросонья, сказал Жмакин. – Что я, с кодлой не управлюсь?
Демьянов сердито усмехнулся.
– Самоуверенный товарищ! – сказал он.
– Да, уж в этом вопросе разбираюсь, – буркнул Жмакин.
– Ты не кусайся, – посоветовал Криничный. – Товарищ Демьянов это дело побольше тебя знает, как-нибудь разбирается…
И, не попрощавшись, ушел.
Жмакин запер дверь в часовне, укрылся, закрыл глаза. Бумага от Калинина лежала под подушкой. Завтра будет паспорт. И, засыпая, Алексей подумал: «Миллионы в валюте вам обойдется жизнь товарища Жмакина! Миллионы или даже миллиарды!»
В октябре
Поезд идет на юг
Путевку Окошкин привез Ивану Михайловичу в клинику.
Лапшин уже похаживал, но был все еще бледен и выглядел словно бы невыспавшимся. Однако Вася солгал, что Ивана Михайловича теперь не узнать, здорово поправился, совсем даже помолодел.
– Но? – удивился Лапшин, продолжая разглядывать путевку: путевка была солидная, красивая, напечатанная жирной краской, и состояла из трех разделов – из корешка, промежуточной бумажки загадочного назначения и собственно путевки. Нумератором были проставлены номера, и печать тоже имелась – фиолетовая, неразборчивая, пребольшая. – До того солидно сделано, что можно подумать, будто поддельная! – сказал Иван Михайлович.
Окошкин рассказал последние новости: было письмо от Бочкова; насколько можно понять, написано оно где-то в Западной Белоруссии. Николай Федорович здоров, ни разу не ранен, дает понять, что скоро вернется домой. Лапшин слушал внимательно, кивал. Потом Вася рассказал про Митрохина.
– Прямо цирк был, Иван Михайлович, честное слово. Я как раз в приемной находился у Прокофия Петровича. Гляжу, Альтус туда прошел, Алексей Владимирович, за дверь за нашу за знаменитую, белую с золотом…
– Да уж дверь знаменитая! – усмехнулся Лапшин.
– Конечно, звонок. Галя Бочкова за телефон: «Товарищ Митрохин, к начальнику». Наш Андрюша – на полусогнутых, но когда туда заходил, эдак, знаете, огляделся, дескать, какая тут мелочь сидит в приемной. Еще не понимал. Наверное, много разных писем написал в инстанции… Уже после всего…
– Это точно, этот – писатель! – опять усмехнулся Лапшин.
– То-то, что писатель. Зашел, а вторую дверь забыл затворить. И в первой осталась щелка. Минуты три весь страшный суд продолжался. Сначала ничего слышно не было, а потом Прокофий Петрович, видать, из всех крепостных орудий сразу дал. Галя Бочкова обстрелянная, но едва со стула не упала. А на меня смех напал. Некрасиво, конечно, но вы знаете, как у меня на нервной почве…
– Да что ты! – удивился Лапшин. – Первый раз слышу. С чего это ты опять такой нервный сделался?
Вася пропустил вопрос Лапшина мимо ушей и рассказал дальше, как, пятясь, вышел из кабинета Баландина Митрохин, какой он был не то что бледный, а синий, и как в открытую дверь еще долго, словно «лев», рычал Прокофий Петрович.
– Короче, я для вас оформлял отпускные в финчасти и там опять напоролся на Андрюшу. Я – для вас, а он – для себя. В общем, получал расчет. С пламенным приветом…
Против ожидания, рассказ этот совсем Лапшина не обрадовал. Иван Михайлович даже ненадолго помрачнел и, отвернувшись от Васи, закурил, пуская дым в коридорную форточку.
– Ну, еще какие новости? – спросил Иван Михайлович. – Как личная жизнь? Как Лариса с тещей?
– Ревнуют меня, – со вздохом произнес Окошкин.
– И справедливо?
– Какая тут может быть справедливость! – воскликнул Вася. – Вы же сами знаете – Бочков в армии, вы – заболели, сколько нас осталось?
– Ужас!
– Вам – смех, а мне – слезы, Иван Михайлович. Я же молоденький еще!
– Мы моложе тебя были и Бориса Савинкова брали. Не жаловались.
– Так и я не жалуюсь, но только в отношении Ларкиной ревности…
– Как там Жмакин?
– С паспортом ему чего-то волынят, все бумаги есть, а Гвоздарев тянет. И Жмакин из меня душу мотает.
– Пустили его грузчиком работать?
– Это Давид Львович пробил. Они с Балашовой за него поручились, так что в этом смысле порядок…
Съев по рассеянности почти всю передачу, которую он привез Лапшину, Вася уехал, а Иван Михайлович, собрав все пятиалтынные в палате, спустился в вестибюль звонить Гвоздареву. Но Гвоздарев нынче в Управлении не был.
Во второй половине дня Ивана Михайловича выписали. Кадников, клюя носом, ждал в машине у ворот клиники. День был сухой, холодный, ветреный. Покуда Иван Михайлович шел по аллее к проходной, желтые листья шуршали под ногами.
– Осень! – сказал он, садясь рядом с шофером. – И как быстро повернуло.
– Да, ведь вы порядочно пролежали, – вздохнул Кадников. – Не день и не два. Куда поедем, Иван Михайлович?
Лапшин велел ехать «к парку» – так он всегда говорил, когда заезжал к Катерине Васильевне. И сердце у него стучало, когда поднимался он по знакомой лестнице и звонил в знакомую дверь.
Балашовой дома не было.
У стола, поджав ноги в шелковых носках, ел арбуз артист Днепров. Пиджак его висел на спинке стула, расположился он тут по-домашнему и, увидев Лапшина, почему-то присвистнул.
– Да, отдохнуть вам не мешает, – сочувственно сказал Днепров. – Вид у вас неважнецкий…
И добавил, усмехаясь:
– После сорока у нас, у мужиков, возраст лезет наружу. Никуда его не спрячешь. И разуться охота там, где разуваться бы не следовало, и полежать после обеда часок клонит, а ежели что непредвиденное, то задаешь себе дурацкий вопрос: «А к чему это непредвиденное?» Согласны?
Говорил он неожиданно искренне, и Лапшин согласился с ним. Днепров отрезал ему арбуза, Лапшин поел и поднялся.
– Так что же передать Катерине? – спросил Днепров.
– Вот адрес, – сказал Иван Михайлович, кладя на стол листочек из блокнота. – Ежели пожелает – может быть, напишет.
– Ну, она письма писать не любительница, – усмехнулся артист. – Это я по себе отлично знаю…
По лестнице Иван Михайлович спускался нарочито медленно, надеясь встретить Катю. И дома, укладывая чемодан, все ждал ее звонка, и на вокзале, стоя под осенним дождем у вагона, ждал, что она появится, но так и не дождался. Словно в насмешку, уже когда поезд начал двигаться, примчалась Патрикеевна с пирожками и курицей, с огурцами и булкой, которые он забыл. Криничный кинул ему пакет в окно. Иван Михайлович поймал его на лету, вздохнул и, радуясь тому, что теперь долго можно молчать, сел на диван.
Ночью Ивана Михайловича, по всей вероятности, лихорадило. А может быть, он устал и оттого, что не увидел Балашову, и оттого, что по телефону попытался объяснить Гвоздареву все, что он о нем думает, и от всего нынешнего, непривычного после клиники и железного ее распорядка, дня.
Лежа на покачивающейся полке с открытыми глазами и глядя на синий огонек ночника, он до рассвета восстанавливал в памяти тот вечер, силясь привести в порядок отдельные воспоминания и сложить все в цельную картину. Но ничего толком из этого не получалось, Иван Михайлович курил, пил нарзан и порою в полусне силился сказать ту речь, которую так и не сказал тогда.
…В чем в чем, а в трусости Андрюшу Митрохина упрекнуть никто не мог, особенно когда дело касалось его будущего, «моего светлого будущего», как он выразился сам в начале собрания…
После первого своего выступления он не спустился в зал, как это делали все другие, а остался в президиуме, как бы по рассеянности, воспользовавшись свободным стулом неподалеку от трибуны. Баландин покосился на него, но ничего не сказал, только еще злее стал рисовать в своем блокнотике махоньких чертиков и ведьмочек на помелах.
Когда Лапшин приехал из суда, говорил строгий Павлик. Все еще раздумывая о речи адвоката, который очень ему понравился, Иван Михайлович не слишком внимательно вслушивался в слова Павлика, естественно не ожидая от своего «сухаря» ничего особенно выдающегося, но вдруг посмотрел на Николая Федоровича Бочкова, сидящего в президиуме, и по его лицу понял, что Павлик не так прост, как кажется.
– Здесь мы имеем характерную для нашего почерка полную утерю бдительности, – плавно говорил Павлик. – И естественно в данном случае не почивать на лаврах нашим старшим товарищам, а выйти и признать совершенные ими тяжелые ошибки…
– О чем это он? – спросил Лапшин, приваливаясь боком к красному Васе Окошкину, возле которого сидел. – Какие такие ошибки?
– Ваши, – сдавленным от ненависти голосом ответил Василий Никандрович. – Ваши и наши. Оказывается, все мы слепые щенята, один он стоит и бдит на страже. Он и, конечно, Митрохин.
– Ты не раскаляйся! – посоветовал Лапшин и стал спокойно слушать.
Павлик рассказывал о том, как прозевали Балагу. Говорил он степенно, и не по словам его, а только по интонациям не трудно было заключить, что бригада Лапшина буквально из сил выбивалась только для того, чтобы Балага легко и спокойно скрывался от органов уголовного розыска. Матерому рецидивисту были созданы все условия для сокрытия своих следов. Каким образом были созданы эти условия, Павлик доложить, разумеется, не мог, потому что не находился в курсе дела, но благодушие и чванливость некоторых работников привели к катастрофе, последствия которой еще не раз будут ощущаться всеми настоящими работниками, а не говорунами, много о себе думающими, вроде Окошкина, у которого личная жизнь заслонила общественные интересы…
Вася повернулся к Лапшину, но тот молчал, посапывая и вглядываясь в Митрохина, который как бы порывался что-то воскликнуть, но сдерживал себя и только иронически посмеивался, но наконец не сдержался и крикнул:
– Это безобразие, то, что товарищ говорит! Безответственные намеки! У Лапшина есть свои недостатки, но шельмовать бригаду, которой мы гордимся, никому не позволено…
На лице Павлика мелькнуло выражение полной растерянности и даже туповатого испуга, он облизал губы, помолчал и заговорил опять. Может, он и перехлестнул – так выходило из его речи, но его мнение не есть его личное мнение, а и мнение других товарищей, более опытных и заслуженных.
– Кого, например? – крикнул из зала Побужинский.
– Есть такие товарищи! – угрожающим голосом произнес Павлик. – Есть! И, если понадобится, они скажут свое решающее слово.
Андрей Андреевич картинно пожал плечами и усмехнулся. Он был очень красив сейчас, с нависшим надо лбом чубом, с насмешливой улыбкой, прямо хоть снимай для кино. «Он, наверное, из кино и перенял свои ухватки, – подумал Иван Михайлович и опять вслушался в монотонную речь аккуратного Павлика, который сейчас возражал против слишком обильных, по его мнению, премирований работников лапшинской бригады.
– Бочкова, и Побужинского, и Окошкина, которого не премировать, а судить надо за связь с преступным миром, – говорил Павлик. – Бесцеремонное разбазаривание государственных средств, вот как это называется…
– Но Побужинского и Окошкина не премировали! – сердито сказал Баландин. – Вам же это известно!
– Исключительно благодаря вашей принципиальности! – ответил Павлик и повернулся к столу президиума. – Это вы, товарищ начальник, отказали, а я сам лично на ваше имя бумагу машинистке диктовал от товарища Лапшина.
Павлик попил воды из графина, уже почти опустошенного выступавшими в прениях, смешался и сошел с трибуны. Председательствующий объявил перерыв. Лапшина обступили свои, – всем интересно было нынешнее судебное заседание. Иван Михайлович, покуривая, рассказал коротко приговор и, усмехаясь, повторил по фразам последнее слово подсудимого – Дроздова.
– Это – штучка! – сказал Бочков, думая о другом.
– Сегодня получаем благодарность за всю работу, – вмешался Окошкин. – Ну, наш Павлик, тихоня, этого я не ожидал никак.
Побужинский спросил, как вел себя Корнюха. Иван Михайлович пожал плечами. Затылок у него болел, говорить ни о чем не хотелось. И возбуждение, которое он испытывал во время хода судебного заседания, сменилось тяжелой усталостью.
– Ты когда будешь, Иван Михайлович, говорить? – спросил, проходя мимо, Баландин. Он ел жареный пирожок и другим – с рисом – угостил Лапшина.
– Да попозже, пожалуй! – с трудом откусывая пирожок, ответил Лапшин.
– Чего невесел? Радоваться должен – вон какое дело закончил, можно сказать – краса и гордость, на многие тысячи!
Они отошли в угол и остановились, жуя свои пирожки. Здесь было очень накурено, и Лапшин услышал, как звенит у него в ушах. Но жаловаться на самочувствие именно сегодня было никак невозможно, и Иван Михайлович солгал, что, наверное, перекурил и что, пожалуй, вскорости бросит курить совсем.
– Давай вместе! – предложил Прокофий Петрович. – А? Оба мы мальчишечки волевые, давай прекратим отравление организмов никотином?
Посмеялись немножко и пошли в зал «продолжать», как выразился Баландин. Усевшись на свое место, он наклонился к Занадворову и сказал, что Лапшин, по его мнению, скоро «всерьез повалится».
– Заболел, что ли? – осведомился Занадворов.
– Эге ж, – сказал Прокофий Петрович. – Контузия старая его донимает, и по науке разобраться медицина не может.
– Может, мы сегодня поможем? – странно улыбнулся Занадворов.
Баландин вздохнул:
– Уж ты поможешь, от тебя дождешь!
– А может, и дождешь? – опять усмехнулся Занадворов, и нельзя было понять – шутит он или угрожает.
На трибуну поднялся Криничный, крепко провел ладонью по стриженой голове и подробно рассказал всем собравшимся о деле братьев Невзоровых и о том, каким толчком послужило оно к разоблачению всей шайки Дроздова, а через него и к разоблачению банды хищников. Говорил Дмитрий Ипатович не торопясь, спокойно, уверенно и ни словом не упомянул о Павлике и о Митрохине. Слушая его, можно было подумать, что невзоровское дело далось бригаде Лапшина без всяких усилий, что люди работали только положенное время, что не было ни опасностей, ни бессонных ночей, ни мучительных ожиданий, ни тяжких потерь. Жмакин поставлен на работу и трудится, уворованные хищниками у государства огромные деньги большей частью возвращены, преступники понесли наказание. Важно еще и то, что поначалу маленький бой за Жмакина дал впоследствии крупные результаты не только в материальном смысле, но и в нравственном. Именно так Криничный и выразился.
– В нравственном, – повторил он. – Мы действовали нацеленно и убежденно. Мы знали, за что идет борьба. За человека шла она. Я говорить не мастак, на ответственной трибуне, может, всего раза три находился, но хорошо обдумал все нами пережитое. Разве ж мы тогда в Трехозерном ружье искали, товарищи? Мы оправдание для невинного человека искали. Нам не только Невзоровых наказать надо было, нам прежде всего надо было доказательство иметь полное, что если они такое преступление совершили и следы замели, то меньшее на невинного взвалить им пара пустяков. И свалили на Жмакина нож, а он – сирота, и ему взяли да и не поверили, а им поверили. Все снизу доверху поверили, и никто, кроме товарища Лапшина, не усомнился. А он усомнился, и вот к каким это результатам привело…
– К каким же, собственно? – со спокойной улыбкой поинтересовался Митрохин. – Ужели не возьми Жмакин Корнюху – вы бы дело хищников не размотали? Не хочу думать, что вся ваша деятельность построена на цепочке случайностей.
Председательствующий – Шилов – сердито позвонил.
– И не думайте, – так же спокойно ответил Митрохину Криничный. – То, что вы затесались в наши органы, – это, действительно, случайность, но случайность временная, скоропреходящая. Из-за такой случайности, как ваше приспособленчество, и случилось горе со Жмакиным, случилась несправедливость, противозаконие, и чуть не был погублен хороший человек. Но мы эту цепь случайностей прервали и надеемся впредь таких товарищей, как вы, Андрей Андреевич, распознавать пораньше…
– Демагогия! – крикнул, теряя спокойствие, Митрохин. – И вообще…
Председательствующий позвонил, на этот раз с улыбкой, а Криничный уже спускался по узенькой лестнице в зал, встречаемый первыми в нынешнее собрание горячими и даже бурными аплодисментами.
– А ведь действительно – демагогия! – шепнул на ухо другу Побужинский, но Криничный только сильно потянулся и согласно кивнул головой: дескать, дело сделано, теперь толкуйте что хотите.
Дело действительно было сделано: первое, рассчитанное и нацеленное, выступление Митрохина словами Криничного было стерто начисто: умный и хитрый Андрей Андреевич вдруг открылся всем не знающим или мало знающим его с иной стороны – кому полностью, кому только приоткрылся. Однако же все решительно понимали теперь, что не желание торжества справедливости руководило Митрохиным, когда говорил он нынче о трагической гибели Толи Грибкова и о «возмутительных расточителях» жизней, о начальниках, благоденствующих в обществе артисток, тогда как молодые, неопытные, необстрелянные «подставляются» под пули матерых бандитов и гибнут, несмотря на то что гибель вполне могла быть предотвращена…
На эту тему и выступил шофер Лапшина – Кадников. Страшно волнуясь и даже дрожа до того, что у него прыгали губы, он закричал с трибуны, что как извозчик не должен выступать среди оперативников, но как коммунист не может не сказать то, что думает, и если партия доверила ему ношение личного оружия и доверила оперативную машину, то, следовательно, обязала говорить всегда чистую правду, и он эту правду именно сейчас скажет.
На мгновение Кадников опять оробел, пошептал что-то, словно молясь, а потом бестолково, но уже не колеблясь и совершенно бесстрашно ринулся на Митрохина со своей своеобразной точки зрения. Загибая пальцы, он вспоминал случаи, когда Иван Михайлович первым врывался в бой, вспоминал бандитов и громил, которые были «повязаны» лично Лапшиным, рассказывал, сколько раз его начальник ранен и в какие именно места, и требовал, чтобы Митрохин «поделился» с товарищами, если ему, конечно, есть чем поделиться, кроме прочитанного из газет. И за «актрису» он с такой страстной силой набросился на Митрохина, что тот даже улыбаться перестал, хоть весь зал и смеялся – одобрительно и дружелюбно.
– Артистка! – кричал Кадников, из любви к Лапшину все перепутав. – Какая она артистка! Нормальная женщина. Дай бог Ивану Михайловичу на такой женщине жениться и детишек заиметь. Скромная, простая, иногда мы ей даже покушать, бывает, возим, потому что она от своей скромности не кушавши, может быть, находится. Чем упрекает товарищ Митрохин? Кого личная жизнь затрагивает? И с другой стороны, это, может быть, раньше было, что артистку рассматривали с других позиций, а сейчас? Сегодня она артистка, а завтра, может быть, оперуполномоченный, как нормальный человек…
В зале хохот стоял все гуще, смеялись и в президиуме, но Шилов не звонил – слушал, стараясь не улыбаться и соблюдать, как положено председательствующему, солидное спокойствие, однако это ему, так же как и Баландину, плохо удавалось. Под грохот аплодисментов Кадников спустился в зал, и на трибуну взошел Занадворов. Оглядев темными зрачками первые ряды, он вздохнул и заговорил:
– Мне пришлось, товарищи, за это время проделать большую, ответственную и сложную работу: доверена мне была проверка материалов, иначе сигналов, поступивших на очень многих товарищей лично от Митрохина…
По залу пронесся легкий шумок.
– Трудно мне об этом говорить, – продолжал Занадворов. – Трудно и, знаете ли, не сладко, очень не сладко. И потому трудно, что нужно здесь заявить со всей ответственностью – некоторым сигналам я поначалу верил. Есть, товарищи, такая пословица: брань на вороту не виснет. Неверная пословица. Неверная, потому что люди типа Митрохина справедливо думают так: «Клевещи-клевещи, что-нибудь да останется, западет, так сказать, в душу». И когда мы, допустим я, почти еженедельно получаем так называемый «материал» на Лапшина, то естественно, что к Лапшину начинаешь относиться не то чтобы подозрительно…
– Именно подозрительно! – веско и громко сказал из зала Криничный.
– Может быть, и так, подозрительно. Здесь количество действительно переходит в качество. И нужно до конца узнать того, кто пишет эти самые сигналы, вернее – доносы, до конца разобраться в кознях клеветника, до конца узнать первопричины для того, чтобы должным образом оценить и качество самих «сигналов». Так вот, я заявляю с этой трибуны совершенно ответственно, что Митрохин сознательно, из шкурных, низменных, карьеристических соображений оклеветал целый ряд заслуженных товарищей, пользующихся авторитетом, любовью, доверием наших работников. Никогда ничего не выдумывая на чистом месте, он раздувал мелочи, пустяки, превращая огрехи в работе в злонамеренные, заранее подготовленные должностные преступления, и писал, по его собственному выражению, действительно «на всех, будь они ему даже самыми близкими друзьями».
– Я возражаю! – с места крикнул Митрохин. – Я требую! Я…
Шилов злобно позвонил.
В это мгновение Баландин заметил, что Лапшин поднялся и какой-то не своей, деревянной походкой пошел к двери. Наклонившись к председательствующему, он шепотом спросил, записался ли Иван Михайлович в прения, и, узнав, что записался сразу после Занадворова, велел Бочкову «подскочить» посмотреть, что там с Лапшиным.
– Брань на вороту виснет, и капля по капле камень долбит, – услышал Лапшин, выходя, слова Занадворова, но уже не понял их смысл, с этого мгновения он почти ничего не понимал, и дальнейший ход событий стал ему известен много позже из рассказов навещавших его в палате Баландина, Шилова, Бочкова, Криничного, Побужинского и многих других.
В то время как Занадворов кончал свою речь, Ивану Михайловичу удалось, после многих усилий, запереться на ключ в своем кабинете.
Мелкие молоточки, повизгивая, стучали в висках, пот заливал спину, сердце странно словно бы куда-то заваливалось. Спеша и болезненно кряхтя, Лапшин с трудом подошел к дивану, уперся немеющей рукой в валик и стал ложиться в особую, раз навсегда придуманную позу, про которую почему-то думал, что она помогает.
– Сорок восемь, сорок семь, сорок шесть, – считал он, чтобы успокоиться и проверить, соображает еще или нет. – Сорок три, сорок два…
На секунду его как бы втянуло в пасть широченной, черной трубы, сильно передернуло судорогой и швырнуло во тьму. И вдруг он с отчаянием, с болью и со страхом захотел, чтобы сейчас здесь с ним была женщина, которую он любил, чтобы она села рядом с его грузным, страдающим, беспомощным телом, чтобы она расстегнула ему ремень, сняла револьвер и расстегнула ворот гимнастерки, разула бы его, подставила под висящую ногу стул и сделала все то, что может сделать только Катя и чего никогда она не делала.
– Семнадцать, шестнадцать, пятнадцать, – считал он, – семь, шесть…
В дверь постучали.
– Ничего не надо! – крикнул он, узнав голос Бочкова. – Отставить!
Его подкинуло, он стал сползать с диванчика, но уперся пальцами в пол и опять улегся в нелепой позе, представляя себе Митрохина и что ему говорят там в зале.
Опять постучали, но уже сильнее.
– Стрелять буду! – пообещал Лапшин. – Как, как, как…
Судороги немножко отпустили. Тогда он добрался до стола и, заикаясь, попросил телефонистку Лебедеву, которую узнал по голосу, вызвать санчасть. Но санчасть была без конца занята, и тогда Лапшин решил открыть дверь Бочкову. Повесив трубку, он стал сползать со стола, но, лишившись опоры, опустился прямо на пол, на паркет, крепко пахнущий мастикой, и опять принял ту нелепую позу, которая, по его мнению, ему помогала. В голове у него стоял треск, похожий на треск гранат, – судороги потрясали все большое и сильное тело, он ловил ртом воздух, и в ярко-голубых глазах его было сосредоточенное выражение – он все еще заставлял себя не потерять сознание.
Через несколько минут дверь взломали, и вошел Баландин. Увидев злобные глаза Ивана Михайловича, он сказал ему:
– Но, но, не дури!
И, усевшись возле него на корточки, стал делать то, чего никогда не делала Лапшину женщина: он снял с него сапоги, расстегнул гимнастерку, ремень, забрал пистолет и, погладив по голове, подложил под затылок свернутый плащ. Постепенно в кабинет набивался народ, и Лапшин видел, как плачет Галя Бочкова и как ей что-то объясняет Митрохин. Потом пришли врач и санитары, Ивана Михайловича уложили на носилки и в сопровождении старенькой Жуковской увезли в клинику. А собрание продолжалось своим чередом, и листочки, исписанные Иваном Михайловичем – тезисы выступления, – так и остались неиспользованными.
И вновь, нынче в вагоне, слышался ему голос Митрохина, имевшего наглость навестить его в клинике, где в белом халате сидел он над Лапшиным и говорил недовольно, искренне не понимая всего с ним происшедшего:
– Почему, Иван Михайлович, непременно из шкурных соображений? Я высказывал свои, понимаешь ли, опасения, предположения, что ли, ну, может, форма была резковата! Так поправьте! Зачем же так остро ставить вопрос в отношении меня…
– А остро поставили? – осведомился Лапшин.
– Я, конечно, не собираюсь сдаваться, но обстоятельства серьезные. Кое-что крепко против меня обернулось. Твой Павлик – скотина, показал, что я его науськивал и обещал впоследствии разные блага, а потом по нем и ударил…
– Разве ты ударил?
– А ты не слышал? – оживившись, воскликнул Митрохин. – Я первый по его демагогии врезал… И в отношении тебя сказал. Негоже, сказал, такому человеку, как Лапшин, кровь поминутно портить. Лапшин все в себе носит, ни к кому с жалобами не бегает, не ноет, чуткости к себе не требует. А мы как к этим его характерным чертам отнеслись? Ну, допустим, я – Митрохин – ошибся, а кто из вас вовремя меня одернул? Ты пойми, Иван Михайлович, я со всей искренностью тебе рассказываю свои переживания…
Лапшин едва заметно улыбался, глядя на Митрохина. Потом сказал задумчиво:
– Нельзя тебе, Андрей Андреевич, по собственному желанию уходить. Тебя выгнать надо с грохотом, чтобы и на таре тебе неповадно было доносами заниматься. Промысел этот всюду опасен, и формулировочку для тебя нужно именно такую подыскать. Чтобы люди знали, кто к ним пришел работать. Большие беды ты народу причинить можешь. Несчастья даже. С Корнюхой-то легче управиться, чем с тобой. Но в конечном счете мы и с вашим братом разделаемся.
И все-таки этого было мало.
Эти слова слышал только Митрохин, другим же могло показаться, что Иван Михайлович захворал от Митрохина, а ему вовсе не хотелось, чтобы даже Павлик это подумал…
…На рассвете, в душном купе, Лапшин, что называется, «забылся», но в полусне еще вдруг вспомнил, как рассказывал ему Бочков речь Митрохина, с его «ибо» (Митрохин принадлежал к тем ораторам, которые вместо «потому что» говорят «ибо», а вместо «с ними» – «иже с ними»).
– Ибо это даже не недостатки, – говорил залу Митрохин в своем втором выступлении. – Это порочный стиль работы, стиль, потакающий гнилому либерализму, стиль, усыпляющий нормальную бдительность, стиль, нам противопоказанный. И именно потому я давал тревожные сигналы, что здесь многие наши товарищи, даже, к сожалению, больше, чем многие, подпали под влияние Лапшина и иже с ними.
– Что значит иже с ними? – рявкнул из зала Криничный.
– Я вас не перебивал, – холодно произнес Митрохин, – не перебивайте и вы меня, товарищ Криничный. И не заменяйте вашими репликами Лапшина, который не нашел в себе мужества присутствовать в этом зале…
– Лапшина увезла «скорая помощь», как вам известно, – резко сказал Шилов. – И насчет мужества Лапшина у нас сомнений нет…
– А меня «скорой помощью» не запугаешь, – продолжил свою речь Андрей Андреевич, – диагноз еще не установлен: может быть, товарищ Лапшин немножко слишком нервный?
Поначалу собрание даже не поняло, что, собственно, хочет сказать Митрохин, но вскоре по залу пронесся такой шум, что никакие звонки Шилова уже не смогли ничему помочь. Митрохин выпил воды, как бы не замечая обструкции, которую ему устроили, потом подождал, потом переложил приготовленные заметки в ином порядке. В зале все шумели, требуя, наверное, чтобы он, оскорбивший их общую честь, убирался с трибуны. Но Митрохин бился за свою жизнь. И знал: если он уйдет – всему конец. Они должны были в конце концов замолчать. Это его право – эта трибуна. И он все равно их переупрямит…
Внезапно все сразу стихли.
Решив, что они стихли для него, Митрохин уже совсем было начал говорить, как вдруг заметил, что за столом президиума во весь свой рост стоит Баландин. Это его приготовилось слушать собрание, а не Митрохина. И только теперь Андрей Андреевич отступил. Отступил в прямом, физическом смысле слова. Его стул кто-то занял. Идти в зал он не смел. И попятился.
Пятился Митрохин долго в полутьме среди декораций. Тут были какие-то вырезанные из фанеры кусты, огромный подсолнух, отдельно стояла сильно пахнущая столярным клеем русская печка из картона. За нее и нырнул Митрохин. Здесь его и обнаружил впоследствии случайно Криничный…
«Вот там бы с ним встретиться!» – совсем засыпая, подумал Лапшин и, как показалось ему, сразу проснулся, но было это вовсе не сразу, а часа в три пополудни.
– Здоровы же вы спать! – сказал железнодорожник, ехавший на нижней полке. – Прямо богатырский сон.
Поезд шел долго, и чем дальше от Ленинграда гремели на стыках и стрелках колеса огромного состава, тем жарче и томительнее делалось в вагонах. Иван Михайлович подолгу стоял у окна, покуривал, раздумывал о Катерине Васильевне и удивлялся себе, что, вместо того чтобы выйти здесь на маленькой станции, за которой такой неподвижной и надежной стеной стоит красавец бор, он едет дальше к суетному морю с его шумными пляжами, чебуречными, настырными фотографами и унылым распорядком дня в доме отдыха. И соседи по купе тоже удивлялись и рассказывали, как хорошо на Оке, и что такое, например, Черниговщина, и каков Псел, и что собой представляет Валдайская возвышенность.
– Зато там всюду не шикарно! – сказал пожилой, усатый инженер-геолог. – А вот в Сочи – шикарно!
В голосе его слышалось раздражение, и Иван Михайлович сочувствовал этому раздражению. Ему было наперед скучно думать об отдыхе, он так и не выучился за свою жизнь «отдыхать» и знал отлично, что теперь уже никогда этому искусству не научится.
Дела паспортные
Отпрашиваться за паспортом в четвертый раз у Цыплухина было очень неудобно, и Жмакин пошел к Пилипчуку. Тот посмотрел на Алексея не слишком дружелюбно, долго молчал, но в конце концов отпустил.
– Чего они волынят? – спросил он, когда Жмакин дошел до двери.
– Без главного начальника никак не решаются.
– Позвонить Ивану Михайловичу?
– Да он же в санаторию уехал, – с тоской сказал Алексей, – нужен больно ему мой паспорт!
«Главного начальника» все еще не было.
Жмакин бродил по коридорам с незнакомым парнем и беседовал о разных вещах, Алексеем овладело болтливо-суетливое настроение, он волновался, рассказывал о письме за подписью Михаила Ивановича, вообще о жизни. Потом оба они подвергли суровой критике порядки паспортного управления и удивительный тамошний бюрократизм, потом побеседовали о работе, кто где работает и как получается с заработками. Жмакин с маху соврал про себя – вышло так, что в месяц у него заработок свыше двух тысяч рублей.
– Но-но, браток, – сказал парень.
– А чего, – сказал Жмакин, – очень просто…
Он хотел было объяснить, но побоялся запутаться и угостил парня московским пирожком. По ухваткам своего собеседника, по слишком солидному его тону и по некоторым словечкам Жмакин понимал, что имеет дело с бывшим жуликом, но из деликатности не подавал виду, что понимает, и сам, конечно, ничего о себе не говорил.
Наконец Жмакина вызвали в большую пыльную комнату. Там сидел сам Гвоздарев, лысый, со строгим лицом, в форме и при оружии. У него был сильный застарелый насморк, он говорил все в нос и часто с воем и грохотом сморкался. Жмакин сел против него и поджал ноги.
– Рецидивист? – спросил Гвоздарев.
Жмакин промолчал.
Гвоздарев еще покопался в бумагах и спросил, сколько у Жмакина приводов и судимостей.
– Несколько, – с осторожной наглостью ответил Жмакин.
– Как это у них там в Москве все просто, – сказал Гвоздарев, – диву даешься.
– Именно бывает, что в Москве просто, – произнес Жмакин, – а на некоторых местах не просто. Как пишется, власть на местах.
Паспортный начальник сделал вид, что не слышал. Жмакин ждал. Несколько минут прошло в молчании.
Гвоздарев с неудовольствием еще раз прочитал все бумаги Жмакина, потом сложил их и ушел с ними в соседнюю комнату, а уходя, запер ящик своего стола на ключ.
«От вредная сволочь», – с ненавистью подумал Жмакин.
Он ждал, раздражаясь все больше и больше, глядел в окно, вздыхал, скрипел стулом. Наконец Гвоздарев вернулся, жуя на ходу и поматывая небрежно сложенными бумагами.
– Придется вам завтра зайти, – сказал он, по-хозяйски садясь за свой стол, – я завтра с начальством побеседую, и тогда уточним вопрос.
– Мне завтра некогда, – сказал Жмакин.
Гвоздарев взглянул на него как бы даже с удивлением.
– Некогда мне завтра, – повторил Жмакин.
Не глядя на Жмакина, Гвоздарев стал возиться в ящиках своего стола. Бумаги, присланные Жмакину из Москвы, лежали на столе, возле чернильницы. Он взял их и поднялся.
– Бумаги-то вы оставьте! – велел Гвоздарев.
Жмакин пошел к двери.
– Гражданин Жмакин! – с угрозой в голосе крикнул Гвоздарев. – Вы слышите меня?
– Ладно, посмотрим, – сказал Жмакин, – посмотрим, кто кого будет уточнять. Москва вас или, может быть, вы Москву. Сам товарищ Михаил Иванович Калинин написал, а он уточняет! Это невиданный случай, если вы хотите знать! И я это так не оставлю, вы на этом деле сгорите. И письмо я забираю с собой, и все документы…
Он так разорался, что из соседней комнаты выглянула, наверное, машинистка. «Со всеми с ними покончу!» – думал Жмакин, выйдя на улицу.
В маленьком почтовом отделении на Невском он написал письмо Михаилу Ивановичу Калинину, а на конверте подчеркнул «лично». После этого ему стало как-то полегче…
Свернув на Владимирский, он вдруг поразился, удивленный почему-то витриной, где выставлены были гробы и разные похоронные принадлежности.
Его как бы осенило.
Долго шевеля губами, он рассматривал венок, наконец придумал надпись для черной траурной ленты и вошел в магазин. Посвистывая и радуясь затее, он быстро перестроил лицо на печальный лад и написал на бумажке слова, которые ему должны были «выполнить художественно» здесь, поскольку, как он сообщил, он слышал про это «заведение» похвальные отзывы.
Хорошенькая девушка несколько удивилась характеру заказа, но Алексей объяснил, что венок посылается в Управление не тому Гвоздареву, который умер, а брату его – для последующей передачи покойнику.
– Хорошо, – сказала девушка, – уплатите сто девятнадцать рублей.
Эту мелочь Жмакин упустил. Денег у него было всего четыре рубля. Некоторое время он пытался убедить продавщицу похоронных товаров, что Гвоздарев-брат сам с удовольствием заплатит, но девушка была непреклонна, и Жмакин отправился в Пассаж и пошел бродить по магазинам, опасаясь сам себя, постреливая зелеными злыми глазами и покусывая губы. Руки у него дрожали. Он ничему не сопротивлялся и ни о чем не думал, у него было такое чувство, будто его несет в летний день речная волна – быстрая и опасная. На одно мгновение он себя в чем-то укорил, но тут же сказал себе: «Наплевать и забыть», и все прошло. По спине бежала старая, забытая дрожь…
Тут было много женщин, разгоряченных, с блестящими зрачками, крикливых, жадных. Пышными ворохами лежали на прилавках полуразмотанные штуки только что привезенных материй. Пахло ландрином, потом и пудрой. Жмакин все сильнее – плечом, боком – врезался в толпу, к прилавку, – напряженные его руки привычно и крепко искали. На него закричали, чтобы он не лез без очереди; он ответил, что ищет свою жену, сделал еще одно движение вперед, прижал высокую красивую женщину бедром и ловко расстегнул сумочку. Постреливая в лицо женщине глазами и спрашивая ее насчет какого-то маркизета, он вытянул двумя пальцами из ее сумочки деньги и начал пятиться из толпы к выходу. Денег было пятьсот рублей в заклеенной банковской пачке.
Дело было сделано, и было «чисто сделано», как любил он когда-то думать о «своей работе», но внезапно холодный ужас объял его. Если он сделал это «дело», то, значит, плешивый Гвоздарев прав? Значит, он поступил верно, если не выдал ему паспорт? Значит, при любом стечении подходящих обстоятельств Жмакин нырнет в то свое мутное прошлое, про которое и Лапшин, и Криничный, и даже сам Михаил Иванович Калинин думают только как о далеком прошлом, а вовсе не о нынешнем Жмакина?
Насвистывая беззвучно какой-то маршик, волоча ноги, постреливая по сторонам глазами, пришел он в пикет, кинул дежурному на стол глухо упавшую пачку денег и, сказав небрежно: «Поднял с полу», повернулся к дверям. Но дежурный записал на бумаге разные подробности, которые Алексей здесь же небрежно выдумал, потряс ему руку, сказал насчет «золотого советского человека» и поблагодарил от имени стола находок.
Это был молодой дежурный, и Жмакин подумал про него: «Ох, молодо-зелено».
Но венок с трогательной надписью все-таки следовало выкупить!
В автобазе занять такую сумму он не мог.
Хмелянского не застал дома.
Может быть, даст Криничный?
Жмакин позвонил ему снизу, от дежурного, но не застал. А выходя из Управления, столкнулся с тем очкастым, которого недавно в кабинете у Лапшина принял за прокурора и который на самом деле был журналистом.
«У них деньги шальные, у этой братии», – подумал Жмакин. И попросил небрежно на пару дней пару сот.
Поначалу ему показалось, что Ханин его не узнал. Но Ханин узнал, только удивился – зачем вдруг такая сумма.
– Подарочек нужно срочно сделать одному парнишечке, – сказал Жмакин, глядя в сверкающие на солнце очки Ханина.
– Ладно, только зайдем в сберкассу, – согласился Ханин.
Пока шли, Жмакин интересничал, рассказывал про свою «поломатую жизнь» и даже дал понять, что попади «история его кошмарных передряг» в хорошие руки, можно издать такой роман, что люди из-за него будут драться.
– Я вам под стенограмму мог бы всю эту бодягу накидать, – снисходительно говорил Алексей, – а вы давайте пишите. Нам не жалко…
– А кому это интересно? – спросил Ханин, и очки его на солнце ярко блеснули. – Ну, воровали, ну недоразумение, ну сейчас все в порядке. Чем вы, собственно, хвастаетесь?
Жмакин опешил, потом обиделся и даже рассердился, но сердиться по-настоящему не мог: в сущности, этому человеку он был обязан тем, что стал не только шофером, но и грузчиком, а теперь он его еще и в сберкассу вел. Значит, очкастый Ханин вовсе ему не враг, скорее, даже друг. Так, может, и в самом деле пора перестать рассказывать эти свои мутные истории с лихими кражами и удачными побегами?
Получив деньги, Жмакин небрежно попрощался с Ханиным, но тот окликнул его и спросил, куда Жмакин собирается принести ему долг.
– Я б через Ивана Михайловича, – после короткой паузы произнес Алексей.
– Так Лапшин же уехал надолго, а вы попросили «на пару дней». Передадите тут в Управлении дежурному в конверте на мое имя. Зовут меня Ханин Давид Львович. И деньги верните, они мне нужны!
«Жаба! – вслед ему подумал Жмакин. – Не знает, как трудно перековываться!»
В магазине похоронных принадлежностей Жмакин опять пришел в отличное расположение духа и даже попросил книгу отзывов и пожеланий, чтобы выразить благодарность за отличную работу. Такой книги здесь не оказалось, никто ее тут не спрашивал.
– Надо завести! – посоветовал Алексей.
И еще раз с наслаждением прочитал четкую белую надпись на черной муаровой ленте: «Дорогому товарищу Гвоздареву, сгоревшему на работе».
– Значит, доставите сейчас? – сказал он разбитному малому, вышедшему из закутка при магазине. – И лично вручите Гвоздареву. Это помершего брат. Вот тебе, друже, на мелкие расходы…
Малый сунул пятерку куда-то под мышку и сказал, что все будет исполнено в точности, а Жмакин пошел в «культурную пивную», попил пива, поел раков, прочитал все газеты, которые здесь были, и из автомата чужим голосом спросил товарища Гвоздарева.
– У аппарата! – сказал Гвоздарев.
– Это из похоронных процессий бюро проверки предварительных заказов, – произнес Жмакин. – Вы венок получили?
Гвоздарев завизжал так, что трубка защелкала и ничего понять было нельзя. Со вздохом удовлетворения Алексей вышел из будки, сел в трамвай и отправился к себе на Васильевский. Он еще поспеет на свою машину во вторую смену!
Лапшин, Александр Иванович и Бобка
Дом отдыха был небольшой, белый, весь в зелени, под красной черепицей и стоял на обрывистом, высоком берегу – над морем. День и ночь бились в берег с уханьем волны, и Лапшину казалось, когда он лежал в шезлонге, или гулял, или взвешивался на весах, или от скуки и еще повинуясь стадному чувству покупал слишком много разного винограда, помидоров, дынь, что это вовсе не волны ухают в берег, а слышится далекая канонада, что там идет война, а Лапшин просто поправляется в неглубоком тылу, в госпитале, как уже случалось с ним в далекие годы боев с Деникиным, Каппелем, атаманом Ангелом и другими контриками. И оттого, что он был не в госпитале и не испытывал никаких страданий, ему было чуть-чуть слишком покойно, немного совестно себя и порою досадно. «Барином живу, вишь, – думал, – жирным скоро стану на этой цветной капустке, да на всяких завтраках и полдниках…»
Он подружился с одним знаменитым летчиком, и они подолгу разговаривали, сидя друг против друга в плетеных креслах, или вместе заплывали далеко в теплое море. Чем дальше уходил от них берег, тем спокойнее делалось им на сердце, здесь они даже пели в два голоса и непременно хвалили побережье, свой Дом отдыха и директора Викентия Осиповича. Летчик был моложе Лапшина и побаивался людей, потому что его везде узнавали и устраивали вокруг него восторженный шум, которого он терпеть не мог. Особенно докучали ему пожилые, накрашенные курортные дамы и дети, которые, не стесняясь, бегали за ним толпами и просили его поделиться с ними разными эпизодами из его героической жизни. Летчик багрово краснел и отнекивался, а Лапшин ему сочувствовал, говоря:
– Да, сложное положение…
Оба они читали «Былое и думы», летчик кончал уже третий дом, а Иван Михайлович был в середине второго, и оба подолгу обсуждали жизнь Александра Ивановича и его размышления. И оба сходились на том, что «Былое и думы» – это литература будущего. Почему это так – они не могли бы, наверное, объяснить толком, но и Лапшин и летчик понимали, что в том будущем обществе, ради которого они так нелегко прожили свою молодость, не будет места пустым, трескучим и неумным книгам, как бы эти книги, по выражению летчика, ни были «лихо закручены». Слишком серьезно оба они относились к великой радости чтения, чтобы читать только для препровождения времени…
Иногда вечерами они ездили в город, оба выбритые, свежие, загорелые, не слишком разговорчивые и довольные друг другом. Там они ужинали на поплавке, пили слабенькое, кислое вино, ели шашлыки, курили.
– Иван Михайлович, а ты что, вдовый? – как-то, потягивая винцо, спросил летчик.
– Я? Боже сохрани! – даже испугался Лапшин. – Просто неженатый. Ну, холостой. Бывает же.
– Бывает, конечно. Да как-то чудно. Такой человек, как ты, непременно должен быть женатым. Не подходит тебе холостая жизнь…
Летчик часто удивлялся, что в такое напряженное время он отдыхает в отпуску, и утверждал, что это нецелесообразно, Лапшин же с ним не был согласен, утверждая, что любой толковый командир старается перед боем дать как следует отдохнуть своему «личному составу», потому что, когда начнется, «будет не до отдыха».
– Так к данному нашему времяпрепровождению и надо относиться, – улыбаясь, говорил он. – Подправимся от разных там хвороб мирного периода, готовы будем к настоящей войне…
И газеты обсуждали они вдвоем, особенно разные высказывания Гитлера насчет того, как он хочет всеобщего мира, и какой он вообще добрый, и как жалеет всех тех, кого вскорости скушает. И оба посмеивались невесело, думая одни и те же думы. В Доме отдыха царило главным образом легкомысленное настроение, отдыхающим не слишком хотелось размышлять о будущем, и это еще больше сближало Лапшина и летчика, которые если не совсем точно, то, во всяком случае, реально представляли себе то, с чем всем придется рано или поздно непременно и тяжело – насмерть – столкнуться.
Как-то поздним вечером, когда они играли у себя в Доме отдыха на бильярде, к летчику приехала жена с сыном, и Лапшин остался один. Жена у летчика была красивая, милая женщина, и Лапшин, слушая, как она напевает в соседней комнате или, смеясь, разговаривает с мужем, испытывал мучительное чувство тоски по Кате. Он курил, шел купаться, до одури бродил по горам, тоска не исчезала. Теперь он твердо знал – от Балашовой ему не освободиться. И до того дело дошло, что однажды, проснувшись под треск цикад, среди темной и душной ночи, он почувствовал, что глаза его мокры, и понял, что плакал во сне. Он встал, зажег свет, скрутил папироску и сидел на кровати с зажженной спичкой в руке, пока она не догорела и не обожгла пальцы. Было стыдно перед самим собой, но как он ни корил себя – помочь ничему не смог. Все так же тускло было на душе, и так же горько он шептал:
– Эх, Катя, Катя, чего же нам делать?
Потом вышел на балкончик и долго слушал, как грохочут внизу волны и как кричит в кустах незнакомая, непонятная птица – наверное, вроде здешних непонятных растений – магнолий, лавров, пальм.
Утром с Бобкой – сыном летчика – Лапшин пошел купаться. Накануне Бобке исполнилось шесть лет. Он был мал ростом для своего возраста, молчалив и очень ласков. Его стригли под машинку, но спереди у него была короткая челка, торчавшая милыми хохолками. Лапшин не умел обращаться с детьми, не знал, о чем с ними надо говорить, но так как слышал, что с ними надо держаться наравне, а не сверху вниз, то с Бобкой разговаривал совершенно как с Бочковым или с Баландиным.
Они шли вниз к морю по дорожке, вырубленной в скалах и порыпанной гравием, и Иван Михайлович делился с Бобкой своими соображениями о будущей войне. Он очень много думал о миновавших не так давно событиях в Испании, с тяжелым и пристальным вниманием прислушивался и приглядывался ко всем затеям Гитлера и в этом смысле беседовал нынче с Бобкой.
У Бобки были новые сандалии, приобретенные ко дню рождения, и подошвы все время скользили, так что Бобка часто, словно нарочно, как бы уносился ногами вперед, и тогда Лапшин, державший его за руку, ставил на дорожку, ставил и советовал:
– Хватайся за воздух!
Бобка смотрел на Лапшина и вовсе не замечал дороги. Он был некрасив лицом – весь в отца: такие же веснушки, такой же, картофелиной, нос, такая же лобастая, упрямая головенка, но глаза у него были материнские – с мягким блеском и с постоянным внимательно-удивленным выражением. И рот тоже был материнский – с лукаво-насмешливой складочкой.
– Вот, брат Бориска, – сказал Лапшин, сжимая в своей ладони горячее Бобкино запястье. – Так они себя и ведут, не понимая, чем это им грозит.
– Они очень глупые? – спросил Бобка, опять вылетая обеими ногами вперед.
– С точки зрения нормального человека, конечно, глупые, – ответил Лапшин, ставя Бобку перпендикулярно к земле, – но с точки зрения их панической боязни коммунизма…
– Что значит «панической»?
Лапшин объяснил.
– Теперь дальше, – сказал он. – Виды у них на нас какие? Виды такие: они хотят ударить по Балтийской зоне. Тебе известно, что такое зона?
– Зона – знаю, – сказал Бобка, – а Балтийская – не знаю.
Лапшин объяснил ему и стал рассказывать дальше.
– Погодите-ка! – сказал Бобка. – У меня камень в сандаль попал.
– Ну вынь! – сказал Лапшин.
Бобка сел на дорожку, снял сандалию с тем выражением поглощенности своим делом и необыкновенной важности своего дела, которое бывает только у детей, вытряхнул из сандалии камень, обулся и встал. И пока Лапшин смотрел в затылок мальчика, ему казалось, что это его сын.
Они дошли до моря, и здесь Лапшин, стыдясь себя, своего неумения и, главное, того, что ему хотелось так поступить, снял сам с Бобки сандалии, штаны и, пощекотав у него за ухом, сказал:
– Ну, кидайся!
– Зачем же вы меня так раздели? – спросил Бобка. – Разве ж я сам не умею? Мама меня заругает, что вы меня раздевали.
– А мы маме не скажем! – басом сообщил Лапшин. – Ладно, хлопче?
И он слегка порозовел, оттого что сказал «хлопче» и «мы» и оттого, что сам почувствовал, как нехороша вся фраза.
Они долго купались в зеленой и соленой воде, и Лапшин не плавал вовсе, а вместе с Бобкой барахтался у берега, кидал в Бобку мокрым песком, а потом внезапно испугался, что застудит парня, и стал поскорее собираться домой.
Назад они шли молча; Бобка от купания разомлел и еле тащился, повиснув на руке Лапшина, а Лапшин думал о том, что пора ехать в Ленинград и что здесь от безделья можно, чего доброго, и вовсе свихнуться.
Через три дня летчик с семьей уезжал в Москву. Было утро солнечное, свежее и ветреное, и Лапшин встал раньше всех в Доме отдыха. У него был казенный костюм – белые штаны, белая курточка, шлепанцы и дурацкая шляпа пирожком – тоже белая. Умывшись, он оделся в этот костюм, но потом раздумал и надел форму. Никто еще не встал из отдыхающих, и только помощник повара Лекаренко стоял и курил на крыльце.
– Уезжаете? – спросил он негромко, и голос его далеко разнесся в утреннем воздухе.
– Нет, – сказал Лапшин, – знакомые уезжают.
– Ага, летчики, – поощрительно сказал Лекаренко. – Симпатичные люди, ничего себе, скромные. С его фамилией можно любые шофруа или там крутоны требовать, а он кушает себе наше четырехразовое питание и похваливает. И супруга у них хорошая женщина, и Борис парень небалованный.
Лапшин со всем согласился. Лекаренко подумал, посмотрел на море и спросил:
– А у вас своих ребятишек нет, что ли?
– Нет.
– То-то вы все с Борисом прохаживаетесь, – произнес Лекаренко. – Мы уже между собой на кухне обсуждали, что это Иван Михайлович, такой симпатичный мужчина, а, видать, бессемейный.
– Да, так вышло, – начиная раздражаться, сказал Лапшин.
– Всякому свое, – заключил Лекаренко и вынес Лапшину на блюдце костного мозга, соли и хлеба. – Покушайте пока что, дюже можете заголодать до завтрака.
Лапшин поел и пошел к морю один, размахивая отломленной веткой. Сапоги его блестели, и весь он представлялся себе уже городским и лишним здесь, среди олеандров, пальм и кипарисов. И ремень на нем был тугой, и постригся коротко, как в городе. «Надо работать, – думал он, – надо уезжать и дело делать!»
Он вернулся к дому. Там еще никто не встал, было совсем рано, шестой час. Уши у него горели, и сердце билось так сильно, что он не поднялся на террасу, увитую плющом, а посидел внизу на каменных ступеньках.
Вверху, на втором этаже, раскрылось окно. Он поглядел туда и увидел Женю – мать Бобки. Она тоже заметила его, сделала удивленные глаза и показала рукой, что сейчас спустится вниз. Лапшин обрадовался и пошел к ней навстречу на террасу.
– Что это вы ни свет ни заря? – говорила она, пожимая его руку. – Это только мой муж в три часа на полеты на свои подскакивает как заведенный…
Она зевнула и поправила волосы, едва заколотые и развалившиеся оттого, что, зевнув, она встряхнула головой.
Лапшин молчал.
– Вот мы и уезжаем, – сказала она, глядя на море. – Пора.
– И я скоро, – сказал Лапшин.
Они сели на ступеньку и поговорили о Бобке, о дальних перелетах, о погоде в Москве.
– Надо вещи складывать, – сказала Женя, – а мой мужик спит, и жалко его будить.
– Давайте я вам помогу, – предложил Лапшин. – Пусть спит!
Они вышли в маленькие сенцы перед той комнатой, в которой жили Бобка, Женя и летчик, и Женя вынесла из комнаты груду вещей, взятых из ящика, чемодан, портплед и корзинку. Пока она во второй раз ходила в комнату, Лапшин открыл чемодан, вытряхнул его и стал выбирать из кучи вещей, сваленных на пол, на газеты, только мужские вещи – белье, носки, фуфайки, брюки, причем белья и одежды Жени он старался не касаться.
От сидения на корточках у него затекли ноги, и он сел просто на пол, на газету. Женя подхватила его работу и сказала, что так укладывают только мужчины, воевавшие войну, и что ее муж тоже так укладывает вещи. Она села с ним рядом и в другой чемодан стала складывать свои вещи.
– А вот это не надо, – сказала она, – бритвенный прибор не надо. Он в дороге бреется и будет меня ругать, если эту штучку мы запрячем…
Она вытащила назад прибор, и Лапшин с грустью подумал, что никто не знает, как и где он бреется, и какие у него привычки, и что за всю жизнь ему никто и никогда не укладывал вещей. И, как всегда, когда ему бывало грустно или не по себе, он, затягивая ремнями чемодан, сказал веселым, гудящим басом:
– Все в порядочке!
– А вы не женаты? – спросила Женя, точно отгадав его мысли.
– Убежденный холостяк, – сказал он тем же басом. – Ну вас всех!..
Потом проснулся летчик, и они вдвоем посидели с ним в плетеных креслах и помолчали.
– Вот, брат Иван Михайлович, – сказал летчик на прощание, – мы с тобой тут ничего пожили, хорошо… Действительно, всесоюзная здравница!
И он отвел от Лапшина глаза так, как будто сказал нечто слишком задушевное, даже сентиментальное.
Он был уже в форме, затянутый, невысокий, с широкими развернутыми плечами и открытым взглядом зорких глаз. Весь Дом отдыха провожал отъезжающих, и все окружили закрытый автомобиль, в котором уже сидели Женя и Бобка. И чемодан, увязанный Лапшиным, был виден сквозь стекло. Пока летчик пожимал руки провожающим, Лапшин переглядывался с Бобкой издали, потом подошел к самой машине и сказал:
– Ну, будь здоров, Борис!
– До свидания! – сказал Бобка отсутствующим голосом. Он был уже занят автомобилем и отъездом, и, в сущности, он даже уже уехал.
– Учись хорошенько в школе, – сказал Лапшин. – Расти большой!
Наконец автомобиль тронулся. Не глядя ему вслед и не помахав рукой, Лапшин ушел к себе в комнату и до обеда писал письма Ханину, Баландину, Васе Окошкину, Криничному, Побужинскому, всем своим. Письма были настолько бодрые, что все, кто их получал, не могли не понимать, что Иван Михайлович тоскует.
Больше он не надевал казенный белый костюм, а ходил в сапогах и гимнастерке и думал о Ленинграде, о работе, о том, что давно не толковал с Василием по душам, а надо бы, с аппетитом представлял себе дождик и туман (согласно календарю, а не как здесь – в октябре жарища), представлял, как приедет, как с вокзала вызовет машину, узнает новости с ходу от Кадникова, доложится Баландину и начнет работать, как работал всю жизнь.
– Да, да, – думал он, – довольно, хватит…
И раздраженными глазами смотрел на покойно плещущее зеленое море, на желтый песок и на белые, увитые плющом стены Дома отдыха, ослепительно сверкающие на ярком южном солнце. Ему хотелось уехать немедленно, не кончив срока, не уезжал он только потому, что был дисциплинирован и считал, что раз государство послало его отдыхать и набираться сил, то он должен делать это вне зависимости от своего желания и, по возможности, добросовестно.
Октябрьским вечером…
В субботу, когда Ханин, вновь поселившийся в лапшинской комнате, трещал на машинке, вдруг явился Окошкин, оживленный, с бутылкой портвейна в кармане и с коробкой миндального печенья в руке.
– Зашел с поручением и на огонек, – моргая от яркого света, сказал Василий Никандрович, – старых друзей проведать. Как живете, Львович?
Патрикеевна из ниши произнесла:
– Без вас хорошо жили, с вами-то куда хуже было. И сапоги не вытер, – вон наследил…
– Все та же музыка! – пожал плечами Окошкин.
Ханин тупо разглядывал Василия Никандровича. Голова его еще была занята тем, что писалось на машинке. Вася поинтересовался:
– Творите?
– Да нет, так просто… А ты как живешь-можешь?
Окошкин, раскачиваясь на стуле, сказал, что живет он чудесно, но имеются некоторые неувязки.
– Не качайся, – попросил Ханин, – в глазах рябит. А что за поручение?
– Да Жмакин деньги вам послал, двести рублей, что ли.
– Не может быть!
– В долг брал?
– Скажи пожалуйста, я уж и думать забыл. Как он живет-то, этот самый Жмакин?
– Посредственно, – откупоривая портвейн, сказал Василий. – С паспортом у него затерло. Ну, да ничего, днями сам Прокофий Петрович займется, я уже почву подготовил. Конечно, Алеха тоже виноват…
И, хихикая, Окошкин рассказал про историю с венком.
– Это на ваши деньги, Львович, он и приобрел веночек с лентой.
– Да брось!
– Точно! Он сам мне рассказал, а он нынче врать вовсе бросил…
Разлив портвейн в две рюмки, Окошкин пригубил и издал горлом стонущий и несколько даже воркующий звук.
– Чудесная вещь! – сказал он. – Ароматная, легкая. Я слышал, будто английские лорды эту самую штуку тяпают по рюмочке после обеда и стоит она у них огромные фунты стерлингов. А у нас бутылка семь рублей – довольно-таки дешево.
Ханин молчал задумавшись. Они грызли миндальное печенье. Окошкин снял наконец фуражку, побродил по комнате и спросил, что пишет Лапшин.
– Здорово бодрые письма пишет, – со вздохом сказал Ханин. – Наверное, вполне поправился. Ты разве не получал?
– Открытку, – несколько обиженно сказал Окошкин. – Он всегда мне почему-то накоротке пишет…
И вышел в коридор. Ханин полистал свою рукопись, достучал прерванную фразу. Скрипнула дверь, Окошкин сообщил, что Антропов, оказывается, тоже в отпуску.
– А зачем он тебе? – удивился Давид Львович.
– Да нервы у меня, понимаете? Организм совершенно расшатался…
– Неужели?
– Смеетесь все…
Перелистывая свою рукопись, Ханин не заметил, что Васька разулся и лег на кровать Лапшина. Он лежал, заложив руки под голову и задрав ноги в вишневых носках. Лицо у него было грустное, он глядел в потолок и вздыхал.
– Чего, Окошкин? – спросил Ханин. – Худо вроде бы тебе?
– Худо, Давид Львович, – виновато сказал Окошкин, – верите ли, пропадаю…
– Ну уж и пропадаешь?
– Да заели! – крикнул Василий Никандрович. – На котлеты меня рубят…
Быстро усевшись на кровати Лапшина и вытянув вперед голову, он стал рассказывать, как жена и теща посмеиваются над ним за то, что он помогает сестре, как его заставляют по утрам есть овсяную кашу, и как они водили его в гости к тещиному брату – служителю культа, и как этот служитель культа ткнул Ваське в лицо руку, чтобы Васька поцеловал, и что из этого вышло.
– Чистое приспособленчество! – скорбно говорил Васька. – Такую мимикрию развели под цвет природы, диву даешься, Давид Львович! Ну, не поверите, что делают! И вещи покупают, и все тянут, и все мучаются, и все кряхтят, и зачем, к чему – сами не знают. И едят как-нибудь, и мне в Управление ни-ни! Булочку дадут с собой, а там, говорят, чаю. Чтоб я пропал!
– Ошибся в человеке? – спросил Ханин, сверкнув на Васю очками.
– А хрен его знает! – сказал Окошкин. – Вот полежал здесь, отдохнул. – И он стал прыгать по комнате, натягивая на себя сапоги. – Не поздоровится мне, конечно, за это!
– Не поздоровится! – согласился Ханин.
– Главное дело что, – говорил Вася, обувшись, – главное дело – это как они меня терзают. Ну, все им не так! Вилку держу – не так, консервы доел – не так, на соседа поглядел – давай объяснения, зачем поглядел. И самое ужасное, Давид Львович, это недоверие. Ну хорошо, нахожусь в Управлении, проверяют путем телефонной связи. А если я в засаде нахожусь – тогда как? Вы нашу работу знаете, вы у нас человек свой, ну посоветуйте – могу я адрес Ларисе дать для проверки, в какой я засаде нахожусь? Ну, мыслимое это дело?
– Немыслимое! – вздохнул Ханин. – Но с другой стороны, наверное, приятно, если любимая женщина ревнует.
– Вообще-то, конечно, ничего, но они хотят, чтобы я из органов ушел.
– Это почему?
– Опасно!
– Ничего! – сказал Ханин. – Все, брат Окошкин, образуется. Приедет Иван Михайлович, пригласит твою Ларису на собеседование, разъяснит, пояснит, наддаст своего кислорода…
– А при чем здесь, интересно, Лариса? – из ниши громко спросила Патрикеевна. – При чем она здесь, если он на теще женат…
Потом Ханин довольно долго читал Окошкину главки из своей книжки о Толе Грибкове. Это была другая книжка, не та, что написал по первому разу. Здесь и Лапшин был немного описан, и Побужинский, и Криничный, и даже сам Вася. И жмакинская история была чуть-чуть прихвачена.
– Похоже? – блестя очками и прихлебывая чай, опасливо спрашивал Ханин. – Похоже, Вася?
По его голосу было понятно, что он волнуется, что спрашивает он без всякой насмешки и что ему важно мнение Окошкина. Вася тоже волновался, ему казалось, что от него сейчас очень многое зависит и что нужно слушать внимательно и замечать всякие ошибки – так и просил Ханин. Но ошибок он не замечал и, слушая, видел весь этот промежуток жизни бригады со стороны, удивлялся на ребят, с которыми работал, и радовался, что у Ханина все хорошо и точно получилось. Но одно замечание он все-таки выразил:
– Здорово, конечно, вы наши типы дали, – сказал он, – в духе соцреализма, но некоторые детали я бы вычеркнул. Вот, например, где вы даете день получки. Что, дескать, бедноваты мы. Прочтут какие-нибудь английские лорды или американские бизнесмены и начнут над нами потешаться. А разве они могут, например, понять, какой человек Николай Федорович Бочков? Они даже и не поверят, что такой живет и работает в действительности. Или Иван Михайлович, вот что у него одна комната…
– А чего, – выходя из ниши и постукивая деревяшкой, сказала Патрикеевна, – вовсе не одна. Где я помещаюсь, если дверь навесить, будет точно другая комната. Обратно кухня, ванная имеется, коридор у нас очень широкий, а квартира вся дружная…
Ханин улыбался чему-то, протирая очки.
– Вообще-то здорово! – сказал Окошкин. – Народу нашему понравится. И Толя Грибков как живой. Смерть его тоже дадите?
– Дам.
– Только чтобы пессимизма не было, – предупредил Окошкин, – молодежного читателя надо учитывать…
Патрикеевна ушла в кухню поджарить на ужин брюкву, Окошкин еще побродил по комнате и вздохнул.
– Как личная жизнь Ивана Михайловича протекает? Без изменений?
– Все так же.
– Жениться бы ему!
После легкого ужина из жареной брюквы Окошкин доел печенье, допил портвейн, еще раз со скорбью оглядел комнату и уже у двери сказал:
– Поверите, гимнастерку на работе чернилом замазал, боюсь домой идти. Что с человеком сделали, а?
– Они тебя вышколят, – из ниши сказала Патрикеевна, – шелковый будешь…
Василий Никандрович махнул рукой и ушел.
Телеграмма
За четыре дня до окончания срока путевки Лапшин получил письмо от Балашовой.
Читая после обеда кривые, сбегающие вниз строчки, Иван Михайлович по первому разу почти не понял содержания письма, но ясно и точно чувствовал только одно, Кате плохо, очень плохо, и он обязан сейчас, не откладывая, не раздумывая, ничего не взвешивая и ничего не прикидывая, вмешаться всей своей тяжелой силой в ее запутанную, невнятную, непонятную ему жизнь.
И он сделал все, что было в его возможности: во-первых, сочинил Катерине Васильевне короткую, почти деловую телеграмму с просьбой «приехать» сюда немедленно самолетом, так как здесь ей будут созданы «все условия для поправления здоровья и отдыха». Во-вторых, аккуратно пересчитав всю свою наличность (ее почему-то осталось не так уж много), он телеграфом же отправил Кате триста рублей. В-третьих, на все оставшиеся деньги разослал депеши – Баландину с просьбой продлить отпуск «по личным причинам» еще на десять дней и прислать в долг пятьсот рублей, Пилипчуку тоже насчет денег и Криничному хитрое телеграфное послание с просьбой позвонить Ханину насчет посылки телеграфом денег для Лапшина и с другой просьбой Криничному – еще позамещать Ивана Михайловича по причине «некоторых обстоятельств».
Насквозь пропотев от всей этой писанины в крошечной, звенящей злыми, осенними мухами комнатке местного отделения связи, Иван Михайлович пошел на пляж и долго плыл навстречу волнам, пофыркивая и думая свои длинные, трудные думы, поглядывая на садящееся солнце и немного сердясь на себя за тот разнобой в мыслях и чувствах, который он сейчас испытывал.
Но море и усталость взяли свое. Постепенно он успокоился и к ночи, встретившись в аллейке с директором Дома Викентием Осиповичем, попросил разрешения немного с ним побеседовать. Тот привел его в свой кабинетик и, машинально щелкая костяшками счетов, выслушал Ивана Михайловича.
– Вашу лично путевку, я надеюсь, продлить нам удастся, – сказал он тем голосом, которым хозяйственники и в собственных глазах, и в глазах своих собеседников поднимают свой авторитет, – так я рассчитываю, товарищ Лапшин. Что же касается до вашего… приятеля… который… прибудет, – то здесь могу вам порекомендовать обратиться к нашему Лекаренко. Он может комнатку сдать и оборудовать все достаточно культурно. И питанием, разумеется, обеспечит…
Лекаренко Лапшин нашел на кухонном крыльце. Помахивая на себя в духоте поварским колпаком, тот молча выслушал Ивана Михайловича, кивнул и спросил:
– Завтрак сделаем к встрече?
– Какой завтрак? – удивился Лапшин.
– Ну, чтобы все исправно было. Цветы, фрукты, перепелочек можно зажарить, как надо для времяпрепровождения отдыха…
– Пожалуйста, – немного растерянно сказал Лапшин, – если надо, так надо.
Днем пришли деньги от Пилипчука и от Прокофия Петровича. Баландин писал в телеграмме также, что Лапшину предоставляется дополнительно пятнадцать дней отпуска «для поправления здоровья». Тотчас же Иван Михайлович телеграфировал Окошкину, чтобы тот помог Балашовой получить билет на самолет и, по возможности, проводил ее на аэродром.
Ни читать, ни более или менее толково думать в эти дни Лапшин не мог совершенно. Он либо заплывал очень далеко в море, либо отправлялся в «контору связи», либо мерял шагами свою комнату из угла в угол, потихоньку насвистывая и силясь представить себе, как это все произойдет. Но представить себе толком он ничего не мог: он только видел перед собою измученное лицо Кати, ее большой, ненакрашенный рот и круглые, глядящие прямо на него глаза.
Телеграмму от Окошкина принесли в мертвый час. Кроме адреса, числа и номера самолета, он прочитал всего пять слов, от которых испытал невыразимое чувство облегчения и даже счастья: «Балашова вылетела горячий привет Окошкин».
– Ах ты, миляга! – говорил Лапшин, тяжело ступая по гравию в боковой аллее. – «Горячий привет»! Ах ты, Окошкин!
Но думал он не про Окошкина, а про Катю.
Потом – заспешил: ему вдруг показалось, что решительно ничего еще не приготовлено. И, отыскав Лекаренко, сердитого из-за слоек, которые «не заладились» к полднику, он вытащил его из кухни и отправился с ним смотреть будущую Катину комнату.
«Балашова вылетела, – думал он на ходу словами Васиной телеграммы, – горячий привет Окошкин. Балашова вылетела».
Домик был чистенький, голубенький, под черепицей. «Украденная из Дома отдыха», – успел подумать Лапшин, но тотчас же об этом забыл. И комната была большая, прохладная, чистая, с цветами в горшках, ковриками, горой подушек на кровати и старым ломберным столом.
– Еще, конечно, диван тут поставим, – говорила супруга Лекаренко, молодая, с кошачьими повадками, с мягкими движениями женщина. – Ну, не совсем диван, вроде бы тахта. Ковер, конечно, можно положить. Вообще, за уютность я отвечаю…
За лекаренковской супругой табунком стояли дети – голые, почерневшие на здешнем сумасшедшем солнце, такие же гибкие, крупноглазые, как мать. Лапшин их посчитал взглядом – трое, потом оказалось четверо, потом – опять трое. Он моргнул – ребят вновь было четверо. Лекаренковская жена объяснила:
– Это Милка со Светкой так завсегда перед жильцами балуются. Они двойняшки, крутятся тут по-над шторой. Встаньте перед товарищем все в ряд, чтобы он разобрался.
Лапшин разобрался и медленно пошел к себе. «Балашова вылетела, – думал он удивленно и счастливо, – Балашова вылетела». А дома лежала еще одна, странная телеграмма, подписанная: «Ваш доктор Айболит». Хмурясь, он долго читал загадочные игриво-веселые строчки и наконец вспомнил, что Александр Петрович Антропов как-то пожаловался ему, будто Лизаветины подруги частенько спрашивают ее, как поживает «доктор Айболит». «Ах ты, бедолага, – подумал Лапшин, – бедняга ты экой! Поехал все-таки за ней, увязался!»
И вскорости Иван Михайлович уже вылезал из автобуса неподалеку от того Дома отдыха, где «бедовал» горемычный Антропов.
Во дворе было безлюдно, только тетка в белом халате яростно пихала поленья в жарко дышащее жерло топки под «титаном». И Лапшину на мгновение показалось, что неподвижный, накаленный воздух – здесь на юге – дело рук кубовщицы в белом халате.
– Антропова бы мне, – сказал Иван Михайлович. – Доктор у вас тут отдыхает – такой лысоватый… солидный, что ли…
Кубовщица, не глядя на Лапшина, ответила, что отдыхающие сейчас как раз отдыхают…
– Где же они отдыхают?
– Где, где… на пляже, где…
По ее голосу было ясно, что она терпеть не может всех решительно отдыхающих, и Лапшин пошел к морю. Еще издали, спускаясь по ступеням, он увидел Антропова и понял, что тот не отдыхает здесь, а работает как вол: взобравшись на большой камень, Александр Петрович готовился к прыжку и что-то кричал лихим и напряженно-веселым голосом. Внизу, возле камня, по пояс в воде стояли женщины в ярких резиновых шапочках и слушали его крики. Потом он побежал по камню, сложил руки ладонями вместе и шикарно прыгнул, а женщины в шапочках, визжа, теснились стайкой и наконец поплыли вместе с Антроповым, который и в воде все что-то оригинальничал: то плыл на спине, то брассом, то кролем, то вдруг вертелся волчком и кувыркался, чем-то напоминая дельфина-детеныша…
Иван Михайлович расстегнул ворот своей белой, широкой гимнастерки, сел на скамью, закурил, поджидая Антропова и думая о нем с ленивым сожалением, но тут же оборвал свои мысли, потому что предположил, будто и сам несколько схож с Александром Петровичем нынче, ожидая Катю, которая едет сюда, конечно же, только по-товарищески, а никак не иначе…
И, выдернув из бокового кармана гимнастерки заношенное Катино письмо, он вновь, в который раз, принялся его перечитывать, убеждая себя, что Балашова едет именно к нему, а не только для того, чтобы разобраться в самой себе и привести в порядок свою внутреннюю жизнь. Фразы, которые имели отношение к нему, Лапшин читал особенно внимательно и даже строго, шевеля при этом губами, все же, что связано было с тем, кого он именовал в глубине души «индюком», Иван Михайлович только пробегал, стараясь не вникать в суть непонятных ему и враждебных подробностей…
Ужинали вместе в чебуречной – Лизавета, Антропов и Лапшин. Легкие, белые занавески продувал теплый ветер с моря, шевелил скатертью, трепал Лизаветины волосы, она, ласково смеясь, собирала их и стягивала в тугой узел на затылке. После длинного купания и криков в воде, после пекучего солнца на пляже было видно, как девушку разбирает истома, ела она нехотя и порой закрывала свои узкие, чуть раскосые глаза. А Антропов беспокоился и немножко сердился:
– Нельзя же до такого состояния себя доводить! – говорил он Лапшину. – Ее, понимаешь ли, Иван Михайлович, просто немыслимо из воды вытащить. Изволите видеть, сидя спит. И так – каждый день…
– Ну а что плохого-то? – отвечал Лапшин. – Усталость здоровая, правильная. Или не по науке?
Не допив вино, Лизавета встала, потянулась и, подавляя зевок, сказала:
– Простите, Иван Михайлович, не могу больше. До того спать хочу – глаза закрываются. До свидания!
И, протянув ему красивую, сильную руку, повернулась к Антропову:
– С утра у нас игра, Айболит! Не смейте в это время спать! Слышите?
Она ушла, Антропов заказал себе коньяку, выпил большими глотками и пожаловался:
– Прочитал я недавно одну книгу, забавную, знаешь ли, Иван Михайлович. В семнадцатом веке, что ли, сочинена. И вот купец этот, автор и путешественник, все терпит кораблекрушения – одно за другим, во всех морях и океанах. Ну, и когда чувствует конец, то всегда восклицает: «Здесь, разумеется, пригодился бы добрый совет, но посоветоваться, по воле Провидения, в данном случае мне было совершенно не с кем». Понятно вам?
– Более или менее, – с легким вздохом ответил Лапшин.
– Ну а у меня решение уже созрело! – воскликнул, краснея от выпитого коньяку и заказав себе еще, Антропов. – Созрело! Я, Иван Михайлович, решил уехать.
– Вот как?
– Вот как. И далеко. Толковые врачи-практики везде нужны.
– Это разумеется, – холодно глядя на Антропова и вертя пальцами фужер с боржомом, ответил Лапшин. – Только, я так рассуждаю, нужны не те, которые от себя удирают, а те, которые просто приезжают…
Он отхлебнул из фужера, закурил и отвернулся. Ему было неприятно смотреть, как непьющий в общем Антропов жадно и неумело выхлебал свой коньяк. В это время по узкому проходу между столиками подошел человек лет шестидесяти, толстый, с наголо бритой головой, с висячими щеками, сипло спросил: «Можно?» – и, не дожидаясь ответа, сел. В груди его сипело и ухало, словно там не в лад работало много машин, губы у него были синие, рот полуоткрыт. Перехватив взгляд Лапшина, он улыбнулся, коротко объяснил: «Астма, сейчас вряд ли умру, не бойтесь» – и налил себе красного вина пополам с нарзаном. Антропов смотрел на него, словно на привидение.
– Вечерним московским приехал, – сказал незнакомый человек Антропову, – помылся, съел котлетки из капусты и морковное суфле и пришел сюда ужинать! – При слове «ужинать» все внутри у него опять заскрежетало, заскрипело и загудело. – Вот так!
Официанту он заказал добрый десяток блюд, долго ел, запивая одно блюдо за другим боржомом, потом спросил у Лапшина:
– Вы тоже врач?
– Нет, – ответил Лапшин.
– Это мой друг! – нетрезвым голосом громко произнес Антропов. – Более того – друг и учитель!
– Это вы его научили написать заявление об уходе из клиники? Впрочем, познакомимся, моя фамилия – Солдатов.
– Он – наш главный! – опять воскликнул Антропов. – Заявления пишут ему, а апелляции господу богу.
Съев бастурму с чебуреками, Солдатов утер потный лоб салфеткой, долго дышал и наконец произнес:
– Ваше заявление, Антропов, я разорвал и бросил в корзину. Так что теперь можно говорить обо всем в прошедшем времени…
И, повернувшись к Лапшину всем телом (Солдатов, видимо, не умел ворочать шеей), сказал:
– Так как вы друг и учитель Антропова и, видимо, это ваша идея насчет заявления, то выслушайте меня: будучи у меня на приеме (я лицо должностное и номенклатурное, и у меня приемы), ваш Антропов рассказал мне свою историю, достойную пера художника. Я подумал и пришел вот к какому выводу: девица, из-за которой происходят все красивые мучения нашего Александра Петровича, незамужняя. Сам Антропов, по его же словам, вдовец. А я – человек преклонного возраста, имеющий привычку размышлять на досуге, – убежден житейским опытом и наблюдениями вот в чем: от плохой жены можно уехать. От дрянного, маленького, копеечного чувства тоже можно уехать. Даже должно. А от настоящей любви, дорогой товарищ, не имею чести знать вашего имени-отчества…
– Иван Михайлович…
– Почтеннейший Иван Михайлович, так вот: от большого чувства, простите мой несколько архаический стиль, – никуда не уедешь. Никуда и никогда! Настоящая любовь, опять-таки простите, она до гробовой доски, и даже, как некоторые утверждают, – дальше! Ни каторга, ни ссылка, во времена моей юности, истинную любовь побороть не могли. И вот, вместо того чтобы советовать написать заявление о переводе «по личным мотивам» в дальние края, вы бы лучше, почтеннейший Иван Михайлович, посоветовали вашему выученику жениться на его подруге. Взять ее за руку, повести за собой и жениться на ней…
– Видал? – крикнул Антропов. – Видал, Иван Михайлович? Вон как все просто, а? Видал?
Солдатов молча смотрел на Лапшина. Внутри у него по-прежнему ухало и сипело, но он не обращал на это, казалось, никакого внимания.
«Взять за руку, повести за собой и жениться!» – подумал Лапшин, вставая. А когда Антропов закричал ему, что он так ничего и не посоветовал, Лапшин ответил негромко и спокойно:
– Возьми за руку, поведи за собой и женись…
Домой Иван Михайлович вернулся поздно, выкупался в «своем море», побрился перед маленьким зеркальцем, крепко вытер лицо одеколоном и, задумавшись, сел на кровать. Сипенье и уханье в груди Солдатова все еще слышалось ему, как и голос, утверждавший, что настоящая любовь до гроба. «Да, это правильно – до гроба, – упрямо и радостно согласился с Солдатовым Лапшин. – Никуда мне от нее не деться, и никуда я ее больше от себя не отпущу!»
«А в это время…»
А в это время в комнату, где по-прежнему стучал на машинке Давид Львович, просунулся Окошкин.
– Разрешите?
– Ноги вытри, на что похоже с грязными сапогами, – заворчала Патрикеевна.
– А вот как раз ноги у меня и вытерты!
Стряхнув макинтош, Вася развесил его на спинке стула, вытер душистым платком смуглое лицо и сказал, ни к кому не обращаясь:
– Интересно, долетела уже или еще нет?
– Сейчас, сейчас, сейчас, – быстро, словно колдуя, забормотал Ханин. – Минуточку, минуточку, минуточку…
Он боялся забыть начатую фразу.
Вздохнул, развалился в неудобном лапшинском кресле и сказал:
– Ура, Окошкин пришел! Патрикеевна, устроим шикарный ужин, а? С картошкой, с селедкой, огурцами и калганной водкой. Если бы ты знал, Василий Никандрович, какую водку настаивает Патрикеевна…
– А вы все пишете?
– Дописываю, переписываю – и опять наново.
– Тяжелый ваш хлебчик…
– А ты думал…
Помолчали. Окошкин задумчиво произнес:
– Интересно все-таки, долетела уже или нет.
– Балашова-то?
– Именно, Катерина Васильевна.
– Возможно, что долетела. Но вряд ли. Мне один довольно известный летчик такую мысль как-то выразил: авиация – самый современный вид транспорта: час летишь – неделю ждешь.
– Довольно цинично для летчика.
– Что-то ты, Василий Никандрович, поднаторел слова говорить…
– Поднатореешь тут, – угрюмо отозвался Василий. – В такой переплет попал – врагу не пожелаю. Буквально, остались от козлика рожки да ножки.
Ханину очень хотелось узнать, что произошло с Окошкиным, но он, не подавая виду, вышел за Патрикеевной еще пораспоряжаться насчет ужина. Когда он вернулся, в комнате сильно пахло валерьянкой.
– Просьба у меня к вам, – сказал Окошкин. – Пока Иван Михайлович в отъезде – можно, я тут поживу? Лапшин, конечно, возражать не будет.
– А что случилось-то?
– Случилось, что я из-за него ужасно погорел.
– Как так?
– А выследила меня теща. Сначала мне Катерина Васильевна по телефону на квартиру позвонила, и я с ней условился…
Ханин слушал, улыбаясь.
– Ничего смешного, Носач, тут нет. Вы бы втяпались в такое дело…
– Да какое дело-то?
– А такое, что перед посадкой в самолет эта самая Балашова меня, понимаете, обняла и поцеловала. И вообще то смеялась, то плакала. А теща все это видела и на заметку брала. Конечно, сразу целая концепция у них: сам едва концы с концами свожу, а своих девок самолетами на курорты посылаю. Вот тут и толкуй. Прямо Вальпургиевы ночи, а не жизнь. Вы только поглядите, что от меня осталось.
– Отлично выглядишь!
– Ну да, отлично!
Закусив картошкой с селедкой и выпив большую стопку калганной водки, Васька сказал Патрикеевне:
– Ей-богу, я раньше думал, что у вас тяжелый характер. Только сейчас понял, какая вы женщина. Вы – ангел, а не женщина.
– Ну-ну, – сказала Патрикеевна. – Не кощунствуй!
– Ангел! – крикнул Окошкин. – И не спорьте! Я тогда неорганизованный был человек, когда здесь в былое время проживал, а сейчас я – организовался. Я на все четыре копыта сейчас подкованный, и по хозяйству помогаю, и по магазинам бегаю, и вот даже мастику для пола купил по собственному почину. Картошки больше нет?
– А ты чай пей с хлебом и с маслом, – жалостливо сказала Патрикеевна. – Хлеб хороший, свежий. И масло несоленое…
– Мы соленое берем, – вздохнув, сказал Окошкин. – Оно дольше не портится.
Он откусил огромный кусок хлеба с маслом и положил в стакан три куска сахару, потом вопросительно взглянул на Патрикеевну и положил четвертый.
– Ничего, – сказала Патрикеевна, – можно! Нам не жалко. Верно, Давид Львович?
– Они говорят, что у меня нездоровый аппетит, – быстро забормотал Окошкин. – Они говорят, что у меня никогда ни приличной обстановки не будет, ни шубы с котиком. Они говорят, что все сам проедаю. А зачем мне ихняя шуба с котиком? Зачем мне приличная обстановка? Что, я на сахар себе не зарабатываю? Ну, люблю сладкий чай, ну, бейте, ну, эх!
Отодвинув от себя стакан, он пересел на подоконник, рукавом протер запотевшее, залитое дождем стекло и стал глядеть на улицу.
– Ладно, Василий Никандрович, не отчаивайся, – посоветовал Ханин. – В общем-то, ничего страшного нет. Она, наверное, тоже страдает – твоя Лариса. Иди попей еще чаечку, помогает от грустных дум. Развелся ты или как?
– Убежал, – с тоской в голосе произнес Василий. – Они меня за баранками послали, вот трешка ихняя. Я трешку в кулак – и ходу. Теперь мне на эту трешку до самой получки жить…
Когда Патрикеевна стелила Окошкину постель, зазвонил телефон и женский голос спросил Ханина, не здесь ли Окошкин.
– Здесь, – сказал Давид Львович, передавая Василию трубку. Василий Никандрович долго слушал молча, потом сказал:
– Не тарахтите, попрошу, так неразборчиво, мне неясна ваша мысль.
Через несколько минут он велел:
– Террор только не наводить!
И наконец, когда Ханин дочитал передовую в газете, Василий Никандрович произнес:
– Так. Я себя виновным не считаю и считать не собираюсь. Вы с вашей дочкой покуда что отдохните от меня, а я отдохну от вас. Может быть, впоследствии мы и найдем общий язык, но покуда вы будете вклиниваться между нами – навряд ли. Что касается до происшествия на аэродроме, то это все не в вашу пользу, что я и докажу впоследствии. Привет Ларисе!
Повесив трубку, Окошкин сел на кровать к Ханину, длинно и горько вздохнул и сказал:
– Теща плачет, Ларка плачет, я с ума схожу.
– Это оттого, что не знаете вы, какие бывают настоящие несчастья…
– Ну, да! – разуваясь, усомнился Окошкин. – У меня, что ли, счастье?
– Самое настоящее, – усмехнулся Давид Львович. – И ты со временем сам поймешь.
– А служитель культа?
– В шею служителя!
– А теща?
– С тещей нужно расселиться.
– А… а промтовары эти все?
– Будь мужчиной, и кончатся промтовары…
– А…
– Ладно, – сказал Ханин. – Надоело! Почитай лучше книжку, какой-то ты, действительно, нервный стал.
Они оба почитали еще с полчаса, потом Ханин спросил, можно ли гасить свет. Но Василий уже не ответил – спал. На нем была новая нижняя рубашка с розовыми отворотиками. «Промтовары», – подумал Давид Львович, погасил свет и улыбнулся в темноте. Ему сделалось смешно и немножко жаль Васю.
Приехали до вас!
Потирая большими руками горящее от морской воды и одеколона лицо, он сидел и думал до рассвета, порою считая часы, оставшиеся до прилета Балашовой, потом опять, оскальзываясь сапогами, спустился к морю и уплыл далеко, черт знает куда, развернулся и, рассекая могучим плечом багровые от восходящего солнца волны, вернулся к берегу. Одеваясь в грохоте прибоя, он не слышал, что его зовут, а когда увидел ночного сторожа Фадеича, опасливо бегущего вдоль полосы прибоя, то не обратил на него внимания.
– Товарищ Лапшин! – подобравшись как можно ближе к Ивану Михайловичу, закричал старик. – Там до вас приехали, уже с час дожидаются на крыльце.
– Чего? – крикнул Лапшин.
– Приехали до вас! – повторил дед, тыча стволом берданки в сторону Дома отдыха. – Дожидаются…
Старик ухитрялся дежурить в полушубке и папахе, словно за Полярным кругом, и было смешно видеть эту приземистую фигуру на фоне пальм и олеандров. Лапшин улыбнулся и тотчас же с досадой подумал, что, наверное, теперь придется провожать пьяного Антропова домой, потому что кто же, кроме него, явится сюда в такую рань. Дед потащился наверх, а за ним не спеша, помахивая полотенцем, пошел Лапшин. Ему не хотелось сейчас слушать унылые жалобы Антропова, не хотелось никакой болтовни, и, наверное, поэтому, уже совсем близко подойдя к Балашовой, он не понимал, что это она.
– Иван Михайлович, куда вы смотрите? – тихо и испуганно спросила Катя. – Вот же я!
На ней был серенький, потертый плащ, и подстриженные волосы ее развевались на ветру. Лапшин успел заметить, что она ухитрилась еще похудеть, явственнее проступали высокие скулы, и глаза стали еще круглее, чем были раньше. Растерянно улыбаясь, Иван Михайлович сделал еще шаг вперед и протянул ей руку, а она взялась за его запястье обеими холодными, широкими ладошками, поднялась на носки и по-детски поцеловала его в подбородок.
– Ничего не понимаю! – все так же растерянно улыбаясь, произнес Лапшин. – Ведь по расписанию в восемнадцать шесть прибытие?
Ее круглые глаза по-прежнему были совсем близко от него, от его большого, костистого, обожженного солнцем и ветром лица, от его жестких, соленых губ; она все еще, словно за надежный, крепкий поручень, держалась за его запястье и объясняла подробно, как сломался тот самолет, на котором она «поехала» сначала.
– То есть не поехала, а полетела, – смеясь и радуясь чему-то, говорила Катя. – Он очень сильно сломался, Иван Михайлович, так сломался, что дальше не мог никак ехать. Нам предложили отправиться на станцию. Все отправились, а я высчитала, что так дольше будет. И тут все переменилось, потому что пошел еще один самолет – грузовой, я упросила, и меня приняли. Я ужасно просила, вы даже не можете себе представить как. Он прямой сюда, самый прямой…
С моря потянуло ветром, Катерина Васильевна на мгновение закрыла глаза, сказала шепотом:
– Господи, какой вздор! Ну кому это интересно?
Глаза ее вновь распахнулись, и, точно удивившись, она сказала:
– Здравствуйте, Иван Михайлович!
– Здравствуйте, Катя! – ответил он и засмеялся. Потом велел: – Вот что: идите выкупайтесь! А я пока все организую. Тут для вас комната приготовлена и разное прочее, но нужно поторопить. К морю дорожка, видите – скамейки и две пальмы. Сразу – вниз.
Она покорно кивнула, а Лапшин, не оглядываясь на нее, широким шагом, полно и сильно дыша, пошел на взгорье к Лекаренко. Солнце уже поднялось высоко, Лекаренко плескался у рукомойника возле забора.
– Приехала! – еще издали крикнул Лапшин. – Разворачиваться надо, начальник! Устала, лётом летела, человек она не слишком сильный…
Помощник шеф-повара озабоченно поморгал, взбежал на крыльцо, и тотчас же Лапшин с лекаренковской супругой и не совсем проснувшимися детьми стал ворочать то, что в семье называлось «оттоманка», таскать столы, табуретки, стулья, вазоны, этажерки, половики. В открытые настежь окна поддувал ветер с моря, за Лекаренко примчался поваренок с кухни – почему-де запаздывает; он чертыхнулся, русская печка уже пылала ярким пламенем, голые, обгорелые дочерна лекаренковские близнецы, страшно блестя ножами, таскали с клумб свежие, еще в росе, мохнатые, неизвестных наименований цветы для букетов…
Катерина Васильевна, выкупавшись, сидела опять возле террасы, расчесывала гребнем волосы, вид у нее был несчастный.
– Я думала, вы меня бросили! – сказала она Ивану Михайловичу.
– Ну вот еще! – ответил он, берясь за ручку ее потрепанного, видавшего виды чемодана.
Отдыхающие, в пижамах, с полотенцами, отправляясь купаться, понимающе переглядывались, обращая внимание на Лапшина и его спутницу, а он, жестко глядя им в глаза, шел на них грузнеющим шагом немолодого уже человека и внимательно слушал Катю – про то, как она быстро поправится здесь на этом «невероятном» воздухе.
Лекаренковская жена успела уже приодеться в пятнистый, сверкающий словно лаком, сарафан и нынче напоминала не кошку, а очень хорошенькую змею, и девочки были в таких же сарафанчиках, а мальчишки в таких же штанишках, и Лапшин опять, как прежде про черепицу, подумал, что из такой же точно материи в Доме отдыха сшиты чехлы на мягкую мебель, но тотчас же забыл об этом – так приветливо, громко-громко и весело лекаренковская Нюта со Светланкой, Милкой и Гошкой бросились здороваться с Балашовой.
– Очень уж мои ребятенки жильцов любят, – пояснила лекаренковская супруга Лапшину, блестящими глазами умиленно глядя на свое потомство, – уж так любят, так ластятся…
И, сверкнув зубами, с ходу наподдала за что-то Гошке. В это же мгновение Милка уронила блюдо с виноградом, нагло солгала, что это сделала Светка, Гошка злорадно завыл и выскочил из кухни, Нюта взялась за скалку…
– Довольно, пожалуй, шумно вам будет, – опасливо сказал Лапшин, закрывая за Катей дверь. – А?
Балашова села на оттоманку, огляделась. Ветер по-прежнему поддувал с моря, белые, подкрахмаленные занавески на окнах шевелились. На столе уже лежала чистая, цветастая скатерть, стояли бутылки с вином, в крупную спелую дыню был воткнут нож. И огромный букет цветов, названия которых Иван Михайлович не знал, кротко синел с краю стола.
– Тут я буду жить? – тихо спросила Катя.
– Вы, конечно, а кто же еще?
Она опять надолго замолчала. Он тревожно взглянул на нее – она плакала.
– Что вы? – садясь на край оттоманки рядом с Катей, испуганно спросил Лапшин. – О чем?
– Не обращайте внимания, – спокойно ответила она. – Просто, знаете ли, мне ведь тридцать два года, и никто, кроме мамы и папы, никогда меня так не встречал…
– Я тут ни при чем, – растерянно сказал Лапшин. – Это они – Лекаренко с женой…
Катя улыбнулась, все еще плача:
– Подумайте, какие удивительные люди…
Еще всхлипнула, поднялась, подошла к окну и, вынув из сумочки зеркальце, тщательно напудрилась.
– Страшно было лететь? – спросил Иван Михайлович.
– Не очень.
Она помолчала.
– Теперь вам следует узнать у меня, какая в Ленинграде погода.
– А какая? – теряясь от ее странного тона, спросил он.
– Осень, знаете ли, – сказала Катерина Васильевна. – Холодно, ветер, дождь, в Фонтанке вода поднялась, в Таврическом летят листья…
Круглые глаза ее внимательно, ласково и печально смотрели на Лапшина. Он молчал, раскуривая сырую папиросу. Катя вздохнула всей грудью, швырнула сумочку подальше, на стул, и повторила:
– В Таврическом летят листья. Похоже – из какой-то не слишком хорошей пьесы с вашим любимым так называемым подтекстом. А все куда проще, Иван Михайлович. Между нами происходит мучительный роман не очень молодых людей. Не очень молодых, и стеснительных к тому же. Мы оба боимся, как бы не получилось смешно. А что же тут смешного, если я люблю вас.
Она опять вздохнула, вглядываясь в его ожидающее, бледнеющее лицо.
– И вы, наверное, любите меня. Не будем больше говорить про самолет и про погоду. Если это можно – женитесь на мне, пожалуйста! Я буду вам верной и хорошей женой, и вам никогда со мной не будет скучно, Иван Михайлович, я так думаю. Я даже уверена в этом.
Голос у нее сорвался, она отвернулась и, не глядя на Лапшина, попросила:
– Не отвечайте мне сейчас ничего. Я просто хотела, чтобы вы поняли в первые же минуты, почему я решилась приехать. Я поняла, что пропаду без вас, что уже пропала…
Лапшин поднялся, чтобы подойти к ней, но в дверь постучали, и он остановился посредине комнаты. Явилась Нюта с подносом в сопровождении всего выводка. Дети несли тарелки, вилки, ножи, соль, перец.
– Ну, милости прошу, – говорила лекаренковская супруга, гремя посудой и сверкая зубами, глазами и чешуей сарафана, – милости прошу к столу, не побрезгуйте, гостья дорогая, долгожданная, нашим хлебом-солью, кушайте, отдыхайте…
Лапшин и Катя стояли бледные, слушали молча. Наконец Нюта сообразила, что трещит «не в добрый час», и дверь плотно закрылась. Катя дрожащей рукой налила себе большой стакан вина, исподлобья взглянула на Лапшина и почти шепотом сказала:
– Вы у меня один на всем свете, Иван Михайлович! Если я что-то выдумала и вам это неприятно, я сегодня же уеду. Но… понимаете… просто романчик между нами не может быть… И вы не тот, и я не та. Налить вам винца?
Он взял бутылку и сам налил до краев. Опять стало слышно, как свистит морской ветер. Сердце у Лапшина тяжело и сильно билось, он все еще был бледен и молчал. – Теперь скажите что-нибудь! – велела Катя.
Иван Михайлович улыбнулся странной для его лет, совершенно мальчишеской улыбкой.
– Не знаю, – медленно произнес он, – не знаю, как сказать. Но вы, Катя, гораздо лучше, чем даже я про вас думал.
Теперь он прямо и спокойно смотрел в ее круглые, ясные, счастливые глаза:
– Очень я за это время намучился. И никогда не забуду, как вы мне нынче помогли. Я, знаете, всегда думал: вот возьму и спрошу – пойдешь за меня замуж? И не мог. Глотка ссыхалась. И все, точно как вы, рассуждал, но слов не мог найти настоящих.
– Я нынешние слова долго в уме складывала, – призналась она, и вино в ее стакане расплескалось. – А сказала совсем иначе. Но все-таки сразу сказала, и, видите, теперь легко. Значит, мне не уезжать назад сегодня?
– Нет! Что вы! – испугался он.
– Ну, тогда выпьем. Вы умеете напиваться?
– Не знаю! Наверное, умею.
Катя выпила залпом все вино, и он тоже выпил вслед за нею.
– Я вам не буду мешать! – робко произнесла она. – Честное слово, Иван Михайлович. Мне просто нужно, чтобы вы были. Это, наверное, глупости, но без вас все ложь.
Вино сразу ударило ей в голову, глаза мгновенно заблестели, щеки жарко зарумянились.
– Это как же? – не понял он.
– Так! Ложь! Я не могу вам объяснить, но мне всегда кажется, что есть люди, которые делают жизнь, а есть, которые ее потребляют. И эти потребители очень любят прикидываться делателями. Впрочем, все это вздор. Главное, что вот вы тут.
Через стол она взяла его за обшлаг широкими ладошками и спросила:
– Это вы, Иван Михайлович? Не молчите, пожалуйста, говорите тоже, а то мне будет казаться, что я вас насильно хочу женить на себе… Кстати, мне никакой женитьбы не нужно, вы не воображайте. Вы можете жить у себя, а я у себя. И в загс мы не пойдем. Я просто хочу знать, что вы мой человек. Выпьем?
– Выпьем.
– Ужасно напьюсь! – пообещала Катя. – А потом хмель пройдет и окажется, что ничего этого не было. Что все я придумала! А вы выскочите в окно.
– В какое окно? – удивился Лапшин.
– В обыкновенное. У Гоголя про это написано. Ну, посудите сами, зачем я вам? Далеко не девочка! Посредственная артистка! – она стала загибать пальцы. – Внешность – заурядная. Это минусы. Теперь плюсы…
Внезапно стало резко темнеть, ветер с моря завизжал пронзительнее, с треском захлопнулась фрамуга.
– Шквал! – сказала Катя. – Всех наверх свистать! Бом-брам-стеньги на рифы ставить! Да, Иван Михайлович?
– Да! – ответил он спокойно и радостно, любуясь ею. Удивительно она умела веселиться, не кривляясь, редкостно умела всегда оставаться самой собою.
– А как я вас буду называть? – спросила Катя. – Ваня? Это же глупо, вы начальник, у вас разные там револьверы, и вдруг Ваня. Хотите, я вас буду называть товарищ начальник?
Опять хлопнула фрамуга, Нюта из деликатности стала закрывать окна снаружи. Теперь было очень душно, кровь стучала в висках, дышать стало совсем нечем.
– Это сирокко! – объявила Катя. – Я, Иван Михайлович, знаю довольно много разных слов, но смысл не помню. Сирокко – это ветер?
И, не дожидаясь ответа, спросила:
– А перепелок едят с костями? Ужас как есть хочу. Я ведь очень экономила, чтобы осталось на обратный билет…
Порывшись в сумочке, достала деньги и протянула их Лапшину:
– Нате. Это же ваши. А то, что я потратила, я вам потом верну. Имейте в виду, я не желаю тратить ваши деньги. Подумаешь, он мне послал! По телеграфу!
Перепелки трещали в ровных, крепких зубах, она запивала их вином, заедала дыней, откусывала помидоры. И, порою, закрывая глаза, говорила:
– Господи, как хорошо! Только все-таки вы в конце концов выпрыгнете в окно.
– Далось вам это окно!
Потом, когда шторм разыгрался по-настоящему, они решили пойти к морю. Нюта дала им на двоих огромный брезентовый плащ с клеймом Дома отдыха, они взяли с собой бутылку вина, стакан и кулек орехов. Нюта вслед им крикнула, что они «скаженные» и еще что-то, за воем ветра они не расслышали, что именно. Катя, спотыкаясь на камнях и путаясь в полах гигантского плаща, объявила, что «задувает не меньше как на двенадцать баллов». На сколько задувает – Лапшин не знал, но дуло действительно здорово.
– Вы держите меня, – требовала Катя. – Меня тащит, Иван Михайлович, миленький! Или снимите этот плащ, потому что он надувается, как парус.
У моря их просто-напросто прижало к обрыву, потом поволокло вдоль камней. Катя кричала, что ей «дует в бейдевинд», а когда Лапшин спросил, откуда она знает все эти слова, – ответила, что играла девочкой в какой-то пьесе из жизни пиратов. Обоим им было ужасно смешно, и Лапшину казалось, что он совсем молод, что не было ни ранений, ни этой дурацкой контузии, которая мучает его до сих пор, что жизнь началась с начала и эта жизнь будет гораздо лучше той, которую он прожил.
– Пещера! – закричала Катя. – Все наверх!
Ветер уже не свистел, а ревел, клочья соленой пены, срываясь с волн, летели им в лица, море до самого горизонта казалось свирепым, угрожающим.
– Сюда! – вопила Катя. – Мы спасены!
Пещера была просто кособокой ямой. Балашова, подобрав полы своего страшного брезентового плаща, прыгнула, за ней в яму медведем ввалился Лапшин.
– Во, здорово! – сказала Катя. – Вы не ушиблись, Иван Михайлович?
Ветер теперь ревел над их головами, где-то совсем рядом взвивались гребни волн, Катя свистящим шепотом спросила:
– Галеты и пресная вода спасены, капитан?
– Спасены! – покорно ответил Иван Михайлович.
– А остров обитаем?
– Ага! – сказал Лапшин. – Кажется.
– «Ага», «кажется»! – передразнила Катя. – Разве так играют в кораблекрушение?! Или вы забыли, как в это играют?
– Я никогда не играл в кораблекрушение, – сказал Лапшин. – Я и не знал ничего об этом долгое время.
– Учиться никогда не поздно! – возразила она. – И не смейте мне говорить жалостное. Вы у меня на вашем происхождении не проскочите, я не таковская…
Сидя в «пещере» и глядя друг на друга, они хлебнули еще по глотку «пресной воды» из своей бутылки.
– Вам славно? – спросила Катя. – Славно, товарищ начальник?
– Славно, необыкновенно славно! – ответил он.
– А то, что это все как-то не солидно? – спросила Балашова. – То, что мы в игру играем? Я вас не дискредитирую? Или как это? Ну, не компрометирую? Отвечайте. Вдруг кто-нибудь из вашего важного Дома отдыха увидит, что мы с вами сидим вот в этой пещере? И вовсе это, кстати, не пещера, а просто яма, да, Иван Михайлович? Вы не боитесь?
– Я никого сейчас не боюсь, – ответил он.
– А меня?
– Вас – конечно.
– Еще бы! – гордо усмехнулась она. – Поэтому я все вам первая и сказала там, в комнате. А сейчас знаете что? Давайте купаться.
– Нет! – спокойно ответил Лапшин.
– Почему нет?
– Потому что мне вовсе не хочется, чтобы вы утонули. И самому не хочется тонуть.
– Ну, ладно! Опять завел свое жалостное. Тогда рассказывайте мне.
Внезапно полил дождь. Словно лопнуло что-то там наверху и пролилось. Не было ни грома, ни молний, просто как нарочно.
– Фу ты! – сказала Катя. – Полезайте под плащ.
Он обнял ее и с тяжелой силой поцеловал в полуоткрытый, горячий рот. Она задохнулась, закрыла глаза, потом выкрутилась и удивленно сказала:
– Ишь!
– Что «ишь»? – тихо спросил он.
– Если не хотите, то и не женитесь, – со вздохом произнесла Катя. – Я ведь знаю, мужики не любят жениться. Но только если вы меня бросите, то я пропаду. Не бросайте меня, товарищ начальник!
Никаких дождевых струй не было видно. Просто лилась вода.
– Мы попали в водопад! – сказала Катя. – И надо вылезать из нашей пещеры, потому что тут мы погибнем, как зайчики. Не забудьте только нашу «пресную воду».
– Ладно!
Он не слишком ловко вскарабкался на край ямы и подал руку Кате. Теперь дождь прекратился так же внезапно, как начался. Но им было уже все равно – оба промокли насквозь.
– Хотите знать один секрет? – спросила Катя. Она шла перед Лапшиным и обернулась, отжимая мокрые волосы. – Хотите? Вы здорово кряхтели, когда вылезали из ямы. Не такой уж вы гибкий юноша Аполлон. И то, что я в вас влюбилась, – это больше для вас хорошо, чем для меня. Ведь вы же старый человек.
– Так точно! – сказал Иван Михайлович.
– Старый старичок!
– Ага!
– Вам повезло?
– Невероятно! – закричал он, потому что в это мгновение обрушилась с грохотом волна. – Невероятно!
– Побежали!
Она протянула ему руку и побежала, волоча его за собой. Он порядочно задохнулся на подъеме, но бежал, боясь оступиться или наступить на Катину пятку. И едва мог отдышаться, когда они наконец остановились под пальмами. На террасе Дома отдыха в пижамах стояли знакомые отдыхающие и смотрели на Лапшина, переговариваясь, наверное, о несолидном его поведении. Балашова быстро взглянула в ту сторону и сказала Ивану Михайловичу:
– Хотите, я покажу им язык от имени и по поручению?
– По какому поручению?
– Ну, так в газетах пишут. От вашего имени и по вашему поручению.
– Послушайте, Катя, я никогда не знал, что вы такая.
– Дурачок! – серьезно и строго ответила она. – Вы же никогда не видели меня абсолютно счастливой. Вы всегда видели меня какой-то погано несчастненькой. И – дрянной! А сегодня я счастливая и прекрасная. И им, всем вашим на террасе, завидно. Они же видят, какая приехала к вам… Показать язык?
– Не надо! – попросил Лапшин. – Это же хороший народ.
Опять они пошли. Было нестерпимо душно, короткий дождь ничему не помог. И ветер был душный, и тучи словно давили сверху.
– Спасибо тебе, море, – неожиданно сказала Катя, – спасибо тебе, пещера, спасибо тебе, водопад, спасибо тебе, все!
И поклонилась из лекаренковской калитки – истово, как в церкви.
Нюта и дети встретили их аханьями и причитаниями, Лекаренко, бурый от выпитой перед обедом водки, вызвался «сгонять» за вещами Лапшина, Катя, порывшись в своем чемодане, сбежала вместе с Нютой куда-то в боковушку. Подрагивая бедрами, извиваясь спиной, пронеслась еще раз змея Нюта, размахивая утюгом с красными угольями. Завизжали близнецы в сенях, не то их укусил щенок, не то они его укусили – понять было трудно. Помощник шеф-повара принес лапшинскую казенную пижаму, туфли, полотенце. Иван Михайлович быстро переоделся за огромной печкой. Лекаренко, исполненный услужливой, деятельной старательности, поставил сушиться сапоги Ивана Михайловича, повесил возле печи гимнастерку, бриджи. Лицо у него было доброе, даже с детьми он не мог толком разобраться, они на него больше покрикивали, чем он.
– Давайте по рюмочке, Иван Михайлович! – сказал Лекаренко. – У меня перцовая, своей настойки! Чтоб не простудиться и чтобы благополучно вам с супругой отдохнуть.
– Ладно, – ответил Лапшин. – Спасибо, Лекаренко, за добрые слова. Давайте за семью за вашу и чтобы все было аккуратно.
– Это как?
– А так, – совсем тихо пояснил Лапшин. – Я, Лекаренко, старый сыщик, и глаз у меня наметанный. Больно много казенного добра у тебя. И черепица, и сарафанчики, и плащ клейменый, и вся посуда столовая, и скатерть. Зарвался маненько, а?
– Это так, это точно! – с готовностью согласился Лекаренко.
– Ты ж сыт, на кухне, женка у тебя хозяйственная, зачем воровать, – дружески и просительно даже сказал Лапшин. – Не надо, Лекаренко! Пропадешь!
– Ой, да, да, так, верно! – с легким стоном согласился помощник шеф-повара. – Ой, спасибо, что объяснили…
– А ты не знал?
Лекаренко прыснул в кулак, в кухню скользнула Нюта, велела Лапшину отвернуться и не глядеть без команды. Он отвернулся, вслушиваясь в восторженное аханье детворы и самого даже главы семьи, в легкие быстрые шажки Кати.
– Теперь входите в свою комнату без всякого стука! – сказала Нюта.
Он вошел и закрыл за собой дверь. Возле окна, в смешанном и неярком свете наступающих дождливых сумерек и нескольких свечей, стояла Катерина Васильевна в белом платье, с непричесанными, не высохшими еще волосами, с обветренным за нынешний день лицом, с мягким, настойчивым и глубоким блеском глаз. Руки ее были опущены, словно она не знала, куда их девать, и вся она как бы стеснялась себя самой, того, как безыскусственно хороша она и как ничего для этого не сделала, никак не потрудилась, даже над прической не задумалась. «Вот и вся тут, – говорил свет ее глаз, – вся, какая есть и какая родилась! Лучше я быть не могу, а хуже ты меня не раз видел. Нравлюсь ли я тебе, любимый человек, такая?»
Но ничего этого она не произнесла. Помолчав, чтобы он разглядел ее и порадовался, как она только что порадовалась сама на себя перед Нютиным зеркалом, Катя деловито и даже церемонно сказала:
– Присаживайтесь, товарищ начальник, чувствуйте себя как дома. Есть очень хочется. Сейчас мы будем обедать – борщ, и перец фаршированный, и фрукты, и вина. Присаживайтесь!
Иван Михайлович сел.
Села и Катя. И тихо спросила:
– Что смотрите? Все думаете – засылать сватов или стрекача задать? Как хотите, товарищ начальник, или сватов засылайте, или в беззаконии жить станем, но только я вас никуда и никогда от себя не отпущу. И не робейте меня, потому что я и есть теперь и до гроба ваша личная жизнь. Ясно?
– Ясно! – задохнувшись, сиплым голосом сказал он. – И как это ни странно, Катя, я и сам нынешней ночью этими же словами думал – до гроба.
– То-то! – гордо ответила она. – А то – страшно ли было лететь, какая погода в Ленинграде! Дурачок какой!
Миллионы в валюте
За окном часовни лил дождь, а Жмакин, отработав смену, читал газеты. Разобравшись в декларации народного собрания Западной Белоруссии о национализации банков и крупной промышленности и закурив, он опять через коммутатор вызвал город и милицию, но телефон Лапшина был занят. Нынче бывший милиционер Демьянов сказал Жмакину, что Лапшин вернулся из отпуска с женой и приступил к работе, но дозвониться до Ивана Михайловича Алексей никак не мог.
Он опять почитал о войне в Западной Европе, – там между Мозелем и Пфальцским лесом стреляли пушки. Вздохнув, Жмакин солидно покачал головой и сказал, как говорили многие пожилые шоферы автобазы:
– Да, пахнет порохом…
– Чем пахнет? – сонно спросил задремавший было Никанор Никитич.
– Войнишкой пахнет, – сказал Жмакин и принялся считать получку. Деньги он раскладывал в маленькие пачечки, обертывал в бумажки и на бумажках писал: «в счет погашения бывших долгов», «щиблеты», «на семью». Получив паспорт, он тотчас же переедет в Лахту. Никанор Никитич накинул плащ и ушел в столовую.
Разобравшись с получкой, он еще раз снял телефонную трубку, но теперь был занят коммутатор автобазы. Когда Жмакин повесил трубку, в комнате стало совсем темно. Тяжелые капли дождя били в стекла. Кто-то застучал в дверь.
– Открыто! – крикнул Жмакин. – Давайте!
Опять застучали.
Жмакин отворил дверь и попятился назад. На крыльце часовни стоял высокий незнакомый человек в милицейской форме, другой поменьше, в кепке и в кожанке, а сзади был дворник автобазы, толстый Антоныч.
– Вы Жмакин? – спросил высокий.
– Я, – слабея, ответил Жмакин, – я и есть Жмакин.
– Пройдемте, – сказал высокий, слегка грудью напирая на Жмакина.
Они вошли в часовню и закрыли за собой дверь. Дворник зажег электричество. Жмакин взглянул в лицо высокому. Это был человек с выщербленными передними зубами, с бесстрастным и сухим загорелым лицом, со светлыми пустоватыми глазами. Загар у него был красный, не здешний, и лицо было спокойное, уверенное.
– Так, – промолвил он, оглядывая часовню, – вы, гражданин, присядьте и отдохните, а мы произведем обыск.
– Ордер у вас имеется? – спросил Жмакин. Он старался собраться с мыслями и даже подумал, что надо «взять себя в руки», но тотчас же забыл о своем намерении.
– Насчет ордера ему надо знать! – сказал высокий. – Ни в чем не повинный человек, чистый как слеза, он беспокоится, как бы его не забрали даром. Все у нас имеется, все, детка, – полуобернувшись к Алексею, добавил он, – мы люди законные, и дела наши законные.
Растворив дверцу шкафа, он остановился, как бы в недоумении, и легонько засвистал.
– Это не мои вещи! – чуть громче, чем следовало, сказал Жмакин. – Это чужие вещи…
– Еще бы! – с усмешкой согласился тот, что был в кожанке. – Разве у таких парнишечек, как ты, свои вещи бывают?
Тяжелой походкой парень в кожанке прошел в алтарь и начал там что-то двигать и ворочать. Высокий неторопливо собирал деньги, только что разложенные Жмакиным в пачечки. Дворник Антоныч сидел возле двери на скрипучей табуретке и, укоризненно вздыхая, курил козью ножку. На воле шел дождь, медленный, все начинался и никак не мог начаться по-настоящему.
Жмакин дрожащими руками вытащил папироску и закурил. Мысли мешались в его голове. Он то корил Лапшина за подлость, то прислушивался к неровному робкому шуму дождя, то опускал глаза, чтобы не встретиться взглядом с Антонычем, то думал о том, как его поведут по двору и как все увидят конец его жизни.
– Ладно, хватит, – сказал высокий тому, кто был в кожанке, и, повернувшись к Жмакину, добавил: – Собирайтесь.
Посасывая папироску, Жмакин собрал себе арестантский узелок: смену белья, мыло, носков, легонькое дешевое одеяло, купленное на заработанные деньги, и, изловчившись, новую бритву «жиллет», чтобы лишить себя жизни. Бритву с конвертиком он покуда зажал в кулаке. Потом он накинул на плечи макинтош, надел кепку поглубже, до ушей, и перепоясался, точно готовясь к длинному этапному пути.
– Пошли! – приказал высокий.
Жмакин подчинился, как подчинялся при арестах, в тюрьмах, на этапах. Больше он уже не принадлежал сам себе, он опять перестал быть человеком свободным, тем человеком, которому никакие пути не заказаны. «Ну что ж, – подумал Жмакин и зажал в кулаке бритву. – Еще поглядим!»
Вышли на крыльцо. Антоныч густо закашлял – перекурился своей махоркой. Двор был мокр от прошедшего дождя. Смеркалось, но тучи пронесло, и вдруг посветлело. Пахло бензином и свежей дождевой водой. Мальчишка сторожихи бегал в сапогах по лужам. Двор был пуст и удивительно тих и чист.
Пока Антоныч закрывал на замок часовню, все ждали. Парень, что был в кожанке, стоял на крыльце, ступенькой ниже Жмакина, и вдруг Жмакин как бы узнал его. Он и точно знал его, этого парня с голосом без выражения и с несколько бараньими глазами. Где-то они несомненно виделись, и не раз виделись…
Но Жмакин не додумал, увидел во дворе Никанора Никитича. Педагог шел неторопливо, в черном прямом стареньком плаще, в мягкой шляпе, с тросточкой, прицепленной за руку.
– Не надо закрывать, – сказал Жмакин, – хозяин идет квартирный.
Краска кинулась ему в лицо. Никанор Никитич шел по двору, напевая. Ноги его ступали криво по крупным булыжникам. Пока он не видел еще Жмакина, но встреча должна была произойти с минуты на минуту.
– Пошли, – с тревогой и с перехватом в голосе сказал тот, что был в шинели, и, опередив Жмакина, пошел по двору.
– Живо! – приказал тот, что был в кожанке.
Жмакин съежился и пошел между ними, опустив глаза. Он не видел, но чувствовал, как миновали они Никанора Никитича. Он даже услышал его слабый старческий кашель и почувствовал запах нафталина. Потом, оглянувшись, он заметил Антоныча, объясняющего что-то старику.
«Кончено!» – решил Жмакин.
Ах, если бы сейчас дежурил Демьянов! Если бы он хоть вышел проверить, – что это за люди и почему они забрали его. Может быть, это штуки Митрохина? Или за венок его взяли, за тот венок с муаровой лентой, который послал он плешивому Гвоздареву? Конечно, за венок!
Но Демьянова нет, хотя, впрочем, не он ли стоит снаружи, сухопарый, длинный, нескладный, попавший в глупую беду, бывший его враг, а нынче одна надежда – старый милиционер Демьянов! Главное, чтобы узнал Лапшин. Он разберется. Не мог он позволить.
И когда его ведут мимо Демьянова, он толкает его плечом и хрипит:
– Меня забрали! Лапшину…
Но договорить он не успел. Его так ударили, пихая в машину, что он выронил лезвие, зажатое в кулаке. Он слышит свисток, это свистит Демьянов, ах, не свисти, Демьянов, звони, звони скорее на площадь, там разберутся, и Лапшин отдаст приказ отпустить его, нельзя же кончать человеку жизнь за глупую шутку с венком! Но машина уже мчится, свистка не слышно, Жмакин зажат в углу тяжелым неподвижным плечом, все действительно кончено…
Он говорит, не глядя на своего соседа, но громко и внятно:
– Вас товарищ Лапшин прислал?!
Безнадежно. Ответа не будет.
– Если вас не товарищ Лапшин прислал, тогда вы, может быть, не знаете, что я имею бумаги…
Молчание. Автомобиль мчится по узкому проспекту Маклина. Рядом грохочет трамвай.
Жмакин вынул из бокового кармана пачку документов. Странно, что их не изъяли при обыске. И вообще…
– Вы из какой бригады?
Молчание.
Пересекли Садовую.
– А куда вы меня везете?
– Прекратить разговорчики.
Точка. Жмакин спрятал в карман свои бумаги. Может быть, весь арест – это просто-напросто самоуправство? Власть на местах?
Машина летит по мокрому асфальту. Потом брусчатка. Опять дождь. Это шоссе – магистраль на Пулково – Детское Село. Или на Пулково – Гатчину, нынче Красногвардейск. Было здесь похожено во время воровской жизни. Тут и малина была – вон в деревне. Тут и девочка была одна – рецидивистка, ох, тут прилично проводили время!
Вспыхнули и погасли огоньки аэропорта.
– В Красногвардейск меня везете, гражданин начальничек?
Молчание.
Машина урча ползет в гору. Пулковские высоты. Струи дождя секут смотровое окно, в ушах ровно и густо шумит. И темно, темно – виден только спортивный флажок на пробке радиатора, да мокрый булыжник, да темные мокрые купы деревьев у шоссе.
Почему же, собственно, спортивный флажок? И почему в Красногвардейск?
– Может, вы с Красногвардейского уголовного розыска, гражданин начальник?
Милиционер курит и косит глазом. Подбородок и щеки у него желтые. И глаз желтый и строгий.
Пропал мальчишка!
А может быть, все-таки еще и не пропал?
Окошкин повесил трубку и велел соединить себя с Баландиным. По другому телефону он вызвал Ивана Михайловича. Но его не было дома. Катерина Васильевна сказала, что он пошел в Управление пешком.
– Да, Демьянов, товарищ начальник, – закричал Окошкин Баландину. – И номер машины есть, и спортивный флажок на пробке.
– Закрываю город! – сказал Баландин.
Трубка щелкнула.
Окошкин спустился этажом ниже и без доклада вошел к Баландину. Криничный и Побужинский были уже здесь. На столике с телефонами вспыхивали сигнальные лампочки. В большой белой руке Прокофий Петрович держал стакан с чаем. «Наверное, так бывает в военном штабе, – подумал Окошкин. – Когда наступление!»
– С командующим военным округом! – сказал Баландин, тыча стаканом с чаем в столик, где стояли телефоны. – И побыстрее, Вася, не задумывайся!
– Это Балага навел, – прошипел Побужинский Криничному. – Помнишь, ты тогда ездил…
А Прокофий Петрович спокойно говорил в трубку:
– Товарищ командующий? Милиция приветствует армию. Ага, Баландин…
На большом черном аппарате загорелась красная лампочка. Криничный взял трубку:
– Машина с флажком опознана на проспекте Маклина, – доложил он Баландину. – Задержать не удалось.
Начальник кивнул, будто только этого и ждал.
– С пограничниками соедини! – велел он Криничному. – Знаешь – как?
А может быть, все-таки еще и не пропал мальчишечка?
Может, вступится за него Советская держава, за него, за отчаянного парня, за бывшего вора, вступится, надеясь, что выйдет еще из него толк?
Ах, вступись, советская власть!
Охота пожить еще Жмакину доброй жизнью, охота на ноги встать и пройтись в выходной день по улице с женкой, охота, чтобы люди сказали – вот Жмакин идет, известный человек, а какое у него прошлое, это вас совершенно не касается, потому что приличное у него настоящее и удивительное будущее.
Вступись же, советская власть, за Жмакина!
Вступись, диктатура, он плоть от плоти твой парень, рабочий класс, он с дороги немножечко сбился, едва не погиб, но ты простил ему ошибку, рабочий класс, ты простила ему, советская власть, ты, партия большевиков, простила, так вступитесь же в последний раз, потратьте человеко-часы, и бензин, и отдых красноармейский, поднимись по тревоге все, кому положено и не положено, и не дайте убить человека!
Нет, пропал мальчишечка!
Поздно!
Не поспеть!
Какие-то люди вроде бы кидались под машину, пытаясь ее задержать, но водитель выворачивал баранку и наддавал скорости.
Сколько же времени прошло?
Двадцать минут или час?
Дорога идет то вверх, то вниз, то опять петляет вверх, то резко сворачивает в сторону. От сплошного ливня брезентовая крыша намокла и сочится вода.
Вьется во тьме дорога.
Но вот настали дни разлуки, Дорога вьется впереди… Пожмем скорей друг другу руки…Жмакин поежился. Машина остановилась. Фары погасли.
Сплошной мрак и ровный одуряющий шум дождя.
– Выходи!
Он вышел, вывалился в темноту возле дороги и сразу попал ногами в ров. Хлюпнуло.
Пропал ребенок!
Шофер тоже вылез.
И милиционер с наганом в руке тоже вылез. Кто-то из них ударил его в шею.
– Иди, – неистово крикнул шофер.
Он рванулся в сторону, но его уже держали. Внезапно он почувствовал холодный пот и слабость в ногах.
– Да иди, сука, – крикнул милиционер и ударил его чем-то твердым, вероятно наганом.
Он шел, спотыкаясь, ничего не видя, по мокрой, скользкой и липкой земле. Дождь заливал ему лицо. Он потрогал лицо, это был не дождь, а кровь. В который раз ему кровянили башку! Ноги у него сделались тяжелыми. Милиционер держал его за макинтош и сопел рядом. И бил рукояткой нагана в плечо, в шею и в голову. Тут уже нечего было считаться. Разве можно считаться, когда ведут на расстрел? Кто из них человек? Разве Жмакин сейчас человек? Он даже и не полчеловека! Он уже и не думает, он лишь извивается и норовит крикнуть нечеловеческим голосом:
– Кар-раул!
Милиционер с ходу бьет его рукояткой. Он тоже не человек. И шофер не человек. В них во всех не осталось никакого смысла.
Последние минуты. Может быть, даже секунды. Э, не помер ты, Жмакин, в заполярной тайге, не задрали тебя волки… Не проломили тебе голову портерной бутылкой пьяные жулики… Не перерезал тебя поезд, когда кидался ты под вагон, убегая из лагеря. Так на же, подыхай на мокрой земле, в темноте, неизвестно зачем и за что.
Ни огонька впереди. Ни звука.
Прощай, Клавденька, прощай, дорогая!
Пока, товарищ Лапшин!
Прощай, молодая жизнь!
Ох, Клавденька, Клавденька!
Стали. Но он еще идет. Его останавливают силой. Только тогда он остановился. Разве он человек сейчас? Он даже не понимает, за что его убьют. И кто они, эти убийцы? Он стоит, размякнув, опустив плечи. От милиционера пахнет мокрой шинелью.
– Копай яму, – говорит шофер страшно знакомым голосом. Голос ровный, без всякого выражения. У кого такой голос?
Если бы Жмакин был человеком, то он вспомнил бы. Но он не человек. Он ничего не помнит. И поза у него совершенно не человеческая. Он сидит в грязи, поджав под себя одну ногу, и ладонями копает для себя могилу в мокрой и вязкой земле. Он слышит, как хлюпает под его пальцами вода. От усердия он обламывает ногти. Скорей, Жмакин, копай себе могилу! Совершай самое противоестественное дело из всех, которые когда-либо делал человек. Скорее, скорее! Какие-то корни. Вырви их! Гнилая палка! Долой ее! Но как медленно идет работа.
Что это? Его, кажется, ударили?
Вероятно, ударили.
Тишина.
Дождь кончился.
Милиционер закурил и дал прикурить шоферу. Потянуло хорошим табаком.
Опять закапало с неба.
– Ну, Жмакин? Расскажи, как ты продал Корнюху.
Так вот кто такой этот шофер! Так вот за что должен умереть Жмакин! За Корнюху убьет Жмакина Корнюхин братишка. Это кодла его кончает. Это Балага сработал. Есть еще кодла – ходит-бродит, людей убивает по своим проклятым законам. Вот она кодла – вот, перед ним. И его нынче кончит кодла.
Он молчит.
– Онемел?
Мысли вновь возвратились к нему. Быстрые, скачущие. Вдруг, как в видении, пронеслась перед ним та ночь с Корнюхой. Нет, он не продал Корнюху за легкую жизнь и за паспорт. Он скрутил его – безоружный, он скрутил его – вооруженного, это было мужское дело, а не предательство!
Мгновенно ему полегчало, словно отпустило боль.
Он начал косить глазами и приглядываться.
Он не продал, и его не продали. Он попал к кодле, как мог попасть Криничный, Окошкин, даже Лапшин. Кодла враг ему, а он враг кодлы. Да, да, справедливость восстановлена, и теперь можно сопротивляться. Должно сопротивляться. А если не выйдет, то и умрет он по-человечески! Гордо умрет, не повалится в ноги, не попросит прощения, не станет просить жизни. И похоронят его впоследствии с музыкой, и Лапшин пойдет за гробом, и речи…
Но зачем умирать?
Разве не случалось ему попадать в переделки.
– Зазря вы на меня руку подняли, – приглядываясь и кося глазами, бормочет он. – Зазря! Тут разобраться надо, кто вы и кто я…
Он несет какой-то вздор – угрожающий и нахальный – и целится, примеривается, готовится – ударить и побежать. Но как ударить, чтобы был верняк, и куда побежать, чтобы была жизнь. Ах, ему бы ножичек, финочку, перышко или тот маузер, что чистил тогда Криничный. И голова болит, пробили ему таки голову, наверное, пробили…
А может быть, еще и не вовсе пропал мальчоночка?
Может быть, не стоит вам рисковать, почтеннейшая кодла, жизнью товарища Жмакина? Потому что в миллионы в валюте, в самой устойчивой в мире валюте обойдется вам жизнь некоего Жмакина. За Алексеем Жмакиным товарищ Лапшин, а за товарищем Лапшиным железный закон. Он представитель диктатуры, и с ним армия, с ним флот, с ним авиация, а не с вами, проклятая кодла!
– Кодла! – выговаривает он, кривя лицо. – Вонючая кодла, все равно вам хана и амба, все равно передавим мы вас до единого…
Он поражает их тем, что ругается, они не верят своим ушам и не понимают – может быть, он сошел с ума? Они убили бы его сразу, если бы он повалился на колени, но руганью он выигрывает время и готовит намокший, облепленный грязью сапог для удара. Он ударит этого, у которого наган. Наган у них, наверное, один. А без револьвера он на них плевал!
Только бы шинель не спружинила! Пожалуйста, не спружинь, шинель! Сделай одолжение, цыпочка, не спружинь! Спружинишь – меня убьют, войди в положение, шинель!
Попробуем же, Жмакин, в последний раз!
Попробуем, авось не умрем!
Не надо умирать, дорогой Жмакин, жить надо!
Жизнь тебе открыта, так живи же, не сдавайся!
И, отбросив сначала для разгона ногу назад, он со страшной силой бьет милиционера сапогом в низ живота. Бьет и бежит от своей могилы, от смерти, петляет, падает лицом в мокрую землю и опять бежит, опять падает и вновь бежит во тьму, к дороге, к шоссе; сзади выстрел, другой, – на, возьми Жмакина, на, попробуй, почем стоит, на, убей, коли можешь, на, возьми, выкуси!
Сырой ветер шумит в поле, гудят провода, столбы, значит – шоссе, надо бежать по шоссе, и он бежит, задыхаясь, вперед, туда, где мерцают какие-то огни, где что-то такое показывается и вновь исчезает, какое-то ослепительное сияние, ах, это машина… И не одна машина, там их много!
Он останавливается, машет руками, танцует, кричит. Его лицо в крови, одежда на нем разорвана, – поймите, он убежал от смерти.
С воем тормозит грузовик. Грузовик полон красноармейцев. И начальник с кубиком, с бритым мокрым лицом вылезает из кабины.
– Товарищ начальник, – говорит Жмакин, – поймите.
Тело его содрогается.
– Дело в том… – продолжает он.
И дышит – не может надышаться. И глядит – зеленые фуражки – пограничники – не может наглядеться. Вот она – диктатура! Вот он – железный закон! И еще машина. И еще командиры. В плащах и в кожаных регланах. Это для него. Это за него. Это ради него.
Боец-пограничник вытирает чем-то лицо Жмакина.
– Ничего! – говорит Алексей. – Я в порядке.
Отрывистые слова команд доносятся до него. Машины ровно дрожат – моторы не выключены. Целая война сделалась за него – за Жмакина? Чем же ты отплатишь, Алеха, за это кошмарное беспокойство, за бензин, за человеко-часы, за подъем войск по тревоге? Чем и когда?
– Я пойду! – говорит Алексей. – Я помогу! Я – ничего, могу!
И опять он шагает по полю. Рядом с ним командир в реглане. Чуть впереди – другой, маленький, в зеленой фуражке. А сзади цепь, и слева, наверное, цепь, и справа тоже цепь! Кончает кодлу советская власть!
– Один из них белый каратель, – говорит Алексей. – Сука! Вешатель! Я – знаю. Они хотели большую банду делать, и со связью за буржуазные рубежи…
Споткнувшись, он замолкает.
Тихо. Только хлюпают по грязи сапоги бойцов.
– Я – извиняюсь! – неслышно говорит Жмакин. – Вы не беспокойтесь за меня. Я немножко посижу на земле. Вы – извините.
Ему кажется, что он сказал очень громко. Но он сказал так тихо, что его никто не услышал.
Цепь двигается дальше.
А Жмакин прилег и лежит. Он имеет право чуток отдохнуть. Его не продал Лапшин. Армия вступилась за него. Много машин пришло ему на выручку. Все ж таки бензин. Привязался к нему этот бензин! А кто такой Жмакин! Хотя бы был известный шахматист – гроссмейстер или мастер. Или лауреат конкурса? Или как минимум – знаменитая доярка? Или – стахановец! А он всего-навсего – Жмакин…
Жмакин!
Большой колокол вдруг заныл над ним. И тотчас же «всего-навсего Жмакин» потерял сознание.
На шоссе Кадников беспокойно задергал поводок сирены.
– Ладно, подождешь! – сказал Лапшин.
Он светил фонариком и сосал потухшую папиросу. Уже светало, но едва-едва, скорее рыжело, чем светало.
– Возле березки он прилег – я помню, – сказал пограничник в реглане.
– Тут березок не одна, – проворчал Лапшин.
– Прямо компот, – сказал Василий, – я никаких следов на вижу.
– Ты Жмакина ищи, а не следы, – рассердился Иван Михайлович: – Пин… Пиркентон. Лупу возьми!
Они опять разошлись. Было видно, как одна за другой уходят по шоссе машины пограничников…
– Алеха! – позвал Иван Михайлович.
– Здесь! – откликнулся Жмакин.
Алексей сидел боком в грязи, лицо его было залеплено грязью и кровью. Пока Лапшин считал ему пульс, Окошкин с пограничником сигналили фонариками на шоссе, чтобы шли люди.
– Какой детский крик на лужайке, – сказал Жмакин. – Прямо тарарам!
– Голову тебе разбили? – спросил Лапшин.
– Не, я пробовал, дырки нет, – сплевывая, сказал Алексей. – Шишка есть, а так ничего. Переутомился немножко. Повязали кодлу?
– Увезли всех! – радостно сообщил Окошкин. – Давай поднимайся, Леша!
С трудом Жмакин встал. Василий, при свете фонаря, принялся его чистить. Потом медленно они пошли к машине. Кадников предупредительно распахнул дверцу и сказал:
– Это надо же – на одного человека столько неприятностей.
Пограничник в реглане попрощался с Лапшиным и пошел к своей «эмке». Несколько бойцов стояли на обочине, курили. Жмакин отвел от них глаза – ему было неловко.
– Вроде утро? – спросил он у Лапшина.
– Утро.
– Стрелял Корнюхин братишка?
– До последнего, – угрюмо ответил Лапшин.
– Живой?
– Частично, – сказал Иван Михайлович. – Вряд ли выживет.
– А наши? Все в порядке?
– Обошлось.
Уже совсем рассвело, когда приехали в Управление. Окошкин взял Жмакина под руку с одной стороны, Кадников – с другой. Лапшин внизу звонил по телефону в санчасть, чтобы к нему в кабинет зашел дежурный врач.
Уборщицы с подоткнутыми подолами мыли каменные лестницы, те самые, по которым столько раз Жмакина водили арестованным. Было пусто, со ступенек текла вода, пахло казенным зданием, дезинфекцией; наверху толстая уборщица пела:
Телеграмма, ах, телеграмма…– Ты отдохни, товарищ Жмакин, – сказал Окошкин, – не торопись.
– Спешить некуда, – подтвердил Кадников.
Ты лети, лети, лети, ах, телеграмма, —пела уборщица.
Вахтер козырнул Окошкину. Они всё еще подымались. На лестничной площадке был красиво убранный щит с государственным гербом Союза, с красными знаменами. Сколько раз Жмакин видел этот щит!
– Да, – сказал он, – побывал я здесь. Сколько раз меня приводили.
– Нечего вспоминать, – сказал Окошкин. – Что было, то прошло и быльем поросло.
– Это верно, – сказал Кадников.
Сонный дежурный по бригаде принес Окошкину ключ от кабинета Лапшина. Василий отворил дверь и притащил Жмакину переодеться свой старый костюм. Кадников доставил в миске воды, полотенце и мыло.
– Умоетесь? – спросил он.
Было тихо, очень тихо. Жмакин долго мыл руки, потом лицо. Окошкин и шофер смотрели на него с состраданием. В лице Жмакина было что-то такое, что пугало их. Казалось, он каждую секунду мог зарыдать. Губы у него дрожали, и в глазах было жалкое выражение. Несколько раз подряд он судорожно вздохнул.
– Ничего, ничего, – сказал Окошкин, – ты теперь полежи.
Хлопнула дверь, пришли Лапшин и врач. Лапшин отворил окно. Сырой утренний ветер зашелестел бумагой на столе, одна бумажка сорвалась и, гонимая сквознячком, помчалась к двери.
Окошкин ловко поймал ее коленями.
– Вот так, – сказал врач, поворачивая голову Жмакину.
Лапшин сел за свой стол и задумался. Лицо его постарело, углы крепкого рта опустились. Окошкин с беспокойством на него посмотрел. Он перехватил его взгляд и тихо сказал:
– Поспать надо, товарищ Окошкин, верно?
– Ничего особенного, – сказал врач, – у него главным образом нервное. Я ему укрепляющее пропишу.
Лапшин пустил врача за свой стол, врач выписал рецепт и ушел. Ушел и Кадников. Над прекрасной площадью, над дворцом, над Невой проглядывало солнце. Еще пузырились лужи, еще ветер пригнал легкую дождевую тучку и мгновенно обрызгал площадь, но непогода кончилась, день наступал хоть холодный, зато ясный и солнечный.
Лапшин негромко спросил по телефону:
– Не спишь?
Жмакин слушал, навострив уши: значит, правда, что Иван Михайлович женился. Удивительно – пожилой человек, а тоже.
– Все в порядке, – опять сказал Лапшин. И добавил: – Да, скоро.
Алексей зевнул, делая вид, что не интересуется беседой.
– В духовке? – осведомился Иван Михайлович.
И, перехватив взгляд Жмакина, немножко сконфузился.
Потом они оба покурили и помолчали.
– Мне бы паспорт, – вздохнул Жмакин. – Тоже пора, между прочим, в загс пойти.
– А почему, между прочим, тебе так уж понадобилось в загс идти?
– А потому, между прочим, что у меня сын народился и я желаю, чтобы фамилия у него была моя – Жмакин. И назвать человека пора, что ж он, как все равно лошадь, называется – «мальчик».
– Человеческое-то имя придумали?
– Придумали, – сердито отозвался Алексей.
– Какое имя?
– Обыкновенное.
Он быстро взглянул на Лапшина и опустил глаза. Иван Михайлович больше не стал спрашивать – догадался.
– Подруги женкины против, – совсем рассердился Жмакин, – они нахально утверждают, что такое имя не современное и не звучит. А мы с женой все равно по-своему решили.
– Ну, решили так решили, – спокойно согласился Лапшин.
Вышли на площадь. Иван Михайлович сел за руль, Алексей рядом.
– Вы, конечно, меня извините, что я в одну дуду все дужу, – заговорил опять Жмакин, – но каждому охота свой семейный очаг заиметь. В отношении паспорта – эта волынка кончится, или мне, как крестьянскому ходоку, лично к товарищу Калинину с посошком отправиться нужно?
– Ты только меня не пугай! – попросил Лапшин. – Ладно?
– Так бюрократизм же!
– Тебя на автобазу?
– Ага. Мне там одному товарищу благодарность надо объявить, товарищу Демьянову, который из органов милиции уволен, а меня выручил нынче…
– Объявим! – покосившись на Жмакина, сказал Иван Михайлович.
Алексей вздохнул.
Ярко-голубыми, упрямыми глазами Лапшин глядел перед собой на мчащийся асфальт. Легко брякнули доски – машина проскочила разводную часть моста и понеслась мимо Ростральных колонн, мимо Биржи, по переулочкам Васильевского. Все прозрачнее, все погожее становилось утро. И все спокойнее и спокойнее делалось на душе у Жмакина.
Паспорт
– Ну что? – спросил он.
– Ничего, – ответила она, покачивая его руку. – Кушать хочешь?
Ей всегда казалось, что он голоден или что ему надобно постирать, заштопать…
Вошли в дом. Тут было тепло, уже, наверное, топили печи, пахло свежевымытыми полами, чистой, отутюженной скатертью. На столе в кувшине стоял коричневый хлебный квас. Жмакин напился, утер рот ладонью и сел как гость, но молчать долго не смог.
– Вот, – сказал он, – берете в руки и имеете вещь. Нормальный паспорт.
Клавдия полистала паспорт и вернула его Алексею.
– Так-то, Клаша, – произнес Жмакин. – Кончились наши кошмарные мучения. Теперь мы в порядочке. И ты не напрасно на меня надеялась…
– Не напрасно…
– А Иван как? – спросил Жмакин.
– Ничего. Покушал, сейчас спит.
– Поглядеть разрешается?
– Чего ж не поглядеть. Ты – папаша, кому и глядеть, как не тебе.
– Я не папаша, я – отец! – сказал Жмакин. – Папаша – это в годах. Это вот у тебя – папаша, а я еще для папаши молодой парнишечка.
– Вот я тебе дам – молодой! – сказала Клавдия. – Какой нашелся! Может, теперь девушку себе заведешь, раз с паспортом?
– Заведу! – привлекая Клавдию к себе, ответил он. – По обычаю отсталых народов заимею гарем. Буду из фонтана кагор пить и кушать конфеты…
Они стояли над колясочкой, в которой спал Иван. Лицо Алексея стало серьезным, он поморгал, потом произнес раздельно:
– Жмакин Иван Алексеевич.
И спросил:
– А?
Вернувшись в столовую, он попил квасу и спросил:
– А папаша где?
– На работе.
– Это правильно, – сказал Жмакин, – сейчас время рабочее. Ты, конечно, по закону еще в декрете, я – выходной. Но вообще – порядок.
О, как приятно было сидеть в этой полутемной комнате и беседовать неторопливым, тихим голосом! О, как приятно быть равноправным и не кривляться, не фиглярничать!
Он вынул папиросу, постучал мундштуком по коробке, закурил и пустил дым к потолку. В общем, он немного еще кривлялся, но очень немного.
– Так вот, Клавденька, – сказал он, – паспорт ты сама видела. Права я имею и работу имею. И шофером работаю и грузчиком. Доверяют мне любые мясопродукты. Имеются, конечно, люди, которые позволяют этим мясом пользоваться себе и семье на приварок. И даже разным бабушкам и тетушкам. Но я на это не пойду. Я слишком много пережил различных кошмаров, чтобы на это решиться. И по принципиальным соображениям не пойду. Теперь твое решительное слово: когда пойдем оформляться? Нам сразу надо – и регистрация брака, и регистрация ребенка.
– Неудобно как-то? – всматриваясь в Жмакина, сказала Клавдия.
– Мещанство! – сказал он. – Я желаю все сразу оформить. Обе регистрации и свою прописку у тебя. Для других это, может, и ничего не значит, а я хочу, чтобы все законно и честь по чести. И вообще у меня делов невпроворот – еще билет военный получать…
Клавдия пальцами потрогала его лицо.
– Какой-то ты, Леша, поцарапанный, – сказала она. – Разодранный какой-то…
– А это я на кошку упал! – быстро соврал Жмакин. – Поскользнулся, понимаешь, в часовне, а она испугалась и когтями мне в лицо…
– И бульба у тебя на голове, – ощупывая его затылок, сказала Клавдия. – Как вздулось…
– От кошки же, – блудливо отворачивая взгляд, объяснил Алексей. – Отпрыгнул и затылком в притолоку…
Грустно усмехнувшись, Клавдия сказала:
– Все равно потом все подробно и по правде расскажешь. Я же знаю.
Они немного помолчали.
– В какой же день оформляться пойдем? – делов им тоном осведомился он.
Клавдия немножко приоткрыла рот и вложила свою руку в его ладонь.
– В пятницу подойдет?
Она кивнула.
– И твоя фамилия будет Жмакина, – сказал он. – Эта фамилия теперь ничего, в порядочке. Что было – то сплыло! Я, наверное, еще даже прославлюсь.
– Ах ты, Жмакин, – сказала она. – Ах ты, Жмакин, Жмакин. Хвастун ты у меня.
– А может, и не хвастун? А может, ты еще никаких подробностей про меня не знаешь? Может…
Нет, еще рано было рассказывать!
– Ладно, – сказала она, усмехаясь.
Вошел Женька с моделью планера в руке. Жмакин поговорил с ним. Потом Клавдия проводила его на станцию.
Вечерело.
Жмакин влез в вагон, помахал Клавдии рукою и сел на ступеньку. Поезд шел медленно, паровоз тяжело ухал впереди состава. В вагоне пели ту же песню, что Жмакин слышал в Управлении:
Ты лети, лети, лети, лети, Ах, телеграмма, Ах, телеграмма, Через реки, горы, долы, океаны, Ах, океаны, Да и моря…Песня была беспокойная, грустная, щемящая. Перед Жмакиным, подернутые легкой вечерней дымкой на холоде, курились болота.
Ты скажи ему, скажи ему, что снова, Скажи, что снова, Скажи, что снова Я любить его, любить его готова, Любить готова, да навсегда. Ты скажи ему, скажи ему…Загудел паровоз. Мимо неслись белые столбики, болотца, далекий острый парус…
Скажи, что снова…Жмакин прищурился, глядя вдаль. О чем он думал? О правах, о шоферстве, о том, как он на особой машине в Заполярье пройдет ту тайгу, в которой его когда-то чуть не задрали волки… Или Лапшин… Или Пилипчук…
Ты лети, лети, лети, Ах, телеграмма, ах…Что Лапшин?
Он представлял себе глаза Лапшина, ярко-голубые, любопытные и упрямые, представил себе Окошкина, Криничного, Бочкова, этого очкастого Ханина, который дал ему двести рублей.
Опять загудел паровоз.
– Упадете, – сказал Жмакину сверху из тамбура чей-то опасливый бас.
– Ни в коем случае, – сказал Жмакин.
Еще раз с утра до вечера
Я на тебе не затем женилась!
– Почему ты, Василий Никандрович, собственно, усы запустил? – пристально вглядываясь в Окошкина, спросил Лапшин. – И небогатые они у тебя выросли…
Вася сидел в ватнике, беспокойный, с тонкой шеей, ел биточки, которые принесли сюда из столовой.
– Усы? А по чести говоря, для солидности. Это я никому не говорю, только вам. Все-таки взвод, а чего-то во мне не хватает. На храбрость не могу пожаловаться…
– Отважный?
– Смеетесь всё. Не отважный, но и не трус. Как положено согласно присяге. Даже к правительственной награде представлен…
– Но еще не оформлено?
Окошкин обиженно помолчал. Шинель его висела возле окна на спинке кресла. Поднявшись, он достал из кармана кисет, бумагу, мундштук и спички и закурил. Про папиросы он сказал, что отвык от них «на фронте» и кашляет. Вообще – махорка для легких здоровее.
– Ну а как супруга и теща? – поинтересовался Лапшин.
– Нормально. Теща даже заплакала, когда я приехал.
– Отчего же это она заплакала? – подозрительно спросил Иван Михайлович. Ему доставляло нынче удовольствие поддразнивать Окошкина. – Почему расстроилась?
– Да обрадовалась же! – воскликнул Вася. – Бывает, что от радости люди плачут. Думала старушка – не прорвать мне живым линию Маннергейма.
– А ты взял и прорвал.
– Там не посмеялись бы, – угрюмо произнес Василий. – Там не до хаханек было, Иван Михайлович…
Помолчав, он придвинул к себе стакан с чаем, и только теперь Лапшин заметил, как повзрослел и осунулся Окошкин: глазницы стали темными, скулы проступили отчетливее, на лбу залегли две тоненькие морщинки. Ничего юношеского не осталось в этом лице. «Ах ты, Пинкертон, Пинкертон», – подумал Лапшин и вспомнил, каким Вася пришел к нему первый раз в уголовный розыск. Даже выражение глаз того мальчика Окошкина пронеслось на мгновение перед Иваном Михайловичем, пронеслось и исчезло, как исчез тот Вася в какой-то коротенькой рубашечке с галстуком и в разношенных сандалиях.
– Завелся у меня там хороший товарищ, – говорил Окошкин, размешивая чай, – очень мы с ним сдружились, Иван Михайлович, прямо вот до чего. Пошел на одном хуторе дровишек взять, а в дровянике, видно, мина. Как рвануло, так от моего Толченова все, что осталось, один человек на плащ-палатке принес…
Зазвонил телефон, Катерина Васильевна торопясь сказала:
– Тут к тебе военный приходил, записку принес от Жмакина из госпиталя. Я прочитала, – просит проведать.
– Сильно раненный? – спросил Лапшин.
– Да не похоже, записка веселая. А госпиталь антроповский, в котором Александр Петрович работает, на Петроградской.
– Привет супруге, – сказал Вася. – От Окошкина привет передайте.
– Тут тебе Василий Никандрович Окошкин привет передает, – в трубке произнес Лапшин. – Ага, приехал. Нет, здоровый на сегодняшний день. Да нет, на несколько часов. Понятно…
Он помолчал, слушая.
– В пять, – негромко говорила Катя. – Я же тебя несколько дней не видела. Мы вместе пообедаем, потом я поеду на спектакль, а ты куда хочешь. Нет, вместе, – на всякий случай повысила она голос, – и это свое «оставь в духовке» ты забудь. Я на тебе не затем женилась, чтобы видеть реже, чем когда мы жили порознь.
Она что-то жевала. Лапшину очень хотелось спросить, что именно она жует, но он стеснялся слушающих глаз Васьки. «Наверное, какую-нибудь капустную кочерыжку», – подумал Иван Михайлович и, аккуратно положив трубку, еще немного поговорил с Окошкиным, которому вышло время уезжать.
– Давид Львович там у вас не был, в вашей части? – спросил Лапшин. – Не виделись? Он мне сулил тебя отыскать.
Василий, натягивая на ватник шинель, ответил в том смысле, что он-де человек маленький и ничем себя не проявивший, а Ханин пишет все больше про выдающихся товарищей, совершивших подвиги.
– Ну не ври, не ври, – прервал Лапшин. – Давид журналист солдатский, я его всегда с интересом читаю. И не врун, не писал он, как ворона на мине подорвалась.
Сразу потолстев от ватника и шинели, Окошкин крепко затянул ремень, поправил ушанку и еще закурил своего табачку на дорогу. Вид у него был исправный, но изрядно усталый.
– Тихо стало у нас, – сказал он задумчиво, – знакомого народу почти никого. А жулики по-прежнему шуруют?
– Шуруют, Вася.
– И богатые дела есть?
– Особо богатых нет.
– Ну что ж… пожелаю вам…
Они обнялись, поцеловались, и Василий отбыл на Финляндский вокзал. В суд Лапшину надо было к двум часам, времени еще оставалось, как любил выражаться Окошкин, «вагон и маленькая тележка». Вполне можно было поспеть в госпиталь.
Лапшин уже одевался, когда позвонила антроповская Лизавета.
– Ни один телефон нигде не отвечает, – сказала она. – Александра Петровича ни утром, ни вечером, ни даже ночью дома нет. Простите, что вас потревожила, Иван Михайлович, где моего Айболита можно отыскать, как вы думаете?
Иван Михайлович помолчал и вздохнул.
– Вы слушаете?
– Слушаю.
– Не знаете, где его искать?
– Поскольку сейчас война, а он – хирург, предполагаю, в бывшей его клинике, а нынче в госпитале.
– Туда дозвониться невозможно, – с раздражением в голосе сказала Лизавета. – То занято, то никто не отвечает, то он на операции.
– Так ведь война же, – сдерживаясь, чтобы не выругаться, произнес Лапшин. – Война! Занят человек, работает.
И, неожиданно для самого себя, предложил:
– Я сейчас туда еду, если хотите его увидеть, поедем со мной.
– Дело не в том, хочу я его видеть или не хочу, – суховато ответила Лизавета. – Дело в том, что мой дядя, профессор Багулин, – не слышали такого? Он известный терапевт, профессор и так далее, вдруг закапризничал и не желает ложиться на операцию без Айболита. Он говорит про себя, что сам профессор и нуждается не в профессоре, а в докторе, во враче. Он вообще чудак…
– Ладно, – сказал Лапшин, – спускайтесь, я за вами через десять минут заеду.
Не дожидаясь ответа, он повесил трубку, забежал в столовую, завернул передачу для Жмакина и, подивившись, что все в жизни повторяется, спустился к машине. Кадников в полушубке и в ушанке дремал за рулем, Иван Михайлович тронул его за плечо и велел ехать на улицу Герцена.
Лизавета в шубке и в берете ждала у своего подъезда, сердито мерзла, поколачивая ботиками по тротуару.
– Не люблю я все эти поликлиники, – неприязненно сказала она, садясь. – Терпеть не могу. Стонут, охают, вне очереди лезут под предлогом острой боли…
– Да, не цирк! – ответил Лапшин.
– Не понимаю, при чем тут цирк?
– Вот именно, что ни при чем!
Лизавета отвернулась, Лапшин закурил. «Эмка» медленно ползла в колонне военных, камуфлированных для зимы машин. Дымились две походные кухни, и странно было видеть их на людной ленинградской улице. Кадников сказал:
– Хороший кашевар обязательно наперед думает. Вот – супешник заложил тут, а где-нибудь в Кирка-Кювенапа и пообедают товарищи бойцы.
Резко вывернув руль, он обогнал колонну, развернулся и въехал в госпитальные ворота, где разгружались санитарные, с красными крестами, машины. Лапшин и Лизавета получили халаты, и сестра привела их в очень светлый, прохладный коридор, где на скамейке сидели два человека тоже в халатах, по всей вероятности, муж и жена. Он – седой, в очках, осторожно курил в рукав, она тихо плакала, отвернувшись к стене. Ему было лет за шестьдесят, ей около того.
– Ради бога, перестань, Нюточка, – ласковым шепотом сказал мужчина, – у тебя уже нет никаких сил. Поберегись, мало ли что нас еще ждет.
– Что ты этим хочешь сказать? – испуганно и быстро спросила она.
Теперь Лапшин увидел ее лицо: такие прекрасные лица бывают у старых докторов, у учительниц; в огромных, блеклых глазах дрожали слезы, крупные, странно молодые губы тоже вздрагивали, лицо выражало непонимание и страдание.
– Ничего, ничего, – шепотом опять заговорил мужчина, – ничего, Нюточка, все будет хорошо, все обойдется. Он прекрасный доктор, уверяю тебя, лучший в этой области, я узнавал…
– Ничего ты не узнавал, – беспомощно сказала женщина.
Лизавета наклонилась к Лапшину и тихо спросила:
– Чего мы тут ждем?
– Антропов кончает операцию, сейчас он выйдет сюда.
Седой мужчина, услышав фамилию Антропова, подошел к Лапшину и спросил, знает ли он Александра Петровича. И быстро, скороговоркой представился:
– Профессор Струмилин. Он, видите ли, у нас сына оперирует. Нашего мальчика ранили очень тяжело, и нам сказали, что если не Александр Петрович…
– Александр Петрович великолепный хирург, – спокойно перебил Лапшин. – Не знаю, как кто, но если бы с моими близкими несчастье, то ни к кому бы не обратился, кроме как к нему.
– Слышишь? Слышишь, Нюточка? – с каким-то даже восторгом обратился Струмилин к своей жене. – Слышишь, что товарищ говорит? Пожалуйста, скажите Анне Сергеевне, пожалуйста, – быстро и громко просил он Лапшина, – пожалуйста, очень вас прошу…
Лапшин повторил все слово в слово, а потом еще добавил насчет некоторых профессоров и прочих знаменитостей, которые иногда по сравнению с врачом вроде Антропова… Тут он вспомнил, что Струмилин сам профессор, немного смутился и как бы забуксовал, но Струмилину было не до того, и все сошло гладко, хотя Анна Сергеевна плакать и не перестала.
Опять в коридоре стало тихо.
Лизавета вздрагивала, ей было холодно. Из-за высоких белых дверей не доносилось ни звука, точно там все умерли. Теперь жена Струмилина, не отрываясь и не плача, смотрела на эти двери.
Мимо провезли две каталки, на одной веселый раненый болтал:
– Сестричка, а где у вас курят? В палате можно? Я без чего хочешь могу, а без никотину отказываюсь…
С другой каталки неслись тихие стоны, и Лизавета поежилась.
– Однако! – взглянув на часы, произнес Струмилин. – Ровно три часа прошло.
И едва он захлопнул крышку своих тяжелых золотых часов, как дверь, обе створки ее распахнулись и на пороге, еще в маске, показался Александр Петрович Антропов. Лицо его было не розовее, а, пожалуй, лишь желтее шапочки, маски и халата, и по этому желтому лицу, со лба, по переносице, из глазниц, стекали капли пота, того пота, который свидетельствует, что сейчас, только что были отданы самые последние человеческие, или даже уже не человеческие, а совсем неизвестно какие, наираспоследние, во всяком случае, силы. Но так как не в Антропове было сейчас дело, и не его самочувствие интересовало супругов Струмилиных, то по страшному его виду они лишь предположили, что сын их погиб, и он понял это и сам еще настолько себя ухитрился собрать, что почти беззаботным жестом, развязывая маску, произнес:
– Тот редкий случай, когда врач может сказать, что все в порядке. Редчайший, знаете ли. Ловкость рук, или подвезло, или организм у вашего сыночка стальной, как бы то ни было, но поздравляю вас, родители, с новорожденным…
Несмотря на нечеловеческую усталость, Антропов был в возбужденном состоянии и хотел еще даже сказать что-то шутливое и бодрое, как вдруг Анна Сергеевна быстро и мягко опустилась перед ним на колени, схватила его большую руку своими длинными, узкими ладонями и, рыдая, стала покрывать ее мелкими, быстрыми, короткими поцелуями…
– Доктор, – задыхаясь, говорила она, – доктор, я никогда не забуду… Я же всех потеряла, и только он, только один…
Из распахнутой двери мягко и торжественно выехала каталка. Лапшин вынул папиросы, закурил и искоса, осторожно взглянул на Лизавету: она стояла очень прямо, вытянув руки по швам, розовый рот ее был слегка приоткрыт, в глазах блестели счастливые слезы.
«А если бы не парад? – печально подумал Лапшин. – Если бы неудача? Тогда как, уважаемая гражданка?»
Но парада уже не было. Анна Сергеевна и Струмилин, оба устремились за каталкой, а Александр Петрович опустился было в полнейшем изнеможении на скамью возле двери предоперационной и хотел было завернуть полу халата, чтобы достать знакомый Лапшину потертый белого металла портсигарчик, но в это мгновение заметил Ивана Михайловича и свою Лизавету. Что-то дрогнуло в дотоле хоть и измученном, но твердом мужском лице Антропова, в нем метнулось жалкенькое выражение, которое сменилось наигранной бодростью и такой же наигранной живостью.
Словно испугавшись своей великолепной усталости, усталости, цена которой была неизмеримо выше любой юношеской свежести, бедняга Александр Петрович пренеестественно обрадовался, взбодрился, развеселился и «размахался» – словцо, которое Лапшин всегда употреблял, укоряя Антропова в молодечестве перед Лизаветой.
– Вот это явление второе, действие первое, те же и Иван Михайлович с Лизочкой, – идя к ним по скользкому паркетному полу и улыбаясь, говорил Антропов. – Вот это обрадовали, вот это…
Он говорил этот вздор еще невесть как долго, и Лапшин с раздраженным изумлением глядел на Александра Петровича, стараясь понять, зачем нужно Антропову ерничать перед девушкой, которая только что видела его таким, каким он есть в действительности и каким невозможно притворяться…
– Мой тут один боец у тебя, Александр Петрович, лежит, Жмакин некто, – прервал антроповские излияния Лапшин, – не покажешь ли, где его отыскать, и, кстати, не посмотришь ли сам его…
– Ну а вы, Лизочка, какими тут неисповедимыми путями? – не слушая Лапшина, спросил Антропов. – Вы-то как сюда попали, да еще в такой холод? И в госпитале у нас прохладно, и тут не обогрелись…
Лизавета объяснила, по какому делу она приехала, и Антропов совсем замельтешил, – профессора Багулина он знал и относился к нему, по его собственному выражению, с «величайшим пиететом».
«Пиетет! – подумал беззлобно Лапшин. – Отодрать бы тебя за уши, старый дурак!»
Но, как это ни странно, Лизавета словно бы не обращала внимания на то, каким теперь сделался Александр Петрович. Она была задумчива, тиха, покойна и порою искоса посматривала на него, словно что-то обдумывая и немножко удивляясь…
За поворотом коридора к Антропову подошли два толстеньких врача, оба сердитые и взволнованные, и Александр Петрович опять сделался таким, каким Лапшин знал его и каким любил: жестким, требовательным и мужиковато-прямым. Видимо, толстенькие доктора получили мгновенную взбучку, потому что растерянно попятились, и взбучку получила тут же подвернувшаяся сестра с усами на носатом лице пожилого кавказца. Сестра-кавказец тоже попятилась, а Лизавета все смотрела издали на Антропова, и в глазах ее по-прежнему было удивленное выражение.
В ординаторской Александр Петрович сбросил халат и шапочку, надел потертый пиджачок, закурил и, словно бы боясь, чтобы не подумали о нем слишком хорошо, сказал растерянно:
– Понимаете, друзья мои, какая штука! По нынешней операции судить нельзя. Это редко такая удача. Организм у человека железный, сердце великолепное, а я тут вовсе ни при чем.
– Золотой советский человек, скромный врач, – усмехаясь, прервал его Лапшин. – Понятно. Где же все-таки мой Жмакин?
Условились, что пока Лапшин будет у Жмакина, Антропов с Лизаветой на машине Ивана Михайловича съездят к Багулину, а потом Александр Петрович посмотрит лапшинского подопечного…
Совершенно секретно
Покуда искали Жмакина, Лапшин вспоминал все, что ему было известно об Алексее за это время, и улыбался, представляя себе то удивление, которое поразит Жмакина от двух-трех лапшинских реплик. Вспомнился ему и майор-разведчик, который долго сидел у него в кабинете и, посмеиваясь, слушал некоторые случаи из прошлой жизни Жмакина, вспомнился и последний вопрос светловолосого медлительного майора:
– Значит, можно доверять?
– Я бы с ним пошел, – спокойно и неторопливо ответил Лапшин. – В любой тыл, на любое дело и на любой срок.
– Ну… а эта… нервозность, что ли, его?
– Зато вы, по-моему, человек выдержанный, – сказал Иван Михайлович. – Крепко выдержанный. Оно так на так и выйдет…
…Очень было интересно, как обо всем этом сложном деле расскажет Алешка…
Отыскался Жмакин возле кипятильника, где происходили финальные или полуфинальные состязания в шашки. Передвигался Алексей бодро, но с каким-то подскоком, и правая половина лица у него дергалась, короткая судорога часто пробегала от угла рта к уху.
– Это – что? Вроде, контузия? – здороваясь, спросил Лапшин.
– Вы погромче, я плохо слышу, – велел Жмакин. – Немножко покарябало меня, но не сильно. Отлежался бы и в медсанбате, но дело вышло такое…
Он изобразил дергающимся лицом значительное выражение, но не выдержал до конца и хихикнул. В зеленых его глазах дрожали веселые огонечки.
– Какое такое дело?
– Особо секретное, – почти в ухо Лапшину сказал Жмакин. – Вы, конечно, можете мне не доверять, поскольку ситуация такая, что проверить вам никогда не представится возможным.
– Проверить не удастся?
– Ага! – с восторгом, страшно дергаясь и смеющимися глазами глядя на Лапшина, подтвердил Жмакин. – Теперь мой верх, Иван Михайлович, потому что я выполнял задание государственной важности и особо секретное, вплоть до международных конфликтов.
– Каких таких конфликтов? – немножко даже возмутился Лапшин. – Какие такие могут решаться при твоем участии международные дела?
– Чего? – не расслышал Жмакин.
Они сидели в широком коридоре на подоконнике, и этот коридор, и Жмакин в зеленом халате почему-то напомнили Лапшину смерть Толи Грибкова и те невеселые дни. Отдав Алексею передачу, он спросил, как жена, как ребенок, что вообще слыхать. Жмакин, порывшись в пакете, довольно развязно посетовал, что папиросы, принесенные Лапшиным, «не его марки», принес свои, плитку шоколада и два апельсина.
– Давай про дела-то! – велел Лапшин. – Как-никак, я с тобой горя хлебнул не мало, имею право хоть в общих чертах…
– В общих чертах оно, конечно, учитывая вашу биографию…
Но тут же отвлекся:
– Все-таки нехорошо со мной получилось, Иван Михайлович. К другим супруга придет, мамаша, дочка, каждый может про себя боевой эпизод соврать, поделиться, а я? Секретный весь кругом, и все. Хоть плачь.
– Возьми и ты соври!
– Неинтересно! – вздохнул Алексей. – Отоврал свое, охота правдой поделиться, а она строго секретная.
– Это насчет дома в четыре окна со двора? – тихо спросил Лапшин.
Жмакин отдельно поморгал, потом отдельно пошептал губами, потом издал свистящий звук, как цветной детский шарик, когда из него выходит воздух.
– Откуда? – наконец спросил он.
– Да уж знаю, – спокойно ответил Лапшин. – Какой бы я был чекист, если бы такие мелкие подробности из твоей жизни не знал. Ты, Алеха, ходишь по секретному заданию, а я на тебя в трубу из своего кабинета смотрю. Техника!
– Шутите? – угрюмо удивился Алексей.
– Вроде. Но когда за человека поручаешься, должен знать, в чем.
– А вы за меня поручились?
– Было.
– А вдруг бы я… За такое дело там меня, может быть, в Маннергеймы бы произвели, если бы продать…
– Но я-то знаю, что ты не сука и продать не можешь.
– Откуда же вы знаете?
– Хотя бы по Корнюхе.
– Это так, – задумчиво ответил Жмакин. – А еще почему?
– А еще потому, что это большое дело, секретное и почетное, ты делал для родины. А родина – кто? Родина, брат, это – справедливость, заступница, мать. Разве не выволокла тебя твоя родина из черт знает какой грязи и пакости, разве не заступилась за тебя, когда худо тебе было, разве не поверила на слово? Пограничников помнишь, когда кодла повезла тебя на смерть? Зеленые фуражечки?
Жмакин долго дергался, мотал головой, потом сказал:
– Это так! Но с другой стороны, если бы не вы, Иван Михайлович…
– Дурака не валяй, – строго перебил Лапшин. – Что я делал, то делал не от себя лично, а потому, что так я моей партией выучен и лично Феликсом Эдмундовичем Дзержинским, заруби на своем носу и добрую старую деву из меня не строй. Ясно?
– Ясно!
– Теперь выйдем куда подальше, и ты мне все подробно доложишь.
– Так вы и так знаете.
– Мне надо от тебя услышать. Где тут потише?
Вышли на лестницу.
– Здесь у нас здорово холодно, – сказал Алексей, – иногда до ноля доходит, собрались именно по сезону батареи чинить, продернуть бы их в периодической печати. Но зато вражеское ухо не подслушает. Рассказывать?
И подробно рассказал, как к ним в часть прибыл один человек, «замечательный парень, хитрован, ну прямо гвоздь мальчишек, вроде классного вора Юрки Полякова, который больших людей обкрадывал, про него даже писали, вы его знаете, он у Николая Федоровича Бочкова сидел», как этот парень (не Юрка Поляков, а прибывший) все приглядывался к бойцам, приглядывался, а потом однажды ночью вызвал к себе в землянку Жмакина и попросил поделиться с ним своей автобиографией. Поскольку этот секретный майор обещал, что все останется между ними, Жмакин не утаил свою автобиографию, и, как это ни странно, «секретчик» остался беседой доволен и на следующий день исчез.
Тут Алексей внимательно и хитро поглядел на Лапшина.
– Дальше давай!
– Могу даже число назвать, – сказал Жмакин. – Теперь-то я понимаю, что он у вас проверял ту эпоху моей жизни…
– Рассказывай, эпоха!
Появился опять майор так же внезапно, как исчез. Опять Жмакин был вызван к нему в землянку и в ней остался до полуночи. В полночь пошли вдвоем и только с ножами и гранатами…
– Думал – языка брать? – спросил Лапшин.
– Языка! – горько усмехнулся Алексей. – Я ж не октябренок. Сразу догадался, что международных вопросов огромных масштабов я этими руками коснусь.
Иван Михайлович терпеливо вздохнул. На лестнице было действительно здорово холодно.
– Ты побыстрее, – велел он, – а то схватим оба воспаление легких. Свищет!
– На фронте-то нам, рядовым бойцам, похолоднее, – сказал Жмакин и быстро осведомился: – Бывает, Иван Михайлович, что вам охота мне в ухо дать за мое врожденное хамство? Я и сам чувствую, случается, – остановись, Алеха, перебор, – но не могу!
– Ты будешь по делу говорить? – сердито спросил Лапшин.
– Или назад в камеру? – задумчиво улыбнулся Жмакин. – Нет, товарищ начальник, не будет мне больше, как я предполагаю, камеры. Я на большой оперативный простор вырвался, мне прошлые делишки без интересу. Так вот, продолжим…
– Продолжим…
Секретчик и Жмакин вышли, как было уже сказано, вдвоем, но в какой-то старой баньке в темноте их ждал еще один неизвестный им и невоенный человек. Ночь была морозная, но очень темная, секретчик подготовил операцию «согласно астрономическим данным». Шли без пути, иногда ползли. Двигались всю ночь. День скрывались в подвале, слышали голоса не по-русски. И часа в три пополуночи из дома в четыре окна со двора они взяли те два «аппарата», в доставке которых и заключалась вся их задача. Аппараты легкие, «транспортабельные». Проводник исчез неожиданно, как и появился, кто он и откуда, Жмакин до сих пор не знает. Уже когда были возле своего переднего края, попали под сильный минометный обстрел, и секретчика почти совсем убило, а Жмакин добрался вроде бы здоровый, только потом нога отказала и в щеке сделалась эта игра. Большое начальство сразу собралось смотреть аппараты, их фотографировали и даже на кино снимали. За аппаратами прислали специальный самолет, а за секретчиком санитарный. Поскольку в санитарном оставалось еще место, а на этом задании пострадал и Жмакин, жизнь которого нужна советскому народу, то его и отправили вместе с секретчиком. Вот теперь и лечат, как генерала.
– А что за аппараты? – спросил Лапшин.
– Да не знаю же! – с горечью и злобой воскликнул Алексей. – По темноте своей не знаю. Вроде трубочки, вроде из железа, вроде со стеклами, вроде оптика, а что именно, не знаю и теперь уже никогда не узнаю, хотя сам их и выкрадывал, рискуя жизнью, из дома из секретного…
– Выкрадывал? – стараясь сделать как можно более серьезное лицо, строго спросил Лапшин. – Это интересно! Значит, опять ты, Жмакин Алексей…
– Иван Михайлович! – воскликнул Жмакин, и в голосе его что-то пискнуло. – Товарищ начальник…
– Значит, опять, – смеющимися глазами глядя на Алексея, продолжал Лапшин, – значит, вновь…
– Так с опасностью же…
– А разве безопасные кражи бывают?
Но здесь Жмакин увидел глаза Лапшина и засмеялся. Посмеялись немного оба, в меру, как полагается мужчинам. И, посмеиваясь, Жмакин сказал, что никогда не думал о том, как его «выучка» может пригодиться.
– И не думай больше, – посоветовал Лапшин. – А то эти думы далеко увести могут. Так какой национальности все-таки оказались приборчики?
– Немецкие, Иван Михайлович, именно что немецкие. Интересная история. Фашистские! Это я из разговора большого начальства понял. Это будто приборчики или аппаратики барону Маннергейму англичане слали, которые с Гитлером воюют, и французы, которые с Гитлером воюют, а теперь и сам Гитлер их шлет. Так что некто Жмакин хорошенькую пилюльку кое-кому подготовил, и навряд ли ему фашисты за это поднесут на блюдечке свой «железный крест»…
– Да, это уж, верно, навряд ли, – с усмешкой согласился Лапшин.
– И здесь все теперь зарастет травой, как старая беседка, – вздохнул Алексей. – Секретчик про меня забудет, а я ничего, кроме случайного ранения, рассказывать не имею права. Будет у дедушки внучек, чем он его развлечет? Как дамские сумочки в Пассаже срезал?
– Ладно, Алексей, не отчаивайся, тебе еще до дедушки далеко…
– Не так далеко, когда сын растет. А папа воевал неплохо и ничем не отмечен. У меня жена комсомолка, я и ей ни слова не сказал…
– Не сказал?
Пропустив вопрос Лапшина мимо ушей, Жмакин жалобно сказал, что ему «ужасно хочется получить на грудь», поскольку этим бы закончились все «кошмары его прошлой жизни». Лапшин ничем утешить его не успел, потому что в это время на лестнице появился Антропов.
– Э, да я этого товарища знаю, – сказал он про Алексея. – Молодец парень, все у него протекает нормально. Пойдем, Иван Михайлович?
– Нормально, нормально, – проворчал Алексей, – другие правительственные награды имеют, а я… Или, может, поскольку операция секретная – секретно и отметят меня?
– Возможно, – протягивая Жмакину руку и улыбаясь, сказал Лапшин. – И тихо спросил: – А мог ли ты представить себе, Алеха, год назад или немного поболее, когда я тебя из ресторана на площадь вел, что ты со мной про орден будешь беседу вести? Мог?
– И верно… Чуть поболее года… – так же тихо ответил Жмакин. Потом, смутившись, предложил: – Апельсинчик не хотите взять для супруги? Его нынче нигде не укупишь, только на госпиталя идет.
Лапшин неожиданно согласился:
– Возьму. Тем более что она в свое время немало набегалась, когда поручиться нужно было, что ты грузчиком мясопродукты красть не будешь…
Внизу он еще раз обернулся: Жмакин неподвижно стоял на лестнице, тот самый Алеха Жмакин, который «своими руками замешан теперь в международной дипломатии». «Ах ты, Жмакин, Жмакин, – подумал Лапшин, и что-то на мгновение стеснило ему горло, – и нахал же ты, Жмакин!»
– Что задумался? – сидя в машине, спросил Антропов.
– Да так… Не хочешь вечером в театр пойти на «Марию Стюарт»?
– А билеты?
– Билеты не твоя забота…
– Но ведь Лиза…
– Я за вами заеду!
Пообедать вдвоем с Катей Лапшину не удалось. Судебное заседание затянулось, потом Криничный попросил допросить последнего из казнокрадов, задержанного в Ялте «Кузнечика», и Иван Михайлович освободился только к семи часам, но и то как-то не по-настоящему. Около семи позвонил телефон, и корректно-служебный голос спросил:
– Товарищ Лапшин? Соединяю с товарищем Альтусом.
– Лапшин у телефона, – сказал Иван Михайлович.
Они поговорили о том о сем, потом Алексей Владимирович спросил, какие у Лапшина планы на вечер.
– Да вот в театр собрался, – сказал Лапшин, – товарища пригласил.
– К жене, что ли, в театр?
– К ней.
– Так, так, – сказал Альтус. – Ну а если мы тебя потревожим вдруг в театре, не обидишься?
– Время военное!
– А в мирное бы обиделся?
– Что-то я для нас с вами мирного времени не помню, – улыбнулся Лапшин. – А, Алексей Владимирович?
– Да, вроде бы не избалованы мы покоем. Так, значит, договорились, Иван Михайлович. И еще попрошу – не посчитай за труд, – обуй в театр бурки. Я помню – есть у тебя хорошие бурки.
– Вместе получали. Такие же, как у тебя, Алексей Владимирович.
– Точно, точно.
Но трубку Альтус не вешал. Опять поговорили о пустяках. Потом он небрежно осведомился:
– Еще вопросик – ты Старо-Парголовский район хорошо знаешь?
– Знаю.
– Хорошо? Не стесняйся, Иван Михайлович, я знаю, что ты не хвастун.
– Хорошо знаю.
– Ну, отлично. Тогда порядок. В случае чего мы тебя из театра украдем.
Трубка щелкнула.
Лапшин подумал, попил простывшего жидкого чаю, вынул из шкафа бурки, переобулся и поехал за Антроповым на бывшую свою квартиру. Здесь попалась ему Патрикеевна, жившая теперь у Лапшиных, но часто навещавшая родителей Димы, которым подолгу рассказывала, какая у Ивана Михайловича бесхозяйственная жена, как ей все равно, какой нынче обед и почем на частном рынке говядина.
– Опять сплетничаешь на хозяйку? – угрюмо спросил он.
– А я что ей, то и людям! – сказала выпившая Патрикеевна. – Я человек религиозный, хлеб-соль ем, а правду режу. И к кому хочу, к тому хожу, не крепостное право, и вы мне не император Николай кровавый…
Закрыв дверь в коридор, где шумела Патрикеевна, Лапшин сел на продавленный диванчик и стал серьезно смотреть, как Антропов бреется.
– Мылить надо посильнее, а то ты по сухому скребешь, – посоветовал Лапшин. – Совершенно у тебя одна школа бритья, что у моего Василия Окошкина.
– А Окошкин все воюет?
– Воюет.
– И Бочков твой на фронте?
– И Бочков мой на фронте.
– А когда нам с тобой?
– Нам с тобой главную войну, Александр Петрович, воевать. Мы покуда вроде резерв высшего командования…
Антропов добрился, протер лицо одеколоном, завязал галстук и спросил у Лапшина:
– Ничего?
– Ничего. Только белый халат тебе больше подходит.
– Что ж, мне в халате ехать на «Марию Стюарт»?
Посмеялись немножко и поехали за Лизаветой, которая, как нынче днем, поджидала их поколачивая ботами по тротуару. Только теперь она не сердилась.
Каждый солдат должен знать свой маневр
Все дело заключалось в том, что они изображали, играли и показывали, а она была такой, какой он знал ее и какой любил. Наверное, ее справедливо ругали в театре за то, что она не умела «перевоплощаться». Просто это была Катя, его Катя, Катерина Васильевна Балашова, попавшая в другое время и во всю эту беду, злую беду, из которой нет выхода. Именно поэтому Иван Михайлович всегда так мучился на этом спектакле, кряхтел и ругался про себя. Хоть подымайся на сцену и действуй там сообразно со своим мироощущением и понятиями справедливости.
Однажды, стесняясь, он рассказал ей об этих своих чувствах. Она медленно улыбнулась, положила свою ладошку на его стиснутый кулак и сказала негромко:
– Значит, я хоть эту роль играю сносно.
– Да не играешь ты! – возразил он. – Ты там человек, ясно? Другие играют и даже очень хорошо играют, а ты – ты!
Сейчас, сидя рядом с тихо плачущей Лизаветой и угрюмо глядя на сцену, где мучили его Катю, он испытывал тяжелое чувство ненависти к тому прошлому миру, где могли существовать такие несправедливости. И, несмотря на то, что в истории все обстояло далеко не так, как об этом рассказал Фридрих Шиллер, Иван Михайлович каждый раз, приходя на этот спектакль, забывал про историю и про то, что было на самом деле, и верил Шиллеру, Кате и стихам, которыми люди, как известно, никогда не говорят, жалел Марию-Катю, презирал предателей и к актрисе, игравшей Елизавету, относился так, будто она впрямь была шиллеровской Елизаветой.
После третьего действия он спросил у Антропова:
– Ну как, Александр Петрович?
– Хорошо! – сказал Антропов, жадно затягиваясь. – Очень хорошо. И Лизе нравится.
Он на все смотрел Лизаветиными глазами, и если бы ей не понравилось, он бы, наверное, тоже осудил спектакль. Лапшину на мгновение стало скучно, Антропов показался вдруг тряпкой, но тут же он вспомнил нынешний день и уговорил себя не осуждать Александра Петровича, потому что неизвестно, как бы все сложилось, будь Катя – Лизой, а он – Александром Петровичем.
– А дела вообще-то как? – спросил Иван Михайлович.
– В каком смысле? – притворился Антропов.
– Да в личном, в каком еще!
– Сегодня все решится, – сказал Антропов. – Я дал себе слово, Иван Михайлович. Сегодня, после спектакля.
– Ну-ну!
Звенели звонки. Свет в фойе притушили. Антропов побежал к Лизавете, Лапшин выглянул в промороженный вестибюль – не приехали ли за ним, и медленно пошел за кулисы. В четвертом действии Мария не выходила на сцену, и Иван Михайлович, если попадал в театр, обычно это время сидел у Кати.
Когда он вошел к ней, она пила из синенькой чашки молоко.
– Нет голоса, и все тут! – сказала она жалобно. – Прямо срам.
– И ничего подобного, – садясь в креслице и радуясь тому, что пришел сюда и видит Катю так близко, сказал Иван Михайлович. – Нормальный голос.
– Ай, да перестань! – велела она.
Он улыбнулся. Она любила, когда они оставались вдвоем, всякими такими «перестань» показывать свою власть над ним.
– Обедал?
– Обедал! – неуверенно солгал он, любуясь ее странным платьем, высоким, выше ушей, воротничком, каким-то перстнем со стекляшкой на тонком пальце.
– А последний акт смотреть опять не будешь?
– Не будешь! – повторил он.
– Дурачок какой! Самый лучший акт, и поставлен лихо.
– Я не люблю, когда тебя убивают, – негромко произнес Лапшин. – Не для того я женился, чтобы на это с удовольствием смотреть.
– Во-первых, женилась на тебе я, – сказала Катя. – Во-вторых, убивают не меня, а Марию Стюарт. В-третьих, нельзя быть таким слабонервным. В-четвертых… а почему ты в бурках явился? – вдруг спросила она. – Переодеться даже не успел?
Сама того не подозревая, она помогла ему ничего не ответить на ее вопрос. Он все молчал, улыбаясь.
– Ну? – спросила она и, по своей новой манере взяв его руку, прижалась к его ладошке горячей щекой.
– Что «ну»? – спросил он, кладя другую руку на ее плечо.
– Сиволапый мужик Лапшин, – сказала она, – не хватайте королев!
Ее подведенные глаза были совсем близко от его глаз, и тихим голосом она спросила:
– Что же твой Жмакин?
– В порядке, – усмехнулся Лапшин. – Чирикает.
– А Клавдия его?
– Не знаю, не видел. Да, он же тебе апельсин прислал…
В это время в дверь постучали. Угадывая, кто это, Иван Михайлович поднялся и на пороге поздоровался с Альтусом.
– Здорово я догадался, – улыбаясь, сказал Алексей Владимирович. – Если актрисы Балашовой на сцене нет, значит, сыщик Лапшин спектакль не смотрит…
На Альтусе был коричневый реглан и такие же бурки, как на Лапшине. И холод от него шел, словно он много часов пробыл на морозе.
– Вы – куда? – глядя то на Альтуса, то на Лапшина, быстро спросила Катя. – Вы почему оба в бурках?
– Вы бы к нам как-нибудь зашли, Катерина Васильевна, – не отвечая ей, спокойно сказал Альтус. – Туся все про вас спрашивает…
Катя молчала.
– Поехали?
– Но куда? – спросила она.
– Когда Лапшин женился на вас, – вежливо и холодно улыбаясь, сказал Альтус, – он знал, что на сцене вас будут обнимать, и целовать, и любить чужие мужчины. И когда вы шли за него замуж, вы знали, что иногда он будет внезапно уезжать в неизвестном направлении. Верно?
– Я… еще не привыкла, – зло глядя на Альтуса, ответила Катерина Васильевна. – И не привыкну, наверное.
– К этому трудно привыкнуть, – все так же холодно произнес Алексей Владимирович. – Вот моя Антонина Никодимовна тоже никак не привыкнет. Но из этого ничего не следует…
В дверях Лапшин обернулся. Мария Стюарт стояла посредине маленькой комнатки – худенькая, высокая, в своем странном воротничке – и смотрела на него глазами Кати Балашовой.
– Градусов за тридцать жмет, – сказал Альтус, закуривая в машине.
Иван Михайлович молчал. На передних откидных сиденьях дремали еще двое незнакомых чекистов. На Поклонной горе лунный свет ударил в слюдяные окошечки, режущий, морозный ветер засвистел громче.
– Ты шестипаловскую дачу знаешь? – негромко спросил Альтус.
– Это где часовня обвалилась?
– Ну да, шереметьевского, по слухам, камердинера.
– Знаю.
Альтус, чтобы удобнее было говорить, отвернул воротник реглана и наклонился к Лапшину.
– Десант кинули, – сказал он сердито. – Впрочем, может быть, и на пользу человечеству. Их, шпану эту, нужно прибрать тихонечко, семейным, так сказать, способом, без привлечения внимания трудящихся. И… использовать в дальнейшем в целях дезинформации противника.
– Сколько там народу?
– Ровно столько, сколько нас. Вооружены отлично, парни – гвозди, в кровище по колено. Пойдут на все. Задача – взять живыми.
– Всех?
– По возможности.
У Шуваловского кладбища остановились. Двое дремавших дотоле чекистов закурили. Лапшин по памяти в блокноте набросал шестипаловскую дачу и подходы к ней. Развалюха бывшего камердинера должна была иметь два входа, поэтому диверсанты туда и ушли…
Альтус взглянул на часы.
– Второй эшелон должен подтянуться минут через пять, – сказал он. – Там народ не в курсе дела, это для страховки. Но ребята – орлы.
Еще покурили, помолчали. Потом, пропустив пограничников вперед, обсудили детали. Камердинерова развалюха стояла в густом ельнике, но между ельником и стенами дома было пустое пространство, просматриваемое из окон.
– Если не уснули, то пару очередей успеют дать, – задумчиво сказал Альтус. – И себя ликвидировать смогут…
Луна светила так, что развалюху было видно даже за ельником. Но когда Лапшин с Альтусом вышли на тропку, в проводах загудело, и неожиданный ветер понес сухую, секущую лица, злую поземку.
– Дзержинский говорил – большевистский бог, случается, выручает, – отжимая Лапшина кзади, сказал Альтус. – Помнишь, Иван Михайлович, Савинковское дело?
– А ты меня не отжимай, – сказал Лапшин, – я свой маневр знаю.
– Каждый солдат должен знать свой маневр, – твердо шепотом произнес Алексей Владимирович, – а я тебя в звании старше и согласно нашей науке иду первым. Пусти, приказываю!
Развалюха скрылась за ельником. Она была совсем близко. Мороз грыз щеки. Поземка мела в лицо, пограничников не было видно, – наверное, накинули халаты. Незнакомый чекист подал Альтусу и Лапшину по гранате. Пистолеты у всех были в руках, металл пристывал к коже.
– Готовы? – спросил Альтус.
– Готов! – ответил Лапшин.
– Пошли!
Поземка опять ударила им в лица – теперь слева, от часовни. И как только они прорвались сквозь ельничек, короткая, дробная очередь пулемета прогремела над их головами.
Ленинград – Одесса – Сосново
1959–1960



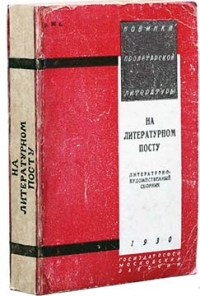
Комментарии к книге «Один год», Юрий Павлович Герман
Всего 0 комментариев