Луис Сепульведа Невстречи
Невстречи в дружбе
Последний факир
Тут не может быть спору. Никто не скажет, что вот, мол, были у тебя друзья получше, чем этот, кто сейчас говорит с тобой, сглатывая слезы. Такого, как я, у тебя никогда не было, никогда. У нас тут не очень уж много хороших знакомых, но, уверен, все давно убедились, что я к тебе относился с огромной нежностью, какую не сразу поймешь, ведь мужская сердечная дружба — вещь особая, тут громкие слова ни к чему, просто наливаешь другу стакан вина, аккуратненько так, чтоб и капли не пролилось.
Мужская дружба — это когда кладешь пачку сигарет на стол, молча, чутье, оно само подскажет, когда другу надо закурить. Мужская привязанность — это когда слушаешь и слушаешь, не перебивая, о всяческих там невзгодах и бедах, которые обрушиваются на человека, а потом молча похлопаешь его по спине. Да, вот она, бескорыстная мужская дружба, которую видели все, почти все, кроме тебя самого.
Ну припомни, компадре! Мы же друг другу как родные, правда? Разве не я сказал тебе однажды, что ты должен добиться признания, стать артистом, выступать как они, по два раза в день. Ну вспомни, вспомни, разве не я говорил, что пора показать людям, чего ты стоишь, хоть бы из уважения к своему таланту, пусть даже к малости этого таланта, который вдруг возьмет и вылезет из нас то ли с голодухи, то ли с горя. А еще вспомни, кто прибежал к тебе с афишей, кто написал ее на белом картоне! Здорово у меня получилось! Как сейчас помню:
«Прочь все сомнения! В нашем мире сплошного обмана наконец-то верх взяла правда. Пресса и телевидение уже показали это тысячам разуверившихся людей. Али Касам воистину последний из настоящих факиров, какие еще остались на земле. Али Касам съедает электрические лампочки, словно это вафли, и глотает бритвенные лезвия, будто анальгин. Али Касам творит такие удивительные подвиги благодаря вегетарианскому образу жизни, которому он следует не хуже любой лошади. Али Касам — худой, как тростинка, но у него отменное здоровье, и он приносит благодарность уважаемой публике, которая, затаив дыхание, с восторгом следит за его выступлениями. Дважды в день Али Касам будет глотать на ваших глазах битое стекло и металлические предметы, а затем покинет арену, чтобы передохнуть и поразмышлять о нашей жизни, сидя на табурете, утыканном гвоздями.
Мы приглашаем вас вместе со всей семьей посмотреть на Али Касама, последнего настоящего факира, который чудом уцелел в этом мире, где царят шарлатаны и жалкие подражатели. Али Касам будет выступать в вашем городе всего несколько дней, затем он продолжит свой путь, начавшийся с берегов далекой и загадочной Индии, с тем, чтобы обрести истину и покой».
И прости, что напоминаю, но кто, как не я, нашел такое славное имя, не будь меня рядом, ты бы со своей придумкой насчет «Гран Маурисио» не дошел бы до угла собственной улицы. Да и тюрбан тебе смастерил опять же я. И он у меня вышел точь-в-точь как в журнале «Селексионес», так что чтение приносит какую-никакую пользу. Слов нет, знатный получился тюрбан, как для настоящего султана, а, компадре? Разве сравнишь с тюрбанами из склеенного тряпья, какие нахлобучивают на головы циркачам?
И если я сейчас все это говорю, компадре, то вовсе не из какой-то корысти. Нет! Что сделано, то сделано, чего уж! Просто еще разок хочу сказать, что без меня ты бы не вышел в артисты, и не видать тебе свое имя в газетах.
Вспомни лучше, что в цирке тебя под конец сделали уборщиком и ты менял львам опилки, чтобы мочой не воняло. Потому что когда на самой середине представления тебе вдруг свело руки судорогой, всем стало ясно, что для человека-змеи ты никак не годишься. И кто заметил твою редкостную худобу в те самые минуты, когда ты — весь в резиновом зеленом костюме — дергался и никак не мог вытащить руку из-под затылка? Я, твой друг, кто же еще! Вспомни, как я к тебе бросился и под хохот уважаемой публики и брань нашего импресарио помогал стягивать с тебя этот чертов костюм и говорил: «Знаешь, приятель, если взглянуть на все с хорошей стороны, то по внешности ты самый что ни на есть факир». А ты, бедный, смотрел на меня своими глазищами, как у бычка, которого привели на заклание, и думать не думал, что я тебе уготовлю такое потрясающее будущее.
Кто тебе дал почитать книги Лобсанги Рампы[1], чтобы ты хоть мало-мальски что-то знал про Индию? Я, твой друг, кто еще!
Кто смолчал, когда ты, не прочитав ни единой страницы, сменил эти книги на пару бутылок дрянного вина?
Кто все это стерпел? Опять же я, твой друг!
Вспомни, кто тебе показал, что исхитряются делать матросы с торговых судов, чтобы жевать стекла до тех пор, пока они не перемелются в белый порошок, и как прячут их под языком. И не я ли раздобыл пузырьки с краской, которые так называемые маги держат в шляпе, когда показывают фокус с сырыми яйцами, а кто, скажи, не пожалел денег на бутылки самого крепкого спирта, что идет на выделку кожи, и все для того, чтобы десны у тебя отвердели как камень и стали совсем сухими? Поройся в памяти, милый, и скажи, не я ли научил тебя просовывать бритвенные лезвия меж зубов, тихонечко, очень медленно, не касаясь десен, чтобы затем, двигая языком, разламывать их пополам. И не забывай, сколько моих денег ухлопано на ампулы для заморозки! Ведь без уколов ты бы и думать не смел о номере, где протыкают руки острыми булавками.
И дело не в том, что я на тебе зарабатывал, имел какие-то деньги, дорогой, мы же, как братья, ну правда! Одного хочу: чтобы ни ты сам, ни кто другой не говорили, что вовсе не я был тебе самым лучшим другом в жизни. Я твой настоящий друг, я тебя вылепил, взял за руку и повел по дорогам таких успехов, что ты пьянел от одних аплодисментов. Значит, мой милый, именно я, сделавший из тебя артиста, и есть твой самый настоящий друг.
Но ты, дорогой, — и уж прости, что говорю это сейчас, при таких страшных обстоятельствах, таких нелепых, — всегда был упрямым, хуже осла.
Сколько раз я тебе говорил: «Компадре, талант талантом, но человеку надо знать, где край». Только говорить с тобой делалось все труднее и труднее, сейчас я понимаю — у тебя от славы крыша поехала.
Ну вспомни, как я бесился, думал — умру от злости, когда ты безо всякой репетиции выходил на арену, да еще поддатый, и не мог сделать ничего путного. А мне — объясняй уважаемой публике, что ты спотыкаешься на ровном месте вовсе не по пьяни, а наоборот — блюдешь пост, как любой уважающий себя факир. И уж грех не вспомнить, чего мне стоило добиться твоего выступления на телевидении, а ты накануне ночью, не сказав ни словечка, отдал в залог шелковую накидку факира в одном из портовых борделей. Пришлось оббежать все публичные дома в порту, чтобы выкупить эту роскошную накидку, в которой ты всегда выходил на арену. И вот так, расспрашивая всех тамошних блядушек, я нашел наконец ее в борделе — она лежала вместо скатерти на засаленном столе. «Да я куплю у вас эту занавеску», — сказал мне их разряженный педик; откуда ему знать, что я двадцать ночей не спал, все пальцы исколол, вышивая знаки зодиака на твоей накидке, в том самом порядке, в каком они указаны в альманахе «Бристоль»[2].
Сколько раз тебе было говорено: «Не ходи пить в цирковом костюме, подумают, что ты полоумный». А ты — ноль внимания, только радовался: меня, мол, принимают за пакистанского посла.
Ох, компадре, компадрито, прости, что повторяюсь, но ты был упрямее осла.
И вот теперь сижу здесь, выкурил чуть не целую пачку сигарет и все думаю, думаю, голову сломал, но не могу представить, где ты взял эту хренову саблю! Если верить нашему карлику, ты, набравшись как следует, сказал: «Пришел час для Али Касама, теперь он сумеет показать такое, чего никто не видывал в этом сраном цирке. Хватит Али Касаму, лучшему факиру на земле, глотать гвозди, он проглотит саблю, всю целиком. Кавалерийскую саблю, без соли и по самую рукоятку!»
Когда мне позвонили, друг, я сидел преспокойно за рюмочкой моего вина, ты-то знаешь, я люблю эти некрепкие вина, от них в душе покой, тишина и никаких скандалов. Наоборот — собираешься с мыслями и придумываешь новые номера, которые приносят бешеные аплодисменты. И сказать по правде, дружище, я как раз обдумывал один потрясающий номер, невиданный-неслыханный, для него надо лишь удвоить дозу заморозки, и все дела, к тому же во мне прибавилось веры в тебя. Я уже готов был совсем довериться тебе, а иначе разве оставил бы тебя без пригляда на трех последних представлениях, но Бог правду видит. А публика, она никогда не любила тебя по-настоящему, ты нет-нет да и схалтуришь в чем-нибудь под занавес.
Когда мне позвонили, дорогой, я помчался сломя голову. Ты же знаешь, я всегда спешил тебе на выручку, только прости, друг, честно говоря, меня смех разобрал, когда увидел, как тебя выносят на носилках: сидишь, скрестив ноги, рот распялен, и оттуда торчит половина сабли.
Нет, когда увидел все это, у меня ноги подкосились, но под конец стало смешно от такого дикого зрелища, хоть глаза у тебя были закрыты и две струйки крови текли изо рта. Мне невольно стало смешно оттого, что санитары скрутили тебе руки, ведь с тебя станет, запросто мог бы вытащить саблю или, наоборот, засунуть ее еще глубже, чтобы доказать свое.
Прости, что говорю все это теперь, но тебя, компадре, как ни бейся, ничто не брало.
Санитар сказал, что саблю вытащили и скоро мне все отдадут. Я спросил, что значит «все», в смысле — саблю? А он в ответ: и саблю и тебя. Как зашьют, так вы и получите вашего покойничка, сказал.
А на улице, дружище, какая-то женщина плачет в голос. Ну почему бы не сказать раньше, что ты женат! Она меня такими проклятьями осыпала. Грозит тюрьмой — мол, я один в ответе, втемяшил тебе в голову черте какую чушь насчет факира. Я всю ее брань проглотил молча, ты меня знаешь. Сказал только: «Я, сеньора, выучил его цирковой профессии, я, между прочим, его менеджер и, главное, его настоящий друг». А она кричит и кричит, что на мне одном вина и ты из-за меня умом сдвинулся.
И вот каково мне тут! Сижу жду, когда тебя вынесут, может, завернутого в накидку, которую я собственноручно вышивал, она, помнишь, сразу принесла нам удачу. А может, завернут в простыни или сунут в пластиковый мешок. Да какая разница! Вот он я, здесь, твой настоящий друг, от тебя ни на шаг до последней минуты, как в лучшие наши времена.
Не знаю, что будет дальше, но главное, чтобы все уверились: я, а не кто-нибудь был тебе настоящим другом, я, не кто-нибудь, научил тебя всем этим трюкам, от которых люди сидели с разинутым ртом, я расшил шелком твою накидку, я покупал тебе талисманы на счастье и сижу теперь рядом с тобой, хоть нас разделяет эта белая стена, я сам заплачу за гроб, свечи и священника, я добьюсь венка от имени синдиката циркачей, я положу все силы, чтобы признали, где надо, что ты погиб в результате несчастного случая на работе, я сегодня объявлю в цирке минуту молчания и помолюсь за упокой Души Али Касама.
Ну вот, открываются двери. Двое парней в белых халатах несут носилки, и я узнаю одну из твоих остроносых туфель.
Санитар спрашивает: «Кто заберет мертвяка?»
«Я, господа!» — отвечаю.
«Вы родственник?» — спрашивает санитар.
«Нет, его лучший друг», — говорю я, потому что так оно и есть.
Роланд-бар[3]
Я ничего не знал о его истории. Просто в один прекрасный день я там родился. Старый порт вылепил мое детство. И сделал это с выражением полного равнодушия на лице.
Хитано Родригес[4]Тусклое зимнее солнце медленно выползало из облаков масляным пятном, когда у причала швартовалось торговое судно и туристы, досадуя, закрывали свои фотокамеры. Тросы перестали надсадно скрипеть, как только докер сделал последний оборот на причальной тумбе.
— Значит, так и было, да?
— Ну вроде так. Давай разопьем еще бутылку?
Панамские моряки хорошо знали дорогу к площади Эчауррен, и хотя никто из них поначалу не собирался в Дом семи зеркал, но каждый, сойдя на сушу, чувствовал, как щекотно покалывает внизу живота.
— Я правильно иду?
— Да, мачо.
Капитан курил на палубе. Слушал рассеянно замечания лоцмана. И зевнув, подписал протянутую ему квитанцию.
— Значит, так и было?
— Думаю, да. Но все же поговори обо мне. Скажи, что понял, что мне больше нечего делать в этом доме. Скажи, что к утру никто уже не усмехался с презрением и в салоне стоял тяжелый запах пота и табака. А проигрыватель крутился себе с противным таким, сверлящим скрипом. Я пытался вспомнить все по порядку, но почувствовал страшную боль в левом глазу, встал на ноги и, шатаясь, кое-как добрался до туалета. И вот, проходя мимо комнаты Розы, успел увидеть ее. Дверь оставили приоткрытой, и первое, что ударило в глаза, — ее потное лицо. Еще я запомнил руку, обхватившую ее спину. Сильная, волосатая — не рука, а здоровенная арка из темных морских водорослей. Потом, стоя перед зеркалом, я увидел свое лицо, все в синяках от ударов. Распухшие губы, спутанные волосы, а на них корки запекшейся крови. И снова понял, что навсегда потерял свое место в этом доме. «Старый, а бьет сильно». Вот что я подумал.
И Альберто был прав. Чернявый бил сильно, он знал все уловки и приемы серьезной драки. У Чернявого за спиной много лет жизни в порту, много лет жизни в тюрьме, где решетка резала на квадраты солнечные лучи, много лет для того, чтобы накопить злобу и заточить лезвие мести.
— В зеркале ты увидел человека, который потерпел поражение, но зато успокоился. Во всяком случае, кое-что и в твою пользу, как-никак узел разрублен, и для вас обоих кончилось это тягостное ожидание. Разве я не прав?
— Да, прав, конечно. Я все думал об этом деле. О деле. Несколько лет назад я брел вечером по берегу возле Кинтеро. И вдруг вижу, как с одного судна сбрасывают мешки в воду. Я дождался, пока стемнеет, разделся и поплыл к этим мешкам. Они были непромокаемые, брезентовые, а внутри сотни пачек американских сигарет. Сказочное богатство, старик, и я-то хорошо знал, кто — хозяин.
В порту нет секретов. Чернявому, само собой, не стоило труда узнать имя вора, он с ним повстречался через пару дней возле бухты Эль-Мембрильо. «Ты, дорогуша, прихватил кое-что мое», — только и успел сказать Чернявый.
Альберто нашелся с ответом быстрее быстрого. Всадил ему нож по самую рукоятку и сразу почувствовал на своей ладони теплую кровь Чернявого, который упал, силясь выговорить какие-то слова.
— К Чернявому приходили в больницу, допрашивали, но он — ни словечка. У него, понимаешь, нашли в кармане пять граммов диосы, самой лучшей, чистенькой, белой, без примеси, и клянусь тебе, парень, что подбросил не я. Кока — это не мое.
— А кто же тогда?
— Поди знай! Небось, эти, из полиции, чтобы сломался и рассказал все начистоту.
— О чем ты думал, когда уходил из этого дома?
— О нем. Ведь он, а не кто другой, занял мое место в постели, завладел запахом Розы, запахом ее простыней. «Ладно, пользуйся, старик, — подумал я. — В конце концов, ты отмотал пять лет на нарах».
— А про немца не думал?
— Нет.
Ганс Шнайдер в двадцать первый раз пересекал Тихий океан на судне, идущем к югу Чили. По своей давней привычке он первым делом приветственно помахал чайкам, которые уселись рядом с желобом из кухни. Немцу полюбился порт Вальпараисо. Каждый раз он говорил, что это его последнее плавание, что ошвартуется здесь навсегда и возьмет в жены одну из девочек Роланд-бара. Но перед самым отплытием судна непременно появлялся на палубе и, махая белой рукой, прощально вбирал глазами холмы Вальпараисо и всех его припортовых кошек.
Когда Чернявый вошел в Роланд-бар, его завсегдатаи уже сидели за столом под большой люстрой, сделанной из штурвала, что был когда-то на S. S. Holmurd. В крови Чернявого снова билась страсть. Оно и понятно! Пять лет тюрьмы — о чем говорить! И все женщины, которых быстро затолкали по комнаткам, сочились горячей влагой, ожидая такого гостя. Но Чернявый искал Розу. Ему нужны были ее груди, упругие, какими он их запомнил, ее полные губы, ее веселье в танцах, ее всегдашняя верность, ему нужна была она, и только она.
Чернявый увидел перед собой целый рой панамских моряков, чье происхождение легко было распознать в танцах под звуки тропической музыки, и скользнул взглядом на каких-то пришлых сутенеров.
— А где же была Роза с немцем?
— В «Герцоге», где еще.
Старый привычный отель. Они поднялись в номер. Женщина молча разделась, и немец, увидев такое знакомое ему тело, ласково притянул ее к себе и неожиданно сказал, что уже поздно, что он совсем устал, что ему просто хочется заснуть рядом с ней.
Женщина все поняла и приклонила к нему голову. От резкого запаха лака его замутило, но он ее обнял, и оба заснули.
Я увидел Чернявого, как только вошел в «Роланд». Он стоял спиной ко мне и беседовал с панамцами. Сразу захотелось уйти, но что-то, что сильнее страха, подсказало: час настал. Нельзя все время ждать развязки. Пошарив в кармане, я ощутил холодок лезвия, и это сразу прибавило мне уверенности. Тут появились Роза и немец. Они шли в обнимку, не замечая ни меня, ни Чернявого. Сели вдвоем в темном углу, где спасательные круги. Чернявый медленно приблизился к их столику. Приблизился и встал перед ними.
«Чернявый, тебя выпустили?» — воскликнула Роза.
Немец засобирался уходить, он знал, что произошло с Чернявым. Но тот удержал его.
«Сидите, приятель. Я знаю, что вы хороший человек».
Они заказали вина и пили, почти не разговаривая. Роза гладила руку Чернявого.
— А ты? Что ты сделал?
— Взял и подошел к их столу. «И я здесь», — только и сказал.
«Сам вижу, — ответил он. — Нам бы пора кое в чем разобраться».
«Давай, разберемся. Но для начала хочу, чтобы ты знал: не я подбросил тебе кокаин. Мне незачем вешать на себя чужих мертвяков».
«Про это я сам знаю».
«Ну и тогда?»
«Времени у нас хватит. Ночь, она длинная. Бывает, длится пять лет».
Альберто сделал шаг назад. Стальной высверк прорезал душный зал, и все окрасилось алым. На заплеванном дощатом полу слышалось прерывистое дыхание Ганса Шнайдера. Нож, блеснувший сталью в ночном баре, угодил ему прямо в грудь и покончил с его странной судьбой в одно мгновенье.
Альберто сжимал в руках наваху. Он глянул на Чернявого с ненавистью и изготовился к новому броску, но поздно. Чернявый молотил кулаками по лицу Альберто так долго, что, когда тот выронил наваху, голова у него гудела страшным гудом и он ждал, что вот-вот его пырнут ножом в спину, в живот, куда угодно.
— Но ничего больше не произошло. Я проснулся в кресле, весь избитый, и не поверил, что жив.
— О чем же ты думал, уходя оттуда?
— О словах «случайное убийство». И одновременно о сроке. «Пять лет, но раз я новичок, то есть у них впервые, скостят, думаю, до трех».
Альберто зашагал к полицейскому участку. По дороге купил газету, сигареты, зубную щетку и, проходя мимо порта, не удивился, увидев целую толпу у грузового судна. В порту нет тайн. Весь Вальпараисо уже знал, что на панамском судне есть вакантное место.
Когда негде выплакаться
Но слабосильны боги мои, и я усомнился.
Антонио Сиснерос[5]Если тебе негде выплакаться, вспомни наш разговор и сходи к Маме Антонии.
Найти ее проще простого: спроси людей в порту, и они безо всякого скажут, как пройти к старинному деревянному особняку.
Тебя скорей всего озадачит портик этого особняка, подумаешь досадливо, что ошибся и перед тобой не иначе как дом архиепископа, но не смущайся — иди вперед и не пялься особо на двуполые лица херувимов, которые украшают стены портика с двух сторон. Позвони в дверь и запомни — звони только один раз. Тебя встретит странное существо, выплывшее из каких-то темных глубин.
Это, разумеется, человек, вернее, полчеловека, такое нечасто увидишь. В припортовых барах рассказывают, что ему трамваем отрезало обе ноги, когда он удирал от ревнивого мужа своей подружки, и что бедняга ползком добрался до Мамы Антонии, чтобы в ее доме найти сочувствие и помощь. Еще говорят, что она не дала умереть истекающему кровью калеке, самолично уплатила за прижигание обрубков, а потом заказала для него деревянную тележку с таким хитрым устройством, что она сама будила его и ловко забрасывала на свой помост, точно тряпичную куклу-страшилку. А впрочем, мало ли что наплетут в припортовых барах, сам знаешь: грузчики, у них язык без костей.
Этот полчеловека вытащит замусоленную тетрадь, запишет в нее твое имя, фамилию, возраст, чем занимаешься, а под конец спросит: отчего, по какой причине хочешь выплакаться. Если станешь путаться в словах или толком не знаешь почему, не тушуйся: там для тебя найдут хороший повод наплакаться вволю, это входит в число услуг, оказываемых домом Мамы Антонии. А станешь ты лить слезы молча или рыдать в голос — это на твое полное усмотрение.
Полчеловека, подпрыгивая на своей тележке, проводит тебя до распахнутой двери. И ты увидишь комнату, где ничего нет, кроме кровати, стула и зеркала.
Станет жутковато наверняка, но доверься, доверься Маме Антонии, вот что важнее всего. Ты захочешь удрать, удрать немедленно, но когда решишься, перед тобой в проеме двери встанет необъятно толстая, огромная женщина, таких размеров, что и не понять, как ей все-таки удалось пролезть в комнату.
Без единого слова, тяжело сопя, она рванется к тебе, повалит на постель, нависнет над тобой и закроет твой рот поцелуем, просовывая язык так глубоко, что он коснется твоих миндалин. И когда ты захрипишь как в удавке, она отвалится в сторону и начнет раздеваться, не сводя с тебя глаз. Не пугайся — эта заплывшая жиром женщина будет смотреть с ненавистью. С такой ненавистью, что станет жадно хватать воздух. Она и есть Мама Антония.
Ты увидишь какое-то скопище живой плоти, вселенную грудей, огромных, как тыквы, с сосками чуть ли не в кулак. Увидишь что-то вроде бочки, из которой растут две ноги непомерной толщины, и меж ними, под нависшими складками жира разглядишь редкие волоски спрятанного лобка.
Еще ты заметишь, что эта желеобразная туша все время колышется, и мелькнет мысль: пырни ее ножом — она растечется зыбким киселем по всей комнате. Мама Антония не произнесет ни единого слова, только застонет, подбираясь к тебе, а потом, взвыв по-волчьи, начнет извиваться в необузданной жажде твоей плоти.
Тут ты сообразишь, что загнан в угол — в комнате их четыре, и неважно, какой ты выберешь, пытаясь спастись. Ты увидишь, как с нее льет пот, услышишь чавкающий слякотный звук, исходящий из-под складок живота, точно там лопаются раздувшиеся жабы, увидишь белые выкаченные глаза, выпавший изо рта язык немыслимой длины, и по скрежету ее зубов поймешь, сколь пронзительны и величественны ее оргазмы, и, глядя, как ее правая рука ходит туда-сюда, теряясь меж ног, убедишься, что она не знает устали.
И тогда вдруг застонешь сам, в испуге от собственного возбуждения. Но не страшись, помни: нет ничего постыдного, когда человек во власти желания.
Ты наспех сорвешь с себя одежду и бросишься на эту темную тушу, задышливо хватая воздух. У тебя возникнет ощущение, будто ты утопаешь в этой жаркой и потной плоти. Ты станешь целовать ее, кусать, стараясь причинить ей боль, ту боль, которая приносит облегчение, станешь бить ее, пытаясь отыскать своим напружиненным членом вожделенную, тайную щель. И ты обманешься, когда твой жезл, тыкаясь куда-то вслепую, изольется, так и не уняв жаркую ярость. Тогда ты со стыда, лишь со стыда захочешь сделать что-то еще, это проклятое что-то еще, и вспомнишь, что у тебя есть язык. Но при первой попытке сунуть его меж огромных ног Мамы Антонии она отбросит тебя в сторону, потому что ты лишь помеха в той надвигающейся лавине наслаждения, которое она творит сама себе.
И тут ты рывком вскочишь, испуганный, с диким отвращением. Посмотришь в зеркало, но не увидишь себя. Там будет только Мама Антония, только она, эта исходящая стонами громадина, которая вот-вот захлебнется собственной слюной.
Ты наспех оденешься, попробуешь открыть дверь, но она будет заперта снаружи, ты закричишь, станешь звать того калеку, сулить ему деньги, наручные часы, да все, что у тебя есть, лишь откройте наконец эту треклятую дверь, но вопли Мамы Антонии заглушат твой голос, и тогда ты, не замечая того, заплачешь и станешь отчаянно колотить и царапать деревянную дверь.
Ты будешь плакать навзрыд, потеряв счет времени. Потом рыдания твои перейдут в тихий плач, почти безмолвный, безропотный. Но когда, совсем обессиленный, ты обернешься, Мама Антония, уже одетая, будет сидеть на постели и смотреть на тебя с искренним сочувствием. Вот тут ты снова заплачешь, и снова со стыда, а она поманит к себе, станет гладить по голове, вытрет тебе сопли, оботрет губы и спросит: полегчало ли чуток или хочешь выплакаться снова. Если рискнешь повторить все сначала, не бойся, так или иначе в этом доме настолько любезны, что перед уходом тебе закапают в оба глаза лимонного сока и приложат кубики льда на распухшие веки.
О том, что я потерял однажды в поезде
Детские годы — богатство писателя.
Грэм ГринЭто место казалось мне краем света, и отчасти так оно и было, по крайней мере для нашего поезда. Там, где неожиданно обрывались железнодорожные пути, вставал заслон, или, как говорят, тупик, из промасленных шпал, которые облюбовали доживавшие свой век чайки; их не занимала суета пассажиров, они смотрели на все невозмутимым взглядом, ублажая свою тусклую старость остатками еды из вагона-ресторана, и, быть может — так мне казалось, — о чем-то думали.
Впрочем, я не был твердо уверен, что чайки умеют думать. Но сам я — умел, и мысли мои кружились вихрем, быстро сменяя друг друга.
Мне, к примеру, вдруг представилось, что машинист взял и уснул. И закрыв глаза, я видел, как поезд проскакивает вперед, волоча за собой сломанные шпалы тупика под жалобный скрип старых досок и разбитых болтов, под всполошенные крики чаек. Я видел, как этот поезд срывается в море, погружаясь в бездну все глубже и глубже, словно какое-то ослабевшее и бездумное животное, чтобы продолжить свой путь мимо проступавших сквозь тьму подводных красот.
В ту пору я мало что знал об устройстве мира. И все мои знания состояли из каких-то разрозненных отрывков. Я знал, что там, за стеной старых шпал, глазам открывается пролив Чакао, а дальше будет остров Чилоэ[6] и начинается архипелаг, где сотни, нет — тысячи островов, узкие протоки среди свирепых каменных клыков, утесы, скалы, острова, еще острова, и все они зеленой россыпью разметаны по воде до самого края планеты.
А еще я знал, что к западу тянется континент, прорезанный невысокими горами, снежными вершинами и фьордами; по вскрытым во льду ранам суровыми патагонскими зимами плывут корабли-призраки: галеоны колониальных времен или высокие, как церковные соборы, трансатлантические пароходы с командой потерявших память людей, не ведающих, что они вечные скитальцы, схваченные в кольцо полярного плена.
Еще я знал, что на континенте почти нет дорог. И те немногие, что есть, бывают проезжими лишь в короткое летнее время, а большую часть года захлестываются внезапными яростными потоками воды или перекрываются заледеневшими в воздухе водопадами.
Но все это я знал по слухам, по рассказам, и страстно мечтал об этом мире, лежащем за пределами края света, за грязными шпалами, что обрывают железнодорожные пути.
Отец пообещал, что однажды, в хорошую погоду мы наймем парусник и попросим хозяина-чилоте[7]провести нас по каналам, где настоящее царство дельфинов и где затейливо играют брачные пары китов-кальдеронов[8]. А мне стоило только услышать удивительные названия тех мест, куда мы поплывем, как уже в голове все рисовалось: залив Корковадо, бухта Десесперасьон, залив Де-Пенас[9], фьорд Последняя Надежда, пролив Дрейка[10]. Безлюдные территории, населенные лишь фантасмагорическими плясками полярных утренних зорь.
Но как дождаться этого мечтанного путешествия? Мне только-только исполнилось четырнадцать лет, и для отца я все еще был мальчишкой.
— Когда же мы поплывем? — спросил я однажды.
Отец сказал, года через два, и по-прежнему дразнил мое воображение рассказами о чудесах этого мира, созданного лишь для отчаянных любителей приключений. Обо всем этом я думал, сидя на чемодане. И смотрел на тупик, на чаек, на людей и на моего отца, который шел в сторону привокзального киоска, чтобы купить сигарет и, наверно, пару журнальчиков с приключениями моих любимых героев.
Я увидел, как он, остановившись, заговорил с одним из железнодорожных рабочих. Здесь почти все знали моего отца и относились к нему с большим уважением. Он много лет подряд ездил из Сантьяго в Пуэрто-Монт[11]. И вот уже пятый раз брал меня с собой.
Все тысяча восемьдесят километров пути от Сантьяго до Пуэрто-Монт мы ехали нигде не останавливаясь. По приезде снимали обычно комнату в пансионате у югославских переселенцев и на другой день переплывали через пролив Чакао на пароме. В Анкуде[12] нас поджидала большая лодка, на ней мы и добирались до островов, где закупали самых отборных моллюсков. Там отец имел дела с басками, разводившими морских улиток на продажу. Торговцы пересыпали свою речь бранными словечками, а заодно почем зря ругали правительство.
Мне нравилось смотреть, как баски выставляют свои богатства, как тянут из моря сплетенные косой веревки и водоросли. К этим веревкам прилеплялись съедобные моллюски — локос, чолгас и странные, похожие по форме на сапожок, чорос, а еще мехильонес с вкусной розоватой мякотью и величиной с мужской башмак Сделку, как всегда, заключали, выпив рюмочку-другую легкого вина — чаколи, и это вернее любой подписи служило залогом, что мой отец получит все обговоренное количество морских деликатесов для своего ресторана в Сантьяго.
На обратном пути мы останавливались в разных городах, и каждый славился своими кулинарными и винными секретами. В Чильяне[13] нас поджидали виноделы, выходцы из Галисии, с крепкой настойкой из выжимок винограда, с лонганисой и домашними колбасками — чорисо — с перцем и чесноком. В Консепсьоне[14] — хозяева винных лавок, где всегда было терпкое бочковое вино. В Линаресе[15] или в Сан-Хавьере — отличные мусты с монастырских виноградников или чича, еще не вино, но градуса хватает. В Тальке[16] — молодые индюшки в глиняных кастрюлях или откормленные зерном перепелки.
Я глядел, как все ладно выходит у отца. Мы с ним по-настоящему дружили, а это больше чем отец и сын. Я любил смотреть, как он пробовал вино, закрывая глаза, словно хотел унести его тайну в самый дальний закуток рта. С задумчивым видом отец сплевывал вино, и хватало одобрительного кивка его головы для новой сделки, которая завершалась крепким рукопожатием. «Смотри-ка, земля глотает хорошее вино, не оставляя поверху кружочка. Придет время пробовать вино и тебе, если, конечно, захочешь продолжить мое дело».
Искренний и раскатистый смех отца прервал мои мысли. Какой-то незнакомый человек радостно поздоровался с ним. Отец сделал мне знак, и я подошел к ним.
— Мы с этим кабальеро потолкуем недолго в баре насчет винца. А ты вот возьми, — сказал отец, протягивая мне два журнальчика с комиксами.
Я вернулся к чемоданам и без особой охоты стал листать страницы. Нет, он молодец, выбрал самое оно. В одном — приключения капитана Брика Брэдфорда[17], а в другом — о Черных ястребах[18]. Но я-то любил читать в поезде, под стук колес и чтоб под рукой — жареные орешки.
Поезд медленно подъезжал к перрону. Он двигался задом, и последний вагон чуть не уперся в тупик. Когда рабочий, стоявший на ступеньках последнего вагона, поднял руку в перчатке, состав остановился. Как только открылись двери, первые пассажиры стали подниматься в вагоны.
У нас были билеты с указанными местами, до отхода поезда оставалось целых полчаса, так что я продолжал листать журналы, где рассказывалось о капитане Брике Брэдфорде, который отправился в путешествие на волчке времени, рядом с ним, конечно, его подруга Далия и несравненный доктор Жарков, ученый, всегда находивший самое верное решение.
Я и не заметил этих двух человек на перроне, пока они чуть ли не нависли надо мной. Тот, кто казался постарше, первым ступил на подножку вагона, и пока он поднимался, я успел заметить, что его левая рука тянется к перрону так, словно ему неохота подниматься. И вдруг сильный рывок, от которого рука эта замерла точно парализованная. Оказалось, что эти двое были скованы цепью, и второй, что помоложе, с силой уперся в перрон, несмотря на вздернутую кверху правую руку.
— Ну-ка, кончай дурить. Давай подымайся, — крикнул тот, кто был наверху.
— Мне надо в уборную. Я по-быстрому, — ответил молодой.
— Поговори у меня! В вагоне сходишь, — разозлился первый.
— До отхода поезда в туалет — нельзя, — сказал на это молодой.
Тот, сверху, оборвал спор, дернув цепь с такой силой, что второй зашатался. Однако каким-то чудом сумел устоять на ногах и, прежде чем подняться в вагон, пристально глянул на меня. Даже улыбнулся мне, пренебрежительно пожав плечами.
До меня наконец дошло: один — полицейский, конвоир, другой — арестант. Полицейских я видел сколько хочешь. А вот арестанта — впервые в жизни.
Поджидая отца, я все время думал об арестанте. И мне пало в голову, что он хороший. Не знаю почему, но я вообразил, что он хороший и без вины арестован. Ну разве что контрабандист? Я много раз слышал от жителей островов это слово, оно казалось мне магическим. Слово это звучало, когда речь шла о таинственных мешках с товаром, сброшенных с судов, дрейфующих без огней и флагов, и потом под покровом ночи и тумана эти непромокаемые мешки втаскивали на лодки.
«Их всего трое. Ты бы видел! Двое налегают на весла, отбивая волну, а третий изо всех сил откачивает воду помпой, потому что лодку при каждом ударе в борт все дальше и дальше относит в сторону. Волны не дают приблизиться к мешку, и они уже рядом с кольцом рифов. Ты бы видел! Мы — орать: «Вы что, спятили? Разобьетесь о скалы!» А они — без внимания, гребут и гребут. И вдруг тот, кто откачивал воду, бросился в приливные волны и поплыл что тебе дельфин. На раз — вдох, на два, три, четыре — взмах рукой, и снова вдох. Вот так доплыл до мешка и приволок его на борт. Ты бы видел! Рисковые ребята! Им все нипочем! А потом ушли в море, в темень, и с концами!»
О контрабандистах всегда говорили уважительно. Уважительно и, похоже, с чувством восхищения и зависти.
Быть может, арестант был из таких контрабандистов, только не успел скрыться в морской тьме. А вдруг он разбойник? В те времена, особенно на юге Чили, все еще ходили разговоры о благородных разбойниках.
Бывало, страшные ливни заставляли нас искать прибежища у островитян, и я зачарованно слушал истории о людях в длинных пончо из самой лучшей шерсти; они пробирались верхом по каменистым склонам андских предгорий, за отворотом сапога у них был обрез — «эль чоко», и всадники эти перегоняли краденный в Аргентине скот по тайным тропам, о которых никто, кроме них, не знал. Угонщики скота щедро платили за ночлег и за любые сведения о карабинерах, охранявших границу. Когда вроде бы неведомо от кого младенец получал при крещении в подарок породистую коровку, все кругом знали, что крестный — из угонщиков, из бандитов. И все говорили о них благоговейно, ожидая их появления как праздника.
А вдруг молодой человек, скованный цепью, один из этих угонщиков?
Я не заметил прихода отца, пока не почувствовал, что он ерошит мои волосы.
— Мы зачитались?
— Нет, я думал.
— Это утомляет. Я лично знаю людей, у которых мозги от думанья распухли. Пора в вагон. До отхода несколько минут.
Поднявшись, мы быстро нашли свои места, и я вздрогнул, увидев, что напротив нас сидят те двое. Отец, похоже, выпил лишнего за беседой в баре. Едва сев, он скрестил ноги и надвинул поля шляпы на глаза.
Арестант снова мне улыбнулся. Но заметив, что я раскрыл рот, собираясь с ним заговорить, кивнул в сторону отца, который блаженно посапывал. И приложил палец свободной руки к губам, мол, сиди тихо. Конвоир читал газету. Он держал сложенную пополам газету в правой руке, меж тем левая лежала на сиденье. Цепь, сковавшая этих двух людей, поблескивала точно кожа змеи.
Поезд уже набрал скорость, а мой отец вдруг расхотел спать. Он снял шляпу, положил ее на металлическую решетку и, нашарив в кармане сигареты, внимательно взглянул на наших соседей. Ему сразу стало ясно, кто есть кто, и он успокоительно подмигнул мне.
— А наши спутники тоже курят? — спросил отец, протягивая им пачку сигарет.
Тот, кто читал газету, бросил коротко: «Нет, спасибо», — и даже не поднял головы. Меж тем арестант протянул левую руку, вынул из пачки одну сигарету, постучал ей о сиденье, поднес к губам и, подняв правую руку вместе с цепью, дал понять, что ему самому не справиться. Отец чиркнул спичкой и наклонился к молодому человеку, чтобы тот прикурил из его ладоней, сложенных лодочкой. Арестант сладостно затянулся. Выпустил две густых струи дыма через нос и сказал:
— Большое вам спасибо, дон. Знали бы вы, как я измаялся!
Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил так медленно, а он вроде бы через силу выволакивал из своего глубокого нутра к губам каждое слово.
— Да не за что. Табачок и вино делить заведено, — улыбнулся мой отец.
Они курили молча, а полицейский по-прежнему сидел, уткнувшись в газету. Я открыл комикс про Черных ястребов, но никак не мог сосредоточиться.
Не мог.
Передо мной сидел человек, и я воображал его в маленькой лодчонке, он гребет себе в полной темноте, не страшась ни разъяренного моря, ни пронзительного шепота морских ведьм. Эти ведьмы не спускают глаз с заколдованного судна «Калеуче»[19], чтобы на его борт не забрался какой-нибудь сердобольный пловец и не снял со всей команды призрачного парусника страшного проклятья — вечно скитаться по каналам, не зная радости и свободы морских просторов. Или представлял, что он, этот арестант, скачет по крутым склонам гор на коне, у которого копыта обмотаны тряпьем, чтобы не оставлять следов. Это было куда интереснее и увлекательнее рассказа о летчиках в нацистской форме. А помимо всего я чутьем понимал, что этот молодой человек в душе смеется над полицейским. Он его презирал, презирал яснее ясного, вел игру, выжидая случая, чтобы сбежать. Я не сомневался, что у него есть верные товарищи. Еще бы не быть! Да, именно верные. Они, узнав о его аресте — кто-то, наверное, на него донес, — спустились с гор, переодевшись в крестьянское платье, и в любую минуту могут ворваться в поезд и освободить его. А потом непременно расквитаются с доносчиком…
Меня будто что толкнуло, и я невольно взглянул на него, а он снова дружески улыбнулся и заговорил странно замедленным, но в то же время твердым голосом.
— А сколько вам лет, землячок?
— Че-четырнадцать, — услышал я свой срывающийся на писк смущенный лепет.
— Надо же, а с виду — постарше. Готов поклясться, что вы умеете хорошо ездить верхом.
Прежде чем ответить, я глянул на отца и по его кивку понял, что он не против. Мне хотелось поговорить с ним, сказать, что я и вправду умею ездить верхом, что могу это делать даже без седла на моем Флоридоре, он, конечно, уже староват, но хороший, мне его подарили на день рождения в десять лет и за ним ухаживали наши родственники в Темуко. Однако я не успел раскрыть и рта, как конвоир меня опередил, так что разговора не получилось.
— Видите ли, сеньор, чтобы не возникли какие-либо недоразумения, должен вас предупредить, что этот человек — арестант и я несу за него ответственность. Все контакты с ним запрещены, значит, ему не положено общаться вплоть до решения суда. Договорились?
Мой отец лишь пожал плечами, и арестант одарил меня самой дружеской улыбкой, двойной смысл которой я понял сразу: дружеская она для меня, а к полицейскому — полная презрения.
Дальше мы ехали молча. Экспресс Пуэрто-Монт — Сантьяго не останавливался на маленьких станциях. Он пролетал мимо, приветствуя местных торговок, одетых во все белое, пронзительным и долгим свистком.
Когда поезд отмахал километров сто, арестант обратился к полицейскому.
— Мне надо в уборную.
— Сначала пойду я.
Полицейский, вынув из жилета ключ, отомкнул свой конец цепи и освободил руку. Затем велел арестанту встать и прикрепил цепь к металлической решетке. И покачиваясь от быстрого хода поезда, двинулся вперед к туалету. Арестант попытался сесть с вздернутой к решетке рукой, но ему не удалось. Я увидел, как он от унижения стиснул кулак. И отец наверняка это увидел, потому что тотчас встал и сунул ему в карман пачку сигарет.
— Спасибо, дон. Такое в жизни не забывается.
— А я ничего не видел. Пусть меня обыскивают, — сказал отец и, взяв шляпу, надвинул ее на глаза.
Вскоре полицейский вернулся. Натянув цепь, он повел арестанта к дверям туалета.
Я тронул отца за руку.
— Не волнуйся.
— А этот человек, ты думаешь, что…
— Не волнуйся. Жизнь по-всякому вертит.
— Но… тот, другой…
— Не волнуйся. У каждого своя голова на плечах.
Вечерний сумрак постепенно заволакивал поезд, и в вагонах зажгли свет. Человек в форме проследовал валкой походкой, записывая тех, кто желал заказать столик в вагоне-ресторане. Мы — нет. Через пару часов нам выходить в Чильяне, где у нас на ужин, как всегда, будет всякая всячина. А полицейский сказал, что им надо поужинать незамедлительно.
Места напротив нас опустели. Отец мой безмятежно дремал, и меня одолевал сонный дурман от мерного покачивания вагона. Но какое там спать, если друзья этого арестанта могут остановить поезд на любом повороте. Как они это сделают? Ограбят пассажиров? Нас-то нет! Арестованный скажет, что нам можно довериться, покажет сигареты, которые дал отец. Нет! Да и зачем им грабить пассажиров! «Бандиты — это последние достойные кабальеро в Чили, но они прячутся в горах», — услышал я как-то от одного островитянина. Какие они из себя, его товарищи? Такие же, как он? А он, надо же, ко мне на вы, с уважением, как ко взрослому, и вдобавок называет земляком. И с первого взгляда понял, что я хороший наездник, хотя, по правде, я ездил только на Флоридоре, на этом остаревшем коне, благородном, безо всякой придури, но уже с ленцой. Я на нем скакал даже без потника, на чилийский манер, как научили родственники в Темуко. Не наваливаясь на шею, вроде этих придурков, англичан, а выпрямив спину струной, чтобы ветер бил в грудь. И надо же, этот арестант, едва глянул на меня, сразу все понял. Да-да. Он, думать нечего, из тех смельчаков, которые на коне пересекают Анды по тайным тропам, и у них у всех пончо из отличной шерсти, а за отворотом сапога — обрез. Все его товарищи наверняка тоже не знают страха, все они отважнее и капитана Брика Брэдфорда и этих Черных ястребов, и Сандокана — Малайского Тигра[20], и Койоте[21], — словом, всех, кто в ту пору был для меня образцом отваги. Друзья арестанта, они, конечно, такие же смелые и неустрашимые, как легендарные братья Нейра, как соратники геррильеро Мануэля Родригеса[22]. Этих братьев Нейра всего пятеро, а вот сумели нагнать страху на испанские войска капитана Сан Бруно[23]. На каком же повороте смельчаки поджидают поезд? Может, они уже повалили толстенный ствол дерева поперек рельсов? Они, конечно, приведут и коня, с которым арестант не расставался, небось, скакун черный как смоль, горячий и молодой, никого не подпустит, кроме своего хозяина. А вдруг этот человек возьмет меня с собой? Вдруг спросит, готов ли я отправиться с ним в горы, туда, где живут кондоры? Как воспримут это отец, мать, братья?
— Земляк, возьми-ка журнальчик, он у тебя упал.
Смутившись, я взял журнал с комиксами и сделал вид, что сплю, но на самом деле не переставал следить за ним краем глаза. Время шло, летели километры. Его друзья, видимо, еще не выбрали самого надежного места для нападения, но арестант казался совершенно спокойным. Он-то верил в своих людей. Знал, небось, что они выжидают, пока совсем стемнеет.
Почти все пассажиры спали. Полицейский, сильно дернув цепь, вытянул ноги и закрыл лицо газетой. Наконец-то мы с арестованным могли смотреть друг на друга без опаски.
Дружелюбная улыбка не сходила с лица молодого человека, но что-то в этой улыбке было обидное для меня. Мне хотелось сказать ему, что я с ним заодно. И что когда друзья освободят его, пусть, ради бога, возьмет меня туда, в свой безлюдный мир, где снег и ветры, чтобы я скакал на коне, не таком послушном и мирном, как Флоридор, чтобы у меня было седло, как у взрослых, и еще кожаные чирипас и чтобы я научился сыпать сочными и непечатными словечками. Мне хотелось рассказать ему, что я с ненавистью смотрю на свое будущее, которое меня давно поджидает. Что я старший сын в семье, и мой отец под старость, нет сомненья, запишет ресторан на мое имя, то есть сделает то самое, что и его собственный отец. Я бы взмолился, чтобы этот человек спас меня от неотвратимого будущего, которое подступало ко мне совсем близко, когда отец или кто из родственников лезли с постоянным вопросом — собираюсь ли я в школу гостиничной службы. Нет, он должен взять меня с собой, и тогда я пойму настоящий смысл этого праздника свободы, которой мы отмечаем ежегодно в сентябре[24]. Да. Он должен взять меня с собой. Я хорошо езжу верхом и всегда буду ему верен там, в его краях среди гор.
Арестант тоже следил за мной и так явно, что я невольно опустил голову, а то бы не удержать слез. И вот тут я увидел серебряную ручку столового ножа, которая высовывалась из-под манжеты брюк. Наверно, у меня глаза сделались совсем круглыми, и он сразу все понял, взгляд его мгновенно переменился, сверкнул холодно, как ручка того ножа. Арестант осторожно дотянулся свободной рукой до щиколотки, взял нож согнутой ладонью, очень медленно поднял его и тотчас сунул в карман пиджака. Не сводя с меня глаз, арестант растянул губы. Я в ответ согласно кивнул головой, и он снова заулыбался. Понял, что не выдам. Теперь мы двое знали тайну, и даже если его друзья не поспеют к сроку, мы сумеем обставить полицию и сбежим в горы. Я весь взмок от счастья, сердце у меня колотилось так сильно, что я испугался, как бы не услыхали.
— Следующая станция Чильян. Поезд стоит пять минут, — объявил проводник, и у меня захолонуло внутри: все рухнуло разом.
Нет. Как же так? Ведь еще бы чуть — и мы оба на свободе. А теперь что с ним станет без моей помощи? Он выжидал, пока полицейский заснет глубоким сном, чтобы пырнуть его ножом в горло, а я бы тем временем вытащил у полицейского ключ и отомкнул наручники. Ну как же так?
— Чильян. Просыпайся, нам выходить.
Это был не я, кто, еле передвигая ноги, шел к двери вагона. Нет, это не я в каком-то сонном забытьи спускался с подножки на перрон. Это был какой-то чужак, засевший в моем теле. А я по-прежнему сидел напротив арестанта, сгорая со стыда от полного бессилия и невозможности отстоять свои мечты.
На перроне нас встречала шумная толпа отцовских приятелей. Все подряд его обнимали. Обнимали и меня, ахая, как я вырос с последнего приезда, сыпали вопросами о школе, о матери, о сестрах, братьях, завел ли я себе подружку, почитаю ли им стихи наизусть. А я их не слышал и не видел, я был не с ними. Всем своим существом и своими мыслями я по-прежнему оставался в поезде, который уже отходил, сначала медленно, а потом, за какие-то секунды, стремительно набрал скорость, и мимо меня — я видел — промелькнул арестованный человек, всадник с Кордильер, человек с ножом, который только и ждал подходящего момента. Я видел, какое у него нахмуренное лицо и растерянная улыбка, словно он хочет сказать: «Выходит, зря я вам доверился, землячок. А ведь думал отдать вам на время моего черного скакуна!»
За ужином в доме у наших друзей, где, как всегда, стол ломился, я не притронулся ни к чему, сидел молча и на все вопросы отвечал односложно. И только когда отказался от моего любимого молочного желе, все сидящие за столом озабоченно обернулись ко мне. И один из них, приложив руку к моему лбу, объявил, что у меня, похоже, жар. Отец прошел со мной в спальню. Расстелил постель и стянул с меня сапоги.
— Тебе надо выспаться, и все пройдет. А я посижу с друзьями за столом. Если что — зови немедленно.
Прежде чем уйти, он наклонился ко мне, чтобы как всегда ласково потрепать мои волосы. Я воспротивился, резко отвернувшись к стене.
— Мы вроде сердимся? Что с тобой? Честное слово, не пойму, в чем дело.
А мне так и хотелось сказать, что я его ненавижу, что только по его вине я не сумел помочь человеку, что из-за него не смог убежать в Кордильеры с друзьями этого человека, что из-за него никогда не увижу тех вольных мест, которые доступны только смельчакам, что по его вине… Чем больше накапливалось у меня доводов, тем стремительнее они смешивались с накипавшими слезами, пока все не кончилось истерикой.
Отец меня обнял, и вот от такой близкой близости всего, что я в нем так любил, — этого запаха табака и английского лосьона, этого «Ну будет, сынок, что такое? Мы друзья или нет?» — мои рыданья вдруг обернулись предательством.
— Тот человек в поезде. У него нож.
— Ты уверен?
— Я сам видел.
Отец, прежде чем заговорить, резко поднял мою голову и испытующе посмотрел мне в самые глаза. А потом лицо его сделалось незнакомо озабоченным, и он начал объяснять, что мы невольно попали в сложную ситуацию и что, хоть ему это не по нутру, он обязан уведомить полицию. Я ничего не ответил. Уткнул лицо в подушку и, чувствуя, что вот-вот снова разрыдаюсь, услышал, как он идет вниз по лестнице.
Не знаю, как долго я тыкался мокрым носом в подушку. Не знаю, сколько прошло времени, пока вернулся отец. Помню лишь, что он закурил сигарету и погладил меня по голове.
— Послушай, знаешь, что мы с тобой завтра сделаем? — начал он.
— Поедем обратно в Пуэрто-Монт, переберемся на пароме в Анкуд, наймем парусник и всю неделю будем плавать по каналам. Я только что предупредил маму. Хорошо?
Мы крепко обнялись, и чем сильнее я к нему прижимался, тем пронзительнее чувствовал, что вот это наше объятие — знак самого грустного расставанья. У меня горели глаза, в горле все пересохло, и тут из какого-то дальнего уголка Кордильер до моего слуха донесся отзвук пустившихся вскачь коней, дробивших камни копытами, коней разъяренных, стремительных, которые сквозь пыльную завесу ветров неслись куда-то безвозвратно от меня и от моей мечты.
В другом направлении
Во вторник, 17 мая 1980 года, поезд отправился от вокзальной платформы по своему обычному направлению: Антофагаста — Оруро[25]. В экспрессе был один почтовый вагон, два товарных и два пассажирских, первого и второго класса, как положено.
Пассажиров набралось совсем немного, и большинство из них сошли в Калама, что на полпути до еще далекой границы с Боливией. А те, кто остались — четверо в вагоне первого класса и восемь во втором, — уже вытянулись на полках, сонно позевывая и слушая, как их приятно укачивает поезд, который медленно и трудно преодолевал высоту в три тысячи с лишним метров, чтобы взобраться к подножью вулкана Ольягуэ и к одноименному городку.
Именно там пассажиров, которые ехали до Оруро, ждала пересадка на боливийский поезд, а экспресс Антофагаста — Оруро, пройдя еще сотню километров по чилийской земле, останавливался в конечном пункте своего маршрута — чилийском местечке Ухине. Почему экспресс назывался Антофагаста — Оруро, а не Антофагаста — Ухина, этого никто никогда не понимал, и так остается по сей день.
Виды в окне навевали скуку. Жизнь в селитряной пампе давно умерла, и поселки, брошенные не только шахтерами, но даже их призраками, ничем не привлекали взгляда. Ленивые гуанако, томясь скукой, изредка глядели вслед поезду с застывшей тупостью в глазах. Не зря говорят: увидел одного, и хватит.
Словом, ничего не оставалось, кроме как хорошенько отоспаться, раз все бутылки уже порожние, или завязать беседу.
В вагоне первого класса ехали молодожены, решившие познакомиться с Боливией и увидеть сокровища Тиауанако[26], в том же вагоне сидели торговец фасолью, у которого в Оруро были какие-то дела, и ученик парикмахера, выигравший билет туда и обратно до самой Ухины в радиоконкурсе. Будущий мастер парикмахерского дела отправился в поездку без особой уверенности в том, что это самое достойное вознаграждение за его двадцать ответов на вопросы конкурса по теме «Кино и ты».
В вагоне второго класса пытался заснуть боксер второго полусреднего веса, который через три дня должен был встретиться на ринге с победителем в чемпионате amateur[27] Боливии в той же категории, а также его менеджер, его массажист и пять сестричек милосердия. Монашки, само собой, не принадлежали к спортивной делегации, они собирались выйти в Ольягуэ[28], чтобы там в затворничестве предаться духовным упражнениям.
В составе, который попеременно вели машинист и помощник машиниста, были еще проводник почтового вагона и контролер.
Дизельный тепловоз легко тянул за собой вагоны. С момента отправления из Антофагасты прошло ни много ни мало восемнадцать часов, и поезд уже огибал первые горы, сторожившие вулкан Сан-Педро, подымавшийся на шесть тысяч метров в высоту. Через пять часов они прибудут в Ольягуэ, и как всегда, с колокольни снимутся встревоженные летучие мыши.
Внезапно машинист увидел возникшую перед тепловозом стену густого тумана, однако не придал этому особого значения. Здесь густой туман — привычное дело, но на всякий случай он сбавил скорость. Рядом с ним дремал его напарник. Он тотчас ощутил маневр машиниста и открыл глаза.
— Что там? Снова эти чертовы гуанако?
— Туман. Очень густой.
— Подумаешь, новость!
Тепловоз легко, точно метательное копье, вошел в стену тумана, но машинист сразу отметил нечто странное. Луч прожектора не пробивал этот туман. Он словно уперся в серую сырую стену размытым белесым кругом. И машинист не задумываясь, инстинктивно снизил скорость до минимума. Его товарищ снова открыл глаза.
— Ну что такое?
— Туман, сплошняком! Ничего не видно. В жизни не встречал такого тумана.
— И правда. Давай останавливай машину.
Так они и сделали. Поезд продвинулся на какие-то сантиметры и застыл в полной неподвижности.
Машинист открыл окошко и, высунув голову, попытался разглядеть, куда падает луч прожектора, однако не увидел мощного снопа света. На самом деле он вообще ничего не увидел и с тревогой повернулся к напарнику. Глянув вперед, он даже не увидел светившегося прожектора.
— Е-мое! У нас лампа перегорела.
— Мать ее за ногу! Пошли поменяем.
С новой лампой и ящиком для инструментов оба машиниста осторожно выбрались на мостик тепловоза. В руках у них были зажженные фонарики. Тот, кто первым вышел из будки, сделал два шага и остановился, решив, что фонарик сломан, но, подняв его кверху, увидел, что он горит. Свет просто не проходил сквозь туман и едва был виден в каких-то миллиметрах от стекла.
— Свояк, ты где?
— Да здесь, за тобой.
— Меня дрожь берет, дай-ка руку.
Они продвигались к прожектору в сплошной мгле, взявшись за руки и прижимаясь к ограждению мостика. Прожектор был в полной исправности. Как только один из машинистов поднес руку к стеклу, мощный луч света сделал ее прозрачной, однако не проник в туман ни на сантиметр.
— Пошли назад. Делать нечего, надо переждать.
Вернувшись в кабину, помощник машиниста нажал на кнопки радио, чтобы сообщить о непредвиденной остановке и о том, что они скорее всего придут с опозданием в Ольягуэ.
— Ни хрена себе! Это уж совсем!
— Теперь чего?
— Радио. Гикнулось. Не работает.
— Что за черт! Только этого не хватало. Что делать-то?
— Ждать. Набраться терпения и ждать.
Время потянулось медленно, как бывает, когда томишься ожиданием, не зная, что впереди. Часы пробили четыре утра, потом шесть, наконец, семь, состав по расписанию должен был уже прибыть в Ольягуэ. Прошло двадцать четыре часа, как поезд отошел от платформы вокзала Антофагасты. Туман не рассеивался. Он был настолько плотным, что сквозь него не мог прорваться даже режущий глаза утренний свет в Андах.
— Надо поговорить с пассажирами.
— Ну да, ну да. Только пошли вдвоем.
Взявшись за руки, машинисты спустились из будки тепловоза и, прижимаясь к составу, добрались до почтового вагона. Проводник обрадовался, услышав их голоса, и все трое двинулись к вагону первого класса.
Кое-как поднялись в вагон. Контролер, который, уже срываясь на крик, объяснялся с торговцем фасолью, при виде их облегченно вздохнул.
— До каких пор мы будем стоять? У меня срочные дела в Оруро, — сердился торговец.
— А вы хоть глянули в окно? Видели, какой туман? — спросил помощник машиниста.
— Ну и что? Рельсы-то никуда не исчезли.
— Ну, будьте благоразумным. Машинисты знают что делают, — вмешалась в разговор та, что недавно вышла замуж.
— Слушай, друг, сходи за пассажирами из второго. Пусть лучше сидят все вместе.
Помощник машиниста перешел в другой вагон, и первыми, кто появился за ним, когда он вернулся, были боксер с массажистом и менеджером. Однако боксер придержал за собой дверь, чтобы могли войти монашки.
После недолгих споров, в ходе которых выяснилось, что из всех пассажиров лишь молодожены и ученик парикмахера способны сохранять выдержку, было принято решение насчет дальнейших действий.
По расчетам машинистов, они находились поблизости от вулкана Сан-Педро, на перегоне, где много крутых поворотов, и при таком тумане продолжать движение более чем рискованно, но может статься, туман завис пластом только здесь, и, глядишь, за первым поворотом ничего нет. Если это так, они снова поведут поезд. Но сначала надо разведать обстановку, а для этого кто-то из пассажиров должен добровольно пойти с одним из машинистов вперед, по путям. Боксер тотчас вызвался, сказав, что ему самое время поразмяться.
Чтобы не держаться друг за друга, боксер и машинист связались веревкой, как альпинисты, и собрались в путь. Они не успели сделать и первого шага, как пассажиры, столпившиеся в дверях вагона, потеряли их из виду. Но они отсутствовали недолго. Машинист потащил боксера, который ничего не мог понять, обратно, и оба они снова возникли у вагона.
— Мы на мосту, — сказал помощник машиниста.
— Что-о? На маршруте нет никаких мостов! — воскликнул машинист.
— Я знаю это не хуже тебя. Но сейчас мы на мосту. Пойдем со мной.
Они оставили боксера и связались веревкой.
И сразу же исчезли в тумане. Пронизывающая сырость мешала дышать.
— Иди по шпалам. Два шага вперед. Теперь попробуй поставь ногу между шпалами.
Машинист чуть было не потерял равновесие. Нога, ушедшая в туман, не почувствовала никакого сопротивления.
— Мать твою! Точно. Где это мы?
— У тебя есть что-нибудь тяжелое? Надо бы узнать, внизу вода или что?
— Понял. Я брошу свой фонарь.
Они старались не дышать как можно дольше, но не услышали всплеска воды.
— Выходит, это высоко. Где же мы?
Когда оба вернулись в вагон, пассажиры, увидев их растерянные лица, разом онемели от страха.
Монашки распределяли остатки кофе, который у них был в термосах, торговец фасолью перелистывал свой блокнот с деловыми записями, молодожены крепко держались за руки, боксер взволнованно ходил взад-вперед по вагону, а менеджер играл в шашки с массажистом. И тут ученик парикмахера опасливо вытащил из своей сумки транзистор.
— Хорошая мысль! Может, услышим сводку погоды. Уже семь утра, и сейчас передают новости, — воскликнул помощник машиниста.
Все столпились вокруг молодого человека и, застыв, стали слушать новости, сначала не желая верить, потом со страхом и под конец со смирением перед очевидностью.
Диктор говорил о крушении на железной дороге, случившемся минувшей ночью поблизости от вулкана Сан-Педро. Состав, видимо из-за неисправности системы тормозов, сошел с рельс и упал в пропасть. Из тех, кто находился в поезде, не уцелел никто. Среди пассажиров был выдающийся спортсмен…
Люди в вагоне безмолвно смотрели друг на друга. Никто уже не сможет осуществить свои замыслы, никто не попадет вовремя в назначенное место. Внимая другому зову, который чужд ходу времени, все они перейдут на другую сторону моста, когда поднимется туман.
Дом в Сантьяго
Я изо всех сил зажмурился, чтобы удержать ее образ,
А потом широко раскрыл глаза, чтобы снова предстать перед миром.
Освальдо Сориано[29] «Один час без тени»Все произошло очень быстро, потому что в небесах вдруг заторопились. Что-то рухнуло в воздухе, туча избавилась от распирающей ее тягости, и в несколько секунд центральную часть проспекта залило дождем. А я припустился со всех ног, отыскивая местечко, где бы укрыться, в надежде добежать до книжного магазина «Эль Кондор», единственного на весь Цюрих, где продавались книги латиноамериканских авторов. Там наверняка меня тепло и душевно встретила бы Мария Моретти, она не мешкая помогла бы мне снять плащ, предложила бы большую чашку кофе и заботливо сушила бы мне волосы полотенцем. Но ливень усилился, и мне ничего не оставалось, как согласиться на роль растерянной курицы, которую напоминает пешеход, застигнутый грозой.
И вот тут сквозь завесу воды я увидел афишку, приклеенную к стеклянной двери:
ВЫСТАВКА ФОТОГРАФИЙ К.Г. ГУДСОНА
ФАСАДЫ ДОМОВ
Я решил зайти в галерею только из-за проливного дождя и, толкая внутрь узкую дверь, с удивлением подумал, что даже не подозревал о ее существовании, а меж тем несчетное количество раз ходил по этой улице. Но это обстоятельство меня не слишком озаботило: в Цюрихе художественные галереи то открываются, то закрываются, как, впрочем, и во всем мире.
Фотографии висели в белом зале, освещение было безупречным, и я был единственным посетителем.
Лежащие на столе печатные каталоги скупо рассказывали о короткой жизни фотографа:
К.Г. Гудсон. Лондон (1947–1985). Персональные выставки: Дублин, Нью-Йорк, Париж, Торонто, Барселона, Гамбург, Буэнос-Айрес…
Фотографии показались мне очень хорошими сразу, с первого взгляда, хотя эта моя оценка мало что значила. Мы же знаем, что удовольствие или даже чувство, близкое к ликованию, которое вызывает произведение искусства, зависит от нашего душевного настроя, а стало быть, определяется случаем.
На первой фотографии был запечатлен портик венецианского дома на Кампо-делла-Маддалена. Глядя на призывно яркие краски, хотелось прикоснуться к камню и шероховатой древесине. На следующей фотографии был патрицианский особняк на Мария-Хильфе-штрассе в Вене.
Дальше — замшелая ограда, за которой прятался фасад римской виллы, затем — белый призрачный силуэт дома на Крите (Аггиос-Николаос[30]) и горделивый, милый сердцу камень каталонской масии[31] (Палау-Санта-Эулалиа[32]). Внезапно между каталонским, сложенным из массивного камня домом и узким зданием на улице Часовщиков в Базеле я увидел еще одну фотографию: казенно-зеленого цвета дверь с бронзовой женской кистью, сжимающей кольцо.
Я подошел ближе, чувствуя, как печаль все ощутимее стягивает мое лицо своей постылой маской. Я поспешил не к фотографии знакомого мне места или вещи, а к двери, за которой меня ждала тайна, окутанная беспощадностью прошедших лет, насмешкой утерянного времени.
Это был тот дом. Вот он, номер двадцать на темно-синей овальной жестянке, я узнал его. А внизу под фотографией надпись, которая рассеяла все мои сомнения: «Дом в Сантьяго. Улица Рикантен».
Впервые в жизни у меня так захолонуло внутри, что задрожали ноги и по спине пробежал ледяной холод. Мне мучительно захотелось сесть, и не найдя стула, я вдруг поспешно снял с себя мокрый плащ и бросил его на пол, рядом со столиком, где лежали каталоги.
К.Г. Гудсон. Лондон, 1947–1985…
Значит, фотограф умер несколько лет назад, и меня охватило щемящее желание немедля поговорить с кем-нибудь — со служащим, с директором галереи, с любым, кто владел хоть какой-то информацией о фотографе и прежде всего обо всем, что помогло бы мне узнать, когда была сделана эта фотография.
В другом конце зала я увидел дверь и, предполагая, что она ведет в офис, постучал, но не услышав ответа, повернул ручку и тихонько ее толкнул. В помещении, где рядом со всякой утварью для уборки лежали в беспорядке плакаты и афиши, пила кофе какая-то женщина, которая тотчас смущенно спрятала термос.
— Простите за беспокойство. Вы могли бы сказать, когда здесь бывает устроитель выставки. Я журналист, и мне надо задать ему несколько вопросов…
Женщина сказала, что хозяин галереи обычно приходит во вторую половину дня за полчаса до закрытия и что она всего лишь уборщица и просто ждет, когда стихнет дождь.
Я вышел из комнаты и снова вернулся к фотографии. Поскольку в зале кроме меня не было ни души, я позволил себе закурить сигарету. Табак все-таки привел меня в чувство. Ноги больше не дрожали. Однако теперь я встал перед необходимостью замкнуть круг всего того, что, как я напрасно думал, давным-давно и к счастью забылось. Меня взяло отчаяние.
Это был дом. А между домом и мною — время и нечто большее.
Желтый потухший цвет стены, входная дверь агрессивно-казарменной зелени и застывшая бронзовая кисть с кольцом — все это резало глаз, как какое-то зазорное пятно в общей эстетике сфотографированных фасадов, однако эта намеренная некрасивость оживила во мне запах свежевымытых плиток который почти исчез из моей памяти, потому что алхимия счастья зависит от умело и верно составленной смеси всего, что предано забвенью.
Был летний вечер, когда я оказался на пороге этого дома. Лишь это осталось для меня бесспорным. Тут я все помню. Со мной были Тино и Бето. Мы, неразлучная троица, — большие любители копченой ветчины и рассветных зорь, разохотившиеся новички в любовных делах и в распитии красного сухого и терпкого вина из худших городских кабаков, наивные герои танцулек и ночных гуляний.
Каждую неделю накануне выходного дня перед нами вставал вопрос чести — получить приглашение на бал с танцами, на праздник, туда, где можно пофорсить и, если представится случай, зацепить тройку новых девочек, чтобы провести с ними долгие часы, наполненные музыкой и нашептанными словами.
Самые лучшие варианты почти всегда предлагал Бето. Работая электриком от одной фирмы, он снимал данные со счетчиков в частных домах, что давало ему возможность без труда заводить все новые и новые знакомства и таким образом снабжать нас приглашениями на крестины, дни рождения, серебряные свадьбы и прочие домашние праздники.
Бето… а скажите, вы не против, если я приду с двумя приятелями? Очень серьезные молодые люди, из хороших семей, и мы, знаете, как братья, три мушкетера, один за всех и все за одного. Очень славные молодые люди.
Это был летний субботний вечер. Сантьяго полнился густым ароматом цветущих акаций, запахами только что политых садов, уличных плиток, омытых из шланга, и все это сливалось с сумеречной свежестью «города, окруженного символами зимы»[33]. А мы пахли… английской лавандой, которой были щедро надушены наши носовые платки, потому что, наставлял нас Тино, женщины то и дело просят носовой платочек.
Тино… в оба глаза, ребята. Чтобы ко всем — само внимание. Не забывайте про любезности, но, чур, не влюбляться. Парни запросто попадаются на удочку, не верите, полюбуйтесь на Манунго. Где он только не терся с нами, пока не заглотнул наживку, дурень, а теперь вот ходит облизывается, как кот на мясо…
Нет. Мы не такие, мы не влюбимся. Это слишком крутой поворот, которого мы избегали совершенно осознанно, ведь случись с кем-нибудь из нас такое, пиши пропало нашему прочному союзу. Женщин — их пруд пруди, а друзья…
Однажды летом, в субботу… Бето и Тино.
— Бетище, где эта тусовка?
— На улице Рикантен, будет классно.
— Телки?
— Видел двух, прикольные, пальчики оближешь.
— Завяжешь мне галстук, Бетище?
— Боевая готовность, ребята! Тинчик, да от тебя разит бензином. Тебе, что, все еще чистят брюки бензином? Конечно, они же из кашемира. Это, старик, допотопное. Теперь носят кримпленовые. Из кримплена они как новенькие, будто только из-под утюга.
— Ладно, Бетище. Римплен, так римплен. Ну, идем, что ли?
По дороге мы запаслись сигаретами, американскими «Либерти» для нас и «Фрескос» для девочек, потому что в ту пору они предпочитали ментоловые. Еще, само собой, мы скинулись на бутылку писко[34] для хозяев дома, это как верительная грамота, избавлявшая нас от опасности попасть в список любителей халявы.
Рикантен, дом № 20. Дверь — зеленая, как в казармах. И желтая стена с осыпавшейся местами краской, а дверная ручка в виде бронзовой кисти, сжимающей кольцо.
Бето представил нас по всем правилам, нам тотчас поднесли по стаканчику пунша, мы немедля похвалили золотые ручки хозяйки, оглядели всю публику и в несколько минут уже были героями бала. Луис Димас, Палито Ортега, Лео Дан[35]! И хлопали вовсю старикам, когда они вылезали с пасодоблем или с танго.
Ближе к полуночи парочки уже определились: Бето с Амалией, которую он не отпускал от себя ни на минуту. Тино с Саритой, девушкой в очках, которая тихонько переводила ему тексты английских песенок. Меня разбирала зависть, мне наскучило танцевать с этими молодящимися тетками и с хозяйкой дома, и казалось, что я на бобах, ничего не обломится.
Согласно правилам нашей троицы тот, кому не обломилось, обязан угостить всех ветчинкой и пивом в «Фуэнте Алемана». Я мысленно подсчитывал деньги, которые у меня были при себе, когда вдруг появилась Исабель, на ходу извиняясь за опоздание.
Едва я увидел ее, у меня перехватило дыхание. Никогда в жизни — и не знаю, так ли уж стоит радоваться этому, — я больше не встречал таких обалденных глаз. Они не просто смотрели, они влекли к себе, они вбирали в себя все, что им попадалось, и от этого зрачки наполнялись влажным и таинственным сиянием.
— Потанцуем? — пригласил я ее.
— Попозже. Лучше посидим немного.
Пока мы сидели на софе, Исабель не сводила с меня глаз. Похоже, она изучала меня, оценивая каждое мое движение, а я чувствовал себя полным идиотом. Не мог выдавить даже хрестоматийное «Ты учишься или работаешь?» и в довершение всего не нашел ничего лучшего, как спросить, умеет ли она танцевать.
Глаза ее заблестели еще ярче. Не сказав ни слова, она встала с софы, подошла к музыкальному центру, выключила Бадди Рича[36] с его тягучей балладой о печали, поставила диск с ритмами Центральной Америки, водрузила, к великому удивлению собравшихся, себе на голову графин с пуншем и начла танцевать, потрясающе поводя бедрами и плечами, не пролив при этом ни капли.
Отнеся графин на место, она поблагодарила всех за аплодисменты и вернулась ко мне.
— Ну что? Умею или нет?
Я не заметил, как пролетели часы. Мы с ней танцевали, и мне открывалось неведомое пространство языка тел. Я понимал, что она слушается меня во всем и что для нее это не простая формальность, что ей хотелось, чтобы я вел ее по дорогам внезапных прикосновений и мгновенных отстранений друг от друга. Она не сопротивлялась, когда я привлекал ее к себе, напротив, смело приникала ко мне сама. В каком-то па она откинула полы моего пиджака, и я почувствовал легкое касание ее маленьких твердых грудей о рубашку. Тогда я притянул Исабель к себе еще сильнее и на поворотах, замедленных грациозным покачиванием бедер, я выдвигал ногу далеко вперед, и меня пронзало током, когда я чувствовал жар этой телесной близости. Исабель позволяла делать с собой все: вести ее, прижимать к себе, ей это нравилось, она тихо постанывала от удовольствия, впиваясь пальцами в мою спину.
Когда в каком-то прикосновении девушка почувствовала, что он у меня встал, она прижалась всем животом к моему телу, и у меня снизу вверх поползло мыслью-пауком: а ты готова, моя птичка, тепленькая птичка, ты — вот-вот, но что-то заставило меня устыдиться. Я мотнул головой, паук упал, и в новом повороте я со всего маху наступил ей на туфлю.
Часы летели и летели, а мне хотелось лишь обнимать Исабель, молча, покачиваясь в блюзе, пока Рей Чарльз[37]обращался к тем, от кого был отделен стеной слепоты, но ответа не было, потому что наши слившиеся тела и наше единое дыханье заставили нас забыть о существовании всех слов и всех языков на свете.
Мы танцевали и танцевали с закрытыми глазами, однако гости, те, кто постарше, стали постепенно расходиться, а хозяева дома, те просто взяли и выключили Summertime в исполнении Дженни Джоплин[38], показывая нам, что уже поздно, они устали, большое спасибо за внимание. Словом, пустив в ход все самые примитивные приемы нашей столичной дипломатии, они просто-напросто дали понять, что давно пора выметаться.
Мы с трудом оторвались друг от друга.
— Давай увидимся завтра? — услышал я свой молящий голос.
— Завтра не могу. Только в субботу.
— У тебя дела? Может, послезавтра?
— Не задавай вопросов. Я этого не люблю. В субботу.
— Ну ладно. Сходим в кино?
— С радостью. Приходи за мной в семь.
Мы вышли на улицу, чтобы завершить ритуал прощания.
В нескольких метрах от нас — Тино с Саритой, Бето с Амалией. Стоят под теплым ночным ветерком. Видя, что они целуются, прилипнув друг к другу, точно створки раковины, я посчитал нужным отвести Исабель в сторону. Но когда попытался поцеловать ее, она меня остановила.
— Не надо. У нас все иначе. Давай вернемся, и ты узнаешь кое-что получше, чем поцелуй.
Мы снова вошли в дом. В зале было почти темно. Пахло табаком, писко, недопитым пуншем, отыгранной музыкой. Исабель закрыла дверь.
— Отвернись и не поворачивайся, пока я не скажу.
Столкнувшись лицом к лицу с темнотой, я вдруг впервые четко почувствовал, что на меня напал страх. Совершенно необъяснимый страх. Страх, пространство которого начиналось с мысков моих ботинок и простиралось до самого края пропасти, которая была еще неподвластна логическому ходу моих мыслей.
— А теперь повернись.
Я послушался и ощутил, как тысячи тысяч мурашек побежали вверх по моей коже. Исабель лежала на софе, а мурашки были тяжелыми и толстенными. Она подняла платье к плечам, накрыв им свое лицо, но мурашки уже завладели моей шеей. Исабель была нагая, но проклятые муравьи душили меня все сильнее.
В полумраке я различил блеск ее кожи, маленькие дерзко острящиеся груди, увенчанные двумя темными бутонами. Промеж ног виднелся нежный мох, на который падал росинками сноп света, скользящего с улицы. Я задержал дыхание, чтобы муравьи оставили наконец меня в покое.
— Иди ко мне, — прошептала она, шевельнув бедрами.
Встав на колени, я подчинился целиком ее решительным рукам, которые обхватили мою голову, подчинился в надежде, что так сумею побороть свое желание провалиться в тартарары. Я вручил себя этим рукам, доверился им, точно пилоту в небесах. Исабель держала мою голову, позволяя мне лишь слегка касаться губами ее кожи, и вот так повела меня от своих плеч к груди, к животу и, наконец, к заветным полукружьям бедер. Я был самым счастливым аргонавтом в ожидании того мига, когда ему укажут заветное место. Руки ее действовали очень четко. Даже самый легкий ветерок не помешал моему приземлению в долине с волнующейся травой в устье ее раскрытых, как две тропы, ног, чтобы мои губы сумели удобно пристроиться, прежде чем познать неведомый вкус ее тайных губ. И я захотел войти в нее. Жаркое желание пронизывало каждую мою жилочку, оно установило тот ритм сердца и дыхания, который ничем не мог бы помешать моему языку прокладывать дорогу к пучине наслаждения, куда я хотел погрузиться, чтобы потом всплыть на поверхность, потому что чутьем понимал, что счастье находится в этой глубине, увлажненной ее движениями и моими ласками, в глубине, куда должно проникнуть. И я хотел войти в нее, войти хоть умри. Быть может, именно в тот момент я начал сознавать, что любовь — это наивная попытка родиться наново.
— Тебе понравилось? — спросила она вдруг.
— Я люблю тебя, — ответил я, впервые сказав эти слова.
— Тогда приходи в субботу, и полюбишь меня еще сильнее.
Платье разом покрыло ее тело, и куда-то мгновенно исчезли последние муравьи.
Я вышел из дому и поплыл сквозь невесомый воздух. В мыслях моих смешались вкусы, огни, краски, ароматы, мелодии. Шарль Азнавур все повторял — Исабель, Исабель, Исабель[39], потому что я этого хотел, и ощущение счастья разрасталось во мне оттого, что теперь я уже сам знал, что тела не могут утонуть в Мертвом море, раз оно такое соленое. Я чувствовал холод, жар, страх, радость, все сразу и одновременно.
Тино и Бето поджидали меня на углу, и они тоже выглядели счастливыми. То и дело прыгали и хлопали друг друга по спине.
— Нам бы сейчас по бутылочке пильзенского, а?
— Кто бы отказался! Самое оно!
— Ладно. Так и быть, на мои, — сказал я.
Ребята взяли меня за руки с двух сторон и заставили пуститься бегом вместе с ними.
— Ну и? Выкладывай! Как там прощаются с Чабелитой[40]? — спросили они в два голоса.
— Да что вы за мудаки! — резанул я, пресекая расспросы.
Теперь мы шли молча. Я — обозленный на них, а они — на меня. К счастью, нам встретился открытый бар, а пиво, оно старательно помогает сглаживать все шероховатости.
Сантьяго. Сколько лет минуло с той поры? Сантьяго, город, ты все еще там, между холмами и морем, «окруженный символами зимы»?
Оттянуться, зацепить девочку, это было не столь важным, в сравнении с возможностью покрасоваться перед дружками, рассказать им о своих подвигах. Тино и Бето говорили наперебой о недавних победах.
— Заметили? Для начала — глаза в глаза, а там само пошло.
— Не иначе, сработал кримплен, Бетище.
— Нет, серьезно, ребята. У меня свой стиль. Марлон Брандо — лапоть рядом со мной.
— Ну ладно, если речь о стиле, то я тоже не пальцем деланный. В первом же танце сказал Сарите, что у нее такая горячая грудь, что даже мороженное растаяло.
Я слушал их молча. Я не мог и не хотел говорить про Исабель. Впервые я открыл великую ценность молчания. Слово «интимность» било по губам, и это было мне в радость.
Ребята строили планы на завтра. Они условились встретиться с девочками, ну и все, как всегда, — кино, hot-dogs в «Бахамондес», рюмка-другая в «Шез Анри» и затем неизменная прогулочка в благосклонной тени холма Санта-Лусия, «такой греховной по ночам, такой невинной в свете дня»[41].
Воскресенье тянулось невыносимо долго. К великому изумлению моих стариков я весь день просидел в одних трусах и не произнес ни слова. Вечером я видел, как мои ребята шли на свидание, сразу завелся от зависти и, закрывшись в своей комнате, стал читать роман Марсиаля Лафуэнте Эстефания «Я так бы не поступил, чужак»[42], заведомо зная, что ковбои не сумеют заслонить образ Исабель.
Воскресенье, понедельник, вторник. Первая половина недели длилась целую вечность. Уроки тянулись до бесконечности, и вечера, когда мы, стоя на углу, курили, уже потеряли всю свою прелесть.
Наш угол. Угол у мясной лавки. На ее ступеньках — наш маленький большой амфитеатр из стесанной временем брусчатки, мы столько раз были бесчувственными зрителями сцен из спектакля, где разбивались людские судьбы и мечты в схватке с рутинными буднями, на ее ступеньках мы вновь и вновь повторяли репертуар наших свежих воспоминаний перед благосклонной публикой, состоящей из дворовых собак или настырных ребятишек, которые хотели быть похожими на нас.
Угол дома, освещенный городским фонарем, который отбрасывал наши беглые, напоминающие ящериц, тени, вытягивая их постепенно до уличного стока, уносившего наши окурки в какой-то подземный мир, темный, неведомый и все-таки тоже — наш. Угол дома. Это место было сотни раз отмечено нами, скороспелыми мачо, означено нашим присутствием. Наш угол! Верховная ставка, кабинет, где обсуждались стратегические операции, рулетка, исповедальня троицы желторотых птенцов, которые еще не могли предвидеть той катастрофы, что подстерегала их в конце первых полетов. Но теперь это заветное место нисколько не помогало мне утишить нарастающего нетерпения тела, мучительного ожидания встречи, до тех пор, пока не наступила суббота.
Первое, что я сделал, — отправился к парикмахеру.
КАСЕРЕС
МУЖСКОЙ МАСТЕР-СТИЛИСТ. СТРИЖКА И БРИТЬЕ
— Американскую, и чтобы височки, пожалуйста.
«Стилисту Касересу. Почетный диплом. Первый международный конкурс мастеров парикмахерского дела. Мендоса. Аргентина».
— И чубчик? Как сделаем? Под Элвиса?
«Стилисту Касересу, с любовью. Нино Ларди, чилийский голос танго».
— Нет, чуб, нет. Я причесываюсь с бриолином… знаете?
КАСЕРЕС
КАПИЛЯРНЫЙ МАССАЖ С ГАРАНТИЕЙ
ТЕРПЕНИЕ — ОТПОР ОБЛЫСЕНИЮ!
Я так истово драил туфли, что кожа верещала не хуже канарейки. И вырядился — нет слов. Взял галстук у отца, который наблюдал за мной, отрываясь от комментария к предстоящим скачкам. Опрыскав себя английской лавандой и окутанный ее ароматом, я отправился на встречу с Исабель.
Я был весь на взводе. В автобусе заметил, что некоторые женщины оборачиваются в мою сторону и отпускают какие-то ехидные замечания. «Наверняка вылил на себя черте сколько лаванды, но она успеет выветриться. И если кто вздумает назвать меня гомиком из-за этого блядского запаха, я набью ему морду, будьте уверены».
В том же киоске, что в прошлую субботу, я купил сигарет и, прежде чем появиться на улице Рикантен, несколько раз оглядел себя в зеркалах витрин, чтобы проверить, как завязан галстук и как моя прическа. Нет, я был безупречен во всех отношениях и с этой мыслью направился к дому номер двадцать.
Четырнадцать, шестнадцать, восемнадцать, двадцать… двадцать?
Под номером двадцать оказался серый дом с трещинами от последнего землетрясения. Дом с двойной дверью и окнами под железными решетками.
Я решил, что спутал улицы. Ведь когда живешь в другом районе… Вернулся на угол и прочел надпись на жестянке.
Улица Рикантен. Что за чертовщина?
Потом мелькнула мысль, что, быть может, в горячке я перепутал номер, он вовсе не двадцать, а сто двадцать, то есть намного дальше. Я убыстрил шаги, не замечая, что весь взмок, не думая о прическе и о том, что воротничок может залосниться.
Дом номер сто двадцать вовсе не был желтым, и никакой тебе двери зеленого цвета, и никакой кисти, сжимающей кольцо. Двести двадцатый был тоже не такой. А дальше улица заканчивалась.
Я ничего не понимал. Мне хотелось ругаться самыми последними словами, материться, плакать, бить ногами семафор, кричать во весь голос, ведь что-то или кто-то меня явно дурачит. Задыхаясь, я развязал галстук, расстегнул рубашку и снова оказался перед домом номер двадцать.
Позвонил, и какая-то пожилая тетка, явно в дурном настроении, открыла дверь, оставив лишь то пространство, в которое с трудом можно просунуть голову.
— Простите, здесь проживет сеньорита Исабель?
Пожилая тетка отрицательно помотала головой и закрыла дверь.
С отчаяния я даже несколько раз ударил себя по щекам, пытаясь понять, что происходит. А происходило вот что: того дома не было, а были люди, которые вытаскивали соломенные креслица и маленькие столики, чтобы обсудить под сенью акаций партию бриски[43]. Не было ни желтых стен, ни зеленой двери с бронзовой ладонью, сжимающей кольцо. Эта бронзовая ладонь где-то совсем в другом месте напрасно ждала моего звонка.
Не могу вспомнить, сколько раз исходил я эту улицу туда и обратно, заглядывая в окна, пытаясь увидеть тот праздничный зал, люстры, софу, на которой беспечно возлежала Исабель, сулившая мне сладостное счастье. Я курил без конца, до тех пор, пока ком в горле и пустая пачка, которая хрустнула в моих руках, заставили меня наконец понять, что я потерпел поражение и надо возвращаться домой.
Я так и сделал, и чтобы мои старики не заметили, что у меня полный облом, зашел в первое попавшееся мне на обратном пути кино.
Домой вернулся очень поздно и сразу закрылся у себя. Спать не мог. Мне хотелось понять, что произошло, и найти хоть какой-то ответ.
И вот часа в два ночи раздался наш условный свист. Тино и Бето… они возвращались домой с новыми победами и новыми надеждами. И звали меня, чтобы поделиться со мной своими радостями и чтобы я рассказал им о своем триумфе, хотя воспринимали мое свидание с Исабель как явное предательство наших общих интересов.
Я подождал, пока они свистнут во второй раз, и вышел.
— Ну что, притомился, мужик? Чабелита выжала из тебя все до конца? — спросил Бето.
— Пошли на угол. Не хочу будить стариков.
— С чего такой похоронный вид?.. Неужели она оставила тебя с носом? — удивился Тино.
— Ты что? Она же назначила свидание у себя дома, — возразил Бето.
— Я скажу все, как есть, если не будете доставать меня. Нет, серьезно. Мне неохота, чтобы меня держали за полного придурка.
Мы уселись на ступеньках мясной лавки. Бето пустил по кругу непочатую пачку сигарет.
— Ну давай выкладывай. Что было-то? — спросил Тино.
— Ничего. Ровным счетом ничего. Ни-че-го!
— Как это ничего?
Впервые я вдруг почувствовал, что не люблю их, что они мне не нужны и что мой провал — это мое личное дело, которое их не касается. Позорное поражение нападающего, который промазал последнее пенальти на девяностой решающей минуте встречи.
— Ничего. Или это… бля… ну ничего. Не нашел я дома. Заблудился, что ли. Спутал адрес. Поди знай!
Все трое долго молчали. В тишине было слышно, как мы затягиваемся сигаретным дымом, и я проклинал себя за то, что сказал правду.
— Послушай, так ведь легче легкого. Рикантен, дом номер двадцать.
— А ты уверен? Это действительно улица Рикантен?
— Ну а как, старик? В прошлую субботу мы вместе там были. Вместе искали эту улицу и вместе ее нашли. Ну давай восстановим картинку преступления: мы сошли на углу Португальской и Десятого Июля. Там купили сигареты себе и для девочек, затем прошли два квартала, не больше, и вот он дом. Да и улица Рикантен, она не особо длинная.
— Я шел той же дорогой, а ее дома как не бывало. Под номером двадцать был совсем другой дом.
— Минуточку! Раз кто-то переболел менингитом и до сих пор не оклемался, попросим паузу для информации. Ты хоть помнишь, какой из себя был дом? — спросил Тино.
— Какой? Теперешний?
— Да нет, балда! Там, где мы отрывались.
— Желто-поносного цвета, а дверь зеленая с бронзовой ручкой.
— Ну а какой, трам-тара-рам, попался тебе теперь?
— Серый, как крыса, с двойной дверью.
Бето пустил по кругу новую пачку сигарет, меж тем как Тино, с трудом сдерживая смех, стал напевать: «Цыпы-лапки, цыпы-лапки, сладкие и с жару, в воскресенье по сотне, в понедельник даром».
Я рванулся с места, но Бето схватил меня за руку и рявкнул на Тино, чтобы тот заткнулся.
— Слушай, не заводись, старик. Может, хватил лишка перед уходом?
— Не мели, а?
Снова потянулось молчание, прерываемое звуками наших частых затяжек и шумом машин на соседней улице. Тино собирал мыском ботинка пепел.
— Ну ладно. Бывает, человек спутает, ошибется, завернет совсем не в ту сторону и…
— Да ничего я не ошибся! Ходил по этой улице Рикантен. Пятьдесят раз прочел название на железной табличке. Прошел по улице с двух сторон, и нигде не было этого дома.
— Послушай, не горячись зря! Значит, ошибся. Сунулся на другую улицу, может, с похожим названием. Со мной тоже такое бывало, когда я попадал в незнакомые районы. Не делай из этого головную боль, — увещевал Бето.
— Да не ошибся, говорю же. Или вы думаете, что у меня крыша съехала?
— Дом не может полностью исчезнуть за неделю. По крайней мере должен остаться двор, сад… Землетрясения исключаются — если память мне не изменяет, за последнюю неделю у нас не было ни одного, — съязвил Тино.
— Да идите вы к такой-то матери!
— А чего ты лезешь в бутылку, парень, чего нарываешься-то? Знаешь, тебе бы лучше охладиться, а мы пойдем спать, глядишь, подушка что-нибудь подскажет.
Они бросили меня одного на ступеньках мясной лавки. Я сидел там, обхватив голову руками, пока не почувствовал, что меня обнюхивают коты и близится рассвет. С досады я пнул в них ногой, но не попал, а коты лишь посмотрели на меня с полным презрением. Тогда я решил пойти домой.
Спал долго, до той минуты, пока меня не разбудил свист Тино. Был уже первый час, но я не вышел, сказавшись больным. Обедал в постели — ненавистный классический бульон, который в таких случаях варила мать, как незаменимое приложение к болезни, но ближе к вечеру, с помощью кроссворда в воскресном приложении к «Эль Меркурио», мне все-таки удалось откинуть закрученную спираль горьких мыслей.
В понедельник я объявил себя здоровым, пошел на уроки и в следующие дни неоднократно порывался найти дом Исабель, но каждый раз останавливался, дойдя до улицы Рикантен. Это был страх. Смутный страх: я боялся увидеть этот дом и убедиться, что он существует, что в субботу я просто заблудился из-за каких-то заморочек нашего города. Но если честно, больше всего я боялся, что этот дом вообще не существует и что все предыдущее — праздник, танцы, Исабель, вкус ее тела, мурашки, дикое желание — не более чем чьи-то непостижимые таинственные козни.
Странный сон усилил мои страхи.
Это вроде было в ночь на среду: мне приснилось, что я пришел домой обедать и увидел, что мать накрыла стол на трех человек.
— А что папа не придет обедать?
— Кто?
— Папа! Я спрашиваю, он что — не придет обедать?
— Что с тобой? Нас в доме трое. Ты, твой брат и я.
— Да нет же! Вчера папа с нами ужинал. Вот его место, рядом с радиоприемником.
— Ты просто бредишь Нас всегда трое в этом доме.
Меня наполнял страх при мысли, что пропавший дом — начало целой цепи новых исчезновений, а когда я встретил Лало, местного дурачка, здоровенного мужика непонятного возраста, который шел с раскрытым ртом и тупым взглядом, не замечая ни мух, застрявших в его нечесаной бороде, ни скверных ругательств и камней, которыми его осыпали дети, то спросил себя, а вдруг этот несчастный идиот сошел с ума, потеряв свой рай, который он все ищет и ищет.
Лишь в пятницу я увиделся с друзьями, вернее, они сами пришли ко мне.
— Мы всегда с хорошими новостями. Наш Бето наткнулся тут на одну пташку. Сечешь? — сказал Тино вместо обычного «привет».
— Исабель?
— Пра-авильно! Хорошее начало для участника конкурса. Выигрыш — шесть ударов, — и оба разом вдарили меня по спине.
— Ладно. Я согласен, лупите!
— Ха-ха! Прямо так? Без анестезии? Ты смотри, Тино, он воображает себя гонщиком Гонсалесом[44]. Мы тебе выложим все при трех условиях. Первое: есть что-нибудь выпить в этом доме?
Как всегда, за выпивку отдувается мой старик. Я вышел из комнаты и вернулся с бутылкой писко и стаканами.
— Должен сообщить, что лимонов, к сожалению, в доме нет, будете пить с таком. Ну, выкладывайте, шантажисты!
— Экспортная. Надо же, какие расходы для твоего старика. Зря тратился, — Тино нахваливал писко, прищелкивая языком.
— Второе условие: признайся, что ты хуже того мудака, у которого оторвали все цацки. Из-за тебя мы чуть не поверили, что дома вдруг испаряются, пропадают без следа, их уносят зелененькие человечки, короче — бам! — и нету.
— Ну хорошо! Ошибся. Я мудак с половиной. Наверно, мне нужны не только очки, но и компас.
— Компас? Шмомпас, помпас, сел на фуемпас, — завизжал Бето.
— Наверно, я заразил его остатками менингита, — заметил Тино.
Мы зашлись от смеха, теперь я чувствовал, что люблю их, что они мне нужны. Они мои друзья. Мои братья.
— Ну не тяните, выкладывайте, заразы!
— Э-э, без оскорблений. Мы благородные кабальеро или как? Третье условие: не назначай свидания по субботам, если не собираешься нарушать правила клуба Тоби.
— Обещаю. Субботы для клуба.
— А как страдает, бедняга. Едят его мухи! Ладно, Бетище, расскажи ему — как, где и когда ты ее видел. А то вон что с ним делается!
— Спокуха. Я не хочу быть в ответе за инфаркт. Слушай во все уши — я с ней столкнулся нос к носу у дверей «Фернандес Конча» в тот самый момент, когда шел в «Раверу», где проходила дегустация пиццы, знаете, это такое кулинарное новшество из теста, сыра и помидор. Итальяшки придумали.
— Там еще ореган, — добавил Тино.
— Да ну? Подумать! И ореган — тоже?
— Точно. Для запаха.
— Надо же, всегда от вас узнаешь что-нибудь дельное.
— Да идите в задницу с этой пиццей.
— Потерпи! Без терпения нет умения, сказал слон, уделав муравьиху. Идем дальше? Я не успел с ней поздороваться, как она сразу про тебя, и слушай, дурень, она не знает, что ты заблудился. Потому что не могла ждать, ее заставили навестить какого-то родственника, который вдруг заболел. Она бы поубивала всех этих родственников, разрази их гром. Спрашивала, не сердишься ли ты, и я ей на это, само собой, что — да, что ты терпеть не можешь необязательных людей, который заставляют торчать на улице человека с букетом цветов и с вытянутой мордой лица. И знаешь, старик. Вся рассыпалась в извинениях. Даже две слезины пустила и сказала, что ждет тебя в эту субботу в тот же час. И знаешь, что я ей на это? Мне, конечно, жаль, Чабелита, но, по-моему, он в субботу занят. Эта крошка аж побледнела, просит прийти тебя в воскресенье. А я ей в ответ — Чабелита, воскресенье мы целиком посвящаем спорту. Ты обратила внимание, какие мы здоровяки, нет? Какие мы спортивные, нет? Но, так или иначе, я ему все передам, может, он и выберет время, чтобы повидаться с тобой. Ну ты кобель! Что ты там вытворял с этой лапочкой? А теперь подтяни штаны, потому что сейчас будет сплошная драма. Она слушала меня внимательно, на глазах слезы, и давай умолять меня, старик, да так отчаянно, что мне стало совестно — на нас стали оборачиваться прохожие. Кто-то, небось, подумал, что я сделал что-то очень плохое этой бедной девочке. Она меня молит-умоляет — скажи ему, что я его жду в воскресенье, в любой час, в пять, в семь, когда угодно. Из дому не выйду. Скажи ему, умоляю, пусть придет. Ну? Как я себя вел, а?
Я выхватил у Тино бутылку и наполнил стаканы.
— Ты, мля, настоящий кореш, Бетик. Ты их всех построишь. Ваше здоровье, ребята!
— Давай запиши, как следует адрес. Рикантен, дом 20. Запиши, мудило! — сказали они хором и ушли.
Когда мы молоды, мы верим в логическую цепь событий, и в эту минуту мне казалось, что звенья цепи нашлись. Все оставшееся время я провел, считая часы, которые отделяли меня от Исабель. Мысленно я снова и снова рисовал дорогу к ее дому, пока не разозлился на самого себя, ведь не болван же, в самом деле. Конечно, найду. На этот раз — да!
«Ну так. Сажусь в автобус на перекрестке Вивасеты с Риверой, там остановка, откуда едут в центр. Это главное, запомни. Автобус везет меня до улицы Пинто, сворачивает налево и идет по прямой четыре квартала, не больше, проезжает мимо аптеки, киоск с газировкой, киоск с прохладительными напитками, цех по изготовлению мороженого и хозяйственная лавка дона Пепе, испанца, который каждый раз сердится, когда кто-то входит к нему в лавку. Дон Пепе, пол-литра хлорки. Е-мое, нашел время прийти за пол-литром хлорки. Дон Пепе, одно мыло «Копито». Е-мое! Мне когда-нибудь дадут спокойно послушать эту сраную сарсуэлу, сегодня же четверг! Дон Пепе — тоже главное. Мимо хозяйственного я попаду на авениду Независимости, и можно сойти, но лучше подняться еще несколько кварталов и выйти у церкви кармелитов. Спуск. Тоже важно. Иду по направлению к холмам, пересекаю Пергола-де-лас-Флорес[45], тут надо проскочить быстро и задержать дыхание, чтобы в мою любовь не проник запах смерти. А выйдя на улицу Реколета, останавливаюсь возле казармы пожарников. Жду и сажусь в автобус, помни — линия Португальская — Эль-Сальто, которая ведет к южной части города. Это очень важно. Автобус довезет меня до центра по улице Мак-Ивер. У Аламеды, напротив Национальной библиотеки, он свернет налево, и я смогу увидеть сады у холма Санта-Лусия и камень-письмо дона Педро де Вальдивиа[46]. Все это останется позади, когда автобус повернет к югу по Португальской. Через шестьсот метров я дерну за веревочку — такое забавное устройство из велосипедного звоночка и троса, который тянется к водителю. Схожу на углу улицы Десятого Июля. Запомнить. Иду назад к северу один квартал, а потом два квартала к западу. Уж теперь точно не собьюсь. И там, на улице Рикантен, будет дом номер двадцать — желтый, с зеленой дверью и ручкой в виде бронзовой кисти, сжимающей кольцо. Я позвоню три раза, и мне откроет Исабель. Исабель. Позже я ей расскажу о том, что со мной случилось. Позже. Когда мы выйдем из кинотеатра «Гран Палас». Там, по-моему, идет «Лоуренс Аравийский»[47]. «Гран Палас», этот кинотеатр, где так красиво и прохладно, у стен — модели спутников, и кажется, что они плывут в космосе, когда их подсвечивают перед началом сеанса. А может, не стоит ей ничего рассказывать? Было бы глупо. Она примет меня за круглого идиота. А может, расскажу, когда мы поженимся? Поженимся? Я, что, женюсь на Исабель? Спокойно, парень. Спокойно! Сначала надо кончить школу. И как к этому отнесутся Тино и Бето? Ребята, знаете, я женюсь, настал час, когда смельчаки сдаются, и вы будете моими свидетелями. Исабель. Какую свадьбу мы закатим! Спокойно, парень. Жениться? Может, прав Тино, вот такие олухи и попадаются сразу на удочку. А я, значит, олух? A-а, какая разница!»
В воскресенье я проснулся чуть ли не на рассвете, и за завтраком говорил, не умолкая, к удивлению моих родителей.
— Утихомирься. Ты можешь поранить палец, — сказал отец, когда мы вскрывали ножиками воскресные альмехас.
Я заглатывал моллюски один за другим, не переставая их нахваливать — такие вкусные, такие свежие. Альмехас съеживались от лимонного сока.
— Им больно, — строго сказала мать, которая была большой противницей сырых альмехас.
— Да нет. Им, наоборот, нравится. Посмотри, как они танцуют.
Мои старики переглянулись, что-то обронили насчет пыла и жара в восемнадцать лет, а мой младший брат высказал сожаление по поводу того, что у него брат — последний кретин.
Около пяти вечера я встал после сиесты. Летний зной немного спал, мои старики вместе с братом с жадностью приканчивали арбуз в беседке, увитой диким виноградом, а я стал раскладывать на постели свои самые нарядные вещи, подходящие для благородного кабальеро, — словом, чилийскую униформу.
Темно-серые брюки — маренго, безупречно выутюженные, начищенные до блеска ботинки, белая сорочка с китовым усом, просунутым в краешки воротничка, синий пиджак и английский галстук типа Оксфорд, недавний подарок дяди Аурелио. По его словам, в таком галстуке я смотрелся элегантнее, чем скаковая лошадь. К этому наряду прилагались три, как положено, носовых платка: белый, надушенный, сложенный углом в верхнем кармашке пиджака, — для дам, еще один в левом кармане брюк — для личного пользования, в смысле для соплей, и третий в заднем кармане брюк, чтобы смахивать пыль с сидения или чтобы в случае чего почистить ботинки.
— Воскресные свидания — вещь серьезная, — заметил мой отец и сунул мне в карман деньги.
— Не приходи слишком поздно. Завтра в школу, — добавила мать, как всегда, реально смотревшая на вещи.
Весь путь был проделан мною так, как это обдумывалось тысячу раз, квартал за кварталом, примета за приметой. Наконец, я сошел на перекрестке Португальской и улицы Десятого Июля. И вот тут увидел какого-то иностранца.
Это был молодой человек с длинными белокурыми волосами, очень бледный, и глядя на его выцветшие джинсы и куртку, я решил, что он одет хуже некуда. На плече у него висла фотокамера.
На углу, ожидая зеленого огонька семафора, я пристроился к нему и увидел, как он утирает пот смятым платком. Мы вместе перешли улицу, и тут он завернул в тот же павильон, где я собрался купить сигареты. Таким образом, мы снова оказались рядом. Иностранец, медленно выговаривая испанские слова, спросил пачку сигарет без фильтра.
— Какой марки? — поинтересовался продавец.
— Не знаю. Покрепче, — ответил молодой человек.
— Пусть возьмет «Либерти», это самые лучшие, — посоветовал я.
Иностранец улыбнулся мне благодарно, взял пачку и сунул руки в оба кармана. Через секунду-другую он смущенно сказал, что не обнаружил денег, и положил сумку с фотокамерой на прилавок. Открыл ее. В ней было целых две камеры. Вынул оттуда маленькую визитку, где лежали документы и фотографии, и наконец нашел деньги. Заплатил, а когда сунул визитку в сумку, одна фотография упала на пол. Я наклонился, чтобы поднять ее.
Это была Исабель, вернее, фрагменты ее портрета. Я узнал платье, ее ноги, ее руки и софу, где она сидела: та же софа, на которой Исабель готова была одарить меня самым сладостным наслаждением. Это была Исабель, хотя лица на фотографии не было видно, его закрывало пятно света. Я протянул иностранцу фотографию, и мы оба вышли из павильона.
На улице я увидел, что у него дрожат руки и что он не может зажечь сигарету. Я протянул ему огонек и взял предложенную мне сигарету. Мы зашагали вместе, почти соприкасаясь плечами.
— Ты… ты… как это сказать?.. Ты знаешь тут?
— Не очень. Почти нет. А какая тебе нужна улица?
— Какая улица? М-м… Рикантен… она так называется.
— Рикантен. Да я тоже туда.
— Очень хорошо. Мы пойдем вместе, да?
— А ты идешь к той девушке, что на фотографии?
— Ты… ты… знаешь ее?
Знал ли я ее? Во мне билось, жило все — ее запах, самый сокровенный вкус, все изгибы ее тела, голос, ее зов, ее обещание счастья, но знал ли я ее на самом деле?
— Ее зовут Исабель.
— Тогда… нам надо говорить… Ты и я должны говорить, понимаешь? — сказал он, утирая пот со лба.
— Сейчас ты скажешь, что тебе нужен дом — желтый и с зеленой дверью.
— Да! Ты знаешь этот дом? Говори, что ты знаешь этот дом!
— С кольцом в бронзовой кисти.
При этих словах иностранец закрыл лицо обеими руками. Потом опустил их, и во взгляде его было что-то молящее.
— Тогда… пошли вместе… это смешно, но…
— Боишься не найти этого дома, ясно.
Иностранец схватил меня за полы пиджака, но я вывернулся и убежал. Убежал. Понесся опрометью. А потом, вконец обессиленный, плюхнулся на скамеечку — чистильщика обуви. Ботинки у меня были чистые, но я позволил наложить на них черный крем и мысленно просил чистильщика: тяни это дело как можно дольше.
Что-то во мне рушилось. Что-то исподволь во мне рушилось. Чья-то незримая рука работала над моим лицом, создавая ту маску, которую я буду встречать во всех зеркалах.
Чистильщик постучал по подошвам в знак того, что его работа закончена.
Серый дом, дверь на английский манер, звонок и его стертая кнопка, все это меня нисколько не удивило. Я прошел мимо двери и затем отправился куда глаза глядят, пока на пути мне не попался кинотеатр.
«Мятеж на борту»[48]. Марлон Брандо завоевывал любовь Тариты, а я сидел в первых рядах, чтобы по соседству никого не было, и плакал первыми слезами мужчины, предчувствуя, что теперь мне открывается путь, полный сомнений, провалов, промельков эфемерного счастья, всяческих извивов катастроф, с которыми тем не менее становится возможным это ненавистно хрупкое существование. Я плакал тихонько, почти наблюдая себя самого, и этот плач показывал мне уже в ретроспективе тропу, пройденную за восемнадцать лет, — от одного радостного удивления к другому, тропу, куда уже нет возврата. И в этих слезах на белом надушенном платке смешались первая боль от неосуществленных желаний и чувство щемяще-прекрасного счастья, которого я не познал.
Больше я не видел своих друзей. Условный призывный свист Тино и Бето я слышал ближе к ночи не один раз, но так и не вышел. Из дома я выскакивал в самую рань и возвращался как можно позже. А свист становился с каждым разом все слабее, невнятнее и равнодушнее, пока совсем не пропал, на смену ему пришли осенние ветра, зимние туманы, шум машин, голоса детей, которые, подрастая, становились хозяевами улицы и нашего угла.
Иногда я видел Тино и Бето в дверях какого-нибудь бара, но старался не попасться им на глаза и быстро уходил прочь.
С головокружительной сменой календарей появились новые друзья, новые способы заполнять радостью ночные часы и разгонять уныние и скуку. Порой, когда я проходил мимо нашего угла — наш угол! — у меня падало сердце при виде ступенек мясной лавки, будто я видел только что скончавшегося человека. Но это чувство быстро забывалось. Очень быстро. Уставшие кони по сторонам не смотрят.
Да. Это был тот дом.
Разглядывая фото, я думал о патетически лаконичной биографии К.Г. Гудсона.
Эту фотографию Гудсон сделал, когда увидел дом впервые? Или он снял его после нашей эфемерной встречи с ним? А Тино и Бето? Встречались ли они потом с теми девочками? А хозяева дома? А Исабель? Может, все это было игрой скучающих богов? Может, Гудсон сделал фотографию после того, как пришел в этот дом во второй раз, чувствуя необъяснимое желание оставить что-то в качестве свидетельства? Доказательства? Может, Исабель была самым прекрасным и абсолютным отрицанием мечты?
Уборщица вытащила меня на поверхность из колодца моего внезапного аутизма, сказав, что устроитель выставки живет совсем недалеко и, если мне нужно с ним повидаться, она меня проводит.
Плащ все еще был сырым. Набросив его на плечи, я вышел из галереи. Дождь перестал. Небо Цюриха было ясным и прозрачным. Все в нем рисовалось так же четко, как на фотографии Гудсона, которая спустя столько лет принесла мне свои извинения за то, что приглашение было передано мне (на мое счастье или на мою беду — не знаю, да и не хочу знать), видимо, второпях или по ошибке, вместо другого адресата.
Автоответчик
«Добрый день. С вами говорит автоответчик. В данный момент хозяина дома нет или по определенным причинам он не может подойти к телефону. Если вы со мной знакомы, то сразу поймете, что голос, который говорит с вами, принадлежит не мне. Одно из преимуществ автоответчика заключается в том, что он не только оберегает нашу личную жизнь, но и дарит нам полную безнаказанность. Это — голос оплаченный, взятый внаем. Он принадлежит одному из тех людей — а их теперь пруд пруди, — которые за гроши готовы отдать в услужение даже свою душу. Да, это не мой голос. Но если вы меня не знаете и впервые набрали мой номер, это не должно вас смущать. И вообще, мало ли, может, я и вправду ушел, а может, мне совсем худо, и никаких сил — подойти к телефону, или просто не хочется, и все дела. А вдруг меня уже нет на этом свете? Вы успели просмотреть сегодняшнюю газету? Не обнаружили, часом, мое имя в списке очередных жертв? А новости дня, неужели не слышали? Ведь сегодня рано утром произошла ужасная катастрофа. Да нет! Не кладите трубку. И незачем бежать к раскрытой на столе газете. Вы не найдете мое имя в списке жертв катастрофы. Не кладите трубку. Это всего лишь шутка, да, соглашусь, пошловатая, но прошу вас, не думайте обо мне плохо. Давайте вернемся назад. Я вам сказал, что вы говорите с автоответчиком, который… ну да, вы уже знаете. Главное то, что вам сейчас приходится молчать. Вдумались? Ведь это тоже отношения, но по самому минимуму — какая-то минута или чуть больше, — они покоятся на лжи, и вы ее проглотили на раз. Нет! Не бросайте трубку. А с психикой, смею вас заверить, у меня все в порядке. Завладеть вашим вниманием на такое время — разве это не доказательство, что ваш собеседник в ясном уме? Я захотел высказать вам это только потому, что предпочитаю играть честно. Ну вот. Теперь вы удивлены и стараетесь напрячь память, потому что это мое «играть честно», само собой, наводит на мысль о возможной угрозе. Но не тревожьтесь попусту. Я и не думаю угрожать. И ни о чем не предупреждаю. Пока что. Я вам все объясню насчет моих слов «играть честно». И для этого обращусь к исконному кладезю нашей культуры, а именно к кино. Случалось ли вам видеть, что делают полицейские, чтобы определить, откуда идут звонки преступников? Они советуют предполагаемой жертве втянуть преступника в разговор и продержаться хотя бы минуты две, а за это короткое время центральный компьютер в полицейском управлении будет с ошеломляющей быстротой перебирать все предполагаемые адреса и сумеет определить точное место, откуда звонит преступник. За какие-то две минуты! Время, оно ведь золото! Почему я все это вам говорю? Повторяю, мне нравится играть честно. У меня к автоответчику присоединен компьютер, куда более надежный, чем у полицейских, и я знаю, откуда вы звоните. Удивлены? Да бросьте, теперь новейшая техника доступна любому. Полагаю, вы улыбнулись. Это прекрасно. Однако ж, думаю, нервы у вас на взводе, и вы чувствуете, что вся эта бредятина сильно затянулась. Что правда, то правда, но вот теперь я вас предупреждаю: вам придется слушать голос, который мне не принадлежит, пока длинный сигнал не укажет, что теперь ваша очередь… Ложь испарилась, и вы наконец можете заговорить. Наступит момент настоящей правды: я выиграл время, во-первых, чтобы узнать, откуда вы мне звоните, и, во-вторых, чтобы определить, что вы собой представляете. Нет. Сейчас я вижу: вы оторопели. Но уверяю вас — зря и преждевременно. Вот это «а если мы знакомы» ничего не определяет. Вам хорошо бы уяснить себе, что только дистанция открывает путь к подлинному знанию. А что касается моего вежливого обращения на «вы», так этого требует этикет. Нет. Не кладите трубку. Не будьте банальным. А ваша фраза: «Эти шуточки зашли слишком далеко», которую вы готовы выпалить, умаляет ваш талант, да-да, потому что умение слушать стало настоящим талантом, и тех, кто им обладает, можно пересчитать по пальцам. В последний раз я повторяю: мне нравится играть в открытую. Итак, вы продолжаете слушать чей-то наемный голос, а я, представьте, уже порядочно как ушел из дому. И направляюсь туда, откуда вы мне звоните. По дороге я, может, и остановлюсь на минутку, чтобы купить цветы, или бутылку шампанского, или шелковый галстук, или сережки в виде королевских павлинов. Это все мелочи, которых требует этикет. Но вполне возможно, что я все-таки успел зайти в оружейный магазин, и теперь поднимаюсь по ступенькам, которые ведут к вашей квартире, и у меня спрятан страшный обоюдоострый нож с зубцами, ну, из тех самых — и тут снова ссылка на современные достижения киноискусства, — что мы видели в руках Рембо или как его там зовут, этого смешного мясника из Америки. Нет. Не кладите трубку. Теперь ваш черед. Наконец-то! После трех сигналов вы можете оставить свое сообщение, но прежде — это и будет окончательное доказательство того, что мне нравится играть в открытую, — я вам очень советую подойти к двери и решить: будет ли она приоткрытой — как бы в знак приглашения, или вы накинете цепочку и дважды повернете ключ. Это решение зависит только от вас. Я не могу и не должен принимать в нем участие. Помните, что с вами говорит голос, оплаченный тем, кого и в самом деле нет на другом конце провода.»
Невстречи с самим собой
Чтобы убить воспоминание
В руках у тебя цветной поляроид, и только теперь ты понимаешь, что все краски нестерпимо искусственные. Слишком синее море, слишком ясное небо, слишком пламенеет закат на горизонте, слишком блестят глаза двух людей в одинаковых свитерах, которые обнялись, не замечая сильного ветра.
Теперь ты смотришь в окно и видишь лишь собственное отражение, которое оконное стекло возвращает тебе точно пощечину. На улице уже темно, и в такие часы все окна — как зеркала: они отражают лишь твое одиночество и укор наскучившего интерьера; дома, как твой, — пустые, по утрам кофе без сахара, выпитый наспех, машина, которую никак не завести, и минуты, летящие одна за другой. Эти дома, где по утрам ты вдруг чувствуешь, что нервы разошлись, что ты вот-вот закричишь и проиграешь самое серьезное сражение.
Фотография все еще у тебя в руках. Она лежала в ящике, который ты не открывал несколько месяцев, но сейчас, вглядываясь в нее, ты понимаешь, что пришло время покончить с этими печальными воспоминаниями.
И вот ты поворачиваешь фотографию так, что она становится горизонтальным прямоугольником, и главное — подходишь к тому окну, где в приглушенном свете видна вся комната.
Тогда вовсе не ты порвешь фотографию. Не ты, а кто-то более решительный или кто-то безликий, безымянный. Некий «я-ты», который завис в пустоте за стеклом в нескольких сантиметрах от тебя.
Ты увидишь, как тот, другой, начнет перебирать пальцами, словно рак клешнями, как руки вдруг резко разойдутся в стороны и в каждой руке останется почти по равной половинке фотографии. Затем человек за стеклом соединит их, повторит то же движение, один, два, три раза, столько, сколько сочтет нужным, пока ты сам вдруг не почувствуешь странную усталость в пальцах.
И увидишь в стекле, как падают белые обрывки, точно снежинки, но слишком большие, чтобы ослушаться закона притяжения. Они будут падать быстро, и когда ты бросишь взгляд на ковер, твои глаза наткнутся на искромсанные останки памятной фотографии, которую уже не спасти.
Дождь в воскресенье
На улице дождь, и вы стоите в дверях своего дома, докуривая сигарету, зажатую в губах. И прикидываете: куда же все-таки сходить.
Сегодня воскресенье, а по воскресеньям на улицах — никого.
В руке у вас зонт. Пока этот черный зонт не раскрыт, в нем что-то есть от зловещей птицы.
Вы раскрываете зонт. И нет бы прежде встряхнуть его пару раз! Но теперь, теперь вы сами в ответе за все воспоминания, что дробно стучат над вашей головой.
Вы шагаете под зонтом, и вам кажется, что он слишком большой. Ощущение такое же, как, допустим, при виде заброшенного здания, или когда взглянешь на свободное сиденье в машине, или уставишься на опустевшую половину бессмысленно широкой двуспальной кровати. О это одиночество постелей, где так обильно растут грибы забвения!
За кромкой зонта льет дождь, но и под зонтом набухают влагой воспоминания былых дней, переполняя вас чувством вины за то, что в свое время вы чего-то не предусмотрели.
Вы по-прежнему идете под зонтом. Берете его в другую руку, тщетно придумываете какие-то увертки, на которые горазд одинокий человек воскресным утром. Вы пытаетесь убедить себя, что зонт такой, какой вам нужен, и под ним нет места никому, кроме вас. Но все эти игры с самим собою лишь обостряют чувство одиночества у человека, идущего пешком по воскресной улице.
И тогда вы явственно слышите отзвук собственных шагов. Это как удары тамбурина, под которые гонят каторжников, как свист кнута над гребцом, прикованным к галере, как дробь жестяных барабанчиков, провожающая на гильотину смертника, похожего на тряпичную куклу. И тогда вы чувствуете, что вам не удержать слез. Ну и плачьте себе, не стесняясь.
Надо лишь опустить над собой зонт так, чтобы его черная завеса спрятала от ваших глаз поблескивающую, омытую дождем перспективу улицы, и вы будете видеть лишь игру спиц, этих отливающих серебром ребрышек летучей мыши в часы рассвета. Ну а если побоитесь, что ваши слезы заметят, прикройте зонт так, чтобы голова уткнулась в спицы, будто вы решили проверить, все ли с ними в порядке, струйки дождя тотчас покатятся по вашим плечам, вздрагивающим время от времени, а ваши слезы смешаются с каплями, что стекают по мокрой черной ткани.
«My favorite things»[49]
Он сидит, уставившись в неподвижность вечера, и пытается уловить рисунок в бликах воды на стекле, в лучиках света за окном, которые просачиваются сквозь кусты. Порой он бросает взгляд на часы без всякого желания узнать о времени, потому что оно ему ни к чему.
Как неподвижны эти вечера с их рутинной чередой умирания, которое угадывается и в плотных шторах на окнах, и в последних отблесках света, обрисовывающих все подробности притихшего домашнего интерьера, и в темных решетках, отбивающих всякую охоту выйти из дома за спичками, и в тусклом освещении на улице, и в длинных тенях-обелисках на брусчатой мостовой. Вечер вбирает в себя дым сигареты, топит все в густой, как бы отвердевшей синеве, а на самом деле до того зыбкой, что она сразу куда-то рассеивается, едва он возвращается мыслями к только что прочитанному сообщению о смерти Телониуса Монка[50]. Как глупо, думает он, что в человеке все может перевернуться от заставшей его на улице вести о смерти того, кого он ни разу не видел, потому что их всегда разделяло огромное расстояние. Если он сейчас примется подсчитывать какое, заглянув предварительно в энциклопедию «Эспаса», то вечерние тени совсем застынут и с улицы еще сильнее потянет запахом мочи.
Он помнит, что у него есть пленка с записью квартета Телониуса Монка, что там на сопрано-саксофоне играет сам Джон Колтрейн[51], что с той поры, как он слушал «My favorite things», прошла целая вечность и теперь поздно листать календарь памяти.
Встав на четвереньки, он сдувает с магнитофонных пленок пыль и, лениво пробегая глазами надписи, сделанные цветными чернилами, отмечает мысленно, что они уже выцвели от времени. Вот она, эта пленка, — «My favorite things»!
А Телониус Монк умер на другой стороне планеты, и быть может, последнее, что он вдохнул, — это дым сигарет, тех самых, чей запах сейчас наполняет комнату, где над всем нависла тяжесть недвижного вечера. А ему помнится чувственное дыхание Колтрейна в сопрано-саксофоне.
Он открывает бутылку вина, собираясь выпить в память о человеке, о чьей смерти кричит развернутая страница газеты. Он ставит бобину на магнитофон и усаживается рядом, чтобы не пропустить ни одной ноты, но вместо музыки раздается механическое шипение, точно внутрь забился кот-астматик.
Плохая запись, проносится в голове, и немудрено, ведь первые записи делались безо всякого опыта, второпях, лишь бы присвоить себе эту музыку, заключить в ленту все богатство ее звуков, когда-то заполнявших концертные залы. Присвоить, чтобы не забылось, — вот главная цель! Эта музыка — свидетельство тех дней, где было начало и очевидный конец всего, но без преждевременных, а может, уже запоздалых оценок и выводов. Меж тем минуты проходят одна за одной, и это уже невыносимо, что тут думать — пленка испорчена. Слишком давно ее не слушали, столько было отъездов-переездов. А что если закапать туда оливкового масла?
Он идет на кухню, возвращается с хлебным ножом, пробует вытащить из магнитофона ленту и видит, что она порвалась, вернее, надорвалась, ну это еще полбеды!
И вот он снова на четвереньках, весь напрягся, точно хирург перед неотложной операцией. Даже вспотел, и пальцы кажутся слишком большими, неловкими для такой тонкой работы, но в конце концов ему удается склеить место разрыва. Натянув ленту с помощью карандаша меж двух бобин, он снова вставляет ее в магнитофон. Вот теперь — да, теперь через несколько секунд «My favorite things» разгонит все тягостные мысли об этом застывшем во времени вечере. И чтобы должным образом отметить свою победу, он наливает себе бокал вина до краев.
У него сжимается сердце от первых звуков музыки. Может, думает, так уже было, но затерлось в памяти, ведь это плач, да-да, это плач женщины, еле слышный, сдерживаемый, а сквозь плач пробиваются голоса, это слова утешения, которые в чем-то убеждают, но они приглушены, невнятны, и невозможно разобрать их смысл. Тогда он встает с колен, усиливает звук, приникает ухом к динамику и наконец узнает — это плачет его мать! Голос сквозь слезы говорит о мечтах и надеждах, там, на другом берегу огромного океана, и плач такой тихий, но безутешный, а поверх утешающих голосов он наконец схватывает значение некоторых слов, что-то вроде: я всегда ожидала этой вести, так горько не быть там, рядом с тобой; и вот тут проступает голос брата, более сильный и решительный, знакомый голос, который временами с яростью сплевывает слово «дерьмо»; а затем его перебивают голоса теток, дядьев и самых дальних родственников, которые вдруг всплыли в памяти. Родственники, друзья — сколько раз он обещал написать им, но бросал начатые письма на первой строке, а потом они оказывались в корзине для бумаг, вместе с пробками и бесчисленными окурками сигарет, выкуренных ночами ожидания, полудремы и невольно излившейся спермы.
Теперь он слушает стоя, уткнувшись лбом в стекло, а за окном ничего, кроме теней умирающего вечера. Голоса сменяют друг друга, и слышится звяканье фарфоровых чашечек, и чей-то шепоток предлагает рюмку коньяка, а следом кто-то, не различить кто, говорит, что надо дать рюмочку и старухе, а затем паузы, которыми незамедлительно воспользовался наглый кот-астматик, чье хрипловатое сипенье протискивается меж голосами, этот кот-невидимка живет во всех магнитофонах мира, вот и сейчас он мешает голосу дяди Хулио, а тот почти радостно говорит, что в той стране система социального страхования действует безотказно, и дальние родственники тут же наперебой расхваливают порядок в европейских учреждениях, и вот уже все согласным хором подхватывают, что горевать не надо, удар, само собой, страшный, но если подумать, бедняжка наконец-то обрел покой, мы же все знаем, каким он вышел из тюрьмы, совсем больной, и хоть бы кому пожаловался, мужество его не покидало до последней минуты, это говорит человек, который берется все оформить в консульстве, завтра же он непременно справится насчет цен в «Люфтганзе», но как знать, может, ему хотелось навсегда остаться в той земле?
Ну да, именно этого ему и хотелось, и он нажимает кнопку stop. Затем смотрит в окно на улицу, которая кажется еще пустыннее и неподвижнее, чем всегда. Теперь он собирается выйти, но на сей раз без ключей, поскольку знает, что больше не войдет в этот подъезд, не будет жить в этой квартирке одинокого человека и никогда не услышит «My favorite things» в исполнении квартета Телониуса Монка, где Джон Колтрейн играет на сопрано-саксофоне.
Невстречи в быстротекущем времени
Человек, который торговал сладостями в парке
Жизнь — это нечто великое. Вот сейчас мне почудилось, что все, сделанное мною, было предуказано десять тысяч лет назад, затем я подумал, что мир раскрывается в двух плоскостях, что все порой обретает более чистые цвета и что мы, люди, вовсе не несчастны.
Роберто Арльт «Разъяренная игрушка»[52]Я никогда не делал ничего дурного. У меня свое: мне надо встать в шесть утра, чтобы хватило времени проверить все, что есть в моей плетеной корзине, потому что там всегда получается беспорядок. Мне надо время, чтобы подсчитать, сколько я должен прикупить мятных и анисовых карамелек. Мне надо время, чтобы знать, сколько у меня сломалось, подтаяло шоколадок в обертках, у скольких марципановых солдатиков отвалились или ножки, или ружье деревянное, вот личики, как и прежде, веселые, а виду никакого.
Мне надо время, чтобы понаделать пакетиков для монеток в десять, двадцать, двадцать пять и пятьдесят сентаво. Я из газетной бумаги скручиваю такие трубочки, очень аккуратные, и пишу на них черными чернилами, сколько в каждой денег. Мне надо время, чтобы заранее сделать все, о чем я уже сказал, и еще сварить каши на завтрак, намазать хлеб маргарином. Потом я быстро выскакиваю из дому со складным столиком и корзиной, мне ведь главное — поспеть к семи часам на автобус.
Я никогда не делал ничего дурного. Но все равно за людьми надо глаз да глаз. Всегда найдутся такие, кто меня не знает, им удивительно, чудно, что я пострижен чуть не наголо, что у меня — многие говорят — глаза чересчур большие, хотя я так не считаю, им чудно смотреть на мою одежку, которую мне дают в больнице, хотя все у меня чистенькое и глаженое. И хуже нет, что всегда найдутся люди непорядочные, которым лишь бы что украсть, особенно если моя корзина неплотно закрыта, когда в ней карамели сверху. Такое чаще бывает по понедельникам и по четвергам, в эти дни я хожу на склад и закупаю все, что мне нужно.
Когда я прихожу на площадь, там, кроме голубей, никого, и они, похоже, меня признали, потому что на том месте, где я стою, никогда не бывает голубиного помета, которым покрыто все кругом, точно снегом. Я думаю, голуби благодарны мне за хлебные крошки, которые я собираю дома и приношу им каждую пятницу в пластиковом пакете. Я думаю, голуби понятливые и поэтому уважительно относятся к моему месту, не сравнить с тем, где сидит чистильщик обуви, он немой от рождения. Этот чистильщик бросает в голубей камни и всегда старается поймать самого молоденького. Если, говорит, их отварить, да еще не пожалеть чеснока, они очень полезные для легких. Я считаю, что голуби не терпят немого: его место по утрам сплошь в белом дерьме, и он злобится на них.
Я как приду на площадь, первым делом перекрещусь на Господа нашего Чудотворца, но, по правде, никогда не прошу его ни о чем. Не знаю, но мне очень совестно просить Господа Бога, у него лицо всегда такое серьезное, и перед ним всегда зажигают свечи самые дорогие, я только осеню себя крестом, и все, на меня страх нападает, как гляну в его грозные глаза, в них отражается пламя свечей, и похоже, они сыплют искрами. Еще я страшусь смотреть на его плащ лилового бархата, такого же цвета, как у епископа во время процессии, когда выносят прогуляться всех святых. В такие дни мне надо быть настороже, ведь глаза сами по себе заглядываются на святых, а в прошлый год у меня два раза перевернули складной столик, растоптали все конфеты и шоколадки, и два дня я сидел без еды.
Вот кого я всегда прошу, чтобы день был у меня хороший, так это маленькую Деву Марию Милосердную. Эта Дева Мария куда меньше по величине, чем Господь Бог-Чудотворец, и ее личико гипсовое улыбается в любой день, будто ей спалось очень хорошо и будто каждое утро, прежде чем мы все придем на площадь, кто-то уже успел омыть ее ароматной водой. Вот ее, Деву Марию, я прошу, чтобы день был хороший, без дождя, чтобы у меня ничего не украли, чтобы пришло побольше школьников и чтобы раскупили все, что в моей корзине. Еще я прошу, чтобы она помогла мне не сбиться со счету, когда платят крупными, а я должен дать сдачу. Потому что всякий раз я при этом очень волнуюсь, все лицо в поту, тело зудит, и я слышу, как у меня из желудка подымается дурной запах, который может распугать всех моих покупателей. И когда разволнуюсь, говорить почти не могу, и вот тут чувствую, что глаза у меня действительно чересчур большие.
Перед маленькой Девой Марией никогда не зажигают дорогих тонких восковых свечей. А только стеариновые, которые освещают дома тех, кто живет на другом берегу реки. Вот ей ставят такие, самые дешевые, а я, бывает, приношу маленькой Деве Марии целый пакет карамелек, благодарю ее от всей души за то, что она дарит мне хорошие дни, за то, что продал почти все сласти и шоколадки, и за то, что ни один солдатик марципановый в корзинке не поломался, за то, что детей было много на площади, за хорошую погоду и еще за то, что у меня ничего не украли.
Ровно в четверть восьмого я уже ставлю свой столик и раскладываю на нем все сладости и карамельки по цвету и по вкусу, а шоколадки, те — по цене, и непременно поближе к себе самые дорогие, а марципановые фигурки у меня как на параде, солдатики все стоят строем и впереди знаменосец.
Мне очень нравится ставить в ряды марципановые фигурки. И каждый раз, когда я это делаю, на память приходят совсем другие времена, помнится, как меня за руку вела одна женщина смотреть парад и покупала мне ванильное мороженое. В те совсем другие времена я громко пел — трам-пам-пам, когда на лошадях проезжали военные с барабанами и литаврами, и даже земля от них дрожала. Вот и теперь иной раз расставляю марципановых солдатиков и пою себе — трам-пам-пам, но тихонечко, ведь если услышат, мне станет совестно, и тогда все — разволнуюсь, а вы теперь знаете, что со мной бывает, если я разволнуюсь.
Когда часы на башне ровно в половину восьмого играют эту музыку — она мне очень нравится, потому что голуби под нее кружатся, точно танцуют, — у меня уже все готово, и я поджидаю школьников, которые приходят как раз в это время.
Я никогда не делал ничего дурного. Мое дело — встать в шесть утра и сделать вовремя что положено. Я очень хорошо знаю, я насчет себя просто уверен, что никогда никому не сделал ничего дурного, и поэтому так разнервничался в тот день, когда на машине приехали эти люди в темных очках от солнца и попросили показать разрешение на торговлю.
Я им дал это разрешение, а они почему-то засмеялись, я думал, что это новые инспектора из муниципалитета, что посмотрят мою бумагу и увидят, что у меня все как положено, а они громко рассмеялись и ушли, и мое разрешение на торговлю забрали.
Я знаю, что эти люди снова приедут сюда на машине, как они уже приезжали не один раз.
И я уже нервничаю, волнуюсь, вон, почти не могу говорить. У меня снова все лицо в поту и тело зудом зудит, и я уже чувствую, как из нутра подымается этот противный запах, точно от сдохших лягушек, прогорклый, он может распугать всех моих покупателей. А те, в темных очках, придут, съедят одну-две шоколадки из самых дорогих, не заплатят ничего и только расхохочутся в ответ на мою просьбу отдать лицензию, и мне все равно придется отдать им список всех номеров машин, которые останавливались у книжного магазина за неделю.
И я знаю, не вернут они мне разрешение на продажу, хоть я так молил Деву Марию Милосердную. Не вернут, хоть тут что, хоть как их уговаривай, хоть сто раз скажи, что не делал ничего дурного никогда в жизни.
Машина остановилась в полночь
Внизу остановилась машина. Отсюда, сверху, я могу видеть огни фонарей, они отражаются на потолке. И еще могу видеть, как крупные капли только что стихшего дождя начинают скатываться по стеклу, прокладывая узкие дорожки.
Машина стоит уже несколько минут, но все дверцы закрыты. Машина точно застыла у тротуара, прямо перед входом в это здание, где я пока еще живу. Из машины никто не вышел. Подкатила, остановилась, мотор выключен, и вот стоит себе преспокойно, замерла, точно ночь, и никто из нее не выходит.
Как только машина подъехала, там сразу погасили огни. Я — тоже.
Машина — черная, или мне так кажется отсюда, сверху. Может, и не вся черная, не знаю, улица очень плохо освещена, и не знаю, почему я так упорно держу в руках эту книгу с желтой обложкой. Не помню ни автора, ни содержания, не помню даже, читал ли эту книгу, а почему-то не выпускаю из рук.
На улице никого. Хоть бы кто надумал погулять с собакой или что-то купить, но я отлично понимаю, что среди ночи такое совершенно невозможно. И все же так хотелось бы увидеть кого-то на улице, ну что ли с сумкой в руке, и чтобы остановился на пару секунд у двери. Тогда я бы увидел только его голову и мыски обуви или поля шляпы и мыски обуви, единственное, что мне видно из окна. Пусть бы остановился кто-то молодой и тоже заметил машину. Но на улице никого, ни одной живой души, и я знаю, что в такой поздний час иначе и быть не может.
Машина большая, или мне так кажется сверху. У нее длинный капот и перед мотором, наверно, хромированная решетка радиатора, которую скрывает тень, упавшая на землю. Сзади светлеет четкая полоса багажника. Я уже видел эту машину и даже сверху мог бы узнать ее хоть сзади, хоть спереди, но все-таки трудно смотреть на машины отсюда, с пятого этажа.
Я притаился возле окна, правда, в квартире надо мной слишком шумят. А мне во что бы то ни стало нужна тишина, такая же тишина, как здесь, у меня, я в нее завернулся и стою не шелохнувшись, у окна, чувствуя плечом холодок стены.
Я стараюсь не двигаться, и если буду стоять вот так, почти не дыша, если не издам ни звука, не позволю себе даже думать, не сделаю ни единой попытки выпустить из рук эту книгу в желтой обложке, то, может, в машине наконец зажгут фары, заурчит мотор и она уедет. Тогда я спущусь вниз, куплю сигареты и сразу — к Браулио. Сейчас главное, чтобы наверху тоже поняли, что мне позарез нужна полная тишина и чтобы машина отъехала.
Как только машина исчезнет, я тотчас — к Браулио, расскажу ему, что какая-то машина стояла у моей двери. И еще скажу, что страху натерпелся, слов нет, а Браулио скажет, да ладно, ведь мы с тобой знаем, что в этом городе тебе осталось продержаться всего несколько дней.
Я знаю, Браулио позволит пожить у него эти четыре дня до отъезда. Дом Браулио — это верняк. Никакая машина не остановится перед домом Браулио.
Но машина по-прежнему внизу, и вроде бы там закурили. Сверху было видно, что внутри мелькнул желтый огонек. То ли спичка, то ли зажигалка, не знаю, не смог различить. Очень трудно разобраться в таких мелочах с высоты пятого этажа.
А я стою молчком, вжимаясь в стену, и вдруг тишину рассекло грохотом, точно молнией. Я рывком к окну — машина все еще стоит внизу с погашенными фарами, а вся моя квартира полнится пронзительно режущим звуком, будто стрекочет какой-то гигантский сверчок. И у меня дикое желание закричать, что сейчас мне нужна только тишина, тишина и время. Но пронзительные звонки телефона раздирают мою кожу, стены, рвут все на клочки, и тогда я на цыпочках подхожу к ночному столику и снимаю трубку. Это — Алисия.
Алисия не знает про машину, которая остановилась внизу у дверей. Алисия не знает, что я уже несколько часов кряду стою как вкопанный возле окна. Алисия не знает, что меня всего колотит, что по спине бежит холодный пот, и видимо, поэтому спрашивает, что случилось, почему я говорю так медленно, и когда я начинаю объяснять, что, к сожалению, должен положить трубку, что очень занят, Алисия спрашивает, кто со мной в квартире, и я в ответ — никого, что я просто очень занят, и тогда Алисия огорчается там, на другом конце города, и говорит, что наверняка я с кем-то в квартире, и повышает голос, как только она одна умеет — не повышая его, ее крик скорее похож на громкий шепот. И я ей говорю, что вовсе нет, что она не права, что я просто жду очень важного звонка.
Алисия начинает рыдать, и я прижимаю трубку к уху, ведь сейчас мне нужнее всего тишина, тишина и время, потому что машина у моего дома стоит и стоит.
Я стараюсь успокоить Алисию, говорю, что позвоню позже, после звонка, который жду с минуты на минуту, говорю, что завтра непременно пойдем с ней в театр, говорю, что купим диск Гарри Белафонте[53] и послушаем его вместе у Браулио. Алисия спрашивает, люблю я ее или нет, и я говорю, что да, люблю, потому что так оно и есть, хотя я пока ничего не сказал ей насчет моего отъезда, и она вдруг звонит, звонит в такой момент, когда единственное, что мне необходимо, это тишина, тишина и время. Как только Алисия вешает трубку, я подхожу к окну. Внизу все та же машина с погашенными фарами. И только я наклонился, чтобы зажечь сигарету, как услышал, что внизу открылась наружная дверь. Я задуваю спичку и вжимаюсь в стену, затаив дыхание, чтобы не упустить ни одного звука.
Стою, прилепился к стене словно муха, почти касаясь полки, где внизу у меня диски, которые тоже подарю Браулио, он-то наверняка позволит переждать у него эти несколько дней до отъезда. Браулио завтра поможет — это я знаю. Я знаю, что он поставит свою машину как раз на то место, где сейчас торчит эта, откуда вышли несколько человек, и мы снесем вниз диски, и книги, и мою теплую одежду, надо непременно взять все зимнее, ведь там в эту пору наверняка холодно. И вот я стою, прилепившись к стене, и уже слышу, как люди поднимаются по лестнице. Я слышу их шаги, они идут медленно, и когда меняется ритм их шагов, понятно, что они на лестничной площадке.
Теперь они дошли до общей двери и вот уже идут по коридору. Смотрят, небось, на таблички с номерами. Да. Так, видимо, и есть. Они останавливаются через каждые три-четыре шага. Думаю, им трудно разобрать номера при таком освещении. Лампочка слабенькая.
Сейчас, я знаю, чувствую, они стоят перед моей дверью, знаю, что смотрят, какой над ней номер, и один из них наклонился, чтобы прочесть мою фамилию на бронзовой табличке. Вдруг да и пройдут дальше по коридору, увидят, что у меня темно, полнейшая тишина, и решат, что им дали не тот адрес, и тогда, очень даже возможно, спустятся по лестнице, но мало ли, может, они слышали телефонный звонок, который заполонил всю комнату, когда позвонила Алисия.
Теперь они у моей двери, я даже различаю тень, она движется и накрывает полоску света, проникающую сквозь щель. Да нет, тень никуда не движется, у меня, видимо, нервы совсем разошлись, кто знает, может, это коварные шутки моего собственного воображения, да, а может, я прекрасно сознаю, что вот стою здесь затаенно, прилепившись к стене точно муха, а кто-то выжидает у моей двери с другой стороны.
Все кругом затопила тяжелая тишина, и сквозь оконные стекла я вижу, как среди деревьев гуляет ветер. Они, может, сверят номер над моей дверью и даже позвонят своему шефу по мобильнику, может, будут говорить с управлением, ждать новых указаний, скажут, что в квартире темно и совсем тихо, может, закурят и, развернувшись, пойдут обратно, может, когда эти люди окажутся на улице, возле машины, я услышу, как они включают мотор и уезжают. И тогда я, выждав немного, спущусь вниз, куплю сигарет и пойду к Браулио, расскажу ему, что внизу возле моей двери стояла машина, и что кто-то поднялся, и что я стоял все это время почти не шелохнувшись, затаился в полной темноте. Скажу Браулио, что сумел обмануть их, что мне было страшно до смерти, но все-таки я сумел обмануть их и они ушли. У Браулио все спокойно, и он охотно оставит меня в своем доме на несколько дней до отъезда, даже не догадываясь, что я подарю ему все диски и книги, а вот теперь слышны непонятные звуки, да, торопливо долбят чем-то металлическим и колотят в мою дверь, я это слышу.
В дверь стучат все сильнее, а я стою, прижимаясь к стене. И думаю, что если буду так стоять тихо-тихо, без единого звука, они решат, что меня нет, что в квартире пусто, ну и тогда уйдут, а я услышу, как они будут спускаться по ступенькам, которые всегда скрипят, но удары в дверь не смолкают, и теперь у меня уже нет сил понять, молчу я или кричу, что здесь никого нет, что я еще не приходил и пусть они уходят, что мне нужна только тишина, тишина и время, потому что уже не один час там внизу стоит машина, стоит с погашенными фарами, и на улице — никого, кто бы мог увидеть, что она черного цвета и что внутри каждый раз мелькают огоньки, когда они зажигают сигареты, но в дверь колотят по-прежнему, беспрерывно, и я уже различаю, теперь — да, свой сдавленный страхом голос, потому что ору, чтобы они убирались, что в доме никого нет, что меня здесь нет и никогда не было, а они требуют открыть дверь немедля, иначе будут стрелять, и пока гремят эти удары, я влезаю на кресло, оттуда дотягиваюсь до рамы окна, распахиваю его и чувствую, как влажный зимний ветер врывается в комнату, глухо натыкаясь на мебель, и снова мне видно, что машина стоит внизу, как стояла, с погашенными фарами, однако теперь у нее открыты две дверцы, и я вижу перед мотором прямую хромированную решетку, которая скрывается в тени, падающей на землю. И вижу еще два блестящих ободка фар, только теперь удары в дверь уходят от меня все дальше и дальше, а машина приближается ко мне, к моим зрачкам все быстрее, стремительнее, и откуда-то кричит женщина, не могу разобрать — откуда.
Патриотические чувства
Человек встает в семь утра и выводит всю свою семью из дома, расположенного в рабочем квартале Сантьяго.
Когда все домашние по его команде выстраиваются шеренгой лицом к дому, он поднимает аргентинский национальный флаг, и семейный клан, старательно открывая рты, с неподдельным волнением запевает гимн дружественной страны.
Свидетелем этого действа оказывается один из чиновников министерства иностранных дел, который проезжает мимо по причине каких-то непредвиденных обстоятельств и озабоченно заглядывает в книжечку знаменательных дат.
Он прибавляет скорость, с волнением вбегает в свой кабинет и приказывает секретарше тщательно проверить все памятные даты, а затем выполнить его указания.
В девять утра все здание министерства становится бушующим морем письменных и устных справок, взаимных обвинений в отсутствии оперативности и более того — в возможном саботаже. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется прием посетителей, и еле-еле удается выдворить некого типа в весьма экстравагантных одеждах, который возмущенно кричит по-французски, что он единственный полномочный представитель Федеративной и Независимой Республики Хануби, расположенной на юго-западном берегу озера Соналия, которое из-за ошибки, допущенной в National Geographic, на всех картах названо морем Береники.
В девять часов тридцать пять минут министр иностранных дел отдает себе отчет в том, что он совершенно одинок и что его окружает скопище никчемных людей. И посему приказывает для начала возложить венок к конной статуе генерала Сан Мартина[54] и тут же звонит своему коллеге, министру образования и культуры, с просьбой незамедлительно пригнать к памятнику учеников и учителей из ближайших учебных заведений.
В одиннадцать тридцать пять у пьедестала Героя уже тысяча двести школьников и полсотни учителей. Все собравшиеся быстро строятся рядами, ибо с минуты на минуту прибудет атташе по коммерческим делам посольства дружественной нации, который был застигнут нежданной вестью в кресле у стоматолога с широко раскрытым ртом, ибо еще не укрепилась до конца золотая коронка, только что поставленная на левый резец.
В одиннадцать часов пятьдесят минут — согласно протоколу — на месте событий появляется атташе по коммерческим делам и срывающимся от волнения голосом произносит речь, в которой говорит, что этот торжественный акт еще раз подтверждает нерушимость дружеских связей между двумя народами в их общем пути к светлому будущему. Его слова встречены бурей овации школьников, и атташе по коммерческим делам с тайной завистью смотрит на чиновников из чилийского протокольного отдела, которые каким-то образом умудрились вспомнить, черт бы их взял, об этом знаменательном дне.
Следом на подмостках возникает высокий чиновник министерства иностранных дел и разражается тирадой о героизме, проявленном как чилийцами, так и аргентинцами в сражении, которому с такими искренними чувствами отдается дань великого уважения.
Все выступают предельно кратко, в строгом соответствии с протоколом. И завершает торжественный акт учительница из колледжа имени Сармьенто, которая приторным голосом читает строфы из «Мартина Фьерро»[55]. Затем меж широко расставленных ног героического коня возлагаются венки, и в благоговейной тишине собравшиеся слушают гимны двух стран. Последние рукопожатия, отъезжают официальные машины под вой сирен полицейского кортежа, оркестранты рассаживаются в автобусе, который увозит их в казарму, а школьники бегут в парк.
Предусмотрительный чиновник, который вовремя сумел оживить в памяти министра почти забытое историческое событие, получает письменную благодарность на листке своей жизни, и теперь, само собой, его ждет повышение в должности.
Меж тем перед домом в многолюдном квартале Сантьяго вся семья в десятый раз повторяет церемонию поднятия аргентинского флага, и уже совсем слаженно звучит их разноголосый хор, исполняющий национальный гимн, потому что все должно быть устроено наилучшим образом к полудню, когда домой приедет из Мендосы[56] старший брат с американскими джинсами для всех отпрысков и с долгоиграющей пластинкой Гарделя[57] для любимого дедушки.
Точное время невстречи
Ортега завел будильник на половину пятого утра и на всякий случай попросил приятеля разбудить его в это же время по телефону.
Расшнуровав ботинки, он подумал, что нет смысла ложиться, наверняка проворочается без сна всю ночь, путаясь в белых простынях. Словом, он решительно отошел от постели, направился в ванную и ополоснул лицо холодной водой. Затем набросил пиджак на плечи, вышел из дому и направился к центральному вокзалу.
У самых дверей огромного серого здания ему вдруг не захотелось идти внутрь. Ортега совершенно не выносил тягостной атмосферы вокзала, где скучающие пассажиры ждут своего поезда, дымя сигаретами и зевая во весь рот. У него еще много времени. Четыре с лишним часа. В этой до боли лаконичной телеграмме четко указывалось время прибытия поезда. И Ортега зашел в привокзальное кафе.
«ПРИБЫВАЮ ПОЕЗДОМ ПЯТЬ ПЯТНАДЦАТЬ ТЧК ВСТРЕЧАЙ ТЧК ЭЛЕНА ТЧК»
Когда официантка принесла рюмку коньяка, он вздохнул, смутно сознавая, что его наконец отпустило. Почувствовал, что внутренняя тревога, мучавшая его вот уже несколько недель, вдруг пропала, однако эта странная — откуда что взялось! — уверенность в том, что он по-прежнему влюблен, вызывала глухую досаду.
Звонок Элены застал его врасплох в комнате, где он вел жизнь одинокого мужчины. Застал как раз в те минуты, когда он тщетно пытался отогнать от себя воспоминания, которые промельком, обрывком подсовывала каждая страница романа Семпруна[58].
Голос Элены — ее голос нельзя спутать ни с каким другим! — привел Ортегу в такое замешательство, что, онемев, он держал телефонную трубку так, словно в руках живая змея, и Элена несколько раз спросила, не случился ли с ним удар.
Так же лаконично, как в телеграмме, она сообщила, что снова в Париже, что приехала туда из Мадрида, где у нее еще есть друзья, что постарела, и с нажимом в голосе добавила: постарела очень и очень.
Пятнадцать лет оставляют свои мерзкие следы, множа седину и морщины, которые превращают нашу душу в карту умерших чувств и забытых мест.
«Танго! — сказала в ответ Элена. — Слова для танго».
Ортега сделал маленький глоток коньяка, пробуя на вкус, и сказал себе, что стареть — глупо. И повторил для убедительности, что нелепо смотреть на себя в зеркало по утрам и каждый раз невесело отмечать, что какая-то частичка жизни, то есть нас самих, затерялась в комнате, где мы спим, пропала без следа. Ортега, проклиная, как всегда, засевшего в его шкуре писателя, не мог сдержать улыбки. Он ведь впервые подумал об этом в своей комнате часов в девять утра, когда женщина, что приходит к нему убираться, протирала пепельницы, открывала окна и трясла простыни. Сколько волосинок, воспоминаний, шелушинок кожи, снов, перхоти и частичек его самого падают и становятся удобрением для кустов роз во дворике. Ему вспомнилась поездка с Эленой — сколько их было! — из Мадрида в Барселону, а из Барселоны в Валенсию. «Путник, нет дорог…»[59]
Во время этой поездки — теперь в лабиринтах памяти уже не отыщешь точную дату — Ортега пересказывал Элене во всех подробностях сюжет повести, которую надеялся когда-нибудь написать. Все очень просто.
Человек рождается в поезде, в вагоне второго класса. Его поят молоком, которое покупают на станциях. Ребенок, разумеется, взрослеет, обретая самые обычные, но совершенно необходимые навыки для той действительности, в которой живет, но с поезда никогда не сходит. Он ведет спокойную, размеренную жизнь, ничего не делает, лишь смотрит и смотрит в окно, но все это до тех пор, пока его не начнет глодать червячок любви. И тут человеку открывается, что ему выпал особый дар судьбы. Он избежит любой неприятности в своей жизни, если сойдет с поезда на первой же станции и пересядет в поезд, идущий в обратном направлении. Человек имеет право пользоваться этим спасительным трюком всякий раз, когда столкнется с чем-либо, что хоть как-то грозит нарушить его спокойную жизнь вечного пассажира.
«Это философия тех, кто спешит подставить свою задницу под шприц», — сказала в ответ Элена.
После затянувшегося молчания в телефоне голос Элены сформулировал несколько вопросов:
«И ты? Похоже, навсегда обосновался в Гамбурге. Увижу, наверно, настоящего немецкого господина. Ты тоже носишь синюю морскую шапочку с козырьком? Небось, завел себе пухленькую немочку и упорно приучаешь ее ненавидеть порядок? А мои письма получал? И хоть раз ответил?»
Пятнадцать лет. Париж. Этот идиотский город.
Они расстались, когда последнюю баррикаду растащили без особой охоты муниципальные работяги. И последний крик протеста обернулся вздохом раскаяния в кабинете вполне обеспеченного папаши.
От старых членов коммуны осталась лишь потертая записная книжка с адресами, где многие давно уже вычеркнуты.
Элена.
Когда священный порядок победительно заполонил парижские улицы и французы с небывалым для них пылом стали напяливать на себя тупое высокомерие, его жизнь с Эленой превратилась в какой-то невыносимый хаос вынужденных переездов, которые занесли Элену в одну из жарких стран Центральной Америки, а его — в зеленый город Гамбург, где он теперь сидит за третьей рюмкой коньяка и ждет. Порой Ортега встречал на улицах старых знакомых, эти люди при воспоминании о былых временах изображали подобие любезной улыбки, но тут же взглядывали на часы и, торопливо извиняясь, говорили, что опаздывают на важную лекцию.
От одного из них он узнал, что Элена ездит по странам, чьи названия напоминают о пряных запахах экзотических фруктов, о пиратских разбоях, о безмолвных часах у прозрачного моря и о коже пьяняще медового загара.
Ортега заплатил за коньяк и вышел из кафе. На вокзале остановился у табло прибытия поездов, где уже было указано, на какой перрон придет экспресс Париж — Варшава.
Он спустился по лестницам и стал ждать. Оставалось всего пять минут.
Ортега сел на ступеньку, чтобы приготовить нужные слова. Слова, которые смогли бы стать мостиком через пропасть глубиной в пятнадцать лет.
Он, конечно, постарается не затрагивать прошлое, но они все равно будут говорить о тех днях, о мечтах, о том, что захотели чего-то недосягаемого и что завтра — это первый день того, что от тебя осталось, попробуем, а вдруг, ну и т. д. О давних паролях и инструкциях, которые, бывало, при встречах с Дани, с Красным, — он превратился в безупречного издателя желтой прессы — застревали у него густой мокротой в горле, и хотелось ее немедленно отхаркнуть, хотелось выплюнуть всю ту скверную историю.
Голос из репродуктора, объявивший о прибытии экспресса, разом оторвал его от безуспешных попыток найти нужные слова.
Поезд остановился, и Ортега, вскочив, вытянул голову вперед так, что у него напряглись шейные мускулы. Он вглядывался в сонные лица пассажиров, выходящих из вагонов, и в озабоченные лица тех, кто толпился у вагонов с билетами в руках. В этой толкотне он почувствовал, что нервы его сдают. Ортега вообще не выносил ни встреч, ни проводов. Коммуна — вот единственное, что оказалось в самый раз для них обоих, лишь коммуна создавала возможность особой жизни, ничем не прерываемой, ничем не ограниченной. Ортега быстро зашагал по перрону, заглядывая в слабо освещенные вагоны. Он добежал до последнего вагона, увертываясь не хуже игрока в регби от опаздывающих пассажиров и почтовых тележек, но тут его слух резанул свисток, означавший отправление поезда. Три минуты, пока стоял поезд, испарились мгновенно для того, кто ждал пятнадцать лет. У него замелькала мысль об ошибке в расписании, а может, что-то напутал телеграфист, но когда поезд уже тронулся, он увидел лицо Элены, точно нарисованное на стекле.
— Элена! — закричал он. — Элена!
Женщина лишь улыбнулась в ответ. И послала ему быстрый поцелуй, прижав к губам два пальца, а потом указала на слово «Варшава» сбоку вагона.
Ортега застыл на перроне, глядя вслед поезду, исчезавшему в белесой дымке рассветного часа. И при виде этой утренней зари он, кажется, все понял. Элена. Варшава. Борьба против власти. Черт побери! Все та же песня…
Краткая биография одного из великих мира сего
В этом поезде, который приближается сюда через болота, в этом поезде, который мы пока не видим, но знаем — он все ближе, и уже слышны проклятья пассажиров, отбивающихся от москитов, — так вот, в этом поезде, как всегда, везут нам жизнь и смерть.
Вы это знаете, но из упрямства делаете вид, что вам это без разницы, и глаза у вас совсем пустые. Вы это знаете, потому как именно по вашему приказу протянули сюда железную дорогу, которая из чужих широт принесла нам страшное опустошение, доставила в своем стальном чреве беды, неведомые доселе в здешних краях.
А я все говорю и говорю с вами, мой генерал, коли мне велено занимать вас разговорами, пока не прибудет поезд, пока не остановится, пока не сойдут на перрон правительственные чиновники с официальными бумагами, в которых будет сказано, кто вы — герой или подонок. Но, вижу, вы меня не слушаете. Все смотрите на улицу, уставившись в одну точку. Вы меня не слушаете, я знаю, уперлись с чего-то глазами в край синей жестянки, где указано название улицы.
Улица Короля Дона Педро[60]. Откуда взялся этот король? — задались тогда вопросом очередные члены муниципального совета. А у родины всегда столько героев, терпеливо ждущих случая в архивах забвенья, что извлеки наугад любого, дай его имя какой-либо улице и не ошибешься, как к примеру, с этой, которая начинается с привокзальных борделей и заканчивается белыми стенами тюрьмы.
«Это кастильский король, дубины. Его имя есть в любом издании альманаха «Бристоль».
После вашего указания, мой генерал, учителя истории каждый день толклись у почты в ожидании книг канцлера Лопеса де Айялы[61], и графа де ла Рока, Хуана Антонио де Вера и Фигероа[62]. Но, как оказалось, в их книгах столько страшного понаписано о жизни этого жестокого испанца, что ученикам лучше не рассказывать. А мы — черт побери! — уже дали этой улице его имя.
При всем моем почтении к вам, мой генерал, я скажу, что вы сейчас похожи на подбитую птицу.
Когда я открыл дверь этой камеры, чтобы впустить сюда хоть немного дневного света, вы на меня так уставились, будто ждете, что вам объяснят наконец, за что вас сунули в такое непотребное место. Я уверен, что вы вспомнили другую комнату, тоже темную, без окон, провонявшую крысами и мочой ночных тварей, ту другую, в которой вас заперли в день вашего рождения, когда вам стукнуло пятнадцать годков. К тому времени вы устали бродяжничать по деревням, выпрашивая кусок юкки, чтобы хоть как-то обмануть голод.
В эту темную комнату вас бросили, мой генерал, измолотив изрядно за то, что вы оставили на растерзание стервятников бездыханное тело вашей святой матушки. И когда дверь наконец открыли, человек с надменным лицом торжественно представил вам девять юношей, которые смотрели на вас с изумлением, не в состоянии поверить в силу ваших гибких крестьянских мышц, и кричали: «Посмотрите, да это обезьяна!» «Посмотрите, это настоящая обезьяна!» — кричали каждый раз, глядя, как вы ловко залезаете на растущие во дворе высоченные агуакате[63], чтобы сорвать самые сладкие, самые спелые плоды. Они, эти юноши, были «другими», мой генерал. Они спали в прохладных комнатах большого дома с окнами, защищенными, как положено, от жужжанья слепней, они безмятежно отдыхали за белым вздохом тончайшей тюлевой сетки, ограждавшей их от туч песчинок, от этих проклятых москитов, которые по ночам залезают в волосы и мучат укусами даже самые добрые мысли. А вам, мой генерал, пришлось спать в той сырой комнатенке, рядом с хлевом, потому как вы народились незаконно, но по счастью были взяты в дом к вашему сеньору отцу, который сделал это, усовестясь, в приливе чувств, схожих с теми, что он испытал после того, как самолично выпорол прямо на месте преступления, то есть там, где вы лежали, зарывшись в грудях кухарки, выпорол, а потом обнял и, глядя в ваши глаза, сказал, что позволил себе такое исключительно ради вашего блага. И что, мол, этот хлыст всевластного всадника, от щедрот которого вся ваша задница превратилась в сплошной синяк, — тоже для вашего блага. И что он понимает — вам приспичило пустить в ход ваше мужское хозяйство, но так ли сяк ли, а негоже для начала заваливать служанок, которых он держит под своей крышей. И еще сказал, что мужской пыл в первые годы надо тратить по-умному, мол, взять, к примеру, меня — однажды, во мне взыграло, и я нахрапом взял ту, которая и стала твоей драгоценной матушкой, обрюхатил, бедную, сам того не желая. Запомни, сказал, раз и навсегда: простые крестьянки могут забеременеть от одного твоего взгляда, и с какой радости плодить детей повсюду, если ты еще не научился вытирать сопли.
И вы, мой генерал, все поняли как надо. Поняли среди прочего, что в этой жизни есть такие грозные пропасти, к которым лучше не подходить слишком близко. Поняли, что ваша грива, жесткая как у мула, никогда не станет послушной как волосы у ваших сводных братьев, что ваша темная в желтизну кожа никогда не обретет матового блеска, который есть у тех, кто в охотку греется под солнечными лучами на лужайке собственного дома. Вы поняли, мой генерал, что вашей коже написано на роду быть задубелой, как у барабана, а уж цвет ее определят дожди и голод, которые выпадут на вашу долю. К тому же, мой генерал, вы еще поняли по улыбчивым отказам служанок, которые сперва говорят «нет, нет!», а потом «ну ладно, только где в уголочке», поняли, как приятно чувствовать, что держишь в своих руках бразды власти, пусть и небольшой, но она будет возрастать, набирать силу с годами и мудростью ваших решений и поступков. Вы поняли, мой генерал, что эта жизнь для людей твердых характером. Для тех, кто способен пригнуть голову, когда им это нужно, и спрятать руки, чтобы другие не углядели росария нарастающей ненависти, который медленно перебирают пальцы.
Все это вы уразумели, мой генерал. И в комнате, провонявшей крысами и мочой ночных тварей, дождавшись наконец, когда ваш сеньор папаша покончит с ужином и выйдет, по обыкновению, на пользительную для пищеварения прогулку со своими любимыми собаками, вы подбежали к нему и со всем почтением сказали, что мечтаете стать военным.
Вам вроде нравится, что я с вами говорю, мой генерал. А мне велено, мне приказали занимать вас разговорами, пока мы с вами ждем этого поезда, который пересекает болото за болотом. Это ваш поезд, генерал. Тот самый поезд, что подарила нам Company после того, как вы решились навсегда заткнуть глотки всем этим бандитам, поэтам и учителям начальной школы за то, что они нам до смерти надоели — таскаются по городам, народ будоражат своими речами, мол, бананы — это зеленое дерьмо, которое только марает столы бедняков.
Еще дымятся костры памяти, те самые, на которых по вашему приказу жарили на медленном огне всех безбожников, либералов, всех тех, кто своими подстрекательными речами норовил заступить дорогу прогрессу нашей родины.
Словом, вы у нас стали военным, и каким! Любо-дорого смотреть! Это вы однажды поутру самолично выпихнули из правительственного дворца всех гражданских, вступивших в сговор против интересов нации, и вы тогда сказали, что пора наконец навести порядок в этой клоаке, что обстоятельства вынуждают вас надеть мундир военной власти и что это лишь временные меры. И какие настали времена, мой генерал. Веселые времена, когда то и дело оглашали торжественные приказы, и не умолкала хвастливая трескотня гражданских лиц, призывающих к проведению демократических выборов, а меж тем тайные руки власти искусно подсовывали сокровища национального достояния под кровать оппозиционеров. Тех самых, которых позднее безжалостно вышвырнут из окон дворца руками оголтелой черни, этого осмелевшего сброда, разгоряченного спиртными напитками в ваших кабаках. Бедняги, эти оппозиционеры! Их волокли по земле, пинали ногами сколько было сил, а те, пока их рты не закрылись навсегда, все клялись, что знать не знают ничего о картинах из церкви Непорочного Зачатия, которые нашлись вдруг под ковровой скатертью в столовой, когда в дом ворвался народ, возмущенный таким бесстыдным грабежом священных алтарей своей родины, и не смог сдержать праведного гнева. Потому что украсть, в конце концов, можно все, черт подери, но не национальную гордость: ее не запрячешь ни в один мешок, как говорили непреклонные прокуроры военного суда, перед тем как просить у суда высшей меры наказания для виновных с конфискацией их имущества, а также подвергнуть их всеобщему позору. Этот приговор вовсе не был вашей жестокой шуткой, ибо то, что не доели собаки, тут же склевали ястребы, поселившиеся в мангровых лесах, и от казненных не осталось ничего, кроме их имен.
Вы быстро взяли всю власть в свои руки, ну а нам — чего, не извольте беспокоиться… Ведь именно этот поезд, который торопится сюда, пересекая болота, не поленился увезти вас, мой генерал, вместе с вашей безупречной армией в самые дикие края сельвы, которых не было даже в воображении лучших картографов. Поезд отправлялся забитый пеонами и стальными полосами, которые двигали прогресс, и возвращался груженный самыми мелкими зелеными бананами и людьми, которые безо всякой музыки безостановочно плясали, очумевшие от малярийного жара.
«А теперь куда вы собрались, наш генерал?» Кричала ему толпа, собравшаяся у станции. А вы ей в ответ: «Доберемся до волшебного Затерянного города Цезарей[64], где дома выложены из брусков настоящего золота, а небосвод над ними увешан самородками изумруда, которые падают наземь, когда дуют добрые ветры астрологических перемен. Я вернусь в доспехах самого Понсе де Леона[65], и вы это увидите, сукины дети!»
Ух, как вы все это нам пели, мой генерал! Черт возьми! Говорили с нами из своего личного вагона, зароняя в нас надежду о жизни в богатстве, а рядом с вами — мистеры Company. Говорили, что когда поезд доедет до другого края непролазной сельвы, устроите такой порядок, при котором все граждане смогут есть рыбу из обоих океанов по очереди и на каждую святую пятницу. Вы нам обещали хлеба такой величины, что придется издать президентский декрет об ограничении их размеров, иначе эти хлеба не внести в дом. Вы нам сулили уйму денег, потому что дети-подкидыши будут заранее вытаскивать проигрышный билет лотереи. А мы радостно отбивали ладоши, мой генерал, до тех пор, пока ваш поезд не скрывался в горных лесах.
Вы помните, генерал, тот день, когда ваш поезд остановился с диким скрежетом и уже без мистеров из Company? Ваш поезд заполнил тогда наши улицы солдатами, потому как вы согнали нас как скот на главной площади, чтобы сообщить, что нам объявили войну, что спокойная праздная жизнь закончилась и настало время показать, что мы могутные мужики.
В одно мгновенье по вашей воле звуки гитар сменились жалостными криками тех, кто вас молил устами, почерневшими от ненависти и пороха: «Позволь умереть нам сразу, генерал, посмотри, посмотри — снаряд отнял у меня обе ноги, либеральную и консерваторскую, теперь уж мне не дойти ни туда ни сюда. Посмотри, генерал, я теперь кусок дерьма, пусти в меня пулю, здесь, на месте, пусти эту пулю прямо промеж моих глаз, которые угасли намного раньше, прежде чем узнать вас на портрете, нарисованном на бумажках в сто песо, сделай милость, генерал!» А вы в ответ: «Не притворяйся увечным, дубина, раз есть руки, значит, можно показать всю мужскую оснастку».
И вот вы нас одели в солдатскую форму, мой генерал. В вашем поезде был вагон с хирургами, которые с пилой в руках осматривали умирающих и именем Родины наспех отпиливали конечности и прочие члены, которые по их разумению могли пригодиться. Поезд вез нас пока еще целехоньких к полям сражений, но мы уже не надеялись остаться с руками-ногами и всем прочим, если вернемся.
Поезд уже был не в радость. Женщины больше не приходили к его прибытию, чтобы вы стали крестным отцом их седьмого ребенка, как в добрые старые времена, когда вы брали младенцев на руки, не разбирая, зачаты они по закону, на белых простынях, или стали плодом греха в часы карнавального разгула.
Вы помните то утро, когда поезд не сдвинулся с места и вы в закрытом вагоне били по щекам инженеров, которые подсунули вам фальшивые географические карты. Это был тот самый день, когда, еще толком не проснувшись, мы узнали, что наш город в осаде.
Нам оставалось лишь положиться на судьбу и надеяться, что как-то вылезем из беды. И чего нам это стоило! Мы спалили лес и все, что было посажено нашими руками. Мы свели огнем поля зеленого ячменя и плантации самых сладких бананов, мы не пожалели эвкалиптовые леса, исцеляющие от чахотки, и луга, где паслись коровы наших помещиков. Мы все свели огнем. Языки его пламени можно было видеть с берегов двух океанов, и клубы дыма делали черными бараньи личики ангелочков в этих окаянных небесах, которые оставили нас, беззащитных и сирых. Мы свели огнем священного патриотизма все и засеяли наши поля четырехлистным клевером. Мы переловили всех зайцев и у каждого поотрезали все четыре лапки; остались миллионы шариков, пушистых и окровавленных, которые пытались бежать, опираясь на свои длинные уши, и все это для того, чтобы ваши солдаты, генерал, прицепили к воротникам не одну, а четыре заячьи лапы, которые служат оберегом. Мы раздали всем скапулярии[66], на которых были изображены все до единого святые, указанные в альманахе «Бристоль». Это были огромные скапулярии, и самые отъявленные еретики кутались в них как в одеяла, когда их до потрохов пробирала дрожь тропической лихорадки. В то самое время, мой генерал, вы, сидя на своем кресле безраздельной власти, издали чрезвычайный президентский указ военного времени, согласно которому горб — это добрая примета, и всем горбунам, проживавшим на нашей территории, назначили пожизненную пенсию, размер которой пропорционален величине горба, одновременно, мой генерал, по вашему приказу немедленно изгнали из страны всех чужестранцев, кроме горбунов. В скором времени мы увидели, что нашу страну наводнили горбуны, прибывшие со всех широт секстанта; к этому нашествию прибавились еще и тысячи увечных, когда вы, генерал, своим президентским декретом военного времени объявили всех безруких достойными гражданами, которые принесут удачу стране, всех безруких, что осмелились поднять руку на своих драгоценных папаш и мамаш, всех хромых, что пошли по тропам зла и порока, всех слепцов, что пели «жизнь моя, ты не покинь меня», играя на старых разбитых аккордеонах, и пытались заглянуть за пределы дозволенного в Священном Писании, и еще всех, кто стал безухим за то, что слушал россказни цыган, всех близняшек, всех сросшихся спинами (оттого, что они дети греха кузенов с кузинами, жившими по соседству), и еще всех, кто родился на седьмом месяце, а это дети неведомых отцов, которые слишком наспех занимались любовью с их будущими матерями, печальными женщинами, в чьих глазах застыли галактические облака, оттого что они долго вздыхали, глядя на небо в свои критические дни.
Все понаехали, генерал. Понаехали тысячи и тысячи увечных. Их стало такое множество, что наша осажденная республика превратилась в огромное скопище ужасов, суливших нам удачу. Царство ужасов и увечья. Место, где человек, у которого руки-ноги целы, воспринимался как изменник, как тягчайшее преступление против родины. Это было такое место на земле, где никто не мог подладиться к ритмам оркестра, и музыканты с горя вешались на струнах своих скрипок.
И судьба смиловалась над нами, мой генерал. Когда мы уже в полном отчаянии взирали на все немыслимые ошибки Ямилет[67], дочери Талаганте-дель-Сур, ясновидящей девушки, которая сделала все так, чтобы к слепцу никогда не вернулось зрение, но зато наделила его невероятной скоростью в беге, и бедняга помер от удара, наскочив на камень, который не видел и не мог видеть, и еще Ямилет сделала так, чтобы хромой никогда не смог ходить ровной походкой, но зато видел все, что творится за горизонтом, и он несчастный попал под ваш поезд, генерал, потому что в те минуты зачарованно следил за воздушным гимнастом, который шел по тонкому канату с повязкой на глазах над Ниагарским водопадом, — и вот в это самое лихое время явились вы, мой генерал, снова в сопровождении мистеров Company, и сказали, обращаясь к нам, что пора взяться за работу, хватит бездельничать и ждать у моря погоды, что пора сажать бананы и выдать немедленно всех провокаторов, которые снуют повсюду со своими баснями о том, что мы слишком долго воевали.
Таким образом, генерал, все эпизоды страшной кровавой бойни быстро стерлись в нашей памяти благодаря трудам и талантам официальных историков, а также нотариусов в длинных сюртуках, которые ловко уничтожили все записи в церковно-приходских книгах, да опомнись, женщина, какого хрена ты мне плетешь о своем покойнике, ведь он никогда не рождался! А стало быть, с чего бы ему помирать, возьми в толк, женщина, все это наговоры и сплетни предателей родины, чтоб их разорвало, что только не придумают, сволочи. А вам, мой генерал, было наплевать на казармы, забитые трупами в ожидании адского поезда. Вам было наплевать на проклятья вдов, которые клялись похоронить своих мужчин с парой ног, позаимствованных у других трупов (эти ноги, возможно, и пригодились бы их мужьям, чтобы сплясать на карнавале санхуанито, но они стучали по полу, наводя ужас в безлунные ночи), а еще клялись похоронить мужей с синим глазом моряка, который очень бы даже подошел к их лицу, но не переставал моргать, вспоминая своего хозяина.
Время скатывалось в прошлое, мой генерал. И мы вас видели несколько раз в вагоне поезда, который летел мимо банановых плантаций. А позднее нам сказали, что вы находитесь на севере и вооружаете живущих в горах партизанок, что гражданские, эти бандиты из бандитов, взяли и вытолкали вас из правительственного дворца. Потом они явились к нам с вашим знаменитым портретом, где на вас президентская лента через плечо, а на, следующей неделе полицейские поснимали все ваши портреты с государственных учреждений, да еще сокрушались, что бумага такая плотная — никак задницу не подтереть. И вот — нате вам, вчера вы заявились сюда собственной персоной, генерал, без всяких отличий и знаков вашей сиятельной власти былых времен, явились, провонявший мочой и ослиным потом.
В этот час, генерал, ваш поезд уже проезжает через болота. Уже заметно, что народ просыпается после сиесты. Я-то не сплю, генерал. Я уже стар, как и вы, и берегу сон для беспробудной ночи смерти. Вот почему мне поручили быть с вами и занимать вас разговорами. Мне еще велели смотреть в оба, и даже очень. И вот я перед вами, все говорю, говорю, а вы делаете вид, что не слушаете меня, и лишь смотрите на кусок жестяной полоски с именем улицы. А я могу и дальше говорить. Мое дело — занимать вас разговором, пока не прибудет поезд, но вы, мой генерал, ведите себя тихо, ведь у меня на случай ружье на изготовку, и если вы вдруг взбрыкнете, я, мой генерал, при всем моем почтении к вам, спущу курок.
Ждать уже всего ничего. Сами увидите, через несколько минут поезд остановится, и когда из вагонов выйдут чиновники с государственными бумагами, они нам скажут: остаетесь ли вы у нас по-прежнему национальным героем или совсем наоборот — объявят, что вы последняя сволочь.
Библиотекарь
Имя мое — Итцауашатин, я — хранитель воспоминаний и вопросов, сомнений и ответов.
Я тружусь не щадя сил, не внимая зову усталости, хрусту костей, пению птиц, запертых волею моего властителя Текайэуатцина[68] в золотые клетки, искусно украшенные дорогими камнями, дабы птицы указывали начало и конец работного дня.
Я забыл про свет и про сумрак. Преступив закон богов Сна — наших младших богов, я переношу и переношу сюда воспоминания, вопросы и ответы, кои, будучи услышаны однажды, множатся сердцем человеческим и делами тех, кто запечатлевает их разноцветными красками на коже и на бумаге из толченой коры фикуса.
Моим хождениям нет счета. Я изорвал в клочья свои одежды и вот иду теперь едва прикрытый шкурой леопарда, коей означено мое высокое звание хранителя памяти города-государства Уэшоцинго[69] в ясной долине Тлашкала. Я напрасно жду голоса того, кто остановил бы мои шаги. Значит, и впрямь боги нас покинули. Моктесума[70] был первым, и за это его забили каменьями, как падшую женщину.
И вот теперь по возвращении из моих новых странствий я распахнул клетки, дабы птицы познали счастье полета, но все они были мертвы, все задохнулись в густом дыму, которым окутан Уэшоцинго. Весь город пылает, отовсюду слышны жалостные стенания, которые я посчитал за лучшее не замечать, дабы сострадание не отвлекало меня от неотложных моих дел.
Из каждого хождения своего я приношу то, что мне, жалкому старику, посильно, но к стыду моему — это совсем немного. Руки у меня совсем отощали. В мои времена войны были иными. Да и мне уже не вернуть крепких мускулов воителя-ацтека, не вернуть прежней отваги, которую я не однажды являл, когда на город нападали те, кто искал новых жертв для приношений своим богам.
После оных нашествий мой господин Текайэуатцин безутешно плакал несколько дней кряду, и даже самые любимые его наложницы не могли утишить этого плача. Тогда он призывал меня. Меня, Итцауашатина, чтобы я среди всех текстов отыскал для него целительный бальзам поэзии. Порой я ему читал: «И впрямь ли существуют люди? Не вымысел ли это наших песен?» Случалось, слова успокаивали моего господина, дыхание его делалось ровнее, и плач уступал место праведному гневу.
«Слово правды», — приказывал он.
И я искал среди текстов слово правды, среди тысячи тысяч страниц, продиктованных поэтами, коих мой господин Текайэуатцин взял под свое покровительство, затем чтоб они раскрывали ему бессмертные истины, могущие принести утешение самому измученному сердцу, а также изъязвленным душам осаждавших Уэшоцинго, город-государство музыки и поэзии. И читал: «Мы знаем, одно лишь сердце друзей правдиво. Лишь веление сна всегда правдиво».
Мой господин молча соглашался и, не раскрывая глаз, склонив свою благородную голову на грудь, протягивал руку, указывая то место, где восстанет новое здание, чтобы ушла из памяти боль страшной беды.
Теперь я смолкну на время. Прислонюсь спиною к алебастровой стене и почувствую всем своим естеством тяжкий запах паленого мяса и сгоревшего загона для скота.
На том самом месте, где я решил передохнуть, моему господину был сон, что движет сейчас мною. Это случилось однажды вечером, когда из долины подымался горячий ветер. Выслушав речи поэтов о злосчастиях, мой властитель увидел сон, порожденный, должно быть, словами Ашауантацоля, слепого поэта: «Самое большое горе, это когда истрачиваются слова и без их звука древо сиротеет, ибо никто не сможет рассказать о вкусе его плодов, о цвете его листьев, о прохладе в его сени». Так говорил слепец, и все остальные поэты удалились в печальных думах. Мой же повелитель впал в глубокий, но недолгий сон. А проснулся с тягостной тоской в груди и посему призвал всех снова:
«Со мной говорил кетцаль, у которого вынуто все нутро. Его держала на руках Тлацальтеоль, богиня любви, поедающая людские нечистоты, дабы мы могли любить. Рот богини был забит птичьими потрохами. Она не могла говорить и оттого повелела кетцалю сделать это вместо нее. А тот, метнувшись ввысь, бросился с разлета на меня и клювом вырвал мое сердце. И повелел мне следовать за ним до глубокой расщелины. Там он выронил мое сердце, и сам упал замертво».
Поэты судили каждый по-своему и наконец стали просить Ашауантацоля, пусть он объяснит сей сон.
«Тлацальтеоль опустошила нутро кетцаля, чтобы он тебя любил, но птица завладела твоим сердцем без сладкого трепета. Боги нас предали, а меж тем кетцаль привел тебя к тому месту, где сердце твое, оберегаемое самой благородной птицей от подлого зверья, будет покоиться в полной безопасности. А что есть твое сердце, Текайэуатцин, правитель Уэшоцинго?»
Услышав слова слепого поэта, все немедля принялись за дело. В потаенном месте дворца Воспоминаний и Вопросов, Разумений и Сомнений, Истин и Рока, послушные рабы начали копать подземную галерею, которая приведет к подножью горы. И там было означено место для большого зала, дабы сложить в должном порядке все кодексы, все цветные записи на кожах, все тексты на бумаге из толченой коры. Как только были исполнены последние работы в том зале, обсидиановыми кинжалами пронзили сердца рабов-строителей и выкололи глаза зодчим. И кровь их добавили в известковый раствор, коим предстояло замуровать тайные проходы.
А мне начертано продолжать свое дело. Мышцы мои слабеют, ноги не слушаются, им привычно восходить по ступенькам, а я уже давно иду и иду по ровному. Мне суждено продолжать. Я успел перенести неисчислимое множество Правд, Вопросов, Разумений и Догадок. Я перенес все изображения пернатого змея, которого заглатывает море, все самые подробные описания курящегося зеркала, все круговые обращения богов, все вопросы, порождающие бессонницу, истины, что приводят к безумию, описание птицы счастья, чей полет дается узреть лишь единожды, механизмы, которые позволяют горизонту располагаться за спинами людей, когда они оборачивают голову. А сколько еще осталось! Но мне суждено продолжать начатое до тех пор, пока опустевшие каменные блюда на полках не скажут, что сей путь будет последним.
Мой властитель Текайэуатцин мертв. Мертвы поэты и музыканты, ученые и зодчие, женщины и евнухи. Умерли дети и птицы.
После того как навсегда уснул мой господин, мы узнали, что чужестранцы обнаружили вход в долину Тлашкала. Те самые, что обрекли на унижение Моктесуму. «У них только один бог», — сказали нам перепуганные посланцы. Как мы можем противостоять тем, кто живет в невежестве, поклоняясь лишь одному-единственному богу? И сколько же богов изничтожил их последний бог, чтобы утвердить свое владычество? Мы понимаем великий страх наших богов, которые, спасаясь бегством, оставили нас. И наши руки трудились похвально, собирая деревянные скульптуры, ткани, все, что горит, а наши факелы вовремя разнесли огонь по всем строениям, и достойным похвалы был отвар прощания, приготовленный нашими учеными.
Запылал весь Уэшоцинго. Дворцы рушились под стоны камня, и загоны скота обратились кучами пепла. Все мертвы. Кроме меня. Все умерли. Никто из нас не дозволил себе позориться перед низкими существами.
А мой долг — продолжать свое дело. Мне надобно перенести вот те немногие кодексы, что пока еще лежат на полках, потому что я — Итцауашатин, хранитель памяти и времен, и когда я решу, что труд мой завершен, то встану у входа в галерею, ведущую к сердцу Текайэуатцина, правителя Уэшоцинго и Тлашкалы, встану, чтобы вонзить остроконечный золотой стилет в самую середину своей груди, и он так и останется во мне, будто несравненный в красе придаток к моему телу. Странное украшение, которым я смогу любоваться, пока мои руки будут сжимать железные кольца, вделанные в столбы.
А когда придут чужеземцы, чтобы предать грабежу это место, у которого нет хода времен, и попытаются стронуть меня хоть на один волосок, они изумятся величию искусства наших зодчих, кои приняли в расчет даже вес моего скелета, и все разом рухнет, словно никогда здесь ничего не существовало. И мои усталые кости будут основой вечности моего властителя, моего народа и всех слов, что были сказаны и больше никогда не повторятся.
Краткое описание одного затерянного города
Источник сведений об этом городе и впрямь недостоверный. И недостоверность эту лишь усугубляют стойкие в своей инертности археологи, историки, антропологи, этнографы и прочие ученые мужи, которые только и горазды, что обвинять в шарлатанстве тех, кто о городе поведал.
Однако все вышесказанное никоим образом не должно нас удивлять. Мы давно убедились, что знание всегда пристрастно и в основе его — своеволие всяческого рода. Вот к примеру! Один ботаник, которому взбрело в голову определить характер сексуальности фикуса, начал свой труд с поисков доказательств того, что фикус — гермафродит, причем утвердившись в этой мысли заранее. И если спустя двадцать лет истина, что чаще всего лишь игра случая, все еще с завидной настойчивостью показывает ему греховную игру соития в каждом отдельном горшке, то этот ботаник, не поколебавшись, твердит о необратимом вырождении фикуса и требует запрета на его разведение во всем мире.
Но вернемся к сведениям о нашем городе. Возможно, единственная, строго говоря, исторически достоверная референция принадлежит Хуану Хинесу де Сепульведе, «Гуманисту»[71] (современнику Фрая Бартоломе де лас Касас[72]), который в 1573 году, чувствуя приближение смертного часа, собрал вокруг себя малочисленных родственников и верных соратников, коих, похоже, нельзя было причислить к разряду людей, движимых корыстью. Эти последние собрались у одра умирающего, привлеченные, разумеется, слухами о завещании, а вовсе не из-за гуманных соображений.
А Гуманист в ясном уме, но измученный жгущей болью в груди, возлежа на своей стариковской постели, распределял с похвальным терпением весьма скудные свои богатства. Мебель, посуда, религиозная утварь, изображения святых, одежды, бочонки с вином, даже какой-то поросенок переходили в собственность присутствующих, пока у старика не осталось ничего, кроме маленького обтянутого кожей сундучка, скромной изящной игрушки из саламанской шорни. Умирающий держал этот сундучок на животе, ухватившись за него руками, точно оберегая его от вожделенных взглядов.
Открыв его, наследники почувствовали себя обманутыми. Внутри не было ни одного украшения, ни одного дублона, ни одной вещицы из драгоценных металлов, ни одной нитки жемчуга. Какой-то ворох пожелтевших листов, исписанных крупным почерком и захватанных руками многочисленных читателей. Это были одиннадцать страниц из пятидесяти двух, составлявших Удивительнейшее Послание, отправленное Великим Адмиралом Моря-Океана Их Величествам в Испанию 7 июля 1503 года.
Широко известно, что Удивительнейшее Послание было поименовано так по причине двух содержащихся в нем сообщений. Первое — это подробный рассказ о дурном сне, наполненном апокалипсическими знамениями, который мучил Великого Адмирала в самые худшие моменты его четвертого путешествия к землям Индии да и вообще всей жизни. Второе означено одной фразой: «Мир невелик», малопонятной пониманию, поскольку она исходит от мореплавателя, который прожил жизнь, бросая вызов всем препятствиям, и отверг понятие горизонта как предела человеческим притязаниям.
Подобное утверждение, о том что «мир невелик», повергло в замешательство папскую курию, испанский двор, английских банкиров и многих тогдашних читателей и писцов. Вот потому и посчитали за лучшее удалить все доводы в пользу этого умозаключения, сделанного Великим Адмиралом. А для этого изъяли двадцать шесть страниц из Удивительнейшего Послания. По мнению историков, эти страницы таинственным образом исчезли во время плавания или были выброшены за борт родственником моряка Родриго де Триана[73]. Как бы там ни было, но главное, что одиннадцать страниц попали в руки Гуманисту, а какими путями — нам неведомо.
Достоверно известно лишь то, что в тех одиннадцати страницах Великий Адмирал повествует в словах, близких к ереси, о существовании одного места, про которое он знал только понаслышке и которое именует в последовательном порядке — Мококомор, Мохохомоль и Мокохотон. Позднее Хуан де Касерас, участник экспедиции Кортеса, расскажет весьма подробно о Мошошомоке в хронике Tenebrosus Egressus[74], чрезмерно затянутой, вгоняющей в сон и завершенной им за несколько месяцев до того, как ацтеки вскрыли ему грудь на жертвенном алтаре.
Описанием Мошошомока, которое заключалось в тех одиннадцати рукописных страницах, мы обязаны лишь хорошей памяти Руй Пера де Сепульведы, имевшего всего тринадцать лет от роду, когда его двоюродный дед Хуан Хинес «Гуманист» читал эти страницы в присутствии всех, кто тщетно уповал на богатое наследство. Руй Пер де Сепульведа сохранил в памяти все повествование, хотя, быть может, многие значимые подробности потерялись среди осыпи медленного обращения времени или, что вполне вероятно, были умышленно искажены. Последнее не должно нас ни тревожить, ни толкать на осуждение памятливого потомка Гуманиста. Мы знаем, что литературу породил устный рассказ, потому что он постоянно создает и воссоздает ситуации в зависимости от настроения и полета фантазии рассказчика. Помимо всего, уместно отметить, что за минувшие три столетия до сегодняшнего дня среди потомков Руй Пера де Сепульведы не могли обнаружить ни одного человека, склонного к сочинительству. Потомки Руй Пера де Сепульведы имели обычай пересказывать содержание тех одиннадцати страниц, чтобы скоротать время в безлунные ночи, или развлечь публику в кабачке и угоститься мустом за ее счет, или использовать эту историю для кукольного представления. Но при всем при том и вопреки всему она дошла до наших дней.
Согласно Сепульведам разных поколений, Великий Адмирал утверждал, что город Мошошомок располагался в том месте, где сегодня проходит граница между Мексикой и Гондурасом. Город, если только он оправдывает такое название, состоял из двух огромных зданий в виде очень высоких прямоугольников, сооруженных из хорошо обтесанного камня и украшенных рельефами, которые изображали фигуры людей в их самых разных занятиях, — посему нет ничего удивительного, что просвещенный мореплаватель говорил о чудищах, — и оба эти здания возвышались среди иссушенного зноем гравия.
Трудно не поддаться соблазну тех забавных подробностей, которыми все Сепульведы приукрашивали свои повествования. Если мы вдруг обратимся к «Описанию сокровищ, весьма доступных для нахождения», составленному Алонсо де Сепульведой, казначеем вице-королевства Ла-Плата, то найдем там утверждение, что Мошошомок есть не что иное, как сказочный Затерянный город Цезарей, однако все это не более чем безответственный вымысел.
Сказав, что город состоял из двух больших строений, мы не должны рисовать себе мысленно ни военные фортификации, ни коллективные жилища. Два огромных здания поднимались точно друг против друга, следуя линии перемещения солнца. Их разделяло пространство не более ста ярдов в ширину, и в каждом доме была только одна входная дверь, смотрящая на запад, и только одна для выхода, смотрящая на восток, всю же внутреннюю часть в обоих домах занимали лабиринты. Узкие и прямые коридоры вели, сворачивая то там то сям, к двери на выход. Вдоль стен коридоров с левой стороны поднимались к потолку длинные полки, тесно заставленные кодексами с иероглифическим письмом майя, и рядом — каменные скамеечки.
Архитектура этих двух сооружений не должна нас особо удивлять. Есть мнение, что слово «мошошомок» соответствует диалекту вашактум, а вашактумы знали, что такое «пропорциональная математика», за пять веков до нашей эры. Некоторые исследователи утверждают — Юрий Кнорозов[75] один из них, — что название Мошошомок принадлежит диалекту тцотциль. Однако все это не опровергает сказанного выше.
Если мы внимательно прочтем все, что рассказал Великий Адмирал, то нам откроется, что оба здания вкупе представляли собой диковинную библиотеку.
В первое здание входили потомки касты ученых, как только им исполнялось пять лет, и не покидали его, пока не добирались до выхода из лабиринта, на что требовалось тридцать лет. День за днем, год за годом они учились. Вначале они читали кодексы, затем их толковали, а после того обсуждали все вместе, далее снова толковали и снова обсуждали, пока им не открывалась тайна искусств, наук, творчества и всех истоков. Под конец они обладали таким сводом знаний, что умели даже править снами, на что не смели и в мыслях посягать простые смертные.
Из лабиринта они выходили землисто-бледные, почти прозрачные, охваченные сомнением в своей способности ходить по земле, казалось, их вот-вот унесет ветром. И семь дней подряд ученых чествовали на эспланаде, разделявшей два здания. Их приветствовали как тех, «кому нет нужды говорить, ибо им известны все вопросы и все ответы». Ученые считались подлинными героями празднества, в их честь приносили в жертву девственниц и рабов, но сами они отсутствовали. Их участие в празднествах заключалось лишь в том, что каждому из них полагалось совокупиться с девственницей, дабы не перевелась каста ученых мудрецов.
На восьмой день они входили во второе здание, принимая новое затворничество, длившееся еще тридцать лет, в течение которых они проходили по всем лабиринтам, на этот раз записывая все свои идеи и размышления, новые вопросы и новые ответы на бумаге из коры фикуса с таким усердием, с такой тщательностью, что когда завершался цикл длиной в шестьдесят лет, библиотека, размещенная в первом здании, в определенном смысле удваивала свои богатства.
Просвещенные оплачивали Свет просвещения жаром новых стараний.
Снаружи убивали и умирали. Многим вспарывали животы на жертвенных алтарях. Боги с каждым разом все дороже продавали свои милости, и шестидесятипятилетние Просвещенные, удостоенные почетного титула ученых мудрецов, голые и босые, покидали навсегда дверь второго здания, чтобы куда-то направить свои шаги в бессмысленном одиночестве своих знаний.
Что же случилось с этим фантастическим городом-университетом-библиотекой? Мы не знаем, и скорее всего не узнаем никогда. Быть может, это всего-навсего плод воображения людей по фамилии Сепульведа, приписавших его умышленно и не без коварства перу Великого Адмирала. Нам неизвестна также судьба одиннадцати страниц, которые в последний раз видели в дрожащих руках Гуманиста. Но что мы знаем доподлинно, так это то, что Руй Пер де Сепульведа пересказал удивительную историю своим потомкам, а те, в свою очередь, тем, кто их слушал в тавернах, в лачугах и на привалах в пути.
Руй Пер де Сепульведа сделался посмешищем в Севилье и таковым пребывал до самой смерти, приключившейся в 1680 году, но сегодня я, взявшись писать по какому-то необъяснимому велению о Мошошомоке, который зримо встал передо мной, не могу не волноваться при мысли о Великом Адмирале, который лихорадочно сочинял донесение о своих горестях, а также при мысли о Хуане Хинесе де Сепульведе. Я захотел все это сохранить, весьма смутно представляя себе, для чего и для кого. Быть может, Гуманист чутьем угадал, что ученые этого неразгаданного города еще тогда предрекли никчемность знаний, которые сегодня нас загоняют в угол. Меня приводит в трепет мысль о первом вестнике, чье имя затерялось под толщей веков.
Сумел ли проникнуть в лабиринты упомянутый участник экспедиции Кортеса? Был он один или их было много? И что потом? Вернулись ли они в Старый Свет, чтобы создать тайные сообщества? И если им все это удалось, уцелели они или нет во времена инквизиции?
Откуда происходит наше неприятие власти тех, кто знает, и кого мы, по сути, не знаем, но от кого, страшась, принимаем плоды знаний?
Все эти сомнения, о которых мы толкуем в этом рассказе, надо полагать, были решены и снова сформулированы тысячи тысяч раз в белых стенах лабиринта Мошошомока.
Невстречи в любви
Утренний кофе
Она стоит под душем. Вода скользит по ее телу, задерживаясь секундными сталактитами в пропасти меж грудей, которые ты целовал столько раз. А ты тем временем сыплешь в фильтр кофе и, отмерив нужное количество воды для четырех чашек, нажимаешь красную кнопку.
Теперь ты слышишь звуки электрически кипящей воды, и кофе стекает капля за каплей, образуя эту ароматную гущу. Этот раствор, который скрепляет сырцовые кирпичи утра.
Она появляется в дверях ванной, небрежно завязав поясок. Поблескивают ее ноги, еще влажные. Ты снимаешь кофейник, ставишь на стол, потом расставляешь чашки и отмечаешь мысленно, что гвоздики по-прежнему упорствуют, не отдавая розовых красок предсмертному увяданью. В них нет такой щемящей обреченности, как в майских розах.
Теперь она стоит в полотенце, скрученном на голове тюрбаном, и ты можешь видеть ее затылок, ее гладкую и упругую шею, которая пахнет пудрой. Из-под тюрбана выбивается, не желая высыхать, крохотная белокурая прядка и недвижно, отвердело прилипает к коже. Она садится, и ты — тоже. А рядом с вами привычно занимает место тишина.
Ты неторопливо наливаешь кофе в чашку, протягиваешь ей, затем наливаешь себе и взглядом предлагаешь ей то, что на столе. Хлеб, масло, джем и все остальное, что в такие часы и при таких обстоятельствах почему-то кажется тебе совершенно безвкусным. И ты видишь, что ей все это по барабану, она закуривает сигарету и добавляет несколько капель молока в чашку кофе.
Ты быстро мешаешь ложечкой в своей чашке, отчего образуются спиральки, мешаешь, пока полностью не растает сахар, уходя зеркальной пылью куда-то вглубь совсем беззвучно, из почтения, видимо, к неприкасаемому порядку этого утра-безмолвия, которое уже началось.
Наконец, она первая пробует кофе, и первое, что ей приходит на ум, что чашка, похоже, грязная. Она поднимает глаза, смотрит на тебя молча, без единого упрека, а ты в этот момент отпиваешь первый глоток и думаешь, что скорее всего этот пока еще невнятный привкус появился из-за сигареты, но тут она находит слова:
— У этого кофе привкус горького финала.
Тогда ты встаешь, выхватываешь у нее чашку из рук, берешь кофейник и выливаешь все в раковину.
Горячий кофе, пузырясь, быстро исчезает, оставляя в стоке темную кайму. Ты открываешь новый пакет, льешь нужное количество воды для четырех чашек и стоишь, пока капля по капле образуется новая порция этой утренней гущи.
Снова разливаешь по чашкам. Она пробует. Смотрит на тебя с тоской. Ничего не говорит. Отпив глоток из ее чашки, ты смотришь на нее. И теперь сам чуть ли не с криком:
— Ты права. У него действительно привкус горького финала.
Она почти снисходительно говорит, что, быть может, это из-за сахара или молока, но ты в ответ орешь, что в чашке нет ни сахара, ни молока.
Отодвинув чашку к середине стола, она зажигает новую сигарету, а ты тем временем вытаскиваешь из стенного шкафа все до единого пакеты кофе, кончиком ножа вскрываешь один за другим и с бешенством мнешь в пальцах тончайший порошок. Пробуешь на вкус, сплевываешь, чертыхаешься и — да, нечего сомневаться — весь кофе в доме имеет горький привкус финала.
Она не пробует, но все равно — знает.
И говорит об этом без слов. Говорит взглядом, затерянным среди геометрических узоров на скатерти. Говорит сигаретным дымком, который соскальзывает с ее губ.
Ты возвращаешься к своему стулу, чувствуя, что в горле у тебя застрял какой-то ком. Тебе хочется заговорить. Сказать, что вы вместе уже выпили много кофе с привкусом забвенья, с привкусом презрительной неприязни, с привкусом привычной и вежливой ненависти. Тебе хочется сказать, что на сей раз у кофе впервые этот горький привкус финала. Но ты не в силах выговорить ни одного слова.
Она встает из-за стола. Идет в соседнюю комнату. Медленно одевается, и до твоего слуха доносится звук замкнутого браслета. Она направляется к двери, берет ключи, сумку, карманную книжку, о чем-то задумывается, перед тем как открыть дверь, и возвращается к тебе, чтобы оставить на твоих губах след стылого поцелуя, у которого, хоть и не верится, такой же вкус горького финала, как у кофе.
Любовное свидание в стране, которая воюет
Я честен, и потому мне страшно.
Хосе Марти[76]Меня распирала радость. Я назначил свидание с женщиной, и наконец-то будет на кого посмотреть, кого приласкать, с кем поговорить. Хоть на время уйдут мысли о смерти, которая стала привычной, каждодневной как наш хлеб насущный. Эта женщина мне нравилась. Понравилась сразу, едва я увидел ее в кафе в Панама-Сити. Она пришла вместе с мужчиной, очень солидным, который передал нам все необходимые инструкции и пароли, чтобы мы сумели добраться до Коста-Рики, оттуда двинуть к северной границе, а там присоединиться к главным силам бригады.
Во время разговора женщина молчала. Даже прощаясь, не произнесла ни единого слова. Крепко пожала руку, и все.
В тот день со мной был Пабло. И оставшись с ним вдвоем, мы тотчас заказали кубалибре[77].
— Она, смотрю, приглянулась тебе? — спросил он.
— Конечно. А что тут такого? Всегда найдется женщина, которая тебя зацепит.
— Ну-ну! Лучше бы забыть о ней.
— Я же не говорю, что влюбился.
— Ну тогда ладно. А вообще-то выброси ее из головы.
Пабло вскоре погиб, его убили, когда он переходил границу, и я, если честно, был рад, что мне не пришлось это видеть.
Его смерть была страшной, как все смерти. Я узнал о его гибели из сводки о военных событиях, а потом от моего товарища, который рассказал мне подробно, как все произошло.
Колонна Пабло продвинулась на несколько километров от Пеньяс-Бланкас[78] по направлению к Ривасу[79]. Когда начало темнеть, они вдруг увидели заброшенный крестьянский дом и, осмотрев все вокруг, решили в нем заночевать. Единственный, кто по счастливой случайности остался в живых, рассказал, как все было. Командир колонны поставил его караульным возле хижины. Все произошло очень быстро. В доме бойцы нашли немного дров. И вот среди этих поленьев гвардейцы Сомосы сунули «каса-бобос»[80]. Кто-то из наших бойцов решил разжечь огонь, и как только поднял полено, взрывом убило сразу всех.
Я не думал о гибели Пабло, когда шел на свидание. Я думал о женщине.
Уже несколько месяцев я не знал, что такое обнять теплое податливое тело женщины, которая спросила бы меня хоть о чем-то или ответила на мои вопросы. Слишком большой срок без того, чтоб одарить кого-то лаской или испытать ее. Как раз столько, сколько нужно, чтобы превратиться в зверя, одичавшего на войне.
Мы располагались в Ривасе и уже третий раз за последние два месяца взяли этот город. Силы неприятеля, похоже, были здорово потрепаны, и мы находились там непродолжительное время перед тем, как двинуться на Белен[81], где должны были разделиться и одновременно брать Хинотепе[82] и Гранаду[83].
Она первая заговорила со мной, когда мы стояли в очереди на раздаче патронов.
— Мы знакомы. Ты помнишь?
— Конечно, помню. Могу сказать тебе, сколько ножек у стола в кафе в Панама-Сити.
Она засмеялась.
— Бывает, что память — плохой товарищ. Иногда чем скорее забудешь, тем лучше.
Получив патроны, мы решили посидеть немного в тенечке под раскидистым деревом на площади.
— Наверно, это красивый город, когда тут не воюют. Город, где можно любоваться заходом солнца и чтобы в спину дул ветерок с озера.
— Да, это красивый город. Я родом отсюда.
— У тебя здесь семья?
— Не будем про это говорить.
— Ладно. Не хочешь — не будем. Последний вопрос… А где тот, с кем ты была, когда мы встретились в Панама-Сити?
— Погиб.
Он получил распоряжение продвигаться с бойцами к западу, колонна должна была освободить из клещей противника город Блуфильдс[84]. Силы Эдена Пасторы[85]пошли в наступление с юга, из Сан-Хуана-дель-Норте[86], ну а ее сердечный приятель за семь лет партизанской войны в этих лесистых местах изучил каждую тропку. В результате трех стычек они заняли Хуигальпу[87] и оттуда стали продвигаться к Раме[88], где национальная гвардия подстроила им ловушку и заставила отойти к болотам. После нескольких авиационных атак противника его вместе с немногими уцелевшими взяли в плен. С них заживо содрали кожу и убили.
— Жалко, — только и всего, что я смог сказать.
— Мне тоже. Хотя мы уже расстались, — сказала она, медленно выговаривая слова.
— Ты одна?
Она без слов дала понять, что да, и я, погладив ее лицо, закрыл глаза.
Когда я вернулся, солнце палило вовсю, и слава бету, иначе хоть пропадай от москитов.
В этом помещении, сооруженном из оцинкованного железа, гвардейцы Сомосы держали пленников. Теперь оно пригодилось нам для той же самой цели, и легко вообразить, какая там непереносимая духота.
Меня поставили караулить пленного, которого ранним утром должны были судить. Все, что я знал о нем, — это что он «ухо», то есть стукач сомосовских гвардейцев, по его вине погибло много наших бойцов и не один десяток мирных людей, повинных лишь в том, что они проживали в Ривасе. Приставив ружье к каменной ограде, я уселся на гравий. Хотелось пить, и оглядевшись, я вытащил из кармана рубахи бутылку рома.
Бойцам Национального фронта пить спиртное запрещено, то есть формально запрещено, но всегда находился способ раздобыть бутылочку. Хорошая вещь этот никарагуанский ром: крепкий и сладковатый, с терпким привкусом тростника, который долго держится во рту. Мне их ром очень по душе, но совсем не по душе было караулить пленного. В бутылке оставалось немного. Это была плоская бутылка, которую городские в мирное время берут с собой на скачки или в поездки.
До чего все надоело — сторожи этого типа да еще прячь бутылку от чужих глаз.
Усевшись, я подумал, что более всего мне б хотелось сейчас оказаться у себя в Кито, зайти в кафе «Маноло», что у самого начала проспекта Амасонас.
Там было хорошо. Ты мог спокойно занять столик под навесом с рекламой сигарет Camel, спросить виски со льдом и сидеть сколько влезет, листая газеты, или просто глазеть на людей. Иногда к заборчику подойдет знакомый и спросит:
— Ну как? Что делаешь вечером?
— Не знаю. Пока нет планов.
— Вот и ладно. Встретимся сегодня в «Чарпентьере» или попозже в «Полярном медведе»?
— Идет. Так и сделаем.
Отлично готовили в «Чарпентьере», а «Полярный медведь» — это темный подвальчик, который облюбовали певцы и неудачливые тореро. Хорошее было место, сиди себе до рассвета, пока не выпьешь последнюю рюмку канеласо[89].
Я закурил, и человек за стеной подал голос:
— Может, дашь одну, браток.
Я озлился на этого типа — вот нюх, черт побери. У меня остались считанные, и поди потом найди хоть какие-то. Но я знал, что такое сидеть в заключении и как мучительно там без курева. А кроме того, это последние часы его жизни.
— Бери.
Я просунул ему зажженную сигарету через щель под дверью.
— Спасибо, браток.
— Какой я тебе браток!
— Все мы братья. Каин и Авель тоже были братьями.
— Молчи.
Пленный больше ничего не сказал, и так оно было спокойнее.
Я думал и думал о женщине. Мы вместе пообедали в полдень. Она повела меня в дом, где вход был в стене через дыру от пушечного ядра. Внутри я увидел двух старых женщин. Уставившись на меня, они лукаво заулыбались беззубыми ртами.
— А ты не здешний, компа[90], — сказала одна из них.
— Нет. Я из тех мест, что чуть дальше к югу, — ответил я.
Они приготовили тортилью и в маленьком глиняном кувшине принесли вареную фасоль. А потом оставили нас одних.
— Жаль, нечего выпить, кроме воды.
— А я выпью с удовольствием, — сказал я, вытаскивая бутылку с остатками рома.
— Ты можешь пить ром за обедом?
— Нет. И воду тоже не могу. От нее все кишки в глистах.
— Подожди. По-моему, есть немного кофе.
Она склонилась над печью, и я обнял ее за талию.
Я почувствовал тепло ее мягкой спины и стал целовать в затылок.
— Осторожно, могут прийти старухи.
— Ну и что? Для чего мы затеяли революцию? Для нашей свободы, правильно? И вся эта сволочная война для чего? За ради свободы, так или не так?
— Ты не понимаешь.
— А чего тут понимать!
Она меня поцеловала, ну а я пообещал прийти к ней на ночь.
Солнце жарило нещадно. Временами я думал о пленном, о том, что он совсем испекся в сарае, но сразу откидывал эти мысли. Дело не мое, и мне бы век тут не быть. Я проклинал эту окаянную войну, в которую влез по своей воле. Будь она неладна, эта чертова война. Кто думал, что она так затянется. Кончилось тем, что я заговорил первым.
— Хочешь закурить?
— Если дашь мне одну сигаретку, браток.
— Тебе сказано, не называй меня так!
Я зажег сразу две и одну просунул через щель.
— Спасибо, браток.
Мне стало смешно.
— Ну ладно, брат, бери. — Я сунул ему бутылку в просвет между дверью и землей. — Выпей глоток, не все.
— Спасибо, брат. Я не пью.
— А нельзя узнать почему?
— Потому что я евангелист, браток.
— Ну и черт с тобой!
Рубашка прилипла к моему телу, и сапоги жали отчаянно, как всегда. Я пытался думать о других вещах, о других местах, чтобы не так мучила эта страшная жара. Думал, к примеру, о том, как бы хорошо сесть в лодку и поплыть к середине озера в сторону архипелага Солентинаме[91], но это бредовые мысли. Гвардейцы патрулировали на озере день и ночь и со своих лодок стреляли чертовски метко. Я перенесся мыслями в Коста-Рику, в маленький уголок Европы, что находился в нескольких километрах от Моравии[92]. Его однажды вечером мне показал Эстебан. Это, по сути, был лес всего в полгектара, где протекала речушка, богатая форелью, и если выпадало свободное время, мы ходили на рыбалку, а потом, в тени деревьев, ели жареную форель, запивая ее чилийским вином.
— Брат…
— Ну что тебе?
— Когда меня расстреляют?
— Не знаю. А тебе не сказали?
— Мне ничего не сказали, брат. Но какая разница. Я знаю, что меня совсем скоро расстреляют, и поделом.
— Ну даешь! Если тебе нужно исповедаться, могу позвать священника.
— Да нет, брат, спасибо. Я же евангелист, ты слышал.
Какой-то псих, наверно. Может, у него мозги расплавились. Я не видел его никогда, но, судя по голосу, он был молодой.
— Знаешь, за что я здесь сижу?
— Потому что ты стукач, «ухо».
— Твоя правда. Но стал я «ухом» только из-за любви.
— Из-за любви? Из-за любви ты выдал и загубил десятки людей? Интересное у тебя понятие о любви!
— Иногда не знаешь, где любовь, где ненависть. И никто нам не растолкует, в чем разница. Зря ты меня ненавидишь, брат!
— Да при чем тут ненависть! И, черт возьми, хватит называть меня братом!
Разговор с пленником испортил мне все настроение. Да к тому же в бутылке не осталось ни капли. Вечер принес с озера легкий ветерок, а мне — сменщика.
— Какие новости?
— Никаких.
— Если поспешишь, тебе достанется немного жареной свинины.
Еще бы не поспешить! Сколько недель не пробовал кусочка мяса! Я ел с жадностью, и тут рядом со мной сел наш командир.
— Вкусное?
— Ничего. В «Интерконтинентале» наверняка готовят получше.
— Наверняка. Может, и попробуем, когда придем в Манагуа.
— Может.
— Ты пленного караулишь?
— Ну да. Весь день.
— Что-нибудь говорил?
— Ни полслова.
— Это большая сволочь, поверь мне, брат.
— Нет спору.
После ужина я попытался раздобыть несколько сигарет, и мне повезло. Киоск на площади был открыт и освещен так, будто война шла где-то далеко, совсем в другом месте. Мне отпустили не только сигареты, но и бутылку рома и вдобавок пакет мангового сока. Накупив все это, я сразу повеселел духом, выпил холодного пива и разговорился с двумя женщинами из нашего отряда. Странным образом война как бы растворилась, исчезла в ночи, усеянной звездами, и женщины мечтали о будущем так уверенно и вольно, что поначалу я удивился, а потом во мне вскипело чувство неприязни. Они были невыносимо оптимистичны, а я всегда сторонился таких людей. Пабло говорил мне, что из-за таких вот оптимистов приходит беда.
Темнота прибавила мне смелости, и я решительно направился к дому, где жили старухи. Одна из них встретила меня хитрым смешком.
— Снова к нам пожаловал, компа!
— Ну да, явился.
— Тогда проходи, проходи. Тебя заждались.
Старуха, тоненько хихикая, исчезла за дверью. В комнате женщина вешала москитную сетку на гамак.
— Ну как дела?
На столике я увидел два стакана, наполнил их ромом и добавил мангового сока.
— Плохо. Караулил пленного.
— А-а.
— Ты его знаешь? Мне сказали, он здешний.
— Не будем говорить про это.
— Ты права. Не будем. Пей. Можно считать, что это эквадорский коктейль. Тебе нравятся коктейли? Если мы доберемся живыми до Манагуа, я приглашу тебя выпить со мной сухого мартини и отдам тебе мою маслину, чтобы ты ее съела. Обещаю!
Протягивая женщине стакан, я обнял ее и притянул к себе. Но когда попытался поцеловать, увидел, что она плачет.
— Ты можешь сказать, какого рожна ты плачешь? Что случилось?
— Ничего. Ничего не случилось.
— Ничего? Слушай, давай говорить откровенно. Я хочу быть с тобой, понимаешь? Ты мне нравишься, и я хочу быть с тобой всю ночь. Ни ты, ни я не знаем, что нас ждет завтра, понимаешь? Единственный человек, который в вашем проклятом городе знает, что с ним будет завтра, — это пленный, он знает, что его расстреляют еще до восхода солнца. Мне осточертела эта окаянная война, и единственное, что я хочу, — это остаться с тобой, но пусть у нас с тобой будет хоть немного веселья и радости. Ты способна такое понять? А если хочешь, чтобы я убрался отсюда, скажи прямо и считай, что ничего не было.
Я чуть было не ушел, но женщина удержала меня.
— Ладно. Сядь вот здесь, рядом. Ты тоже мне нравишься. Нравишься с той первой встречи, хоть мы не сказали друг другу ни словечка. Я тоже устала до смерти и мне все равно, что со мной будет завтра. Я тоже хочу быть с тобой в эту ночь, но сначала дай мне выговориться, мне нужно поговорить с кем-нибудь, прости, я пользуюсь тобой, но это как приступ рвоты. Надо вытошнить, освободиться от всего, что внутри гниет. Выслушай меня и не прерывай. Я же говорю, что это как перебить тошноту. Тот пленный, он мой муж. Он все еще мой законный муж. Я его не люблю, никогда не любила. Жалкий бедолага, у него и ума не хватило, чтобы стать настоящим подлецом. Я бросила его четыре года назад. Подалась к солдатам-революционерам, ушла к тому человеку, с которым ты познакомился в Панама-Сити. После всего этого мой муж, твой пленный, совершенно обезумел и стал выдавать всех, кто помогал сандинистам. Прошло четыре года, и вот сегодня я с ним увиделась. И знаешь, что он сказал? «Я пошел на это из-за любви, только из-за любви к тебе». Представляешь? Пойми, что со мной творится!
— Он и мне сказал так, — ответил я, и следом раздались два выстрела. А женщина посмотрела на меня усталыми, воспаленными глазами вдовы.
Невстреча по ту сторону времени
Книга ждала меня в самом углу маленькой букинистической лавки на одной из пражских улиц. Это произошло в последнее утро в Праге, куда я приехал, чтобы принять участие в праздновании юбилея Ярослава Сейферта[93], однако ни в трудах литературоведов, ни в хвалебных речах нет его поэзии, и я решил в эти последние часы побродить около Вацлавской площади, там, где берут начало узенькие улочки, которые, как порой кажется, сотворены грезами этого поэта.
Было холодно, я шел, съежившись, засунув руки в карманы, и чтобы немного согреться, то и дело заглядывал в маленькие сувенирные и антикварные лавочки. В одной из витрин меня поджидала книга, и когда она подала мне первый знак, я ахнул, узрев свой родной испанский язык. Не часто встретишь книги на испанском языке в странах Восточной Европы, а тем более в букинистических магазинчиках.
Это была тоненькая книжка в твердом переплете, обтянутом алой тканью, с золоченой каймой по краю, отчасти выцветшей, и с витым золоченым узором, чьи прихотливые росчерки завершались чертополохом и еще какими-то цветами, напоминавшими картины Иеронима Босха. Внизу между завитками шел вытянутый по горизонтали овал с текстом серии: «Избранная библиотека для юношества». В самом центре, как бы на разворачивающемся свитке было напечатано заглавие — История паровых машин, а в самом низу большими буквами указывалось издательство: Братья Гарнье, Париж.
Я не полагаю себя циником, однако прекрасно знаю, что мы живем в эпоху, когда наивность считают чем-то нелепым, а в случайностях усматривают последовательные действия чьей-то воли. Все теперь мы видим запрограммированным заранее и понемногу теряем способность удивляться, верить, что невероятное — вероятно. В то утро я собрался походить по Праге и непременно найти книгу стихов Сейферта, а затем сразу отправиться в аэропорт, чтобы тем же вечером поужинать с друзьями в Барселоне. Однако в этой книге с алым переплетом мне был зов, и я, плюнув на свойства нашей эпохи, решительно толкнул вовнутрь дверь книжного магазинчика.
Тонкое звяканье подвесных металлических колокольчиков известило о моем появлении. Помещение было тесным и скудно освещенным. Пахло чем-то затхлым и котами, которые преспокойно мочились на вековое скопище эрудиции и тайн, пахло бумагой, пылью и временем, плотно спрессованным на книжных полках. Из дверцы в самой глубине, скорее всего из жилых комнат, появился человек солидных лет, укутанный в теплые одежды.
На немецком языке я объяснился с ним насчет моего желания посмотреть книгу с витрины, а когда указал какую, букинист, прежде чем заговорить со мной, улыбнулся, и в речи его было что-то очень приятное слуху и до странности близкое, что-то еще более древнее, чем его книги. Оказалось, что он еврей, сефард[94], и чрезвычайно рад возможности поговорить на ладино[95].
— A-а! Книга на испаньском! Столько льет простоять на витрине! — сказал он, протягивая книгу.
Тонкая бумага цвета охры прикрывала титульный лист, и первая страница была такого же цвета. Увидев дарственную надпись, сделанную довольно небрежным почерком, и буквы, которые явно не претендовали на то, чтобы вызвать удивление, я понял, что мне нет нужды торопиться с чтением этой книги, чтобы понять тот молчаливый зов, который она мне послала из своего затворничества.
Я не могу точно выразить словами то, что я почувствовал, пробежав глазами строчки, написанные чернилами, видимо синими, которые теперь почти сливались с тускло-серой страницей. Или, может, могу в самой слабой степени: я почувствовал острую жалость к старику с редкой бородкой, умершему более тридцати лет назад, которого я любил и с которым вместе гулял в те далекие чилийские вечера, что полнились тугой тишиной.
От хлынувших воспоминаний мое лицо, должно быть, сделалось взволнованным, потому что хозяин книжной лавки, взяв меня под руку, отвел к креслу и тотчас предложил рюмочку ликера.
— Пилар Солорсано, она была… на самом деле, — услышал я свой шепот.
— Не сокрушайся. В книгах все возможно, — сказал старый букинист.
Я был благодарен букинисту: он сразу понял, что меня просто распирает желание говорить, и я начал свой рассказ, снова и снова пробегая глазами дарственную надпись: Посвящаю эту книгу Хенаро Бланко в знак уважения ко всем его упованиям и ко всему, что нас объединяет. Пилар Солорсано, 15 августа 1909 года.
Хенаро Бланко. Дон Хенаро. Так звали старого андалузца, мечтателя, который однажды был принят моей семьей как самый близкий родственник, и он стал членом семьи. По словам моей матери, она была на пятом месяце беременности, когда дон Хенаро появился в зале нашего дома с потертым фибровым чемоданом и черным зонтом, опираясь на руку моего деда. «Это Хенаро, мой товарищ, мой брат. Несколько недель назад он потерял свою супругу и чувствует себя совсем одиноким. А мы ему докажем, что там, где есть подлинное братство свободных людей, он не будет чувствовать себя одиноким. Он разделит с нами вино, хлеб и тепло нашего очага», говорят, что так сказал мой дед, приглашая дона Хенаро за наш обеденный стол. «А я желаю всем здоровья и полной анархии», именно так, говорят, ответил дон Хенаро, и посему, когда я появился на свет четыре месяца спустя, у меня было сразу два деда: один — испанский, а другой — чилийский.
По содержанию его чемодана, где было совсем мало вещей и множество бумаг, в которых он часто и не спеша что-то вычитывал, мои родители поняли, что он, как и мой дед, был врагом всех правительств и объездил весь мир, прежде чем стать неукротимым и отвергающим само понятие времени анархистом в законопослушном чилийском обществе.
Я мало знал о нем, потому что он умер, когда мне было двенадцать лет; в последние годы он часто и надолго погружался в молчание, что в семье воспринимали как проявление глубокой депрессии, вполне объяснимой для авантюриста преклонных лет, или приступов старческого маразма, которые, однако, не были опасными для окружающих.
Мои воспоминания о нем отрывочны, но зато в памяти четко запечатлелись слова, которые я слышал много раз, когда он с края пропасти своего молчания подзывал меня к себе: «Поди-ка сюда, я хочу поговорить о Пилар Солорсано…», но за этим больше ничего не следовало.
Дон Хенаро прожил до девяноста двух лет, и его постоянное желание говорить о некой Пилар Солорсано воспринималось как бред очень старого человека, безутешного вдовца, который временами путал героев из романов Самакойса[96] с реальными людьми. После смерти моего деда, его настоящего друга и товарища, дону Хенаро стукнуло в голову удрать из-под присмотра домашних, и спустя несколько часов он вернулся домой под конвоем двух карабинеров. «Этот сеньор пришел во Дворец Ла Монеда и там осыпал проклятьями какого-то Ларго Кабальеро[97]. Просим, чтобы это не повторялось, в противном случае мы будем вынуждены его арестовать». Дон Хенаро слушал упреки моих домашних, низко опустив голову и отпивая по глоточку анисовой настойки, но вместо ожидаемых слов извинения он изрек свою аксиому морали: «Любая власть разлагает личность».
Вопреки указаниям врачей, он раскуривал дешевые сигары, подтаскивал свое соломенное кресло к грядке с лекарственными травами, которую он возделывал и которую называл своей дачей — «кармен»[98], садился в метре от нее и оттуда призывал меня к себе одной и той же незаконченной фразой: «Поди-ка сюда, я хочу поговорить с тобой о Пилар Солорсано, она…»
Это имя превратилось у нас в имя нарицательное, в какую-то постоянную забаву, в нечто, не имеющее определенного смысла. Если мой отец или кто-то из моих родных дядьев слишком прихорашивался перед уходом, его спрашивали: «У тебя что, свидание с Пилар Солорсано?» Или если кто-то пребывал в глубокой задумчивости, его тотчас подкалывали: «Ну ладно, хватит думать о Пилар Солорсано».
Был ли счастливым дон Хенаро? От моих родителей и моих родных дядей и теток я слыхал, что он был незадачливым изобретателем машин. Когда дон Хенаро завершал работу по созданию какой-нибудь из них, выяснялось, что она уже изобретена или нельзя найти применение для нее. Посему он в начале века отправился на Филиппины, а потом в страны Центральной Америки в поисках тех мест, где его машины оценят по заслугам. Однажды он вернулся в Испанию. Там он познакомился со своей будущей женой, каталонкой, которую я видел только на фотографиях, где оба они стоят рядом с другими милисианос[99] из КНТ[100]. Детей у них не было, и трагический исход гражданской войны привел их в порт Тромплю, близ Бордо. В 1939 году оба они решили подняться на борт «Виннепега»[101] вместе с двумя тысячами поверженных республиканцев, и последнее, что они видели в Европе, был силуэт Пабло Неруды, прощально махавшего им с причала…
— Не сокрушайся. Это прекрасная и печальная история, — сказал старый букинист.
— Не знаю, что и думать. То ли все это не больше чем совпадение? Может и существовал другой Хенаро Бланко, которому выпало счастье быть вместе с другой Пилар Солорсано? Взгляните на следующую страницу, тут печать фиолетового цвета, где сказано: «Э. Гублэнд энд Компани. Либрерос Гватемала». И вполне возможно, наш Хенаро Бланко, которого я знал, как раз и был в это время в Центральной Америке. Все так странно и смутно.
Старик посмотрел на меня понимающе, словно такие встречи были для него совершенно обычным делом в его мире бумаг и мыслей, упорядоченных во времени. Прежде чем начать разговор он снял очки и протер их шарфом.
— Возьми эту книгу. Она тебя дождалась.
— Да я даже не спросил о цене. И неуверен, смогу ли заплатить.
— Бери книгу. В ней заключен вопрос, и он так давно ждет решения. Если ты ее не возьмешь, она будет преследовать тебя точно Голем[102]. Пойми, я еврей и знаю что говорю. Это твоя книга. Она принадлежала Хенаро Бланко, и ты был ему родней.
— Ну хорошо. Я возьму, но с одним условием: не знаю как, но я постараюсь разыскать Пилар Солорсано. И если это все — ошибка, я верну книгу.
Старый продавец благосклонно глянул на меня, быть может, заранее прощая мне мою полную неосведомленность во всем, что касается неизбежности.
Во время полета в Барселону я не выпускал книгу из рук. Я пытался найти что-нибудь еще помимо этой дарственной надписи.
Автор книги именовался Элиас Зероло, и она была выпущена в свет Испанским филиалом издательства Братьев Гарнье. Улица Сен-Пер, 6, Париж. Листая книгу, я наткнулся на строки, которые вполне могли быть сказаны доном Хенаро, когда он излагал свои идеи о свободе. «…и тогда вы увидите, что труд, избранный вами в условиях полной свободы, принесет вам удовлетворение, и только благодаря ему вы будете заслуженно оценены человечеством».
Когда самолет сел в Барселоне, у меня уже было нечто мало-мальски похожее на план розысков, который предполагал, что первым делом надо позвонить матери в Чили. Это я и сделал, как только приехал в отель, и, умолчав о своей находке, спросил, не рассказывал ли ей случайно дон Хенаро, в каких странах он побывал в начале века.
— Неужели ты думаешь, что я это помню? Ты отдаешь себе отчет, сколько лет прошло со дня смерти нашего старичка?
— Попробуй вспомнить. Это очень важно для меня.
— В доме все еще хранятся бумаги дона Хенаро. У него были разные паспорта, но кто его знает, куда мы их сунули. Позвони завтра, а я пока поищу.
К счастью, мать нашла документы, и я смог удостовериться, что между 1907 и 1909 дон Хенаро жил в Овьедо. Среди бумаг она обнаружила письма от угольных компаний, которые отказывались от его изобретений. И паспорт, с отметкой о его выезде из Испании через Сантандер в 1910 году.
Я провел бессонную ночь, и когда под утро мне удалось задремать, я увидел сон, в котором чувствовал себя совершенно счастливым. Мне приснились дон Хенаро, мой дед и старый букинист из Праги. Они беседовали за бутылкой ликера так, словно всю жизнь были друзьями. И вдруг дон Хенаро меня окликнул словами: «Поди-ка сюда, я поговорю с тобой о Пилар Солорсано, она…» Однако рассвет снова унес с собой эту тайну.
К вечеру на другой день поезд доставил меня в столицу Астурии. Я остановился в отеле рядом с туристическим комплексом «Жирафа» и тотчас попросил, чтобы мне принесли в номер телефонный справочник. Я выписал все номера с фамилией Солорсано. К счастью, их было не больше двадцати, и я начал звонить.
— Простите за беспокойство, но мне необходимо срочно узнать о госпоже, которую звали Пилар Солорсано, в 1909 году она посетила Гватемалу. Само собой, вам покажется это странным, но я подчеркиваю, что для меня это чрезвычайно важно.
Первые пятнадцать звонков вызвали лишь удивление или какие-то уклончивые ответы. Быть может, я не нашел нужных слов для объяснения и должен был изобрести что-либо насчет наследников, словом, какой-то толковый аргумент. Ни на что, собственно, не надеясь, я набрал следующий номер, и женский голос привел меня в такое волнение, от которого я весь взмок.
— Да, это дом госпожи Солорсано, но ее нет. Она теперь живет в доме престарелых. Дело в том, что она жила совсем одна и не могла уже ухаживать за собой. Нет. Ее имя не Пилар. У нее была сестра, да, минуточку. Хосе, ты помнишь, как звали сестру госпожи Солорсано? Ты уверен? Вы слушаете? Да, ее сестру звали Пилар. Да, если вы хотите зайти… Завтра? Дело в том, что нас днем не будет. Если вас не смутит беспорядок, можете прийти прямо сейчас. Мы делаем ремонт, ну и понимаете, что это такое. Мы совсем недавно сняли эту квартиру, и в ней пока еще много вещей госпожи Солорсано. Хорошо. Мы вас ждем.
Серый дом находился по соседству с вокзалом. Меня встретила очень приятная пара, всецело погруженная в свой ремонт. После наших взаимных извинений, я — за вторжение, а они — за пятна побелки, которые были повсюду, я признался, что не знаю, зачем я здесь и что ищу, но что мне жизненно необходимо найти хоть что-то, что приведет меня к Пилар Солорсано.
— Да брось, Хосе! Непохоже, что он псих, — сказала женщина.
— Ладно, по крайней мере выглядит безобидно, — заключил мужчина.
Они оставили меня одного в захламленной комнате — картины, книги, лампы, ковры и альбомы с фотографиями.
Мне не понадобилось много времени для того, чтобы удостовериться в существовании Пилар Солорсано. Приведенные в порядок фотографии одинокой жизни явили мне женщину, не перестававшую быть красивой во все годы своей жизни, и ее медленную трансформацию, что просматривалась в разных деталях, пока я листал страницы альбомов, и в том, как седели тщательно уложенные волосы, и в том, как возрастные пятнышки постепенно покрывали ее руки и лицо.
Я открыл один из альбомов с указанной датой — 1908–1911. На коричневых открытках были запечатлены тропические пейзажи, а на одной из фотографий я узнал черты лица дона Хенаро. Он и Пилар стояли вместе на дозорной башне, может, эта была испанская крепость, возведенная для защиты от пиратов. На ней было длинное платье, возможно из хлопка, очень легкое, потому что остановленный на фотографии ветер отбросил его в одну сторону, и ткань плотно обтянула стройное тело. Мужчина был в белом костюме, возможно льняном, на его голове красовалась шляпа-панама, и он прижимал к груди книгу. Это была та самая книга, что теперь, спустя восемьдесят лет, оттопыривала карман моего пиджака.
Зная наперед, что мне откроется, я вынул фотографию. На обратной стороне была дата — 15 августа 1909 года.
Неведомо, сколько часов я провел в этой комнате, перебирая фотографии и письма, посланные из Чили. В одном из них, от 1949 года, дон Хенаро рассказывал о моем рождении, и я тотчас узнал его интонации, с которыми он излагал свои идеи насчет свободы или звал меня к краю неоконченной фразы: «Поди-ка сюда, я хочу поговорить о Пилар Солорсано, она…»
«Если бы вы, Пилар, могли увидеть его. Это маленькое существо решило заполонить собой весь мир. Крикун, беззащитный, капризный, но способный пробудить даже в самых грубых сердцах родительское чувство, которое объединяет всех людей в одну большую семью. Если бы вы могли увидеть его, Пилар…» Я не захотел читать дальше. Не мог. Стало совестно лезть в такие сокровенные тайны их отношений.
Я уже прощался с супружеской парой, когда женщина напомнила мне о существовании ящика с важными документами, которые нужно было отнести госпоже Солорсано. В этом ящике я обнаружил Свидетельство о смерти Пилар. Она умерла намного раньше дона Хенаро, и по дате ее рождения я сделал вывод, что она была на пятнадцать лет его старше.
Сжимая в руках книгу, я вошел в бар, и горячительное тепло коньяка сразу родило поток вопросов: открылись ли дону Хенаро тайны любви рядом с этой женщиной? Последовала ли она за ним в Центральную Америку? Пытались ли они стать счастливыми возле Карибского моря? Когда между ними встало непреодолимым препятствием расстояние? Как быстро они обнаружили ловушку, которую так безжалостно ставит разница в возрасте, вопреки всем клятвам в любви и лихорадочному жару счастья, что так ненадолго помрачает наш жалкий разум? Произносили они эти слова-ужимки «я тебя никогда не забуду», прежде чем расстаться? Или их разлучила гражданская война? И о книге… Может, они читали ее вместе, к примеру, вот этот абзац: «…из всех изобретений Бласко де Гарая[103] самым важным является машина, которая приводит в движение суда без весел и парусов, а лишь могущественной волей воды…»?
На страницах книги было много следов от сырости и порыжелых пятен, что грозило вот-вот погубить текст. Зато у дона Хенаро в памяти о Пилар Солорсано не было ни теней, ни пятен.
Я хочу верить, что эта любовь, как и книга, пережила ночь забвенья и что Пилар Солорсано на закате своей жизни звала свою сестру словами: «Поди сюда, я хочу говорить с тобой о Хенаро Бланко, он…», и когда она умолкла, заглянув в пропасть прожитых лет, их общее безмолвие стало непорочной речью возлюбленных, куда более могущественной, чем все разлуки, вместе взятые, все печали. Я хочу верить, что сила этой любви питалась и поддерживалась надеждой в мой неотвратимый приход, предусмотренный чьей-то волей, которая меня избрала свидетелем этой невстречи по ту сторону времени.
Еще одни врата неба[104]
Париж. Ну не знаю. И вообще, сейчас я думаю, что по этим же улицам и, скорее всего, заглядывая в эти же окна и чувствуя, как в животе приятно разливается такое же тепло от сигаретного дымка… Ну не знаю. Я говорю о Великане[105], о ком еще! Сказал «говорю», но я не говорю, я — думаю, в комнате, которая служит мне кабинетом. Снаружи все еще зима. А у меня тепло и светло, на столе — призывно открытая пачка сигарет, но я, меж тем, иду по этим улицам, которые Великан наверняка исходил все до единой, пряча руки в карманы и затевая игру с ветром, который настырно распахивал полы его длинного плаща, чтобы нам рисовался образ большой, сбившейся с пути птицы.
Я тоже открываю для себя всякое разное. Не знаю с чего. Наверно потому, что меня как засадили в реестр молодых людей, так я там и торчу. А привычку ходить вот так, с сигаретой во рту, делая короткие затяжки и не замечая ее, я перенял у Генриха Белля, милого старины из Кельна, и это мне нравится так же, как нравится гулять по Парижу в этот вечерний час.
Но главное, я все время помню о Великане.
Я иду и говорю. Иду по Парижу и разговариваю с моими мадридскими друзьями, сидя у себя в комнате в Гамбурге.
Онетти[106] совершенно прав: следует отречься от реального пространства и жить в пространстве воображения.
На страницах своего блокнота я отметил дату — 12 февраля, и поскольку забыл о нем, там всегда будет 12 февраля[107].
Зима в Европе. Если я сейчас открою вам настоящее имя Великана, вы сразу решите, что это самый что ни на есть дешевый трюк и я просто хочу завладеть вашим вниманием. С другой стороны, если вы уже встретились с датой 12 февраля, то, очень может быть, сразу догадались (а я этого отчаянно желаю), что тут зашифровано. Если да, то ваши глаза от удивления округлятся, брови стремительно взлетят, но тотчас упадут, не хуже чем у самого Марселя Марсо. И если у вас сразу не отпадет охота читать, я пойму это так, будто вы меня дважды одобрительно похлопали по спине, и тогда уже смогу писать и говорить дальше.
Смотрите, мы, выходит, можем запросто понимать друг друга! Если вам сейчас захотелось выпить коньячку, закурить сигарету и устроиться удобно в своем любимом месте, как это делают кошки, то — пожалуйста. Вы и я, мы сообща примем участие в магическим действе литературы.
Я бы не смог говорить о Великане, не будь у меня уверенности, что вы существуете и, мало того, вы со мной — в заговоре.
Париж. Ну как это сказать? Каждый раз не надолго, чего там! Недели две-три от силы, а с тех пор, как эти хреновы французы завели строгости с визами, не больше нескольких часов в ожидании поезда, который довозит меня до Мадрида или обратно — до берегов Эльбы. Обычно я езжу налегке и без труда добираюсь пешком от Северного вокзала до вокзала Аустерлиц, то есть могу обойтись без пятой линии метро, где в часы пик стоит такое амбре, что сами знаете… Париж. Ну как бы сказать? Я его полюбил, потому что там во мне зримо живет присутствие других. То есть там я живу памятью о других, у меня перед глазами те, кого я любил и люблю.
Я еще не знаю этот город так, чтобы почувствовать его всей полнотой слов, всем жаром крови, хотя однажды оставил там частичку моего тела в старом доме на бульваре Батиньоль[108], где все закончилось потасовкой с одним американцем, бывшим чемпионом по боксу в среднем весе. В общем, не знаю. В те времена я был не я теперешний. Был, если честно, тенью Хемингуэя и бродил по улицам, отыскивая очистки и стружку с карандашей Мастера. Париж. Теперь, похоже, у меня серьезные проблемы с парижскими нужниками. Совсем молодым я сломал ногу, играя в опасные игры с полицией, и с тех пор совершенно неспособен к тем гимнастическим упражнениям, какие требуют санитария и гигиена Франции. Но хватит трепа! Вам угодно, чтобы я разговаривал на языке сочинителя рассказов, так рад стараться — мы уже начали с даты: 12 февраля.
На сей раз по приезде в Париж у меня было целых восемь часов до пересадки на испанский поезд, и как всегда, я решил дойти до вокзала Аустерлиц пешком, чтобы поразмыслить на ходу. День был ужасный. Холод и дождь. Противный дождь без ветра, решительным образом вертикальный, под каким через несколько минут вымокнешь до нитки, однако в непромокаемом плаще невольно чувствуешь себя в привилегированном положении. Ну скажите, разве не достоин Нобелевской премии тот, кто изобрел эту прорезиненную ткань, которая укрывает нас от непогоды.
В какой-то момент, зазевавшись, я шагнул прямо в лужу и, обнаружив, что мои шерстяные носки вконец мокрые, решил завернуть в попавшееся на глаза крохотное кафе, слабоосвещенное. Повесив плащ рядом с обогревателем, я попросил двойного коньяку. Не такое уж плохое оказалось место. Несколько посетителей сидят за вечерними газетами, по радио приглушенно звучит концерт для флейты. Моцарт, коньяк медленно проникает в самую глубь горла, и чувствуешь, как постепенно подсыхают твои носки. И вот тут я услышал разговор за спиной.
Это были они. Какие тут сомнения? Они! Я не мог их видеть, да и не все ли равно, если я их вообще ни разу в жизни не видел. Более того, я полагаю, что лишь Великан знал в подробностях, какие у них лица. Но это были они. И попробуй объясни такое! По сути, чистая случайность. Но Борхес говорит, что мы мало знаем о законах, которые правят случаем.
Я не хотел оборачиваться, вернее, не хотел увидеть их лица. И подавил в себе желание завести с ними разговор. Ну как сказать? Наверно, чутьем понял, что ни к месту. Не будучи верующим, я кое-что знаю насчет того пространства, которое зовется лимбом[109], однако думать не думал, что оно обозначится в еле освещенной кафешке на пути к Монпарнасу. Да, это были они и говорили на аргентинский манер.
— Да вашу мать! — сердился тот, по голосу которого я догадался, что он постарше. — Мы на такой мели, а вы, дон, тратите последние деньги на газету.
— Надо быть в курсе, — возразил тот, кто вроде бы помоложе. — Пресса — мост, связывающий нас с цивилизованным миром. Рука, которая лепит из бесформенной массы наше мышление. Четвертая власть. И потом, я купил эту газету из-за программы бегов. Фортунато пойдет в седьмом заезде.
— А какого хрена мне знать, что Фортунато в седьмом, если у нас нет ни гроша, чтобы поставить на этого крэка[110]? И приди он первым, нам, значит, переживать вдвойне? Да вашу мать!
— У вас, коллега, по-моему, нет ни малейшего представления о силе печати. Будь мы по-настоящему в курсе, двинули бы прямо к кассам ипподрома, а там топчется какой-нибудь хмырь, ну и сам знаешь: «Добрый вечер. Простите за беспокойство, но некоторые финансовые затруднения не позволяют нам поставить на лошадь, которая выиграет в седьмом заезде. Мы, знаете ли, племянники жены лошади, то есть я хотел сказать — жокея, и полагаем, что за маленький процент с выигрыша могли бы поделиться с вами одним секретом насчет…» Ну как? Теперь дошло, зачем я стараюсь быть в курсе дел?
— Боже мой! Откуда такой оптимизм? Может, скажете, дон, на какие шиши мы купим входные билеты на ипподром? И второй вопрос, совсем пустяшный: тебе угодно, чтобы мы поперлись туда пешком под таким ливнем?
— Ну и что? На Сен-Дени есть турникет, там запросто пройдешь, если его пнуть ногой, мне это сказал один гаитянин сегодня утром.
— Боже мой!
— Че, с чего ты так ударился в мистику?
— «О брошенных скорблю душою»[111]. Знаешь это стихотворение? С тех пор как от нас ушел мастер, мы еле тянем.
— Это правда. Раньше мы не чувствовали такой нужды. У нас всегда была про запас бутылка граппы. И спрашивается, когда мы приняли в последний раз по стаканчику граппы? Ты думаешь, он теперь на небесах?
— Слушай, брось. Я мистик, но не до такой степени. Теология отчаяния имеет свои границы[112].
Официант перебил их разговор. С наглым выражением лица, обретенным скорее всего в Иностранном легионе, он вырос перед ними, решив не сдвинуться с места, пока они что-нибудь не закажут.
— Один кофе — сказал тот, кто постарше.
— А мне только стакан воды, у меня после обеда какая-то тяжесть в животе, знаете…
Молодой официант удалился, что-то ворча себе под нос. Я было хотел обернуться и пригласить их распить бутылочку, пообедать вместе, — словом, поесть, однако нечто более сильное, чем застенчивость, пригвоздило меня к стулу, и слава богу. Вообще-то я знаю, что у них вечные трудности с деньгами, Великан много говорил на эту тему, но, согласимся, такие типы, как они, всегда найдут выход.
— Мы могли бы заказать два кофе и два croissants.
— И утку в апельсинах, не правда ли? Мне, пожалуй, надо составить опись нашего имущества прямо сейчас. У меня есть три франка пятьдесят центов, билет на метро, замечу — мокрый, вряд ли пропустит автомат, и еще семь сигарет. А у вас, дорогой коллега, в наличии эта чертова газета, спички и ключ от комнаты.
— У нас кризисный период. Вы заметили, какая ослиная рожа у официанта? Что он хотел, этот козел гребаный? Чтобы я заказал жареного фазана?
— А сколько бы нам дали за книги?
— Продавать книги? Это единственная память о нем.
— Какие предрассудки! Ты же спер два венка в день похорон.
— Э-э! Осторожно на поворотах! К чему столь неосновательные обвинения! Да, спер, и целых два венка. Но сделал это потому, что ему бы понравилось. Бесспорно. А какой он прислал бы славный рассказ? И не забывай, что ты помог мне вечером продавать гвоздики.
— Вы правы, дон. Приношу свои извинения. Мы оба, как говорится, повязаны.
— Послушайте, Фортунато пришел четвертым на прошлой неделе и третьим на позапрошлой. Судя по всему, если он побежит по влажной земле, самый верный шанс — у него. Фортунато, сын Валькирии и Лорда Джима! С такой родословной он наверняка придет первым. Вот досада!
— Ну досада. Слушай, не лучше бы нам пойти в мастерскую Жиля и заесть наши огорчения. Представь, входим, а он готовит спагетти, мы же в полном праве остаться, раз такой дождь…
Тот, кто помоложе, встал из-за стола, сказав, что обдумает все в уборной. Я смог увидеть его в спину: среднего росточка, в клетчатом пальто, которое ему велико размера на три. А в это время другой — я это сразу почувствовал — направился к соседнему столику попросить огня. Вот он, самый подходящий момент! В руке у меня была зажата бумажка в сто франков, которую я сложил вчетверо, пока они философствовали. Резко обернувшись, я выбросил руку к газете и сунул в нее сто франков. И сел, как ни в чем не бывало.
Тот, что помоложе, вышел из туалета, застегивая на ходу пальто. Я не хотел видеть их лиц, все еще не хотел, до такой степени, что даже притворился, будто завязываю ботинок, когда человек этот прошел мимо меня.
— Ну и как? Обдумали? Вас, дон, не соблазняет поесть спагетти у Жиля?
— А что нам остается? Фортунато, Фортунато. Почему это случилось во времена тощих коров? Слушай, дай-ка я тебе расскажу поподробнее о родословной этого красавца… Э-э! Что с тобой? С чего ты вдруг побледнел как мертвец?
— Че… Ты веришь в чудеса?..
— Да ну тебя. Я же сказал, что мистик мистиком, а…
По их внезапному молчанию, я понял, что деньги обнаружены.
— Ты что, нашел их в туалете?
— Не говори громко. Нет. Здесь. Прямо сейчас.
— Наверно, тот старик в газетном киоске…
— Да брось! Я просмотрел всю газету, страница за страницей. Уж как-нибудь увидел бы!
— Ну это и впрямь чудо!
— Я же не зря сказал, что надо поставить две свечки за его упокоение.
— Да о чем речь! Поставим праздничную кафедральную свечу! Праздничную, и к ней свечечки, которые ко дню рождения! Давай попросим что-нибудь, у меня зубы стучат, так бы и сжевал…
— Ну не здесь. Это неподходящее место. В бистро Поля, бифштекс с жареной картошкой — за двадцать четыре франка. Бутылка столового вина — двадцать. Со всеми налогами и наворотами — считай, восемьдесят. У нас остается двадцать, значит, рванем на ипподром и по дороге купим сигарет.
— И чего, собственно, мы ждем?
Они торопливо выскочили на улицу. Тот, что постарше, бросил на стол несколько монет и процедил официанту по-французски, чтобы тот приберег их к отпуску. В эту минуту мне вспомнилось, что Умберто Эко как-то высказывался о праве вмешательства, и я подумал: ведь они мне — свои, и у них тоже есть право знать, что мы старые знакомые, хоть и не виделись в жизни ни разу. У меня еще было время, а если бы нет, какая разница. Мне выпал счастливый случай познакомиться с парижским ипподромом в компании знатоков, а после устроить настоящую пирушку в честь Великана.
Я заплатил по счету, надел плащ и вышел на улицу. Дождь лил по-прежнему, и я увидел, как они сворачивают за угол.
— Поланко! Калак[113]! — услышал я свой крик, пустившись за ними.
Но добежав до угла, увидел, что на улице никого, ни единой души. Лишь странно отсвечивали влажные кирпичные стены. Ни следа тех двух человек, которых, должно быть, поглотили какие-то тайные, совсем другие врата неба — как знать?
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Лобсанга Рампа — псевдоним канадского автора, выдававшего себя в середине XX века за буддийского монаха и чудотворца; его книги, особенно «Третий глаз», пользовались огромной популярностью у массового читателя. Впоследствии был разоблачен авторитетными востоковедами. (Здесь и далее — прим. перев.)
(обратно)2
Альманах «Бристоль» — популярный в Латинской Америке середины прошлого века ежегодник, содержащий сведения по всем аспектам истории, культуры, религии и т. д. Предназначался для массового чтения.
(обратно)3
Роланд-бар — припортовое заведение, многие годы существовавшее в порту Вальпараисо.
(обратно)4
Хитано (на исп. означает «цыган») Родригес — псевдоним Освальдо Родригеса (1943–1996) — популярного чилийского фолк-певца, композитора, писателя, принадлежавшего в 60-х годах к кругу чилийской богемы. Был завсегдатаем Роланд-бара в Вальпараисо.
(обратно)5
Антонио Сиснерос (род. в 1942 г.) — перуанский поэт.
(обратно)6
Чилоэ — острову берегов Южного Чили.
(обратно)7
Чилоте — житель острова Чилоэ.
(обратно)8
Вид китов, которые водятся в южной части Тихого океана и вблизи Канарских островов.
(обратно)9
В переводе на русский язык эти географические названия означают: Горбатый залив, бухта Отчаяния, залив Горестей.
(обратно)10
Фрэнсис Дрейк (1540–1596) — знаменитый английский мореплаватель, совершивший второе кругосветное плавание, руководитель пиратских экспедиций.
(обратно)11
Пуэрто-Монт — город и торговый порт в Южном Чили на Тихом океане, конечный пункт продольной железной дороги. Основан немецкими колонистами.
(обратно)12
Анкуд — город и порт на северном берегу о. Чипоэ в Тихом океане.
(обратно)13
Чильян — город на юге Центрального Чили.
(обратно)14
Консепсьон — город в центральной части Чили, на правом берегу эстуария Био-Био. Важный экономический и транспортный центр страны.
(обратно)15
Линарес — город на юге Центрального Чили. Славится своими виноградниками.
(обратно)16
Талька — город в центральной части Чили в Продольной долине.
(обратно)17
Речь идет о герое популярной в 30-е годы в США и странах Латинской Америки серии американских приключенческих и научно-фантастических комиксов, печатавшихся в специальных приложениях к газетам. Авторы — Уильям Ритт и Кларенс Грей.
(обратно)18
Черные ястребы — герои комикса о немецких летчиках времен второй мировой войны.
(обратно)19
В чилийском народном фольклоре бытует легенда о проклятом корабле-призраке «Калеуче», которая варьируется во многих произведениях чилийской литературы.
(обратно)20
Сандокан — Малайский Тигр — пират, супермен, герой одноименного приключенческого романа популярного в Латинской Америке конца XIX века итальянского писателя Эмилио Сальгари. Сюжет романа долго использовался в комиксах, мультипликационных фильмах, на телевидении и т. д.
(обратно)21
Койоте — один из суперменов, герой комиксов, радиопостановок и кинофильмов в Латинской Америке.
(обратно)22
Мануэль Хавьер Родригес (1785–1818) — один из легендарных героев войны за независимость Чили. Создатель Эскадрона гусаров смерти.
(обратно)23
Сан Бруно — герой одноименного исторического романа чилийского писателя Э. Либорио о реконкисте в Чили (1815–1817).
(обратно)24
19 сентября в Чили отмечается День независимости, или День Родины.
(обратно)25
Антофагаста — город-порт на севере Чили (провинция Антофагаста), Оруро — город в юго-западной части Боливии.
(обратно)26
Тиауанако — место раскопок, древнего городища, расположенного к юго-востоку от озера Титикака. Образцам доинкской цивилизации индейцев, обнаруженным в раскопках, посвятил один из своих трудов русский этнограф Р. Кинжалов.
(обратно)27
Любительский, дилетантский (франц.).
(обратно)28
Ольягуэ — город рядом с одноименным вулканам в западной части Анд, на границе Боливии и Чили.
(обратно)29
Освальдо Сориано (1943–1997) — аргентинский писатель, автор иронической прозы, журналист, друг Хулио Кортасара.
(обратно)30
Маленький рыбацкий поселок на побережье Крита.
(обратно)31
Масиа — деревенский дом в Каталонии, сложенный из массивных камней.
(обратно)32
Палау-де-Санта-Эулалиа — местечко в каталонской провинции Жирона.
(обратно)33
Строка из стихов классика кубинской поэзии Николаса Гильена (1902–1989).
(обратно)34
Писко — крепкая виноградная водка, получившая свое название от перуанского города Писко. Особенно популярна в Боливии, Чили и Перу.
(обратно)35
Луис Димас (1943 г.р.) — чилийский певец, звезда эстрадной песни в 60-80-х гг., Палито Ортега — артистическое имя аргентинского певца и композитора, короля «новой волны» в аргентинской популярной музыке, Лео Дан — прославленный аргентинский певец и композитор.
(обратно)36
Бадди Рич (1917–1987) — американский музыкант, барабанщик, руководитель оркестра, шоумен и вокалист.
(обратно)37
Рэй Чарльз (1930–2004) — американский вокалист, органист, композитор, автор многих хитов, исполнитель джаза, соул, блюза, госпел. Ослеп в шестилетнем возрасте.
(обратно)38
Дженни Джоплин (1943–1970) — американская джазовая певица, знаменитая исполнительница блюза и рока.
(обратно)39
Здесь перекличка со знаменитой песней Шарля Азнавура «Исабель».
(обратно)40
Уменьшительное от Исабель.
(обратно)41
Цитата из стихотворения Рамона Диаса Этеровича, чилийского поэта и прозаика, друга Луиса Сепульведы.
(обратно)42
Марсиаль Лафуэнте Эстефания — испанский писатель, автор многочисленных приключенческих романов, преимущественно о Дальнем Западе.
(обратно)43
Бриска — азартная карточная игра.
(обратно)44
Популярный персонаж мультфильмов компании «Уорнер Бразер’с», ловкий мышонок, который всегда удирает от кота.
(обратно)45
Пергола-де-лас-Флорес — знаменитая улица в Сантьяго, где продается множество цветов.
(обратно)46
Имеется в виду памятник испанскому завоевателю, губернатору Чили и основателю чилийских городов, в том числе и Сантьяго, Педро Вальдивиа (1497–1553). На памятнике высечен текст письма Карлу V. Письма Вальдивиа испанскому королю являются национальным достоянием Чили.
(обратно)47
Кинофильм (1962, пр. «Оскар») английского режиссера Дейвида Лина (1908–1991) об английском разведчике Томасе Эдуарде Лоуренсе.
(обратно)48
Имеется в виду фильм «Мятеж на «Баунти» (1962) американского режиссера Льюиса Майлстоуна (1895–1980).
(обратно)49
«Мои любимые вещи» (англ.) — основная мелодия мюзикла «Звуки музыки» американского композитора Роберта Роджерса. Стала музыкальным бестселлером в 60-е гг. после записи альбома Джона Колтрейна с тем же названием.
(обратно)50
Телониус Сфир Монк (1917–1982) — американский джазовый пианист, композитор и руководитель квартета, один из зачинателей джазового стиля «боп», сложившегося в 40-е гг.
(обратно)51
Джон Колтрейн (1926–1967) — американский саксофонист, яркий представитель направления «фри-джаз».
(обратно)52
Роберто Арльт (1900–1942) — аргентинский писатель, оказавший большое влияние на творчество Хулио Кортасара.
(обратно)53
Гарри Белафонте (род. в 1927 г.) — певец, актер, продюсер, композитор, активный борец за права человека.
(обратно)54
Сан Мартин Хосе (1778–1850) — один из руководителей борьбы за независимость Латинской Америки, национальный герой Аргентины. Освободил территории Аргентины, Чили и Перу от испанских завоевателей.
(обратно)55
«Мартин Фьерро» — эпическая поэма аргентинского поэта и публициста Хосе Эрнандеса (1834–1886) в стиле «Поэзии гаучо». Получила огромное признание в различных слоях аргентинского общества. Здесь скрытая ирония, поскольку Хосе Эрнандес был яростным оппонентом Доминго Сармьенто, президента Аргентины в 1868–1874 гг.
(обратно)56
Мендоса — город на западе Аргентины, административный центр одноименной провинции.
(обратно)57
Гардель Карлос (1890–1935) — культовая фигура Аргентины, аргентинский певец и киноактер французского происхождения, получивший титул короля танго. Погиб в авиационной катастрофе.
(обратно)58
Семпрун Хорхе (род. в 1923 г.) — испанский политический и государственный деятель и писатель. Был руководителем компартии Испании в эмиграции. Автор политических левацких романов на испанском и французском языках.
(обратно)59
Начало строки из стихотворения испанского поэта Антонио Мачадо (поэтический цикл «Пословицы и песенки»). Полностью строка звучит так: «Путник, нет дорог/дорогу пролагаешь только ты…» Пер. О. Савича.
(обратно)60
Имеется в виду Педро I Жестокий (1334–1369) — король Кастилии и Леона. Был предан союзниками и казнен.
(обратно)61
Лопес де Айяла Перо (1332–1407) — кастильский военный и политический деятель, писатель времен короля Кастилии Педро I Жестокого. Автор исторических хроник.
(обратно)62
Хуан Антонио Вера Суньига-и-Фигероа — испанский историк, получил титул графа де ла Рока от испанского короля Фелипе IV. Умер в 1658 году.
(обратно)63
Агуакате — вечнозеленое дерево, произрастающее в Америке. Достигает десятиметровой высоты и дает мясистые ароматные плоды.
(обратно)64
Один из мифологических городов, якобы расположенных в Южной Америке. Версия города Эльдорадо.
(обратно)65
Хуан Понсе де Леон (1460–1521) — испанский конкистадор, исследователь Пуэрто-Рико, открыл Флориду в 1512 г. Был одержим идеей открытия источников вечной молодости.
(обратно)66
Оплечье из грубой ткани, которое носят члены монашеских орденов (в частности, кармелиты).
(обратно)67
Ямилет — имя молодой чилийской женщины, жившей в 70-х годах двадцатого века в Талаганте-дель-Сур, неподалеку от Сантьяго, которая считала себя провидицей и колдуньей; впоследствии ее объявили шарлатанкой.
(обратно)68
Текайэуатцин — правитель ацтекского города-государства Уэшоцинго, поэт, немногие стихи которого на языке народа науатль сохранились до настоящего времени.
(обратно)69
Уэшоцинго — ацтекский город-государство в долине Тлашкала (Центральная Мексика), завоеванное испанскими конкистадорами в XVI веке.
(обратно)70
Речь идет о верховном правителе ацтеков Моктесуме II (1466–1520), который во время восстания индейцев против испанских завоевателей призывал восставших покориться испанцам и был убит индейцами, забросавшими его камнями.
(обратно)71
Хуан Хинес де Сепульведа (1490-1572-73) — испанский историк, церковный деятель, автор знаменитого труда «Причины справедливой войны против индейцев», в котором выступает резким оппонентом Фрая Бартоломе де лас Касас.
(обратно)72
Фрай Бартоломе де лас Касас (1474–1566) — испанский хронист, яркий представитель европейского гуманизма, защитник индейцев.
(обратно)73
Родриго де Триана (настоящее имя Хуан Родригес Бермехо) — испанский моряк, который в 1498 году, во время первого плавания Колумба, будучи на вахте и увидев берег земли, воскликнул: «Впереди земля!»
(обратно)74
Здесь: Мрачная история (лат.).
(обратно)75
Кнорозов Юрий Валентинович (1922–1999) — российский этнограф и языковед, автор трудов по расшифровке древних систем письма индейцев майя.
(обратно)76
Цитата из стихотворения Хосе Марти «Любовь большого города».
(обратно)77
Кубалибре — коктейль из рама и кока-колы.
(обратно)78
Пеньяс-Бланкас — небольшой городок на границе с Коста-Рикой.
(обратно)79
Ривас — главный юрод одноименного департамента в Никарагуа.
(обратно)80
Мина-ловушка. В переводе с испанского «каса-бобос» означа-
(обратно)81
Белен — небольшое местечко вблизи коста-риканской границы.
(обратно)82
Хинотепе — главный город никарагуанского департамента Карасо.
(обратно)83
Гранада — главный город одноименного восточного департамента Никарагуа.
(обратно)84
Блуфильдс — город и порт в Никарагуа на побережье Карибского моря.
(обратно)85
Эден Пастора (род. в 1937 г.) — команданте «Серо». Один из руководителей сандинистской революции в Никарагуа, ныне влиятельный бизнесмен и политический деятель.
(обратно)86
Сан-Хуан-дель-Норте — небольшой городок на границе с Коста-Рикой.
(обратно)87
Хуигальпа — город в южной части Никарагуа.
(обратно)88
Рама — городок на реке Рио-Эскондидо в Никарагуа.
(обратно)89
Коричная настойка.
(обратно)90
Компа — сокращенное от испанского слова «компаньеро» (compañero) — товарищ. Обращение, которое было принято в Никарагуа во время сандинистской революции конца 70-х годов.
(обратно)91
Солентинаме — никарагуанский архипелаг на озере Никарагуа, состоящий из четырех островов и множества мелких островков. Здесь после падения в 1979 году режима Сомосы один из вождей сандинистской революции, священник и поэт Эрнесто Карденаль, создал христианскую земледельческую общину, где вместе с никарагуанскими крестьянами жили и работали крупнейшие представители творческой интеллигенции Европы и Америки.
(обратно)92
Моравия — кантон провинции Сан-Хосе в Коста-Рике.
(обратно)93
Ярослав Сейферт (1901–1986) — чешский поэт, лауреат Нобелевской премии.
(обратно)94
Сефарды — потомки еврейских выходцев, изгнанных с Пиренейского полуострова в конце XV века; живут в странах Северной Африки, Малой Азии, Балканского полуострова и в Израиле.
(обратно)95
Ладино — язык сефардов, то есть испанский язык, который почти не претерпел изменений с того времени, когда евреи были изгнаны из Испании.
(обратно)96
Самакойс Эдуардо (1876–1971) — испанский романист, популярный в первой половине XX века.
(обратно)97
Ларго Кабальеро Франсиско(1869–1946) — один из лидеров испанского профсоюзного движения, лидер социалистической партии. В 1936–1937 гг. премьер-министр и военный министр социалистического правительства в Испании.
(обратно)98
Кармен — так называется в Андалузии и Каталонии загородный дом с участком.
(обратно)99
Милисианос — члены стихийно возникших в Испании в начале гражданской войны добровольных военизированных отрядов, которые были упразднены после создания Республиканской армии.
(обратно)100
Национальная конфедерация трудящихся — крупнейшая испанская профсоюзная организация анархистов.
(обратно)101
«Виннепег» — название парохода, на котором в Чили были вывезены испанские республиканцы, эмигрировавшие после поражения Республики во Францию и оказавшиеся в концлагерях этой страны. Операцией по спасению эмигрантов руководил Пабло Неруда по поручению президента Чили Педро Агирре Серда.
(обратно)102
Голем — в еврейских фольклорных преданиях глиняный великан, оживляемый заклинаниями, который выполняет волю своего создателя, но порой может и погубить его.
(обратно)103
Бласко де Гарай (?-1552) — испанский моряк баскского происхождения, изобретатель лопастного колеса, заменившего весла на гребных судах.
(обратно)104
В названии рассказа содержится отсылка к знаменитому рассказу Хулио Кортасара — «Врата неба».
(обратно)105
Великан, Великанище — так ласково прозвали Кортасара друзья из-за его очень высокого роста.
(обратно)106
Онетти Хуан Карлос (1909–1994) — уругвайский писатель, близкий к экзистенциализму.
(обратно)107
12 февраля 1984 года — дата смерти Хулио Кортасара.
(обратно)108
Парижский бульвар Батиньоль, расположенный рядам с вокзалом Сан-Лазар, пользуется сомнительной репутацией.
(обратно)109
Лимб — богословское понятие, означающее место, куда попадают души умерших, не допущенных в рай, преддверие рая.
(обратно)110
Крэк — так называют резвую лошадь на сленге ипподрома.
(обратно)111
Первая строка стихотворения мексиканского поэта Амадо Нерво (1870–1919).
(обратно)112
Здесь игра с термином «теология освобождения», означающим радикальное католическое движение, возникшее после 11 Ватиканского собора (50-е годы XX века), провозгласившего отказ от многих догм. Получило особое развитие на латиноамериканском континенте, вобрав идеи освобождения от экономического гнета с помощью веры и построения Царства Божьего на земле.
(обратно)113
Два аргентинца, пытающиеся замкнуться в небольшой кампании парижских нонконформистов, герои романа Хулио Кортасара «62. Модель для сборки».
(обратно)
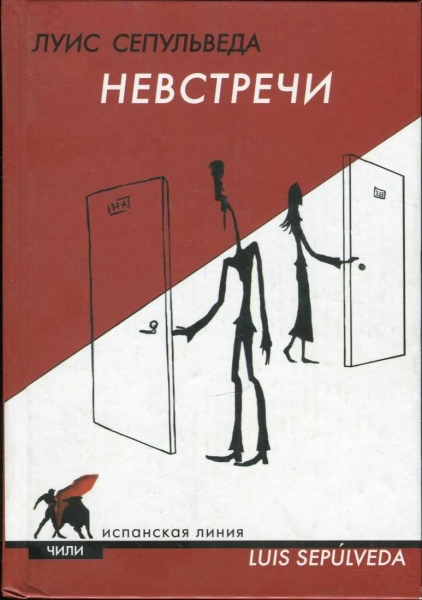




Комментарии к книге «Невстречи», Луис Сепульведа
Всего 0 комментариев