Генри Филдинг Путешествие в загробный мир и прочее
ВВЕДЕНИЕ
То ли рассказанное на следующих страницах было грезами, или видением, некоего весьма набожного и праведного мужа; то ли эти страницы были впрямь написаны на том свете и переправлены к нам, по мнению многих (на мой взгляд, чересчур приверженных суеверию); то ли, наконец, как полагает решительное большинство, они творение образцового обитателя нового Вифлеема[1], – все это не суть важно, да и трудно сказать наверняка. Читателю будет довольно узнать, при каких обстоятельствах они попали в мои руки.
Мистер Роберт Пауни, торговец писчими принадлежностями, что держит лавку напротив Кэтрин-стрит на Стрэнде[2], человек честный и самых строгих правил, из прочих своих замечательных товаров особенно прославившийся перьями, чему я первейший свидетель, ибо благодаря их особенным качествам мои рукописи более или менее удобочитаемы, – этот, повторяю, джентльмен как-то снабдил меня связкой перьев, с превеликим тщанием и осторожностью обернув их в большой лист бумаги, исписанный, мне показалось, очень корявой рукой. А меня всегда тянет прочесть неразборчивую запись – отчасти, видимо, из благодарной памяти к милому почерку, или потчерку (по-разному пишут это слово), каким писала мне в юности прелестная часть человечества, неизменно мне дорогая, отчасти же из-за того расположения духа, при каком предполагаешь огромную ценность в выцветших письменах, в побитых бюстах и потемневших картинах, непонятно на что еще годных. Поэтому я с примерным усердием приник к этому листу бумаги, но уже через день признался себе, что ничего в нем не понимаю. Поспешив к мистеру Пауни, я с порога спросил, не осталось ли у него еще листов из этой рукописи. Он выдал мне около сотни страниц, сказав, что больше у него не сохранилось, хотя поначалу рукопись была толщиной с фолиант, и что квартировавший у него джентльмен оставил ее на чердаке в расплату за девять месяцев проживания. Далее он сказал, что навязывал ее (это его слова) решительно всем издателям, но те отказались впутываться: кто якобы ничего не разобрал, кто будто бы ничего не понял. Одни усмотрели в ней атеизм, другие – поклеп на правительство, и на том или ином основании все отказались ее печатать. Рукопись видели также в Кххх Обществе [3], но там, покачав головами, сказали, что в ней нет ничего, достаточно для них удивительного. Тогда, узнав, что квартирант уехал в Вест-Индию, и не видя от рукописи никакого проку, он, мистер Пауни, и решил пустить ее на обертку. Все, что осталось, сказал он, в моем распоряжении, и он сожалеет об утраченных страницах, раз мне это интересно.
Мне не терпелось узнать, сколько он просит за рукопись, но он удовлетворился уплатой по старому счету: этих денег, сказал он, хватит за глаза.
Я незамедлительно отправил рукопись своему другу, пастору Абрааму Адамсу[4], тот долго вникал в нее и вернул с таким заключением: книга серьезнее, чем кажется поначалу; автор обнаруживает некоторое знакомство с сочинениями Платона, но следовало бы иногда цитировать его на полях, «дабы я убедился, – сказал пастор, – что он читал его в подлиннике, а то нынче, – добавил он, – все козыряют знанием греческих авторов, хотя читали их в переводах и сами не способны проспрягать глагол на 'mi'» [5].
Что касается моего отношения к этой истории, то я нахожу у автора философский склад ума, кое-какое знание жизни и более или менее здравое суждение о ней. Конечно, кто побойчее и поудачливее – тем удобнее думать, что жизнь благодетельствует людям более основательно и что в целом она серьезнее, чем это представлено здесь; не вдаваясь сейчас в спор, скажу только, что мудрых и славных людей, держащихся тех же мыслей, что наш автор, достаточно много, чтобы успокоить его совесть; да и с чего ей быть неспокойной, если он на каждом шагу выводит такую мораль: самое высокое и самое правильное счастье, какое только возможно в этом мире, берет свое начало в великодушии и добродетели; и эту бесспорную истину, заключающую в себе благородную деятельную силу, надобно утверждать в людских сердцах без устали и послабления.
КНИГА ПЕРВАЯ
Глава I Автор умирает, затем встречает Меркурия, который провожает его до кареты, отправляющейся на тот свет
Первого декабря 1741 года[6] у себя на квартире в Чипсайде я расстался с жизнью. Некоторое время мне полагалось выждать в мертвом теле, не оживет ли оно ненароком: таково, во избежание могущих быть неприятностей, предписание непреложного смертного закона. По прошествии положенного срока (он истекает, когда тело совсем застыло) я зашевелился; однако выбраться оказалось не просто, поскольку рот, или вход, был закрыт, и тут я выйти никак не мог, и окна, в просторечии называемые глазами, сиделка прищипнула так плотно, что отворить их не представлялось возможным. Углядев наконец слабый лучик света под самым куполом дома (так я назову тело, в котором был заключен), я поднялся вверх, потом плавно спустился, похоже, в дымоход и вышел вон через ноздри.
Никакой узник, выпущенный из долгого заточения, не обонял аромат свободы острее меня, освобожденного из темницы, где я удерживался около сорока лет[7], и, наверное, с теми же чувствами, что и он, обратил я глаза[8]на прошедшее.
Друзья и близкие ушли из комнаты, и снизу доносилась их перебранка из-за моего завещания; наверху оставалась только какая-то старуха – видно, караулила тело. Она крепко спала, и из ее благоухания явствовало, что виной этому добрый глоток джина. Не прельстившись ее обществом, я выпрыгнул в окно, благо оно было открыто, и тут с огромным изумлением обнаружил, что не способен летать, каковую особенность я, еще обитая в теле, полагал присущей духам; впрочем, я мягко опустился на землю, не причинив себе вреда, и хотя летать мне было не суждено (вероятно, из-за отсутствия оперения и крыльев), я мог совершать такие фантастические прыжки, что получалось не хуже полета.
Я не далеко упрыгал, когда мне предстал высокий молодой джентльмен в шелковом камзоле, с крылышком на левой щиколотке, с венком на голове и жезлом в правой руке[9]. Мне показалось, что я видел его прежде, но он не дал мне времени вспомнить, спросив, когда я опочил. Я сказал, что только что вышел наружу. – Вам ни к чему мешкать, – сказал он, – ведь вас не убили, только убитым приходится слоняться тут некоторое время, а раз вы умерли своей смертью, вы должны немедленно отправляться на тот свет. – Я спросил дорогу. – Извольте, – воскликнул джентльмен, – я провожу вас до гостиницы, откуда отправляется карета. Я провожатый. Возможно, мое имя ничего не скажет вам: я – Меркурий[10]. – Вот оно что, – сказал я. – Значит, я видел вас на сцене. – Улыбнувшись на эти слова и не дав разгадки моему недоумению, он устремился вперед, велев мне прыгать следом. Я повиновался и скоро увидел, что мы на Уорик-Лейн; здесь Меркурий остановился, показал мне дом, где нужно справиться о карете, и, пожелав доброго пути, ушел собирать новоприбывших.
Я поспел к самому отправлению, причем не потребовалось ни о чем справляться: со мной разобрались, едва я появился на пороге; лошади готовы, сказал кучер, но нет свободного места; и хотя пассажиров было числом шесть, они согласились ради меня потесниться. Поблагодарив, я без лишних церемоний сел в карету. Мы тут же тронулись в путь, нас было семеро: когда женщины без кринолинов, три женщины равняются двум мужчинам. Возможно, читатель, ты не прочь узнать поподробнее о нашем выезде, поскольку при жизни ты вряд ли увидишь что-нибудь подобное. Карету сладил знаменитый игрушечный мастер, великий знаток по части нематериальной субстанции, из которой и была сделана карета[11]. Работа была настолько тонкая, что карета была невидима для живых глаз. Призрачными, под стать пассажирам, были лошади, запряженные в этот необычный экипаж. Всю упряжку, как выяснилось, заездил до смерти какой-то станционный смотритель; и кучер, этот жалкий комок нематериальной субстанции, при жизни удостоившийся возить Великого Петра, или Петра Великого[12], – он тоже пал от голода духовного и телесного.
Таков был экипаж, в котором я отбыл, и если у кого нет желания сопутствовать мне, то пусть они тут и останутся; а желающие благоволят перейти к следующим главам, где путешествие наше продолжается.
Глава II, в которой автор опровергает некоторые расхожие мнения о духах, а затем пассажиры излагают обстоятельства своей смерти
Распространено мнение, что духи, подобно совам, видят в темноте, более того: только в темноте и сами становятся видимы. По этой причине многие даже здравомыслящие люди из страха перед такими гостями оставляют на ночь зажженную свечу, дабы те не были видны. Обратно этому мистер Локк решительно утверждал, что и при свете дня дух так же ясно виден, как в самую темную ночь.
Из гостиницы мы выехали в кромешной темноте и точно так же не видели ни зги, как если бы смотрели живыми очами. Хотя мы ехали долго, языки не развязывались – иные попутчики крепко спали;[13] мне же не спалось, и поскольку дух напротив меня также бодрствовал, я попытался начать разговор, посетовав: – Как темно! – И холодно до невозможности, – откликнулся тот, – хотя, слава богу, я этого не чувствую за неимением тела. Иначе беда – выскочить на этакий морозец прямо из печи, а ведь я с пылу, с жару сюда явился. – Какой же смертью вы умерли, сэр? – спросил я. – Меня убили, сэр, – ответил джентльмен. – Отчего же, – спросил я, – вы не рыщете кругом и не строите козни своему убийце? – Какое там! – отозвался он. – Мне не позволено: меня убили на законном основании. Врач влил в меня огонь своими микстурами, и я сгорел в жару, которым они, изволите видеть, выжигают оспу.
При этом слове один из духов встрепенулся: – Оспа! Господи помилуй! Надеюсь, тут никого нет с оспой? Я всю жизнь от нее берегся, и пока бог миловал. – Все, кто не спал, расхохотались над его страхами, и джентльмен опамятовался и, смущаясь и даже с краской на лице, повинился: – Мне приснилось, что я живой. – Сэр, – сказал я, – вы, верно, умерли от этой болезни, что и теперь боитесь ее. – Вовсе нет, сэр, – ответил он, – я сроду ей не болел, но она так долго держала меня в страхе, что сразу от него и не избавишься. Поверите ли, сэр, я тридцать лет не выбирался в Лондон, боясь схватить оспу, и только совершенно неотложное дело пригнало меня туда пять дней назад. И так велик был мой страх перед этой болезнью, что на другой день я не пошел ужинать к приятелю, у которого несколько месяцев назад жена переболела оспой, а сам в тот же вечер объелся мидий, из-за чего и попал в вашу компанию.
– Готов поспорить, – воскликнул его призрачный сосед, – что никто из вас не угадает мой недуг. – Я попросил оказать нам любезность и назвать его, раз он такой редкий. – Еще бы, сэр, – сказал он, – меня погубила честь. – Честь! – поразился я. – Именно так, сэр, – ответил этот дух. – Я был убит на дуэли.
– А мне, – сказала дух-прелестница, – еще летом сделали прививку, и так удачно все обошлось – только чуть рябинки на лице. Я безумно радовалась, что теперь можно всласть отведать столичных развлечений, а прожила в городе всего ничего: простыла после танцев и прошлой ночью умерла от жестокой лихорадки.
Немного помолчав со всеми (между тем совсем рассвело), прелестница поинтересовалась у соседки, чему мы обязаны счастьем видеть ее среди нас. – Скорее всего, чахотке, – ответила та, хотя оба ее врача ни до чего не договорились: она покинула тело в самый разгар их яростного спора. – А вы, мадам, – отнеслась прелестница к другой своей товарке, – каким образом вы покинули тот свет? – Женщина-дух, скривив рот, отвечала, что она поражена, насколько бесцеремонны некоторые люди; что, возможно, кто-то что-то слышал о ее смерти, только это неверные сведения; и что от чего бы она ни умерла, она с радостью оставила мир, в котором ее ничто не держало и где все глупость и неприличие, в особенности у женской половины, за чью распущенность она никогда не переставала краснеть.
Поняв, что совершила оплошность, прелестница воздержалась от дальнейших расспросов. Она была само добродушие и мягкость, при коих качествах ее пол поистине прекрасен: ласковость более всего пристала ему. Ее облик излучал ту радость, доброту и простодушие, что образуют светозарную красоту Серафины[14], чье лицезрение повергает в трепет и вместе наполняет восторженным обожанием. Не будь того разговора об оспе, я бы подумал, что сама Серафина почтила нас своим присутствием. И все подкрепило бы эту догадку – и здравомыслие ее замечаний, и душевная тонкость, и приятное обхождение вместе с достоинством, сквозившим в каждом взгляде, слове и движении; такие свойства, не могли найти более благодарного отклика, нежели в моей сердце[15]и она не замедлила возвести меня на высочайшую ступень серафической любви. Под таковой я не разумею ту любовь, какой, по справедливому слову, занимаются люди на земле и какая длится ровно столько времени, сколько ею заняты. Под серафической любовью я понимаю наиполнейшую душевность и теплоту дружества, и если, мой достойный читатель, подобное чувство тебе не ведомо, что вполне возможно, то просветить тебя в нем такая же безнадежная задача, как не знающему простой арифметики растолковать сложнейшие материи сэра Исаака Ньютона.
И потому вернемся к предметам, доступным всякому разумению; разговор теперь шел о суетности, безрассудстве и невзгодах земных, от них же только рады были избавиться все путешествующие; замечательно, однако, что, благословляя смерть, мы все досадовали на обстоятельства, ставшие ее причиной. Даже сумрачная дама, прежде всех изъявившая свою радость, – и та проговорилась, что оставила врача у своего смертного ложа. И погубленный честью джентльмен теперь ругмя ругал и свое безрассудство, и роковой поединок. Пока мы так толковали, в ноздри нам вдруг шибанул тяжелейший запах. В летнюю пору точно таким зловонием встречает путника красивая деревня под названием Гаага: это смердит в ее обворожительных каналах стоялая вода, услаждая голландское обоняние и к малому удовольствию иного прочего[16]. При встречном ветре люди с острым нюхом чуют эти ароматы за две-три мили, и чем ближе, тем сильнее благоухание. Так и мы все больше увязали в смраде, который я упомянул, и тогда один дух, выглянув в окошко, объявил, что мы прибыли в какой-то очень большой город; и точно, мы были в предместье, и спрошенный нами кучер сказал: это Город Болезней. Дорога была ровная, как скатерть, и очень завлекательная, если не считать того запаха. Вдоль улиц тянулись бани[17], трактиры, ресторации; в окна бань глазели кричаще одетые красотки, в харчевнях прилавки ломились от всевозможных яств; мы въехали в город, дивясь различию с земными порядками: здешнее предместье было куда приятнее самого города. Тут было хмуро и уныло. Только несколько человек увидели мы на улицах, и то в основном старух, да изредка попадался официального вида сумрачный джентльмен в парике, перевязанном сзади лентой, и с тростью, увенчанной янтарным набалдашником. Мы очень надеялись, что тут нет стоянки, но, к нашему огорчению, карета въехала в ворота гостиницы, и нам пришлось сойти.
Глава III Наши приключения в Городе Болезней
Вскоре по прибытии в гостиницу, где нам, похоже, предстояло провести остаток дня, хозяин известил нас, что, по заведенному обычаю, все духи, проезжающие через этот город, свидетельствуют свое почтение той госпоже Болезни, с чьей помощью они.выбрались из земных пределов. Мы отвечали, что не нарушим общего для всех долга вежливости, и он обещал сейчас же прислать провожатых. Он ушел, и вскоре нам предстало несколько сумрачных господ, из тех, что в пышных париках, завязанных лентой, и носят трости с янтарным набалдашником. Эти джентльмены был городскими посыльными, а трость – это insignia, или знак, удостоверяющий их должность. Мы назвали, перед кем мы в долгу, и готовились последовать за ними, как вдруг, переглянувшись, они нахмурились и спешно покинули нас. Удивившись такому образу действий, мы тотчас вызвали хозяина, и тот, выслушав нас, от души расхохотался и объяснил причину: мы не расплатились с джентльменами в ту самую минуту, как они вошли, а здесь именно такой порядок. В некотором смущении мы ответили, что с того света ничего не взяли с собой, ибо при жизни нас учили, что этого делать не полагается. – Совершенно верно, – сказал хозяин, – я в курсе дела, это я допустил промашку. Мне надо было сначала отправить вас к милорду Скареду, чтобы он ссудил вам сколько нужно. – Чтобы милорд Скаред ссудил нам?! – пораженно воскликнул я. – Но вы же понимаете, что мы не можем дать ему гарантии, а без гарантии, я уверен, он за свою жизнь и шиллинга не дал[18]. – Верно, – ответил хозяин, – и поэтому здесь он занимается именно этим: он осужден быть ростовщиком и давать пассажирам деньги gratis[19]. Капитал ему был определен в ту же сумму, что он крохоборством скопил на том свете, и с каждым днем он убывает на один шиллинг – он это знает и видит, а когда весь капитал иссякнет, ему предстоит вернуться на тот свет и еще семьдесят лет пробыть скупцом, после чего очиститься, побыв свиньей, и обрести человеческий образ для нового испытания. – Чудеса! – сказал я. – Но если его капитал ежедневно убывает всего на один шиллинг, то как же у него получается удовлетворить всех проезжающих? – Его расходы восполняются, – ответил хозяин, – хотя мне затруднительно объяснить вам – каким образом. – Насколько я понимаю, – сказал я, – эта раздача денег вменяется ему в наказание, но я не возьму в толк, в чем наказание, если он знает, что все ему восполнится? Ведь с таким же успехом он мог бы раздать на всех тот единственный шиллинг, к которому сводятся все его убытки. – Что вы, сэр! – воскликнул хозяин. – Когда вы увидите, с какими муками он расстается с каждой гинеей, вы заговорите по-другому. Никакой смертник так не молил о высылке в колонии, как он, выслушав приговор, домогался ада – при условии, что его деньги ооанутся при нем. Вам многое станет понятнее, когда вы попадете в вышний мир, а пока, с вашего позволения, я провожу вас к милорду, и он выдаст вам все, что пожелаете.
Его светлость сидел на дальнем конце стола, имея перед собой несметные деньги, разложенные кучками, из которых каждой достанет купить честь группки патриотов и целомудрие стайки недотрог. Едва завидев нас, он побледнел и вздохнул, понимая, с каким мы к нему делом. Хозяин наш обратился к нему с поразившей меня бесцеремонностью, поскольку я отлично помнил, какую честь оказывала этому лорду куда более важная публика, чем этот господин, заговоривший таким образом: – Вот что, такой-сякой лорд, подлая твоя душонка: тряхни-ка мошной, уважь старших. И поживее, сэр, не то напущу на тебя судейских. Не воображай, что ты снова на земле и некому тебя высечь. – Он замахнулся на его светлость тростью, и тот стал отсчитывать деньги с жалкими ужимками и гримасами, какие выделывает на сцене скупец, выпуская из рук векселя. Его вид растрогал иных до такой степени, что рука не поднималась взять больше, чем требовалось для уплаты посыльным, и тогда хозяин, почуяв в нас сострадание, велел не щадить человечишку, который от своих несметных богатств крохи никому не пожертвовал. От таких слов мы ожесточились и набили себе полные карманы денег. Особенно, помню, хотел отыграться на скупце некий поэтический дух. – Этот негодяй, – говорил он, – мало того что не подписался на мои сочинения, но еще вернул мое письмо нераспечатанным, хотя как джентльмен я получше его буду.
Мы покинули эту жалкую личность, восхищенные разумностью и справедливостью наказания, весь смысл которого, объяснил нам хозяин, в том и заключается, что он просто раздает свои деньги; и не надо удивляться тому, что это доставляет ему душевную муку: если без пользы иметь деньги для него счастье, то ясно, что терять их без пользы – несчастье.
К нам явились новые посыльные в перевязанных париках (те, первые, не соблаговолили вернуться), и поскольку, памятуя наставления хозяина, мы расплатились с ними еще на пороге, они с поклонами и улыбками вызвались проводить нас к любой болезни, какая нам желательна.
Мы разошлись в разные стороны, поскольку каждого ждала своя благодетельница. Своему провожатому я велел вести меня к Душевной Лихорадке, благодаря которой я был исторгнут из тела. Мы исходили много улиц и постучали во многие дома – все было напрасно. В одном, сказали, живет Чахотка; в другом – Модная Болезнь, уроженка Франции[20]; в третьем – Водянка; в четвертом – Ревматизм; в пятом – Неумеренность; в шестом – Немочь. Я устал, терпение мое истощилось, равно как и кошелек, потому что я оплачивал провожатому каждую его ошибку, и тут он с торжественным видом объявил о своем бессилии и удалился прочь.
Сразу по его уходе я встретил еще одного джентльмена с опознавательной приметой – все той же тростью с янтарной ручкой. Дав ему монетку, я назвал свою болезнь. На две-три минуты он застыл в раздумчивой позе, потом вытянул из кармана клочок бумаги и что-то на нем написал – похоже, на каком-то восточном языке, поскольку я не разобрал ни полслова; он научил, куда пойти с этой бумажкой, заверил в успехе и ушел.
Обнадеженный наконец в правильности пути, я пришел в лавку, весьма походившую на аптеку. Священнодействовавший там господин прочитал мою записку, снял с полок десятка два банок и, смешав их составы в бутылочке, вручил ее мне, обмотав горлышко полоской бумаги с тремя-четырьмя словами на ней, причем в последнем слове было одиннадцать слогов. Я назвал ему болезнь, которую разыскивал, а в ответ услышал, что доверенное ему дело он исполнил и что снадобье отменного качества.
Я начал раздражаться и, с сердитым лицом выйдя из лавки, пошел отыскивать нашу гостиницу, да по пути встретил посыльного, на вид поприятнее его товарищей. Я решился еще на одну попытку и выложил ему на ладонь монету. Услышав про мою болезнь, он от души расхохотался и объяснил, что меня обманули: такой болезни в городе нет. Расспросив поподробнее, он тотчас объявил, что моей благодетельницей была госпожа Модная Болезнь. Я поблагодарил его и не мешкая отправился свидетельствовать ей свое почтение.
Дом, а лучше сказать – дворец, в котором жила эта дама, был из красивейших и роскошнейших во всем городе. Ведущая к нему аллея была обсажена платанами, по обе стороны разбиты клумбы; было очень приятно пройтись по ней, жаль, она быстро кончилась. Меня провели через роскошный зал, уставленный статуями и бюстами, по большей части безносыми, из чего я заключил, что это настоящие антики, но меня поправили: это нынешние герои, принявшие мученический конец во славу ее светлости. Потом я поднялся по широкой лестнице мимо изображений в карикатурном стиле; на мой вопрос было отвечено, что это портреты земных ненавистников госпожи. Я наверное узнал бы тут многих врачей и хирургов, не искази художник их черты немилосерднейшим образом. В самом деле, его рукой водила такая злоба, что, думается, он был обязан хозяйке этого дома какими-то особенными милостями; более страховидные лица трудно вообразить. Потом я вошел в большой зал, весь увешанный женскими портретами; их точеные плечи и правильные черты лица должны были уверить меня, что я попал в галерею писаных красавиц, когда бы их нездоровая бледность не наводила на более горькие мысли. Из этого зала я перешел в соседний, украшенный, с позволения сказать, портретами старух. Заметив мой преувеличенный интерес, слуга пояснил с улыбкой, что сии были добрыми друзьями его госпоже и сослужили ей знатную службу на земле. Я тут же кое-кого признал: в свое время они содержали бани, но очень странно было увидеть в этой компании изображение одной знатной дамы. Я высказал свое недоумение слуге, и тот ответил, что для собрания его госпожи позировали дамы всех званий.
И вот меня поставили пред очи самой госпожи. Это была худая, а лучше сказать – тощая особа с болезненного цвета прыщавым, безносым лицом. После затянувшихся любезностей, после ее многократных поздравлений и моих пылких изъявлений признательности она задала мне множество вопросов о состоянии ее дел на земле, и по большей части я отвечал к полному ее удовольствию. Вдруг она с принужденной улыбкой сказала: она, мол, надеется, что Капли и Пилюли делают свое дело. Я ответил, что о них рассказывают чудеса. Тогда она призналась, что новоявленные эскулапы ее не тревожат: сколь ни доверчивы люди, сказала она, и как ни страшатся они умирать, они предпочтут привычную смерть любой панацее. Ей особенно пришелся по вкусу мой отчет о высшем свете. Ведь это ее стараниями, сказала она, несколько сотен перебрались с Друри-Лейн на Чаринг-Кросс, где их уже были сотни, и теперь, к ее радости, распространяются даже в Сент-Джеймс; а побудили ее к этому близкие и достойные друзья, выступившие недавно с превосходными опусами в пользу истребления религии и морали, в особенности же достойный автор «Расчета Холостяка»[21], хирург, как ей кажется, и, стало быть, со своим интересом, а не то она была бы его вечной должницей. Столь же одобрительно отозвалась она о практике, широко бытующей среди родителей: женить детей в малолетстве и без всяких чувств друг к другу; и если это поветрие удержится, сказала она в заключение, то, вне всякого сомнения, она скоро будет единственной болезнью, не знающей отбоя от весьма знатных визитеров.
Покуда мы беседовали, в комнату вошли ее три дочери. Все три звались грубыми именами: старшая – Лепра, средняя – Хэра и младшая – Скорбуция[22]; все три были жеманны и безобразны. Бросалась в глаза их непочтительность к своей родительнице, и старая дама, уловив недоумение на моем лице, дождалась, когда дочери выйдут, что они не преминули скоро сделать, и пожаловалась на неблагодарных, которые, ни много ни мало, отказывались признавать себя ее детьми, хотя, по ее словам, она была доброй матерью и ничего для них не жалела. Плачась на домашние неурядицы, жалобщик со своей души перекладывает камень на плечи слушающему, и, поняв, что ее хватит надолго, я счел нужным завершить визит и, рассыпаясь в благодарностях за все ее милости ко мне, удалился и поспел в гостиницу как раз к отправлению экипажа. Пожав хозяину руку, я взобрался к моим попутчикам, и мы тут же тронулись.
Глава IV Разговоры в пути и описание Дворца Смерти
Несколько минут мы молчали, утрясаясь на своих местах, потом я подал голос, рассказав о своих городских похождениях. Кроме сумрачной дамы, которую читатель, возможно, помнит: та, что отказалась признаться в своей предсмертной болезни, – следом разговорились и другие. Не стану докучать подробным пересказом их историй, упомяну только отменную неприязнь Чревоугодия к своим коллегам, в особенности к Лихорадке, которая-де, сговорившись с посыльными, переманивала у Чревоугодия тех, на чью признательность вправе была рассчитывать. – Эти умники с набалдашниками на плечах, – намекая на их отличительные трости, говорила обиженная, – вечно устраивают путаницу. Неблагодарные! – ведь своей должностью они безусловно обязаны мне, как никакой другой болезни, разве что еще Меланхолии. – Только мы отговорили, как кто-то объявил, что мы подъезжаем к дворцу, великолепнее которого он не видывал: то был, узнали мы от кучера, Дворец Смерти. Снаружи он и впрямь поражал великолепием, будучи готической архитектуры; его обширная громада была сложена из черного мрамора. Ряды могучих тисов[23], обступив его полукружием, стояли неодолимой преградой солнечному свету, и вечный мрак царил бы в роще, не освещайся она гирляндами бесчисленных фонарей. Их отблеск на пышной золотой отделке фасада был невыразимо торжествен. Добавьте к этому глухой шум ветра в роще и отдаленный грохот прибоя. Поистине, все здесь соединилось для того, чтобы приближавшийся ко дворцу чувствовал страх и трепет. Не дав нам времени всласть налюбоваться им, карета остановилась у ворот, и нас пригласили сойти и засвидетельствовать свое почтение Его Смертоносному Величеству (кажется, так его титулуют). Эспланада дворца была заполнена солдатами, все здесь было как при дворе земного монарха, только еще пышнее. Пройдя несколько двориков, мы попали в просторный зал, кончавшийся широкой лестницей, у которой с угрюмым видом застыли два пажа; я признал их потом: прежде это были знаменитейшие гробовщики; они единственные портили картину: зловеще-мрачный снаружи, дворец бурлил радостью и весельем, и печальные мысли, овладевшие нами на подходе к нему, тут совершенно оставили нас. Правда, в непроницаемости стражи и слуг было что-то от величавой пышности восточного двора, зато лица собравшихся светились таким довольством и счастьем, что казалось, в воздухе разлита сама радость. Мы поднялись по лестнице и прошли длинную анфиладу роскошных покоев с гобеленами на батальные темы, у которых мы немного постояли. Они привели мне на память превосходные гобелены, виденные мною при жизни в Бленхеймском дворце[24], и я не удержался от вопроса, где же вывешены победы герцога Мальборо, поскольку из всех славных сражений, о которых мне доводилось читать, только их мы еще не видели; на это гвардеец, превратившийся здесь в мумию, ответил, тряся головой, что-де небезызвестный джентльмен по имени Людовик XIV, имея огромное влияние на Его Смертоносное Величество, воспретил вывешивать виктории сего дюка [25]; тем паче, продолжал гвардеец, что и само величество не слишком почитал герцога, который не спешил возвращать ему подданных, а если и уступал, то выставлял его величество на тысячу неприятельских солдат за одного своего. Приемный зал, куда мы вошли, был полон, и гул стоял, как во всяком собрании, ожидающем выхода начальства: ждали его величество. Поодаль двое держали совет – один в шапочке с квадратным верхом, другой в сутане, расшитой как бы языками пламени. Мне подсказали, что первый – это давно умерший судья, а второй – генерал инквизиции. Я расслышал, о чем они жарко спорят: кто больше сгубил народу на виселицах и кострах. Пока я прислушивался к их спору, грозившему затянуться, в зал вошел император и стал между двумя мужчинами, из которых один был сущий мужлан, а другой – писаный красавец. Видимо, это были Карл XII Шведский и Александр Македонский. Я стоял слишком далеко, чтобы слышать, о чем там говорили, и мое любопытство удовлетворялось лишь лицезрением выдающихся личностей, чьи имена мне подсказывал паж, бледный и худой, как все дворцовые пажи, но, пожалуй, поскромнее их. Он обратил мое внимание на парочку турецких императоров, с которыми Его Смертоносное Величество был подчеркнуто любезен. Явились и римские императоры, из них более всех был обласкан Калигула за его благочестивое намерение, сказал мне паж, отправить сюда одним духом всех римлян [26]. Читатель, верно, удивится, что я не увидел там ни одного врача – я, например, удивился, и мне объяснили, что всех врачей отослали в Город Болезней, где они теперь проводят опыты по очищению души от ее бессмертия.
Называя всех знаменитостей, которых я тут видел во множестве, я рискую надоесть вам, но не могу не сказать о толстяке, разодетом по французской моде, которому император оказал необычайное радушие: я было решил, что это сам Людовик XIV, но паж мне поведал, что это знаменитый французский повар.
Наконец нас представили монарху и мы были милостиво допущены к руке. Его величество задал несколько вопросов, не стоящих упоминания, и вскоре удалился.
Когда мы вернулись на площадь, все уже было готово к отъезду, чему мы весьма обрадовались: внешне яркая и пышная придворная церемонность нам порядком наскучила.
Глава V Путешественники движутся дальше и встречают несколько духов, идущих воплощаться
Мы подъехали к большой реке Коцит[27], из кареты перешли в лодку, переправились и остаток пути должны были проделать пешком; тогда-то нам впервые и повстречались собратья-путешественники, шагавшие на тот свет, откуда мы все выбрались: оказывается, эти души обретали плоть.
Первыми попались двое, шедшие под руку и задушевно беседующие; один, как выяснилось, был будущий герцог, а другой – будущий извозчик. Поскольку мы еще не добрались до места, где нам предстояло избавиться от пристрастий, такая близость меж людьми столь разных званий нас поразила, и даже сумрачная дама изъявила удивление. Тогда будущий извозчик со смехом объяснил, что они обменялись жребиями, поскольку герцог в придачу к титулу получал сварливую жену, а извозчик оставался холостым.
Продолжая идти своей дорогой, мы встретили важного духа, одиноко шествующего с необычайно внушительным выражением лица; не смутившись его неприступностью, мы полюбопытствовали, какой он вытянул жребий. Он с улыбкой отвечал, что его ожидает слава мудрого человека с капиталом в сто тысяч и что он уже сейчас репетирует внушительность, которая полагается для этой роли на том свете.
Чуть позже навстречу нам высыпала развеселая компания, и мы было решили, что эти духи вытянули какой-нибудь высокий жребий; они же на наш вопрос ответили, что им выпало быть нищими.
Чем дальше, тем больше народу попадалось нам по пути; и вот мы увидели две большие дороги, расходившиеся в разные стороны и сами по себе очень разные: одна взбиралась на кручи, пропадала в топях, вся заросла тернием, так что пройти по ней было до невозможности рискованно и трудно; другая же была невыразимо прелестна: виясь в буйной зелени лугов, она цвела и благоухала роскошными букетами – словом, другой такой красоты не представит и самое богатое воображение. И странно было видеть, как по первой дороге духи устремлялись толпами, а вторую выбрали считанные единицы. На наше недоумение было сказано, что скверная дорога ведет к Славе, а другая – к Добродетели. Когда же мы удивились, что первой отдается предпочтение, было сказано, что выбирают ее из любви к победной Музыке и шумным кликам, какими приветствует ступающих по ней толпа. Нам рассказали, что на этой дороге для общего обозрения стоят великолепные дворцы, отворяющие свои двери перед тем, кто одолел все трудности пути (а многим это не по силам), и что в тех дворцах будто бы собраны все сокровища земные; вторая же дорога привлекательна лишь своими красотами, а прекрасных зданий на всем пути – всего одно, как две капли воды похожее на некий дом вблизи Бата[28]; а главное, идти по этой дороге будто бы позорный и жалкий удел, тогда как выбрать первую почетно и благородно.
Тут мы услышали дикие крики и увидели впереди, как целая толпа духов преследует одного, высмеивая и обзывая его по-всякому. Читатель более или менее представит себе эту сцену, если я сравню ее с тем, как гонит к реке карманного воришку английская чернь, либо на минуту допущу, что распаленной театральной публике вдруг выдают бедолагу автора. Смех, свист, визг, вой, ор, плевки и комья грязи – вот что это было. Не в силах удержаться от вопроса, кто же этот презренный дух, с которым они так жестоко обходятся, мы с превеликим изумлением узнали, что это король, а вдобавок нам сказали, что у духов заведено вот так обходиться с теми, кому выпали жребии императоров, королей и прочих великих мужей, причем делается это не по злобе и не из зависти, а из презрения к земному величию и насмешки над ним; и еще сказали, что вытянувшие счастливый (по нашим представлениям) билет не чают обменять его на долю портного или сапожника и что Александр Великий и Диоген именно так и поступили: тот, кого мы знаем под именем Диогена, на самом деле вытянул жребий Александра[29].
Вдруг насмешки разом кончились, и король, завладев всеобщим вниманием, сказал следующее (мы стояли достаточно близко, чтобы хорошо слышать каждое его слово):
– Джентльмены! Я искренне удивляюсь вашему обращению со мной: ведь я вытянул жребий, а не выбрал его сам, и если он достоин поношения, то будьте милосердны, поскольку он мог выпасть и на вашу долю. Я знаю, что сан, в который меня возвела судьба, здесь ни во что не ставится, знаю, что без честолюбия, благоприятствующего ему, он может стать в тягость, и тогда его охотно променяешь на что только подвернется, ибо в мире, куда мы все направляемся, какая доля жальче той, что отдает себя заботам о других? Возомни я, что по случаю жребия стал высшим над вами и претворился в существо, несродное моим собратьям; взбреди мне на ум, что я без мудрости выше мудрого, без учения выше ученого, без мужества выше храбреца и без добродетели выше добродетельного, то тогда я, конечно, заслуживал бы осмеяния за свою нелепую и смехотворную гордыню. Да сохранит меня бог от ее искушений! А жребий мой, джентльмены, я благословляю и ни с кем не обменяю его, ибо в моих глазах он выше всех ваших вместе. В этом мне ручается мое честолюбие; питая желание славы, честолюбие заверяет, что ее мне выпадет гораздо больше, чем в своих пределах заслужите и вкусите ее вы. Я высший над вами тогда, когда в моих силах и власти быть вам на пользу. Что есть отец для своего сына, опекун для сироты и патрон для клиента, таков и я для вас, вы мои дети, и я вам вместо отца, опекуна и патрона. Во все мое долгое царствование (а оно будет долгим) я ни единого разу не отойду ко сну, не согретый славной мыслью, что тысячи людей обязаны мне своим сладким покоем. Завидная судьба: чувствуя позыв к добру, иметь случай и власть творить его каждый божий день! Счастлив такой честолюбец, если он вознесен высоко и его дела сверкают в ночи всему миру, исторгая хвалы, не отравленные насмешкой и лестью, но достойные лишь чистых и благородных сердец. Итак, пока я ваш благодетель, я высший над вами. И если мое неукоснительное соблюдение справедливости ограждает ваше имущество от посягательств злого соседа; если мои бдительность и твердость охраняют вас от иноземного супостата; если от моего поощрения талантам и усердию нарождаются и процветают науки и искусства, делающие вашу жизнь светлее и радостнее, то неужели найдется из вас такой, что откажет в похвале и уважении поборнику и ревнителю всех ваших благ? Мне странно не то, что люди моего ранга столь часто порицаются: мне странно, что люди такого ранга столь часто заслуживают порицания. Сколь дико извращается природа! Сколь противоестественной должна быть любовь к дурному, чтобы отравленные ею, рискуя собой, не жалея сил и теряя честь, творили зло, когда так просто, легко и почетно творить добро! Чтобы на том свете самим отказаться от счастья ради злополучия, а здесь предпочесть райским кущам – ад! Будьте благонадежны: у меня другие намерения. Я буду всегда радеть о покое, счастье и славе моего народа, убежденный, что, поступая таким образом, я вернее всего завладею сердцем каждого[30].
После этих слов он устремился по дороге Добродетели, провожаемый таким взрывом рукоплесканий, какого я в жизни не слыхивал.
Он не успел далеко уйти, когда за ним, прихрамывая, поспешил некий дух, клятвенно обещая вернуть его. Потом мне сказали, что этот дух вытянул жребий премьер-министра у этого короля.
Глава VI Сведения о Колесе Фортуны, а также о том, как приуготовляется для этого света дух
Не дожидаясь, исполнит ли он свое обещание, мы тронулись дальше; по дороге нас ничто больше не отвлекало, и мы пришли на место, где духи, возвращаясь на тот свет, решают жребием, кому какая выпадет доля. Тут стояло исполинских размеров колесо, которое и сравнить нельзя с теми, что я видел в лотереях. Называлось оно: Колесо Фортуны. Тут же стояла и сама богиня. Редко доводилось мне видеть такую уродину, и вот что я заметил: она всякий раз хмурилась, завидев женский дух, и наоборот, с приветливой улыбкой встречала всякого красивого духа-мужчину. Так я утвердился в истинности наблюдения, неоднократно сделанного на земле: мужчину красота счастливит, а женщине с ней одно горе. Возможно, читателю будет интересно узнать, как готовится дух к своему воплощению.
Перво-наперво от ученого мужа, обличьем похожего на аптекаря (и лавка его похожа на аптеку), дух получает пузырек с Чувствительным Питьем, которое надо принять за минуту до рождения» В этом питье смешаны все страсти, но отнюдь не в равной пропорции: где больше одного чувства, где – другого, а бывает, что в спешке какой-нибудь ингредиент и вовсе не добавят. Тут же дух получает и другое снадобье, Умственный Декокт, его можно употреблять ad libitum[31]. Декокт этот есть вытяжка умственных способностей, и какой забирает крепко, как спиртное, а какой сущая вода, потому что готовят его здесь спустя рукава. На вкус декокт так горек и противен, что его полезность не убедит иного духа сделать хотя бы один глоток: он его скорее выбросит либо отдаст другому, благо, есть такие, кто без видимого отвращения выпьют и двойную, и тройную дозу. Я видел, как одна юная красавица, из любопытства пригубив декокт, скривилась и с отвращением бросила склянку и тут же, оказавшись у колеса, вытащила корону, да так цепко ухватила билет, что я даже не разглядел, какой степени ее пэрство; и еще некоторые дамы, также смочив губы, выбросили свои склянки.
Только после хирурга, то бишь аптекаря, дух вправе подойти к колесу и вытянуть один-единственный билет; впрочем, Фортуна посмотрит сквозь пальцы, если ее любимчики потянут и три и даже четыре билета. Я сам видел, как один комичный субъект[32] выхватил целую пачку на выбор: епископ, генерал, член Тайного Совета, актер, поэт-лауреат; первые три он вернул, а с двумя другими удалился, светясь улыбкой.
В каждом билете были выставлены два и более пунктов, причем их условия тасовались таким образом, чтобы по возможности уравнять жребии.
На одном значилось:
Граф
Богатство
Здоровье
Тревоги
На другом:
Сапожник
Недуги
Добродушие
На третьем:
Поэт
Высокомерие
Самодовольство
На четвертом:
Генерал
Почет
Огорчения
На пятом:
Сельский домик
Счастливая любовь
На шестом:
Карета шестерней
Слабосильный муж-ревнивец
На седьмом:
Премьер-министр
Бесчестье
На восьмом:
Патриот
Слава
На девятом:
Философ
Бедность
Душевный покой
На десятом:
Купец
Богатство
Хлопоты
В самом деле, хорошее и плохое здесь так перемешано, что я бы растерялся, какой билет брать. Упомяну, что на каждом билете указывалось, свяжет ли себя обладатель оного супружеством или пребудет в безбрачии, причем супружеский жребий был отмечен парой ветвистых рогов.
Перед нашим уходом аптекарь велел принять рвотное, и мы тотчас избавились от всех земных страстей, пелена упала с наших глаз, как содействием Венеры освободился от нее Эней у Вергилия, и мы взглянули окрест прозревшими очами. И если прежде мы втайне завидовали духам, то теперь мы сострадали их участи и не могли отвести глаз от прекрасной долины, вдруг открывшейся перед нами, куда и устремились со всей поспешностью. По пути мы встретили несколько донельзя удрученных духов, но на расспросы у нас уже не было времени.
Наконец мы подошли к вратам Элизиума. Несметная толпа духов ожидала здесь прохода, и кого-то впускали, а кто-то получал от ворот поворот, потому что каждого строго допрашивал привратник, в ком я скоро признал прославленного судью Миноса[33].
Глава VII Суд и расправа Миноса у врат Элизиума
Пробравшись поближе к вратам, я слышал, как домогающиеся Элизиума заявляют свои права. Один в числе прочих оснований выставил какую-то больницу, осыпанную его щедротами, на что Минос ответствовал: – Хвастун! – и не пустил его. Другой объявил, что всю жизнь строго соблюдал посты и, по существу, не выходил из церкви, а также отрекомендовался ярым ненавистником порока, коего никогда и никому не спускал, сам же будто бы ни разу не запятнав себя блудом, пьянством, обжорством и иным непотребством. Он даже собственного сына лишил наследства, когда у того завелся незаконный ребенок. – В самом деле? – сказал Минос. – Так отправляйтесь на землю и заведите себе еще одного. Столь бессердечному негодяю тут делать нечего. – От такой обиды многие, весьма уверенно напиравшие, повернулись со словами «уж если этому отказали, то и нам рассчитывать не на что» и вслед за отверженным отправились на землю, ибо таков удел всех, кого не допустили в Элизиум: им предстоит дополнительно очиститься, если, конечно, они не закоренелые злодеи – тех отгоняют к задней калитке, и там они валятся в преисподнюю.
Следующий дух, приблизившись, сообщил, что прожил свою жизнь ни хорошо ни плохо: едва достигнув совершеннолетия, он посвятил себя изучению разных редкостей, в особенности же его занимали бабочки, которых он собрал великое множество. Минос презрительно оттолкнул его, даже не удостоив ответом[34].
Вот приблизилась редкой красоты женщина-дух, не спускавшая с Миноса умильных глаз. Она ласкалась надеждой, что ей зачтут легион отвергнутых любовников и смерть в девичьем звании, когда у нее не было отбою от женихов. Минос сказал, что пока этого маловато, и отправил ее обратно.
Ее сменил дух, выразивший уверенность, что за него ходатайствуют его труды[35]. – Какие еще труды? – спросил Минос. – Драматические сочинения, – ответил тот. – Они принесли немалую пользу, славя добродетель и карая порок. – Отлично, – сказал судья, – станьте, пожалуйста, рядом, и первый же, кто вашими трудами пройдет в Элизиум, прихватит и вас с собой; только я бы посоветовал вам, не теряя времени, вернуться на землю и прожить еще одну жизнь. – Поэт проворчал в ответ, что, помимо сочинений, за ним есть и другие добрые дела: однажды он, например, ссудил приятелю весь сбор с бенефисного спектакля и тем спас его самого и все семейство от верной смерти. Тут врата отворились, и Минос пригласил его пройти, сказав, что с этого и надо было начинать, а не приплетать зачем-то свои пьесы. Возразив на это, что Минос, конечно, переменил бы отношение, знай он его пьесы, поэт снова завел свое, но Минос подтолкнул его к вратам, а сам обернулся к следующему просителю, до крайности манерному духу, который сначала переломился в глубоком поклоне, потом выпрямился и правой рукой сделал заученное движение нюхательщика табака. Минос попросил его рассказать о себе. Тот сказал, что берется станцевать менуэт с любым духом в Элизиуме и так же отменно хорошо покажет все прочие экзерсисы и что репутация обходительнейшего джентльмена заслужена им, наверное, не зря. Минос ответил, что без столь обходительного джентльмена мир едва ли легко обойдется, и велел ему наведаться туда еще раз. Щеголь признательно поклонился, сказав, что о лучшем и не мечтал. Такая его радость безмерно озадачила некоторых духов, но потом мы узнали, что он не пил то рвотное, о котором я говорил выше.
Тут через силу подковылял жалкий старый дух, чье лицо мне вроде бы попадалось в галереях Вестминстерского аббатства. Он закатил Миносу подробнейший отчет о своей деятельности в Палате и особо упирал на ее важность, даже не пытаясь подтвердить ее хоть одним своим добрым делом. Прервав этот поток слов, Минос велел старику отправляться в обратный путь. – Куда теперь – в Сххх-хаус?[36] – возликовал дух. Не ответствуя ему, судья поворотился к другому духу, который с великой важностью и гордостью назвался герцогом. – Кругом, господин герцог! – скомандовал Минос. – Вы слишком важная птица для Элизиума, – и, дав ему пинка коленом, занялся духом, в страхе и трепете молившем избавить его от преисподней: пусть Минос учтет, говорил он, что, сбившись с пути истинного, он за это уже поплатился; что только нужда заставила его покуситься на те 18 пенсов, что привели его на виселицу; и что были ведь в его жизни и добрые дела: он не оставил без куска хлеба престарелого родителя, был нежным мужем и добрым отцом; а разорился, поручившись за друга всем своим имуществом. При этих словах врата распахнулись, и Минос велел ему войти и похлопал по спине, ободряя.
Теперь подступила большая толпа духов, горланя, что они по одному делу и что капитан все объяснит, и капитан доложил судье, что они все полегли за родину. Готовясь пропустить их, Минос полюбопытствовал, кто был захватчик, дабы заблаговременно, сказал он, подготовить для него заднюю калитку. Капитан ответил, что они и были захватчики: они вторглись во вражескую страну и сожгли и разграбили несколько городов. – С какой же целью? – спросил Минос. – Хозяин приказал, – сказал капитан. – Какая еще у солдата цель? Что прикажут, то и сделаем – служба есть служба, и жалованье надо оправдывать. – Вы безусловно храбрые ребята, – сказал Минос, – но будьте любезны повернуться кругом и на сей раз выполните мой приказ: марш на тот свет – здесь вам нечего жечь и некого убивать. И наперед посоветую вам строже держаться истины и истребление чужих народов не называть служением своей родине. – Так я, по-твоему, вру? – вспылил капитан и потянулся ухватить Миноса за нос, но подоспела стража и мигом наладила его вместе со спутниками в обратный путь.
Четыре духа – отец, мать и двое детей – поведали, как, намаявшись в нищете, все померли с голоду; а жили честно, работали не покладая рук, пока хозяин не слег от болезней. – Истинная правда, – вскричал стоявший тут же важный дух. – Я свидетель, ибо сии несчастные были на моем попечении. – Так вы, верно, приходской священник? – заметил Минос. – И что же, богатый был приход? – Да нет, крохотный, – ответил дух, – но у меня был еще один, получше. – Все ясно, – сказал Минос, – пусть пройдут эти несчастные. – Священник величавой поступью обошел их, но Минос твердой рукой вернул его на место, сказав при этом: – Не спешите, доктор, у вас еще есть дела на том свете, ибо в эти врата без милосердия нет ходу.
Следом выступила весьма представительная личность и, отрекомендовавшись патриотом, стала в напыщенных выражениях славить гражданские добродетели и свободы своей отчизны. Преисполнившись к патриоту величайшим уважением, Минос велел открыть врата. Не удовлетворившись этим признанием, патриот добавил, что в должности министра он вел себя так же безупречно, как прежде в оппозиции, и хотя пришлось считаться с порядками при дворе, он не забыл старых друзей и, кого мог, устроил при себе[37]. – Повремените, господин патриот, – сказал Минос. – По зрелом размышлении, я заключаю, что вашей стране будет чувствительно недоставать столь добродетельного и высокоодаренного мужа, и посему решаюсь подать вам совет: отправляйтесь обратно. Вы, конечно, последуете моему совету, ибо, конечно, готовы пожертвовать собственным счастьем ради общего блага. – Улыбнувшись, патриот ответил, что Минос, надо полагать, шутит, и сделал движение к вратам, однако судья, крепко его удерживая, настаивал на возвращении и, поскольку патриот упирался, велел стражникам взять его и отправить обратно.
Тут подоспел еще один дух, и он слова не вымолвил, а врата уже распахнулись перед ним. Кто-то, я слышал, тихо сказал: – Наш покойный лорд-мэр[38].
Наконец настала наша очередь. Дух-прелестница, о ком я с похвалой отзывался в начале своего путешествия, прошла очень легко, зато сумрачная дама была отвергнута сразу же: в Элизиуме, заявил Минос, ханжам не место.
И вот призвали к ответу меня, нимало не надеявшегося выдержать сие испытание огнем. Я признался, что в молодые годы отдал щедрую дань вину и женщинам, но ни единой живой душе не учинил вреда и от добрых дел не бегал, и пусть в том мало добродетели, но никому не отказывался помочь и дорожил друзьями. Я бы еще говорил, но Минос велел мне войти в Элизиум, пока я не потерял голову от похвал собственным добродетелям. И со своей прелестной спутницей я направился через эти врата, и там, с жаром, но очень духовно обнявшись, мы поздравили друг друга с обретением себя в блаженном краю, чья красота превыше всего, что может начертать воображение.
Глава VIII Приключения автора с первых его шагов в Элизиуме
Дорога привела нас в восхитительную апельсиновую рощу, где собралось великое множество духов, причем я каждого признал, и каждый признал меня: духи здесь узнаются по наитию. Скоро я встретил свою дочурку[39], которую потерял несколько лет назад. Господи! Где те слова, чтобы передать, с каким восторгом и умиленной нежностью мы расцеловали друг друга и как застыли в пылком объятии, длившемся по земному времени никак не меньше полугода!
Первый дух, с которым я разговорился, был Леонид Спартанский. Я сказал, что один наш прославленный поэт воздал ему должное, а он ответил, что весьма признателен ему за это[40].
Вскоре нас зачаровал дивный голос в сопровождении скрипки, словно попавшей в руки самому сеньору Пьянтиниде. Потом мне назвали дуэт: то были Орфей и Сафо.
На их концерте (да простится мне это слово) был старик Гомер, посадивший себе на колени мадам Дасье. Он засыпал меня вопросами о мистере Попе, говорил, что жаждет его видеть: «Илиаду» в его переводе[41] он-де прочел с тем же восторгом, какой сам рассчитывал доставить читателям оригинала.
Я не удержался и спросил: точно ли он написал поэму кусками и распевал их на манер баллад по всей Греции, как о том говорит предание? Он улыбнулся вопросу и в свою очередь спросил, не присутствует ли в поэме некий план, и если да, то, думается ему, я сам отвечу на свой вопрос. Тогда я стал допытываться, в каком из городов, оспаривающих эту честь, он родился. На это был ответ: – Честное слово, я сам не знаю[42].
Под руку с мистером Аддисоном ко мне подошел Вергилий. – Итак, сэр, – сказал он, – сколько же за последние годы вышло переводов моей «Энеиды»? – Я ответил, что, сдается мне, вышло несколько переводов, но за точное число не поручусь, потому что сам читал только перевод доктора Трэппа. – А-а, – сказал он, – занятно у него получилось! – Между прочим, я сообщил ему о соображениях доктора Уорбертона[43] по поводу элевсинских мистерий, которых поэт коснулся в шестой книге. – Каких мистерий? – спросил мистер Аддисон. – Элевсинских, – ответил Вергилий. – Я приоткрыл завесу над ними в своей шестой книге. – Сколько мы с тобой знакомы, ты не заговаривал со мной ни о каких мистериях. – При твоей великой учености, – ответил тот, – я не видел в этом нужды. К тому же ты всегда говорил, что понимаешь меня с полуслова. – Эти слова, мне кажется, отчасти обескуражили критика, и он отошел к развеселому духу – некоему Дику Стилу, который заключил его в объятья и заверил, что он был лучшим из людей и что в его честь он отрекается от собственной славы сочинителя. С милостивой улыбкой потрепав его по плечу, Аддисон молвил: – Золотые твои слова, Дик!
Потом между Беттертоном и Бутом я увидел Шекспира: он рассуживал этих великих актеров, заспоривших о некоем оттенке в одной его строке[44]; я было удивился, что в Элизиуме так жарко пререкаются, но, прислушавшись к себе, сообразил, что всякая душа сохраняет-таки главнейшее свое качество, без которого, собственно говоря, она уже не душа. Вот эти известные слова из «Отелло», как их приводил Беттертон: «Задую свет». Бут настаивал, что надо так: «Задую этот свет». Я не удержался и высказал свою догадку: «Задую твой свет» – так, мол, не лучше? Кто-то предложил вариант, на мой взгляд, совсем мудреный: «Задую тебя, свет», отчего свет стал собеседником. Еще один поменял слово, и получилось: «Задую твою свечу». Тогда Беттертон заметил, коль скоро текст теряет неприкосновенность, то этак, пожалуй, от похожих слов перейдут к непохожим и кто-нибудь предложит: «Задую твои глаза». Тут все решили, что рассудить их может только сам Шекспир, и он высказался в таком духе: – Клянусь, джентльмены, я так давно написал эту строку, что уже не поручусь, как я ее сам понимал. Одно верно: знай я, что по ее поводу будет сказано и написано столько чепухи, я вычеркнул бы ее раз и навсегда, поскольку приписывать мне все эти толкования значит очень мало меня уважать.
Спросили его и о других темных местах в его сочинениях, но он ушел от ответа, сказав, что если уж их не прояснил мистер Теобальд[45], то готовящиеся три или четыре новые издания его пьес, он надеется, удовлетворят нас вполне. В заключение же сказал:
– Я не перестаю изумляться людям, раскапывающим у автора скрытые красоты. Ведь самые превосходные и полноценные красоты всегда лежат на поверхности и блистают прямо в глаза; и если, так и сяк толкуя отрывок, мы не можем решить, как лучше, то, по моему глубокому убеждению, оба толкования не стоят ломаного гроша.
От сочинений разговор перешел к монументу в его честь[46]; в этом месте Шекспир от души расхохотался и крикнул Мильтону: – Клянусь честью, брат Мильтон, славную компанию поэтов они подобрали! Им бы раньше не гнушаться нашим братом, когда мы были живые. – Верно, брат, – отозвался Мильтон, – но ведь живых надо кормить.
Глава IX Новые приключения в Элизиуме
Нас окружила толпа духов, в которых я признал героев, по здешнему обычаю пришедших поклониться своим поэтам – тем, что воспели их деяния. Ахилл и Улисс подошли к Гомеру. Эней и Юлий Цезарь – к Вергилию; Адам направился к Мильтону, по какому случаю я шепнул Драйдену, сославшись на его собственные слова, что и дьяволу-де не мешало бы почтить поэта. – Верно, я сам был одержим дьяволом, – оборвал меня Драйден, – когда выговорил те слова. – Несколько духов обступили Шекспира, среди них замечательной статью выделялся Генрих V. Я засмотрелся на этого монарха, когда ко мне приблизился крошечный дух, сердечно потряс мне руку и назвался Мальчиком с Пальчик[47]. Я чрезвычайно обрадовался знакомству и с гневом помянул историка, оболгавшего рост этого великого человека, составлявший якобы не больше пяди: с одного взгляда было ясно, что в нем все полтора фута (и 1/37 дюйма, уточнил он), то есть он был чуть пониже самых видных щеголей наших дней.
Я спросил героя, насколько правдивы истории, которые о нем рассказывают, – о пудинге, например, и о коровьей утробе. Касательно первого, сказал он, всё враки, достойные смеха, насчет же второго не стал отрицать доли истины, но и не стыдился происшедшего, ибо был проглочен коровой вероломно, а будь у него оружие в руках, добавил он с чувством, черта с два она бы его проглотила!
Последние слова он выкрикнул с такой яростью и досадой, что я почувствовал, какая это незаживающая рана для него, и, сменив тему, завел разговор о великанах. Он поведал, что не только не убивал их, но и в глаза не видывал великанов; что ему ошибкой приписали подвиги его доброго приятеля Джека Победителя Великанов, который, думается ему, извел эту породу подчистую. Я возражал, что сам видел громадного ручного великана, по настоятельной просьбе некоторых джентльменов и дам благополучно прожившего целую зиму в Лондоне и лишь по неотложным домашним делам отбывшего к себе в Швецию.
Мне бросился в глаза сурового вида дух, опиравшийся на плечо другого духа, и в первом я узнал Оливера Кромвеля, а другой был Карл Мартел[48]. Признаться, я не ожидал увидеть здесь Кромвеля: я помнил, бабушка говорила мне, что поднялась буря и дьявол уволок его, но сейчас он честным словом заверил, что в этой истории нет и грана правды[49]. Впрочем, по его признанию, он чудом избежал преисподней, и ему бы ее не миновать, не выручи славная первая половина жизни. На землю же его отправили с таким жребием:
Армия
Кавалер
Нужда
Вторично он родился в день восстановления на троне Карла II, причем родился в семье, которая на службе этому государю и его отцу потеряла очень значительное состояние, а в награду получила то, чем государи очень часто оплачивают истинные заслуги, а именно: 000. В 16 лет отец купил ему низший офицерский чин, в каком он прослужил, не поднявшись ни на ступеньку, все царствование Карла II[50] и его брата[51]. В революцию он оставил свой полк и разделил мытарства старого хозяина, потом был опасно ранен в известной битве на реке Войн, где сражался простым солдатом. Оправившись от раны, последовал за злосчастным королем в Париж, где опускался все ниже и добывал пропитание жене и семерым детям (на его билете были рога) чисткой сапог, присмотром за свечами в опере, и после нескольких лет этой жалкой жизни умер едва ли не от голода и с сокрушенным сердцем. Когда он явился к Миносу, тот проникся страданиями, кои он претерпел в семье, горько обиженной им в первой жизни, и дозволил ему войти в Элизиум.
Мне не давала покоя одна мысль, и, не удержавшись, я спросил его: правда ли, что он таки хотел получить корону? Улыбнувшись, он ответил: – Не больше того священника, что отвергает митру со словами «Nolo episcopari»[52]. – Вообще же вопрос, похоже, его неприятно задел, и в следующую минуту он отвернулся от меня.
Его сменил почтенный дух, в котором я признал великого историка Ливия[53]. Возвращавшийся из Дворца Смерти Александр Великий нахмурился, завидев его. На этот счет историк заметил: – Хмурься, хмурься, только против римлян ничто твое войско, сладившее с доморощенными азиатскими рабами. – Мы посокрушались об утрате самой ценной части его истории, при этом он не преминул похвалить толковое издание мистера Хука[54], все прочие, сказал он, далеко превосходящее; когда же я упомянул издание Ичарда [55], он фыркнул, по-моему, даже презрительно, и уже уходил, но я взмолился ответить еще на один-единственный вопрос: правда ли, что он был суеверен? Я-то считал, что – да, но господин Лейбниц уверил меня в обратном. На что он сердито сказал: – Он что, читал у меня в душе, ваш господин Лейбниц? – и с тем отошел.
Глава X Автор удивлен, встретив в Элизиуме Юлиана Отступника[56], но тот удовлетворительно объясняет, на каком основании он туда допущен. Юлиан рассказывает о приключениях в свою бытность рабом
Отходя, он, я слышал, приветствовал дух по имени Юлиан Отступник, что безмерно поразило меня: по моему разумению, никто не заслуживал преисподней больше, чем этот человек. Но вдруг я узнаю, что этот самый Юлиан Отступник был в свое время небезызвестным архиепископом Латимером. Он поведал мне, что на его первоначальное поприще возвели много напраслины и что он не был настолько скверным человеком, каким его представили. В Элизиум его, однако, не допустили, но заставили прожить на земле несколько жизней, всякий раз в другом состоянии, а именно: раб, еврей, генерал, наследник, плотник, щеголь, монах, скрипач, мудрец, король, шут, нищий, принц, государственный муж, солдат, портной, олдермен, поэт, рыцарь, учитель танцев и трижды епископ, – и лишь тогда его мученический жребий и последнее из упомянутых искупительное поприще удовлетворили судью и дали допуск в блаженный край.
Я заметил, что столь различные характеры, наверное, послужили источником занимательнейших происшествий, и если он их все помнит, на что я уповал, и располагает временем, то весьма обяжет меня своим рассказом. Он отвечал, что отлично помнит все бывшее с ним, а что касается времени, то в этом благословенном месте на всех лежит единственная обязанность: умножать счастье друг друга. И он поблагодарил меня за то счастье, что я доставляю ему, прося осчастливить рассказом. Я взял за руку мою малышку, другую руку предложил любезной спутнице, и мы проследовали за ним на солнечный цветущий бережок, где уселись, и он начал рассказ.
– Я полагаю, вам достаточно известно о моей жизни в бытность императором Юлианом, хотя рассказы обо мне, уверяю вас, все лживы, особенно в том, что касается многочисленных чудес, предвещавших мою смерть. Обсуждать их сейчас мало смысла, но если они вдруг понадобятся историку, они совершенно в его распоряжении.
В следующий раз я родился в этот мир в Лаодикии[57] (это в Сирии), в незнатной римской семье; в душе я был бродяга, и в семнадцать лет уехал в Константинополь, прожил там год и отправился во Фракию, куда в это самое время с позволения императора Валента вошли готы. И там я был совершенно пленен женой некоего Родорика, готского военачальника, ее же имя и поныне сохраню в тайне из чувства нежнейшей признательности к прекрасному полу, ибо ее обращение со мной было в высшей степени доброжелательным, без той недоступности, какая ограждает женщин от приставанья. Добиваясь близости с нею, я продал себя в рабство ее мужу, а тот, как и все его соплеменники, не страдая излишней ревностью, подарил меня жене – по той самой причине, по какой ревнивец старался бы держать меня подальше от жены, именно: по причине моей молодости и красоты.
Покуда все вышло по-моему, за обнадеживающим началом последовало продолжение. Вскоре я убедился, что ей приятны мои услуги, я часто ловил ее взгляд, отводимый со смущением, в котором трудно заподозрить чистоту сердца. С каждым днем я получал все новые ободряющие знаки, но слишком далеко развели нас обстоятельства, и я долго не осмеливался повести наступление, а она строжайше держалась приличий и не могла, порвав путы скромности, первой сделать шаг; в конечном счете страсть поборола мою почтительную сдержанность, и я решился на смелую попытку, чего бы мне это ни стоило. При первом же удобном случае, когда хозяин был в отъезде, я дерзко осадил крепость и штурмом взял ее. Я не преувеличиваю, говоря – штурмом, ибо сопротивление было отчаянным, на какое только способна совершенная добродетель. Она несколько раз грозилась позвать на помощь, а я убеждал в бесполезности этого, поскольку рядом никого нет, и, видимо, она поверила мне и не стала звать, а позови она людей – и я, может статься, отступил бы.
Поняв, что добродетель ее попрана, она покорилась судьбе и весьма долгое время дозволяла мне вкушать сладостные плоды моей победы; а завистница-судьба готовила мне дорогую расплату. Однажды в счастливейшие наши минуты нагрянул муж и прямо отправился на ее половину, едва дав мне время юркнуть под кровать. Другой насторожился бы, застав жену в таком состоянии, но этот был совершенно не ревнив, и все могло бы обойтись, не угляди он случайно мои ноги, торчавшие наружу. За них он и вытянул меня из-под кровати, после чего сурово глянул на жену и схватился за палаш, и он разделался бы с нею в два счета, но тут, очертя голову и кляня себя, я вступился за честь госпожи, взяв на себя всю вину, каковая, впрочем, дальше помыслов-де не пошла. Натура чрезвычайно одаренная, она так хорошо подыграла мне, что он, таки дал себя обмануть, но теперь его гнев обратился на меня, он грозил мне страшными карами, а насмерть перепуганная и потерявшаяся госпожа не нашлась вступиться и отвести их от моей головы; а могло быть и так, что прояви она участие ко мне – и в нем наконец пробудилась бы ревность, с которой уже не совладать.
Поколебавшись, Родорик объявил, что подобрал для меня самое подходящее наказание, которое одним разом сурово воздаст мне за преступное намерение и совершенно обезвредит гнусные поползновения в будущем. Он тут же исполнил свой жестокий приговор, и я утратил звание мужчины.
Сделав меня, таким образом, неспособным наносить ему ущерб, он тем не менее оставил меня в доме, и госпожа, скорее всего раскаиваясь в прегрешениях и видя во мне их единственного виновника, за все время не сказала мне доброго слова и не посочувствовала взглядом; а скоро римляне затеяли с готами большой обмен собак на людей, и моя владычица выменяла меня у вдовы-римлянки на болонку, еще и приплатив изрядную сумму.
У этой вдовы я служил семь лет, терпя самое варварское обращение. Меня немилосердно нагружали работой, и то и дело служанка, иначе не звавшая меня, как дрянью и тварью, нещадно меня избивала. К чему бы я ни прикоснулся, того ни хозяйка, ни ее прислужница уже не брали в рот, будто бы опасаясь заразы. Не стану продолжать: вам не измыслить такого надругательства, какому меня не подвергли бы в этом доме.
Но вот вдова подарила меня своему знакомцу, языческому жрецу. Тут меня ожидали большие перемены, и если прежде я оплакивал свою судьбу, то теперь я благословлял ее. У хозяина я ходил в любимчиках, и другие рабы почитали меня не меньше его самого, сознавая мою власть помыкать ими, как мне заблагорассудится. Хозяин посвятил меня во все свои тайны, и ночами я помогал ему скрытно забирать с жертвенников приношения, а люди потом думали, что их вкусили боги. Мы устраивали себе роскошные пиры, и, кажется, не найти такой диковины, какой мы не отведали. Но не спешите умиляться душевному согласию между жрецом и его рабом, ибо наши истинные отношения не одобрит ни один христианин, хотя мой хозяин утверждал, что они безгрешны, ссылаясь на богов, с которыми он якобы сносился.
Счастливая жизнь продолжалась около четырех лет, когда хозяин объелся какими-то разносолами и умер.
Мой новый владелец был человеком совсем другого свойства – то был, ни много ни мало, знаменитый святой Златоуст, и потчевал он меня не подношениями верующих, а проповедями, питая натощак духовной пищей. Вместо яств, кормящих и ублажающих плоть, мне предлагались советы укрощать и умерщвлять ее. Неукоснительно им следуя, я в несколько месяцев превратился в живые мощи. Однако он успел склонить меня в свою веру, и новым образом жизни я был скорее доволен, поскольку, наставлял он, в будущей жизни мне воздастся вечным блаженством. Сей святой был добрейший человек, и лишь однажды услышал я от него худое слово – когда забыл положить на подушку Аристофана, без которого он не засыпал[58]. Он без памяти любил этого греческого поэта и часто заставлял меня читать вслух его комедии; когда попадалось непристойное место, он, улыбнувшись, говорил: – Жаль, что предмет не вяжется с чистотой стиля, – а стиль Аристофана он любил до беспамятства, и, хотя не переносил скабрезностей, заставлял перечитывать эти места по нескольку раз. Язычники недостойно трепали имя этого славного человека, приплетая даже женщин, однако его суровые речи против них, кажется, достаточно его оправдывают.
Из услужения этому святому, давшему мне вольную, я попал в дом Тимасия, знатнейшего имперского военачальника, и настолько завоевал его расположение, что он предоставил мне хорошую должность, приблизил к себе и сделал доверенным лицом. Назначение вскружило мне голову, и чем больше он осыпал меня милостями, тем выше вырастал я в собственных глазах, и награды уже не поспевали за мной, они скорее разочаровывали, нежели вызывали чувство признательности. Вот каким образом, выдвинув меня не по заслугам и сверх ожидания, он обрел во мне недруга-честолюбца, когда, поощри он меня скромнее, он, может статься, имел бы исполнительного слугу.
Тут я познакомился с неким Луцилием, выкормышем премьер-министра Евтропия[59], чье благоволение сделало его трибуном, – человеком низким, выделяющимся лишь одним подлым качеством – коварством. Составив представление о моем благородстве и чести, каковые принципы он почитал пустым звуком, этот господин приметил меня в пособники своему министру и, поскольку я легко подтверждал его мнение обо мне, отрекомендовал меня Евтропию как самого подходящего исполнителя подлых замыслов, которые тот вынашивал против моего друга Тимасия. Министр одобрил мою кандидатуру, и Луцилий объявил, что представит меня ему, предварив эту новость лестным отзывом Евтропия о моих способностях, расписанных ему Луцилием, и присовокупив, что министр щедро воздаст по заслугам и я могу рассчитывать на его благосклонность.
Я без особого труда согласился принять приглашение и на следующий день, как было условлено, поздно вечером отправился с другом Луцилием в гости к министру. Тот принял меня с отменной любезностью и теплотой и выказал столько расположения, что мне, не знавшему светского обхождения, он положительно явил себя бескорыстнейшим другом, за что спасибо благоприятному докладу Луцилия. Однако мне пришлось переменить свое мнение, когда сразу после ужина завязался разговор о том, сколь-де неосновательны люди, требуя от сильных мира сего воздаяния за частные заслуги, от коих последние не имеют проку. – Какая мне польза от человека, – говорил Евтропий, – если он не делится со мной ученостью, плодами ума, добродетелью? По мне, у того больше заслуг, кто, хоть и без этих отличий, предан моему делу и повинуется мне. – Я столь горячо поддержал такое вступление, что министр и его клеврет осмелели и после некоторых околичностей принялись оговаривать Тимасия. Убедившись, что я не собираюсь его защищать, Луцилий поклялся, что Тимасий не заслуживает жизни и что он убьет его. Евтропий заметил, что это чрезвычайно рискованное дело. – Спору нет, – сказал он, – он покрыл себя несмываемым бесчестьем, о чем ведает и император, и потому его смерть всех весьма обяжет и будет самым достойным образом вознаграждена, однако я сомневаюсь, чтобы эта задача была тебе по плечу. – Тогда она мне по плечу, – вскричал я, – ни у кого еще нет более основательных причин желать его погибели: первое дело, он изменил государю, за которого я готов в огонь и в воду, а потом, у нас свои счеты. Назначая своих людей через мою голову, он возмутительно пренебрегал интересами службы и вредил моей репутации. – Не стану повторять всего, что я тогда говорил, скажу коротко: прощаясь с нами в тот вечер, министр сердечно пожал мне руку и, до небес превознося мою порядочность и совершенно ко мне расположившись, велел вечером следующего дня прийти к нему без провожатых; и вот тогда, еще испытав меня, он увидел, что я созрел для его плана, и предложил мне обвинить Тимасия в государственной измене, обещая по-царски вознаградить за услугу. И Тимасий, как вы, вероятно, знаете, был сокрушен. А что получил я? Когда я явился к Евтропию за обещанным, он принял меня отчужденно и холодно; сделал непонимающий вид, когда я раз-другой обмолвился, что рассчитываю на него; после того как разоблачили моего сообщника, сказал он, я мог рассчитывать только на снисхождение, ибо сообщник виновен больше моего лишь потому, что выше стоял; и будто бы добиться для меня помилования от императора стоило ему большого труда, но он не пожалел усилий, поскольку я навел его на след. Засим он повернулся ко мне спиной и заговорил с кем-то еще.
Такой поворот дела взбесил меня, я решил мстить – и, конечно, отомстил бы, не прими он своевременно действенных мер, разлучивших меня с жизнью.
Вы, конечно, заключите, что я вторично заслужил преисподнюю, и действительно, Минос склонялся к тому, чтобы ввергнуть меня в геенну, но узнав, какую казнь учинил мне Родорик и как еще семь лет я был в рабстве у вдовы, он счел это достаточным искуплением всех грехов, какие может вместить одна человеческая жизнь, и отослал меня обратно – в третий раз попытать счастья.
Глава XI, в которой Юлиан рассказывает о своих приключениях в бытность скупым жидом[60]
Очередной срок мне выпало жить воплощенным в скупого жида. Я родился в Александрии, в Египте, звали меня Валтасаром. Ничего примечательного в моей жизни не было по тот самый год, когда разразилось достопамятное восстание и тамошние евреи, как свидетельствует история, истребили больше христиан, чем их числилось в ту пору в городе. По правде говоря, евреи славно поколотили собак, но сам я при этом не был, поскольку всем нашим велели вооружиться и я воспользовался случаем продать два меча, от которых в другое время не избавился бы – такие они были старые и проржавевшие; а без оружия я не рискнул высунуть нос. К тому же выступление назначили в полночь, чтобы покидать дома, не возбуждая подозрений, и, как ни соблазнительно было убить назарея-другого ради спасения души, я не решился до такой поздноты жечь масло впустую; вот так вышло, что в тот вечер я остался дома.
В тот год я пылко любил некую Ипатию, дочь философа, прекраснейшую и достойную девицу, поистине совершенство души и тела. И я ей нравился, но два обстоятельства препятствовали браку – моя религия и ее бедность; может, все как-нибудь и наладилось бы, но псы христиане убили ее и, что совсем скверно, сожгли ее тело; это было потому скверно, что я безвозвратно потерял весьма ценный камушек, мой подарок, который я намеревался затребовать обратно, если мы не поженимся.
Потерпев крушение любви, я вскоре покинул Александрию и отправился в столицу империи, где предстоявшая женитьба императора на Атенаиде сулила хороший спрос на драгоценности. В дорогу я обрядился нищим, имея в виду, во-первых, надежнее сохранить ценный товар, а во-вторых, сэкономить на расходах, и в последнем я, питаясь в основном кореньями и утоляя жажду водой, преуспел настолько, что подаянием перекрыл издержки на два обола.
Только лучше бы мне не скряжничать, а поторапливаться, тогда бы я не поспел в Константинополь к шапочному разбору, упустив редкостный случай сбыть камни, на которых большинство моих соплеменников весьма обогатилось.
О жизни скупца мало что можно сказать, поскольку она вся сводится к добыванию или сбережению денег. Поэтому я расскажу лишь о некоторых махинациях, как они придут на память.
Обедал у меня один римский еврей, большой ценитель и истребитель фалернского вина; зная, что у меня не разгуляешься да и вино скверное, он распорядился доставить мне на этот случай полдюжины кувшинов с фалернским. И представьте, он не отведал у меня своего собственного вина. Я разбавил водой три кувшина и эти полдюжины выставил ему с приятелем, а другие три кувшина продал все тому же виноторговцу, зная, что он не постоит за ценой.
В другой раз в загородном доме, который я за полцены купил у разорившегося владельца, меня навестил знатный римлянин. Соседи в его честь спели и сыграли, и, уезжая, он вручил мне золотую монету, чтобы я всех оделил. Деньги я прикарманил, а соседям выслал фляжку кислого вина, за которое не мог выручить и двух драхм, и еще потом они в тройном размере отработали его.
Хотя мое благочестие было больше показным, совсем безбожником я тоже не был и потому, как мог, старался примирить мои плутни с совестью. Например, я приглашал к обеду только тех, на чей карман готовил покушение. Я взял себе за правило, дав им заморить червячка, записывать потом в специальную книгу, на сколько, по моей прикидке, они меня объели. Пусть эта цифра во сто раз превышала сумму, в которую им обойдется платный обед, в моих глазах она была quid pro quo[61], а то и ad valorem[62]. И когда являлся случай обморочить гостя, я относился к этому как к взиманию долга, причем даже той завышенной цифрой не удовлетворялся, а брал с лишком, как если бы дал эти деньги в рост.
Лихоимец для других, я и себе не давал спуску. Холодая и голодая, я подорвал здоровье и вынужден был тратиться на врача, а однажды чудом не умер, принимая дрянное лекарство, на котором выгадывал 17/8 процента от его стоимости.
Такими вот ухищрениями я сколотил громадное состояние, когда другие бедствовали и разорялись, и пересчитывать свои капиталы и тешиться ими было моей каждодневной усладой, которую, случалось, умеряли и отравляли две закравшиеся мысли. Одна была совсем непереносима, но, к счастью, посещала меня редко: что однажды я расстанусь с моими сокровищами. Зато другая мысль преследовала неотступно: отчего я не богаче, чем есть. Тут я, впрочем, утешался убеждением, что делаюсь богаче с каждым днем, и мои надежды уносились столь далеко, что я мог повторить за Вергилием: «His ego nес metas rerum nес tempora роnо»[63].
Я убежден, что будь у меня в кармане весь белый свет без одной-единственной драхмы, которой мне нипочем не завладеть, даже и тогда, я убежден, эта драхма заслоняла бы все, чем я владел.
То корпишь, чтобы побольше урвать, то дрожишь, как уберечь, – по правде, я не знал минуты покоя ни днем, ни даже во сне. Кем только я не перебывал на земле, но таких мук не изведал и вполовину, и к той же мысли склонился Минос: мне, трепетавшему в ожидании приговора, он велел отправляться восвояси, поскольку одного проклятья мне было достаточно. Потом уже я узнал, что дьявол не допускает к себе скупцов.
Глава XII Что претерпел Юлиан в бытность генералом, наследником, плотником[64] и щеголем
На сей раз я объявился в Аполлонии Фракийской, где меня родила красавица рабыня, гречанка, наложница Евтихия, первейшего любимца императора Зенона. Когда этот князь взошел на престол, он сделал меня командиром когорты, не посмотрев, что мне всего пятнадцать лет, а немногим позже через головы заслуженных ветеранов назначил трибуном.
Благодаря близости к императору моего отца, превосходного царедворца, а иначе говоря, льстеца самого низкого разбора, я был вхож к Зенону и завоевал его доверие; в искусстве лести я тянулся за отцом, и император ни на шаг не отпускал меня от себя. Поэтому впервые увиденные мною солдаты были солдатами Марциана, осадившего дворец, где я укрылся с императорским двором.
Позже меня назначили начальником легиона и отправили с Теодорихом Готским в Сирию, то есть отправился туда мой легион, а сам я остался при дворе с генеральским чином и окладом, не окупая это званье ни потом, ни кровью.
При дворе Зенона жили весело, иначе говоря – беспутно, и поэтому тон задавали ветреницы, в особенности одна – Фауста, красотой не блиставшая, но чрезвычайно полюбившаяся императору за острый ум и бойкий нрав. Мы с ней отлично поладили, и всякое армейское назначение проходило через наши руки, доставаясь не тому, кто его больше заслуживал, а тому, кто больше платил. Моя приемная была теперь битком набита прибывшими с полей сражений офицерами, которые, потолкавшись у меня, могли бы понять, сколь недостаточная рекомендация их ратные заслуги, но они приходили снова и снова и платили мне таким почтением, словно я устроил их счастье, когда на самом деле пустил их по миру с их чадами и домочадцами.
Так же иные поэты посвящали мне стихи, где воспевали мои победы; сейчас даже подумать странно, что я с упоением вдыхал этот фимиам, вовсе не смущаясь тем, что не заслужил этих похвал, что они скорее изобличают мою ничтожность.
К тому времени мой отец умер, благоволение ко мне императора стало безраздельным, и если не знать дворцовой жизни, то трудно поверить, как пресмыкалась передо мной разномастная публика, наводнявшая дворец. Я проходил сквозь оцепенелую толпу, отмечая избранных поклоном, улыбкой, кивком и выделяя счастливейшего милостивым словом, а оно дорогого стоит, ибо теперь этому человеку от всех будет почет; при дворе эти знаки – ходячая монета, как передаточный вексель у купцов. Улыбка фаворита незамедлительно повышает акции ее получателя и дает обеспечение его собственной улыбке, которой он удостаивает нижестоящего: меняя держателей, улыбка возвращается к великому человеку, и тот учитывает вексель. К примеру, какой-нибудь человечек хлопочет о месте. К кому он обратится? Конечно, не к великому человеку, ибо не допущен к нему. И он обращается к А, а тот ставленник В, а В на побегушках у С, а С подхалимничает перед D, a D живет с Е, а Е сводничает F, a F водит девок к G, a G ходит в шутах у I, а I женат на К, а К спит с L, a L ублюдок M, a M взыскан великим человеком. Спустившись по ступеням от великого человека к А, улыбка затем возвращается к кредитору, и великий человек учитывает вексель.
Как купеческий город не просуществует без долговых расписок, так двор нуждается в своей расхожей монете. Разница здесь та, что в последнем случае обязательства неопределенны и фаворит может опротестовать свою улыбку, не объявляя себя банкротом.
В разгар этого непрерывного празднества вдруг умирает император, и трон достается Анастасию. Было неясно, удержусь я в фаворитах или паду, и приветствовали меня, как обычно, когда я явился засвидетельствовать почтение новому императору; стоило ему, однако, показать мне спину, как все прочие почтили меня тем же: вся приемная, словно по команде, повернулась ко мне спиной – моя улыбка была просроченным векселем, и никто не решался принять его.
Я поскорее удалился из дворца, а там и вовсе покинул город и вернулся на родину, где тихо прожил остаток дней, занимаясь своим хозяйством, ибо, не запасшись знаниями и добродетелью, ничем другим занять себя не умел.
Когда я пришел.к вратам, Минос, как и прежде, заколебался, но все же отпустил меня, сказав, что, виновный в множестве гнусных преступлений, я по крайности не проливал людскую кровь, хоть и был генералом, и потому могу снова вернуться на землю.
И снова я родился в Александрии, причем, игрою случая угодив в лоно своей снохи, стал собственным внуком и унаследовал состояние, которое прежде нажил.
Если раньше меня губила скупость, то теперь это была расточительность – в очень краткий срок я промотал все, что по крохам насбирал за очень долгую жизнь. Возможно, вы сочтете, что мое новое положение завиднее прежнего, но, поверьте слову, это вовсе не так: все плыло в руки, упреждая мои желания, и потому я не знал влечений, не изведал восторга, с каким утоляется волчий аппетит. Больше того, непривычный размышлять, я обрек свой разум на безделие и не удостоился вкусить духовных благ. Воспитание также не научило меня разборчивости в наслаждениях, и, имея избыток всего, я ни к чему не чувствовал привязанности. Мой вкус был неразвит, и, мои плотские услады мало отличались от скотских. Коротко говоря, если скупцом я не знал своего богатства на вкус, то теперь и вкус к нему у меня пропал.
И если среди благополучия я не чувствовал себя вполне счастливым, то потом вдоволь хлебнул страданий, подкошенный болезнью, ввергнутый в нищету, несчастным калекой окончив свою никудышную жизнь в тюрьме; едва ли милосерднее был приговор Миноса, заставившего меня отведать алчного напитка и три года бродить по берегам Коцита с неотвязной мыслью о том, как внуком я промотал состояние, которое нажил, будучи дедом.
По возвращении на землю я родился в Константинополе, в семье плотника. Первое, что я запомнил, был триумф Велисария, зрелище поистине величественное; великолепнее же всех был король африканских вандалов Гелимер, пленником шедший в процессии и, выказывая презрение к изменчивости своего счастья и равно к смехотворной спесивости завоевателя, кричавший: – Суета, суета, все одна суета!
Отец выучил меня плотницкому делу, и, как вы догадываетесь, ничего достопримечательного в своем низком звании я не совершил. Впрочем, я женился на полюбившейся мне женщине, которая стала вполне сносной женой. Я трудился не покладая рук, с вящей пользой для здоровья, и вечером садился с женой за скромный ужин, получая от него больше радости, чем богач от своих яств. Жизнь прошла, как один долгий день, и, оказавшись у врат, я приблизился к Миносу в совершенной уверенности, что буду впущен; к несчастью, пришлось признаться, как я плутовал, работая сдельно, и как прохлаждался на поденной работе. И за это разгневанный судья остудил мою прыть, схватив меня за плечи и с такой силой швырнув назад, что я свернул бы себе шею, будь я из плоти и крови.
Глава XIII Юлиан превращается в щеголя[65]
Мне выпало жить в Риме. Рожденный в благородном семействе, я был богатым наследником, и родители, полагая, что иметь при этом способности мне ни к чему, участливо и разумно оградили меня от их развития. Моими единственными наставниками в юности были некий Салтатор, обучивший меня кое-каким па, и некий Фикус, чьей обязанностью было наставить, как бескровным образом, по его выражению, разделаться с мужской головой. Когда я усовершенствовался в этих науках, оставалось немногое, в чем могли посодействовать римские умельцы, обряжавшие и украшавшие папу, и, достаточно обеспечив себя плодами их искусства, в двадцать лет я сделался законченным и совершенным щеголем. С этих пор на протяжении сорока пяти лет я только и делал, что переодевался, пел и танцевал, отвешивал поклоны и строил глазки и в шестьдесят шесть лет, вспотев после танцев, простыл и умер.
Минос объявил мне, что Элизиума я не заслужил и даже вечного проклятья не достоин, и отправил меня в обратный путь.
Глава XIV Приключения в монашеском образе[66]
Теперь волею судьбы я объявился младшим сыном в одном почтенном семействе и юношей был отдан в школу, однако образование к этому времени пришло в такой упадок, что сам учитель с грехом пополам составлял предложение на латыни, а греческого не знал совсем, и, мало преуспев в науках и добродетели, я был определен к духовному поприщу и в положенный срок постригся в монахи. Я много лет затворником просидел в келье, и моя жизнь была мне по нраву, а нрав я имел угрюмый и весьма склонный презирать весь свет, иначе говоря, завидовать всем, кому выпала лучшая доля, и по сему случаю не жаловать и весь род людской. Впрочем, когда надо было, я не гнушался польстить подлейшей твари, например – евнуху Стефану, любимцу императора Юстиниана II, мерзейшему негодяю, когда-либо рождавшемуся на земле. Я не только написал в его честь панегирик, но и в проповедях ставил его всем в пример, благодаря чему совершенно завоевал его доверие и был представлен императору, которого прибрал к рукам теми же средствами, и вскоре расстался с кельей, получив место при дворе. Снискав милость у Юстиниана, я не замедлил толкнуть его на всяческие зверства. Человек я был угрюмый, замкнутый, и счастливые лица были для меня нож острый, отчего всякие забавы и утехи я поносил как мерзопакостный грех, веселость бичевал за легкомыслие, призывал к строгости нравов, а по совести сказать – к лицемерию. Злосчастный император во всем слушался меня и гонениями так возмутил народ, что был свергнут и изгнан.
Я опять замкнулся в своей келье (историки ошибочно утверждают, что меня убили), где и спасся от разъяренной толпы, которую клял на чем свет стоит, и они не давали мне спуску. Пробыв три года в изгнании, Юстиниан переодетым вернулся в Константинополь и пришел ко мне. Я поначалу сделал вид, что не узнаю его, и, не помня добра, собирался показать ему на дверь, но тут мне пришла мысль выгадать от его посещения, и, громко кляня короткую память и слепнущие глаза, я кинулся ему навстречу и горячо обнял его.
Я задумал выдать его Апсимару, не сомневаясь, что тот щедро оплатит такую услугу. Я радушно предложил ему пробыть у меня весь вечер, и он согласился. Придумав какое-то недолгое дело, я отлучился и побежал во дворец доносить на своего гостя. Апсимар тут же отрядил со мной солдат, но то ли мое долгое отсутствие насторожило Юстиниана, то ли он просто передумал оставаться, только мы уже не застали беглеца, и самые усердные поиски оставили нас ни с чем.
Упустив добычу, Апсимар разгневался на меня и грозил страшными карами, если я не представлю ему свергнутого монарха. Потушив первую вспышку его ярости, пустив затем в ход притворство и лесть, я, хоть и с трудом, отвел его гнев.
Когда Юстиниан вернул себе трон, я, ничтоже сумняшеся, явился поздравить его с воцарением, но он, видимо, как-то прослышал о моем предательстве и принял меня холодно, а позже без обиняков обвинил в содеянном. Я решительно все отрицал, поскольку никаких доказательств против меня не было, он же стоял на своем, и тогда в проповедях и при всяком удобном случае я стал честить его врагом церкви и всех добрых людей, обзывать неверным, еретиком, атеистом, язычником и арианином. Я говорил все это сразу после его возвращения, еще до того, как ужасные свидетельства его бесчеловечности подтвердили мою правоту.
Мне повезло умереть в тот самый день, когда солдаты, посланные Юстинианом против Фракийского Боспора и учинившие там неслыханные зверства, все до одного нашли свою смерть. И поскольку каждый из них был препровожден в ад, Минос утомился судбищем и тем, кто не участвовал в кровавом походе, позволил вернуться на землю, если они того пожелают. Я поймал его на слове и, повернувшись, потек в обратный путь.
Глава XV Юлиан превращается в скрипача
Местом моего рождения стал Рим. Моя мать была африканкой; красотой она не отличалась, но, видимо, за благочестие ее приблизил к себе папа Григорий II[67]. Своего отца я не знаю, наверное он не представлял из себя ничего особенного, поскольку после смерти папы Григория, по милосердию своему бывшего добрым другом моей матери, мы впали в крайнюю нищету и были выброшены на улицу, имея единственной кормилицей мою скрипку, на которой я очень недурно играл: я сызмала тянулся к музыке, и благодетель папа за свой счет образовал меня. Пропитание скрипка давала самое скудное – хорошо, если из толпы слушающих один-другой усовестятся и бросят монетку оголодавшему бедняге, что доставил им радость. А иные умники, с часок послушав меня, отходили, мотая головами и сетуя, что-де позор терпеть в городе таких бродяг.
По правде говоря, рассчитывай мы только на щедрость моих слушателей, мы скоро протянули бы ноги. Пришлось и матери приняться за свой промысел: я услаждал их слух, а она тем временем опустошала их карманы, да так успешно, что скоро мы обеспечили себе безбедное существование и, будь мы поумнее и побережливее, могли бы, подкопив денег, бросить эту опасную и постыдную жизнь, но почему-то удерживаются только трудовые, кровные деньги, а деньги даровые, шальные обычно так же легко и безалаберно спускаются. Вот и мы тратили деньги, коль скоро они есть, не успев узнать своих потребностей и желаний; а с большой добычи мы через силу пускались во все тяжкие и беспутничали без всякой охоты.
Еще долгое время воровской промысел сходил нам с рук, но и на старуху бывает проруха, и пришел наш час: бедную мать поймали с поличным и, прихватив меня как сообщника, доставили нас к судье.
По счастью, судья был известен всему городу как величайший меломан, он частенько звал меня поиграть и сейчас, видимо, решил выразить свою признательность, тем паче что расплачивался всегда мелочно; как бы то ни было, он застращал свидетелей и с такой неприязнью выслушал их показания, что они вынуждены были смолкнуть, а нас с честью отпустили, точнее сказать – оправдали, потому что отпустили нас только после того, как я немного поиграл судье на скрипке.
Нам было на руку еще то обстоятельство, что обокрали мы Поэта, и шутник судья всласть повеселился на этот счет. Поэты и музыканты, говорил он, должны ладить меж собой, поскольку они женаты на сестрах; он объяснил потом, что имел в виду муз. Когда же в качестве улики была предъявлена золотая монета, он разразился хохотом и заявил, что, должно быть, опять настал золотой век, когда у поэтов в карманах водилось золото, а в золотом веке воров не бывает. Он отпустил еще много шуток в этом роде, но я ограничусь теми, что привел.
Нечаянная милость, говорят, служит острасткой, но я с этим не согласен, по-моему, оправдание виноватого делает его самонадеянным, как это было с нами: мы смеялись над законом, ни во что не ставили наказание, которого, мы убедились, можно избежать даже вопреки прямым уликам. Случившееся с нами мы сочли, скорее, острасткой для обвинителя, чем для злоумышленника, и распоясались сверх всякой меры.
Вот хотя бы: однажды нас пустили в дом к богатому священнику, и, пока слуги танцевали под мою музыку, мать ухитрилась стянуть серебряный сосуд; у нее и в мыслях не было кощунствовать, однако эта весьма большая чаша, оказывается, была из церковного обихода, откуда священник заимствовал ее для пирушки с собратьями. Нас тут же обвинили в краже (сосуд нас выдал) и отвели к тому самому судье, что прежде отнесся к нам с таким добродушием; но теперь он был в другом настроении, и едва священник подал на нас жалобу, как судья, не знавший края ни в доброте, ни в строгости, велел раздеть нас донага и бичами прогнать по улицам.
Этот приговор был исполнен с превеликой строгостью, священник самолично поощрял палача, наставляя, что-де тот старается нам во благо; но хотя наши спины были истерзаны в клочья, горше материных и моих страданий было оскорбление, учиненное моей скрипке: ее с победным видом несли впереди меня, толпа над ней глумилась, выказывая тем свое презрение к искусству, в котором я имел честь подвизаться, к благороднейшему из человеческих дерзаний, успехами в котором я чрезвычайно гордился, и поэтому надругательство над скрипкой причиняло мне такие муки, что ради ее избавления я был готов отдать хоть всю свою кожу.
Мать недолго прожила после порки; я прозябал в нужде и ничтожестве, покуда меня не обласкал молодой сановный римлянин: он ввел меня в свой дом, обращался со мной запросто. Пылко преданный музыке, он пожелал обучиться игре на скрипке, но, не имея дарования, весьма скромно преуспел в этом искусстве! Я, впрочем, расхваливал его потуги, отчего он возлюбил меня безмерно. Продолжай я и дальше действовать подобным образом, я бы, наверное, сказочно нажился на его доброте, но я сам уверил его в превосходстве его музыкальных способностей, и свое умение он уже ставил выше моего искусства, а этого я не мог перенести. Однажды мы играли дуэтом, он стал беспардонно врать, и когда гармония совсем расстроилась, пришлось сделать ему замечание. Вместо того чтобы поправиться, он обвинил меня в оплошке – будто бы я играю не в том ключе. Стерпеть такое от собственного ученика выше человеческих сил; я вспылил, швырнул наземь скрипку и заметил ему, что староват брать уроки музыки. С такой же горячностью он объявил мне, что не нуждается в поучениях бродячего скрипача. В конце перепалки мы вызвали друг друга на музыкальный турнир. Победа досталась мне, но заплатил я за нее дорогой ценой – я потерял друга: язвительно припомнив, сколько добра он мне сделал, уколов позорным наказанием и отчаянным положением, из которого я выбрался благодаря его щедротам, он прогнал меня со двора.
Когда я жил у этого господина, меня кое-кто знал, среди прочих – некая Сабина, благородная дама, будто бы тонко разбиравшаяся в музыке. Прослышав, что мне отказано от дома, она тут же взяла меня к себе, предоставила отличный стол и гардероб. Впрочем, жилось мне у нее не сладко, при чужих людях я был вынужден сносить ее постоянные замечания – тем более досадные, что они не шли к делу; подозреваю, что своими придирками она приблизила мою смерть, поскольку, обученный ради куска хлеба подавлять раздражение, я не давал чувствам выхода и травил себя изнутри, отчего, видимо, и приключилась моя болезнь.
Дама, любившая меня вопреки моим недостаткам – а может, благодаря им, – тотчас пригласила трех знаменитых врачей. Эти врачи за хорошую мзду в продолжение трех дней приходили семь раз; двое пришли и в восьмой, но им доложили, что я только что умер, и, покачав головами, они удалились.
Когда я явился к Миносу, он с улыбкой спросил, не прихватил ли я с собой скрипку, и, получив отрицательный ответ, велел отправляться восвояси и благодарить судьбу за то, что дьявол не любит музыку.
Глава XVI История премудрого мужа[68]
Я снова вернулся в Рим, теперь уже совсем в ином качестве. В моем характере с детства была какая-то важность, я ни разу не улыбнулся, вследствие чего обо мне составилось мнение как о подающем надежды ребенке: одни прочили меня в судьи, другие видели во мне будущего епископа. В два года отец подарил мне погремушку – я с негодованием разнес ее на куски. Добрый родитель, сам мудрый человек, увидел в этом несомненный признак мудрости и восторженно вскричал: – Правильно, малыш! Ручаюсь головой, ты далеко пойдешь!
В школе меня не заставить было поиграть с товарищами – и не потому, что все время отнимали занятия, к которым я не имел ни склонности, ни способностей. Однако мой степенный вид настолько пленил учителя, вообще-то весьма проницательного человека, что он сделал меня своим любимчиком и постоянно ставил другим в пример, им на зависть, а мне на радость; и хотя они мне завидовали, но относились ко мне с тем вынужденным уважением, какое обречен оказывать завистник.
У окружающих я пользовался славой необычайно разумного юноши, добившись ее не без труда: отказ от некоторых развлечений, сопутствующих этому возрасту, стоил мне немалых мук, но горделивое любование собственными выдуманными достоинствами отчасти утешало меня.
Так протекала моя жизнь, ничем знаменательным не отмеченная, до двадцати трех лет, когда, на свое несчастье, я познакомился с молодой неаполитанкой по имени Ариадна. Ее изумительная красота сразу произвела на меня ошеломляющее действие, еще усиленное благородством, простотой и любезностью ее обращения, и окончательно покорила меня беседа с ней. С прелестной непринужденностью она обнаружила глубокий и живой ум. Этому прекрасному созданию было неполных восемнадцать лет, когда я, на свое несчастье, увидел ее у своего близкого приятеля, которому она доводилась родней. Первое время мы виделись очень часто, и я не успел спохватиться, как был пленен ею; тем более что и барышне был по душе поклонник, не скупившийся на восторги.
Пробыв три месяца в Риме, Ариадна вернулась в Неаполь, забрав с собой мое сердце; при этом в самой сдержанности, к которой обязывает молодую женщину безупречная скромность, я видел несомненный признак, что и ее сердечко неспокойно. После ее отъезда на меня нашла хандра, с которой так же трудно жить, как трудно от нее избавиться. Напрасно искал я развлечений – серьезных, разумеется, в особенности предпочитая музыку: они еще больше распаляли мечты и умножали страдание. Наконец моя страсть разгорелась с такой силой, что я стал подумывать о ее утолении. Перво-наперво я стороной справился о достатке ее родителей, чего покуда не знал; вообще же я не обольщался на этот счет, хотя в Риме их дочь была безупречно одета. Как выяснилось, ее состояние превосходило мои прикидки, однако, на взгляд человека благоразумного и осмотрительного, оно было недостаточно, чтобы оправдать наш брак. Мудрость и счастье повели яростную борьбу, и, надорвав мне душу, мудрость одолела. Я решительно не нашел в себе сил поступиться мудростью, которую так старательно наживал и которую оберегал с такой ревностью. И потому я решил любой ценой побороть свое чувство, и цена, признаюсь, вышла дорогая.
Я был поглощен этой борьбой (а она потребовала много времени), когда Ариадна опять приехала в Рим; ее присутствие серьезно угрожало моей мудрости, которая даже в ее отсутствие с великим трудом удерживала свои позиции. Если верить ее словам, в веселую минуту сказанным здесь, в Элизиуме, то я произвел на нее такое же впечатление, что и она на меня. И скорее всего, ее неожиданное появление вынудило бы мудрость смириться, не надумай та, как удовлетворить мою страсть без урона для моей репутации. Надо было сделать ее тайной любовницей, что в тогдашнем Риме не возбранялось, если связь не афишировалась и соблюдались приличия, а там пусть хоть весь город знает.
Я ухватился за этот план и употребил для его исполнения все средства и способы. Раньше всего я подкупом склонил на свою сторону ее духовника и дальнюю родственницу, мою старую приятельницу, но все было напрасно: подобно моей неколебимой мудрости, ее добродетель дала отпор страсти. К моему предложению она отнеслась с невыразимым презрением и скоро запретила мне показываться ей на глаза.
Она вернулась в Неаполь, оставив меня в еще худшем состоянии, чем прежде. Днем я томился и тосковал, ночью мне не было сна и покоя. О нашей любви много говорили, и иные дамы предрекали свадьбу, но мои знакомые опровергли их приговор. – Нет, – говорили они, – у него достанет благоразумия не жениться столь опрометчиво. – Сознаюсь, такой отзыв доставил мне огромную радость, но, по правде, он не окупал страданий, ценой которых я его заслужил.
В борениях с собой я почти решился выбрать счастливый удел, пожертвовав мудростью, когда узнал от друга, что Ариадна вышла замуж. Это известие поразило меня в самое сердце; перед другом я еще выдержал характер, хотя это удвоило муку, зато наедине впал в беспросветное отчаяние и, не раздумывая, отдал бы и мудрость, и состояние, и что угодно еще, лишь бы вернуть ее; но я поздно спохватился, оставалась только надежда, что время исцелит меня. А время не спешило с этим, поскольку Ариадна вышла за римского всадника и была теперь моей соседкой, и каждый божий день я кусал себе локти, видя, какой прекрасной женой она стала и какое счастье я упустил.
Если я вдоволь настрадался из-за своей мудрости, отказавшись от Ариадны, то не очень мне благодетельствовала мудрость и сведя с некой богатой вдовой, которую старинный приятель рекомендовал как чрезвычайно подходящую партию; так оно, впрочем, и было, ибо ее состояние настолько же превосходило мое, насколько Ариаднино моему уступало. Я охотно внял дружескому совету и мудростью до того расположил к себе вдову, женщину разумную и обстоятельную, что скоро добился успеха, и, едва позволили приличия (а она строжайше их блюла), мы поженились – ее вдовству исполнился ровно один год одна неделя и один день: она утверждала, что выдержать срок чуть больше года будет в высшей степени пристойно.
Но, при всем своем благоразумии, эта леди сделала меня несчастнейшим из людей. Она была далеко не красавица, а уж характер имела совсем невыносимый. За все пятнадцать лет совместной жизни не было и дня, чтобы я от всей души не проклял и ее самое, и тот день, когда мы встретились. Единственным утешением мне в самые горькие минуты было неутихавшее одобрение окружающими моего благоразумного выбора.
Как видите, в сердечных делах слава мудрого человека досталась мне дорогой ценой. В отношении прочих дел мудрость стоила дешевле, но и там лицемерие, которым я платил за нее требовало издержек. Я отвернулся от тысячи малых радостей, якобы презирая их, хотя к ним-то и тянулась моя душа. Не единожды я чуть не задохся, сдерживая искренний смех, и пожалуй, только в одном случае лицемерие давалось мне безболезненно: когда я смаковал у себя в кабинете книгу, которую на людях поносил. Если высказаться кратко, тем более что и вспомнить мне особенно нечего, то вся моя жизнь была нескончаемой ложью, и для меня было бы счастьем заблуждаться на свой счет, как я вводил в заблуждение других, но, сколько я ни задумывался над собой, я не обнаруживал в себе мудреца, каким был в чужих глазах, и это изрядно отравляло удовольствие от всеобщего признания моей мудрости. Такое самобичевание, на мой взгляд, подобное memento mori[69] или mortalis est[70], есть прямой враг самообольщению, и оно впрямь способно противодействовать ложной мирской славе. Но то ли большая часть мудрецов не задумывается о себе, то ли, постоянно вводя других в заблуждение, они настолько погрязли в обмане, что и относительно самих себя обманываются, – не могу судить, только совершенно ясно, что очень немногие мудрецы знают про себя, какие они болваны, а мир не знает и это немногое. Право слово, доведись кому заглянуть в тайники мудрости, он увидит занятные вещи: мудрый ненавистник чревоугодия уписывает сладкий крем, мудрый трезвенник сидит с флягой, мудрый воздерженец, да простится мне такое слово, мурлычет над похабной книжкой или картинкой, а то и ласкает горничную.
Завершающим штрихом в картине, где я смотрелся так же нелепо, как во всех прочих моих появлениях на сцене жизни, было то, что моя мудрость сама себя погубила – иначе говоря, стала причиной моей смерти.
Один мой родственник из восточной части империи лишил сына наследства, отказав его в мою пользу. Случилось это глубокой зимой – в самое опасное для меня время, когда я только-только оправился после тяжелой болезни. Имея все основания тревожиться о том, что близкие покойного сговорятся и растащат все, что можно, я посоветовался с другом, человеком степенным и мудрым, как правильнее поступить: самому отправиться или послать для порядка нотариуса, отложив поездку до весны? Честно говоря, я склонялся ко второму варианту: дела мои и без того процветали, и годы уже были не молодые, и наследника я себе не подобрал, если со мной случится несчастье.
Мой друг отвечал, что задача представляется ему совершенно простой и ясной – что сам здравый смысл велит мне немедленно отправляться; что подвернись ему такое счастье, сказал он в подкрепленье, он бы уже был в пути; с твоим знанием жизни, продолжал он, непростительно, чтобы ты дал им случай оставить тебя в дураках, к чему они, можешь быть уверен, только и стремятся; а насчет нотариуса – вспомни-ка лучше превосходный афоризм: «Ne facias per alium, quod fieri potest per te»[71]. Я сознаю, что очень некстати и скверная погода, и твоя недавняя болезнь, но мудрый человек должен превозмочь трудности, если они встали на пути необходимости.
Последний довод убедил меня окончательно. Долг мудрого человека я воспринял как непреложный, и необходимость отъезда стала мне очевидна. На следующее же утро я отправился; непогода настигла меня, и, не пробыв в пути и трех дней, я снова слег с лихорадкой и умер.
Если в прошлый раз Минос обошелся со мной благодушно, то теперешнее его обращение было суровым. Совершенно уверенный в себе, я приблизился к вратам, полагая, что буду пропущен без всяких расспросов, только благодаря печати мудрости на лице; дело, однако, повернулось иначе: к моему безмерному удивлению, Минос грозно окликнул меня: – Эй, господин с насупленным лицом, куда это вы спешите? Извольте стать и отчитаться во всем, что натворили внизу. – Я начал свою повесть, все еще надеясь, что меня прервут и врата распахнутся предо мной, однако рассказать пришлось все, после чего Минос, немного подумав, обратился ко мне с такими словами:
– Оставайтесь на месте, господин мудрец. И поверьте, сэр: путешествие обратно на землю будет мудрейшим из ваших деяний и, право, более к чести вашей мудрости, нежели все прошлые ваши подвиги. Напротив того, домогаться Элизиума вам даже и не к лицу. Ведь только глупец понесет бесценный товар в такое место, где он пойдет за бесценок. Не рискуйте же подвергнуться оскорбительным насмешкам и отправляйтесь, откуда пришли: Элизиум не для тех, кому хватает ума не быть счастливыми.
Я был сражен таким приговором, в котором к тому же услышал угрозу, что мудрость мне придется брать с собой на землю. Пусть меня не допускают в Элизиум, сказал я судье, но ведь и таких преступлений за мной нет, чтобы впредь оставаться мудрым. В ответ он велел мне примириться с судьбой, и мы немедля разошлись.
Глава XVII Юлиан выступает в роли короля[72]
Теперь я родился в Овьедо, в Испании. Моего отца звали Веремонд, и меня усыновил дядя, король Альфонсо Непорочный. Из всех моих паломничеств на землю я не припомню другого такого же несчастного детства: я был по рукам и ногам опутан запретами, окружен врачами, вечно совавшими мне лекарства, учителями, вечно читавшими нотации; даже часы досуга, когда только бы и поиграть, были отданы скучным помпезным ритуалам, которые были для меня большей неволей, чем для последнего из слуг, ибо в моем возрасте раболепство придворных еще не могло льстить моему самолюбию. Но по мере того как я мужал, в моем положении обнаружились искупительные качества: прекраснейшие женщины по собственному почину искушали меня, и я познал счастье с восхитительными созданиями, на зависть простым смертным не утруждая себя предварительным ухаживанием, за исключением только самых юных и неопытных простушек. Для придворных дам я был примерно то же, что для мужчин – прекраснейшая из прекрасного пола, и, несмотря на остатки внешней благопристойности, они готовы были согласиться, что не дарят милостями, но получают их.
Другим моим счастьем было дарить также иными милостями; необыкновенно добрый и щедрый, я мог каждый день потакать этой слабости. Свое весьма значительное княжеское содержание я пускал на многие великодушные и добрые дела и еще просил короля за множество достойных людей, впавших в нужду, и король обычно удовлетворял мои ходатайства.
Умей я тогда ценить свой благословенный удел, не было бы для меня ничего горше смерти Альфонсо, переложившей на мои плечи тяготы правления; но слепо властолюбие, соблазняемое блеском, могуществом и славой венца, и как ни любил я покойного короля и моего благодетеля, но мысль о наследовании ему притупила горечь утраты и нетерпеливое ожидание коронации высушило мои слезы на его похоронах.
Однако приверженность королевскому званию не затмила мне память о моих подданных. Подобно отцу, радеющему о своих чадах, я видел в них людей, чье благополучие господь поручил моим заботам; еще мне представлялся рачительный хозяин, сознающий, что в достатке и достоинстве арендаторов основа его собственного возрастания. Эти соображения и побуждали меня печься об их процветании, и другой печали, кроме их блага, у меня не было.
Узурпатор и нечестивец Маврикий обязал себя и своих наследников ежегодно платить маврам позорную дань – выдавать ему сотню юных девственниц. Со своей стороны, я решил пресечь этот бесчеловечный и возмутительный обычай, и посему, когда император Абдерам II дерзко потребовал с меня эту дань, я не только ослушался, но велел с позором выставить его послов и лишь из уважения к международному праву не предал их смерти.
Я собрал огромное войско. Объявляя набор, я сказал тронную речь, объяснив моим подданным, для чего готовится эта война; я заверил их, что начинаю ее ради их собственного покоя и безопасности, а не из самодурства или желания посчитаться за личную обиду. Мой народ в один голос обещал отдать все сокровенное и самую жизнь, сберегая меня и честь короны. Скоро войско было готово, дома остались только землепашцы – даже духовенство, вплоть до епископов, встало под мои знамена.
Сойдясь с неприятелем у Альвельды, мы понесли огромные потери, и только подоспевшая ночь спасла нас от полного разгрома.
Я взошел на вершину холма и там предался безудержному отчаянию, горюя даже не о пошатнувшемся троне, но о тех несчастных, что сложили головы по моей воле. Я не мог отделаться от одной мысли: если меня так подкосила смерть людей, павших за свои интересы, то как бы я должен был мучиться, заплатив их жизнями за собственную гордыню, тщеславие и жажду власти, по примеру рвущихся к владычеству князей!
Погоревав еще немного, я задумался, как поправить беду; я вспомнил, что в войске у меня много священников, что суеверие творит чудеса – и счастливая мысль пришла мне в голову: притвориться, будто мне было видение святого Иакова, обещавшего мне победу. Покуда я размышлял над этим, ко мне весьма кстати подошел епископ Нахарский. Поскольку я не собирался посвящать его в свой план, то сразу и начал приводить его в исполнение: не отвечая на расспросы епископа, я как бы продолжал беседовать со святым Иаковом, высказав ему все, что, на мой взгляд, полагалось сказать святому, потом громко поблагодарил за обещанную победу и лишь тогда, обернувшись, просветлел лицом и, обнимая епископа, повинился, что не заметил его; тут же поведав ему о будто бы посетившем меня видении, я поинтересовался, не видел ли и он святого. Епископ сказал, что видел, и принялся уверять меня в том, что явление святого Иакова стало возможным только благодаря его молитвам, поскольку тот его святой покровитель. Несколько часов назад, добавил он, ему тоже было видение: святой обещал победу над неверными и заодно сообщил о вакантной епархии в Толедо. Последнее оказалось правдой, но вакансия открылась недавно, и я о ней не знал (да и не мог знать, находясь за тридевять земель от Толедо), и когда позже это подтвердилось, мне сделалось не по себе, хотя я далеко не суеверен; но вот мне стало известно, что в последнем переходе епископ потерял трех лошадей, и все встало на свои места.
Наутро епископ по моей просьбе так расписал с кафедры видение, накануне дважды посетившее его, что в армию вселилась решимость, исполнившая ее несокрушимого духа; малейшее сомнение в успехе, наставлял епископ, есть недоверие к словам святого и смертный грех, и он его именем обещает им победу. Войско построилось к бою, и я, в подкрепление слов епископа применив хитрость, скоро пожал плоды его воодушевления: солдаты дрались как дьяволы. Хитрость же состояла вот в чем. При мне был разбитной малый, в свое время пособничавший в моих любовных делах; я одел его в диковинное платье, в одну руку дал белую хоругвь, в другую – красный крест, словом, изменил его внешность до неузнаваемости, потом посадил на белого коня и велел скакать к головному отряду с криком: «Вперед, за святым Иаковом!» Солдаты подхватили клич и с такой отвагой обрушились на неприятеля, что разбили его наголову, хотя наших было меньше[73].
К моменту, когда враг рассеялся, подоспел епископ с известием, что по дороге он встретил святого Иакова и донес ему об исходе сражения, а тот, добавил епископ, передал строгий наказ: выплатить епископу изрядную сумму за моления, ввести в пользу его храма определенный налог на хлеб и вино и, наконец, положить ему, святому, всадническое жалованье, получать которое он доверяет епископу и его преемникам. Солдаты с таким пылом одобрили эти притязания, что я был вынужден принять их, поскольку разоблачать обман мне было не с руки, да и решись я на это – мне бы просто не поверили.
Святой мне был уже не нужен, но епископ все не унимался; примерно неделю спустя в лесочке близ поля битвы заметили огоньки, а еще через некоторое время там обнаружили гробницу. По этому случаю епископ посетил меня и отвел на то место, говоря, что там нужно воздвигнуть храм и пожертвовать богатый вклад. Коротко говоря, этот добрый человек совершенно допек меня чудесами, и пришлось уламывать папу, чтоб его" перевели в Толедо, с глаз подальше.
Теперь скажу о другом. Один младший офицер, геройски сражавшийся против мавров и несколько раз раненный, просил о продвижении по службе, и я уже подобрал ему должность, как вдруг прибегает в страхе министр, говорит, что обещал это место сыну графа Альдередо и что отказ взбесит всесильного графа, поскольку тот уже затребовал сына из школы, дабы определить его в службу. Я поневоле согласился с доводами министра, но распорядился, чтобы он сам посодействовал инвалиду, и он заверил меня, что сделает это; я встретил беднягу здесь, в Элизиуме, и он рассказал, что его заморили голодом.
Нужно быть принцем и нужно умереть, чтобы открылись все те обманы, что творят фавориты и министры; часто принцам достается за чужие грехи. С давних пор томился в тюрьме граф Сальдани, и его сын Дон Бернардо дель Карпио, блестяще действовавший против мавров, молил меня из уважения к его заслугам освободить отца. Дело старого графа было кляузное, сын же показал себя с лучшей стороны, и я совсем расположился удовлетворить его просьбу, однако министры были решительно против. Моя честь, говорили они, не должна спускать бесчестья, нанесенного семье, и в требовании юноши слышна вовсе не мольба, но угроза. Стыд и срам платить такой ценой за ничтожество его заслуг. Удовлетворяя столь наглые домогания, монарх обнаружит бессилие и робость; в двух словах: отменить наказание, наложенное предшественниками, значит признать негодным их суд. В довершение кто-то шепнул мне, что весь их род враждебен династии. Этими доводами министры одолели меня. Отказ сокрушил юного лорда, он оставил двор и впал в отчаяние, а старик продолжал томиться в тюрьме. Позже выяснилось, что я через это лишился двух вернейших своих подданных.
Из-за происков министров, признаюсь, я имел превратное мнение о своем народе, предполагая в нем враждебность ко мне и мятежный дух, тогда как на деле, о чем я узнал после смерти, меня все чтили и уважали. Редкий государь избегнет козней, мешающих ему войти в прямые отношения с подданными, что сулят ему народную любовь, но зачастую губительны для министра, ибо у того на уме только свои собственные интересы. Сдается мне, что о самых важных событиях в моей жизни я вам рассказал – ведь и в жизни королей случается такое, о чем вовсе не обязательно распространяться. Далеко не все их мысли и домашние дела окружены державным ореолом, бывают такие положения, когда между голым королем и голым сапожником едва ли отыщется разница. Однако, не выкажи я неблагодарность Бернардо дель Карпио, это мое паломничество на землю могло стать последним; ведь я думал, Минос лопнет от смеха, слушая рассказ о святом Иакове, но история с графом настроила его против меня: нахмурившись, он крикнул: – Отправляйтесь-ка обратно, король! – И не пожелал меня больше слушать.
Глава XVIII Юлиан становится шутом
В следующее свое посещение земли я попал во Францию, где родился при дворе Людовика III и со временем удостоился чести стать шутом принца, прозванного Карлом Простоватым[74]. Впрочем, не скажу наверняка, к чему больше сводилась моя роль при дворе: самому ходить в дураках либо оставлять в дураках всех прочих. Ловкий и каверзный плут, я, конечно, не был тем шутом, каким его обычно представляют. Я превосходно видел глупость своего хозяина – и не только его – и умел пользоваться ею.
Карл Простоватый носился со мной, как Домициан с актером Парисом, и, как Парис, я на свой выбор раздавал должности и награды. Это привлекало ко мне многих придворных, искренне державших меня за дурака и, однако, превозносивших мое умение разбираться в людях. Один особенно выделялся: человек без чести и совести, без сердца и ума, трусливый мозгляк – словом, совершенный урод душой и телом, и притом коварнейшая тварь. Сей господин пожелал примкнуть к моей партии и с таким усердием курил фимиам моему здравомыслию, что я не в меру привязался к нему; казалось бы, с чего терять голову, если действительно имеешь качества, за которые тебя хвалят, но ведь в глазах всего двора я был только шут, пусть даже знающий себе цену, и его лесть была мне слаще меда. Естественно, я выхлопотал ему епархию, потеряв при этом подхалима: потом я доброго слова от него не услышал.
Я не смягчал выражений, отзываясь о вельможах и самом короле, чему свидетельством такая моя выходка: однажды его простецкое величество заметил мне, будто я-де забрал столько власти, что люди принимают меня за короля, а его самого – за моего шута. Я сделал вид, что взбешен. – В чем дело? – спросил король. – Плохо быть королем? – Нет, сэр, – ответил я, – плохо иметь такого шута.
Эбер, граф Вермандуа, моими стараниями вернул себе расположение Простака (так я обычно звал Карла), после чего, уломав короля, отобрал у графа Болдуина город Аррас и обменял его на Перонн, который ему уступил граф Альтмар. Болдуин явился ко двору хлопотать о возвращении своего города, но то ли из гордости, то ли по неведению пренебрег мною. Столкнувшись с ним во дворце, я сказал ему, что он пошел неверным путем; он отрезал, что не нуждается в советах дурака. Тогда я сказал, что понимаю его предвзятость, поскольку какой-то дурак уже навредил ему советами, и добавил, что в попутчики надо брать умных дураков. Он буркнул в ответ, что приехал налегке. – Эх, милорд, – сказал я, – я тоже часто езжу налегке, но при мне всегда моя глупость. – Кругом рассмеялись, и он дал мне оплеуху. Я нажаловался Простаку, и тот, резко выговорив ему, отрешил его от двора, так и не удовлетворив его ходатайство.
Приведенные примеры скорее свидетельствуют о моем влиянии при дворе и дерзости, нежели о моем остроумии; мои шутки не заслуживали того восхищения, какое им выпадало, потому что на деле я вовсе не был остроумцем, а был простым шутом. Но если вокруг бесчинствует одна грубость, то прослыть остряком довольно легко – особенно при дворе, где всякий ненавидит всякого и завидует ему, а строгий этикет велит выказывать горячую приязнь, и разумеется, всякий будет несказанно рад, когда кто-то третий посмеется над глупостью его приятеля. Вдобавок мнение двора одно на всех, как мода, и оно покорно воле принца или фаворита. Я нисколько не сомневаюсь в том, что при дворе Калигулы все, как один, считали его лошадь славным, толковым консулом. Точно так же меня объявили остроумнейшим из всех шутов. Любое мое слово возбуждало смех и сходило за острое словцо, особенно у дам, которые начинали смеяться, едва я открывал рот, и потом поворачивали мои слова в смешную сторону, хотя мне часто в голову не приходило шутить.
Дамам доставалось от меня наравне с мужчинами, и это сходило мне с рук, но лишь до поры до времени; однажды я подшутил над красотой некой Аделаиды, фаворитки Простака, и та вместе со всеми и вроде бы от души посмеялась шутке, а на самом деле обиделась насмерть и положила рассорить меня с королем. Она преуспела в этом (ибо чего не сделает фаворитка с человеком, которого заслуженно прозвали Простаком?), и с каждым днем король относился ко мне все суше, а когда я позволял себе кое-какие вольности, он выказывал такое недовольство, что придворные (а они особо приметливы, когда повелитель не в духе) вскоре смекнули, что к чему, и будь я настолько слеп, чтобы не понять по его переменившемуся обращению, что Простак лишил меня своих милостей, поведение придворных обнаружило бы это яснее ясного: еще пару дней назад моего общества искали, а теперь все чурались меня. Пажи и привратники глумились надо мной, гвардеец, которого я слегка задел, дал мне пощечину, наказав впредь фамильярничать с ровней себе. Над этим парнем я потешался много лет, и он не смел и подумать, чтобы поднять на меня руку.
Хотя я своими глазами видел, как переменился ко мне Простак, я не мог взять в толк, по какой причине. Меньше всего я мог подумать на Аделаиду: она была славная женщина, а главное, я то и дело подтрунивал над ее скандальной славой и не имел никаких оснований думать, что оскорбил ее. Тут-то я и понял, что женщина стерпит самое суровое порицание своим поступкам, но посягательства на свою красоту она не простит никогда; и Аделаида, уже не таясь, потребовала моего удаления – я, мол, и глуп, и совсем не забавен, и она-де не понимает, какой нужно иметь вкус, чтобы находить меня остроумным. И все повторяли ее слова, все соглашались с нею. Стоило мне теперь заговорить с кем-нибудь, как тот сразу принимал важный вид, и если прежде мне достаточно было раскрыть рот, чтобы все рассмеялись, то теперь я никакими силами не мог их рассмешить.
В таком положении были мои дела, когда я однажды явился в обществе без шутовского колпака. Простак, изредка еще заговаривавший со мной, спросил: – В чем дело, шут? – Сэр, – ответил я, – при дворе завелись другие дураки, и я не хочу выделяться. – Что ты несешь? – продолжал Простак. – С чего у нас завестись дуракам? – Ах, сэр, – отвечал я, – даже ваше величество иные дамы выставляют дураком каждый божий день. – Простак оставил без внимания мою выходку, но раздались голоса, что за дерзость следовало бы пересчитать мне ребра; зато королеве пришлась по вкусу моя проделка, и, зная, что своей опалой я обязан ненавистной ей Аделаиде, она забрала меня к себе, и я стал шутом при ее дворе, и так же меня почитали и превозносили мое остроумие, как прежде, в окружении короля. Правда, власть королевы распространялась только на ее челядь, и лести, взяток и подарков мне доставалось меньше против прежнего.
Впрочем, и эти скромные лавры я вкушал недолго: веселье было не в характере королевы, и мои проказы ей скоро надоели; забыв, ради чего она взяла меня к себе, она перестала меня замечать, а там и двор от меня отвернулся, и я умер, надорвав свое сердце.
От души посмеявшись кое-чему в моем рассказе, Минос отправил меня обратно, сказав, что в Элизиуме шутам делать нечего.
Глава XIX Юлиан выступает в роли нищего[75]
Я вернулся в Рим, где и родился в большой бедняцкой семье, которая, не стану от вас скрывать, жила подаянием. Кто сам не побирался, тот вряд ли знает, что это такое же ремесло, как всякое другое, со своим уставом и своими секретами, или хитростями, выучиться которым так же маятно, как всякому мастерству.
Перво-наперво нас учат делать жалостное лицо. Кое-кому тут очень пособляет природа, однако добиться успеха может всякий, если возьмется за ум в раннем возрасте, пока мышцы еще сохраняют подвижность.
Следующая ступень – жалобный голос. В этом навыке участие природы также обещает блестящие результаты, однако и тут искусство, помноженное на трудолюбие и рвение, творит чудеса даже при отсутствии способностей: главное, надо начинать сызмала.
Я назвал важнейшие предметы, но остается еще множество других. Женщин дополнительно натаскивают искусству плача, другими словами, умению пустить слезу по любому поводу, и многие играючи справляютсся с этим заданием. Иные женщины с поразительной легкостью делаются виртуозами в этом искусстве. Сравнительно с другими занятиями ремесло нищего требует глубокого постижения человеческой природы. Обширнейшая осведомленность нищего в людских страстях не раз наводила меня на мысль о том, что государственному мужу было бы небесполезно проходить у нас выучку. Их сходство вообще поразительно, поскольку и тот и другой, придерживаясь одних правил, делают одно дело: водят за нос род людской. Надо, впрочем, признать, что их жульнические барыши весьма различны: если нищий довольствуется малым, то государственный муж мало что оставляет после себя.
Один очень великий английский философ[76], имея в виду наш промысел, остерегал обидеть человека более низким званием, нежели то, на какое он претендует. Того же мнения держался мой отец. Помню, мальчиком увидев папу римского, я увязался за ним, канюча: – Подайте Христа ради, сэр! Подайте ради господа бога, сэр! – А он выбранил меня в ответ: – Вас следует выпороть, сэр, чтоб не трепали имя божие всуе. – И впрямь, всуе было мое старание, ибо он ничего мне не дал. Отец же, слыша его слова, внял совету и примерно выпорол меня. Под розгой я клялся никогда больше не поминать имя божие всуе. Отец на это сказал: – Я не потому наказываю тебя, что ты всуе помянул его имя, а потому, что ты не назвал папу его святейшеством.
Если бы добрым людям достало ума последовать примеру своих пастырей, нищие давно повывелись бы: всего дважды на моей памяти слуги божьи подали мне на бедность. Один раз это был здоровяк, давший мне серебряную монетку со словами, что себе он оставил и того меньше; другой был новоиспеченный священник в щеголеватой сутане. – Подайте, ваше преподобие, сэр, – просил я, – уважьте свой сан. – Я уважаю мой сан, дитя, – отвечал он. – Дай бог каждому так. – И, бросив мне жалкие гроши, с важным видом прошествовал дальше.
К женщинам я обыкновенно обращался так: – Храни вас господь, прекрасная госпожа, храни господь вашу красоту! – И обыкновенно это имело успех тем вернее, заметил я, чем дурнее собой была женщина.
Мы вывели одно безошибочное правило: чем пышнее выезд, тем беднее пожива, и наоборот, если в коляске с хозяином один слуга, а то и никого, – удача, считай, в руках, оплошать почти не случалось.
По нашим наблюдениям, в разных обстоятельствах человек до неузнаваемости меняется: он может расщедриться, проигравшись в карты, а при выигрыше не оторвет от сердца и гроша. Можно смело просить у адвоката, когда он едет из сельской глуши к своим клиентам в Рим, у врача, когда он идет проведать своих больных; и эти же самые люди, сделав свои дела, превращаются в неприкасаемых, как мы их звали между собой.
Ходячим и, пожалуй, самым верным у нас было такое правило: кто меньше имеет, тот охотнее подает. Поэтому умение отличить богатого от бедного составляет основу основ нищенской науки, и вроде бы вся задача в том, чтобы увидеть, где суть, а где видимость, но дело это требует хорошей сноровки и сугубого внимания, поскольку и бедняк и богач испокон веку совершенствуются в притворстве, выдавая себя один за другого. При этом бедняк, пуская вам пыль в глаза, ломает комедию всерьез, а богач, даже являя своим видом саму убогость, не расстанется с каким-нибудь приметным знаком своего состояния. Его рубище, к примеру, не стоит ломаного гроша, зато палец украшен дорогим перстнем либо в кармане тикают золотые часы. Своей напускной бедностью он словно хочет вас унизить, а вовсе не расположить к себе. Напротив, бедняк искренен в стремлении сойти за богатого, но из-за несдержанности переигрывает и выдает себя – так, не рассчитав своих сил, обыкновенно напиваются до зеленого змия. Ему бы взять в дорогу одного слугу на хорошей лошади, а он берет двух, и, поскольку купить или нанять еще одну добрую лошадь ему не по карману, по крайней мере один из слуг трясется на кляче. Одеваться просто и опрятно ему мало, он нацепляет на себя пошлые украшения, и чем роскошнее его верхнее платье, тем дряннее нижнее белье. Не умножая примеров, рискну высказать неоспоримую истину: если кто-то пытается ослепить вас блеском своего наряда или выезда, знайте, что это не свой, а заемный блеск. А если человек живет не по средствам, то лишние траты его не смущают, и достаточно польстить его богатству и великолепию, чтобы наверняка получить подачку.
Есть, впрочем, разряд богатых людей, обычно весьма щедрых: на них, только что едва сводивших концы с концами, богатство сваливается как снег на голову, и если они не станут заправскими скупцами, то, как правило, начинают проматывать это состояние. Я знал одного: получив значительную сумму денег, он отвалил мне целый талант, хотя я просил всего один обол; приятель пожурил его, а он огрызнулся: – Почему не дать? Ведь у меня осталось еще пятьдесят.
Если бы люди ценили вещи по их содержанию, а не по обманчивой наружности, то жизнь нищего, возможно, была бы завиднее любого состояния, которого мы домогаемся в угоду честолюбию, не щадя сил, с опасностью для себя и часто ценой преступления. Вообще говоря, бедный нищий – это такая же выдумка, как богатый дворянин; ибо за вычетом людей высокомерных, которых толковый нищий всегда приберет к рукам, остается очень мало настолько ожесточенных натур, что не способны сочувствовать нищете и горю, когда собственные страсти не поглощают их целиком.
У легко доставшихся денег – счастливая участь: они не ложатся в чулок; в противном случае, при наших возможностях разбогатеть, стяжательский зуд отравлял бы нам жизнь, как всем прочим; у нас же деньги не задерживаются, хотя в семье не без урода; деньги несут нам радость, а не треволнения. От безмятежной жизни все болезни, но нас бог милует – мы целый день на ногах. Тогда и лакомый кусок впрок, и ленивый жирок не нарастает. С женщинами мы вкушаем те же наслаждения, что и самый набольший вельможа. Про себя с уверенностью скажу, что никакой смертный не познал в любви такого полного счастья, каким одарила меня судьба. Я по любви женился на очаровательной девушке, дочери соседа-нищего; как у многих, деньги у него не держались, он растратил почти все, что приобрел своими трудами, и по смерти отца ей ничего не осталось наличными, а остались его лачужка на бойком месте, на склоне холма, откуда виден всякий проезжающий, и ухоженный садик площадью 1/28 акра. Она стала мне прекрасной женой, родила девятнадцать детей и, не считая трех дней в постели после родов, всегда успевала с ужином к моему приходу, а это была моя любимая трапеза, на которую сходилось все веселое семейство; за столом обычно обсуждали дневные трофеи, смеялись над глупостью дарителей (какое застолье без шутки?); ведь каковы бы ни были их побуждения, мы неизменно приписывали успех своему умению подольститься к ним либо перехитрить их.
Впрочем, я слишком затянул рассказ о своем нищенском поприще, в заключение скажу только, что прожил 102 года, не зная хвори и немощи, а затем по стариковскому обычаю и без мучений угас, как догоревшая свеча.
Выслушав мою повесть, Минос велел по возможности прикинуть, сколько раз я солгал за свою жизнь. Поскольку здесь нам вменено в обязанность держаться истины, я ответил, что солгал я, по-видимому, около 50 миллионов раз. Нахмурившись, он сказал: – И такой негодяй смеет надеяться войти в Элизиум?! – Я немедля отправился обратно, радуясь уже тому, что он меня больше не окликнул.
Глава XX Юлиан в роли государственного мужа[77]
На сей раз судьба дала мне в матери немецкую принцессу, но акушер, принимая роды, свернул мне шею и безвременно прикончил принца.
Если дух не доживает до пяти лет, его незамедлительно отправляют в другое лоно, вот и мне выпало несколько раз побывать младенцем, отдаляя встречу с Миносом.
Наконец судьба снова доверила мне сыграть важную роль. Я родился в Англии, в царствование Этельдреда II. Моим отцом был Улнот, граф, или тан, Суссекс, я же под именем графа Годвина займу видное положение при Харолде Заячья Нога, который не без моей помощи стал королем Уэссекса, или западных саксов, ущемив права Хардиканута; мать Хардиканута, Эмма, пыталась посадить на трон другого своего сына, но я ее перехитрил, открыв ее замысел королю и предложив план, как покончить с этими двумя принцами. С позволенья короля, обманутого ее набожностью и мнимым безразличием к мирским заботам, Эмма послала за сыновьями в Нормандию; я же убедил Харолда пригласить обоих принцев ко двору и убить их. Осторожная мать отпустила одного Альфреда, удержав при себе Эдуарда: ожидая от меня только худа для своих сыновей, она все же надеялась, что одного я не трону, если другой остается на свободе; но ее постигло разочарование: заполучив Альфреда, я добился, чтобы его отправили в Или, ослепили там и заточили в монастырь.
Подобные жестокие меры великие люди всегда оправдывают ссылкой на интересы своего государя, а государь – тот всегда потакает их властолюбию.
Оставшийся с матерью Эдуард бежал в Нормандию и после смерти Харолда и Хардиканута не постеснялся просить у меня защиты и покровительства, хотя еще недавно дышал мщением за убитого брата; но на пороге великих свершений личная корысть смиряется перед общей пользой. Выговорив для себя выгоднейшие условия, я также не постеснялся оказать ему содействие и скоро посадил его на трон. Меня ничуть не пугало, что он затаил на меня злобу: одолеть меня ему было не под силу.
В числе оговоренных условий была его женитьба на моей дочери Эдите. На это он пошел с великой неохотой, да и у меня потом не было причин для радости, поскольку любимейшая дочь до того зазналась, что, забыв об уважении к отцу, не принимала никаких советов, заявляя, что она-де королева и что у меня не больше прав на нее, чем у любого ее подданного. От такого обращения, впрочем, я не перестал ее любить и не стал меньше болеть за нее, когда, Эдуард удалил ее от ложа.
Когда я склонялся к тому, чтобы поддержать притязания Эдуарда, одно обстоятельство решило дело: принц был человек простоватый, слабый, и при нем я надеялся иметь неограниченную власть, хоть и под чужим именем. И мой расчет оправдался: в его царствование я был безраздельным властителем, королем без регалий, все прошения и назначения проходили через меня, и, стало быть, полнилась моя казна, тешилось честолюбие, и суетная душа упивалась раболепством; радостно было видеть, как, отвесив королю поклон, передо мной люди только что не падают ниц.
Эдуард Исповедник, или святой Эдуард, как его кличут, надо полагать, в насмешку, был недалеким человеком и имел все недостатки, положенные дуракам. Боясь обидеть меня отказом, он женился на моей Эдите, но из ненависти ко мне не стал с ней жить, хотя красивее ее не было девушки. Он и собственной матери за ее старание еще мальчишкой посадить его на трон заплатил черной неблагодарностью (кто он после, как не дурак?): взял и упек старуху в тюрьму. Что он сделал это по моему совету – это правда, но совершенная неправда, что она прошла по девяти раскаленным лемехам и отдала девять поместий, когда у нее и одного-то не было.
Впервые я попал в передрягу по милости моего сына Свейна, лишившего чести аббатису Леонскую (теперь это Леоминстер в Херефордшире). Сотворив это, он бежал в Данию и оттуда просил меня добиваться помилования. Сначала король отказал, подученный, как я потом выяснил, церковниками, в особенности же своим капелланом, которого я не пустил в епископы. Тогда мой сын Свейн с несколькими кораблями вторгся на побережье и учинил неслыханный разбой, чем и добился своего, поскольку теперь я смог играть на страхе короля, а страх, я давно знал, был его основным свойством. И, не простив ему первый проступок, король был вынужден помиловать его после куда более страшных преступлений, не посчитавшись с потерпевшими и вызвав всеобщее осуждение.
Благоволя к норманнам, король сделал норманна архиепископом Кентерберийским[78], осыпал его милостями. Против этого человека у меня было одно-единственное возражение: что он выдвинулся без моего участия, а такого рода неприязнь может оказаться роковой для вызвавших ее, когда у кормила власти стоят могущественные фавориты, ибо выдвинувшиеся помимо нас внушают подозрительность и страх. Когда мы протежируем своему человеку, мы всеми силами стараемся удержать его в своей власти, дабы в любую минуту вернуть его в прежнее состояние, если он вздумает действовать вопреки нашей воле; по этой же причине даже близко не подойдет к государю тот, в ком у нас нет уверенности, что он не пробьется к его сердцу и не расположит его в свою пользу; никакой премьер-министр, я думаю, не чувствует себя в безопасности, если кто-то еще пользуется доверенностью государя, которого все ревнуют друг к другу, как горячо любимую жену. Поэтому всякий, имеющий к нему доступ независимо от нас, есть заведомый враг, которого благоразумно сразу же уничтожить. Ведь любовь королей переменчива, как женская, и удержать ее можно тем же способом: удалив соперников.
Архиепископ недолго держал меня в неопределенности и скоро дал неопровержимое свидетельство королевского к нему благоволения, определив на более или менее важную должность некоего Ролло, худородного римлянина с весьма посредственными способностями. Когда я указал королю, что болвану слишком много чести в таком назначении, он ответил, что тот доводится родней архиепископу. – В таком случае, сэр, – ответил я, – он в родстве с вашим врагом. – Больше мы к этой теме не возвращались, но из дальнейшего поведения архиепископа я понял, что король посвятил его в наш приватный разговор, а из этого следовало, что он доверенное лицо, а мной пренебрегают.
Вернуть утраченное расположение государя можно лишь в том случае, если вы дадите ему основание бояться вас. Мне было совершенно ясно, что я уже не пользуюсь у короля доверием, которое началось от страха и на страхе держалось, и чтобы вернуть его, я решил действовать также страхом.
Приезд к королю графа Булонского представил мне случай открыто взбунтоваться; собираясь назад во Францию, граф выслал вперед слугу снять в Дувре помещение, тот приглядел дом, но хозяин не соглашался, и случилась драка, в которой слугу убили на месте, и сам граф, вскоре после того пожаловавший, едва избежал смерти. Вне себя от обиды, граф вернулся к королю в Глостер, нажаловался ему и потребовал удовлетворения. Эдуард внял его просьбе и, раз это случилось в моем графстве, велел мне покарать мятежников; я же, пропустив его слова мимо ушей, с горячностью отвечал, что у англичан не принято наказывать человека, не выслушав его, и что нам негоже попирать их права и привилегии; что обвиняемых надо прежде допросить, и виновные пусть ответят личностью и имуществом, а невиновных надо будет отпустить. Долг графа Кентского, добавил я с угрозой, обязывает меня защищать моих подопечных от обид, чинимых иностранцами.
Это событие было для меня чрезвычайно кстати, поскольку моя размолвка с королем обернулась заботой о народе, снискав мне широкую поддержку, и когда я вскоре встал мятежом, все охотно и радостно пришли под мои знамена, поверив, что они отстаивают не мои, а свои кровные интересы, что я-де обнажил свой меч, защищая их от иностранцев. Слово «иностранцы» вообще преображает англичан, испытывающих к ним ненависть и отвращение, внушенные зверствами датчан и иных чужеземцев. Поэтому не странно, что они поддержали мое выступление, имевшее такой случайный повод.
Удивительно другое: когда я позже вернулся в Англию изгнанником, ведя за собой фламандские полки, в мыслях своих уже грабившие Лондон, я точно так же уверял, что пришел защитить англичан от иноземной угрозы, – и мне поверили. Поистине, доверившись своим защитникам и покровителям, люди стерпят любую ложь.
Король спас город, примирившись со мной и снова поладив с моей дочерью; укротив его страхом, я распустил армию и флот, которые при неудачном исходе дела разграбили бы Лондон и опустошили всю страну.
Вернув расположение короля, собственно, одну видимость его, что меня вполне устраивало, я обрушился на архиепископа. Он уж сам бежал в свой _монастырь в Нормандии, но мне этого было мало: я добился, чтобы его огласили изгнанником, а епархию объявили вакантной и потом посадили туда другого.
Очень недолгое время суждено мне было наслаждаться вновь обретенным могуществом: ненавидевший и больше смерти боявшийся меня король, не имея средства в открытую разделаться со мной, прибегнул к яду, а потом распространил нелепую историю, что я-де пожелал себе поперхнуться, если хоть в малой степени причастен к смерти Альфреда, и что божьим произволением кусок застрял-таки у меня в горле и казнил смертью.
Поприще государственного мужа было из худших, что я прошел в другой жизни. На этой должности каждый день был тревожным и опасным, а радости наперечет и еще меньше спокойных минут. Одним словом, не позолоти честолюбие эту пилюлю, все увидели бы, какая это дрянь, и потому, наверное, Минос от всей души сочувствовал тем, кто был вынужден проглотить ее: этот справедливый судья признался мне, что всегда оправдает премьер-министра за одно-единственное доброе дело, хотя бы вся его жизнь была чередой преступлений. Усмотрев в его словах благоприятный для меня смысл, я уже шагнул к вратам, но он ухватил меня за рукав и сказал, что покуда ни один премьер-министр не переступил этого порога, и велел мне отправляться обратно и благодарить судьбу, избавившую меня от преисподней, для которой достанет и половины моих преступлений, соверши я их в любом другом состоянии.
Глава XXI Приключения Юлиана в солдатском звании[79]
Я родился в Кане, в Нормандии. Мою мать звали Матильдой, об отце же знаю много меньше: на смертном одре эта добрая женщина, нетвердо припоминая, назвала имена пятерых капитанов герцога Вильгельма. В какие-нибудь 13 лет, будучи на удивление смелым парнем, я записался в армию герцога Вильгельма, впоследствии известного под именем Вильгельма Завоевателя, высадился с ним в Пемиси (теперь это Пемси в Суссексе) и участвовал в знаменитой битве при Гастингсе.
Не могу передать, какого страха я натерпелся в начале боя, особенно когда рухнули наземь двое ближайших ко мне солдат; потом обвыкся, кровь вскипела, и, не щадя живота, я ринулся на неприятеля, круша налево и направо, покуда злосчастная рана в бедро не уложила меня заодно с мертвыми под ноги своим и врагам; благодарение богу, меня не затоптали, и остаток дня и целую ночь я пролежал на земле.
Наутро герцог прислал за ранеными, и меня, истекающего кровью и еле живого, наконец перевязали; молодость и крепкий организм тоже выручили, и, долго и тяжело проболев, я поднялся на ноги и смог вернуться в строй.
Когда взяли Дувр, меня перевезли туда вместе с другими больными и ранеными. Рана моя зажила, зато открылся кровавый понос, после которого я совсем ослаб и долго шел на поправку. И что обиднее всего: каждый божий день уцелевшие однополчане шумно праздновали и гуляли, а я погибал в лазарете от хвори и голода.
Но вот я поправился, и меня определили в гарнизон, стоявший в Дуврском замке. Там и офицерам приходилось несладко, а про солдат нечего говорить. Провизии не хватало, и еще того хуже – места не хватало, спали почетверо на охапке соломы, и люди мерли как мухи.
Я тянул лямку уже четвертый месяц, как вдруг нас поднимают ночью по тревоге: из Франции скрытно подобрался граф Булонский, собираясь врасплох напасть на замок. Только не вышло у него: мы произвели смелую вылазку и многих сбросили в море, а с уцелевшими граф убрался во Францию. Из этого дела я вышел с перебитой, искалеченной рукой, лечить которую была мука мученическая, да еще потом она целых три месяца висела как плеть.
Поправившись, я закрутил любовь с одной девицей; она жила недалеко от замка, семья была зажиточная, и я даже не надеялся, что родители благословят наш брак. Но уж так она меня полюбила (и так я не мог на нее надышаться), что они рассудили посчитаться с ее желанием. Назначили день свадьбы.
А накануне вечером, когда я уже предвкушал близкое счастье, пришел приказ наутро выступить в поход: идти к Виндзору, где собиралась большая армия, которую сам король поведет на запад. Любившие поймут, что я перечувствовал, получив такой приказ, а в довершение моих мук командир запретил в тот вечер отлучаться из гарнизона, и я даже не смог попрощаться с моей милой.
Наступило утро, сулившее исполнение моих желаний, но увы! – перед глазами была другая картина, и взлелеянные надежды искушали и терзали мое сердце.
Наш долгий и мучительный переход завершался в разгар небывало суровой зимы, холода и голода мы натерпелись через край. Свалившись наземь на привале, я лежал в обнимку с трескучим морозом, и это в такую ночь, когда мне полагалось быть в жарких объятиях моей возлюбленной; даже забыться сном не получалось, точно я был от него заговоренный. Не приведи бог кому пережить такое! Та ночь перевернула мне всю душу, я должен был трижды окунуться в Лету, чтобы память о ней не отягощала судеб, которые я потом проживал на земле.
В этом месте я впервые прервал Юлиана, сказав, что сам почему-то никуда не окунался, когда переходил с одного света в другой; он объяснил: – Это делают лишь с теми духами, что заново воплощаются, дабы истребить воспоминания, о коих говорит Платон, иначе все на свете перепутается. – И он продолжал свой рассказ.
– Одолевая неимоверные трудности, мы держали путь к Эксетеру, который было велено осадить. Город скоро сдался, и его величество выстроил в нем замок, в котором поставил гарнизон из норманнов; и надо же случиться такому горю, что меня назначили в этот самый гарнизон.
Тут мы размещались еще скученнее, чем в Дувре, потому что население было неспокойно и мы не отлучались из замка, а если рисковали выйти, то лишь большой группой. Мы несли службу днем и ночью, и никакими силами нельзя было вымолить у командира месячный отпуск и проведать любимую, от которой за все это время я не имел ни единой весточки.
Но к весне народ поутих, командира сменил более душевный офицер, и я наконец получил отпуск в Дувр. Увы, что нашел я в конце своего долгого пути! Я нашел ее неутешных родителей: всего неделю не дождавшись меня, она умерла от чахотки, чему виной, по их мнению, было мое внезапное исчезновение.
Я впал в исступленное, близкое к помешательству отчаяние. Проклинал себя, короля и весь свет, в котором для меня не было больше радости. Бросившись на могилу, где покоилась моя любовь, я целых два дня пролежал без единой крошки во рту. Потом голод и жалостливые уговоры заставили меня сойти с могилы и подкрепиться. Меня убеждали вернуться к своим солдатским делам, оставить место, где чуть ли не все пробуждало воспоминания, а мне, говорили, от них надо теперь избавляться. И я послушался, тем более что мать и отец моей милой не пускали меня на глаза: для них я был хоть и невиноватый, но все же виновник смерти их единственного дитяти.
Нет горше и злее напасти в жизни, чем потерять любимого человека, ведь от нее не помогает и средство, которое облегчит и смягчит всякое другое горе: этот великий утешитель – надежда. Самый конченый человек и тот еще лелеет надежду; а смерть не дает нам этого утешения, заглушить чувство потери может одно только время. И правда, очень многие сердца оно не сразу, но верно исцеляет, как это было со мной: не прошло и года, как я совершенно смирился со своей судьбой, а потом и вовсе забыл предмет страсти, от которого я ждал столько счастья для себя, а обманувшись, изведал столько горя.
Едва я вернулся после отпуска в свой гарнизон, как нас послали на север против мятежного ополчения графа Честерского и графа Нортумберлендского. Вступив в Йорк, его величество простил возбудителей мятежа и жестоко расправился с его подневольными участниками. Вечное мое невезение: мне приказали схватить одного бедняка (а он просидел смуту дома) и доставить в тюрьму. Такая жестокость была мне не по нутру, но приказ я выполнил, и выполнил без колебаний, не тронутый слезами жены и всего семейства, хотя по своей воле ни за какую плату не взялся бы за такое дело: для солдата распоряжение монарха либо генерала есть непреложный закон.
Это был первый и последний раз, когда даже малое зло, несравнимое с другими моими злодеяниями, я творил с тяжелой душой; потом король повел нас в Нортумберленд, где тамошний люд пристал к вторгшемуся Осборну Датчанину, и был приказ пощады не знать, исполняя который я особенно отличился; с болью вспоминаю, как изнасиловал женщину, убил дитя, игравшее у нее на коленях, и спалил дом, а были зверства и почище. Чтобы не ворошить былое, скажу только, что на все шестьдесят миль между Йорком и Даремом не осталось ни одного дома, ни единой церкви – одно пепелище.
Разорив весь край, мы двинулись к Или, где строптивый и храбрый воин Хереворд стал во главе орды бунтовщиков, дерзнувших защищать от короля и завоевателя (это мои тогдашние слова) какие-то свои привилегии. С бунтовщиками мы разделались скоро, но меня угораздило попасть в герои, оказавшись в месте, где пробивался сам Хереворд, и мне раскроили голову, ранили в плечо и насквозь проткнули копьем.
От этих ран я слег надолго, даже не ходил в шотландский поход[80], но успел оправиться к норманнскому, против Филиппа, который воспользовался волнениями в Англии и вторгся в наш отчий край. Из норманнов вернулись лишь те немногие, что выжили после ран и оставались в Или, а вообще войско было английским. В схватке близ города Менс мне так изуродовали ногу, что пришлось ее отнять.
Для ратной службы я стал непригоден, и меня от нее отстранили; я вернулся в родной город и, бедствуя и маясь старыми ранами, кое-как протянул до шестидесяти трех лет; сильно приукрашенные рассказы о лихой молодости были моей единственной отрадой.
Не стану утомлять вас тягостными подробностями моей жизни в Кане, достаточно сказать, что они проняли даже Миноса, который спустил мне мои зверства в Нортумберленде и позволил еще раз вернуться на землю.
Глава XXII Житье-бытье Юлиана в качестве портного
Теперь судьбе было угодно явить меня в роли, над которой люди из неблагодарности посмеиваются, хотя обязаны этому роду занятий не только защитой от мороза, перед которым сами по себе они беззащитны, но и немалым удовлетворением своего тщеславия. Я имею в виду портновское занятие, при внимательном рассмотрении заслуживающее названия почтенного и важного. В самом деле, кто, как не портной, ставит каждого на свое место? Государь жалует званье, это так, но былью его делает портной. Его стараниями покупаются и уважение толпы, и восторг тех, кто лицезреет великих мужей, хотя эти чувства сплошь и рядом незаслуженно приписывают иным побуждениям. Наконец, восхищение прекрасным полом почти всегда следует поставить в заслугу портному.
Я начал собственное дело с того, что сшил три превосходных мужских костюма по случаю коронации короля Стефана[81]. Сомневаюсь, чтобы носящего богатое платье так же радовали и ублажали знаки восхищения, как они радуют нас, портных; философ, верно, заметит, что вряд ли тот и заслужил это восхищение. Продираясь сквозь толпу в день коронации, я с невыразимой радостью ловил толки о моих костюмах: – Ей-богу, нет ничего краше графа Девонширского! В жизни не видел /столь превосходно одетых господ, как граф и сэр Хью Бигот. – А ведь оба эти костюма вышли из моих рук.
Обшивать придворных, людей, как правило, со вкусом, умеющих выигрышно показать вещь, – одно удовольствие, когда бы не досадная мелочь: они не платят за работу. Торжественно заявляю, что, потеряв при дворе за свой век почти столько же, сколько я заработал в городе, я все же охотнее выполнял те заказы, чем эти, хотя здесь наверняка получал наличные, а там почти наверняка не получал ничего.
Придворные, впрочем, делятся на два разряда, в корне отличных друг от друга: одни даже не думают платить, другие подумывают об этом, но всегда сидят без денег. Во втором разряде оказывается немало молодых людей, которых мы экипируем, а они потом, на наше горе, складывают головы, не дождавшись следующего чина. Поэтому-то в военное время портного легко спутать с политиком – так дотошливо вникает он в исход сражений; ведь всего одна кампания, случалось, пускала по миру немало нашего брата. Уж наверное не один раз помянул я недобрым словом роковое сражение под Кардиганом, где валлийцы разбили отборные войска короля Стефана и множество моих превосходных костюмов улеглось на землю неоплаченными[82].
В будущие времена мои почтенные коллеги устроят себе куда более легкую жизнь; положим, есть опасение, что заказчик находится в стесненных обстоятельствах, так нынче порядок такой: если тот сразу не платит за принесенный ему костюм, то стоимость вещи записывается ему в долг, и с требованием денег к франту явится уже некий джентльмен с клочком пергаментной бумаги; если он и по бумаге не станет платить, то джентльмен отведет франта к себе на квартиру и будет держать под замком до тех пор, пока портной не будет удовлетворен в своих правах. А в мое время мы не знали никаких пергаментных бумажек, и если франт, как частенько случалось, не желал платить за свой гардероб, то заставить его не было никакой возможности.
Рассказывая вам истории моих героев, я, наверное, порой увлекался и обнаруживал чувства, владевшие мною в ту пору, когда я жил за них на земле. Вот и сейчас: я жаловался вам на заказчиков с той же обидой, какую чувствовал к ним, будучи портным; но все-таки их было немного, неплательщиков, – горстка очень важных господ и еще кое-кто, а главное, я нашел способ возмещать потери. Своих заказчиков я делил на три категории: одни платили наличными, другие платили не сразу, третьи не платили вообще. Первые были особь статья: с них я имел пусть скромный, но верный доход. Вторая и третья категории шли у меня заодно: платившие не сразу с грехом пополам покрывали убыток от не плативших вообще. На круг я не так уж много терял и мог оставить семье целое состояние, если бы не безудержные траты, поглощавшие весь мой достаток. Жену и двоих детей я держал в черном теле, только что не впроголодь, зато холил свою любовницу, купил ей загородный дом в красивом месте на Темзе, скромно и со вкусом обставленный. Эту женщину можно в полном смысле слова назвать моей владычицей: целиком завися от меня, она помыкала мной так, словно я был прикован к ней поистине рабскими цепями. Не то чтобы я потерял голову от ее красоты, весьма умеренной к тому же, и поэтому во всем потакал ей: меня покорили ее ухватки, умело и кстати пускаемые в ход в часы приятного досуга, а этим, я убежден, дорожит всякий любовник.
Она была такой мотовкой, словно задалась целью разорить меня; в самом деле, задайся она такой целью, вернее средства не придумать, и я, со своей стороны, как бы подтверждал это: помимо расточительной любовницы и загородного дома, я еще держал свору борзых, больше подражая светским людям, нежели из любви к охоте, на которую я выбирался очень редко, хотя свободного времени у меня было побольше, чем у иных дворян. Ведь единственное, чем я себя обременял, это снять мерку, и то лишь с самых именитых и выгодных заказчиков. Я, может, только раз-другой за всю жизнь взял ножницы в руки и почти так же был неспособен скроить камзол, как всякий джентльмен. Без умелого слуги я бы пропал. А он смекнул, что я заранее согласен на любые его условия и стерплю любое обращение, смекнул, что ему легче найти другого портного вроде меня, чем мне обзавестись таким же работником, и потому тиранил меня самым гнусным образом, постоянно дерзил; все было не по нему, даже мое бесконечное терпение вкупе с подарками и прибавлением жалованья. Одним словом, он забрал надо мной такую же власть, какую имеет честолюбивый и ловкий премьер-министр при ленивом сластолюбце короле. Мои собственные подмастерья оказывали ему больше уважения, чем мне, полагая, что моя приязнь обеспечена, если заручиться его добрым отношением.
Таковы наиболее примечательные события моей портновской жизни. Немного поколебавшись, Минос отправил меня в обратный путь, даже не объявив причины.
Глава XXIII Жизнь Юлиана-олдермена
Я снова попал в Англию и родился в Лондоне. Мой отец был мировым судьей. Из его одиннадцати детей я был старший. Необыкновенно удачливый в делах, он нажил огромное состояние, но, обремененный многочисленным семейством, не мог после себя обеспечить мне безбедное праздное существование. Посему меня отдали в учение к торговцу рыбой, в каковом качестве я потом составлю себе также порядочное состояние.
Одна и та же душевная склонность называется честолюбием у государя и духом противоречия – у его подданных. Этим-то духом я и был заражен сызмала. Совсем мальчиком я горой стоял за принца Джона, когда его брат Ричард пропадал сначала на священной войне, а потом в плену[83]. А в двадцать один год я уже заделался публичным оратором, смущал и будоражил народ. Для этой роли у меня были решительно все данные: речь без запинки, напевное произношение, приятная дикция, а главное, напористая самонадеянность, и вскоре я стяжал некоторую известность у городской молодежи и некоторых зрелых мужей с нетвердыми и близорукими взглядами. Этот успех вкупе с моим прирожденным тщеславием исполнил меня непомерной гордыней и высокомерием. Я вообразил себя влиятельным лицом и стал пренебрегать людьми, превосходившими меня во всех отношениях.
В ту пору в Йоркшире вошли в силу известный Робин Гуд[84] и его приятель Маленький Джон. По своему почину я написал Робину Гуду письмо, где от имени города приглашал его приехать, выставляя ручательством доброго приема мой большой вес и значение, а также расположение к нему подученных мной горожан. Не знаю, дошло до него это письмо или нет: ответа я так и не получил.
Некоторое время спустя в городе шумно объявился некто Уильям Фиц-Осборн, или Уильям Длиннобородый, как его величали. Это был смелый и дерзкий парень, он коноводил чернью, внушив ей, что тоже выступает против богатых. Я взял его сторону и выступил с речью в его поддержку, объявив его патриотом и рьяным защитником свободы; однако благодарности за эту услугу я от него не дождался. И все равно я держал его сторону, рассчитывая прибрать его к рукам, покуда его не остановил силой оружия архиепископ Кентерберийский: его схватили в церкви на Бау-стрит, где он укрывался, и с девятью сообщниками повесили.
Я сам едва уцелел – меня, как всех, схватили в той самой церкви, и, поскольку я был весьма основательно замешан в беспорядках, архиепископ подумывал разделаться со мной; меня спасли заслуги отца, в свое время передавшего королеве Элеоноре порядочную сумму на выкуп короля из плена.
Натерпевшись страху, я приутих и с чрезвычайным усердием занялся делом. Я изыскивал все новые средства поднять цены на рыбу и откупить как можно больше улова. Составив таким образом состояние, я приобрел некоторое влияние в городе, хотя далеко не то, каким я еще недавно гордился, а ведь у меня тогда ветер свистел в кармане, в торговых же делах без денег в силу не войдешь.
Не зря было сказано, что поход Александра в Азию и выход борца на лужок имеют один корень – честолюбие, неугомонное, как ртуть, – вот и я, наделенный им в той же мере, что и горячие герои древности, также не находил себе места, тяготясь покоем и тишью. Для начала я постарался сесть председателем в своем товариществе, только что учрежденном по указу Ричарда I, a позже добился избрания олдерменом.
Для подданного с моим характером единственное средство заявить о себе дает оппозиция, и потому, едва король Джон оказался на троне, я стал порицать любое его действие – и правое, и неправое. И то сказать: у государя было довольно недостатков. Он был так привержен разврату и роскоши, что дошел в них до крайности, а между тем французский король лишил его почти всех заморских владений – и он с этим мирился[85]; мою оппозицию королю можно поэтому оправдать, а будь мои помыслы вровень с теми обстоятельствами, то и оправдывать не было бы нужды; но я-то думал только о том, чтобы выдвинуться, сделавшись грозной силой в глазах короля, а затем продав ему содействие моей партии, в которой только и была моя сила. В самом деле, пекись я об общем благе, я бы забыл про яростное несогласие с ним в начале его царствования и не колеблясь оказал ему всяческую помощь в борьбе с папой Иннокентием III, где правда была целиком на его стороне[86]; и я бы не потерпел, чтобы наглость этого папы и кулак французского короля вынудили его позорно вручить свою корону первому из них и получить ее обратно уже в качестве вассала; и теперь папа будет кивать на него, взыскивая с нашего королевства как с ленного владения папского престола, отчего и будущие венценосцы хлебнут горя, и народу перепадет бед.
Поскольку среди прочих уступок король обязался уплатить Пандульфу[87] известную сумму, которой в данную минуту не располагал, ему было не миновать поклониться городу, а там я имел и вес и влияние, и без моей помощи он бы никак не обошелся. Понимая это, я постарался продать себя и родину подороже и оговорил себе придворную должность, пенсию и рыцарское звание. Мои условия были немедленно приняты. Я тут же был возведен в рыцарское достоинство, и были твердо обещаны другие пункты.
И вот я взошел на помост и, забыв честь и совесть, стал защищать короля с такой же горячностью, с какой раньше порицал его. Я оправдывал те самые меры, что прежде осуждал, и с такой же убежденностью призывал сограждан тряхнуть мошной, с какой прежде заклинал их не давать ему ни гроша. Увы, мое словоблудие не достигло желанной цели. Мои доводы навлекли на меня позор. Обменявшись озадаченными взглядами, все, как один, вознегодовали. Намекая на мое рыбное дело, какой-то наглец выкрикнул: – Тухлятина! – и вся толпа подхватила. Мне не оставалось ничего другого, как улизнуть домой, но неотвязная чернь, улюлюкая, гнала меня по улице, выкрикивая: – Тухлятина!
Тогда я поспешил к его величеству с отчетом о верной службе и принятых за него страданиях. Уже по тому, как меня приняли, я понял, что ему известно о моем успехе. Даже не поблагодарив меня за речь, он сказал, что город еще пожалеет о своем упрямстве – он им попомнит, с кем они имеют дело, и после этих слов повернулся ко мне той своей частью, по которой изнывает и плачет нога, и когда та столь удобно подставится, очень трудно удержаться от горячего изъявления этой любви.
Обескураженный таким приемом, я весьма запальчиво напомнил королю, что мне полагается обещанное, а он вышел, не удостоив меня ответом. Тут я воззвал к придворным, еще недавно уверявшим меня в своих дружеских чувствах, сидевшим за моим столом и меня зазывавшим к себе в гости, – но они, набрав в рот воды, бежали от меня, как от зачумленного. Так я на собственном примере убедился в том, что первый придворный может быть последним хамом.
Оставшись один, я наконец задумался над тем, что же теперь делать, точнее – куда податься? В городе меня примут вряд ли лучше, чем при дворе, но там мой дом, и на время надо затаиться в его стенах.
Хотя я был готов к тому, что город обойдется со мной круто, действительность превзошла все ожидания. Там и тут толпы народа осаждали моего иноходца, всячески выражая мне свое презрение и осыпая бранью и даже камнями. С превеликим трудом добрался я домой в целости и невредимости, хотя и облитый всякой дрянью.
Переступив свой порог, я первым делом запер двери, но чернь, набушевавшись, вроде бы готова была оставить меня в покое; зато жена, горько оплакивая детей, вместо слов утешения приготовила мне разнос. Почему, спросила она, я решаюсь на такой шаг, не посоветовавшись с ней; если я надумал не считаться с ней, сказала она, то спросил бы хоть для приличия. Я-де могу думать о ней что угодно, но люди к ней прислушиваются, и слушаясь ее, я-де никогда не попадал впросак, как и не добивался ничего без ее подсказки; в этом роде она еще долго говорила, не хочу вам докучать, но вот что сказала напоследок: чудовищно, мол, что я предал свою партию и переметнулся на сторону двора. Этот упрек был горше всех: она же сама не один год ругмя ругала оппозицию, нахваливала придворную партию и склоняла меня перейти к ним! А уж когда я проговорился, что мне посулили рыцарское звание, так она и ночью не давала мне покоя – все зудела в уши: глупо, мол, отказываться от почестей, держаться за какую-то партию и иметь убеждения, от которых не будет проку ни мне самому, ни близким.
Торговля моя совсем захирела, и уже ничто не держало меня в городе, где я всякий день терпел обиды и поношение. Поэтому я наскоро разделался с делами, собрал какие мог пожитки и уехал в провинцию, где доживал свой век всеми презираемый и избегаемый, выслушивая попреки жены и грубости детей.
Хоть я был большим негодяем, сказал мне Минос, страданьями я отчасти искупился, и он послал меня на новое испытание.
Глава XXIV Юлиан рассказывает о случившемся с ним в бытность его поэтом
Теперь моей колыбелью стал Рим, там я родился в семье, более взысканной почетом, нежели богатством. Меня готовили к духовной карьере, я получил изрядное образование, но поскольку отец, промотав родовое имение, не оставил мне ни гроша, юному наследнику пришлось вступить в нищенствующий орден.
Еще в школе у меня обнаружилась способность к рифмованию, которую, к несчастью, я принял за искру божью и уверовал в нее, на свою беду, ибо над стихами моими смеялись, а меня презрительно величали Песнопевцем.
От такого отношения ко мне я страдал всю жизнь. Первым сочинением, написанным после школы, был панегирик папе Александру IV[88], в ту пору стращавшему короля Сицилии лишением трона[89]. На эту тему я сочинил около 15 000 строк, каковые с премногими трудностями сумел доставить его святейшеству, ожидая в награду самого высокого отличия; но я жестоко обманулся, целый год теша себя надеждой удостоиться похвалы. Я наконец не вытерпел и попросил родственника-иезуита, бывшего у папы доверенным лицом, проведать, какого мнения его святейшество о моем опусе; иезуит холодно ответил, что папа сейчас занят слишком важными делами, чтобы еще уделять внимание стихам.
Как бы ни был я разочарован таким отношением (а я был очень разочарован) и как ни злился я на папу, только что совсем не отказывая ему в уме, я еще не пал духом и отважился на вторую попытку. Соответственно, вскоре был готов новый опус, под названием «Троянский конь». Это было аллегорическое сочинение, в котором церковь являлась в мир таким же манером, каким греки проникли в Трою. В брюхе коня сидело священство в виде солдат, а обреченный город олицетворял языческое идолопоклонство. Написана была поэма на латыни. Я еще помню некоторые строки:
В граде языков стоит громада, посланница неба. Сонм иереев внутри; из чрева выйти готовы Мужи, все, как один, и шум их далеко разнесся (Так, лишь неистовый звук в человеческих недрах родится, В чуткие ноздри уже влетает его дуновенье). Рвется навстречу толпа, трепетать начинает другая; В страхе язычники зрят: разлетаясь в пространстве воздушном, Ложные боги бегут, храмы пустыми оставив. Конь содрогнулся, в ответ застонали пределы земные – Тут-то ты, отче, себя явил, Александр Величайший. К нужному сроку созрев, ты конское чрево покинул, Чадо, достойное лучшего лона, из всех наивысший[90].Не останови я его, Юлиан, полагаю, прочел бы всю поэму целиком, ибо я уже заметил, что во время рассказа переживания героя, некогда им воплощенного, все еще волнуют его; и я попросил его не отвлекаться и продолжать свой рассказ. Справившись с волнением, он улыбнулся, угадав мои мысли, и продолжал рассказывать дальше.
– Каюсь, – сказал он, – бубнить собственные стихи для поэта первейшая и неизбывная отрада. Счастье, если он доставляет ту же радость своим слушателям. Но увы, прав Гораций, сказавший: «Ingens solitudo»[91], ибо тщеславие людское черствее и алчнее самой скупости и с теми, кто домогается похвалы, обращаются хуже, чем с последним нищим.
Я достаточно познал эту черствость в моем положении поэта, ибо меня чуралась вся братия монастыря (других причин для этого я не вижу) и даже охотников подкормиться за чужой счет отпугивали мои стихи на закуску. Единственным благодарным слушателем был собрат поэт, уж он-то не скупился на похвалы, но за это я слушал и хвалил его стихи, и, пожалуй, его внимание дороговато обходилось мне.
Так вот, сэр: если от первой поэмы я просто-напросто не дождался никакой выгоды для себя, то теперешние дела были куда плачевнее; своей второй поэмой я заслужил не отличие и не похвалу, но строгую епитимью от настоятеля за несообразное уподобление папы римского ветрам во чреве. Над моими стихами потешались во всех собраниях, редко-редко кто просто отойдет с омерзением, и тогда я понял: не то чтобы помочь мне выдвинуться, но даже малейшую такую возможность мои стихи пресекли раз и навсегда.
От этих потрясений я наконец зарекся писать. Но не зря говорит Ювенал:
…si discedas, laqueo tenet ambitiosi Consuetudo mali[92].Мой пример подтверждает эту истину: по прошествии недолгого времени я вернулся к своей музе. Поэт, в сущности говоря, такой же счастливец, как обожающий свою дурнушку любовник. Первый носится со своей музой, второй – с любовницей, и обоим нет дела до того, что свет поражается их выбору: в свете, полагают они, неразвитые вкусы.
Нет нужды вспоминать сейчас другие мои поэмы – их все постигла та же участь; и хотя иные поздние сочинения были приняты лучше (говорю это без тени тщеславия), слава дурного писателя не дала мне сделаться хорошим. Да будь я не хуже самого Гомера, я уже не мог рассчитывать на признание: кто узнал бы, что я не хуже Гомера, если меня вообще перестали читать?
Вы, верно, знаете, что в мой век не было очень крупных поэтов. Впрочем, нет, один таки был, хотя его сочинения давно пропали, к моему утешению. Только писатель, больше того, писатель-неудачник способен представить, какой злобой, завистью и ненавистью дышал я к этому человеку; я не мог слышать, когда его хвалили, писал на него сатиры, притом что сам получал от него заверения в дружбе, но другом ему я никак не мог быть, и напрасно он себя затруднял.
Кто-то из живших позже меня сказал, что нет людей хуже дурных писателей. В мое время так говорили о дурнушках, но вот что их объединяет: их обоих грызет треклятая и богомерзкая зависть; злобно терзая приютивший ее дух, зависть растлевает его и побуждает творить немыслимые злодейства.
Я недолго жил, порок, о котором я сейчас рассказал, вытянул из меня все соки и свел в могилу. Минос объявил мне, что для Элизиума я дурен сверх всякой меры, а что касается другого места, то будто бы дьявол поклялся после Орфея не допускать к себе поэтов; и мне снова пришлось возвращаться туда, откуда я пришел.
Глава XXV Юлиан выступает в ролях рыцаря и учителя танцев
Теперь я явился на сцену в Сицилии, стал храмовником[93]; впрочем, мои рыцарские приключения очень мало отличаются от солдатских, которые вам известны, и я не стану докучать повторением. В самом деле, солдат и командир столь мало отличаются один от другого, что нужна немалая проницательность, чтобы распознать их; командир получше одевается и в счастливую полосу жизни может себя побаловать, а в остальном они два сапога пара.
Мой следующий выход был во Франции: судьба доверила мне роль учителя танцев[94]. Я настолько хорошо знал свое дело, что меня юношей взяли ко двору и поручили моим заботам пятки Филиппа де Валуа, впоследствии сменившего на троне Карла Красивого[95].
Не припомню другой роли из доставшихся мне на земле, в которой я держал бы себя с большим достоинством и был преисполнен такого сознания собственной значительности. В моих глазах искусство танца было высочайшим достижением человеческой природы, а сам я – его высочайшим авторитетом. Такого же мнения, похоже, держался и двор: я был главным наставником юношества, о чьем развитии судили главным образом по успехам в искусстве, в котором я имел честь наставлять их. Сам же я настолько уверовал в эту истину, что пренебрегал людьми, не умевшими танцевать, презирал их, и высшего балла у меня заслуживал человек, изящно отвесивший поклон; неспособных же на такой подвиг – ученых мужей, иногда армейских офицеров и даже кое-кого из придворных, – таких я просто не считал за людей.
Избежав в юности увлечения так называемой литературой и едва умея писать и читать, я, однако же, сочинил трактат о воспитании, начальное основание которого видел в том, чтобы ребенок овладел искусством красиво появляться в комнате. В трактате я исправил многочисленные ошибки моих предшественников, в частности, предостерегал от спешки: лишь превзойдя высшие премудрости танца, ребенок сможет пристойно расшаркаться.
Сейчас я уже не того высокого мнения о своей профессии, какого держался тогда, и поэтому не стану забавлять вас длинным рассказом о жизни, посвященной бурре и купе. Достаточно сказать, что я дожил до преклонного возраста и занимался своим делом, покуда носили ноги. Наконец я снова посетил своего старинного приятеля Миноса, который обошелся со мной очень неучтиво и велел плясом отправляться на землю.
Я покорился и в очередной раз родился в Англии, принял духовный сан и в свой срок стал епископом.
В этой должности достойно внимания, что я все время налагал на себя обеты[96].
КНИГА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Глава VII, в которой Анна Болейн рассказывает историю своей жизни
– Я намерена правдиво поведать о жизни, которая с самого ее скончания распаляет страсти враждующих партий: для одних я только что не исчадие ада, у других слыву столь же чистой и безгрешной, как обитатели этого блаженного края; пелена предубеждений застилает им глаза, и вещи видятся им такими, какими они более всего желают их видеть.
Мое детство протекло в родительском доме среди невинных забав, какие приличны нежному возрасту, и то была, наверное, счастливейшая пора моей жизни, поскольку родители мои были не из тех многих, кто навязывают детям свою волю, но видели во мне залог добродетельной любви и, во всем потакая мне, безмерно радовались моим малым утехам. Семи лет меня отправили во Францию с сестрой короля, которая вышла замуж за французского государя, и там я жила у одной знатной дамы, приятельницы моего отца. Дни я проводила в занятиях, должных обеспечить светской молодежи изящное воспитание, не творила ни добра, ни худа, и время протекало в приятном однообразии, но вот мне исполнилось четырнадцать лет, и в моей душе поселилось смятение, я отдалась суетным чувствам, мое сердце радостно трепетало всякий раз, когда льстили моей красоте, похвалы же моей юности и обаянию не утихали, поскольку хозяйка, имея веселый и общительный нрав, держала открытый дом. Мое упоительное торжество, понятное всякой женщине, когда та совершенно довольна собой и отношением к себе окружающих, длилось недолго: совсем юной девицей я была сделана фрейлиной ее величества. При дворе часто появлялся молодой дворянин, чья красота стала притчей во языцех во всех дамских собраниях. Пригожая внешность вместе с необычайной любезностью обхождения сообщали его словам и поступкам столько приятности, что всякая, с кем он перемолвился словом, мнила себя избранницей его сердца. В свою очередь и я, тщеславясь своими прелестями, вознамеривалась завоевать того, по ком вздыхал весь свет; ничто другое не казалось мне стоящим внимания, и единственную сладость моего замысла я полагала в том, чтобы покорить сердце, которым, скажу не обинуясь, были бы счастливы владеть знатнейшие и прекраснейшие особы. По молодости я была весьма неопытна, однако природа и без уловок раскроет дамскому угоднику желание женщины понравиться ему, все равно, чем оно диктуется, – влечением сердца либо суетными желаниями. Так и он скоро угадал мои помышления и удовлетворил самые невозможные надежды, постоянно оказывая мне предпочтение перед другими и всячески мне угождая, дабы сохранить мое расположение. Неожиданное счастье, выше которого я в ту пору ничего не мыслила, выказывало себя во всех моих действиях, мне прибавилось столько веселости и оживления, что моя внешность расцвела еще более яркими красками, к притворному восторгу приятельниц, и я, с моей неопытностью, ясно видела их притворство, ибо как они ни сдерживали себя, но частые коварные обмолвки и кривые ухмылки обличали их зависть, всякий раз подтверждая мое торжество и давая случай уколоть их побольнее, чего я никогда не упускала сделать, ибо мое женское сердце впервые вкусило злорадного удовольствия от обладания тем, по чему другие томятся. Я пребывала на вершине счастья, а между тем королеву постиг тягостный недуг, потребовавший от нее перемены обстановки на сельское уединение; мое звание обязывало сопровождать ее, и неведомым мне образом мой юный герой сумел войти в небольшую свиту моей повелительницы, выехавшей только с самыми близкими. Прежде мы встречались на людях, и он привлекал меня постольку, поскольку питал мою гордыню, желавшую единственно показать всем мое могущество; теперь положение изменилось. Мои завистницы были далеко; место, куда мы прибыли, было настолько прелестно, насколько могут произвести пленительная природа и содействующее ей великое искусство; заманчивые одинокие прогулки, пенье птиц, романтические уголки, коими изобилен тот восхитительный край, дали совсем иное направление моим мыслям, все мое существо смягчилось, суетность меня покинула. Мой любезный был слишком искушен в подобных делах и не мог не почувствовать перемены. Поначалу его бурное ликование уверило меня, что он безраздельно принадлежит мне, и эта уверенность наполнила мое сердце таким счастьем, для которого невозможно подобрать слова, о нем ведают лишь те, кто сами его пережили. Но длилось это недолго, ибо вскоре я поняла, что такие, как он, волочатся за женщиной с единственной целью: сделать ее жертвой своего ненасытного желания нравиться. Замысел его удался, и он с каждым днем все больше охладевал, а мое чувство, как наваждение, только разгоралось; и как я ни зарекалась, как ни старалась сдерживать себя, но, обманутая любовником и гордыней, не в силах одолеть чувство, поселившееся в моем сердце, я задыхалась от гнева и не управляла собою – таково непременное последствие неистовых страстей. Сейчас я упрекала его, в следующую минуту умилялась и корила себя, уверенная, что думала о нем превратно; он видел мои терзания и упивался ими, но для полного торжества ему не хватало свидетелей; он заскучал по столице и вернулся в Париж, оставив меня в состоянии, для которого невозможно найти слова. Мой дух полыхал, как мятежный город, и всякая новая мысль примыкала к возмутителям спокойствия. Я потеряла сон и от переживаний слегла в лихорадке, едва не стоившей мне жизни. Меня с трудом выходили, однако злая напасть оставила меня настолько немощной, что утихомирилась и смятенная моя душа и я уже находила утешение в мысли о том, что самовлюбленность этого господина была моим единственным спасением, поскольку опасным для меня был этот единственный мужчина. Я поправлялась, мы возвращались в Париж, и, признаюсь, я желала и страшилась встречи с виновником моих невзгод, уповая на то, что горькая обида вооружит меня на этот случай равнодушием к нему. Эти мысли не отпускали меня весь обратный путь. На следующий день двор в полном сборе пришел поздравить королеву с выздоровлением, и среди прочих явился мой возлюбленный, нарядный и красивый и как бы во всеоружии для новой победы. Не смущаясь женщины, отвергнутой им, он подошел ко мне с самоуверенностью записного фата. В ту же минуту я увидела себя в кругу тех самых особ, что по его милости стали моими злейшими врагами и теперь в отместку предвкушали мой позор. Такая обстановка окончательно спутала мои мысли, и когда, приблизившись, он готовился заговорить, я сомлела и упала ему на руки. Задумай я доставить ему удовольствие, лучшего способа нарочно не придумаешь. Принесли нюхательную соль, стали приводить меня в чувство и новообретенная жизнь встретила меня шпильками, какие подпускает распаленная женская зависть.
– Оказывается, – кричала одна, – в наружности милорда есть что-то зловещее либо такая у него повадка, что, завидев его, девицы падают замертво. – Неправда, – говорила другая, – просто на чувства некоторых дам красота действует убийственнее, чем безобразие. – И еще много в этом роде столько же злобного, сколько неостроумного. Не в силах выносить это, дрожа и едва передвигая ноги, я доплелась до кареты и поспешила домой. Переживая в одиночестве случившееся на глазах у всего двора, я сперва впала в безнадежное отчаяние, но, поразмыслив, заключила, что сей казус вернее всякого другого средства исцелит меня от моей страсти. Единственное, думалось мне, чем можно пронять человека, который столь варварски обошелся со мной, и отомстить моим недоброжелательницам, это вернуть мою красоту, к тому времени поблекшую, и пусть видят, что у меня еще достанет очарования иметь столько поклонников, сколько я пожелаю, и посоперничать с жестокими обидчицами. Эти сладостные надежды ободрили мой упавший дух и произвели более благотворное действие, нежели это могли сделать философия и советы мудрейших мужей. Все свое время и внимание я теперь посвятила своей особе и отысканию вернейших средств располагать к себе других, самой оставаясь равнодушной к ним, и случись в будущем закрасться в мое сердце нежности, я твердо решила бежать от ее виновника, а его образ вытеснить новыми победами. Каждое утро я держала совет с зеркалом и научилась в такой степени владеть лицом, что могла сообщить ему выражение, любезное сегодняшнему поклоннику, ибо всякий из них требует своего подхода, в чем я скоро убедилась, несмотря на молодость – ведь мне было всего семнадцать лет, – постоянно бывая в обществе и соприкасаясь с мужчинами и, при тогдашнем моем стремлении нравиться им, особо примечая их слова и поступки. Значительнейшая часть мужчин, заключила я, любит– в женщине своего антипода, и потому перед человеком основательным и положительным я выказывала себя живой и веселой, остроумцу и забавнику представала томной и нежной, влюбчивый поклонник (с ними всего меньше хлопот) встречал во мне холодную сдержанность, робкий и застенчивый удостаивался пылкого отклика. Что до франтов и прочих потворщиков своему тщеславию, то, памятуя мой печальный опыт, я почитала их заслуживающими только осмеяния, и пусть их славное мнение о самих себе одно питает их надежды. Пока у меня будут другие поклонники, за этих я могла не тревожиться, ибо в одном они были скромны: не полагаясь на собственное разумение, они прислушивались к мнению большинства. Вооруженная такими правилами и умудренная ошибками, я в определенном смысле начала жизнь заново: в собраниях я блистала красотой и одушевлением, поражая всех знавших о моих отношениях с милордом. Он сам дивился и досадовал нечаянной перемене, не умея объяснить, как мне удалось сбросить цепи, которыми, казалось, он опутал меня навеки, и не желая выпускать из рук свою победу. Всеми возможными средствами он пытался вновь склонить меня к любовным признаниям, но я твердо держалась принятого решения (ежедневные толпы вздыхателей чрезвычайно помогли мне в этом): никоим образом не дать ему оправдаться, и дело здесь не только в моей гордости, но и в том еще, что первая сердечная рана – в этом я убедилась – глубочайшая и нужно неусыпно следить за тем, чтобы она не открылась вновь. Три года я вела рассеянную жизнь, и при дворе стар и млад, знатен или худого рода – все творили из меня кумира. У меня были хорошие партии, но я их сочла неровней себе, и величайшим моим наслаждением было видеть, как мнимые мои соперницы счастливы выйти замуж за тех, кого я отвергала. При том что все мои планы сбывались, я не решусь сказать, что была счастлива, ибо всякая женщина, безразличная к моим проискам, и всякий нечувствительный к ним мужчина одним разом похищали радость всех побед; случалось и так, что мелкие интриги, как я ни береглась, сводили на нет мои старания. И я порядком устала от такой жизни, когда мой отец, исполнив посольские обязанности во Франции, забрал меня домой и отвез в прелестный сельский дом, где вместо пышности и блеска были только уют и нега. Я жила там совершенной отшельницей. Поначалу время еле тянулось, я изнывала от праздности, хандрила из-за того только, что не знала, к чему себя определить. Но когда я чуть обжилась, то почувствовала такой душевный покой и отрешенность от треволнений двора, что сама пристала к здешнему мирному обиходу. Я занялась вышиванием, ухаживала за цветниками, полной мерой вкушала невинные сельские радости, и пусть они не сулят особых восторгов, но они проливают в душу умиротворение, а это поистине драгоценный дар отзывчивой натуре. Я порешила остаться здесь до конца своих дней – да минет меня соблазн покинуть это сладостное уединение и вновь ввергнуться в круговорот бурных страстей. Таким было мое расположение духа, когда в миле от дома отец встретил старшего сына графа Нортумберленда милорда Перси, который там лисовал и заблудился; милорд завернул к нам, согласившись отобедать, и до такой степени увлекся мною, что прогостил три дня. Искушенная в сердечных делах, я тотчас угадала, что произвела на него впечатление, однако в ту пору я была настолько чужда честолюбия, что даже возможность стать графиней не смутила меня, равно как, мнилось мне, никакие иные посулы не вынудят меня переменить мой образ жизни. Не в силах совладать с влечением и превозмочь разлуку, молодой цветущий лорд нагрянул уже через неделю и, истощая свои таланты, пытался склонить меня к взаимности. Он обходился со мной с той ласковостью и уважением, какие всякой женщине свидетельствуют об истинной любви, и часто повторял, что будет счастлив прилежностью и вниманием привязать меня к себе, притом что мой отец, он был уверен, с радостью примет любое его предложение, но если его счастье хотя бы в малейшей степени будет мне неугодно, он примет самую горькую муку, навеки разлучившись со мной. Такое поведение заключало в себе столько благородства и великодушия, что мало-помалу пробудило во мне чувство, которое не берусь обрисовать и даже название ему не подыщу, только оно не имело ничего общего с прежней страстью, ибо безрассудства и тревожные ночи ему не сопутствовали, но все мои невинные благодеяния милорду были в моих глазах заслуженным воздаянием его искренности и любви, благодарной потребностью, нежели каким иным побуждением. Когда я вернулась в Англию, отец не однажды заводил разговор о высокородной молодежи, и добрая слава милорда внушила мне мысль, что, доведись мне сделаться его женой, моим приятным жребием будет выслушивать одобрение умнейшими людьми всех его поступков; теперь отпадали последние сомнения, и мне единственно было жаль покинуть мой тихий уголок и снова ввериться обществу, однако его неустанная заботливость и смирение устранили и это препятствие, и я предоставила ему самому решать, когда сообщить новость моему отцу, чьим согласием он вскоре и заручился, ибо таким сватовством не принято гнушаться. Дело оставалось за тем, чтобы склонить графа Нортумберленда уступить страстному желанию сына; с этой целью милорд немедля отправился в Лондон, как о великой милости прося меня приехать с отцом, которого через неделю призывали туда дела. Я не посмела отказать, и сразу по нашем приезде он появился у нас, пылая восторгом и спеша объявить, что его отец, дорожащий счастьем сына, милостиво предоставил ему полную свободу поступать, как ему пожелается, и, стало быть, никаких помех для него более не существует. Было начало зимы, свадьбу назначили на конец марта; после сговора он мог посещать меня сколь угодно часто, и наши свидания были чисты и радостны. Его привязанность ко мне была так сильна, что он всеми способами старался не выпускать меня из виду; как-то утром он сказал, что отец велел сопутствовать ему вечером во дворец, а посему он умоляет меня увидеться с ним там. Я уже привыкла его слушаться, и удовлетворить его желание мне не составило труда. Двумя днями позже меня поразили его грустный вид к переменившееся обращение, чему я не видела никаких причин; настойчивыми расспросами я вытянула из него, что, по непонятным мотивам, кардинал Вулси категорически велел ему выбросить меня из головы; когда же он возразил, что его отец не имеет ничего против нашего союза, то кардинал надменно обещал высказать самому отцу убедительные причины, по которым эта блажь чревата бедой, и отец-де с ним непременно согласится. Он оборвал разговор, не дав милорду ответить. Я терялась в догадках, какой расчет кардиналу расстраивать наш брак, но еще более меня поразило то, что мой отец стал холоднее относиться к милорду Перси; милорд тоже это почувствовал, и мы решительно не могли понять, что происходит вокруг нас. Отец же вскоре и покончил с неизвестностью, вызвав меня к себе в кабинет и посвятив в тайну, столь же нежелательную, сколь и нечаянную. Молодость и красота, начал он, обладают удивительным действием, и было бы безумием отказываться от привилегий, какие они по случаю могут нам доставить: потом и спохватишься, да будет поздно. Я озадаченно внимала такому началу; заметив мою растерянность, он попросил меня сесть и проникнуться чрезвычайной важностью того, что он скажет; у меня достанет ума, надеялся он, ради собственного благополучия прислушаться к его благоразумным советам. И напрямик спросил: лестно ли было бы мне сделаться королевой? Я с полной откровенностью отвечала: нет, даже вселенской королевой я не захочу снова жить в свете, а мой любимый будет счастлив возвысить меня, как мне и не чаялось. Эта речь пришлась отцу не по вкусу; нахмурившись, он назвал меня романтической дурой и, в обмен на послушание, обещал-таки сделать меня королевой, ибо в прошлый раз во дворце, сказал ему кардинал, я попалась на глаза королю и понравилась ему; король будто бы намерен развестись с женой и взять меня на ее место, а до этого он хочет почаще видеть меня и потому велел кардиналу найти способ сделать меня фрейлиной нынешней королевы. Невозможно передать, в какое изумление повергла меня эта новость, и если минуту назад, когда такая возможность казалась недостижимой, я совершенно искренне заверяла, что у меня нет желания быть вознесенной столь высоко, то сейчас цель приблизилась, и, признаюсь, мое сердце затрепетало, и видение царского престола ослепило меня. Воображение рисовало мне великолепие, власть и величие державного состояния, и от потерянности я не знала, что сказать, и безмолвствовала, словно утратив дар речи. Отец догадался, что происходит в моей душе, и стал приводить новые доводы в пользу покорности его воле; наконец я пробудилась от золотого сна и умильнейшими словами заклинала его не побуждать меня обойтись непорядочно с человеком, который, будь его власть, сделал бы меня владычицей мира и в чьей, однако, власти удовлетворить все мои желания. Отец оставался глух к моим словам и только велел быть готовой на следующей неделе представиться ко двору; велел проявить разумность и не жертвовать интересами всего семейства ради смехотворных понятий о чести, а главное, никому не сказывать о нашем разговоре. Засим он оставил меня разбираться в моих мыслях, и наедине я задумалась над тем, как мало у него ласковости ко мне, чье счастье его ничуть не заботит: я была для него как бы лестницей, воспользовавшись которой он рассчитывал достичь вершины своих честолюбивых замыслов; а вспомнив, сколько ласки я знала от него ребенком, я теперь видела тому лишь две причины: либо я его забавляла, либо ему льстила моя миловидность. Но долго занимать голову посторонними мыслями я уже не могла: все мысли были о короне и моей помолвке с лордом Перси, и когда он пришел, я, нарушив отцовский наказ, не сдержалась и все рассказала, умолчав лишь о том, что в первую минуту королевский посул произвел в моей душе смятение. Я готовилась к тому, что моя новость причинит ему жесточайшую боль, но он не обнаружил сильных чувств, разве что побледнел, и, взяв меня за руку, с ласковым видом сказал: – Если звание королевы сделает вас счастливой, а это счастье теперь в ваших руках, то ни за какие блага я не стану вам помехой, чего бы мне это ни стоило. – Поразительное величие его души подействовало на меня неожиданным образом: моя любовь к нему не только не разгорелась с новой силой, но почти угасла, и я поймала себя на мысли, что все не так уж серьезно между нами, если он может обойтись без меня. Я убеждена, что, отказываясь – даже из благороднейших побуждений – от своих прав на женщину, однажды ею подтвержденных, мужчина этим отречением оскорбляет женщину. Я не удержалась, чтобы не выразить ему недовольство и не поздравить с тем, что наша любовь не очень его обременила. Он не нашелся, что ответить: извратив его намерения, я совершенно сбила его с толку, на него нашел столбняк; немного постояв, он поклонился и вышел. Снова я была предоставлена моим мыслям, однако изложить их связно нет никакой возможности: я хотела быть королевой – и не хотела этой чести; желала милорду Перси отдельного от меня счастья – и не желала признать свои чары настолько слабыми, чтобы, обманувшись в моей любви, он не наскучил самой жизнью.
Следствием же этого умственного разброда было то, что я решила смириться перед отцом. Чувство долга, боюсь, тут мало значило, хотя в ту пору я ухватилась и за эту малость, скрывая от себя истинное значение своего поступка. Когда мой возлюбленный пришел снова, я напустила на себя холодность, дабы раз и навсегда остудить его домогательства: решив обойтись с ним дурно, я обрела в нем вечный укор себе, в каждом его взгляде мне чудился упрек. Вскоре отец отвез меня во дворец, где мне довелось играть не самую трудную роль, поскольку с моим знанием сильного пола я без особого старания прибрала к рукам человека, которому нравилась и который был, мало сказать, безразличен мне – я испытывала к нему сильнейшее отвращение, а он принимал это за добродетель – сколь доверчивы мужчины, когда им хочется верить! При этом я не забывала время от времени обмолвиться нежным словцом, благословляла судьбу, судившую полюбить мужчину, связанного узами брака, вследствие чего женщина свободна от подозрений в криводушии и корысти. Влюбленный король легко верил всему этому и с необычайной быстротой вел дело к разводу, который, впрочем, все откладывался, и я продолжала томиться за кулисами. Когда король упоминал при мне о разводе, я обычно выставляла такие возражения, какие, мне думалось, еще больше распалят его; я заклинала его не брать греха на душу и из-за меня не огорчать добродетельную королеву, ибо в служении ей я полагала для себя великую честь, и лучше я поступлюсь короной и даже счастьем видеть впредь короля, нежели причиню боль своей венценосной властительнице. Такие речи вкупе с его горячим желанием обладать мною настолько убедили короля в моем благородстве, что удалить женщину, в которой разочаровался (ибо устал от нее) и поставить меня на ее место он также почитал благородным делом. Я находилась при дворе уже около года, и, поскольку о любви короля пошли толки, нашли благоразумным устранить меня, дабы не раздражать партию королевы; с великой неохотой вынуждена я была подчиниться, ибо меня снедала тревога, что в мое отсутствие король переменится ко мне. Снова я уехала с отцом в наше имение, теперь уже не радовавшее былым очарованием: мучимая честолюбием, я ни о чем другом не могла думать. Державный любовник часто направлял ко мне посыльных, и ответные письма я составляла в таком роде, чтобы вернее достичь цели, то бишь вернуться ко двору. Столько величия и повелительности было в его письмах ко мне и столько лживости и смирения в моих, что я ловила себя на мысли о том, как это не похоже на мою переписку с лордом Перси, но я изо всех сил тянулась к короне и не позволяла себе раздумывать о былом. В каждом своем письме я неизменно одобряла его решение разлучиться со мной, поскольку в наших обстоятельствах это надежно оберегало мою и, что для меня много важнее, его честь; скорее я приму любые муки, нежели огорчу его прекословием либо брошу тень на его доброе имя. Я не упускала между прочим случая посетовать на недомогание, замечая, сколь важно для здоровья иметь душевное спокойствие. Этими уловками я вынудила его самым настоятельным образом затребовать меня к себе, сама же, искушая его нетерпеливый нрав, тянула с возвращением, покуда он не обязал моего отца даже употребить власть, чему я, внутренне ликуя, уступила как бы скрепя сердце. Добившись своего, я стала прикидывать, каким образом разлучить короля и королеву, поскольку они все еще жили под одной крышей. Леди Мэри, дочери королевы, было в ту пору неполных шестнадцать лет, и, заручившись пособничеством ее ровесниц, можно было помалу внушить ей непочтение к отцу, отчего его щепетильность в отношении развода предстанет смехотворной. У принцессы, я знала, был неукротимый нрав – впрочем, падкая на дружеские заверения юность и вообще несдержанна на язык; потом уже я постаралась, чтобы все ее высказывания о короле доходили до его ушей и он воспринимал их должным образом: что первоначально они исходили не от юной принцессы, а от ее матери. Он часто делился со мной этими мыслями, я соглашалась, но, памятуя о великодушии, всегда заступалась за королеву: ей-де, свыкшейся со своим державным положением, вполне естественно раздражаться на людей, в которых она воображает угрозу своим заслуженным правам. Через эти козни я нашла верное средство рассорить короля с королевой: ведь проще простого настроить мужчину против женщины, от которой он желает освободиться – тем паче мешающей ему насладиться жизнью. Объявив теперь, что королева упорствует там, где его совесть не терпит отлагательства, король расстался с ней. Мое будущее прояснилось: от меня уже ничего не требовалось – все зависело от желаний короля, и, коль скоро они завели его так далеко, я не беспокоилась, что и впредь они вынудят его все делать по-моему. Я стала маркизой Пемброк. Это отличие я перенесла очень легко: мысли о много высшем титуле притупили мою чувствительность; я брезговала этим пустяком, но не потому, что это действительно пустяк, а потому, что замахнулась на большее, причем в самом скором времени. Король делался все нетерпеливее, и скоро я стала его тайной женой. Как только это произошло, я словно облеклась в королевский сан, осознала в себе державную власть и даже ближайших друзей перестала узнавать в лицо. Со своей головокружительной высоты я не различала их: так ставшему на пьедестал оставшиеся внизу кажутся бесконечно далекими, он видит один кишащий муравейник; эта мысль наполняла меня несказанным восторгом, и я не скоро поняла, что в обоих случаях достаточно спуститься на несколько ступеней по лестнице, кем-то подставленной, чтобы затеряться в этом презренном муравейнике. Некоторое время наш брак сохранялся в тайне, огласка была бы некстати, поскольку бракоразводный процесс короля еще не завершился, и только рождение моей дочери Елизаветы потребовало его обнародования. Впрочем, для видевших меня тайны не было, ибо мои речи и поступки переменились настолько, что всем было совершенно ясно: для самой себя я уже королева. И пока это было тайной, мне еще было за что бороться, я не могла смириться с тем, что весь мир не знает о моем жребии; но прошла коронация, честолюбию было уплачено по самому высокому счету, а я вместо счастья почувствовала себя несчастной, как никогда; мало того что после свадьбы мне стало труднее скрывать брезгливость к королю, развившуюся теперь в непреодолимое отвращение, но, по достижении короны, меня покинула увлеченность, с какой я ее домогалась, и появилось время задуматься – а велика ли награда за всю мою маету, и мне часто представлялся охотник, что целый день до изнеможения носится по полям, словно успех сулит ему неслыханное вознаграждение, и за все труды он получит омерзительную вонючую тварь. Мое положение было еще хуже: охотник скормит добычу собакам, а я свою должна была нежить и, кривя душой, называть своей любовью. Мое недосягаемо высокое и завидное положение только привадило меня к лицемерию, а этого, как я теперь вижу, ничем не искупить. В моем одиночестве со мной был только ненавистный мне человек. Нечего было и думать кому-то открыть свою душу, и никто бы не осмелился вступить со мной в доверительный разговор; со мной если и говорили, то как с королевой, а не с Анной Болейн, и те же самые слова можно было повторить разряженной кукле, взбреди королю на ум назвать куклу своей женой. И поскольку любая придворная дама была моим врагом, полагая, что у нее больше права занимать доставшееся мне место, я маялась, как в диком лесу, без единой живой души, в постоянном страхе оставить следы, по которым меня сыщет какое-нибудь чудище или наползут и ужалят змеи; ведь таковы все ненавистницы, снедаемые завистью. Хуже положения не придумать, а мне еще приходилось прятать тоску и выглядеть веселой. И это тоже сослужило мне худую службу, поскольку некоторые необдуманные поступки потом повернули против меня. У меня родился мертвый мальчик, и это, видимо, сильно охладило короля, чей нрав не терпел и малейшего разочарования. Я не огорчалась, потому что о последствиях не думала, а меньше видеть короля мне было только приятно. Позже я узнала, что ему приглянулась одна моя фрейлина, и уж ее ли в том заслуга или виной горячий характер короля, но обращаться со мной он стал куда хуже, чем, по моей милости, обращался с моей предшественницей. Охлаждение короля скоро заметили придворные подхалимы, что всегда караулят монарший взгляд, и, смекнув, что со мной можно не церемониться, они из самых пустых поступков и слов и даже из самого моего вида вывели чернейшие замыслы. Горя новым любовным нетерпением, король охотно выслушивал моих обвинителей, сумевших заронить в него сомнение в моей супружеской верности. Прежде он не поверил бы с такой готовностью этим наветам, но сейчас его тешила мысль, что нашелся повод поступить со мной так, как он уже решил поступить без всякого повода; и уцепившись за какой-то предлог и чьи-то показания, меня отправили в Тауэр, определив злейшую мою ненавистницу надзирать за мной и даже спать в моих покоях. Это наказание было хуже смерти, ибо, срамя и насмешничая, она доводила меня до умоисступления, в каковом состоянии я не отдавала себе отчета в своих словах. Она же якобы увидела в них признание того, что я вела предосудительные разговоры с кучкой негодяев, которых я едва ли вообще знала в лицо, и все это могло убедить только тех, кому хотелось верить в мою виновность. Начался суд, и, желая совсем очернить меня, мне приписали преступную связь с собственным братом, которого я в самом деле очень любила, но видела в нем друга и никого больше. Тем не менее меня приговорили к отсечению головы либо сожжению, на усмотрение короля, и король, из великой любви ко мне, милостиво утвердил более мягкий приговор. То, что моя жизнь кончалась таким образом, угнетало бы меня больше, оставайся я в прежнем состоянии, но так мало радости узнала я, будучи королевой, что смерть представлялась наименьшим злом. Другое было горше: то, как я хитростью склонила короля отставить королеву, как жестоко обошлась с принцессой Мэри, как обманула лорда Перси. Как могла, я пыталась умиротворить совесть, надеялась, что мне простятся эти черные дела, потому что в остальном я жила праведно и всегда спешила творить добро. С тех пор, как это стало в моей власти, я без счета раздавала милостыню, сокрушенно отмаливала грехи и с душевной крепостью взошла на плаху. Мне было двадцать девять лет, но в этот краткий срок я, кажется, изведала больше, чем многим выпадает за очень долгую жизнь. Я блистала при дворе, жила рассеянно; на собственном опыте познала силу страстей, помрачающих рассудок. У меня был возлюбленный, которого я высоко чтила, а под конец жизни я была вознесена на высшую ступень, о которой может только мечтать самая суетная из женщин. И ни в каком из состояний не было покоя моей душе, разве что в тот краткий промежуток, когда я отшельницей жила в деревне, вдали от шума и суеты. И когда знала, что меня любит и чтит честный и благородный человек.
Выслушав эту историю, Минос ненадолго задумался, а потом велел отворить ворота и впустить Анну Болейн, рассудив, что отмучившаяся четыре года в звании королевы и все это время сознававшая, сколь поистине жалок этот высокий удел, заслуживает прощения во всем, что она сделала ради него[97].
Примечания
1
Больница св. Марии Вифлеемской, обычно – Бедлам (искаженное Вифлеем), – лондонский приют для душевнобольных.
(обратно)2
Адрес издателя Филдинга Э. Миллара.
(обратно)3
Основанное в 1660 г. Королевское общество, выполнявшее функции национальной академии наук, в XVIII в. Нередко подвергалось сатирическим нападкам просветителей, не видевших большого практического смысла в чересчур специальных исследованиях его членов. Достаточно вспомнить лапутян в «Путешествии Гулливера» Дж. Свифта.
(обратно)4
Абраам Адамс – герой годом раньше вышедшего романа Филдинга «Джозеф Эндрус».
(обратно)5
Группа глаголов в греческом языке, имеющая особенности в спряжении. (Во всех случаях, где нет ссылки на автора, – примеч. перев.)
(обратно)6
Иные сомневаются, не должен ли тут стоять 1641 год, ибо такая дата больше сообразуется с обстоятельствами, изложенными во Введении; однако некоторые пассажи вроде бы касаются событий безусловно позднейших, едва ли не нынешнего или прошлого года. По правде говоря, оба мнения уязвимы, и читатель волен разделить то, какое ему больше нравится. (Примеч. автора.)
(обратно)7
Филдингу в это время (1741) – 34 года.
(обратно)8
Пожалуй, «глаза» не очень годятся для духовной субстанции, однако здесь и много раз потом мы вынуждены прибегать к материальным понятиям, чтобы нас лучше поняли. (Примеч. автора.)
(обратно)9
В таком виде бог является смертным в театральных представлениях. У древних этот бог среди прочих своих обязанностей собирал духов, как пастух собирает овец в стадо, и, помахивая жезлом, гнал их на тот свет. (Примеч. автора.)
(обратно)10
Одна из важнейших обязанностей этого неутомимого бога – сопровождать душу умершего в царство Плутона.
(обратно)11
Имеется в виду известный ювелирных дел мастер
(обратно)12
Ближайшим источником сведений о Петре могла быть книга «История войн Карла XII, короля Швеции» Г. Адлерфельда, вышедшая осенью 1740 г.; в переводе ее на английский язык Филдинг принимал участие.
(обратно)13
Читавшие у Гомера о богах, объятых сном, не удивятся, что такое возможно и с духами. (Примеч. автора.)
(обратно)14
Здесь имеется в виду известная знатная дама, однако применить к себе эту характеристику приглашается всякая дама – и знатная, и не знатная. (Примеч. автора.)
(обратно)15
Мы уже просили извинить нам подобное словоупотребление и теперь винимся в последний раз; впрочем, употребить здесь слово «сердце» в переносном смысле представляется более подходящим, нежели на самом деле вменять телесному органу чувства, которые принадлежат душе. (Примеч. автора.)
(обратно)16
Здесь отразились личные впечатления Филдинга от Голландии.
(обратно)17
«Иначе говоря, бордели, – объясняет этот эвфемизм биограф Филдинга П. Роджерс. – Это было всем понятное иносказание, аналогичное сегодняшнему «салон массажа».
(обратно)18
Объяснимся раз и навсегда: в панегирических пассажах этого сочинения всегда разумеется некое определенное лицо, в сатирических же ничего личного нет. (Примеч. автора.)
(обратно)19
Безвозмездно (лат.).
(обратно)20
Существует предположение, что сифилис завезли в Европу моряки X. Колумба. До XVII в. заболевание называли «испанской болезнью» или «французской болезнью».
(обратно)21
Полное название этого анонимного трактата – «Расчет холостяка издержкам брачной жизни» (1725). В 1730 г. также анонимно вышло «дополнение» – «Женятся только дураки, или Оправдание расчету холостяка».
(обратно)22
Судя по именам, эти дамы ведали проказой, золотухой и цингой. (Примеч автора.)
(обратно)23
У англичан тис – траурное дерево.
(обратно)24
Бленхеймский дворец близ Оксфорда (современники узнавали его в описании Дворца Смерти) был построен для герцога Мальборо (1650 – 1722) в память его победы при Бленхейме в 1704 г. Автором проекта был архитектор и комедиограф Дж. Ванбру (1664 – 1726). Филдинг посещал дворец, был знаком с вдовствующей герцогиней.
(обратно)25
Отражением неприязни к англичанам (персонально к Мальборо) стала французская шуточная песенка «Мальбрук в поход собрался».
(обратно)26
Р. Стил писал в «Зрителе»: «Кажется, это Калигула хотел, чтобы у всех граждан Рима была одна шея, для того чтобы их можно было обезглавить одним ударом».
(обратно)27
Коцит – одна из рек, окружающих преисподнюю.
(обратно)28
Имеется в виду имение Прайор-Парк, принадлежавшее Р. Аллену
(обратно)29
В основе этого обмена жребиями лежит древний анекдот, согласно которому Диоген попросил у Александра единственной милости: не заслонять солнца. Восхищенный царь заметил на это: «Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном».
(обратно)30
В декларациях этого просвещенного монарха нашли отражение некоторые мысли политической утопии Г. Болингброка (1678 – 1750) «Идея о короле-патриоте». Опубликованный только в 1749 г., он с 1738 г. ходил в списках в кругах оппозиции, и Филдинг, несомненно, знал его.
(обратно)31
Сколько захочется (лат.).
(обратно)32
Постоянная на протяжении полутора десятка лет жертва сатирических нападок Филдинга – актер и драматург Колли Сиббер (1671 – 1757).
(обратно)33
В царстве Плутона суд вершили Минос, Эак и Радамант. Согласно Платону, Эак судил европейцев, Радамант – азиатов, а Минос решал сомнительные случаи.
(обратно)34
Еще одна шпилька в адрес ученых членов Королевского общества
(обратно)35
По традиции, берущей свое начало от издания Б. Джонсоном собрания своих сочинений, «сочинения» носят у англичан название «трудов» («works»).
(обратно)36
В Сомерсет-хаусе размещалось налоговое управление и другие государственные учреждения.
(обратно)37
Нельзя сказать со всей определенностью, кого из «патриотов» имеет в виду Филдинг. Один из вероятных кандидатов – У. Палтни.
(обратно)38
Близко к дате, которой открывается «Путешествие» (1 сентября 1741 г.), умерли два лорда-мэра – Хамфри Парсонз (март 1741 г.) и Роберт Годшэлл (июнь 1742 г.). Особой любовью горожан пользовался Парсонз; видимо, он и имеется в виду.
(обратно)39
Дочь Филдинга, пятилетняя Шарлотта, умерла в марте 1742 г.
(обратно)40
Подвиг трехсот спартанцев, погибших со своим царем Леонидом при защите Фермопил в 480 г. до н. э., воспел в поэме «Леонид» (1737) Ричард Главер (1712 – 1768).
(обратно)41
О переводах Гомера, сделанных А. Попом
(обратно)42
Уже в древности за честь называться родиной Гомера спорили семь городов.
(обратно)43
В «Божественной миссии Моисея» (1737 – 1741) богослов У. Уорбертон (1698 – 1779), впоследствии епископ Глостерский, толковал схождение Энея в Аид в христианском духе.
(обратно)44
Актеры-трагики Беттертон и Бут спорят о смысле некоторых слов из монолога Отелло в спальне Дездемоны (акт V, сц. 2).
(обратно)45
Поэт и драматург Л. Теобальд (1688 – 1744) выпустил под своей редакцией пьесы Шекспира (в 1726 г. и 1734 г.). Первое издание вызвало резкую критику А. Попа, высмеявшего Теобальда в «Дунсиаде». В 1747 г. выпустит «своего» Шекспира и душеприказчик Попа У. Уорбертон (см. выше).
(обратно)46
Свидетельством возросшего интереса к Шекспиру стал тот факт, что в 1740 г. на средства, собранные по подписке, в Вестминстерском аббатстве (в «уголке поэтов») ему был воздвигнут мемориал.
(обратно)47
Этот сказочный персонаж фигурирует здесь в качестве героя бурлеска Филдинга «Трагедия трагедий» (1730).
(обратно)48
Карл Мартел – фракийский майордом (высшее должностное лицо государства), дед Карла Великого. В 732 г. предотвратил завоевание Франции арабами.
(обратно)49
О. Кромвель (1599 – 1658) умер 3 сентября, в фатальный для него день: 3 сентября 1650 г. и 3 сентября 1651 г. он одержал победы над королевскими войсками. В преддверии его смерти над Англией несколько дней бушевала буря.
(обратно)50
Годы царствования Карла II Стюарта (Реставрация) – 1660 – 1685.
(обратно)51
Иаков II Стюарт наследовал Карлу II и в 1688 г. Был смещен с престола («Славная революция»).
(обратно)52
«Не желаю стать епископом» (лат.) – троекратная формула отречения при возведении в епископский сан.
(обратно)53
Тит Ливий (59 г. до н. э. – 17 г. н. э.) – римский историк, автор «Римской истории от основания города» (из 142-х книг сохранилось 35).
(обратно)54
Английский историк Натаниэл Хук (1690 – 1764) был автором компилятивной «Римской истории с критическими замечаниями».
(обратно)55
Многочисленные исторические сочинения Лоренса Ичарда (см. коммент. к с. 432) пользовались у современников невысокой репутацией.
(обратно)56
Юлиан Отступник (331 – 363), римский император (с 361 г.), объявивший себя сторонником языческой религии и издавший эдикты против христиан. Упомянутый ниже архиепископ Хью Латимер (1485? – 1555) – деятель английской Реформации при Генрихе VIII и Эдуарде VI. После восстановления католицизма при Марии Тюдор (1553 г.) сожжен как еретик.
(обратно)57
Время жизни Юлиана в «образе» раба – конец IV в. – начало V в. Опорная дата: годы жизни Валента (с 364 г. император восточной части Рима) – ок. 328 – 378. Считая рождением «раба» 364 г. (например, год спустя после смерти Юлиана), получаем, что во Фракию он отправился в 382 г. (364+17+1). Сколько он служил у Родорика, не сказано; допустим, один год, – значит, к вдове-римлянке он попадает в 383 г. Отслужив у нее 7 лет, около 390 г. переходит на службу к языческому жрецу (еще 4 года) и около 394 г. попадает к Иоанну Златоусту (344 – 407). Если Златоуст дал ему вольную при жизни, то император, у которого Тимасий был военачальником, – это Феодосии I Великий (ок. 346—395; император с 379 г.). Если же Златоуст завещал вольную после своей смерти, то «раб» попадает ко двору императора Аркадия, умершего в 408 г. В этом случае интриги, участником которых выступает герой, занимают один год.
(обратно)58
Эти же слова Филдинг скажет в предисловии к переводу аристофановского «Плутоса, бога богатства», который он подготовил весной 1742 г. вместе с У. Янгом (ставшим прототипом пастора Адамса в романе «Джозеф Эндрус»).
(обратно)59
Под именем Евтропия в означенную эпоху известен автор «Краткого очерка римской истории», изучавшегося в английских начальных школах.
(обратно)60
Возлюбленная героя – Ипатия (Гипатия; 370 – 415) из Александрии. Она не только «дочь философа», но сама философ-неоплатоник, математик и астроном. Пала жертвой фанатиков-христиан. Император, на чью женитьбу опаздывает герой, – это Феодосий II (годы правления – 408 – 450).
(обратно)61
Здесь – компенсация, услуга за услугу (лат.); букв. – одно вместо другого.
(обратно)62
Здесь – по достоинству (лат.; букв. – по стоимости (о пошлинах, размер которых определяется стоимостью ввозимых товаров).
(обратно)63
Я же могуществу их не кладу ни предела, ни срока (лат.) (Вергилий. Возвещение Юпитера, I, 278).
(обратно)64
Поскольку при воцарении императора Зенона в 474 г. герою пятнадцать лет, родился он, следовательно, в 459 (или 460) г. Теодорих (Дитрих; ок. 454 – 526) до того, как в 493 г. сделаться королем остготов, состоял на службе у Зенона и, в частности, отвоевал ему (у Одоакра, начальника наемных германских отрядов на римской службе) Далмацию и дунайские земли. По смерти Зенона в 491 г. императором стал Анастасий I. Таким образом, при дворе герой оставался 17 лет; «остаток дней», проведенный им в безвестности на родине, видимо, значителен: он удалился в возрасте 32-х лет.
Бессмысленное, «растительное» существование «наследника» датировке не поддается.
Опорные даты в биографии «плотника»: пленение в 543 г. Велисарием (ок. 504 – 565), полководцем византийского императора Юстиниана I, последнего из известных королей вандалов – Гелимера.
(обратно)65
Собственно говоря, это воплощение было обещано еще в предыдущей главе. «Должность» героя до такой степени ничтожна, что он совершенно «затерялся» в истории: никаких значимых событий вокруг него не происходит.
(обратно)66
Годы правления Юстиниана II – 685 – 695 и 705 – 711. В междуцарствие трон занимал с 698 г. Тиберий III Апсимар.
(обратно)67
Понтификат Григория II: 715 – 731 гг.
(обратно)68
Жизнь «премудрого мужа», как и в случае со «щеголем», никак не ориентирована во времени. По логике нарастающей хронологии, он вел свое вполне бессмысленное существование в VIII в.
(обратно)69
Помни о смерти (лат.)
(обратно)70
Обречен смерти (лат.).
(обратно)71
Не делай чужими руками то, что можешь сделать сам (лаг.).
(обратно)72
Хронология этой главы – конец VIII – начало IX в. Овьедо – столица Астурии в VIII-IX вв. Абдерам (Абдурахман)II – калиф Кордовы; Бернарда дель Карпьо – легендарный испанский герой, участник битвы в Ронсевальском ущелье (778), где потерпела поражение армия Карла Великого и погиб Роланд. В изложении событий этой главы Филдинг опирался на «Историю» Марианны.
(обратно)73
Эту нелепую историю (что-де св. Иаков явился в таком виде, как описан этот малый) серьезнейшим образом передает Мариана (§ 17, 78). (Примеч. автора.)
(обратно)74
Годы царствования этого короля – 898 – 923. В главе упомянуты Домициан, римский император в 81 – 96 гг., и Калигула, назначивший своего коня консулом и приведший его в Сенат.
(обратно)75
Этот пикарескный герой живет, – судя по всему, в X в.
(обратно)76
Имеется в виду следующее место в «Письме об энтузиазме» (1708) А. Шефстбери (1671 – 1713): «Новички между ними [то есть нищими. – Вадим Xаритонов.] могут невинно обходиться «господином» и «бог помилует». Но бывалые старики – не важно, кто едет навстречу в карете, – всегда обращаются к ним со словами «ваша честь» и «ваше лордство». «Потому что если действительно повстречается лорд, то нас иначе накажут, – говорят они, – за то, что неправильно обратились, а если не лорд, то никто не в обиде и никто не рассердится» (раздел IV).
(обратно)77
Здесь впервые действие переносится в Англию. Герой – граф Годвин (ум. 1053). После смерти Этельдреда II (979—1016) и недолгого царствования Эдмунда II (1016) королем в 1016—1035 гг. был Кнут Великий (ок. 995—1035), датский король с 1018 г., король Норвегии с 1028 г. После его смерти держава распалась. В 1035 г. царствовали Хардиканут и Харолд I; в 1035—1040 гг. – Харолд I; в 1040—1042 гг. – Хардиканут. Уэссекскую династию восстановил Эдуард Исповедник (1042—1066). С 1053 г. фактически правителем стал сын Годвина Харолд, в 1066 г. провозглашенный королем. Он погиб в битве при Хастингсе. Харолд II – последний англосаксонский король Англии.
(обратно)78
Очевидно, имеется в виду Робер Жюмьежский, бывший архиепископом в 1051—1052 гг.
(обратно)79
В этой главе излагаются – причем, самое важное, с точки зрения простого солдата – достопамятные события: завоевание Англии Вильгельмом Завоевателем (ок. 1027—1087) и сопротивление феодальной вольницы в первые годы его правления (Осборн Датчанин, Хереворд).
(обратно)80
Шотландский король Малколм III (убийца узурпатора Макбета) признал Вильгельма I в 1070 г. Филипп I – король Франции в 1060 – 1108 гг.
(обратно)81
Стефан (ок. 1094 – 1154) – внук Вильгельма I. Происходившая во все время царствования Стефана борьба за власть между знатнейшими норманнскими родами стала первой гражданской войной в Англии.
(обратно)82
В битве под Кардиганом (1135 г.) уэльсцы, предводительствуемые Ап Рисом, отстояли свою независимость от Англии. Уэльс будет покорен в XIII в.
(обратно)83
Исторический фон, на котором действует герой этой главы, составили драматические события в царствование короля (с 1189 г.) Ричард I Львиное Сердце (1157 – 1199) и короля (с 1199 г.) Джона (1167 – 1216).
(обратно)84
Робин Гуд – герой английских народных баллад, борющийся с норманнскими завоевателями, – фигура легендарная, его исторический прототип с точностью не установлен. Одни антикварии датируют его рождение около 1160 г., а местом рождения называют Локсли в Ноттингемпшире (под именем Локсли он фигурирует в романе В. Скотта «Айвенго»); другие называют его графом Хантингдоном; третьи «точно» указывают дату его смерти – 18 ноября 1247 г. Наконец, ссылаясь на документы, видят его современником Эдуарда II (1307 – 1327).
(обратно)85
Французский король (с 1180 г.) Филипп II Август (1165 – 1223) отвоевал у Джона подвластные ему французские территории (Нормандию и др.), после чего тот стал называться Иоанном Безземельным. Эти события лежат в основе хроники Шекспира «Король Джон».
(обратно)86
Римский папа (с 1198 г.) Иннокентий III (1160 или 1161 – 1216) боролся за верховенство пап над светскими властями; в 1213 г. заставил английского короля признать себя его вассалом. Под давлением недовольных баронов, поддержанных рыцарством и городами, в 1215 г. король Джон подписал Великую хартию вольностей.
(обратно)87
Кардинал Пандульф (ум. 1226) был папским легатом в Англии. В 1216 г. стал епископом Нориджским.
(обратно)88
Понтификат Александра IV: 1254 – 1261 гг.
(обратно)89
В 1255 г. папа убедил Генриха III отвоевать королевство Сицилию для принца Эдмонда. Король запросил у парламента субсидий, и в 1258 г. бароны отвергли сицилийский проект.
(обратно)90
Перевод Н. Старостиной.
(обратно)91
Огромное одиночество (лат.).
(обратно)92
…мы как в петле привычки
К тщеславному делу (лат.)
(Ювенал. Сатиры, III, VII, 50).
(обратно)93
В 1282 г. в результате народного восстания («Сицилийская вечерня») Сицилия отпала от Анжуйской династии. Рыцари-тамплиеры («храмовники») были изгнаны во Францию, где под давлением короля Филиппа VI против них был начат инквизиционный процесс, и в 1312 г. папа Климент V упразднил орден.
(обратно)94
Возможно, здесь имеется в виду хореограф Джон Уивер (1673 – 1760), выпустивший в 1712 г. «Очерк истории танца». Когда писались эти строки, Уиверу было 60 лет, и Филдинг рано его хоронил – он еще переживет самого Филдинга.
(обратно)95
Карл IV Красивый, занимавший трон в 1322 – 1328 гг., был последним из династии Капетингов. На смену ей пришла династия Валуа. Филипп IV царствовал до 1350 г.
(обратно)96
Дальше утрачен целый кусок рукописи, и весьма значительный кусок, судя по номерам книги и главы, содержащей историю Анны Болейн; покрыто полным мраком, как всплыла эта история и кому она рассказывается. Замечу только, что в оригинале эта глава написана женской рукой, и притом, что высказываются в ней столь же превосходные мысли, что и во всей книге, все-таки есть в ее стиле что-то отличное от предыдущих глав, и поскольку рассказывается здесь о женщине, я склонен думать, что автором этой главы была женщина. (Примеч. автора.)
Якобы утраченный кусок рукописи действительно огромен: все предшествующее – это первая книга, а история Анны Болейн – это глава VII девятнадцатой (!) книги. Отсутствующие шестнадцать книг обнимали ничтожный отрезок времени: с середины XIV в. до начала XVI (годы жизни Анны Болейн – ок. 1507 – 1537), и за это время, согласно сказанному в главе X, Юлиан трижды побывал епископом, в том числе – Латимером (см. коммент. к с. 56). Поскольку Латимер был в свое время капелланом Анны, а перед казнью посетил ее в Лондонской башне, эта последняя «роль» Юлиана мотивирует исповедь Анны в корпусе «Путешествия». (Примеч. перев.)
(обратно)97
Здесь обрывается эта любопытная рукопись, продолжение пошло на обертку перьев, табака и прочего. Надлежит надеяться, что впредь невнимательные люди будут осмотрительнее с тем, что они сжигают или используют для иных малопочтенных целей; пусть они вообразят, что такая судьба могла постичь божественного Мильтона и что сочинения Гомера, может статься, были обнаружены в свечной лавке какого-нибудь грека. (Примеч. автора)
(обратно)

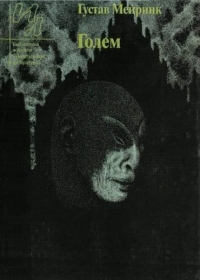
Комментарии к книге «Путешествие в загробный мир и прочее», Генри Филдинг
Всего 0 комментариев