Василий Федоров Канареечное счастье
«Бесспорно талантливый беллетрист» (Жизнь и творчество В. Г. Федорова)
Среди поколения писателей, родившихся в России и начавших писать в 20–30-е гг. за ее пределами, легко назвать десять-пятнадцать значительных поэтических имен, но с трудом можно найти три-четыре равноценных имени прозаиков.
Один из них — Василий Георгиевич Федоров (1895–1959).
И читателю, да и историкам литературы жизнь и творчество этого писателя почти неизвестны. Его скромная личность оказалась в тени, заслоненная фигурами знаменитых современников — И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Б. Зайцева, М. Осоргина, М. Алданова, А. Аверченко, Н. Тэффи, В. Набокова. А между тем было время, когда на Федорова обратили внимание как на одного из талантливых писателей зарубежья.
Такой взыскательный художник, как Владислав Ходасевич, посвятил свою последнюю статью книге Федорова. «Мне хочется приветствовать почин молодого писателя Василия Федорова, только что выпустившего первый том своего романа «Канареечное счастье», — писал Ходасевич. — Поскольку перед нами лишь первый том, трудно судить, во что выльется опыт Федорова, но пока что — не приходится сомневаться, что перед нами именно опыт если не вполне «юмористического», то все же веселого романа. Правда, и федоровская улыбка порою кажется несколько грустной, и можно допустить, что в дальнейшем эта грусть даже усилится, но все-таки в основе замысла у Федорова лежит юмор, притом — легкий и добродушный. К несомненным достоинствам книги надо отнести то, что чувство меры и вкуса почти никогда автору не изменяет, а это как раз самые опасные места, на которых терпит крушения великое множество комических авторов»[1].
Известный литературный и театральный критик Петр Пильский после выхода книги Федорова «Суд Вареника» утверждал: «Это бесспорно талантливый беллетрист… Этот молодой писатель верен и предан крепкой русской литературной традиции. Он лучшее доказательство ее неиссякаемости. Книга производит самое образное впечатление»[2].
По мнению историка культуры, публициста и литературного критика Д. Философова, «Федоров любит слово, умеет видеть; благодаря тому, что (…) сам Федоров талантлив, весь фон его книги до чрезвычайности обаятелен…»[3]
Историк литературы и критик Петр Бицилли отмечал: «…автор эмигрантский писатель; но новороссийская деревня изображена у него с такой жизненностью, с такой свежестью красок, так правдиво и так тонко, что к «эмигрантской» литературе его книга относится столь же мало, как писанные за границей вещи Гоголя, Тургенева и Достоевского»[4].
Авторская судьба Василия Федорова оказалась одной из самых необычных в истории русской литературы зарубежья. Уйдя из жизни, Федоров ушел и из памяти историков литературы. Достаточно сказать, что в «Энциклопедическом словаре русской литературы с 1917 года» Вольфганга Казака, изданном в Лондоне в 1988 г., В. Г. Федоров ни разу не упомянут.
Однако даже при беглом знакомстве с творчеством Федорова становится ясно, что литературное забвение никак не связано с какими-либо художественными недостатками его произведений. Судьба творческого наследия Федорова — следствие недоразумения, которое необходимо исправить.
Конечно, время стремится сделать художника выразителем своих идей и настроений. Писателю как бы остается только выбирать из современности то, что наиболее близко ему. Федоров писал вроде бы не о существенном, а о частном, находящемся вне главных проблем эпохи. И все же произведения его — пестрая, живая картина своего времени.
Федоров обратил на себя внимание современников как знаток эмигрантского быта, живописец природы, защитник «маленького человека». Читателей привлекали в произведениях Федорова нерастраченный в своем богатстве русский язык, любовь к детали, тонкий юмор.
И сегодняшний читатель по достоинству оценит в художнике несомненный дар наблюдательности, высокую языковую культуру, колоритность портретов и речевых характеристик, пафос гуманизма. Лучшие из произведений Федорова и сейчас благодаря своим художественным достоинствам читаются с увлечением.
* * *
Родился Василий Федоров 15 октября 1895 г. в семье урядника земской управы города Херсона. Херсон был тогда самым крупным хлебным рынком и одним из крупнейших лесных рынков Поднепровья. В Причерноморской низменности, в устье реки Днепр и прошли детские годы будущего писателя. Живописные окрестности Херсона утвердили в мальчике чувство прекрасного, внушили глубокую любовь к природе, приведшую к великолепному знанию ее, воспитали сохранившуюся на всю жизнь тягу ко всему жизнеспособному, во многом определив характер его будущего творчества. Жизненный опыт писателя тесно связан с этим краем. Быт, люди, картины природы оставили глубокий отпечаток в сознании Федорова, и впоследствии, спустя годы, он очень часто обращался в своем творчестве к картинам детства, отрочества.
По окончании первой классической гимназии Херсона в 1915 г. Василий поступил на юридический факультет Новороссийского университета, который размещался тогда в Одессе. Однако в 1917 г. он был призван в армию, откуда через два месяца отпущен по болезни.
Причина, по которой Василий Георгиевич в сложнейший исторический момент оказался в эмиграции, проста. Вот как объяснял происшедшее он сам:
«В 1919 году, когда на юге (в Херсонской губернии) беспрерывно продолжалась гражданская война и кроме Красной и Белой армии воевали также различные атаманы — Махно, Петлюра, Григорьев, Струп, а также армии так называемого украинского гетмана Скоропадского, когда Херсон обстреливался с воздуха и со стороны Днепра разного рода интервентами: немцами, французами, греками и англичанами, и город переходил много раз из рук в руки, — я решил на время покинуть родину, чтобы закончить свое образование»[5].
В апреле 1921 г. он пытается перебраться к дяде в Бессарабию, которая тогда принадлежала Румынии. В пограничном городке Бендеры его арестовали и посадили в местную тюрьму, откуда вскоре перевели в кишиневскую. Здесь Василий Георгиевич написал несколько стихотворений, которые переслал на волю. Стихи были напечатаны в газете «Неделя». В тюрьме Федорова посетили поэт-сатирик и драматург Петр Петрович Потемкин и критик Петр Моисеевич Пильский. Благодаря хлопотам Пильского Федоров был освобожден. Он пошел работать на стройку, напечатал несколько фельетонов в кишиневских газетах.
Осенью 1921 г. Федоров перебрался в Бухарест, где устроился маляром в железнодорожное депо. Вскоре он получает место репетитора к дочерям примадонны Королевской оперы русской артистки Ивоны и артистки той же оперы Лучезарской. Для дополнительного заработка Василий Георгиевич поступил платным хористом в церковный хор. В Бухаресте он пел и в украинской оперетте, исполнял роль Петра в комической опере Н. В. Лысенко «Наталка-Полтавка».
Летом 1922 г. Федоров перешел румыно-чешскую границу и оказался в Кошицах. Здесь его снова арестовали, но вскоре освободили. Осенью Василий Георгиевич поступил на Русский юридический факультет в Праге. «Этот факультет, — вспоминал впоследствии журналист и политический деятель Дмитрий Мейснер, — должен был жить, обучать наукам строго по уставу 1889 года и точно по дореволюционной программе. (…) Большинство моих коллег по факультету, если они оставались в Чехословакии, приискивали себе какую-нибудь работу в государственных учреждениях и общественных организациях, занимая самые маленькие места, или же, если им это не удавалось, отправлялись искать счастье или в Париж — столбовая дорога нашей эмиграции, — где они становились шоферами, рабочими на заводах, или уезжали в далекие, часто заокеанские страны»[6].
Преподавателями на факультете были историк философии права, бывший московский профессор П. И. Новгородцев, знаток римского права профессор Д. Д. Гримм, в прошлом сенатор и профессор по кафедре гражданского права С. В. Завадский, русский экономист, философ и историк П. Б. Струве, профессор П. А. Остроухов и другие.
Учение пришлось совмещать с работой. Федоров поступает в русский музыкально-танцевальный ансамбль, с которым колесит по стране. В ансамбле Василий Георгиевич пел, аккомпанируя себе на балалайке, русские песни и цыганские романсы. Изредка он наезжал в Прагу для сдачи экзаменов. В 1926 г. из-за крупозного воспаления легких пришлось оставить сцену. В январе 1927 г., проучившись шесть семестров на Русском юридическом факультете, Федоров оставляет его по собственному желанию.
В Чехословакии началась безработица. Федоров был вынужден перебиваться случайными заработками. Много лет спустя в автобиографической заметке он писал: «Испытал все невзгоды безработицы и случайных грошовых заработков, и после многих лет такой жизни безработного пролетария только в 1935 году мне удалось поступить договорным чиновником в Ужгороде на жалованье 530 крон в месяц. Моя чиновничья «карьера» является ярким примером того, как продвигался в те времена по службе человек со средним и высшим образованием, но без знакомств и протекции. Эта чиновничья дорога напоминает колебания температуры у больного тропической лихорадкой»[7].
В середине 20-х годов в жизни Федорова происходят значительные перемены. Еще в 1924 г. он познакомился с Марией Штефловой. Вскоре они поженились. Сняли ванную комнату в доме в Ржичинах под Прагой. В 1926 г., не совсем еще оправившись от болезни, Федоров пишет здесь свои первые небольшие рассказы. В том же году в третьем номере пражского иллюстрированного литературно-публицистического и информационного журнала «Годы» увидел свет рассказ «Роман с сапогами», а в девятом номере варшавского еженедельника «Родное слово» был напечатан другой его рассказ «Чародейный плес». В четвертом номере ежемесячного журнала «Воля России» за 1927 г. появляется рассказ «Кузькина Мать».
О Федорове заговорили. Вот что писал известный историк и библиограф С. П. Постников:
«Одним ударом — своим рассказом «Кузькина Мать» — г(осподин) Федоров выдвинулся из толпы молодых писателей. (…) Несмотря на богатый бытовой материал рассказа, автор не соблазнился чистым бытописанием, но сумел выдержать своеобразный, «под Гоголя», стиль рассказа и дать захватывающее читателя повествование. Как раз в тех местах рассказа, где молодой писатель мог бы увлечься описаниями и подробностями, Федоров иронически обрывает себя и спешит с развертыванием сюжета. Первый дебют Федорова на редкость удачный и позволяет говорить о нем как о сложившемся писателе»[8]. Говоря о молодых авторах, которые имеют свою писательскую индивидуальность, Постников назвал только трех — Вл. Сирина (Набокова), Вл. Сосинского и В. Федорова.
Следует сказать несколько слов о журнале «Воля России», который был основан как газета в Праге в 1922 г. Журнал издавался под редакцией В. И. Лебедева, М. Л. Слонима, Е. А. Станиславского и В. В. Сухомлинова. В эмигрантской жизни 20-х годов он занимал особое положение. В 1926–1929 гг. по вторникам в редакции журнала устраивались «литературные чаи». На них обсуждались новые произведения известных писателей, звучали проза и стихи в авторском чтении. В 1926 г. журнал предоставил свои страницы молодым писателям русской эмиграции. Вначале читателю были представлены поэты В. Андреев, Б. Божнев, А. Гингер, А. Ладинский, А. Присманова, Б. Поплавский, В. Лебедев, А. Туринцев и другие. За поэтами свои произведения опубликовали прозаики Г. Газданов и В. Федоров.
Федорова приняли в Союз русских писателей и журналистов в Чехословацкой республике. В 1928 г. он вместе с Е. Н. Чириковым участвовал от Чехословакии в работе съезда русских зарубежных писателей, проходившего в Югославии. В Белграде он познакомился с Владимиром Набоковым. Правда, встречаясь, они разговаривали только о бабочках: Федоров, как и Набоков, был страстным коллекционером и большим знатоком бабочек.
Известно, какую значительную роль в жизни писателей играют литературные объединения, кружки, салоны. В любую эпоху они делают внешне незаметное, но очень важное дело. Поэты, прозаики, критики, встречаясь друг с другом, участвуя в литературных беседах, чтениях, обмене мнениями, постоянно учатся.
Федоров начал посещать кружок «Далиборка», названный так по кафе, где собирались участники кружка. Организаторами кружка были В. А. Амфитеатров-Кадашев, П. А. Кожевников, Д. Н. Крачковский и С. К. Маковский. (Кружок существовал в Праге в 1924–1933 гг.) В кружке выступали как начинающие, так и заслуженные писатели — А. Воеводин, Н. Еленев, В. Лебедев, Вас. Немирович-Данченко, Л. Урванцев, С. Шовгенов, А. Эйснер и другие.
В 1926 г. Федоров вошел в литературное объединение «Скит», руководимое известным историком литературы, критиком и библиографом Альфредом Людвиговичем Бемом. Молодой автор прочитал здесь свой рассказ «Кузькина Мать» и был подвергнут суровой критике.
Датой возникновения «Скита» (первоначально «Скит поэтов») считается 26 апреля 1922 г., день, когда приехавший из Варшавы А. Л. Бем прочел кружку литературной молодежи лекцию на тему «Творчество как особая форма активизма».
А. Л. Бем родился в Киеве в 1886 г. Образование получил на историко-филологических факультетах Киевского и Петербургского университетов. Еще в России Бем напечатал ряд трудов, статей по теории поэзии, истории литературы, библиографии. Он был ученым хранителем рукописного отделения Библиотеки Академии наук в Петрограде, секретарем редакции издания «Обозрения трудов по славяноведению». В 1919 г. он уехал в Варшаву, а затем, перебравшись в Чехословакию, состоял лектором русского языка в Карловом университете, преподавал историю русской литературы в Педагогическом институте имени Я. Коменского, был членом Славянского научного института в Праге, сотрудником Научного общества при Немецком университете в Праге, секретарем Русского педагогического бюро, активным членом Союза русских писателей и журналистов в Чехословацкой республике.
Наибольшую известность Бем получил как пропагандист и исследователь творчества Ф. М. Достоевского. Он был основателем и руководителем научного семинара по изучению Достоевского при Русском университете в Праге, учредителем и главным деятелем Общества по изучению Достоевского при Славянском научном институте, секретарем чешского Общества Достоевского:
Следует заметить, что Альфреду Людвиговичу Бему вместе с Сергеем Владимировичем Завадским принадлежит особая заслуга в культурной жизни русского Зарубежья: благодаря, в частности, и их инициативе было введено ежегодное празднование Дня русской культуры за рубежом в день рождения А. С. Пушкина. В 1937 г. в дни празднования пушкинского юбилея Бем был избран членом Пушкинского комитета в Праге. Совместно с Романом Якобсоном он редактировал собрание сочинений Пушкина на чешском языке.
Жизнь Бема трагически оборвалась в конце мая 1945 г. в Праге. Он был арестован советскими работниками Наркомата внутренних дел. Находясь под следствием, Бем покончил жизнь самоубийством.
В эмиграции Бем с необычайной энергией принялся собирать воедино молодые литературные силы. «Скит» являл собою истинное содружество молодых писателей. В этом объединении Бем был главным работником. Он понимал, что молодая литература в эмиграции осталась как бы без тем, во всяком случае, без основной темы, что надо помочь молодым талантам определиться. Бем с горечью отмечал, что быт эмиграции мелок и лишен корней. В противовес этому в объединении культивировалось почитание Пушкина, поддерживался интерес к советской литературе. По свидетельству учеников, из советских прозаиков Бем выделял И. Бабеля, Ю. Олешу, М. Зощенко. Он ценил творчество Б. Пастернака, О. Мандельштама, Э. Багрицкого, М. Цветаевой.
Деятельность «Скита» проходила в нескольких направлениях: велась теоретическая работа по изучению проблем творчества, читались доклады (как самими участниками кружка, так и приглашенными лицами). Для участников кружка Бем прочитал серию теоретических лекций о поэтике. Практическая работа состояла в чтении и разборе произведений. Альфред Людвигович многим помог своими советами.
С 1927 г. Бем начал устраивать публичные выступления участников «Скита».
В эти годы завязалась дружба двух «скитовцев»: поэта Вячеслава Лебедева и прозаика Василия Федорова, знакомых еще по «Далиборке». Они были во всем очень не похожи, но оба чувствовали внутреннюю, духовную близость друг к другу.
В 1929 г. под маркой «Скита» стала выходить серия изданий стихов и прозы. Первым выпустил книгу стихов «Звездный крен» Лебедев. В 1930 г. был издан сборник рассказов Федорова «Суд Вареника». Книга вышла тиражом 1000 экземпляров. В нее вошли рассказы, написанные в 1926–1930 гг.
Критика положительно оценила первую книгу писателя. В отзывах подчеркивалась связь прозы Федорова с традициями русской литературы. Творчество молодого писателя получило одобрение самых взыскательных читателей.
Поэт, беллетрист и литературный критик Евгений Недзельский писал: «Я не сомневаюсь, что будущие поколения будут оценивать талант Федорова как юмориста жесточайшей эпохи…»[9]
Талантливый критик Герман Хохлов констатировал: «Федоров настоящий писатель, и его грубоватая, ироническая и насмешливая книга рассказывает о подлинной жизни…»[10]
И все же условия для творчества, несмотря на все заботы Бема, не были идеальными. Прежде всего угнетала оторванность от родной земли, народа, языка. К этому добавлялись еще и тяготы материальные. Поэт и литературный критик З. Н. Гиппиус свидетельствовала: «Когда бывший военный офицер делался шофером такси, это не так уж плохо: воевать и служить ему все равно негде, нет ни войны, ни русского полка. Но если молодой интеллигент со склонностью к умственному труду и со способностями или талантом писателя убивает себя то на малярной работе, то делается коммивояжером по продаже рыбьего жира для свиней… — это дело как будто иное… Гибло целое литературное поколение»[11].
В 1933 г. Федоров получил по договору должность юриста магистрата в Ужгороде. В Ужгород Федоровы приехали еще в 1932 г. В письме от 29 сентября 1932 г. к писателю Василию Ивановичу Немировичу-Данченко (в свое время Немирович-Данченко помог Федорову получить небольшую литературную стипендию от чешского правительства) Василий Георгиевич писал:
«…Судьба моя сложилась так, что необходимо было навсегда покинуть Прагу, и я с женой переселился в Ужгород.
Мне очень жаль, что я не смог с Вами попрощаться и с Еленой Самсоновной (Тизенгаузен. — В. Я.), Вы и графиня всегда были чрезвычайно добры ко мне и жене и во многом мне помогали. В последнее время мне было очень трудно жить в Праге, заработка не было никакого, и мы с женой изрядно голодали. Конечно, и в Ужгороде устроиться на какую-либо службу очень трудно, но здесь хоть есть какие-то надежды, а в Праге их вовсе не было. (…) Грустно, конечно, менять Прагу на такую дыру, как Ужгород. Боюсь, что завязну в этой трясине по уши и разучусь даже говорить по-русски (здесь говорят на странном жаргоне — смесь польского, мадьярского и малороссийского языков). (…)
Живем мы с женой пока на винограднике под городом (или, вернее, над городом), платим за квартиру 230 крон с электричеством. Денег нам еще хватит недели на две, а дальше все покрыто мраком неизвестности»[12].
В отдаленной провинции, какой было Закарпатье в буржуазной Чехословакии, Федоров прожил семь лет. В 1938 г. он был переведен из Ужгорода актуарским адъюнктом земского уряда в город Хуст.
Одно хорошо: все это время писатель жил в близости к природе.
«В. Г. Федоров с детства любил природу, любил ловить рыбу, ходить на охоту, а также коллекционировать мотылей и бабочек, — вспоминала его жена Мария Францевна. — Во время пребывания в Ужгороде была возможность этим заниматься. Эта тема также находит свое отражение в его рассказах и новеллах. В 1938 году Ужгород заняли венгры, поэтому учреждения переселились в город Хуст. Коллекцию мотылей и бабочек Василий Георгиевич подарил ужгородскому музею»[13].
Федоров был еще молод, полон сил и желания работать. В 1933 г. издательством общества «Школьная помощь» в Ужгороде была выпущена вторая книга писателя — «Прекрасная Эсмеральда». Здесь как бы воссоздано живое течение жизни эмиграции.
Талант Федорова расцветал. Его рассказы все чаще появлялись в журналах. 1926–1938 гг. — самые плодотворные в жизни Василия Георгиевича. Это годы творческого подъема, своеобразного взлета писательской популярности. В это время он сближается с чешским поэтом Йозефом Горой. В 1937 г. в Ново-Почаевский монастырь приезжал гостить из Парижа известный писатель Иван Сергеевич Шмелев. Он не обошел вниманием младшего собрата: на Ужгородской земле произошло их знакомство. Из Парижа Шмелев прислал Василию Георгиевичу книги своих рассказов с дарственными надписями. На одной из них он написал: «Братский привет В. Г. Федорову с искренним пожеланием достойно продолжать великое дело родного Художественного Слова. Ив. Шмелев. 13/26 июня 1937 г. Париж»[14].
Федоров пробует свои силы в публицистике: в 1934 г. печатает в девятом, десятом номерах варшавского журнала «Меч» статью «Бесшумный расстрел. (Мысли об эмигрантской литературе)». Писатель остро поставил вопрос: почему с молодой эмигрантской литературой дело обстоит неблагополучно? — и ответил на него. Он назвал несколько причин неблагополучия, и первой среди них была зависимость от той или иной литературной группировки как в социальном, так и в художественном плане. Так, негласная установка писать, равняясь то на Пруста, то на Джойса, исходила, по мнению Федорова, от парижской группы ведущих русских писателей. Но нельзя работать, подчеркивал Василий Георгиевич, «в отрыве от живых истоков русского языка и от вековой русской литературной традиции»[15]. Живя в трудных материальных условиях, писатели-эмигранты, по словам Федорова, работают без всякой моральной поддержки со стороны критики. «Есть все же какая-то доля надежды, что кирпич будет сдвинут (увы, через четырнадцать лет!), и полузадушенный, полураздавленный эмигрантский писатель скажет наконец свое слово»[16] — так заканчивалась статья.
Первым на нее откликнулся старейший писатель, драматург и критик Д. С. Мережковский. «Около важного» — так он назвал свой ответ. Полемизируя с Федоровым, Мережковский писал только о литераторах, группировавшихся вокруг парижских сборников «Числа». Он заявил, что жаловаться на судьбу молодым эмигрантским писателям не следует, что им надо «научиться культуре»[17].
Федоров ответил Мережковскому статьей «Точки над «і». Прежде всего он заметил, что понятие «эмигрантская литература» включает в себя не только писателей, печатающихся в сборниках «Числа». «Можно приобщиться к культуре, можно понять чужую культуру (и даже полезно ее понять, не спорю), — писал Федоров, — но «научиться ей» невозможно».[18] И жизнь эмиграции можно описать по-русски.
В связи со статьей Федорова в полемику включились Д. Философов, А. Бем, Л. Цуриков и другие.
Известный писатель русской эмиграции Борис Константинович Зайцев так писал об этом: «Журналы, газеты эмиграции мало печатали молодых (…). Отношения между старшими русскими и младшими были неблестящие. Одна сторона мало замечала другую, мало ей интересовалась, младшая чувствовала себя полуобойденной, с самолюбием несколько уязвленным. Поводы к этому отчасти и были. Никто никого гением не считал, но были в обоих слоях такие, кто недовольства не скрывал»[19].
Как бы отвечая Мережсковскому делом, Федоров пишет роман из эмигрантской жизни, отказываясь «от мертвых схем и зыбких мудрствований». В 1938 г. в издательстве общества «Школьная помощь» первая часть романа В. Г. Федорова «Канареечное счастье» увидела свет.
В этом романе, пожалуй, впервые с такими психологическими подробностями, с таким юмором изображена жизнь эмигрантов. Тональность повествования у Федорова лишена трагической напряженности. Под внешней примиренностью с судьбой скрывается неугасающее стремление к счастью героев романа — Наденьки и Кравцова.
В рецензии на роман Бицилли писал:
«Жизнь протекает в двух планах. Люди влюбляются, женятся, заботятся о хлебе насущном — это план вечности. Все остальное относится к плану истории. Поскольку мы участвуем в жизни, мы не различаем этих двух планов. Но как быть, когда в результате «мутации» человек выключен из истории и обречен на то, чтобы в плане историческом только «играть роль»? Как в таком случае, принимаясь за повествование о жизни, соблюсти требование единства, слияния обоих планов? Как избежать той фальши, в какую обычно вследствие этого впадают авторы «исторических» романов? Автору удалось разрешить эту задачу благодаря присущему ему чувству юмора. Юмористическим колоритом окрашены у него оба плана. Его Наденька — олицетворение «вечно женственного» начала; но оно у автора не возвеличено, не превознесено, а скорее, пожалуй, снижено. Наденька — обыкновенная, ничуть не «идеальная» женщина. Она влюбляется в «героя», но не «бездумно», а так, что сразу же подумывает о том, как ей с ним «устроиться»; ко всему она относится с выдержкой, трезво, с житейской мудростью, умеряя пыл «героя» и подсмеиваясь над его романтичностью. В сущности, эта будничность, трезвость, умеренность женщины — это и есть самое «вечное» в ней и самое жизненно важное.
Ведь этим-то держится жизнь (Толстой, как никто, понимал это). При таком подходе к обоим планам жизни автор свободно и легко сочетает их, эпизоды, относящиеся к каждому из них, чередуются у него так, что повествование движется ритмично, как сама жизнь, и художественное единство ни разу не нарушается. В этой правдивости книги В. Федорова, состоящей в строгом соответствии содержания и формы, ее главное достоинство и особая ее привлекательность»[20].
Федоров продолжал работать над второй частью романа. Сохранились черновики второй части. Работа продвигалась медленно.
В 1940 г. Василий Георгиевич возвращается в Прагу. Он еще не знает, куда его пошлют служить. С удовольствием откликается он на предложение директора Русского культурно-исторического музея писателя Валентина Федоровича Булгакова выступить на очередном заседании руководимого им кружка по изучению современной русской литературы при Русском университете в Праге.
«В Вашем литературном кружке, — писал 21 мая 1940 г. Федоров Булгакову, — могу прочитать 5 июня доклад на тему «Основные мотивы в творчестве Бунина». Что касается моих собственных литературных работ, то все мои рукописи еще запакованы в пришедших недавно из Венгрии ящиках, и я еще, за недосугом, не приступал к распаковке»[21].
Он получает место чиновника.
Оккупация Чехословакии Германией и начавшаяся вторая мировая война надолго парализовали русскую литературную жизнь в Праге. Некоторые писатели умерли, некоторые уехали во Францию или в Америку. Были и такие, что погибли в фашистских концлагерях. «Скит» прекратил свою деятельность. Жизнь пражской эмиграции становилась все более суровой. Пять раз Федорова арестовывали и посылали на принудительные работы. Здоровье его было подорвано.
Всю войну Федоров оставался в Праге, где и встретил вступление советских войск. После войны он занял прежнее место чиновника.
«За двадцать пять лет многие русские так крепко связались с работой и жизнью в стране, их приютившей, что уже не находили в себе душевных и физических сил искать путей домой»[22],— вспоминал Д. Мейснер.
С 1945 г. Федоров преподавал русский язык на различных курсах и в кружках. В 1947 г. он вступил в социал-демократическую партию, а затем — в Коммунистическую партию Чехословакии. С конца 1949 г. Василий Георгиевич работает в системе внешней торговли переводчиком, сначала — в организации «Ково», потом — в Техноэкспорте, «Мотоков» и «Инвесте». В 1952 г. он составляет чешско-русский словарь по турбинам для служащих «Инвесты».
Федоров не печатался с конца 30-х гг. О нем совсем забыли. И вот в 1951 г. в первых номерах журнала «Литературный современник» появляются первые публикации двух его работ.
В 1956 г. Василий Георгиевич вместе со своим другом Вячеславом Лебедевым начал сотрудничать в газете «Наша жизнь», которая выпускалась Обществом советских граждан в Чехословакии. В третьем, ноябрьском, номере газеты был опубликован отрывок из нового романа Федорова «Человек задумался». Над этим романом он работал несколько лет. Одновременно он собирался издать сборник рассказов на чешском языке о военных годах в Чехословакии.
В 1958–1959 гг. Федоров предпринял попытку связаться с советскими журналами. Он посылает в редакцию журнала «Огонек» свои рассказы, но опыт заканчивается неудачно. Журнал под разными предлогами отказывает Федорову в публикации произведений.
Несмотря на тяжелую болезнь сердца, писатель полон творческих планов На его письменном столе лежат почти готовые первые части автобиографического романа. Но замыслам не дано было осуществиться. 8 марта 1959 г. Василий Георгиевич Федоров скончался. Похоронен он на пражском русском Ольшанском кладбище недалеко от могил А. Т. Аверченко, Е. Н. Чирикова, Вас. И. Немировича-Данченко, Д. М. Ратгауза.
К сожалению, талант В. Г. Федорова реализовался не полностью. При других, более благоприятных обстоятельствах его вклад в литературу мог бы быть более весомым, но и того, что он сумел написать, достаточно для благодарной памяти о нем.
* * *
Действительно, художественное наследие Федорова невелико. Это два десятка рассказов, две повести, пять публицистических статей, два незавершенных романа, незаконченная пьеса, несколько стихотворений и газетных заметок. В юности он сотрудничал как журналист в херсонских газетах «Родной край» и «Херсонское утро».
Цикл рассказов, составивших первую книгу Федорова, — «Суд Вареника», связан местом действия — Поднепровьем. В книге пять рассказов. Писатель с удивительной точностью и выразительностью поведал о конкретных человеческих судьбах. «Суд Вареника» — воспоминания о юности, о гражданской войне. Революция с ее противоречиями, добром и злом, жаждой социальной справедливости и неоправданной жестокостью смотрит на нас со страниц этой книги.
Герои Федорова не являются личностями выдающимися. Напротив, они не только не выделяются из окружающей среды, но и как бы слиты с массами. Писатель пристально вглядывается в лица, и каждое лицо для него интересно и значительно.
Федоров зачастую соединяет зарисовки природы с повседневной прозой быта, обращая внимание на их вопиющее несоответствие. Он предпочитает четкость, прорисованность, естественность любой невнятице, мастерски владеет диалогом. Юмор его нередко переходит в гротеск.
«Мне лично всегда казалось, что писатель должен прежде всего бояться многословия (безжалостно вычеркивать в своих произведениях целые страницы и видеть всегда перед своим мысленным взором непревзойденные образцы лермонтовской и пушкинской прозы, где нет ни одного слова лишнего, — писал Василий Георгиевич. — Поэтому, вероятно, я так крепко люблю Мопассана-новеллиста (больше всех на свете) (…). Вы понимаете, конечно, что я говорю не о «простоте стиля», — наоборот, стиль должен соответствовать духу эпохи, — а о той особой художественной сдержанности, которая так отличала всегда великих русских классиков — Тургенева, Толстого, Гончарова»[23].
В этих словах — определенная программа, с четкостью сформулированная Федоровым в зрелые годы, но уже ясная ему в начале творческого пути. Он убежденный последователь традиций русской классики, в частности Гоголя, Лескова. Произведениями Гоголя он восхищался еще в юности. Вместе с тем он прекрасно понимал, что не может быть простым подражателем великого писателя, и об этом сказал в своей речи о Гоголе, произнесенной в День русской культуры в Ужгороде в 1934 г.
К рассказу, к новелле Федоров подходил с особыми мерками. В конце 50-х гг. он писал:
«Но вот с чем я никак не могу согласиться — с выдвигаемым Вами требованием «полного раскрытия характеров» действующих лиц в коротком рассказе, где стержнем всего повествования является всегда какой-либо эпизод. Ведь это же не роман и не повесть, когда раскрытие характеров действующих лиц вполне законно и даже необходимо, так как там дело идет о широком полотне, с присущим ему бытом, привычками, укладом жизни. Конечно, и в новелле люди должны быть живыми, но это достигается не «раскрытием характеров», которое, по моему мнению, в новелле совсем не нужно и даже излишне, так как загромождает композицию, а правильно написанными диалогами, непременно короткими, ибо излишняя болтовня действующих лиц погубила уже не одного литератора. Вы сами знаете хорошо, что в современной литературе диалог принял форму сплошного монолога, а новелла, утратив окончательно свои особенные черты, превращается постепенно в растрепанный и художественно недисциплинированный рассказ с десятками восклицаний, междометий, таким «причмокиванием», как за кипящим самоваром где-либо в глухой провинции. Несомненно, что и в новелле более или менее намечаются характеры ее героев, но основная цель новеллы совсем не в этом. Новелла, по моему мнению, всегда объясняет какой-либо эпизод — драматический или комический, заставляет читателя задуматься над каким-либо случаем или жизненным событием. Я говорю это, понятно, в порядке не обмена мнениями…»[24]
Как мы уже говорили, постоянная тема в творчестве Федорова — жизнь русских в чужой стране, в эмиграции. Он прекрасно знал своих героев и ярко описал их в серии рассказов, составивших его вторую книгу, — «Прекрасная Эсмеральда» с подзаголовком «Эмигрантские рассказы». В книгу, кроме повести, давшей название сборнику, вошло восемь рассказов.
Заглавие сборника характерно: в нем как бы зафиксировано свойственное эмиграции противопоставление идеала реальности. Наблюдательность, умение увидеть суть за внешним — эти качества Федоров проявил во второй своей книге в полной мере.
Жизнь героев рассказов протекает в мучительных внутренних раздорах, в противоречиях между порывами духа и практической необходимостью, в постоянной борьбе с обстоятельствами. Размышляя над жизнью русских, живущих за рубежом, Федоров акцентирует внимание на совершенно нетерпимом положении рядовых эмигрантов. Герои его рассказов: агент по продаже швейных машинок («Последнее гаданье Стивенса»), военный («Русские праздники»), студент («Восемь моих невест»), интеллигент («Грибная история») — пребывают в состоянии разочарования, осознавания ненужности, бесперспективности дальнейшего своего существования.
«Жизнь за ширмой» — так назван один из рассказов. В немецкой больнице после катастрофы умирает бывший полтавец Сидоренко. Ему вспоминается газетная фраза: «От западной Европы нас, русских, отделяет ширма». И его, умирающего, отделяют от палаты ширмой. В предсмертном бреду он мысленно возвращается в Россию. «Ему хочется целовать землю, упасть на колени и целовать пахнущую чебрецом и весенними дождями родную русскую землю».
Почти в каждом рассказе Федорова есть слова о России. Духовная связь с русской действительностью глубока и органична. Память о Днепре, о Полтаве, о Херсоне, о России навсегда с писателем. И эта память, постоянно присутствуя в его произведениях, придает им особую убедительность. В каждом из них бьется доброе, страдающее сердце писателя.
Книга «Прекрасная Эсмеральда» заканчивается рассказом «Мертвая голова». В поисках редкой бабочки герой попадает на болгарское кладбище на берегу моря. И здесь ему впервые приходит на ум, что душа его настолько огрубели в скитаниях, что мертвая латынь звучит для него упоительно, а его интерес к энтомологии — это просто «любование смертью, высматривание всех уголков, где она справляет свой вечный праздник». Прекрасное знание материала, изящнейшая обрисовка деталей, тонкая наблюдательность при некоей внешней отстраненности, мастерство пейзажа — все в этом рассказе по совершенству выражения напоминает некоторые страницы Набокова, при несомненной авторской оригинальности.
У Федорова не найдешь идеального героя. Зато в большей части его многочисленных рассказов действует смех. Федоров умело сочетает точный, мастерский анализ душевных переживаний с иронией, усмешкой, причем чувство юмора у него более служит частным характеристикам, а не общим идейным задачам. Русская литература больше тяготеет к сатире. В прозе же Федорова художественные возможности именно юмора обнаруживаются с очевидной наглядностью. Трагикомический эффект достигается тем, что смешно рассказывается о вещах и событиях серьезных.
В повести «Финтифлюшки» нет ни одной страницы, не вызывающей улыбку или смех, но это менее всего юмористическая повесть. Ее герой Кукуреков проживает свою жизнь совершенно нелепо, но в полнейшем соответствии с «героической схемой». Тут и туруханская ссылка, и побег из нее, и переход румынской границы, и многое другое. Это житие «революционера и эмигранта поневоле», рассказанное им самим. Но повесть «Финтифлюшки» — как бы и размышление писателя о сложностях и жестокостях своего времени.
Роман «Канареечное счастье», по словам самого Федорова, представляет собой подробный рассказ о «той горькой жизни, какой мы дышали в изгнании». В романе нет разделения героев на избранных и толпу, да такое разделение и несвойственно Федорову.
«Почему не признаться чистосердечно, — писал он, — что эмиграция вовсе не миф, не только «дурная сказка», а своеобразный уклад жизни с своим особенным опытом, что она заслуживает того, чтобы о ней именно писали ее писатели»[25].
Писатель довольно резко обозначил «каркас» юмористического романа. Отдельные эпизоды, из которых строится роман, пронизаны улыбкой, что создает нужный настрой. Федоров выделяет в каждом из персонажей романа какую-либо черту, которая и становится стержнем образа. Следуя принципу искать и выражать самое общее и интересное всем людям, Федоров и в частных судьбах, и в историях заурядных и даже анекдотичных стремится выйти на обобщения общечеловеческие.
Первые страницы романа задают ему ретроспективный характер. Все то, что «было после», содержится в этих страницах лаконично-сгущенно. Поэтому концовка первой части как бы возвращает читателя к началу, образуя незапланированный автором «кольцевой» композиционный эффект.
С начала 50-х гг. Федоров много работает над автобиографическим романом. Первоначально он дает ему название «Жизнь наизнанку», однако в процессе работы оно заменяется другим — «Человек задумался». Оба заглавия важны для понимания произведения, оставшегося незавершенным.
Роман основан на впечатлениях и воспоминаниях самого Федорова. Старый мир, вековой уклад России рушатся, хороня под своими обломками тысячи ни в чем не повинных людей. Накал драматических событий нарастает от страницы к странице. Писатель создает трагическую картину исхода.
Вот авторский план романа:
«I часть. Бегство.
II часть. Константинополь и скитания с театром по Чехословакии.
III часть. Любовь и эмигрантская общественность.
IV часть. Буржуазная Европа.
V часть. Фашисты и приход Советской Армии»[26].
Были написаны вчерне три части романа, над четвертой Федоров работал до своего последнего дня.
«Больше всего меня занимает сейчас период немецкой оккупации, так как он дает возможность, уже на расстоянии и в художественном фокусе, сконцентрировать все самое главное, отбросив сырой материал, — нагромождение ненужных фактов, — писал Василий Георгиевич. — Кроме того, этот период позволяет заглянуть как в самые темные стороны человеческой натуры (жестокость, предательство, малодушие, трусость, эгоизм), так и в область исключительного героизма, проявленного лучшими представителями чешского народа. В общем, это время по своему драматизму является неисчерпаемым источником тем для каждого писателя. И наконец, что самое важное — только с известной дистанции и возможен синтез событий, без которого, как мне кажется, нельзя коснуться ни «вечных» тем, ни глубоких сюжетов…»[27] Этому периоду посвящен рассказ «Счастье Франтишка Лоуды», который впервые публикуется в данной книге.
* * *
В статье «Литература в изгнании» В. Ходасевич писал, что главная беда современной ему эмигрантской литературы не в том, что она эмигрантская, а в том, что она недостаточно эмигрантская. Писателям, оказавшимся вне России, эмиграция не дала ни темы, ни идеи, в лучшем случае, сообщила интонацию — парижскую, берлинскую, пражскую, харбинскую «ноту». Трагедия писателей эмиграции выразилась не в том, что написано, а как написано.
Федоров — явление уникальное в русской литературе Зарубежья. Пожалуй, он единственный из писателей, которого можно назвать собственно эмигрантским. Лучшие его произведения не могли быть написаны не в эмиграции.
Сейчас мы с полным основанием можем сказать, что все значительное в наследии русского писателя Василия Георгиевича Федорова является частью нашего национального достояния и что оно должно быть нами воспринято и освоено, как и всякое другое явление в культуре нашего народа. Думается, что произведения Федорова найдут своего читателя, и его творчество по праву займет достойное место в истории русской литературы XX столетия.
Вяч. Нечаев
Повести
Финтифлюшки
1
Скажу прямо — человек я аккуратный. Аккуратность я, можно сказать, всосал с молоком матери. И хоть фамилия моя чисто русская — Кукуреков, однако еще в школе получил я прозвище Немец, за аккуратность свою и благочиние. Надо сказать правду: маменька наша, Пелагея Осиповна, пуще всего блюла порядок. Бывало, увидит в хлебе или в бублике запеченного таракана — вся затрясется, побледнеет, слова не может вымолвить. И уж такая чистеха была — на редкость.
— Разуйся, Сеня, разуйся! — кричала она папаше, когда он приходил со службы в пыльных штиблетах. — Нет моих сил убирать за вами…
Делать нечего. Смирный был человек папаша — тут же без лишних слов стягивал с ног штиблеты и, уже босиком, шел в комнату.
— Ишь, отрастил ногти! — ворчала маменька. — Горе мне с вами. Чиновник… благородный… А когти, как у нечистой силы.
Смущался папаша. Тихий он был человек, мягкий. Может быть, по случаю раны был он такой спокойный. А рану ему учинил драгунский офицер Рислинг. Шашкой рубнул он по голове папашу — озорства ради и по причине увеселения знакомой девицы. Собственно, дело было так: папаша шел на службу в Казенную палату. Рислинг же, этот самый драгун, провожал под ручку барышню Лебединскую. В тот год началась как раз русско-японская война, и офицеры повсюду были в большом изобилии. Увидел Рислинг папашу, остановил на улице и говорит:
— Ты это, — говорит, — почему мне не козыряешь? Кокарду начипил, а воинской дисциплины исполнять не хочешь?
Известное дело — выпивши был офицер Рислинг.
— Я, — говорит, — могу тебя казнить.
Засмеялась тут барышня Лебединская. В этот самый момент и ударил Рислинг папашу шашкой. Долго потом хворал папаша — месяца три пролежал в постели. А когда поднялся и пошел на службу, чиновники стали над ним смеяться:
— Проклеванный ты человек, Семен Ефремыч! Конченый, говорят, ты человек, порченый.
Сказать правду, изумительно и поразительно переменился с той поры папаша. Раньше как-то и веселей был, и в карты любил поиграть, и побалагурить. А то вдруг совсем размяк, насупился, редко когда слово какое скажет. Да и скажет это самое слово — сердце воротит от жалости.
Подойдет этак ко мне вечерком:
— Что, обучаешься, Елпидифор?
— Обучаюсь, папаша. Естественную историю готовлю.
— Обучайся, — говорит. — Узнавай.
Перевернет страницу, посмотрит картинку.
— Вот, — говорит. — Инфузории… Морская фауна… А я всю жизнь, может, дал бы, чтоб увидеть эту морскую фауну… Только и слышишь от людей: есть, мол, на свете прекрасный вид на море. А какой это вид на море? Какая такая фауна?.. Куда там нашему брату чиновнику увидеть вид на море!
И так это жалостно скажет, с такой горестью… Сам бы заплакал, на него глядя.
А тут еще случилось со мной в скором времени происшествие. Выгнали меня из городского училища. Собственно, из-за аккуратности своей пострадал я, к тому же совсем невинно. Было мне в то время годков четырнадцать…
Иду я как-то домой из школы, вижу — мадам остановилась на тротуарчике, читает афишку. Глянул я на нее сзади и поразился. Неужто, думаю, ничего не замечает? Нет, стоит себе спокойно, зонтик в ручке переворачивает как ни в чем не бывало. Оробел я немножко спервоначалу, однако подумал и подошел.
— Мадам, — говорю. — Обратите ваше внимание…
Оглянулась она, глаза прищурила. На носу у нее очки золотые блестят. Страшно мне стало от важности ее и красоты.
— У вас, — говорю, — мадам, неаккуратность. Панталончики, — говорю, — малость упали. Видать, тесемка ослабла.
Качнулась она в сторону.
— Что? — кричит.
Оробел я совсем.
— Штанишки, — говорю, — у вас, мадам, изволили опуститься. Неаккуратность из-под юбки видна.
Ударила она меня зонтиком по шее.
— Ах ты нахал! — кричит. — Ах ты мерзавец! Я, — говорит, — тебе покажу, молокосос!
Собралась, конечно, публика моментально. Подошел городовой. Дамочка моя распалилась донельзя. Какой-то старичок подлетел ко мне, потряс в глаза кулаками.
— Это, — кричит, — безобразие! Эт-то распущенность! А еще ученик — герб на фуражке носит. Разрешите, — говорит, — мадам, я ему уши с корнями выдерну.
Завизжал я, понятно, от страху, заплакал. На счастье, учитель проходил гимназический — Брагин. Заступился он за меня.
— Нет, — говорит, — члены вредить в своем присутствии не позволю. За члены, — говорит, — могут и в тюрьму потащить. Лучше уж я сам отведу его куда надо.
Взял меня господин Брагин за ухо (сила у него была большая в пальцах).
— Пойдем, — говорит, — негодяй, к директору. Подлец, — говорит, — этакий!..
Ну и уволили меня, понятно, из училища. Хотели даже в бумажке написать: «За разврат». Папаша на коленях выпросил, чтоб не срамили. Долго я, помню, не мог потом успокоиться. Главное — науку очень любил. Интерес к ней великий чувствовал. Лучше меня никто не умел обернуть бумагой книжку или, скажем, очинить карандаш. А уж доску вытру тряпкой — блестит, как зеркало…
Стал меня папаша обучать на дому канцелярскому делу. Когда бумагу даст переписать, когда на счетах что-нибудь прикинуть… Очень он надеялся определить меня по своей части. Но горе, как говорится, никогда не приходит одно. Уж как сядет это самое горе человеку на шею — качается оно на ней, как на качелях.
Надо было случиться, чтоб у Арины Ивановны Огуречкиной родилась в то время двойня. Собственно, не было в том ничего удивительного: неаккуратная была женщина. При живом муже еще с тремя господами амурилась. Однако прибежал Огуречкин к нам в великой радости.
— Сынок и дочка! — кричит. — Какое счастье! Не пропали, значит, мои труды даром! Приглашаю, — говорит, — вас, Семен Ефремыч, в качестве крестного отца.
Что ж делать — согласился папаша. Не в его характере было обижать человека. Хоть и не любил он всяких зрелищ и увеселений в природе.
— Только, — говорит папаша, — как же я могу быть крестным отцом зараз у двух младенцев различного пола? Как будто не по закону. Да и не в обычае это на нашем земном шаре.
Подумал Огуречкин минуту, почесал в голове.
— Ничего, — говорит. — Управимся. Вы будете крестным у дочки, а уж для сына мы еще отца разыщем. Как, — говорит, — не найтись отцу? Я вам сколько угодно отцов найду.
На том и порешили. Помню как сейчас, в день крестин папаша принарядился, почистил пиджачок, манишку нацепил розовую. Даже изволил пошутить, что вот, мол, будет теперь у него собственная дочка. Вырастет она, мол, важной барыней, такой, каких на мыле пахучем изображают…
Размечтался папаша… Умилительный был человек — царство ему небесное!
Позже нам уже соседи сказывали, как произошло все это смертельное событие. Что же касается нас с маменькой, то мы были чрезвычайно поражены. Под утро, часика в три, стучат к нам в двери.
— Встань, Елпидифор, погляди, кто там, — сказала маменька. — Не может быть, чтоб так рано папаша.
А у меня, надо вам сказать, было уже на душе предчувствие. Не скажу, чтоб знал, а так как-то, нутром догадывался. И как открыл дверь — сразу почувствовал. Несут, вижу, папашу на руках чужие люди. Позади городовой и околоточный надзиратель Цибулянский.
— Куда его положить? — спрашивает Цибулянский.
Глянул я на папашу и обмер. Белее стенки физиономия у папаши, а из носа кровь вытекает на землю.
— Слышь? — говорит Цибулянский. — Куда положить бесчувственное тело?
Выбежала маменька из комнаты, всплеснула руками.
— Сеня! — кричит. — Родимый! Что они с тобой сделали?
— Не прикасайтесь к ним! — кричит Цибулянский. — Разве не замечаете, в каком они виде?
А маменька, известно, как все женщины, без всякого внимания к словам посторонних.
— Что они с тобой сделали? — кричит. — Кто это тебя зарезал?
Осерчал тут околоточный Цибулянский.
— Вы, — говорит, — сударыня, понапрасну выражаетесь. Никто им худого не сделал. А если упали они, извиняюсь за выражение, в клозет, так в этом никто не виновен. Кабы, — говорит, — не мы — быть бы им утопленником, безусловно.
Здесь уж и мы рассмотрели: действительно папаша в обмокшем виде…
С той поры зачах папаша окончательно и бесповоротно. То ли повредил он себе еще больше голову, упавши в гадость, то ли болезнь какая одолела — только стал иногда заговариваться. Иной раз за обедом вдруг заплачет прегорько.
— Всё на свете, — говорит, — входящая и исходящая. Номера меня душат и числа…
А раз из церкви пришел в расстроенном виде.
— И там, — говорит, — и в Божьем храме завели. Стою я, молюсь. Вдруг слышу: «Иже от отца исходящая…» Ровно обухом кто меня по голове ударил.
Смекнули мы с маменькой, что неладное делается с папашей. Вроде того как бы повреждение мозговых способностей.
— Взял бы ты, Сеня, отпуск, — говорит маменька. — Отдохнул бы малость, поправился.
Замахал папаша руками.
— Какой, — говорит, — отпуск! В могилке мой отпуск. Будут, — говорит, — птички петь над моей зеленой могилкой, солнышко будет сиять. Дождик будет поливать мои кости.
Расплакалась, понятно, маменька от таких слов:
— Губишь ты себя, Сеня. Хоть меня пожалей, старуху.
Прослезился и я, глядя на эту картину. Однако успокоились мы постепенно, и все пошло по-старому. Стал и папаша как будто веселей смотреть на мироздание. Иной раз даже начнет смеяться — и не остановишь.
— Смешно, — говорит, — мне, как подумаю о смысле жизни.
И как началась к тому времени весна — целый день после службы копался папаша в огороде.
— Вот, — говорит, — заведем мы, Елпидифор, собственную капусту. Свинку прикупим… Потому раз огород, стало быть, много будет всяческих человеческих отбросов.
— Совершенно верно, — говорю, — папаша. Без свиньи нам не обойтись.
— А то еще — барана, — говорит папаша. — Заведем собственного барана. Только непременно с курдюком. Страсть как хочется мне отведать этот самый курдюк. Еще татарин говорил знакомый: лучше нет деликатеса на свете.
— Безусловно, — говорю, — папаша. Баран, папаша, в нашем хозяйстве не помешает. Наоборот, — говорю, — украшение великолепное вследствие рогов его и прочих конечностей тела.
И так мне радостно стало, что папаша малость развеселился!..
Помню, было это вскорости после Христовой Пасхи. Солнечные стояли дни и тихие. В садике нашем целый день гудели пчелы. Бывало, станешь под деревом и думаешь… И о чем думаешь — трудно ответить. Иногда такое почудится… Прямо-таки слышишь ушами явственно — зовет по имени неведомая красавица:
— Елпидифор! Елпидифор!..
И опять тихо:
— Елпидифор!.. Иди, я тебя поцелую…
Оглянешься, вздрогнешь — а это шмель бубнит над ухом. И нет никакой красавицы — только тени танцуют на заборе. Белые стоят деревья в цвету, дух от них пышет медовый. И птица удод, похожая на индейца, кричит на камне: удуд! удуд!
Очень я любил в это время физические явления в природе!..
Раз вот так стоял я в саду незадолго перед обедом. Маменька вышла из кухни — поставила в тень под вишней молочный кисель.
— Пригляди, — говорит, — Елпидифор, чтоб кошка не скушала. Постоянно, гадюка, надъест или запаскудит.
— Хорошо, — говорю, — маменька. Будьте покойны.
Сел я на камушек приблизительно возле и думаю: «Скоро папаша со службы…» Глядь — а папаша уже входит во двор. Только необычно идет, руками размахивает, фуражка на самый нос надвинута. Увидал он меня и остановился.
— Конец, — говорит, — Елпидифор. Конец нашему раю.
— Как так, папаша?
— А очень просто. Донесли на меня. Видно, соседи. Что за люди! Что за мерзавцы!
— Да в чем же дело? — спрашиваю. — Расскажите, папаша, подробно.
— Что тут рассказывать, — говорит папаша. — Прихожу сегодня к столоначальнику с докладом. Зыркнул он на бумагу — перевернул страницу… «Вы это что ж, — кричит, — опять мне бобы разводите»? — «Никак нет, — говорю. — Главным образом, капусту. Средства, — говорю, — не позволяют расширить огород». Затрясся столоначальник, ударил кулаком по книге. «А-а! — говорит. — Вы еще смеяться? Вон отсюдова сию же минуту! Завтра же подавайте прошение об отставке»… Конец теперь, Елпидифор, нашему райскому блаженству, — закончил папаша.
Признаться, обомлел я от страха, услышав папашины речи. Грусть меня охватила и печаль несказанная.
«Вот тебе, — думаю, — и свинья! Вот тебе и баран…» А главное, папашу стало жаль — Бог уж с ними — со свиньями да с баранами… Гляжу, и папаша плачет — красненьким платочком глаза вытирает.
— Идем, — говорит, — Елпидифор, поскорее. Вырвем бобы эти проклятые. Из-за них все несчастье приключилось. Знал бы, — говорит, — никогда б не разводил бобов.
И уж здесь, могу сказать откровенно, начались все несчастия для нашего семейного дома. Собственно, ушел папаша со службы. Пенсию ему назначили такую, что и воробья не прокормишь. Стала маменька ходить на поденную работу. А то иной раз и дома стирала белье для господ офицеров и студентов. И как была аккуратная женщина маменька — тяжелая оказалась эта работа для ее духовных потребностей.
— Вот, — жаловалась маменька. — Хотя бы студент Чупуренко. Намедни такие исподники притащил, словно бы он в трубочистах состоял или в кочегарах. А уж про дыры и не говорю — назади сплошное отверстие.
Жалко было маменьку. Однако и папаша представлял из себя безнадежное состояние. Высох он весь, извиняюсь, как вобла, стал кашлять, на грудь жаловаться. И чуть свет, бывало, бежит в огород посмотреть, не выткнулся ли где боб.
А уж как найдет это самое растение — накинется на него как лютый враг. Даже корешки истребит. Потом оглянется, опустит голову.
— Это, — говорит, — я не боб вытащил, Елпидифор. Это я свое сердце из груди вынул.
Конечно, утешал я папашу как мог.
— Успокойтесь, — говорю, — папаша. Ничего, — говорю, — папаша. Не сомневайтесь, — говорю. — Дела, — говорю, — войдут в русло собственной жизни.
Да разве утешишь человека, когда и у самого на душе неспокойно?.. А тут еще подошла осень. Хмурая она была в том году, туманная и дождливая. Словно бы камень кто положил на сердце, так стало нехорошо и неловко… Слег папаша в скором времени в постель.
— Слабость, — говорит, — я чувствую и круженье собственной головы. И шум, — говорит, — у меня в ушной раковине. Как будто ангелы юбочками меня обвевают.
Плакала маменька, глядя на папашу. Очень уж плохо он выглядел: один нос остался да черная бороденка. И бывало, ночью проснется папаша:
— Воздуху, — кричит. — Задыхаюсь… Откройте окна…
А окон-то и было у нас всего лишь одно, с зелеными ставнями, что закрывались снаружи…
Откроем мы окно с маменькой — на дворе непогода шумит, черные качаются деревья. Привстанет папаша с подушек.
— Голоса, — говорит, — слышу. Кто это шепчет за домом?
— Лежи спокойно, — говорит маменька. — Никого нет в окрестностях. Это гуси летят на юг — перекликаются.
— Гуси? — спросит папаша.
— Гуси, гуси, — утешает маменька.
— Ну, слава Богу! — вздохнет папаша. — Люблю, — говорит, — я очень пение птиц…
Наведалась еще, помню, к нам в ту пору мадам Огуречкина. Двух деток с собой принесла показать крестному. И как увидела папашу в таком болезненном состоянии:
— Вы, — говорит, — над ним бы обряд совершили. Видно уже у него на лице смертельное выражение. Пусть, — говорит, — хоть умрет миропомазанником.
И правда — после помазания папаша значительно приободрился. Даже кашлять стал меньше и сны у него были спокойнее. Раз только, помню, вскочил он ночью с постели. Подбежал к окну, стучит от страха зубами.
— Бумага, — говорит. — Повсюду бумага. Это ты, Елпидифор, залил бумагу чернилами?
Глянул я в окно — снег выпал за ночь. Бело вокруг, и луна стоит над деревьями. А папаша тычет в окно руками и весь дрожит.
— Не говори столоначальнику, Елпидифор. Мы сначала промокашкой, а потом ножичком перочинным выскоблим. Вот он и не узнает. Или, — говорит, — дай я лучше языком вылижу.
Взял я папашу на руки. Легкий он уже был тогда, как перышко.
— Полно, — говорю, — папаша. Это у вас ночные грезы и мечты.
Уложил я его на постель, прикрыл одеялом. А наутро случилось у папаши большое давление температуры. Жар кинулся ему в голову — стал гореть человек, как свечка. И до Рождества не дожил. Под самый сочельник помер.
Явственно помню я эту ночь. Никогда ее не забуду — не вырвешь из памяти. Измаялись мы с маменькой у смертельного ложа папаши. Метался он на подушках, бормотал… То про бобы вдруг вспомнит — заплачет. То, говорит, книгу забыл прошнуровать.
— А книга, — говорит, — эта важная — приключения Ната Пинкертона.
И уж стал было отходить, даже свечку зажгли мы заупокойную. Вдруг как вскинется на постели.
— Слышите? — шепчет. — Диавол зовет. Сатанинский, — говорит, — крик.
— Что ты, что ты Сеня! — успокаивает маменька. И крестится. — Это осел у булочника Учурова. Разве не знаешь? Ослы, — говорит, — всегда по ночам кричат, когда их кто-либо потревожит.
Упал папаша на подушки и уж больше не двинулся. Так и помер в тихом состоянии и при полной потере чувств. Обомлела маменька с горя, села в уголку под образами. И день пришел — а она сидит, не шелохнется. Пришлось мне самому хлопотать насчет погребения. И как не было у меня практики в этих делах — растерялся я, признаться, малость. К тому же молод еще был — всего лишь семнадцатый год исполнился. «Прежде всего, — думаю, — надо бы обзавестись собственным гробом».
Кстати, через улицу от нас жил гробовщик Супостатов. Пошел я к нему, объяснил в чем дело.
— Хорошо, — говорит Супостатов. — Пойдем. Надо, — говорит, — смерить длину и ширину усопшего покойника.
Пришли мы. Достал Супостатов аршин. Склонился над папашей — вымеривает.
— Эка, — говорит, — неудача! На четыре вершка не выходит. Быть бы им на четыре вершка короче — я бы им гроб готовый предоставил. Или, быть может, согласитесь, чтоб они были в гробу с подогнутыми ногами? Оно, — говорит, — будет почти и незаметно. Так, чуть-чуть коленки в гору приподняты. Все равно китайкой прикроете.
Задумался я тогда — понятно, дело для меня незнакомое. А Супостатов говорит:
— Им ведь и так надоело стоять всю жизнь навытяжку перед начальством. Пускай хоть в гробу отдохнут в изогнутом виде.
Согласился я тут безусловно. Для аккуратности немного поторговался. Помню, еще с могилой много было хлопот и всяких обстоятельств. Крепкие в ту зиму держались морозы — земля была тверже камня и гудела, как бубен. Никто не соглашался копать могилу. Еле уговорил одного могильщика и то за громадную цену.
— Я, — говорит, — только для вас соглашаюсь. Для другого бы и не пробовал. Потому земля теперь, как железо. А я, — говорит, — люблю зарывать добросовестно. Уж если зарывать, так зарывать. Иной зароет — чуть землей притрусит. А уж я, — говорит, — закопаю, и страшного суда не услышит покойничек. Мне, — говорит, — что мороз, что не мороз — наплевать. Только на водку прибавьте что-нибудь для согревания тела.
Подсчитал я вечером расходы. Вижу, меньше как за девять рублей не управиться. «Ну да что ж, — думаю. — Смерть, — думаю, — бывает один раз в нашей жизни…»
И вот сколько уже прошло лет с тех пор — а памятны мне эти папашины похороны…
Помню, как маменька кричала на кладбище, хотела даже в могилу броситься — за руки оттащили. А потом вышел оратор — господин Сусликов. Трогательно говорил господин Сусликов. Прямо за сердце хватал словами.
— Ты, — говорит, — был… И вот тебя нет моментально. Мы, — говорит, — еще здесь, а ты, — говорит, — уже там…
Многие плакали тогда от жалости. А когда шли с кладбища, держал я под ручку маменьку. Спотыкалась она в снегу, хоть и смотрела в землю. И как подошли мы к воротам кладбищенским — вдруг говорит мне маменька (до той поры все время молчала):
— Надо, Елпидифор, квочку уже сажать на яйца. Ту, — говорит, — рябую, что с выбитым глазом…
И здесь же заплакала горько-прегорько. Склонилась мне на плечо головою.
— Он, — говорит, — покойник-то наш… Ему бы теперь цыплят выводить!..
Екнуло у меня сердце.
— Ничего, — говорю, — маменька. Образуется, говорю, обтерпится.
Но уж как сели мы в саночки за оградой, как зазвенели зимние эти бубенцы: «Дзинь, дзинь», — полыхнуло мне в сердце острой болью.
«Вот, — думаю… — бубенцы разные… финтифлюшки… Звенят они себе — для украшения привешены…»
И заплакал я тогда неутешно, главным образом от обиды и огорчения.
2
И вот хочу я еще сказать о человеческой природе. Иной раз полезут мысли — голова кружится. Может стать, от мыслей этих и облысел я так рано. Потому задумывался, глядя на жизнь.
«Вот, — думаю, — живем мы… А для чего — неизвестно. И земля, — думаю, — вертится. И есть, — думаю, — на свете всякие злаки — например бузина или, скажем, смоковница. То же самое апельсины… Однако как разобраться? Ведь если живет в океане кит-рыба — значит, необъятна Вселенная. А поймаешь на собственном теле блоху и помыслишь: какое ничтожество насекомого существо! Дунешь — и нет его. Ровно бы никогда и не существовало. Тоже о слонах еще вспомнишь… Поразительная скотина! Хобот один чего стоит. Агромадный хобот, как пожарный рукав…»
И уж не было мне в те годы покою от умственных рассуждений. В особенности, как помер папаша, задумывался я все чаще и чаще. А тут пришла пора — поступил я на службу в палату. Ради, конечно, куска хлеба и для удовлетворения естественных потребностей. Но и на службе, бывало, напишешь бумагу и задумаешься вопросительно: «Для чего, мол, эта бумага существует? Зачем она, как и почему? По какой такой причине? Вследствие каких обстоятельств? На основании какого решения?»
Думаешь, думаешь, так прикинешь и этак, все равно один толк — ничего непонятно! А разобраться бы надо. Хотя бы из аккуратности. И как ходил к нам в то время студент Голопятов, Андрей Иваныч, задал я ему, конечно, ряд вопросов.
— Ишь, — говорит Голопятов. — Занятный вы человечишко. Вам бы книг побольше читать.
И дал он мне книжонку одну о небесных светилах. Любопытная была книжонка. Подняла она во мне характер и гордость. Допрежь не задумывался о своей физической личности, больше о других старался, а здесь пришлось задуматься. В особенности глядя на луну.
«Вот, — думал я, — луна… Конечно, она круглая. Шарообразное, можно сказать, тело. А отчего на нее все-таки собаки воют? Откуда лунатизм такой и прочее? Междупланетное пространство? Хорошо, — думаю, — пускай так. Для чего же оно существует?»
И уж как начнешь думать — бывало, всю ночь в постели переворачиваешься, не спишь. Ну а маменька, понятно, как все старые женщины, по-своему объясняла волнение моей души.
— Надо тебя оженить, Елпидифор. Пора войти тебе в супружескую связь. И есть, — говорит, — на примете у меня одна такая девица. Красавица собой и денег за ней полторы тысячи. А что глуховата она на одно ухо, так это же не Бог весть какая беда. Меньше будет знать — для тебя же лучше.
— Что ж, — говорю. — Я готов, маменька. Хоть сейчас согласен на брачные сношения. Существуют, — говорю, — и у меня в душе свои идеалы.
И правда, думал я уже об этом. Мысленно представлял себе всякие семейные картины, хоть и стыдился об этом рассказывать. Обрадовало, конечно, маменьку мое согласие.
— Теперь, — говорит, — в момент все дело устрою. Уж так оженю — водой вас не расцепят. Главное, — говорит, — свести бы вас надо поскорее, познакомить.
И на это я согласился, конечно. Даже попросил сам почтительно:
— Уж будьте вы, маменька, нашей дорогой свахой.
С того дня охватили меня всецело супружеские мысли. Надо сказать, что возраст был у меня аккуратный — двадцать второй год пошел с осени.
Однажды пришел я со службы, а маменька мне и объявляет во всеуслышание:
— На мази наше дело, Елпидифор. Ждут тебя завтра к чаю господа Колокольцевы.
Скажу здесь откровенно — взволновался я близостью свидания. Целый вечер шарил в шкатулке папашиной — выбирал себе галстучек подходящий. Остановился на черном с белыми пятнышками. «Этот, — думаю, — лучше всего. И солидность соблюдена, и веселость сразу в глаза бросается».
С тем и успокоился. А утром следующего дня еще до службы сбрил свою бороденку — потому баловство это было. Так, клок волос. Вроде того как у иного под мышками. И как сейчас помню, долго я ходил вокруг заветного палисадника — все не решался постучать в калитку. Наконец вижу, мелькает между деревьями фигура женского телосложения.
«Не иначе, — думаю, — госпожа это Колокольцева. Потому широка очень в своем профиле и физиономия в морщинах».
Подошел я поближе.
— Сударыня, — говорю. — Дозвольте представиться моей персоне.
Вскрикнула она, застыдилась.
— Ах! — говорит. — Какая странная встреча!
Однако открыла калитку без замедления. Снял я фуражку.
— Простите, сударыня, за мое внезапное присутствие. Потому, — говорю, — как есть у вас дочка — я пришел, значит, предложить свои супружеские услуги.
Вдруг, замечаю, смутилась она, даже покраснела в лице.
— Вы ошибаетесь, — говорит. — У меня еще нет дочки.
— То есть как это нет?
— А так, — говорит, — очень просто. Я еще сама дочка.
Смекнул я моментально, что дал маху. Однако сейчас же поправился.
— Конечно, — говорю. — Так я и думал. Это, — говорю, — я о вашем будущем младенце выразился.
Закраснелась она еще пуще прежнего. Даже глаза прикрыла руками.
— Шутник, — говорит, — вы большой. Впрочем, спасибо за комплименты. Только что ж это мы стоим снаружи? Не угодно ли в дом, чайку откушать?
— Чайку? — спрашиваю. — С удовольствием.
Сказал я это для храбрости, а сам между тем подумал: «Уж не повернуть ли мне потихоньку домой? Бог с ними, — думаю, — с тысячами. Больно уж физиономия у нее неподходящая. К тому же и лета у нее не в порядке. Годков под сорок ей, если не больше… Однако вспомнил здесь же свое печальное существование и решился. Все равно, — думаю. — От судьбы не уйдешь».
И все-таки билось у меня сердце в грудной клетке, как переступал я порог их домашнего жилища. Понятно, угостили они меня до чрезвычайности интеллигентно. Чай предложили с вареньем и закуску выставили. А как выпил я четвертый стакан чаю, госпожа Колокольцева подозвала рукою дочку.
— Неонила! — говорит. — Покажи господину Кукурекову красоту естественной природы. Только калитку закрой плотнее, чтобы свинья в сад не попала.
Понял я моментально, что в саду предстоит мне любовное объяснение. Дрожь меня охватила и нервное расстройство. Вышли мы в липовую аллейку и остановились под деревьями. Так минут пять стояли молча. Она молчит, и я молчу. Только и слышно, как лист сухой шелестит по дорожке. Наконец подняла она на меня глаза и закраснелась.
— У вас, — говорит, — очень приятный голос. Не пойму только, бас или тенор. Вы не артист?
— Нет, — говорю, — не артист. Я состою переписчиком в казенной палате. По статистическому отделению.
Вздохнула она и голову опустила. Потом вдруг встрепенулась.
— У нас, — говорит, — был здесь артист в прошлом году — господин Безыменский. Очень он красиво пел. В особенности романсы из оперы. Бывало, станет на коленки, протянет руки и поет: «Ты мою жизнь погубила, коварная женщина»… Очень чувствительно выходило.
— Да, — говорю. — Вообще искусство — это нечто замечательное. Вроде поэзии.
Помолчали мы опять некоторое время. Сообразил я, что пора уже сделать барышне какое-нибудь предложение. И уж открыл для этого рот, но она вдруг первая заговорила.
— Скажите, — говорит, — любите ли вы мороженое на ванели?
Взял я ее тогда за руку и говорю:
— Нет, — говорю, — не мороженое я люблю, а вас. Давайте будем жить в качестве супругов.
Засмеялась она в смущении, однако руки не отняла.
— Ах, — говорит, — какой вы бесстыдник! Впрочем, я согласна. Теперь только иди расскажи все маменьке. Да спроси ее насчет свадьбы, потому платьев у меня не заготовлено подходящих.
— Ну уж насчет этого ты не беспокойся, — говорю. — Потому раз для тебя, так уж я сам постараюсь о тебе. Твои дела все равно что мои. Уж ты, — говорю, — будь уверена.
Словом, стал я женихом с того времени, как полагается, по закону. Назначили мы, понятно, и время свадьбы — на второй неделе после сговора. А чтоб известить о нашем решении широкие массы публичной толпы, порешили устроить гостеприимную вечеринку. Пригласили, понятно, местные круги и вообще всех знакомых с обоюдной стороны. Я, например, и студента Голопятова, Андрей Иваныча, позвал. И еще, кроме того, нескольких знакомых. Конечно, и маменька кое-кого от себя пригласила. Словом, старались, чтобы все вышло по-хорошему. А на самом деле вышло такое… Да что и говорить! Неприятная вышла история. И все из-за чепухи.
Вечером, как собрались гости в доме Колокольцевых, затеялась после ужина игра. Играли, конечно, главным образом, кавалеры и барышни. Барышня пряталась, а кавалер должен был ее отыскать. В случае нахождения полагалось взыскательное наказание. Главным образом, разумеется, поцелуй… Вот и говорит мне невеста моя:
— Ищите меня, Елпидифор Семеныч! Я от вас исчезаю.
Бросился я моментально в следующую комнату. Вижу, темнота вокруг и никаких вещественных следов скрывшейся собеседницы. Что делать — чиркнул я спичку, осветил на секунду комнату. И как наклонился в уголке у кровати (потому в спальне происходили розыски) — вдруг вижу: предмет висит на стенке. Собственно, ящик стеклянный и от него кишка тянется резиновая. «Что, — думаю, — за инструмент такой? Прямо-таки, — думаю, — музыкальное, должно быть, произведение». Взял я в рот кончик этой самой кишки, дунул — нет никакого звука. «Однако, — думаю, — вещица занятная. Не может быть, чтоб она не издавала каких-либо своеобразных звуков». Снял я, понятно, с гвоздя этот самый ящичек, положил его себе под мышку, а трубку во рту пристроил. «Ну, — думаю, — покажу сейчас гостям концертное отделение». Вот уж могу сказать прямо — нечистый толкнул меня на это чреватое последствие. Потому как вышел я в гостиную залу — смех вокруг поднялся невообразимый. Студент Голопятов, Андрей Иваныч, так тот даже упал со стула.
— Ох! — кричит. — Боже мой! Держите меня, а не то лопну со смеха!
Развеселился, конечно, и я, видя всеобщее настроение. Даже пропел в трубку какой-то маршик:
— Тра-та-та, тру-ту-ту!
Здесь уж и барышни фыркнули смешливо. Когда вдруг, замечаю, подбегает ко мне госпожа Колокольцева.
— Это вы что? — кричит. — Страмить нас вздумали?
Глянул я на нее и испугался. Лютым волком смотрит на меня, и руки у нее трясутся.
— Молокосос! — кричит. — Чтоб духу твоего не было в нашей семье! Чуяло мое сердце, что не будет толку от таких женихов!
Смутился я, понятно, видя такой прием.
— В чем дело, — спрашиваю, — мамаша? Потому, — говорю, — если есть какие-либо улики против моей личности, объяснитесь более административно. А кричать в публичном обществе не годится.
Поднесла она тут кулак к самому моему носу.
— Не годится?! — кричит. — А показывать гостям предметы человеческого туалета годится? А стыд делать и секретные вещи показывать можно?
Растерялся я, понятно, совершенно от таких слов. Стою недвижно, ящичек этот самый в руках держу. Только вдруг подходит ко мне студент Голопятов, Андрей Иваныч.
— Унесите, — говорит, — сей предмет моментально.
— Да в чем же дело? — спрашиваю. — По какой причине?
— А потому, — говорит, — что служит сие для промывания человеческого желудка. Кроме того, напрасно вы так поступили. Все-таки присутствуют здесь многие благородные девицы.
Понял наконец и я в чем дело. Бросил об землю проклятую эту штуку, закрыл лицо руками. Так со стыдом и ушел через некоторое время. Ну, понятно, расстроилось наше грядущее супружество… И не потому, чтобы я любил или, скажем, на деньги приданые зарился, но стало мне почему-то до чрезвычайности грустно. Прямо-таки места себе не находил — все размышлял, преимущественно о жизни. Подумаешь, бывало: откуда берутся на свете разные упокойники? По причине смертоубийства? Но опять-таки, почему каждый, скажем, утопленник непременно плавает сверху? А иной тоже повесится — и висит себе на дереве преспокойно… Или еще так помыслишь: одному и богатство и уважение, словом, все преимущества идеалов. Потому у него образование. А другой, глядишь, мается целый свой век понапрасну. Что же касается службы — так подайте нам аттестат половой зрелости. И такое меня обуяло уныние… Вижу ясно — несправедливость на нашей территории и непонятность.
Ну да уж передумал я об этом как следует позже, когда попал в тюрьму. Случилось же это, как сейчас помню, вскорости после Покрова. Еще о тот год была у нас в городе ярмарка и множество понаехало всякого народу. Шел я как-то по ярмарочной площади… Надо бы, думаю, сонник купить хороший. А о соннике я давно уже возмечтал. Снились мне в то время всякие поразительные явления. И только это подошел я к книжным лоткам — вдруг окликают меня:
— Елпидифор Семеныч!
Вижу, студент Голопятов, Андрей Иваныч, машет рукою.
— Ведь вот, — говорит, — как хорошо, что я вас здесь встретил. Вы для меня в настоящее время самый необходимый человек.
— Чем могу служить? — спрашиваю.
Подошел он ко мне, поздоровался.
— Какая такая служба? — говорит. — Пустячок прямо-таки, а не служба. Вот эти объявления надо раздать промеж народа.
Действительно, вижу, держит он под мышкой целую кипу печатной бумаги.
— Я б, — говорит, и сам их раздал, да нет у меня свободной минуты — тороплюсь на урок. А вы человек аккуратный, на вас можно положиться с совершенным уважением.
— Что ж, — говорю. — Давайте. Для меня это на самом деле сущий пустяк.
Передал он мне все свои бумаги и напоследок еще попросил:
— Уж вы раздайте, Елпидифор Семеныч, незамедлительно. Потому это насчет хозяйственных дел. Касательно крестьян и рабочих.
— Если так, — говорю, — будьте покойны. Мигом слетаю и удовлетворю общественные нужды.
Пошел я, значит, по ярмарке, промеж торговых рядов. Одному дашь, другому… Вижу, читает публика с интересом. И как увидал я, конечно, городового, и ему дал бумажку. «Все-таки, — думаю, — должностное лицо. Уж ему-то, — думаю, — главным образом надлежит ознакомиться». Только как всполошится вдруг господин городовой.
— Стой! — кричит. — Ни с места!
И сейчас же, замечаю, обнажает горячее оружие.
— Ты это, — кричит, — почто народ мутишь? Откудова, — спрашивает, — эта литература?
Обмер я, понятно, со страху. И язык во рту, как осиновый кол — ни вправо, ни влево. А городовой меня, понятно, за шиворот и рукой по физиономии хлещет. Даже публика стала вступаться:
— За что бьешь человека? Ишь, — говорят, — физиономист какой нашелся!
Ну да что уж распространяться! Арестовали меня, конечно, по всем правилам судебных законов. Вышло, стало быть, что я оказался главным политическим арештантом и специалистом по каторжным делам. И ах как убивалась маменька! И посейчас, как вспомню, орошаюсь слезами.
Пришла она вскорости проведать меня в арестное отделение. И как увидала, что я за решеткой, — горько-прегорько заплакала. А поплакав, спрашивает:
— Пидя, — говорит, — скажи правду, тебя на цепь не посадят?
— Бог с вами, маменька. Здесь и цепей нет приблизительно подходящих.
Вздохнула маменька тяжко. И вдруг пугливо так по сторонам огляделась.
— А что, — шепчет, — ты зарезал кого или так только из ливорверта стрельнул?
Закричал уж тут я на маменьку не своим, можно сказать, криком. Прямо-таки сердце у меня захолонуло от этаких ее слов.
— Маменька! — кричу я. И плачу. — Маменька!
А маменька уже сама перепугалась от собственных своих выражений.
— Полно, — говорит, — голубчик. Вижу, что спутала, старая дура. Уж и сама теперь понимаю, что есть ты так себе безобидный вор, а то и просто фальшивый монетчик.
— Да нет же! — кричу. — Поверьте, маменька! Я и клопа не убью без крестного знамения.
И так мне горько в ту минуту сделалось вследствие и по причине ее слов… А уж как стали прощаться — развернула маменька узелок, вынула священную просфорку.
— Возьми, — говорит, — сынок. Скушай на здоровье. Еще папаша, покойник, сию просфорку откусил собственными зубами.
Потом простерла ко мне свои материнские руки и говорит:
— Благословляю тебя на долгое тюремное сидение и арештантскую жизнь.
С тем мы, конечно, и распрощались. И уж не видел я больше маменьки на этом вещественном свете… Позже писала она мне еще о своем положении и обстоятельствах жизненных условий. Но опять-таки — что скажешь в письме? Какой-нибудь сущий пустяк, без всякой психики и ясности душевных струн. Оно, конечно, и письмо является результатом. Но все-таки, главным образом, ряды безжизненных строк. А ведь рассудишь с умом: что такое письмо? Бумага — сплошная бумага, и больше ничего… Ну да писала мне маменька уже значительно позже.
Вскорости, помню, вызвали меня на допрос к господину судебному следователю. Очень мне, помню, понравился этот господин. Усадил он меня перед собой на стуле. Как отец родной обласкал и успокоил.
— Вы, — говорит, — Кукуреков, не бойтесь. Видали мы и пострашнее преступников. А что вы анархист, так это же совсем ничего. Главное, признайтесь нам во всей откровенности и по чистоте вашей души.
И так это он ласкательно говорил — прямо-таки привел меня в умиление.
— Ваше превосходительство! — говорю. — Только, — говорю, — вам за вашу ласку и внимательное обхождение… Потому, — говорю, — как есть не пойму, за что пострадал, сохраняя свою невинность.
— Так, так, — говорит. — А признаете себя анархистом?
Задумался я в ту минуту, что бы значило это слово. Но как взглянул на господина следователя, мигом успокоился. Ведь вот, думаю, с какою ласковостью во взоре. И сказать бы знакомый — а то как есть чужой человек.
— Признаю, — говорю, — ваше превосходительство. Раньше, — говорю, — сомневался, но уж как вы объяснили — вижу и сам, что так оно есть действительно.
Усмехнулся тут господин судебный следователь, потрепал меня по плечу:
— Ну вот и хорошо. Спасибо за признание.
— Нет, — говорю. — Вам спасибо, ваше превосходительство. За ласку вашу и культурный разговор. А уж я вас никогда не забуду.
— Да, — говорит, — меня забыть трудновато.
И ведь правду сказал — не забыл я его. Потому умилительный человек был и обхождения европейского. Виделся я с ним еще раз после суда в жандармском управлении. Узнал он меня, сам подошел, поздоровался.
— Здравствуйте, — говорит, — политический деятель! Теперь, — говорит, — назначьте нам город, куда бы вы хотели поехать. А уж мы вам и на дорогу дадим, и стражника для вашей охраны предоставим.
— Что ж, — говорю, — ваше превосходительство, в Харькове у меня есть тетка замужняя. К ней бы, разве так, чтоб проведать.
Вижу, удивился господин следователь до чрезвычайности, даже в голове почесал. Понял я, что неладно как выразился.
— Впрочем, — говорю, — Бог с ней, с теткой. Лучше в Одессу съездить. Есть у меня двоюродный брат в машинистах. Давно уже зовет навестить.
— Экий вы человек! — сказал господин следователь. — Мы вас по этапу, в Сибирь, а вы все насчет южного полушария. Скажите лучше, куда вам желательно: в Иркутск, Красноярск или в сибирскую тундру, к самоедам?
Крепко задумался я насчет этих слов. Оно и на самом деле — как угадать, где лучше? Ну да уж решил положиться на провидение своей судьбы.
— Так что, — говорю, — в тундру, ваше превосходительство, желаю. К этим самым, как вы изволили выразиться, самоедам.
— Что ж, — говорит. — Поезжайте. Вы человек молодой. А это все-таки путешествие интересное, к тому же на казенные средства.
И так это ласково засмеялся! Потом попрощался со мной за ручку и пожелал счастливой дороги.
Вышел я со стражником на улицу (зима уже, помню, стояла повсюду). И вдруг, как в давнее время, слышу бубенцы: дзинь, дзинь… Ровно бы резнуло меня что по сердцу. Эк, думаю, раззвонились!
А наутро везли меня по этапу в дальнее путешествие.
3
Ну уж, доложу, и дорожка была! Никаких, собственно, путей сообщения. И как выехали мы из города Енисейска, стражник мой, Филипп Иванович, троекратно перекрестился.
— Теперь, — говорит, проститесь, молодой человек, с русской культурой и с казенными винными лавками.
И этак сокрушенно покачал головой. Оторопь на меня нашла, понятно.
— А что, — спрашиваю, — Филипп Иваныч, скоро ли будет Туруханский край?
Крякнул Филипп Иваныч, досадливо махнул рукой:
— Прыткий вы человек. Шибко у вас мысли в голове бегают. Мы еще и сотни не проехали, а вы уже за тысячу верст летите. Вот, — говорит, — смотрите, — и на бороду свою указывает. Как вырастет она, борода, значит, до пояса, тут вам будет и Турухан.
А бороды у Филиппа Иваныча и вовсе не было. Побрился он перед отъездом из города, только усы оставил на манер белой щетины.
«Эге-ге, — думаю. — Выходит, стало быть, нечто вроде кругосветного путешествия».
И уж совсем я размяк тогда от внутренних переживаний. Главное, смотрю: безотрадные вокруг окрестности. Дремучая природа и непроходимые леса. А мороз, ровно ногтями, по спине царапает.
Только, замечаю, усмехается в усы стражник Филипп Иванович.
— Что, — говорит, — перепугались, молодой человек. А видите на дороге метелки?
— Вижу, — говорю.
— Так это же не метелки, а елки.
— Конечно, — говорю. — Самые настоящие елки.
— Правильно, — говорит, — угадали. А только под елками видите — волки?
Вскрикнул я, понятно, от страху, сам за шашку ухватился Филиппа Иваныча.
— Доставайте моментально ливорверт! Поскорее, — говорю, — ради Христа!
Засмеялся Филипп Иваныч.
— Ишь, — говорит, — как всполошились! А ведь я это только для ради стишка сочинил. Никаких волков нету в наличности, а есть только русская поэзия и образованность души.
И на самом деле стал я замечать — выражался Филипп Иваныч по большей части стишками. Иной раз уставится в небо и говорит:
— Ага, — говорит, — ага, будет нынче пурга…
И еще про ямщика нашего сочинил произведение. Очень развлекательный человек был Филипп Иванович.
Ввечеру однажды, как приехали мы к почтовой станции, вышел к нам навстречу человек с поразительной личностью.
«Никак китаец, — подумал я. — Потому брови к ушам оттянуты и на месте носа сплошная переносица».
— Удивлены? — спросил Филипп Иваныч. Думаете, шкелет какой или костяк? А есть это просто сибирский остяк.
И по спине хозяина кулаком саданул. Вижу, усмехается кособровый, ручкой показывает нам на дверь — входите, мол, дорогие гости. И конечно, выругался по-трехэтажному.
— Не смущайтесь, — говорит мне Филипп Иваныч. — Это он заместо «здравствуйте» по причине незнания языка. А человек есть очень приятный. И имя ему христианское дадено — Ферапонт.
И как уселись мы за столом в светлице, Филипп Иваныч говорит:
— Ферапонт! Готовь нам пельмени. А наутро чтоб были олени!
Потом достал из кармана бутылочку водки и налил два шкалика.
— Выпьем, — говорит, — за близость пути, и позвольте вас поздравить с тундрой.
— Как? — кричу. — Уже?
Усмехнулся Филипп Иваныч:
— Чтоб уже, так не уже. А можно сказать, как раз на меже. Завтра, Бог даст, переедем границу.
Дух у меня захватило от подобных слов. И хоть шумело в голове изрядно вследствие выпивки, а все-таки сообразил: широту и долготу, значит, проехали и находимся аккурат под градусом.
И вспомнилось мне школьное образование насчет китов. Неужто, думаю, достигли местоположения? А Филипп Иваныч между тем улегся на кушеточке и книжку попросил у хозяина. Почитай, что одна и была эта книжечка во всем доме. Но все-таки с картинками и насчет швейных машин. Как сейчас помню, сочинение господина Зингера. Взглянул на меня Филипп Иваныч и говорит:
— Люблю, — говорит, — почитать перед сном. Иной раз пойдут от этого такие сновидения, что только диву даешься. Нервный, — говорит, — я сделался человек от культуры.
И при этом закрутил в гору усы, а сам на меня поглядывает. Но как был я в расстроенных мыслях, ничего ему не сказал на это, промолчал. А Филипп Иваныч, видимо, обозлился до чрезвычайности. Отвернулся к стенке и вскорости заснул крепкими снами.
Утром же, чуть свет, пробудился я по причине толчка. Смотрю, стоит надо мной Филипп Иваныч уже в одеянии, при шашке и с ливорвертом на боку.
— Вставайте, — говорит, — нечего прохлаждаться. Разлеглись, как моржовое животное. Это вам не гостиница, а этап для каторжных работников.
Вскочил я, понятно, на ноги. Солнце, гляжу, чуть из-за леса выткнулось. А Филипп Иваныч хмурится и все поторапливает:
— Живей, живей!
Оделся я скорым манером и вышел вслед за ним наружу. И хоть солнышко уже поднялось изрядно, однако холод был прямо-таки собачий. Даже в груди теснило и слезы на глаза наворачивались. И вот тут-то увидал я впервые страшных зверюг. Вывел их хозяин наш из сарайчика, стал запрягать в сани. Как посмотрел я на рога их и морды, вскрикнул и ужаснулся.
— Филипп Иваныч! — говорю. — Как вы себе хотите, а я на этих зверюгах не буду кататься. Лучше пешком пройдусь, а только ни за что не сяду.
— Не сядешь? — закричал Филипп Иваныч. — Так я же тебя сам посажу!
И по физиономии меня, аккурат по зубам, ударил. Сплюнул я на снег под кустик, вижу — с кровью зуб передний вывалился. И так мне стало горько и досадно, прямо-таки, скажу, до слез. Тут уж и Филипп Иваныч смутился. Ничего больше не сказал, а только стал голову в башлык укутывать.
Выехали мы, понятно, вскорости в поле. Завирюха поднялась ужасная. Так и чешет, так и чешет! Чувствую, замерзает мой организм. А примостился я, надо сказать, совсем на задке, принимая во внимание близость рогов. Только вдруг говорит Филипп Иваныч якобы сам с собою и на меня даже не глядя вовсе.
— Чудной, — говорит, — народ пошел. Чуть что, так сейчас же с обидою. И по зубам его не ударь, и слова не скажи лишнего… А того не поймут, что служба. Я же, — говорит, — не из собственного удовольствия зубы эти самые выбиваю. Не так, чтоб просто себе взял да и выбил. Я, — говорит, — выбиваю их по закону. По указу государя императора и министерства внутренних дел.
И тут косячком на меня поглядел — слушаю ли я его речи. Ну а я, понятно, молчу, потому затаил в сердце обиду и думаю все насчет зуба. Неаккуратность, думаю, теперь у меня во рту, и еще когда подчинить придется, Бог его знает. Кроме того, вспухла губа и разболелась на морозе.
Проехали мы этак молчком верст с десяток. Вдруг поворачивается ко мне Филипп Иваныч и говорит:
— Знавал, — говорит, — я в Архангельске одного матроса. Очень был прекрасный человек и отважный мореплаватель. На маяке он служил всю свою жизнь смотрителем. Так ведь он сам себе зуб этот спереди вытянул. «Оно, — говорит, — сподручней человеку курящему. И трубку удобнее во рту держать, и плевать, — говорит, — ловчее».
Осерчал тут я на Филиппа Иваныча и обозлился.
— Филипп Иваныч! — говорю. — К чему эти речи? Ведь вы же знаете, что я не курю табачных изделий. А что зуб, — говорю, — вы мне вышибли, так пусть вас за это накажут на небесах.
— Ну, ну! — говорит Филипп Иваныч. — Вы уж насчет религии оставьте. Давайте лучше хлебнем на открытом воздухе да и помиримся по человечеству чувств.
Конечно, выпили мы по рюмочке и примирились на самом деле. И уж скажу по совести — лучшим приятелем стал мне Филипп Иваныч с того времени. Бывало, в пургу попадаем, в метель — сам норовит меня укутать теплее.
— Не застудились бы, — говорит, — с непривычки.
А как приехали мы к месту назначения в Туруханский край, стал меня утешать Филипп Иваныч.
— Конечно, — говорит, — природа здесь не совсем здоровая. Можно сказать, никто и не выживает из приезжих туземцев. А только вы не унывайте. И без солнца, — говорит, — тоже обойдетесь очень прекрасно. Даже наоборот, больше будете спать, и время скорей убежит. Вам-то что, пустяк — семь лет с половиною. А я, — говорит, — знал одного — ему четырнадцать лет присудили. И ничего. Веселый был господин покойничек.
Словом, утешал меня Филипп Иваныч со всей душевностью характера. Однако, как огляделся я хорошенько по сторонам, и сердце у меня упало вовсе. Вижу, действительно как в науке написано — полярный круг везде и никаких точек опоры. Одни только чумы торчат по сторонам — самоедские, значит, жилища. А Филипп Иваныч все меня подбадривает.
— Это, — говорит, — не то что Сахалин или, скажем, Архангельская губерния. Там от одних комаров да мошкары с ума сойти можно. Здесь же, кроме вшей, ничего такого и не водится. Ну а вшей, конечно, гибель, потому домашнее это животное.
— Нет, — говорю, — Филипп Иваныч. Напрасно утешаете. Чувствую, что помереть мне суждено вдали от потомков. Чувствую, — говорю.
И расплакался я, понятно, горючими слезами. Покачал головой Филипп Иваныч.
— Эх, молодой человек, господин Кукуреков! Понапрасну вы так убиваетесь. Пойдем лучше покажу я вам жилище ваше. Очень, — говорит, — симпатичная будет у вас юрточка. Жил в ней недавно один политический. Аккуратный человек был, царство ему небесное, и чистоту соблюдал. Вон там справа его могилка виднеется. Крестик себе, говорят, еще при жизни сготовил.
— Да уж ведите, — говорю, — куда хотите, Филипп Иваныч. Мне, — говорю, — все равно.
И правда — был я в расстройстве чувств и мало что соображал в то время. Однако как подошли мы к этой самой юрточке, выскочила оттуда собака кудластая и завыла на нас протяжно. Приласкал ее Филипп Иваныч, погладил.
— Здравствуй, Полкаша! Ишь, — говорит, — как убивается, сердечная! А пес этот мне очень знакомый — по наследству он переходит от одного арештанта к другому. Вроде бы вечной вдовы. И как теперь он вам надлежит, так и вы его приласкайте.
Ну, понятно, погладил я пса, хоть и думал совсем о других обстоятельствах. А Филипп Иваныч все меня утешает:
— Помолиться когда захотите — так вот же вам из оконца прямой вид на кладбище. Оно хоть, конечно, и не Божий храм, а все-таки православные кресты. И души усопшие здесь поблизости покоятся.
— Спасибо, — говорю, — вам, Филипп Иваныч, за вашу ласковую заботу. А только, — говорю, — что ж мне за польза от усопших покойников? Ни посмотреть на них, ни словом перекинуться.
— Ну, это вы от уныния, — говорит мне Филипп Иваныч. — Был здесь перед вами политический арештант, так он даже очень прекрасно сам с собой разговаривал. Иной раз сам же на себя и накричит в расстройстве. А как пришлось помирать, так и молитву прочитал над собой заупокойную.
— Так-то оно так, — говорю. — А все-таки скучно на душе очень.
— Ничего, — говорит Филипп Иваныч. Обживетесь — привыкнете. Но только буду я с вами прощаться. Потому поспешаю в обратный путь.
Как сказал это он мне, так я и обмер. Прямо-таки оторопел от внезапности. А Филипп Иваныч и впрямь спешил — наскоро со мною простился и сел в саночки.
— Прощайте, — говорит, — господин Кукуреков. Не поминайте лихом. А провианта вам через год еще предоставят… Живите себе на здоровье.
Рванулись эти рогатые зверюги, шибко пошли по снегу, и уж не видел я больше Филиппа Иваныча. Долго простоял я тогда, помню, у дверей своего жилища. Потом вошел в середину, вовнутрь и прилег на кушеточке. И уж не знаю; сколько часов пролежал я таким манером. Только пробудился внезапно вследствие собачьего лая. Гляжу, взбесилась ровно собака, прямо-таки на дверь кидается. А за окном светло, как на пожаре. «В чем дело?» — думаю. Подошел я к оконцу, взглянул. Полнеба, вижу, в огне и снег серебром отливает. И вижу еще, жители собрались повсюду, о чем-то промеж собой разговаривают. А самоедов этих я еще вовсе не видел, потому попрятались они по нашем приезде. Теперь же, гляжу, преспокойно себе расхаживают. Вышел я за дверь. Любопытство меня одолело. Что, думаю, за обитатели? Какие у них есть обычаи страны? И еще всякие вопросы обдумываю. А они увидали меня и сами подходят навстречу. И по-своему все лопочут, по-самоедскому. Только выходит один из собрания ихней толпы и руку протягивает.
— Твою мать, — говорит, — хорошо?
Удивился я, понятно, что б это значило. Однако сообразил: видно, насчет моих предков справляется.
— Да так, — говорю, — что о маменьке и мне неизвестно покуда.
А он усмехается.
— Хорошо, — говорит, — твою мать. Водка хорошо. Твою мать хорошо.
И как не знал он, конечно, больше по-русски, так мы на том наш разговор и покончили. Однако обступили они меня вокруг, как заморское какое чудовище. В особенности бабы ихние глазеют и ребятишки. Пиджачок мой щупают повсюду, смеются. И у всех, замечаю, волосы чем-то намазаны, ровно бы клеем каким или маслом. Только, скажу по правде, жуткое это было созерцание. Очень даже неправдоподобные у них лики. А нос, почитай, им так сотворен, для блезиру. Потому и пальцами его не захватишь, чтоб высморкаться по благородному. Ну а все-таки как обжился я промеж них немного, привык. Стал на охоту иной раз ходить на зверя и птицу. Ружьишко мне по наследству досталось от прежнего арештанта. И книжку я нашел в юрточке — парижские моды. Много мне было от этой книжки умственных огорчений. Иной раз не спится ночью. Засветишь огарок, раскроешь книжку. А оттуда дамочка глядит, усмехается. Стоит она себе посреди улицы в нижней сорочке или еще каком-нибудь утреннем туалете. «Ишь, — думаю, — финтифлюшка!»
И такая меня разберет досада, такое озлобление — передать невозможно. В особенности как задует, заплачет зимняя эта метель, очень даже делалось скучно моей душе. Иногда и сон не идет объять, так вот просто не спится… И уж полезут тут всякие мысли. То про арбузы вдруг вспомнишь и усмехнешься. Недосягаемый фрукт!.. Или насчет помады задумаешься. И ей-Богу, станет смешно. Зачем помада? Кому здесь нужен культурный вид? Где русская интеллигенция? Непостижимо!..
Вот так и прозябал я в тундре, в полном одиночестве ума и без всяких видов. Больше охотой развлекался и рыбным ужением. И времена, конечно, проходили без пользы. Только, помню, было это уже по второму году, подкатывают раз утречком незнакомые сани. Гляжу, выходит из саней казенный стражник, а за ним еще господин неизвестный. Спервоначалу и не разглядел физиономию. Вижу только, закутан в люстриновое одеяло и голова обвязана женским платочком. И сразу как подошел ко мне — письмо протягивает.
— Позвольте, — говорит, — вручить вам почтовое известие. А фамилия у меня Чучуев. И есть я такой же изгнанник и бывший студент.
Обрадовался я, понятно, новому человеку. За ручки его ухватил, чуть на шею не кинулся.
— Входите, — говорю, — в мой домашний очаг. Милости прошу… Потому от отчаяния к вам отношусь и по сочувствию обстоятельств.
Замечаю — очень даже внушительный человек господин Чучуев. Не старый еще, а уже бороду носит, и очки у него на носу. Однако как вошли мы в юрточку, стал он немедленно раздеваться. Одеяльце распутал, а под ним пальтишко порыжелое, оказывается. Снял пальтишко, вижу — осталась фуфаечка. А под фуфаечкой, как снял он ее, зелененький пиджачок очутился. Только и его сбросил господин Чучуев — в тужурочке серой остался.
— Ну пока, — говорит, — хватит. Довольно. Чтоб не простудиться, на всякий случай. Теперь, — говорит, — примемся за голову.
Развязал он платочек, а под платочком фуражечка. Повесил фуражечку на гвоздик. И уж здесь, скажу, испугался я не на шутку. Как снял он, значит, фуражку, вижу, вся голова у него бинтами обвязана. Прямо-таки лазаретное произведение искусства.
— Что, — спрашиваю, — никак ранены? Или просто себе разбили голову?
— Нет, нет, — говорит. — Это по случаю зуба.
— Ай болит? — спрашиваю.
— Ну, — говорит, — уж болеть-то ему никак невозможно. Потому это я на всякий случай обвязал голову. В прошлом году как раз в это самое время болели у меня зубы. Вот я на всякий случай и обвязал.
Подивился я, понятно, такому решению. Но как было у меня в руках полученное письмо — любопытство меня охватило и неожиданное желание.
— Простите, — говорю. — Охота пуще неволи. Тянет меня взглянуть поскорее на сей мемуар.
— Да вы не стесняйтесь, — говорит мне господин Чучуев. — Будьте себе преспокойны, как дома.
Развернул я письмо. Сразу сообразил — от маменьки. Почерк уж был такой у маменьки отличительный, вроде заборчика, и каждая буква обязательно с хвостиком.
«Сын мой возлюбленный, — писала маменька. — Очень я по тебе сокрушаюсь и молюсь от утра до самого вечера. А от поклонов земных и небесных шишки у меня со лба никогда и вовсе не сходят».
Как прочитал я подобные строки, крепко даже, скажу, опечалился. Отвернулся к стенке, скрипнул, зубами.
«Эх! — думаю, — маменька! Э-эх!» — думаю. И как немного поуспокоился, принялся за прежнее чтение.
«У нас в городе, — писала маменька, — весна началась настоящая. Солнышко светит, и даже грязь по колено. А по ночам летят гуси, и рвут они мое материнское сердце перелетным своим криком. Только чай пьем мы по большей части в прикуску по случаю войны и недостатка продуктов. И еще мадам Огуречкина шлет тебе низкие поклоны. А муж ее, Иван Иваныч, пронзен на войне штыками. Нельзя ему теперь ни на чем сидеть, кроме как на мягких подушках».
Поразился я, прочитав письмецо. «Что за война? — думаю. — Какой такой враг объявился против российской земли?» И все у меня мысли насчет турков вертятся. «Ишь, — думаю, — банабаки!» И не удержался я, чтоб тут же не спросить господина Чучуева, как это, дескать, с войной случилось.
— Да что, — говорит. — Второй годок воюем. А боремся мы против немецкого неприятеля и Вильгельма Второго.
Свистнул тут я, пораженный открытием. Вот те и на! С немцами, думаю, шутки плохие… И еще долго мы в тот день рассуждали по поводу разных событий.
Присмотрелся я к новому своему сожителю и решил про себя: крепко образованный человек господин Чучуев. Про все ему ведомо, что ни спросишь. И в чемоданчике, как распаковал он его вечерком по отъезде стражника, всякие диковинки оказались. Вынул господин Чучуев перво-наперво летнюю шляпу.
— Вот, — говорит, — индийский шлем в защиту от солнца. Полезная, — говорит, — штука и лучший предохранитель. На всякий случай вожу я ее с собой. А вот это очень замечательная книга. Называется она «Как разводить у себя в огороде грибы шампиньоны». Есть, — говорит, — еще у меня и собственное сочинение. Насчет молдаванского языка. Только покуда в рукописи и вот уже десять лет готовится к печати.
Умилился я, глядя на собеседника. И здесь же помыслил: «Каких людей засылают! Можно сказать, цвет кабинетов. Потустороннее, можно сказать, образование». И такая меня охватила печаль, такое уныние! «Куда это, — думаю, — идем мы? Откуда выходим? Непроизвольная, — думаю, — растрата и напрасное обхождение с лучшими типами».
А господин Чучуев вынул из чемоданчика карту и разложил ее на столе. Гляжу — якобы океан синеет, а посередке вроде острова.
— Что, — спрашивает, — занятно?
— Да уж зачем и рассуждать? — говорю. — И дурню станет ясно — очень вы научный человек выходите. Только, — спрашиваю, — что ж это за страна такая?
— Ну страна, — говорит, — эта, положим, известная. Австралия называется и материк земли. Карту же эту приобрел я тоже случайно у одного учителя детей.
Подивился я на Австралию.
— Прекрасная, — говорю, — карта и даже мухами мало засижена.
— Да, — говорит, — вещица занятная.
И стал я с того вечера поучаться у него разным предметам. Как, думаю, не воспользоваться таким стечением обстоятельств? Прямо-таки, думаю, удар счастливой судьбы. Потому чувствую — агромадные у него знания.
— Я, — говорит Чучуев, — разным наукам обучался. И почти что во всех университетах. Только еще в Казани не довелось побывать. Средств не хватило на дорогу. Зато, — говорит, — как ушел я из харьковских медиков, так и потом в Киеве девять месяцев изучал садоводство. А в Одессе то же самое был философом. И механик я очень хороший, потому в Москве полгода числился.
— Господин Чучуев! — говорю. — Уж вы, — говорю, — пожалуйста и непременно. А уж я вам всегда услужу и с превеликим удовольствием. Когда науку какую будете обдумывать, я вам и место уступлю в юрточке, и уголок какой отделю.
— Спасибо, — говорит. — Вижу теперь, что человек вы хороший. А будем мы изучать камни и минералы.
И действительно — принялись мы тотчас за камушки. Целую кучу нанесли отовсюду и у дверей сложили. Вечерком же за чаем объяснил мне господин Чучуев научные мысли.
— Глядите, — говорит, — и запоминайте. Ежели камушек мокрый, значит, река поблизости протекает или еще какое-нибудь водяное пространство. И есть еще такой закон, по которому все камни обязательно на землю падают.
Поразился я чрезвычайно, слушая лекцию. Даже не утерпел — утречком сам испробовал. Один камушек бросил, другой — все как есть на землю упали. Действительно, думаю, закон природы и очень естественная история.
Однако прекратили мы вскоре занятия по случаю несчастного происшествия. Вышел господин Чучуев как-то ночью на двор по своей надобности и как шагнул за порог, так внезапно на камни и оступился. Крепко расшиб он себе тогда голову; даже правый глаз повредил и веко для зрения. Всполошился я. Насчет примочки захлопотал. А господин Чучуев ручкой за глаз держится.
— Ну, — говорит, — это совсем ничего. Так ли еще за науку страдают!
Только все же с тех пор оставили мы совместное обучение. К тому же и времени у меня было мало, почитай что и вовсе не оставалось. То убираешь юрточку, то обед на двоих готовишь. Господин же Чучуев по большей части обдумывал. В особенности как подошло весеннее время года, сильно он стал задумываться и даже совсем примолк. Только один раз объяснил за обедом, что, дескать, книгу задумал.
— Напишу, — говорит, — я ее для потомства детей и имя свое прославлю.
Полюбопытствовал я — какая, мол, книга.
— А книга, — говорит, — будет про тюленью любовь. Я уже давно наблюдаю.
И как проглянуло солнышко пояснее, стал уходить господин Чучуев из дому почти что на целый день. Раз вот так ушел он, а я за уборку принялся. Постели перетрусил и полы подмел основательно. И еще решил пиджачок господина Чучуева почистить щеткой. Однако как взял я его в руки, вдруг замечаю, вещица из кармана выпала. Круглая такая вещица, вроде механизма, и стрелки, как у часов. Поднял я ее, положил на столе с краешку и, можно сказать, совсем позабыл о ее нахождении. Когда ввечеру, как вернулся господин Чучуев с прогулки, обратил он свое внимание и говорит:
— Это, — говорит, — где же вы такую полезную вещь разыскали?
— Да у вас же, — говорю, — в карманчике, в пиджачке.
Встрепенулся господин Чучуев, хлопнул себя по лбу рукою:
— Ну же и память у меня дырявая! Сам же купил эту штуку на всякий случай.
И вдруг усмехнулся этак радостно и меня за ручку потряс.
— Знаете ли, — говорит, — какой вы сюрприз совершили? Ведь теперь конец нашему изгнанию. И надо снаряжаться нам в путь-дорогу обратно.
— То есть, — говорю, — каким же это образом ехать обратно? Мне, — говорю, — еще три годика полагается на пребывание.
— Нет, — говорит, — уж теперь мы покинем сии края и совершим интересный побег.
И стал мне объяснять господин Чучуев, как с этим научным предметом возможно пройти всякие дремучие леса и даже в ночное время.
— Только, — говорит, — на стрелочку поглядывай себе и больше ничего. Стрелочка, например, в одну сторону показывает, а ты иди как раз обратно. Она тебе все на север, а ты возьми да и поверни на юг.
Ничего я, признаться, не понял тогда из этих объяснений. Почему, думаю, такое непослушание?
Однако решил положиться на господина Чучуева. Потому уважение я к нему большое имел и веру в научные знания. И стали мы собираться к отъезду. Бывало, ночь не спим — все толкуем насчет путешествия. Иной раз задремлешь к утру, а господин Чучуев вдруг начнет будить и даже с постели вскочит.
— Чтоб не забыть, — говорит, — запишу в книжечку. Сетку надо будет смастерить против кусания насекомых. То же самое удочки нам нужны.
И ведь так увлекательно начнет говорить, просто заслушаешься. Все же порешили мы дождаться зимнего времени, чтоб по снежку сподручней было совершить переход.
Короткое в тех краях лето — можно сказать и вовсе его не видно. Так, чуть-чуть землица оттает, да еще трава кое-где выткнется. Зато как стукнет зима — держится она нерушимо и снегу навалит сверх всякого ожидания. А в тот год зима пришла совершенно внезапно и мороз прихватил еще с середины июля. Даже самоеды и те больше по чумам прятались.
— Теперь пора, — сказал мне однажды господин Чучуев. — Саночки я уже сторговал у самоеда, надо бы еще насчет оленей сообразить.
Пошли мы, понятно, к богатому владельцу.
— Так и так, — говорим. — Продайте ваше животное. А уж мы за ценой не станем.
Раскрыл господин Чучуев свой чемоданчик — одну за другой вещицу показывает. Вижу, блестят у самоеда глаза — проняло его до нутра изобилие предметов. И как увидел он, между прочим, индийский шлем, сразу решился. Надел его моментально на голову — засмеялся.
— Хорошо, — говорит.
И по юрточке стал расхаживать. Сбежались, конечно, прочие его родичи. Все как есть хвалят вещицу. Головами качают и губами чмокают…
Словом, сторговали мы пару оленей в момент.
— Ну, в добрый час, — сказал господин Чучуев. — С такими зверями быстро совершим путешествие. Лишь бы на стражников где не наехать.
— Так-то оно так, — говорю. — А только надо бы им для аккуратности рога спилить. К чему, — говорю, — подобные финтифлюшки? Совершенно ненужная декорация и даже опасная панорама.
Согласился со мной господин Чучуев.
— Пилите, — говорит, — только с осторожностью. Чтоб как-нибудь органов им не повредить.
А самоеды как узнали про наше желание, чрезвычайно обрадовались. Мигом достали подходящий для случая инструмент и уж так постарались — не олени вышли, а телки. Совсем, можно сказать, обыкновенный молочный скот. Посмотрел господин Чучуев, похвалил работу.
— Только, — говорит, — рога я возьму на всякий случай с собою. Может, когда семьей обзаведусь, квартирой… Вот они-то и пригодятся. Вроде украшения будут в домашней жизни.
Уж такой был заботливый человек господин Чучуев — ничего не оставлял без внимания.
И как пришел день нашего отъезда, господин Чучуев говорит:
— Придется, — говорит, — нам кой-какие села проехать. Иначе никак нельзя. Потому слева от нас полюс Земли находится и пустынная местность.
— А что, — говорю, — если б через полюс этот самый перемахнуть? По крайности никто б и не заметил.
— Нет, — говорит. — Это никак нельзя. Очень там много градусов. К тому же и дороги не совсем подходящие.
И вот на зорьке пустились мы в путь.
Как сейчас помню — выбежала из юрточки собака наша и жалостно-прежалостно завыла. Подняла голову в верхние слои атмосферы и залилась, как над покойником.
— Цыц! — крикнул господин Чучуев. И камешком в нее швырнул.
А я так полагаю, что знала она собачьим разумом условия нашей судьбы.
4
Теперь как погляжу я в прошедшие времена, многому совершенно удивляюсь. Не иначе, думаю, счастливый случай. Потому погибнуть нам надлежало в сибирской тундре. Очень уж суровая там этимология местности. А тут еще к вечеру, как стало смеркаться, господин Чучуев и говорит:
— Как же, — говорит, — мы огонь разведем?
Подивился я такому вопросу.
— Что ж, — говорю. — Совсем пустое дело. Просто себе костер запалим. Только от ветру надо какую защиту сыскать.
— Нет, — говорит господин Чучуев. — Никак не возможно. Без спичек, — говорит, — все равно ничего не выйдет.
— То есть, — спрашиваю, — почему без спичек?
И уж здесь, скажу по совести, мурашки у меня пошли по телу.
— А потому, — говорит господин Чучуев, — что забыли мы запастись на дорогу спичками. Все про главные вещи заботились… Спичек же вовсе не захватили.
Чуть я вожжи не выронил из рук, услышав такое признание. И как есть на всем ходу произвел остановку саней.
— Господин Чучуев, — говорю. — Ведь помрем мы теперь обязательно и выпустим дух понапрасну… И трупы нашего тела употребят для пищи четвероногие существа. А главное, — говорю, — ночь надвигается и совершенно в пустынном поле.
Задумался господин Чучуев. Достал из кармана очки и стал оглядываться.
— Это что? — говорит. — Как будто лесок впереди… Явственно различаю деревья на горизонте.
Посмотрел я куда он рукой указывает и прямо-таки, скажу, отчаялся.
— Эх, — говорю, — господин Чучуев! Ведь это же вовсе не лес, а просто оленьи рога. И здесь же, у нас под ногами. Вместе еще укладывали перед отъездом.
— Да, точно рога, — признал господин Чучуев. — Теперь уж и сам вижу. А вроде было, как лесное пространство…
Ну, понятно, распрягли мы животных, стали ночлег устраивать. Разгреб я вокруг снежок, наскоро поставил палатку. Потому темно уже было и звезды на небе выткнулись. Грустно мне сделалось на душе вследствие их сияния. И хоть знал из книг, что самые это обыкновенные наши спутники, а все-таки кольнуло в сердце. Зачем, думаю, сияют? Куда глядят? Горе, думаю, высматривают людское. И так мне казалось, что просто они есть небесные финтифлюшки. Без толку горят вообще и ни к чему при подобной температуре. Холод же был хуже крапивы. Так и жжет. Носа нельзя обнаружить.
Залезли мы в палатку, укутались в одеяла. Как будто даже угрелись немного, потому вскоре заснули. И вот, помню, приснился мне сон. Будто бы в солдаты меня забирают. Стою я посреди поля навытяжку, жду, когда прикажут маршировать. И вдруг барабан: тра-тата, тра-тата!
Вздрогнул я от неожиданности и пробудился. Гляжу, свет снаружи сквозь щелку пролился. И что-то стучит сбоку. Что бы, думаю, стучало? Поднял я голову, стал слушать. Когда вдруг говорит мне господин Чучуев слабым таким голосом и вроде как заикается:
— В чем, — говорит, — дело?
— Да вы никак тоже не спите? — спрашиваю.
— Нет, не сплю.
— А слышите, как бы в палатку к нам нечто стучится?
— Нет, — говорит господин Чучуев. — Ничего нет такого. Это, — говорит, — у меня зубы стучат во рту.
И впрямь, гляжу, трясется у него бородка, ходуном ходит, ровно бы куст на ветру.
— Бог ты мой! — кричу. — Чего ж вы раньше не скажете? Закутать вас надо теплее. Ай-я-яй! — говорю. И прочее.
Снял я ему очки собственноручно, как грудному ребенку.
— Нате вам теплую шаль. Закутайтесь хорошенько. Разве, — говорю, — возможно такое пренебрежение?
Послушался меня господин Чучуев, набросил на себя шаль.
— А только, — говорит, — и у вас уши давно отморожены.
Ухватился я рукой моментально за собственное ухо и обомлел.
Не чувствую. Вроде как будто кого другого держу. И прослезился я даже тогда от подобной обиды. «Как же, — думаю, — жить без ушей? И зачем, — думаю, — теперь ушные отверстия?..» Словом, отчаялся совершенно. И так скажу: кабы не научные мысли, совсем бы от горя свихнулся.
Господин же Чучуев, спасибо ему, утешил.
— Здесь, — говорит, — у многих животных уши совсем отсутствуют. Нельзя быть ушастым в подобной местности. Климат не дозволяет. Если, к примеру, моржа возьмете — не видно у него ушей совершенно. И у тюленя, подобно предыдущему зверю, то же самое. Такая же тонкая организация. А все же, — говорит, — потрите вы уши снежком на всякий случай.
Выбежал я в тот же момент наружу, стал производить натирание. Больно было спервоначалу, вроде как будто ножами резало. Однако потом полегчало. «Ну, хорошо, — думаю, — хоть для красоты сохранятся». А сам в то же время взглянул в туманную даль. И вдруг замечаю — неаккуратность большая в природе случилась. Черное поднялось над полем облако, и снег кое-где курится. Ветер же словно утих и прекратил дуновение.
«Неужто буран?» — думаю. И только сообразил — дунул с севера агромадный вихорь. Чуть с ног не свалил. И поднялось чистое светопреставление. Засвистело вокруг нас, запело. И враз опрокинуло палатку со всеми принадлежностями обихода. Выполз господин Чучуев из-под обломков крушения. За голову держится руками.
— Ой! — кричит. — Что вы наделали?
Досада меня разобрала, понятно, при этих словах.
— При чем здесь, — спрашиваю, — моя персона? Я, — говорю, — за природу не могу быть ответчиком.
И еще хотел кое-что сказать, но уж ничего нельзя было вымолвить вследствие бури. Завыла она, проклятая, забросала глаза снегом. Вижу, унесет еще, чего доброго, палатку. И главное, соображаю: убегать надо от физического явления.
— Ловите оленей! — кричу. — Я уж сам с вещами управлюсь!
Стал я наспех собирать наше совместное имущество. Кое-как опростал из-под снега сани, потому темнота началась, хуже чем в ночное время. Ветер же прямо с ног сбивает. И пальцы одеревенели на морозе — ничего захватить нельзя. И вдруг чувствую, сдавило мне горло вроде как бы веревкой. Повалился я в снег, понятно. Даже кричать не могу. И вслед за сим кто-то меня за голову щупает. Повернулся я кое-как на спину и чуть не обмер. Стоит надо мной господин Чучуев весь в снегу, и веревка у него в руках треплется.
— Вы это что? — спрашиваю.
А он себе, например, как бы не в своих чувствах.
— Я — Я… — говорит.
— Что вы? — кричу.
И чуть не плачу вследствие холода и досады.
— Я это оленей, — говорит господин Чучуев. — При помощи веревки поймать хотел…
Обозлился я и даже выругался неуважительно.
— Вы, — говорю, — после этого экземпляр. Даже удивительно такое обхождение. Хоть веревку, — говорю, — отпустите малость. Дышать нечем.
Выбрался я кое-как из сугроба на чистую местность.
«Батюшки! — думаю. — Света не видать божьего. Снегом сечет в лицо, как прутьями древесной растительности. И уж тьма! Зги божьей не видно… Что ж, — думаю, — пришел конец…»
И появилась у меня глубокая мысль ума.
«Нельзя, — думаю, — сидеть на месте. Занесет метелью. Обязательно следует продолжать караван. Главное, — думаю, — оленей запречь бы».
Бросился я разыскивать животных, а господину Чучуеву поручил наши пожитки укладывать. И как было, конечно, темно, с трудом я отыскал данных зверей. Зарылись они совершенно в снежный покров — только обрубки рогов торчат на манер палисадника. Подошел я к ближайшему, зову.
— Оля! — говорю. — Оленька! Вставай, — говорю, — Олеша!
А он только храпит и глазами поводит.
— Ах ты, — говорю, — стервоза!
Досада меня разобрала. Ткнул я его сапогом в бок, вижу — встает. За ним и второй подымается. Нацепил я кое-как им уздечки, подвел к саням. И уж как нам удалось выехать — самому сейчас непонятно.
Трое суток блуждали мы в тундровой полосе. Можно сказать, даже без удовлетворения аппетита. Потому провиант растерял господин Чучуев еще на последней стоянке.
На четвертый же день, как поутихла немного буря, огляделись мы по сторонам света. И как глянул я в южный конец — сердце у меня запрыгало от радости. Ясно вижу, вроде как синькой подведено — леса виднеются на краю неба. Даже про голод забыл при таком стечении обстоятельств.
— Господин Чучуев! — кричу. — Хвойные породы обнаружились!
Обрадовался господин Чучуев, хоть и не видел еще ничего по причине близорукости глаз.
— Какие, — спрашивает, — деревья — сосны или ели?
— Еще не видно, — говорю, — в точности. Потому верст сорок к ним будет, если не больше. А только к вечеру обязательно приедем под сень дерев.
Хлестнул я оленей кнутом для ускорения санной езды.
«Лишь бы, — думаю, — приехать поскорее. А уж там, в лесу, все же и климат теплее, и ветер не так чувствителен».
И господин Чучуев приободрился.
— В лесу, — говорит, — непременно добуду огонь. Есть такой способ у древнего человечества. Очень даже простой будет этот способ. Взять только два куска дерева и тереть их друг о дружку, пока не загорятся.
— Да неужто, — спрашиваю, — есть такой способ?
— Есть, — говорит господин Чучуев. — Во всех ученых книгах про это написано.
Изумился я подобным словам. «Очень, — думаю, — далеко наука шагнула».
А господин Чучуев внезапно ко мне обратился.
— Как же, — говорит, — я про главное позабыл? Ведь теперь сварим мы суп превосходный.
Заныло у меня под ложечкой при этом напоминании.
— Эх, — говорю, — господин Чучуев! К чему дразнить червяка? И потом из чего, например, варить?
Нахмурился господин Чучуев.
— Я, — говорит, — не шутки шучу, а на основании ученых посылок. Кабы вы читали про иностранных путешественников, и вам бы многое стало ясно.
За сими словами достал он из-под брезента старые свои ботинки:
— Вот из чего мы суп приготовим.
Скажу с откровенностью, струхнул я при этом и даже отодвинулся на край саней. И горечь у меня на душе появилась.
«Рехнулся, — думаю, — человек и потерял рассудок мысли. И что теперь делать? Вокруг снега неоглядные и никакой со стороны людей помощи».
Однако как стал господин Чучуев из науки выкладывать, разочаровался я в грустном своем решении. Вижу, действительно научный разговор.
— Вспомним шведского путешественника, — говорит господин Чучуев. — Ведь погибал человек в снежной долине. А что спасло? Собственная догадка. Как пришлось ему претерпеть голод, бросился он моментально на собственного оленя и съел. Потом, как не стало оленя, скушал он шкуру его и прочие препараты. А после разгрыз кожаные ботинки… И еще был один англичанин, который мышами в тундре питался…
И стал господин Чучуев приводить научные примеры. Задумался я, слушая беседу. «Какие, — думаю, — испытания на пути человеческой жизни! Живет себе человек преспокойно. И вдруг — хочешь не хочешь питайся мышами… Зачем же, — думаю, — такая неаккуратность в природе? По меньшей мере оригинально».
Между тем время близилось к вечеру, и вскорости лес очутился совсем перед нами. Высокий был лес — из строевой елки, и показался он мне чересчур агромадным. Прямо-таки конца-краю не видно. Господин же Чучуев стал поторапливать.
— Въезжайте, — говорит, — поскорее в лесные дебри. Нечего медлить.
Хлестнул я оленей кнутом, и со всего размаха свалились мы моментально в лесную яму. Так нас санями и накрыло сверху. И снегом, конечно, забило рот. Даже выругаться не успел по причине досады. Зато как высвободился из-под саней, стал я упрекать господина Чучуева насчет поспешности.
— Это, — говорю, — все из-за вас. И вечно вы куда-то спешите! Кабы, — говорю, — с оглядкой ехали — ничего бы подобного не случилось.
А господин Чучуев, хоть и кроткого был нрава, то же самое разобиделся.
— Нет, — говорит, — вина здесь моя отсутствует. Наоборот, из-за вашей поспешности лишены мы теперь молочных продуктов.
И на оленей показал пальцем. Раскрыл я, конечно, рот от удивления.
— То есть, — спрашиваю, — при чем здесь моя поспешность?
Язвительно господин Чучуев усмехнулся на это.
— А зачем вы рога спилили? Кабы, — говорит, — вы не поспешили рога спилить, можно было бы подоить оленя.
— Да при чем здесь рога? — спрашиваю.
— А при том, — говорит господин Чучуев, — что в темноте и не отличишь, которая из оленей есть самка. Только по рогам и можно было определить.
Словом, поспорили мы тогда довольно изрядно. Однако как было темно и холод пронизывал — задал я себе теорему. «Надо, — думаю, — с ночевкой устраиваться. Этак недолго и вовсе замерзнуть». Главное, слышу, шумят над нами деревья лесные — холодом веет от них. А вокруг уже окончательно потемнело.
— Собирайте хворост! — говорю я господину Чучуеву. — Довольно нам спориться. Я же тем временем насчет палатки постараюсь.
Вижу, полез господин Чучуев на снежный бугор — потому незлобивый был человек и долго не помнил обиды. Но как вылез он и огляделся по сторонам, вдруг внезапно воскликнул:
— Огонь, — кричит, — поблизости!
— Где? — спрашиваю.
— Наискосяк от нас!
Выскочил я, понятно, вслед за ним на возвышение. И впрямь вижу, вроде как окно светится. А присмотрелся лучше и понял: безусловно, строение человеческого дома. В первый раз за все время нашего путешествия осенил я себя крестным знамением. Снял шапку и господин Чучуев.
— Благодарите, — говорит, — судьбу. Жилище это обитаемое и, конечно, является зданием.
Пошли мы на огонек через мелколесье — на каждом шагу спотыкаемся. Однако и не замечаем тягости собственного пути. И одна только мысль у обоих: лишь бы добраться к теплу. А огонек, конечно, сияет себе все ярче и ярче. Только как подошли мы приблизительно к дому, вдруг наскакивают на нас четвероногие существа. Вскрикнул господин Чучуев и назад подался.
— Волки! — кричит. — Спасайтесь на дерево!
Бросился было и я в сторону, но вовремя остановился.
— Какие же, — говорю, — это волки, когда они изъясняются по-собачьи? Самые обыкновенные псы и ничего особенного из себя не представляют.
Тут меня, конечно, одна из собак укусила. Закричал я, рукой ухватился за ногу.
— Пиль! — говорю. — Ату! — и прочие собачьи названия.
Вижу, отстала она от меня и на господина Чучуева устремилась. И другая туда же бросилась. В этот же самый момент происшествия вышел из дому человек.
— Кто там? — спрашивает.
Вижу, ружье у него в руках и за поясом нож болтается.
— Люди, — говорю. — Русская интеллигенция.
Подошел он поближе, цыкнул на собак. Замечаю, не старый еще человек, хоть и большая у него растительность волос.
— Вы же, — спрашивает, — кто такие будете? Каторжные преступники или либералы?
Подивился я такому вопросу. И господин Чучуев молчит.
— Ну все равно, — говорит. — Пойдем в горницу. Сам теперь понимаю, что есть вы либералы. Каторжный человек, тот в эту пору тайгой не ходит. Ему и днем в лесу вольная волюшка.
Вошли мы с ним, понятно, в горницу. И уж здесь, скажу, обогрелись мы до мозга костей. Даже пар пошел из нас, как уселись мы возле теплой печки. А хозяин наш очень оказался обходительным гражданином.
— Кушайте, — говорит, — что Бог вам послал.
И миску со щами на стол выставил. Набросились мы на горячий ужин, можно сказать, с поразительным интересом. И господин Чучуев оживился за едой, стал излагать свои мысли.
— Я, — говорит, — человек демократический. Убеждения мои такие насчет еды. Иному деликатесы нужны, а мне совершенно безразлично. Лишь бы, — говорит, — щи были с говядиной и пирог какой. Да самоварчик постоянно горячий. А при такой обстановке мог бы я обдумывать свои ученые труды.
Жалко мне стало господина Чучуева при этих словах. «Пропадает, — думаю, — понапрасну ученая сила…»
Однако как насытились мы пищей, вспомнил я про оленей — заволновался.
— Надо бы, — говорю, — животных в сарай загнать. Замерзнут еще, гляди, на ветру.
— Будьте покойны, — говорит хозяин квартиры. — Я сам о них постараюсь.
И уж такой оказался он человек благотворительный — лучше семейного родственника. Дня три пробыли мы у него гостями. А как стал он нас провожать в путь-дорогу, подарил на прощанье медвежью шкуру.
— Не обессудьте, возьмите для согревания тела. Потому, — говорит, — охотой я промышляю, и для меня это вовсе пустяк. Вы же, понятно, народ щуплый по причине либерального звания, и будет вам это лучшей защитой.
Выразили мы, конечно, свою благодарность и уехали с совершенным почтением. С этого дня пошло наше путешествие как по маслу. Стали попадаться заимки лесные, а то и просто деревенские поселения. И питание наше улучшилось по этой причине. Господин Чучуев даже стал жаловаться.
— Толстею, — говорит, — я от солидного образа жизни. И мысли у меня сейчас притупились. Все больше насчет обедов приходится думать и насчет ужинов.
Действительно, как поглядел я на него испытующе — вижу, разнесло ему профиль лица. И в животе появилась округлость линий. Словно бы подменили человека. А как пришлось нам задержаться на одной заимке четыре недели, совершенно пришли мы в нормальное состояние. Задержка же произошла вследствие нашего внешнего вида.
И вот как это случилось. Приехали мы раз вечерком к лесной избушке.
— Так и так, — говорим. — Разрешите заночевать. Путешественники мы и изучаем природу с научными целями жизни.
Оглядел нас хозяин избушки с ног до головы и говорит:
— В самый раз приехали. Есть у меня трое малых детей, а четвертого к весне ожидаю.
Переглянулись мы с господином Чучуевым. «К чему бы, — думаем, — например, подобная откровенность души?» Только внезапно все объяснилось, и очень просто. Как вошли мы в избушку и сели под образами, хозяин к нам обратился:
— Не смущайтесь, — говорит, — святые отцы. Сразу признал я по бородам вашим, что есть вы беглые монахи. А только очень это выходит удобно — будете вы у меня детей крестить.
— Позвольте, — заговорил тут господин Чучуев. — Это исключительная ошибка. И потом нету нас духовного звания для подобных обрядов.
Бухнулась нам в ноги хозяйка дома.
— Уж вы не откажите в подобной милости. Каждый год, — говорит, — рожаю. А что толку, когда дети совершенно некрещеные. Выходит, словно бы вовсе пустое занятие. Здесь же и попа в кои-то годы увидишь.
Разочаровались мы совершенно с господином Чучуевым. Сидим, можно сказать, как в воду опущенные. И не удержался я, глянул бочком на бабу.
«Ну, хорошо, — думаю. — К примеру, детей мы как-нибудь перекрестим. Но ведь новый-то скоро ли обнаружится? Потому совершенно еще в проекте чертежа, и когда будет — неведомо».
А господин Чучуев покачал головой отрицательно.
— Невозможное, — говорит, — дело. Совершенно даже невозможное.
Тут вдруг как подымется хозяин дома.
— Что? — кричит. — Невозможно? Это по какой причине невозможно?
И как широкий он был господин в плечах и волосы на лоб напущены — страшное оказалось зрелище для посторонних. Скрипнул он, понятно, зубами, сложил кулак.
— Не таких, — говорит, — еще уговаривал. У меня, — говорит, — насчет расправы недолго.
Сообразили мы с господином Чучуевым опасное положение данной минуты и согласились. Я же еще, помню, шепнул:
— Крестите, как Бог на душу положит. Лишь бы только выбраться отсюда поскорее.
И решили мы крестить младенцев на основании научных данных. А как пригляделись к хозяевам, очень даже оказались они усердные прихожане. И ничего страшного — самая обыкновенная паства. Бывало, с утра заботится хозяйка насчет нашего пропитания. В особенности к господину Чучуеву благоговела:
— Уж разрешите, я вам сегодня курочку приготовлю.
Господин же Чучуев по деликатности характера исключительный был человек.
— Помилуйте! — говорит. — К чему эти хлопоты? Мне что курица, что петух, совершенно даже безразлично. Я и гуся кушаю с подобным же удовольствием. И уточкой совершенно не брезгую. В особенности если потрохами начинить ее или еще какой-нибудь нестоящей чепухой.
Хозяин же дома по большей части водочкой подчевал нас и вообще самогоном. Раз, помню, вечерком выпили мы немного и затеяли общую беседу разговора. Говорили о том — о сем, а под конец вздохнул господин Чучуев и говорит:
— Боюсь, что никогда не удастся мне высказаться на газетной бумаге. А между тем перегруженная у меня голова материалом. Да что из этого толку, когда, например, все до сих пор непечатное?
Смутился хозяин при виде подобной грусти:
— Уж вы подождите, батюшка, маленько. Самое большее через две недели разрешится моя жена обязательно. Остальных же ребят хоть и завтра крестите.
Задумался, конечно, и я насчет подобного обстоятельства. И вдруг осенило меня. Вспомнил священное писание.
— А как же, — говорю, — Иона во чреве китовом и подобные случаи из восточной жизни? Ежели Иона был во чреве, значит, и нам крестить во чреве возможно.
Нахмурился тут хозяин наш.
— Вы со мной, отцы, не хитрите. Все равно, — говорит, — не отпущу вас раньше деторождения. Хочу, чтоб все было по закону и как у всех людей вообще.
И хозяйка опять стала упрашивать:
— Не оставьте, отцы родные! Вот хотя бы взять этих трех… Ходят они, подобно скотине, без имени. Младшую и то просто Рыжкой зову, а старшего Непутевым. Среднего же, того, что косой, так и зовем Косенький.
И так она стала причитать при этом, так уговаривать, что даже господин Чучуев размягчился.
— Да, — говорит, — действительно, вижу: нелегальная у вас жизнь и подпольное существование.
Между тем назначили мы вскорости фактический день. Было это, помню, в конце февраля месяца. Приказал господин Чучуев согреть воды и лоханку на всякий случай приготовить. А как пришло время обряда, потребовал он еще кусок мыла и чистое полотенце.
— Теперь, — говорит, — раздевайте моментально девицу женского пола.
Выкупал ее господин Чучуев собственными руками, голову вымыл и волосы расчесал. И как кончил священный обряд:
— Уходи, — говорит, — Евдокия. Пускай Клементий лезет в лоханку.
Словом, управились мы меньше чем в полчаса. И с того дня только нас и задерживало еще совместное ожидание ребенка. Стали мы гадать с господином Чучуевым: когда настанет ожидаемый срок?
— Все это можно вычислить при помощи науки, — сказал господин Чучуев. — Если мы бросим взгляд на слониху, ей и в шестнадцать месяцев управиться трудно. Потому толстокожее животное и находится в стаде. Совсем другое дело самка летучей мыши. А ежели остановиться внимательно на еже, все предыдущее и последующее станет ясно.
— Да, — говорю, — действительно закон природы.
И поразился я опять-таки научным элементам. «До чего, — думаю, — все изучили! Каждого зверя и птицу». Даже тоска меня разобрала. «Вот, — думаю, — ползет таракан по столу… Другой по случаю неосторожности в щах очутился. Но ведь оба они давно изучены… Конечно, соображаю, прогресс. Психология и прочие науки. А все-таки удивительно».
Между тем дождались мы наконец критического момента. Пробудились мы как-то ночью с господином Чучуевым по причине женского крика.
— Слышите? — шепчет господин Чучуев.
— Слышу, — говорю. — Родовой признак намечается.
А баба, конечно, кричит на всю горницу… Только к утру замолкла она, утихомирилась. И вдруг заскулил ребенок. Схватил меня за руку господин Чучуев.
— Ну, — говорит, — теперь мы свободны.
И действительно, через три дня совершили мы священный обряд. Надел господин Чучуев очки, взял в руки младенца.
— Ныне, — говорит, — отпущаеши раба твоего, Владыко… А только, — говорит, — чтоб не утопить его как-нибудь в лоханке.
— Да вы его, батюшка, только сверху водой полейте. Дитя, — говорю, — совсем махонькое, к тому же женского пола.
— И то правда, — сказал господин Чучуев. — А за сим, — говорит, — приймите из рук моих новопреставленную Акулину.
С тем мы, понятно, и закончили церковную службу. И только было уселись за стол по случаю семейного праздника, вдруг слышим, подъехали к дому сани. Залились снаружи собаки, заскрипел под ногами снег. «Кто такой?» — думаем. В двери же, между прочим, стучат и хозяина окликают. И как открылась дверь, так мы и ахнули.
Стоит на пороге пристав в полной амуниции, а за ним еще стражники и городовые.
«Пропали!» — подумал я. И даже рюмку на пол уронил. А господин Чучуев, наоборот, совсем растерялся. Рукой пошевелить не может.
«Эх, — думаю, — Кукуреков! Опять тебя по этапу в обратную сторону земного шара… Опять, — думаю, — оседлала жизнь и прочие неприятности».
И словно бы по голове меня кто ударил орудием. Стою безмолвно и не нарушаю звуками тишины.
5
Оно конечно — пугается человек тайных явлений. Если, например, кошка перебежит дорогу или поп повстречается. Или когда не на ту ногу ботинок наденешь…
Однако и здесь испугались мы не на шутку.
Пристав же между тем огляделся по сторонам и снял фуражку. И даже очень вежливо нам поклонился:
— Здравствуйте, товарищи! Приятного вам аппетита. Насторожился при этих словах господин Чучуев. Ногу мне под столом надавил и шепотком в ухо:
— Узнал, подлец, что мы за птицы.
— Что же делать? — спрашиваю потихоньку.
— Молчите, — шепчет господин Чучуев. — Может, как-нибудь вывернемся.
А пристав, конечно, сел к столу. Городовые же на лавках расселись. Тошно мне сделалось на душе при виде такой компании. «Теперь конец, — думаю. — Не избежим участи, безусловно».
Только как принял пристав от хозяина рюмку водки, внезапно поставил ее на стол и говорит:
— Обидно, — говорит, — мне подобное непонимание посторонней души. Вы, товарищи, наверно, меня старорежимником почитаете. А я завсегда стоял против капитализма. И как теперь нет совершенно царизма, так мне это вовсе безразлично.
Изумился я таким речам. Даже не выдержал — вслух выразил свое удивление. Тут замечаю, поднял господин Чучуев правую бровь и этак откровенно: миг… миг… Понял я сигнализацию, умолк. А пристав вроде как бы расчувствовался совершенно. Рыжебородый был господин и крепкого сложения. И как ударит он вдруг кулаком по столу:
— Вы, товарищи, наверно, думаете, что я испугался. А я ничего не боюсь. Характер у меня такой безразличный. И все мы теперь свободные демократы. Кто же не с нами, тот против нас!
Тут уже вытянул он из кармана ливорверт.
— Подайте, — кричит, — контрреволюцию! Собственными руками застрелю!
Всполошились хозяева дома. Детишки подняли плач. Подошел наш хозяин к нему:
— Ваше благородие! Берите их, окаянных, за нарушение и прочие непорядки. А только, ради Христа, не стреляйте при виде детей. Лучше затворите в тюрьму.
Нахмурился пристав. Однако ливорверт спрятал.
— Легко, — говорит, — сказать: в тюрьму! А куда, например, затворить, когда все тюрьмы теперь отворены?
Толкнул меня при этих словах господин Чучуев.
— Постарайтесь, — шепчет, — выйти из комнаты незаметно. Безусловно, сумасшедший этот субъект.
Глянул я на стражников. Вижу, закусывают себе преспокойно. И потихоньку этак к двери… И как очутился на свежем воздухе, моментально к оленям бросился. Вдруг замечаю, тройка лошадиная стоит под навесом.
«Хорошо, — думаю. — Вот чего нам недоставало».
Тут через минуту и господин Чучуев наружу выбежал.
— Скорей, — кричит, — если вы любите условия жизни!
Вскочили мы моментально на сани и прямо-таки стрелой со двора. Взвились под нами кони — искры из-под копыт посыпались. Ночь же была месячная и светлая, хоть книгу читай.
— Быстрей! Быстрей! — кричит господин Чучуев.
И повернулся ко мне лицом. Тут уж и я закричал — потому испугался от неожиданности.
— Пристав! — кричу.
— Где? — спрашивает господин Чучуев.
— Здесь! — кричу. — На санях!
И кнутом перед собой указываю.
— Так это же я, — говорит господин Чучуев.
На самом деле, гляжу, он это есть действительно. А только фуражка у него на голове форменная и даже с кокардой. Должно быть, по ошибке, впопыхах надел заместо своей. Кони же, между прочим, вынесли нас на столбовую дорогу. Вздохнул я легко, как увидал подобную обстановку.
«Уж не догнать, — думаю. — Разве что на крыльях».
Успокоился и господин Чучуев.
— Очень, — говорит, — хороший вы номер с конями выкинули. Теперь при посредстве их денька через три обязательно будем в Енисейске. А там у меня и квартирные удобства, и друзья политического характера. Лишь бы только в пути не застрять.
— Да, — говорю, — действительно. Выпутались счастливо.
И так мне стало радостно на душе. Даже смеяться стал, глядя на господина Чучуева.
— Совершенный вы теперь пристав в подобном наряде. Чистая, — говорю, — умора.
— А что вы думаете? — сказал господин Чучуев. — Может, еще пригодится нам эта фуражечка. На всякий случай буду ее носить.
Не знал он, понятно, в то время, что из-за фуражечки этой самые главные происшествия с нами случатся. Так, разговаривая по-хорошему, проехали мы верст пятнадцать. И как было тихо вокруг по случаю морозного состояния, стали меня одолевать разные сны. Закрутил я вожжи вокруг руки и, прислонясь к перильцам, вздремнул. Собственно даже не дрема была, а так, вроде душевной мечтательности… Привиделся мне домишко родной. И маменька из окна машет рукою. И еще вижу, папаша, покойник, идет по улице. «Елпидифор, — говорит папаша. — Хочешь Москву увидеть? Сейчас покажу…»
Тут я внезапно очнулся. И только открыл было взгляд, ухватил меня кто-то за волосы.
— Бей его! — кричат. — Чего канителишься? По черепу его, старорежимника!
Вывернул я голову из-под руки и поразился. Вижу, рассвело совсем и в деревне мы находимся, напротив волости. А народу вокруг нас видимо-невидимо. Вскинулся я на санях.
— Пустите! — кричу. — За что бьете?
И вдруг замечаю, навалились они на господина Чучуева. Сбили ему с головы фуражку.
— Миром его! — кричат. — Становись в очередь! Бей их, старорежимников!
Тут уж и меня ударил кто-то по голове кулаком. Кувыркнулся я вниз на дорогу. И уж не помню хорошо, что дальше было, а только очнулся в темном сарае. Раскрыл я глаз. Темень вокруг, и кто-то стонет.
— Кто здесь? — спрашиваю.
Не отвечает. Только вроде как всхлипывает кто и плачет в углу. Нащупал я в кармане коробок, чиркнул спичку. И уж скажу здесь — прямо-таки ужаснулся.
Сидит в уголке господин Чучуев, весь в крови, и шишка у него на лбу агромадная. И что особенно жалостно мне — плачет навзрыд, как малый ребенок. Бросился я к нему моментально, за ручку взял.
— Полно вам плакаться. Дело, — говорю, — самое обыкновенное. Погибли, и больше ничего.
И вдруг повернулся ко мне господин Чучуев:
— Да неужто не видите, что я от радости плачу?
— Нет, — говорю. — Не вижу. Темно здесь очень.
А сам, конечно, подумал: «Повредился человек окончательно».
— Уж вы мне поверьте, — говорит господин Чучуев. — Потому прозрел я теперь совершенно, хоть и не вижу на правый глаз.
И радостно так воскликнул:
— Революция началась в России и полная свобода личности!
Заплакал я от огорчения. Жалко мне стало его.
«Ведь вот, — думаю, — как повредили». А господин Чучуев возбудился до крайности.
— Прозрел, — говорит, — я теперь. Окончательно прозрел. Еще как в ухо меня ударили, так я прозрел. Потому заметил на солдатике красный бант. И у того, который очки мне разбил, то же самое революционная личность была… Безусловно, началась свободная жизнь.
Изумился я и даже опешил.
— Какая же это свобода? — спрашиваю. — И за что, например, разукрасили нас без причины?
— По ошибке, — говорит господин Чучуев. — Фуражечка нас подвела.
— Как! — кричу, — Из-за фуражки? Из-за подобной финтифлюшки? Какая же в этом свобода?
Словом, разволновался я тогда до последней крайности. Сам же господин Чучуев стал меня убеждать:
— Стоит ли волноваться? Вам же, — говорит, — между прочим, вовсе мало досталось. А я это только так, прихвастнул насчет подбитого глаза. По правде сказать, обоих раскрыть не могу. И ничего. Не жалуюсь.
В это самое время разговора открылась внешняя дверь и фонарик блеснул оттуда. Слышу, зовут:
— Товарищи!
Затаились мы в уголке, потому ясно чувствуем: для продолжения действий зовут наружу. А только вошли в сарай три человека, и тот, что с фонарем, последовал в наш угол. Склонился он над нами, осветил фигуры.
— Простите, — говорит, — товарищи, за революционную ошибку. Рассмотрели мы ваши документики и видим, что задаром разделались. Милости просим в наш комитет.
Вскочил на ноги господин Чучуев. Вижу, просиял лицом и даже вроде бы вдохновился.
— Граждане! — говорит. — Моментально по телефону. Настало время перековать плуги. Всех кузнецов на работу — пускай куют!
И уж не помню, что он еще сказал тогда, а только всех совершенно расстроил. Вынесли его на руках и поставили перед народом. И как было вечернее время заката, очень даже вышла торжественная картина.
— На бочку! — кричат. — На бочку!
Влез господин Чучуев на бочку.
— Товарищи! — говорит.
И прослезился. А из толпы, понятно, волнуются.
— Верно! — говорят. — Правильно!
Вытер господин Чучуев платочком глаза.
— Я, — говорит, — за вас, а вы за меня. И все мы теперь за всех. И каждый за каждого и всякий за всяких. За это самое пострадал я при старом режиме.
Тут уж, скажу, оказали нам полное уважение. Кто на обед стал звать, кто ночлег предлагает. И с этого самого времени уверовал я в передовую идею.
Действительно, думаю, что-то перевернулось.
Вечерком же в Совете, как показали мне сообщение телеграммы, окрылился я совершенно. И потянуло меня скорей в родную обстановку семьи. Стал я предлагать господину Чучуеву:
— Выедем, — говорю, — моментально к месту родительского пребывания. Неужто, — спрашиваю, — не соскучились?
Заволновался господин Чучуев.
— Не поеду, пока всего не выскажу. Я, — говорит, — и так двенадцать лет молчал. И как есть у нас пятьдесят две губернии, так я теперь в каждой буду высказывать.
Смекнул я, что надлежит нам расстаться, и испытал на себе грустное чувство. «Вот она, — думаю, — разлука с друзьями».
И до утра все не мог заснуть: обдумывал прошлую жизнь. Образованность свою припомнил за это время… Физическое развитие насчет природы… То же самое по поводу минералов вспомнилось. Вижу ясно: совсем другим человеком уезжаю. Вот только еще насчет допотопных зверей не закончили. «Что ж, — думаю, — с этим как-нибудь обойдусь».
А все-таки оба мы прослезились, как настало время нашего расставания. Вышел за ворота господин Чучуев (мы тогда у старосты спали). Обнял меня и запечатлел поцелуй.
— Дай вам Бог, и прощайте навеки. Стремитесь, — говорит, — всегда на гору и на всякие возвышенности в жизни.
Заплакал я, понятно, от умиления.
— Учитель! — говорю.
И за ручки его схватил. И сжалось у меня сердце.
Махнул платочком господин Чучуев, свистнул ямщик — и вскорости скрылась за бугром данная деревня.
«Эх! — думаю. — Потерял педагога. Когда-то еще даст Бог свидеться…»
Между тем приближались мы постепенно к городу. Стали пассажиры попадаться на дороге и вообще разная публика. И одна старушонка махонькая чрезвычайно мне напомнила маменьку. Собственно, платочек у нее был на голове такой же, как у маменьки, зеленый с желтыми точками.
— Стой! — сказал я кучеру.
И достал кошелек.
— Нате, — говорю, — вам, бабушка, монету в пять копеек. И помолитесь, бабушка, за в Бозе почившего Симеона и за еще здравствующую Пелагею.
А старушонка эта всполошилась, понятно.
— Подавись, — говорит, — своим пятачком, когда за фунт хлеба полтинник платим. Ишь насмешник какой, чтоб у твоих родичей мозги повылазили!
Вскипятился и я.
— Вы, бабушка, зачем так выражаетесь? На основании каких фактов? Это, — говорю, — неинтеллигентно.
Кучер между тем повернулся ко мне и говорит:
— Бросьте спориться с ней. Не слышите разве, стреляют? Того и гляди пулю засадят в часть вашего заднего тела.
Действительно, гляжу, под горой солдатики постреливают. И дымок над землей стелется. И даже слышно: пиф-паф!
— Так ведь это же учение, — говорю. — Просто себе обучаются в окопах.
Тут вдруг упала старушка на землю и за живот ухватилась.
— Ох! — кричит. — Смерть моя пришла!
А вокруг, слышу, пульки свистят: тек, тек!
«Эге, — думаю, — похоже на боевую обстановку».
Когда вдруг стало тихо и совершенно прекратились выстрелы, вздохнул я легко.
«Слава Богу, — думаю, — утихомирилось».
Завязал кучер платочком пораненное ухо и говорит:
— Теперь в три раза надо быстрее ехать. Сейчас из пушек начнут жарить.
На самом деле — ударило что-то сбоку и разорвалось. Упал я на дно повозки. «Конец, — думаю, — жизненной деятельности, убьют обязательно». Только слышу, смеется кучер.
— Чепуха, — говорит, — это, а не стрельба. Из трехдюймовочки бьют. Кабы из тяжелого оружия, куда грозней. От той действительно нет спасения.
— Да как же, — спрашиваю, — это возможно? И кто все-таки воюет?
— А все против всех, — говорит. — У кого, например, есть ружье, тот и воюет.
Подивился я такой войне, однако не стал спорить. Все у меня мысли насчет дома вертятся. «Надо бы, — думаю, — маменьке купить подарок. И что бы, — соображаю, — купить?» И порешил я, понятно, купить калоши. И так я это задумался насчет подарка, что и не заметил, как въехали мы в город. А как очнулся от мыслей, гляжу: дома вокруг и магазины. И повсюду народ стоит кучками. Разбежались у меня совершенно глаза от подобного зрелища. Шутка ли — несколько лет не видел.
А по улицам красные флаги развешаны и музыка играет. И куда ни глянешь — ораторы стоят. Кто произносит с балкончика, кто из окна, а кто ростом повыше, тот прямо из публики. И как чинили в то время телеграф, так рабочий один со столба говорил очень замечательно. Вылез он, понятно, на самый верх, ухватился за проволоку.
— Долой, — говорит, — всех!
И на землю свалился, бедняга.
Проехали мы таким манером три-четыре улицы. Слышу, к вечерне ударили колокола. Пробудилась у меня в душе религия, перекрестился я. И кучер то же самое.
— За сколько лет, — говорю, — услышал. И что, сегодня праздник какой?
— Нет, — говорит кучер. — Просто себе молятся. Которые левые, так те за левых, а кто поправее — за правых. Иной за старую власть молится, а другой за новую. Потому каждому дана свобода. То же самое панихид теперь много бывает — за упокойников молятся. И молебны за живых служат. А только, — говорит, — извольте сходить — приехали.
Соскочил я тотчас с саней:
— Это что же такое? Трактир?
— Заведение, — говорит кучер. — Бастилия называется.
Действительно, гляжу: вывеска повешена. И красными буквами на ней написано: «Каторжная отель». Поднялся я на крылечко с вещами.
— Эй! — кричу. — Хозяин!
Выбежал лакей в поддевочке:
— Чего изволите?
Дал я ему барахлишко свое.
— Неси, — говорю, — в номер.
Только как закричит он вдруг на меня возмутительным голосом:
— Зачем тыкаете? Я с вами свиней не пас. Не те времена, чтоб так выражаться. А еще интеллигентный преступник.
Тут и хозяин, понятно, вышел. Сильный такой мужчина, и борода лопатой.
— Неси, — говорит, — не разговаривай.
И даже очень вежливо со мной обошелся.
— Вы, — говорит, — на него не смотрите. Много их теперь развелось. Ты ему слово — а он в ответ целую телеграмму. Пожалуйте, я вас провожу.
Вошли мы с хозяином в темный коридорчик. Потянул я легонько носом.
— Что это, — спрашиваю, — у вас вроде как бы мышами пахнет?
— Господь вам навстречу! — восклицает хозяин. — Где же вы видели непахучих мышей? Каждая мышь по-своему пахнет, уж будьте уверены. Зато номерочки у нас очень даже удобные.
— Любой, — говорит, — к вашим услугам. Ежели клопов не боитесь — снимайте за три рубля. А ежели без клопов желаете — цена, конечно, двойная. Потому отдохнуть человек может в подобном номере.
Подумал я минутку.
— Нет, — говорю. — Дайте лучше за три рубля. Может, как-нибудь обойдусь.
И как вошли мы вовнутрь, огляделся я по сторонам. Вижу, комната ничего себе и даже с обоями. И от усталости тела присел на кровать.
— Вы уж меня, — говорю, — разбудите пораньше. Так, к примеру, часиков в семь.
— Зачем? — поразился хозяин.
— Как зачем? На поезд надо поспеть.
Покачал он головой отрицательно.
— Не надо, — говорит, — вас будить. Сами проснетесь. В два часа ночи проснетесь.
— К чему же, — спрашиваю, — так рано? Мне только бы в семь, на утренний поезд.
— А уж так, — говорит. — В два часа ночи пробудитесь обязательно.
Не стал я с ним, понятно, спориться. Позднее время было, и ко сну меня очень тянуло. И ведь все-то он врал, как потом оказалось. Очень уж такой был бесчестный субъект. Потому ни минутки не спал я в ту ночь, а не то что до двух часов. Только было разделся, как моментально с постели выскочил. Словно бы перцем мне спину посыпали. Зажег я свечку. И уж такое увидел — вовек не забыть.
По всей простыне клопы эти проклятые ползают. А которые без занятий, так те просто себе на стенке сидят. Вроде как отдыхают. И мыши пищат в окрестностях. Должно быть, в постели у них было гнездо. «Нет, — думаю, — не заснуть мне сегодня…»
Взял я стульчик, поставил у стенки и сел на него. И появились тут у меня всякие мысли. По большей части из философии. Главным образом насчет клопов. «Какая, — думаю, — ничтожная финтифлюшка, а как вонзит свои челюсти в организм — не может человек по этой причине уснуть». И опять-таки про дом вспомнил, про маменьку. И так это крепко задумался, что незаметно уснул. Только под утро, слышу, стучат в номер. Приоткрыл я дверь и остановился как вкопанный в землю. Стоит на пороге барышня и усмехается. Кинулся я в уголок.
— Простите, — говорю, — барышня, за мой утренний туалет. Сейчас в момент надену невыразимые штаны.
А она замахала ручкой:
— Не беспокойтесь. Я это насчет чая пришла спросить. Будете кушать?
— А отчего ж, — отвечаю, — не побаловаться китайской травкой.
И как находился я уже в то время в штанах, то и за подбородочек ее взял.
— Красотка, — говорю, — вы очень замечательная.
И так на душе у меня стало приятно… Совершенно приободрился. К тому же в оконце взглянул: зимняя картина повсюду. И птицы поют на деревьях. Главным образом, разумеется, вороны. «Хорошо, — думаю, — жить на свете!..»
После чая потребовал я у хозяина счетец:
— Разрешите, папаша, с вами посчитаться.
— Господь вам навстречу! — сказал хозяин. — Всего-навсего следует получить двенадцать рублей.
— То есть, — спрашиваю, — каким это образом такая сумма цифр?
— А вот, извольте взглянуть. За номерок три рубля да за чай рубль с полтиной. И как пальтишко ваше висело на вешалке, то за повешенный предмет то же самое — полтинник. Так и в театрах берут, я не запрашиваю.
— Ну, пускай, — говорю. — А откуда же лишних семь рублей набежало?
— Откуда? — И хихикнул при этом. — Вы,— говорит, — меня не смущайте.
Даже к стенке лицом повернулся и руками прикрыл глаза.
«Что за комедия, — думаю, — ничего не понять».
А он себе потихоньку:
— Хи-хи.
И тоненьким таким голосом, хоть и агромадный мужчина.
— Нет уж, — говорю, — будьте добры объяснить, за что семь рублей причитается.
Кашлянул он значительно:
— Это за барышню. — И опять: — Хи-хи.
Вскипятился я, понятно, в момент:
— За какую-такую барышню? Я никакой барышни не знаю.
Повернулся он ко мне своей образиной:
— А чай вам кто приносил? За эту самую и заплатите.
И еще подмигнул при этом глазами. Возмутился я совершенно.
— За что, — говорю, — платить, когда я ее вовсе не знаю? И полминуты не были вместе.
— Уж это все равно, — говорит. — Мы ее специально для гостей держим. А что вы ей не принадлежали, так это ваша вина.
Плюнул я, понятно, и заплатил. «Экий, — думаю, — живодер, чтоб ему было пусто». И разумеется, наскоро собрал свои вещички. «Нет, — думаю, — надо отсюда скорей уходить». И как вышел я на улицу, поспешил моментально к вокзалу. «Только бы не опоздать, — думаю. — А уж там прощай, Сибирь, на вечные времена жизни. И во сне не захочу ее лицезреть».
Подошел я к вокзалу в самый момент, вижу: толпится публика на площадке. И начальник станции то же самое по дорожке гуляет. Красная фуражка у него на голове и вообще господин приличный.
— Скажите, — спрашиваю, — не опоздал я на поезд, идущий прямолинейно в Москву?
Козырнул он мне.
— Нет, — говорит, — не опоздали.
— В таком случае простите за беспокойство вашей служебной прогулки… Долго ли мне еще ожидать?
— Нет, — говорит, — недолго. Может быть, послезавтра поедете, самое большее — через неделю.
Как сказал это он мне, так я на землю и опустился. Сел, разумеется, на панель и вещички отбросил в сторону.
— Лучше б, — говорю, — и не возвращаться из ссылки.
И видно, Бог надоумил меня выразиться подобным манером. Потому наклонился ко мне начальник станции и опять-таки под козырек взял.
— Вы же, — спрашивает, — кто такой будете?
— Конечно же, — говорю, — арештант. Сколько лет, — говорю, — понапрасну стравил в изгнании от культурных центров… Мерз в снегах, страдал вследствие голода.
Выслушал он меня обходительно и головой покачал.
— Да, — говорит, — занятно. И чем бы таким помочь? А впрочем, могу вас товарным отправить. И как раз сегодня пойдет этот поезд. Только, — говорит, — не взыщите, со скотами прийдется ехать. С коровами и прочим живым товаром.
Обрадовался я чрезвычайно.
— Господин, — говорю, — начальник! Примите уверение в совершенном к вам уважении. С удовольствием поеду. Мне, — говорю, — совсем безразлично, какие есть пассажиры. Маменьку желательно обнять скорей и выразить ей свои чувства.
И устроился я, конечно, в товарном составе данных вагонов. Зажег фонарик для освещения темноты и стал ожидать. Выехали мы действительно к полуночи и вскорости очутились в поле. Забрался я в уголок, примостился на сене и задумался. «Почему это, — думаю, — у коров глаза светятся?» И как один я находился в вагоне, то вслух стал рассуждать:
— Каким, дескать, образом происходит явление?
И только я произнес несколько выражений, вдруг из другого угла отзывается голос:
— Вы бы лучше спросили, почему мы вообще здесь находимся.
Вскочил я моментально на ноги.
— Кто это? — спрашиваю.
Тут подошел ко мне старичок, совсем, можно сказать, плешивый, однако с осанкой и видно по пиджаку — образованный. Остановился он передо мной и руки в бока поставил.
— Отчего же, — говорит, — не отвечаете на заданный вам вопрос? Когда я дождусь наконец ответа? Или хотите еще подумать?
Однако как молчал я, оторопевши, стал он надо мной насмехаться:
— Ничего вы не знаете. Полная у вас неуспешность.
Смутился я совершенно.
— Уж вы меня, — говорю, — простите.
Замечаю, нахмурился старичок и брови насупил.
— Все вы, — говорит, — так… Простите и прочее. А кто виноват? Я вас спрашиваю. Кто виноват? Или, может, по-вашему, я виноват?
И глазами в меня уставился.
— Нет, — говорю. — Я вас ни в чем не виню.
Подскочил он ко мне и руками потряс.
— Молодой, — говорит, — вы еще, чтоб меня обвинять. Молоко у вас не засохло. А только, чтоб знали, был я директором. В благородном институте для разных девиц. Посвятил себя им и отдавался с любовью. Матерей вам готовил… И теперь вот с коровами еду. Вследствие чего? По какой причине?
И вдруг как закричит:
— Отвечайте на заданные вопросы!
Смутился я еще больше.
— Извините, — говорю. — Не могу на это ответить. Должно быть, — говорю, — и вам разрешили местопребывание в скотском вагоне.
Тут как вскипятился он и даже ногами затопал.
— Это, — кричит, — революция допустила! Потому как есть я статский советник, то ордена у меня повсеместно и, кроме того, на шее. А только, — говорит, — ничего вы все равно не поймете. Садитесь моментально на место.
Присел я на краешек яслей. «Экий, — думаю, — сердитый субъект!»
Тут вдруг подъехали мы к какой-то станции. Уже светало, и петухи оглашали воздух. Замолчал старичок. Стало и меня клонить к сновидениям. И только было закрыл я глаза — промычала корова. Кроме того, слышу, стучатся снаружи.
— Товарищи! — кричат. — Отоприте!
Подошел я было к двери, но старичок стал на дороге:
— Не пускайте никого. И так дышать нечем.
— Не могу, — говорю, — не пустить. Потому как есть это звериный вагон, то каждый имеет полное право.
И как открыл я, понятно, дверь, появились моментально солдаты. Сами вошли и пулемет за собой втащили. Затих мой старичок совершенно, даже в угол забился. А солдатики оказались очень спокойные пассажиры.
— Не беспокойтесь, — говорят. — Мы никого больше в вагон не пустим. Бомбы у нас имеются для подобных случаев жизни.
И на самом деле, никого они к нам не пускали. Только, бывало, подъедем к станции, сейчас же к дверям пулемет подкатят.
— Не подходи! — кричат. — Стрелять будем!
Так вот и доехал я с ними совершенно спокойно до самой Москвы. И забилось у меня сердце. Дух захватило. Ведь как-никак почти что домой добрался. Разволновался я… И не рассказать этого своими словами и даже при помощи чернильных принадлежностей и пера.
6
Знавал я уже здесь, за границей, в Европе, одного старичка эмигранта. Очень хороший был из него писатель. Сам беленький такой, бородка клинушком — очаровательный господин. И семья у него то же самое очаровательная была… Только я все это к тому говорю, как иные умеют описывать.
Бывало, усядемся за вечерним чайком, начнет он читать свое печатное произведение. И ей-Богу, заплачешь! Потому о грезах пишет главным образом и вообще о мечтах…
И жена его такая умилительная старушка.
— Подожди, — говорит, — Степа. Платочек достану. Хоть и седьмой я раз это самое слышу, а все-таки безотрадно.
А он это, как дойдет до соловьев, сам прослезится.
— Не могу, — говорит, — про соловьев читать. Юность свою вспоминаю и, кроме того, березы.
Да, хорошо писал. Слог у него был такой, что невольно заплачешь. А я вот и рассказать не могу обстоятельно насчет своей жизни.
А почему? Исчезла поэзия из души. Сердце мое охладело. Так еще представляешь себе некоторые картины… Дерево какое-нибудь припомнишь или махровый цветок… Но выразиться до конца не умеешь.
Что расскажу, например, о прибытии в родительский город?..
Как опишу гражданскую обстановку? Галок, конечно, помню, потому крикливая птица. Галдели они повсеместно, совершая полет. И помню еще, извозчики выражались перед вокзалом… И как подъехал я к нашему домику — госпожу Огуречкину встретил. Не узнала она меня, как снял я фуражку.
— Вам, — говорит, — кого здесь угодно?
— Арина Васильевна! — говорю. — Неужто я так физически опротивел?
Вскрикнула она моментально:
— Не может быть! Это не вы!
— Нет, — говорю. — Это я.
А она головой качает:
— Не вы это… Не вы.
Посмотрел я через заборчик, вижу, в домике нашем ставни закрыты.
— Что, — спрашиваю, — спит, должно быть, маменька после обеда?
Вздохнула тут тяжко мадам Огуречкина.
— Она, — говорит, — и после ужина спит.
— Ну, это пустяки. У старушки, — говорю, — день большой. Им только бы утром возиться да чаи распивать.
Еще раз вздохнула мадам Огуречкина:
— Вы не пугайтесь. Ничего нет такого. А только она и утречком спит. И самоваров не ставит. И вообще прошло уже полгода времени, как мы ее схоронили в сырой земле.
Шатнулся я, понятно, на месте. Кольнуло меня. «Эх, — думаю, — маменька!»
И как держал я в руках калоши, бросил их моментально на землю. «К чему, — думаю, — теперь подобная финтифлюшка? Даже обидно в такое печальное время и оскорбительно для души».
И что меня особенно поразило: как вошел я во дворик наш, то же самое слышу, пчелы гудят, и вишня в цвету качается. И тишина… Где-то с балкончика, слышу, оратор кричит:
— Товарищи!..
А вечер горит себе преспокойно…
Дала мне ключик мадам Огуречкина.
— Покойница, — говорит, — вручила. Вам передать просила покойница.
Как закричу я тут на нее:
— Нет здесь никакой покойницы! Это вы сами покойница! Долой, — кричу, — с глаз и не попадайтесь мне на глаза!
Понятно, в расстройстве я был тогда, выражаясь подобным образом. Только не обиделась мадам Огуречкина — взяла меня за руку:
— Успокойтесь. Я тоже дитё потеряла. Недоглядела я его, не сберегла… И вот он ножницами подавился.
И посмотрела она на меня грустным взором.
Открыл я ключиком дверь, вошел в комнатную обстановку. И таким мне пахнуло запахом. Сливы любила маменька. Особенно старую сушку. И вот пахнуло на меня этими сливами… Присел я на топчанчик в углу и заплакал.
«Эх, маменька, маменька! Зачем, — думаю, — вы ушли от меня и куда, например, неизвестно. Вы себе, — думаю, — погреблись в могиле, а мне каково оставаться!»
Закрыл я лицо руками.
«Как, — думаю, — представить себе ее помертвевшие черты? Все эти морщинки у глаз и вообще лицевые мускулы незабвенной материнской физиономии?»
Между тем совершенно стемнело, и лампу пришлось зажечь.
Открыл я оконце. Ароматы пошли от деревьев. И козявки слетелись на абажур. Бегают они себе по столу преспокойно. Досадно мне стало и грустно.
«Вы, — думаю, — бегаете… а маменька нет».
И опять-таки слезы из глаз текут. Раздражительность у меня появилась. На мотылька посмотрю ночного и здесь же помыслю: «Ты вот летаешь… а маменька нет…»
И миры меня раздражали в небе. И то, что от деревьев такое приятное обоняние происходит… Словно бы все это посмеивалось надо мной.
Так я и ночь не спал, раздумывая о грустной потере.
А утречком пришла меня проведать мадам Огуречкина.
— Не горюйте, — говорит. — Все равно не поможете. Лучше записочку прочитайте от вашей маменьки. Перед смертью она уже ее написала.
И подала она мне четвертушку бумаги. Действительно, смотрю, маменькой это написано, хоть и прыгают буквы перед глазами.
«Сын мой, Елпидифор! Как стою я на пороге могилы, то и кланяюсь тебе с этого самого порога. Не печалься, дитё мое ненаглядное, а лучше почини поросятам сарайчик. Потому они у соседа портят сады и, кроме того, едят чужую капусту. А я уже устаревшая от человеческой жизни, и тянет меня полежать с супругом моим и с другими нашими предками. Тяжко мне, что не увижу тебя перед смертью и деток твоих не дождусь. А только я тебя любила вплоть до самой гробовой доски… А за государем нашим, Николаем Александровичем, что висит в углу на стенке, пакетик лежит под рамкой. В пакетике там восемь рублей. Это я для тебя сберегла. И прощай, сынок, до Страшного суда, когда и тебя позовут перед Господа Бога, и вообще всех наших знакомых…»
Прочитал я записочку, задумался. И потом спрашиваю:
— Где же похоронили маменьку?
— Рядом с Переверзихой, — говорит мадам Огуречкина. — Помните чиновницу Переверзеву?
— Как, — говорю, — не помнить? Бык ее забодал на улице по причине красной одежды.
— Ну вот, рядышком с ней и лежит ваша маменька, — говорит мадам Огуречкина. — Справа Переверзиха, а слева маменька ваша.
И решил я, понятно, навестить дорогую могилу. С грустными размышлениями ума вышел я на улицу. Ничто меня не радовало теперь — ни цветенье древесных стволов, ни щебетанье птиц в кустах и повсеместно на заборе. И как очутился я за кладбищенской оградой, пошел по одинокой аллейке. Ангелы, понятно, повсюду стоят. И еще разные памятники древнего искусства. И очень плачевные стишки прочитал я на одной могильной плите. Запомнились они у меня в памяти:
Спи с миром, капитан в отставке, Среди цветов, в зеленой травке.«Вот она, — думаю, — судьба людская!» Так это вдруг кольнуло меня… И задумался я о жизни. «Для чего, — думаю, — жить, если приходится умирать?» Вспомнился мне господин Чучуев — ему бы меня утешить. Потому и о людях он знал, и о загробной жизни очень прекрасно рассказывал. Тоска меня охватила…
А вокруг — сияние лучей и кресты белеют на солнце. И тянет от вишен медовым цветом. Как невесты они стоят… «Эх, маменька! Теперь бы только существовать!»
Так, раздумывая, прошел я в конец кладбища. Здесь победнее располагались могилы, а которые и вовсе провалились под землю. И ангелов стало меньше — одна трава шумит. И вдруг так звонко кукушка закуковала. Глянул я невольно перед собою… И пошатнулся в ногах. Надпись увидел:
«КУКУРЕКОВА ПЕЛАГЕЯ».
И дальше читаю:
«СКОНЧАЛАСЬ 13 ОКТЯБРЯ».
Наклонился к земле деревянный крест, и дощечка на нем облупилась железная. А только понял: маменька здесь лежит и прах ее находится под землею. Снял я фуражку и перекрестился. И расчувствовался я совершенно.
— Маменька! — говорю. — Вот и я прибыл. Слышите ли вы меня из-за гроба? Потому, — говорю, — как не виделись мы с вами долгое время, то в арештантах я проживал, постоянно о вас вспоминая. И очень я по вас соскучился, маменька, а только вы умереть поспешили. Разложились вы на свои составные части, и что осталось от вас? Одни химические элементы. А мне, — говорю, — очень печальная осталась траурная обстановка.
И опустился я на колени перед могилой. Слышу, трава шумит, и вижу, колоски на солнце лоснятся. И опять-таки кукушка кукует, только в отдалении уже, и не так явственно для слуха.
— Маменька! — говорю. — Зачем вы меня огорчили?
Потекли у меня по щекам слезы. И вдруг за спиной, слышу, кто-то остановился. И даже покашливает потихоньку. Оглянулся я — действительно, стоит человек. Шапка у него барашковая на голове, а в руках держит лопату.
— Здравствуйте! — говорит.
Вскочил я с коленок. А человек покачал головой очень даже печально.
— Жалко, — говорит, — мне вас беспокоить, а только напрасно вы здесь молитесь.
Поразился я:
— Это почему?
А он говорит:
— Над ней и детки родные не плакали. И вообще не молились. Потому ядовитая была женщина. Невестку свою еще при жизни сгубила.
— Да вы о ком? — кричу.
— А об этой, — говорит, — купчихе самой. О Ветровой.
— Нет же! — говорю. — Маменька здесь моя похоронена. Вот и крестик стоит.
Передернул он, понятно, плечами:
— Что же из того, что крестик? Крестик этот сам я сюда на время поставил. Потому починяю сейчас могилы и произвожу главный ремонт. А только крестик этот совсем от другого покойника.
И подвел меня к одинокой могилке.
— Вот, — говорит, — где ваша маменька должна покоиться.
Смотрю, могила действительно свежая, и крест на ней вроде дубового, а только написано:
«СПИ С МИРОМ, ДОРОГОЙ СОБРАТ ПО ПЕРУ ВАЛЕРИАН КРУГОСВЕТОВ».
— Так ведь здесь, — говорю, — собрат незнакомый покоится — господин Кругосветов.
— Нет, — говорит. — Они покоятся в том уголку, направо. А только крестик этот есть действительно посторонний, потому и у них я сейчас могилку справляю — завалилась она с зимы.
Взволновался я.
— Вы, — говорю, — всех упокойников перепутали. Неаккуратность в этом большая и невнимательное отношение к жизни.
Стал он, понятно, доказывать:
— Наоборот. В порядок я все привожу.
И подошел он ко мне поближе. Тут уж дохнуло на меня винными испарениями чистого самогона. Пьяный, вижу, совсем могильщик. Чего с него спросишь? Повернулся я потихоньку и пошел к выходу.
И охватила меня тоска смертная — хоть руки на себя наложи. Места себе не находил я в природе…
Однако прошло несколько месяцев — захватила меня жизненная обстановка. Прослышали соседи о моем пребывании. И студент Голопятов, Андрей Иваныч, пришел проведать. Не узнал я его по первому взгляду. Очень он за эти времена изменился. Борода у него отросла, и, кроме того, хромает на левую ногу.
— Голубчик! — говорит. — Как я рад вас увидеть! Дайте же, я на вас погляжу хорошенько!
А потом говорит:
— Выражение у вас теперь на лице появилось. Как будто вы нашатырного спирту нюхнули. Каторжное у вас выражение.
Заинтересовался и я.
— Как же, — спрашиваю, — вы поживаете? И отчего это у вас нога в хромом состоянии? Немецкая, должно быть, пуля сидит?
— Нет, — говорит, — австрийская. А только подстрелили меня уже здесь, в России. Охотник один подстрелил из австрийской винтовки. Упражнялся он в стрельбе перед домом.
Выразил я, понятно, сочувствие.
— Надо, — говорю, — осторожней ходить по улицам. Ведь так и убиться недолго…
Поговорили мы, кроме того, о политике. Собственно, Голопятов, Андрей Иваныч, сам предложил:
— Будете вы теперь у нас председателем. Союз мы устроили и комитет анархистов.
— Что ж, — говорю. — Я, конечно, рад поработать для государства. А только опыта у меня нет. Боюсь, что не справлюсь с поставленными перед вами задачами.
— Справитесь! — говорит Андрей Иваныч. — И кроме того, вы у нас один каторжанин. Вроде почетного будете гостя. А уж бомбы мы будем сами бросать.
И как уговорил он меня выступить в тот день на собрании, то я и рассказал слушателям зала о своей сибирской судьбе. Заволновалась, понятно, публика. Стучит ладошками. И помню, выскочила вперед неизвестная барышня:
— Товарищи! — кричит. — Надо всю Сибирь взорвать моментально!
И стал я с того дня принимать участие в политической жизни страны. День за днем пошли митинги. Иногда и не управишься — по десять раз приходилось высказывать. Наголодался я за это время. Уж какой тут обед, когда целый день перед народом. А все-таки иной раз не выдержишь.
— Товарищи! — говорю. — Уж вы мне разрешите бублик скушать.
— Кушай! — кричат. — Только живее!
Закусишь, понятно, в момент и опять говоришь. И еще бумаг много приходилось подписывать. Мозоли натер я на пальцах. Кому документик подпишешь, кому печатку поставишь. Печатка у нас была довольно занятная — черепную коробку изображала и две смертельные кости. Выбился я совсем из сил от работы.
А только случилось это уже совсем под осень, приходит к нам в комитет телеграфное сообщение. Прочитали мы его и задумались. И говорит нам матросик один:
— Раз эта временная власть опрокинулась в Петрограде, так мы сами устроим теперь временную власть. А которые не с нами, те против нас.
Подошел и секретарь наш, прислушивается.
— Все, — говорит, — против нас будут.
— Ну, это безразлично, — говорит матросик. — Мы их всех бомбами закидаем.
Однако уже через день получили мы другую бумагу. Посурьезнее была эта бумага. Всадник кавалерийский привез ее нам на рассвете. И бумага эта гласила:
«Граждане! Сохраняйте спокойствие. Буду я драться с Митькой Кострюковым из-за вашего родного города. Потому не атаман он совершенно, а просто злостный самозванец. И как идет он с юга, так я подхожу с севера. И будет ваш город нашей политической ареной… А только я ему не оставлю камня на камне. Скорее, все снаряды свои раскидаю, а города ему живого и целого в руки не дам. Вы же сохраняйте полное ваше спокойствие и вернитесь к своим занятиям. Кто же выйдет на улицу после восхода или после заката, тому моментальный расстрел».
И подписано:
«Народный атаман Добувай Воля».
Растерялись мы от подобной бумаги. И город весь всполошился. Купец Спиридонов даже дом обложил перинами.
— Все-таки, — говорит, — хоть пуля не пробьет…
А только вместе с домом разорвало его на части, как начали палить из пушек. И такая поднялась битва — вовек не захочу повторения. Попрятались все, кто куда мог. Я у мадам Огуречкиной устроился. Агромадный был у нее погреб, вроде как у пещерного обитателя. И студент Голопятов, Андрей Иваныч, здесь же сидел, и муж ее, Иван Иваныч. И еще племянница их — Вера Никитишна. Составилась целая семья.
Сидим мы это, понятно, при лампочке, друг к дружке прижавшись. А наверху, над нами, сплошное пекло — гремит, гудит… Только ввечеру говорит вдруг господин Огуречкин:
— Не могу я без чая жить. Надо самовар принести сверху.
— Что ты себе думаешь? — воскликнула мадам Огуречкина. — О каком чае может быть речь в настоящее историческое время?
А он на своем уперся:
— Принесу, да и только.
И действительно, полез он наверх, почти что на животе. Прямо-таки как гадливое животное, вроде змеи.
— В экую тьму полез! — ужаснулась мадам Огуречкина. — Упорный человек.
Замерли мы в ожидании его обратного возврата.
Проходит минута, другая, а его все нет. И вдруг появляется веселый такой и самовар в руках держит.
— Ну, — говорит, — поздравляю. Занят уже наш город. Только кем — неизвестно. А наверху, между прочим, светло, как днем. Потому все окна у нас разбиты и дом напротив горит.
На самом деле, стало понемногу стихать.
— Теперь уж и я полезу, — сказал Голопятов Андрей Иваныч.
Разволновалась барышня наша:
— Не смейте! Я вам запрещаю!
— Нет, — говорит, — полезу. Не могу же я при дамах поправлять свой туалет.
Смутилась барышня, Вера Никитишна. Однако упрашивает:
— Голубчик! — говорит. — Прошу вас, останьтесь!
А только не послушался ее Андрей Иваныч — полез.
— Ах, убьют его! — говорит Вера Никитишна. — Предчувствие у меня такое.
Сообразил я, понятно, что брачную пару они из себя представляют, и стало мне жалко ее.
— Успокойтесь, — говорю. — Нет основания для выведения таких печальных умозаключений. Наоборот, — говорю, — все предыдущие факты свидетельствуют о противном.
А она головой качает:
— Убьют его непременно.
И вдруг возвратился Андрей Иваныч.
— Вот и я, — говорит.
Тут уж не выдержала барышня — сама ему на шею бросилась.
— Андрюша! — кричит. — Зачем безрассудное геройство? Сохраняйте себя для России и сидите, пожалуйста, в погребе.
А он усмехнулся и за подбородочек ее ущипнул.
Умилило меня такое взаимное отношение. И опять-таки вспомнил: «Кто же меня утешит в беде? И кому вообще я нужен? Была вот маменька, и нет ее теперь совершенно… Лучше бы пуля меня какая пронзила, чем так прозябать». Грустные полезли в голову мысли. А жизнь готовила новую судьбу.
Говоря короче, начались у нас в городе постоянные сражения. Каждый день обязательно кто-нибудь сражался. И только один раз без артиллерии обошлось. Это когда Махно заходил. Шашками он по большей части действовал.
И однажды орудие на нас испытали морское. Матросики возвращались домой. Тогда же, помню, театр сгорел… И кто только не был у нас за это время. И украинцы к нам заходили, и добровольцы. И вообще разные народные атаманы. А под конец явились большевики. Долго они обстреливали город перед своим приходом. Господин Огуречкин даже трубу печную приладил в погребе.
— Надо бы, — говорит, — и плиту сюда притащить. Скучно мне жить без домашних ватрушек.
Однако при большевиках стрельба поутихла. Только из винтовок, разумеется, стреляли еще и днем и ночью. Вылезли граждане из погребов на свежий утренний воздух. А которые по боязни не вылезли, тех большевики сами вытащили, силой. И пошли по городу обыски и аресты. Неаккуратное это было время, и очень я тогда раздражался.
Пришла, помню, раз утречком ко мне женщина простого звания.
— Здравствуйте, — говорит, — господин Кукуреков!
Удивился я, откуда бы знала. А она объясняет:
— Маменька ваша покоится у нас на кладбище.
— Очень приятно, — говорю. — А только чем могу послужить?
Заплакала тут вышеназванная женщина.
— Спасите, — говорит, — мужа. Могильщик он. Большевики его арештовали.
— Да как же, — спрашиваю, — могу я его спасти? И за что его все-таки арештовали?
Утерла она платочком глаза:
— За контрреволюцию его арештовали. За адмирала морского Крутолобова.
Подивился я еще больше. А женщина говорит:
— Боязно нам было выходить из сторожки нашей во время боев. И как стреляли из артиллерийских пушек, то разворотило при помощи военного снаряжения много старинных могил. И вот из одной могилы адмирал обнаружился. Шкелет, собственно, адмиральский. А только в погонах лежит и шпага при нем офицерская… Увидали большевики и раскричались на мужа:
«Ты, — говорят, — контрреволюцию развел! Золотопогонников показываешь! Белую дворянскую кость выставляешь!» И арештовали его, понятно, без всякой причины.
Стал я успокаивать плачущую женщину.
— Потерпите, — говорю, — мадам. Потому адмирал морской виноват в этом, а вовсе не ваш законный супруг. И по моему разумению, скоро вашего мужа отпустят из камеры.
Ушла от меня эта злосчастная женщина, а наутро узнал я: действительно муж ее был казнен судебной властью через физическое уничтожение тела.
Ахнул я только. «Что же это, — думаю, — делается в двадцатом веке?» И тогда уже зародилась у меня мысль: «Надо бежать отсюда подальше». Но как, например, бежать, когда большевики не пускают?
— Нам, — говорят, — нужна интеллигентная сила. Пожалуйте служить по приказу.
И назначили они меня в Народный Музей Революции. Неаккуратное тоже было это заведение. Много я тогда натерпелся. Принесут, например, серебряный самовар. Или еще какую-нибудь музейную редкость. Посмотришь: вещица занятная, а кран совершенно отсутствует… Или же браслетик принесут золотой.
— Где же, — спрашиваю, — камушки драгоценные от этой исторической находки?
— Это, — говорят, — у обладателя спросите. Мы ничего не знаем.
Ну а как, например, разыскать обладателя? И запишешь, понятно, вещицу в каталог. А сам помыслишь: «Неаккуратность какая!..»
И что меня окончательно разочаровало в ихнем режиме, так это перестановка времен. Взяли себе и перекрутили часы на сто сорок минут вперед.
— Так, — говорят, — удобней.
Ужаснулся я. «Какое же, — думаю, — удобство в укорочении человеческой жизни? Просто неаккуратность в этом и даже всеобщий разврат». И решил я твердо: с первым же случаем отбуду за границу Европы. Влекло меня наибольше в немецкую страну, по причине ее порядка. Как раз такой случай вскорости подошел. Говорит мне как-то заведующий музеем товарищ Петров:
— Надо вам в командировку ехать.
— А куда, например?
— Неблизко, — говорит. — Почти что на румынскую границу. Раскопки там производятся сейчас в одной усадьбе.
Разволновался я, однако стараюсь сохранить состояние духа.
— Что ж, — говорю. — Если надо — поеду.
И стал я потихоньку чемоданчик свой паковать и прочие вещи готовить. И задумался я. Как, например, совершить переход? И что меня ждет вдали от Родины, среди европейских бульваров? «Конечно, — думаю, — прекрасна бульварная жизнь — из книг это, безусловно, известно». И все-таки содрогнулся.
И как настало время отъезда, в последний раз оглядел я с горы местную картину родного города.
«Здесь, — думаю, — протекла моя невинная юность. Здесь я испытал любовную связь с особой прекрасного пола… И грезы меня здесь прельщали насчет женитьбы. А вот там, в туманной дали, покоятся родительские останки…» Овладело мной печальное настроение минуты. «Прощай, — думаю, — российское государство!»
И вот так в памяти моей осталось: снежок повсюду лежит, пролетают над зданиями галки, и гудит над головой проволока телеграфного аппарата. И еще дым над трубами расстилается еле заметный. (Мебелью в те времена топили.)
А небо уже покрывалось светилами, и глядели они на меня равнодушно из своей планетарной системы…
7
Город пограничной области, куда я вскорости прибыл, ничем особенным не отличался. Тот же российский стиль, и даже куры по улицам бегают. И все-таки обуревали меня разные чувства. «Вон, — думаю, — там, за рекой, и версты нет — Европа».
По-разному я себе ее представлял в то время. То вдруг представишь необычайную фабрику с высокими трубами (на коробках ботиночных такие у нас рисовали), то просто привидится господин в головном уборе… И главное, аккуратность предчувствовал я: тротуарчики европейские и все комнатные удобства. И что меня особенно прельщало, так это западное просвещение. Хотелось мне обдумать всякие научные предметы. Запутался я в мыслях. Еще как был со мной господин Чучуев, легче было соображать — помогал он мне разбираться. А уж как остался один, окончательно растерялся. Увидишь, например, явление и начнешь строить посылки. И сейчас же разочаруешься: что-то в этом не так. Особенно взволновал меня, помню, политический комиссар. В гробу я его увидел. Хоронили его в день моего приезда. И не трупом он меня своим взволновал, потому обыкновенный был труп, — мужички его подстрелили. Но вот задумался я. Сбивало меня что-то с научного хода мыслей. Гляжу: лежит человек. И галстучек у него аккуратно подвязан, и воротник крахмальный… «И все-таки, — думаю, — что-то здесь удивляет. Сказать бы, местоположение грустное… А между тем полный порядок соблюден — музыка играет и речи звучат. В чем же дело?»
И выходило даже так: аккуратное времяпрепровождение, но вместе с тем какое-то нарушение устоев.
Однако некогда было мне тогда разбираться в подобных вопросах. ТЕПЕРЬ-ТО УЖ Я ВСЕ ПОНИМАЮ…
А тогда надо было подумать, как перейти границу.
И как жил я в доме у одной бедной вдовы, то и стал ее обо всем расспрашивать, с осторожностью и вовсе не подавая виду.
— Скажите, — говорю, — крепко ли охраняется румынская граница? И много ли на границе солдат?
Пытливая оказалась женщина, догадалась, в чем дело.
— Вам, — говорит, — надо с Гришкой Цыганом столковаться. Всех он в Европу переправляет.
Сообразил я, что испытывает она меня словами, и прикинулся простачком.
— Это не для меня, — говорю, — нужно. Просто себе интересуюсь по любопытству. А все-таки адресок вы мне укажите.
Усмехнулась она:
— Хитрый вы человек. Но все же и я не дура. Прямо в душе вашей читаю без всяких очков.
— Что вы! — говорю. — Беспорядочное у вас, значит, чтение. Потому и не думаю я ни о чем подобном.
Ударила меня рукой по плечу пытливая вдовушка:
— Уж ладно. Хоть и не верю вам, а все-таки помогу. Чудак вы большой, и на мужа моего покойного похожи. Как повернетесь спиной — вылитый покойник.
И указала она мне, разумеется, местонахождение Гришки Цыгана. На самом краю города жил этот перевозчик. Хата его больше сарай напоминала. Вот и постучался я в эту самую хату вечерним временем, когда опустилось солнце. Долго мне не отворяли дверей, даже намерзся я тогда, на улице стоя, — метель поднялась. Наконец слышу, отодвигают запоры. Вышел ко мне на улицу агромадного росту мужчина. Голова у него курчавая, из-под шапки волосы вьются. Цыганской расы человек — и в темноте разобрать можно. Глянул он на меня исподлобья, как углем прожег.
— Чего надо? — спрашивает.
Растерялся я от внезапности. К тому же и вид у него очень грозный: вместо левого глаза — пустая дыра. И голос осипший, вроде звериного рева.
— Не знаю, как и приступить, — говорю. — Деликатные у меня вопросы и требуют уединенного размышления в кабинете.
Шагнул он тут ко мне на близкое расстояние.
— Ты, — говорит, — молодец, дурака не валяй. Зачем пришел, сказывай.
Обиделся я на такое обращение, однако говорю:
— Коренные вопросы меня интересуют в отношении пограничных столбов. И даже по ту сторону Европы связан я чрезвычайными интересами.
И только я это сказал, ухватил он меня за горло.
— Кто, — говорит, — чрезвычайный?
Захрипел я от удушения и на снегу покачнулся. А он еще больше сдавил меня руками и духу перевести не дает. И приблизился лицом к самому моему уху.
— Шпион? — спрашивает. — Из чрезвычайки?
И прямо-таки ест меня единственным своим глазом.
Вырвался я кое-как от него. Куда бы, думаю, исчезнуть? А только он уже ухватил меня за руку и потащил за собой в хату. Вошли мы в горницу, вижу: печка натоплена жарко и на столе закуска стоит. И еще страшней показался мне этот цыган при освещении лампы. Все лицо у него оспой порыто и краснее медного таза.
— Сказывай, — говорит, — кем ты подослан? А не скажешь — выпотрошу тебя в момент.
И ножик из-за пазухи вынул. Длинный такой ножик, вроде того, что свиней под праздники колют. Испугался я совершенно.
— Не убивайте меня задаром. И никем я сюда не подослан. Наоборот, — говорю, — сам я сюда себя подослал.
Дернул он меня за рукав, повалился я на скамейку.
— Ты, — говорит, — меня образованностью не тумань. Видел я уже всяких интеллигентов. А только если шпион — тут тебе и суд совершится.
— Ей-Богу, — говорю, — нет. Совсем я без служебных занятий. Потому и обратился к вам насчет перехода границы.
Отпустил он мою руку и покривился в лице.
— Понял, — говорит, — теперь, что есть ты просто ученая тля. Ну, сказывай, сколько даешь награды?
Ободрился я тоном его и даже стал торговаться.
— Пять рублей, — говорю, — могу заплатить. Деньги золотые и неподдельного царского времени. Романовские рубли. А если не верите, можете испробовать на зуб.
Засмеялся он исключительно грубым образом:
— Это за пять-то рублей хочешь сделаться европейцем? Да я и за десять рублей с тлей такой не буду мараться.
Стал я, понятно, просить:
— Окажите услугу!
А он на своем:
— Нет, ни за что.
Достал я тогда из кармана заветное обручальное колечко. Еще со дня моего сватовства сохранилась у меня эта памятная вещица. Грустно мне стало отдавать ее варварскому субъекту. И вот решило колечко судьбу — согласился цыган.
— Завтра, — говорит, — ночью, еще до луны чтоб ждал ты меня в нашем проулке. Только никому ни гу-гу. А не выполнишь слово, сделаю из тебя военного инвалида.
И опять на ножик свой показал. Даже не испугался я тогда — радость меня взволновала. Ног под собой не слышал, идя домой. И ночью все думал сладостно о том, как устроится жизнь моя по-новому, аккуратно…
Утром сходил я еще в усадьбу, где раскапывался старинный погреб. Для блезиру повертелся среди рабочих. И сейчас же, пройдя домой, стал понемногу приготовляться. В один узелок связал все свои вещи. «Так, — думаю, — удобней будет». А крестик серебряный, маменькино благословение, повесил на шею.
Наступил вечер, и примораживать стало. Хрустел под ногами снег, как стекляшки. «Что ж, — думаю, — пора».
И вдруг как будто опамятовался. Вспомнил, на что иду. Ведь как-никак подстрелить меня могут при переходе границы. Дело ночное и не подходящее для штатского человека… Заколебался я в выборе жизненного пути. И тут привиделась внезапно обаятельная картина…
Вижу заграничные улицы… И господа под зонтиками расхаживают. И экипажи повсюду. А на магазинах вывески по-иностранному, на деликатном языке…
«Неужто, — думаю, — упущу единственный случай?»
Перекрестился я троекратно и вышел из дому. Еще не было луны, и потому темная окружала обстановка. Только снег белел в улицах и на крышах людских строений. И мороз забирал все больше. Две пары белья надел я по этому случаю. Дошел я, понятно, в момент к назначенному местечку и стал ожидать. Здесь потемней было, чем всюду, — сады начинались пригородные. И заунывно так собаки лаяли, выражая тоску. Грозные были времена. Тогда и люди по-собачьему выли… Стою я это, жду, и сам думаю: «По нынешним правилам легко и в чеку попасть, а не то и в особый отдел по борьбе с бандитизмом». Всякие страхи одолевали. Только вдруг слышу, идет кто-то. Присмотрелся — Цыган это, Гришка. Положил он мне на плечо руку.
— Тише, — шепчет. — Конный разъезд поблизости.
И прижались мы с ним к самому забору. Проехали мимо нас красноармейцы, и опять стало тихо. Только собаки по-прежнему воют.
— Пойдем, — сказал Гришка. — Нельзя терять времени.
И повел меня через сады к реке. Спотыкался я, прыгая через углубления на земной коре, и раз даже на дерево наскочил. А Гришка Цыган идет себе, нигде не сворачивая, как в полдневное время. Так мы подошли к самому берегу.
— Теперь ни слова, — говорит Гришка. — Услышу что — сам тебя первый зарежу.
Ступили мы на ледяную поверхность воды. Тихая была ночь, чуть снежок порошил. И звездное сияние разлилось в небе. Слышал я только собственное сердце и то, как Гришка дышал своими легкими, следуя рядом. Вот уж и лес приблизился, тень от него на речку упала. Прибавили мы ходу. Почти бежим. На глазах вырастает лес и делается все темнее. Наконец хлестнуло меня по щеке веткой.
— Пришли, — сказал Гришка. И сел на пенек.
Гляжу, вынимает табашницу и вертит цигарку. Не поверилось мне от радости.
— Неужто, спрашиваю, заграница?
— Европа, натурально, — говорит Гришка. — Румынское государство.
Огляделся я по окружности — все как будто у нас. И земля такая же самая, и породы древесных растений… А Гришка между тем покурил и поднялся с пенька.
— Ну а теперь, — говорит, — следует за все расплатиться.
Вытащил я моментально кошелек.
— С удовольствием, — говорю. — Получайте за вашу услугу.
Взял Гришка золотую монету и кольцо мое то же самое на палец надел.
— А теперь, — говорит, — скидай пальтишко.
Удивился я:
— Это зачем? Мне совершенно не жарко.
Подошел он ко мне, глазом своим уставился.
— Тебя, — говорит, — что… два раза просить надо?
Глянул я на него и мигом скинул пальто. И заторопился, понятно.
— До свидания! — говорю. — Мне надо спешить.
А Гришка уже за рукав тащит:
— Раз поспешаешь, так скидай живее пиджак. Все равно в пиджаке не пущу.
Взмолился я:
— Пожалейте! Простудиться можно без пиджака.
— Ничего, — говорит. — Не простудишься.
И сам с меня пиджачок сбросил. Отчаялся я безысходно. Как в таком виде явлюсь среди общественных кругов? И холод стал проникать, затрясся я от озноба.
Однако повернулся, пошел по дорожке. Вдруг как закричит Гришка:
— Ты куда? А штаны позабыл?
Стал я, как статуй. Язык у меня отнялся.
— Скидай штаны! — говорит Гришка. — Или я должен сам тебя раздевать?
И такое на меня нашло безнадежное состояние… Скинул я штанишки беспрекословно. Подуло на меня ледяным холодом, до костей проняло. А Гришка, понятно, одежду мою на руку себе повесил и другой рукой стал меня щупать. И выругался при этом грубо.
— Две пары, — говорит, — белья на нем. Фря сопливая! Тоже, интеллигенция называется! Барин, который настоящий, тот и по восемь пар на себя надевает.
Ничего уж я ему не ответил. Скинул бельишко свое и ботинки расшнуровал. Носки Гришка в карман себе сунул. И заметил он внезапно на шее моей крестик — маменькино благословение. Упал я тут перед ним. Прямо в снег зарылся голыми коленками.
— Уж хоть это, — говорю, — оставьте. Потому для вас это нестоящая финтифлюшка, а для меня священный предмет вечерней молитвы.
Усмехнулся Гришка.
— Я, — говорит, — тоже не богохульник. Может, — говорит, — и я молюсь. Откуда ты знаешь? А какому Богу — неизвестно. У каждого теперь свой Бог.
И снял он с меня крестик нательный. И вдруг говорит:
— Разинь свою пасть!
Не понял я его. Уже и соображать не могу вследствие холода — весь посинел. Прикрикнул Гришка:
— Ротягу свою, — кричит, — открой! Тебе говорю!
Открыл я поспешно рот. Стал мне Гришка зубы рассматривать. Смотрел, смотрел, и даже плюнул с досады.
— Мерзну, — говорит, — я только с тобой задаром. Все у тебя зубы свойские, ни одного настоящего. У иного хоть денег нет, так зубы ему золотые выломаешь. А ты, — говорит, — просто тля бесполезная.
Потерял наконец и я полное присутствие духа. Подбежал к нему.
— Разбойник, — кричу, — ты, а не человеческий индивид! Нет в тебе никаких идеалов и даже потерянный ты субъект! Нагого ты меня пускаешь по миру и стыдливость людскую не пожалел.
И заплакал я от досады. К дереву прислонился сухому. А как поднял голову, не было уже Гришки Цыгана, — как ветром его сдуло. Только лес шумит повсеместно и снежок порошит. И лунный диск уже показался из-за тучи, все осветил, как днем. Зуб на зуб не попадал у меня от холода. Побрел я по дорожке лесной, с ноги на ногу перескакиваю по мерзлым кореньям. В самую гущу залез. И остановился.
«Вот, — думаю, — и конец земного существования».
Рук уже вовсе не слышу, задаром они по бокам болтаются. И ноги отяжелели, подогнуть коленок нельзя.
Вышел я на полянку. Чистый на ней лежал снег. И луна ярко проглянула из-за облака. Вижу, прыгает за мной по снегу куцая тень. Совсем этакий ничтожный человечишка в голом виде. «Неужто, — думаю, — я это прыгаю?» И хоть замерзал совсем, а явлению поразился. Шаг ступлю — и тот за мной неустанно следует. Остановлюсь — и эта финтифлюшка куцая остановится. И стало в ушах что-то звенеть. Прямо-таки малиновым звоном. Опустился я в снежный сугроб. Звенит по-прежнему. Ясно так звенит поблизости и вроде колоколов. А луна качается в небе — туда, сюда. Закрыл я глаза. И моментально вспомнил. Вдовушка еще говорила про монастырь женский за речкой. Это в нем звонят к ранней обедне. Однако подняться никак не могу. Застыл окончательно.
«Эх, — думаю, — Европа!»
И снова привиделась мне она в таком очаровательном виде! Улички чисто подметены. И аккуратные пассажиры проходят. И на каждом квартале фонарик горит…
Оторвался я от сугроба. И сразу пришел к заключению: замерзаю на чужой стороне.
Теперь так явственно услышал звон колокольный. Неужто погибнуть у самых дверей? Горькое показалось мне это занятие. Между тем подымусь — и опять упаду. И опять-таки продолжаю движение тела по прямой линии.
«Нет, — думаю, — не сдамся».
И замечаю, совсем рассвело. А звон все ближе — вот где-то совсем тут. И вдруг оборвался. И в эту самую минуту увидел я монастырское здание. Сразу откуда-то бодрость взялась, меньше чем в пять минут добрел я до ворот и прямо во двор вступил монастырский. Вижу, монашки толпятся — в церковь идут. Ахнули они, завидя мое присутствие. И все моментально от меня отвернулись. Слышу, смеются тихонько и толкают друг дружку. Остановился я в нерешительности посередине двора. Наконец подбежала ко мне одна из этих монашек.
— Бесстыдник! — говорит. — Нате, хоть рясой прикройтесть!..
Накинул я моментально поданную мне рясу и голову клобуком прикрыл. Подошли они тогда ко мне, стали наперебой расспрашивать. А я, понятно, дрожу от холода, и даже говорить не могу. Одно только сообразил — русский это монастырь, потому говорят все по-русски. И вдруг выходит из-за угла старушонка в монашеском одеянии. Важно так идет по двору, и палочка у нее в руках кривая. Увидали ее монашки и мигом от меня отшатнулись. Слышу, шепчут промеж собой:
— Мать игуменья идет.
Подошла ко мне эта самая игуменья и остановилась.
— Ты это что, — спрашивает, — дочь моя, ходишь босая?
Растерялся я, понятно, при виде духовной особы.
— Это, — говорю, — меня ограбили на границе. Гришка Цыган ограбил.
Покачала головой игуменья, и глаза у нее, замечаю, добрые. Снял я тогда клобук с головы — мешал он мне очень. И вдруг как отшатнется она от меня и стала поспешно креститься.
— Сгинь, — говорит, — сатана!
Даже обиделся я на такое напрасное обхождение. Почти до слез взволновался. А она машет руками.
— Сгинь! — кричит. — Не искушай!
Посмотрел я тогда на нее выразительным взором.
— Зачем, — говорю, — оскорбляете постороннюю личность? И что я вам сделал плохого?
И только она меня палкой ударила.
— Сатана! — кричит. — Пропади!
Тут уж не выдержал я и горько заплакал. Обступили меня монашки со всех сторон. Слышу, объясняют игуменье произошедший факт.
— С той стороны, — говорят, — мужчина этот явился. Должно быть, от большевиков убежал.
Выслушала их мать игуменья и первая ко мне подошла.
— Прости, — говорит, — меня, грешную. Бородой ты своей испугал. Совершенно как у лукавого бороденка твоя.
А я, конечно, трясусь на снегу, с ноги на ногу перескакиваю.
— Отведите его в кухню, — говорит мать игуменья. — Да пошлите за одеждой кого в деревню. Потому не годится ему быть в таком обольстительном виде.
Действительно, как была эта ряса дырявая, сам я понимал неудобство внешнего вида. Зато как очутился в теплой кухоньке, сразу повеселел. Чаю мне налили горячего и вином угостили. И стала меня мать игуменья обо всем расспрашивать обстоятельно и участливо, от души. И как рассказал я ей свою судьбу — даже прослезилась благочестивая женщина.
— А теперь, — говорит, — мы все уйдем, ты же надень штаны и рубаху.
Принесли мне молдаванские брюки и то же самое ботиночки на ранту. Переоделся я за печкой. И сразу приободрился. Потому европейское что-то почувствовал в таком аккуратном виде. Только вот еще что меня смущало: какая же это, например, Европа, раз монастырь здесь русский находится? И как пришла опять мать игуменья, то спросил я ее об этом. Прервала она мою речь, головой замотала:
— Тише говори. У румынцев уши большие.
И шепчет мне:
— Русская это земля, а только овладели ей эти самые румынцы и обокрали казну.
Возмутился я.
— Это, — говорю, — бандитизм! Провокаторы они после этого и кулацкий элемент государства!
Зашикала на меня мать игуменья:
— Ради Христа, будь потише.
Ну а я, понятно, взволнованный таким непорядком.
— Это, — кричу, — уголовный закон и вообще буржуазные предрассудки!
Вдруг слышу, звякнуло что-то у двери. Закрестилась мать игуменья и даже побелела в лице. И сейчас же, слышим, стучат.
— Открой уж, — говорит мать игуменья. — Должно быть, выследили тебя.
И сама между тем трясется. Открыл я дверь и вижу — входят солдаты. В голубых они, понятно, мундирчиках и пуговицы золотые, а только на ногах у них лапти.
Подошел передний ко мне, остановился и смотрит.
Усы у него черные, закрученные в гору, и сам черномазый, вроде цыгана. Ну а все-таки поклонился я им по-благородному, потому, думаю, как-никак европейцы. А передний меня ухватил за волосы и коленкой из комнаты вышиб. И как упал я в снег, так он меня еще сверху прикладом. И сам же поднял с земли. Удобней ему было меня избивать в стоячем положении тела. И что-то кричит на меня опять-таки по-иностранному. Ошалел я совсем, даже спервоначалу боли не слышу. Тут подошел ко мне сбоку низенький такой солдатик, смеется что-то. И не успел я еще рассмотреть его, как он меня в ухо ударил. Упал я опять-таки в снег. И мысль промелькнула печальная: «Вот она, эта самая Европа…»
Однако уморились они скоро от избиения, показывают — иди, мол, за нами. Поднялся я с земли, кое-как за ними следую, хромоту ощутил в ногах. Провели они меня через всю деревню и наконец остановились перед низенькой хатой. Флаг развевался над хатой, и ясно мне стало: общественное это учреждение. Действительно, канцелярия в первой комнате устроена, а дальше дверь под замком и с решеткой. Открыли они эту самую дверь и втолкнули меня в темную комнату. Поразило меня отсутствие световых лучей. «Хоть бы окно, — думаю, — какое-нибудь отыскалось». Ступил я шаг — и сразу головой в стенку. И вдруг в углу свечечка вспыхнула.
— Сюда, — кричат, — товарищ!
На самом деле людские фигуры в углу обнаружились. Двое их там устроилось на соломе. Рассмотрел я: нестарые парни и в приличных костюмчиках. И сразу к ним обратился:
— Вы кто такие будете?
— Беженцы, — говорят, — мы. В Россию бежим.
Обрадовался я такому совпадению.
— И я, — говорю, — то же самое, беженец. Из России бегу.
И уж, понятно, разговорились. Обходительные оказались люди. Как улегся я на сон грядущий рядышком с ними, то задал им, конечно, несколько научных вопросов. Очень меня заинтересовала европейская жизнь. Рассказали они с охотой.
— По разному, — говорят, — Европа выглядит. Каждая страна отличается, безусловно. Например, взять Мадьярию… В мадьярских тюрьмах не кормят вовсе, хотя и не бьют. А в голландской тюрьме только сыр дают и работать приказывают. У немцев то же самое заставляют плести корзины. Который обчищает пруты, а остальные плетут. Хуже всего, понятно, в Румынии. Мамалыгу дают на обед и, кроме того, избивают.
— Ну а как, — спрашиваю, — по внутреннему виду впечатлительность от Европы?
— А на этот счет, — говорят, — неважно. Машинами они улицы подметают. Если предлагаешь по-нашему, метелкой, — вовсе смеются. Хотя вот служанки ихние почище наших будут. Прийдешь к ней на ночную прогулку и даже испугаешься — прямо-таки барыня в перинах лежит. Которые из нас не выдержали соблазна и даже поженились.
И долго они мне еще рассказывали о западноевропейской жизни. Всего теперь не упомню.
Наутро перевели их куда-то в другое место, и уж больше я с ними не встречался. Остался я один в камере и моментально предался мечтам.
«Какой, — думаю, — простор передо мной! Прямо-таки выхожу на большую европейскую дорогу. Лишь бы только получить свободное местожительство».
Однако сам я себе, как оказалось, напортил, и даже впоследствии пострадал. Вызвали меня под вечер наверх, в канцелярию. Гляжу, сидит за столом приятный по виду господин, солидный такой и на преподавателя похож — линейку в руке держит. По-русски он обратился.
— Садитесь, — говорит.
Сел я на табурет, и солдат сзади остановился с винтовкой. Прямо в спину мне штыком уставился, как на военном параде. А господин сидит себе преспокойно и даже ничего не делает. Просто себе карточки фотографичные рассматривает и с линейкой играет. Наконец налюбовался он на эти карточки и говорит:
— Вы большевицкий комиссар. Нам это давно известно.
И сам усмехается.
Поразился я.
— Как же, — говорю, — вам это давно известно, когда я, например, ничего до сих пор не знаю.
— Да уж так, — говорит, — известно. А вы покажите немедленно руки.
Протянул я преспокойно руки. И вдруг как обожгло меня — линейкой он по рукам ударил. Закричал я, вскочил на ноги. А он смеется. И опять-таки подымает школьную принадлежность — прицеливается ударить.
Тут внезапно раскрылась дверь. Вижу, шикарно одетый входит господин, манжеты у него на рукавах и глаженая манишка под пиджаком. Пожилого характера господин — усы у него седые. И солдат за собой привел, остановились они по бокам.
«Должно быть, главный это у них», — думаю.
А только поднялся к нему навстречу сидевший у стола и моментально его кулаком в зубы. Тут уж испугался я окончательно.
«Если такого, — думаю, — бьют по зубам, то что же со мной сделают? Не представляю. Голову разве оторвут или еще что-нибудь похуже».
Между тем опять ко мне подошел этот самый, с линейкой.
— Скажите, — спрашивает, — какие у вас взгляды на Бессарабию?
— Научные, — говорю, — у меня, главным образом, взгляды. Насчет политической экономии и методов жизненной борьбы.
— Ага, — говорит. — Так я и знал.
И по голове меня опять линейкой ударил. Даже слезы у меня полились из глаз, больше, понятно, от обиды. И не выдержал я.
— Вы, — говорю, — не достойны такого поступка!
Взволновался я, понятно, и даже трясусь физически и духовно.
Тут он что-то по-румынски сказал солдату. Взял тот меня моментально за шиворот и повел к двери.
Втолкнул он меня опять в темную камеру и запер дверной замок. Стал я ждать самого наихудшего. «Убьют, — думаю, — обязательно».
И действительно, утром за мной пришли. Вывел меня солдат наверх и сейчас же, замечаю, пулевые патроны в ружье заложил.
— Айда! — говорит.
Испытал я нерешительное состояние. «Последняя это, — думаю, — земная прогулка». Прямо-таки ощутил холод могильной плиты.
А солдат меня в спину прикладом:
— Айда, айда!
Вышли мы с ним со двора. Тут уж понятно мне стало: приговорили к телесному наказанию вплоть до расстрела.
И скоро совсем выбрались мы из деревни. Лесок показался справа. Сотворил я молитву.
— Боже, — говорю. — Ты вездесущий Отец и, кроме того, в трех лицах. Воззри на меня свысока, ибо я на Тебя постоянно снизу взираю.
А солдат уже приказывает остановиться. Щелкнул он затвором винтовочным и отошел от меня на несколько шагов расстояния. Опустился я на коленки.
И вижу, между деревьями домишко стоит с соломенной крышей. Куриное птицеводство во дворике копошится, и коза к загородке привязана… Родину мне это напомнило. Закрыл я глаза. «Сейчас, — думаю, — будет конец и обязательно со смертельным исходом». И показалось мне, что целая эпоха прошла. Вдруг — грохнуло сзади. Невольно раскрыл я веки. Неужто меня убили? А между тем домик опять лицезрею и даже привязанную козу. И поросята от выстрела беспорядочно разбежались… Оглянулся я и застыл: смотрю, солдат петуха за ножки поднял и к поясу своему цепляет. И что-то свистит по-румынски спокойно. Даже засмеялся я от радости.
Ведь вот, думаю, как ошибся. Просто себе охотится солдатик, а я Бог знает что выдумал. Самый обыкновенный охотничий спорт принял за покушение на особу.
А солдат подошел ко мне и то же самое смеется.
— Буна, — говорит (это по-ихнему «хорошо»).
И на петуха убитого показывает. Закивал я ему головой — все, мол, понятно. И оба мы рассмеялись. Веселый оказался мой проводник, и всю дорогу он развлекался охотой. Ворону увидит на дереве — и в нее обязательно пустит снаряд из оружейного дула. И еще, как подходили мы к городу, такой на пустыре свинью подстрелил. Долго он за ней гонялся, я даже успел отдохнуть немного от дорожного-путешествия.
И уж скажу — очаровал меня город. Лавки повсюду товарами забиты и, кроме того, монопольные заведения распивочно и на вынос. И большое скопление публики на каждой уличной магистрали.
Вот, думаю, где бы статистикой заниматься! Любил я науку эту по причине ее аккуратности.
Однако недолго я наслаждался городской жизнью. Подошли мы к высокому каменному забору, отличающемуся большой окружностью. Открыл нам ворота караульный солдат, и очутились мы на мощеном дворе.
Вышел офицер из флигелька и направился в нашу сторону. Увидал его мой солдат и, понятно, из вежливости перед высшим чином толкнул меня в спину прикладом. А офицер козырнул в ответ и проследовал к выходу. И наконец повели меня в среднюю часть строения по узкому коридору. Открылась агромадная дверь, и в просторную я вступил комнату. Повсюду публика прохаживается мужского и женского пола и даже детишки галдят — бегают по комнате, в прятки играются. И что меня сразу заставило уделить внимание, так это внутренняя и внешняя картина.
«По всей видимости, — думаю, — лазарет это». Потому у большинства имеются медицинские принадлежности. У кого, например, голова платочком повязана, а кто и вовсе на костылях. И почти все, замечаю, изъясняются русской речью.
И подошел я к одному старичку.
— Разрешите, — говорю, — проверить мои познания. Сдается мне, что в лазарет меня привели, а я между тем совершенно здоровый.
Взглянул на меня старичок этот весьма подозрительно. А потом говорит:
— Сами мы оказываем себе медицинскую помощь.
Удивился я опять-таки подобной неаккуратности.
— Что же, — спрашиваю, — доктор делает лазаретный?
Глянул на меня старичок с не меньшим удивлением своего лица:
— Вы, собственно, о чем?
— Да вот насчет лазарета.
— Какой же, — говорит, — здесь лазарет? Просто себе румынская тюрьма.
Тут уж я окончательно поразился. С одной стороны, раненые, и с другой стороны, нет лазарета. Непонятно…
А только подошел еще к нам добродушный такой человек еврейского звания. Кругленький такой господин, и щека у него белым платочком повязана.
— Вы, — говорит, — молодой человек, послушайте меня, старого беженца. Как поведут вас допрашивать, так вы сразу начинайте плакать. Вас еще и пальцем не тронули, а вы уже разрыдайтесь. Помогает это при избиении. И могут у вас сохраниться зубы.
— Спасибо, — говорю, — отец. А только за что б избивать, когда я вовсе не винен.
Посмотрел он на меня с горьким выражением губ.
— Найдите, — говорит, — мне хоть одного здесь виноватого, и я вам заплачу сорок восемь румынских лей. И деткам вашим буду платить пожизненную ренту.
Ужаснулся я. И опять явился вопрос, где же просвещенные массы? Где культурный очаг и вообще куда я попал? Опустился я на солому в углу и задумался крепко. И что-то уже тогда стало мне разъясняться. Получались данные от решения, но какие, еще неизвестно. Не мог я еще тогда окончательно разобраться. СЛУЧАЙ МНЕ ПОМОГ ПОТОМ РАЗОБРАТЬСЯ.
И об этом случае я теперь изложу с душевным прискорбием…
8
Некоторые в нашей жизни ругают Фортуну.
— Долой ее! Вон! Она, — говорят, — обратилась назад… Или еще что-нибудь в этом роде.
В особенности казак один в нашей камере очень непростительно выражался насчет Фортуны.
— Где она, — говорит, — когда я ее не вижу? Дайте мне эту Фортуну, и я ей физиономию разобью.
Конечно, бессмысленно говорил. Как, например, побьешь Фортуну? А его самого, между прочим, били часто. Румынцы били. Что же касается моей личности, то мне Фортуна везла.
Например, как позвали меня на допрос, то все остальные беженцы говорят:
— К хорошему вас платонер-мажору позвали. (Тюремный чин это такой в Румынии.) Он, — говорят, — вовсе по зубам не бьет, а только за волосы таскает. Или когда для разнообразия, то за ухо.
Действительно, сразу он меня за волосы ухватил и на коленки перед собой поставил. Стою я на коленках, молчу, понятно, а он через переводчика спрашивает:
— Кто такой, откуда прибыл и чем занимается?
Назвал я фамилию нашего рода и местожительство.
— А занимаюсь, — говорю, — научными знаниями.
Подошел он тогда ко мне и еще раз за волосы потянул. И выругался по-румынски. Однако отвели меня обратно в камеру.
И пошел день за днем моего тюремного пребывания…
Заметили русские беженцы мою аккуратность во всем и даже оказывали уважение. Тому бородку, бывало, подстрижешь, тому ногти подрежешь. И солдаты тюремные то же самое меня отличали. Когда человеческую уборную приходилось чистить, то первому мне в руки веник дают. А все-таки было скучно. Хотелось мне очутиться поскорей в центре Европы и захватить там научный багаж. И свободную жизнь хотелось увидеть. В камере же нашей провинциальная была обстановка и даже дамские сплетни. Начнут, например, говорить о том, сколько вчера дали на обед мамалыги и кому сегодня подметать пол. Или просто насчет кого-нибудь позлословят.
— Ему, мол, такому-то, вчера зуб на допросе выбили. Поделом, — говорят. — Пускай на своих не доносит.
И уже пойдут языками чесать, даже вовсе противно станет. Иной раз не выдержишь:
— К чему подобные разговоры? Лучше о высоких материях поговорите. О деликатности… Или вообще о женском вопросе.
Только как бы не так! Все о своем говорят.
И была среди них дамочка шустрая — Людмила Петровна ее называли. Капитанша она была морская по мужу и отличалась манерами. Больше всех она в камере говорила. И во сне то же самое говорила сама с собой. Вот и затеяла эта Людмила Петровна дамский салон.
Принесут, например, мамалыгу в ведре, а на сладкое блюдо — сушеные сливы.
— Давайте, — говорит, — десерт этот в лото разыграем. Когда была я в Петрограде при дворе, мы постоянно в лото играли.
И что думаете? Нарезала моментально из газеты бумажек, выставила цифры и уж, гляжу, — началась игра…
И что меня единственно развлекало, так это пение голосов. Собирались по вечерам петь в углу. Очень приличный составился смешанный хор. Про Стеньку Разина пели или еще какую-нибудь мелодию.
Только разволновалась стража тюремная.
— Не полагается, — говорят, — петь арестантам.
Возмутились все прочие, и я вместе с ними. И уже тут мы невольно солгали.
— Это молитвы, — говорим. — Духовное пенье.
Смутились румынцы, не знают, как быть. И все-таки наконец разрешили. И с тех пор сойдутся певцы и поют сколько себе угодно. Русские песни поют и украинские. И даже солдаты, бывало, войдут в камеру. Слушают со вниманием и, понятно, крестятся, думая, что из священной жизни. А поют, между прочим, про Ермака… И уж действительно хорошее было пенье. Всеобщее это было пенье, камерное, потому вся камера наша подпевала.
Так пробегали жизненные моменты.
Однако как заговорил я о Фортуне вначале, то и должен признаться — оказала она мне свою помощь. Как-то приходит платонер-мажор и по списку вызывает фамилии.
— Уреков! — кричит.
Переглянулись мы между собой. Как будто нет между нами такой фамилии.
— Нуй есте, — говорим. — Отсутствует!
Выругался платонер-мажор:
— Фиере ла дракуле! (Тысяча, значит, чертей.)
И пошел с бумагой по камере, каждому показывает. Наконец как подошел он ко мне, взглянул я в бумагу и вижу, что моя это фамилия написана — Кукуреков.
— Ев не, — говорю. — Я это!
Взял меня платонер-мажор за ухо и опять ругается. А все-таки повел меня куда-то наружу на тюремный двор. Смотрю, стоит господин какой-то приличный в изрядной шубе и рядом с ним переводчик с русского языка. Как подошел я, стали они все про меж собой говорить по-русски и по-румынски.
— Хорошо, — говорит господин, который в шубе. — Я его возьму для работы.
И просит переводчика объяснить румынцу. А потом ко мне обратился:
— Покажите, пожалуйста, зубы.
Раскрыл я полость рта, а он преспокойно заглядывает. И даже пальцем поковырял.
— Хорошие, — говорит, — у вас зубы. Мне такой рабочий и нужен, который всякую пищу может съедать.
И понял я из ихнего разговора, что бессарабский это помещик и берет он меня к себе на сельские работы среди лошадей.
Обрадовался я — наконец-то свобода!
И как дали мне несколько минут на сборы, то я, понятно, в камеру возвратился. Окружили меня беженцы, все мне завидуют.
— Вот, — говорят, — счастье человеку!
А дамочка наша, Людмила Петровна, даже оживилась:
— Возьмите меня с собой, господин Кукуреков. В качестве вашей жены.
И смеется. Смутился я.
— Не от меня, — говорю, — зависит. И потом я главным образом предназначен для лошадей.
А она глазками на меня стрельнула. Смутился я окончательно. На счастье, подошел ко мне тот самый еврейский господин, который насчет рыданий советовал в день моего прибытия.
— Радуюсь, — говорит, — за вас, молодой человек. Дай вам Бог всего наилучшего. А мне не увидать родной Палестины.
И горестно так посмотрел.
— Ничего, — говорю. — Увидите. Непременно увидите.
— Нет, — говорит. — Навряд ли увижу. Выбьют мне эти варвары глаза до отъезда. И чем я тогда увижу? Бабушка моя лучше увидит, чем я.
Кольнуло мне сердце жалостью от тона его речей, однако надо было поспешать. Уже пришел за мной платонер-мажор и действиями подгоняет наружу.
Ну и что здесь, собственно, объяснять? Обманулся я, понятно, в своих мечтаниях. Как сели мы в железнодорожный поезд, помещик сразу переменился.
— Ты, — говорит, — Кукуреков, не мотай. Потому, в случае чего, могу я тебя в тюрьме сгноить. И в кандалы могу заковать. Израсходовался я на тебя, и должен ты себя окупить.
И пощупал он меня, между прочим, руками.
— Слабый, — говорит, — у тебя мускул. Почти без пользы я тебя приобрел.
Растерялся я при этом разговоре. И разумеется, отвечаю:
— Постараюсь приложить все свои силы на пользу вашего учреждения, которое мне оказало честь.
Отвернулся от меня помещик и уж больше не говорил всю дорогу.
Долго мы ехали, что-то около суток. Одна за другой станции пробегали мимо. И не успел я тогда рассмотреть хорошо Европу.
Наконец вылезли мы на окончательной станции из вагона. Смотрю — степи вокруг, и даже не видно никакого возвышения вроде горных хребтов или склонов. Совершенная плоскость квадратных метров. А между тем бричка уже нас ожидала, и выехали мы моментально в дорогу.
Кончалась зима, и ясное было утро. Жаворонки пели в синеве небес, и снег кое-где оттаял. Остановился кучер — лошадям хомуты поправлять. Теплый шумит в ушах ветер, и былинки сухие качаются на меже…
Вот так же точно, думаю, с папенькой мы ходили когда-то гулять. И весна такая же была… Очень любил папенька степные просторы. «Я, — говорит, — здесь как рыба — фибрами своими дышу».
Неужто все это было когда-то? И сколько уже лет прошло… И какие неаккуратные годы!
Размечтался я о философских темах. И вдруг кричит помещик:
— Слезай, слезай, Кукуреков! Приехали!
Действительно, вижу, усадьба стоит и повсюду на деревьях вороньи гнезда. И почему-то из школы вспомнилось: «Цвел… надеван… запечатлен…» И о седлах припомнились грамматические ошибки…
А помещик кричит:
— Слезай, бес тебя возьми!
И неделикатно так со мной обошелся. Подзатыльника дал.
Спрыгнул я на землю. Во дворе стояла бричка. Грязный был двор, и навоз повсюду валялся. Повел меня помещик сразу в конюшню для лошадей. Неаккуратная то же самое была конюшня. Дыры виднеются в крыше, а на полу сплошное болото.
— Ну, — говорит, — Кукуреков, здесь твоя будет квартира. Устраивайся, как тебе будет уютней. Я же не люблю вмешиваться в частную жизнь.
Остался я один в конюшне и присел на старом мешке. И лошади мной заинтересовались: головы поворачивают в мою сторону — смотрят. Может быть, и у них, думаю, есть свои лошадиные мечты…
Однако хотелось мне еще взглянуть поскорей на хозяйство. На земледельческие орудия производства и вообще на домашних скотов. Вышел я из конюшни и пошел в конец двора.
Гляжу, свинарня устроена и свиньи лежат преспокойно. Поразился я довольным видом свиней. Действительно, сытые свиньи. Наша русская свинья куда выглядит небрежней. Худая наша свинья, и беспокойства в ней много. Роется она постоянно в чем попало и оттого, вероятно, худеет. А европейская свинья сохраняет всегда полное спокойствие характера и потому зарастает салом. И постороннему становилось ясно: нужно изменить в России породу отечественных свиней. Вот и тогда задумался я над этим вопросом. И вдруг меня кто-то взял за плечо. Оборотился я — девка стоит кухонная. Бессмысленное у нее было выражение на лице, и, кроме того, непозволительно смеется.
— Вам, — спрашиваю, — что угодно?
Фыркнула она совершенно коровьим образом.
— Иди, — говорит, — сухари кушать!
Тут уж я возмутился.
— Ваши манеры, — говорю, — напоминают мне последний сорт обращения в питейных трактирах.
А она еще пуще смеется и даже фартуком закрывается. «Экое, — думаю, — несознательное существо!»
Пошел я за ней на кухню и поразился. На самом деле, предлагает мне воду и сухари. Однако с вежливостью говорит:
— Садитесь обедать.
Посмотрел я на сухари и на воду, не по себе мне сделалось.
— Какой же, — говорю, — это обед?
Вижу, не понимает она совершенно заданного ей вопроса.
— Обыкновенный, — говорит, — это обед. А в праздник еще и картошку дают.
«Ну, — думаю, — Кукуреков, здесь ты не потолстеешь!»
И опять-таки мысль шевельнулась: «Надо и отсюда бежать».
Засела у меня эта мысль в голове крепче стенного гвоздя. И бывало, поишь коней у колодца или коровам корм задаешь, а сам представляешь себе всякие центры Европы. И уж нет удержу для мечтательных грез. Разволнуешься… И работаешь как-то совсем машинально.
Приходил помещик иногда посмотреть на мою работу. Раз пришел чрезвычайно сердитый:
— Ты это зачем в конюшне картинки повесил?
Уставился на меня глазами и хлыстиком сапоги обчищает.
— На чердаке, — говорю, — отыскал я эти картинки. Все равно без пользы валялись.
Рассвирепел помещик:
— Отвечай на прямой вопрос. Зачем повесил?
— Для аккуратности, — говорю, — я их повесил и для процветания искусства.
Выругался помещик.
— Болван, — говорит, — ты, хоть и бороду носишь!
И уж стал он ко мне придираться по всякому фактическому случаю и даже без уважительной причины. Не стало мне жизни от его придирок. Например, однажды, приказал он взнуздать молодую кобылицу для прогулки при помощи верховой езды. Взял я в руки уздечку и никак не могу разобраться. Английская была уздечка, на особый манер. И так обернешь ее, и этак — ничего не выходит. Только лошадь сморил. А помещик уже, понятно, увидел и сам подошел.
— Идиот! — говорит. — Где ты получил светское воспитание? И за лошадью ухаживать не умеешь!
Закипело у меня в душе святое негодование, однако смолчал.
Взял он у меня уздечку из рук.
— Подставляй, — говорит, — голову.
И сейчас же надел на меня вышеназванную уздечку. Совершенно запряг меня в буквальном смысле этого слова. Заплакал я от обиды, ощутив во рту удила. Даже грызу удила эти со злости. А он смеется.
— Так, — говорит, — надо всегда дураков обучать.
И после этого случая решился я на окончательное бегство. Медлить не стал — собрался в одну минуту. Вечерком, когда потемнело, пробрался я по задворкам в поле. И ах как опьянила природа! Дышу не надышусь воздушным океаном. И травы уже повсюду благоухали. Совершенно цветочный одеколон! И почему это всегда весной душа издает звуки? Вроде струн эти звуки и на манер гитарного строя. Сама ли она их издает? Или еще кто-нибудь участвует в этом?.. Неразрешимый вопрос. Одно лишь понятно — нечеловеческие звуки. И в тот вечер слышал я звуки души…
Вот уже и хутор помещичий остался сзади. Еле слышно вороны кричат. Всегда они кричат перед зарей. А я уходил все дальше и дальше. Как позабыть драматический эпизод? Даже теперь иногда увижу ворону на дереве и сейчас же так ясно вспомню всю прошлую жизнь и помещика. И наоборот — встречусь за границей с помещиком, вспомню непременно ворон перед закатом и вообще давнюю атмосферу…
А между тем очень неаккуратно жизнь со мной поступила. Как остался я без всяких занятий, то стал бродяжничать. Днем где-либо хлебца спрошу, а на ночь в стога забираюсь. Опасался я главным образом полицейского режима. И сам все на запад двигался — чувствовал там настоящую колыбель для народов. Иногда на работу короткую нанимался на виноградник. Денег хотелось скопить немного. И как собрались у меня деньги, купил я пассажирский билет третьего класса. Расспросил перед этим у одного рабочего человека, как проехать к границе. К немцам хотел я пробраться. И уж не буду таить — рисовалась брачная обстановка. «Что ж, — думаю, — за жизнь в холостом состоянии?» И годы летят, лысеть я начал в то время. А жену себе представлял из немецкого рода, аккуратненькую такую барышню и чтоб дом содержала в культурном виде… Умилялся от мыслей!
Между тем приехал я в один городок на самой границе. Вышел потихоньку со станции и не знаю, куда идти. Тут вдруг подходит ко мне седенький человек, и лицо у него худое, все сморщенное, в кулак.
— Простите, — говорит. — Кажется, мы с вами к одним берегам направляемся. По виду вы русский.
Действительно, в изорванных я был штанишках, и нетрудно было меня вовсе признать.
— Вы не ошиблись, — говорю. — А только разве поблизости находится море?
— Нет, — говорит. — Это я так фигурально сказал. Насчет границы вам намекаю.
Полюбопытствовал я, понятно, какая страна по соседству. И уж тут он мне рассказал поразительные известия.
— Чехия, — говорит, — эта страна называется. И надо ехать обязательно в Прагу. Всем, например, даются деньги, кто только желает. Если ты, скажем, казак, то получай немедленно деньги. А если калмык — и то не беда. Лишь бы из Русского государства. И все обучаются в школах. Сидят себе преспокойно и книжки читают.
— Да ведь это же рай! — говорю.
И даже от радости прослезился. А старичок продолжает:
— Сын у меня в Праге профессором. От него я письмо получил недавно. «Приезжайте, — пишет, — папаша. Будете здесь учиться. Деньги вам будут платить, и сможете, кроме того, поправить свое физическое здоровье».
Рот я раскрыл, слушая подобные речи. И загорелось во мне:
— Перейдем сейчас же границу.
— Нет, — говорит, — нельзя. Надо тьму подождать.
И как дождались мы тьмы, двинулись потихоньку к границе. Оглядываемся по сторонам, того и гляди на стражу наткнешься. И уж конечно Бог нас хранил в дороге. Прошли мы преспокойно по кукурузному полю и вышли в лощинку. Вижу, огоньки впереди мигают — не то деревня, не то город на горизонте земли. А старичок говорит:
— Заграничный это город. По карте я утречком рассмотрел. — И сейчас же руку протягивает. — Разрешите поздравить с благополучным приходом.
Пожал я, понятно, протянутую руку.
— Спасибо, — говорю. — И вам того же желаю. — И потом спрашиваю: — Скажите, коллега, есть ли в Праге научная аудитория? Статистику мне желательно изучить.
А он удивился:
— Что вы, коллега? Машины надо изучать в настоящее время. Сеялку, например, или веялку изучайте и вообще технологический институт.
Понятно, я на это не согласился.
— Нет, — говорю. — Меня только гуманная жизнь интересует. Сколько, например, голов рогатого скота в любой стране, и где рождается больше детей обоего пола.
— В таком случае, — говорит, — коллега, поступайте на медицинское отделение факультета.
И до утра мы все говорили с ним, сидя под копной сена.
А как поднялось солнце, и мы вместе с ним поднялись. Пошли в направлении города. С опаской я вступал в незнакомые улицы. Коллега же, между прочим, смеется:
— Не бойтесь. Это вам не Румыния.
Действительно, никто нас не трогает и вообще, замечаю, народ спокойный. И пошла моя жизнь с того дня как по маслу. Расстались мы с коллегой в городе Берегзасе, и сел он в вагон для отбытия в Прагу. Я же устроился временно на работу. Документик выправил у властей и только ждал, чтоб скопить на дорогу несколько чешских крон. И под осень на наш Покров приехал я наконец в Прагу. Растерялся я, можно сказать, от внешнего вида. И даже растрогался, глядя на всеобщий порядок.
…Деревца на бульварах подстрижены. И фонари горят. И проходит публика в заграничных ботинках… Совершенно как представлял себе в грезах.
И вижу, можно легко обознаться. Посмотришь, например: стоит у ворот господин в белоснежном халате. Совершенно по виду хирургический доктор. Манеры у него, и смотрит важно. А между прочим, обыкновенный мясник. Здесь же и лавочка его мясная находится, и порядок в ней не хуже, чем в лазарете. Каждый продукт на окне выставлен и ценой обозначен. Если хотите, например, голову приобресть баранью — вот вам цена: заплатите двенадцать крон…
Шел я это по городу и умилялся. «Наконец, — думаю, — Кукуреков, очутился ты в центре. Теперь только учись преспокойно и запасайся знаниями для будущей жизни».
Нашел я моментально квартирку в одной из тихих улиц города и уже тогда окончательно рассмотрелся. В ресторанах русских побывал и заглянул в комитет для скорой помощи русским студентам. Всю увидал здесь колонию и вообще познакомился с условиями колониальной жизни. А между тем вышли у меня денежные знаки, и задумался я над этим вопросом. «Как, — думаю, — выпутаться из расходов?»
И как встретился в ресторане с одним беженцем, то расспросил его обо всем подробно. Из духовного сана был этот беженец — псаломщиком в России служил. Симпатичный такой оказался юноша. Всплеснул даже руками.
— Как возможно здесь голодать? Вы, — говорит, — не смотрите, что я худой. Кушаю я раз восемь на день. Например, как проснусь, сейчас же бегу в Красный Крест пить какао. Всем русским бесплатно дают. А оттуда в дамский кружок на обед. И из дамского кружка поспешно в Земгор — то же самое бесплатно кормят и то же самое час ходу. И только пообедаю, сейчас же на ужин спешу — потому совсем это в другом конце города. Пройдешься по свежему воздуху и, понятно, кушаешь за троих.
Позавидовал я.
— Как же, — говорю, — вы так устроились?
— А очень просто, — говорит. — Вся молодежь так устроилась. А которых приняли на иждивение комитета, те еще лучше существуют.
«Ну, — думаю, — здесь наконец изучу я науку».
И стал я, как все, устраивать судьбу своей личной жизни. Много мне в этом помог тот же самый бывший псаломщик. Дал он мне адреса.
— Идите, — говорит, — к бывшему русскому послу. Крон пятьдесят у него стрельнете. И Красный Крест выдает деньги. А у бывших моряков получите то же самое и, кроме того, у физических инвалидов. Лишь бы охота была побегать.
Поблагодарил я его с сердечными излияниями и направил свои стопы. Действительно, везде получил деньги, и даже в казачьем союзе. Насчет родителя только спросили меня в казачьем союзе — откуда, мол, происходит. Смутился я при этом вопросе.
— Из Екатеринославской, — говорю, — губернии папенька мой происходит.
А они отвечают:
— Очень хорошо. Значит, запорожский казак ваш папенька.
И выдали моментально пятьдесят крон. Стало мне совсем легче. Подумал я наконец насчет научных занятий. И после зрелого размышления мыслей записался в народный университет.
Прельщало меня то, что бумаг никаких не требовали и, кроме того, по-русски читались лекции. А лекции были особенно занимательные… Например, введение в изучение читалось. И потом насчет небесных светил. Как, мол, Венера устроена и почему она отстоит от земли. И про Венеру эту сказал, между прочим, профессор: «Вот увидите, господа, будем мы ею обладать, и в самом непродолжительном времени».
Заинтересовался я окончательно. Каждый день приносил мне теперь научные истины. Сегодня, например, про острова индийские слушаю, а назавтра читают о психической жизни народов. Разностороннее чтение было, и много я из него вынес наружу. Когда же возвращался домой после лекций, любовался красотой зданий. И опять-таки порядок меня поражал. На незначительный посмотришь предмет в окне — и тот на месте стоит. Очаровывался на каждом шагу. А между прочим, тут-то и произошло со мною событие жизни и наложило на меня отпечаток своих следов…
Купил я однажды печатный орган на чешском языке. Разбирался я уже немного по-чешски. Сел на бульварчике Карловом и развернул номер. Посмотрел картинки в тексте, страницы перелистал. И вдруг на последней странице вижу — портрет… Даже почувствовал головное кружение.
«Нет, — думаю, — обознался. Не может быть, чтоб он это был». А все-таки еще раз взглянул. И сердце у меня забилось от радости. Та же бородка, гляжу, у портрета и очки такие же самые. И кроме того, овал лица… Ясно мне стало: господин это Чучуев передо мной в своем фотографическом виде. Только как он, например, очутился в республике? И почему напечатан в журнале? Терялся я от мыслей. А между тем под портретом было что-то напечатано мелкими буквами. И решил я поскорей показать этот номер одному знакомому беженцу. Очень он хорошо понимал чешский язык.
Прочитал мой знакомый портретную надпись и говорит:
— Брачное предложение здесь объявляется. Господин, который напечатан на этом портрете, ищет девицу с приданым в пятнадцать тысяч. И адресок указан: до востребования и под девизом «На всякий случай».
Обрадовался я еще более и в тот же вечер сел за письмо. От волнения даже чернилами капнул на бумагу.
«Господин Чучуев! — пишу. — Дорогой учитель! Прочитал я ваше объявление в журнале и решил на него отозваться. Пишите мне то же самое до востребования и под девизом «Любовь и наука». И кроме того, назначим свидание».
Запечатал я письмецо и лично бросил в почтовый ящик. И только отошел от почтового ящика, сразу вдруг вспомнил: надпись свою забыл я поставить в письме. Что теперь делать? И как, например, быть? Назад письма не получишь… Однако сообразил: догадается господин Чучуев, что это я написал. По девизу узнает. И стал я, понятно, с нетерпением ждать ответа. Уже на следующий день побежал я на почту.
— Скажите, — говорю, — барышня, нет ли письма?
И бумажку с девизом протягиваю. Покачала головой почтовая барышня. Сообразил я, что нет ничего.
«Что ж, — думаю. — Придется еще подождать. Может, с вечерней почтой получится».
И пошел я совершать прогулку по городским тротуарам.
А самому все на мысль приходит: «Как-то он теперь выглядит? И почему то же самое из России бежал?» Вспомнилась мне сибирская жизнь, наше путешествие на оленях… И все показалось, как сон. Однако приятное было у меня состояние. «Теперь-то уже, — думаю, — я его разыщу. А там пойдут опять между нами научные разговоры, и смогу я завершить свое европейское образование».
Между тем вечерело уже в улицах и фонарики повсюду зажглись.
Пошел я на почту. Вот уж и площадь Вацлавская показалась. И памятник, вижу, сидит на лошади. Свернул я в боковую улочку. И чем ближе подходил я к месту выдачи писем, тем ощутительней билось сердце. Наконец вижу, барышня почтовая у оконца склонилась. Остановился я перед ней и адресок показываю. Взяла она молча адресок и через минуту, замечаю, несет письмо. Дух мне захватило при взгляде на почерк руки. Потому узнал я почерк господина Чучуева. А письмецо было в розовом конверте, и ароматом от него слышалось даже на расстоянии. И как охватило меня нетерпеливое чувство, то здесь же в почтовой зале распечатал я письмецо. И вдруг читаю:
«Моя дорогая! Очень я обрадовался вашим письмом. Приходите завтра на Карлов бульвар, а я буду стоять у фонтана. Которого заметите с газетой в руке, так это буду я. Посылаю вам воздушный поцелуй и радуюсь, что вы русская дама или девица».
Обидно мне сделалось. «Как же, — думаю, — не узнал он закадычного друга? Вот и надейся после того на узы!.. Эх, господин Чучуев!»
Возвратился я к себе на квартиру и долго расхаживал взад и вперед, раздумывая на разные темы. И ночью в постели то же самое не мог заснуть, переворачивался и думал.
Но все же на следующий день пошел. Был уже вечер, и множество гуляло на бульваре влюбленной публики. И сейчас же у фонтана заметил я дорогую фигуру. Так же шляпа у него на ухо надвинута, и бородку узнал…
Вскрикнул я:
— Господин Чучуев! Учитель!
И он обратился ко мне. Газетка у него из рук выпала.
— Простите, — говорит. — Не имею чести…
И вдруг узнал.
А я уже сжимаю свои объятия и иду к нему навстречу.
— Разрешите, — говорю, — вас заключить.
Обнялись мы с ним у фонтана совершенно как родственники семьи.
— Какая встреча! — сказал господин Чучуев. — Никак не мог вас ожидать. Гора с горой не встретились, а мы с вами сошлись.
И забросал он меня вопросами и ответами. Однако через минуту говорит:
— Подождите меня там на скамеечке, а мне нужно здесь встретиться с одной влюбившейся дамой.
Взял я его тогда за руку.
— Не трудитесь, — говорю, — ожидать. Она не придет никогда…
Вижу, побелел вдруг в лице господин Чучуев. И хрипло так шепчет:
— Умерла она?.. Так я и думал.
Смутился я тут совсем, и жалость меня одолела.
— Нет, — говорю. — Она живая. А только она совсем не она. Вроде него она выглядит. Потому не женского пола особа. Наоборот, — говорю, — мужские у нее признаки… — И уж тут откровенно признался. — Я,— говорю, — письмо это написал.
Растерялся господин Чучуев.
— Ах, так! Значит, вышла ошибка?.. А я, — говорит, — надеялся на приданое…
Понятно, стал я его утешать. Махнул тогда рукой господин Чучуев:
— Не утешайте. Что было, то миновало. Пойдем лучше ко мне.
И повел он меня к себе на квартиру. В тот вечер, помню, моросил, на дворе дождь и вообще слякотная была погода. Однако в комнатке господина Чучуева было тепло и уютно. Зажгли мы лампу, огляделся я вокруг. Вроде кабинета была эта комната, и множество на столе лежало различных книг.
— Садитесь ближе к свету, — сказал господин Чучуев. — Интересуюсь я рассмотреть вас со всеми деталями. — И грустно покачал головой. — Сильно вы изменились. И полысели изрядно. Вроде степного озера голова ваша выглядит, и только по краям поросла она камышами.
— Что ж делать, — говорю. — От задумчивости это, должно быть, произошло.
— А помните Сибирь? — спросил господин Чучуев.
— Как же, — говорю, — не помнить. Очень хорошо помню.
И разговорились мы о нашей прежней жизни посреди самоедов.
Полюбопытствовал я, между прочим, как ему удалось выбраться за границу.
— Случайно все это вышло, — сказал господин Чучуев. — И не по моей доброй воле. Потому как расстались мы с вами в сибирской деревне, так я потом всю Россию изъездил. Сначала о равенстве говорил и о братстве народов, а как пришли большевики, то решил я изменить партийную тактику — о диктатуре стал говорить. Очень все увлекались моими речами, и сам я тоже увлекался. Ну а потом очутился в Европе. В Польшу попал.
— Как же, — спрашиваю, — перешли вы границу? Нелегко, должно быть, было ее перейти?
— Нет, — говорит. — Очень легко. И даже почти незаметно. Читал я однажды лекцию в одной деревне. В Волынской это было губернии. А наутро пришли поляки и заняли деревню. Тут уж я очутился в заграничной тюрьме.
Подивился я таким обстоятельствам и даже выразил порицание.
— Такого человека, — говорю, — и посадить в тюрьму! Много вам пришлось пострадать за свои научные взгляды.
— Да уж перетерпел, — сказал господин Чучуев. — Зато теперь вознагражден я сторицей. Четыре учебных заведения окончил в Праге и, кроме того, изучаю испанский язык. Для южной Америки может язык пригодиться.
И показал мне господин Чучуев свои научные дипломы.
— Это, — говорит, — об окончании малярных курсов. А это автомобильная школа. И есть еще у меня диплом на звание помощника акушерки. На всякий случай я его приобрел. Теперь же массаж изучаю на человеческом теле.
Растрогался я, слушая его слова. «Вот, — думаю, — усидчивость! Дай Бог каждому».
И с того вечера словно бы народился я вторично на свет Божий. Во всякой науке помогал мне теперь разбираться господин Чучуев. Бывало, один только задашь вопрос, а он уже девять ответов предлагает. И вскорости как-то говорит:
— Переселяйтесь ко мне на квартиру. Буду я вами руководить.
Ухватил я его тогда за руки. Потрясаю и сам взволнован.
— С вашим руководством, — говорю, — всего добьюсь.
И перешел я на жительство в его рабочий кабинет. Счастливая это была жизненная полоса. Не придет она никогда обратно… Углубились мы оба в науки. И уж как умел ободрить иногда господин Чучуев. Иной раз вспомнишь вдруг родину — взгрустнется немного… Не выдержишь, поделишься мыслями. А он утешает:
— Есть люди, которые еще дальше, чем мы, находятся, и то не грустят. Например, африканские негры. Вот они где обитают.
И здесь же покажет рукой на карте. Действительно, посмотришь — какая даль! И на душе станет легче.
Любил я эти вечерние беседы и много из них черпал. Потому обо всем мы тогда рассуждали, и главным образом насчет практической жизни.
— Иные теперь времена, — говорит господин Чучуев. — Надо самому обо всем стараться. Это тетушки наши на попугаев только глядели да кружева плели. А мы будем плести научные истины.
Слушал я со вниманием подобные разговоры и, понятно, запоминал. А что не надеялся удержать в своей памяти, то в тетрадку записывал. И еще любил я ходить вместе с ним на прогулки. Когда выпадала погода, отправлялись мы рассматривать старинную Прагу. Объяснял мне господин Чучуев каждую мелочь.
— Здесь, — говорит, — все пахнет Историей. И пыль веков попадает в наши глаза. Еще предки дышали этой пылью.
Интересные были его лекции. Посмотришь, например, на какой-либо камень… Как будто обычный камень. Между тем объяснит господин Чучуев и станет ясно: на этом камне случилась История. А вечером после прогулки опять протекали научные занятия в комнате. И весело так потрескивали печные дрова… Незабываемые секунды!
Помню, еще генерал приходил к нам один на вечернюю чашку чаю. Суровый был старик с виду. Однако нравился он мне достоинством своего характера. Начнет, например, говорить, словно как на учении. Рукой размахивает, и голос у него вроде трубы. И что меня трогало, так это его печаль.
— Да, — говорит, — умру я скоро. Но не смерти боюсь своей, а похоронной процессии. У нас, когда умирал офицер в моем чине, то из пушек палили. А здесь и министра хоронят без всякой стрельбы.
Искренний был человек, генерал этот, задушевный. И чай чрезвычайно любил — по восемь чашек выпивал сразу.
Засиживался он у нас до позднего времени, и уж признаюсь, было с ним немало хлопот. Потому деревянную он имел ногу, и крепко стучала она на лестнице. Все квартиранты пробуждались от этого стука. Я уж и то несколько раз намекал ему с деликатностью:
— Вы бы, — говорю, — резиной свою ногу подбили, ваше превосходительство. А то ведь у вас железо. Сейчас, — говорю, — даже не модно подковывать железом. Это раньше действительно носили такие подковы. А теперь по-иному куют. По-европейски и чтоб непременно с резинкой. Шума от этого меньше, и никому не заметно, что вы инвалид.
Ну а он, понятно, машет рукой:
— Куда мне за модой следить! И так проживу. Нет у меня средств на подковы.
Вот от этого самого генерала произошло мне большое огорчение. Собственно, рассудить хорошо, так не виноват он совсем. Всему виной расстройство моей нервной системы.
Ну а все-таки довершил генерал случившуюся драму, и тягостно мне о нем вспоминать… Однако расскажу по порядку. Любили мы помечтать иногда с господином Чучуевым. Вроде отдыха были эти мечты после наших учебных занятий. Бывало, уляжемся в постели и лампу потушим. И уж тут пойдут разговоры. Обыкновенно начинал господин Чучуев.
— А что, — говорит, — если бы шел я по улице и вдруг нашел четыреста тысяч крон?
— Что ж, — говорю. — Дом можно было бы здесь купить или торговлю затеять.
— Нет, — говорит господин Чучуев. — Я бы купил трехмачтовый корабль и отправился путешествовать.
— И это, — говорю, — неплохое занятие. Поехали бы вместе дикарей обучать. А обратно можно было бы апельсинами нагрузиться и выгодно здесь продать.
И уже размечтаемся о всяких прекрасных моментах…
И вот случилось нам однажды проснуться утром от стука посторонних шагов.
— Генерал это, — сказал господин Чучуев. — Больше некому так стучать. Только зачем бы пожаловал утром?
Действительно, вошел к нам в комнату генерал и сейчас же ногу свою отстегнул и на гвоздик повесил. А сам присел на кровать.
— Дело, — говорит, — у меня есть. Потому пришел сверх всякой программы.
И стал моментально рыться в кармане. Наконец вынул синий билетик и господину Чучуеву протянул:
— Дозвольте предложить вам билет на лотерею изувеченных воинов. Можете выиграть крупную сумму или ценный предмет.
Переглянулись мы тогда с господином Чучуевым.
— Как раз вчера, — говорим, — рассуждали мы о подобной случайности.
— Значит, кстати пришел я. — сказал генерал. — Вот увидите, выиграете что-нибудь ценное.
И купил господин Чучуев данный билет.
— Пускай, — говорит, — лежит на всякий случай. Может быть, действительно сделаюсь капиталистом.
И как ушел генерал, то мы еще немного помечтали.
— Эх, кабы сотню тысяч выиграть! — сказал господин Чучуев. — Для доброго дела я бы ее предназначил. Например, закупил бы у султана гарем и всех женщин выпустил на улицу. Или же для научного опыта деньги эти пожертвовал. Пусть, например, ученая профессура оросит на мои средства Сахару.
Умилялся я, слушая эти планы.
— Вы, — говорю, — благородной души человек, господин Чучуев!
А он, как всегда, только улыбается и глаза в землю потупит. Скромность ему мешала гордиться заслугами…
И вообще — как рассказать о той или иной его стороне? Теперь когда вспоминаю о нем, то с беспристрастием говорю: в его лице наука, безусловно, что-то потеряла. Но этим, конечно, всего не скажешь. Надо было самому его знать, чтоб оценить все качества его характера.
Помню, в тот год мы занялись изучением воды. Возьмем, например, каплю и рассматриваем ее под стеклом. Очень интересные бывали капли. Одна, например, совсем мутная, а другая горит, как алмаз. Красивое получалось зрелище. Здесь же и опыт какой-нибудь произведет господин Чучуев.
— А теперь, — говорит, — выльем воду на научную почву.
И перельет, понятно, из одного сосуда в другой. И уж как объяснит! Младенцу станет понятно. Заслушаешься, и время пробежит незаметно. Забудешь иногда про еду, пока не напомнит об этом голод желудка.
И тут суждено мне сказать о самом губительном факте. Прихворнул как-то под осень господин Чучуев, простудился немного. Укрыл я его одеялом и голову собственноручно смочил.
— Лежите, — говорю, — спокойно. Много вы занимались в последнее время. Нельзя так. Отдохните если не для себя, то хотя бы для пользы науки.
А он, как всегда, улыбается тихо.
— Нельзя, — говорит, — отдыхать, когда ожидает ученое поприще.
— Нет уж, — говорю. — Пускай подождет. Из-за поприща я вам болеть не позволю. Извольте лежать.
И как назло в тот день ветреная была погода, а к ночи еще атмосферные осадки выпали, вроде манной крупы. Растопил я печку и чайник поставил. Сам же уселся с книгой. А снаружи гудит ветер и бьется в окно. И вдруг говорит господин Чучуев:
— Откройте в столе книжный ящик и достаньте оттуда порошки. Лихорадочное у меня состояние, и нужно принять что-нибудь против температуры.
Передал я ему порошки и опять уселся читать. И задумался я, между прочим, над книжными истинами. «Сколько ума, — думаю, — на каждой странице! И какие герои в романах!» В особенности фраза одна меня поразила из героических уст. Насчет любви была эта фраза…
Тут внезапно застонал господин Чучуев. Отложил я в сторону книгу, повернулся к нему лицом. И такое увидел — никогда во всю жизнь не забыть!
Гляжу, поднялись у господина Чучуева на голове волосы и сам он скорчился на постели. И что-то пытается рассказать при помощи хриплого звука. А губы у него побелели, и пена на них показалась. Вскрикнул я, подавленный открывшейся передо мной картиной.
— Что с вами? — кричу, — Скажите, ради Бога!
А он рукой только машет и вообще объясняется жестами. Подбежал я моментально к ложу больного.
— Скажите, — говорю, — что случилось?
— Крысы… крысы это, — хрипит господин Чучуев.
И повалился опять на постель. Пошли по нем судороги, и даже мускулы сократились. Я же стою перепуганный и не знаю, как оказать медицинскую помощь. Наконец отдышался кое-как господин Чучуев и ручкой меня поманил. Склонился я над ним, а он еле слышно шепчет:
— Несчастье случилось большое. Против крыс порошки я принял. На всякий случай хранились в столе порошки эти.
Всхлипнул я даже от горя, услышав его признание.
— Ах, Боже мой! — говорю. — Как же вы допустили такую неаккуратность!
А он опять ручкой показывает:
— Откройте поскорее другой ящик. Есть там пилюли в другой коробочке.
Бросился я моментально к столу, отыскал пилюли.
Проглотил господин Чучуев одну из них и вдруг на коробку уставился взором. И застонал сейчас же.
— Не те, — говорит, — пилюли. Ведь эти же против запора.
Растерялся я окончательно.
— Здесь, — говорю, — еще лекарство имеется в стеклянной бутылке.
— Дайте скорей, — говорит господин Чучуев. — Должно быть, мятные капли.
Однако как выпил он немного из ложечки, то внезапно заплакал:
— И это не то. Против мозолей этот бальзам. По запаху слышу.
И уж тут ему совсем худо случилось. Изменил моментально окраску лица и даже позеленел. Заплакал и я, глядя из сострадания. И сейчас же мысль появилась: «Надо бежать за доктором».
Выскочил я без шапки наружу. Темнота была в улицах, и дождь шумел. И ни души по соседству, одни фонари горят. Знал я хорошо адресок русского доктора, который не раз студентов использовал. Прямо, не задумываясь, побежал я к нему. Долго пришлось мне, однако, стучать в парадную дверь. Наконец появился доктор. Взлохмаченный такой старичок, и брови у него густые. Объяснил я ему наскоро, в чем дело.
— Совершенно, — говорю, — зеленый лежит пациент, и никакой красноты не видно на теле.
— Это плохо, — говорит доктор. — А только я ночью не пойду с визитом. Пусть лучше больной придет.
— Да ведь он, — говорю, — и ходить совершенно не может.
А доктор в ответ:
— И я ходить не могу. Годы не позволяют мне ходить понапрасну.
Сложил я молитвенно руки:
— Господин доктор! Сделайте милость!
И уговорил я его все-таки с большими стараниями.
Как описать это наше печальное шествие? Пройдем два шага и останавливаемся, отдыхаем. Всю дорогу он меня упрекал. Наконец очутились мы у больного одра. Помню, лампа тогда начадила в комнате и было почти темно. Не сразу я даже увидел наши постели. А доктор вдруг подошел ко мне и за руку взял:
— Покажите язык.
Показал я ему язык.
— Теперь, — говорю, — на больного взгляните.
Удивился доктор:
— Разве еще есть больной? В которой палате?
— Здесь, — говорю, — вон там на постели.
Подошел тогда он к господину Чучуеву и то же самое за руку взял. И внезапно ко мне повернулся. Вижу, обозленное у него выражение на лице и брови сошлись во взгляде.
— Безобразие! — кричит. — Зачем к покойнику вызвали? Это издевательство над человеком!
Словно бичом, захлестнул он меня такими словами. Помутилось у меня в мыслях.
— Покойник? Где покойник? Живые, — говорю, — здесь.
Тут он совсем расходился.
— Труп, — говорит, — находится здесь, а вы еще меня для чего-то позвали!
Смешался я от огорчения и уж не знаю, что сам говорю. А только повторяю:
— Не звал я трупа… не звал я трупа… Сам этот труп пришел.
Понятно, мешался я в словах вследствие потрясения. И горестно наконец разрыдался. Представилось мне вдруг, что никогда уже больше не услышу я господина Чучуева и вообще не увижу его лица. Вроде стрелы пронзило мне что-то сердце… И не слышал я даже, как доктор ушел. Между тем потухла на столе лампа и день зачинался. Подошел я тогда к постели. И ах как растрогался внешним видом!
Лежит, как живой, господин Чучуев и даже глазами смотрит, но только не видит уже ничего. Стал я перед ним на колени. Ручку поцеловал.
— Учитель! — говорю. — Вот я и вас лишен…
И опять-таки разрыдался. Сотрясаюсь от горя и безнадежных чувств и все смотрю на любимый профиль.
Не помню теперь, как долго я простоял в таком положении тела. Может быть, час, а может быть, и больше… Только внезапно слышу, кто-то гремит по лестнице. Узнал я генеральский шаг, потому подкованная нога. И не знаю зачем, а только прикрыл я одеялом своего дорогого покойника. А подкова все ближе стучит, и вот уже у двери слышу, как шарят рукою. Пошел я тогда открывать. И сразу генералу объясняю на ухо:
— Тише… Снимите вашу ногу. Спит господин Чучуев.
Не пойму я теперь, почему непременно солгал. Словно бы кто-то другой за меня разговаривал. И даже палец к губам приложил в знак молчаливости разговора.
Снял генерал ногу и потихоньку ее в уголке прислонил. А у самого лицо радостное, и в руках держит бумажный пакет. И шепчет мне в ухо:
— Разрешите поздравить.
Отшатнулся я от него. Потому вроде насмешки показались его слова. И тоже ему на ухо шепотом:
— С чем изволите поздравлять?
Развернул тогда генерал пакет, и вижу, достает из него стеклянную вазу. Обыкновенная это была ваза из надутого стекла и вообще предмет дешевого сорта.
— Это зачем? — спрашиваю.
— Как зачем? Выиграл ее господин Чучуев на свой билет в лотерею.
И сам смеется довольным смешком. Озверел я тогда внезапно. Затмение на меня нашло.
— Вон, — кричу, — отсюда с вашей нестоящей финтифлюшкой!
И со всего размаху на землю ее опрокинул. Разбилась она, понятно, со звоном и разлетелась на мелкие части. А генерал попятился к стене и ногу свою ухватил. И то же самое угрожает.
— Не подходите, — кричит, — а не то я вас ногой изувечу!
Не обратил я никакого внимания на его угрозу. Тогда ударил он меня по голове ногой. Совсем оглушил при посредстве железной подковы. Вытер я кровь со лба платочком, и тут возвратилось ко мне состояние духа.
— Вы, — говорю, — напрасно меня лягнули, ваше превосходительство. Эх, — говорю, — ваше превосходительство!.. — И потихоньку его рукой подтолкнул к двери. — Уходите, — говорю, — пока не успокоится моя нервная система.
И как ушел он, то я еще долго сидел у окна и обдумывал разные темы. Раскрылось мне тогда истинное положение и, кроме того, жизненная подкладка. Сами построились посылки, и получилось нечто вроде научной канвы. Как же все-таки прийти к результату? И почему у меня теперь отрицательное отношение к жизни и то же самое к смерти? Кто ответит на спорный вопрос?
И вот брожу я по пражским улицам и думаю неустанно. О господине Чучуеве думаю и вообще о человеческих существах. А смысл мне как будто ясен, и только выразить я его не умею. Вот где-то здесь он, в какой-то точке на плоскости… Только надо хорошенько обдумать. Потому, с одной стороны, аккуратность наблюдается и, с другой стороны, какое-то нарушение устоев…
Эх, господин Чучуев! Зачем ушли вы в потусторонние сферы?..
Прекрасная Эсмеральда
I. Истоки судьбы Петра Петровича
Странная судьба выпала на долю Петра Петровича Чубикова, даже более чем странная… И если мы перенесемся мысленно на много лет назад, в волшебные времена, в чудесные времена (о, мы увидим сугробы снега, русскую улицу с желтыми рюмками фонарей, нашу милую улицу, где на заборах мы некогда писали мелом), если через революцию и войну шагнем напрямик в юность, в отцовские «Биржевые Ведомости», с Перуином Пето и гипнотизмом Шиллера-Школьника, в семейный уют, в допотопную изморозь вечерних окон, в невозвращенный рай, чуть потускневший в памяти, то не приблизимся ли мы тем самым к истокам судьбы героя этой повести Петра Петровича Чубикова? Ах (это «ах» только для ритма) — вот возникает перед нами с чуть намечающейся лысинкой милейший Петр Петрович, заместитель псаломщика и регент при Святодуховской церкви — в пиджачке мышиного цвета, стоя на клиросе рядом с Богоматерью и апостолом Павлом, брачующий и упокояющий, вознесший вверх собственные черные усики легким мановеньем камертона… Была Россия, была… В русских полях жаворонками звенела тишина. За крепкими зелеными ставнями обывательских домишек, на зеркальной полировке комодов, расставленные прадедами, целовались крепко фарфоровые пастушки. Подымались утром с молитвой: «Святый Крепкий, помилуй нас…» Крепко пахла сирень в старинных палисадниках, фиолетово бушуя по вечерам и распространяя в воздухе дыхание влюбленной гимназистки. Были изумительные закаты, цвета раздавленной малины, с грачиными монастырями в черных сучьях, с колокольным звоном и, как сирень, — сиреневыми облаками… И вот в те годы служил Петр Петрович заместителем псаломщика при Святодуховской церкви, подписываясь в церковных книгах необычной подписью: «Петр Чубиков — за пса». За пса — означало сокращенно: «За псаломщика». Ехидный поп, отец Никодим, говорил не раз елейным голосом:
— Ну что же, Пёс Петрович? Пойдемте-ка крестить младенца.
А то и при других:
— Спросите у пса. Он должен знать.
Смущенно улыбался Петр Петрович: был он робок с отцом Никодимом. Однако уже в те годы носил он цветные галстуки по три гривны за штуку, штиблеты на шнурках и массивные никелевые часы с замысловатыми брелоками — медный череп и крест-накрест кости, костяной же полумесяц и портрет Сары Бернар в виде крошечного медальона. И может быть, как раз в те годы образовалась в душе у Петра Петровича эта малая «трещинка», словно бы выпал некий гвоздочек, винтик, одним словом, якобы устав ходить с закрытыми глазами, он вдруг прозрел и, прозрев, увидел кроме покойников и невест, кроме младенцев в цинковой купели — иной предначертанный свыше мир, по которому легким видением прошла Прекрасная Эсмеральда. Дело обстояло так: на праздник Покрова, в день Пресвятой Богородицы, когда святили в церковной ограде пчелиные соты и желтые осенние яблоки, когда на Сенной площади, посреди города, затянутый в трико иностранный и потому загадочный человек с деревянного балкона провозгласил об открытии балаганов, — в этот именно день Петр Петрович купил на лотке за десять копеек книжку совсем неизвестного автора, с красавицей на цветной обложке и с занятным названием: «Любовь до гробовой доски, или Прекрасная Эсмеральда — верная подруга графа Педро де Кастельяна».
И потом уже, через много лет, в эмиграции, на чужбине, как ясно, как ярко вспомнил Петр Петрович солнечную просинь облаков, запыленные маковники на деревянной дощечке, поросячьи хвосты за изгородью (как хвосты спелых арбузов), истошный плач умирающих резиновых чертиков и то, как похлопывали на ветру полотнища всемирно известного зверинца братьев Николая и Ивана Бураковых. Книжку Петр Петрович прочитал, впрочем, не сразу. У него была своя система, несколько необычная система самообразования. По утрам, еще до света, перед ранней заутреней, Петр Петрович зажигал лампу и, лежа в постели, перелистывал купленный им когда-то по случаю отдельный том энциклопедического словаря. Словарь начинался с буквы Л, но и этого было вполне достаточно для души, жадно рвущейся к знанию.
— «Лимонад — прохладительный напиток», — читал Петр Петрович. — «Ливингстон — известный путешественник»… «Лимузин — род экипажа»… «Лир — король (см. Король Лир)»…
Снаружи уже кричали петухи ярмарочными металлическими голосами; за дверью возилась старуха хозяйка, кряхтя и охая; в посиневшем окне качалась ветка акации.
— «Лилипут»… — продолжал читать Петр Петрович. — «Лилль — город во Франции»… «Ликург — древний законодатель».
Потом он захлопывал книгу и, удовлетворенный, поспешно одевался. Здесь была некоторая мечта, тоже один из винтиков. Дело в том, что однажды на похоронах в речи оратора Петр Петрович уловил следующую фразу: «Господа! Усопший был энциклопедически образованным человеком».
И засевшая в памяти фраза уже не давала покоя Петру Петровичу, отравив его легким ядом тщеславия, хотя, быть может, никто иной не слышал столько церковных текстов о бренности всего земного, о суете сует и о напрасной тщете наших человеческих желаний.
Кстати, о службе Петра Петровича в те чудесные, в те незабвенные времена. От раннего утра в церковных вратах с огненным мечом стоял ангел, лебедино воздевший крылья, писанный маслом на темном фоне небес, сам потемневший от времени, уже в фисташковой сетке древних морщинок, но строго встречающий у входа человеческую радость и горе. И, помахивая камертоном, видел Петр Петрович скользящих мимо невест, женихов с деревянными скулами, грудных младенцев, барахтающихся в розовых пуховичках, и вдруг — вдвигающиеся в двери точеные ножки гроба, а там, в глазетах, в кружевах — лимонное лицо с восковыми ушами, со свинцовой полоской рта, чуть приоткрывающей зубы… Так шли дни вереницей покойников и невест, в литургиях и крестных ходах, в панихидах, молебнах и водосвятиях. И тут случилось с Петром Петровичем одно происшествие, последствия которого определились значительно позже, происшествие на первый взгляд совсем пустячное, скорее забавный анекдот, и все-таки с него, с этого происшествия, может быть, и следовало начинать нашу повесть, если уж строить ее по правилам классического искусства.
Как-то ввечеру, возвратясь домой, ощутил Петр Петрович жгучее и страстное желание отведать топленой простокваши — любимого своего кушанья. Он уже протянул было руку к покорному кувшинному горлу, готовясь схватить это горло всей своей пятерней, как вдруг поскользнулся и, падая, свалил со стены книжную полку. Толстый энциклопедический словарь тяжело шлепнулся на пол, раскрывшись на «Лимфатической железе». И, подымая его, Петр Петрович обнаружил еще одну книгу (он теперь только вспомнил, что когда-то ее купил), книгу об Эсмеральде, о любовнице графа Педро де Кастельяна, книгу, во всех отношениях заслуживающую нашего внимания, ибо отсюда началась «трещинка» в душе у Петра Петровича, а следовательно, и новая глава в его жизни.
II. Волшебные сны
Никто никогда не узнал, какую бессонную, но замечательную ночь провел Петр Петрович, путешествуя вместе с графом де Кастельяном по страницам любовного романа, сам уже ревниво влюбленный в цыганку и готовый вместе с кавалером Христофом на безрассудные подвиги ради этой восхитительной девы. Но на следующий день, когда старуха хозяйка, вставшая, как всегда, с воробьями и нарумяненная густо зарей, вошла в комнату своего квартиранта, Петр Петрович с необычной для него любезностью принял из ее рук стакан горячего чая.
— Сударыня, — сказал Петр Петрович, — услуга, равная этой, вызывает в душе моей восторженную благодарность. — Вслед за сим Петр Петрович указал пальцем на дверь. Бедная старуха чуть не села на пол от удивления. — Уходите. Оставьте меня с моими волшебными мечтами, — приказал Петр Петрович.
И когда угасающей чечеткой прошаркали за дверью туфли, когда Петр Петрович остался один, он вдруг понял впервые, что не лиловые галстуки с полоской пристало ему носить, а черную бабочку, всю в крапинках, и что недурно было бы завести цилиндр, хотя этот наряд, кажется, не принят в России. В энциклопедическом словаре Петр Петрович остановился на «Линейных кораблях» и знаменитом зоологе Линнее. Но теперь он прекратил свои занятия, слишком взволнованный, чтоб систематически работать, слишком окрыленный для новых, ему самому не совсем еще ясных деяний. И вот одна мелочь, не лишенная для нас интереса. Петр Петрович был почему-то уверен, что Прекрасная Эсмеральда списана автором книги с натуры, с лица живого и существующего на самом деле. Эта уверенность росла в нем вместе с внутренним ростом его души, вместе с новыми потребностями и желаниями — уверенность, что и он может встретиться когда-нибудь с описанной в книге девой, и тогда будет неизбежен поединок между ним и графом Педро де Кастельяном.
А в стороне по-прежнему шли церковные требы — панихиды, молебны и водосвятия. Синие, как синька, колыхались гробы бедняков под чириканье птиц на старом городском кладбище. Но иногда, словно оттуда, словно оттуда, из книги, появлялись важные мортусы, в серебряных позументах, с великолепными треуголками в руках. И у церковной ограды останавливалась черная карета.
Два серебряных ангела, с серебряными лилиями в молитвенно вознесенных дланях, печально охраняли дверцы кареты.
«Уж не она ли?» — проносилось в мозгу у Петра Петровича, и он холодел, пристально вглядываясь в распахнутую настежь дверь, где муравьино поблескивал угол богатого, начерно полированного гроба. Но нет — это была старуха. Костяное лицо с ввалившимися висками покачивалось на шелковой подушке. Гроб ставили посреди церкви, и Петр Петрович вместе с хором пел «Вечную память».
И может быть, не лишним будет теперь же отметить (забегая, понятно, вперед), что в тысяча девятьсот тридцать втором году, в Берлине, на Фридрихштрассе, когда на мокром асфальте лопались мутные дождевые стекляшки, что и тогда, в Берлине, Петр Петрович был так же далек от истины, как в те довоенные годы, запечатленные в нашей памяти драконовыми языками флагов, табельными праздниками с грохотом полковых оркестров и оставшиеся у нас наяву в ворохе выцветших фотографий. Тогда же было вот что: подписываясь «за пса» Петр Петрович уже чувствовал невозможность для себя оставаться в узких рамках прежней жизни и раздвигал эти рамки по мере сил и средств. В городе стали замечать некоторую странность в поведении Петра Петровича. Встретив, например, нашего околоточного Арбузова, Петр Петрович не просто ему поклонился, а, сняв шляпу, коснулся ею земли, потом отступил назад со скрещенными на груди руками и произнес следующие загадочные слова:
— Встречая в вашем лице достойного противника, я, милостивый государь, весь к вашим услугам.
Потом любезно, но достойно улыбаясь, он еще раз коснулся шляпой земли. Этот случай, сам по себе невинный, был только первым звеном в ряде более удивительных случаев. В модном магазине отца и сына Помидоровых приобрел Петр Петрович фильдекосовые перчатки канареечного цвета, длинный шелковый шарф и галстук в виде бабочки, прелестный, даже удивительный для нашего города галстук, переливающийся всеми цветами радуги и с беленькими сердечками по голубому фону. А когда над нашими местами в журавлиных криках прошла весна, Петр Петрович уже гулял по улице в светлых фланелевых брюках, всматриваясь в каждое женское лицо, жадно разыскивая ту, о которой он теперь постоянно думал, героиню романа — Прекрасную Эсмеральду. И хотя каждая весна благословенна, эта весна была особая, сверхблагословенная в жизни Петра Петровича. Казалось, что прямо в душу текли с ночного неба синие ручейки звезд, казалось, что от счастья задыхалась земля в ароматном яблоневом цвете, и многое иное казалось Петру Петровичу, ибо в этих его поисках, быть может тщетных и безнадежных, уже заключалось счастье. По ночам снились ему странные сны. Однажды ему приснилось, будто бы к окнам его квартиры подкатила черная карета. Два серебряных ангела отделились от дверцы, и с высокого сиденья соскочил юркий старичок, держа в руке треугольную шляпу.
— Я Линней, — сказал старичок. — Разрешите представиться. Мой лимузин к вашим услугам.
И тогда Петр Петрович увидел, как по тропинке, сквозь гущу цветущих яблонь, улыбаясь и молитвенно сложив ладони, шла, словно плыла по воздуху, Прекрасная Эсмеральда. Он хотел броситься к ней навстречу, но ноги у него словно приросли к полу, и юркий старичок Линней весело рассмеялся.
— Мы прибыли на линейном корабле, — сказал наконец он. — Вы понимаете? Линь — это речная рыба…
Крошечный человечек («Лилипут, должно быть», — мысленно решил Петр Петрович) внес в комнату букет серебряных лилий. И тут комната наполнилась графами и князьями, и у всех у них очутились в руках длинные шпаги.
— Господа, — спросил Линней, — кто из вас достиг апогея?
Все повернули головы в сторону Петра Петровича. И вдруг понял Петр Петрович, что это он герой, что это он достиг апогея.
Он даже ясно увидел: вот перед ним огромный апогей… И вот он его достиг. И тогда ослепительно вспыхнули зубы Прекрасной Эсмеральды.
— Принесите королевскую грамоту! — приказала она.
Все обступили Петра Петровича. Сам граф Педро де Кастельян предложил ему перо и чернила.
— Распишитесь, пожалуйста, — прошептала Эсмеральда.
Внезапно все отпрянули с хохотом:
— Слышите? Он «за пса»! Он расписался за пса! Ха-ха! За пса! Петр Чубиков, за пса! Вы за пса! Вы Пёс! Вы же не Петр, вы просто Пёс Петрович!
Вся комната наполнилась криками, хохотом и визгом. Смертельно побледнев, качнулась в воздухе Прекрасная Эсмеральда. Лимонное лицо с ввалившимися щеками упало на белую подушку и — все лимонней, лимонней — превратилось наконец в лимон, в ослепительно яркий лимон — и, открыв глаза, Петр Петрович увидел солнце…
Но были у него теперь видения и наяву — если можно вообще назвать видениями то, что он видел каким-то обновленным зрением, словно, просыпаясь из одного сна, он сейчас же переходил в другой, еще более удивительный и странный. В этом новом, настоящем сне цвели цветы и перекликались птицы, было синее весеннее небо и часто в шорохе деревьев Петр Петрович улавливал свое имя, словно кто-то шептал: «Петруш-ша! Петруш-ша!» И Петр Петрович решил бесповоротно купить черный цилиндр на шелковой подкладке. Но иногда его охватывал внезапный страх, ему представлялось, что Эсмеральда давно умерла, что он напрасно надеется ее встретить. В такие дни Петр Петрович отказывался совсем от еды к вящему ужасу старухи хозяйки.
— Нет, я не хочу гречневой каши, — печально говорил Петр Петрович. — Обуревающие меня чувства заставляют склониться перед грозным роком судьбы… Нет, нет, унесите прочь эту кашу.
Впрочем, такие взрывы отчаяния случались у него довольно редко.
Наоборот, он чувствовал себя теперь вполне счастливым. И может быть, это была последняя полоска тихого счастья в жизни Петра Петровича. Но вот эта полоска стала постепенно разгораться, но вот уже вся Россия задохнулась от счастья, вспыхнула алыми флагами, загремела мелодиями оркестров, и Петр Петрович вошел в новый чудесный мир, где все было сном и где, так же как он, все искали Прекрасную Эсмеральду.
III. Петр Петрович в цилиндре
Четырнадцатого декабря тысяча девятьсот восемнадцатого года Петр Петрович появился, наконец, на городских улицах в блестящем черном цилиндре. Это был день, отмеченный в летописях нашего города многими другими не менее знаменательными событиями. В этот день на главной городской площади торжественно была отбита голова Екатерины Великой и на место ее приставлена и зацементирована иная голова, голова нашего немецкого товарища Розы Люксембург, или, как выразился местный оратор, Люксембургской Розы. В этот день к вечеру сгорел городской театр и было обстреляно артиллерией здание центральной почты. И потому появление Петра Петровича на улицах города осталось почти незамеченным. Единственный свидетель, который мог бы, пожалуй, кое-что рассказать о нем, старичок аптекарь, — был убит шальной пулей в тот самый момент, когда он высунулся из дверей своей аптеки наружу. Но Петр Петрович шел по улице, никого и ничего не замечая: он был в особенно приподнятом настроении. Недавно он перечел вторично книгу об Эсмеральде и еще больше уверился в том, что встреча, безусловно, возможна, что граф Педро де Кастельян не такой уж страшный противник и что, в сущности, граф…
Но тут его остановили матросы. Вертлявый и рыжий парень, обвешанный бомбами, подошел к нему раскачивающейся походкой:
— Эй, аристократ! Стой!
Петр Петрович остановился. Его приятно удивило это обращение к нему, как к аристократу, и он вежливо приподнял цилиндр.
— Документы, — сказал матрос.
— Какие там документы! — закричали другие. — И так видно, что аристократ. Тащи его в Чрезвычайку.
Петра Петровича окружили тесным кольцом. В тот же вечер закрылась за ним тяжелая тюремная дверь и двенадцать вооруженных чекистов подъехали на грузовике к тихому домику, где вот уже столько лет под сенью замшелой деревянной кровли мечтал и жил заместитель псаломщика при Святодуховской церкви. Старуха хозяйка только успела всплеснуть руками, увидя входящих в ворота грозных людей. Она сама повела их в комнату Петра Петровича, причитая на пути и охая, клянясь Пречистой Матерью, что никаких бомб у них в дому отродясь не водилось, а ежели была одна бомба от старой висячей лампы, так и ту уже давно выменяли на хлеб. Обыск, однако, продолжался всю ночь и закончился на заре, уже в то время, когда юркие синицы наполнили веселым щебетом морозный, розово оснеженный сад. Что именно обнаружил обыск, осталось неизвестным, но только через несколько дней Петра Петровича повели наверх к допросу. И, щурясь от яркого электрического света, он вдруг увидел стриженую голову сидящего за столом следователя Чеки, напомнившую ему почему-то облик графа де Кастельяна.
«А ведь я уже видел его когда-то, — подумал Петр Петрович. — Видел во сне. Но только тот был с усами…»
Слегка отступив к двери, Петр Петрович галантно поклонился. Потом он изобразил на своем лице подобие светской улыбки. (Когда-то дома, перед зеркалом, он не раз упражнялся в таких улыбках.) Но следователь хранил молчание, хмуро, в упор рассматривая Петра Петровича.
— Вы не виляйте, гражданин, — сказал наконец следователь. — Мы знаем все о вашей боевой организации.
Тут Петр Петрович поклонился снова.
— Ага, так я и думал! — воскликнул следователь. — Теперь скажите откровенно, сколько людей было в вашей организации?
— Всех восемнадцать, — простодушно ответил Петр Петрович.
— И генералы тоже были? — спросил следователь с хитрой усмешкой.
— Да, был один, — признался Петр Петрович. — Бас профундо. Вел у нас партию соло.
— Ого, партийный был актив! — И следователь легонько свистнул. — Ну, а литературу вы откуда брали? Мы ведь и это знаем… У вас была литература.
— Была, — оживился Петр Петрович. — Про Эсмеральду.
Он вспомнил похождения Христофа и его безумный подвиг ради любимой девы.
— Там больше про графов писалось, — сказал он с ударением на последнем слоге. — И очень, например, красиво про графа Кастельяна.
— Еще кого припомните? — И следователь отметил что-то на лежавшей перед ним записке.
— Еще про князя Чарторыйского, — подумав чуточку, сказал Петр Петрович. — Ах, самый замечательный были этот князь! Как, например, облокотись о балюстраду, они послали свой воздушный поцелуй графине Изабелле.
— Гм… хорошо. Теперь еще вопрос. Откуда получались деньги?
— Церковные, — ответил Петр Петрович. — Финансы отпускала церковь.
Увы, он и не сознавал, что собственным признанием готовит для себя могилу. Когда допрос был наконец окончен и часовые увели Петра Петровича, следователь надписал на одной из лежащих перед ним картонных папок следующий грозный заголовок: «Дело аристократа Чубикова. Контрреволюционный заговор генералов при поддержке местных попов».
А еще через несколько дней состоялось экстренное заседание коллегии Чеки, на котором Петра Петровича приговорили к высшей мере наказания, то есть к расстрелу. Здесь, собственно, над жизнью его судьба готовилась поставить точку. Но потом, словно раздумав, она поставила запятую, и Петр Петрович был чудесно спасен конницей батьки Махно, с налету занявшей город. Вновь в оснеженных улицах промелькнул черный цилиндр, и под грохот пулеметов, под пьяные песни солдат, под заливистый перебор гармошки, Петр Петрович возвратился к себе домой, так, словно бы с ним вообще ничего не случилось, отвечая на охи и ахи старухи хозяйки снисходительным кивком головы.
— Ваши заботы обо мне, мадам, достойны награды, — сказал Петр Петрович. — Прошу вас, однако, кроме чистокровных князей, никого ко мне не впускать.
Это было все, что сказал Петр Петрович. Но и того, что он сказал, оказалось достаточно, чтобы повергнуть старуху в ужас.
— Ох, батюшки! — зашептала она. — Нынче вообще стреляют буржуев, а он наприглашал князей..
Между тем Петр Петрович сидел у себя в комнате и грезил. За окном проходила ночь, такая же, как в школьной тетради, «Украинская ночь» — от сих пор и до этих. Божественная ночь… В лунном дыму лежали поля; сахарные бурьяны покачивались на косогорах; гудели столбы монотонным телеграфным гудом, и на одном из них, повешенный махновцами, висел председатель земской управы Петренко.
Уже заплетал следы осторожный заяц, уже от луны голубой казалась дорога… И было Петру Петровичу видение: будто из морозной неразберихи окон, из серебряного пальмового леса проступило ее лицо и, выйдя из рамы, остановилось в воздухе, улыбаясь аристократической улыбкой.
IV. Желтый дом
Последующие события развернулись с такой быстротой, что даже сама судьба Петра Петровича не успевала ставить многоточий. Вслед за Махно с карающим мечом предстал атаман Ангел, и ангельские полчища его разрушили дотла остатки райской жизни — патриархальный быт купчих и самоваров, еврейских перин, бабушкиных фортепьяно, канареек, гардин, шифоньерок и штофных, с райскими птицами оконных занавесок. Город лежал в пуху, как вылупившийся из яйца цыпленок. В пуху лежали поля, и в местной газете каждая статья заканчивалась словами: «Да будет земля вам пухом… Да будет земля вам пухом, дорогой Григорий Аронович!..»
Это нашествие ангелов продолжалось неделю. Из деревень, из сел, из хуторов приходили странные мужики, насамогонившиеся до столбняка, до исконной русской оторопи, и вместе с ангелами грабили город, унося в спутанных мужичьих бородах хвосты от сардинок, клешни омаров, осколки карамели бессмертного француза Жоржа Бормана и запах того одеколона, который они пили наравне с бургундским чайными стаканами. В эти же дни вторично появился Петр Петрович на улицах нашего города в цилиндре и фильдекосовых перчатках, но через час вернулся домой без цилиндра и без перчаток, вообще без всякой одежды, в том несколько шаблонном виде, в каком мы представляем себе Адама. Бедная хозяйка мгновенно отвернулась к стенке, увидев Петра Петровича.
— Мадам, — сказал Петр Петрович с обычной своей галантностью. — Не оскорбляйте вашей стыдливости, мадам. И я умоляю, принесите поскорее брюки.
Петр Петрович был несколько взволнован. Но, переодевшись и причесавшись перед зеркалом, он успокоился, вспомнив кстати классическую фразу: «Со шпагою в руке граф Педро де Кастельян отразил напор мадридской черни…»
«Я мог бы тоже отразить напор, — подумал Петр Петрович. — Но, к сожалению, у меня не было шпаги…»
Между тем быстрокрылой ласточкой летели дни, по выражению одного поэта, и вскоре весь город стал напоминать заброшенный оазис. А из пустыни шли гайдамаки, отрастившие себе по «Вестнику Знания», по Элизе Реклю — «Земля и ее народы», полинезийские бороды и чубы, последний крик киевской моды. Жители города ушли в погреба, в катакомбы и там молились, стуча от страха зубами, и там же приходили друг к другу в гости. Наверху уже начиналась весна, распускались цветы и разрывались снаряды, по-весеннему пахла земля, принимая все новых покойников, и в одном из погребов состоялось бракосочетание дочери брандмейстера Лидочки Охрименко с горным инженером Климовым. Наконец, после трехдневной артиллерийской подготовки, город был взят частями Добровольческой армии и сразу, словно по волшебству, открылись кафе и рестораны, закружились танцующие пары, полетели конфетти и серпантины, запели граммофоны, застучали пишущие машинки, — словом, потерянный рай был еще раз возвращен на землю. Потом началось великое переселение народа, с чемоданами, болонками, граммофонами, тещами, кактусами, грудными детьми, постельным бельем и прочими предметами одушевленной и неодушевленной природы. Это был девятый вал, подхвативший Петра Петровича и бросивший его, как соринку, в самую гущу событий, перенесший его через Крымский полуостров на блестящие улицы Царьграда, к туркам и арабам. Вновь закружились танцующие пары под пенье русских балалаек, вновь застучали пишущие машинки сразу в пяти консульствах — русском, белорусском, украинском и еще двух иных, не имевших, впрочем, названия. И может быть, один из всех, один из сотен тысяч, вынес Петр Петрович неоскверненной, нетронутой трезвую мечту о безусловной встрече с Прекрасной Эсмеральдой. Так же как в России, на тротуарах Пера и Стамбула продолжал он упорные поиски, опасаясь в душе, как бы не овладел турецкий султан Эсмеральдой. Тогда пришлось бы немедленно прибегнуть к веревочной лестнице и выкрасть красавицу из гарема. В эти же времена занялся Петр Петрович продажей газет, кое-как зарабатывая себе на жизнь, ютясь на чердаке у старика араба с длиннейшим именем — Абдул-Над-Бен-Назим-Яшма-Кериб-Сулейман-Бей…
Под цоканье экипажей, под вой автомобильных рожков, под стеклянный звон трамваев мелькнула эта полоска жизни, оставив Петру Петровичу на память голубое виденье Босфора с оранжевыми секирами уходящих к закату парусов. Потом, через несколько лет, очутившись в Европе, объездив, как мы, земгоры и общежития, Петр Петрович осел наконец в Берлине, вернее, его здесь осели немцы, поместив в то известное учреждение, которое на обыденном языке называется желтым домом. Петр Петрович сам не знал, как это вообще случилось. Но он вдруг очутился в среде настоящих аристократов — герцогов, баронов, князей и графов. Был здесь, например, маркиз Хитомура, тоже русский беженец, но японской ориентации, как объяснил он сам Петру Петровичу, — нервный, худой господин, с алебастрово-белым лицом и беспокойными глазами, горделиво осанистый, протягивающий для рукопожатия два пальца. И здесь же Петр Петрович познакомился с китайским богдыханом, человеком приземистым и толстым, постоянно подвязывающим на затылке воображаемую косу. В первый раз после России отдохнул Петр Петрович, окруженный заботливым вниманием врачей, интересующихся так же, как и он, поисками Прекрасной Эсмеральды. Вот дело Петра Петровича в том виде, в каком оно было занесено в больничные реестры и книги: «Петр Чубиков, русский эмигрант. Возраст сорок пять лет. Прибыл 5 июня 1929 года. История болезни: эротический психоз. Посылал воздушные поцелуи незнакомым дамам на Фридрихштрассе. Жене бургомистра фрау Матильде Шмидт поцеловал в публичном месте руку. Неоднократно становился на колени перед продавщицей цветов в Тиргартене фрейлейн Мартой Ратау, чем и обратил на себя внимание полиции. Резюме главного врача: несомненная idée fixe[28] на почве гипертрофического романтизма». Позже было приписано рукой наблюдающего доцента: «Говорит постоянно о некой Эсмеральде, должно быть о своей любовнице или жене. Галлюцинирует. Но в общем ведет себя спокойно. Судя по манерам, прирожденный русский аристократ».
Так заместитель псаломщика при Святодуховской церкви милейший Петр Петрович, церковный регент, волей судьбы и врачей превратился в аристократа…
В общей палате лечебницы происходили по вечерам светские разговоры, и Петр Петрович сам пытался принимать в них участие.
— Милостивый государь, — обращался Петр Петрович к маркизу Хитомуре. — Я, милостивый государь, весь к вашим услугам.
— Это что же? Дуэль? — И маркиз пожимал плечами. — Я дерусь только с принцами крови.
Он надменно улыбался, проходя мимо, стараясь в то же время возможно больнее толкнуть Петра Петровича плечом. Тогда из неисчерпаемой сокровищницы литературы, все из того же увлекательного романа, Петр Петрович выуживал блестящую и сокрушительную фразу.
— Маркиз, — говорил Петр Петрович вдогонку. — Я вас проткну насквозь рапирой.
Маркиз отвечал насмешливой улыбкой, он поворачивался спиной к Петру Петровичу и заговаривал с кем-нибудь другим. Постепенно эти салонные разговоры стали утомлять и даже раздражать Петра Петровича.
«Безусловно, здесь много светских персон, — думал Петр Петрович. — И даже имеются очень знаменитые современники… Но нет прекрасного пола… нет восхитительных дам…» Увы, он и не знал, что судьба уже собирается выкинуть новое коленце, что скоро, очень скоро, он будет окружен самыми пышными, самыми элегантными дамами русского эмигрантского Берлина.
Случилось так. Лечебницу неожиданно посетил знаменитый психиатр герр профессор Арнольд Блуменау, европейский ученый с лицом моллюска, залезшего в крахмальную сорочку и глазеющего оттуда на мир, лысый до наглости и осюртученный на всю жизнь. Эта европейская величина, свалившаяся словно с неба, вдруг отметила Петра Петровича, подтолкнув тем самым колесо ленивой фортуны.
— Кто такой? — спросил профессор, указывая на Петра Петровича высохшим от науки пальцем.
Рыжий доцент, сопровождавший великого гостя, почтительно объяснил:
— Это русский беженец, герр профессор. Петр Чубиков, repp профессор. На излечении с двадцать девятого года, герр профессор.
Но моллюск уже вылез из воротничка и, похрустывая крахмалом, поблескивая окулярами, пожелал узнать историю болезни. Потом, ознакомившись со всеми данными из принесенной ему ведомости, он непосредственно обратился к Петру Петровичу:
— Фи… фи… который хуперния?
У него была манера изумлять своих пациентов неожиданным знанием их родной речи. Так же великолепно, например, он говорил по-испански.
Изысканно улыбаясь и отвесив низкий поклон, Петр Петрович назвал тот городок, где протекли его детство и юность, городок, промелькнувший в памяти деревянными заборами и цветниками, галочьим криком, рождественскими морозами и керосиновым фонарем на перекрестке.
— Который хуперния? — все еще щеголяя знанием языков, повторил свой вопрос профессор.
Тут же, впрочем, вовсе не дождавшись ответа, он вывернул наизнанку глазные веки Петра Петровича с ловкостью и неожиданностью, поразившей даже доцента.
— Милостивый государь! — начал было Петр Петрович, возмущенный таким поступком. — Я, милостивый государь, весь…
Однако профессор уже сыпал латынью, точно обращаясь к собственному гению за советом.
— Невозможно, — сказал он наконец, переходя от гения к доценту. — Я не могу признать этого субъекта ненормальным. Я не могу, понимаете? Не мо-гу.
В лечебнице поднялся переполох: «Герр профессор не может! Герр профессор не признает!» Рыжая борода доцента процвела по всем коридорам и, уткнувшись, наконец, в телефон, поспешно донесла по начальству:
— Герр профессор того мнения… и он не признал… герр профессор не может…
А когда, словно из старинной гравюры, остановилась у крыльца профессорская карета, сам доцент укутал пледом тощие профессорские ноги.
— Не могу… признать… — скрипел на прощанье профессор. — Обыкновенный поэт… понимаете? Обыкновенный русский романтик. У Достоевского все сплошь вроде этого. И нельзя же из лечебницы делать Парнас… нечто вроде Олимпа… Ox, mein Gott![29] — профессор ощутил подагру.
Лошади тронули с места, мягко зацокав подковами, затрусили рысцой, увозя навсегда эту главу из жизни Петра Петровича, главу, от начала и до конца посвященную желтому дому.
V. Петр Петрович занят политикой
Над Берлином теплым дождиком уже проклевывалась весна, заводя в кустах воробьиные шурум-бурумы. По карнизам, по крышам ворковали голуби — первейшие глашатаи и провозвестники туризма. И рыхлые немцы в коротеньких детских штанишках спешно уезжали за город, в природу, таща на спине в холщовых мешках отечественные бутерброды. Там, там, за городом, в знаменитой издавна роще, над заплесневелым памятником Гете, в старинных липах и вязах, еще по-гетевски кричала кукушка, и можно было слушать ее, уплатив тридцать пфеннигов (включая в эту сумму беспрепятственное пользование уборной). А когда проломилось берлинское небо, обнажив синие пропасти, когда на весеннем солнцепеке старые фрау начали продавать фиалки, Петр Петрович, вместе с первыми рамами, был неожиданно выставлен из желтого дома. Надо было сызнова устраивать жизнь, как-то приспособляться к новым условиям, и Петр Петрович задумался, стоя с узелком на углу улицы. Мимо шли женщины («Все та же лотерея, — не без грусти подумал Петр Петрович. — Все та же лотерея… Хотя и с выигрышем… на всю жизнь… на многие лета», — подумал он).
«На многие, многие лета!» — утешительно прозвучало у него в ушах. И, как бы управляя камертоном, он поднял вверх правую руку. Вдруг он очнулся, вспомнив о поручении, которое необходимо исполнить еще сегодня. Утром, в салоне, к нему подошел маркиз Хитомура.
— Уходите? — спросил маркиз. И неожиданно протянул два пальца.
— Отбываю, — сказал Петр Петрович. — По приказанию свыше, — добавил он, делая светский поклон. — Но, покидая сей будуар, я все же, маркиз, весь к вашим услугам.
— Ах, пожалуйста, без этикета, — быстро и нервно перебил маркиз. — Сейчас не до церемоний. Слушайте… — И он наклонился к уху Петра Петровича. — Сегодня я получил по беспроволочному телеграфу важные политические известия. Решено выкупить обратно Аляску и всех русских эмигрантов переселить на Аляску. Передайте немедленно об этом княгине Стояновой. Сегодня же. Но только совершенно секретно.
— Да ведь я еще не представлен княгине, — смутился Петр Петрович.
— Это неважно. Я тоже ей не представлен. Я жил когда-то на одной с нею улице… и вот вам адрес… — Маркиз вынул из туфли огрызок карандаша и, оглядевшись по сторонам, что-то нацарапал на клочке бумаги. — Скажите ей также, что Амманулла не может быть русским императором. Ни в коем случае. У меня имеется телефонограмма: Амманулла нас обманула.
Петр Петрович церемонно поклонился.
— Сочту обязанностью, маркиз. Услуга, равная этой…
И теперь, стоя на тротуаре, он вспомнил об ответственном поручении. Поплутав изрядно по улицам, он все же очутился, наконец, перед домом, в котором жила княгиня.
«Как будто неделикатно появляться без манжет, — подумал Петр Петрович, уже нажимая кнопку звонка и глядя на подступающий к чугунной ограде газон, где шевелились змеиные головки по-весеннему набухшей сирени. — Без манжет неудобно, — продолжал думать Петр Петрович с волнением. — И что, ежели там?., что, ежели?.. — У него перехватило дыхание. Лотерея, в которую он играл все эти годы, могла вдруг разрешиться ослепительным выигрышем… Он войдет и увидит Эсмеральду и упадет перед ней на колени. — Упаду на левую коленку, — быстро сообразил Петр Петрович. И потом, облокотясь о балюстраду, он пошлет ей воздушный поцелуй. И она тоже облокотится и тоже пошлет поцелуй. — Мы оба облокотимся, — мечтал Петр Петрович. — Я о балюстраду, а она о колонну…»
Но в ту же минуту раскрылась дверь. Худая и тощая горничная с забытой Богом прической повела его наверх в парадные комнаты, где на пороге гостиной стояла уже сама княгиня. Петр Петрович склонился в светском поклоне.
— Разрешите, мадам, — сказал Петр Петрович. — По поручению маркиза Хитомуры я осмелился нарушить ваш семейный досуг. Но я, мадам, весь к вашим услугам.
— Войдите, пожалуйста, — любезно пригласила княгиня.
Петр Петрович вошел, сразу отразившись в нескольких зеркалах.
«Надо было надеть в полоску, — подумал он о галстуке. — А княгиня, конечно, очень пышная дама…»
На него повеяло запахом тонких духов. Двумя распускающимися бутонами дышала княгинина грудь в двух шагах от Петра Петровича.
«Аристократический у них бюст», — вздохнул Петр Петрович, невольно опуская глаза. Он давно уже не видел дам и теперь с робостью поглядывал на кружевные рукава и оборки. У него даже мелькнула мысль: «Не поцеловать ли ручку? А то, может быть, послать воздушный поцелуй?» Он искал глазами балюстраду, на которую можно было бы картинно опереться рукой. Но княгиня предложила кресло.
— Простите, месье, — сказала она, усаживаясь сама напротив Петра Петровича. — Мы с вами кажется где-то встречались в обществе… месье?.. — Она выжидательно на него посмотрела.
Петр Петрович поднялся с кресла:
— Разрешите представиться, мадам. Петр Чубиков. Мой лимузин к вашим услугам. — Он хотел коснуться шляпой земли, но вспомнил вовремя, что шляпа осталась в прихожей. — Я от маркиза Хитомуры, — поклонился Петр Петрович. — Имею честь доложить: важнейшие политические события разыгрались нынче по телеграфу.
— Переворот? В России?
— Нет, на Аляске, — ответил Петр Петрович. — Решено всех русских эмигрантов переселить на Аляску.
— Боже, какой ужас! — прошептала княгиня.
«А ведь могут упасть в обморок, — опасливо подумал Петр Петрович. Ему вспомнилось из романа, как графиня Изабелла, слабо вскрикнув, упала на руки кавалера Христофа. — Не удержу на руках… Уж очень у них пышные формы», — окончательно испугался Петр Петрович. Но тем не менее он решил высказать все до конца, если бы даже это угрожало ему самыми неожиданными последствиями.
— Мадам! — И Петр Петрович на всякий случай расставил руки. — Приготовьтесь услышать самое худшее. Амманулла не может быть русским императором, мадам. Амманулла нас обманула.
— Да разве его вообще выбирали? — удивилась княгиня.
— Выбирали, — почему-то сказал Петр Петрович, хотя он не был в этом твердо уверен.
Княгиня сдвинула брови.
— Мы здесь в Берлине ровно ничего не знаем. Послушайте, месье Чубиков… Вы непременно должны сделать доклад в нашем Высшем Совете… Вы должны будете информировать нескольких ответственных лиц. Кстати, вы никому еще об этом не говорили?
— Только китайскому богдыхану, — сказал Петр Петрович. — Но богдыхан всецело за нас.
И вдруг каким-то толчком отдалось у него в мозгу: «Нет здесь Эсмеральды… Нет ее здесь. А ежели здесь нет, то, может быть, встречу на улице?..» Он заторопился, отступая к дверям, почти забыв состроить подходящую улыбку.
— Мадам, я удаляюсь, — пробормотал Петр Петрович. — Неотложные дела ждут моего присутствия. (Последняя фраза была целиком заимствована им из романа.)
— Нет, погодите секунду, — удержала его княгиня. — Во вторник у нас будет заседание. Приходите обязательно к восьми часам вечера.
Петр Петрович выдавил на лице нечто вроде светской улыбки. С той внезапной стремительностью, какая выработалась годами, душа его уже летела навстречу новым, все новым призракам, среди которых, он знал, было одно лицо — блистательный выигрыш всей его жизни. И, очутившись на улице, он пошел, внимательно оглядывая прохожих, готовый предстать (как проносилось у него в мечтах) перед долгожданным чудом. Но чудо ускользало. Чудо приманивало и ускользало. Оно явилось внезапно с берегов Балтийского моря, уже под осень, когда на мокром берлинском асфальте лопались со звоном мутные стекляшки дождя.
VI. Прекрасная Эсмеральда
Первый же доклад Петра Петровича в Высшем Совете создал ему если не имя, то, во всяком случае, популярность.
— Очаровательный господин! — воскликнули в один голос дамы.
Петр Петрович расточал улыбки, кланялся, картинно шаркал ножкой, — словом, цвел всеми своими порами. Образовалась комиссия по исследованию природных богатств Аляски, разрабатывался детальный план всеобщего переселения туда русских эмигрантов и уже намечались кандидатуры губернаторов и вице-губернаторов во вновь открываемые губернии. Петра Петровича пригласили даже на платную должность в одну из таких комиссий, и он сидел теперь у заваленного бумагами стола, посвежевший и приодевшийся, в костюме шоколадного цвета, с галстуком парижской марки.
— Я, милостивый государь, весь к вашим услугам, — неизменно говорил Петр Петрович каждому новому посетителю.
Но так как говорил он вообще мало и кратко, его считали весьма хитрым и дельным политиком.
— Это дипломат! О, это дипломат! — восхищались мужчины. — Уж будьте уверочки! Государственная голова…
А в государственной голове Петра Петровича рождались тем временем новые планы, как найти единственную из всех — Прекрасную Эсмеральду. Прежде всего он решил поместить объявление в русских эмигрантских газетах. И когда, наконец, такое объявление появилось, объявление, возвещавшее о том, что солидный господин сорока пяти лет ищет Прекрасную Эсмеральду и что следует отвечать письменно по адресу poste restante[30] на имя кавалера Христофа, Петр Петрович погрузился душой в трепетные и сладкие ожидания… Над городом шло лето, попахивая бензином и кондитерскими, позвякивая пустыми трамваями, жаркое и душное лето тысяча девятьсот тридцать второго года. Петр Петрович гулял в Тиргартене, на этот раз в котелке, убедившись воочию, что в Западной Европе цилиндры носят только президенты и их кучера да еще агенты похоронных процессий.
«Теперь и графа не отличишь в жалкой толпе», — недоумевал Петр Петрович. Когда-то, в Константинополе, ему казалось, что вся улица полна князьями. То был счастливый момент неведения, когда он только что сошел с корабля на берег и вдруг в первом же переулке увидел двух элегантно одетых князей. Но на следующей улице число князей увеличилось, оно возросло до сотен и тысяч, словно весь город был в полной их власти… Ах, Константинополь обманул не одного Петра Петровича…
Иногда, гуляя в парке, он садился на скамью отдохнуть в уютном и тенистом местечке, где еще веяло началом двадцатого века, где было бы вовсе не странно встретить бородатого господина или важную даму, свирепо ощерившуюся лисьей горжеткой, проносящую на полях соломенной шляпы зоологическую красоту тропиков. Здесь, так же, как мы, улетал Петр Петрович мечтами назад, в далекое прошлое, вдруг возникавшее отдельным уголком, каким-нибудь скворешником с распевающими на нем скворцами, одним каким-нибудь запомнившимся раз навсегда закатом, весенним днем с флейтами иволг или краем старой ограды… И он не сознавал, что улетает в юность, он связывал эти воспоминания с первыми мечтами об Эсмеральде, как будто и закат, и скворешник, и ветка цветущей яблони были лишь фоном, по которому прошла она, молитвенно сложив ладони.
«Дождусь ли корреспонденции?» — нетерпеливо думал Петр Петрович. Он заходил на почту чуть ли не каждый день, возбуждая в чиновнице, ведающей restante, непритворное любопытство.
Завидя издали лысого и любезного иностранца, она сочувственно ему улыбалась, показывая движеньем головы, что нет еще для него писем, может быть, тоже принимая Петра Петровича за обедневшего барона или графа.
И в тот день, когда произошло чудо (это был осенний денек, насквозь прокуренный туманом), Петр Петрович пришел, как всегда, в обычное время. Знакомое лицо улыбнулось в окошке.
— Ja, ja![31] — закивало оно. — О, ja! Sie haben einen Brief…[32]
И от неожиданности Петр Петрович ощутил в ногах ту детскую, казалось, навсегда забытую шаткость, с которой когда-то вступал на жизненный путь, в виде бумажного петушка с высунувшейся из панталон рубашкой.
— Ja, ja, — улыбаясь, кивала дама.
В глазах у Петра Петровича пошли огненные круги. Вместе с штемпелюющим пакеты худым и горбатым немцем штемпелевало без умолку собственное его сердце, и стенные часы покатились куда-то в пространство, смиренно помахивая хвостом. В руке у Петра Петровича лежало, наконец, письмо, письмо от Прекрасной Эсмеральды, адресованное четко и ясно: Берлин, poste restante, кавалеру Христофу. С трудом удерживаясь, чтоб не распечатать его здесь же, он поспешил в городской парк, почти налетая на прохожих, купив машинально у подвернувшейся на перекрестке цветочницы полуувядшую чайную розу.
Наконец он очутился в парке, в своем излюбленном уголке, где, обанкротившееся за ночь, лето разбросало по скамьям вороха поблекших купонов. Сквозь облетевшие деревья акварельно проглядывало небо. Петр Петрович сел на скамью. Руки его дрожали, и ему не сразу удалось распечатать конверт. Но и распечатав его, он не решался читать, весь охваченный благоговейным трепетом, почти что страхом… Ведь это, поистине, чудо, то, что она сама ему написала… Отогнув, наконец, край письма, он робко прочел последнюю строчку: «…приеду лично. Целую заочно. Эсмеральда». Это «целую» пронзило его, как удар рапиры. Его, Петра Чубикова, целует Эсмеральда, Прекрасная Эсмеральда, любовница графа Петро де Кастельяна, та дева, из-за которой едва не погиб Христоф. И она заочно целует… И она лично приедет… Петр Петрович переживал блаженнейшие минуты. Потом он прочел все письмо от начала до конца… «…двадцатого октября, — писала Эсмеральда. — …и вы навестите меня в гостинице… Я, впрочем, еще сообщу открыткой…»
Она писала теперь из Ревеля, где у нее оказывается была большая квартира, состоящая из пяти комнат и со всеми удобствами. «Должно быть, в замке живет», — подумал, читая, Петр Петрович. В заключение она целовала его заочно, и это одно понимал теперь Петр Петрович, слишком взволнованный, чтоб вдаваться в подробности, это одно — то, что она целовала. И тут он испуганно вспомнил: «Надо будет побрить усы». Неделикатно целоваться с усами. Он рисовал себе картину встречи, галлюцинируя наяву, почти улавливая в шорохе деревьев прерывистый шепот влюбленных. «Мадам, я весь к вашим услугам…» И потом, упав на колени (на левую коленку, чтоб не забыть), он преподнесет ей чайную розу. А дальше все было сплошное головокружение и уж конечно любовь до гробовой доски, как в том увлекательном романе… Иногда, сидя у себя в канцелярии над грудой бумаг, он в запотевшем и мутном окне отгадывал рисунок полузабытой обложки: тонкий овал лица, черные локоны, вишневые губы и полукруги длинных ресниц — всю красоту ее светского облика.
«И надо будет узнать, что вообще она кушает… Ежели, например, кушает ананасы, то следует запастись… А может быть, только крем-бламанже?..»
Он даже осунулся и побледнел за эти дни, предшествующие ее приезду. Потом неожиданно, задолго до предполагаемого срока, получилась открытка.
Петр Петрович совсем обезумел: Эсмеральда в Берлине! Эсмеральда в отеле Бристоль! Он вдруг заколебался: не следует ли явиться во фраке? Пожалуй, во фраке можно будет сойти за барона… Но на фрак, увы, ему не хватало денег. У него был только белый жилет и атласный галстук…
К шести часам он был уже одет и выбрит, с попархивающей у подбородка атласной бабочкой.
Эсмеральда ожидала к семи. Берлинское небо хмуро затянулось дождем. В мокрых, похлюпывающих, позванивающих каплями улицах на тонких чугунных стеблях распускались желтые розы. Наполированный до блеска асфальт повторял отражения фонарей, раскачивая их взад и вперед и вдруг затушевывая в дымном ветреном набеге. Негритянским джазом барабанило в водостоках. Сквозь прописные линии дождя корчились под зонтиками идущие мимо люди. И вот наконец Петр Петрович отыскал глазами скромную вывеску отеля Бристоль, повисшую где-то в воздухе разноцветным лампионом. Здесь он остановился: у него от волнения подкашивались ноги. Ведь в этом доме он увидит… увидит… И неловко, бочком он пролез в вертящуюся дверь… Иной, светлый и теплый мир заструился розовыми обоями, плетеными креслами, пальмами и коврами, шаловливо пропищал калорифером, и вдруг все застыло в дрофиной бороде сидящего в углу важного швейцара. Петр Петрович снял котелок. Уютно пощелкивали часы. За деревянной перегородкой с голубых вершин Пиренеев скатывалась вниз на лыжах рекламная красавица в белоснежной фуфайке. Швейцар глядел на Петра Петровича, корректно похрустывая газетой.
— Guten Abend[33],— сказал Петр Петрович. — Здесь есть одна дама из Ревеля… Eine junge Frau…[34] И я хотел бы увидеть лично…
— Frau aus Revel?[35] — спросил швейцар, не совсем понимая Петра Петровича.
— Из Ревеля, — обрадовался Петр Петрович и тут только вспомнил про чайную розу, которую небрежно мял в руке.
— Господин, вероятно, еще не знает, — сказал швейцар, чуть понижая голос. — Даму из Ревеля сегодня утром арестовала полиция. — Он подмигнул глазом. — Фрау была из таких… понимаете? Из международных… Хе-хе… Она охотилась на мужчин…
Петр Петрович легонько вскрикнул:
— Эсмеральду арестовали!.. Эсмеральду увезли!..
Он стоял, как будто его пронзили шпагой, пошатываясь, с остекленевшим взглядом. Эсмеральду… Его любовь!.. Вихрем возникли и побежали мысли: «Если арестовали, то надо сейчас же освободить, спасти… послать погоню. Быть может, лучше всего обратиться за помощью к какому-нибудь графу. Но как узнаешь в толпе, как отличишь? — с отчаянием подумал Петр Петрович. — Все, все теперь в котелках, и каждый похож на графа. — Внезапно мелькнула догадка: — Могут заточить в монастырь… Уже раз было заточили. И тогда спас Христоф… Нельзя терять ни минуты…»
Он стремглав бросился к выходу. Костяной дробью прошел ветер по скользким булыжникам на тротуаре. Сбивало вбок, хлестало дождем и ветром. В щелях и скважинах журчало, урчало и клянчило — выклянчивало спасение. Над фонарем сыпали из решета. В том месте, где на мостовую ложился алый луч рекламы, бежала полоска воды с ярко-красными, лопающимися пузырьками… И вместе с сыростью, с осенним мраком в душу Петра Петровича входило отчаяние, ширилось там и росло, вырастало с боков огромными домами, провалом улицы, по которой он бежал, не думая вовсе о направлении. Прохожие шарахались в сторону, по-черепашьи оглядываясь назад. Какой-то толстяк, на которого он налетел в переулке, закричал тонко и протяжно, как в любительском хоре. Организовывалась погоня. Посвистывая на бегу, тяжело переваливался полисмен. Акулами сплывались уличные зеваки. Собиралась толпа… Пробежав сквозным пассажем, Петр Петрович вдруг очутился на фиолетово освещенной площадке у входа в кинематограф и здесь споткнулся, упал, но тотчас же поднялся на ноги, весь фиолетовый, будто его окунули в чернильницу, а вокруг уже толпились фиолетовые дамы и мужчины, разглядывая его с фиолетовым недоумением. Фиолетовый полисмен подходил, как индюк, пофыркивая носом. Тогда, опершись рукой на колонну, Петр Петрович обвел толпу ищущим взглядом. Он искал графа. В плотной стене пошатывающихся котелков и шляп он пытался найти хоть один аристократический облик, но видел круглые лица, лоснящиеся и жирные, усмехающиеся рыбьими губами, похожие на фиолетовых мертвецов. И вот, наконец, что-то иное… Худое лицо с лошадиным оскалом. «Должно быть, герцог», — подумал Петр Петрович. Он снял котелок и раскланялся. В толпе дружно и весело заржали.
— Милостивый государь! — закричал Петр Петрович по-русски. — Они ее арестовали!
Потом, с внезапным вдохновением, он быстро и витиевато заговорил о своей любви к Прекрасной Эсмеральде. С самим собой он вспоминал теперь зеленые русские весны, захолустный закат с кегельными верхушками колоколен, зубчатые короны деревянных заборов, за которыми впервые проступило ее лицо, и те дороги за городом, где он бродил, слушая жаворонков и удодов, русские дороги, косогорами подкатывающие к небесам. Он видел пригорок и фиолетовую мельницу на нем, помахивающую крылами, один какой-то день, ясный и тихий, когда, почти задыхаясь от сладких предчувствий, он ожидал за околицей возможную аристократку.
И об этом нельзя было рассказать никакими, никакими словами, он только путался, только сбивался и вдруг заплакал, прикрыв лицо ладонями. Потом, очнувшись, он снова стал умолять.
— Можно послать погоню, герцог, — просил Петр Петрович. — Можно перехватить их на большой дороге… И ежели мне дадут шпагу, герцог, то я весь к вашим услугам.
Он просил, он умолял вернуть ему Эсмеральду. Но полисмен уже взял его под руку, а с другой стороны подходил сам герцог, и они оба повели его к автомобилю. Толпа раздвинулась. Зашумел и запыхтел мотор. Город повернулся освещенной панорамой, замелькал мутными бусинками фонарей, обнажая и закрывая площади, отгораживаясь серыми домами, и потом все ухнуло в темноту, качнулось ветвями, мягко прошелестело и остановилось у странно знакомого дома. «Да ведь это салон, наш салон», — удивился Петр Петрович. Вот калитка, раскрывающаяся вовнутрь, освещенная теперь ацетиленом, и коридор, гулко повторявший их шаги, и, наконец, рыжая борода доцента, мелькнувшая на повороте.
А из уборной, пошаркивая туфлями и придерживая рукой спадающие вниз брюки, вышел худой и высокий господин, тоже странно знакомый («Должно быть, аристократ», — подумал Петр Петрович), и тут же он узнал бледное лицо маркиза Хитомуры.
— Амманулла обманула, — шепнул, проходя, маркиз.
— Обманула, — как эхо откликнулся Петр Петрович.
Он хотел отвесить галантный поклон, но рыдания подступили к горлу, и он ограничился жестом, выражавшим полное отчаяние. Трудно было соблюсти этикет в такую минуту.
Рассказы
Роман с сапогами
«Вот так сюжет! И выдумает же такое! Даже смешно… Роман с сапогами…
Нет, Иван Иваныч! Куда уж нам теперь. Где уж.
Нынче от литературы иного и не жди…»
«Ругайте», — подумал я.
А все-таки мой роман самый правдивый на свете.
1
Это были настоящие длинные офицерские сапоги, со шпорами на каблуках и с вырезными отворотами.
Денщик офицера, жившего в нашем доме, только что их вычистил и поставил для просушки у стены в палисаднике. Я уселся на корточках поблизости и, не отрываясь, смотрел на их черный глянец. Смотрел вожделенно и с завистью.
«Вот так сапоги! — думал я. — Ах какие сапоги! И притом самые настоящие».
Мне было уже около семи лет, и немудрено — вещи военного обихода интересовали больше всего на свете.
— Эй, малец! Подь сюда! Да иди, не бойся.
Сквозь прутья редкой ограды увидал настоящего большого солдата в серой шинели и с голубой фуражкой на голове.
«Неужели это он со мной говорит?» — подумал я, замирая от радости, и, вскочив на ноги, подошел к забору.
— Ты молодчага, парень, — сказал солдат. — Сразу видно, что будешь военным… Есть у тебе это, братуха, в шагу.
«Еще бы», — подумал я и покраснел до ушей.
— Ты, конечно, видишь — вон там сапожки стоять господские, — продолжал солдат. — А надо тебе сказать спервоначалу, что я есть, стало быть, сапожник.
Солдат важно подбоченился и закрутил коричневый свой, прокуренный, колючий и длинный ус.
— Так вот, брательник, эти самые сапожки их благородие заказали мне починить. Только господин поручик, я знаю, сплять. Не годица их будить — осерчають. Что, думаю, когда бы панич мне их сюда принес?
Миг — и я уже у цели. В руках чувствую мягкость их кожи… Даже не верится как-то, что я их только что держал. Солдат ухмыльнулся и поблагодарил.
— Ох, молодчага! — сказал он на прощанье. — Прямо Скобелев, накажи меня Бог!
А через полчаса, когда вышедший во двор денщик не нашел сапог на месте, в доме поднялась паника.
— В дисциплинарный батальон!.. Запорю! — кипятился выбежавший в одних носках поручик. — Сгною на гауптвахте!.. Отдам под суд!
И когда выяснилось все дело (отец сначала порол, а потом уже сажал в кладовую), когда остался я один, в темноте, на груде сваленной в беспорядке старой комнатной рухляди — слезы потоком брызнули из глаз и в первый раз поколебалась детская вера.
Вера в людей и в людскую правду.
2
И вот у меня собственные сапоги, такие же, как у солдат, остроносые и с высокими голенищами.
Сегодня я их в первый раз надел — сегодня вступительные экзамены.
В маленьком скверике, напротив гимназии, отец усадил меня на скамью и напоследок стал экзаменовать.
— При ком крестилась Русь? Опять не знаешь? Смотри, чтобы я тебе сейчас же не надрал уши!
Я гляжу на кончики сапог и думаю: «Зимой хорошо будет в таких вот на коньках кататься…»
— Тэкс… Теперь молитвы.
— «Царю небесный, — говорю я вяло. — Иже везде сый…»
Тонкие пальцы отца больно впиваются в ухо:
— А-а! Не знаешь? Не выучил?
И, наклонившись к самому моему лицу, так что я вижу побагровевшую его шею, выпирающую из узкого воротника, дергая за ухо в такт своему шипящему голосу, говорит:
— «Царю небесный»… скотина… «Утешителю»… негодяй… «души истины»… мерзавец… «Иже везде сый и вся исполняяй»… Осрамить меня хочешь, лентяй?
Острый ноготь больно впивается в ухо.
Но я терплю и сдерживаю слезы.
Ведь на ногах сапоги… Настоящие сапоги, как у взрослых!
3
Гимназия. Я принят.
В классах все странное и все поражает.
Пахнут парты свежим клеем и краской. На стене пестрая карта Америки и портреты русских поэтов.
Толстый учитель словесности Андрей Андреич косится в журнал и вызывает по фамилиям.
— Иди, — шепчет сосед по парте. — Иди же скорей. Тебя вызвал.
Пошатываясь от волнения, пробираюсь к далекой кафедре. Вблизи лицо у Андрей Андреича еще страшнее и внушительнее. Маленькие круглые глаза впиваются острым взглядом:
— Ну-с, хорошо, молодой человек. Вы вот мне просклоняйте…
Скользит глазами по черной моей гимназической тужурке и останавливается на ногах:
— Вы вот просклоняйте… Ну, скажем, сапоги.
— Именительный — сапоги, — говорю я, бледнея. — Родительный — сапогов…
— Довольно. Не знаете. Очень плохо. Да, очень плохо.
— Сапогей, — бормочу я срывающимся голосом. — Дательный — сапогам…
— Довольно. Садитесь, — холодно говорит Андрей Андреич. — Для первого раза ставлю вам двойку. Следовало бы сразу единицу закатить.
«Сапогей… сапогов… — думаю я, усевшись на место. — Сапогами… о сапога… гах».
На темной полированной поверхности парты вижу сквозь пальцы белое пятно собственного носа. Слезы одна за другой падают вниз, скользят по лицу и останавливаются на подбородке.
4
«Милый читатель! Любили ли вы когда-нибудь до самозабвения и безумства? Спешили ли вы на свидание в тихий полночный час, когда все спит — и человек, и зверь, и птица, а Бог один величаво сотрясает ризу…»
Впрочем, этот кусочек из Гоголя. Но ведь лучше Гоголя и не опишешь.
Знаете ли вы сладость первого поцелуя? Голова кружится целую неделю. Вы бредете по улице, никого не замечая. Вы в тумане, и вокруг вас туман.
— Ав! Ав!.. Ава-ва-ва-ва!..
— Сударыня! Простите! Прошу вас… Ей-Богу, нечаянно… Я, кажется, отдавил вам ногу…
Вы вежливо снимаете шляпу и с разгону наталкиваетесь на телеграфный столб. В ушах звенит тысячью колоколов: бом, бом, бом!..
О, музыка любви! Ничто не в силах заглушить тебя.
А потом студенческая столовка. Задумчиво размешиваете вы в тарелке супа десятую ложку соли.
Потом наливаете из стоящего рядом графина полстакана уксуса. Вы пьете медленными глотками и думаете о ней. Вы думаете о ней…
В таком состоянии пришел я к любимой девушке.
— Ты… — сказала Любочка, покосившись куда-то в сторону. И вдруг, взвизгнув, бросилась ко мне на шею. — Ах, как хорошо, что пришел! Милый! Я сегодня совсем одна… Тетя ушла на целый день к Лузиным.
И, положив мне на плечо руку, тихо и значительно пропела:
Не уходи, не покидай, Ты видишь, я совсем одна.Я обхватил ее обеими руками и исступленно стал целовать.
И вдруг я увидел…
Рядом с кроватью из-под дверной портьеры выглядывали наполовину скрытые сапоги. Они стояли носками наружу… Большие, мужские, офицерские сапоги.
Потом один сапог медленно пополз в глубь оттопыренной портьеры.
— Сапоги! — вскричал я в диком ужасе. — Сапоги!
Лицо у Любочки вдруг презрительно сморщилось, а в глазах появился незнакомый мне холодный огонек.
Вне себя я выбежал на улицу, задыхаясь, вошел в чью-то темную подворотню и до глубокой ночи простоял, прислонившись к сырой стене.
5
— Как ты шьешь? Всю дратву хотишь мне спортить? Надоть шилом спервоначалу проколупать. И опять иголку ты не так держишь…
Мой хозяин, сапожник, так же как и я, русский беженец. В маленькой чешской деревушке мы чиним обувь — с утра до вечера стучим молотками.
— Здесь тоже латку поставить, Мефодий Иваныч? — спрашиваю я, протягивая сапог.
— Нет. Ты лучше холявы натяни на колодку.
Мефодий Иваныч курит свою излюбленную носогрейку и говорит:
— Был у мине парнишка один в подмастерьях. Земляк мой, значит, из Адеса. Ах и шил же он, стервец! Прямо не руки — золото. Бывало, так отделаить рантом штиблет или, скажем, сапожки… Глянешь — на удивление. Ровно писатель какой, истинное слово!
Я слушаю, постукивая молотком, и грустно думаю: «Нет, не научиться мне этому делу. Не научиться. Здесь действительно нужен талант».
И я ухожу от сапожника.
Ночую на бульваре в Праге, голодаю и пишу роман. Огрызком карандаша на обрывке бумаги я изображаю жизнь богатого графа, влюбленного в игуменью монастыря.
«У нее были синие, синие глаза, как небо, и высокая упругая грудь… Заходящее солнце косыми лучами освещало стены монастыря… Падал белый пушистый снег.
— Граф! — сказала игуменья. — Милый граф! Я вас ужасно люблю…»
Да, роман был хорош. Я это почувствовал сразу.
В редакции «Чужими путями» просили наведаться через неделю.
С бьющимся сердцем переступил я порог редакции в назначенный срок. Толстенький редактор поднялся навстречу.
— А… вы… — любезно сказал он. — Вот хорошо, что зашли.
Я торжествующе взглянул на редакторского секретаря, ехидно ухмылявшегося в кулак.
— Только вот, к сожалению, не подошло. К нашему журналу не подошло.
Редактор мягко взял меня за пуговицу и, словно извиняясь, кротко заглянул в лицо:
— Сцена любви у вас великолепна. Это бесспорно. Но вот в деталях у вас много неясностей… Вы, например, пишете: «Она с любопытством оглянулась и с удовольствием выпила бокал вина». Или вот это место: «Сапоги у него были поношенные, как старая, сморщенная пароходная труба». Согласитесь — сапоги и пароход вещи, так сказать, несравнимые.
Я поклонился и, пошатываясь, вышел за двери. Уже на ступеньках лестницы услыхал ядовитый смешок редакционного секретаря:
— Хе-хе! Тоже романист нашелся… Ведь сапог, Пимен Григорыч, а? Как ваше мнение?
— Не сапог, батенька, а целое сапожище, — сказал редактор. — Целое сапожище!
Я упал на первую же скамью, подвернувшуюся за углом у садика, и, ничего не замечая, уставился глазами в дальнюю неопределенную точку.
Так окончился мой роман с сапогами.
* * *
Любезный читатель! Опустимся на четвереньки.
Ляжем прямо на землю.
Вот так.
Теперь смотрите. Прошу вас.
Видите, какой неистребимый, какой беспредельно дремучий лес лакированных и нелакированных сапог?
Вы улыбаетесь?
Вы заметили несколько пар босиком?
Боже мой! Какие-нибудь единицы.
Даже по пальцам пересчитать можно:
Лев Толстой, Будда, Данте, несколько святых и два-три пропившихся солдата… Дюжина греческих поэтесс. Диоген и Петр Великий, спасающий матросов…
Но ведь миллионы сапог вокруг!
Что? Шутка?
Миллионы сапог, дорогой читатель!
Чародейный плес
I
Пришел Егор с войны, с японской, инвалидом, калекой. Встретила жена хромого, залилась слезами. А сынишке, Миколе, о ту пору девятый годок пошел. Стал Егор работу какую глядеть — видит, за царем служба пропала, надо самому мозгами пораскинуть, как там и что. А тут господин один подвернулся знакомый, — когда-то Егор ему сад перекапывал, — помог с прошением, все, как полагается, по закону. Получил Егор место будочника на шоссе в северной Таврии. Перешел в казенную хату, понемногу завел хозяйство — благо корму для скота сколько влезет, да и скот, можно сказать, невзыскательный: две козы и десяток уток.
Хата стояла в степи, верстах в десяти от ближней деревни. Кругом желтели пески — кучугуры. Круглый год гулял по ним ветер, гнул шелюгу — вербу низкорослую, подвывал сердито и хмуро.
Приезжали к Егору охотники — сразу за хатой начиналось болото. Гибель водилось на нем уток и куликов всякого сорта, а по осени в густом очерете частенько садились гуси. Полюбился Егору один из приезжих — Корней Васильевич Жмыхин. Господин был хоть куда приятный, а уж выпить любил — Господи, твоя воля! Бывало, только приедет, сразу на стол баклагу с водкой.
— У вас, — говорит, — Егор Никанорыч, только и отдыхаю. Приятные, — говорит, — здесь окрестности.
А подвыпив, как полагается каждому честному человеку, лез целовать, обнимал и даже нередко плакал.
— От чего бегу? — говорил. — Куда устремляюсь? Какие передо мной гориз… горизонтальные перспективы?
И, стукнув по столу кулаком, так что подскакивали со звоном стаканы, свирепо сдвигал рыжие свои брови.
— От жены бегу, Егор Ник… Никанорыч. От жены своей, гадюки, будь она трижды проклята!
Долго держали друг друга в объятиях Егор и Корней Василии. Егор, впрочем, больше из человечества: чего же не обнять хорошего господина?
Обнимает, а сам глазком в окно по двору: «Квочка, кажись, в огород забралась, стерва».
И целовал Егор старательно: норовил прежде чем чмокнуть, утереть нос и бороду рукавом холщовой рубахи.
Потом шли спать. Егор на горище в солому — Корней Василии на супружеское ложе Егора.
К вечеру подымался Корней Василии, чесал искусанную блохами спину, ходил по комнате босыми ногами, в десятый раз разглядывал висевшие на стене фотографии.
— А это кто? — спрашивал, тыча рукой на какую-либо из фотографий.
— Сродственники, — отвечал Егор. — Сестра моя, значит, Степанида, с женихом ихняим, Спиридоном.
Две напряженные фигуры дико пялили в пространство глаза, словно им перед этим поставили клизму.
— Знатная фотография, — говорил Корней Василии.
И, наклонившись, читал внизу кривые крупные буквы:
— «Вспаминай на мине парой. Сестрица ваша па гроб своей жизни Степанида».
Потом Корней Василии шел на болото, больше, как говорится, для променада. Шел с ним иногда и Микола — пристрастился парнишка к охоте, не оттащить от болота, так бы, кажись, и век вековал у воды.
Вот и надумал как-то Корней Василии: «Я, — говорит, — тебе ружье подарю. Есть у меня одностволка, шомполка. Все равно без дела валяется».
С той поры и началась для Миколы волшебная жизнь, прямо-таки не жизнь, а малина.
Сначала с опаской разглядывал Егор жмыхинский подарок.
«Вот, — думал, — ружо. А где же к нему обойма? И потом непорядок — винтов никаких нету в середке…. Комедия!»
Однако смекнул, в чем тут загвоздка — как порох засыпать и все, что полагается. Стали ходить с сыном на озеро, утречком, чуть свет, на перелеты. Забирались куда-либо в камыш, сидели потихоньку — ждали.
Утки налетали со свистом, поводя в воздухе длинными змеиными шеями.
— Бей! Тятька, бей! — умоляющим голосом шептал Микола.
Егор подымал ружье, целился некоторое время и вдруг спускал вниз без выстрела.
— Высоко, — говорил он. — Оченно высоко. Жаль задаром снаряд портить.
— Ах, ты! — досадливо говорил Микола. — Передний шел совсем низко. Прямо рукой достать.
Вынимал Егор табашницу, вертел цигарку, смотрел на разгоравшуюся зеленым пламенем зарю.
Кругом шумел камыш, и звонко в нем перекликались рыжие вертлявые камышовки: «Черек-чик-чик, черек-чик, чик. Чик-черек, чик-черек».
А какая-то птица, ровно заправский пьяница через горлышко, однотонно тянула: «Буль, буль, буль, буль».
— Эх-ха! — говорил Егор. — Как наяривает!
II
Время, как ветер над кучугурами, сдуло без мала десяток лет. Кто-то оплел паутиной серебряной рыжую бороденку Егора. Умерла супружница, Фекла, еще в двенадцатом, от простуды. Зато, как явор, вырос сынок Микола, стал помогать отцу на шоссе, когда размывало дорогу дождями и требовалась починка.
— Ты посиди, — говорил отцу Микола. — Сам докопаю. Справлю. Дело пустяк.
Садился Егор у дороги на камень, моргал глазами, смотрел на сына.
«Ишь, как выгнало в гору!» — думал.
Казалось Егору: вот нацепить ему, сыну, значит, бородку и прямо в него, прямо в него, в отца — портрет.
Тихо курилась степь жаркой песочной пылью.
Издали хата, казалось, горела красным кумачовым огнем черепичной казенной крыши. Шли неторопливо к обеду, надо было самим почистить картошку, сварить кулеш или борщ, а когда дичина, то и поджарить. Садились вдвоем за стол — терлась у ног старая кошка, пел за окном ветер, напруживая оборванную осину. Редко-редко по дороге задребезжит чья-либо повозка. Да и понятно — время жаркое. Даже утки в камыше попритихли, только коршуны вьются над озерами.
Как-то пришел сосед из дальней будки — тоже солдат с японской. Руку ему оторвало шимозой и от контузии до сих пор заикался, однако ж человек был хороший и компанейский.
— 3-дорово, — говорит, — молодцы. Хлеб-соль вам и всякое благополучие.
Вытащил Егор из шкапика полбутылки:
— Не побрезгуй, Иван Михалыч, откушай.
Выпил гость, крякнул, как полагается, и говорит:
— С войной вас, Егор Никанорыч, проздравить следует.
Вскинул Егор на соседа рыжеватые свои узкощельные глаза:
— С войной? Это, к примеру, кто же воюить?
Закрутил Иван Михалыч усы левой рукой — вместо правой рукав болтался:
— Люди говорить, что германец наседаить. Говорить, мобилизация для парней назначена.
«Мобилизация», — как эхо пронеслось в голове Егора.
И с той поры и днем и ночью звучало в тишине страшное это, тягучее слово. А тут и бумага пришла из волости: всем молодым людям, которые, значит, рождены в девяносто шестом и пятом, пожалуйте в воинское присутствие.
Заплакал Егор, отправляя сына в дорогу, и долго стоял, глядя вслед, пока не скрылся Микола за поворотом у черного акациевого леска.
«Дождался работника, — думал Егор, — можно сказать, товарища, и вот отнимают».
Пусто стало вокруг, неприветно. Только теперь заметил, как шумит-гудит ветер по кучугурам, пригибая к земле лозу. А над песками, над степью, с той стороны, где море, уже ползут черепашьи стада тяжелых осенних туч.
Видит Егор — бумажку прибило ветром к кусту, должно быть, в шарабане кто дорогой снедал — бумажка была сальная, замазанная… Поднял, стал читать…
«И еще по совету доктора Кауфмана кожу на лице размягчает особый крем. Что касается бюста, то для полных дам мы бы посоветовали массаж следующего вида…»
Читал Егор без всякого толка: мысль о сыне, о Миколе, гвоздем сидела — не вырвешь.
И дома у себя, в горнице, когда окропил закат багровым веником оконные стекла, долго сидел Егор неподвижный, как цапля в болоте.
Упало на землю бабье лето, заплело паутинами шелюгу на кучугурах: издали казалось — дым от цигарки стелется. По утрам над болотом в желтой осоке крякали стабунившиеся утки. Стали лететь гуси от Тендера, стал получать Егор письма.
Писал Микола, что все, слава Богу, благополучно, «а за три рубля справил я себе, тятя, новую гимнастерку, потому, конечно, произвели в унтеры-офицеры».
Ухмылялся Егор, читая: «Шустрый парнишка, гляди на подпрапорщика потянет». Только прекратились вдруг сразу письма, словно бы кто заказал.
«Видно, на фронт далеко угнали, — думал Егор. — К примеру, и письма могли затеряться в дороге».
Ждал Егор со дня на день известий от сына. Каждое утро стоял у хаты, поджидая почту.
Со звоном проносилась мимо почтовая таратайка, знакомый почтарь, закутанный в рыжую бурку, только успевал мотнуть головой: «Нет, мол, сегодня. Нет ничего для вас, Егор Никанорыч».
А когда и лето прошло и заплакал над озером чибис, запер Егор на замок хату, пошел на пристань к Днепру: прослышал, что раненых привезли с немецкого фронта.
Разыскал Егор лазарет — городишко был маленький, весь на ладони. Встретил во дворе сестру милосердия, смекнул: «Надо с хитрецой, осторожно».
— Здесь, — говорит, — у вас лежит солдат Тимофеев. Сродственник он мне, значит. Нельзя ли проведать?
Усмехнулась сестрица:
— Тимофеев? Здесь их почитай что десяток.
— Я к Николаю, — сказал Егор. — Николай Тимофеев — сынок мой единственный.
Махнула сестрица рукой.
— Идите, — говорит, — наверху посмотрите, в шестнадцатый номер.
Вошел Егор в низкую белую палату. Дух от лекарства тяжелый, так и тянет чихнуть. Не выдержал, чмыхнул носом. Ближний к дверям солдат в белом холщовом халате сказал:
— На здоровье.
Подошел Егор к койке: видно сразу, что парень приветный. Голова вся марлей заклеена, а глаза веселые, смеются.
Стал про войну пытать Егор, как там и что.
Дескать, я сам старый солдат. Вот с японской еще нога поранена. Да потихоньку и спросил:
— Есть ли кто из Модлинского сорок четвертого?
Подошел тут сбоку один солдатик, оперся на костыли, слушает. Посмотрел на Егора, сощурился:
— Собственно, вы про кого, отец?
— Да вот, — сказал Егор, — сродственник у меня был в полку, унтер-офицер. Тимофеев.
Сплюнул солдат на сторону, шаркнул по плевку туфлем.
— Как же не знать, — говорит. — Знаю, Миколой звать. Хороший был парень.
Екнуло сердце у Егора, холодок прошел по спине.
— Да, сильный был парень, — продолжал солдат. — Ходили вместе в атаку. Только его-то еще летось убили.
И поплыли куда-то стены, кровати, окна.
Пошатнулся Егор, присел на кровать, к солдату.
— Эх ты! Тетеря! — выругались раненые. — Человек, может быть, отцом им приходится, а ты сразу бабах: убили. Тоже язык — балалайка!
Вышел Егор на улицу — сами ноги вынесли из лазарета. Вот и дорога белеет за околицей, через пески убегает в степь. Прошел с версту — камни справа навалены. Камни еще с Миколой возили весной. Задувал в глаза Егору ветер, забивал глаза песком, покраснели глаза, набухли. Незаметно так и до дома добрался — всю дорогу мысли одолевали. Видит — идет кто-то по шоссе вперевалку. Неужто Корней Василич? Он самый. Идет, пошатывается.
— Здравствуйте, Егор Никанорыч! Давненько не видались.
Оплешивел Корней Василич, постарел, однако лицо веселое, ухмыляется.
— Что же, — говорит, — тютють моя баба. Фи-фи!
Удивился Егор: когда бы успел набраться? Только не в натуре Корнея Василича, чтоб в одиночку пьянствовать.
— Радость, — говорит, — у меня на душе превеликая, Егор Никанорович. Баба моя, жена — фюить — опрокинулась, стерва.
— Померла? — спросил Егор и перекрестился.
Засмеялся Корней Василич.
— Прямо не верю, — говорит, — счастью. Вольный я теперь человек. Что хочу, то и делаю. Всю жизнь меня ела, гадина.
Сразу при входе в хату вытащил Корней Василич из сумки знакомую баклагу. Помолчали немного — выпили. И от водки проснулась тоска, заморгал Егор глазами, заплакал:
— Ты пойми, Василич… сынок. Убили. Один был у мене… Убили.
После четвертой заплакал и Корней Василич:
— Я понимаю. Как не понять. Ты хоть знаешь, Егор, — был сын. А я что знаю? А? Что знаю? Аборты, гадюка, делала. Всех детей погубила, ре-ребяток…
Всхлипнул Корней Василич.
— Идем, — говорит, — на озеро. Хочу, — говорит, — в природу уйти от мира.
Вышли из хаты — пошли песками. Ветер трепал шелюгу на кучугурах, свистел и подсвистывал.
— Егор, — сказал Корней Василич, — стой!
Остановились на бугре у озера.
— Егор! Ты солдат… Я о войне, Егор… Вот, видишь, птичка?..
Корней Василич вынул из сетки жалко съежившегося, давно убитого бекаса. Намокшие перья нелепо топорщились во все стороны. Несколько минут молча смотрел на птицу, потом взял ее за лапки и отшвырнул далеко в болото.
— Егор, — сказал он, наклонив голову. — Внимая ужасам войны на волю пти-тичку отпускаю, — и заплакал.
От хмеля у Егора кружилась голова. Но одна была мысль ясная и колючая: «Нет сына, нет Миколы».
Вот плес, где вместе подстерегали уток. За тем кустом шелюги когда-то делали заседку… Подошел к воде Егор — кто-то взглянул на него из озера. Кто-то знакомый, родной. И хоть торчала бородка клином — узнал. Сын это. Микола. Стоит Микола в воде, а вокруг него облака белые, даже цапля летит в синем пролете неба.
Протянул Егор руки навстречу сыну, видит — и сын протягивает. И на сыне такая же куртка зеленая, как и на Егоре. Заплакал Егор от радости и пошел напрямик к сыну. С тихим бульканием вскакивали со дна пузыри — вода поднялась выше пояса. Ближе родное лицо. Уже совсем близко. И сразу тьма хлынула в очи Егору. Только руки взметнулись над плесом и со свистом поднялась спугнутая в камышах утиная стая.
* * *
Уткнувшись головой в кусты, спал Корней Василич, тихо всхрапывая. Рядом лежала пустая баклага от водки. Покачнулась на камышине поздняя камышовка и завела торопливо над озером: «Черек, черек, чик, черек».
А от Тендера, с моря, вставали черепашьи стада тяжелых осенних туч.
Кузькина Мать
Покажу вам Кузькину Мать. Покажу ее такой, какой она была на самом деле, — сухонькая, с седеющими уже висками, с лицом, похожим на печеный картофель, с маленьким носом, увенчанным на конце бородавкой.
I
Закроешь глаза — и в памяти, как в волшебном зеркале, сами собой встают картины. Вот берег Днепра, увешанный просыхающими неводами, и бронзовые фигуры рыбаков, и вербовые леса в далеком утреннем тумане. Вот покосившийся домик под обрывом на краю Цыганской Слободки. На домике заплатанная крыша, зеленая, поросшая мхом, похожая на шахматную доску… В заплатанных штанах выбегает на улицу Кузька и кричит своему приятелю через дорогу:
— Сережка-а! Иди гулять в пуго-о-вки!
А Зиновей, по прозванию Вареник (уши у него взаправду вареники — большие, пухлые и торчащие по сторонам), недовольно высовывается в окно и кричит, грозя заскорузлым пальцем:
— Опять, байстрюки, под окнами гавкаете? Человек не спит из-за вас, голодранцы. Прысь отседова, а то я вас палкой по…
Жоффр, французский маршал, не мог быть величественнее Вареника в эту минуту.
А Кузькина Мать в это время пересчитывала в лачуге утреннюю выручку с базара. Считала в уме или зажимая по очереди пальцы — была неграмотная, что ж поделать.
— Судака на рупь двадцать семь… Пяток окуней — двенадцать копеек… Соплячихе позычила восемь копеек… Осталось рупь тридцать одна…
Кузькина Мать торговала на базаре рыбой. По утрам выходила на берег с корзиной и, поеживаясь от сырости, ждала рыбаков. Вареник подъезжал на лодке, широкоплечий и мокрый от росы, пропахший рыбой.
— А-а! Наше вам, — говорил он, соскакивая на песок и подтягивая ближе лодку. И тут же ловчился обнять или поцеловать бабу.
— Не чипляй! — деловито говорила Кузькина Мать. — Судака у тебя сегодня нету?
— Есть, любуша, есть, принчеса моя нецелованная. Есть и судак, только для вас изловили.
Вареник протягивал руку и сейчас же отскакивал с притворным испугом.
— Черт старый! — говорила Кузькина Мать, выхватывая из лодки первую попавшуюся под руки рыбу. — Так тебе прямо по башке рыбиной, накарай Господь! По сурлу твоему поганому.
Рыбаки смеялись, а Вареник плутовато подмигивал и лез в лодку набросать в корзину рыбы. И тут вставало солнце.
Лягушки поднимали такой крик, встречая зарю, какой не всегда услышишь и на бирже.
— Йорк, Йорк! — заводила самая толстая, пуская пузыри и сидя на розовой колоде.
И тогда все орали, захлебываясь:
— Букукарест, Йорк, Йорк, Девоншир-р-р…
Вода и небо горели золотом и эмалью. А на западе еще в фиолетовой дымке обозначались остовы стоящих на якоре судов.
Щербатый месяц безжизненно болтался в посветлевшей розоватой воде. Где-то мычали коровы у водопоя. Пахло смолой и рыбой. Кузькина Мать спешила на базар, предварительно наказав сыну:
— Сиди дома, бесенок, в хате. Да не забудь посыпать курам ячменя, а не то…
Кузька сопел, ощупывая в кармане осколок найденного им на улице ножа, и исподлобья глядел на мать…
И вот базар, южный базар! Посмотришь — голова закружится. Рядом с телятами и свиными пузырями раскрашенные картины — портрет Иоанна Кронштадтского, Спасение царской семьи, Гарем турецкого султана…
Кузькина Мать раскладывала на столе рыбу, и начиналась торговля.
— Бабочки, рыбка свежая! — визжала Кузькина Мать. — Ба-бочки-и! Чего хочешь, молодка? Чего захотела, милая? Сомина, бабочки, сомина!
А рядом загулявший парень играл на брымбе, купленной у цыгана, держал ее в крепких зубах, бренькая оттопыренным пальцем. Потом вынимал инструмент изо рта и пел:
Прости мине, мама, Что я в красной кофте,— Херсонские босяки Сидят на дикохте…Овдовела Кузькина Мать рано, после трех лет супружеской жизни. Покойный муж ее, Герасим, был не то чтобы человек сердитый, но, напиваясь под праздник, колотил бабу по чем попало.
— Ты мине уважь, — говорил Герасим, распоясываясь вечером у печки. — Не уважишь — припояю по ряжке. Хочу про Марусю… спевай! Мару-уся отра-а-вилась, — начинал он гнусавым голосом.
Вздыхала Кузькина Мать — тогда она была просто мать, так как Кузьку еще не крестили.
— Легай спать, Герася, — упрашивала она. — Глянь, ребенка напужал…
— Спевай про Марусю! — настаивал Герасим и начинал скрежетать зубами.
Лицо у Герасима, и без того страшное, опухшее и заросшее бородой, делалось еще страшнее. Тяжелый кулак опускался на голову несчастной бабы.
— Спевай, стерва! — кричал, наступая, Герасим. — Не хотишь уважить человека, убью…
И тогда она, дрожащая и перепуганная, каким-то хриплым шепотом затягивала песню:
Маруся отравилась, В больнице она уж лежит…Герасим смягчался: в больнице… он сам лежал в больнице. Это было в позапрошлом году, когда щемиловские хлопцы выбили ему четыре зуба и сломали ребро. Герасим припоминал белую низкую палату, больничный двор и «фершала» Порфирия Ивановича. Потом плакал пьяными слезами и засыпал.
Так сложилась жизнь, тусклая, как плавневой туман, — без просвета. Но умер Герасим — и заголосила овдовевшая баба над коричневым, почерневшим лицом:
— На кого же ты мине покинул, ка-армилец ты мо-ой, со-окол!
Три дня убивалась Кузькина Мать, а на четвертый, схоронив мужа, уже кричала по-прежнему на базаре:
— Сомина, бабочки, свежая сомина!
Некогда было предаваться горю в суетливой копеечной жизни шумного, бестолкового базара. В сбившемся на затылок платке, раскрасневшаяся и взволнованная, боролась Кузькина Мать за право на существование, как привыкла бороться с детских лет, как боролись здесь все под этим солнечным небом. Опять Акулька-гусятница задирала ее на базаре, и Кузькина Мать, размахивая руками, кричала ей, перегнувшись через лоток:
— Трастя на твою голову, голодранка! И матка твоя была шлюхой, и батько твой шибеник, гицель, и сама ты поганка, чтобы у тебе глаза лопнули на лбе!
А гусятница, еще молодая и бойкая баба, уперев руки в бока, отчитывала на весь базар:
— Безмужница, цыганка, чтоб у тебе нутро перевернулось, чтоб твоему байстрючонку дыхало отшибло!
Взвизгивала Кузькина Мать от обиды за сына и кидалась на соседку, как кошка. Обступали дерущихся баб любопытные зеваки и еще больше подзадоривали со стороны:
— Под микитки ее, под микитки! Атя-тя-тя-тя!..
Бабы визжали, хватая друг дружку за волосы, шипели гуси, вытягивая из-под лотка шеи, колыхался базар цветным кружевом пестрых платков и рубах… И так было изо дня в день — базар, драки, ругань — из месяца в месяц, из года в год. Россия вела войны, заключала договоры, в России началась революция… А на Цыганской Слободке, у берега, текла все та же суетливая жизнь.
Кузька уже был парнем, с черными усиками на верхней губе, курил цигарки, сплевывая через зубы, и часто ходил с синяками, полученными в неравном бою. И по-прежнему торговала на базаре Кузькина Мать, казалось, мало тронутая годами, — такая же сухонькая, румяная и бойкая на язык. И по-прежнему… Но здесь рассказ наш переносится в Грецию. Мы должны покинуть Цыганскую Слободку и с берегов Черного моря устремиться к Эгейскому, туда, где растут маслины, откуда и к нам привозили маслины, так как нет лучшей закуски для русского человека — выпьешь рюмку и проглотишь маслину…
II
Полковник Папандопуло получил приказ — грузить на пароход войска в срочном порядке. Полковник Папандопуло не был похож на Ахиллеса, хотя и носил это звучное имя. И уже, конечно, профиль его лица никак нельзя было назвать классическим. А третий ребенок, рожденный ему рыхлой супругой Клеопатрой, был пухлый, плосконосый и круглоглазый. И все-таки полковник Папандопуло любил семью и расставаться с ней было ему тяжело и больно.
«Подумать только — ехать в Россию. В эту дикую и некультурную страну!»
Полковник закрывал глаза и представлял себе унылое снежное поле, по которому разгуливают белые медведи и стаи лютых волков. И вот в эту страну он должен вступить с войсками. Полковник Папандопуло выругался на чистом афинском жаргоне:
— Черт бы побрал англичан! Это их затея. Они всегда носятся с колонизацией России.
Полковник Папандопуло съел без аппетита ранний завтрак, хотя это был его любимый фаршированный перец в томатах. Потом он нацепил все ордена, полагающиеся ему по чину, и отправился к генералу за инструкциями. Но используем время, пока полковник шагает вдоль тротуара, и опишем Афины. Афины, как известно, город древней цивилизации и культуры. Штурман дальнего плавания Чертопхайлов так рассказывает об Афинах:
— Отобедали мы, конечно, на шхуне, а опосля выйшел я протица по городу. Водка ихняя, греческая, конешно, слабая. Одначе зайшел я в один ресторан что-нибудь випить. Вынул я десяток драхмов, вдарил по столе кулаком. Давай, говорю, самую сильную. А тут, конешно, мамзеля присела до мине. Махаить руками, что-то лопочить, а что — не пойму. Налил я ей рюмку, конешно. Выпила она и смеется. Хотишь, спрашиваю, еще? И так я, конешно, надрался о ту пору, что, когда б не сустрел нашего повара — не добраться бы мне, конешно, на шхуну…
Полковник Папандопуло сидел между тем у генерала.
— Вот, — говорил генерал, тыча пальцем на карту. — В это место вам надлежит отправиться. Первый десант высадится в Одессе, а вы пройдете в устье Днепра. Здесь на карте отмечено. Видите?
Генерал придвинулся к карте насколько позволял ему тучный, выпирающий живот. Толстый палец с отточенным ногтем остановился на маленькой точке.
— Циканский Сло… слопотка, — прочел генерал, запинаясь. — Здесь под прикрытием французских судов вы высадитесь на Циканский Слопотка.
Полковник встал и откланялся. А через неделю… Но что было через неделю, читатель без труда узнает в следующей главе.
III
Есть такие дни на юге перед весной — мягкие, тихие, в кудрявых облаках. Когда зеленеют на старых погостах, пробиваясь сквозь мятый снежок, первые игольчатые травы. Когда в поле, на рыжей стерне виснут по соломинкам сверкающие на солнце капли. Легкий ветер дышит в лицо паутиной. Выскочит на бугорок юркий хохлатый посметюх и, задыхаясь от радости, заведет незатейливую песню. А с устья реки веет еще прозрачной свежестью прошумевшего недавно ледохода…
Вареник сидел на завалинке в маленьком своем дворике и, щурясь от солнца, прикрывал глаза ладонью. Отсюда с горы видна ему была вся Цыганская Слободка — горбатые хаты, припавшие к земле, и длинная, ведущая к реке улица. Кто-то вприпрыжку бежал по улице. Должно быть, баба. Вон в юбке запуталась — чуть не упала. Через минуту она уже стояла у ветхой калитки.
— Здорово, кума, — сказал Вареник, узнав в подошедшей Кузькину Мать.
И по заведенной раз навсегда привычке хотел обнять бабу.
— И не надоест старому черту, — сердито выругалась Кузькина Мать. — Глянь лучше на речку, безголовый. Чертов новых встречать надо.
Вареник разгладил рукой белую бороду.
— Чертов? Опять хранцузы никак? — спросил он.
Кузькина Мать стянула на шее углы развязавшегося платка и пожевала губами.
— Ась? — сказал Вареник, теряя терпение.
— Черты, как есть, черты, — не выдержала, наконец, Кузькина Мать. — И шапки у них на головах рогатые, ей-ей. Только не по-хранцузски говорять. Хранцуз, той завсегда: «Бонжур, мармелад…» А эти как-то по-чудному. Пантюшка-сапожник говорить, что греки. Говорить, четыре парохода пришло с Адеса.
Вареник собрался уже было ввернуть острое слово, одно из тех слов, на которые так щедры днепровские рыболовы, но повернул голову и стал прислушиваться. Со стороны реки грянуло несколько выстрелов. Стая ворон с шумом поднялась над обрывом.
— Стреляють, идолы, — выругалась Кузькина Мать. — Чтоб у них в печенке стреляло!
Вся Цыганская Слободка всполошилась и загудела, как пчелиный улей. На заборах повисли мальчишки. Дед Кирилл, старый и лысый, как тыква, помнивший еще турецкую войну и чумаков, медленно переступая, подошел к забору.
— Дед, дай канахвет! — кричали мальчишки.
Старик улыбался той беспомощной и мягкой улыбкой, какая всегда свойственна старости. На бронзовом лице его, в подслеповатых глазах застыло спокойствие.
— Что, дед, воевать хотишь? — окликнул его Вареник.
Кирилл улыбнулся беззубым ртом.
— Мы воевали, — прошамкал он. — Турков рубали, накажи мине Бог, ровно капушту.
— Ишь ты, фартовый какой! — сказал Вареник с насмешкой. — Вот пойдем против грекосов, назначим тебе заместо енерала.
Но в это время во двор вбежала чумазая девчонка и, захлебываясь, стала выкрикивать новости:
— Соплячихинаго Ваньку заарештовали, накажи мине Бог. Соплячиха побегла просить ахвицера. А Гришку безрукого убили. На камише лежить, убитай, у берега.
Девчонка сверкала глазами, гордая вниманием слушателей.
— А вашего Кузьку, тетя, повели в город солдаты.
— Кузьку? Мово? Брешешь ты, паршивка. Кузька в плавни поехал на каюке. Еще до света поехал.
— Пускай мине холера задушить, если брешу! — закричала девчонка. — Сама видела, как зафатили его греки на речке. Его и Серегу Смехуна.
Побледнела Кузькина Мать и затряслась от подступившей к сердцу обиды. И так же, как в пылу базарной распри, замахала она руками, и полились слова бурным потоком:
— Шибеники! Живоглоты! Чтоб им, иродам, руки посохли! Чтоб ихней матке кишки натрусило! Чтоб…
И вдруг заголосила Кузькина Мать, всхлипывая и вытирая глаза краем головного платочка. А по улице уже шли солдаты в рогатых фуражках, подозрительно оглядываясь по сторонам, с ружьями на изготовку.
— Черти! — сказал Вареник и покачал головой.
IV
Признаюсь, не без трепета начинаю я эту главу. Здесь определено судьбой развернуть страницы Истории. Здесь надо припомнить давние времена, когда отважные аргонавты совершали свои буйные набеги. Мы увидим суровых воинов, потрясающих грозным оружием, зарево горящих сел, тысячи ослов, груженных богатой добычей. Да, мы увидим воинов и ослов. Но разве не то же увидел Пантюшка-сапожник ранним утром на Цыганской Слободке? Конечно, что значит для историка бесхитростный рассказ Пантюшки! Легенда, миф, не больше. Ученому историку подавай одни голые факты.
Кто первый ступил на берег, греки или ослы?
Сколько было греков и сколько ослов?
Все ли ослы высадились на берег и сколько греков осталось еще на пароходе?
Ах уж эта научная статистика! И откуда Пантюшке знать такие тонкости? Ему и без того влетело по загривку от первого же грека, ступившего на берег.
— Ты это что ж? — сказал Пантюшка, подымая с земли слетевшую шапку. — Хотишь, чтоб я тебе гляделки вышиб?.. Я, брат, могу, хоть ты и с винтом…
Но солдат прошел мимо, не обращая на него внимания. Солдат был вестовым полковника Папандопуло. Сам полковник только что высадился на берег и теперь оглядывался кругом с безразличием черепахи. Трехдневный морской переход, казалось, погасил в душе полковника всякий интерес к окружающей обстановке. Помнилось только: там, в Афинах, в уютном кабинете генерала, на желтой военной карте — точка. И эта точка называлась Цыканский Слопотка. И вот теперь он прибыл на Циканский Слопотка. Полковник Папандопуло стоял посреди улицы, не зная еще, что предпринять. Прежде всего, конечно, надо себя обезопасить на случай нападения. В этой варварской стране можно ожидать чего угодно. Полковник отдал приказание выставить по улицам пикеты. Потом он расположился в реквизированной для него хате и стал писать донесение:
«Ваше превосходительство! С вверенной мне частью я занял окраину города, именуемую Циканский Слопотка. Высадив на берег солдат и ослов, я прошел…»
Но оставим полковника заниматься служебными делами и обратимся к одному из героев рассказа — Кузьке.
Все детство Кузькино можно изобразить в трех словах — голуби, пуговицы и щеглы. Если только и вы, читатель, гоняли голубей или играли в пуговицы, если только и вы ловили щеглов — задача автора будет облегчена. Голубей узнавали по лапам, не правда ли? Ежели лапы в пуху и хвост рыжий — значит, турман, настоящий турман. Вертуны — у тех шея всегда рябая… Что касается пуговиц… Но кто же не знает этого? Есть просто метки и есть фигурные. За одну метку дают три фигурных…
Голуби, щеглы, пуговицы… Так протекло Кузькино детство. А когда подрос Кузька и вытянулся вверх так, что и Кузькина Мать должна была становиться на цыпочки, чтоб потянуть его за вихор, новые интересы заполнили существование Кузьки. Впервые стал замечать ласковые взгляды девичьи и сердце у него забилось неровным стуком. Душу охватывало неукротимое веселье, сменявшееся вдруг неожиданной грустью. Тогда Кузька шатался по улицам или шел к реке, где пахли медом зацветавшие вербы.
«Чего мне хотица? — думал Кузька. — Чего хотица?»
Но он не знал, чего ему хотелось. Он только видел одно лицо, одно только имя слышал — и было то имя самым красивым на свете: Любка. С этих же пор полюбил Кузька ходить «на кулачки» и скоро стал одним из лучших бойцов на Цыганской Слободке. Кузька дрался с увлечением, находя в драке естественный выход для клокотавших в нем непонятных и буйных сил. Пантюшка-сапожник, вечный соглядатай всевозможных событий, с восторгом рассказывал о подвигах Кузьки:
— Перестряли Кузю щемиловские хлопцы, ей пра. «Где идешь?» — спрашивают. Вижу, Кузя положил на землю сапет с рыбой, чтоб ослобонить руки. «А вам, — говорит Кузя, — какое дело, где я иду?» Тут его, конешно, и припечатали. Вдарил Кузю передний по ряжке. Кузя его — по сурлу. Он Кузю — в форточку, а Кузя его — по дыхалу. Потом уфатил его Кузя за волосы, да пикой об землю его, об землю. Вижу, юшка текеть у него по нюху. Расковырял ему Кузя плевательницу, как есть.
Да, о подвигах Кузьки говорили повсюду. Здесь, на Цыганской Слободке, ценилась еще удаль в человеке. Недаром и Любка, черноглазая дочка соседа, с каждым днем делалась ласковее к нашему герою. И кто знает? Не случись войны, развернись по иному события, не побей, наконец, Кузька греческого солдата — может быть, и нам пришлось бы показать иные картины. Тысячи писателей кончают свадьбой. А уж какую свадьбу мог бы изобразить ваш покорный слуга! С гармошкой, со скрипкой, с бубном. Где кавалеры, расшаркиваясь перед дамами, говорят сладчайшим языком:
— Позвольте вас, Манечка, пригласить на одну туру вальца…
А дамы, осыпанные пудрой, как мельничные жернова, напевают, выстукивая каблучками:
Падеспанец хорошенький танец — Он танцуется так хорошо…И вот суждено нам перелистывать грозные страницы Истории…
V
У Соплячихи был один только глаз — маленький, круглый и острый. Но и один глаз Соплячихи стоил десятка лучших зрительных труб. Уши Вареника и глаз Соплячихи заменяли на Слободке газету. Если развернуть «Таймс» того времени или «Фоссише Цайтунг», мы бы прочли краткое сообщение:
«Оккупация греческими войсками Юга России протекает спокойно».
А Вареник лукаво подмигивал и как бы нехотя говорил:
— Вчерась я слыхал в трактире, будто повстанцы объявились. Скоро грекосов погонять в море, накажи мине Бог.
И Соплячиха, кутаясь в рваную шаль, утешала Кузькину Мать на базаре:
— Видела, сама видела, вот чтоб мине не дожить до завтра! Прийшло их три человека на речку. Где здесь, спрашивают, тетя, осликосы? Это они про греков так… Скоро, говорить, тетя, ослобоним вас от осликосов.
Слушала Кузькина Мать Соплячиху и недоверчиво качала головой. Все эти дни, с тех пор как арестовали Кузьку, она бегала по разным начальникам.
— Ты, тетка, не к нам, — говорил секретарь городской управы, — ты к грекам иди. Мы теперь ничего не значим. Вся власть у греков.
— Так не виноватай же, — настаивала Кузькина Мать. — Как есть не виноватай. Пускай мине короста нападет, если Кузя первый его вдарил.
Секретарь наморщил лоб и беспомощно развел руками:
— За рыбку спасибо, тетушка, а только мы вам помочь не можем.
А в губернском правлении столоначальник Холуев даже вскочил со стула и топнул ногой.
— К-а-а-к? За большевика? Просить за большевика? Да я его!.. Да чтоб я его!..
Вышла Кузькина Мать из губернского правления совсем убитая горем.
«Нешто пойтить к грекам, — размышляла она, идя по улице. — Только как им втолкуешь, иродам? Ежели свои не хотять помочь, то что же греки!»
И решила Кузькина Мать пойти к самому их главному, в штаб:
«Попросю его как след, может, отпустить Кузю».
Показали ей белый дом на главной улице — когда-то в нем жил исправник. Колонки всякие на доме, облицовка под мрамор — подступить страшно. И сразу у ворот увидала: стоят рогатые, во всем зеленом, хуже антихристов. Хотел ей загородить солдат дорогу, опустил вниз ружье и залопотал что-то сердито и быстро.
— Ты это кому? — возмутилась Кузькина Мать. — Это ты на мине? Ах, ты, очкурок паршивый! Матку свою пужай, сопляк!
Она прошла в ворота, отстранив часового, и стала подыматься по ступенькам на парадное крыльцо.
Солдат побежал было вслед за ней, но потом раздумал и махнул рукой. Вошла Кузькина Мать в светлую комнату, оглянулась по сторонам. Сидели вокруг важные паны, у одного усы, как у кота, — должно быть, и есть начальник. Собралась было она подойти к нему, да в это время окликнул кто-то:
— Тетка! А, тетка!
Видит — подзывает ее пальцем маленький, толстенький человечек. Голова у него, как редька, и лицо безусое, все в морщинах.
— Ты, тетка, зачем? — спрашивает человечек. — Ежели по делу какому — можешь мне объяснить. Потому я здесь переводчиком.
Обрадовалась Кузькина Мать.
— Галупчик! — говорит. — Ваше благородие… Изъясни им, иродам, почто держать мово Кузю, когда дите невиноватое, как есть, вот чтоб мине паралич вдарил под светлый праздник.
Почесал переводчик лысину и как-то боком взглянул на бабу.
— Не виноват, говоришь? Гм… Может быть, оно и так. Только меньше, как за пятьдесят рублей и не возьмусь. Сердитый у них начальник — полковник Папандопуло. Гляди, расстреляет еще твоего Кузьку. Это у них, греков, скоро.
Испугалась Кузькина Мать и переменилась в лице:
— Ваше благородие! Век буду Бога молить. А ежели когда рыбки какой… Скажем, судака или осетрины…
— Ладно уж, — прервал ее переводчик. — Ты вот постой здесь, в уголке. Когда надо будет, я позову.
С тяжелым сердцем ждала Кузькина Мать, какое выйдет решение. Денег ей не было жалко. Она бы и больше дала, лишь бы освободили Кузьку.
Вынула из-за пазухи полотняный кошель и, развязав его, пересчитала деньги:
— Аккурат пятьдесят три рубля восемьдесят копеек. Хорошо еще, что захватила с собой. Завтра бы все ушло на рыбу…
В это время раскрылась боковая дверь и лысая голова переводчика закивала, приглашая войти.
Переступила Кузькина Мать порог и потихоньку перекрестилась. Комната была тихая, сурьезная. Круглые часы на стенке выстукивали: так, так! Какой-то важный пан в зеленом мундире сидел у стола и писал бумагу. Иногда он сдвигал брови, и тогда на красном лице его шевелились черные, закрученные вверх усы. Взглянула на него Кузькина Мать и подумала:
«Вот кто держить мово Кузю…»
И шевельнулась у нее мысль:
«Взять бы да выцарапать ему, идолу, зенки… Так бы вцепиться ему в чуб и по всей фатере его… по всей фатере».
Но полковник уже отложил перо и теперь глядел прямо ей в лицо круглыми своими навыкате глазами. Затараторил тут переводчик — что-то стал объяснять. Только одно слово услыхала русское: Кузька. И вдруг поднялись у полковника брови и опустились вниз усы. Закричал полковник Папандопуло, даже затопал под столом ногами.
— Уходи, тетка, — шепнул ей переводчик. — Не выгорит твое дело. Будут твоего сына судить как бандита.
Побледнела Кузькина Мать.
— Это кто же бандист, выходит? Кузя? Это Кузя, значит, бандист?
Она шагнула к столу, задыхаясь от ярости. Пестрый платочек ее развязался, и клок седеющих волос выбился наружу.
— Бандист? — кричала она. — Бандист? Сами вы здеся бандисты. Идол на идоле, напади на вас болячка! Чтоб вам языки покрутило! Принесла вас нелегкая на нашу голову, рогатых!
Кричала, не сдерживая уже накопившейся в душе обиды, машинально отталкивая тянувшего ее за рукав переводчика. Хлопнула дверь в соседней комнате, кто-то выбежал наружу. Полковник Папандопуло привстал со стула с выпученными от удивления глазами.
— Чего вылупил буркалы! — накинулась на него Кузькина Мать. — Думаешь, как грек, так нет на тебе управы? Ишь морду какую наел на русских хлебах, храпоидол заморский! Чтоб вас ветром потопило в Днепру, чертей!..
И, сложивши кукиш, она поднесла его к самому носу опешившего полковника. Потом плюнула прямо в глаза не успевшему отскочить переводчику и, отступив к двери, уже с порога плюнула еще раз.
— Ах вы мошейники! — кричала она. — Чтоб вам, шибеникам, ни дна ни покрышки!
Кто-то хихикнул за дверью. Полковник Папандопуло закрыл глаза в ожидании нового плевка. Он долго держал их закрытыми, до тех пор, пока не удалились и не заглохли шаги разъяренной женщины.
Закроем глаза и мы, читатель! Закроем их с тем, чтоб открыть при блеске ламп, на балу у русского помещика Козодоева. Это даст нам возможность начать следующую главу под звуки духового оркестра. Не правда ли, как хороши эти старинные вальсы? Какой-нибудь грек, позванивая шпорами, кружит по залу нашу русскую деву…
— Ола, — шепчет он, — Ола!
А она, вся трепещущая и счастливая, прижимается к нему и… Нет, нет, — закроем лучше глаза.
VI
— Здравствуйте, Андрей Иваныч!.. Сюда, голубчик, сюда. А-а! Петр Семеныч! Надеюсь, вы с супругой? Что?
Козодоев встречал гостей, раскланиваясь направо и налево. В ярко освещенной зале уже гремела музыка. Тощий капельмейстер, похожий на весеннего скворца, с упоением махал руками. При каждом его взмахе барабан разливался грохочущей трелью и глушил на время медные голоса устремленных в публику труб.
Лицо Луки Ильича Козодоева сияло довольной улыбкой. Еще не старое и без морщин, оно напоминало козлиную голову.
Городские кумушки уверяли, что у Луки Ильича были на голове рога. Но одно несомненно — Лука Ильич слыл первым в городе хлебосолом.
Вина же у него к столу подавались такие, что иной раз покажется, будто у хозяйки дома, как у Лернейской гидры, десятка два голов. И каждая из голов улыбается так мило и кротко, так любезно улыбается каждая из этих голов, что вы сами начинаете улыбаться… Так потчевал Лука Ильич и друзей, и недругов, каждого, кого забрасывал случай в богоспасаемый губернский город. На что уж немцы — народ, как известно, черствый и нашему русскому духу чужой, а вот и те поражались. Полковник фон-Штейберг, занявший в семнадцатом году губернский город, сказал, разводя руками:
— Ну и враги! Если все русские такие же враги, как герр Козодоев, мы, не воюя, пройдем до Урала.
А петлюровский атаман Хома Кэндюх, после запеканки в доме Козодоева и вареников с маком, воскликнул:
— Оце чоловик! Батько, ридный батько, хоть и кацап!
Жена секретаря управы, Марья Васильевна, уверяла даже, что Кэндюх в тот вечер танцевал камаринского и пел «Вниз по матушке, по Волге».
Но, ей-Богу, как-то не верится, Кэндюх украинец… и вдруг «По матушке»… Впрочем, чего не сделает хорошая запеканка!
Таким был дом помещика Козодоева, таким сохранился в памяти каждого хозяин дома, Лука Ильич, таким выводим мы его в нашем рассказе в вечер тысяча девятьсот восемнадцатого года. В этот вечер, как мы уже сказали, в зале гремела музыка. Лука Ильич распорядился, чтоб играли восточные мелодии. Он ждал к себе греков — полковника Папандопуло и его адъютанта. Между тем было уже около девяти часов вечера, а иностранные гости еще не появлялись.
Городской голова Сюсюкин, знавший отменное качество козодоевских ужинов, нетерпеливо поглядывал на часы. Наконец, улучив удобную минуту, он подошел к хозяину дома.
— Как думаете, Лука Ильч, приедут наши дорогие гости?
Шея городского головы вытянулась в ожидании ответа. Она не вмещалась в узком воротничке, и, казалось, не было на свете воротничка, способного ее вместить.
— О, да, непременно! — сказал Козодоев. — Сам полковник обещал приехать.
И Козодоев радостно ухмыльнулся. Но сейчас же сделал озабоченное лицо и, взяв городского голову за руку, отошел с ним к окну.
— Я вас хочу попросить, Никанор Никанорыч, — сказал Козодоев, наморщив лоб, — хочу попросить об одном одолжении.
Лицо городского головы выразило удивление.
— Вы у нас, Никанор Никанорыч, единственный в своем роде. Можно сказать, отец всего города…
Козодоев ласково улыбнулся.
— И вот я хочу вас просить… Скажите, голубчик, за ужином слово.
У городского головы от неожиданности выпала из рук папироса:
— Мне? Сказать слово?.. Господь с вами, Лука Ильич! Я же по-ихнему, по-иностранному, ни бум-бум!
— Пустяки! — махнул рукой Козодоев. — Говорите по-русски. Что-нибудь из древней истории запустите. Про Иракла там или Минотавра… Лишь бы, понимаете, честь была.
— Да ей-Богу, боюсь, — отговаривался Сюсюкин. — Я и мифы ихние позабыл. Кто был Геродот, не скажу сейчас, хоть убейте.
— Ах, какой вы на самом деле! — укоризненно воскликнул Лука Ильич. — Словно ребенок малый или красная дева. Ну что вам стоит, голубчик, сказать пару-другую слов. Ведь сущий пустяк!
Сюсюкин хотел было что-то сказать, но в это время по залу пронесся шепот, и в дверях появились зеленые мундиры греческих офицеров. Музыка на хорах грянула встречный марш.
Козодоев испуганно оглянулся и, увидав входящих офицеров, поспешил к ним навстречу.
— Смотрите же, — бросил он на ходу. — Я на вас надеюсь, Никанор Никанорыч…
Городской голова остался с открытым ртом.
«Вот так фунт, — подумал он с досадой, — зарезал… как есть зарезал…»
И с чувством человека, приговоренного к смерти, стал обдумывать предстоящую ему речь.
Здесь наступает момент и в нашем рассказе, когда читатель (скажем в скобках: и автор) может, хотя бы мысленно, представить себе хороший ужин. Для этого стоит только заглянуть на кухню козодоевского дома. Повар Фомич, более красный, чем раки, которых он вынимал из кастрюли на блюдо, утешал хозяйку дома — Олимпиаду Козодоеву:
— Вы, барыня, не беспокойтесь… Вы, барыня, того… не беспокойтесь…
«Пьян, негодяй, — думала Олимпиада Петровна, глядя на багровый лик Фомича. — Еще, чего доброго, цыплят пересушит или сожжет пирог».
— Какие нонче раки? — говорил Фомич, презрительно пожимая плечами. — Разве это рак? Попросю вас взглянуть… Стыдно назвать раком…
Олимпиада Петровна снисходительно улыбалась.
— Да, да, — сказала она. — Только ты старайся, Фомич. Главное — цыплят не засуши. Помнишь, как в тот раз, когда встречали французов? Я чуть со стыда не сгорела!..
Фомич что-то пробурчал, укладывая на блюдо последнего рака. Олимпиада Петровна, бывшая уже в вечернем туалете (на ней была туника из синего шелка), в последний раз оглядела опытным взглядом груды приготовляемых закусок…
— Торт у тебя какой сегодня? — спросила она, заметив жаровню.
— Известно какой, — сказал Фомич. — На грецких орехах и с ванелью.
— Хорошо, — похвалила хозяйка. — Не забудь еще селедку обложить маслинами. Греки любят маслины.
Добрейшая была дама госпожа Козодоева. Она вникала в каждую мелочь, в каждый пустяк, если только это могло кому-нибудь доставить удовольствие. Кстати, позвольте нарисовать ее портрет. Олимпиада Петровна Козодоева была в том возрасте, который принято у нас называть критическим. Впрочем, кто так называет? Заморыши называют. Какие-нибудь засушенные петроградцы. Называют из зависти, потому что Олимпиада Петровна любого из них могла бы задушить собственными руками. Это был лебедь, настоящий русский лебедь, — когда плыла она по комнатам плавной своей, величественной походкой. Даже городской голова Сюсюкин казался в сравнении с ней карликом, пигмеем. И что за формы! Циркулем не нарисуешь такие формы. Известный всему городу поэт Шепеляев даже посвятил ей влюбленные стишки:
Твои сосцы, как горные вершины, Когда их солнце утром золотит.Вот какова была хозяйка дома — Олимпиада Петровна Козодоева.
— Уж ты, Фомич, постарайся, — сказала она напоследок, покидая кухню. — Да положи поросенку в рот какую-нибудь зелень для декорации.
И она ушла, хлопнув дверью.
В зале, куда направилась Олимпиада Петровна, уже кружились танцующие пары. Адъютант полковника Папандопуло, длинный, черноволосый грек, позванивая шпорами, танцевал вальс. Сам полковник, упираясь щеками в туго накрахмаленный воротник, стоял у окна, окруженный доблестными клевретами. Лицо у полковника было чуть задумчиво, хотя он и улыбался порой, отвечая на вежливые поклоны.
В голове его роились не совсем приятные мысли. Полковник вспомнил утреннее донесение разведки. Донесение было сбивчивое и неточное. В нем говорилось о какой-то банде, о каком-то вооруженном отряде, появившемся в окрестностях города. Конечно, серьезного значения этому событию придавать нельзя. Кроме того, греческая армия самая сильная в мире, и солдаты буквально рвутся в бой, но все-таки…
И полковник нервно покручивал усы.
— Разрешите вас пригласить, господин полковник… Же ву при, месье…
Полковник Папандопуло согнал с лица задумчивое выражение. Хозяин дома, Лука Ильич, улыбался так нежно и вместе с тем почтительно, такая грация была в его поклоне, что у полковника Папандопуло невольно вырвался вздох облегчения.
— Будьте добры, господин полковник, к столу… закусить… хе-хе…
Обе руки Луки Ильича, подобно семафору, указывали в одну сторону — налево. В ту же сторону была наклонена голова, и даже левый глаз его смотрел слегка косо, в то время как правый был полузакрыт. Такая живая мимика могла бы убедить и глухонемого.
Полковник Папандопуло взглянул налево и увидел стол, сплошь заставленный графинами и закусками.
«Эге! — подумал он. — Кажется, эти азиаты любят поесть!»
И, уже не ожидая нового приглашения, последовал за хозяином дома.
— Сюда, господин полковник, здесь… То есть я хочу сказать: иси… — суетился Лука Ильич. — Позвольте вас познакомить, господин полковник. Моя супруга… собственно говоря, ма фам…
Полковник Папандопуло поклонился.
Бедный полковник! В эту минуту решалась его судьба. В эту минуту старые седовласые Парки ткали последние нити трагического узора. И мог ли думать полковник Папандопуло, мог ли он знать, как печально закончится для него сегодняшний ужин! К счастью, полковник Папандопуло вообще не любил думать.
Вид пышной дамы, сидящей с ним рядом, запах закусок и вин вытеснили из головы полковника все остальные мысли.
— Господа, — обратился Лука Ильич к своим гостям, когда все уселись за стол и лакей разлил вино. — Как хозяин дома, я, господа, подымаю бокал за наших друзей и благодетелей. Я, господа, провозглашаю тост: вив-ля Греция! Ура, господа, ура!
Лука Ильич с приятной улыбкой повернулся к полковнику Папандопуло. Дружное «ура» прокатилось под сводами зала. Когда шум несколько утих, Лука Ильич наклонился к уху сидящего рядом с ним Сюсюкина и прошептал:
— Теперь ваша очередь, Никанор Никанорыч. Говорите…
Городской голова встал. Лицо его побагровело. Он сделал рукой в воздухе витиеватый жест — нечто вроде архиерейского благословения — и, кашлянув, сказал:
— Друзья!
Потом склонил голову, искоса поглядывая на тарелку с недоеденным цыпленком, и погрузился в раздумье.
— Говорите же! Говорите! — дернул его за рукав Лука Ильич.
Но Сюсюкин продолжал молчать, как будто забыл все человеческие слова. Он только неопределенно хмыкнул и обвел стол мутными глазами. Наконец что-то похожее на мысль промелькнуло в глазах городского головы.
— Друзья! — повторил он тем же рыкающим голосом. — Кого мы встречаем, друзья? Греков мы встречаем — вот кого. А кто такие эти самые греки?
Сюсюкин опять задумался.
— Да говорите же, говорите! — беспрерывно тормошил его Лука Ильич. — Про мифологию ковырните… не забудьте…
Сюсюкин втянул в себя воздух.
— А греки, — продолжал он, — потомки православных царей. А православные цари — потомки этих самых героев… Минотавра… и еще самого Геродота…
Сюсюкин запнулся. На лбу его выступили крупные капли пота.
— А посмотрите, друзья, какие у нас в городе греческие хлебопекарни!.. Франзоли, рогалики… И сдобное тесто очень хорошее… в особенности из пеклеванной муки…
Глаза Сюсюкина остановились на декольте госпожи Козодоевой.
— Да, из пеклеванной муки, — повторил он задумчиво. — Булки на молоке, из сдобного теста.
Сюсюкин даже пожевал губами, как бы смакуя вкусное тесто. Заметно было, что он медленно вдохновлялся.
— И вот, друзья! — воскликнул Сюсюкин. — Я подымаю бокал. За кого я подымаю бокал?
Но за кого подымал бокал городской голова Сюсюкин — мы не в состоянии ответить. Речь оратора была внезапно прервана ужасным грохотом, потрясшим небо и землю. Казалось, весь город провалился в преисподнюю — такой гул прокатился в воздухе. Гости повскакали с мест и дико уставились глазами в пространство. Госпожа Козодоева, вскрикнув, упала на руки полковника Папандопуло.
Поднялся шум и переполох невообразимый. Кто-то из гостей вспрыгнул на подоконник, разбив по дороге хрустальную вазу. Городской голова расплескал вино на платье сидевшей рядом с ним девицы. В это время раздался новый удар грома, от которого зазвенела посуда и запрыгали в буфете серебряные ложки. Кто-то закричал: «Спасите!» Кто-то погасил свет, зацепив локтем выключатель. В комнату хлынула тьма. А за окном один за другим гремели удары, освещая по временам каким-то дьявольским светом лица мечущихся в ужасе людей.
И вдруг кто-то сказал: «Повстанцы». Десятки голосов подхватили: «Повстанцы!» Стало ясно — город штурмуют повстанцы. Полковник Папандопуло, раньше других понявший сущность тревоги, постепенно освободился от навалившегося на него тела госпожи Козодоевой и бросился к выходу.
Здесь была давка, как на палубе тонущего корабля. Пробившись кое-как через толпу, полковник пробежал к воротам и, распахнув железную калитку, очутился на улице. Со стороны Днепра грохотали безостановочно орудия. Где-то справа трещал пулемет.
«Ну и попался», — подумал полковник. Ему представилось внезапно лицо кричавшей недавно в канцелярии русской торговки. И щемящий ужас закрался в душу полковника.
«Здесь все такие, — размышлял он. — Попадись только им в лапы — живым не оставят».
Полковник Папандопуло побежал, задыхаясь, вдоль улицы. В темноте он натыкался на выбоины и неровности тротуара и раз чуть не упал, перепрыгивая через камень. Ночь была черная, беззвездная. Дувший с юга ветер нес далекие запахи прелой листвы и камышовой гари. И все это было чужое, незнакомое — и город, и ветер, и русское небо, и пустынная улица, по которой он бежал. Сорок семь лет и непривычка к движению давали себя чувствовать. Полковник Папандопуло остановился. Какие-то люди прошли мимо, позвякивая оружием. Полковник напрягал зрение, стараясь угадать в темноте, кто это — друзья или враги. И вдруг, при вспышке орудийного выстрела, увидал на одном из идущих греческую фуражку.
— Стой! — крикнул полковник по-гречески.
Идущие остановились. Полковник Папандопуло выпрямился и, приняв начальнический вид, приблизился к солдатам.
— Кузя, глянь, — сказал один из солдат. — Сам осликос к нам в руки бегить, накарай мине Бог!
Полковник Папандопуло в ужасе отступил назад. И в ту же минуту тяжелый кулак сбил его с ног, брызнув в глаза снопом зеленоватых и красных искр. Полковник Папандопуло потерял сознание.
VII
Эх, вечера над Днепром — синие, весенние, пропахшие вербами и осокорью!
Еще не взошел месяц, не прободал золотым рогом зеленую небесную муть. Еще бегут по воде, извиваясь, проворные медные змеи… Прислушайся! Это шумят волны. Это кукушка в часы заката звонко выстукивает над заводью давнюю твою весну. Это от верб мягкий пушок на глазах твоих и на щеках. Это от рыбацкого костра, от терпкого дыма текут по щекам слезы… Прислушайся! В прозрачном небе шорох утиных стай. Крупная рыба плеснула у берега. Кто-то затянул песню. Помнишь?..
Тишина. Покой. Днепровские ночи! Гудит над плавней водяной бык. На Цыганской Слободке красные маки окон. И вербы, вербы…
Ах уж этот вербовый цвет! Летит, летит, серебристым пухом оседает на щеках, путается в бороде… И не отряхнешь его, как ни старайся. Не отряхнешь… Эх, вечера!..
VIII
— Пропади они пропадом, арештанты! Чтоб им, рогатым, глаза полопали!
Кузькина Мать стояла во дворе у Вареника и отсюда, с горы, наблюдала кипевший в городе бой.
Цыганская Слободка была уже в руках повстанцев. Все, кто был способен носить оружие, помогали выбивать из города греков. Дед Кирилл и тот как-то приободрился, словно слетело ему с плеч десятка четыре лет. Он стоял на бугре у забора, похожий в темноте на старого днепровского водяного.
— Ты не гляди, что грек, — говорил Кирилл остановившемуся поблизости повстанцу.
— Грек, братуха, тоже храбрость имеить. Ежели ты его не прикончишь — он сам тебе в спину ножом штыванет.
— Головы им пооткручивать, гадам, — сказала Кузькина Мать.
— Чего им здесь надоть, в Расее? Мало им, идолам, своей земли? Трястя ихней матке, чтоб их хвороба извела!
Кузькина Мать не переставала ругаться, сердито сплевывая на землю. Она старалась погасить в словах жгучую тревогу за сына. Она глядела в темноту, в сторону города, где по временам стучали орудия, и сердце ее сжималось страхом.
«А что, как расстреляют? — думала она. — Что, как убьют?.. Только не такой Кузя хлопец, чтоб дался им скоро. Убегить, хоть что. Лишь бы в тюрьме не прикончили».
Свистнул снаряд где-то совсем близко и крякнул за углом, взметнув огненный столб дыма.
Вареник присел на корточки. Кузькина Мать только повернула голову, и сейчас же глаза ее расширились от удивления. Во двор входили два человека. Один из них — низенький, шатался, как пьяный, другой — высокий, подталкивал его сзади кулаками.
«Кто бы это мог?.. Да неужто?..»
И вдруг узнала.
— Кузя! — Она рванулась к сыну с неожиданной для ее лет быстротою. — Кузя! Сынок!
— Здравствуйте, мамаша! — весело откликнулся Кузька. — Здравствуйте, дядько Николай!
Кузькина Мать повисла на шее сына.
— Га-алупчик!.. Как же ты?.. Утек?.. Да как же они тебе не убили? Откедова же это ты?.. Господи, твоя воля!..
Она забрасывала сына вопросами, не обращая внимания на жавшуюся в стороне приземистую фигуру. Только оторвавшись наконец от сына, Кузькина Мать взглянула на стоявшего рядом человека.
— Это у тебе кто такой? — спросила она Кузьку. — Приятель?
Кузька хихикнул.
— Это, мамаша, я вам осликоса живого привел. Гляньте, какой красавец. Серега Смехун малость ему сопатку расковырял.
— А-а! — могла только воскликнуть Кузькина Мать. В ней снова проснулась прежняя ярость, на время ослабленная радостью встречи.
— Тащи его в хату, идола, — сказала она. — Тащи его!.. Я ему покажу где раки зимуют.
Кузька подтолкнул пленного пинком ноги, и полковник Папандопуло очутился в освещенной горнице.
Если бы полковнику показали голову Медузы, если бы сам дьявол выскочил вдруг из-под земли и стал перед ним с огненными вилами, — вероятно, это не так бы испугало его, как лицо знакомой торговки.
— О-о! — Полковник Папандопуло отступил к стене, протягивая вперед руки. — О-о!..
И в ту же минуту Кузькина Мать с визгом бросилась на свою жертву, узнав в ней ненавистного офицера.
— Командер! Ихний командер! — кричала Кузькина Мать. — Разрази мине гром, если я ему не вышкрабаю зенки! Я ему, шибенику, покажу, который есть бандист! Ах ты, паршук, холера тебе в живот! Дай только доберусь до твоего чуба!..
Но здесь кончается наш рассказ, дорогой читатель. Довольно сражений, крови, выбитых зубов и исковерканных физиономий. Все проходит, милостивые государи, — это слова мудрого Соломона. Но если лихая судьба забросит вас когда-нибудь в Афины, не попадайтесь на глаза полковнику Папандопуло. Собственно говоря, не попадайтесь ему на глаз, так как полковник Папандопуло выехал из России одноглазым. И еще Боже вас сохрани говорить при нем о русских торговках. Полковник Папандопуло даже в спокойной жизни помнит Кузькину Мать.
Микита Скрипач
I
Уж так это повелось, Бог знает с какого времени, — весной, в половодье, когда зацветала в днепровской плавне верба, прилетали краснозобые аисты и гнездились на крышах рыбачьего поселка. Стучали по вечерам клювами, стоя на вытянутой ноге, сгорбленные в закатном пламени, словно вырезанные из картона. Таков был путь: каждой весной, от желтых берегов Нила, через темные морские просторы, над рассыпанным внизу золотым пшеном гаваней, к дымным лентам Днепра — на Цыганскую Слободку. Здесь был конец пути, здесь останавливались царственные птицы и важно рассаживались по гнездам.
И каждый год весной у Микиты Скрипача, завзятого охотника и музыканта, появлялся в семье новый ребенок. Хата оглашалась писком тоньше самой высокой скрипичной ноты. Чесал в затылке Микита, жевал задумчиво всклокоченную бороденку, должно быть, из любопытства лезшую ему в рот, и говорил жене:
— Опять шлюху народила. У-у… Ева! Портянок не настарчишь девкам на пеленки…
Глядела исподлобья маленькая загнанная женщина, кутала в пестрые тряпки новорожденного младенца и по привычке, равнодушно отвечала:
— Ты рази отец? Селезень беспутнай ты, вот кто.
И тогда охватывала Микиту знакомая ему тоска.
«Пятая девка… — думал Микита. — Хоть бы раз человека произвела… Сама ведьма и ведьм распложаить…»
Доставал с полки запыленную скрипку. Заскорузлые пальцы подвинчивали тугие колки. Смычок ощупывал струны нерешительно и спотыкаясь. Но вот взмах руки — взвизгнула послушная квинта, и знакомая мелодия успокаивала душу:
Он мимо мине ехал И ручку не подал… Ах, сукин сын, Мазепа, И здрасте не сказал…В эти пьяные весны, дышавшие апрельской прелью, пропитанные смолой и вербовым цветом, манило Микиту из дому беспокойное бродяжье чувство.
— Заготовь жратву, — говорил Микита жене. — Надоть наведаться в Дамахов лиман.
И вместе с ружьем и охотничьими припасами укладывал в утлый каюк деревянный скрипичный футляр. Никогда не расставался Микита со скрипкой. Должно быть, поэтому и дали ему прозвище Скрипач.
— Глянь, глянь! — кричали мальчишки. — Скрипач на охоту е-едить!
Окружали каюк чумазые. Кто был постарше, наигрывал на зубах рукою, а младшие только сопели и пускали из носу разноцветные пузыри.
— Дядька, поеду я? Поеду я?
Заглядывали снизу в бородатое морщинистое лицо Микиты.
— Дядька, гляньте, Митька вашему утенку голову кру-утить!
— Тихо, сопляки, — говорил Микита спокойно. — Не сидайте в каюк, сопатку расковыряю…
Шумел вздувшийся от весеннего ветра Днепр, солнце поджигало белые гребешки рассыпающихся водяной пылью волн, и свежая вербовая ветка, занесенная половодьем, кружилась у берега вместе с сидящей на ней обмокшей пчелой.
— Где едешь, Микита?
Подходил сбоку Вареник, старый рыбак с оттопыренными ушами. Седую бороду сворачивало на сторону ветром, и солнце дробилось на скользкой лысине, схожей с поспевающим помидором.
— В Дамаху, — говорил Микита. — Чирят хотица пощупать!
Лукаво ухмылялся Вареник:
— Это что и говорить. В самый раз быть теперь там чиренку.
А Микита уже распускал треугольный парус и прилаживал мачту. И вот сливались вода и небо, уходили назад обсахаренные кубики Цыганской Слободки, и только синь впереди да пузатые облака. Слепило глаза солнце, отраженное водным простором, казались мухами копошившиеся на берегу люди…
И только река… И ветром доносило оборванный петушиный крик:
— …Ре-е-ку!
Микита был еще не стар годами, но лицо его, изрезанное морщинами, хранило на себе печать многих жизненных бурь и лишений. Здесь жили быстро и жадно, словно торопясь в какой-то неизведанный путь, намечавшийся по вечерам в пламени днепровских закатов. Пили ведрами водку и дюжинами съедали кавуны, раскалывая их ударом кулака и умываясь медовым соком. И у мальчишек были всегда выпуклые, вздутые животы, набитые всякой дрянью.
А по ночам, когда щедрая рука рассыпала в небе серебряные монеты и золотой ноготь месяца указывал путь дикой птице, на берегу, в прибрежных скалах, сидели, лежали в обнимку задыхающиеся фигуры.
— Сонечка! не пужайтесь… Накарай мине Бог, только для ради шутки…
Заглушенный женский смех звучал в ночном воздухе.
— Не лезь, Ванька! Ей-Богу, в ряжку плюну…
И опять смех и чей-то придушенный шепот.
Внизу шумел Днепр, качая на волнах беспредельный лунный столб, извивающийся гигантской змеей. И у хаты Вареника гудели старые вербы, такие же бородатые, как их хозяин, такие же корявые и вечно рвущиеся всеми своими узловатыми пальцами в чудесную заднепровскую даль. Выходил на крылечко Вареник босиком и в подштанниках, смотрел на реку, уже подернутую туманом. Ветер сдувал пепел с туго скрученной цигарки, и она вспыхивала ярким огоньком. Тогда освещалось кирпичное лицо с седыми, сросшимися над переносицей бровями.
«Быть завтра дождю», — думал Вареник.
А волны шумели в пенном разбеге, и, поскрипывая, раскачивались вербы…
В одну из майских ночей Микита постучал к Варенику:
— Эй, дядько Николай! Человек божий!
Прильнул к окну бородой. В горнице было темно, и только от месяца лежали еще на стене розоватые тени.
— Дядько Николай!
Шевельнулась в углу, запрокинулась белая фигура:
— Кто тама? Чего надоть?
— Чиновник пришел, — сказал Микита. — Каюка хочеть нанять.
Выкрикивал слова сквозь стекло, держась руками за ставень. Недовольно ворча, вышел из хаты Вареник. Был поздний час ночи. Месяц уже догорал в небе раскаленной докрасна подковой. Волны с шипением лизали его отраженную на воде тень и, словно обжигаясь, торопливо пробегали мимо.
— Какой такой чиновник? — спросил Вареник.
Со сна еще поеживался плечами и протяжно зевал.
— Гуляющий человек, — пояснил Микита. — И барышни с ним гуляющие, которые, значит, из институток. Просят дубивочку на троих и мине беруть для музыки.
Вареник сплюнул сквозь зубы.
— Трешницу нехай дадуть, слышь, Микита? За меньше не дам каюка. Шаландаются по ночам…
Микита замахал руками.
— Тихо, — шепнул он. — Здеся они. На мостике амурятся.
В догорающем зареве месяца темнели на отмели расплывчатые силуэты. Слышен был женский смех, и чей-то теноровый голос пытался напевать шансонетку:
Дамы, всегда я с вами… Ножки — сплошной магнит!— Пьяные в доску, — сказал Микита, понизив голос. — Барышни тоже газовые. Такое спевають, хоть и не слухай. Чистая умора.
Вареник презрительно фыркнул.
— Забирай весла, — сказал он, открывая сарай.
Через несколько минут Микита уже помогал усаживаться в каюке повизгивающим девицам и их кавалеру. Девиц было две, и обе они показались Миките чрезвычайно красивыми. Стройные ноги в тонких чулках легко и мягко ступали по банкам.
— Тутычки сидайте, мамзели, — суетился Скрипач. — Здеся.
Последним в лодку сел чиновник. Это был невзрачный на вид человек в форменной тужурке с золочеными пуговицами. Красное его лицо с седеющей бородкой пьяно ухмылялось. Фуражка сбилась на затылок и придавала всей фигуре какой-то молодцеватый вид.
— Т-ты смо-отри! — погрозил он Миките. — Не утопи в волнах.
И сейчас же запел:
— Ни-ичего-о в волна-ах не видно!
— Папочка! Садитесь ближе! Пупсик!
Чиновник тяжело и неуклюже рухнул на дно лодки. Девицы взвизгнули. Микита уже оттолкнул дубивку от узенького мостика, скользкого и зализанного волнами. Темный берег, чуть озаренный умирающим месяцем, поплыл в сторону. Дохнувший с запада ветер принес с собой запах плавневой мяты. И где-то далеко, в болоте, протяжно гудела выпь. Чиновник обнял одну из девиц и посадил ее к себе на колени. Рука его бесцеремонно шарила в складках легкого платья.
— Обо-о-жаю! — сказал он вдруг, захлебнувшись пьяным смехом.
Микита налег на весла. Постепенно сзади все слилось в одну темную линию. Волны лениво плескались за кормой, словно игривые щенята, фыркая и обнажая по временам белые зубы. Откидываясь назад при каждом взмахе весел, Микита видел тонкую пену кружев из-под приподнятых небрежно колен и розовые чулки, заканчивающиеся внизу черными молниями лакированных ботинок.
«Антик дивчата, — подумал Микита. — Видно, что городской фасон…»
И вдруг вспомнил жену — беременную, со вздутым животом, с припухшим лицом оливкового цвета. На миг только мелькнуло перед ним ее лицо, но остался в душе какой-то неприятный осадок.
— Вправо, что ли, держать? — спросил он почти сурово.
Чиновник, не меняя позы, кивнул головой. Впереди уже обрисовывался берег в зубчатой короне черных деревьев. Высоко на горе сверкнул город. Огни то увеличивались, то уменьшались, и казалось, что это дышат ртами сотни золотых и серебряных рыб. Дубивка мягко врезалась в отмель. Пошатываясь на тонких ногах, чиновник вылез из лодки.
— Мадемуазель?
Он наклонил голову, словно приглашая на вальс, и вдруг, покачнувшись, упал в траву.
— Стойте, папаша! Куда вы? — хохотали барышни. — А еще кавалер!
Но он уже поднялся на ноги и не без кокетства крутил усы:
— Сударыни…
Хохоча и повизгивая, девицы высадились на берег. И опять ощутил Микита прикосновение легких ног, пронзивших его не испытанным доселе ощущением. Запах пудры и дешевых духов сладко кружил голову. Все это было из какой-то неизвестной ему жизни, совсем не похожей на то, к чему он привык с детства.
«Панская жизнь», — подумал Микита.
Между тем вся компания расположилась на копне прошлогоднего сена. Чиновник уселся посередине, спутницы его по бокам. Укладывая весла, Микита слышал, как они между собой о чем-то шептались.
— Ай, бесстыдник! — визжали барышни.
И вот Микита увидел, как барышни стали раздеваться. Спокойно и не торопясь сбрасывали они платье, тщательно укладывая его тут же на сене. Наконец они стояли уже совсем голые, слегка поеживаясь на ветру.
— Музыку!.. — крикнул чиновник. — Ж-желаю, видеть днепровских русалок!
И, пошатываясь, подошел к Миките. Микита машинально повиновался. Достал со дна лодки деревянный футляр и, отстегнув крючок, извлек инструмент.
— Погоди, — сказал чиновник. — Сначала выпей.
Он протянул Миките пузатую бутылку. Микита сделал глоток.
— Пей, пей! — крикнул чиновник.
Запрокинув голову, Микита прильнул губами к узкому горлышку. Сладко и знакомо заныло сердце. Скрипка сама легла на плечо. Он заиграл старинную польку, столь излюбленную днепровскими рыбаками. Чиновник подхватил ближайшую к нему девицу и закружился с ней на отмели. Потом он подхватил другую. Потом все они плясали, взявшись за руки, как исступленные, крича и смеясь… Микита играл с воодушевлением. Черный смычок проворно пощипывал струны, пронзая небо острой своей копьевидной головкой.
Ти-ля-ля — пели струны. — Ти-ля-ля!
— Ля-ля, ля-ля! — бормотал чиновник, высоко подпрыгивая на отмели.
Фуражка давно слетела у него с головы, и волосы, растрепавшись, закрывали лицо…
Уже значительно позже Микита вспоминал этот ночной кутеж и думал:
«Эх, жизнь! Вот она, настоящая жизнь… Панская…»
II
В одну из весен вместе с аистами прилетела свобода.
Притоптывая каблучками, пошла она по гаваням и рейдам с красным платочком в руке, сама похожая на матроску. Умилялись штурманы дальнего плавания, умилялись юнги, и помощники капитанов, и барочники, и плотовщики, и весь днепровский люд, обугленный солнцем и прожженный ветрами.
— Ой яблочко! — пели матросы. — Ой заграничное! Ой девочка, да симпатичная!
А на фронте умилялись солдаты и братались с рыжеусыми немцами. И по целым дням играла музыка Преображенский марш, звучащий победой… В эти дни нельзя было не умилиться. Даже пожарный, умилившись, заснул на каланче в первый раз за десять лет своей службы. И в один из этих дней загорелась хата Микиты от оброненной проходившим матросом цигарки. Микита был в отъезде и, возвратившись, застал только обгорелые пни и кучу домашнего хлама, сложенного в углу двора. Нахохлившись, как раненая птица, сидела его баба здесь же, на пепелище, и жалобно причитала. В воздухе еще пахло гарью и кружились, похожие на чай, медленно опадавшие вниз черные завитушки. Со скрипкой в руке Микита протискался сквозь гущу сбежавшегося народа и остановился в двух шагах от жены. Он еще не понимал всей значительности и глубины несчастья и только смотрел на реку, вдруг неожиданно открывавшуюся в том месте, где был чулан и деревянная ограда. Вдалеке он видел бегущие навстречу белые гребни волн и зеленую кайму противоположного берега, как-то по-новому и даже совсем необычно обозначавшуюся на горизонте. Микита был пьян и слегка покачивался из стороны в сторону. И вдруг он увидел дерево, наполовину обгоревшее и сморщившееся от огня, но еще сохранившее на крайних ветках розовато-белые лепестки цветов. Острая жалость к этому деревцу внезапно пронзила его сердце.
— Дерево! — сказал Микита, удивленно приподняв брови. И, помолчав несколько секунд, внезапно запел высоким фальцетом:
Куда ж мине ехать, куда ж мине итить, Когда ж мое сердце у грудях болить.В толпе кто-то засмеялся. Микита неожиданно рассмеялся сам и, вскинув на плечо скрипку, заиграл плясовую.
— Погибели на таких нету! — завизжала стоявшая в кругу зрителей Соплячиха, бойкая бабенка, известная по всему побережью. — Дитенкам спать негде, а он, сивый черт, танцует. Ирод египетский, пропади ты пропадом, башибузук!
И тут завыла Микитова баба каким-то истошным плачем, захлебываясь от слез и наклонив набок голову. Вслед за ней завыли ребята, не переставая в то же время оглядывать публику любопытными глазами. Микита опустил скрипку и грозно насупился.
— Ты кто? — шагнул он к жене. — Сказывай в момент, кто ты такая есть?
И, не дождавшись ответа, отпустил ей звонкую затрещину.
— Ева ты, вот кто ты такая есть! — закричал Микита. — Гадюка ты! Потому искусила Адама в раю супротив Господа Бога и Иисуса Назарея!
Слезы вдруг закапали из глаз Микиты, и он внезапно размяк, тихонько всхлипывая.
— Супротив Господа… Противу Нового и Ветхого завета…
Он посмотрел вдаль, за реку, на облака, шедшие с востока, и вспомнил синих и красных святых, виденных им в церкви на иконах. Вот на таких точно облаках сидели эти святые, босиком и в легких рубашках, степенно оглядывая мир. И он мог бы сидеть вместе с ними. И этого он лишен навеки…
— Братцы! — сказал Микита, безнадежно махнув рукой.
Он силился объяснить заплетающимся языком неожиданно мелькнувшую мысль и остановился на полуслове, вытянув шею и к чему-то прислушиваясь. Где-то на горе в городе оркестр играл «Марсельезу». Пьяное умиление охватило Микиту.
— Братцы! — закричал он. — Товарищи! Эт-та, значить, свобода?.. Эт-та… — и, не договорив, махнул опять рукою.
И вдруг увидел груду дымящегося щебня, словно впервые заметил теперь страшную картину пожара. Он сел на землю и, положив рядом скрипку, протер глаза шершавыми пальцами. Но он не находил ни дома в привычном для него месте, ни старого чулана с покосившейся набок дверью, которую не раз собирался поправить. Видел только реку, плавно несущуюся мимо в зеленовато-желтых весенних берегах. Спокойно и неторопливо вскипали волны, рассыпая вокруг белую пену, и там, где на воду ложилось солнце, казалось, качаются под ветром тысячи серебряных тюльпанов.
— Ага, протираешь гляделки, — не выдержала Соплячиха. — Тери, тери, матери твоей сто чертов! Нажрался сивухи, старый мерин!..
Она подбоченилась по своей всегдашней привычке.
— Не трошь его, — отозвался Вареник. И, выйдя из толпы, приблизился к Миките. Он положил ему на плечо руку: — Микит! А Микит!
Осоловелыми глазами посмотрел на него Скрипач и вдруг всхлипнул как-то совсем по-детски, утираясь рукавом засаленного бушлата.
— Хата где? — воскликнул Микита. — Братцы!
— Вставай, вставай, Микит, — тормошил его Вареник. — Пойдем со мной… Чего здесь высидишь?
— Хата! — закричал Микита. — Где она есть?
И, шатаясь, поднялся на ноги. И словно все только этого и ждали: моментально заколыхалась толпа, и раздались голоса, прерывающие друг друга, наперебой что-то советующие участливо и с состраданием.
— Дитенков надо наперед куда определить, — суетилась Соплячиха. — Гляньте — раздетые вовсе.
— А ты заместо крика возьми и определи, — сурово сказал Вареник. — И матку тож пожалеть надо, вишь, совсем обомлела.
Соплячиха с презрением взглянула на Вареника.
— Матку, говоришь, пожалеть? — почти взвизгнула она, свирепо вращая своим единственным глазом. — Ты ее пожалеешь? Ты? Как раз ваш брат пожалёить! Кобели вы все поганые, чтоб вы… маленькими повмирали!
— Ишь ты, посыпанная перцем, — ухмыльнулся Вареник. Он уже подхватил Микиту под руку и медленно продвигался с ним сквозь расступающуюся толпу. Не переставая причитать и всхлипывать, поднялась с пепелища и Микитова баба и, окруженная детьми, пошла вслед за Соплячихой. Кто-то из жалостливых баб уже всунул детишкам в руки дешевые пряники.
— Тятька, глянь! — кричали они, путаясь в ногах у Микиты. — Глянь, тятька, ко-оники!
Микита остановился. Маленькая пятигодовалая Любка, улыбаясь, протягивала ему пряничного конька. Микита взял конька своими заскорузлыми пальцами, взглянул на него, сосредоточенно понюхал и задумчиво откусил ему голову. Лицо ребенка вдруг сморщилось, и он расплакался, пуская слюни…
Через минуту уже никого не оставалось на месте пожара.
III
Еще до зари поднялся Микита и вышел в узенький двор Вареника, загроможденный развешанными на тычках неводами. Было теплое и слегка туманное утро. В неясных ветках над головой посвистывали скворцы. Чуть обозначавшаяся внизу река дышала сыростью и кислым запахом разлагающейся рыбы. И где-то совсем в стороне пыхтел пароход, шедший против течения с выпученными от натуги зелеными глазами. Микита облокотился о скользкий плетень и задумчиво стал вертеть цигарку. Несколько комаров с монашеским пением опустилось к нему на лицо.
— Черти! — отмахнулся Микита.
И вдруг эта пустяковая боль иголочного укуса пробудила в душе у него острую боль, казалось, дремавшую до времени и теперь развернувшуюся где-то внутри колючей проволокой.
«Эх, эх!» — подумал Микита и заморгал глазами.
Он вспомнил дом, охоту, и хозяйство, и то, как еще недавно, стоя на этом месте с Вареником, обсуждал с ним план постройки нового хлева для купленных в городе поросят.
— Кабанчика, братуха, надоть в тепле держать, — говорил Вареник. — На манер как вроде барина. А как заважничает он, сукин сын, да увидишь, что ряжку воротит, тут ты его и прирежь…
— Кабанчики… Эхма! — вздохнул Микита.
Небо уже разгоралось на востоке зеленовато-желтым костром. В далеких озерах за рекою гремели лягушки.
«Ну, скажем, восемьдесят рублей, — думал Микита. — Что на них можно поделать? И на стреху не фатить, а не то что на хату. Потому цегла нонче по десять копеек, да посчитай сколько прийдется лесу…»
— Микита Антоныч! Пожалуйте снедать!
«И, скажем, известка… — продолжал думать Микита, не слышав оклика. — Воз это беспременно надоть, меньше никак нельзя…»
И тут он оглянулся. Улыбающаяся дородная Вареничиха, стоя на пороге, манила его рукой.
— Пожалуйте, пожалуйте в хату, — говорила она, шепелявя. На круглом медном лице черной смородиной сияли оплывшие глазки.
Микита вошел в горницу и, сняв шапку, перекрестился.
— Сидай, Микита, — сказал Вареник, придвигая скамейку.
На столе в щербатой миске дымилась уха. В тусклом графине водки золотыми зайчиками прыгало вставшее солнце.
— Я тебе вот что скажу, — сказал Вареник, выпив вторую рюмку. — Как есть ты погорелый сичас человек, строиться тебе, конечно, не под силу. Сам знаешь, что нонче стоить материал. А вот ежели смекнуть…
И Вареник, прихлебывая уху и уже икая от сытости, стал развивать план, по его мнению, наиболее подходящий для данного случая. Микита слушал рассеянно. От водки мысли стали острее, и острее проступала тоска. За окном золотым потоком плескалось солнце. Сиреневые прыгали на подоконнике тени, бесшумно гоняясь друг за дружкой. Иногда по-весеннему радостно скрипела снаружи напруженная ветром верба. И в этой ненужной радости зачинавшегося дня крепче и неотвязней становилась боль, и подымалась в душе глухая обида.
— Так вот, — говорил Вареник, — ты и смекни. Ежели купить на плотах бурлатчину да изделать в ней окна, хата выйдет первостатейная. Оно, конешно, не в нашем обычае жить в деревянных стенках… Но как значит по нужде и по случаю бедности…
Но Микита не дал ему договорить. Насупив брови, с покрасневшими глазами, поднялся он из-за стола, шумно отодвинув скамейку.
— Ты это брось, — сказал Микита, не глядя на Вареника, и опять повторил: — Брось!
Он не находил слов, почти заикаясь от душившей его обиды. Вдруг ему представилось, как это он с женой и ребятами поселится в деревянной будке.
«На кацапский фасон», — подумал Микита и скрипнул зубами. Он презирал всегда этих рыжебородых мужиков в полотняных рубахах, являвшихся каждую весну неведомо откуда вместе с плотами.
«Таперича кваску с лучком…» — вспомнилось внезапно Миките, и, криво усмехаясь, он посмотрел на Вареника.
— Так, говоришь, бурлатчину? — сказал Микита. — Хотишь, чтоб я блох подкормил кацапских? Нет, уж на это мы не способны.
Уж это ты брось! Лучше как есть в натуральном виде и хоть бы где под забором.
Вареник пожал плечами.
— Не дури, Микита, — сказал он спокойно. — Дело тебе говорю, а ты фардыбачишься.
— Дело? — вскрикнул Микита. — Не надо мне вовсе таких делов! Знаем мы дела и получше. А что за хлеб-соль, так за это мы благодарны.
И Микита отвесил поклон хозяйке. Вареник хотел еще что-то сказать, но Микита уже вышел из хаты, и удалявшиеся шаги его застучали снаружи.
«Блажь нашла на человека», — подумал Вареник, вздыхая. Он разгладил бороду, смотрясь в медную стенку самовара, где уши его, как у царя Мидаса, казалось, превратились в чистое золото.
«Хозяйства не умеют соблюдать, — продолжал думать Вареник. — А хозяйство по нашей людской жизни должно быть завсегда в аккурате», — и довольно икнул, как бы ставя над мыслями точку.
Между тем Микита, выйдя со двора, повернул в узкую улочку направо. Он знал, что идет сейчас к Соплячихе, хотя перед этим вовсе не думал, куда ему нужно идти.
В душе у него была какая-то злобная радость, что вот, мол, теперь ему… Но он недодумывал до конца мыслей и только усмехался с искривленным ртом.
С Днепра дул ветер, усиливавшийся с каждой минутой. Небо кое-где затянулось тучами. Микита видел качающиеся ветки цветущих деревьев, недоуменно пригибающиеся к земле с обычным своим зимним шорохом. Розоватый снег сыпался на землю, распространяя вокруг миндальный запах. Встревоженные шмели и пчелы высоко взлетали над заборами, и ветер относил их в сторону. Все в природе дышало злобной радостью.
Уже подойдя вплотную к Соплячихиной хате и увидав на тощем дворе не менее тощую курицу с раздувающимся от ветра хвостом, Микита впервые подумал о жене и о детях.
«Шесть невест, — вспомнились ему насмешливые слова Соплячихи. — Наплодил лежебок… Все вы хорошие, когда женихаетесь…»
«Чертова баба», — подумал Микита, отвечая собственным мыслям, и постучал в окно.
Против ожидания, Соплячиха встретила его не в своей обычной манере.
— Иди, раз прийшел, — сказала она почти равнодушно.
На секунду глаз ее остановился на нем, как бы измеряя количество водки, выпитой сегодня у Вареника. Микита переступил порог. Он увидел жену в незнакомой для него обстановке, в чистой горнице с розовыми занавесками у окна. И даже оробел немного, так все это было странно и необычно. Дети еще спали (он тотчас заметил их взлохмаченные головы в углу на чужой постели), и только меньшая была на руках у матери. Микита сел на скамью. По смущенному лицу жены и по той закругленной выразительности бровей, какая бывает у собак и у женщин, совершивших дурной поступок, Микита понял, что незадолго до его прихода здесь говорилось о нем.
— От Афоньки присылали, — робко сказала жена, пряча глаза в ничего не выражающем взгляде.
— От какого Афоньки? От Завертаева?
— От Завертаева. На свадьбу зовут играть.
Микита задумался.
— Пойдешь, штоль? — спросила нетерпеливо Соплячиха. Видно, она с трудом выдерживала роль спокойного наблюдателя и так и рвалась в открытый бой. Не отвечая прямо на вопрос, Микита спросил скрипку. Он осмотрел колки, подвинтил их и натер смычок канифолью.
«Итить или не итить?» — думал Микита.
К Афоньке его не особенно тянуло. Еще с прошлого года задолжался он у Афоньки, призаняв денег на порох, и боялся, что теперь ему могут не заплатить за свадьбу. Но, с другой стороны, там будет выпивка и можно хоть на минуту забыть то тяжелое и непоправимое, что случилось с ним и что мучило его неотвязно, не давая покоя.
«Пойду», — решил, наконец, про себя Микита и приказал жене разыскать ему люстриновый пиджак.
Пока она возилась в углу, развязывая узлы, наскоро собранные во время пожара, Микита подошел к постели и взглянул на спящих детей. Все шесть лежали, тесно прижавшись друг к другу, и все шесть были девочки. Самая младшая, только что отнятая от груди, барахталась на конце постели и, увидев отца, вдруг засмеялась беззубым ртом. Микита чмокнул губами. Внезапно он встретился глазами с насмешливым глазом Соплячихи, молча и упорно сверлившим его, словно желавшим испепелить.
«Пущай, — злобно подумал Микита. — Не то еще будет. До десятка доведу, накарай мине Бог!.. Пущай все десять будут девчата…» В этом было какое-то злобное утешение. Он нетерпеливо обратился к жене:
— Игде жакет?
— Здесь в люстриновом рукав обгорел, — сказала она. — Может, новый наденешь, Микит?
— Это куда ж? К Афоньке иттить в параде? — недовольно проворчал Микита.
Он надевал новый пиджак только в исключительных случаях, когда играли свадьбу у какого-либо чиновника или купца. Но сейчас, в сущности, ему даже улыбалось появиться на свадьбе в «парадном виде», как бы назло судьбе и людям. И только из обычного своего упорства он продолжал ворчать.
IV
Ветер уже разгулялся вовсю, когда Микита со скрипкой под мышкой вышел на улицу. Внизу был виден Днепр, почерневший и вздувшийся, изрезанный белыми морщинами. В садах на горе с рабской угодливостью кланялись деревья, жалобно протягивая белые руки, словно моля о пощаде. Иногда Миките казалось, что кто-то круглый, теплый и сильный хватал его за плечи и, останавливая посреди улицы, шипел в ухо непонятные слова. Это был низовой весенний ветер, шедший с моря от Кинбурна.
«Надует в плавню воды», — подумал было Микита. И ему представились озера, полные уток, и заросли молодого камыша, где так удобно было прятаться в утлой лодчонке. «Трах-тах! — это он бьет из двустволки. — Трах-тах!..»
— Неужто у Афоньки? — очнулся Микита.
Со стороны Афонькиной хаты мерно и победоносно звучал бубен. И, рассекая короткие удары, чередующиеся в правильном темпе, серебряной лошадью ржал кларнет.
— Ишь ты, — усмехнулся Микита. — Лейбу взяли. Видно, раскошелился старый Игнат.
С Лейбой Микита встречался неоднократно на свадьбах и крестинах и везде, где требовалась музыка и где надо было показать фасон. Теперь, подумав о Лейбе, Микита вдруг ощутил в душе приятное успокоение. Он вспомнил, что у Лейбы двенадцать душ детей и что Лейба такой же бедняк, как он, и такой же, если не больший, пьяница.
Хата Афоньки, стоявшая на бугре, напоминала кусок сахара, сплошь обсаженный мухами. Это соседи и соседки и просто любопытные слободчане заглядывали в окна, толкаясь и обмениваясь мнениями насчет жениха и невесты. Прихватив плотнее скрипку и раздвигая свободным локтем толпу, Микита пробрался в сенцы. Дверь в горницу была настежь открыта. За длинным столом, уставленным бутылками, Микита увидел Афоньку, уже значительно охмелевшего, краснолицего парня с рыжими, обвисшими вниз усами.
— Бери што хотишь! — кричал Афонька. — Н-не пожалею для ради друзей! — И, привстав и шатаясь, чмокнул в лысину сидевшего рядом с ним Вареника. Микита вошел в горницу. Здесь было душно, как в бане. Маленькая безволосая невеста, с глазами, похожими на пуговицы от солдатской шинели, блаженно улыбалась. Завтра чуть свет она наденет рыбацкие сапоги и вместе с мужем будет бросать в корзину юрких лещей и скользких щук… Но сегодня…
Тру-ту-ту! — заливался кларнет.
Тах-тах! — отсчитывал бубен блаженные минуты короткой радости.
Увидав Микиту, Афонька пришел в восторг.
— Попросю! — закричал он, размахивая руками. — Мик… Мик… т-та…
Он расставил руки и пошел навстречу Миките, отбивая в такт кларнету высокими коваными сапогами.
Микита снисходительно улыбнулся.
— Мик-кита, — бормотал Афонька, плача от пьяной радости. — Уважь, дор-рогой челаэк… А я тебе, накарай мине Бог…
Он ткнулся рыжими усами в улыбающиеся губы Микиты.
— Водки налей сперва человеку! — рявкнул Игнат, отец Афоньки, широкоплечий рыбак с рыжей щетиной на голове и такими же, как у сына, отвислыми, но уже седеющими усами.
Афонька поспешно схватил со стола бутылку. Кто-то подставил чайный стакан.
— Гуляй, братва! — взвизгнул Афонька.
Почти не отрываясь, залпом, Микита опорожнил стакан.
Тру-ту-ту! — разливался кларнет. — Тру-тру!
Маленький Лейба, кругленький старичок в засаленном фраке и воротничке голубого цвета, надув щеки, трубил, как архангел в день Страшного Суда. Он заулыбался, увидев Микиту, и на секунду отнял ото рта кларнет.
— Здравствуйте вам, Микита Антоныч!
Тру-ту-ту!
— Это же не водка, доложу вам, а чистый огонь…
Тру-ту!
— Холера им в живот, ей-Богу!..
Тру-ту!
Через секунду взвизгнула скрипка, и пальцы Микиты сами забегали по струнам, привычно отыскивая нужный тон.
— Кадрель! — кричали бабы. — Кадрель!
Музыканты заиграли кадриль.
«Так, так», — думал Микита, водя смычком.
Душа его освобождалась от тяжести. Сквозь расступившиеся внезапно стены он видел Днепр и дальний берег и над обрывом новую хату, куда получше прежней, с зелеными ставнями, как у Вареника. Кто-то наступал ему на ноги, кто-то не раз толкал его в бок… Но он не замечал ничего в той пьяной и бодрой радости, какая охватила его в эти счастливые минуты.
— И-их! И-ах! — взвизгивали бабы, притоптывая каблуками.
«Можно будет пока хоть бурлатчину, — примирительно думал Микита, поспешно водя смычком. — Оно все равно, в летнее время вроде как и удобней… А там к зиме подзаработаю на свадьбах и уже тогда поставлю хату…»
Тру-ту-ту! — заливался кларнет.
— Товар-рищи! — кричал в углу пьяный матрос Кузька. — Прямое и равное голосование вопроса супротив мировой буржуазии…
Волосы Микиты уже намокли от пота, и по лицу сбегали щекочущие капли. Он выждал момент, когда смолкла на секунду музыка, и стал шарить в карманах, ища платок. Но платка не было. Тогда он сунул руку в боковой карман пиджака.
«Не может быть, чтоб забыл дома», — подумал Микита. Только нет… Вот он нащупал сложенный вчетверо лоскут материи. Он с облегчением обтер лицо. И вдруг, как ужаленный, вздрогнул, остановив в воздухе руку. Ноздри его раздулись, втягивая непривычный и сладкий запах духов и пудры. Он взглянул на руку и увидел, что держит чулок, шелковый чулок розового цвета, такой, какие носят господские барышни.
«Откедова это?» — подумал Микита.
И, оглянувшись вокруг, поспешно спрятал находку.
«Откедова?» — продолжал думать Микита, уже берясь за скрипку.
— Польку, польку! — кричали бабы.
Микита заиграл старинную польку, столь излюбленную днепровскими рыбаками.
Ти-ля-ля, — запели струны. — Ти-ля-ля!
«Ля-ля! Ля-ля!» — вспомнилось вдруг Миките бормотанье загулявшего чиновника, и ночной кутеж на берегу Днепра, и барышни в лакированных туфлях, и все, что случилось когда-то весной…
Ведь это он сам тогда стащил чулок и, положив в карман, забыл о нем совершенно, так как и украл-то его больше по пьяному делу.
«Вишь ты какая штука!» — думал Микита, играя.
Что-то было дразнящее и неизъяснимо прекрасное для Микиты в этом воспоминании. На секунду мелькнула жена, вечно беременная, с лицом оливкового цвета, но сейчас же она заслонилась другими лицами, молодыми и улыбающимися.
«Панская жизнь», — подумал Микита, не переставая играть.
— Тов-варищи! — кричал Кузька. — Все мы теперь свободные граждане! Потому как не буде теперь панов…
— Их! Ах! — взвизгивали бабы.
Вареник уже танцевал вприсядку, уставив руки в бока.
«Восемьдесят рублей… — думал между тем Микита. — Что на них можно изделать? И на стреху не фатит, а не то что на хату… Или, к примеру, бурлатчина… Это так, чтоб только блох подкормить… Нет, уж лучше как есть, в натуральном виде, хоть бы игде под забором…»
Микита играл, машинально водя смычком. Мысли захватили его в свой волшебный круг и не отпускали ни на минуту.
* * *
— Извош-шик!
Микита кричал, приставив ладони ко рту. В тихом проулке слышно было громыханье и цоканье извозчичьей пролетки. Здесь, на окраине города, в этот глухой час ночи было темно и пустынно. Ветер давно утих, и теперь в теплом воздухе нежно пахло цветущими абрикосами.
— Извош-шик! — крикнул еще раз Микита.
Из-за угла вынырнула пролетка и остановилась, подъехав ближе. Неуклюже расставляя ноги, Микита влез на сиденье. Востренький старичок благообразного вида чмокнул на лошадей и разобрал вожжи неторопливо и с чувством своего извозчичьего превосходства.
— Куда изволите? — спросил он равнодушно.
— К институткам вези, — сказал Микита, запахивая пиджак.
Извозчик сощурился.
— Это куда же? В Яр? Или, ежели угодно, в Ливадию?
— Вези, куда хошь, — сказал Микита.
Пролетка тронулась с места и, подпрыгивая на мостовой, медленно покатилась в сторону города.
Суд Вареника
Во всем облике Вареника, в его лукавых глазах, в растрепанной бороде и помидорного цвета лысине, и в том, что он часами теперь просиживал на опрокинутой у берега бочке, — было что-то от Диогена. По-диогеновски свисали вниз босые ноги, и седые брови лохматились по-диогеновски, но ругался Вареник по-своему, по-русски, как говорится, «в три этажа». Впрочем, с того времени, как в голову ему стали приходить разные мысли, стал Вареник ругаться куда меньше, сделался ленивее на язык. Даже Соплячиха, уже на что бойкая баба, а и та не могла его расшевелить.
— Чекистов засылають, слышь? — шептала Соплячиха, пугливо оглядываясь по сторонам. — Тровлють народ… Учителя Хлюстова убили…
Но Вареник слушал рассеянно.
— Отойди малость в сторону, Александра! — говорил он раздумчиво. — Хотитца мне знать, откеда это Микита Скрипач тащить стропила?
— Матери их сто чертов! — шептала Соплячиха, вращая своим единственным глазом. — Сами себе шлюх позаводили, а народ морят голодом…
«Каждый чего-то хотит», — думал Вареник. И жизнь ему казалась солдатской кашей, где ничего нельзя было разглядеть, но все было размешано вместе — и грязь, и всякая пакость…
I
В тени высокого обрыва, в том месте, где Днепр широко раздвигает свои зеленые рамки, стояла Вареникова хата. Стояла она особняком, на краю Цыганской Слободки, почти на самом берегу, выпятив стеклянные глаза в лихорадочную ржавчину закатов. Когда-то старательно сложенный плетень теперь развалился и порос мхом. Полая вода нередко обрушивалась во двор, и бедные куры, выучившиеся по этому случаю летать, кольцом унизывали высокие вербы. Оттуда они слали революционный привет отяжелевшему петуху, тщетно подпрыгивающему на одном месте.
— Танцуй, танцуй! — кричал, высовываясь из окна, Вареник. — Я т-те потанцую, Ирода, царя египетского, холуй!
Но вот наступало лето, Днепр входил в берега, и только лужи у хаты все еще славословили весну. Каких только лягушек и жаб не водилось в этих лужах! Были здесь изящные жерлянки с ярко-красными животами, певшие по вечерам одну протяжную ноту «у», и толстые, кирпично-серые жабы, похожие на ростовщиков, хрипевшие черт знает что, выпучив от натуги глаза. И все это галдело, кричало, шипело и пело. А что за травы росли у самой хаты! Когда-то в молодые годы, еще при жизни жены, Вареник развел огород. Теперь от того времени остался хрен, густо разросшийся по всему двору, перебравшийся затем в соседний пустырь и оттуда на улицу, так что слободские пьяницы закусывали иногда на ходу, выдергивая из земли горькие корни. Но всего выше и гуще росли лебеда и крапива. И даже хлебные колосья появились здесь неведомым образом — должно быть, воробьи занесли зерна. Кур же Вареник вообще не считал нужным кормить.
— Для чего их кормить? — говорил он. — Сами прокормятся.
А когда пришла революция и воробьи улетели в буржуазные страны, изменилась вся обстановка двора. Остались только лужи, все с теми же жабами и лягушками и даже с тем же пением по вечерам, как будто и лягушки агитировали за революцию. С этих пор Вареник прослыл кулаком.
— Ты нас на понт не бери, — говорил председатель комбеда Сенька Чихун. — Награбил, отец, за усю свою жизнь, отдавай теперь для народного блага.
— Вот штоб мине провалиться! — доказывал Вареник. — Штоб у мине на языке чирь выскочил!
Но из сельсовета пришла бумага: входящая и выходящая № 14 и чтобы курей отдать для колхоза. А чтобы излишки по закону и как от злостного кулака отобрать. Потому нужно для авангарда. И по случаю укрывательства к высшей мере наказания, хоша и вплоть до телесного расстрела.
Получил Вареник бумагу и покрутил головой.
— Чтоб вам мозги повытрусило, лежебокам! — сердито проворчал он.
Но кур все-таки пришлось отдать. Вскоре после этого нагрянула к Варенику комиссия из сельсовета и перевернула весь дом вверх тормашками. Обиднее всего было то, что комиссия состояла из своих же слободских и всем делом заворачивал тот же Сенька, служивший когда-то у Вареника на рыбной тоне.
— Ты, папаша, не укрывай, — говорил Сенька, стреляя по сторонам своими черными цыганскими глазами. — Отдасишь все добровольно — волоска у тебе на голове не тронем.
И Сенька ухмылялся собственной остроте, так как у Вареника и без того голова была совсем лысая.
— Нате, берите, архаровцы! — кричал Вареник почти исступленно. — Пейте мою кровь, комары распроклятые!
— А ты не ершись, — говорил Сенька, роясь в перинах и опрокидывая сундуки. — Это тебе не при старом режиме.
— Да я бы при старом режиме голову тебе открутил! — кричал Вареник, теряя последнюю долю терпения.
Лысина его побагровела, и глаза утратили насмешливое выражение. Когда же комиссия с трудолюбивым рвением мышей откопала в сенцах последний мешок муки, Вареник почти взвыл от досады и обложил всю комиссию отборной бранью. С этого собственно случая, перешагнув через камыши, вербы и всю днепровскую плавню, через октябрьский переворот и февральскую революцию, через святейшую инквизицию и крестовые походы, через до и после Рождества Христова и вообще через тьму веков, Вареник вплотную приблизился к греческому философу Диогену. Странные мысли стали навещать Вареника, но он хранил их только для себя. Вот шумел Днепр перед хатой, и с верб уже осыпались сережки, и радостный май отражался в лужах голубыми космами облаков… В свежей листве сияло зеленое солнце… Так же галдели чайки, топорщась на ветру и боком отлетая в сторону…
Но все было как бы не то, не так, как прежде. То есть в природе вокруг все было по-прежнему, но жизнь была совсем иная. Как будто с последней курицей вынесли из дому что-то крепкое и прочное… И даже не то было странно, что вынесли добро, а то, как его вынесли — запросто, как из своей хаты, за здорово живешь… Было еще понятно: грабили панов и вообще буржуев, помещиков и капиталистов — на то и революция, чтоб грабить богатых. Но вот когда у него у самого забрали его кровное имущество, когда его куль муки, наработанный мозолями… Вареник становился в тупик:
— Как же так? Это же не в аккурате?
И все, на что он ни смотрел вокруг, казалось ему нелепым. Непонятно было, что красноармейцы приводили на водопой разгоряченных коней, и что отобранная от мужиков картошка гнила на складе в городе, и что чекой заправлял бывший барчук из выгнанных гимназистов. Непонятная росла молодежь — комсомолки и комсомольцы.
— По тебе, папаша, на кладбище черти молебен служат, — сказал ему однажды соседский комсомолец Гришка.
— Ах, ты… — начал было Вареник, но запнулся и замолчал. От обиды и огорчения ему перехватило горло.
— Помирать пора, папаша! — кричал вдогонку Гришка, когда Вареник, повернувшись, побрел ко двору.
«Это мине помирать… Мине помирать, — задыхаясь, думал Вареник. — Помирать в шестьдесят лет?..»
А он еще гнул в руках подковы, и ни один молодой не мог с ним равняться здоровьем.
«Как же так помирать?» — недоуменно думал Вареник, сидя по утрам на бочке.
Задорно кричала в вербах иволга; морщась и извиваясь летели в светлой воде зеленовато-черные птицы; волны, убегая от берега, тянули за собой песок и мелкие шелестящие раковины. И солнце так дружелюбно и радостно сидело у него на лысине.
— Как же так помирать?..
Никогда раньше ему не приходилось думать о смерти, как будто ее вовсе не существовало на свете. И не то чтоб он ее теперь боялся, но ему просто казалось нелепым ложиться в гроб вдруг, ни с того ни с сего, когда он еще чувствовал в себе силу и мог работать не хуже других. И еще одно смущало теперь Вареника — ему было страшно умирать по-новому, без попа и певчих, без рисового колива, утыканного изюмом, без всего того, что он привык видеть на протяжении долгой жизни.
«Попа теперь и с огнем не сыщешь, — думал Вареник. — Бежали попы отседова в голодные годы. А которые и вовсе поскидали рясы…»
Он вспомнил похороны жены. Это было очень давно. Тогда нанимали попа и дьякона и пели певчие из кафедрального собора. За дубовый крест на могиле Вареник отсыпал столяру два пуда рыбы…
«Могила теперь, должно быть, завалилась вовсе, — подумал Вареник. — Надо бы как-никак навестить. По-Божьему, надо бы навестить жену…»
Он вздрогнул. Огромное лицо Бога, искаженное судорогой, выросло перед глазами. Не того Бога, которого он знал по Часослову и образам, но страшного, нового Бога, намалеванного комсомольцами. Плакатного Бога… «Религия — опиум для народа»… Румяные ангелы танцевали на деревянном помосте… Апостол Петр, перебирая в руках гармошку, выкрикивал веселые частушки… Холодок прошел по спине Вареника. Здесь мысль его упиралась в пустоту, в какой-то мрачный и темный провал.
«А что, ежели нет? — тоскливо подумал Вареник. — Что, ежели на самом деле нет Бога?..»
Он сощурил глаза, как будто ожидал, что сейчас разверзнется небо и громовой удар поразит его на месте. Когда он их опять открыл — все так же сиял Днепр и те же чайки кружились над ним, останавливаясь в воздухе белыми закорючками. Рослый красноармеец в надвинутом на глаза шлеме поил у берега лошадей. Красное лицо, покрытое веснушками, было бессмысленно и добродушно.
— Ты мне вот что скажи, молодчина, — сказал Вареник, не глядя на парня. — Ты мне вот объясни… Отчего это мне, к примеру, помирать следовает?
— Помирать? — спросил парень и лениво усмехнулся. — Все мы помрем, дед, — сказал он сонным голосом. — Эй ты! — прикрикнул он на коня. — Я т-те, язви тебя в бок!
Длинная лошадиная морда, помаргивая покорными глазами, прошла мимо.
— А ты, дед, живи! — крикнул, оборачиваясь, парень. Рябое лицо его ухмылялось.
— Тоись? — почти встрепенулся Вареник.
Но красноармеец уже напевал себе под нос какую-то песню… Все, все вокруг было непонятно.
И светлыми майскими ночами, когда в вершинах верб, как в девичьих юбках, путался озорной месяц, Вареник лежал на постели с открытыми глазами и думал о смерти.
— Почему помирать? Как это так помирать?
Осторожно он ощупывал свое тело: оно дышало, жило, еще мускулистое и крепкое, как старый пень, о который ломаются топоры. Вот разве борода седая и лысина… Но облысел он рано, с сорока лет…
За окном гремели лягушки. Теплый ветер трепыхался в занавеси у окна. Вареник сел на постели. Один за другим прозвучали в ночной тишине ружейные выстрелы… Некоторое время он молча прислушивался, потом опять лег на подушку. Как пышная невеста, стояла за окном верба, распространяя вокруг пряное благоухание. Ветви ее глухо шумели.
«Уйтить разве к дочке?» — продолжал думать Вареник. Ему вдруг стало страшно своего одиночества и тех мыслей, что помимо его воли неотвязно толпились в голове… «У дочки теперь сын народился… Внука, стало быть, няньчить можно». А зятю он дом передаст — так будет спокойней…
«У-г-гу!» — гудела выпь в далекой плавне.
Белое облако остановилось в окне, заслоняя собою месяц. В комнате стало темно, и только ризы Угодника Николая тускло блестели в углу. Что-то тяжелое и мрачное навалилось на грудь Вареника.
«Мы его Марксом окрестим, — вспомнил он слова зятя. — По-революционному. Пущай растет для победы пролетариата».
«Марксом!.. Дитенка хотит назвать по-собачьему…» — Вареник почти заскрежетал зубами, поворачиваясь лицом к стенке. Ворчливо скрипнула за окном верба. И где-то близко заржала гармоника веселую мелодию частушки:
Мой миленок комсомолец, А я комсомолка. Ходить, ходить вкруг мене Без всякого толка.— Аню-у-тка! — крикнули в темноте.
Кто-то захлебнулся мелким смешком. Внезапно из-за тучи вынырнул месяц и, осветив комнату, наклеил на стене шевелящуюся тень вербы. Вареник закрыл глаза, стараясь заснуть, но сон не шел к нему, и он ворочался на постели почти до утра, кряхтя и вздыхая, как старая водяная мельница.
II
В летние вечера стал промышлять Вареник удочками — ездил за реку в озера и в гирла, к маякам, на золотую тоню. Когда-то в этих местах у него были свои невода, и еще торчали кое-где сохранившиеся от того времени шалаши и утыканные гвоздями тычки. Но теперь здесь было безлюдно, только чайки кричали над отмелью и старая зола от костров одиноко пестрела в траве.
— Не то это, не то! — вздыхал Вареник, разматывая удочку. — Вишь, как переменилось! И вербы повырубили…
Он глядел на поплавок и видел внизу под собой небо, качающееся из стороны в сторону. Он перегибался за борт, и темное лицо, подрагивая, плыло навстречу. Весь он сидел в облаках, окруженный блестящими звездами, огненный рог месяца торчал у него на лбу…
«Ну, пущай помереть, — думал Вареник, зажав в кулаке бороду. — Пущай я теперь вроде как лишний… А им что за жизнь?»
И опять он вспомнил зятя, длинного, сутулого, с окаменевшим лицом. «Усю буржуазию, окромя трудового элемента… И которые против Советской власти, тех, как собак… Жилы им мало повытягивать!..» — «А сапожки твои откедова? — ехидно усмехался Вареник. — Ахвицер подарил? А часы, поди, барынька отдала за красу вашу ненаглядную?» — «Все теперь для народа», — угрюмо хмурился зять. «Это ты, штоль, народ?» — продолжал язвить Вареник. Его душил смех, и он захлебывался кашлем.
«Что же мине иттить к им, — думал теперь Вареник. — Так, только чтоб руготню разводить…»
Но тайная тоска грызла его постоянно и не давала покою. Как вольный зверь, почуявший старость, он искал спокойного угла. Но спокойного угла не было, и не было спокойной жизни, и все вокруг было, как говорится, шиворот-навыворот. Уже совсем под осень приехал, наконец, зять Степан и позвал его на крестины.
— Хоть вы, папаша, и стоите за контрреволюцию, — сказал он с кривой усмешкой, — а все-таки приезжайте.
— Ты его по-собачьи не называй, — сурово сказал Вареник. — О внуке говорю, слышь?
И он впервые взглянул на зятя серьезными глазами.
— Отчего же по-собачьи? — обиделся Степан. — И вовсе не по-собачьи, а на основании товарища Маркса.
Степан выражался всегда витиевато и любил блеснуть образованностью. Прежде, до революции, он служил в суконной лавке приказчиком.
— Вот вы, папаша, не хотите понимать, — сказал Степан, приняв митинговую позу. — Не те теперь времена, папаша. А у вас буржуазные предрассудки.
Вареник молчал, насупившись.
— Вы себя и божеством окружили, — сказал Степан, указывая на иконы. — И крест на грудях носите… А это самый настоящий царский режим. Потому нет никакого Бога…
— Не трошь! — крикнул вдруг Вареник, теряя терпение. — Ты у мине Бога не трошь!
— Я это так, к примеру, — несколько смутился Степан. — Потому из-за этого самого у вас курей отобрали. Сенька Чихун так мине и говорил. Кабы, говорит, не были ваш папенька божественным человеком, мы бы, говорит, может, хоть петуха им оставили.
— Лодыри они, — злобно сказал Вареник.
— Я вот опасаюсь насчет хаты, — сказал вдруг Степан и хитро прищурился. — Еще хату отымут, чего доброго…
Вареник молчал, глядя в окно на вечереющую реку. Он понимал, куда гнул зять, и тупое безразличие охватывало его душу.
Что ж… он отдаст ему хату. Все равно и здесь, у себя, он чужой… У дочки он будет тоже чужой… Все равно…
— Хату я тебе дам, — сказал наконец Вареник, недружелюбно и искоса поглядывая на зятя. — Только чтоб на внука записать, слышь?
— Это можно, как же! Очень даже возможно, — радостно оживился Степан. — А у нас вам будет спокойней, папаша. Внука будете няньчить. И ежели когда помолиться — то же самое можете. Лишь бы только не на людях, потому партийный я человек. — И он приблизился к Варенику, кладя ему на плечо руку. — Вы нас, папаша, должно быть, считаете вроде как за зверей, — сказал он почти елейным голосом. Гнилые зубы его из-под рыжеватых усов оскалились заискивающей улыбкой. — Это у вас, папаша, извиняюсь, правый уклон. А вот, чтоб вы знали, так и мы имеем понятие, ежели, скажем, кому надо помочь… Была у мине, к примеру, позавчера госпожа Пташникова. У их это я служил в приказчиках при старом режиме… Понятно, супруг ихний давно уже сидит арестованный в ГПУ. «Ослобоните, — плачет, — Степан Парамоныч, а я вам за это век буду благодарная». Ну, конешно, знаю я хорошо: ослобонить его не ослобонят. А вот, чтоб не мучился понапрасно, в этом я, конешно, помочь способный. Сам ходил к начальнику ГПУ, истинное слово… Как безвредный, говорю, они по старости элемент, так вы их, пожалуйста, не томите, а выведите сразу в расход и баста. То же самое, говорю, кормить их вам нет никакого смысла… В тот же вечер их, понятно, прикончили…
Вареник сбросил руку, лежавшую у него на плече, и повернулся к зятю.
— Гады вы все! — почти прохрипел он. Лицо его побагровело. — Душегубы! — Он сжал кулаки.
— Ишь как вас развезло, папаша! — усмехнулся Степан, пятясь все же к дверям. — Это что же, вы за контрреволюцию заступаетесь?
— Уходи! — закричал вдруг Вареник, подымая кулак.
Степан поспешно пошел к дверям, но на пороге остановился.
— Крестины у нас после Покрова, папаша! — крикнул он на прощанье.
Вареник остался один. За окном догорал вечер. У берега мычали коровы, пуская розовые слюни. Над плавней за дальними вербами летела утиная стая, то суживаясь, то опять расширяясь, как клочок дыма. Иногда по ней пробегали искры — это блестели на солнце крылья, когда вся она неожиданно взмывала вверх. Косое облако сахарной головой высилось в темнеющем небе… И вдруг такая нестерпимая тоска охватила Вареника, что он почти задохнулся, шаря рукой у ворота рубашки. Теперь только он почувствовал до конца свое полное одиночество.
III
«Игде правда?» — думал Вареник, ворочаясь без сна на постели.
Августовские ночи были темны. По черному небу, как по спичечной коробке, чиркали, не зажигаясь, падавшие звезды.
«Потому, ежели нет Бога, — думал Вареник, — то, стало быть, нет и правды».
— А только Бог есть… Есть! — упорно твердил он.
Но иногда им овладевало малодушие, весь мир казался ему непонятным и жизнь людей, как жизнь комаров, вовсе не нужная и пустая.
«Вот ты живешь… А вот тебя уже по башке, — уныло думал Вареник. — Живут теперь хорошо только сукины сыны и душегубы. Дармоеды теперь живут. Тля живет… комары…»
Сквозь раскрытое настежь окно, дыша смолой и речной сыростью, входила его молодость… Веселые базары видел Вареник, с шумом телег и говором торговок, и себя на возу рыбы, румяного и смеющегося, и жену Софью с вечно подоткнутой у пояса юбкой. «Бабочки, рыба! Рыба, бабочки!..» С Днепра гудели пароходы протяжно и деловито; в доку за городом, как горох по жаровне, целый день стучали молотки… В белых зимах куталась Цыганская Слободка, и под обрывом на пустыре хозяйственные люди смолили перед праздником кабанов… Раскрыв широко глаза, смотрел Вареник в окно и видел, как от упавшей звезды голубым молоком текла по небу дорожка. И снова наступала темнота и он был один в горнице…
Как-то уже перед самым Покровом поехал Вареник ставить на другом берегу Днепра переметы. Время было самое что ни на есть соминое. Обмелевшая к осени река выгнала из-под берега сомов, и они шли теперь на глубину в поисках корма. Когда-то до войны лучшей наживкой считалось мыло. Теперь мыло было как бы на вес золота и наживку приходилось искать другую. Вареник ловил саранчу, потрескивающую при взлете крыльями, зеленовато-бурую, с длинными усами, с зазубренными, как пила, ножками и круглыми бессмысленными, твердыми на ощупь глазами. На саранчу брал сом, а иногда попадался короп.
«А не лучше ли у моста перемет высыпать?» — размышлял Вареник, плывя по вечерней реке в своей старой дубивке. Он поставил лодку против течения и один за другим стал сбрасывать в воду крючки. Наконец, он отпустил шнур, и пустая кубышка, заменявшая поплавок, заплясала на одном месте.
— Готово! — вздохнул Вареник. Он уже повернул было лодку, как вдруг внимание его привлек поблескивающий на воде круглый предмет.
«Ишь ты! Кто-то арбуз обронил», — решил Вареник.
Он вспомнил, как еще мальчишкой любил охотиться по осени за такими случайными арбузами. Тогда их возили на парусных дубках и очаковских шаландах… Хорошее было время!..
Нагнувшись над бортом и отложив в сторону весла, Вареник обеими руками подхватил находку. Но вместо арбуза что-то бесформенное и липкое потянулось из воды.
В трепетном вечернем освещении страшное человечье лицо, набухшее и позеленевшее, вдруг выставилось наружу.
Вареник успел разглядеть изъеденный волнами нос и всклокоченную бороду. Над приподнятой бровью чернела круглая дыра… Содрогнувшись от ужаса, он разжал пальцы. Так вот какие теперь арбузы! Несколько секунд он сидел как пришибленный. Алая трещина заката вверх и вниз качалась над берегами. Подхваченная течением лодка, медленно поворачиваясь, устремлялась к мосту.
— Ах ты! Ах ты! — несвязно бормотал Вареник, силясь унять колотившееся в груди сердце. — Вона какие нынче арбузы!
Почти машинально он ухватился за весла и яростно стал грести к берегу, все еще дрожа от только что пережитого ужаса.
— Арбузы… Ах ты, Боже мой!..
Он боялся повернуть назад голову: там, покачиваясь на волнах и стоя в воде, плыл страшный покойник.
«Их это дело, не иначе как их, — думал Вареник, поспешно налегая на весла. — Губят народ, архаровцы!»
Уже очутившись на берегу, он все еще не мог прийти в себя и только вздыхал, уставившись глазами в землю. Наконец он поднял голову. Прямо перед ним, вся розовая, стояла хата. По стене от вербы прыгали трепетные тени. Иногда в самой гуще их вспыхивало черное пламя — это ворочались в ветвях, усаживаясь на ночлег, грачи. Варенику вдруг показалось, что и грачи, и сам он, и его хата только случайно уцелели на свете, как бы забытые голодом и войной в страшные годы.
«Помирать пора, папаша», — отдалось у него в ушах. Вверху над головой глухо прошумела верба.
«Помирать… — думал Вареник, все еще стоя на месте. — Помирать… Может, и взаправду лишний он человек по нынешним временам…»
Но тут же он вспомнил зятя, и в душе его поднялась злость. «Душегубы они. Дармоеды!..»
Рот его, помимо воли, искривился в злую усмешку:
— Этакая тля!
Он напрямик шагнул к хате через низкий плетень. В горнице было темно, и одинокий сверчок в углу у печки тянул свою незатейливую песню. Не зажигая огня, Вареник присел на постели. Его охватило какое-то тупое и тягостное безразличие. Сначала он глядел в окно на звезды, мигающие в небе синими угольками, то разгорающимися, то опять погасавшими, как будто ветер раздувал их, потом опустил вниз голову и долго сидел так, почти ни о чем не думая. Незаметно он заснул, прислонясь спиной к взбитым подушкам. Диковинный сон приснился Варенику. Ему снилось, что он попал на небо и увидел Бога, сидящего в облаках и окруженного ангелами.
— Подойди ближе! — сказал ему Бог и поманил пальцем.
Нерешительно переступая, Вареник подошел к самому Божьему престолу.
— Старики мы с тобой, Вареник, — сказал ему Бог и ласково усмехнулся. И от этой усмешки все вокруг засияло, и Вареник почувствовал, как его оставляет робость.
— Главное — жить не дают, — сказал Вареник, немного путаясь в словах. — Ну, скажем, каюки отобрали… А то ведь и рыбой берут! Во как зажали!
И Вареник приложил к горлу ладонь.
— Знаю, знаю, — покачал головой Бог.
Но Вареник уже не мог остановиться. Ему надо было высказать все, что у него наболело в душе.
— Нитка на невода теперь, к примеру, двадцать рублей моток. А игде взять денег? Хозяйство поразоряли и людей вовсе ограбили.
Он посмотрел Богу в глаза. Прямо в душу ему пролился свет, и тихая радость переполнила его, как музыка. Сами собой подогнулись ноги, и он упал на колени. И все ангелы, стоявшие вокруг, вдруг засмеялись, прикрывая лица крыльями…
Вареник проснулся. Под окном гремели лягушки. На небосклоне, раскрыв широкую пасть, дышала огнем заря. Где-то за горой, в поле, глухо стучали выстрелы.
«Этакий сон», — подумал Вареник. В глазах его все еще стояло сияние, и окна в горнице голубели, как ангельские крылья.
IV
Осень подходила неслышной поступью. Дни были безоблачные и ясные. В воздухе летели паутины, вспыхивая на солнце балалаечными струнами. Но тростники у берега уже порыжели, и изъеденные слизняками листья кувшинок черными полумесяцами свертывались в озерах. По обмелевшему ерику туго проходила дубивка, и надо было протаскивать ее волоком, входя в воду с закатанными выше колен штанами. Теперь Вареник ловил вьюнов, ставя на ночь в камышах узкие корзины.
«Поехать или не поехать? — думал он, вытряхивая в лодку добычу. — Вот уже и Покров близко».
Он старался представить себе лицо дочери таким, каким видел его в последний раз, когда, стоя в дверях с узелком, она улыбалась ему сквозь слезы. Тогда она уходила в город, в услужение. И с тех пор он ее не видел… Но лицо было расплывчатым и неясным, и другое, совсем детское, с розовыми щеками и заплетенными на голове косичками, спадающими на лоб, вставало пред очами Вареника…
— Тятька! Сказывай про ерша!
— Про ерша хотишь? — ухмылялся Вареник. Он приподымал дочку с пола и сажал ее к себе на колено. — Ну, слухай, — говорил он. — Жил-был на свете ерш. Колючая такая рыбина…
Держа над водой корзину, Вареник улыбался осеннему небу. Словно заметая прошлое, длительно и равнодушно шумел у берегов камыш.
И вот теперь внук. И дочка уже семь лет замужем…
Ему казалось, что время, как саранча, сделало огромный прыжок. Попискивая на дне дубивки, ворочались, умирая, вьюны. Солнце ломалось в их скользких спинах блестящей проволокой.
— Мне бы только внука поняньчить, — невнятно бормотал Вареник. — Дочку повидать.
Он боялся себе признаться, что это была его последняя надежда. В том странном и новом мире, куда бросила его война и революция, это был единственный уголок, где он мог еще найти покой и душевный отдых.
— Только вот зять… зять… — Вареник нахмурился. «Хоть вы и стоите за контрреволюцию, папаша»… Пустослов, — горько усмехнулся Вареник. Не о таком муже он думал для дочки. Не о таком зяте…
И все-таки после Покрова Вареник стал собираться к отъезду.
— Внука проведать? — спросила Соплячиха, зайдя к нему однажды вечером.
Вареник кивнул головой. Он возился в углу, связывая в узел кой-какое дорожное барахлишко. Наконец он покончил с узлом и, вытирая рукавом вспотевшую лысину, присел на табурете.
— Я тебя вот о чем буду просить, — сказал он, обращаясь к Соплячихе. — Побереги, Александра, хату, покеда я буду в отъезде. Может стать, что я не скоро вернусь. — И он улыбнулся, представив себе свидание с дочерью.
«Интересно, какая она теперь есть? Должно быть, на матку похожа, — подумал Вареник. — На Софью…» Все мысли его были там, у дочери, и он почти не слышал, что ему говорила Соплячиха. Он думал о том, как возьмет на руки внука и розовые кулачонки заскребут у него по лицу, как усмехнется ребенок беззубым ртом, и он ему в ответ причмокнет губами…
— По дворам шныряють, — говорила Соплячиха, переходя на шепот. — У кого лишний мешок муки, того сразу под жабры. И опять как в двадцать первом — по ночам стреляють народ.
Вареник усмехался про себя, не слушая Соплячиху. Понятно, он расскажет дочери, как ему было тяжело все эти годы.
«Покеда была жена — жить еще было можно. А то ведь, сама знаешь, один…»
И он сделал в воздухе жест рукой, как будто на самом деле говорил с дочкой. Когда Соплячиха ушла, Вареник еще долго сидел на табурете.
«Правильное дело, — думал он. — Как есть правильное. И все-таки родное дитя… А на зятя — плевать».
Утром, поднявшись с зарей, Вареник уехал. Сидя уже в поезде, он почувствовал себя как-то неловко. Вокруг галдел народ, чужой ему и незнакомый; внизу под ногами тонким звуком дребезжала плевательница; за окном из земли вырастали столбы, раскачивая тонкую проволоку; скирды соломы, разбросанные кое-где в поле, как захмелевшие бабы, танцевали по жнивью, поворачиваясь боками.
— Далеко едете? — услышал Вареник.
Спрашивающий был мужчина лет пятидесяти, одетый в мужицкий полушубок. Спросил он, должно быть, от нечего делать, как это часто бывает в дороге, но Вареник внезапно оживился, словно увидел, наконец, давнего своего приятеля или закадычного друга.
— К дочке, в Александровск, — поспешно отвечал Вареник. — К внуку тоись. Сынок у ней народился недавно. — И он провел по усам рукой, скрывая под ладонью улыбку.
— Н-да, — промычал мужик. — К сродственникам, значит.
— Одна она у мине. Тоись как палец, — и Вареник показал палец с загнутым вниз желтым и надтреснутым ногтем. — А не видались семь лет. В услужении она была у панов. Теперь, конешно, замужем.
— Так, так, — покачал головой мужик.
Глаза его глядели безучастно, изредка совсем закрываясь от овладевшей им дремы. Вареник почти любовно взглянул на качающееся перед ним морщинистое лицо.
— На крестины, видишь, мене позвали, — сказал он шепотом. — Сам зять приезжал перед Покровом. Вот я и собрался. Семь лет как не видел.
Мужик уже спал, свесив голову.
— А как не поехать? — шептал Вареник, не замечая уже ничего и весь отдаваясь подымавшемуся у него в душе радостному и теплому чувству. — Как это так не поехать? Потому как одна у мине дочка и я, значит, к внуку…
Он говорил долго и обстоятельно, говорил до тех пор, пока не потемнело снаружи окно, отразив на блестящей поверхности белое пятно его носа.
— Днепропетро-о!.. — протяжно крикнул кондуктор.
Поезд загромыхал по стрелкам. Красные, зеленые, синие огни, вспыхивая и погасая, замелькали с двух сторон дороги. Вареника чуть повалило набок; освещенные окна поползли на него из тьмы; все вдруг круто остановилось, и чья-то невидимая рука наградила его сзади легким подзатыльником. Поспешно собрав свой узел, он вместе с толпой сошел с поезда.
V
Почти без труда разыскал Вареник квартиру зятя. Здесь в городе каждый знал Степана Лепетихина, и милиционер даже приложился рукой к фуражке:
— Степана Парамоныча ищете? На улице Володарского они живут. Тридцать шестой номер. Так прямиком на тот уголок и держите.
Пройдя по указанному ему направлению, Вареник остановился у железной ограды. Разбитый фонарь, качаясь вверху, отбрасывал на землю яркую тень, прыгавшую по мостовой белым кругом. В стороне шелестел тополь. И от Днепра тянуло знакомой сыростью.
«Так вот она где! — подумал Вареник о дочери, глядя на высокий дом с белыми колонками, словно вставленный в синюю рамку ночи. — Барыней живет!»
Он почти оробел со своим узелком, зажатым под мышкой, но, преодолевая смущение, нерешительно дернул за ручку звонка. Внутри за дверью послышались шаги.
— Кто тама? — раздался голос.
— Я… Я это, — откликнулся Вареник, вдруг узнавая по голосу дочь. В груди у него поднялась горячая волна, заливая ему сердце.
— Попросю без шуток, — капризно раздалось за дверью. — Товарищ Байкалов, вы это?
Дверь слегка приоткрылась, и стриженая голова женщины выглянула наружу.
— Я это, Люба, — сказал Вареник и шагнул вперед. Странное, незнакомое ему лицо с подведенными тушью глазами качнулось, освещенное светом лампы.
— Ах, это вы, папаша? — удивилась женщина, и нарисованные брови ее тонкими дугами поднялись над переносицей.
Не говоря ни слова и только посапывая от волнения носом, Вареник вошел в прихожую.
— Все-таки приехали, — сказала дочь, неестественно улыбаясь. Она открыла перед ним дверь. — В гостиную залу попросю вас, папаша. Багаж можете оставить здеся.
Вареник последовал за ней.
— Степан Парамоныч, к сожалению, в теперешний момент на партийном собрании, — как попугай защебетала дочь, глядя на отца чуть округленными глазами. — А только что же вы стоите? Сидайте, папаша!
Она придвинула к нему стул, обитый блестящей материей. Вареник нерешительно сел, неловко поджимая ноги. Ему вдруг стало не по себе. Все слова, что он думал сказать, замерли у него на губах, и он только растерянно оглядывался по сторонам, как птица, попавшая в золоченую клетку.
— Фатеру смотрите? — самодовольно усмехнулась дочь. — У помещика Хлюпина ее реквизнули. Прежде паны здесь жили, а теперь вот мы живем. Для народа теперь все это.
Пестрый капот на груди у нее расстегнулся, и Вареник заметил тонкое кружево сорочки.
«Барыня», — пронеслось у него в голове.
И вдруг все лицо его жалко сморщилось, и он почувствовал себя одиноким и старым.
— Люба! — сказал Вареник. Глаза его неожиданно заморгали. — О прошлой неделе сон мне был, Люба. Будто дитенком ты мне представилась… И матка покойная будто с нами. И вот уже семь лет прошло… — Голос его сорвался.
— Это у вас нервы, папаша, — уверенно сказала дочь. — Здесь у нас есть один знакомый хирург. Он у меня тоже нервы лечить.
Стоявшие в углу на столе золоченые часы протяжно прозвонили. Справа за стеной раздался плач.
— Надо иттить, — сказала дочь, озабоченно оттопырив губы. — Маркс пробудился.
— Кто? — спросил Вареник. И все у него внутри похолодело.
— Дитё проснулось. Сын. Хоть мы его еще и не окрестили, а я его уже Марксом зову. — Она усмехнулась. — Может, хотите взглянуть?
Не ожидая ответа, она пошла вперед, чуть покачивая в такт походке крутыми бедрами. Вареник машинально поднялся со стула: он был как во сне. У двери вслед за дочерью он приподнял рукой плотную портьеру, расшитую серебряными лилиями. «На штаны бы», — невольно подумал он. Но мысль промелькнула, как молния, растворяясь в нараставшей тоске. Совсем не так предполагал он свидеться с дочерью, и все было не то. «Эх, не то», — думал Вареник, стоя уже над колыбелью ребенка. Он глядел на сморщенное от плача маленькое лицо, утопавшее в шелковых подушках, и не мог себе уяснить, что это его родной внук. «Как царенка закутали», — подумал Вареник, окидывая глазами пышную коляску.
— Тоже от панов нам досталась, — сказала дочь, подметив взгляд Вареника. — И на рессорах, гляньте!
Она выкатила коляску на середину комнаты. Ребенок еще пуще залился плачем. Рот его растянулся, глаза собрались узенькими щелками, и все лицо вдруг до ясности напомнило Варенику лицо Степана, когда, стоя на пороге, тот приглашал его на крестины. Сзади раздались шаги. Сам Степан шел к нему навстречу.
— Папаша! — воскликнул он с деланным изумлением. — Кого я вижу! Предок нашей семьи…
Он расставил руки якобы для родственного объятия. Но, встретив взгляд Вареника, внезапно остановился.
— Что же ты самовар им не согрела? — накинулся он на жену. — В кои веки папаша собрались к нам в гости, а ты их здесь моришь голодом.
В голосе его явно звучала фальшивая нота.
— Ежели только для мине, — сказал Вареник, — так я уже пил чай на станции.
— И еще выпьете! — воскликнул зять. — Как же так можно? Хоть мы супротив вас и пролетарии, одначе, угостить завсегда можем. Это у нас в партии так и зовется — смычка с кулаком.
Он нагло рассмеялся. Вареник почувствовал, как сдерживаемая внутри ярость вот-вот готова прорваться наружу. Но что-то его заставило смолчать.
Степан прошелся по комнате.
— В самый раз поспели, папаша, — сказал он, потирая руки. — Завтра опосля обеда крестины. Слышь? — обратился он к жене. — Коньяк из ГПУ обещались доставить… Прийдется, понятно, кой-кого из агентов ихних позвать.
— Байкалова позови, — лениво отозвалась жена. — Этот хоть не брешить про расстрелы. А я не могу слухать про такое — у мине нервы болять.
— Как хотишь, — согласился Степан. Он подошел к коляске и самодовольно усмехнулся, взглянув на сына. — Тоись как вылитый, — сказал он, поворачиваясь к Варенику. — Весь в мине.
Он наклонился к ребенку, скорчив гримасу:
— Аг-гу! С коммунистическим приветом вас, Маркс Степаныч!
Вареника передернуло.
— Все-таки хотишь его так назвать? — спросил он зятя. — Эх ты, шпингалет! У покойного барина, что ездил к нам на охоту, борзую собаку так звали.
Степан фыркнул.
— Ты только послухай их! — обратился он к жене. — Даже совершенно смешно, что они говорить. Ах, папаша, папаша! — Он на секунду остановил на Варенике свои суетливые глаза. — Старорежимный вы субъект, папаша! А все оттого, чтобы священные книги читаете заместо того, чтобы читать новинки мировой литературы.
Варенику вдруг стало душно. Все его грузное тело словно налилось свинцом. «С дороги, должно быть… Продуло…» — подумал он, бледнея. Вся комната закружилась перед ним разноцветным фонарем.
— Ты бы мине показала, где спать, — попросил он дочь. — Разморило мине с дороги…
Голос его прозвучал как-то надтреснуто и глухо. Степан ехидно усмехнулся:
— Вот так они все, которые из старого поколения. Чуть разговор на тему, так они сейчас же убегають. Исключительный факт!
Не отвечая зятю, Вареник вышел из комнаты. Дочь ему указывала дорогу.
— В ту дверь, папаша, — сказала она. — Здесь у нас повсегда гости ночуют. И ежели кто выпимши, так тоже сюда приводим. Ложитесь на какую хотите постелю.
Вареник молча кивнул головой. Комната была просторная и нарядная. Свисавшая с потолка люстра, вспыхнув, осветила развешанные повсюду картины. Перед глазами Вареника взметнулось море, и волны обрушились на него зеленым потоком. Голая женщина, усмехаясь, протянула ему яблоко.
«Не то это, не то», — пронеслось опять в голове Вареника, когда, присев на постель, он стал разматывать на ногах портянки. Оставшись в одном белье, он огляделся по сторонам, ища глазами икону. Но в углах и по стенам висели одни картины, и райские птицы, распушив хвосты, порхали по цветным обоям. Только на спинке кровати заметил он серебряного ангелочка, нацелившегося из лука. «Хоть ему помолюсь», — подумал Вареник и стал креститься широкими крестами. Потом, пошарив рукой по стене, он отыскал выключатель, и комната погрузилась в темноту. Вместе с темнотой в душу Вареника хлынули темные и тревожные мысли. «Не надо было ехать, — подумал он, уже покрываясь одеялом и втягивая носом непривычный барский запах, шедший от простыни и подушек. — Ни к чему было ехать… А дочь? — словно кольнуло его. — Дочь?.. Может стать, что мине только так прикинулось, — успокоительно подумал Вареник. — Потому как давно не видались…». Он закрыл глаза. Некоторое время он еще слышал за стеной торопливые шаги зятя и его тонкий смешок, потом ему почудилось, что он плывет по реке в своей дубивке, и розовые окуни выскакивают из воды, поводя в воздухе плавниками.
VI
Утром Вареник проснулся рано, когда все еще в доме спали, и, наскоро одевшись, пошел побродить по городу. Солнце чуть поднялось над крышами; в холодноватом воздухе кричали вороны; по ветвям деревьев и по кустам висели, подрагивая, прозрачные капли. Вареник шел наугад в сторону Днепра и думал о дочери. Теперь мысль его работала трезво и четко, и на душу, как камень, легла тоска.
«Барыня, — думал Вареник о дочери с горькой усмешкой. — Барыня… И волосы подрезала по-городскому. — Он сплюнул сквозь зубы. — Вроде шмары она теперь…».
Ему стало жалко себя, и своей старости, и всех своих надежд, разлетевшихся прахом.
«Про што с такой говорить? — угрюмо думал Вареник. — Про што? Все равно что с колодой, что с ей говорить».
Он шел вдоль грязных домов и мимо заклеенных плакатами заборов. Редкие прохожие кое-где стали попадаться ему навстречу.
«А пустослову радость… Как же! Крестины… Ему это вроде киятра…».
В душе Вареника росла и ширилась давно сдерживаемая буря. Теперь он пытливо глядел по сторонам, и каждая мелочь этой новой и чуждой ему жизни приводила его в ярость. И даже то, чего он не видел теперь, но что должно было быть по давним его ощущениям, злило и раздражало Вареника. Он помнил города с утренним церковным звоном, с розовым блеском арбузов, сложенных горами на площади, с суетливой живостью снующих повсюду разносчиков и с дымными трактирами, где за пятак давали две пары чаю.
— Старый режим, — криво усмехнулся Вареник и с разгону налетел на прохожего.
Рыженькая бородка мочальной щеткой ткнулась ему в лицо. Испуганные глаза, как две замороженные сливы, блеснули сквозь стекла очков у самого его носа.
— На службу поспешаешь? — спросил Вареник насмешливо.
Человек нагнулся, подымая слетевшую с головы шляпу.
— На службу, спрашиваю, поспешаешь? — повторил Вареник.
— Вам, собственно… — начал было прохожий.
Но Вареник его прервал:
— Поспешай, поспешай… Послужи коммуне. Может, хоть на штиблеты себе под старость выслужишь.
Лицо прохожего побледнело. Пугливо отодвигаясь от Вареника, он как-то боком стал отступать к стене. Вареник хрипло рассмеялся.
— Перепуганный вы, значит, барин, — сказал он с едкой горечью. — Вишь, как они вас запугали. А только чего их бояться? Бояться их вовсе не след. Тля они, вот кто. Слышь? Про коммунистов я говорю. Тля они, вроде клопов.
Но прохожий побежал от Вареника, как от зачумленного. «Заяц», — брезгливо подумал Вареник. Он подошел к Днепру и стал глядеть вниз на шумящие под мостом волны. Облезлые пароходы с проржавевшими трубами, как могильные памятники, рядами стояли у пристани. Река была пустынна. Над мутной водой с криком кружились чайки.
— Тоже хозяйство! — усмехнулся Вареник. — Пароходчики!
И вдруг он понял, что жизнь для него прошла и не будет ему на старости желанного отдыха. Так же, как эти пароходы, он никому теперь не нужен, и душа его заржавеет в одиночестве. И как-то неясно, из памяти, обрывок солдатской песни прозвучал у него в ушах:
Эй, Микадо, будет худо, Разобьем твою посуду, разобьем дотла. Тебе драться с нами трудно, Что ни день, то гибнет судно — славные дела.«Славные дела», — уныло подумал Вареник. Он повернул обратно и не спеша пошел той же дорогой, весь во власти охвативших его мыслей. Перед домом зятя он на мгновение остановился, словно раздумывая, входить ли ему туда или нет. Наконец, он позвонил.
— А мы уже подумали, что вы на ераплане от нас улетели, папаша, — встретил его зять в дверях насмешливой улыбкой. — Куды это, думаем, они запропастились? Не иначе, думаем, в Москву они полетели на партийную конференцию… — И Степан злорадно осклабился.
Вареник смолчал.
Где-то в тайниках души у него все еще тлела робкая надежда. «Как-никак родное дитё, — старался думать Вареник. — Может, еще обойдется…» Но когда он опять увидал дочь, ее чужое и размалеванное лицо, похожее на лицо ярмарочной куклы, и эта последняя надежда оставила его.
— Пожалуйте к столу, папаша, — сказала ему дочь приветливо-равнодушным голосом.
И сейчас же повернулась, прислушиваясь к чему-то.
— Звонять, — сказала она мужу. — Пойди открой, Степа!
Комната стала наполняться гостями. Вареник не слышал, о чем говорили кругом, и словно застыл в углу на стуле, зажав по привычке в кулаке растрепанную бороду. Он очнулся только, когда в комнате неожиданно наступила тишина. Заложив за борт пиджака руку и другой опираясь на угол стола, Степан оглядывал гостей своими бегающими, ни на минуту не останавливающимися глазами.
— Дорогие товарищи! — сказал Степан. — По завету нашего мирового вождя, я, как отец младенца, должон вам изложить. Супруга наша Любовь Николаевна, разрешившись от беременности, захотела назвать дитё по-революционному. Отседа для нас партийная идеология: как его назвать? — Степан надул щеки. Глаза его блаженно закрылись, и весь он теперь раскачивался из стороны в сторону, упиваясь собственной речью. — Как же его назвать, спросю я вас, товарищи? — И, выдержав паузу, неожиданно воскликнул: — Марксом назвать!
— Правильно! — послышалось в ответ. — Верно, Степан Парамоныч!
Вареник приподнял голову и в упор посмотрел на зятя.
— Конешно, — сказал Степан, — есть и посейчас субъекты противу мине. — Он скосил глаза в сторону Вареника. — Есть и посейчас такие прогнившие наскрозь приспешники буржуазии, которым это все равно, что ежели, скажем, черту дать ладану понюхать.
Вокруг шумно засмеялись.
— А только таким паразитам, — почти взвизгнул Степан, — одно наше слово: руки прочь от завоеваний Октября! Катитесь колбасой! И вместе с вашими руками!
— Правильно! Верно! — опять раздалось в ответ.
Степан сел. Тогда поднялся Вареник. Он хотел говорить, но в горле у него словно застрял какой-то колючий ком и царапал там, и щекотал, вызывая на глаза слезы. Вареник видел одно лицо в гуще расплывчатых и неясных пятен, одно лицо, ненавистное ему, как лицо дьявола, усмехающееся в рыжие усы.
— Ты… — хрипло сказал, наконец, Вареник, впиваясь пальцами в лакированную спинку стула. — Ты это про мине? Ты… ты…
Он захлебнулся в мучительно стыдном старческом рыдании. Потом он бросился к дверям, опрокидывая по пути стулья. Он шел, как слепой, сбрасывая дверные крючки и спотыкаясь на каждом шагу, пока, наконец, не выбрался на улицу. Так он прошел несколько кварталов почти в беспамятстве. Желтые листья кружились в воздухе. Густая толпа, выдвинувшаяся далеко на середину улицы, преградила Варенику дорогу. Люди гудели, как пчелы.
— Не лезь вперед! — окликнула его какая-то старуха. — Ишь шустрый! В очередь становись, дед!
— Не бойся, всем хватит хлеба, — отозвалось из середины толпы. — Вчерашний пустили в продажу.
— Вчерашний? Опять, значит, с овсом пополам?
Вареник остановился. Несколько секунд он молча смотрел на толпу.
— Дармоеды, — сказал он вдруг, словно отвечая самому себе и прислушиваясь к собственному голосу.
Толпа насторожилась.
— Дармоеды! — настойчиво и уже громко повторил Вареник. — Вся ихняя коммуна.
Он задумался, как бы подбирая слова.
— По шапке их надо отседа к чертовой матери! — закричал он неожиданно на всю улицу. — Как гадюк, передушить!
В толпе пробежал ветер.
— Иди, иди, дед, — толкнул его кто-то в спину. — Еще арестуют тебя за такие слова.
Вареник тупо уставился на говорившего и, постояв некоторое время молча, послушно побрел в сторону. Он не помнил, как очутился потом на станции, как взял билет, и только у самого дома на следующий день утром вдруг очнулся, и все вокруг показалось ему безрадостным и постылым.
VII
В тот год зима наступила ранняя. В сентябре уже потянули гуси, наполнив ночи тревожным гоготаньем. Днепр почернел, съежился, отступил от берегов и как изголодавшийся зверь стал жадно глотать первые замелькавшие в воздухе снежинки. В октябре выпал глубокий снег. По обмерзшим дорогам сидели хохлатые жаворонки, словно вдавленные в землю. Грачи избороздили поле тысячами гусарских шпор. Но в горнице Вареника даже по вечерам было светло, и в окнах цвели серебряные розы.
«Это он про мине тогда, — думал Вареник. — Про мине, душегуб! Есть, говорит, и посейчас такие паразиты…».
Мысль его неустанно возвращалась к зятю. Иногда он вскакивал с постели, шел к окну и соскребывал ногтем мраморный налет мороза. Сквозь узкую, быстро запотевавшую щель он видел белый двор, обнесенный редким плетнем, и старую вербу, вздымавшую к небу кривые сучья. Дальше в темноте шумела река, и молодой месяц лимонной коркой качался в волнах. Варенику чудилось, что из мрака на него глядит усмехающееся лицо Степана и что это не ветер шумит за окном, а смеются Степановы гости, как в тот день на крестинах…
— Ого-го-го! — кричало снаружи. — Ага-га!..
Старая верба грозила кому-то кулаками. Вареник отскакивал от окна и, закрыв лицо ладонями, садился на постель.
— Так это я, стало быть, паразит…
— Ого-го! — смеялись за окном.
— Ты, ты… — скрипела верба. В трубе шелестело:
— Папаша, папаша!..
Он вспоминал свое унижение, и ему захватывало дух.
«Пущай бы кто и на самом деле, — подумал Вареник. — А то ведь трепло, пустослов. Лодырь, как все они… Плюнуть на такого жалко».
И когда забывался сном, видел лицо дочери, раскрашенное, как у куклы.
— Сидайте, папаша, — говорила дочь деревянным голосом. — Это у вас нервы, папаша…
Вареник просыпался в испарине. С ненужной суетливостью принимался мести горницу, хотя за окном еще чуть голубел рассвет. Когда-то были зимние утра, наполнявшие его свежей бодростью. Теперь он искал в работе забвения. Вытащив однажды из-под кровати старое ружье, Вареник тщательно осмотрел его и почистил. Он долго размышлял, чем бы его зарядить. Порох у него был, но дробь уже давно вышла. Наконец он догадался насыпать в стволы битого стекла и мелких гвоздей.
«Уж я им покажу, — думал Вареник. — Пусть только сунутся с обыском!»
Но потом он отнес ружье в сарай и позабыл о нем вовсе. Перед новым годом ударили морозы. Утром по двору прыгали сороки, вышивая крестиками розовую канву снега. От валенок шел скрип, как от целого взвода красноармейцев. В грифельном небе над крышами лиловым горохом прорастали дымки.
В эти дни Вареник много думал о жизни, и, когда к нему зашла Соплячиха, он удивил ее глубокомысленными размышлениями.
— Я так думаю, — сказал Вареник, — не им нас судить. Про коммунистов я… По-ихнему, это мы с тобой, кума, дармоеды. — Он горько усмехнулся. — Пара… зиты, — протянул он. — Вроде вшей.
Соплячиха закрыла глаз. Она была похожа на дремавшую камбалу.
— Не им нас судить, — задумчиво повторил Вареник. — Может, даже как раз наоборот, мы их еще осудим?..
Соплячиха раскрыла глаз.
— Что их судить? — воскликнула она. — Кишки повыпускать им!
— Нет, так не годится, — ответил Вареник. — Надоть по правилу.
Он усмехнулся внезапной мысли, пришедшей ему в голову. И много позже, спустя несколько недель, эта же мысль до света подняла его с постели.
«Посмотрим, кто кого, — думал Вареник, подпоясываясь у печки. — Святых хотите из нас изделать? Будем святыми… Оченно это даже удобно для нас».
Он шептал себе под нос даже на улице, когда колючим холодком дохнул на него ветер и слетевшая с вербы ворона обсыпала его снежным сахаром.
«Так вам и напишем, — думал Вареник, идя вдоль забора. — Про святость нашу напишем».
Под ногами скрипело. Обледенелые деревья чуть позванивали вверху. В глухом саду, тянувшемся за оврагом, желто-голубые синицы, как советские барышни, щебетали, перепрыгивая с места на место. Вареник подошел к хате, на которой красовалась вывеска «Сельсовет». В сенцах толкался народ, обсуждая новый приказ о налогах. Со стены безбожный плакат благословлял бутылкой самогона. И опять Чемберлен, разбросав фалды сюртука, лез на четвереньках от угрожающего ему кулаком красноармейца.
«Тоже, должно быть, хороший человек, — вздохнув, подумал Вареник. — Жулика они бы не стращали».
Он открыл дверь и очутился в канцелярии. За столом, покрытым оборванной клеенкой, сидел письмоводитель Григорий Иваныч. Он что-то писал, поскрипывая пером и широко расставив локти. Не говоря ни слова, Вареник вынул из кармана сушеную рыбу и положил ее поверх бумаг.
— Что вам? — спросил письмоводитель, продолжая писать.
Вдруг ноздри его расширились, как у породистой лошади, он задержал бег пера и искоса взглянул на рыбу. Потом он откинулся на спинку стула и уже благосклонно посмотрел на Вареника чуть подслеповатыми глазами. Голова его была похожа на вывернутый корень — волосы спутаны и лицо все в морщинах.
— Письмо хочу написать, — сказал Вареник задумчиво. — Зятю хочу написать.
— Садитесь, — предложил Григорий Иванович, захватив пальцами рыбу и пряча ее в стол.
Вареник сел.
— Напиши ему, что я, значит, хату согласен отдать. Пущай приедет, — глухо сказал Вареник.
Лицо письмоводителя оставалось бесстрастным.
— И про то напиши, что сам, мол, в плавню уйду рыбалить… А хата мине не нужна вовсе. Старый я уже возиться с ей. Может, я и о душе хочу подумать.
Вареник загадочно усмехнулся. Тогда письмоводитель оторвал четвертушку бумаги и опять взял в руки перо. Через полчаса Вареник отнес письмо на почту.
Все эти дни до приезда зятя Вареник не выходил из дому. Снаружи лепило в окна разгулявшейся метелью. По ночам в трубе стонал ветер, и слышно было, как в сенцах хлопала сорвавшаяся с петель дверь.
«Ну и отдам ему хату, — думал Вареник. — В плавню подамся. Пущай только весна подойдет».
Но иногда тоска зажимала его в тиски и ему начинало казаться, что метель заживо хоронит его в снежных сугробах. Он сам не помнил, когда и как это началось, но по ночам он говорил теперь с женой.
— Соня! — говорил Вареник.
Жена улыбалась ему, протягивая навстречу руки.
— Сонюша, — шептал Вареник, и ему было стыдно за позднюю ласковость, неудержимо рвавшуюся из души.
Внезапно все обрушивалось в белом грохоте; черное окно проступало темным колодцем, и он замечал свою спутанную бороду и острые колени под дырявым одеялом…
— Ах, папаша, папаша! — шелестело в трубе.
За окном гоготало:
— Го-го-го!
Наконец в один из ближайших дней приехал зять. Он вошел в горницу, весь обсыпанный снегом, с заиндевевшими на морозе усами.
— Живы еще? — усмехнулся он Варенику.
И, подойдя к печке, стал оттирать замерзшие руки. Глаза его хозяйственно зашныряли по углам, словно ощупывая цену и пригодность каждой вещи.
— Топчаник, должно быть, вынесли отседова? — спросил он деловито. — А то, может, продали?
— В сарае, — сказал Вареник. — Сейчас разыщу ключи.
— Нет, зачем же? — засуетился Степан. — Я это вовсе не к тому, чтобы… Я только так, насчет инвентаря.
Он подошел к постели и для чего-то пощупал рукой подушку. Вареник смотрел на него исподлобья.
— А с Сенькой Чихуном я еще посчитаюсь, — сказал Степан в раздумье. — Курей пущай себе берет для колхоза, а только подушек я им никак не прощу. Сколько их было у вас, интересно подсчитать, папаша? — Но вдруг он спохватился и сразу залебезил умильным тоном: — А только чего бы вам не переехать в нашу родную семью? Ей пра, папаша, переехали бы к нам. Домишко, понятно, мы продадим, а только курочек можно и у нас содержать. Цыпляток бы себе развели. И внук к тому же у нас… Безобидное вовсе дитё…
В умилении он наклонил набок голову.
— Помнится, верстак у вас был? — спросил Степан, вдруг переходя на прежний деловой тон. — Ежели он еще в целости, то я бы хотел взглянуть. Нет, нет, я это так, к слову, — замахал он руками, заметив, что Вареник роется в связке ключей. — Это и опосля можно…
Но Вареник уже раскрыл дверь, и серые снежинки замелькали в светлом четырехугольнике. Степан последовал за ним. В сарае было темновато, и изо всех щелей тянуло холодком. Распростертый на земле каюк казался огромной рыбой, наполовину обглоданной птицами. Повернувшись к двери, Вареник задвинул болты и щелкнул замком.
— Это вы зачем же? — усмехнулся Степан. — Чтоб не украли нас с вами, папаша?
Он весело хихикнул. Не отвечая, Вареник наклонился к земле и потом выпрямился, закрыв спиной корму каюка.
— Степан! — сказал Вареник, и голос его прозвучал четко и резко.
В голубоватом свете, пробивавшемся сквозь щели, лицо его выступило белым пятном.
— Ну? — отозвался Степан. Слабое предчувствие беды заставило его слегка отступить к стене. Но он все еще усмехался, поводя плечами.
— Осудил я тебе, Степан, — сказал вдруг Вареник, и в руке его неожиданно блеснуло ружье. Черные ноздри стволов тупой смертью уставились в лицо Степану. — К расстрелу я тебе присудил, — сказал Вареник, взводя курки. — К высшей мере…
И прежде, чем Степан успел сообразить, в чем дело, Вареник разрядил ружье. Он дернул сразу за два курка и слегка пошатнулся даже на ногах от сильной отдачи. Выстрел прозвучал гулко, как в пустой бочке, и едкий дым полез из щелей сарая синевато-бурыми завитками.
Черкес
I
Фамилия его была Рогуля, а прозвище — Черкес. По всему побережью Днепра от Херсона до Станислава и даже дальше, до Кингсбургской косы, имя это было известно каждому промышленнику-браконьеру. И не раз от старых охотников мне приходилось слышать жуткие истории, в которых личность Черкеса занимала не последнее место. Сам же я познакомился с ним при весьма неожиданных обстоятельствах. В то время я кончал гимназию и уже курил крепкие папиросы и даже был влюблен в одну гимназистку — словом, считал себя вполне взрослым и положительным человеком. Жил я у бабушки в ее ветхом домике, стоявшем над самым Днепром так, что из окон видны были идущие по реке пароходы и дальний берег, поросший высокими камышами. По утрам бабушка обыкновенно входила в комнату и, притронувшись к моему плечу, говорила:
— Ваничка! Пора. Вставай… «Русалка» уже прошла.
— Ах, Боже мой! — говорил я с досадой и переворачивался в постели. — Дай же мне поспать, бабушка!
Но бабушка прибегала к хитрости. Выйдя на некоторое время из комнаты, она возвращалась затем обратно и с непередаваемой тревогой в голосе шептала:
— «Телеграф», слышишь? «Телеграф» уже прошел.
Делать было нечего, надо было вставать: «Телеграф» был экспрессным пароходом, проходившим мимо нашего домика ровно в половине восьмого. Лениво потягиваясь, наконец подымался я с постели и с завистью думал обо всех выгнанных из гимназии и с грустью о том, что мне придется сегодня долбить cum historicum и разъяснять значение герундия и герундива… Но зато лето было мое. Если и не целое лето, так как осенью у меня неизменно бывали переэкзаменовки, то, во всяком случае, часть лета принадлежала мне. Как хорошо было в летние вечера, переехав реку в утлой лодчонке, усесться на плотах с удочками и думать только об окунях и ершах, видеть только поплавки на воде с сидящими на них прозрачными стрекозами, уже позлащенными закатом, и слушать, как плещет, набегая на скользкие бревна, отраженная берегом волна. А позже, когда, к ужасу бабушки, я завел ружье и сделался заправским охотником, не было большей радости, как думать об утиных перелетах, о вальдшнепах и бекасах, о патронах «жевелло» с особыми патентованными капсюлями и о том, как я промазал недавно по налетевшей на меня стае куликов-турухтанов.
— Ты себя убьешь когда-нибудь, — сокрушенно говорила бабушка, качая головой.
В особенности она боялась дроби.
— Не урони, не урони, — предупреждала она меня всякий раз, когда я доставал с полки мешочек с дробью.
— Да ведь это же дробь, бабушка, — смеялся я.
— Дробь, дробь, — ворчала бабушка. — Как раз дробь-то и стреляет. Ты ее уронишь, а она и выстрелит.
Невозможно было ее разубедить в том, в чем она была глубоко уверена.
Иногда мне удавалось все-таки приносить с охоты кулика или утку.
— Бедная уточка, — говорила бабушка, беря кулика за лапки. А если эта была утка, то бабушка тяжело вздыхала: — Бедный куличок! Ах, зачем, зачем ты его убил!.. Но какой он жирный! Право, не знаю, как его лучше приготовить… с рисом… или нашпиговать салом?.. Пожалуй, с салом будет вкусней.
И она озабоченно сдвигала на лоб старые свои, перевязанные во многих местах нитками очки… Милая бабушка! Теперь, скитаясь по заграницам в качестве «réfugié russe»[36], мне часто приходится менять квартиры. Почти все мои квартирные хозяйки тоже бабушки… Но какие бабушки! Не бабушки, а сущие ведьмы.
— Дрыхнет, лентяй, — шипят они по-немецки, французски, чешски, гречески и румынски. — За квартиру не заплатил и дрыхнет!
— Заплачу завтра! — кричу им через дверь на языке той страны, в какую меня забрасывает судьба.
Я зарываюсь с головой в подушку и думаю о далеком ветхом домике над рекой, о том невозвратном времени и о своей светлой комнате, где я впервые познал непреложную истину, что синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа равняется единице…
II
Мне давно хотелось увидать охоту на уток с чучелами. Часто, сидя на берегу Днепра у хаты Вареника, зажиточного рыбака и хранителя моей лодки, я наблюдал отъезд промышленников. Загорелые, с взлохмаченными бородами, обутые в высокие сапоги из недубленой кожи, насквозь пропахшие дегтем и махоркой, они мне казались легендарными героями.
— Чучела, чучела не забудь! — кричали они какому-либо замухрастому мальчишке, состоявшему при них чиновником особых поручений. — Да скажи Дуньке, чтоб накопала в огороде картошки.
Я видел, как они укладывали в каюки охотничьи припасы, как напоследок садились в кружок и раскуривали цигарки и как наконец под аккомпанемент волн и чаек бесследно исчезали в днепровской дали. Чего бы я только не дал за возможность поехать с ними!
И вот счастье мне улыбнулось. Как-то летним воскресным утром в дверь нашего тихого домика постучали.
— Пойди открой! — сказала бабушка.
Я вышел наружу. Как древнее божество, сошедшее с пьедестала, в ореоле солнечного утра прямо передо мной стоял Микита Скрипач. В первое мгновение я так растерялся, что только бессмысленно хлопал глазами. Рыжая борода его цвела настурциями. Узкощельные глаза на изрытом морщинами лице смотрели на меня с нескрываемой насмешкой.
— Доброго здоровьечка! — сказал Микита.
Он слегка тронул рукой старую барашковую шапку, из которой ватные внутренности неудержимо рвались наружу.
— Входите, входите, — засуетился наконец я.
Микита шагнул за порог. Кованые сапоги его гулко застучали по деревянному полу.
На ходу я едва успел шепнуть бабушке, недоуменно разглядывающей вошедшего:
— Бабушка! Это Микита… Настоящий промышленник. Понимаешь?.. В прошлом году он убил лебедя… Понимаешь?.. Ради Бога, поставь самовар…
Вслед за этим я ввел Микиту в свою маленькую комнату. Усевшись напротив окна, мы некоторое время молча курили.
— Лермана курите? — спросил, наконец, Микита, прерывая молчание.
— Нет, Месаксуди, — ответил я. — Вот уже восемь лет я постоянно курю только Месаксуди.
Понятно, я немилосердно лгал. Курил я всего лишь полгода и то только у себя в комнате. Гимназистам в те времена строго запрещалось курить.
— А мы больше насчет махорочки, — усмехнулся Микита. — По нашему делу иначе нельзя: комар заест в плавне. Да и крепче она, махорка, до самого нутра согревает.
Помолчав еще некоторое время, как бы из приличия, и сплюнув прямо через мою голову в раскрытое настежь окно, Микита наконец приступил к делу:
— Як вам, правду сказать, насчет капсюлей. Нету их по всему городу, где ни искал. Оной понятно: время нынче военное… Раньше от германца их получали. А утки — гибель! Как гною. Накажи мине Бог!
Неловко откинувшись на спинку стула, Микита в упор посмотрел на меня лукавыми, чуть зеленоватыми глазами.
— Я вам дам капсюлей, — поспешно согласился я. — Но только вы и меня возьмите на охоту.
Микита как-то нерешительно кашлянул.
— Оно конешно, — сказал он. — Отчего и не взять?.. А только утка вся собралась в губернаторской плавне.
— Это там, где Черкес? — спросил я торопливо.
Десятки жутких рассказов всплыли в моей памяти.
— Как раз в аккурате, — спокойно ответил Микита. — А только молодой он еще, чтоб мине споймать. Сопляк он супротив мине.
Уверенность, с какой говорил Микита, рассеяла все мои опасения.
— Я поеду с вами, — сказал я решительным голосом. — Когда мы поедем?
Закуривая новую папиросу из протянутого портсигара, — Микита пожал плечами:
— Завтра несподручно, потому после праздника. Должно быть, паны там бухали. Я так думаю, во вторничек опосля обеда.
Мы сговорились обо всех подробностях предстоящей поездки, и Микита стал прощаться.
— Погодите, — сказал я, робко удерживая его за рукав. — Чаю напьетесь!
— Чаю? — Микита круто повернулся на каблуках.
— Что ж, вы разве не пьете чаю? — спросил я, невольно улыбаясь.
— А какой нонче день? — ответил Микита вопросом.
— Воскресенье, — сказал я, ничего еще не понимая.
— То-то и оно-то, — пробурчал Микита. — Вам, конешно, по-панскому, дело виднее… А только и нам против Писания иттить не должно.
— Против какого Писания? — удивился я.
— А против того, что написано в книгах, — спокойно сказал Микита. Глаза его уже сонно остановились на мне: — Как вы человек учащий, так, значить, и знать должны, — добавил он.
И, отогнув указательный палец, на котором от пыжей и патронов четко обозначались угольные кружки, Микита уверенно отчеканил:
— «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века» — вот что…
Мне так и не удалось уговорить его остаться.
— В другой день с нашим великим удовольствием, — как бы извинялся Микита. — А только в воскресенье никак нельзя.
И он ушел, унося капсюли и тот особенный запах дегтя, кожушины и плавневого ветра, какой был присущ каждому настоящему промышленнику-браконьеру.
III
Мы выехали во вторник после обеда, как было условлено. Днепр слегка шелушился зыбью: ветер был горишный. Упавшее с высоты солнце разбилось на воде тысячами осколков. Над кудрявой зеленью берегов летящие цапли и облака казались китайским узором.
— Киньте-ка мне шкертик, — сказал Микита, садясь в каюк.
Я протянул ему обрывок веревки, бившийся беспомощно у мачты. Микита намотал его на руку и взял в другую весло. Косой парусок, погромыхивая, надулся. Вся земля со всем, что на ней было, сдвинулась с места. Очутившиеся в речке дома и деревья слились в одну сплошную бело-зеленую линию. Я смотрел на свой каючок, привязанный сзади, на узкий пенящийся след, оставляемый им, на медную руку Микиты, сжимавшую весло, на уходящие вправо прибрежные тополя, и чувство непередаваемой радости охватило меня…
Нам нужно было проплыть шестнадцать верст по Днепру и потом свернуть узким ериком в озера. Когда вертящаяся карусель города с колокольнями, амбарами и домами скрылась за поворотом и в ноздри стал попадать вечно летящий пух осокорей, Микита переложил в левую руку весло и достал из кармана табашницу.
— Теперь и курнуть не вредно, — сказал он.
— А что, Микита, — обратился я к нему. — Что за человек Черкес?
— Человек как человек, — нехотя ответил Микита.
Послеобеденная лень, очевидно, не располагала его к разговору. Мы шли у самого берега, шурша иногда по выступающим из воды водорослям и даже цепляясь краем паруса за выбежавшие из зеленой глуши отдельные камышины. Я ждал, когда Микита заговорит о Черкесе. Я почему-то был уверен, что он о нем все-таки заговорит.
— Разные бывают люди, — сказал наконец Микита, отшвыривая за борт окурок, — иному шматок сала — и жизнь для него вроде рая. А вот Черкес, тот уже и на панов заглядывается. Да только ряжкой не вышел.
— Как так не вышел?
— Да так, не вышел, и все. Рябая у него ряжка. Сущий разбойник.
По всему было видно, что Миките приходилось не раз сталкиваться с объездчиком.
— Вы вот вроде панича, — сказал Микита после некоторого молчания, — обучаетесь чистому писанию и вообще всяким наукам. Оно и понятно, каждому свое… А вот Сашка Рогуля, Черкес этот самый, тот сына своего хотит на гимназиста обучить. Умора!
Микита пренебрежительно сплюнул через всю лодку с артистическим совершенством. Теперь нам нужно было пересекать реку. Здесь Днепр разделялся на рукава и всей пятерней стремился дотянуться к морю. Поскрипывая снастями, из-за песчаного острова вынырнул трехмачтовый парусник.
— Эй, там! — крикнули с парусника. — Куда вас прет!
Мы уже вошли в тень его огромных крыльев и прямо неслись навстречу черной смоляной стене, вокруг которой с бешеным хлюпаньем вскипали волны. Невольно я ухватился за борта лодки.
— Соли насыпь на хвост! — лениво крикнул Микита.
Неуловимым движением весла он изменил направление лодки.
Широкая скользкая смерть, ощерившаяся повисшими якорями, сопя и хлюпая, промчалась мимо. Мы находились на середине реки.
— Гимназиста хотит, — зло усмехнулся Микита, возвращаясь к прерванному разговору. — А спину ломать не хочешь?
Я думал, что последует одна из обычных историй, связанных с именем Черкеса. Но Микита умолк и сосредоточенно стал вглядываться в даль. Раздвинувшаяся широко река уже золотилась опускающимся солнцем, малиновые чайки кружились над отмелью. Далекие камыши превращались в черную полосу. Тихая грусть, всегда сопутствовавшая вечерней заре, просачивалась сквозь перламутр небосклона.
— Надоть чайку где согреть, — сказал Микита.
Я невольно улыбнулся, вспомнив его «священное писание». Навстречу нам все явственней выступал берег. В облачном парике, румяное и довольное, застыло над ним июльское солнце. Но вот и оно запало в далеких вербах, и по всему небу протянулся лиловый язык. С разбегу мы врезались в мягкий песок, захрустевший по бокам лодки. Едва ступив на берег, Микита стал прислушиваться.
— Гибель собралось птицы, — шепнул он, наклонившись ко мне.
Но я слышал только дергачей, скрипевших в траве своими странными костяными голосами.
Вытащив каюки на берег, мы принялись готовить чай.
— До месяца все равно ехать нельзя, — сказал Микита. — А месяц нынче поздний. Можно, стало быть, и соснуть.
Помню, я долго не мог заснуть, ворочаясь в каюке под брезентом. Разбудил меня скрип весел и громкий разговор совсем где-то близко, как будто над самым ухом. Я откинул брезент. Все было в лунном дыму — Днепр, облака, деревья. С далекого буйка, отмечавшего путь пароходам, подмигивал красный огонек. Была та глухая пора ночи, когда все в природе отдыхало. Микита сидел в каюке и к чему-то прислушивался.
— Рыбалки на базар едут, — сказал он наконец, заметив, что и я не сплю. — Кажись, что и нам пора.
Выкурив по папиросе, мы отправились в путь.
Теперь мы сидели каждый в своей лодке отдельно и плыли узким ериком среди сплошной стены камыша. Здесь было темно и сыро. Правилка глубоко зарывалась в вязкое дно и, отталкиваясь от него, вызывала на поверхность чернильной воды булькающие пузыри. Дорога казалась бесконечной. Иногда ерик расширялся, сбоку открывалась поляна, и стоящие на ней две-три вербы, озаренные луною, казались испанскими грандами, сошедшимися для поединка. За ними, чертя синее небо пушистыми султанами, колыхались под ветром камыши. Мы снова погружались в сырую тьму. Стоя на корме, я видел только голову Микиты, плывшую где-то в белых тучах. Наконец впереди что-то засерело: показалось озеро. Храпя и позванивая крыльями, сорвалась стая чирков. Неуклюжая лыска, застигнутая врасплох, зашлепала по воде в ближайший куст. Микита остановился. Я подъехал к нему и поставил свою лодку рядом.
— Там, в том углу, гляньте! — шепнул Микита. — Там я вам изделаю заседку.
Я посмотрел по направлению протянутой руки и увидал снежную громаду облаков и ниже под ней темную линию осоки. Сердце мое замерло.
— Вы и чучела мне дадите, не правда ли? — спросил я.
— Дам, дам, — нетерпеливо шепнул Микита. — Только поспешать надо — скоро заря.
С трудом проталкиваясь по затканному водяными травами озеру, мы поспешно приближались к указанному месту. Подмятый лозняк выпрямлялся сзади серебряными иглами. На широких листьях кувшинки, поблескивая, сидели сонные лягушата.
— Подождите малость здеся, — сказал Микита, когда мы въехали в рогоз и спутанные листья зашуршали по борту лодки. Он оттолкнулся веслом и исчез, продираясь сквозь травы. Наконец он возвратился обратно с полным каюком нарезанного камыша.
— В самый раз успеем, — сказал Микита.
Под его проворными пальцами, словно по волшебству, вырос шалаш, в который целиком въезжала моя лодка.
— Ну, теперь готово. Чучела и крикуху я вам высажу сам.
Микита задурил цигарку. С протяжным кряканьем поднялась в стороне разбуженная утка. Я въехал в заседку и закрыл за собой вход. В ней было темно и сыро; отстававшие кое-где камышовые листья упорно лезли в глаза; стоя в каюке на коленях, я почти касался головой крыши. Но постепенно сквозь щели я стал различать озеро и над ним на востоке бледную полоску рассвета. Потом я увидел высыпанные Микитой на воду деревянные чучела: они покачивались подобно живым уткам. Рядом с ними кокетливо охорашивалась уже настоящая живая крикуха. Сердце мое неровно стучало.
«Скоро, скоро начнется перелет», — думал я, заряжая ружье. Небо светлело. Зеленые и красные розы расцветали в нем пышным букетом. И вдруг над моей головой что-то прошелестело. Я прижался к самому дну каюка и застыл в напряженном ожидании.
— Та-ак! Та-ак! — крикнула моя крикуха.
Внезапный ветер и хлопанье крыльев наполнили воздух. Взметая брызги, у самой заседки опустилась утиная стая. Осторожно раздвинув камышины, я просунул ружье. Тонкие утиные головки четко рисовались в расплавленном золоте воды. Поймав на мушку ближайший ко мне рядок, я выстрелил. Гулкое эхо повторило громовой удар. Испуганно всплеснулась над водой мелкая рыбешка. Я посмотрел на озеро. Три кряковых, распластав крылья, кружились на одном месте, колебля водоросли и стебли водяных лилий. Но тут же я увидел нечто совсем несообразное и странное. С противоположного конца озера, стоя во весь рост в каюке, Микита махал мне руками. Потом он что-то крикнул и, повернув каюк, скрылся за камышом. И в тот же момент где-то совсем близко стукнуло о борт весло. Проткнув головой крышу заседки, я выглянул наружу. В двух шагах от меня, покачиваясь в зеленом каюке, стоял человек, одетый в ветхую черкеску.
IV
— Охотничаете? — спросил он каким-то подозрительно приветливым голосом.
Бурая папаха, съехавшая ему на затылок, открывала сухое лицо с коротко подстриженными усами. Орлиный нос, зазубренный оспой, и острые глаза с немигающими веками производили какое-то неприятное и даже отталкивающее впечатление.
— Я так… проездом, — смешался я, — случайно заехал… Курить хотите?
И я протянул портсигар.
— Ружейцо-то у вас аглицкое, должно быть? — спросил Черкес, вовсе не замечая протянутого портсигара.
— Нет, немецкое, Зауэра… — поспешно ответил я. — По случаю купил у одного помещика.
— Ишь какой вы случайный! — осклабился Черкес. Зубы его хищно блеснули. — И ружейцо вы случайно купили, и сами сюда случайно заехали… Случайный вы человек да и только!
Он помолчал, насмешливо сверля меня глазами.
— Ну а тот сукин сын? — Черкес показал рукой в сторону, где скрылся Микита. — Тоже случайный какой или с вами приехал?
— Да, да, мы оба случайно, — запутался я окончательно. — Это мой товарищ по охоте. Мы не сюда ехали. Мы мимо ехали.
— Как же это вы так мимо все ездяите? — ехидно ухмыльнулся Черкес. — Этак вы и мимо всего земельного шара проедете. Уточек, вы, должно быть, тоже мимоходом стрельнули?
И он указал на плавающих в стороне убитых уток.
— Я заплачу за уток! — воскликнул я.
Сухое лицо Черкеса передернулось усмешкой:
— Нет, зачем же платить? Уточки вовсе нё мои. А как озера эти принадлежат господину начальнику губернии, то, стало быть, уточки ихние. За уточек уже вы им сами заплатите. Я вот только отвезу вас к их высокопревосходительству, а вы им сами заплатите.
Холодный пот выступил у меня на лбу. Я вспомнил грузную фигуру нашего губернатора, красную его шею и блестящий военный мундир, делающий его похожим сзади на гигантскую божью коровку… О, никогда и ни за что я не соглашусь разговаривать с ним!
— Ну, так как же? — сказал, наконец, Черкес, видимо насладившись моим испугом. — Берите ваше веселко, поедем ко двору.
С мрачным отчаянием в душе я взял в руки правилку. Солнце уже выкатилось из-за камышей и подожгло противоположный край озера алым колеблющимся румянцем. Далекие вербы с иссохшими сучьями резко выступали на фоне неба. Побледневшая луна гусиным пером повисла в прозрачном воздухе. Озеро дымилось. В гнущихся стеблях рогоза чирикали ранние камышовки. Мы пересекли озеро во всю его длину и, шурша по заросшему резаком каналу, въехали в тихий затон. То и дело взлетали утки. Черкес все время держал меня впереди, проворно следуя за мной и указывая дорогу. Наконец мы очутились в каком-то тупике: дорогу преграждали вывернутые еще половодьем вербы и охапки полусгнившего камыша, кое-где проросшего папоротниками и мятой. Я недоуменно оглянулся назад.
— Вправо малость держите! — крикнул Черкес.
Я повернул направо и увидал чуть заметную узенькую дорожку, прорубленную в гуще растений. Здесь еще держалась ночная сырость. По обеим сторонам встал камыш. Тощие комары с остервенелым жужжанием кружились над нами. Дорожка оказалась совсем короткой и вдруг оборвалась, выведя нас на довольно широкую речонку. Теперь уже Черкес ехал со мной рядом, и бурая папаха его почти касалась моего плеча. Сразу за поворотом в корявых вербах забелела хата.
«Эх, зачем я поехал на охоту? — неслись в голове безнадежные мысли. — Выгонят меня из гимназии, как пить дать. В особенности, если дело дойдет до губернатора…»
Я с ненавистью посматривал на колеблющиеся рядом широкие плечи Черкеса. Рябая шавка встретила нас у хаты протяжным лаем. Скрипя открылась дверь, и босоногий мальчишка лет десяти выбежал наружу. Заметив меня, он слегка смутился и исподлобья взглянул такими же, как у отца, немигающими глазами.
— Матка встала? — спросил Черкес.
— Встала, — ответил мальчишка.
— Пойди ей скажи, что я привел арестанта.
«Арестанта! — отдалось у меня в душе. — Это я — арестант… Я!»
Вся кровь прилила мне к щекам… Безразлично шелестели у хаты вербы. Сквозь запотевшее оконце пялил на меня глаза гипсовый мопс…
— Вы не имеете права оскорблять!.. Понимаете? Я вас…
Жгучая обида и злость, клокотавшие во мне, не находили выхода.
— Зачем вы серчаете? — спокойно сказал Черкес. С предупредительной вежливостью он открыл дверь, пропуская меня вперед. — Серчать вам вовсе не следовает, — повторил он, когда мы уже переступили порог и очутились в просторной горнице. — Ведь не вы же меня арестовали, а я вас. Стало быть, вы арестант и есть.
В горнице пахло свежеиспеченным хлебом. Дородная баба с красивым и пухлым лицом, копошившаяся у печки, завидя меня, лукаво ухмыльнулась.
— Вот они все серчают, — обратился Черкес к жене, как бы призывая ее в свидетели. — Не нравится им в арестантах состоять. Оно и понятно — для ученого человека стыд большой. Но только арестант они все-таки есть, то как же мне их величать?
Черкес снял папаху и повесил ее на гвоздь. Вошедший в хату мальчишка уставился на меня немигающими глазами. Я решил молчать.
«Что-то теперь со мной будет?» — неотвязно тревожила мысль. Даже cum historicum и ut consecutivum показались мне милыми, безобидными шутками.
«Sitis, puppis, turris, vis, febris и securis…». Я представил себе ясно картину моего исключения из гимназии. Важный директор протягивает мне бумаги… «Quousque tandem abutere, Catilina…»[37] Вся в слезах стоит бабушка и, сдвинув на лоб очки, пытается меня защищать: «Он нечаянно выстрелил, господин директор… Уверяю вас, нечаянно. Он не хотел».
Я с тоской огляделся по сторонам. Дешевенькие занавески на окнах, какие-то вырезки из журналов по стенам, розовые фуксии в окне… И над кроватью нелепая в этом доме новенькая гимназическая фуражка. Фуражка… Откуда фуражка? И герб на ней Херсонской первой гимназии…
«Так, значит, Микита не врал, — подумал я. — Он действительно хочет определить сына в гимназию. А меня исключат…»
Я отвернулся к стене, стараясь скрыть подрагивающие губы.
— Я не знаю только, как мне быть, — сказал Черкес, присаживаясь к столу. — Сегодня везти их, — он указал в мою сторону пальцем, — сегодня везти их никак нельзя. Сегодня я обещался отвезти поросят куму… Разве что с поросятами вместе их захватить? Сдать поросят, а потом уже вот с ими прямиком в город.
— Не поспеешь, — сказала баба, вытаскивая из печки жаровню.
— Да, это правда, что не поспею, — согласился Черкес. — И места не хватит — шесть поросят. Да ежели они еще сядут, дубивка беспременно застрянет в ерике. Мне так сдается, что им надо у нас заночевать.
«Рассуждай, — подумал я не без злорадства. Мысль о побеге впервые пришла мне в голову. — Пусть он только уедет, а я уж найду способ бежать. Лишь бы он каюка не спрятал».
— Понятно, прийдется их запереть, — раздумчиво сказал Черкес, словно отвечая на мои мысли. — А то они еще убежат, чего доброго? Возьмут каючок и шасть в воду.
Черкес хрипло рассмеялся.
Последняя надежда оставила меня.
V
Сидя у окна, я видел, как Черкес готовился к отъезду. В тени корявой вербы на отлогом берегу виднелся каюк. Река, зажженная поднявшимся высоко солнцем, ярко блестела.
— Держи его, держи! — кричал Черкес сыну, принимая у него из рук визжащего поросенка. Перепуганный зверек отчаянно дрыгал ногами; просвечивающие на солнце уши свисали розовыми лепестками. Наконец погрузка была закончена. Уложив в каюк весла и свернутый парус, Черкес возвратился в избу.
— Так как же быть? — сказал он с притворным смущением. — Ружейцо-то я ихнее, понятно, захвачу с собой, так будет вернее. И с каючком ихнее дело тоже не выгорит, потому спрятал я каючок. А вот насчет другого дела я в опасении. — Черкес говорил почти нараспев, смакуя каждое слово. — Да, вот насчет другого дела я в опасении… Возьмут они, к примеру, и по нежности своего характера наложат на себя ручки. Очень даже паны на такие дела способны. От деликатности это у них случается.
Стоявшая у печки баба смешливо хихикнула.
— Потому соскучатся они в своем арестантском положении, — продолжал издеваться Черкес. — Им бы теперь, скажем, с барышней какой под ручку прохаживаться, а они заместо того под замочком будут сидеть.
На этот раз мальчишка ухмыльнулся. Я молчал, стиснув зубы. Вскоре Черкес уехал. Мне было слышно, как с реки он кричал своему сыну:
— А ты не балуй! Раскрой книжку, обучайся! Нечего лодыря строить.
Долго еще скрипели в отдалении уключины и повизгивали поросята. День обещал быть жарким. Иногда даже сюда, в хату, долетал глухой всплеск — это какой-либо карп с сонным любопытством классного надзирателя показывал из воды плешивую голову. На горизонте, мыча по-коровьи, столпились грозовые облака. И вдруг вся плавня загудела лягушачьими голосами.
— Кабы дождь его где не захватил, — сказала Черкесова баба, озабоченно подходя к окну.
— Ну что с того, — отозвался мальчишка. — Под вербой спрячется.
Признаюсь, я с удовольствием представил себе Черкеса, застигнутого в пути грозой. Но сейчас же тоскливая мысль, как комар, надоедливо зажужжала: «Погоди, погоди, вот тебе-то будет гроза так гроза…». И пухлая губернаторская рука, затянутая в лайковую перчатку, погрозила мне оттопыренным пальцем: «А как это вы посмели? А вы какой гимназии?..»
Я вздрогнул.
— А вы, собственно, откеда будете? — спрашивала баба.
В голосе ее звучала нотка неподдельного участия. Подперев щеку ладонью, она смотрела на меня своими ленивыми глазами.
— Из Херсона, — сказал я, невольно нарушив обет молчания.
— Маменька, поди, у вас есть?
— Теперь я у бабушки живу, — ответил я.
— Ученик, значит, вы, — кивнула баба на мою гимназическую тужурку. Она помолчала, все еще глядя на меня и вдруг, наклонившись, шепнула: — Мы свово Кольку тоже думаем на гимназиста обучить. — Широкое лицо ее оживилось улыбкой. — Шустрый он у нас. И к наукам очень способный.
Я посмотрел в ту сторону, где у стола над раскрытой тетрадкой с карандашом в руке сидел мой будущий однокашник. Он хмурил брови и сосредоточенно грыз ногти. Видимо, работа у него не клеилась. Наконец он вскочил со скамьи.
— Не получается! — воскликнул он. — Как ни стараюсь, не выходит задача.
— А ты вот их попроси, — сказала ему мать.
Мальчишка исподлобья посмотрел на меня недоверчивыми глазами.
— Дай сюда задачу, — сказал я, невольно краснея…
Мысль, что меня, арестанта, просят помочь, льстила моему самолюбию.
Мальчишка нерешительно подошел ко мне с тетрадкой и, указывая на цифры, сказал:
— Здесь написано, ежели отнять все три трубы…
— Давай, давай сюда, — сказал я.
Мы уселись в углу стола и принялись сообща решать задачу. Решив одну, мы перешли к другой и незаметно просидели часа три. Все это время Черкесова баба почти на цыпочках ходила по хате. Несколько раз она приближалась к столу, как бы желая что-то сказать, но, помолчав, опять отходила в сторону. Наконец она поставила перед нами миску с дымящимися пирогами.
— Будет уже вам, — сказала она, усмехаясь. — Покушайте лучше, что Бог послал.
Я нерешительно протянул руку. Но молодой звериный голод, проснувшийся во мне, победил все колебания. Теперь, сидя рядом, мы ели пироги с таким же рвением, с каким перед этим решали задачи.
— Нужно еще диктант написать, — сказал я Кольке, прожевывая пирог. — Есть у тебя хрестоматия?
Постепенно я входил в роль строгого репетитора.
«Сад цвел, — писал Колька под мою диктовку. — Ты сер, а я, приятель, сед…»
Мы так увлеклись работой, что не услышали, как подъехал с реки Черкес, и только когда он вошел в хату и остановился на пороге, я оторвался от книги. Черкес вошел с подленькой улыбкой, очевидно, заранее наслаждаясь моим арестантским видом, быть может, даже приготовив в уме какое-либо ядовитое приветствие. Но то, что он увидел, сбило его с толку.
— Фрол ел фасоль, — диктовал я беспристрастным голосом. — Дед был бел…
Вспотевший Колька выводил на листе бумаги кривые буквы, похожие на сено.
— Хлеб-соль ешь, — холодно диктовал я. И в перерыве между диктовкой жевал пирожок. Теперь я искоса взглянул на Черкеса, наслаждаясь его смущением.
— Тс… Тише! — зацыкала на него баба, когда он попытался было что-то сказать.
Она увлекла его за рукав в угол хаты и торопливо ему зашептала на ухо. Мне было слышно только, как Черкес растерянно крякнул. О, теперь я уже чувствовал победу.
— У змей нет ног. У пчел есть мед…
Собиравшаяся надо мной гроза постепенно рассеивалась.
— В колоколах гудела медь…
Бедный Колька уже обливался холодным потом.
— Андрей мел двор. Учитель взял мел…
Осторожно ступая на носках, Черкес подошел к печке.
— Довольно! — сказал я наконец, беря из рук Кольки исписанную тетрадь. Я посмотрел в окно: заходящее солнце отцветало над плавней. Небо порозовело. Почти у самого окна дымчатым аэропланом вывернулась в воздухе стрекоза…
И страстная жажда свободы охватила меня с неизъяснимой силой. Черкес нерешительно кашлянул и подошел ко мне, осторожно расставляя ноги.
— Ну, как он там? — спросил он смущенным голосом.
— Необходима двухмесячная подготовка, — коротко ответил я. — Ученик, — я сделал ударение на слове ученик, — ученик еще не совсем представляет грамматику. Да и задачи он решает неважно.
— Так! — уныло протянул Черкес.
— Мы ему уже нанимали учителя, — вмешалась в разговор баба. — Семинарист тутычка один, тетки моей двоюродный брат.
— Этого мало, — сказал я, брезгливо оттопырив губу.
Я посмотрел на Черкеса с тем выражением, с каким обыкновенно смотрел на меня преподаватель латинского языка. Черкес потупил глаза.
— А что, ежели… — заикнулась вдруг баба и выжидательно поглядела на мужа.
— Да вот я и сам думаю, — сказал Черкес. — Ежели бы только они были согласны. Конешно, промеж нас теперь вроде неприятности… А только ежели бы они согласились, то я бы им заплатил.
Он взглянул на меня с заискивающей улыбкой. И хотя все у меня в душе ликовало, я пренебрежительно пожал плечами.
— Вы, вероятно, хотите, чтобы я занимался с вашим сыном, не так ли? Но я сюда в эти края на охоту больше ездить не буду.
И, вынув портсигар, я закурил папиросу. Некоторое время мы все молчали.
— А почему бы вам сюда не ездить, — сказал вдруг Черкес. — Охота здесь, можно сказать, первостатейная. Я еще знаю одно местечко, где гибель бекасов. Жирные они в эту пору, почитай, одно сало… И недалеко отседова, всего с полверсты. — Он смотрел на землю, словно изучая кончики своих сапог. — Конешно, кто, скажем, для промысла, — продолжал он, — тому я никак не позволю. Ну а как вы для забавы, отчего и не разрешить?.. Вот бы и Кольку мово заразом подготовили на гимназиста.
Больше я не счел нужным ломаться. Мы порешили, что два раза в неделю я буду приезжать на охоту и после утренней зари заниматься с Колькой.
Черкес внезапно засуетился.
— Ты бы самовар им поставила, — сказал он жене. — А может, вы у нас все-таки заночуете?
Но я отказался и от чаю, и от ночлега.
— Дай же им пирогов на дорогу! — кричал Черкес. — А утки где? Колька, принеси ихних уток!
Всей семьей они мне помогали усаживаться в каюк. Заря уже гасла, и тронутый вечерним ветром камыш совсем по-гусиному сычал у берега. В оранжевом небе с гортанными криками летали кваки. Я взял в руки правилку.
— Так мы вас ожидаем в пятницу беспременно! — крикнул Черкес.
Я оттолкнулся от берега. Молчаливые вербы с шевелюрами немецких композиторов, спотыкаясь, побежали мимо. Румяным клоуном выкатилась из-за верб луна и застыла над ними с глупой улыбкой. Я мчал на каюке свою молодость навстречу светлому небу, где чуть серебрились первые звезды и тускло сияла кованым сапожком небесная кокетка — Большая Медведица.
Деревянный мир
I
В год двадцать первый русская революция печаталась на ремингтоне. Печатали барышни и молодые люди, бывшие генералы и адвокаты, но больше, конечно, барышни, и уж конечно барышни стриженые и бойкие. Торопливо грызла барышня яблоко, перебрасывалась кокетливой фразой с каким-либо политкомом или просто комом, смеялась и стучала на ремингтоне. Буквы позли серыми ровными стежками.
Тук-тук, тук-тук… Бажанов Иван… Чеботаренко Павел… по постановлению ревтрибунала… к расстрелу…
В год двадцать первый можно было умереть со смеха, но умирали главным образом от тифа, с голода и по приказанию Чеки. В этот же самый год случилось одно весьма комичное происшествие: чиновник Губпродкома, Николай Петрович Клочков, обмолвившись, назвал заведующего канцелярией «господином». Случай этот, сам по себе; пустяковый, повлек за собой, однако, весьма серьезные события. Заведующий канцелярией добрейший Аким Иванович, заслуженный коммунист и почтенный партиец, просто обомлел от огорчения и минуты три стоял посреди комнаты с разинутым ртом.
— Это вы что же? — спросил он, наконец, приходя в сознание. — Как же это вы так?
И уставился на Клочкова круглыми подслеповатыми глазами. Неизвестно, чем бы могло закончиться все это незначительное, в сущности, происшествие. Быть может, рассудив добросовестно, заведующий и вовсе замял бы этот случай, принимая во внимание заслуги Клочкова как спеца. Но на беду в канцелярии, как раз в это самое время, находилось одно постороннее лицо. И лицо это сделало такую недвусмысленную гримасу, так значительно подмигнуло и таким голосом промямлило: «о-го-го», — что судьба Клочкова решилась сама собою.
— Вы больше у нас не служите, — сказал Аким Иванович слегка дребезжащим голосом. — Потрудитесь сдать все дела товарищу Кошкину.
Клочков был уволен. И тотчас же четыре барышни ревностно застучали на машинках какой-то сногсшибательный губпродкомский кэкуок. А Клочков, не говоря ни слова, повернулся и вышел на улицу.
«Все равно, — подумал он. — Как-нибудь проживу. Толку-то от службы не очень много».
И в самом деле: служил Клочков за паек, за пачку спичек в месяц, дюжину английских булавок и чечевичную похлебку на воде. Жалованье не выдавали месяцами. И вот теперь он уходит с последней коробкой английских булавок в кармане… Правда, булавок первого сорта, булавок, так сказать, на подбор.
Дома, на квартире, хозяйка Агриппина Ивановна ахнула, склонив набок голову, старчески пожевала губами и вытерла глаза желтеньким платочком с крапинками.
— И что они делают, ироды, прости Господи! Мало им — человек молодой, сурьезный, не пьет, не курит… Так нет! Им арештанты нужны, каторжники… Птьфу!
В этот день канарейка осталась без зерен. В этот день дочка хозяйки Аннушка, барышня без мала тридцатилетняя и в отношении ног, как говорят римляне, немного курвус, то есть кривая, не пела своего излюбленного романса о лунных ночах и соловьиных трелях. Но так как на самом деле лунные ночи были, Клочков подолгу просиживал у открытого окна, глядя во тьму глухого сада.
«Надо продать штаны, — думал Клочков. — За них, наверно, кусков восемь отвалят».
Ах, эти штаны! Во-первых, они были с полоской, из настоящего трико и почти совсем неношеные. И во-вторых, сколько воспоминаний! В этих штанах защищал диссертацию Клочков, готовясь к профессорской карьере. В этих штанах было, так сказать, все его прошлое… И теперь он решил их продать.
Утром на базаре рябой вислоухий красноармеец торговался, сбивая цену:
— По первому делу штанишки у вас, товарищ, цивильные. Еще неведомо, когда и надеть придется. И, окромя того, шесть кусков дорого. Так, скажем, четыре лимона куда ни шло.
— Берите, — сказал Клочков.
И штаны были проданы.
На Елисаветинской у Соломона Штокера водилась хорошая камса.
— Это же не камса, а как с двух капель вода, королевская селедка! Такой товар и Троцкому не грех послать!
Соломон Штокер завернул покупку в тонкий лист Полного собрания сочинений Чехова. Клочков вышел на улицу и дрожащими руками развернул сверток. В лицо пахнуло острым гниловатым запахом. Выбрал самую небольшую рыбешку, положил ее в рот и, насыщаясь, вспомнил:
«Лидия Семеновна говорила недавно, что камса хороша с касторовым маслом. Совсем сардины получаются. Что ж… надо зайти к Лидии Семеновне, попросить касторки».
Шел вдоль облупившихся стен, размахивая по привычке руками. Город уже громыхал обычной жизнью. На биржу выехал извозчик — капитан лейб-гвардии Засекин. Графиня Дашкова раскладывала на лотке пончики. Слепо таращились на солнце квадраты окон. У дома № 34 остановился, позвонил. Вышла сама Лидия Семеновна, улыбнулась, сжимая губы (вставная челюсть уже три года, как сломана):
— Николай Петрович?
Брови у Лидии Семеновны сделали попытку подняться вверх. Брови у Лидии Семеновны теперь не могли подниматься. Они поднялись еще в семнадцатом году, когда государь отказался от престола, и с тех пор застыли высоко над переносицей у лба. Клочков наклонился, целуя руку. И вдруг насторожился: пахла рука чем-то знакомым и волнующим.
«Неужели копченое сало? — подумал Клочков. — Да, да… копченое сало. И еще как будто грибы…»
Есть тайная прелесть в таких неожиданных запахах. Они вызывают в памяти картины давнего прошлого.
Лидия Семеновна усадила между тем Клочкова на диване в гостиной и пошла звать мужа. Муж Лидии Семеновны, Игорь Леонтьич, сохранился куда лучше своей супруги. Во-первых, у него сохранились все привычки, вынесенные из пажеского корпуса в тысяча восемьсот семьдесят первом году. Во-вторых, Игорь Леонтьич…
Впрочем, он уже сам стоял на пороге, величаво кланяясь гостю:
— А? Что? Слыхали? В Батуме, говорят, англичане. Скоро, скоро их, батенька, по шапке, всех этих собачьих депутатов… Эт-тих, извините, мер-рзавцев, которые…
— Игорь, не нервничай! — окликнула его Лидия Семеновна из соседней комнаты.
Со стены косилось на Клочкова миловидное лицо пастушки — последняя картина в доме Тарарамовых, еще не реквизированная большевиками. На желтом лугу пастушка пасла овечье стадо. В стороне под деревом сидел пастух, раскуривая трубку.
И вдруг Клочков хлопнул себя по колену:
— Вот, чуть не забыл, Игорь Леонтьич! Ведь у меня же есть для вас ценный подарок.
Игорь Леонтьич осклабился приятной улыбкой и по привычке галантно поклонился.
— Почти половина, — сказал Клочков, протягивая Тарарамову сигарный окурок. — Вчера на Гончарной нашел. Иду, понимаете, смотрю под ноги и, хоть некурящий человек, вижу — лежит… А что, думаю, не захватить ли на всякий случай?
Лицо у Игоря Леоньича стало совсем приятным.
— Гм, — сказал Игорь Леонтьич, рассматривая окурок. — Да ведь это же итальянка. Должно быть, матрос какой выбросил.
Сощурился Игорь Леонтьич белыми, выцветшими глазами, вспомнил Неаполь тысяча восемьсот девяностого года… Отель «Урания» над морем… Кажется, «Урания»… А может быть, «Золотой Рог». Тогда еще Лидия Семеновна, боясь беременности, спала наверху, отдельно… Рядом с комнатой их домашнего друга князя Татлымова… Италия… Неаполь… Как это было давно!
Долго думал Игорь Леонтьич, посапывая носом и закрыв глаза, так долго, что у Клочкова явилось подозрение, не заснул ли и впрямь хозяин. Вошла Лидия Семеновна и, остановившись за спиной мужа, хлопнула руками.
— Это я моль, — сказала она Клочкову. — Удивительно как много моли в нынешнем году. Поверьте, не к добру.
Игорь Леонтьич раскрыл глаза:
— А? Что? Да, скоро их, батенька, по шапке, по шапке…
Клочков стал прощаться. Напоследок задержался губами, целуя руку хозяйки.
— Заходите же, — говорила Лидия Семеновна уже с порога. — А надо будет касторовое масло — не стесняйтесь, еще могу дать.
Клочков поклонился. Над домами уже распластались оранжевые крылья заката. Шел пустырем, заросшим густым бурьяном. Когда-то здесь был парк — изредка нога наталкивалась на уцелевшие пни. На площади Екатерина Великая с отбитой головой отбрасывала от себя странную тень, похожую на самовар. Лица прохожих казались медными. Небо сжимало город огненным полукругом. И вдруг Клочков вздрогнул. Увидал на линии алой каймы горизонта черную перекладину креста.
«Галлюцинации… я брежу», — мелькнула мысль у Клочкова.
Ускорил шаг. Почти побежал вдоль улицы. Крест медленно плыл по черте горизонта. Жуткий трепет охватил Клочкова. И только добежав до угла, увидал то, что его так испугало. Это был действительно крест, большой дубовый крест, каких тысячи на каждом кладбище. Но двигался крест самым реальным образом. Нес его на плече маленький человек с острой мочальной бородкой. И человек-то был знаком Клочкову — Илья Дмитриевич Бабкин, бывший директор гимназии.
— Илья Дмитрия! — окликнул Клочков.
Бабкин остановился, неловко поворачиваясь с крестом. Длинное лошадиное лицо разрезалось внизу улыбкой.
— А-а! Сколько лет, — закивал головой Бабкин. — Простите, руки не подаю. Тяжелая штука, знаете. На базарной чуть не свалился даже…
Идя рядом с Бабкиным, видел Клочков серое его обрюзгшее лицо, длинный нос и лопнувший на лбу козырек когда-то форменной фуражки.
— Что, на заказ или по случаю купили? — спросил Клочков, указывая на крест.
— Что вы, голубчик, что вы! — удивился Бабкин. — Кто же теперь такое делает. Наоборот, сейчас каждый норовит что-нибудь домой принести. Ведь вот подумайте — у меня на кладбище только и была теща… Правда, крест большой, массивный. Этим, пожалуй, два-три раза плиту натопишь. Плита у нас очень скверная! Тяги нет. Должно быть, сажей забита. А вот у Сидорова… Помните Сидорова? Надзиратель у нас был в гимназии, Сидоров… У Сидорова целое кладбище родственников.
Бабкин болезненно усмехнулся.
— У него, дорогой мой, и на старообрядческом родственники отыскались! Вы понимаете, конечно, в чем дело? Сидоровых миллионы в России.
В переулке попрощались. Клочков пошел к морю. Небо, будто кто его утыкал серебряными гвоздями, мягко светилось. От слабости кружилась голова и рождался вовне неясный шум, словно приложил ухо к большой океанской раковине. Где-то далеко зелеными очами вспыхнули огни семафоров. И вдруг показалось Клочкову, что он один, совершенно один. И вот он бредет, спотыкаясь. Серые дома громоздятся гигантскими кубами, встают на пути. А впереди море — черная ночная бездна. И так заманчиво показалось ему — прийти поскорее домой, раздеться, упасть на постель, отдаться лучшему, что у него осталось, — крепкому сну. Будет канарейка сонно чиликать у окна: «Вет-вет… Чин-чин… Вет… чин…».
— Вет-чи-на! — сказал Клочков.
И вздрогнул от собственного голоса.
II
Дом Агриппины Ивановны Спицыной, как и все дома того времени, являл собой печальное зрелище. Подобно мастеровому, загулявшему в ночном трактире, клонился он куда-то на сторону и, казалось, вот-вот упадет, обрушится в маленький сад, закрывший его окна диким виноградом и бузиною. Когда-то по заплатанной черепичной крыше целыми стаями бродили воющие на луну коты. Открывала окно Аннушка, вздыхала, слушала котов и, разумеется, думала о котах. Но теперь все было тихо. Котов давно переели. И уж какая была жалостливая соседка генеральша Бигаева, а пришли страшные годы, обезумела старуха от голода, съела любимую кошку. Позвала дворника Антипа, посмотрела на него подслеповатыми глазами и, всхлипнув, попросила:
— Только вы сразу, голубчик. Так, чтоб не мучилась. Я вас очень прошу об этом.
Взвесил Антип на руке кувыркающуюся и шипящую кошку. Прикинул в уме, сказал:
— Вишь ты, какая жирная! Фунта, полагаю, в ей четыре содержится.
И во дворе за мусорной ямой, где когда-то в незабвенные времена резали петухов и индеек, выпотрошил Антип генеральскую кошку. Обливаясь слезами, стряпала генеральша жаркое. Сначала пилав хотела приготовить, однако потом раздумала:
— Ах, не все ли равно!
Одна уселась за стол в полутемной своей каморке и, обмакнув кусочек хлеба в последние остатки соуса, грустно задумалась.
— Пьеретта, — шептала генеральша. — Милая Пьеретта. — И плакала.
Здесь, кстати, было бы и нам пролить несколько слез о давнем невозвратном времени, о соловьях и о розах, о пышной осетрине в лавке купца Толстопятова, что на углу Торговой и Княжеской, о звонких русских рублях тысяча девятьсот второго и третьего годов, о барышнях с губами бантиком, на все отвечавших: «Неужели?», о церковном вине и ревельских шпротах. Но кто же плачет в наш жестокий и равнодушный век?
Третий день лежал на диване Клочков у себя в комнате. Проедал штаны. Слышал сквозь тонкую стену скрипучий голос Агриппины Ивановны. Говорила о политруке Чуйкине:
— Чтой-то не ндравится мне, Аннушка, твой политрук. Ох, не ндравится. Усе у него при месте, тилегентный человек, сразу видать — очки носит и усы в гору закручены. А вот не ндравится мне, да и только. Может стать, оттого, что крепко ученый.
Вздыхала за стеной Аннушка. Потом слышно было, как перетягивала Агриппина Ивановна наверх гирьку стенных часов. Потом хлопала дверца, и железная кукушка, увлекаясь, отсчитывала восемнадцать часов подряд. В это время приходил политрук Чуйкин. Политрук Чуйкин стоит того, чтобы о нем сказать несколько слов особо. Голова у политрука напоминала скрипичную головку — рыжие волосы, как струны, закручивались вдоль ушей, а голос был настоящая квинта — высокий и пискливый:
— Нет, Анна Тимофеевна! Вы рассуждаете слишком индифферентно. Теперь каждый гражданин Союза Советских Республик является прежде всего объектом собственной личности.
Говорил Чуйкин как по книге. Качала головой Агриппина Ивановна, шла к себе в кухню, думала по дороге: «Кажись, по-русски говорит человек, а вот не понимаю, старая дура, ни словечка».
Слышал и Клочков разглагольствования Чуйкина, натягивал до рта старое свое дырявое одеяло и, переворачиваясь в постели, думал: «Россия ушла в глубь позабытых времен. Мы теперь в девятом веке. Это неизбежно. И с этим надо примириться».
И вдруг вспомнил: толпы беспризорных на улице. Ввалившиеся глаза просят о помощи. Тянутся к нему худые руки: «Хлеба… Один кусочек… Дяденька!..» На секунду показалось Клочкову — там, за окном, в лунном саду, бродят молчаливые тени. Шарят руками, шелестят рубищем, шепчут сухими губами жалостные слова. Приподнялся на постели — взглянул. Это акации. Они в цвету. Уловил их сладкий знакомый запах. И все было настоящее, теперешнее. И год был тысяча девятьсот двадцать первый…
Над темным хребтом шоколадной фабрики Эйнем две первые буквы уцелели от революции. Две большие черные буквы повисли над городом в прозрачном небе.
«Эй! — кричали буквы. — Эй!»
— Да отворите же, черт побери, если вы дома! Эй, Николай Петрович! Отворите!
Клочков вздрогнул и открыл глаза. Кто-то стучал в дверь обеими руками. По голосу узнал Клочков: Хромин, Валерий Семеныч, приятель его, доцент. Наскоро набросил на себя одеяло и, споткнувшись в темноте, пошел открывать дверь. Хромин вошел, почти вбежал в комнату суетливыми семенящими шагами.
— Спите? — сказал он. — В такой вечер? Стыдитесь! Природа, можно сказать, опьяняет, а он что выдумал! Этак вы, дружище, и ужин проспите.
Маленькие глазки Хромина озабоченно оглядели комнату.
«Увидит еду», — подумал Клочков и сел так, чтобы заслонить спиной тарелку.
— Ишь, что выдумал… спать, — повторил еще раз Хромин и заглянул поверх головы Клочкова. — Ба! Да у вас камса! — воскликнул он. — Похвально. Я, например, со вчерашнего дня ничего не ел. Правда, обещали по карточке к среде непременно.
— Гнилая, — сказал Клочков с кислой гримасой. — Совсем гнилая рыбешка.
Хромин уже жевал, вернее, глотал, не разжевывая, с ловкостью морской чайки.
— Сначала головку надо долой… вот так, — говорил он скороговоркой. — Жаль только, что хлеба недостает… Теперь хвостик…
Клочкова начинала разбирать злость.
— Вчера я просмотрел вашу работу, Валерий Семеныч, — сказал Клочков. — Спешка у вас большая, вы уж меня простите за откровенность. Вопрос о субстанции, как вы его трактуете, согласно Фрезеру и Вундту…
Хромин почти всхлипнул и даже не успел проглотить последнюю рыбу, так что хвост ее торчал у него изо рта. Лицо его выразило крайнее изумление.
— Работу? — спросил он. — Мою работу? Это вы об университете?
И вдруг расхохотался.
— Ох-хо! — смеялся Хромин. — Вот изрек! Нет, вы, Николай Петрович, шутник… Ей-Богу, шутник. Какой сейчас университет по нынешнему времени? Да будь они трижды прокляты — Вундты и Фрезеры! К черту субстанцию! Ведь пухнем от голода. Поймите вы, идеалист неисправимый. Субстанция!.. Шутник, ей-Богу!
Наконец, нахохотавшись вволю, Хромин достал из кармана нечто, напоминавшее по цвету красноармейскую онучу, и, высморкавшись, сказал:
— Я к вам, собственно говоря, по делу. Нам нужен еще один компаньон для карусели. Мы договорились крутить карусель.
Клочков дернул себя за бороду, чтобы удостовериться, что он не спит.
— Крутить карусель? Это каким же образом?
— Дело пустое, — сказал Хромин. — Крутим пока мы трое: я, да полковник Страхов, да художник Требуховский. Не тяжело и весьма прибыльно. В праздники по три куска на брата выкручиваем.
«Что за оказия?» — подумал Клочков. Никогда действительность не казалась ему столь необычайной.
— Ну так как же? Согласны? — спросил Хромин.
Маленькие глазки его пытливо уставились на Клочкова.
— Вижу, согласны, — сказал он через секунду, отводя взор. — Вот и хорошо. Так и запишем.
Клочков нерешительно теребил бороду:
— Погодите… Вы говорите, крутить карусель… Но я, признаться, не совсем представляю…
— Ах, Боже мой! — воскликнул Хромин. — Дело яснее ясного. На площади для красноармейцев поставили карусель. Мы нанялись ее крутить. И вот я предлагаю вам вступить в компанию. Кстати, и Аглаю Петровну увидите. Она сейчас в балагане русалку изображает.
— Аглая Петровна? Русалку? — спросил Клочков.
— Ну да, русалку разыгрывает, — спокойно ответил Хромин. — Холодно ей, бедняжке, сидеть в воде, чуть не плачет. Голая она, понимаете, совсем дезабилье. Хвост начинается только от пояса.
— Но как же муж ее, Пимен Геннадьич?
Хромин пожал плечами:
— Что ж Пимен Геннадьич? Его уже давно со службы вычистили. Нам, говорят, бывших помещиков не надо.
— Вот оно что, — раздумчиво протянул Клочков. — А кажется, так недавно удили вместе рыбу. Чудесный был у них пруд… Караси водились.
— Да, ничего не поделать, — равнодушно сказал Хромин. — Значит, согласны, не правда ли? Завтра в пять часов будем вас ждать у балаганов. Только смотрите, не опаздывайте — в пять начинаем крутить.
Хромин нащупал в темноте дверную ручку. В распахнутой двери неясным силуэтом обозначилась его широкоплечая фигура. Клочков остался один.
«Крутить карусель, — подумал Клочков. — На площади Маркса…»
Зажал между ладоней заросшее свое, давно небритое лицо. Чувство одиночества, затерянности охватило его с новой силой. Казалось ему, что он похоронен заживо в душном подвале среди набросанной в кучу ненужной рухляди. И вот торжественно глядит в окно ночь с запутавшимися в древесных ветвях звездами, сладким дурманом веет от желтых акаций… А за стеной политрук Чуйкин говорит о любви:
— Любовь, Анна Тимофеевна, выдумки. Кто ее видел, эту самую любовь? Потому как человек произошел от обезьяны, любовь, стало быть, есть влечение половых организмов.
Клочков вскочил со стула. Комната на секунду осветилась голубоватым светом. Выступили за окном, словно вырезанные из картона, дома и деревья. Разобранный наполовину народный банк зиял в пространстве обнаженными стропилами.
«Все, все осветить», — подумал Клочков. И словно бы кто подслушал его мысль — с моря протянулся дымной полосой луч голубоватого света. Он устремился к звездам, потом опустился вниз, вычертил на мостовой группу спавших вповалку беспризорных, скользнул влево, осветил у разбитого фонаря севшего по естественной надобности милиционера и остановился наконец на вызолоченной надписи:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь».
Клочков тяжело вздохнул и отошел от окна.
Ill
Эта глава о петухах. С петушиным криком просыпалась когда-то Россия зелеными росными утрами. Еще дымились поля ночной испариной, чуть розовело небо, а петухи уже вышкрабывались на низкие заборы и, вытянув длинные шеи в сторону разгоравшегося востока, вещали грядущую зарю.
— Заря-а! Зарю-у! — кричали петухи.
— О заре-э! — откликались их далекие соседи.
Чего они ждали с востока, горластые, самоуверенные пророки? Не в татарский ли котелок смела их поднявшаяся вихрем стихия? Не батько ль Махно рубил их петушиные головы для полкового котла в Приднепровье? А потом пускали петухов в черное небо искрами разгоравшихся пожаров, и тешились хмельные солдаты и орали пьяные песни. И пришел год — ели петухов иностранцы: зуавы, греки, англичане и всякий, кто был охоч до свежего петушиного мяса. И не стало петухов на юге. Молчаливые занимались зори — печальные, без петушиного крика. И все-таки…
Клочкова разбудил петух. Протяжный, слегка надтреснутый голос раздался где-то поблизости и замер в малиновом воздухе.
«Неужто петух?» — подумал Клочков, протирая глаза. Даже привстал на постели и вытянул шею. Крик повторился, и на этот раз совсем близко. Слышно было, как птица взлетела на возвышение в саду.
«Должно быть, это Чуйкин подарил Аннушке петуха, — сообразил Клочков. — Он ей не раз обещал».
Давнее время вспомнилось как мираж… Петухов жарили на сливочном масле. Клали в печь длинные жаровни и вынимали, когда мясо покрывалось сверху розовой коркой. Иногда петухов начиняли яблоками или рисом… Клочков облизал языком сухие губы. Внезапно увидал на столе продолговатое блюдо. Тонкий запах щекотал ноздри, рос и ширился. Но когда поднялся с постели — блюдо растаяло в воздухе и все вокруг закружилось, запрыгало в нелепом танце. Высившиеся за окном дома побежали спотыкающейся вереницей.
«Плохо дело», — подумал Клочков, хватаясь за спинку кровати. Вся комната шаталась, подобно корабельной каюте.
— Плохо дело, — повторил он уже вслух и поразился слабости собственного голоса.
Тускло блестел комод полированным закругленным краем; желтый китаец со старой чайницы улыбался слащаво и равнодушно. В просыпающейся улице за окном хлопали по асфальту деревянные сандалии пешеходов. Клочкову стало страшно в этой комнате, где все притаилось вокруг и молчало. Даже мышь, постоянная утренняя гостья, не скреблась под кушеткой, должно быть, и она умерла. Уйти?.. Бежать?.. Но ведь и бежать-то некуда. Повсюду встречала его та же мертвая обстановка. Когда-то в детстве, купаясь, он нырнул под плоты и долго потом шарил руками, стараясь выбраться на поверхность. Теперь он испытывал такое же чувство безнадежного отчаяния и страха. Чтоб отогнать неприятные мысли, стал думать о предстоящей ему сегодня работе. Сегодня он будет крутить карусель на площади Маркса. Должно быть, нелегко крутить карусель… В особенности на тощий желудок.
Раздумывая, одевался.
«Надо достать хлеба, — думал Клочков. — Хотя бы краюху. Где бы ее, однако, достать? Разве что у Филиппа, университетского сторожа? Старик теперь жил в достатке — ему помогали родственники, привозя из деревни продукты. Кстати, Филипп давно приглашал его зайти как-нибудь покалякать».
Кирпичное лицо сторожа вычертилось в углу комнаты неясным силуэтом.
— Пойду к Филиппу! — решил, наконец, Клочков. — Оттуда и карусель рукой достать, да и перекусить что-нибудь удастся.
Торопливо повязал вокруг шеи лоскут материи, заменявший ему галстук, и, надвинув до бровей старую соломенную шляпу, вышел на улицу. На секунду ослепило солнце. Дома, тротуары, деревья окрасились фиолетовой краской. Пахнуло в лицо акацией. У районного парткома на Октябрьской увидел редкую толпу.
«Митинг», — подумал Клочков и хотел повернуть направо. Чья-то рука потянула его за рукав пиджака, и голос, странно знакомый, окликнул по имени:
— Не узнаете, Николай Петрович?
Клочков оглянулся. Перед ним стояла маленькая, робко улыбающаяся женщина в наброшенном на плечи вылинявшем зеленоватом платке. Лицо ее, еще нестарое и миловидное, поражало худобой и желтизной. Рваная кофта придавала ей убогий вид, и только глаза, глубоко сидящие в орбитах, сияли молодо и задорно.
— Не узнаете? — повторила еще раз женщина.
— Должен признаться, нет, — сказал Клочков.
И вдруг отступил назад, пораженный смутным воспоминанием.
— Нина Сергеевна! — воскликнул Клочков, узнав наконец в стоявшей перед ним женщине давнюю свою знакомую.
— Да, вот видите, — сказала Нина Сергеевна, грустно улыбаясь. — Меня теперь никто не узнает. Очень уж я изменилась за эти годы.
— Нет, почему же… — смущенно пробормотал Клочков. — Наоборот…
Нина Сергеевна недоверчиво покачала головой:
— Не говорите. Ведь я же знаю, как подурнела.
Она придвинулась ближе к Клочкову и, испуганно озираясь по сторонам, зашептала:
— Мужа три раза водили в чрезвычайку. Можете себе представить, что мы пережили. А все из-за фамилии. У вас, говорят, фамилия старорежимная — Королек. Но чем же мы виноваты? Сами видите, какой я Королек. Скоро совсем буду ходить босая.
Клочков сочувственно покачал головой.
— А помните Розалию Михайловну? — спросила вдруг Нина Сергеевна, и в глазах у нее зажглись шаловливые искры. — Ну конечно же помните. Пышная такая брюнетка. Кажется, она вам когда-то нравилась.
— Как же, как же, — припомнил Клочков. — Что с ней?
Нина Сергеевна злорадно усмехнулась:
— Посмотрели бы вы теперь на нашу Розалию Михайловну. Тигр, настоящий тигр. Вся голова полосатая. Честное слово!
— То есть как это? — удивился Клочков.
— Ах вы, мужчины! — воскликнула Нина Сергеевна. — Ничего вы не замечаете. Ведь волосы у нее были крашеные. А теперь краска облезла и новой достать нельзя. Вот она и ходит полосатая.
Нина Сергеевна весело расхохоталась. Но сейчас же лицо ее приняло озабоченное выражение и глаза потускнели.
— Надо идти, — сказала она и протянула Клочкову руку. — Меня ждет муж за городом. Мы теперь собираем в поле колосья, разрываем мышиные норы. Вчера нам повезло — фунта четыре набрали.
Она улыбнулась жалобно и робко и, попрощавшись, исчезла за поворотом. Клочков стоял на улице, машинально читая объявления:
«Оркаи… Соцобес… Учпрофсож… Губпродком…»
Красные, синие буквы прыгали нестройными рядами. С тоской искал глазами что-либо давнее, знакомое, какой-либо обрывок прежней жизни. Но повсюду, куда обращал взор, встречала его та же чужая обстановка. Из-за угла вынырнула группа беспризорных и остановилась вблизи на тротуаре.
— Даешь хлеба? — сказал передний хриплым голосом.
Какое-то существо, похожее на обезьяну, с жалобным воплем метнулось в сторону.
— Хлеба, говорю, даешь? — настойчиво повторил передний и грозно нахмурил брови.
Клочков увидал девочку лет семи с зажатым в руке ломтем черного хлеба. Она стояла у стены, прижимая к груди свою добычу, всхлипывала и скалила зубы на обступившую ее толпу оборвышей.
— Ух ты, паскуда! — злобно прохрипел передний. — Я т-тебе покажу!
Грязная рука схватила девочку за волосы.
— Что вы делаете? — воскликнул Клочков. — Боже мой!
Кто-то повторил:
«Бо-о-же мой!»
Из толпы выскочил рыжий вертлявый мальчишка и, прыгая на одной ноге, запел:
Боже ж мой, Боже мой, Батько мой кожанай. Брат оловянай, Я сам деревянай!В толпе засмеялись, Клочков отшатнулся от них и, ускоряя шаги, пошел вдоль тротуара. Шел, опустив вниз голову, стараясь ни о чем не думать, сворачивая машинально в нужные ему улицы. И только подойдя к университетской клинике, огляделся вокруг. Здесь было тихо и пустынно. Сквозь прутья чугунной ограды, окружавшей серое здание университета, синели цветы — первые весенние колокольцы. На ярко-зеленой клумбе высеченный из камня фавн трубил в рожок, запрокинув голову в небо. Острой болью сжалось у Клочкова сердце… Университет, знакомая ограда… эта дорожка, усыпанная щебнем… Перед ним развернулся уголок отзвучавшей жизни. Незаметно подошел к сторожке и постучал в окно. Филипп был дома. Он встретил гостя таинственным шепотом:
— Што я вам шкажу! — зашипел старик на ухо Клочкову. — Чар объявился! Чар Николай! Брешут большаки, што убитай! У турков он в плену, вот где!
Коричневое лицо сторожа хитро усмехнулось:
— Это мине кум говорил. Он у них, у куманистов, начальником.
Клочков стоял, озираясь, в маленькой каморке. Здесь все было по-прежнему, те же олеографии из старых журналов висели по стенам: портрет Айседоры Дункан, землетрясение в Мессине, Дрейфус и охота на моржей. В углу над столом Георгий Победоносец разил копьем засиженного мухами змия… Все, все, как прежде. Как в те годы…
— Чичас мы чайку жаварим, — суетился Филипп. — Шахар мне из деревни прислали. Кхе, кхе…
«Как в те годы, — думал Клочков. И покосился на сторожа, — Странное, однако, лицо у Филиппа. Словно вырезанное из дерева. И у Дрейфуса тоже… Да».
Провел по волосам рукою. Внутри, где-то в мозгу, ощутил тупую боль.
«И вообще странно, — думал Клочков, сдвигая брови. — Недаром и этот мальчишка пел сегодня на улице: «Я сам…» Как это… «Я сам…»
Силился вспомнить. Мысли возникали и путались, что-то давило на череп изнутри тугой пружиной.
— А немцы, слыхать, корапь летательный засылають, — говорил Филипп, расставляя на столе чашки. — Хотят, жначить, газами передушить усю камуну.
— Корабль? — спросил Клочков. — Из дерева?
— А кто его жнаить, из чего этой самый корапь. Только передушат газами куманистов беспременно.
И вдруг Клочков понял, что надвигается несчастье. Яркая мысль озарила его как молния. Она пришла внезапно ослепительным откровением. В каждом предмете видел он теперь грозный намек. Каждая мелочь получила особый смысл, и даже голос Филиппа, шамкающий над ухом, заставлял вздрагивать и озираться. Бурное отчаяние подымалось в душе Клочкова.
«В чем же спасение?» — думал он. И вспомнил: карусель! Это единственная надежда. Стоит только закрутить карусель, напрягая все силы. Он это сделает сегодня же на площади Маркса.
Даже слезы выступили на глазах у него, когда представил себе важность предстоящей работы. Каким-то чудом открылось ему, бедному, неизвестному доценту, грозящее вселенной бедствие. Судьба назначила ему совершить величайший подвиг. И он совершит. Он будет спасителем мира…
Откуда-то сверху зазвучали знакомые голоса; можно было даже распознать голос политрука Чуйкина. Клочков насторожился. Неужели его подслушивают? Значит, они давно сидят там наверху и слушают каждую его мысль, чтоб помешать исполнению плана. Или же они ждут того момента, когда и его голова начнет деревенеть, и тогда они распилят ее острой пилой и прочтут все, как по книге? Только не удастся им это. Он будет хитрее…
Сделал несколько шагов по направлению к двери.
— Куда же вы? — прошамкал опешивший сторож. — Потому, ежели шахар, так у мине есть полхфунта. Мине из деревни пришлали.
Но Клочков уже отворил дверь и теперь уже шагал по направлению к балаганам.
— Надо спешить, надо спешить, — бормотал он, пересекая улицу. Шляпа сползла ему на глаза, и он не замечал этого, погруженный в тревожные думы.
IV
Балаганы стояли на площади в пыльном предместье. Еще издали можно было приметить неуклюжий конус затянутой полотнами карусели. После войн и революций Россию потянуло к веселью, к спокойной жизни, к нэпу, к лакеям и балаганам. Опять, как в давнее время, у деревянных бараков толпились любопытные солдаты. Здесь за недорогую плату можно было увидеть и зуб допотопного слона, и шляпу Наполеона, и трубку Тараса Бульбы, и женщину о четырех грудях. Опять, как встарь, сеньор Мацони, великий артист и маг, возвещал в рупор гала-программу мирового аттракциона, и обсыпанные мукой клоуны захлебывались скрипучим смехом. И гудела где-то шарманка, и старый знакомый, желто-лиловый попугай, лениво вытаскивал из корзины свернутое трубочкой поблекшее счастье.
— Айя-я-я! — кричал сеньор Мацони. — Пожалте, товарищи граждане! Грандиозная панорама! От наших дней до Адама! Все как по прейскуранту! Буденный колотит Антанту! Трагедия царского дома! Выкладывай деньги, Ерема! Айя-я-я!..
На сеньоре Мацони был черный фрак, сшитый из крашеного мешка, и белая картонная манишка, продранная во многих местах и тщательно замазанная мелом. Длинное худое пергаментное лицо улыбалось профессиональной улыбкой. И когда он снимал с головы блестящий цилиндр — видна была не менее блестящая лысина, окаймленная по краям седеющими волосами. Сеньора Мацони нельзя было упрекнуть в отсутствии энергии. Он кричал уже не своим, а каким-то чужим охрипшим голосом и останавливался только на секунду, чтоб вытереть рукавом фрака обильно струившийся пот.
Клочков подошел к карусели в тот момент, когда с нее уже стягивали полотна. В лучах вечернего солнца деревянные кони казались покрытыми сусальной позолотой. Ослепительно сверкали на алой ткани карусельного стержня бисерные блестки и украшения. Среди возившихся у полотен людей не сразу отыскал Хромина. Солнце слепило глаза и мешало что-либо разглядеть. Только подойдя вплотную к карусели, Клочков увидал своего друга.
— Вправо, вправо тяните! — кричал Хромин суетившимся рядом фигуркам. — Да куда же вы, товарищ? Сюда, вот так, вот так. Теперь закрепите канат. Готово!
Хромин спрыгнул вниз на землю и, оглянувшись, увидел Клочкова.
— Ага, и вы, дружище! — сказал он, идя навстречу. — Вот и отлично. Теперь работа пойдет веселей. Пойдемте, я вас представлю своим компаньонам.
Он взял Клочкова под руку и, поднявшись с ним по узенькой лестнице, открыл дверь, ведущую внутрь карусели. В густом полумраке неясно вычерчивались сбитые перекладиной бревна. Оранжевыми полосами пробивалось сквозь щели солнце.
— Обратите внимание на Требуховского, — шепнул Хромин, проталкивая Клочкова вперед. — Гениальная личность, скажу вам по секрету. Творец! Художник! Завтра я покажу вам одно из его произведений. Собственно говоря, живую лошадь. Изумительная работа!
Клочков вздрогнул.
— Живую лошадь? Кто сделал живую лошадь? — спросил он, испуганно озираясь.
Вокруг безжизненным табуном вздымались деревянные кони.
— Да он же, Требуховский, — сказал Хромин. — При помощи старой кобылы… Под зебру ее раскрасил. — Хромин передернул плечами и со вздохом добавил: — Публика теперь капризная. Ей покажи зверей. А где достанешь зверей в нынешнее время? Только тем и пробавляемся, что сами готовим.
Наконец, за пыльной занавеской открылась узкая четырехугольная каморка.
— Товарищи! — воскликнул Хромин, переступая порог. — Позвольте вам представить нашего нового компаньона.
Два силуэта лениво повернули головы. Клочков снял шляпу и вдруг застыл в неподвижной позе. Ветер прошел у него по волосам и в глазах зарябило. Прямо перед собой увидел странную голову, похожую на лошадиную морду. Но не вид головы смутил так сильно Клочкова. Его поразили уши. Длинные, немного вогнутые внутрь, они блестели тусклым светом и были, вне всякого сомнения, из дерева. Деревянные уши! Усилием воли подавил Клочков готовый было вырваться из груди крик. Бедствие началось раньше, чем он мог предвидеть. Это были первые признаки катастрофы, готовой разразиться над миром.
— Знакомьтесь, — сказал Хромин, выпуская руку Клочкова и отходя в сторону.
— Требуховский.
Клочков стоял, не в силах вымолвить слова. Мысли одна за другой вихрились в сознании. Не мог оторвать взгляда от страшных ушей. Словно завороженный глядел на них расширенными зрачками.
— Ишь как растерялся, бедняга! — усмехнулся Хромин. — Полно, полно, дорогой. Здесь вам не субстанция и не философский факультет. Повертите карусель — вся философия из головы выскочит… Не правда ли, товарищ полковник?
Хромин обратился к круглому человечку, сидевшему на перевернутом ящике. Человечек визгливо хихикнул. Клочков боком взглянул на него и попятился к стенке.
«Лысина, — подумал Клочков. — Ведь и она…»
Круглое одутловатое лицо с крошечным носом, похожим на прыщик, дружелюбно скривилось в улыбку.
— Да-с, знаете, крутить карусель, это того-с… Занятие, требующее больших усилий.
— Дерево? — спросил Клочков, указывая на лысину.
— Что-с? — удивился полковник.
— Дерево, — повторил Клочков с твердой убедительностью в голосе.
И с ужасом подумал:
«А что, если деревенеют мозги?»
— Это-с вы насчет карусели? — сообразил, наконец, полковник. — Деревянная, конечно, деревянная. Мы и курить здесь боимся. Когда надо, выходим на воздух. Сеньор Мацони на этот счет ужасно строгий.
Полковник вперевалку подошел сбоку и, взяв Клочкова за отворот тужурки, доверчиво заглянул в глаза.
— Ничего-с… привыкнете, — сказал он. — Спервоначалу, конечно, трудновато. Что же касается строгости, мне, как военному, даже приятно, что дисциплина. И потом такому, как сеньор Мацони, повиноваться приятно-с. Подумайте, чем был когда-то. Шутка ли! Свой зверинец! Семь обезьян однех было… даже горилла имелась… А что теперь? — Полковник развел руками: — Вот мы карусель крутим, да в балагане еще два калмыка работают в качестве японцев. Вот и все. Да-с.
Клочков уже не слушал полковника, всецело отдавшись собственным мыслям.
«Закрутить, напрягая все силы, — думал Клочков. — Так закрутить, чтоб полетели на землю деревянные верхушки. Пожалуй, лучше, что процесс начался сверху. Только надо скорей… Пока не одеревенела середина».
Снаружи нарастал рев, похожий на шум морского прибоя. Хромин отдернул рукой занавеску и, поглядев секунду, сказал:
— Пора, товарищи. Становитесь по местам.
Клочков первый подошел к перекладине и навалился на нее всем телом. Полковник стал впереди, а по бокам Хромин и Требуховский. Задребезжал резкий звонок.
— Начинай, товарищи! — закричал Хромин. — Гоп-ля!
Клочков почувствовал, как перекладина стала уходить от него вперед. Невольно сделал шаг, потом еще два и, наконец, пошел вслед за полковником, наступая ему на ноги. С переливами заиграла шарманка «Яблочко», кто-то ударил в бубен, и по черте горизонта поплыли деревянные кони. Карусель закружилась грохочущим диском. Свистнул, заложив в рот пальцы, красноармеец в остроконечной шапке; вычертилось в пролете между полотнами круглое его рябое лицо; красным огнем расцвел платок смеющейся девки. Шарманка гудела:
Уу-ы-ы, уу-ы-ы!
Пыль поднялась от земли и стала над каруселью коричневым облаком. Воздух дрожал от свиста, гиканья и грохота бубна.
— Наддай, наддай! — кричал, оборачиваясь, Хромин. Лицо его почернело.
Бум, бум! — грохотал бубен. — Бум, бум!..
Кони и люди уже неслись мимо с головокружительной быстротой. Шелестящим звоном дрожали карусельные побрякушки. Казалось, что вихрь, неудержимый и буйный, вдруг подхватил с земли всю эту массу людей и теперь кружил ее с сатанинской силой.
— Наддай! — хрипел яростно Хромин. — Веселей!
Клочков уже бежал вдоль по кругу, едва касаясь перекладины, почти не поспевая за ее непрерывным бегом. Видел попеременно мелькающие в пролетах лица красноармейцев, оскаленные в диком экстазе, крыши далеких домов, кладбищенскую ограду с несущимися по воздуху ангелами. Вечернее небо струилось огненной кровью, захлестывало на западе подымающиеся издали облака. Иногда красноармеец со шпицем на голове казался колокольней, сорвавшейся с места и теперь несущейся вдаль по кругу. И прямо на зарю, в алый огонь прыгали, раскачиваясь, деревянные кони. Требуховский тяжело сопел и чихал от забившейся в нос пыли. Полковник на бегу вытирал рукавом вспотевший лоб и жалостно смотрел на Хромина. Но Клочков не чувствовал усталости — неведомая сила влекла его и подгоняла вперед. Близкое спасение видел Клочков в безумном кружении карусели. Ждал каждую секунду: вот сейчас обрушатся все деревянные верхушки, и старый спокойный мир блеснет из-под обломков забытой синевой… Старый мир… Давнее блаженство. Библиотека с научными книгами… Тихие часы раздумий… Торговля с Византией в XII веке… Фридрих Великий и Ренессанс… Ужин за пять рублей… И вдруг, как вырез из памяти — усадьба… тополя…
Бум, бум!..
Тополя…
Бум, бум!
Ужин за пять рублей… на первое борщ со свининой… потом жареная телятина или петух… потом желе…
Бум! Бум!
Шумят тополя. Ласточки на телеграфных проводах. Виньетка из старинного журнала… Кто это залил небо кровью? Пожар? Горит душа? Горит душа! Сверху и снизу…
Уу-ыы! Уу-ыы!
Залейте душу одеколоном! Залейте, пока не поздно.
Бум! Бум!
Пока не поздно, остановите! Остановитесь!..
— Остановитесь! — кричал, обернувшись, Хромин. — Что, у нас руки казенные вертеть карусель целый час! Стоп, товарищи! Довольно!
Клочков нажимал перекладину в каком-то диком экстазе. Видел, как розовеет лысина полковника Страхова, и знал, что это результат упорной работы.
«Ведь была деревянная, — думал Клочков. — Совсем деревянная. А теперь уже лысина, как у всех… Самая настоящая лысина».
И вдруг ошеломила тишина.
— Садитесь, отдыхайте, — тормошил Хромин Клочкова. — Экая вы шляпа, ей-Богу!
Клочков опустился на ящик, стоявший у стенки. Возбуждение сменилось внезапной усталостью. Тускло уставился глазами на Требуховского. Художник достал из кармана сухую тарань и с жадностью вонзил в нее желтые зубы.
— М-м-м, — мычал Требуховский. — И не прокусишь ее, проклятую. Как дерево, черт бы ее побрал!.. Впрочем, не угодно ли?
Клочков протянул руку. Машинально откусил кусок сушеной рыбы. Во рту остался вкус дерева. Но теперь это не поразило — все было деревянное. Все вокруг было деревянное.
— Слыхали? Пупков арестован, — сказал полковник, усаживаясь на перекладине.
— Знаю, — протянул Требуховский, обсасывая тарань. — И поделом ему, пускай не ворует. Маслица захотелось!
Требуховский хрипло рассмеялся.
— Маслице хоть и деревянное, а все же для декораций ему отпущено, а не для кухни. К тому же дурак: не умел таить. Бывало, кто ни зайдет — сейчас же хвастает… У нас, говорит, все на деревянном масле. И картошку жарим на деревянном масле, и кашу готовим… Ну и попался. Донесли.
Клочков на секунду вышел из оцепенения.
— Жидкость не может быть деревянной, — сказал он, взглянув на художника. — Деревенеют только твердые предметы.
Требуховский сердито крякнул.
— Товарищ, я не лгу и лжецом отроду не был. Весь город знает, сколько у Пупкова спрятано деревянного масла.
Резкий звонок, раздавшийся сбоку, заставил Требуховского умолкнуть.
— Поехали дальше, товарищи! — крикнул Хромин. — Живей!
Шарманка визгливо заиграла марш. Прилаживаясь к ней, загрохотал бубен. Снова поплыли в догорающем небе силуэты коней и всадников. Клочков устало брел по кругу, спотыкаясь на каждом шагу.
— А что, если вправду и жидкость деревенеет?
Эта мысль сверлила ему мозг и приводила в уныние. Тогда все его усилия напрасны. Мир оцепенеет, застынет деревянной пустыней. Будет только ветер свистеть в голом пространстве, завывать: уу-ыы, уу-ыы! А солнце, как бочка, повиснет в небе. Пустая бочка… В пустую бочку — бум, бум! В бочку — бум, бум! Уу-ыы! Уу-ыы! Бум, бум!
Время разомкнулось теперь для Клочкова одной непрерывной линией. Оно звенело вокруг, отсчитывая деревянные минуты, и докатилось до пропасти в ночь, в пустоту. В ночь… Было темно на самом деле.
Хромин, улыбаясь, хлопнул Клочкова по спине ладонью.
— Ну-с, вот и конец, — сказал он. — Сегодня отработали. Теперь надо подумать о ночлеге.
Клочков очнулся.
— Спать, спать! — бормотал он. — Заснуть!
Требуховский уже прилаживал в углу опрокинутый ящик и, наконец устроившись в нем кое-как, подогнул ноги и захрапел. Сквозь дыры в полотнах увидел Клочков звездное небо, зеленовато-черное, чуть тронутое внизу, над кладбищем, сиянием встающей луны. Упорно слипались глаза. Подкашивались ноги. От звезд протянулись к самому носу длинные серебряные нити. Сон связывал медленно и верно.
«Засну… и не увижу», — подумал Клочков, укладываясь в углу и подстилая под голову тужурку. Пахнуло прохладой. И последняя память — сверчки. Где-то на кладбище неустанной трелью — чир, чир, чир, чир… — и погасло.
V
Глухой ночью проснулся Клочков и с ужасом приподнял голову. Стучало. Как на ремингтоне: тук, тук, тук, тук… Это стучало сердце. Его сердце. И оно было деревянное…
Обеими руками схватился за грудь — стук шел изнутри. Безжизненный, мертвый, как работа машины, он леденил кровь. Спазма захватила горло. Шатаясь, выбежал за полотна наружу. Первое, что увидел — вместо луны в побледневшем небе тусклый деревянный круг.
«Вот когда настоящее бедствие», — подумал Клочков. Потянул носом. Пахло деревянной гарью. Стоявшие на площади балаганы уже обуглились и почернели. Длинные тени пролились от них на землю густыми чернилами. Земля чуть дымилась розоватым дымом. Клочков стоял неподвижно, охваченный нервной дрожью.
Гибла вселенная. Весь прекрасный и совершенный мир. На его глазах гибла вселенная!
И вдруг ясная мысль шевельнулась в голове Клочкова: ведь деревенеет поверхность… Бедствие развивается постепенно. Быть может, если ему удастся выяснить сущность процесса, найдется и новый способ спасения мира. И это надо выяснить немедленно… Пока не застыли мозги.
Клочков приподнял серый брезент карусели и, осторожно ступая, прошел вовнутрь. Разметавшись на земле, храпел полковник Страхов. Круглое его лицо чуть улыбалось во сне, и губы сами собой бормотали несвязные слова.
— Почему? — говорил полковник. — Как-так без доклада?.. Пальба шеренгой!.. «Чубарики чуб-чики, чуб-чики…»
Сосредоточенно глядел Клочков на лысину полковника Страхова. Она поблескивала в темноте и была, бесспорно, деревянной.
«Но что же внутри, под лысиной, — подумал Клочков. — Неужели мозги? Это надо узнать, сейчас же узнать».
Вспомнил, что там у лесенки сегодня лежал топор. Крадучись, чтоб не разбудить спящих, Клочков прошел мимо деревянных коней, несколько минут шарил руками в темном углу и, наконец отыскав топор, так же тихо возвратился назад.
— Позвольте ручку, — бормотал во сне полковник. — Мадам… вы совершенство!
«Только б не промахнуться, — думал Клочков, подымая топор. — Надо как раз по середине… в лысину».
И он ударил наотмашь прямо в блестящий круг — в деревянное темя.
— Уф-ф, — вздохнул полковник.
Все тело его слегка приподнялось и вздрогнуло. Руки поползли в стороны, как раскрывающиеся ножницы. Топор глубоко вошел в деревянную подстилку карусели и еще звенел, раскачиваясь, упругим звоном.
— Кто здесь? — воскликнул от удара Хромин.
Клочков затаил дыхание.
— Ч-чертовы крысы! — выругался Хромин. — Не дают спать.
Несколько минут выжидал Клочков, пока не водворилась тишина. Сгорая от любопытства, осторожно протянул руку к разрубленной голове полковника. Рука нащупала мякоть… теплую мякоть, немного клейкую и сырую…
Клочков беззвучно смеялся.
«У полковника Страхова были мозги. Самые настоящие мозги… Теперь за работу, — решил Клочков, подымаясь с земли. — Надо закрутить карусель. Надо сдвинуть ее с места во что бы ни стало. Только хватит ли у него сил?»
Почувствовал прилив необычайной энергии. Выдернул из разщепа топор и, сжимая его рукой, шагнул в глубь карусели. И вдруг заржали все карусельные кони и повернули головы. Дыбом поднялись у Клочкова волосы. Кони неслись на него, оскалив зубы, и вот сейчас, вот сейчас растопчут его деревянные копыта, сотрут в порошок, уничтожат. Рубнул топором ближайшую к нему морду. Щепки со звоном посыпались на пол. Другая оскалилась рядом, слепо поводя деревянными очами. Целый лес лошадиных морд обступил его со всех сторон. Клочков рубил направо и налево. Слышал только деревянное ржанье и звон топора, видел, как уши, гривы, глаза сыпались вниз, устилая пол карусели.
— Вяжите его, вяжите! — кричал испуганно Хромин.
Художник Требуховский со стоном прижался к стенке.
«Еще лошадиная морда», — подумал Клочков и, взмахнув топором, шагнул к Требуховскому.
— И-ги-ги-ги! — жалобно заржал художник. — И-ги-ги-го-го!
— Сзади его, товарищи! Хватай сзади!
Хромин заскочил сбоку и неистово махал руками. Кто-то отдернул полог — робкая утренняя заря медной полоской блеснула снаружи. Высокая фигура в красноармейской форме проплыла по заре и остановилась вблизи, вычерчиваясь остроконечной шапкой. Клочков повернул голову. Деревянно взглянули на него глаза. Вырубленный подбородок почти коснулся лица. Деревянная рука холодной тяжестью легла на плечо.
«Все кончено», — подумал Клочков. И отбросил топор в глубь карусели.
Фермеры
Город мне опротивел. Я так часто и подолгу в нем голодал, что собственный пиджак стал мне казаться вместительной палаткой. Я мог бы безошибочно пересчитать все свои ребра, а лицо мое от постоянных недоеданий приняло форму треугольника, обращенного вниз своей вершиной. И, блуждая по улицам Праги, я мечтал приблизительно так: «Не унывай, может случиться чудо. Ты встретишь неожиданно благодетеля, который предложит тебе хороший завтрак. Ведь есть же еще на свете добрые люди! Мы вместе войдем в колбасную, и барышня в белом переднике суетливо поспешит в нашу сторону.
— Что вам угодно, господа?
— Отвесьте немедленно два кило ветчины, — скажет воображаемый благодетель. — Можете не вырезывать сала: молодой человек, вероятно, предпочитает жирную пищу.
А я, по интеллигентской привычке, буду, конечно, отказываться:
— Нет, о нет!.. Одного кило ветчины вполне мне хватит на завтрак… уверяю вас… я очень мало ем в последнее время…»
Так, грезя наяву, я был близок к галлюцинации. Дома внезапно сдвигались со своих гранитных фундаментов; городовой, не сходя с места, плыл мне навстречу, помахивая белой перчаткой; предметы и люди сплывались в одну общую массу, и я прислонялся спиной к стене, стараясь сохранить равновесие. Голова моя чертовски кружилась. Да, нужно было поскорее выбраться из этого проклятого города. Мне тем более хотелось уйти отсюда теперь, когда начиналась весна. Я думал о полях, о жаворонках, о березовых рощах, о парном молоке, которое буду пить запоем. Пусть только попробуют оттащить меня от кружки. Я присосусь к ней с жадностью полипа. И я буду работать у какого-нибудь доброго фермера, на лоне природы, под голубыми апрельскими небесами. Но меня смущало одно обстоятельство: я еще никогда не работал на ферме. Сельское хозяйство представлялось мне тогда только по роману Толстого. Я буду, как Левин, заходить по утрам в конюшню и любоваться лошадьми. Свиней я буду чесать за ухом — они это, кажется, чрезвычайно любят. Ну, а все остальное легко можно усвоить на практике. На практике я познакомлюсь с курами, утками, гусями и индюками. То-то будет потеха наблюдать этих глупых животных! Ведь недаром же говорится: «Он глуп, как индюк», «Она совершенная курица», «Этакий гусь»… Да, я был очень наивен в то время. Теперь, после всего происшедшего, я в корне переменил свои убеждения. Я преклоняюсь перед хитростью индюков, я научился глубоко уважать одну старую рябую квочку, а у петухов, бесспорно, есть ярко выраженная индивидуальность. И вам, почтенный осел, я прощаю нашу первую встречу. Вы меня тогда больно лягнули копытом. Однажды вы даже укусили меня за ухо. И все-таки я прощаю вам это, так как вы были моим терпеливым и упрямым учителем. Примите уверения в совершенном к вам уважении и искренней преданности…
Помню все же, как трудно было выбраться из города. Пришлось прибегнуть к помощи приятеля.
— Ты вынесешь мои вещи, — сказал я ему. — Мне самому никак нельзя, хозяйка следит за мной глазами хищной акулы.
— Но ведь я так подозрительно одет, — замялся приятель. — Она может принять меня за вора.
— Тебя? За вора? Не говори глупостей. У тебя тонкое интеллигентное лицо, и вовсе не заметно, что ты в парусиновых туфлях. В профиль ты даже напоминаешь Муссолини.
Он наконец согласился, убежденный моими доводами. Мы обманули-таки квартирную хозяйку. И вот я на воле, с узелком белья под мышкой. Я оглядываюсь на свое прошлое, рискуя свернуть шею. Ах, что это была за жизнь позади! Что за жизнь! Одно сплошное мучение. Зимой я согревался на общественно-политических докладах, — там можно было просидеть иногда до двенадцати часов ночи. Я тихонько садился у печки и слушал все, что мне говорили ораторы. Я только старался не уснуть — это было бы непростительным скандалом. Признаюсь, трудно было не уснуть на этих докладах… А потом, с марта месяца, когда перестали топить печи, я отошел от политической и культурной жизни. Пришлось согреваться на вокзале. «Нет, лучше забыть обо всем этом», — думал я, сидя уже на скамье в городском парке.
* * *
Случалось ли вам, после длительной жизни в городе, внезапно очутиться в поле? Что за краски вокруг! Что за звуки! Жаворонки наперебой воспевают Глинку. Из земли, перегоняя друг друга, выскакивают наружу зеленые стебли растений. Листья одуванчика стелются на бугре зубчатыми коронами карточных королей. И у старой каменной ограды чудесное соединение кормилицы и приват-доцента, бородатая коза глядит вам вслед выпуклыми глазами. И вот на пути начинают попадаться фермы. Вы замечаете волов (их, кстати, нетрудно заметить), они тихо бредут по вспаханному полю, наслаждаясь своим воловьим здоровьем. Загорелые фермеры не спеша следуют за волами. И у меня возникает любопытство: как должны выглядеть маленькие волята? «Они, наверно, очаровательны. Телят я когда-то видел. Но волят еще никогда… Ну, увижу, даст Бог», — думал я, подходя наконец к ферме. И мне очень повезло: я в тот же день получил работу. Хозяин-фермер оглядел меня с ног до головы, словно необыкновенную городскую скульптуру, выставленную напоказ жаворонкам и воронам; он даже пощупал меня руками. А я стоял с опущенной вниз головой, как негр-невольник на африканском базаре. «Лишь бы он меня приобрел», — думал я почти с трепетом.
— Что же ты умеешь делать? — спросил наконец фермер по-немецки.
Мое изощренное обоняние поймало на лету запах жарящейся где-то свинины, и я ответил не колеблясь:
— Все!
Он хрипло и весело расхохотался. На красном лице запрыгали мясистые щеки. Белые отмели зубов обнажились четким перламутром.
— Зер гут, — похвалил немец.
И я был принят на службу.
С этого, собственно, дня начались мои необыкновенные приключения.
Я никогда не забуду своего первого ужина на ферме. Сказать, что я ел за четверых — это значит глубоко извратить истину. Я ел за десятерых, я ел за всех, я мог бы есть за всю Вселенную — столько во мне накопилось героического аппетита. Даже дворовая собака, потерявшая, очевидно, надежду получить от меня подачку, жалобно заскулила, отходя в сторону. Старуха-фермерша уставилась на меня закруглившимися глазами. Я ел молча и решительно, так, как едят обычно люди, не уверенные в завтрашнем дне. Да, я не был уверен в завтрашнем дне. Возможно, что утром меня вышвырнут вон… После ужина фермер отвел меня в коровник.
— Здесь ты будешь спать, — сказал он, указывая на ясли. — Устраивайся, как найдешь для себя удобней.
Он ушел, плотно прикрыв за собой дверь. Коленопреклоненные коровы добродушно и шумно вздыхали. Они молились своему коровьему богу. В полумраке я с трудом различал их рогатые головы. Все это было необычно и даже жутко. А еще так недавно я слушал в Праге лекцию о протопопе Аввакуме, о влиянии Катулла на юношеские стихи Пушкина, и вот сейчас я лежу в яслях и библейские звезды проглядывают сквозь щели… Ночь была довольно холодной, и я аккомпанировал зубами собственным мыслям. Утром, на заре, рука хозяина вытащила меня из яслей, как лотерейный билет.
— Посмотрим на что ты способен, — сказал фермер, недоверчиво усмехаясь. — Пока нам известно, что ты ешь как вол. Но будешь ли ты работать, как вол, этого мы еще не знаем.
И он приказал мне немедленно запрячь лошадей в зеленый шарабан, стоявший во дворе под навесом. Он взвалил мне на плечи целый ворох уздечек, сбруй, подпруг, вожжей и всяких других принадлежностей лошадиного туалета. Я покорно отправился в конюшню. Нужно ли говорить, что я еще никогда не запрягал лошадей? Я даже не видел, как их вообще запрягают. И только путем всевозможных редукций я пришел к заключению, что нужно начинать с уздечки. Я взял в руки уздечку и вертел ее так и сяк, пытаясь отыскать ее конец и начало. Увы! Это была трудная китайская головоломка. Тогда я решил испробовать ее на себе. «У меня довольно длинное лицо, — подумал я, разглядывая уздечку. — Почти как у годовалого жеребенка. Ну, а удила я могу слегка прихватить зубами. По крайней мере, так я лучше всего увижу, в чем тут дело». Но когда я надел уздечку, удила пришлись у меня где-то над головой. И в таком виде застал меня неожиданно появившийся хозяин. Я навсегда запомнил его лицо в эту минуту. У него был странный и чрезвычайно удивленный вид. Казалось, что он собирался сесть на меня верхом, но через мгновение он отступил назад, почти в испуге тараща на меня глаза.
— У вас неудобные уздечки, хозяин, — сказал я как ни в чем не бывало. — Теперь нигде таких не выделывают.
Но он уже схватил меня за повод и со свирепой мужичьей яростью выволок наружу из конюшни.
«Прощай обед, — подумал я безнадежно. — И, вообще, прощай служба. Я буду счастлив, если он не накостыляет мне на прощанье шею. Хорошо еще, что я хоть вчера отменно поужинал», — попытался я сам себя утешить. Но, очевидно, мысль насчет моего вчерашнего ужина мелькнула также в уме у фермера. Ругаясь и хмурясь, он снял с меня уздечку. Нет, мне еще предстояла работа… Мы обогнули конюшню и подошли к огромной куче навоза, возвышавшейся в стороне у забора. С не остывшей еще яростью фермер ухватился за вилы и стал перебрасывать навоз с одного места на другое. Потом он протянул мне вилы, а сам отошел в сторону, сердито попыхивая трубкой. Я решил наконец показать ему, на что вообще способен. Пусть, когда я усядусь за обед, он не подумает упрекнуть меня в дармоедстве. Пусть он теперь посмотрит… Слегка разбежавшись, я вонзил вилы в навозную кучу. Но странно… Когда я их выдернул обратно, на них не осталось ничего. Я повторил маневр, но навоз опять просеялся сквозь вилы. Глаза у фермера налились кровью. Я не рискнул продолжать в том же духе и остановился на месте, недвусмысленно повернув вилы в его сторону.
— Ты самый гнусный и подлый жулик, каких я вообще видал в своей жизни, — сказал мне фермер, задыхаясь от бешенства. — Но ты мне отработаешь вчерашний ужин, будь я проклят! Я научу тебя работать, чертов босяк!
Во мне поднялось чувство собственного достоинства. Оно всегда у меня подымалось, когда я не был особенно голоден.
— Вы напрасно ругаетесь, — сказал я, продолжая держать вилы обращенными в его сторону. — Вы можете меня уволить, если вам не нравится моя работа. Но ругаться я вам все-таки не позволю.
Я услыхал, как скрипнула трубка под его плотно сжатыми зубами. Он косо посмотрел на меня и потом прицелился взглядом к прислоненному у забора увесистому горбылю.
«Кажется, будет буря», — подумал я, стоя, как Посейдон, с трезубцем наготове.
Однако мужичья скупость взяла перевес над обуревавшими его чувствами. Он только молча сплюнул сквозь зубы и, повернувшись ко мне спиной, медленно побрел к дому. Минут через десять меня все-таки вызвали к обеду. Пришла восьмилетняя Берта и мило пролепетала:
— Цуммиттагэссэн.
Я знал, что это мой прощальный обед, и потому ел с мрачной энергией. Я ел с расчетом на будущее, предвидя обратное путешествие в Прагу. И мне было ясно, что за этот обед и за вчерашний ужин меня заставят-таки основательно поработать. Я не ошибся. После обеда хозяин собственноручно запряг лошадей в старую повозку, доверху наполненную золой.
— Отвези в поле, — сказал он мне, указывая в то же время рукой на одно определенное место. — Вот туда, на бугор, — повторил он. — Туда все свозят золу.
С некоторым страхом я взял в руки вожжи. Лошади тронули с места, колеса загрохотали, и я очутился за воротами на гладко укатанной дороге.
Черт возьми! Управлять лошадьми вовсе уж не такое сложное дело.
Я лихо подкатил к назначенному мне месту и увидел довольно большой участок земли, сплошь покрытый золой. Я въехал с повозкой на самую середину этого участка. И вдруг лошади взвились на дыбы и дико заржали. Я соскочил вниз, испуганно сжимая в руке кнутовище. Я провалился по колено в золу и тут же почувствовал нестерпимый жар внизу под ногами. Оказывается, под пеплом тлел огонь. Прыгая с ноги на ногу, я быстро вскочил обратно на повозку. Лошади уже не ржали — они ревели. Облака едкой пыли поднялись вокруг от их бешеных прыжков. Я со всех сил натянул вожжи, пытаясь сдвинуться с места, но вокруг меня стояла тьма и сам я был похож на пророка Илию, возносящегося живьем на небо. Внезапно сквозь дымную тьму я услыхал дикие ругательства моего фермера. Клянусь вам, я им обрадовался в тот миг, как гласу вопиющего в пустыне. Но кнут, вырванный у меня из рук, положил предел этой преждевременной радости. Что-то больно обожгло мне щеку. Ругая лошадей, хитрый мужик стегал меня по чем попало.
— Назад, Фриц! — кричал он на лошадь и осыпал меня градом ударов. — Эй! Но-о! — и кнут опускался мне на спину.
Когда мы выбрались наконец на дорогу, все лицо мое пылало, а из рассеченной губы струйками стекала кровь.
— Кажется, и тебе попало, бедняга, — сказал фермер с фальшивой усмешкой.
Он явно издевался надо мной и был, видимо, доволен произведенной экзекуцией. Я молчал, стиснув зубы… И тут любителей Пруста я огорчу своим чистосердечным признанием: я не запомнил в то время никаких психологических мелочей. Может быть, на придорожном камне сидела какая-нибудь зеленая мушка (и даже вполне допускаю, что она там сидела), может быть, какая-нибудь травинка имела форму вопросительного знака и, раскачиваясь, отбрасывала на землю едва заметную крохотную тень, о которой стоило бы обстоятельно поговорить… Но, право, у меня так болели некоторые части тела, что я был далек и от психологии, и от Пруста…
Вечером, лежа у себя в яслях, слушая жвачку коров и их сочувственные вздохи, я обдумывал способ, как бы мне на заре незаметно улепетнуть. Ботинки я привесил над головой, чтоб ночью их не утащил хозяин. Я твердо решил вернуться обратно в Прагу. «Лучше голодать и слушать доклады о протопопе Аввакуме, чем подвергаться здесь всяким унижениям. Кроме того, ведь меня обещали устроить через месяц билетером в один немецкий биограф. Я хорошо владею немецким языком…» Так, раздумывая, я незаметно уснул. И утром я увидел зарю, стоя на четвереньках, чувствуя еще падение на пол. А надо мной склонился фермер с неизменной трубкой в зубах.
— Ты думаешь, что я всегда буду тебя будить, ленивое животное? — спросил он, оскалив зубы. — Нет, ты научишься вставать сам или я тебе сверну наконец шею.
Заря была поистине апокалипсической: по ней двигались рогатые головы. К губам моим прилип сухой лист кукурузной соломы. Может быть, поэтому я ничего не ответил.
— Пойди накорми осла! — коротко приказал фермер. — Потом вычистишь птичник.
Я послушно пошел к ослу. Да и куда мне было теперь идти?.. Теперь, когда мой побег все равно не удался… Не удалось мне бежать и на следующий день. И вообще, я постепенно втянулся в работу… Я научился многим удивительным вещам, о которых не имел прежде ни малейшего представления. Я знаю, например, как нужно привязывать коров, чтоб они не убегали с привязи, я изучил практическое акушерство, принимая телят и поросят, а о цыплятах я мог бы написать интересную книгу. О фермере могу сказать теперь вполне беспристрастно: он был не добрым и не злым. Он просто был дельным хозяином. И осенью, когда я уходил обратно в Прагу, две луны виднелись на горизонте. Одна из этих лун была моим лицом.
— Ты очень разжирел, — сказал мне на прощанье фермер.
А я подумал: «Еще бы! Ведь я же ел почти что за десятерых!»
Грибная история
I
Вряд ли кому из беженцев памятна теперь фигура Клементия Осиповича Крутолобова, блеснувшего на нашем горизонте этакой маленькой звездочкой. Слишком уж невзрачная была фигура. И среди бывших профессоров, писателей, художников и бесчисленных приват-доцентов она казалась даже вовсе ничтожной. Если бы Клементий Осипович попал не в Прагу, а в какой-нибудь Париж или Берлин или вообще куда-нибудь не в столь исключительный умственный центр, если бы, повторяю, судьба забросила его на кожевенный завод или автомобильную фабрику Рено, то с ним бы не произошло той трагической истории, о которой речь будет впереди. И потом, кто знает? Быть может, в других условиях Клементий Осипович вовсе не пристрастился бы к собиранию грибов. Страсть к грибам у него могла возникнуть именно здесь, в чешской Праге, в этом сыром и дождливом климате. Трудно сейчас и припомнить, где именно, в каком учреждении служил Крутолобов. Не то это был «Русский научный институт», не то «Институт по изучению России», не то «Канцелярия по изучению институтов вообще», не то, наконец, «Русское общество бывших институток». Да и не в этом в конце концов дело. Мало ли в Праге всяких культурных учреждений! Важно то, что Крутолобов служил в канцелярии мелким незначительным чиновником. Он и на машинке печатал робко, одним указательным пальцем, чуть склонив набок свою рыжую голову и закусив губу так, словно бы влюбленный, впервые прикасающийся к персям любимой женщины. И ходил Крутолобов всегда на цыпочках и говорил почтительным шепотом. Речь же его пестрела неизменно словечками вроде: «давеча», «нынче», «дескать»… Руссейший был человек!
Возраста его также никто не знал. Быть может, ему было за сорок, а быть может, и не больше тридцати пяти. Лицо у него было плоское и мелкое, с воробьиным носиком и реденькими рыжими усами, из которых один был всегда закручен вверх. И одевался Крутолобов сообразно своему положению — на нем был коричневый пиджак в белую полоску и черные брюки со штрипками. Вот разве что этими штрипками выделялся Крутолобов из так называемой «серой толпы». Словно Господь в неизреченной милости своей повелел ему: «Носи, Крутолобов, брюки со штрипками. Никто их теперь не носит, а ты носи. Выделяйся…»
Жил же Крутолобов не в самом городе, а в дачном поселке под Прагой, на лоне природы, у леса, где по вечерам пахло соснами и свежей травой. Снимал он одну только комнату, чуть ли не на чердаке под крышей, и здесь, в тиши деревенского уединения, предавался своим мечтам. Кто бы мог подумать, глядя со стороны на эту невзрачную фигуру, какие буйные фантазии, какое поэтическое вдохновение таится под внешним спокойствием и почтительной выдержкой. Казалось, — вот создан человек для подшивания казенных бумаг и для гуммиарабика и сургуча, для входящих и исходящих, для бланков, копий, чернил, перьев и карандашей. А на самом деле было совсем не так. Конечно, подшивал бумаги Крутолобов восхитительно. Это у него было от предков, от отца и от деда, унаследованный семейный талант. Иной раз на пари или просто чтобы позабавить сослуживцев сошьет вместе речи наших общественных деятелей да так ловко подгонит строчку к строчке, что и не разберешь, где кончается один и где начинается другой. Как будто одно лицо говорит беспрерывно. Но опять-таки, не в этом суть дела. Суть дела в том, что Крутолобов был мечтателем и поэтом. Каких только красот не рисовало ему собственное воображение, когда, приехав домой со службы, он ложился в уголке на кушетку.
«Вот найду миллион, — думал Крутолобов. — Или даже нет… пять миллионов. Заведу рысаков… женюсь. У жены будет будуар, у меня кабинет. То я к ней в будуар, то она ко мне в кабинет. Приоденусь, понятно. Галстухи там, воротнички и так далее…»
Мысленно он видел себя в роскошном автомобиле на главной улице и потом у подъезда лучшего ресторана. Швейцары почтительно распахивают перед ним двери… А то еще пригрезится ему, что он в турецком гареме. Роскошные красавицы в легких одеждах кружатся вокруг него. И песню его любимую поют — «Позарастали стежки-дорожки». И вдруг одна из них, самая красивая и обольстительная, кричит, заломив руки: «Клементий! Я вся изныла от страсти!» Так грезил Крутолобов в тиши деревенского уединения, и были мечты его безобидны, как сон невинного дитяти.
II
Хороши леса под Прагой! Сосны, ели, березы… Трава-мурава, птицы разные и цветочки… Барашки на лугу подпрыгивают, резвятся… Где ручеек, там и ресторан, где бугорок, там и гостиница. Сиди, любуйся, отдыхай, кушай хлеб с маргарином и вспоминай Россию. Любил Крутолобов такие лесные прогулки летними прозрачными вечерами. Любил по узенькой тенистой тропинке уходить в лесную глушь, туда, где звонко шумят сосны, шепчутся между собой осины, и солнечный луч, пробившись сквозь гущу ветвей, дрожит зеленым зайчиком на шоколадной рекламе «Ориона». Душой и телом отдыхал здесь Крутолобов.
И вот однажды, возвращаясь домой с прогулки, споткнулся Крутолобов о какой-то круглый и твердый предмет. Наклонился и видит: огромный гриб-боровик допотопным чудовищем вырос у края дорожки. Задрожало у Крутолобова сердце, запрыгало в груди.
«Ведь вот, — подумал он, — какой феноменальный случай. А между тем факт, с которым надо нынче считаться и мимо которого никак нельзя пройти без внимания. Мы, дескать, должны уяснить хотя бы в общих чертах…»
С этими мыслями он опустился на четвереньки. И поразительная картина представилась его очарованному взору. В молодом ельнике у дорожки он увидел целый отряд белых грибов, один другого крупнее и выше, и шляпки на них были темно-коричневые, как из свежего молочного шоколада. Даже не поверил было Крутолобов в такое чудо.
«Здесь, в центре Европы, на мировой арене общественно-политической мысли… и вдруг такие грибы. Не-ве-ро-ят-но! А между тем, если рассудить, то фактически верно. Во всех деталях верно. И нет даже оснований для излишнего пессимизма. Наоборот, — подумал он, держа уже гриб в руке, — здесь вполне уместен самый реальный оптимизм».
И тут же лукавый грибной амур навсегда пронзил Крутолобова испепеляющей страстью. Стал с того времени Крутолобов собирать грибы каждый свободный день, даже корзину купил — грибное лукошко. Чуть праздник — он уже в лес с утра и рыщет по кустам, выискивая глазами. Календарные над лесом загорались зори; фиолетовой тушью рисовался в тумане сосновый бор; облака на востоке растекались красными чернилами.
«Феноменально!» — думал Крутолобов.
Он не понимал теперь, как мог раньше жить, не интересуясь грибами. Грибы ему мерещились повсюду. Он видел во сне целые поляны грибов — рыжиков, подберезовых, осиновых и боровиков. Даже шея заведующего канцелярией казалась ему теперь грибной шеей. И когда он закрывал глаза, перед самым носом у него вырастали грибы величиной с водяную мельницу.
Но впереди уже поджидала трагедия. Ибо поджидает человека трагедия на каждом его шагу…
В поселке, где жил Крутолобов, как раз через двор, в одной из соседних дач обитала семья русского прапорщика Укусилова. Здоровенный мужчина был этот Укусилов, плечи у него, как ворота, и поступь совсем медвежья. А жену имел маленькую, всю в кудряшках и локонах; как рождественский ангел из ваты выглядела Марья Васильевна. И так как бездетны были супруги, скучала очень госпожа Укусилова. То романс Вертинского напевает: «Куда же вы ушли, мой маленький креольчик», то посчитает от скуки долги мяснику и в лавке, то разведет от безделья примус и кушает чай, то просто сидит у окна и смотрит на улицу. Вот раз и увидела она Крутолобова с лукошком в руке. А в лукошке грибов видимо-невидимо.
— Ах, какая прелесть! — воскликнула Марья Васильевна. — Неужели в нашем лесу нашли?
— Да, представьте, у нас, — сказал Крутолобов и ухмыльнулся от удовольствия.
— О! — воскликнула опять Марья Васильевна. — Вы непременно должны меня взять с собой. Нельзя же быть таким эгоистом.
И кокетливо так усмехнулась Клементию Осиповичу из оконца.
Как же было не растаять поэтической душе Крутолобова.
— Я что же… Я с удовольствием, — вспыхнул Крутолобов. — Вот хотя бы и в воскресенье. Только нужно непременно с утра… То есть фактически в четыре часа. А грибов, конечно, сейчас много. Даже, скажу, феноменальное количество.
И тут же условились они на ближайшее воскресенье вместе идти по грибы. Чуть свет в назначенный день поднялся Крутолобов с постели. Наскоро оделся, умылся, ус закрутил, как полагается, и направился к дому Укусиловых. А Марья Васильевна уже у ворот стоит, и голова у нее платочком цветным повязана. Совсем как барышня. В ручке же держит корзинку из-под вязанья и усмехается навстречу Крутолобову:
— Видите, какая я ранняя? Петичка еще дрыхнет в постели, а я уже встала. Что же, пойдем?
Завернули они за угол, вошли в лес. Хорошо на зорьке в лесу! Птичка тиликает в ельнике, перепархивает с ветки на ветку. Букашки всякие вьются в румяном воздухе… И вдруг эта самая букашка Марье Васильевне в глаз залетела. Вскрикнула Марья Васильевна:
— Ах, что-то мне в глаз залетело! Мушка, должно быть. Выньте поскорей, ради Бога…
И сама же протягивает Крутолобову беленький носовой платочек. Подбежал Крутолобов к Марье Васильевне этаким петушком.
— На какой глаз изволите жаловаться?
— Здесь, в левом глазу, — сказала Марья Васильевна. И придвинулась к Крутолобову всем своим телом. — Выньте, выньте скорей. Ужас, как неприятно.
Склонился Крутолобов над ней, а она ему дышит в лицо и так словно бы усмехается одним глазком. Вынул Крутолобов букашку да так и застыл неподвижно с платочком в руке. Поэтическим вдохновением наполнилась его душа, восторгом и торжественной радостью.
— Ах, кажется, и в другом глазу у меня что-то есть, — сказала Марья Васильевна. — Уж не комар ли?
А на губах у нее бродит усмешечка. Смутился окончательно Крутолобов.
— Сейчас я платочком попробую. — И руки у него стали дрожать.
— Нашли? — спросила Марья Васильевна.
— Фактически нет, — сказал Крутолобов. — Но есть реальная возможность…
И тут второй амур, настоящий амур, вспорхнул над его безрадостной жизнью и проткнул ему сердце стрелой. И розовые голубки с дешевой полукроновой открытки наполнили душу Крутолобова сладким любовным воркованием.
«Феноменально, — думал Крутолобов уже в ту первую совместную прогулку. — Стечение обстоятельств, быть может?.. Простой инцидент? Но все же есть… все же есть некоторая подкладка для оптимизма…»
Стали частенько теперь ходить по грибы Крутолобов и Марья Васильевна. Было даже и место у них такое в лесу, сейчас же за домом у старого дуба, где сходились они на зорьке по праздникам. Завидят друг друга еще издали, уже ухмыляются оба, машут руками. Веселые это были прогулки и совсем безобидные. Идут они себе рядышком по тропинке и вдруг говорит Марья Васильевна:
— Поглядите, как сыро сегодня в лесу. И скользко ужасно… Я уж лучше возьму вас под руку.
И словно бы огнем обожжет Крутолобова ее прикосновение. Идет он не дыша под ручку с Марьей Васильевной, и сладкие грезы наполняют его голову. То кажется ему, что он лежит в долине Дагестана, пронзенный кинжалом… А в груди у него дымится рана… И до слез его самого растрогают эти эмигрантские мечты. То будто бы он борется с быком у ног влюбленной красавицы, а буйный Рим ликует себе как ни в чем не бывало… Веселится себе буйный Рим… Вообще, представлял в своем воображении сладкие и грустные картины. А Марья Васильевна говорит:
— Боже, какой широкий ручей! Куда там мне в моем возрасте перепрыгнуть!
— Нет, нет, не прыгайте! — испуганно кричит Крутолобов. — Уж лучше я вас сам на руках своих перенесу.
И впрямь берет на руки Марью Васильевну. Уже и ручей далеко позади остался, а он все ее несет… все несет…
«Ведь фактически в моих объятиях», — думает Крутолобов, и сердце у него сладко замирает в груди.
— Ну довольно, опускайте на землю! — говорит наконец Марья Васильевна.
— Сейчас! Только бугорок обойдем, — упрашивает Крутолобов. — Там за бугорком на травку и опущу.
И действительно опускает ее на травку… И ничего не было между ними неприличного или циничного, никакая тучка не омрачила безоблачного горизонта их робкой любви. Быть может, все продолжалось бы еще очень долго… Быть может, до того светлого момента, когда все беженцы и эмигранты возвратятся в свободную Россию под грохот московских колоколов и счастливый русский народ устелет их путь фиалками… Но… Не бывает в жизни счастливых идиллий.
Еще через дом от Укусиловых, в небольшой двухэтажной вилле, жила русская профессорша Киргиз-Кайсацкая. Зловредная баба была эта Киргиз-Кайсацкая. Завистливая и злопамятная, хоть и играла недурно на цитре. Из-за цитры, собственно, и пенсию она получала от чешского правительства как деятельница искусства. Казалось бы, на что лучше, живи себе спокойно. Так нет, не такова была вдовушка. Она, видите ли, следила за нравственностью в русской колонии.
Родится ли у кого ребеночек в русской семье, у каких-нибудь там молодоженов, сейчас же по пальцам начинает высчитывать:
— Рановато, рановато родился. На четыре месяца поспешили. Безнравственно это. В наше время так не бывало.
Да так запугала всю русскую колонию, что вообще перестали дети рождаться. Форменное безлюдье вокруг, и не слышно милого детского лепета…
Вот эта Киргиз-Кайсацкая и взяла на мушку Крутолобова и Марью Васильевну. Подметила, что они вместе в лес по грибы ходят, и создала в своем воображении совершенно безнравственную картину. Какой-то «Декамерон» себе нарисовала. Что-то вроде похождений Казановы. А они и не подозревали, бедные, что следит за ними профессорша. Ходили по-прежнему в лес и наслаждались природой. Нарвет Марья Васильевна колокольчиков, сплетет веночек и на голову Клементию Осиповичу возложит, а сама глядит, усмехается:
— Ах, как вы похожи теперь на менестреля!.. Нет, нет, на трубадура… — Или вдруг вздохнет как лесной зефир. — Мне хочется чего-то палевого… Чего-то совсем-совсем сиреневого…
«Феноменально!» — думал Крутолобов в такие минуты. И жизнь ему казалась вечным балом, сплошным боем конфетти и серпантина…
Между тем Киргиз-Кайсацкая уже готовила осаду крепости, а крепостью был не кто иной, как муж Марьи Васильевны, прапорщик Укусилов. И вот какое письмецо послала она ему в одно восхитительное летнее утро:
«Милостивый государь! Вы меня не знаете. Я ваша тайная доброжелательница и должна вас предупредить насчет вашей супруги. Ваша супруга…»
И так далее, и так далее. Словом, изложила всю историю до розовых кончиков ногтей. И такие привела пикантные подробности насчет седьмой заповеди, что бедный прапорщик взревел астраханской белугой.
А наши влюбленные между тем, ничего не подозревая, сидели на берегу лесного ручья под сенью деревьев.
— Ах, отчего, отчего я не родилась на Антильских островах! — говорила Марья Васильевна. — Где-нибудь в Сингапуре или Гватемале… Или в Порто-Рико…
Слушал ее Крутолобов, и росли у него за плечами крылья от нежных ее речей.
— Что ж, Марья Васильевна… Фактически это невозможно, — утешал ее Крутолобов. — Мы географически отделены от тропиков. Физически отделены. И наши мечты иллюзорны.
И опять замолкали они, сидя в тени дерев, и журчал ручеек, прыгая по камешкам…
А Укусилов читал письмо, скрежетал зубами и думал: «Я тебе покажу, сукин сын, грибы! Я тебе такие грибы покажу, что во всю жизнь не забудешь. Вот какие я тебе грибы покажу!» И складывал пальцы в кулак. Однако когда возвратилась жена из лесу, ничего не сказал ей про письмо Укусилов. Даже наоборот, беззаботный вид принял, как будто ничего не случилось. И всю неделю, вплоть до воскресенья, крепился, сдерживал свои душевные порывы. Только мысленно фантазировал: «Вот сюда я его, мерзавца, ударю. Под правый глаз». Словом, предвкушал удовольствие. Бедный же Крутолобов, как агнец, предназначенный для заклания, даже не подозревал готовящейся разразиться беды. Как всегда, лежа в углу на своей кушетке, он рисовал тайную прелесть грядущего свидания. «Что есть любовь? — думал Крутолобов. — Стечение обстоятельств? И можно ли к ней подходить во всеоружии научных знаний?»
Он размышлял о любви и видел Марью Васильевну, улыбающуюся ему вишневыми устами… Профессорша же Киргиз-Кайсацкая, с тех пор как отослала письмецо, уселась у окна с чулком в руке да все глядит на дорогу, поджидает, — скоро ли приедет из города карета «скорой помощи». И тоже про себя мечтала старушка: «Печенки он ему отобьет. Уж дождусь этого непременно. А то и обоих любовников застрелит из пистолета».
Так незаметно подошло воскресенье.
Как всегда в этот желанный день, встал на зорьке Крутолобов и сразу же поспешил к заветному дубу. Подошел он к дубу и вдруг замечает: вместо Марьи Васильевны стоит на полянке муж ее, прапорщик Укусилов. И лукошко у него грибное в руках, знакомая корзиночка для вязанья.
— Сегодня я с вами пойду по грибы, — сказал Укусилов и насупился. — Марья Васильевна нездорова.
— Нездорова? Что с ней? — всполошился Крутолобов.
— Не знаю. Чего-то объелась, — сказал Укусилов. — Ну-с, правое плечо вперед… пойдем!
Отошли они далеко от дому и углубились в лесную глушь. Грустно было Крутолобову в этот день собирать грибы без Марьи Васильевны. Каждая тропинка лесная, каждый кустик и деревце, все вокруг напоминало о ней.
«Вот здесь Марья Васильевна любила отдыхать, — думал Крутолобов. — А вот там, на лужайке, она меня однажды назвала Понтием Пилатом…» Безрадостные мысли толпились у него в голове. Между тем подошел прапорщик Укусилов и задает странный вопрос:
— Помните ли вы еще Сусанина из оперы «Жизнь за царя»? Того, что поляков в лес завел?
Наморщил Крутолобов свой лоб, стал припоминать.
— Да вы не утруждайтесь, — сказал Укусилов. — Я сам вам его сейчас напомню. — И показывает лукошко с грибами.
— Бог мой! — поразился Крутолобов. — Да ведь это же все мухоморы. Выбросьте их поскорее долой. Ведь это же фактически самые ядовитые грибы.
А Укусилов стоит и посмеивается. И вдруг говорит:
— Ну-с, господин Дон Жуан, садитесь теперь на землю.
«Феноменально», — подумал Крутолобов и с удивлением посмотрел на говорившего.
— Садись! — внезапно закричал прапорщик Укусилов. — Садись, негодяй, а не то я тебя сам посажу!
Как березка, подрубленная дровосеком, рухнул Крутолобов на землю. Поставил перед ним Укусилов лукошко с грибами и говорит:
— А теперь поедай мухоморы!
Даже задохнулся Крутолобов от ужаса.
— Нет! О, нет! — воскликнул он. — Это фактически невозможно!
— Поедай! — заревел прапорщик, и глаза у него налились кровью.
Скушал тогда Крутолобов первый грибок и внезапно заплакал:
— Не было между нами ничего… Клянусь вам! Фактически ничего… Одни разговорчики…
А Укусилов ревел:
— Поедай мухоморы!
Скушал Крутолобов еще один гриб и совсем позеленел от страху.
— Господин прапорщик! — взмолился он. — Ваше благородие!
— Мухомор-ры! — заревел Укусилов. — Поедай, поедай мухомор-ры!
И съел Крутолобов все предназначенное ему судьбой лукошко…
* * *
Дальше история принимает неясные и расплывчатые формы. Одни уверяют (и в том числе профессорша Киргиз-Кайсацкая), что видели в тот памятный день Крутолобова, переползающего на четвереньках через дорогу. А студент Валентинов тот даже клянется, что встретил Крутолобова на главном шоссе и будто бы Крутолобов отскочил от него в сторону и закричал:
— Не подходите ко мне, я фактически буду стрелять!
Много еще подобных слухов носилось в русской колонии. Но одно достоверно для нас: Крутолобов исчез. Куда он исчез — неизвестно. И еще мы узнали недавно, что друзья безвременно исчезнувшего собираются выпустить в пражском издательстве книгу его стихов под названием «Струны души». И это, в сущности, все, что останется нам на память о бедном мечтателе Клементии Осиповиче Крутолобове. Да вот еще разве брюки со штрипками. Да связка служебных бумаг на столе в его жалкой комнате. И на стене у кушетки беленькая открытка с целующимися голубками и алым сердечком, пронзенным стрелой Амура.
Восемь моих невест
Три деревни — два села,
Восемь девок — один я,
Куда девки — туда я…
Если говорить правду, меня уже с юности влекло к семье. Еще в бытность мою гимназистом четвертого класса сделал я попытку выйти наконец из холостого состояния. Но увы — попытка не увенчалась успехом.
Помню, провожал я из гимназии Зою Перепелицыну — барышню хрупкую и изящную, в беленькой гимназической пелеринке.
— Зоя! — сказал я, схватив ее за руку. — Будьте моей женой!
А на следующий день отец, придя со службы, вызвал меня в свой кабинет.
— Разоблачайся, — сказал он деловым голосом. И снял со стены плетку.
Потом он стиснул мою голову между колен и отсчитал двадцать ударов. В душе моей был ад и смятение, но я не уронил ни одной слезинки.
«Грубый и бессердечный человек, — думал я, заглушая рыдания. — Сам женат, а другим не позволяет».
После этого случая сестры меня долго дразнили женихом.
— Жених пришел! — кричали они.
И старшая сестра Лиза патетически восклицала:
— Гряди, жених! Гряди, жених! — и заливалась смехом.
А я сжимал кулаки и думал:
«Брошу гимназию и женюсь. Назло им женюсь. И возьму в жены семидесятилетнюю старуху. Пускай отец упадет на колени и будет просить:
— Не женись, сын мой! Не губи свою молодость!
Я горько усмехнусь и скажу:
— Разрешите представить вам мою невесту, родившуюся в тысяча восемьсот пятьдесят шестом году.
И тогда сестры со слезами бросятся мне на шею.
— Брат, опомнись! — воскликнут они. — Что ты делаешь, брат?
— Прощайте, — грустно отвечу я. — Теперь я принадлежу только этому подобию женщины. Только ей посвящу я все свои силы… Утром буду варить ей манную кашу, а вечером завивать ее парик».
Однако мечты остались мечтами. Гимназии я, конечно, не бросил и, влача за собой постоянный груз осенних переэкзаменовок, медленно подвигался к концу. Вот тут-то и надлежало мне вторично стать женихом. Но как и в первый раз, к сожалению, неудачно.
Однажды, придя домой из гимназии, я удивился, встретив в прихожей вместо обычно ворчливой Марфы розовощекое и юное существо с весьма пикантным и вздернутым носиком.
— Наша новая горничная Люба, — сообщила мне мать официальным тоном.
Но я уже горел и пылал подобно зажженному факелу.
— Люба, — шептал я у себя в комнате. — Какое прекрасное имя Люба. Люба — значит любовь…
И любовь уже росла во мне с молниеносной скоростью, как деревце факира, выращенное им из собственного живота. За обедом я мало ел и вместо бифштекса подцепил вилкой салфетку. А за десертом долго жевал дынную корку и не спускал глаз с объекта моей любви. Она то входила, то выходила, мелодично позванивая посудой.
«Звон кастаньет, — грезил я. — Севилья…»
И рисовал себе картину знойной Испании, где дерутся рыцари и быки. И когда после ужина, столкнувшись с ней в темной прихожей, я робко коснулся ее плеча, — она вдруг повисла у меня на шее, и горячий поцелуй обжег мои губы.
— Любишь? — спросил я прерывистым шепотом.
— Страсть как я к вам неравнодушна, — ответила она. — Вы очень интересный мужчина.
Голова моя закружилась, сладко заныло сердце, и, помню, я не спал всю ночь, мечтая о счастье. А утром, войдя в кабинет отца, я твердо и лаконично сказал:
— Отец, считаю своим долгом тебе сообщить… На днях я буду жениться.
— Так, хорошо, — сказал отец и щелкнул на счетах. — Морозовские в тираж…
— Женюсь, — повторил я слегка задрожавшим голосом.
Отец приподнял голову.
— Что тебе? — спросил он нетерпеливо.
И, собрав все силы, я залпом проговорил:
— Хочу связаться брачными узами.
В глазах у отца зажглись знакомые мне искорки. Он протянул руку. И когда на звонок явился старый служитель, отец кратко сказал:
— Связать его и выпороть на конюшне.
Так печально закончилась моя вторая попытка. Мне оставалось только безропотно подчиниться. Но в душе тлела неугасимая надежда: вот только окончу гимназию, а там полный простор… И, Боже мой, какой это был радостный день! Фуражка с синим околышком казалась мне верхом совершенства. Закурив сигару толщиной с печную трубу, я в первый раз отдался приятному сознанию полной, безграничной свободы.
«Захочу, женюсь, — думал я. — Захочу, повешусь… Никто не смеет мне запретить».
Опьяненный сладкими грезами, бродил я. И вот я встретил ее… Она была монашкой из окрестного монастыря — строгая, молчаливая девушка в черном клобуке и в бязевой рясе. Я увидал ее на паперти собора и здесь же решил — без нее жизнь моя будет разбита. Но согласится ли она покинуть свой монастырь? А что, если не согласится? Что, если не отпустит ее мать игуменья?.. О, я упаду на колени и буду умолять святую женщину.
«Поймите! — воскликну я. — К этой девушке я питаю самые возвышенные чувства». — И тогда мать игуменья…
Впрочем, уже на следующий день извозчик подвез меня к стенам обители. Не буду описывать, как меня встретили. Расскажу только, как меня провожали.
— Таких надо в три шеи отседова, — кричала вдогонку мать игуменья. — Я и папеньке вашему пожалуюсь. Ишь какой змей-искуситель!
Все было кончено. Грустный и угнетенный, возвратился я домой и, пройдя к себе в комнату, заперся изнутри на задвижку.
«Чем бы застрелиться?» — думал я, оглядываясь по сторонам.
Полчаса ломал я голову над этим роковым вопросом. Но оружия не находилось. Оружия не нашлось и в последующие за этим дни. И вообще, я постепенно успокоился. Между тем настал долгожданный день моего отъезда в университетский город. Отец призвал меня в свой кабинет и необычно мягко заговорил.
— Пришло время, — сказал он, — поговорить с тобой откровенно. Ты теперь взрослый человек и даже можешь сделаться отцом. Но умоляю тебя — не бери примера с предка твоего Андрея. Андрей был бравый воин, конечно, но, увы, сделал непростительную ошибку — женился на цирковой актрисе. И дед твой, морской капитан, был женат на негритянке. От нее ты унаследовал приплюснутый нос и толстые губы. Дядя твой, Иван, женившийся на своей экономке, разведясь, женился вторично. Его вторая жена, певица из кафешантана, разорила его в пух и прах, так что третья жена твоего дяди всю жизнь упрекала его в бедности. Тогда несчастный старик развелся с ней и опять женился в четвертый раз. Но, увы, — счастье не сопутствовало ему в новом браке. Ревнивая женщина измучила его напрасными подозрениями и наконец выплеснула ему в лицо склянку серной кислоты. Обезумев от боли и обиды, дядя твой выскочил на улицу и, пробежав через весь город, бросился со скалы в море. Но и там, в морской глубине, на расстоянии трех миль от поверхности, среди подводных растений…
— Отец! — вскричал я со слезами в голосе. — Довольно! Обещаю тебе поступать всегда благоразумно.
После этого я перешел в будуар матери.
— Милый мой мальчик, — сказала мне мать со вздохом. — Ты уезжаешь в огромный город, где множество всяких соблазнов. Но заклинаю тебя — берегись женщин. Я сама женщина и знаю этих подлых тварей, которые только и глядят, как бы соблазнить мужчину. Ты теперь взрослый, и потому я с тобой так откровенна. Знай, что и твой отец, подобно другим мужчинам, поддался однажды слабости и… и в результате его измены родился ты.
— Как? — вскричал я с рыданьем. — Что это значит?..
— Успокойся, — прервала меня мать и нежно погладила мою голову. — Конечно, я твоя настоящая мать. Но ты понимаешь? Я должна была отомстить. И вот один офицер… Его уже нет в живых… Одним словом, я поступила так из чувства мести.
Совсем расстроенный вышел я из будуара и направился в свою комнату. Но по дороге меня остановили сестры.
— Иди к нам, — закричали они и насильно втолкнули меня в раскрытую дверь.
— Скажи, скажи, — тормошила меня Лиза. — Кто лучше — брюнетки или блондинки?
— А правда, что аист носит детей? — допытывалась младшая, Леля.
— Нет, отвечай, — приставала Лиза. — Кто интереснее — дамы или девицы?
— Пустите, — взмолился я отчаянным голосом и, оттолкнув их, выбежал вон…
А вечером пыхтел у пристани пароход, и я, подобно Колумбу, трепеща, поднялся на палубу. В последний раз крикнул я «прощайте» стоявшим внизу родным, — и вот уже все погасло в темноте осеннего вечера: огни пристани, вывеска пароходного общества… Мимо неслись берега с темными деревьями. Дул холодный ветер. Я спустился в кают-компанию. Еще стояли в моих глазах слезы, еще звучал в ушах ласковый голос матери… И вдруг чья-то рука коснулась меня легким прикосновением. Я поднял голову. Синие, как небо, глаза улыбнулись мне навстречу, и божественная женская головка приветливо закивала.
— Что так грустны, студентик? — спросила она.
Я моментально вспыхнул: «Боже, какая красавица!»
— Закажите вина, студентик, — предложила она. — Только, пожалуйста, сладкого.
— Конечно, конечно, — воскликнул я суетливо.
И заказал сразу десять бутылок.
Она придвинулась ближе. Она сидела уже рядом со мной, и звук ее голоса казался музыкой. Мы пили бокал за бокалом. Терпкое вино разогревало кровь. И после третьей бутылки я сказал, замирая:
— Милая! Будьте моей женой!
Томительные секунды казались вечностью. Я глядел на нее с нетерпением и тревогой. И вдруг она тихо сказала:
— Десять рублей. Это будет стоить десять рублей. — И здесь же спросила: — Не дорого?
— Кому? За что? — воскликнул я.
— Мне, — ответила она, улыбаясь. — Так мне всегда платили. Не верите? Спросите у помощника капитана. Я с ним однажды две недели жила.
Пол закачался у меня под ногами. В глазах потемнело. Полный отчаяния и безнадежной скорби, выбежал я на палубу. Я ушел на корму, — туда, где мычали быки и коровы. И я мычал вместе с ними до самой Одессы, пока не спустили на берег корабельные сходни…
Но что для юности горе! Уже через три дня я совершенно успокоился и даже перестал думать о трагическом случае. Моя квартирная хозяйка, добрейшее существо и милейшая женщина, окружила меня ласковой заботливостью и комфортом.
— Не дует ли на вас из окна? — спрашивала она, приходя ко мне глухою ночью.
Свеча чуть дрожала в ее пухлой руке. Круглая фигура в ночном пеньюаре дышала спокойной негой.
— Нет, спасибо, — говорил я. И укутывался с головой в одеяло. И, задыхаясь, думал: «Как она молодо выглядит. Нельзя дать пятидесяти. Никак нельзя».
И однажды, когда она пришла, как обычно, румяная от сна, но улыбающаяся и спокойная, я тихо сказал:
— Будьте моей женой!
Я сказал шепотом, едва шевеля губами, почти неслышно. Но она уже сжимала меня в своих объятиях и жарко дышала в лицо.
— Хочу, хочу, — шептала она. — О, как я хочу!
Стоит ли говорить о дальнейшем? Мы назначили свадьбу через неделю, в праздничный день. В этот день уже с утра стали съезжаться гости — какие-то молодые люди, девицы… Я насчитал восемнадцать персон.
— Знакомься, — сказала моя невеста. И гордо улыбнулась: — Это все мои дети.
— Твои? — спросил я, робея.
— Да, от нескольких браков, — сказала она. — Эти четыре от первого. А эти восемь от второго. От третьего и четвертого только шесть… И здесь же с тоской добавила: — Как я давно не имела малютки!
Признаюсь, я струхнул. С отчаянием огляделся я по сторонам, ища дорогу к отступлению. Но увы, меня окружали плотным кольцом радостные краснощекие лица. Так, должно быть, лебедь, настигнутый борзыми собаками, напрасно пытается взлететь на дерево и тщетно машет разбитым крылом…
И все-таки я бежал. Уже из церкви. Из-под венца. Собственно, даже бежал я с венцом на голове в тот момент, когда его мне надели. Помню, как шарахнулась расступившаяся толпа и как на одной из людных улиц городовой отдал мне честь, приняв, должно быть, за императора. В темном парке я снял венец и бросил в кусты. О, как я был счастлив! «Свободен, — подумал я. — Свободен!»
Три недели скрывался я после этого на одинокой и скучной квартире в глухой части города. И лишь через месяц рискнул выйти на первую прогулку. Ярко светило солнце, распевали птицы, и на душе было легко и спокойно. Одесса сверкала всеми цветами радуги, как мыльный пузырь, собирающийся лопнуть… Ах, почему она не лопнула в тот раз.
Я сел на камне у моря и погрузился в раздумье. Внезапный крик и всплеск воды нарушили мою задумчивость. Я только успел заметить, как от скалы отделилась чья-то фигура и исчезла в морских волнах.
— На помощь! — закричал я. — На помощь!
И, не медля ни секунды, бросился в море.
«Сейчас я ее спасу», — думал я, энергично рассекая руками волны.
Я не сомневался, что это женщина. Воображение рисовало печальную девушку — одно из тех хрупких существ, которые чуть ли не каждый день уходят из нашей жизни. И я не ошибся. Над волнами мелькнуло овальное личико с нежным подбородком. Распущенные по плечам волосы блестели на солнце матовым блеском. Секунда — и я уже схватил ее за волосы.
— Ой! — закричала она. — Что вы делаете?
— Крепитесь, — сказал я. — Ваше спасение обеспечено.
Но она вдруг стала яростно отбиваться и даже расцарапала мне лицо.
— Негодяй! — кричала она. — Животное!
Тогда, припомнив несколько методов спасения утопающих, я оглушил ее ударом кулака по темени. Она потеряла сознание. Я поплыл к берегу, таща ее на буксире за волосы. Наконец показалась отмель. Я вытащил из воды послушное теперь тело и… Нет, невозможно передать словами мое удивление. Скажу кратко — она была в купальном костюме! В полосатом купальном костюме, весьма кокетливо облегавшем стройный ее стан.
— Вы… — заикнулся я. И мучительно покраснел.
Она уже глядела на меня широко открытыми глазами, в которых был и испуг, и яростное презрение.
— Боже, какой вы дурак, — сказала она.
Тогда я упал на колени. Как юрист, я знал, чем это могло кончиться.
Тюрьма… Кандалы… Оскорбление невинности карается строго. Кроме того, побои… Надо было найти выход. И я его нашел.
— Милая, — сказал я. — Будьте моей женой.
Она улыбнулась. Ряд жемчужных зубов блеснул на солнце.
— Вы это серьезно? — спросила она.
— Разве это похоже на шутку? — ответил я грустным вопросом.
И через час я уже знал всю ее несложную биографию. Она была швея и жила на восемь рублей в месяц. Кроме того, она содержала на свои средства старуху мать и двух младших сестер. Брату она также посылала небольшую пенсию. Я проводил ее на окраину города и, условившись о дне свадьбы, возвратился домой. Взволнованный, я сел за письмо.
«Дорогой отец, — писал я, — продавай дом, так как я собираюсь жениться. Немедленно вышли мне деньги. Не беспокойся, приданое будет шить сама невеста — она швея. Лишь бы только было из чего шить. Кроме того, я продам свой скелет медицинскому факультету… За это платят хорошие деньги. Может быть, и ты согласишься уступить им свои кости? Ведь это только после смерти потребуют кости — а деньги платят сейчас. Попроси и маму о том же. Если вообще вся наша семья продаст скелеты, — я смогу устроить приличную свадьбу. О дальнейшем не беспокойся — я собираюсь бросить университет и буду помогать моей жене. Она будет шить, а я буду гладить. Видишь, как все хорошо устроится?»
Окончив писать, я запечатал письмо и вышел на улицу. Был вечер. Одесса сияла огнями. Я разыскал на улице почтовый ящик и вынул из кармана письмо. И в этот момент вынырнувший из-за угла газетчик звонко воскликнул:
— Война! Экстренная телеграмма. Германия объявила войну.
Тогда я положил письмо в карман и возвратился домой… А утром в воинском присутствии бравый полковник одобрительно потрепал меня по плечу.
— Добровольцем? Прекрасно, молодой человек. Послужите отечеству.
— Только поскорее отправьте, — говорил я, смущенный. — Нельзя ли сегодня?
Полковник усмехнулся:
— Экая прыть!
И назначил отправку на следующий день.
Через неделю я был уже в окопах, а через восемь дней в лазарете. Меня поранила лошадь. И когда я открыл глаза в светлой и чистой палате, первое, что увидел — смуглая девушка в белом переднике склоняется надо мною.
— Кто ты? — спросил я слабым голосом.
— Лежите спокойно, — сказала она.
Но я приподнялся с подушек.
— Милая, — прошептал я. — Будьте моей женой!
Я глядел на нее умоляющими глазами.
— Женой? — спросила она и удивленно подняла брови.
Потом достала из шкапика круглую коробку.
— Вот, — сказала она. — Это слабительное. Примите и вам станет легче.
Я проглотил вместе со слезами твердый и жесткий шарик… О, как печальна бывает любовь!..
* * *
Теперь мне остается сказать несколько слов о жене. Женился я здесь, за границей. Я очень счастлив. Это жена научила меня рукоделию, и я недурно вяжу чулки. Кроме того, мы любим друг друга. Бывают, конечно, мелкие ссоры, но ведь это сущий пустяк. Жена бьет не больно и то лишь левой рукой — правая у нее отсохла. И у нас есть милая девочка, совершенно рыжая, хотя мы оба брюнеты. Прямо-таки чудо природы! Впрочем, чего не бывает. Вот мой друг, Петр Иваныч, тоже совершенно рыжий — а отец у него был шатен… Бывало, сяду на пол, позову ребенка:
— Ниночка, — говорю, — поди сюда. Чья ты, — спрашиваю, — дочка, папина или мамина?
А она этак важно:
— Дя-ди-на!
Чудный ребенок!
И все любят нашу семью. «Уютно, — говорят, — у вас, и окна на юг».
И кажется мне теперь такой далекой холостая жизнь. Словно бы в розовой дымке.
Настоящий актер
Эта история рассказана одним случайным посетителем в пражском ресторане «У трех сосен», куда все мы нередко сходились по вечерам выпить кружку пива.
Судьба сыграла со мной, господа, довольно забавную комедию. В те времена я уже переменил четыре профессии и в ожидании пятой отлеживался в русском общежитии на Бржевнове, изредка выходя на улицу, чтобы стрельнуть где-либо на тротуаре окурок. Я исхудал на манер морского конька, и ребра топорщили мой пиджак, как будто бы он был старым зонтиком. Кроме того, стояла отвратительная осенняя непогода. Прага потонула в дождливом тумане, и флюс расцвел на моей щеке не хуже водяной лилии. Я лежал на койке и мечтал о хорошем, жирном бифштексе, как вдруг раскрылась дверь и к нам в барак вошел полный и круглолицый человек в высоких русских сапогах и в ярко расшитой рубашке, выглядывающей из-под расстегнутого пальто. Он остановился посреди комнаты и со спокойной улыбкой оглядел всех присутствующих. При одном взгляде на этого человека невольно рождалась мысль: «Вот беженец, который не нуждается в рыбьем жире». Щеки его горели таким неподдельным румянцем, как будто ему только что побили физиономию. А улыбаясь, он выставлял напоказ четыре золотых коронки, что, по нашим понятиям, являлось признаком неограниченного богатства. Но у меня в тот день было скверное настроение, во-первых, потому, что желудок мой был пуст, как у выпотрошенной рыбы, а во-вторых, утром сквозь щелку я услыхал столь нелестное мнение насчет собственной особы, что будь у меня под рукой знаменитый рычаг Архимеда, я бы перевернул весь мир вместе с нашим беженским общежитием. Опять капитанша Брысина перемывала косточки всех обитателей барака, опять несносная сплетница говорила своей соседке, что у меня в России осталось четыре невесты, и будто я украл у нее мохнатое полотенце. Но никакого полотенца я вовсе не крал, и настроение мое было испорчено вконец. Поэтому я не совсем любезно взглянул на вошедшего незнакомца и даже хотел повернуться к нему спиной, как вдруг речь его пригвоздила меня к койке.
— Господа! — сказал странный незнакомец. — Мне нужен человек, умеющий танцевать казачка и играющий на балалайке. Условия — тридцать крон в день. Отъезд не позже как через час с Вильсонова вокзала.
Проговорив все это, словно выпалив из пулемета, он непринужденно сложил ноги в виде щипцов для сахара и, взглянув на часы таким взглядом, каким женщина глядит на надоевшего любовника, стал терпеливо ждать нашего ответа. Первым зашевелился в углу прокурор окружного суда Пивоваров. Старик выпростал из-под одеяла худые ноги, похожие на стебли проросшего картофеля, и, сев на койке, подал свой глухой голос.
— На балалайке? Вы говорите, на балалайке? — переспросил прокурор. — Что ж, на балалайке и я, пожалуй, сыграл бы. Когда-то, лет пятьдесят назад, я даже недурно играл…
Но мы напали на прокурора с яростью муравьев, атакующих гусеницу.
— Нечего отбивать у других хлеб! — кричали мы прокурору. — Небось, опять получили от сынка из России деньги. Получили ведь, не виляйте.
Короче говоря, мы заткнули прокурора, как пивную бутылку. Вслед за прокурором предложил свои услуги бывший преподаватель гимназии Черепахин. Я всегда, впрочем, не любил этого субъекта. В нем было что-то геометрически пропорциональное, и облысевшая голова его напоминала глобус.
— Я не могу поручиться, — сказал Черепахин своим протяжным голосом, — я не могу поручиться, что каждое колено данного номера получится у меня удовлетворительно, но все же, если вам угодно, мы можем сейчас же произвести небольшой пробный экзамен. И если я выдержу испытание, хотя бы на четыре с плюсом…
Но мы съели Черепахина на корню, прежде чем он успел расцвести цветами собственного красноречия.
— У вас почки больные, — заметили мы ему с нескрываемым злорадством. — И кроме того, кто же танцует в пенсне? Вы можете свалиться со сцены в публику.
Мы спорили, кричали, суетились, а незнакомец спокойно стоял посреди комнаты, штопором ввинтившись в пол. Наконец он нарушил свою неподвижность и, подойдя неожиданно ко мне, спросил в упор, умею ли я танцевать. Вопрос застал меня врасплох, но так как я не ел уже трое суток, то не задумываясь кивнул утвердительно головой.
— А на балалайке?.. Играете на балалайке? — отрывисто спросил незнакомец.
Я шел напролом, как курица, которую поманили зернами.
— Да, я играю.
— В таком случае едем сейчас же, — сказал он, застегивая пальто. — Нечего зря тратить время. Где ваши вещи?
Но вещей у меня вообще никаких не водилось, и я ему откровенно в этом признался.
— В таком случае берите пальто, и едем.
Тогда я из приличия завозился в углу, как будто надевая пальто, которого у меня в действительности не было. Мы вышли наружу. Десятки примусов пропели мне на прощанье беженский марш, сочиненный еще в двадцатом году никому не известным гением.
В тот же вечер, когда мне дали в руки балалайку и когда я вышел на сцену, а вся труппа, состоявшая из трех человек, столпилась за кулисами и во все щелки и дырочки глазела на меня, — началась моя театральная карьера. Я вышел на сцену, держа балалайку, как садовую поливальницу, обеими руками и наклонив ее в сторону публики. Я вежливо раскланялся и сел на стоящий посредине сцены стул. Потом я настроил балалайку, наугад поворачивая колки и пробуя струны пальцем. Приведя таким образом инструмент в полную негодность, я оглядел публику. Зал был густо набит народом. Дело происходило в глухой чешской деревне, и в первом ряду кресел сидела местная интеллигенция: жандарм, учитель и священник. Я особенно вежливо улыбнулся жандарму и мысленно попросил благословения у священника. В тот же момент режиссер, пробравшийся к краю кулисы, загудел мне шепотом:
— Начинайте! Не томите публику.
Я сам не знаю, что я тогда играл.
И я ударил по струнам. Это было нечто вроде зулусской мелодии — сплошной звон на одной ноте. Но музыка продолжалась недолго. Сейчас же после первой ноты, испугавшей, кстати, и меня самого, режиссер подбежал к краю кулисы и крикнул, сложив руки рупором:
— Убирайтесь вон со сцены!
Тогда я встал и отвесил поклон, а публика разразилась хохотом и дружно зааплодировала. Занавес упал, как гильотина. Режиссер подбежал ко мне с проворством паука, настигающего жертву.
— О, чтобы вас черт побрал! — закричал он, позванивая у самого моего носа бубенцами. На нем был костюм Пьеро, и даже сквозь грим, густо покрывающий его лицо, проступили розовые пятна. — Чтобы вас черт побрал, нахальное ничтожество! — заорал режиссер, наступая на меня со сжатыми кулаками. — Побить вам морду это все равно что приласкать шакала. Нет, я сверну вам ее набок, клянусь честью!
Но в дело вмешалась его жена, выпорхнувшая из-за кулисы. Ее легкое балетное платьице открывало сорокалетние колени.
— Ванечка, не бей! — попросила она мужа. — Право, у него такой жалкий вид!..
Я же на всякий случай снял пиджак и, засучив рукава рубашки, стал в боевую позу, предполагая защищаться балалайкой. В тайнике души я уже чувствовал, что дело кончится скверно. К моему удивлению, режиссер мгновенно успокоился и сказал уже усталым голосом:
— Поезд в Прагу отходит в восемь часов утра. Чтобы духу вашего не было завтра! Вот вам ваши несчастные тридцать крон.
Он протянул мне деньги, я взял их с чувством фальшивомонетчика и тотчас же отправился ужинать.
«Ну вот, — думал я. — Все-таки это лучше, чем лежать голодным в общежитии. Теперь такие времена, что нужно жить сегодняшним днем».
Ужин был восхитителен. Пожалуй, ради такого ужина следовало приехать в эту глухую деревушку. И, запивая еду пивом, я подумал, что игра моя все-таки стоила свеч. Несомненно, она стоила свеч…
* * *
Утром в мою комнату заглянули сразу три особы: солнце, режиссер и судьба. Защищая рукой глаза от первой особы, я поспешил взять стул для защиты от второй. Но судьба дохнула неожиданным благодушием, и режиссер усмехнулся всеми своими золотыми коронками.
— Послушайте! — сказал он, тяжело опустившись на стул. — Вы, несомненно, можете нам пригодиться. У вас столько нахальства, что его хватило бы на дюжину бессарабских цыганок. Вы будете ходить по домам и приглашать на спектакли публику. Плату мы вам оставляем ту же самую, тридцать крон. Согласны?
Я не колеблясь согласился. Итак, я остался в труппе, и жизнь моя покатилась, как колобок, по чешским полям и долинам. Я увидел всю чешскую землю если и не с высоты птичьего полета, то, во всяком случае, с довольно высокой повозки, запряженной коровами. Мы передвигались из села в село, как библейские овцы в поисках тучного корма. Играли мы всегда одно и то же — пьесу в одном действии, сочиненную самим режиссером. Называлась она «Похищение чужой жены». Потом следовал дивертисмент с балетом, пением и декламацией. Режиссер выбегал на сцену в одном белье и декламировал «Сумасшедшего»: «Садитесь, я вам рад, откиньте всякий страх…» Ольга Яковлевна, наша примадонна, пела «Чайку» или «У камина». Жена режиссера танцевала «боярский танец». Днем мы или спали, или играли в карты, или бесконечно закусывали. Я стал толстеть, как в санатории.
Однажды, когда мы сидели за столом в одном уютном деревенском кабачке, где вечером предполагался наш спектакль, режиссер сказал, задумчиво поглядывая на стену, увешанную оленьими рогами:
— А все-таки, господа, нам необходим хоть один профессиональный актер. Пьеса моя «Похищение чужой жены» много теряет от того, что главную роль некому как следует исполнить. Не выписать ли нам из Праги настоящего актера?
— Что ж, — сказала примадонна, — вы, пожалуй, правы. Но только настоящий актер потребует большую плату.
— Пятьдесят крон мы, во всяком случае, заплатить можем, — сказала жена режиссера.
Однако в этот раз дело закончилось одними разговорами, и мы продолжали играть, руководствуясь собственным вдохновением. Деревня за деревней проносились перед моими глазами, и десятки гостиниц сливались в один общий зал с портретом Вудро Вильсона, извержением Везувия и сценой из «Проданной невесты». Иногда мы перебрасывались на Мораву, и в первом ряду кресел я замечал упитанных крестьян, похожих на вареных крабов и сонно пяливших на нас глаза, затуманенные пивом. А в горах Силезии, исхудавшие от козьего молока и горного воздуха, приходили к нам сухопарые силезцы и глядели на нас с тем неизменным любопытством, с каким здесь глядят на новорожденного теленка.
Ольга Яковлевна пела им «О любви палладина», и они слушали ее, обкуривая фимиамом собственных трубок. А утром, как всегда, коровы увозили нас к новым триумфам и на рогах их качался темно-фиолетовый горизонт.
Служба моя была очень легка. Как только вся труппа располагалась в новой гостинице, я шел по дворам приглашать публику. Я говорил, что наш Московский художественный театр только что прибыл из России и что мы, проездом в Вену, решили дать один спектакль в этой глухой деревушке. Кроме того, наша балерина Кшесинская исполнит сегодня свой лучший номер, от которого был когда-то в таком восторге покойный русский император. Я пускал им пыль в глаза с шумом и треском сноповязалки. И они раскошеливались. Они ощупывали меня руками, когда я говорил, что являюсь настоящим донским казаком, приехавшим в Прагу верхом на вороной лошади. Мальчишки бежали за мной по улице и ржали, подрыгивая ногами.
Режиссер был очень доволен моей работой. Он даже сказал мне как-то:
— Надо будет поговорить с труппой о прибавке вам жалованья. Мы всегда ценили работу.
Словом, все для меня складывалось как нельзя лучше. Я уже был необходим труппе, и каждый обращался ко мне за советом или за услугой. Ольга Яковлевна, растолстевшая к своему сорок шестому году, как пивная бочка, того и гляди угрожала рассыпаться. Она просила меня иногда перед выходом на сцену стянуть ей потуже корсет. Но под ней уже нередко проваливались подмостки, в особенности, когда мы играли на сцене, поставленной на пустых бочках.
— Ах, Боже мой! Нельзя так много кушать, — говорил режиссер, укоризненно покачивая головою. — Вы слишком много кушаете, Ольга Яковлевна. Воздержитесь, голубушка, хотя бы от свинины.
— Но что же делать, — вздыхала она. — Я так люблю молоденьких поросяток!
Она конфузливо краснела и опускала вниз глаза. А между тем подошла весна, и вдоль дорог, по которым мы теперь ехали, стояли зеленые лужи, и в них наперебой кричали лягушки, напоминая нам молодость и Россию. Божественный парикмахер причесал природу по новейшей европейской модели. Луга пестрели одуванчиками и маргаритками; в лесу прогуливались парочки с осоловелыми от счастья глазами. Жена режиссера уже не разгримировывалась после спектакля, и я не в состоянии теперь нарисовать вам ее постоянный портрет. То она увеличивала свои глаза углем и делалась похожей на испанку, то вдруг наутро являлась к нам с огненно-рыжей прической и губами ярче спелой рябины, а то вдруг наклеивала стрельчатые ресницы и томно глядела сквозь них на деревенского почтальона. Дела же наши шли в общем прекрасно, и режиссер курил сигары по кроне за штуку.
Но тут я подхожу к происшествию, которое и является, в сущности, темой моего рассказа. Как-то после сытного обеда, когда мы собирались идти спать, так как был жаркий весенний день и над каштанами во дворе недвусмысленно сползались тучи для грозового поединка и так как все мы выпили пива больше, чем его полагалось, режиссер сладко зевнул, обнаруживая скрытую под языком пятую коронку, и вдруг объявил нам, что решил на следующей неделе дать спектакль в соседнем городе.
— Скоро наступит время, — сказал он, — когда мужики начнут сажать картофель. Не ждите тогда хороших сборов. Нам необходимо перекочевать в города.
Он помолчал, ожидая, что мы ему на это ответим. Но пиво отняло у нас языки, как отымает драчун мальчишка шумную игрушку у своего товарища.
— И нам нужен актер, — сказал режиссер, барабаня по столу пальцами. — Немыслимо лезть в город с нашим составом. Нам нужен настоящий актер, который оживил бы всю труппу и влил бы в нее каплю действительного искусства. Ведь согласитесь, господа, мы играем не лучше готтентотов. И вот вам я говорю сейчас, Ольга Яковлевна, не в укор говорю, сохрани Боже, но вы иногда икаете даже во время пения. В городах вы, голубушка, должны будете ужинать после спектакля.
— Это у меня нервная икота, честное слово, — оправдывалась Ольга Яковлевна, краснея, по обыкновению, как институтка. — Я очень волнуюсь перед выходом.
— Вы не должны волноваться, — заметил режиссер уже благосклонным тоном. — Голос у вас звучит великолепно. Вчера я нарочно выходил на улицу во время вашего пения. Представьте, за два квартала слышно.
Потом он обратился ко мне:
— А вы, мой милый, должны подтянуться. Вам необходимо сейчас же купить новые брюки. В таких затрепанных брюках вас бы арестовали и на Луне. Кроме того, вы немедленно съездите в Прагу и подыщете там настоящего актера. В эту же субботу мы попробуем сыграть в городе.
Таким образом, фортуна, везшая до сих пор нас по деревенским дорогам, свернула со своего пути и помчала нас навстречу городским фонарям и аптекам.
«Да, действительно, — подумал я, — надо будет обзавестись новыми брюками».
* * *
В четверг к вечеру, за два дня до предполагаемого в городе спектакля, я привез из Праги нового актера. Я встретил его в одном из русских ресторанов и, прежде чем мне на него указали, уже каким-то шестым чувством понял, что это настоящий профессиональный актер. Он обедал рядом со мной за столиком и заказывал водку почти таким же тоном, каким Ромео встречает возлюбленную Юлию.
— Еще графинчик, моя дорогая! — говорил он кельнерше. — И селедку, мой ангел. Приготовьте ее, душечка, с зеленым луком.
Изредка он проводил по волосам рукою, откидывая их со лба, и тогда лицо его меняло свое выражение и делалось то грустно-задумчивым, то решительно-строгим. Ему было лет около сорока, и он был полон самим собой, как спелая тыква семенами. Я подошел к нему в тот момент, когда он откусывал кончик дешевой сигары, скосив одновременно глаза на вошедшую в ресторан пышную даму.
— Простите, — сказал я с вежливым поклоном. — Вы, если не ошибаюсь, актер Вадимов?
Он взглянул на меня так, как будто я был его собственной мозолью.
— Предположим, — сказал он, пыхнув небрежно сигарой.
— У меня к вам дело, — сказал я, невольно робея. — Нам… то есть нашей труппе нужен актер. Не согласились ли бы вы выехать в провинцию? Понятно, за хорошую плату, — добавил я поспешно.
— Возможно, — процедил он сквозь зубы и снова выпустил клуб дыма. И вдруг он меня огорошил, как из пистолета.
— Мои условия, любезнейший, триста крон за выступление и проезд первым классом. Контракт не меньше как на год.
Тогда я извинился за то, что даром его побеспокоил, и, встав со стула, двинулся к выходу. Но он нагнал меня на пороге и схватил за руку с неожиданным упорством.
— Постойте, постойте, любезнейший! Куда вы? Скажите теперь ваши условия.
— Право, мне стыдно, — замялся я. — Ведь мы можем предложить не больше пятидесяти крон.
— Едем! — сказал он коротко и тотчас же надел на голову черную шляпу с невероятно широкими полями, похожими на кольца Сатурна. — Только вот за обед мне заплатить нечем, — вдруг признался он откровенно. — Я, видите ли, ждал одного друга… одного человека, который мне должен с прошлого года…
Понятно, я с готовностью заплатил за все, что он съел и выпил. Мы отправились в путь. Скажу не распространяясь, — он очаровал всю нашу труппу, и режиссер сказал мне сейчас же после первой репетиции:
— Прекрасно играет. Сразу видно, что столичная штучка. А голос, голос! Иволга, а не человек, клянусь честью!
И действительно, талант пер из него, как пена из пивной кружки. Никогда я не видел такого актера. Режиссер даже растрогался.
— Никогда не думал, — сказал он почти с дрожью в голосе, — никогда не предполагал, что пьесу мою «Похищение чужой жены» можно так сыграть. Вот что значит талант и уменье!
А между тем подошел день спектакля, и уже не коровы, а поезд привез нас в небольшой городок, расположенный в узком горном ущелье. Мне в этот день пришлось-таки изрядно поработать. Я нанял барабанщика, и он во всеоружии прошел по городу, разбудив оглушительным грохотом людей и природу. Он останавливался на перекрестках и орал во всю глотку о том, что приехал знаменитый русский театр, который сегодня даст одно-единственное представление. И когда он окончательно охрип, я разрешил ему взять на подмогу жену. Теперь он барабанил, а она кричала. Что за голос был у этой женщины! Казалось, что мраморные ангелы на городском кладбище заткнули уши. Изо всех окон и дверей высунулись сонные лица горожан и горожанок. Какой-то старикашка вышел на крыльцо в одном белье, подумав, должно быть, что наступил Страшный суд. Стаи галок поднялись над домами, собираясь к отлету. Но я на этом не успокоился. Я собрал ораву мальчишек и пустил их по городу с трехцветными русскими флагами, на которых было выведено серебряной вязью: «Гей, славяне, еще наша речь свободно льется!» Вечером театр был переполнен. Пришлось устанавливать новый ряд стульев.
В тот момент, когда я возился в углу, наскоро нумеруя места, режиссер подошел ко мне и сказал довольным голосом:
— Сбегайте, голубчик, вниз в гостиницу! Скажите жене и Вадимову, что пора гримироваться. Ольга Яковлевна уже здесь.
Я спустился вниз и направился в ресторан, где незадолго перед этим видел Вадимова и жену режиссера за кофейным столиком. Но теперь их здесь не было. Тогда я постучал в номер к Вадимову — никакого ответа. «Должно быть, пошли погулять по городу», — подумал я. Однако в душе у меня шевельнулось смутное предчувствие какой-то непоправимой катастрофы. Когда я поднялся наверх в театральный зал, публика уже сидела по местам, и Ольга Яковлевна за кулисами надевала русский кокошник.
— Где режиссер? — спросил я.
— Не знаю, — ответила она, выдавливая на носу прыщик. — Был только что здесь. Должно быть, пошел к себе в номер.
Я опять спустился вниз и сейчас же, при входе в коридор, наткнулся на режиссера. Вид у него был ужасный, волосы дико растрепаны, а глаза почти выкатились из орбит, как будто бы он только что подавился костью. Он не проговорил, а скорее прохрипел:
— Все кончено! Идемте скорей ко мне!
Я последовал за ним, идя почему-то на цыпочках, и мы вошли в его номер, не обменявшись больше ни словом. Режиссер зажег свет и, взяв со стола какую-то бумажку, протянул ее мне. На ней было написано мелким женским почерком:
«Пупсик! Я покидаю тебя навсегда. Мы уезжаем с Вадимовым.
Твоя Мэри».
— И вот это, — сказал режиссер каким-то деревянным голосом. — Прочитайте теперь это.
Я наклонился над обрывком театральной афиши. От угла к углу было выведено торопливой прописью:
«Она меня за муки полюбила, А я ее — за состраданье к ним.Вадимов, артист государственных театров всего Туркестана и Приамуро-Уссурийской области».
Последнее гаданье Стивенса
В тот год я продавал швейные машины. Как все странствующие агенты, я был записан под определенным номером — 4376, и на рукаве пиджака у меня красовалась нарядная ленточка с надписью: «Компания «Зингер».
— Шве-ей-ные машины! — кричал я хрипло и протяжно.
Я пощипывал за бока старушек, галантно раскланивался с девушками, молоденьких вдов хлопал по плечу ладонью, называл отцами скрюченных от работы старичков, похожих на древесные корни. Но время было неподходящее — начинались полевые работы, и меня встречали так, как будто я предлагал им паровоз или эскадренный миноносец. Короче говоря, только по ночам мне снились сытные обеды. Но тут мою дорогу пересекла долговязая фигура Стивенса, Джека Самюэля Стивенса, и я вошел в тень новой планеты.
Была середина мая. С деревьев, как с пышных дам, сыпалась душистая пудра. На каждом листке и былинке насекомые справляли свадьбу. Девушки смеялись и многозначительно покашливали, встречая меня на дороге. Но, видит бог, я думал о еде, думал упорно и постоянно, как Ньютон о земном притяжении. Да что говорить! Будь я на месте Ньютона, я бы немедленно съел упавшее на землю яблоко.
«Вот облака, похожие на куски творога, — думал я, шагая по дороге. — И разве заходящее солнце не напоминает яичницу?» Мне иногда казалось, что куропатки нарочно взлетают из-под ног, чтоб довести мой аппетит до степени мучительного бешенства. А на дорожных столбах красовались заманчивые рекламы: «Пейте какао «Велим!», «Почему вы не едите ветчину только от фирмы «Беранек»?».
Я встретил Стивенса в тот самый момент, когда судьба готовилась толкнуть меня на преступление. Первая наша встреча была безмолвной. Я созерцал лицо Стивенса, изображенное на пестрой и яркой афише, его худое, длинное лицо со скулами, как у саранчи, и с носом, напоминающим крючок для вязанья. Рядом со Стивенсом, в дыму и пламени, возвышался маститый черт, похожий на старого хирурга. А надпись внизу гласила: «Джек Самюэль Стивенс. Хиромант, чародей и предсказатель судьбы». Дальше следовали подробности: «Чудо двадцатого столетия. Новейшие достижения оккультных наук! Постоянный контакт с покойниками всего мира! Беседы с Вельзевулом. Предсказание судьбы. Любовные талисманы!»
Афиша висела на прокопченной стене деревенской кузницы. Тени от листьев прыгали по ней фиолетовыми кружочками. Стивенс глядел на меня своими загадочными глазами, полными гипнотической силы. Не потому ли я продал, наконец, швейную машину? Да, я продал в этот день машину одной старой деве, у которой над бровью висела смешная сосулька в виде груши, старой деве с печальным ртом и прической времен Бисмарка.
— Вам нужно немедленно шить приданое, — убеждал я ее. — Такие девушки, как вы, долго не засиживаются в невестах.
— Ах, что вы! — отвечала она смущенно. — Я ненавижу мужчин.
— И когда у вас будет свой собственный ребенок, — говорил я, почти воркуя, — вы сошьете ему коротенькие штанишки с длинным разрезом. Наши машины лучшие в мире.
— Я хочу иметь пять детей, — призналась она, краснея. — Четырех мальчиков и одну девочку.
— Пять детей? Великолепно! — воскликнул я. — Наши машины шьют для детей обоего пола. Последняя наша медаль, полученная на Брюссельской выставке, весила четыре кило. Подумайте — четыре кило чистого золота!
Старая дева постепенно сдавалась. Я видел, как в ней пробуждалась жена, мать и любовница. Тогда я пустил в ход последнее средство и нарисовал картину, умилившую даже меня самого.
— Представьте себе, — говорил я вдохновенно. — Вообразите: зимний вечер… На дворе метель и непогода… А вы сидите у стола и шьете белье вашему мужу. Входит ваш супруг, и вы протягиваете ему только что сшитую рубашку. «О, неужели это мне?» — спрашивает он, зачарованный тонкостью и доброкачественностью работы. «Да, это тебе, Рудольф», — скромно отвечаете вы. И вот он приподымает вас с пола и целует в обе щеки…
— Я покупаю машину, — сказала она, покраснев еще больше.
Теперь мне предстояло позаботиться об утолении голода. Я вошел в прохладный зал деревенской гостиницы и сел у окна, затененного цветущими жасминами. Тощая оса в полосатом купальном костюме принимала солнечные ванны на подоконнике. Она блаженно шевелила усами. Все здесь располагало к отдыху и обеду. Но в тот момент, когда я поднес ко рту первую ложку супа, в зал вошел человек чрезвычайно высокого роста и, остановившись у стойки, выпил одну за другой четыре рюмки рому. Он повернулся ко мне лицом, и я вдруг узнал в нем Стивенса. Вне всякого сомнения — это был Джек Самюэль Стивенс, предсказатель судьбы, маг и профессор оккультных наук. В правом глазу у него блестел монокль, и потому одна из бровей была круто изогнута. Длинный черный сюртук висел на нем, как мантия. Но галстук был так ярок и пестр, что мог бы ввести в заблуждение пролетающую мимо бабочку. И вдруг он обратился ко мне, хотя наше знакомство было только заочным.
— Парлато италиано? — спросил неожиданно Стивенс. — Штиу руманешты? Шпрехен зи дейтш? Парле ву франсэ?
Он просыпал целый мешок лингвистики и выпрямился с гордым видом.
— Нон… найн, — сказал я растерянно.
— Говорите по-русски? — торжествуя победу, спросил Стивенс.
Но тут я его превратил в каменную статую:
— Да, говорю. И сам я русский.
Из глаза Стивенса выпал монокль и исчез в жилетном кармане.
Длинное его лицо вытянулось еще больше. Брови взлетели, как аисты, медлительно и с некоторым разбегом.
— Ни слова больше, — сказал он поспешно и, взяв меня за руку, увлек в соседнюю комнату, где все вожди и герои чешской земли мирно дремали на цветистом лугу обоев. Мы уселись за столиком друг против друга, и Стивенс потребовал пиво.
— Будем говорить потише, — сказал он, отхлебнув из кружки. — Здесь не должны знать, кто я на самом деле.
— Да разве вы русский? — удивился я.
Стивенс плутовато подмигнул глазом:
— Такой же эмигрант, как вы. Только это между нами. Туземцы считают меня англичанином.
Я вдруг почувствовал уважение и симпатию к этому человеку, сумевшему найти кусок хлеба, густо намазанный маслом.
— А полиция? — спросил я не без смущения. — Как вы ладите с полицией?
— За шесть лет работы я был только четыре раза арестован, — ответил Стивенс, поигрывая моноклем. — Да и разъезжаю я главным образом по глухим деревням. Лучший сезон в мае, июне, — сказал он сладко зевая. — Отбою нет от девчонок. Эта нуждается в любовном талисмане, та просит погадать на кофейной гуще. Ну, а кроме того, вызываю покойников… Верчу столы. Словом, сто крон в день, монета в монету.
Заметив мое искреннее восхищение, которого я, впрочем, не скрывал, Стивенс подозвал хозяина и заказал бутылку коньяку. Мы распили ее, по-приятельски беседуя о всякой всячине. Постепенно угол стола стал уплывать в страну алкоголя. Восьмиглавая кошка съела на наших глазах восьмиглавого воробья. Я поднял рюмку сразу четырьмя руками.
— Послушайте, любезный друг! — сказал Стивенс. — Мне любопытно знать, чем вы занимаетесь на этой безалаберной и вертящейся земле?
Я посмотрел на Стивенса. Земля действительно вертелась. Бутылка коньяку бегала вокруг стола, как на призовых скачках. И мне стало грустно… грустно до слез. Я вспомнил недели, месяцы и годы беспрерывных голодовок и унижений. Я вдруг почувствовал потребность высказаться до конца перед этим мужественным человеком.
— Чем я занимаюсь? Продаю швейные машины, — ответил я с трагической усмешкой. — Вернее, пытаюсь их продавать.
Стивенс закурил сигару и почти вознесся на небо. Он сидел в облаках дыма.
— В дождь, в непогоду, в жару я хожу по дворам и предлагаю эти дурацкие машины, — говорил я, вдохновляясь. — В мороз, в снег, в слякоть я хожу и предлагаю… Однажды собаки раздели меня донага, они стащили с меня брюки, как с манекена. В горной Силезии меня поколотил какой-то бродяга за то, что я не имел спичек. А ему хотелось курить… Всю прошлую зиму я проходил без подметок и трижды проклял доктора Кнейпа, восхваляющего этот идиотский способ хождения. У меня набежал такой флюс, что несколько дней я не видел линии горизонта. Ну, а о голоде нечего и говорить. Я голодал беспрерывно… Знаете ли вы это состояние, когда повсюду вам слышится звук откупориваемых коробок с консервами, когда при виде перебегающего дорогу зайца вы начинаете дрожать мелкой дрожью не хуже гончей собаки?.. Умываясь, я видел в воде собственные уши, и они мне казались ржаными лепешками, поджаренными на сале. Я исхудал, как факир…
— Точка! Довольно! — прервал меня Стивенс. — Благодарите судьбу. Вы именно тот человек, который мне нужен.
Я недоуменно взглянул на Стивенса. Но лицо его было серьезно, и догоревшая до половины сигара перекочевала в угол мясистого рта.
— Мне нужен покойник, — сказал Стивенс, окинув взглядом всю мою жалкую фигуру. — Вы, как никто, подходите для этой роли. Лишь бы вы не разжирели на хороших харчах. Вы будете неожиданно появляться во время сеанса, — сказал он, соображая вслух. — Конечно, мы сошьем вам погребальный саван. Не худо было бы вообще заказать для декорации гроб. В гробу вы будете очень эффектны. — Стивенс уперся в мое лицо своим гипнотическим взглядом. — И гримировать вас даже не нужно, — продолжал он после некоторого раздумья. — У вас великолепно провалились щеки. Словом, вы стопроцентный покойник и лучшего не найти во всей Чехии.
Он наговорил мне еще кучу комплиментов, а я сидел растроганный и умиленный. Я уже видел мысленно стаю гусей, которую съем всю, без остатка.
* * *
Думал ли я когда-либо, что страна с кисельными берегами и молочными реками существует на самом деле! Жизнь так часто ловила меня в расставленные на пути мышеловки, что я побаивался вначале жирных кусков. Но постепенно желудок и совесть заключили дружественное согласие, и я стал нуждаться в хорошем вине, как бедуин нуждается в стакане теплой водицы. Иногда мы устраивали лукулловские пиршества. В такие минуты Стивенс отдавался воспоминаниям, и мы говорили о России, о женщинах, о смысле жизни и обо всем том, о чем говорит русский человек, когда он сыт и ему нечего делать. Но зато, когда надо было работать, мы работали на совесть. Конечно, я не был только покойником.
Покойником я стал уже значительно позже. Я исполнял обязанности секретаря, эконома, слуги и компаньона. С первого же дня, когда я поселился вместе со Стивенсом, он вручил мне объемистую тетрадь, разграфленную красными чернилами.
— Сюда вы будете записывать все деревенские сплетни. От этого главным образом зависит успех моего гадания. Вы будете добывать нужные сведения и записывать в эту тетрадь.
— Но каким же способом я все это узнаю? — спросил я недоуменно.
— Расспрашивайте старых баб, — посоветовал Стивенс. — Из бабы, как из солдатского мешка, можно вытянуть все, что угодно.
Действительно, я узнал даже то, чего вовсе не спрашивал. Если бы я записывал подряд все, что приходилось услышать, то получился бы целый роман, полный пикантных подробностей. Я знал, например, всех любовников и любовниц в ряде деревень, через которые мы проезжали. Для незаконных детей я даже ввел особую графу под рубрикой «Внебрачные дети наиболее состоятельных крестьян». А Стивенс, как истый художник, претворил весь этот пестрый, живой материал в тонкое словесное кружево.
— У вас есть любовник! — обрушивался Стивенс на совершенно растерявшуюся клиентку. — Смотрите мне в глаза, госпожа… смотрите мне в глаза!.. Я вижу человека, который стругает липовую доску. Его имя Ян… и жена его хромает на левую ногу…
Понятно, слава Стивенса росла с быстротою грозовой тучи. Приезжали к нему из дальних сел, а однажды приехали из захолустного города. Стивенс недовольно морщился.
— Слишком много славы, — ворчал он в таких случаях. — Пора, кажется, нам убираться отсюда. Того и гляди, нагрянет полиция.
И мы покидали гостеприимную деревню с тем чувством сожаления и грусти, с каким путешественник покидает цветущие берега открытого им острова.
— В следующей деревне мы устроим спиритический сеанс, — сказал Стивенс, покачиваясь рядом со мной на повозке. — Приготовьтесь превратиться в покойника.
— Что для этого нужно? — спросил я, полудремля на кожаном сиденьи.
— Немного белил, свинцовый карандаш и соответствующая прическа. Впрочем, вы не беспокойтесь, я сам вас превращу в покойника. Хуже всего то, что вы все-таки начинаете жиреть, — заключил Стивенс.
Но вот белыми грибами выросли над оврагом строения. Острый запах крапивы и навоза приятно защекотал ноздри. Рябая корова, остановившись посреди дороги, вытянула шею и промычала нам приветствие. Мы въехали в новую деревню.
— Богато живут, — сказал Стивенс, указывая рукой на широко расставленные дворы и дома с зелеными ставнями.
— Взгляните вон туда… Видали вы когда-либо таких сытых свиней?
Действительно, свиньи были классические. Довольно похрюкивая, они копались в жидкой грязи с видом ученых-археологов. Самая крупная, и должно быть, мать всего семейства, жевала старый башмак, ощеривший от боли деревянные зубы.
— Я очень люблю всякую скотину, — сказал Стивенс. — Ведь я был в России ветеринаром…
В гостинице, куда мы вошли, окруженные кучей мальчишек, Стивенс отдал мне нужные распоряжения:
— Распакуйте прежде всего тот большой чемодан, — сказал он, деловито попыхивая сигарой. — Нужно соответствующим образом обставить комнату для сеансов. Там, в чемодане, вы найдете все что нужно.
И я принялся за работу. Чучело совы, найденное мной среди других не менее странных предметов, я поставил на середину стола. Туда же я положил человеческий череп. Меня поразило то, что глазные впадины у черепа были заклеены изнутри красной бумагой.
— Для чего это? — спросил я Стивенса. И он в ответ прочитал мне целую лекцию.
— Есть различные виды дураков, любезный друг, — сказал Стивенс. — Я их насчитываю около сорока, хотя их, бесспорно, больше. Вы понимаете, конечно, что я говорю и о дурах. Изучить психику дурака, его вкусы, привычки и образ мыслей — это очень трудная и неблагодарная работа. Дурак мыслит зигзагообразно, и если бы мы попытались изобразить его мысль в виде схемы, получилась бы ломаная линия, концом своим упирающаяся в пустоту. Но есть дураки круглые, они напоминают шаровидную молнию, взрывающуюся внезапным фейерверком. Вот для таких именно круглых дураков я освещаю этот череп изнутри электрической лампочкой. Эффект получается сногсшибательный. Некоторые от страху лишаются чувств. Но я их пробуждаю к жизни, обрызгивая холодной водой, и они платят за это деньги. Хуже всего, конечно, дураки с иронической улыбкой. Эти все время думают о том, что вы их хотите околпачить, и недоверчиво усмехаются на каждое ваше слово. Вид этого сорта дураков наиболее многочислен. Здесь уже вы мне сослужите великолепную службу в качестве покойника. Хотя, имейте в виду, они вас будут ощупывать руками. И наконец, есть еще дураки просвещенные. Эти не верят ни во что, но лезут из любопытства. Западная Европа, в которой мы с вами сейчас находимся, особенно богата такого сорта просвещенными дураками. Их легко узнать по важному виду, какой они всегда принимают, даже в том случае, когда глядят на переползающую через дорогу гусеницу. Кроме того, они часто носят круглые очки и стригут волосы ежиком, под гребенку. Большинство из них отличные спортсмены и туристы. Что же касается дур, в узком и тесном смысле этого слова, то здесь мои исследования наиболее обстоятельны. Но так как о дамах вообще не принято говорить плохо, то я ограничусь простым перечислением. Есть дуры махровые, сентиментальные, экзотические, ангелоподобные, воркующие, исступленные, восторженные и эксцентричные. Отдельно стоит разновидность дур глупых как пробка. Впрочем, со всем этим вы лучше всего познакомитесь на практике, — сказал Стивенс, заканчивая свою интересную лекцию.
Затем я пошел расклеивать по селу афиши. Вечерело. От деревьев легли на землю змеевидные тени. Далекий пригорок золотился в лучах заходящего солнца.
Я подумал о том, какое счастье послала мне судьба в лице Стивенса. Чем был я до встречи с ним? Голодным моллюском, ползающим по дороге. Он вдохнул в меня жизнь, он вставил в мой слабеющий рот вместительную соску, наполненную вином и пивом. И тут на меня напал страх. А что, если я утрачу Стивенса? Смогу ли я опять, как прежде, питаться одним видом реклам и гастрономических магазинов? Да, конечно, мне бы пришлось со многим расстаться… Но я уже не смогу больше продавать швейные машины, как не может сделаться водолазом человек, побывавший летчиком.
Сеанс прошел с исключительным успехом. Меня действительно ощупывали руками, и какой-то дурак (должно быть, из «просвещенных») щекотал мне соломинкой ноздри.
— Крепитесь, — шепнул мне Стивенс, заметив, что я собираюсь чихнуть. — Крепитесь, любезный друг!
Наконец сеанс был окончен. Стивенс оживил меня прикосновением руки, и я встал из гроба.
— Я заказал для вас телятину под хреном, — сказал он, ласково улыбаясь. — Вы, кажется, любите телятину?
Люблю ли я телятину? Я мог бы предпринять поход аргонавтов ради куска хорошо зажаренного мяса. Мне не нужно золотого руна, дайте мне только самого зверя. Я его съем под соответствующим соусом.
Стивенс потребовал бутылку вина, и мы ее распили, сидя у окна, глядя на звезды, усеявшие ночное небо мириадами светящихся пылинок. Вдруг Стивенс откинулся на спинку стула и, осветив кончик своего носа длительной затяжкой папиросы, сказал:
— В переднем ряду стульев сидела одна дамочка. Она мне несколько раз состроила глазки. Узнайте, пожалуйста, завтра, кто она такая и каково ее материальное положение.
— Есть, — ответил я коротко.
— А теперь вы мне поможете составлять гороскопы, — сказал Стивенс, подымаясь со стула. — Нужно нарезать мелкими листочками бумагу и составить текст. Это отымет у нас не больше часу.
Мы пошли наверх в номер и занялись приготовлением людских судеб. Стивенс диктовал, а я быстро записывал и свертывал бумажки в трубочку. Писал я на двух языках: по-чешски и по-немецки.
— «Ваша судьба в ваших руках, — диктовал Стивенс. — Коварный блондин стоит на вашей дороге. Но вы успокоитесь с брюнетом, и через год у вас родится ребенок женского пола, которого вы назовете Клементиной. Берегитесь грибов, они могут сыграть в вашей жизни решающую и трагическую роль…»
Перо мое со скрипом бегало по бумаге. Ночные бабочки плясали вокруг лампы. Стивенс ходил из угла в угол и диктовал:
— «Смотрясь в зеркало, не думайте о своей красоте, ибо главное ваше достоинство — ум. На лбу вашем растут математические шишки, и вы даже не подозреваете того, что они там растут. Научное поприще ожидает вас впереди. Избегайте все же ананасного варенья, — в нем таится для вас опасность…»
Последний гороскоп, который я записал в тот вечер, был следующий:
«У вас пылкий характер и добрый нрав. Вы полюбите иностранца с английской фамилией. Он появится неожиданно на вашем пути, и ваше сердце загорится страстью. Не пугайтесь его длинных ушей и высокого роста. Это человек благородный во всех отношениях. У вас будет восемь детей, и все они впоследствии сделаются ветеринарными врачами…»
— Отложите этот гороскоп отдельно, — сказал Стивенс, когда я кончил писать. — Мне он нужен для особого случая.
Мы разошлись по своим постелям, оба удовлетворенные исполненной работой. Засыпая, я думал об омарах. Никогда еще, ни в России, ни здесь, за границей, я не пробовал омаров.
«Какая жалость, что мы путешествуем по глухой провинции, — думал я, ворочаясь на постели. — Эти омары, должно быть, восхитительны».
А между тем уже составлялся гороскоп собственной моей жизни, и если бы только я мог его прочесть, то многое из того, что случилось впоследствии, открылось бы моему духовному взору. Я прочитал бы в нем следующие жестокие и неприкрашенные истины: «Сматывай удочки, беспечный кретин. Твое благополучие трещит по швам, как мундир у выросшего за лето гимназиста. Берегись жирных блондинок, — они сыграют в твоей жизни решительную роль…»
Но я не знал в то время своего гороскопа и заснул как убитый, развалившись на мягкой постели.
На следующий день я добыл для Стивенса необходимые сведения.
Интересующая его дамочка оказалась бездетной вдовой и владелицей довольно обширной молочной фермы. Конечно, я получил без труда длинный список ее настоящих и прошлых любовников. И это, так сказать, в придачу ко всему, что услыхал раньше. Имя ее было Ружена.
— Красивое имя, — сказал Стивенс, внимательно выслушав мой доклад. — Нечто вроде розы.
В тот день у нас было много посетителей. Я не переставал варить кофейную гущу. Стивенс работал в своем обычном халате, расшитом красными чертями. Иногда он надевал остроконечный колпак, украшенный звездами, и делался похожим на средневекового алхимика в старинной Праге. Сквозь плотно закрытую дверь я слышал обрывки фраз:
— Смотрите мне в глаза, — говорил Стивенс уже охрипшим голосом. — Я вижу курицу, украденную у вас на прошлой неделе в пятницу. Смотрите мне в глаза…
И мне было приятно сознавать, что эти сведения о курице добыл я сам, что мы работаем со Стивенсом рука об руку, как два равноправных и уважающих друг друга компаньона.
Под вечер пришла, наконец, фермерша, разодетая в пух и прах и с такой улыбкой на круглом лице, как будто перед тем выпила кувшин сахарной патоки.
Стивенс плотно прикрыл за ней дверь, и как я ни напрягал слух, мне ничего не удалось услышать. Они шептались, как два заговорщика. И даже после ее ухода, после ее великолепного отплытия (ибо юбки ее раздувались, как паруса), я не узнал ничего нового. Смутное подозрение уже точило мою душу.
Однако я аккуратно уложил в чемодан все принадлежности для спиритических сеансов и гадания, так как наутро нас ожидало длительное путешествие. Я тщательно сдул пыль с чучела летучей мыши, вытер суконкой лоснящийся череп, уложил в коробку от ботинок традиционную сову и подумывал было завязать чемодан ремнями, как вдруг в комнату вошел Стивенс. Лицо его, как всегда, было спокойно, но в глазах я подметил некоторую несвойственную им суетливость и легкое смущение.
— Отложите упаковку вещей, любезный друг, — сказал Стивенс.
— Мы остаемся еще на один день? — спросил я удивленно.
Стивенс не сразу ответил, но после продолжительной паузы, дохнувшей на меня полярным холодом.
— Я навсегда остаюсь здесь, — сказал наконец Стивенс. — Женюсь на фермерше. Можете себе представить, бабенка до отказу набита деньгами.
Мир сладких надежд внезапно рассыпался у моих ног тысячью осколков. Я глядел на вылинявшие обои с пошленьким рисунком, изображающим беспрерывные ряды алых и белых роз, и мне казалось, что внизу подо мной раскрывается мрачная пропасть.
— Мне очень грустно расставаться с вами, — сказал Стивенс, заметив мое состояние. — Но что же делать? Жизнь идет вперед, и я чувствую, что начинаю стареть. Неужели же мне ожидать того момента, когда дамский благотворительный комитет будет кормить меня с ложечки манной кашей?
Я ничего не ответил Стивенсу, слишком подавленный всем происшедшим.
— Да ну же, ну же! — воскликнул Стивенс и взял меня за руку. — Я вам оставляю в наследство весь свой гардероб. Можете подвизаться один на славном поприще хироманта.
Водворилось тягостное молчание. Где-то внизу скрипели ступени под чьими-то тяжелыми шагами.
— Вы влюблены, Стивенс, — сказал я наконец расслабленным голосом. — Вы влюблены и, как все влюбленные, эгоистичны. Ну какой же из меня хиромант, посудите сами. Я и блоху не могу вызвать, не то что духа. В первой же деревне меня подымут на смех, а то, чего доброго, и поколотят. А насчет гадания нечего и говорить. Фантазия у меня не больше, чем у трамвайного билетера… Нет, нет, я безропотно возвращаюсь к нищете, и будь проклят тот человек, который выдумал вкусные мясные обеды.
Видимо, слова мои глубоко задели Стивенса. Он посмотрел на меня с некоторым смущением.
— О, как вы ошибаетесь насчет моей любви! — сказал Стивенс, покачав головою. — Разве фермерша может внушить возвышенные чувства? Этот комод, набитый старыми тряпками и деньгами. Каждый поцелуй, который я дам, обойдется ей в тысячу крон, клянусь нашей дружбой. Я наобещал ей кучу детей, но пусть я лопну, если у нее родится хоть одно подобие человека. При одной мысли о том, что я буду спать с ней рядом, я преждевременно лысею.
— Зачем же, в таком случае, вы соединяете с ней свою судьбу? — спросил я, пораженный.
Лицо Стивенса вдруг осветилось мечтательной улыбкой.
— Видали ли вы когда-либо симментальских быков, породистых кур, ангорских кроликов? — ответил Стивенс вопросом. — Знаете ли вы, что такое беркширские свиньи? Друг мой, я мечтаю на старости лет завести образцовое хозяйство. Я вижу себя как в раю, окруженного визжащими поросятами и звонко булькающими индюками. Я вижу новую жизнь, светлую жизнь, которая опять…
Но Стивенс не договорил и уставился глазами на медленно раскрывающиеся двери. Я быстро повернулся в ту же сторону, и вдруг увидел входящих в комнату широкоплечих и плотных чешских жандармов.
— Кто из вас Стивенс? — спросил передний жандарм с круглым мясистым лицом, похожим на спелую землянику. Мы оба поклонились, щеголяя друг перед другом галантностью. — Ах, так! — усмехнулся жандарм. — В таком случае, мы арестуем вас обоих. Ваши бумаги, господа! Прошу следовать за мной…
Мы вышли на улицу. Я вдруг почувствовал прилив веселой и бодрой радости.
«Мы еще погадаем со Стивенсом, — подумал я не без лукавства. — Мы еще не раз погадаем».
Ибо я знал, что худшая опасность миновала. Ведь женщина — это наваждение более страшное, чем тюрьма, и уж конечно страшней всякой полиции.
Русские праздники (Рассказ полковника Семена Ипполитыча Недалекого)
Всегда, знаете, любил я наши зимние праздники. Да и как не любить! Представьте себе: идет снежок, потрескивает морозец, а по улицам тройки, с тулупами, облучками и кушачками. Сядешь на облучок, затянешься кушачком, наденешь тулуп — и мчишься куда душе угодно. Дух захватывает, доложу вам… Но особенно любил я рождественские сочельники: подожгут, например, елку… Что за дивное зрелище! Еще кадетом, этаким малым ребенком, я страстно мечтал: «Эх, кабы целый лес поджечь! Вот было бы красиво!..» Такой уж мечтательный был я мальчик. Теперь таких детей что-то и не встречается… Футуристы какие-то пошли. И уж простите за грубость, — идиотами вырастают. Мне же хоть и не раз доставалось в юности от родных, но идиотом я все-таки не стал. Наоборот, мне кажется даже, что с каждым годом я делаюсь умнее.
Но о чем, бишь, я начал?.. Да, о праздниках… Хорошо это было у нас в России! Я любил особенно святочную кутью: скушаешь тарелку, и все еще мало. И чем больше я ел кутью, тем больше ее любил. И вот что замечательно: чем больше я ее любил, тем больше ел. Какое-то перпетуум-мобиле, — выражаясь научно… Но я не буду сейчас углубляться. Мне хочется рассказать об одном случае, оставившем в душе моей неизгладимый след. Это произошло вскоре после моего отъезда из Галлиполи и как раз незадолго до Рождества. Перед этим лежал я в лазарете, у доктора нашего Степана Леонтьевича.
— Изрезал я вас всего, полковник, — сказал мне однажды доктор. — А толку все-таки мало. Высохли вы, как морской конек, и голова у вас стала на пальму похожа — только шея видна. Не буду, — говорит, — я вас больше резать. Рука не подымается в тринадцатый раз. И лучше бы вам отсюда поскорее уехать.
Ну-с, хорошо, уехать так уехать. В те времена уже многие покидали Галлиполи: разъезжались по белу свету. Но вот призадумался я… Куда же мне с моими ранами уехать? И кому нужен на свете старый пехотный полковник да еще инвалид? Словом, выражаясь литературно, обуревали меня мысли. Однако решился я наконец, и стал собираться к отъезду. Визу мне выхлопотал приятель мой по полку, живший в то время в Белграде, и вся остановка была только в деньгах на дорогу. Ну-с, прекрасно…
Уложил я свой сундучок походный, постирал перед этим бельишко и на прощанье просмотрел фамильные фотографии. Взглянула на меня голубка моя ненаглядная, жена-покойница, словно благословляя в дорогу. Поцеловал я холодный картон и этак грустно задумался… И вдруг вспомнилось мне одно летнее утро на австрийской границе… Был я еще совсем зеленым офицериком, в чине поручика, и только-только вступал в жизнь. Припомнилось мне, как однажды, шатаясь по городу, я незаметно забрел на окраину. Здесь было тихо и безлюдно. И домики стояли маленькие, в таком, знаете, уютном стиле — занавесочки за окнами, и слышно даже, как канарейки поют… Вдруг вижу, бежит мне навстречу по дорожке молоденькая барышня и машет руками. И, слышу, кричит:
— Берегитесь! Берегитесь!
И только что она добежала ко мне почти вплотную, как что-то ударило меня сзади, и я повалился прямо ей на руки. Однако удержался кое-как на ногах и только крепче обхватил ее плечи.
— Милочка, — спрашиваю, — в чем дело?
— Да берегитесь же! — воскликнула она уже нетерпеливо. — Разве не видите, вот он опять разбегается для удара.
И тут я оглянулся. Вижу, действительно, огромный баран, наклонив к земле рога, намеревается совершить вторичный удар. Прыгнул я быстро в сиреневый куст и ее за собой увлек.
— Теперь, — говорю, — мы в безопасности. Здесь нас никто не тронет.
Опустила она мне головку на плечо и вся зарделась.
— Меня, — говорит, — еще никогда не держали на руках русские офицеры. — А потом этак обворожительно усмехнулась: — Можно мне ваши усы пальцем потрогать?
— Трогайте, — сказал я.
А сам подумал: «Это судьба нас соединила навеки…»
Действительно, через месяц мы повенчались… И вот теперь, перед отъездом из Галлиполи, все так ясно припомнилось мне… Конечно, человек я военный, и по уставу должен быть всегда в добром состоянии духа. Но поверите ли? Загрустил. Вышел из палатки ночью, взглянул на небо, на звезды… «Вот там, где-то вверху, над звездами, она, моя голубка, — подумал я. — И, Боже, как я теперь одинок на свете!..»
Нужно все-таки сказать, — свет не без добрых людей. Деньги мне на дорогу собрали приятели, и уже в начале декабря я смог отправиться в путь. Первоначально решил было я ехать в Белград, но здесь вышло одно обстоятельство, изменившее мой маршрут и даже, скажу, глубоко меня взволновавшее. Как-то сижу я у себя в палатке и читаю стишки Надсона. Хороший это поэт, прелестные у него есть вещички. А главное — ничего декадентского. К тому же и свой брат — офицер.
Ну-с, хорошо. Читаю я стишки. Вдруг входит в палатку капитан Лещинский, сосед мой по койке, и сразу ко мне:
— Идите, полковник, к доктору: он вам сюрприз приготовил. — И сам улыбается несколько загадочной улыбкой.
«Что бы такое было?» — подумал я. Однако пошел.
Еще издали заметил меня доктор, когда я подходил к лазарету, и сам даже выбежал мне навстречу.
— Идите скорее, полковник, — сказал он, пожимая мне руку.
На нем уже был белый халат с завязанными внизу рукавами.
Очевидно, предстояла операция. Мы прошли темным коридором и очутились в больничной канцелярии. Здесь он подвел меня к столу, а сам отошел в угол. Остановился я перед столом в некотором удивлении. И что-то меня вдруг кольнуло: вижу, лежит на столе тонкая материя белоснежного цвета.
— Да ведь это же венчальное платье! — воскликнул я.
Тут добрейший Степан Леонтьевич тихонько засмеялся.
— А вы посмотрите направо, — сказал он.
И вдруг я увидел человеческую руку с длинными блестящими пальцами. Конечно, не то чтоб настоящую руку… Но, знаете, все-таки отшатнулся. Этакая, понимаете, безжизненная рука розоватого цвета и лежит вместе с венчальным платьем здесь же, посредине стола. А рядом еще какой-то ящик стоит, выкрашенный в черную краску. Что-то такое, если так можно выразиться, погребальное было во всех этих предметах… Ну а доктор, понятно, стоит в уголке и посмеивается.
— Что скажете? — спросил он наконец и подошел ко мне ближе.
Признаться, я растерялся в первую минуту и ничего не мог ему ответить. А он еще больше развеселился и даже обнял меня за талию.
— Вот видите, полковник, — сказал он наконец. — И нас, изгнанников, не забывают добрые люди. — И стал объяснять: — Есть здесь поблизости одна американка-богачка, мисс Йоркшир. Она нам не раз помогала. И теперь прислала по случаю приближения Рождества Христова праздничные подарки. Это вот подвенечное платье, а это искусственная рука. А в ящике есть и для вас кое-что полезное. — И при этих словах открыл он ящик. — Смотрите!
Приблизился я потихоньку к ящику, а сам думаю: «Наверное, в этом ящике искусственная нога». И знаете, пот у меня на лбу проступил.
— Да ну же, смотрите! — крикнул Степан Леонтьевич. — В первый раз встречаю такого странного человека.
Взглянул я наконец и успокоился. На дне ящика лежали обыкновенные сапожные щетки и круглые коробочки, очевидно, с мазью для обуви. Вот так штука! Подмигнул мне глазом Степан Леонтьевич и даже руки потер от удовольствия.
— Теперь вам, полковник, незачем ехать в Белград. Чтобы вы делали в этом чужом для вас городе? Человек вы совершенно больной и старый. Раны ваши того и гляди могут опять открыться. Вам лучше всего попасть на курорт и сделаться чистильщиком ботинок.
Смутился я при этих словах.
— Голубчик, Степан Леонтьевич! Здесь есть люди куда постарше меня. И чин у меня не такой… Вот рядом, например, лежит генерал Окурков… Или контр-адмирал Уточкин. А я ведь и полковника только при Врангеле заслужил.
Словом, запутался совсем в словах.
— Нет, нет, берите подарок, — сказал мне доктор. — Не будьте таким церемонным.
Стал я, понятно, благодарить.
— Не меня, не меня! — замахал руками доктор. — Я-то при чем? Это иностранцы нам помогают, бывшие наши союзники. И вообще Антанта. А мое дело маленькое — получил и выдал. Вот, распишитесь.
Расписался я в получении ящика и этим, так сказать, предрешил дальнейший род моих занятий.
* * *
Грустно, знаете, покидать насиженное место, особенно старому человеку. Кажется, что за радость сидеть в Галлиполи… Голодно, холодно и ничего утешительного впереди. Но вот, подите, — привык. Привычка, как говорят, вторая натура.
Как пришел час отъезда, стало мне почему-то грустно. Собрались меня провожать товарищи по полку, нижние чины и офицеры. Расцеловался я, понятно, со всеми и пожелал им всяких успехов. Тут подошел ко мне старый боевой друг капитан Светозаров.
— Сема! — говорит. — Нечем мне тебя поцеловать, голубчик. Сам видишь — начистоту снарядом губы оторваны. Дай же я тебя хоть носом клюну.
Обнялись мы с ним крепко, по-братски, и оба при этом всхлипнули… Ну-с, хорошо, уехал я, наконец, из Галлиполи…
Седьмого декабря отплыл я на пароходе. Билет у меня был куплен до Сплита, и дорога, как видите, предстояла неблизкая. Но, к счастью, установилась погода: светило солнце и море было чуть подернуто легкой рябью. Пристроился я на корме, возле матросского кубрика, и долго глядел отсюда на тонкую полоску земли, прозванную англичанами «Долиной роз и смерти». Вот уж и берег скрылся из виду, и только чайки вьются позади с криком. И ласково так обвевает лицо ветерок. А вокруг суетятся матросы, бегают взад и вперед, и никому, никому нет до меня никакого дела… Конечно, если рассудить здраво, кому какое дело до старого пехотного офицера? Что я для них? Совсем чужой, да к тому ж иностранец… Но был я тогда немного взволнован. А к рассуждениям вообще не привык. Всю жизнь как-то прожил по-военному, не рассуждая Ну-с, хорошо.
Раскрыл я потихоньку ящик, вынул сапожные принадлежности и задумался, сидя со щеткой в руке…
«Вот оно, Эгейское море. Эгейское… Не странно ли? И я по нему плыву на старости лет… И зачем плыву, одному Богу известно. А когда-то, в корпусе, за это Эгейское море не раз получал скверные баллы… Как только не распорядится судьба с человеком!» И вспомнилось мне еще, что подходят русские праздники. Щедрый вечер и Рождество Христово. Где и как приведет их Господь встречать?..
Задумался я. Не заметил даже, как подошел ко мне один из пассажиров. И только когда он поставил ногу на край моего ящика, я оторвался от мыслей. Гляжу, стоит передо мной солидный господин, весьма прилично одетый, судя по всему — англичанин. Позже я, впрочем, узнал, что он — американский турист. Поставил он свою ногу на ящик и ожидает. Встрепенулся и я наконец, — сами понимаете, как-никак первый клиент. Беру то одну щетку, то другую, поспешно раскрыл коробочку с мазью… Поверите ли? И на высочайшем смотру никогда так не волновался. Но, однако, справился кое-как с работой. Бросил он мне монету ни слова не говоря и рукой делает знак, чтобы я не шевелился. И тут же снимает с плеча фотографический аппарат. Потом подошел ко мне и что-то сказал по-английски. Собралась вокруг меня публика, пассажиры и матросы — всем любопытно взглянуть. И мне то же самое любопытно: для чего это ему понадобилась моя фотография? Однако оказался среди команды пароходный матрос, поляк. Объяснил он мне все в двух словах:
— Пан вас за турка принимает. Пан хочет, чтобы вы по-турецки ноги сложили.
И вот в таком виде, представьте себе, он меня запечатлел.
Ну-с, так. Прибыли мы наконец в Пирей. Уже под вечер вошли мы в бухту и заякорились у гавани. Сверху, с палубы, где я сидел, открывался прекрасный вид. Огоньки этакие по воде прыгают, вроде золотых молний… Качаются у пристани различные суда… И вообще — картина, достойная кисти великого художника. Оно и понятно: Пирей, как вам известно, расположен при входе в Афины. Ну а кто не читал об афинских ночах! Это, доложу вам, действительно нечто чудесное. Посмотришь вверх — сплошное сияние и в небе плывет луна. Поверите ли? Залюбуешься на минутку и невольно вспомнишь древних богов. Однако простояли мы здесь недолго и через час уже плыли опять куда-то вдаль… А наутро, когда рассвело совсем, вокруг уже расстилалось Ионическое море. Ободрился я как-то при виде природных красот. И чайки этак весело вьются, кричат, и вода вокруг изумрудного цвета… И здесь еще, кроме всего, удалось мне почистить ботинки помощнику капитана…
Однако у острова Корфу стало нас изрядно покачивать. И веселье как-то упало, даже американец оставил на время свои фотографии. У меня же, доложу вам, адски разболелась голова. Не скажу, чтобы я в это время усиленно думал, но так как-то от качки стало не по себе. А между тем прелестная открылась панорама. Куда ни посмотришь, вздымаются волны. Вообще, морской простор…
«Ну что ж, — подумалось мне. — Судьба людская в руках Божьих…»
Вообще, охватило меня поэтическое настроение. Снял я фуражку с головы, крещусь, знаете, и шепчу молитву. И солнце уже стало опускаться в море, а я стою неподвижно, прислонившись у мачты.
«Что ж, — думаю, — Семен Ипполитыч! Вот ты и того… Плавающий и путешествующий. И некому за тебя поставить свечку в родном краю…»
Жуть меня охватила. Знаете, есть такая старинная песня: «Один, один, бедняжечка, как рекрут на часах…»
Вот эта песня мне вдруг и припомнилась. В ней говорится о старом дубе, что вот, мол, растет он в пустынном поле, одинокий и всеми забытый… Как рекрут на часах, одним словом. Да…
«Один, один, бедняжечка, как рекрут на часах». Так вот об этом дубе я и хочу… То есть, собственно говоря, не о дубе. Но о чем, бишь, я начал? Не странно ли? Начнешь иногда говорить и вдруг забудешь начало. Постойте, о чем же я это хотел? Уж не о Марье ли Ивановне? Конечно, о ней… И еще о праздниках, кажется… Верно. О праздниках хотел рассказать…
* * *
С Марьей Ивановной познакомился я уже в Сплите. Перл это, а не женщина, доложу вам. Вы понимаете, конечно, я не только о красоте говорю. Да и что вообще красота телесная? Прах и земля, и в землю изыдет… Есть, например, такая улыбочка у Марьи Ивановны… такая грустная улыбочка. Прямо до дна вашу душу перевернет. И радостно станет, и в то же время печально. Или когда запоет она цыганский романс: что это, думаешь, уж не ангел ли Божий поет? А иногда рассмеется она внезапно, и глаза у нее станут синее льда. И еще ножкой притопнет, смеясь. Ну и ножка же у нее, доложу вам! Собственно, с ножки ее и началось наше знакомство. Не странно ли? С ножки… Ну-с, хорошо.
Приехав в Сплит, занялся я своим ремеслом всерьез — стал чистить курортным посетителям ботинки. Скамеечку себе смастерил деревянную и кое-что прикупил из сапожных принадлежностей. Дело, как говорится, пошло на лад. И природа вокруг очаровательная, море, пальмы и вообще южная красота. Сядешь на скамеечку и любуешься видом. Как лебеди, качаются у пристани белые шлюпки, и зовет, манит куда-то морская даль. Кажется, не будь старости — вмиг бы улетел за облака. Мне даже и то снится не раз заманчивый сон — будто поднимаюсь я в высоту и лечу, распустив крылышки…
— Полковник, куда вы? — кричат с земли знакомые.
А я им в ответ:
— За облака.
Ну, понятно, проснешься — ноют старые кости. В особенности в плечах болит, словно по гире на каждом плече привязано. И в окно уже солнце глядит…
— Иван! — кричу. — Трубку!
Знаю, конечно, что нет никакого Ивана. Но уж так, по привычке кричу. Сам же себе эту трубку набью табаком и долго сижу, потягиваю чубук. Все же первое время было мне как-то не по себе. Чужой, во-первых, город, и никого совершенно знакомых. И кроме того, слишком уж все не по-нашему. На деревьях лимоны и апельсины зреют… И заметьте себе, в декабре это месяце. Не странно ли? Совершенная метаморфоза. Ну-с, хорошо…
Снял я комнатушку у одного серба на краю города. Не то чтоб это была шикарная квартира, но все-таки свой угол. Вечером возвратишься с работы, зажжешь огонь и начнешь думать стариковскую думу. А утром чуть свет опять на улицу. С утра главным образом морякам приходится чистить ботинки. Потом начинается смесь. Дамские полусапожки, сапожки и мужские туфли всевозможных сортов. Желтые и красные, черные и коричневые… Лакированные теперь тоже в большом ходу. Так вот и потекла моя жизнь от одного дня к другому…
Как-то, вскоре после моего прибытия в Сплит, сидел я на прибрежном бульваре. Был уже вечер, и начинало темнеть. И вдруг мне стало почему-то невыразимо грустно. Подумал, знаете, о том, что все здесь вокруг чужое. И небо чужое, и море чужое, и город чужой, и даже я сам чужестранец. Не странно ли? Все, выходит, чужое, и я, выхожу, чужой… Вот эта мысль больше всего меня испугала. Но здесь Господь словно сжалился надо мной и послал мне великое утешение. Я говорю, конечно, о Марье Ивановне. Поверите ли, как это ни странно, но я по ножке ее угадал. Я теперь вообще людей по ногам угадываю. И ее угадал. Еще не видел лица ее, да и темно уже было вокруг… Но вот подошла она, и я угадал. Что-то такое волшебное почувствовал. Феерическое, одним словом… А она говорит:
— Будьте добры, почистите мне ботинки.
Ангельским голоском сказала она эти слова и, должно быть, крепко в ту минуту о чем-то задумалась, так как по-русски ко мне обратилась. Вы понимаете? По-русски… Выпала у меня из рук щетка. И вот до сих пор не могу я себе простить — чуть не отпугнул я тогда Марью Ивановну. Вскочил я на ноги, раскланиваюсь и фуражку к груди прижимаю.
— Разрешите, — говорю, — представиться. Полковник Недалекий. В вашем лице я приветствую прекрасную соотечественницу…
И понес, и понес, как старый петух, черт знает какую чепуху. Самому сейчас вспомнить стыдно… Смутилась, понятно, Марья Ивановна:
— Извините… Я, право, не думала, что вы полковник. И щетка у вас была в руке…
И вдруг повернулась ко мне спиной. Схватил я тогда ее за ногу:
— Ради Бога, не уходите! Разве можно уходить в нечищеных ботинках?
Знаете, как утопающий, за соломинку, цепляюсь, и страшно мне, что уйдет она и я останусь опять в одиночестве. Однако обратилась она ко мне лицом и даже засмеялась:
— Вот вы какой! Ну что ж, можете чистить… — И поставила ножку на ящик.
Не странно ли? Я был всегда далек от мистицизма. Не верю я, знаете, вообще в подобный бред. И вот, представьте себе, мне показалось вдруг, что это я Россию за ножку держу. Не в прямом, конечно, смысле, держу, но как бы в переносном смысле… Траурный чулок черного цвета и бантики на туфлях черные… Что-то действительно мистическое сквозило.
— Вам, — говорю, — нужно лаком носки покрыть.
А у самого руки трясутся, и ничего не могу найти в ящике. К счастью, фонарь вспыхнул поблизости. Вынул я тогда самую лучшую свою суконку. И не удержался.
— Простите за дерзость… Как ваше имя?
Улыбнулась она мне из-под шляпки:
— Вам это зачем? — Но сейчас же опять рассмеялась. — Мария, если уж так вам хочется. — И через секунду добавила: — Мария Ивановна.
Отложил я тогда в сторону щетку.
— Марья Ивановна! — говорю. — Голубушка! Вы не удивляйтесь, пожалуйста, старику… Не из низменных чувств, поверьте, интересуюсь я вами. Если б я встретился, например, случайно с вашей матушкой, вы бы, бесспорно, могли быть моей дочкой. Но я никогда, к сожалению, не встречался с вашей матушкой.
И рассказал ей подробно о своем одиночестве. Выслушала она меня молча и даже немного нахмурилась. И вдруг говорит:
— Пустое все это, полковник. Старый вы человек, а хнычете, как ребенок. — И тут же раскрыла сумочку. — Сколько вам следует за работу?
Конечно, не знал я тогда Марью Ивановну, характера ее то есть не понимал. Но все-таки совершенно опешил.
— Мне за работу? Помилуйте! Я считаю за честь… Вообще очень рад познакомиться.
Подошла тогда ко мне Марья Ивановна, и вдруг все лицо ее искривилось злобной усмешкой.
— Послушайте! — сказала она, и голосок у нее зазвенел. — Если вы сейчас же не примете денег, я вам сама их в лицо швырну. Вот эти четыре динара швырну.
Взял я тогда деньги и зажал их для чего-то в кулак. И знаете, подумал втайне: «Суфражистка, должно быть…» Я как-то читал в газете о подобных женщинах. А она подошла еще ближе, и ноздри у нее раздулись от ярости:
— Вы это что ж? Или я, по вашему мнению, не вправе платить за услуги?..
И губки у нее вдруг задрожали.
— Марья Ивановна! — воскликнул я. — Вы, например, — говорю, — обиделись, что я не хотел от вас денег принять… Но что для меня значит четыре динара? Совершенный пустяк. И потом я за лакировку обыкновенно восемь динар беру… Ну а с вас ничего не хотел взять как с русской беженки…
Вспыхнуло вдруг личико у Марьи Ивановны. Раскрыла она опять сумочку, заторопилась, роется в кредитках. Понял я вдруг, что некстати упомянул о цене.
— Нет, нет! — кричу. — Не подумайте, ради Бога… Это когда весь ботинок лакированный, тогда восемь динар. Но у вас только носочки. Совсем пустяк. Только носочки… Кругом шестнадцать, как говорится…
Стараюсь, знаете, шуточками ее смягчить. И тут она меня самым чувствительным образом оскорбила. Подает мне измятую кредитку.
— Сдачу, — говорит, — возьмите себе. Это я вам на чай даю. — И усмехнулась при этом надменно.
Не странно ли? Горло мне что-то сдавило.
— Ах, Марья Ивановна! Зачем вы это делаете? Клянусь вам честью, я не пью теперь чаю. Кофе лишь пью иногда, и то вприкуску. Вы, — говорю, — это напрасно…
И вдруг заметил, что стою у фонаря один, и никого нет поблизости. Только огоньки разноцветные мигают в гавани, и на воде от них огненные столбы. Прислонился я, знаете, к пальме, и даже рукой обхватил ее ствол. И слышно мне, как шелестят вверху жесткие листья, словно царапают друг друга когтями. Этак, понимаете, официально шелестят, как перья в полковой канцелярии… Ну-с, хорошо…
* * *
Стыдно сейчас признаться, но обижен я был поступком Марьи Ивановны. Понятно, не знал я совершенно ее душевных качеств и, кроме того, сам на войне огрубел. Мне и сейчас иногда бывает стыдно: до чего, думаю, огрубел ты, Семен Ипполитыч! Вот и тогда не ходил я два дня на работу — из упорства главным образом и по своей солдатской грубости. Не хотелось ни с кем встречаться. И как всегда это со мной случается в минуту тоски, потянуло меня вон из города. Собственно, столбы меня привлекали… Я говорю, конечно, о телеграфных столбах. Люблю я слушать их пение. Выйдешь за город и слушаешь… Каждый столб по-своему поет и в то же время все вместе. Приложишь ухо к столбу, и кажется, будто слушаешь далекую Россию. Конечно, могут сказать — мистицизм. Но поверите ли? Столб иногда расскажет лучше, чем человек. Я в этом на опыте убедился. Сначала только гудит, заунывно так: «У-у…» И вдруг вы ясно слышите звон московских церквей. Вообще улавливаете ухом что-то родное. Пять-шесть столбов выслушаешь, и на душе станет значительно легче. Но в тот день, помнится, я уже десять столбов выслушал, а все никак не мог прийти в нормальное состояние. Совершенно развинтились у меня нервы. А тут еще письмо разволновало — от поручика Сеточкина пришло письмо из Берлина.
«Поздравляю, — пишет, — вас, полковник, с преддверием праздников Рождества Христова. У нас в Берлине сейчас трескучий мороз, и многие беженцы, вероятно, заработают деньги, скалывая по улицам лед. Я же лично разогреваю водопроводы на площади поэта Шиллера…»
Завидно мне стало. Вот, думаю, и снежок у людей, и морозец, и вообще поэтическая обстановка. И знаете, до того мне стали противны все эти пальмы и олеандры… И даже море вдруг опротивело. Раньше сам любовался, а сейчас не могу смотреть. Все-таки, думаю, не надо опускаться. Пора и за работу. Не странно ли? Какое-то предчувствие было у меня, что я непременно встречу в тот день Марью Ивановну. Вы не подумайте, пожалуйста, что это любовь. Смешно, знаете, обольщаться надеждами в шестьдесят лет… Но что-то меня к ней влекло. Я когда-то читал в научной книге о животном магнетизме. Может быть, в данном случае и был налицо этот животный магнетизм. Трудно, конечно, сказать с уверенностью… Однако предчувствие меня не обмануло и я действительно встретился с Марьей Ивановной. Под вечер, когда уже солнце садилось в море, подходил я со своим ящиком к прибрежному бульвару. И, знаете, как нарочно, чем больше спешу, тем больше на пути препятствий. Иногда пройдешь весь город — пары ботинок не вычистишь. А тут, как нарочно, останавливают на каждом шагу. И все главным образом цветная обувь. Вы понимаете? Скипидаром натри, да воском вылощи… Словом, было уже почти темно, когда я подошел к желанному местечку. Оглянулся направо и налево — ни души. И тут нашло на меня сомнение: зачем, думаю, пришел? На свидание, что ли? И почему непременно она должна явиться? Сам же себя начинаю ругать. И вдруг, как это ни странно, я почувствовал Марью Ивановну. Трудно мне даже объяснить вам, как я ее почувствовал. Но вот знаю — здесь она, где-то вблизи. И в тот же момент услышал я торопливые шаги. Сел я на край скамьи, и сердце у меня почему-то усиленно бьется. Однако не поднимаю головы, даже нарочно стараюсь смотреть вниз. А она уже подошла и щебечет, как птичка:
— Здравствуйте, полковник! Где вы пропадали? Я вас второй день ищу.
Взглянул я тогда на нее. И почему-то спросил:
— Разрешите почистить?
Улыбнулась она этак печально и села рядом со мной на скамью.
— Не сердитесь, полковник. Я, — говорит, — очень перед вами виновата.
И вдруг поцеловала мне руку. Смутился я совершенно.
— Что вы делаете? Рука у меня вся в скипидаре! Разве можно целовать грязные руки?
И тут… Не сумею вам передать… Поверите ли? Взяла она своими пальчиками мою голову. Душистые у нее пальчики, и чувствую, как гладят они меня по щекам… И сама говорит:
— Бедный вы мой, старенький вы мой. Никто вас не пожалеет…
Застило мне что-то глаза, и огоньки в гавани потекли золотой струйкой. Почувствовал я вдруг, как все у меня в душе успокоилось. Не странно ли? Все успокоилось… А она приговаривает:
— Русский вы мой старичок. Национальный вы мой старичок…
И ласково при этом смеется. Не выдержал я от полноты своих чувств.
— Марья Ивановна! Вы, — говорю, — как светлый праздник. Чем мне вас отблагодарить?
Вздрогнула она и даже отодвинулась от меня на край скамьи:
— Не говорите так, полковник. Прошу вас, не говорите так…
И личико у нее стало совсем печальным.
— Почему же, — спрашиваю, — не говорить? Да знаете ли вы, Марья Ивановна, что послезавтра сочельник? Не наш, конечно, не русский, а все-таки сочельник. И вы, как ангел, явились мне перед сочельником.
Поднялась она тогда со скамьи. Всю ее осветил фонарь, и показалась мне она совсем еще девочкой. Алая на ней была тальма, вроде накидки, и шляпка была тоже алого цвета, с этаким длинным пером. Фантастично, конечно, на первый взгляд получалось… Но очень, доложу вам, красиво. Сделала она несколько шагов в мою сторону. И вдруг остановилась на месте, словно о чем-то задумалась. Она вообще, как я после узнал, задумывалась внезапно. Наконец провела по губам пальчиком и усмехнулась.
— Знаете что? Приходите ко мне в сочельник. Елочку устроим и вспомним Россию… Я ведь тоже одна живу.
И руку протягивает… Припал я к ее ручке губами:
— Непременно, непременно приду, Марья Ивановна. За честь сочту.
Вынула она тогда из сумочки клочок бумаги:
— Вот вам мой адрес, полковник. А теперь до свиданья.
Бросился я было ее провожать.
— Разрешите, — говорю, — вам сопутствовать. Нельзя же вам ходить одной по ночам. Обидеть вас могут какие-нибудь хулиганы.
Остановилась она и странно так на меня посмотрела.
— Меня, — говорит, — никто не может обидеть. Я ведь всегда хожу одна по ночам.
Всплеснул я, понятно, руками:
— Какая неосторожность! Согласитесь, что это с вашей стороны просто безумие. Так рисковать собою… Ведь это же, простите, безрассудство!
Покачала она головкой:
— Нет, нет. Не провожайте меня, полковник.
— Да помилуйте, — говорю. — Да ни за что не отпущу вас одну. В такую темную ночь… Мало ли что может случиться? Вы еще так юны…
Словом, стараюсь ее урезонить. Подошла она тогда ко мне снова.
— Вы, — говорит, — еще лучше, чем я ожидала, полковник. Но не трудитесь меня провожать. Пусть меня проводит знакомый. Видите, вот он идет?
И оглянулась при этом по сторонам. Действительно, кто-то шел, но только нельзя было еще разглядеть, кто именно.
— Прощайте, — сказала Марья Ивановна и ручкой мне помахала. И быстро так пошла навстречу идущему господину.
Стал я под фонарем и издали наблюдаю. Вот уж уменьшилась совсем ее фигурка… Вот уже вижу, подходит она к господину. Что-то говорит ему, только слов мне не слышно. Наконец он берет ее под руку. Снял я тогда фуражку и перекрестился. Ну, слава Богу! И, знаете, умиление меня охватило. Так, помню, ребенком, в кадетском корпусе, перед экзаменом шепчешь себе молитву: «Господи, помоги! Господи, сохрани!..» И теперь я эту молитву вспомнил… «Господи, — шепчу, — помоги ей во всех ее начинаниях…» Не странно ли? Через столько лет вспомнил эту молитву. Ну-с, хорошо…
Можете себе представить, с каким нетерпением ожидал я наступления сочельника. Весь следующий день после встречи с Марьей Ивановной только и мыслей у меня было о светлом празднике. Кой-что прикупил я от себя в магазине (были у меня маленькие сбережения). Жестянку шпротов купил и бутылку вина. И еще коробку конфект — специально для Марьи Ивановны. Что же касается работы, то не клеилась она у меня в тот день. Пытался было, как всегда, чистить ботинки… Но только ничего из этого ровно не выходило. Начнешь, например, чистить и вдруг вспомнишь волхвов в Вифлееме. Или еще какую-нибудь картину из Священного писания. Понятно, задумаешься, и вымажешь желтые ботинки черным кремом. Ну-с, хорошо…
Наступил наконец долгожданный день. Уже с утра заметно стало в городе праздничное оживление. Много пароходов подошло к пристани, и город наполнился моряками. И день выпал удачный, холодноватый такой и тучки в небе — все-таки кое-как можно принять за зимнее время. Достал я из сундучка старый свой пехотный мундир. И задумался: не надеть ли ордена по случаю праздника? Но что, думаю, надеть? Анну? — слишком выйдет парадно. Георгия? — будет обидно для Анны. Соединить Георгия с Анной? — нельзя, не табельный день. С одним Станиславом разве пойти? Но у Станислава вся верхняя часть облупилась. И под конец решил я пойти вовсе без орденов, только пуговицы почистил мелом… Не странно ли? Я без труда нашел квартирку Марьи Ивановны. Что-то меня вело, инстинкт, должно быть. Я как-то читал о подобном инстинкте у муравьев. Нужно только кусочек сахару положить на окно, и муравьи непременно прилезут… Ну-с, прекрасно.
Жила Марья Ивановна почти на окраине города, в узенькой улочке. И знаете, как в сказке сказано: «У самого синего моря».
Позвонил я на парадном крыльце и стою, ожидаю. Вышла она ко мне сама, и не узнал я ее даже, так она была хороша в своем домашнем туалете. Заулыбалась она мне и ручкой приглашает войти. А я ей, понятно, коробочку с конфектами преподношу.
— Разрешите, — говорю, — по случаю праздника сей скромный дар.
— Что вы! — смутилась Марья Ивановна. И вдруг улыбнулась: — Милый, милый вы мой старичок!
И так, знаете, ласково на меня взглянула. Вошли мы между тем в комнату, осмотрелся я по сторонам. И даже охнул. Очаровательная, вижу, стоит на столе елочка и кое-что уже из украшений на ней висит. Безделушки там всякие и вообще разноцветные свечи. И солнышко заходящее на всем блестит.
— Марья Ивановна! — говорю. — Поверите ли? Сколько лет уже не видал!
Приблизилась ко мне Марья Ивановна и за руку взяла.
— Садитесь, полковник, вот в это кресло. Я вам подушку подложила, чтоб было мягче. — И вдруг вполголоса этак запела — «Годы минувшие, счастье уснувшее…» Знаете, есть такой цыганский романс?
Усадила она меня в кресло, а сама подошла к столику:
— Хотите взглянуть, полковник, на мою дочь?
— Что-с? — спрашиваю. Показалось мне, знаете, что не расслышал.
— На мою дочь взглянуть, — сказала Марья Ивановна. И вынула из столика фотографию.
Тут уж, доложу вам, я изумился:
— Неужели у вас есть дочь?
— Есть, как же, — сказала Марья Ивановна. — Шурой ее зовут. Седьмой год ей на днях пошел.
Взглянул я на карточку. Конечно, без очков трудно рассмотреть, но все-таки вижу — дочь.
— В пансионе она у меня, — объяснила Марья Ивановна. — Не здесь, конечно, — в Белграде учится. Я ей отсюда деньги высылаю.
И в это время, знаете, в прихожей зазвонил звонок. Не странно ли? Что-то такое печальное было в этом звонке. И Марья Ивановна внезапно вздрогнула:
— Простите, полковник, я сейчас…
Слышу, открыла она дверь и с кем-то шепчется. И даже как будто по-русски воскликнула:
— Нет, ни за что!..
А потом опять по-сербски заговорила. И быстро так, ничего нельзя разобрать. Наконец, возвратилась она обратно в комнату, и вижу, лицо у нее все побелело. Впрочем, темно уже становилось в комнате и, может быть, в сумерках она мне показалась такой. Однако голосок у нее задрожал, когда она обратилась ко мне:
— Чтобы вы делали, полковник, если бы вам предложили заработать тысячу динар?
Удивился я такому вопросу.
— Мне? Тысячу динар? Вы шутите, конечно, Марья Ивановна. Я и в четверть года вряд ли столько заработаю.
— Ну, а мне, — говорит, — в один вечер тысячу динар предлагают. И я еще подумаю, согласиться мне или нет…
Отмахнулся я даже руками.
— И не думайте. Скорей соглашайтесь. Что здесь думать? Шутка ли, такие деньги? И думать нечего.
Усмехнулась в ответ Марья Ивановна. Поверите ли? Я никогда не видел потом у нее такой усмешки.
— Ну, хорошо, — говорит. — Я последую вашему совету. Только вы меня извините, полковник, я вас должна на время покинуть. Впрочем, надеюсь быть через час дома. Самое большее через два часа.
Не стал я ее, конечно, удерживать. У меня, знаете, всегда был такой принцип: прежде дело, а потом удовольствия.
— Что ж, — говорю. — Я вас подожду. Кстати, и закуску нужно по-христиански приготовить. Есть у меня с собой шпроты.
Зажгла Марья Ивановна лампу на столе и подошла к зеркалу. Вижу, — карандашиком губы наводит. И вдруг она ко мне повернулась лицом. Знаете, бровь у нее одна поднялась кверху, и губка дрожит так, как при первой встрече…
— Полковник, вы понимаете?
И синие у нее стали совсем глаза.
— Никак нет, — говорю. — В чем дело?
— Полковник, — повторила она. — Вы понимаете? Двадцать пять человек. Почти весь пароход. Двадцать пять человек команды…
И все личико ее вдруг искривилось судорогой. Бросился я тогда к ней.
— Марья Ивановна! Голубушка! Что с вами?
Улыбнулась она мне, и вижу, слезы у нее дрожат в глазах.
Но ничего уже больше не сказала. Поверите ли? — успокоила меня в тот момент ее улыбка. Сам же я ей пальто разыскал на вешалке и дверь за ней запер на ключ. И остался один в комнате. Не странно ли? Развлекла меня елка, как малого ребенка. Сначала свечки на ней укрепил как следует, потом развесил повсюду яблоки. Был у меня еще апельсин в кармане. Его я привесил на самый верх… Однако прошло уже довольно времени, а Марья Ивановна все не возвращалась. Занялся я тогда закуской. Жестянку со шпротами раскрыл и бутылку откупорил. Вообще, приготовил все для встречи праздника… А Марьи Ивановны все нет и нет. Стал я даже слегка беспокоиться. Что бы, думаю, ее так задержало? И досадливо мне, знаете, что звезду мы с ней прозевали. Не по-русски это выходит — садиться за стол после звезды. Однако часа этак через три, слышу, звонок. Раскрыл я дверь — шатнулась передо мной Марья Ивановна и почти повалилась мне на руки. Боже мой! Ни кровинки у ней в лице, и дышит тяжело, как будто ее за горло схватили.
— Марья Ивановна!
Поднял я ее, голубку, с земли и кое-как дотащил до постели.
— Что с вами, — спрашиваю, — Марья Ивановна?
И вдруг, как это ни странно, я понял все.
Жизнь за ширмой
Февраль расцветал в окнах. Февраль — это особое оконное время года, время яркого света, воробьиного щебета, раскачиванья веток и первой предвесенней синевы.
В окна немецкой больницы, где лежал Сидоренко, тугими пальцами вдавливался ветер. Еще обожженные морозом и порыжевшие вверху, качались в больничном саду жесткие туи. И по всей палате разливался белый февральский свет от сквозных облаков и снега, от свежевыкрашенных подоконников и голубых, словно струящихся, стекол. В больнице была тишина. В войлочных туфлях неслышно ходили сестры, шепотом переговаривались больные, и только чугунная печь с раскаленным слюдяным брюхом гудела в углу, как грубое животное.
Сидоренку принесли сюда еще вчера ночью с операционного стола, и теперь его слегка мутило после наркоза. Ему казалось, что он лежит в компании алкоголиков, насквозь пропитанных эфиром, а голова его, отделившись от туловища, летит куда-то в пространство, навстречу ускользающим предметам. Потом он забылся в полудремоте, и легкий его сон был до дна прочирикан воробьями. Стеклянный звук окончательно пробудил Сидоренку. Он раскрыл глаза, заранее предчувствуя желтизну горящей над головой электрической лампочки. Но это было солнце. Странно… это было солнце.
Бессмысленно осматривая пустынную равнину потолка, он задержался взглядом на висящей посреди белого поля одинокой запыленной паутинке.
«Отчего она шатается? Ведь в комнате не может быть ветра. Должно быть, где-то сквозит…»
И он пошевелился, собираясь натянуть на себя сползшее во сне одеяло… И вдруг он не нашел, он не увидел, он не обнаружил рук и с остановившимся сердцем глядел теперь на свое тело, перепоясанное, как мумия, и обернутое полосами марли. Сознание, убегая назад, приближалось к чему-то страшному, почти неправдоподобному, и вместе с сознанием рос ужас. Он хотел закричать, но тут же подумал, что это бессмысленно, и только молча скрипнул зубами… Он вспомнил теперь все — черный халат идущего впереди химика, электрическую лампочку на потолке и ряды ящиков, сложенных в углу подвала. И вот тогда это блеснуло. Потом он только смутно помнил, как что-то с грохотом сыпалось на него, что-то грохотало и сыпалось, пока он, наконец, не открыл глаза уже здесь, судя по всему, в берлинской клинике.
«Случилось несчастье, — подумал Сидоренко. — Страшное несчастье. И этот обрубок мяса — я сам».
Он повернул голову на подушке, не желая и боясь глядеть на себя. Его стошнило. Ленивая слабость закрыла ему веки, словно замазала белой замазкой, и, сквозь закрытые веки, обостренным и настороженным слухом, он впитывал медлительное шествие дня, далекие и близкие шумы города, грохот ломовика на улице и заглушенный окнами шорох деревьев. И в тоже время он чувствовал тупую, постепенно нараставшую боль, словно безмолвно кричало его тело, стянутое бинтами и корпией. Боль не была сильной, но она была массивно-величественной, как-то угрожающе широкой, она держала его в своих свинцовых объятиях и он был беспомощной вещью, неспособной пошевелиться. Она давила на него всеми углами и вырастала до потолка и выше, до облаков, до синих клочков неба, которые он снова видел в окне чуть приоткрытыми глазами.
К нему приближалась сестра. В руке ее шаталась татуированная полоска термометра. Лицо у сестры было непроницаемо и нарочито сурово. И ему стало ясно — дело зер швах[38]. Он так и выразился мысленно: «Зер швах». «Видно, крышка», — подумал он по-русски. Он снова перевел взгляд на потолок, поголубевший и еще шире раздвинувшийся. Та же паутинка шаталась посреди ровного поля, но теперь в ее движениях был некий скрытый смысл, еще не совсем ясный ему, но уже иной и значительный. По-настоящему он понял все, когда принесли и поставили у его кровати серую полотняную ширму. Перед этим прошел доктор, только в дверях вынувший изо рта зубочистку. Он кивком головы подозвал сестру. Они переглянулись, как два влюбленных, быстрым понимающим взглядом.
— Аллес рехт[39], — процедил доктор.
Сестра наклонила голову. А потом пришел служитель и поставил у постели вот эту ширму, странно отгородившую Сидоренку от в сего мира, выделившую только окно с верхушками туй, прохаживающимися по тесному квадрату. И Сидоренко понял, что умирает. Мысль эта сначала обожгла его своей чудовищной несуразностью. (Только вчера, после обеда, он ходил примерять к портному новый костюм. Портной хлопал его по плечу и, улыбаясь, говорил: «Карошо… рьюски».) «Как же теперь с костюмом? — подумал Сидоренко. — Теперь, когда нет рук, пиджак, пожалуй, будет не нужен… Да и весь костюм», — вдруг запнулся он, холодея. И костюм и лотерейный билет, купленный им недавно из скудных средств — все это ненужные и лишние вещи, мелочную сущность которых он понял только сейчас.
«Ну, что? Не жмет?» — спрашивает портной. Лысая голова его плывет высоко в тучах.
— О, найн! — сказал Сидоренко и шире открыл глаза. Потолок вертелся голубым диском. В висках постукивали маленькие звонкие молоточки, и звон их мешался с чириканьем воробьев. Боль выпирала изнутри сквозь скованное и замороженное тело. Но вместе с тем мысль получала ясность, словно освобожденная от шелухи, от всего будничного шлака, покрывавшего ее доселе, и, проясняясь, делалась прозрачной и синей… «Это, должно быть, небо, — догадался Сидоренко. И подумал: — Февраль…» У него появилось такое ощущение, будто он сам лежит в февральских снегах, но уже не в Германии, а у себя на родине, в Полтавской губернии, и вверху поют первые жаворонки, нужно только совсем запрокинуть голову, чтоб увидеть их в вышине. А запрокинуть голову очень трудно: все тело сковано морозом. «Какие, однако, поздние заморозки», — удивился Сидоренко. Он очнулся наконец из полузабытья и снова увидел ширму, но совсем не такой, какой она ему показалась вначале. Теперь это была крепкая каменная стена, стена глубокого колодца, а он лежит на дне беспомощный и разбитый. Ему виден только клочок синего неба, и в этом клочке склоняется доктор. «Бессмысленно о чем-либо рассказывать ему, — решил про себя Сидоренко. — Он все равно не услышит… нас отделяет ширма». Ширма… Где он уже слышал это слово? ах, да!.. «Нас, русских, отделяет ширма…» Это из газетной статьи. И в глазах зарябили тысячи печатных строчек, черных крючечков и знаков препинания. «От Западной Европы нас, русских, отделяет ширма»…
Теперь он вспомнил… Знаки препинания чирикали на подоконнике и вдруг разместились многоточием. Запятая взлетела снизу и ловко прилепилась к ветке. Получилась точка с запятой. «Странные препоны», — усмехнулся Сидоренко. Ширмы и препоны… Но тут же он понял, что ему никто не помешает высказываться без стеснения. Он сможет говорить, не боясь быть осмеянным. «А насчет ширмы верно… и внизу была надпись: Иннокентий Чубов… Должно быть, псевдоним», — подумал Сидоренко, морщась от нового потока печатных строчек. Знаки препинания сбились неожиданно в кучку и загалдели наперебой: «От Западной Европы нас, русских, отделяет ширма!., нас, русских… ширма!..»
Сидоренко закрыл глаза. В белом тумане поплыли города и местечки, черепичные крыши костелов, таинственные дома с выставленными в окнах перинами, шоссейные дороги, убегающие в поля, и за ними по пятам рекламный бег великанов. Вот девушка с бруском душистого мыла в руке, переросшая облака и улыбающаяся за километр, вот господин, протягивающий гаванскую сигару, и лицо у него огромное и красное… Лицо его беззвучно хохочет, выставляя напоказ зубы… Оно расплывается и хохочет направо и налево, вкось и вкривь и прямо перед собой… Сигары «Геркулес», паста «Одоль»… «Сидоль», пудра «Коти», «Фруктовые ликеры»…
«Ведь это же Данциг», — подумал Сидоренко и увидел хлебопекарню. Печь уже жарко натоплена. Рабочие в белых передниках суетятся вокруг огромного чана с выпирающим оттуда пухлым облаком. Сам он, Сидоренко, также в длинном холщовом переднике. Но ему смешна их бессмысленная работа.
— Разве можно испечь облако? — смеется Сидоренко. — Ну и самоуверенность! Ха-ха! Испечь облако!..
Но хозяин, фатер Камилюс, важно глядит на него сквозь круглые европейские очки.
— Не рассуждать! — кричит он внезапно и, багровея, делается похож на свежезажаренного молочного поросенка.
Тогда в душе у Сидоренки подымается бурное негодование. Он раскрывает глаза, чтоб лучше видеть своего противника, и хотя это теперь вовсе не хозяин, а кто-то другой, в белом больничном халате, он все же говорит ему горячо и поспешно:
— Вы все грубы… вы все… вы даже дамам не уступаете места в трамвае… Вы некультурны. Вы живете замкнуто, как кроты, и головы ваши набиты мелочными сплетнями. Вы все до одного лавочники. Все до одного.
Но печь пылает слишком жарко, и теперь это нестерпимый огонь, проникающий внутрь и обжигающий легкие.
«Так было в Италии, — вспомнил Сидоренко. — Но ведь это же и есть итальянское солнце… Ну конечно же… оно над головой. Тошнотворный запах разлагающихся на берегу водорослей щекочет ноздри».
— Ты рассыпал рыбу! — кричит ему рыбак, захлебываясь от бешенства. — Этакий медведь! Этакий русский медведь! — И он ругается хлесткой неаполитанской руганью…
А по вечерам над Везувием стоит медное зарево. Ночь горяча и душна; легкие пытаются вобрать воздух, но вбирают его вместе с сухими острыми песчинками. Ночь так душна, что нечем дышать. «Скоро я уеду в Рим», — облегченно думает Сидоренко.
И вот он видит тот самый железнодорожный мост, под которым он ночевал в Риме. Он видит его с поразительной ясностью, и темную арку под ним, а справа, у входа, обрызганный машинным маслом куст полыни. Как странно… в Риме — полынь… Полынь хороша против блох… Но неужели в Риме есть блохи? В римском праве, которое он изучал когда-то в университете, об этом не сказано ни слова…
— …и больше ни слова, — говорит ему бывший русский консул. Я могу выдать вам только десять лир.
— Но мне нужно в Германию, — умоляет Сидоренко. — Как же я доберусь…
— Больше ни слова, — повторяет консул и поворачивается к нему спиной.
Консул превращается в проконсула… проконсул в претора… претор в курульного эдила. Потом все они, взявшись за руки, танцуют вокруг постели с маленькими термометрами на вытянутых ладонях. И все они говорят по-немецки. Они кричат:
— Сорок градусов! Это кризис!
Кто-то сует ему под нос немецкую газету.
«В текстильной промышленности кризис… В угольном деле кризис… Западная Европа переживает кризис…»
Все лица сплываются наконец в одно лицо, и потому, вероятно, это лицо так широко и мясисто. Лицо ухмыляется.
«Это герр Кауфман», — вдруг догадывается Сидоренко.
А Кауфман говорит:
— Я сам бил в России. В Волинская губерния. О, Русланд! О! Зер гут![40]
Сидоренко снимает шляпу:
— У вас химическая фабрика, герр директор. Я вас очень прошу, герр директор. Я могу физически работать и я сейчас… видите ли… я сейчас голодаю…
— Ну, будем посматрайт, — говорит Кауфман благосклонно и отсылает его в подвал, к старшему химику.
Но в подвале горит яркая электрическая лампочка, очень напоминающая вечернее солнце. Свет ее режет глаза, и даже когда закрываешь веки, под ними расширяются и суживаются огненные круги, словно нимбы святых, виденные им совсем недавно над узкой лестницей… кажется, это было в больнице… Впрочем, ведь он еще никогда не лежал в больнице… Это просто керосиновая лампа.
— Задуй лампу, Марта, — сказал вдруг Сидоренко, с трудом произнося немецкие слова.
Он облегченно вздохнул, избавившись от света. Сонная и теплая Марта возвращается от стола и ложится к нему в постель. Она добродушно хихикает, прижимаясь к нему высокой и полной грудью. Она ему шепчет ласкательные слова.
— Майн либер[41] доктор, — шепчет Марта. — Майн либер руссишер доктор…
В их маленькой конуре под небесами целую ночь бродят наощупь часы.
«Бродят и бредят, — думает Сидоренко. — Бродят… дас брот… Бутерброт…»
Но Марта перебивает его мысли:
— Ты меня не бросишь? — спрашивает она шепотом. И сама же отвечает: — Ты бросишь меня. Я ведь только поденщица… служанка… Ты бросишь меня и уедешь к себе в Россию.
Тогда в нем пробуждается самому ему незнакомая нежность. Он клянется в том, что не бросит ее никогда. Он ищет под одеялом ее руки, чтобы расцеловать их, палец за пальцем, и вдруг с ужасом замечает, что у нее нет рук.
— Ты лишена рук? — спрашивает он, задыхаясь от острой нежности. Она молчит, тихонько всхлипывая. Тогда он кричит ей в уши: — Не плачь, Марта! Я тебя никогда не брошу! Поверь мне, Марта!
Он кричит еще сильнее, замечая как она растворяется, уплывает вдаль, заплаканная и печальная. Но он забыл, как сказать по-немецки «возвратись». Он роется в своей памяти, а слово уже улетучилось, и в черном окне, напротив, сияют только серебряные многоточия…
— Назад! — кричит Сидоренко по-русски, открыв глаза, и видит над головой электрическую лампочку.
«Ну вот, все в порядке, — подумал он с облегчением. — Значит, не было катастрофы. Но Марта… Что с Мартой?..» Он устало закрыл глаза. Толпы рабочих спускаются в темный подвал. Старший химик, герр Курциус, обыскивает карманы.
— У кого найду спички, тот полетит со службы, — говорит Курциус. — Спички и папиросы передайте в контору.
А рыжий Ганс хлопает Сидоренку по плечу своей тяжелой ладонью.
— Люблю большевиков, — говорит он вызывающе. — Эй, русский! Ты кто? Белогвардеец?
Рабочие весело скалят зубы. Они довольны. У Сидоренки перехватывает дыхание.
— Ты пользуешься случаем, — отвечает он Гансу. — Ты трус.
Рабочие смеются, предчувствуя драку.
— Кричи громче, — издевается Ганс. — Я тебя все равно не услышу из-за ширмы.
Но вдруг появляется Марта. Она идет к нему за ширму, она садится на край его постели и молча гладит его по голове шершавой рукой поденщицы. Теперь он целует ее заскорузлые пальцы. Он не стыдится ей признаться, как крепко к ней привязан, как он ей благодарен за то, что она пришла к нему сюда, в его одиночество.
— Я уже двенадцать лет за ширмой, — шепчет он Марте на ухо. — Двенадцать лет, подумай… В этих домах только перины. И я устал от реклам… чертовски устал… — Она продолжает гладить его своими грубыми ладонями. — Мы скоро уедем в Россию, — мечтает вслух Сидоренко. — Слышишь, Марта? В Россию! Мы поедем через Волочиск на Винницу, а оттуда уже прямая дорога в Полтаву…
И он лежит некоторое время молча, стараясь себе представить Полтаву такой, какой он ее покидал двенадцать лет назад. Он видит весеннее утро, освещенное электрической лампочкой, и это совсем не странно, так же как не странно, что в городе высятся турецкие мечети.
— Узнаешь Полтаву? — спрашивает седой турок.
И хотя он не совсем узнает, но почему-то отвечает:
— Да, узнаю.
«У этого турка я служил в Константинополе, — смутно припоминает Сидоренко. — Я был у него конюхом…»
Но турок превращается в англичанина — сэра Уидслея. У сэра Уидслея лошадиная голова и желтые лошадиные зубы. Сэр Уидслей раздает чечевичную похлебку.
— Становись в очередь! — кричат вокруг.
А сэр Уидслей смеется и кладет ему в медный котелок кусок лошадиного мяса.
— Это мне? — спрашивает Сидоренко.
— Да, это вам, — говорит сэр Уидслей. — Но за это вы уступаете Англии весь Кавказ с Баку и Архангельскую губернию.
Лошадиная морда растягивается до ушей и ржет, зарываясь в сене. И вдруг он видит улочку, знакомую ему с детства, узкую улочку на окраине Полтавы. Вот угол сенного амбара, где каждой весной выскакивают из-под земли у забора зеленые пропеллеры лебеды, где он любил бродить мальчишкой среди лошадей и извозчиков и где когда-то вытащил из черной норки огромного тарантула, рыжего паука, свирепо вцепившегося в восковой шарик…
«Так же точно качалось тогда это дерево, — подумал Сидоренко, все шире раскрывая глаза. — Так точно оно качалось… Оно не выросло ничуть за эти годы… И тот же старик еврей стоит на пороге своей лавочки. У него смешная фамилия: Лобик. «Аарон Лобик — бакалейные и колониальные товары»… Это Полтава», — узнает окончательно Сидоренко. От радости и волнения у него останавливается сердце. Ему немного душно, и он впервые замечает теперь, насколько стала узка за эти двенадцать лет его студенческая тужурка.
— Здесь очень жмет в груди, — жалуется он портному.
Но портной отвечает:
— Аллес рехт.
«Мне душно от волнения», — успокаивает себя Сидоренко и снова видит сенной амбар и дальше за ним ровное зеленое поле. Ему хочется целовать землю, упасть на колени и целовать пахнущую чебрецом и весенними дождями родную русскую землю.
— Мы приехали, — сказал он Марте. — Мы наконец в России…
Он повернулся к ней лицом, весь сияющий и преображенный.
Он хотел дотянуться до ее рук, но Марта уже растворялась в дрожащем утреннем свете, и вместе с ней растворялись стены, потолок и углы комнаты, а ширма, сдвинувшись, медленно уплывала в небо.
Мир угасал постепенно, чуть слышный в шепоте воробьев, румянясь на востоке круглыми и крохкими алебастровыми облаками. Мир вспыхнул на заре, чтоб навсегда погаснуть…
«Мертвая голова»
Внизу шумело море. Я увидел его из-за холма таким, каким оно запомнилось с детства — темно-зеленой массой воды с протянутыми вдали мохнатыми лапами облаков, словно белые медведи боролись друг с другом на краю синего неба. Мне не было видно прибоя — он неистовствовал где-то внизу под обрывом, в том месте, куда подходила кладбищенская стена и где сухие листья сирени казались вырезанными из ржавого железа. Знойное болгарское солнце растопило небо и землю. Запыленные акации простирали иссохшие сучья. Бесчисленные кресты уплывали вдаль флотилией затонувших кораблей. И я бродил по старому кладбищу с упорством маньяка, разыскивая то, что надеялся здесь найти. Я опускался на колени и раздвигал колючие ветви дерезы, унизанные карминовыми ягодами и лиловыми цветами; я всматривался в таинственный мир шатающихся былинок и видел еще не развившиеся стебли чертополоха, в том детском для растений возрасте, когда над землей чуть приподымаются зеленые любопытные уши. А глаза мои искали только ее, затаившуюся где-то в листьях, быть может, покачивающуюся на одиноком прутике дерезы, совсем близко, у самого моего носа. Конечно, я мог наловить десяток иных бабочек, порхающих там и сям. Но все это были обычные породы, а я искал гусеницу той редкой и огромной бабочки, которую дилетанты называют «Мертвой головой», а ученые коллекционеры звучным греческим именем — «Acherontia atropos». По щекам моим стекали ручейки пота; надувшаяся горбом летняя блуза стучала за спиной, как парус; ветер заставлял танцевать все, что способно было приседать и раскачиваться, кружиться, взлетать и подпрыгивать. Голубые решетки теней проносились по дорожкам кладбища, беспрерывно возвращаясь назад, а земля казалась фиолетовой, стоило только задержаться взглядом на ее раскаленной поверхности. И я бродил в этом июльском зное, то наклоняясь вниз к земле, то раздвигая рукой прутья. Иногда, в сплетении листьев и прутьев, передо мной возникало обманчивое видение и я бросался вперед, ощупывая на ремне экскурсионную коробку. Но это был только сухой лист или сломанная веточка. Так, продвигаясь все дальше, я подошел к стене. Ветер взметал на ее каменном гребне игрушечные самумы, и мельчайшая пыль оседала на зеленую шкурку мхов и лишайников, как оседает, должно быть, пыль Сахары на зеленые материки, разбросанные в далеком море. Я опустился на угол могильной плиты, источенной временем. Здесь, так же как и позади, переплеталась дереза, таинственное растение пустырей и кладбищ, диких рвов и старых развалин.
И вот одна ничтожная мелочь привлекла мое внимание. Мне даже не хотелось подыматься с места, так незначительно было то, что я увидел. Просто на одном из прутьев недоставало нескольких листьев. Но охотничья страсть против воли заставила меня подняться с места и подойти ближе к шатающемуся во все стороны прутику. Верхушка его была обнажена от листьев так, словно бы кто мимоходом протянул ее сквозь сжатую ладонь, и остались ягоды, варварски заманчивые в своей ядовитой красоте. И тут же я взглянул вниз на землю, и то, что увидел там, сразу уничтожило мою усталость. На глинистой почве под растением выделялись два черных цилиндрически правильных и продолговатых комочка. Я смотрел на них с тем чувством возбужденной и обостренной внимательности, с каким зверолов рассматривает следы редкого зверя. Теперь сомнений быть не могло: где-то здесь, поблизости, на одном из этих шевелящихся и раскачивающихся прутьев, сидела взрослая гусеница «Мертвой головы», гусеница той мрачной и великолепной бабочки, о которой в народе создалось столько легенд и поверий. Я мысленно наметил план: двигаться по радиусам во все стороны, не пропуская ни одного прутика. И в тот же момент я увидел ее самое — огромную голубовато-зеленую с желтым рогом, сонно покачивающуюся в двух шагах от меня на фоне неба. Видимо, ее раздражал ветер: она сидела с приподнятой вверх и собранной в прозрачные складки головой, ухватившись за веточку только средними и задними лапками, странно похожая в этой позе на бубнового короля. Она была великолепна.
От ярко-голубой спины тянулись вниз сиреневые и желтые полосы. Желтый рог, загибающийся на конце кверху, был покрыт бисерными бугорками. Когда я осторожно отломил веточку, гусеница раздраженно качнулась всем туловищем, издавая странный костяной треск, потом застыла с высоко приподнятой головой и двумя парами передних ножек, повисших в воздухе. Руки мои дрожали, укладывая ее в железную коробку. Теперь наконец можно было спокойно отдохнуть после утомительных поисков.
Я сел на траву, в жесткое серебро бессмертников, и, достав из кармана свою походную трубку, набил ее душистым болгарским табаком. Я слышал, как за стеной внизу плещется и шумит прибой. Две чайки, отнесенные далеко в сторону, проплыли над головой с пронзительным криком. В покосившихся набок деревянных крестах шуршал жаркий ветер. И вдруг я услыхал чье-то заглушенное рыдание за соседним могильным холмиком, смутно виднеющимся в зарослях сирени. Раздвинув ветки, я увидел очень старую женщину в вылинявшем до зелени черном платье. Она рыдала, упав на колени перед ветхой могилой, затканной листьями одуванчика. Ее голова касалась сухих тычинок, уже растерявших пух и шевелящихся, как тысячи наперстков. Ее седые волосы выбились из-под платка, и когда она приподымала голову, я видел острый профиль с крючковатым носом и воспаленные глаза, старчески запавшие вовнутрь и окруженные молниями морщинок. Ее глаза были сухи, и только голова, бившаяся о землю, да причитания и вздохи выражали ее горе. Это была мать, пришедшая на могилу сына. Я сидел, боясь пошевелиться. Я боялся неосторожным движением выдать своё присутствие.
И я отвел взгляд вниз, на прохладные заросли сирени, где юркий шершень, перепоясанный красным пояском, любопытно шнырял в траве. На каменном ложе дремала ящерица, странно дыша горлом. Муравей покачивался на сухом стебельке, как негр-матрос на корабельной мачте. Я осторожно лег на спину. Все небо с его чудесами опрокинулось надо мной вверху. Я видел, как сталкивались и расходились полупрозрачные облака и синие проруби обнажались в том месте. И мне казалось, что умер я сам и что это моя мать пришла ко мне на могилу. Но я не могу ей помочь, я мертв, и душа моя огрубела в скитаниях. Мне даже лень протянуть руку и снять с шеи назойливого паучка, упавшего с дерева. И я лежу, прислушиваясь к ее плачу…
И вот вижу аиста, такого же, как в детстве, медленно входящего в крахмальную белизну облака, и черных стрижей — летучих трубочистов… а небо так сине, как океаны в географическом атласе… В моей экскурсионной коробке изредка шевелится гусеница. И это возвращает меня на землю: я думаю об энтомологии. Мертвая, но успокоительная латынь звучит в моих ушах. Не потому ли я полюбил ее в эти годы изгнания? Не потому ли, что она мертва? И что такое сонное царство энтомологии, если не любование смертью, высматривание всех уголков, где она справляет свой вечный праздник?! Вот и отсюда, где я лежу, мне видно оборванное крылышко жука, сияющее на дорожке зеленым золотом. А час тому назад я видел на шипах терновника наколотых жуков и гусениц — это птица сорокопут заготовила себе провиант на всю неделю. Но мысли мои прерываются вздохами и рыданиями, и я слышу постоянно повторяющееся имя. Старуха произносит его бесконечно, и в тон ей стрекочут цикады. Она кричит: «Бельчо!.. Бельчо!.. Бельчо!»
И я, не видя, представляю себе ее лицо с выбившимися из-под платка седыми волосами, ее сухие, почти безумные глаза и черный платок на голове. Надо мной уже стоят допотопные чудовища. Их шеи и клыки заслоняют собой полнеба. Аист давно в Египте, и мне самому пора уходить домой. Но прежде чем уйти, я осторожно подвигаюсь вперед ползком, на локтях, и раздвигаю ветки. Я вижу ее совсем близко, всю ее иссохшую фигуру, распростершуюся ниц, и даже читаю теперь болгарские письмена на заржавленном железном солнце: «Бельчо Караджиев… 10 января 1915 года…» И вдруг мне делается жутко. Я думаю: тридцать лет… тридцать лет тому назад…
* * *
Я окружил ее заботами и вниманием, мою великолепную пленницу, это ленивое и тупое животное, смешно захватывающее лапками лист дерезы и пожирающее его с таким аппетитом, как будто это настоящий ямайский банан. Я поместил ее в просторную клетку, затянутую зеленой кисеей, и насыпал на дно земли, чтобы ей было можно закуклиться.
И однажды утром я не нашел ее на растении — она ползала вдоль клетки как-то странно размякшая, с опавшим вниз рожком и перекрасившаяся за ночь в шафранный цвет. А к полудню она зарылась глубоко в землю и так там пролежала до моего отъезда из Болгарии.
Я вынул из земли уже блестящую, как сапог, темно-коричневую куколку, с чуть намечающимися по бокам крыльями, с желобками усов и бессмысленными, спящими глазами. Я поместил ее в отдельную коробку, выложенную мхом и ватой. И я повез ее домой в Чехию, через таможни и заставы, паспортные бюро и транзитные остановки. Над ней и надо мной хохотали до судорог осматривающие нас сонные пограничные чиновники, ее и меня подозревали в контрабанде и в нарушении международных правил, и ее мягкая постель из мха была тщательно обыскана их проворными австрийскими пальцами. Но мы прибыли благополучно в Прагу, и потом — в мою комнату, близкую к небесам и вороньим гнездам. Я знал, что ей не понравится здешняя кислая северная погода, и потому поместил ее поближе к печке и раз в неделю обрызгивал из пульверизатора тепловатой водой ее мягкое ложе. Я ждал вылета давно желанной бабочки. Но потом я забыл о ней и думал о просроченных векселях и ломбардных квитанциях, о том, сколько у меня осталось на завтра сахару, о мировом кризисе и тысяче тому подобных вещей, неразрывно связанных с эмигрантским существованием. Но она сама напомнила о себе однажды глухой ночью, когда я лежал с открытыми глазами, мучаясь от бессонницы. Я услышал легкий шелест у печки и царапанье. Конечно, это могли быть мыши. Но с тех пор как я частенько стал голодать, мыши, очевидно, признали меня наконец за настоящего писателя и перебрались в соседнюю квартиру, подальше от голода и славы.
Нет, шорох был иной, мягкий и таинственный, и я вдруг вспомнил о ней. Я поспешил зажечь лампу.
На том месте, где еще вчера лежала спящая куколка, теперь сидело новое существо, крылатое и мохнатое, с толстым желтым брюшком, перепоясанным черными и синими полосами. Это была чудовищной величины бабочка, и на голове ее, на ее затылочном щитке, жутко выделялся череп мертвеца с черными дырами вместо глаз и внизу под ним две накрест сложенные кости. Она пошевелилась, и из-под верхних темных крыльев блеснула желтая полоса, разрисованная траурными узорами. И вдруг она поползла вверх по тюлевой сетке, издавая странный режущий звук, похожий отчасти на звук заводимых часов, но более тонкий и пронзительный. Я сразу вспомнил болгарское кладбище над морем, полуденный зной, стрекотание цикад и завалившуюся вовнутрь могилу. Я увидел старуху, бьющуюся головой о землю, и мне казалось, что я слышу ее рыдание в жестяном шорохе бессмертников. Какое-то таинственное чувство охватило меня, словно передо мной сидело теперь крылатое материнское горе, мрачная эмблема неугасимой печали, более сильной, чем смерть, и побеждающей время. Мне нужно было подойти к окну, чтобы рассеять это гнетущее впечатление. Прижавшись к стеклу лицом, я увидел внизу огромный город, эмалевые луны фонарей, золотые диски парикмахерских, тусклые линии трамвайных рельс и всю серую действительность, где никогда не случалось чудес и не было никакой тайны. Все было просто и рассчитано инженерами, размерено землемерами, приглажено мещанами, разукрашено лавочниками и прибрано метельщиками улиц. Здесь умер Волькер, возвышенный и благородный поэт, задохнувшийся от копоти и туберкулеза, отсюда стремглав бежал когда-то Достоевский…
Я вернулся назад к полочке и вынул из ящика свой энтомологический шприц. Я наполнил его до половины раствором табака и нашатырного спирта. Потом я осторожно взял в руки уже спокойно сидящую бабочку и воткнул иглу в ее пушистое тело. Она чуть вздрогнула и тотчас же замерла, раскрывая желтые полумесяцы нижних крыльев. Это была смерть, мгновенная, как молния. А через несколько недель, когда она высохла на расправилке, я поместил ее в коллекцию и надписал мертвыми латинскими письменами: «Acherontia atropos. Ex larva. Fauna Bulgarica. 1930».
Счастье Франтишка Лоуды
I
Дорогой друг!
Ты, наверно, удивишься, получив от меня столь обширное письмо, более похожее на дневник или исповедь. Да это и есть моя исповедь! Мне слишком тяжело одному, и, вероятно, потому хочется рассказать тебе о самом важном, самом прекрасном и самом страшном событии в моей жизни, перевернувшем ее вверх дном, наполнив ее сначала счастьем, а потом опустошением. И хотя в последние годы мы встречались с тобой довольно редко, но ты ведь знаешь, что старая дружба не забывается и не зарастает травой.
Помню, как при нашей последней встрече у здания Национального театра весной прошлого года ты расхваливал скульптуру «Счастье», выставленную мною в Салоне художников, и горячо поздравлял меня со званием заслуженного художника. Ах, если бы ты знал историю этой статуи! Я еще никому не рассказывал об этом, но тебе сейчас расскажу…
Ты помнишь тот день, когда их орды входили в Прагу? В тот именно день я разбил на куски мою «Богиню Свободы»… Эта статуя, кажется, нравилась тебе когда-то… Ну так вот: под звуки немецких дудок, под грохот барабанов, под завывание этих проклятых прусских флейт я разбил ее на сотни мелких кусков. Я был похож на помешанного. Я не мог спокойно работать, когда мой город, вся моя страна, были отданы на растерзание гуннам. Я плакал в бессильной ярости и готов был на любой сумасбродный поступок. Часто по ночам, когда в окна хлестал мартовский дождь, мне хотелось вскочить с постели, пробраться тайком на улицу и на первой же стене изобразить в виде гигантской карикатуры их бесноватого Гитлера. Ты скажешь, что это было бессмысленно. Я это и сам вполне сознавал. Даже больше: я верил, что природа умышленно создала его в виде карикатуры. И мне доставляло острое наслаждение представлять себе, как где-то там, в своей таинственной мастерской, она прилаживала на его дегенеративном лице черные усики Макса Линдера, выуженные из старого киноархива…
Постепенно и исподволь ко мне возвращалось прежнее душевное равновесие, столь необходимое каждому художнику. Над чем я тогда работал? Ах, да! Посейдон… Летящий лыжник… Тогда же я закончил своего Яна Гуса… Когда же в газетах появлялись очередные списки расстрелянных, я, подобно страусу, пытался спрятать голову в старинные рисунки Миколаша Алеша, в мелодии Сметаны и Дворжака, в жизнеописания Бенвенуто Челлини и Леонардо да Винчи — и мне казалось, что я отгородился на целые столетия от нашей проклятой действительности… Да, так мне тогда казалось, пока сама действительность не схватила меня за горло… О, это была мертвая хватка!.. Слушай! Ведь должен же я кому-то о счастье… и обо всем… Мне это трудно постоянно носить в себе… Ах, как я измучился!..
II
Ты помнишь, конечно, как я любил жизнь. Мне доставляло истинное наслаждение пристально вглядываться в ее вечный круговорот, наблюдать ее самые сокровенные тайны, вдыхать полной грудью ее новый, бодрящий воздух… И в то же время я любил милую, старую Прагу, с ее позеленевшими от времени статуями и дворцами, с ее средневековыми узкими улочками, в которых еще до сих пор горят с тихим шипением газовые фонари и бродят по ночам тени алхимиков.
Ты литератор и ты это понимаешь не хуже меня… И вот когда они по-хозяйски разместились в моей стране, когда на каждом перекрестке можно было встретить серую шинель с эсесовским черепом на рукаве, я как бы потерял на время зрение, ослеп, не видел уже ни дворцов, ни костелов. Я видел повсюду только их волчьи выслеживающие глаза… Я их чувствовал даже во сне, я с криком просыпался в своей пустой холостяцкой квартире и мне чудилось, будто не законченная мною скульптура Нерона глядит из угла теми же ихними звериными глазами. И вот тогда, в часы ночных кошмаров, во мне зародилась мысль воплотить в гипсе спокойное человеческое счастье. Счастье без войн и завоевателей, без сирен и воздушных налетов. Счастье, как на виньетках Миколаша Алеша, с ласточками и полевыми цветами… И с лицом женщины, понятно. Тебе теперь ясно, как мне нужна была живая натура… Я бродил по городу, всматриваясь во все женские лица, мелькавшие здесь и там на улицах и на бульварах. Я часами ездил в трамвае и смотрел, смотрел… Я искал повсюду, неутомимо… И, как это уже не раз бывало со мной, я нашел то, что искал, совсем неожиданно… Было чудесное воскресное утро и в Стромовском парке[42], где я тогда гулял, было безлюдно и тихо. Сюда едва долетал шум города, и только паровозные гудки врывались иногда резким диссонансом, да гудели порой моторы невидимого из-за деревьев немецкого самолета. Я шел, высматривая подходящую скамью, где можно было бы посидеть часок-другой и хорошенько обдумать детали моей будущей работы. Я уже был одержим видением счастья, и оно преследовало меня везде. Тебе известно, конечно, это томление художника, это желание воплотить в конкретных формах постоянно ускользающий образ. Кажется, что нашел уже все, и вдруг не хватает какой-то детали, поворота головы, что ли, изгиба шеи, одним словом, какой-то мелочи, пустяка… Но без этой мелочи ты не можешь сдвинуться с места, не можешь приступить к работе, ибо в ней-то как раз и заключается магическая сила: оживет ли твое видение или останется навсегда холодной глыбой… Наконец, я уселся в тени старого вяза, цепляющегося своими узловатыми корнями, проступавшими из-под земли, за ту старую жизнь, которую и я тогда еще крепко любил. Я так задумался, что даже не заметил, как кто-то опустился на скамью рядом со мной. А когда я взглянул на своего соседа, верней, на свою соседку — у меня перехватило дыхание. Я не видел еще всего лица — она сидела, склонясь над книгой, и прядь золотистых волос, упав на лоб, скрывала от меня выражение глаз, но в нежном рисунке рта, в классических линиях носа и подбородка я уже угадывал нечаянную находку. Должно быть, она почувствовала устремленный на нее пристальный взгляд, так как внезапно повернулась лицом в мою сторону. И поверишь ли, я чуть не вскрикнул. Это была она! Мое видение во плоти и крови! На секунду она задержалась на мне затуманенным взглядом, каким большинство женщин глядит на безразличный для них предмет, губы ее были полураскрыты, они еще что-то шептали, потом она снова углубилась в чтение книги. А я сидел, ослепленный, с сильно бьющимся сердцем, создавая уже в мыслях необходимое положение для лица и для рук. Я наскоро перестраивал в воображении созданный прежде образ: надо будет более подчеркнуть линию рта, спустить на лоб вот эту именно непослушную прядку волос, а плечи… О, я уже догадывался, какие у нее плечи! Плечи я оставлю, не меняя их положения… Она перевернула страницу, и на пальце тускло блеснуло узкое девичье колечко с небольшим, похожим на капельку крови, искусственным камнем. Судя по детской свежести щек, ей не могло быть больше двадцати лет. Выражение ее лица при чтении постоянно менялось: то становилось серьезным, — и тогда брови слегка сдвигались над переносицей, — то вдруг принимало светлое выражение, именно то, какое было мне так нужно теперь. Но как с ней познакомиться? Как начать разговор? Я боялся спугнуть ее, как охотник, выслеживающий лань или серну, боится каждого своего неверного шага. Наконец я решился:
— Интересно? — спросил я ее, стараясь обратить на себя внимание.
Должно быть, мысли ее витали где-то совсем далеко и от меня, и от всего окружающего, так как она нетерпеливо отмахнулась рукой.
— Ах, не мешайте, пожалуйста! — Но тут же, сообразив, что я все же совсем чужой для нее человек, добавила несколько строже: — Я вас вовсе не знаю. И мне неинтересно разговаривать с вами.
— Боже мой, как это нелогично! — возразил я. — Значит, если бы мы были с вами знакомы и я был бы самым нудным собеседником на свете, вы бы разговаривали со мной, не правда ли?
Ее немного обескуражил такой неожиданный натиск.
— Вы именно и есть этот нудный и неинтересный для меня собеседник, — ответила наконец она, тщетно пытаясь скрыть улыбку.
Я промолчал. Она снова взялась за книгу. Читала ли она или только делала вид, что читает? А я глядел на нее и видел уже наяву, как будут запечатлены в гипсе эти особенные ее черты.
— «Климаты сердца», — прочел я вслух название книги. — Андре Моруа… Знаете, что мне понравилось в этом романе? — Она не ответила и продолжала читать. — Мне понравилось то, что герой романа…
— Не говорите! — не выдержала она. — Не рассказывайте!
Если я узнаю конец, у меня отпадет всякое желание читать дальше.
— Хорошо, — согласился я. — Раз вы уже удостоили меня беседой, то я не буду злоупотреблять вашей добротой и вниманием.
Она вдруг рассмеялась:
— Ну и несносный вы человек! И откуда вы только взялись? Ведь я вас совершенно не знаю.
На щеках ее образовались две ямочки, а рот казался спелой вишней, разделенной посередине лепестками ромашки. Через минуту мы уже оживленно болтали, и я узнал, наконец, ее имя. Ее звали Миладой…
III
С этого дня мы продолжали встречаться довольно часто, и постепенно я узнавал, как сложилась ее судьба. Еще недавно она училась в университете, но немцы уволили ее вместе с целой группой нашей славной студенческой молодежи, и она еще не решила, что ей дальше делать с собой и чем вообще заняться. Я узнал также, что отец ее работает сварщиком на котельном заводе, приспособленном теперь для нужд войны, что она помогает матери по хозяйству и что ей не двадцать, а уже двадцать три года (признавшись в этом, она даже легонько вздохнула), и, наконец, что она мечтает стать учительницей словесности, когда уйдут немцы и республика снова будет свободной.
О себе я ей почти ничего не сказал. Кроме моего имени и фамилии, она не знала обо мне ничего. Но она не переставала допытываться, кто я и чем вообще занимаюсь, высказывая при этом самые невероятные предположения.
— Уж не учитель ли вы рисования? — спросила она однажды, когда я молча чертил на песке контур ее лица, пользуясь для этого ивовым прутиком, подобранным на дорожке. Мы сидели в Хотковых Садах, и в вечереющем воздухе вся Прага лежала внизу, будто раскрашенная цветными карандашами.
Я отрицательно покачал головой.
— Но кто же вы в таком случае? Судя по всему, вы типичный интеллигент. И если вы не учитель, то кто же? Может быть, вы… актер? — спросила она, расправляя на своей маленькой ладони лайковую перчатку.
Взгляд ее быстро скользнул по мне, обжигая, как черная молния.
— Я люблю тебя! — сказал я, отбросив в сторону прутик. — Люблю, как никогда никого не любил… — Брови ее нахмурились. — Ну, что? Хорошо у меня получается? — спросил я, пытаясь унять биение собственного сердца. — А все же вы не угадали, Милада. Я никогда не был актером.
Некоторое время мы оба молчали и было слышно, как легкий вечерний ветер шуршит в опавшей листве.
— Холодно уже, — сказала она, вставая. — Надо идти.
Она смотрела в сторону, избегая моего взгляда, руки ее комкали снятую перчатку. Мы вышли из парка и, спустившись вниз, пошли вдоль набережной, где над рекой с криком кружились чайки.
— Погодите минутку! — попросила она. — Я сейчас…
Она открыла дверцу уличного телефонного автомата, и мне было видно сквозь стекло, как она быстро листает в растрепанной книге. Потом она вышла из будки, забыв второпях захлопнуть за собой стеклянную дверцу.
— Так вот вы какой! — Губы ее чуть улыбались, хотя она все еще избегала смотреть мне в глаза. — Теперь я знаю, чем вы занимаетесь. Телефон 525–44. Вы скульптор… И мне даже кажется, что я встречала ваше имя в газетах… Да, конечно, Франтишек Лоуда. Как только я сразу не вспомнила!
В тот же вечер я попросил позировать мне, и она согласилась сразу, без колебаний. Ну а потом… потом…
Потом начались наши частые встречи. Милада приходила ко мне почти каждое утро. И, всматриваясь в ее лицо, я находил в нем все новое и новое богатство оттенков. Я был поражен этим сочетанием безмятежной юности, почти детской наивности с горделивой зрелостью ее женского естества…
Однажды она сказала:
— Почему вы не раскроете настежь все окна? На улице чудесно! Бабье лето! — Она улыбнулась. Что-то шаловливое промелькнуло в уголках ее рта. — Мое лето! Бабье! Ведь мне на днях исполнится двадцать четыре…
Она сама хотела отдернуть оконную занавеску, но я попросил:
— Не открывайте, Милада! Так лучше.
— Почему? — удивилась она.
Я повернул вверх ее ладонь, рассматривая еще неизвестные мне линии, узкую кисть руки, маленькое колечко на указательном пальце.
— Нет, почему же? — повторила она.
Ее ладонь медленно выскользнула из моей руки.
— Да потому, что там всюду «они». А я не могу их видеть. Я не могу спокойно работать, когда «они» на каждом шагу… со своими крестами и черепами…
— Но ведь это же временно… Франтишек!
Она вдруг смутилась, назвав меня просто по имени.
— Временно? Ну это вряд ли. Вспомните наших предков, Милада… битву на Белой Горе.
Я наблюдал за ее лицом: оно неожиданно просветлело и что-то, похожее на снисходительную усмешку, промелькнуло в ее глазах.
— Какой же вы еще мальчик! — воскликнула она. — И вы ровно ничего не смыслите в политике. Вы разве забыли, что существует Советская Россия?
Она глядела на меня с тем выражением спокойной твердости, как будто ничто на свете не могло поколебать ее веры. Потом, тряхнув головой, она принялась мне рассказывать о только что прочитанной книге. А я уже приготовлял все для работы: ведь счастье, как я его себе представлял тогда, должно быть именно таким, как она — спокойным и мирным…
Но вскоре в мою жизнь ворвались иные события, перевернув в ней все наизнанку.
IV
— Ты помнишь, как ликовали немцы? Помнишь, как они бесновались от радости? Фашистские полчища все дальше и дальше вторгались в Россию. Под жуткую музыку «их» киножурнала громоздились до самого горизонта захваченные гитлеровцами трофеи: танки и пушки, автомобили и разбитые самолеты… И черный немецкий орел, похожий больше на злого ворона, торжествуя, раскрывал свой клюв под звуки фанфар.
— Не верь этому, Франтишек, — сказала Милада, когда мы вышли на улицу.
Мы остановились на тротуаре под сеткой ноябрьского дождя. Ее лицо, освещенное уличным фонарем, казалось особенно бледным. Но сама она по-прежнему оставалась спокойной.
— Нельзя быть малодушным, Франтишек, — сказала она мне.
Она взяла меня под руку, и мы углубились в улочки Старого города, где чуть поблескивала в темноте мокрая мостовая. Мы шли почти наугад в черную тьму, и я крепко прижимал к себе ее локоть.
— Они погибнут, — говорила она. — Их ничто не может спасти. Поймите, они обречены…
Внезапно слова ее были прерваны скрежещущим воем сирен. Ревел весь город: Винограды и Жижков, Старе место и Мала страна, ревела вся Прага сотнями доисторических чудовищ. В домах спешно гасили огни. Уже нельзя было различить даже узкого тротуара, по которому мы шли, спотыкаясь на каждом шагу.
— Здесь где-то должно быть убежище, — шепнула Милада, прижимаясь ко мне тесней.
Но я увлек ее в ближайшие ворота, и мы остановились под сводами старинной арки.
— Переждем здесь, — ответил я тоже шепотом. — Здесь…
Мы стояли в совершенной темноте, только изредка прорезываемой отблесками зенитных орудий. И вдруг я почувствовал на губах холодок ее свежего рта, трепет ее ладоней, коснувшихся моего лица, запах ее волос…
— Вот видите? — прошептала она. — Я сама, первая…
Я ничего не ответил. Я был оглушен этим больше, чем грохотом орудий.
— Почему же вы молчите, Франтишек? Или вам… или вы…
Но я уже отыскал в темноте ее губы. Мы не слышали, как умолкли сирены, как затихла в отдалении орудийная канонада. Мы продолжали стоять одни в темноте…
Милада стала приходить ко мне также по вечерам, но между нами еще не было… одним словом, мы еще не перешли известных границ. О, я знал, что стоит мне только этого пожелать и она… Но мне хотелось сначала закончить работу. Уже оживали в гипсе черты ее прекрасного лица, и я работал с тем трепетным чувством восторга, которое всегда является залогом успеха. Нет, не подумай: я был очень строг к себе самому, но я как-то внутренне чувствовал, что эта работа мне действительно удается. Я вложил в свою статую «Счастье» все, что тогда пело в ее и моей душе. И я забыл на время о том, что мой город в плену… Я постепенно заражался верой Милады, ее верой в светлое будущее…
Помню, в один из вечеров, когда мы сидели вдвоем на диване у жарко натопленного камина и дедовские стенные часы хрипло пробили четверть восьмого, она сказала, коснувшись моей руки:
— Ты должен познакомиться с моими родителями, Франтишек.
— С твоими родителями? — спросил я, как бы просыпаясь из сладкого сна.
— Ну да… Я им уже рассказала все о тебе. И они очень хотели бы… Но о чем ты так размечтался?
Мне трудно было ответить на этот вопрос. Как рассказать то, что и самому не всегда понятно и ясно? Вдруг встает в памяти ослепительный миг, летний дождь с балетом капель на зеркальной поверхности… Все пляшет вокруг — капли и ветки, и что-то радостно постукивает в водостоках… Но почему вспомнилось именно это? И откуда оно пришло? Как ей рассказать, как объяснить?
— Говори же! — настаивала она, приблизив ко мне лицо и глядя на меня сияющими глазами. — Я должна знать все твои мысли, Франтишек.
Легкий, едва уловимый аромат исходил от ее платья и шеи, от ее спокойного дыхания. И от всего ее существа веяло свежестью летней грозы.
— Этого нельзя… нельзя рассказать, — прошептал я, почти испытывая головокружение.
Но она уже обхватила мою шею своими теплыми руками.
— Почему нельзя, Франтишек?
Все лицо ее вдруг залилось ярким румянцем.
— Почему? — шептала она. — Почему?
Я поднялся с дивана и выключил свет…..
Была поздняя ночь, когда мы вышли наружу. Вокруг не было ни души. Ветер раскачивал в улицах пьяные головы фонарей, и на мостовой шевелились от них светлые пятна. И мы тоже брели, как пьяные, крепко прижимаясь друг к другу.
V
Ее родные мне понравились с первого взгляда. Они встретили меня, как старого знакомого, просто и без стеснительного любопытства. И, всматриваясь в их лица, я старался отыскать в них ее собственные черты. Да, конечно, это от отца она унаследовала линии носа и подбородка, а от матери рот и глаза. И движением, так знакомым мне у нее, отец Милады протянул мне свою большую шероховатую ладонь:
— Ну, будем знакомы, — приветствовал он меня. — Добровский! Рудольф Добровский! Так меня, значит, зовут.
Это был крепкий еще, широкоплечий человек лет около пятидесяти, с чуть заметной сединой, пробивавшейся на висках, и с такой же, как у дочери, манерой сдвигать иногда брови. Его рукопожатие было крепким и искренним, как у большинства старых фабричных рабочих.
— Милада нам много рассказывала о вас, — улыбнулась пани Добровская, глядя на меня спокойными, темными глазами.
Комната, где мы сидели, была обставлена просто и небогато: пузатый комод занимал здесь, очевидно, почетное место, у стены, рядком, стояли четыре кресла, черный клеенчатый диван выпячивал наружу свое блестящее чрево. Но во всем сказывалась любовь к чистоте и порядку. Гипсовые мопсы, от которых, признаюсь, меня слегка бросило в дрожь, тупо и безразлично глядели с лакированной этажерки. Но уже то, что она их видела в детстве, что она созерцала когда-то этот комод и диван, заставляло меня примириться с убогим существованием всех этих предметов. Мы заговорили сначала о безразличных вещах, о ценах на мясо и масло, о жадности наших кулаков, уже не знающих даже, что им требовать в обмен за муку и картошку. И отец Милады спросил:
— Как вы думаете, скоро ли от нас уберутся эти…
Он добавил довольно сильное, соленое словечко. Я искоса взглянул на Миладу, стоявшую немного поодаль. Нет, она не покраснела и не смутилась. Губы ее слегка улыбались. И это мне особенно понравилось в ней. Она не жеманилась, она не была барышней, белоручкой, вроде тех, что наполняют до сих пор наши кафе. Она уже знала жизнь, ее теневую сторону, и росла, как белый цветок, незагрязненный и чистый.
— Думаю, что это случится скоро, — ответил я после некоторого раздумья. — Они обречены, и их ничто не может спасти…
Я говорил так, даже не соображая того, что повторяю слова Милады.
— Вот именно, обречены! — подхватил старик Добровский. — Русские скрутят им шею. А мы… мы им в этом поможем.
Лицо его приняло суровое выражение, и было заметно, как его пальцы сжались в кулак.
— Мы уже и так давно им помогаем, — добавил он, взглянув мне в глаза. — Вот, например…
И он достал с этажерки блестящую пепельницу, выточенную довольно искусно в виде лошадиной подковы.
— Когда их веркшуцполицайты забывают следить за нами, мы, вместо нужных немцам военных предметов, изготовляем стальные пепельницы и зажигалки. Весь завод наш занимается потихоньку такого рода промышленностью. Вы понимаете? Пепельницы и зажигалки вместо стальных гильз для снарядов!
В глазах у него промелькнул насмешливый огонек.
— Ну, а если… если найдется предатель? — невольно вырвалось у меня.
— Что ж! Бывают такие, — спокойно ответил старик Добровский. — Фашистские лизоблюды… Но мы расправляемся с гадами без всякого сожаления.
— Ты все же будь осторожней, Рудольф! — попросила пани Добровская.
Видимо, она уже не раз просила об этом мужа, так как он нетерпеливо передернул плечами.
— Осторожней? А ты сама? — возразил он. — Кто как не ты, раздает наши…
Но тут же он спохватился и замолчал.
— Ты можешь, отец, все говорить при Франтишке, — вмешалась Милада. — Он еще, правда, «дикий», но будет наш, несомненно.
Она, улыбаясь, глядела на меня из угла комнаты, и что-то новое, неизвестное мне доселе, сияло в ее глазах…
Прощаясь со мной, отец Милады долго и крепко пожимал мою руку и просил заходить почаще.
— Как к себе… Как домой, — говорил он. — Да оно, видимо, к этому клонится, — произнес он с лукавой улыбкой…
На следующий день она пришла ко мне радостная и возбужденная, и мне было трудно заставить ее сидеть спокойно. Наконец, я отбросил в сторону тонкий резец, которым старался поправить ямочку на гипсовой щеке «Счастья».
— Довольно! — сказал я. — Сегодня все равно ничего не получится. Давай-ка лучше поговорим.
Она уселась у меня на коленях и запустила руку в мою прическу.
— Ты очень, очень понравился моим родителям, Франтишек. Папе в особенности… Ба! Да у тебя уже седой волос! Я его выдерну. Позволишь?
Что-то чисто детское было в озабоченном выражении ее лица, и она даже слегка высунула наружу кончик розового языка, как это делают школьницы.
— Вот что, Милада! — сказал я, обняв ее за талию. — Ты знаешь, что я и теперь зарабатываю немало денег. И кроме того, ты ведь моя невеста. Мы отправимся с тобой как-нибудь к одному… Есть у меня здесь один знакомый лавочник. И за хорошие деньги он нам продаст без всяких талонов материю на вечернее дамское платье…
— Ты разве танцуешь? — спросила она.
— А как ты думаешь?
Взгляд ее испытующе, с чисто женским вниманием, скользнул по моей фигуре.
— Мне всегда казалось, что такие… — Она немного смутилась. — Что такие, как ты, не танцуют.
— Не танцуют? Но почему? Разве я похож на слона?
Она рассмеялась.
— Нет, я этого не говорю. Но ты… как бы это выразиться… Ты только не обижайся, Франтишек. Ты чем-то напоминаешь католического священника. Может быть, твоя черная шляпа…
Теперь рассмеялся и я:
— Ну, хорошо. Пусть будет так. А все-таки мы тебе платье сошьем, Милада. Роскошное… Для танцев.
Голова ее склонилась ко мне на плечо. Я видел теперь ее маленькое ухо, запрокинутый навзничь подбородок, полоску зубов в коралловой оправе рта и чуть подрагивающие ресницы, из-под которых глядели на меня ее глаза с каким-то загадочным, напряженным вниманием.
— Франтишек!
— Да, дорогая!
— Ты меня… То есть эту статую… Ты должен ее закончить непременно…
— Но ведь я и так… Что ты этим хочешь сказать, Милада?
Она внезапно выпрямилась, и рука ее растрепала мою прическу.
— Теперь ты похож на Ган-Исландца. Помнишь, у Виктора Гюго?..
Глаза ее искрились смехом, и рот уже улыбался, но я привлек ее к себе и держал так, не отпуская.
— Ах, ты меня задушишь! — взмолилась она. — Ты действительно слон.
— Милада! Почему ты о статуе? — допытывался я с тревогой.
Но лицо ее было спокойно и безмятежно и чем-то напоминало мне Джоконду Леонардо да Винчи.
— Почему? А я и сама не знаю. Просто так.
Внезапно глаза ее метнули одну из тех черных молний, от которых у меня всегда сладко кружилась голова.
— Я тебя люблю… люблю… Франтишек!
Время исчезло, его не было вовсе, хотя часы постукивали на стене, пытаясь напомнить, что уже очень поздно, вернее, что очень рано, почти рассвет. Со звоном проехал первый трамвай, и оконные стекла задребезжали, откликаясь на его будничный шум…
— Завтра я приду несколько позже, любимый, — говорила Милада, одеваясь перед трюмо и закалывая гребни в свои волосы. — Мне надо будет исполнить одно поручение…
Я любовался ее плечами, округло выступавшими из-под рубашечки, скульптурным совершенством еще оголенных рук, мелькавших в синеватом отражении зеркала, ее тонкими пальцами, живо и привычно совершавшими великое таинство утреннего туалета. Она улыбнулась мне из глубины зеркала, продолжая в то же время подкрашивать губы; подобно бабочке, только что вылетевшей из куколки, она с легким шелестом надела платье и еще раз оглядела себя в зеркале:
— Ну, вот. Теперь я готова!
Стоя уже в пальто и натягивая перчатки, она сказала:
— Нет, не провожай меня. Ведь совершенно светло.
Я слышал, как на лестнице прошелестели ее шаги, как со скрипом закрылась внизу наружная дверь, и лег в свою широкую постель, где в смятых подушках еще таилось ее собственное тепло, легкий аромат ее тела, ее духов… Но что-то мешало мне уснуть, и я ворочался с боку на бок, пытаясь освободиться от назойливых мыслей, непрошенно вторгавшихся в мое сознание…
VI
Я долго ждал ее на следующий день. Но она все не показывалась. Я то и дело подходил к окну и всматривался в темную улицу, где в желтых нимбах электрических фонарей уже мелькали первые снежинки. Что ее задержало? Ведь уже было около десяти. Наконец я услыхал на лестнице ее поспешные, легкие шаги.
Я открыл дверь и даже не узнал ее сразу. Она была в зимнем пальто, какого я прежде не видел на ней, серый барашковый воротник был приподнят до самого горла, из-под берета беспорядочно выбивались наружу запушенные снегом золотистые локоны, и вся она казалась выше и тоньше.
— Ах, Франтишек! — воскликнула она, прежде чем я успел что-либо ей сказать.
На секунду она прижалась головой к моей груди, но тут же выпрямилась и взглянула на меня каким-то особенным взглядом.
— Арестовали отца! Ты понимаешь? Отца!.. Нельзя терять ни минуты. Его взяли гестаповцы час тому назад на ночной смене. Товарищи все же успели нас предупредить: то есть меня и маму. И вот я принесла… Это нужно спрятать на время… подальше.
Она расстегнула пальто и достала из-за корсажа платья небольшой бумажный пакет:
— Спрячь это, Франтишек! Здесь список наших партийцев. Спрячь хорошенько!..
Я глядел на нее, не понимая. Я видел только ее лицо, уже ставшее мне бесконечно родным, и читал в нем все то, что она, видимо, с усилием скрывала: душевную боль и тревогу и еще что-то такое, что даже в эти минуты проникало в мою душу, как музыка.
— Разве ты… разве твой отец? — спросил я, как бы пробуждаясь. — Разве вы…
— Да, мы коммунисты, — кивнула она. — Мы состоим в партии. И мама тоже. Но я страшно спешу, мой любимый!..
Она порывисто меня обняла, стиснув мою голову своими маленькими руками, даже не успев снять перчаток, от которых распространялся легкий запах кожи и снега. Ее губы, весь ее свежий рот без слов сказали мне все. Когда, отрываясь от меня, она высвободила руки, я увидел блеснувшие в ее глазах слезы. Но это был только миг — дань ее женскому естеству.
— Я должна спешить, Франтишек! Нужно еще предупредить некоторых товарищей, иначе их могут взять этой же ночью…
На пороге она еще раз оглянулась, и та прежняя, спокойная улыбка (о, теперь я понимаю, чего она ей стоила тогда!) мелькнула в уголках ее рта. Я бросился к ней:
— Милада!
Но дверь уже закрылась за ней, и шаги удалялись, замерев, наконец, где-то внизу.
Помню, как долго стоял я посреди комнаты, ошеломленный и с сильно бьющимся сердцем. Я держал в руке только что переданный мне ею пакет и, не соображая, глядел на розовый шнурок, которым он был перевязан крест-накрест.
«Такими шнурками в магазине игрушек… — почему-то вспомнилось мне. — Оловянных солдатиков…»
И вдруг я очнулся. «Надо спрятать! Спрятать немедленно! Весь город переполнен фашистскими солдатами… И у них серые, оловянные лица… Но не в лицах дело… а нужно спрятать… Куда же однако?»
Я вошел в ателье и зажег свет. Меня как бы что осенило. Я взял со стола долото и принялся без сожалений выдалбливать в голове Посейдона большое круглое отверстие, в котором мог бы поместиться этот опасный партийный документ. Мне не потребовалось много времени для работы, и через несколько минут я уже тщательно замазывал гипсом этот тайник. Потом я вернулся в спальню и опустился на край постели. Мне было слышно, как за стеной, в столовой, с механической неутомимостью постукивали часы. Они шли, шли вперед, безразличные ко всему живому на свете, ко мне и Миладе, к гитлеровским солдатам, к настоящему и прошедшему, они шли вперед, в будущее, которое мне представлялось теперь еще более страшным и неизвестным. Я знал, что не усну в эту ночь, и потому даже не раздевался. Иногда я подходил к окну и, отстранив рукой занавеску, всматривался в улицу, уже побелевшую от снега, ставшую как-то бессмысленно праздничной и нарядной. Там где-то была она, Милада, и я не знал, что с нею… не знал…
Только к утру я немного забылся в полудремоте, прислонясь спиной к подушке и неловко подогнув шею. Разбудил меня резкий звонок, и я вскочил, морщась, как от удара, наскоро приглаживая ладонью растрепавшуюся прическу. Это она! Она!
Я поспешно отбросил дверную цепочку и открыл дверь…
Передо мной стояла высокая женщина в наброшенном на голову шерстяном платке, и я не сразу рассмотрел ее лицо, неясно рисовавшееся в бледном мерцании раннего утра.
— Милада у вас? — спросила она, даже не поздоровавшись.
Я не сразу ответил. И вдруг я ее узнал.
— Входите, пожалуйста! Нет, здесь ее нет. Она была вечером, но с тех пор я ее не видел. Но входите, пани Добровская!
Мы прошли в столовую, и я усадил мою гостью в то кресло, где еще так недавно мы сидели вдвоем с Миладой, а сам поместился напротив.
— Милада не ночевала сегодня дома, — сказала, наконец, пани Добровская, как бы не замечая меня и глядя на маятник стенных часов, раскачивающийся с медным звоном вперед и назад.
— Не ночевала? Но где же?..
Ее глаза, такие же темные, как у дочери, впервые остановились на мне.
— Боюсь, что и ее… как отца. Должно быть, это случилось, когда она зашла к одному из наших товарищей.
Она говорила тихо, почти спокойно, и только руки перебирали нитяную бахрому головного платка с какой-то поспешной и неоправданной последовательностью.
— Но почему же вы… — воскликнул я, вскакивая, — почему вы не остановили Миладу, не удержали? Ведь она могла скрыться… уехать на время в деревню…
— Скрыться? — спросила пани Добровская, как бы не понимая. — Она должна была сначала предупредить об опасности всех остальных. И кроме того… — Голос ее внезапно дрогнул. — Кроме того, мы все хорошо знали, на что мы идем. Нет, чтобы скрыться, у Милады не было времени…
Платок сполз у нее с головы, и седые волосы выбились из-под него, закрыв половину ее щеки. Рот ее судорожно покривился.
— Ах, моя дочка! Моя дочка! — вырвалось, наконец, у нее вместе с глухим рыданием. — Милада! Дочка! Ведь они будут ее пытать!..
Я глядел на нее и не находил слов утешения. Да и что бы я мог ей сказать? Я и сам был подавлен, обеспокоен и страшные мысли роились в моем мозгу. На миг я представил себе виденного недавно в кафе эсэсовца, с гладким пробором на узкой, змеиной головке, вылощенного и надменного, и боялся даже подумать, что Милада попала к таким, как он, на суд и расправу… Пани Добровская не сразу овладела собой. Видимо, ей стоило больших усилий, чтобы подавить рвущиеся наружу рыдания. Но когда она снова обратилась ко мне с вопросом, голос ее звучал по-прежнему спокойно и твердо:
— Вы спрятали то, что она принесла на хранение?
Я молча кивнул головой.
— Это хорошо. Нужно во что бы то ни стало спасти товарищей от ареста. — Она протянула мне руку: — Прощайте! К нам вы не заходите пока… Они могли бы и вас… А Милада мне этого не простила бы.
Она пошла к дверям, но вдруг остановилась на пороге:
— Вы себя так не мучьте, пан Лоуда. Ведь еще ничего не известно… Когда я что-нибудь узнаю о ней, я вас извещу. Если не сама извещу, то через наших товарищей.
Я проводил ее вниз к наружным дверям и снова остался один…
VII
Проходили дни и недели, а я все еще ничего не знал о Миладе. Уже отступали из России на запад гитлеровские войска, и в газетах мелькали названия покидаемых фашистами советских городов. Вся Прага жила напряженной, взволнованной жизнью. А я… я совершенно забросил работу. Мне казалось бессмысленным теперь все то, что наполняло когда-то душу творческой радостью и восторгом. Я запер на ключ ателье и прикрыл холстом незаконченные скульптуры. Я ждал, прислушиваясь в одиночестве к каждому шороху, долетавшему извне…
А между тем на бульварах и скверах уже золотились в траве одуванчики, и в гипсовых облаках над городом, в синих провалах неба торжественно шествовала весна. Зацветали деревья, и пчелы гудели в них, собирая привычную дань. Ворковали голуби, расхаживая по карнизам, на соседнем балконе слепили глаза выставленные на солнце перины… А в душе моей как бы все омертвело, погасло, и я не внимал, как прежде, ни звукам, ни краскам весны, я только прислушивался к шороху шагов — и ждал, ждал…
Однажды, когда я возвратился домой из табачной лавочки, меня остановил на лестнице управдом:
— К вам приходил рабочий от водопроводной конторы. Он сказал, что зайдет еще через час. У вас что же? Лопнули трубы?
Я машинально кивнул головой. Мне было все теперь безразлично… Но когда, поднявшись к себе наверх, я закурил трубку, мысли мои несколько прояснились, и я подумал, что здесь вышла какая-то ошибка: ведь я не просил производить в моей квартире никакой починки. Должно быть, у соседей лопнули трубы, а они с этими пустяками… ко мне. Было досадно, что даже теперь меня не оставляют в покое. И когда раздался звонок, я нехотя отпер дверь, ругая в душе непрошеного посетителя. Да, это был старый рабочий в синей, испещренной пятнами блузе и таких же синих широких штанах. Через плечо у него висела кожаная сумка для инструмента.
— Здесь вышло недоразумение, — сказал я нетерпеливо. — Я не требовал… Мне ничего не надо.
— Ваша фамилия Лоуда? — спросил он, не обращая внимания на мой неприветливый тон.
— Ну да! — ответил я почти раздраженно.
— Меня просили передать вам вот это… — Он порылся в кармане штанов и достал оттуда что-то завернутое в бумажку. — Вот это, — повторил он, протягивая мне на ладони блестящий предмет.
О, есть такие моменты в жизни, когда в полном безмолвии рушится весь старый, привычный мир. Я испытал это теперь: на ладони его лежало знакомое мне колечко с искусственным камнем в виде капельки крови.
— Пойдемте! — произнес я поспешно и задыхаясь. — Пойдемте в комнату!
Ноги у меня подкашивались, и я почти упал на диван. Я не мог в первую минуту вымолвить слова, захваченный вихрем тревожных мыслей.
Он сидел молча, и его лицо, словно высеченное из твердого камня, рисовалось на солнечной занавеске.
— Что с ней? — прошептал я. — Говорите же! Говорите!
Он продолжал глядеть на меня чуть исподлобья своими выцветшими, старческими глазами. Но в них я уже боялся прочесть что-то страшное, непоправимое и вместе с тем я уже не мог выдержать неизвестности — она давила меня, как глыба камня.
— Ее уже нет, — произнес, наконец, он, опуская глаза.
— Нет?
— Да, нет в живых. — Он помолчал немного, как бы не решаясь сказать все до конца. — Немцы ей отрубили голову.
— Голову? Кому? — воскликнул я, уже не соображая, что говорю. — Голову Милады? Миладе? Ее голову? О, это невозможно! Голову ей?
Рука его легла мне на плечо, и он тихо вздохнул:
— Теперь все возможно, мой дорогой. Нацисты озверели. Мы им выламываем последние зубы. И вот они…
Но я уже не слушал его. В солнечном пятне над книжной полкой вдруг возникло передо мной ее лицо, такое же, как прежде, как тогда, с тихой улыбкой счастья, раздвинувшей вишневые губы, — вся ее голова, прекрасная, как у богини… «Я тебя люблю… люблю, Франтишек!.. Ба! Да у тебя уже седой волос! Я его выдерну… Позволишь?..»
И они эту голову! Эту голову!..
— Родителей Милады нацисты тоже замучили, — донеслось ко мне из далекого далека. — Но мы им отомстим! За всех отомстим… А колечко это мне передал один наш товарищ, сидевший с нею в тюрьме…
Я не помню, как и когда он ушел. Я не помню даже, какой это был день: среда или пятница…
Почти неделю я пролежал в горячке, и старуха соседка ухаживала за мной, как за собственным сыном. У нее тоже кто-то из родных погиб в Бухенвальде.
Постепенно ко мне возвращалось сознание и вместе с ним острая душевная боль. Когда наконец доктор позволил мне встать с постели, я достал из старой шкатулки ключ и проковылял к дверям ателье. Как дрожали у меня руки, когда я поворачивал его в замочной скважине! Но я уже вошел в ателье и приподнял оконную штору. Все было на месте, так, как в те прежние, уже невозвратные дни: Дафнис и Хлоя… Посейдон с трезубцем в руке, как бы защищающий тайну. А статуя «Счастье»… Она глядела на меня спокойными, радостными глазами. Я подошел ближе.
Мне хотелось упасть перед ней на колени, но я был еще очень слаб и, прислонившись к стене, я глядел не отрываясь на застывшие в гипсе нетленные черты.
— Милада! — произнес я невнятно и хрипло.
Она глядела и улыбалась.
— Милада!
Я разговаривал с ней, как помешанный, я говорил о том, что без нее жизнь потеряла для меня смысл и значение, что я не могу работать, творить…
Но она глядела куда-то вперед, не на меня, а вперед; она не видела, не замечала меня, ибо таков был мой замысел — создать символ спокойного счастья не для меня, а для всех людей на земле…
Она уже не принадлежала мне одному, она улыбалась всему человечеству, его будущей счастливой судьбе без войн и пожарищ, без осиротевших семей и разрушенных городов, она была счастьем всех и для всех, но не для меня… не для меня одного…
* * *
Вот и все. Ты, конечно, поймешь, почему в своем отчаянии я вспомнил прежде всего о тебе и решил рассказать тебе обо всем.
Я закончил фигуру «Счастья», как обещал Миладе. Ты видел эту статую на выставке… Она понравилась тебе… Но чтобы счастье не осталось только гипсовым, надо еще многое и многое сделать…
О, нам нужно еще много трудиться, нужно много трудиться нам всем, чтобы то страшное время, что мы пережили недавно, уже никогда не повторилось опять.
За далью непогоды
Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна…
ЯзыковЕсть в человеческой памяти могучая сила — способность вызвать издалека дорогие сердцу видения и картины, блаженную страну детства… Вдруг возникает передо мной давно не существующий сад, вечерняя заря, полыхавшая когда-то над темным фронтоном дома, и вот этот двенадцатилетний мальчишка в парусиновой косоворотке, в котором я узнаю себя самого. Я стою, запрокинув вверх голову, вглядываясь в глубину звездного неба, где, по словам тети Лизы, обитает бог Саваоф. По правде сказать, я боюсь этого библейского бога, ибо уже не раз мне доставалось из-за него. Совсем недавно отец высек меня за незнание священного текста:
— Опять не выучил, лентяй! Ну, повторяй за мной: «Царю небесный…»
— «Царю…» «Царю…» — бормочу я сквозь слезы.
— «Царю небесный», прохвост! — шипит отец, и пальцы его больно выкручивают мое покрасневшее ухо. — «Утешителю», негодяй! «Душе истины», скотина! «Иже везде сый…» — И, потеряв наконец терпение, он восклицает: — Снимай, мерзавец, штаны! Уж я тебе покажу! Я тебе покажу!..
И, стоя теперь посреди вечернего сада, я думаю: «А что, если Бог уже знает, что у меня в кармане рогатка? Что, если он явится ночью к отцу и нафискалит ему, что из этой рогатки я расколотил вчера уличный фонарь на углу Базарной и Бериславской?»
Но мысли мои вдруг прерываются далеким свистком: это, бесспорно, свистит Жоржик, мой приятель. Он обещал прийти в сад как только стемнеет. Я закладываю в рот два пальца и в свою очередь пронзительно свищу. Со стороны соседского забора доносится ответный сигнал.
— Жоржик! Жора! — окликаю я друга.
Тишина. Тирликают сверчки и медведки. Маттиола дышит в лицо одуряющим ароматом. Черный паук на своих воздушных трапециях начинает вечернее представление… Но вот приятель высовывает свою взлохмаченную голову из таинственных лопухов.
— Вась! А Вась! Знаешь, что я тебе скажу? — шепчет он хрипло.
— Нет, не знаю, — признаюсь я вполне откровенно.
— Мы завтра поедем на рыбную ловлю. За Днепр, на речку Гнилушку.
— На рыбную ловлю? Поклянись, что не врешь.
— Накажи меня Бог, ежели вру. Щупаков поедем ловить.
И Жоржик крестится черной рукой. Теперь я верю: клятва ужасна. Тот Саваоф, которого я только что мысленно себе представлял там, высоко в звездных пространствах, тот ветхозаветный седобородый Бог с воздетыми кверху руками, слышал и знает, что мы едем завтра на ловлю щук.
— А откуда, Жоржик, мы лодку достанем?
— Откуда? Да ведь дядько Зиновей одолжит ее нам. Раздобудь только пятиалтынный.
— Я сопру деньги у тетки, — говорю я в раздумьи. — Она, может быть, и не заметит.
Потом мы пробираемся в соседский амбар, и там Жоржик показывает мне запрятанные в сене рыболовные снасти. Мы расстаемся, условившись сойтись на заре за углом нашего дома. Боясь проспать, я вовсе не ложусь в постель. Я сижу у открытого окна и смотрю в черное небо. Иногда, когда я слегка задремывал и глаза мои начинали слипаться, звезды протягивали ко мне свои бледные меченосные лучи, и тогда казалось, что я сам парю высоко в небе и что я как-то связан со всем таинственным, совершающимся вверху… Под утро сад ожил, залепетал пыльной листвой. Карнавальные головы цветущих подсолнухов стали выделяться на фоне неба… Пора! Надо было идти. Я вышел на улицу, смахнув по пути медную мелочь с туалетного столика тети Лизы, мирно похрапывающей в трепетном свете лампады. Жоржик, нагруженный удочками, уже ожидал меня за углом.
— Ну что? Есть монета? — спросил он шепотом.
Я молча кивнул головой.
— В таком случае поднажмем, — сказал он. — До зари уже совсем недолго. А щука лучше всего клюет на заре.
Мы идем вниз по улице, поеживаясь от утренней свежести, спускаемся к обрыву и углубляемся наконец в узенький переулок прибрежного рыбачьего поселка. Небо на востоке начинает бледнеть, принимая зеленоватый щучий оттенок; от реки вместе с утренним бризом тянет запахом смоленых канатов; темно-серое, огромное, таинственное пространство открывается нам на повороте. Оно подмигивает вдали красными и зелеными огоньками, оно веет сырым, теплым дыханием, оно качает в себе погасающие звезды и с шипением лижет мягкий песок. Днепр еще не обнажил свою могучую ширь и потому кажется беспредельней, грозней и величественней. И я вдруг ощущаю, что он совершенно живой, такой же, как мы, как я, как Жоржик, как старый рыбак Зиновей… Вот он перекликается с вербами, и те отвечают ему покорным и грустным шумом; вот он раскрыл зеленовато-перламутровый зев и заговорил внезапно миллионами лягушачьих голосов. И мне самому вдруг становится жутко, я постигаю его текущую, огромную силу, его вечный упрямый напор. Я представляю себе, как мы сейчас отдадимся на его волю, и зубы мои начинают отбивать частую дробь. Но мы уже у дверей Зиновеевой хаты, и Жоржик скулит, заглядывая сквозь забор:
— Дядько Зиновей! Дядько Зиновей!
Восток уже пылает; хата Зиновея превращается в сусальный дворец; золотые горшки торчат на кольях и сучьях. И сам Зиновей, в виде Навуходоносора, выставляет из дверей напоказ свою золотистую плешь:
— Кто тама? Чего кричите здесь спозаранку?
— Это мы, — говорит Жоржик. — Насчет каюка.
Рыжая голова Жоржика тоже превратилась в чистое золото.
Но Зиновей отвечает:
— Чтоб вам, байстрючата, глотки позаложило! Матери вашей сто чертов! Кричите здеся ни свет, ни заря, сукины дети. Вот я вам сейчас, шибеникам, уши повыкручиваю долой!
Зиновей стоит на пороге хаты босиком и в раскрытой на груди холщовой рубахе, бородатый и страшный, со всклокоченными, будто взвихренными бровями.
— Бежим! — шепчу я Жоржику, дергая его за рукав.
— У нас есть деньги! — кричит Жоржик. — Пятнадцать копеек! Одолжите нам вашу дубивку, дядько Зиновей!
— Дулю я вам одолжу, а не дубивку, — ворчит Зиновей.
Но говорит он уже не тем грозным голосом и минуту спустя перебрасывает нам через забор весла, черпак и правилку. Мы отвязываем от причала тяжелую, длинную, насквозь пропахшую рыбой лодку. Как-то боком берег начинает уходить назад, и широкое лоно Днепра принимает нас в свои утренние просторы. Вот мы уже различаем впереди противоположную сторону реки с растрепанными вербами, склонившимися над водою.
— Эх, запаздываем! — вздыхает Жорж.
И он нажимает на весла, так что в воде образовываются бегущие мимо зеленовато-мутные воронки. Нас заметно сносит вправо, к выступающим далеко вперед плотам, на которых рыжебородые северные «кацапы»-плотовщики уже варят свой ранний кулеш. Здесь где-то, в зелени рогоза и камыша, находится заветный ерик, ведущий в речку Гнилушку, в щучье царство, о котором я уже слышал не раз, но где самому побывать еще не пришлось.
Странный мир открылся моим глазам сразу при въезде в ерик: в прозрачной воде, слегка волнуемой утренней рябью, копошились большие рогатые улитки, повиснув на зеленых стеблях куширя и прибрежной осоки, судорожно изгибались полосатые пиявки, проплывали жуки-плавунцы с желтым ободком вокруг своей зелено-черной спины, стремительно проносились мимо стайки серебряных рыбок. А на песчаном дне виднелись голубые дорожки от путешествующих двустворчатых ракушек. Поднявшееся над камышами солнце разливало в этом подводном мире свой яркий зеленый огонь. Ерик углублялся и суживался, камыши становились гуще и выше, вдали у поворота еще клубился оставшийся с ночи туман; сотни и тысячи сереньких птиц-камышевок кричали вокруг, и их звонкий речитатив, подхваченный эхом, отдавался сторицей, будто тысячи бешеных скрипичных смычков справляли свою музыкальную оргию в огромном зеленом зале.
— Сейчас приедем, — говорит Жоржик, утирая рукавом выступившие на лбу капли пота.
Над камышами начинает рисоваться густой ряд верб, круто поворачивающих к востоку. Ерик делает последний изгиб, и мы въезжаем в Гнилушку. С легким шуршанием врезывается лодка в густую поросль водяных лилий и кувшинок, уже раскрывших над водой свои пышные белые и желтые цветы, на которых там и сям дремлют, покачиваясь, дымчатые стрекозы. Сразу в лицо пахнуло простором и ветром, отдалось в ушах далеким кукованием кукушки; старые вербы склонились над черной водой, глядясь в ненастоящее, отраженное небо. Так вот она какая — эта заветная речка Гнилушка!
— Станем здесь, у входа, — шепчет Жорж.
Мне передается его охотничье волнение. Ведь мы собираемся удить не какую-нибудь плотичку, а настоящих больших щук, тех самых, что по утрам на городском базаре так хищно раскрывают, позевывая, свои зубастые пасти и бьют хвостами о мраморные плиты прилавков. И я шепчу в ответ:
— Станем вот там, под вербой.
Мы переезжаем узкую речку и вклиняемся носом дубивки в раздавшиеся на две стороны камыши. Потом мы начинаем лихорадочно разматывать удочки, насаживать на крючки извивающихся, розовых червяков, переставлять поплавки, сообразуясь с глубиной места, и поудобней прилаживаться к предстоящей охоте. Нам надо наловить сначала живцов, и потому главные удочки, предназначенные для щук, лежат нетронутыми на дне лодки. Наконец, я извлекаю из воды трепещущего, широколобого «бубыря» и насаживаю его на крючок уже настоящей щучьей удочки… И вот я сижу и созерцаю попрыгивающий на воде огромный пробковый поплавок, от которого во все стороны расходятся круги, и в этом поплавке, в его движениях и вздрагиваниях, сосредоточивается для меня весь мир. Но в то же время я косвенно подмечаю, слышу и вижу то, что совершается вокруг. Вот упала на воду пушинка, и ветер подхватил ее, как ладью, и она скользит, скользит мимо, пока крупная рыба, плеснув по воде хвостом, не уносит ее в глубь черного омута; два странных жука, похожих на конькобежцев, беззвучно несутся по гладкой поверхности размеренными прыжками; зеленая лягушка, сидящая на широком листе кувшинки, косится на них, выпучив телескопические глаза, а поплавок, вздрагивая, медленно отходит влево и так же медленно начинает погружаться в воду. Потом он выскакивает опять на поверхность, чтобы затем с внезапным бульканьем исчезнуть совсем, и вслед за ним тянется леска и удилище, а Жоржик кричит не своим голосом:
— Тащи! Это щука!
Я хватаюсь за удилище обеими руками и тяну что есть силы что-то упирающееся, необыкновенно упругое, мощное и серьезное, переметнувшееся внезапно в сторону камышей, чтобы вспенить там черную воду Гнилушки и вдавить в нее цветы и листья кувшинок.
— Не упусти, Вася, не упусти! — кричит умоляющим голосом Жоржик.
Но мне некогда отвечать, да и слова не лезут из горла. Леска снова метнулась вправо и очутилась на чистой воде. Медленно, нехотя показывается поплавок и вдруг стремительно уходит под воду, а удилище сгибается в дугу и начинает легонько потрескивать. И тут я замечаю в неясной, сумеречной глубине очертания огромной рыбы с зеленовато-черной спиной. Широкая пасть мелькает над вскипевшей водой, брызги обдают мне лицо и рыба тяжело падает в лодку, а я сижу уже на ней верхом, как морской царь, оседлавший дельфина.
— Вася! Это… Это ты… нарочно! — растерянно бормочет Жоржик.
Его веснушчатое лицо побледнело, его рыжие волосы спутаны и слиплись от пота, и руки его дрожат, пытаясь снять с крючка пойманную мною рыбу. Мне и самому как-то не верится, что я сижу верхом на щуке, что это мои собственные новые гимназические штаны замазаны до блеска ее клейкой чешуей и что все это действительность, а не вымысел чьей-то буйной фантазии. Ведь ничто вокруг как будто не изменилось: бегут по воде легкие волны, извивается в них штопором ствол старой вербы, стоит на одной ноге пепельно-серая цапля, и только камыш, будто вновь пробудившись, шумит о чем-то волшебном.
— Вот это дело! — говорю я, очнувшись. — Вот это шикарно! Ты только представь, Жора, как удивятся у нас, когда я припру домой такое чудовище!
— Смотри, чтобы тебе не влетело, — говорит Жорж, указывая на мои измазанные штаны.
Но я чувствую, что в нем пробудилась охотничья зависть, и мне даже как-то неловко за мой великий триумф.
— Ты, Жоржик, не сомневайся, — говорю я минуту спустя. — Я тебе пришлю кусок фаршированной щуки.
Но Жорж безутешен. Он глядит исподлобья и цедит сквозь зубы, как пришедший с мечом судия:
— За деньги тебе тоже от тетки достанется. Вот увидишь. Она непременно заметит пропажу.
— Ну, это ты брось! Тетки я не боюсь.
— А ты не задавайся, — говорит Жорж.
И лицо его как-то сурово деревенеет. Тогда я окончательно теряю терпение. Я выпаливаю скороговоркой:
— «Рыжий, красный, человек опасный! Я на солнышке лежал, кверху бороду держал…» — И, пользуясь тем, что Жоржик слегка косит, я добавляю ехидно: — «Косой заяц нанес яиц, вывел детей, косых чертей!»
Жорж приподнимается с кормы и, раскачивая лодку, идет мне навстречу.
— Выходи на левую руку! — заявляет он решительно. — Давай стукнемся, ты, рохля!
И хотя Жоржик на год старше меня, а по виду и куда больше, я бросаюсь на него с крепко сжатыми кулаками. Вцепившись друг другу в волосы, мы валимся на дно лодки и продолжаем драку уже в горизонтальном положении. На секунду мелькает надо мной голубое летнее небо с жемчужными облаками, сетчатая верхушка вербы, и затем рот мой прижимается к осклизлому дну каюка. Но как раз в этот момент я слышу за бортом глухой всплеск и чувствую, как навалившаяся на меня тяжесть начинает ослабевать. Почти одновременно мы вскакиваем на ноги и глядим туда, где только что лежала щука, а затем на расходящиеся в воде круги от ее ловкого и смелого прыжка.
— Щу… шу… — заикается Жоржик. — Щука удрала!
— Выпрыгнула из лодки, сволочь паршивая, — говорю я с отчаянием.
Я смотрю на свои замазанные и разорванные на коленях штаны, и мне делается так больно и грустно, что я вот-вот готов разрыдаться.
— Ничего, Вася, — утешает Жоржик, превратившийся опять в моего преданного друга. — Мы еще непременно поймаем другую.
— Такой, как эта, мы… уже никогда…
И я отворачиваюсь в сторону, чтобы скрыть от товарища предательские слезы, и вижу те же бегущие мимо волны, и отраженный ствол старой вербы, извивающийся в воде, и тех же стрекоз, покачивающихся на желтых кувшинках.
«Эх, была щука… И какая!» — горестно думаю я.
И все вокруг кажется мне безнадежным, грустным и мрачным. Даже небо как-то темнеет, словно сочувствуя моему горю; солнце заволакивается облаками и выглядывает оттуда лишь изредка, как спеленутый младенец. Летний утренний бриз постепенно превращается в ветер, топорща листья кувшинок на потемневшей сине-стальной реке; кукушка еще кукует вдали, но ее глухой голос уже тонет и теряется в сплошном шуме и шелесте разволновавшегося камыша. Что-то совершается в природе еще неведомое и незнакомое мне, но что-то такое, с чем я вполне соглашаюсь и в чем сам, если бы было возможно, принял деятельное участие.
— Вишь, как разгулялась низовка, — замечает Жорж, тщетно пытаясь забросить подальше путающуюся в воздухе удочку.
И я представляю себе, как должен теперь выглядеть Днепр.
— Послушай, Жоржик, — говорю я. — Не лучше ли нам вернуться домой?
— Ты хочешь домой? — неуверенно спрашивает он.
Потом он секунду думает и наконец быстро начинает сматывать удочки. Я вижу по его лицу, что и он немного обеспокоен предстоящим нам переездом, хотя и напевает, довольно, впрочем, фальшиво, береговую песенку о кочегаре. Верба гудит над нами, как многострунный орган. Сдуваемая набок белая бабочка-капустница тщетно пытается перелететь реку; но уже ветер прижал ее к самой воде, и проворные верховодки затеяли вокруг нее беспорядочный танец. Еще секунда — и бабочка исчезает в чьей-то рыбьей утробе. Мы пробираемся ериком довольно легко — ветер нагнал в него много воды. Гнилушка уже осталась далеко позади, и только ее прибрежные вербы еще маячат на горизонте голубоватым гребнем. Но каким грозным, каким свирепым открывается Днепр нашему взору! Он уже не течет, он гремит в своем широком вспененном ложе. Дали его мрачны и подернуты мглою; пароход, идущий с низовья, тужится и пыхтит, словно и ему не под стать могучая сила гневной стихии. И мы с Жоржиком должны перебраться на противоположную сторону! Сердце мое сжимается страхом. Я стараюсь припомнить так тщательно вколачиваемые отцом слова молитвы и шепчу про себя то, что приходит на память:
— Благодарим тебя, Создателю, — шепчу я, — что ты сподобил еси нас земных твоих благ. Не лиши нас и небесного твоего царствия…
Огромная волна высоко вздымает нашу дубивку, и мы летим вдруг куда-то вниз, в разверзнувшуюся бездну, обдаваемые водяной пылью. Весла повисают в воздухе, Жорж, как на качелях, подымается вместе с кормой в небеса и оттуда глядит на меня закруглившимися глазами.
— Греби! Греби! — кричит он неистово, но голос его рвется на части, и я только догадываюсь, чего он от меня хочет. Потом Жорж падает вниз, а я возношусь над волнами и, слегка повернув голову, вижу весь город в рыжевато-пыльном тумане. Сейчас мы будем на середине Днепра, в самом опасном и страшном месте. Я успеваю еще заметить шумящий гребень чудовищно могучей волны, и вот я уже снова внизу, на дне водного кратера, а Жорж висит в облаках на почти вертикальной корме.
«Господи! — думаю я. — Спаси и помилуй!»
Ноги мои уже почти по колено в воде, но отчерпывать воду нет времени, надо возможно скорей переехать опасное место. И тут мне приходит на ум мысль, что Бог хочет меня покарать за украденный у тетки пятиалтынный…
«Но тогда, значит, Жоржик погибнет из-за меня. Я украл, а Жоржик погибнет. И не может же быть, чтобы Бог так карал всего за пятнадцать копеек. Еще за рубль, — думаю я, — куда ни шло. Но за пятнадцать копеек…»
Зеленовато-темная масса обрушивается на меня с шумом и грохотом. Струи воды бегут мне за шею, на спину, на грудь, насквозь пропитывают одежду… Я отфыркиваюсь, отплевываюсь, с трудом перевожу дыхание. Теперь пора выкачать из дубивки воду. Я работаю черпаком, а Жоржик жестянкой из-под червей. Нас еще подбрасывает на волнах довольно изрядно, но главное русло и пароходный фарватер остались позади. Мы спасены! Спасены! И сухой радостный берег летит нам навстречу. Вот белая отмель и знакомый причал, а вон там хата Зиновея с черными горшками, развешанными на сучьях, и сам Зиновей, глядящий на нас с высоты деревянного порога.
— Вправо держите, сукины дети! — кричит он нам в виде приветствия.
Мы нажимаем на весла, и лодка с разбега врезывается в песок…
А дома, когда я туда добрался, мать с ужасом всплескивает руками:
— Где это ты пропадал, негодный мальчишка? Боже мой! Да ты весь мокрый! И брюки разорваны! Переоденься скорей, а то узнает отец и выдерет тебя как Сидорову козу.
Я пытаюсь рассказать подробно о щуке, о том, как я ее поймал, и что это была даже не щука, а просто чудовище, но мать нетерпеливо машет руками и гонит меня переодеться в сухое платье. Я соображаю, кому бы еще рассказать, и бегу к тете Лизе. Тетка принимает меня снисходительней; она сидит у стола перед своей вечной швейной машинкой.
— Понимаешь, тетя, — говорю я. — Просто чудовище! Я тяну, а она упирается. Потом я ее под жабры и сразу сел на нее верхом. А потом она ка-ак прыгнет!
И я рассказываю во всех подробностях о нашем плавании, о буре и об обратном переезде через Днепр, о том, как я едва не утонул и как мы с Жоржиком только случайно спаслись в заливаемой волнами дубивке. Я говорю возбужденно и страстно, пока откуда-то с улицы не доносится протяжный голос мороженщика: «Сэ-а-харнэ мро-о-женэ!»
— Ну, хорошо, хорошо, — говорит тетка. — Иди купи себе мороженого. Только куда это я положила мелочь? Ведь вот совершенно забыла… Постой, кажется, у меня на столе.
Но на столе мелочи не оказывается, и тетка вздыхает сокрушенно:
— Ну и память старушечья! Ничего абсолютно не помню.
Она вынимает из портмоне новенький серебряный рубль:
— Только смотри, чтобы тебя не обсчитали при сдаче.
Я краснею и говорю:
— Спасибо, тетенька.
Потом я выбегаю на улицу, и, пока мороженщик вырезывает ложкой из металлического чана густое, похрустывающее, шафранно-желтое сливочное мороженое, я рассказываю ему, какую я поймал сегодня огромную щуку, и что в ней, наверное, было фунтов десять или двенадцать; потом я бегу в соседнюю кузницу и там тоже рассказываю своим друзьям подмастерьям… А ночью мне снится пробковый поплавок, и я тяну и никак не могу вытащить щуку, а Жоржик смеется и дразнит меня: «Рохля! Рохля!» Я хочу проснуться и не могу. Я тяну, тяну упругую леску. И вдруг просыпаюсь… В окно глядит старинная чешская Прага, и звезды сияют над черепичными крышами и шпилями готических костелов, и старая липа покачивается в темноте… И мне уже не двенадцать лет, а значительно больше. Я давно уже перестал бояться аллахов и Саваофов, но зато боюсь ревматизмов и ношу поэтому теплый жилет на кошачьем меху. А Жоржик… Быть может, он водит по морям-океанам большие советские корабли и, стоя на капитанском мостике где-нибудь под тропиком Козерога, глядит на те же звезды, что сияли нам в детстве… Дружище Жора! Где ты? Отзовись!
Роман
Канареечное счастье
Часть 1-я
Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, в немногие дни суетной жизни его, которые он проводит, как тень…
ЕкклезиастI
Теперь, когда Кравцов думал о своей жизни в Бухаресте, когда пытался себе представить лицо Наденьки, он вспоминал почему-то один день, солнечный и великолепный день в начале мая. Он помнил особенно тот миг, когда, сойдя с трамвая на последней остановке и покружив по узенькой уличке, похожей на лабиринт, они вдруг неожиданно очутились в поле. В тот день над землей стоял сплошной звон жаворонков. Солнце светило так ярко, что Наденька должна была щурить глаза и чуть усмехалась краешком рта, словно отвечая на солнечную издевку, а ветер шевелил у нее выбившиеся из-под шляпки кудряшки. Именно такой помнил ее Кравцов, улыбающейся и веселой, стоящей рядом с ним на краю весеннего поля. И теперь, играя на виолончели, водя длинным копьевидным смычком по запыленным канифолью упругим струнам, он думал о Наденьке, лицо ее колебалось перед ним и выступало с мучительной ясностью в грохоте, гуде и свисте негритянского джаза. Вот уже пять лет как он играл в этом ночном немецком баре, и каждый изгиб зала, каждый угол со столиком, даже каждый входящий в бар посетитель были ему знакомы до омерзения. Иногда все эти пять лет казались ему одним днем, растянутым, как гармошка в гремящую, оглушительную мелодию джаза, над которой длинный чахоточный маэстро Шульц распростер крылья своего нескладного фрака. С одиннадцати вечера и до четырех часов утра гудела виолончель, как старая легкомысленная дева. Сотни ног барабанили по паркетному полу, сотни обнаженных плеч и крахмальных манишек кружились, переплетались в розовом тумане, сотни одинаковых бессмысленных улыбок проносились мимо деревянной эстрады, сотни потных и красных лиц. Саксофон ревел им в уши до бесстыдства дикую ноту. Кравцов почти распиливал виолончель смычком, рука его быстро шарила по скользкой, отполированной пальцами, изогнутой дугообразно шее. У низенького кларнетиста, пухлого старика, сидящего рядом с ним, выпячивались от натуги глаза. А Шульц взлетал на воздух с растопыренными руками, и голова его раскачивалась, как маятник, налево и направо. Литавры наполняли жестью весь дымный зал, и жестяными казались ноги, стучащие по скользкому паркету. С жесткой усмешкой на бледном жестяном лице саксофонист сходил с эстрады, и его инструмент скользким хоботом повисал над какой-нибудь отдельной парой. Танцевали, прижимаясь друг к другу грудью, сплетая ноги, подрагивая бедрами, отбивая носками сапог чечетку, сосредоточенно и улыбаясь, со сладкой негой и кислым равнодушием. Ровно в два часа пополуночи маэстро делал знак рукой, и весь оркестр клал инструменты. Шли в полутемную комнату, предназначенную для музыкантов, и здесь торопливо ужинали, обмениваясь короткими фразами. И здесь, так же как в зале, он продолжал думать о Наденьке, как будто все, что с ним случилось, случилось только вчера. Он знал, что думать об этом бессмысленно, и все-таки не мог остановить поток мыслей, как, должно быть, не может приговоренный к казни заставить себя думать о чем-либо другом, кроме ожидающего его возмездия. В круглом зеркале, висящем над столом напротив, он видел свое худое, постаревшее лицо с ввалившимися щеками, почти крючковатый нос и покрасневшие от бессонницы глаза, и ему делалось жалко самого себя какой-то снисходительной собачьей жалостью. Ему было совершенно ясно, что он не в состоянии теперь ответить на оскорбление достойным образом, он научился на все отвечать покорной улыбкой. Шульц иногда совал ему под нос смычком — это была его обычная манера поправлять промахи, а он только отодвигался в сторону и продолжал улыбаться. И разве не права в конце концов Наденька? У него не было самолюбия, потому что не было никаких талантов. Даже на виолончели он не выучился играть лучше, хотя играл уже давно, еще с того времени, с Бухареста. Одно, что у него осталось неизменным, — это неискоренимая благовоспитанность. Шульц даже сказал ему как-то в минуту хорошего настроения:
— Вы, очевидно, служили раньше в приличном ресторане.
— В ресторане? Почему вы так думаете? — удивился Кравцов.
Лицо Шульца, похожее на клюв старой вороны, любезно осклабилось.
— У вас есть манеры, — сказал он. — Манеры приличного кельнера. И потом вы не подумайте, ведь и я не всегда служил в барах. Помню, в Вене, в одном большом ресторане…
И он пространно рассказывал о своих музыкальных триумфах. Кравцов слушал его рассеянно, облокотившись о железный пюпитр. В самом деле, что мог он ответить Шульцу? Пусть для всех он будет теперь простым музыкантом, виолончелистом, даже лакеем, пусть Шульц, икая после ужина и поглаживая ладонью черные свисающие вниз усы, пусть этот Шульц с небрежно повязанным зеленым галстуком, дирижер Шульц, артист и провинциальная знаменитость, думает о нем все что угодно. И барабанщик Юлиус, принимая его, очевидно, за лакея, любил иногда поговорить об изысканных блюдах, о всяких рагу и майонезах, причем круглое его лицо освещалось мечтательной улыбкой.
— О, герр Кравцов, — восклицал Юлиус почти в упоении. — Если к этому прибавить бутылку доброго рейнского вина…
Он закрывал глаза и сочно чмокал губами. Но Юлиуса он любил, он к нему чувствовал особую симпатию, может быть, именно потому, что Юлиус был барабанщиком. В нем было много темперамента, в этом низеньком широкоплечем Юлиусе, и барабан его гремел, как колесница пророка Ильи, возносящаяся на небо. Юлиус багровел, возвышенная душа его сливалась с инструментом, он был похож издали на священного навозника, перекатывающего гремящий шар. И когда фрейлейн и фрау с запущенными под потолок глазами в блаженном экстазе проносились мимо, Юлиус давал длинную, старательную барабанную трель.
Всегда, когда Кравцов думал о чем-нибудь, в памяти его вставали различные второстепенные мелочи, развертывающиеся затем в определенную картину. Эти ненужные для других мелочи были особенно дороги для него самого, по ним он, как по вехам, шел в странном и обособленном мире, созданном его собственным воображением. Он не мог, например, думать о детстве без того, чтоб не вспомнить вдруг какой-нибудь отрывок разговора, пейзаж, ночное небо, пение соловья или свист утренней иволги. По этим мелочам, как акробат по цирковым канатам, он взбирался на головокружительные и сияющие высоты. Россия поворачивалась к нему издалека во всем своем странном многообразии. Он видел вечернюю зарю и по заре гудящие проволоки, хотя неизвестно, где и когда это было, и фиолетовые чашечки телеграфных столбов, смешно по-рачьи топорщившиеся в небо. Он вспоминал паука в каком-то забытом саду, единственного и неповторимого паука на фоне вечерней паутины, густо крапленной сухими мушками. Он не мог даже представить себе, где, в каком месте видел он этого паука, но он так ясно помнил продранную наверху паутину, и то, как она качалась вверх-вниз, подобно шелковому гамаку. И когда он думал о Наденьке, он вспоминал сначала шорох ее шагов, звук голоса, чуть заметную родинку у виска и запах флердоранжа — ее любимых духов.
— Ты не забудь купить чего-нибудь на ужин! — кричала она ему вдогонку, когда, раскрыв уже дверь в пыльную зелень городского садика, в летнее небо, в пропитанный бензином оранжевый бухарестский воздух, он переступал порог.
На щеке ее отображенная тень качающейся за окном ветки прыгала трепетным полукругом. И вдруг вместе с тенью Наденька сдувалась в пространство, а он бежал по длинному, загибающемуся в конце больничному коридору. Он помнит, как чуть не сбил с ног накрахмаленную до хруста сестру на узком и скользком повороте, как кто-то схватил его за руку и остановил у дверей операционного зала и как ехидно тикали круглые стенные часы, отбивая в тишине звонкие минуты. Постепенно из этих пестрых лоскутьев слагалась вся его прошлая жизнь, и он проходил теперь мысленно по ее извилистым дорогам. Играя на виолончели в этом маленьком немецком городке, похожем на цветную иллюстрацию к учебнику Аллендорфа, он переносился на шесть лет назад, в солнечный миг бессарабского утра и видел себя грязным оборванцем, бредущим по кишиневским улицам. Он только что бежал из Советской России, и глаза его жадно вбирали всю новую, странную и необычную обстановку: груды товаров на лотках, поставленных вдоль улицы, нарядную толпу, казавшуюся ему тогда сборищем миллионеров, зеленые палисадники у домов и выше, на горизонте, крахмальные облака, изрезанные жилками еще обнаженных мартовских веток. Тогда он был охвачен горделивыми мечтами о своей будущей карьере. Он проедет всю Европу с лекциями о Советской России, он расскажет обо всем, что видел сам, он увлечет своею речью европейских буржуа. И несмотря на то, что ему уже исполнилось тогда двадцать девять лет, — мечты принимали реальные формы и плотно вплетались в жизнь, украшая ее волшебными узорами. Уже значительно позже, в Бухаресте, когда он поведал о своих планах Федосею Федосеевичу и когда старик в конце его пылкой речи откровенно расхохотался, — он испытал то незабываемое ощущение разочарования и обиды, какое испытывает ребенок, сорвавший колючий цветок чертополоха и вдруг до крови наколовший руку.
В Бухарест он приехал апрельским вечером (он помнит, как желтыми лимонами выросли из тумана бесчисленные фонари города) и, выйдя с вокзала, сел на скамью у крохотного садика. Он сел, положив рядом с собой ободранный чемодан, приобретенный им в Кишиневе вместе с серыми туфлями у еврея-старьевщика, и, достав записную книжку, стал листать страницы. Город шумел вечерним перекатывающимся шумом, гудки автомобилей плоским кваканьем прорезывали воздух, голубыми усами шевелились по улице снопы электрического света, из кафе и ресторанов доносился беспомощно-наивный и женственный хор скрипок. Мальчишка-газетчик пробежал мимо, визгливо выкрикивая названия вечерних газет: «Адеверул!», «Ментуирея!», «Диминяца!». Ненужный теперь, уводящий назад в прошлое свисток локомотива вдруг заставил Кравцова вздрогнуть, и он впервые почувствовал действительность окружавшей его со всех сторон новой жизни. Наконец при свете уличного фонаря он отыскал нужный ему адрес: книжный склад «Ромул», улица генерала Авереску, № 44. Это был ночлег на сегодня, протекция кишиневского покровителя. Вспомнив теперь своего покровителя, и даровые обеды в приюте для девушек-сирот, и голубей, постоянно воркующих на карнизах темного приютского здания, — он почти умилился. Как там встретят завтра его отсутствие и будет ли обычный субботний пирог с капустой?
Он вспомнил, что с утра почти ничего не ел, и потянулся было достать из чемодана провизию, но боязнь потерять ночлег заставила его быстро вскочить на ноги. Ведь весь его наличный капитал равнялся теперь десяти румынским леям. Он быстро зашагал навстречу вечерней заре, пересеченной причудливыми облаками. Трамваи скрежетали мимо, выплевывая сиреневые молнии. Странный говор толпы, льющейся потоком, казался косноязычным. Было уже совсем темно, когда он звонил у дверей книжного склада, стоя на краю нелепо длинного стеклянного коридора, тускло освещаемого газовым рожком. Его охватило странное предчувствие чего-то необычного, что должно с ним случиться за этой дверью. Он услышал легкие шаги и скрип ветхих половиц под ними; кто-то осторожно нащупывал дверную цепочку. Так же тихо и осторожно открылась дверь, и огромные белые уши, острые и длинные, выставились наружу. Он невольно отступил назад, в глубь коридора. Но тотчас же вслед за ушами выставилась круглая голова, и он заметил, что она обвязана белым платком, а то, что он принял за уши, были только углы платка, завязанные на макушке. Человек был уже очень стар, глаза его, затененные очками, глядели тускло и устало. Одет он был в какой-то заношенный коричневый костюм с протертыми локтями. Лицо было гладко выбрито, как у актера, и необычно румяно, должно быть, от мучившей его зубной лихорадки.
— Что вам угодно? — спросил он по-румынски, но с тем ясным и грубоватым акцентом, с каким говорят все старые русские люди, выброшенные революцией за границу.
— У меня к вам письмо, — ответил Кравцов по-русски. — Вы, должно быть, Федосей Федосеевич Воротников? У меня письмо от Семена Ивановича.
Старик сделал жест рукой, приглашая его войти. Они очутились в просторной комнате, вся обстановка которой состояла из стола и двух стульев. В углах грудами лежали связки газет и журналов. Пишущая машинка, покрытая черной полированной крышкой, жутко напоминала гроб. И совсем необычной казалась в этой комнате карта Африки, прибитая на стене у стола и ярко освещаемая свисающей с потолка газовой лампочкой.
— Семен Иванович странный человек, — сказал, наконец, Федосей Федосеевич, старательно складывая в четвертушку письмо и глядя поверх очков на Кравцова. — Он думает, что у меня здесь гостиница или постоялый двор. Ну куда я вас положу, скажите мне, ради Бога?
Последнюю фразу Федосей Федосеевич произнес почти всхлипывая.
Кравцов молчал, неловко переступая с ноги на ногу.
— Ну куда, ну куда я вас положу? — повторил опять Федосей Федосеевич, досадливо ероша рукой свою длинную серебряную гриву, торчащую из-под платка растрепанной пальмой. — Здесь и дивана нет, и стола нет подходящего. Вот разве что на полу в соседней комнате устроитесь, — сказал он уже словно про себя. — Покрыться можете старыми газетами. Но только там водятся крысы. Множество крыс… Недавно они съели у нас третий том сочинений Ромен Роллана.
Неожиданно Федосей Федосеевич свистнул. И тут же, заметив изумление Кравцова, недовольно нахмурился.
— Вот свищу я теперь, — сказал он почти сердито. — Да, голубчик мой, свищу: зуб у меня спереди выпал.
Он открыл дверь в смежную комнату и, войдя туда первым, зажег рожок. Комната была небольшая, вроде чулана. В углах и на подоконнике горами возвышались книги. Бюст неизвестного гения белым призраком стоял у стены. Внезапно что-то прошелестело в углу и жалобно пискнуло.
— Брысь, дрянь этакая! — крикнул Федосей Федосеевич, пророчески воздев кверху руки. — Брысь отсюда!
Огромная крыса, похожая на кота, с костяным цоканьем пронеслась у них под ногами.
— Наверно, Пруста теперь грызут, негодницы, — сказал Федосей Федосеевич. — Там в углу его сочинения.
Федосей Федосеевич свистнул особенно громко на слове «Пруста». Кравцову сделалось не по себе. Здесь, в этой комнате, он должен был переночевать…
— Только вы не пугайтесь особенно, — как бы читая его мысли, сказал Федосей Федосеевич. — Эти дряни живых не трогают.
— Я не боюсь… Нет, я не боюсь, — нерешительно проговорил Кравцов, косясь на противоположный угол, где еще слышались возня и царапанье.
— Ну и отлично… Здесь, значит, переночуете, — уже совсем успокоенно закивал головой Федосей Федосеевич.
Они снова перешли в первую комнату, и Федосей Федосеевич усадил гостя в углу у карты, так что голова Кравцова пришлась в уровень с тропиками, где-то на желтых равнинах Судана. Взглянув мельком на карту, Кравцов неожиданно заметил кривую линию зеленых флажков, воткнутых от Алжира до Слонового Берега включительно. И в нескольких местах цветной тушью были сделаны странные отметки. Так, например, в одном месте он прочитал следующее: «Туареги. Карманные зеркала, медные пуговицы и тому подобная нестоящая ерунда»…
— Так вы, значит, от Семена Ивановича, — протянул Федосей Федосеевич, раздумчиво откинувшись на спинку стула, отчего по стене пробежала длинноухая тень. — Ну что, как он там… здоров?
Кравцов ответил, что здоров и что шлет низкий поклон. Лицо Федосея Федосеевича приняло мечтательное выражение, его голубые глаза слегка сощурились, и над переносицей острым углом возникла морщинка.
— Как же, как же, мы с ним в гимназии вместе учились, — сказал он, задумчиво улыбаясь. — Однокашники, можно сказать. И в сестру его Ольгу я был когда-то влюблен… — Федосей Федосеевич вдруг рассмеялся искренним и заливистым смешком, свистнув при этом несколько раз кряду. — Даже стреляться хотел от любви, — добавил он, покачивая головою.
Кравцов улыбнулся. Ему начинал нравиться этот необычный старичок. И в то же время ему представилось почему-то, что он уже некогда сидел в этой комнате, и так же шипела газовая лампочка, и были сказаны те же слова, что и сейчас. Впрочем, он чувствовал усталость с дороги и глаза его против воли стали слипаться. Ползущий по карте таракан вдруг принял гигантские размеры, усы его пересекли Сахару и шевелились длинной тенью где-то в среднем течении Нила.
— Ну я пойду, однако, домой, — сказал Федосей Федосеевич, заметив, наконец, состояние гостя. — Вот вам ключ, на всякий случай, если пожелаете уйти раньше.
Он снял с вешалки ветхое пальто с облезлым барашковым воротником и стал одеваться. Уже нахлобучив почти до ушей шляпу и взяв в руки палку, он остановился на пороге. Почти минуту он стоял неподвижно, глядя на карту Африки и что-то шепча себе под нос. Потом он щелкнул для чего-то пальцами и скрылся наконец за дверью.
Кравцов остался один.
Как всегда после длительного путешествия, ему казалось, что он еще движется вперед, и карта Африки полезла на него желтым чудовищем.
«Пора уже спать», — думал он, с трудом подымаясь со стула и устало зевая. Он вошел в предоставленную ему для ночлега комнату и зажег свет. Старая крыса опять промелькнула мимо — должно быть, там в углу среди груды набросанных книг была ее нора. Он стал устраиваться в противоположном углу и из старых журналов смастерил себе нечто вроде постели. Потом он погасил свет и, улегшись на свое жесткое ложе, прикрылся сверху газетами. Сквозь оконное стекло, ставшее иссиня-черным, проступили звезды. Засыпая, словно проваливаясь в рыхлую вату, он подумал о том, что на дворе весна и что не худо было бы заново выбелить туфли. «Брюки, пожалуй, еще хороши, но туфли…» Потом, уже, должно быть, сквозь дрему, он вспомнил почему-то одну ночь на родине… и старый сад шумел верхушками деревьев… Ему представилось, что он бежит по саду, и черные стволы с шелестом проносятся мимо. Ветки задевают его по лицу, и он нагибает вниз голову… Неожиданно он проснулся. Что-то наяву задело его по лицу и, свистнув, прошелестело в газетах. Он испуганно приподнялся с пола и сел на груду книг, служивших ему подушкой.
«Черт побери, опять крысы! Нужно было обезопасить себя от этих назойливых тварей». И он обернул голову в лист плотной бумаги, проделав только отверстие для глаз и рта. Некоторое время он слышал еще шелест, свист и царапанье, но вскоре крепко заснул. Спал он, должно быть, довольно долго, так как, проснувшись, заметил, что солнце уже высоко поднялось над крышами и теперь заглядывает в комнату золотисто-волосатым ликом. Он поднялся со своего ложа и подошел к окну. В дверях кондитерской сиял золотой крендель. Вверху, над фронтоном соседнего дома, быстро неслись облака по совершенно синему утреннему небу. Он испытал легкое головокружение. Ему стало казаться, что весь город вместе с этим белым фронтоном стремительно летит куда-то ввысь, в сверкающую солнечную бездну. Блеск черепиц слепил глаза. У окна медленно раскачивалась кривая ветка акации с иссохшими семенами, похожими на мелкую рыбешку. Иногда ослепительным фейерверком вспыхивали падавшие с крыши капли. Внезапно он услыхал сзади в соседней комнате торопливые шаги. Потом застучала пишущая машинка и вскоре умолкла, а женский голос, показавшийся ему довольно приятным, пропел странную фразу:
— Мне надо купить сегодня чулки за сто сорок лей!
Машинка застучала снова и снова умолкла. А тот же голос пропел:
— И пудру надо купить. И еще губную пома-а-ду!
Тогда он кашлянул, чувствуя, что скрывать свое присутствие далее неудобно. Пение сразу оборвалось, и кто-то испуганно вскрикнул. Кравцов открыл дверь: у стола, где они сидели вчера с Федосей Федосеевичем, сидела теперь девушка; брови ее были удивленно сдвинуты черным подрагивающим треугольником. При виде Кравцова она быстро вскочила со стула. Секунду они оба стояли, рассматривая друг друга.
— Простите, я, кажется, вас напугал, — сказал Кравцов, прерывая неловкое молчание. — Но дело в том, что я здесь ночевал… в той комнате. И вдруг, услыхав пение…
— Надеюсь, вы не слыхали, о чем я пела? — быстро проговорила она.
Кравцов растерянно улыбнулся.
— Вы пели о чулках, — сказал он со своей обычной правдивостью.
Губы ее скривились в пренебрежительную гримаску. Потом она посмотрела куда-то поверх его головы и внезапно расхохоталась. Он смущенно оглянулся назад.
— Боже, как вы растрепаны, как вы растрепаны! — повторяла она сквозь смех. — У вас, наверно, нет гребня, чтоб расчесать волосы?
— Я спал в углу, на газетах, — сказал Кравцов, как бы оправдываясь. — Я только что приехал из Кишинева.
Она перевела взгляд вниз на его туфли и, найдя в них, должно быть, что-то чрезвычайно забавное, закусила губу, чтобы не расхохотаться снова.
— А я думала, что вы приехали из Африки, — пояснила она, кивком головы указывая на туфли. — Или, быть может, вы прибыли на теннисное состязание?
— Я не играю в теннис, — сказал Кравцов смущенно.
— Вы не играете в теннис? Так для чего же вы носите белые туфли?
Он не сразу ответил. Далекое воспоминание вдруг шевельнулось в его уме, и он увидел просторный гимназический класс и черную доску с меловыми травами французского диктанта… «Pourquoi n’avais vous pas preparé votre leçon?..»[43]
— Ну скажите же. Почему вы носите белые туфли?
— Уже весна, — ответил, наконец, Кравцов, как бы проснувшись и неловко потирая руки. И вдруг он ощутил потребность высказать все то, что переполняло теперь его душу. — Когда я ехал сюда, в Бухарест, я заметил в поле стайку скворцов, — сказал он с неожиданной откровенностью. — И почки на деревьях уже совсем распускаются. Скоро наступит настоящая весна. Я видел бабочку, порхающую в станционном садике.
Он собирался еще что-то сказать, но в это время открылась дверь и в комнату вошел Федосей Федосеевич. Видно было, что старик чем-то озабочен, так как забыл даже снять шляпу, и, рассеянно поздоровавшись с Кравцовым, остановился у стола, похрустывая пальцами.
— Вот что, Наденька… Надежда Сергеевна, — поправил он сам себя. — Необходимо перепечатать вчерашнее наше отношение к господину Петреско.
Они заговорили о деле, о каких-то журналах и книгах. Мысль Кравцова, освобожденная им самим, продолжала волшебный полет. Он думал теперь о том, как снимет где-нибудь на окраине города комнату и начнет готовиться к лекционному турне по Европе. Он рисовал себе часы этих приятных занятий… Над городом весеннее небо с шафранными облаками… И занавески в комнате шевелятся под напором теплого ветра. А он сидит у стола и пишет. Ну, конечно, сначала он поедет в Берлин. Потом в Париж и Лондон. Первая лекция будет называться «Гибель интеллигенции».
— Вы на меня не сердитесь, голубчик, — сказал Федосей Федосеевич, вдруг беря его за руку и ласковым нажимом усаживая на стул. — По-отечески вас спрашиваю… И время сейчас такое, что нечего особенно стесняться. — Он свистнул на слове «стесняться». — И вы мне скажите прямо, без обиняков, много ли у вас в настоящее время денег?
Кравцов чрезвычайно смутился. Он быстро опустил руку в карман и, вынув свой тощий бумажник, раскрыл его неловким движением.
— Десять лей, — сказал он, внимательно рассматривая кредитку, словно сам впервые ее увидел.
— Ну вот, ну вот, — подхватил Федосей Федосеевич. — Вы должны принять от меня дружескую услугу. И никаких возражений! — воскликнул он, подымая голос чуть ли не до верхнего тенорового «ре».
Вслед за этим он сунул Кравцову в руку пеструю ассигнацию в сто лей.
II
На окраине города, носящей странное название Обора, в том месте, где кончаются мостовые и тротуары, Кравцов снял наконец комнату в небольшом домике, похожем скорее на деревенскую хату, нежели на городское строение, и когда он распаковал свой чахоточный чемодан, вытащив оттуда две пары белья и сапожную щетку, уже давно облысевшую от употребления и странно напомнившую ему портрет Максима Горького, виденный им недавно в эмигрантской газете, когда покрыл ветхую постель хозяйским одеялом, он ощутил давно забытое настроение домашнего уюта и покоя.
В низкое окно огненным вихрем влетело утреннее солнце и, подняв радужную пыль, расплескалось по потолку. Кравцов открыл глаза. Ему показалось спросонья, что он лежит на лугу, и он с трудом сообразил, что это не луг, а только окно, уставленное фуксиями. Серый дородный гусь, свернув набок шею и, должно быть, привстав на цыпочки, заглядывал в окно зеленовато-желтым любопытным глазом. Снесшая яйцо курица закатила в курятнике длительную истерику. Кравцов окончательно проснулся.
«Надо обязательно зачернить туфли чернилами, — подумал он, вспоминая вчерашний разговор и даже здесь, наедине с самим собой, конфузливо краснея. — Бойкая, однако, девица…» — подумал он смущенно. Но сейчас же мысль его стремительно понеслась в лучах будущей славы к тем лазурным берегам, куда мы все нередко улетаем на крыльях собственной фантазии. Он увидел огромный лондонский зал с рядами блестящих стульев, освещенную огнями эстраду и самого себя, вознесенного над толпой у строгой лекторской кафедры. Он говорит, и речь его прерывается рукоплесканиями.
Мечтая так, Кравцов неторопливо одевался.
Надо бы сегодня же осмотреть город. Вчера он только мельком видел главную улицу calea Victoriei, и в памяти остался гул автомобилей, движущихся в сторону королевского дворца сплошной блестящей вереницей. Его поразила красота бухарестских особняков, окруженных чугунными оградами, с уютными садиками, беседками и клумбами, сияющая на солнце белизна лепных украшений и у парадных подъездов затененные цветными стеклами галерейки. Если он когда-нибудь разбогатеет, то непременно купит себе такой особняк. Но тут размышления его были прерваны свирепым лаем цепной собаки, и он увидел входящего во двор человека с совершенно рыжей бородой, похожего лицом на опереточного бандита, но в то же время одетого по последней моде. Стая голубей с хрустящим шелестом испуганно взметнулась у окна и долго летела отображенная в стекле над игрушечным городским пейзажем. Человек вошел в дом, бережно неся на руке легкое весеннее пальто, и Кравцов услыхал бурное приветствие хозяйки и потом высокий, как струна, голос пришедшего, совсем не соответствующий его широкоплечей фигуре. Потом оба голоса смолкли, кто-то весьма громко чихнул поблизости, и в дверь к Кравцову неожиданно постучали.
Держа в одной руке бритву (ибо он только что собирался бриться), Кравцов раскрыл дверь. Странный рыжебородый человек, широко раздвинув усмехающийся рот, похожий на моржовую пасть, густо усаженную клыками, вошел в комнату и, не переставая загадочно усмехаться, вдруг стиснул руку Кравцова своей почти нечеловеческой ладонью. От внезапной боли Кравцов присел на ногах, согнув колени.
— Здорово, земляк! — сказал незнакомец по-русски и счастливо расхохотался, словно рассыпал по комнате звенящие стеклянные осколки.
Кравцов удивленно вскинул вверх правую бровь и взглянул мельком на свою руку.
— Не ожидали русачка повстречать? — произнес опять неожиданный гость. — А мы о вас вчера еще прослышали. От вашей хозяйки прослышали. Племянница ейная с нами, стало быть, состоит в законном сожительстве.
Тогда Кравцов растерянно предложил гостю старый расшатанный стул, на котором, впрочем, можно было сидеть только в положении пловца, собирающегося прыгнуть в воду. Гость, однако, выбрал диван, продавив его до половины своей тяжестью.
— Очень приятно, — два раза кряду повторил Кравцов, сам не зная, что бы еще такое сказать, и старательно наморщив лоб. — Моя фамилия Кравцов… — Он выжидательно взглянул на гостя. — А вы, простите?
— Да нас здесь знают все обитатели, — самодовольно протянул рыжебородый, все еще восхищенно глядя на Кравцова своими острыми голубыми глазами. — Знают… Небось знают Топоркова… Много я уже их перебрал, — как бы нехотя и небрежно процедил он сквозь зубы.
— Кого это их? — не понял Кравцов.
— Да бабья ихнего — румынок, — спокойно ответил гость, подавляя рукой зевоту. — Прямо житья от них нету.
Кравцов смущенно кашлянул в руку.
— Чем же вы здесь занимаетесь? — спросил он, не глядя на гостя. — И вообще, извините, кто вы такой?
Топорков неторопливо разгладил свою курчавую бороду.
— А занимаюсь я вот этим самым, — со спокойной деловитостью в голосе ответил он. — Сожительствую. Поживешь с которой годик, а то и того меньше, и здравствуйте-прощайте, мадама. А тут еще, гляди, и другая подвернулась. Сейчас вот с ихней племянницей живу, — сказал он, указывая на дверь рукою. — Ну а сами… — он сонно ухмыльнулся, — сами мы екатеринославские. Из солдатского звания. Вот с войны еще застрял по заграницам. А домой ехать все не решаюсь. Пишут родичи: «Не ехай, ежели можешь». Голод там у них, и одежа вовсе пообносилась. — Он не без щегольства поправил свой пестрый и яркий галстук. — А то случалось и с двумя сразу дамочками жить, — продолжал Топорков, вовсе не замечая того впечатления, какое производит его рассказ на Кравцова. — Это, когда еще прахтики у мене не было насчет любовных делов. Жить с двумя дамочками очень хлопотно, — пояснил он. — Того и гляди которая из них узнает. Да и харч в такой жизни неаккуратный. Даже вовсе мизерный харч. Не то ты пообедал, не то поужинал, сам не знаешь. — Он взглянул на часы, поигрывая цепочкой. — Приглядываю я тут одну дамочку, — сказал он и плутовато подмигнул Кравцову. — Очень важная особа, и кондитерское заведение у нее свое на Оборе. Ежели заполучу эту дамочку, справлю себе беспеременно серый костюм. Я уже и матерьялец приглянул в лавке… А вам будет от меня угощение, — неожиданно заключил Топорков, подмигнув опять Кравцову. — Вроде как свадьбу отпразднуем.
— О нет, я нет… — растерянно запротестовал Кравцов.
— Да уж погуляем, будьте благонадежны, — уверенно сказал Топорков. — На все двадцать пять погуляем. Вы еще не видали, как у Топоркова может душа шуметь.
Он самодовольно расправил бороду, топорща ее от подбородка вверх и рассыпая на две стороны ослепительно рыжим веером. И тут же внезапно поднялся с дивана во весь свой богатырский рост.
— Одначе пора смываться, — сказал он, в третий раз и не без удовольствия поглядывая на часы. — Тожа вот штучка от дамочки, — сказал он, со смаком щелкнув по часовой крышке пальцем. — А цепочку мне уже потом другая особа преподнесла.
Он широко, во весь рот, ухмыльнулся. И прежде чем Кравцов успел что-либо сообразить, страшная рука сдавила своими железными пальцами его маленькую беспомощную руку. Кравцов вскрикнул.
— Ай, ай, — удивился Топорков, — никак пораненная у вас рука. Так я с вами в другой раз за левую буду здоровкаться.
— У меня обе руки поранены, — неловко солгал Кравцов. — То есть контужены, — поправился он, краснея.
— Так, так, — закивала борода. — Ну, значит, будем знакомцами.
Топорков перебросил пальто на левую руку и, надев на голову черную широкополую шляпу, вдруг принял вид того европейца, что затерялся в далеких детских годах на давней гимназической карте, изображающей народности и расы.
«…А внизу был негр и китаец, — вдруг вспомнил Кравцов. — И у китайца было зеленое лицо с раздавленной на лбу, порыжевшей от времени мухой…»
— Адье, — сказал Топорков с порога. — До свиданьице.
Белая манжета, украшенная блестящей запонкой, взлетела к углу шляпы, и дверь закрылась с беззубым щелканьем.
«Ну и рука у него, — подумал Кравцов, все еще болезненно морщась. — И что за странный субъект? Зачем он рассказывал все эти мерзкие истории? Зачем вообще он приходил?»
Огромный черный петух с внезапностью кинематографического героя вырос на освещенном экране. Вот он взмахнул крыльями и, вытянув вперед шею, пропел свою песню, давно уже ставшую классической.
«Обедать пора, — подумал Кравцов, неожиданно ощутив голод. — Скоро двенадцать часов».
Выйдя на улицу, он совсем позабыл о неприятном утреннем посетителе, и свежая весенняя бодрость переполнила его душу… Как ясно было небо! Как весело щебетали ласточки, низко носясь над изумрудной лужайкой, похожей на вицмундир, расшитый золотыми пуговицами. Это цвели одуванчики. Вдали, на краю площади, вспыхивали зеркальные стекла трамваев. Игрушечные вагоны скользили мимо, подхватывая на лету отражение неба и деревьев. Даже кладбище, мимо которого теперь шел Кравцов, вовсе не казалось ему печальным. Острые крылья ангелов разрезывали упругий воздух и тяжело взмывались в неподвижном каменном лете. Солнце выхватывало из этих мраморных рядов какое-либо лицо и, раскалив его добела, вдвигало в темную рамку неба.
Кладбищенская стена резко оборвалась. Кравцов заметил, как его тень спрыгнула со стены на землю и, укоротившись и странно подпрыгивая, пошла рядом. И вдруг он поймал себя на мысли, что он сам от себя что-то скрывает. «Но что же именно?» — думал он, пытаясь себя обмануть и отдаляя этим момент неприятного признания, признания самому себе в том, что уже давно было ему ясно. С хитростью лукавых заговорщиков глаза его выискивали всевозможные мелочи в окружающей обстановке, они раздробляли мир на тысячу осколков и отводили сознание на ложную дорогу. Они останавливались на окнах магазинов и с тщательностью молодых доцентов изучали весь пестрый хлам, выставленный за широкими блестящими стеклами.
И вот он понял то, что его тревожило. У него было только сорок лей в кармане, остаток от уплаченных за квартиру денег, и этой суммы могло хватить на два дня. Сделав теперь себе это тягостное признание, он, по установившейся привычке, сейчас же стал искать какого-либо утешения, и утешение было все то же, и он заранее знал, что обратится к нему. Впрочем, уже с юных лет у него выработалось странное и непонятное для других представление о жизни как о чем-то чрезвычайно относительном и преходящем. Это не была даже доморощенная философия, а просто твердая уверенность, и он сам не знал, какими путями пришел к ней. Ему казалось, что нет ничего важного, что жизнь, как осколок кварца, состоит из мелких блестящих крупинок и эти крупинки могут каждую минуту рассыпаться мельчайшим прахом. У него даже вошло в обыкновение благодарить Бога за каждый прожитый день, хотя он и перезабыл давно все молитвы и никогда ни в России, ни здесь, за границей, не посещал церковь. И он подумал о том, что все как-нибудь устроится само собою и что незачем особенно ломать над этим голову. Но было еще одно обстоятельство, в котором он даже самому себе не хотел сейчас признаться. Умышленно избегая этого признания, обходя его как некий подводный камень, он сосредоточил свою мысль на обеде, что, впрочем, было нетрудно сделать, так как голод давал себя чувствовать. Наконец на глаза ему попался ресторан с традиционными олеандрами у входа, грустно намекавшими на райское блаженство. Мальчишка-лакей неудачной скульптурой стоял на пороге. Сам хозяин в туфлях на босу ногу, как, должно быть, ходят в раю, суетился у стойки, заставленной напитками. Взметнувшиеся со стола мухи пропели стройный хорал. Кравцов сел в углу под картиной, изображающей коричневого господина, сидящего на коричневой лошади, и толпу коричневых поселян с выпученными от удивления глазами.
«Не все ли равно, — думал Кравцов, отпив большой глоток вина и принимаясь за жаркое, — не все ли равно, истрачу ли я теперь все свои деньги или растяну это удовольствие на два дня. Так или иначе надо подыскать какой-либо заработок, чтобы в свободные часы тщательно подготовиться к публичным лекциям».
Он опорожнил стакан с твердостью человека, принявшего определенное решение. Тело его постепенно утрачивало свою весомость, и окружающие предметы принимали хрустальный оттенок. Освобожденные из плена руки широко воспользовались свободой движений. Вилка несколько раз взвизгнула, путешествуя самостоятельно по тарелке и уже не выбирая определенных кусков, а просто кладя в рот Кравцову все, что ей попадалось на дороге. И только тогда, когда она безрезультатно ткнулась в солонку, Кравцов отшвырнул ее в сторону и вдруг понял, что пьян. Хозяин принес новый графин вина. Проснувшаяся канарейка наполнила весь зал резким меланхолическим щебетом. Белые занавески у окна то ярко вспыхивали, то погасали, и целые вороха ваты вываливались наружу из голубой небесной шкатулки. Деревья беззвучно расправляли за окном свои мохнатые лапы, тревожа галок, перелетающих с места на место.
«А насчет работы спрошу у Федосей Федосеевича, — думал Кравцов со все возрастающей бодростью. — Он мне подыщет работу. Не может быть, что нет».
— Уж да… — сказал Кравцов вслух и притопнул под столом ногою.
«И Наденька прелестная девушка», — пришло ему внезапно на мысль.
Он поднялся из-за стола, тяжело и неловко ступая на качающийся во все стороны пол. Сошедшие с ума углы бежали на него вьющимися полотнами. Кравцов подошел к стойке, где вертящимся циркулем балансировал хозяин.
— Наденька прелестная девушка, — сказал Кравцов по-русски, и хозяин румын благодушно ему усмехнулся. — Преле-е-стная девушка! — повторил Кравцов, растягивая слова, как резину.
Теперь он высказал, наконец, это признание, мучавшее его с утра, и вдруг почувствовал облегчение, как человек, сложивший на земле мешающую ему кладь. Он долго расплачивался у стойки, роняя на пол деньги, и всякий раз, когда наклонялся, чтоб их поднять, ему хотелось лечь здесь же на полу. Но выходная дверь уже раскрылась наружу, и ветер липкой паутиной щекотал его разгоряченное лицо.
III
Хотя Кравцов израсходовал накануне чуть ли ни все свои деньги и утром ему едва хватило расплатиться за легкий завтрак в молочной, он все же не утратил своего давнишнего бодрого настроения и, отправляясь к Федосею Федосеевичу, строил в уме заманчивые планы.
Ведь что, в сущности, ему надо? Какой-либо незначительный заработок, не больше. Лишь бы он мог как-нибудь просуществовать до того времени, когда почувствует себя готовым к лекционному турне по Европе. А на подготовку необходимо месяца три или четыре. «Как раз наступит осенний сезон», — думал Кравцов, подходя уже к дверям книжного склада. На звонок вышла Наденька и улыбнулась ему как старому знакомому. На ней было легкое весеннее платье с дымчатыми прозрачными рукавами.
— Я к Федосею Федосеевичу, — сказал Кравцов смущенно. — Мне нужно его видеть. Я должен поговорить об одном деле…
Он поспешно снял шляпу, словно подчеркивая этим свой тщательно приглаженный пробор.
Наденька не без лукавства скользнула по его прическе глазами и сейчас же отвернулась в сторону, чтоб не расхохотаться.
— Войдите, — пригласила она. — Федосея Федосеевича еще нет, но он скоро будет.
Кравцов вошел как-то боком, осторожно переступая порог, и оттого, быть может, споткнулся в совсем неожиданном месте, на гладком полу.
— Садитесь, пожалуйста, — сказала Наденька. — Вот на этот стул, он, кажется, наиболее устойчив.
Лицо ее было совершенно спокойно, но глаза смеялись, и она, очевидно, делала большие усилия, чтоб сдержать свою бурную и насмешливую веселость.
Кравцов сел с той автоматической готовностью, с какой садятся ученики по приказанию учителя.
— Ну что у вас нового? — спросила Наденька. — Нашли комнату?
— Да, да нашел! — радостно воскликнул Кравцов, вспомнив первое свое утро и за окном цветущее дерево.
«И вот такое же благоухание исходит от нее», — подумал он, робко взглянув на Наденьку.
Она стояла почти совсем близко, так близко, что он слышал ее легкое дыхание.
— У нас во дворе поставили скворешник, — сказал Кравцов, выходя из сладкого оцепенения. — Это мне напоминает Россию. Вообще, прелестная комната, хотя есть клопы. — Он вдруг смутился. — Одно насекомое я видел на потолке, — попытался он поправиться. — Насекомое ползло, — уточнил он свою поправку.
И, словно проваливаясь на выпускном экзамене, лез безнадежно в предательские сети, расставленные повсюду.
— Я не люблю насекомых… насекомые мне противны, — запутывался все дальше Кравцов. — Я не могу слышать о насекомых…
Это был предел для Наденькиного терпения, и она взорвалась давно сдерживаемым смехом.
— Ох, Боже мой, ох, ох, Боже мой! — повторяла Наденька. — Вы меня совсем… Я не могу… И ваши туфли тоже… Ведь они закрашены чер… чернилами.
— Тушью, — сказал Кравцов, растерянно взглянув на туфли. — Я не предполагал, что получится так смешно…
Наденька закрыла лицо руками и смеялась в ладони, изредка раздвигая пальцы и глядя сквозь них на Кравцова.
— Нет, вы не от мира сего, — сказала она, наконец, открывая порозовевшее лицо. — Никогда в жизни не видела еще таких людей. Я не понимаю совсем, как вам удалось бежать из Советской России.
— Очень трудно было бежать, — серьезно ответил Кравцов и задумался. Он вспомнил Днестр и темную ночь с накрапывающим дождиком. — Меня чуть не погубил чайник, — все еще задумчиво проговорил он. — Я его повесил на шею. На шнурке, и когда переплывал реку, то шнурок глубоко врезался в тело. Я чуть не захлебнулся.
— Но для чего же вам понадобилось тащить с собой чайник? — удивилась Наденька.
— Я действовал по плану, — сказал Кравцов, наморщив лоб. — Я все продумал тогда, каждую мелочь… Хотя, вообще, не люблю думать о пустяках. То есть и я думаю часто о пустяках, но не о таких, понимаете? И тут все самое обыкновенное… И чайник тоже. Я взял его с собой, чтобы сейчас же, на другом берегу, вскипятить воду. Было очень холодно, начало марта, и я предвидел, что озябну.
Он остановился со своей всегдашней застенчивостью.
— Ну и? — нетерпеливо спросила Наденька уже с подрагивающими губами.
— Я забыл спички, — смущенно признался Кравцов. — Совсем их выпустил из виду.
Внезапно он взглянул на Наденьку: она почти задыхалась от смеха.
— Молчите, молчите! — повторяла она, хотя он и не говорил больше ни слова.
Кравцов ощутил легкую досаду. Неужели все, что он говорил, так смешно? Или она нарочно, из озорства насмехается над ним? Тогда он вообще может уйти, встать и уйти. Но тут же он подумал, что в его досаде нет никакой логики. Правда, он сам почти никогда не смеялся и чувство юмора было ему совершенно чуждо, но он допускал это чувство в других, так как давно уже подметил чрезвычайное разнообразие человеческих характеров. Кроме того, смех украшал Наденьку, этого нельзя было не видеть. Ее лицо словно освещалось солнцем.
— Не обижайтесь, прошу вас, — сказала Наденька, поняв с чисто женской чуткостью все, что происходило теперь в душе Кравцова, и перестав смеяться, хотя в уголке ее рта еще застыла легкой морщинкой сдерживаемая улыбка. — Такая уж я смешливая от рождения, — добавила она, словно извиняясь. — Меня и в гимназии все называли волчком.
Она умышленно сдвинула брови, чтобы казаться серьезной.
— Я понимаю… Да, я понимаю, — быстро проговорил Кравцов. — У меня был товарищ по гимназии. Некто Стадников. Замечательный оригинал! Он смеялся за каждым словом… Представьте себе, он смеялся, даже когда ему ставили плохую отметку…
Наденька с недоумением взглянула на Кравцова.
«Неужели и он умеет показывать зубы?» — подумала она.
Но лицо его было невозмутимо.
— А однажды его пребольно поколотили. И он все же смеялся…
Брови Наденьки сдвинулись уже на самом деле. Она густо покраснела.
— Вы меня, очевидно, не так поняли, — почти надменно сказала она. — Меня называли подруги волчком за веселость, а вовсе не за… Ведь ваш приятель был, очевидно, дурак, не правда ли? — вдруг резко заключила Наденька. — Впрочем, откуда мне знать? — добавила она с едкой усмешкой. — Может быть, вы и меня считаете чем-то вроде вашего гимназического друга?
— Я? Я вас? О, нет, ни за что! — горячо воскликнул Кравцов. — И как только вы могли это подумать! Наоборот, я вас всегда…
Но речь его была заглушена двумя голосами, спорившими о чем-то за дверью, и один из этих голосов принадлежал, несомненно, Федосею Федосеевичу.
— Я не совсем с вами согласен, — сказал Федосей Федосеевич, раскрыв дверь и задерживаясь на пороге. — Хотя если принять во внимание прошлые выборы…
Он вошел в комнату в сопровождении весьма худого и высокого господина, одетого в старый английский френч. Что-то птичье было в гладко выбритом, уже немолодом лице этого полувоенного-полуштатского с виду человека. Глаза его казались стеклянными. Сделав один только шаг, он очутился чуть ли не на середине комнаты и теперь оглядывал окружающую обстановку с высоты птичьего полета. Федосей Федосеевич чрезвычайно ласково встретил Кравцова.
— А-а! Юноша! — воскликнул он. — Ну, как дела? Устроились? — Он взял Кравцова за локоть и подвел к своему гостю. — Вот, полюбуйтесь. Из большевистского рая бежал, — сказал Федосей Федосеевич, представляя Кравцова.
Птицеподобный господин изобразил на своем лице нечто вроде улыбки. Но сейчас же, впрочем, он отвернулся от Кравцова и продолжал начатый раньше разговор.
— И вы согласитесь, — обратился он к Федосей Федосеевичу, — вы согласитесь, что список кандидатов на предстоящие выборы составлен крайне небрежно. Кроме того, я стою, безусловно, за тайное голосование. Как, скажите, подымать руку за того или иного кандидата, раз этот кандидат сидит здесь же рядом?
— Ну так что же! — возразил Федосей Федосеевич, роясь на столе в кипе бумаг и, очевидно, из вежливости поддерживая разговор. — Пусть себе сидит… а вы того… подымайте.
Глаза его уже бродили по географической карте и на лице застыло сладкое выражение, как будто он только что побывал в далеком оазисе и скушал сочную фигу.
— А вы подымайте… — повторил Федосей Федосеевич, перебирая рукой бумаги и мысленно путешествуя по Африке.
— Ну нет, извините, — вдруг закипятился высокий господин и сделал шаг к столу, раскачиваясь словно на ходулях. — Ведь они хотят провести на выборах свой блок. Слыхали? Всю свою партию! В церковные старосты, например, хотят продвинуть Глуховязова! А у Глуховязова сын кадет и сам он, бесспорно, красненький.
— Да какой же он красный? — миролюбиво возразил Федосей Федосеевич. — Бывший помещик и домовладелец.
— Вот это и отвратительно, — подхватил гость, нервными затяжками раскуривая папиросу. — Вот это именно и плохо. Я скорее готов простить обыкновенному мужику, чем вот такому ренегату…
Кравцов наклонился к Наденьке и спросил ее шепотом, кто этот странный господин. Она улыбнулась.
— Общественный деятель, — шепнула она на ухо Кравцову. — Кажется, бывший земский начальник… А фамилия его Данилевский…
Но Кравцов уже не слушал того, что ему шептала Наденька. Он чувствовал так близко нежный запах ее кожи, развившийся локон слегка щекотал его щеку, он все еще стоял, склонив к ней голову, пока она сама не отодвинулась в сторону, удивленно взглянув на него смеющимися глазами. Странно, что в этот короткий миг ему припомнилась одна степная дорога, по которой он проезжал Бог знает как давно, быть может, еще гимназистом в России. И он не помнит даже, куда и зачем тогда ехал… Но он вдруг увидел тот самый зеленый пригорок и на нем куст шиповника весь в цвету… Эта давняя радость вспыхнула в его душе новым отображенным светом, словно тогда это был только намек на какое-то большое, ожидающее его впереди счастье.
— И вот что заметьте, — говорил Данилевский, ломая одну за другой спички и нервно попыхивая погасшей папиросой. — Они хотят захватить в свои руки Погребальное Братство. Это их главная цель. Они хотят завладеть русским кладбищем. Вы понимаете, что тогда получится? Они ведут агитацию даже в церковном хоре…
Кравцов взглянул на Наденьку: она стучала на машинке, склонив над столом голову. Его вдруг неудержимо потянуло к ней. Он не знал, что еще скажет, но, подойдя к столу, склонился к Наденьке.
— Я у вас хотел спросить, — шепнул он, приблизив губы к ее крохотной ушной раковине. — Я, собственно, хотел спросить о том… мне интересно узнать…
Он остановился на полуслове. Наденька прекратила свою работу и ожидала, что он скажет дальше.
— Ведь это, насколько я понимаю, — торопливо зашептал Кравцов, — это машинка системы «Ундервуд». А между тем есть машинки совсем других систем. Есть системы, отличающиеся от этой системы. Они не похожи на эту систему, — шептал Кравцов, до головокружения чувствуя ее близость и вдыхая нежный запах ее кожи, косясь на упругую, словно выточенную из янтаря шею с легкими завитками.
Наденька резким движением отодвинулась от него и вдруг поднялась со стула. Брови ее летящими птицами мелькнули в уровень с головой Кравцова. На этот раз она не смеялась и лицо ее напомнило Кравцову первую весеннюю бурю.
— Вы, кажется, хотели поговорить с Федосей Федосеевичем о деле? — сухо спросила Наденька. — Гость его уже уходит. Вы можете поговорить.
Действительно, Данилевский двигался к выходу и, как все политики, договаривал свою речь на ходу. Он был похож на пароход, отчаливший от пристани и гудящий на прощанье охрипшим голосом. Он оставил после себя клуб дыма, и слышно было, как по лестнице застучали его ботинки этакими пароходными колесами. Но для Кравцова весь мир внезапно рухнул. (Что с того, что ласточка беззаботно качалась на проволоке телеграфа?) Его охватило отчаяние. Растерянно двигаясь в плоскостях нового мира, глядя даже на муху, совсем реально бившуюся в оконном стекле, он шел в то же время каким-то своим двойником по давнему гимназическому залу навстречу грозному латинисту.
— Склоняйте «fructus»![44]
— Fructus, — бледнея, говорит Кравцов.
— Fructibus, — подсказывают из угла.
— Fructibus, — повторяет Кравцов.
— Вы ничего не знаете. Довольно.
Обратный путь мимо парт со ржущими учениками. (На стене Авраам зверски убивает Исаака. Солнечный Илия поспешно возносится на небо, повернувшись к Кравцову спиной, игнорируя его и презирая.)
— Ну-с, юноша, — говорит Федосей Федосеевич, заслоняя своей серебряной головой давнее горе. — Ну-с, рассказывайте.
Кравцов растерянно улыбнулся.
— Я хотел с вами посоветоваться, Федосей Федосеевич, — сказал он почти дрожащим голосом. — Мне нужно будет скоро отправиться в лекционное турне по Европе, и я хотел бы найти заработок.
Лицо Федосея Федосеевича выразило крайнее изумление. Он взглянул на Кравцова и сквозь очки, и поверх очков, и даже как-то боком, скашивая глаза.
— Какие лекции? Какое турне?
— Турне по Европе, — повторил Кравцов. — Я хочу прочитать ряд лекций о жизни интеллигенции в Советской России.
Губы Федосея Федосеевича раскрылись на манер устрицы. Он весь сполз со стула и, хохоча, обнимал и гладил руками угол книжного шкафа. Наденька вторила ему у стола. Проехавший под окном трамвай потряс стекла режущим звоном. Муха наконец запуталась в предательской паутине, и толстый, круглый палач четвертовал ее всенародно.
— Нет, нет, послушайте!.. Вы только послушайте, что говорит сей юный мечтатель! — Федосей Федосеевич достал из кармана платок и, сняв очки, вытер набежавшие на глаза слезы. — Ну и насмешили, — сказал он, наконец, успокаиваясь. — Кто вас надоумил на такую затею? Здесь, голубчик мой, делом надо заниматься, а не пустяками. Лекции! Тоже придумали! Вы им запонку какую-либо изобретите, подтяжки, что ли, патентованные. Или новую прическу для стареющих дам… Вот на это Европа посмотрит… Вот тогда вас будут слушать… А то лекции. Да еще о русской интеллигенции!.. Кроме полицейского комиссара, никто вас и слушать не будет…
— Я могу по-французски, — сказал Кравцов и неловко потер руки.
— И по-испански не будут слушать, и по-португальски, — перебил его Федосей Федосеевич. — Все они на один лад, поверьте. — Он серьезно взглянул на Кравцова и покачал головой. — Друг мой, — почти задушевным голосом сказал Федосей Федосеевич, — Европа — это не толпа, состоящая из Шиллеров и Гете. Ее нельзя представлять себе по каталогам публичной библиотеки. Здесь о воскресной курице говорят гораздо больше, чем о существовании Бога. Здесь едят и танцуют несравненно охотнее, чем на островах Полинезии. Но не подумайте, что у них есть темперамент. Их темперамент равен темпераменту осенней улитки.
— Я думал проехать в Париж и Лондон, — уже робея совсем, сказал Кравцов.
— Да ведь вас не пустят туда! — окончательно изумился Федосей Федосеевич. — Я сам хлопочу о визе вот уже скоро полгода. Африканского негра пустят, а вас нет. Сумасшедшего англичанина и паралитика француза пустят, а вас нет. Вам просто не дадут визы.
Кравцов слушал эту речь, как приговор судьи. Почва ускользала у него из-под ног, и совсем другие, неясные и скучные, дали впервые открывались перед ним.
IV
Необходимо теперь же отметить одну черточку в характере Федосей Федосеевича, его стремление постоянно кому-либо покровительствовать. И хотя он сам нуждался в опеке, ему до чрезвычайности нравилась поза бескорыстного благодетеля. Вот почему в судьбе Кравцова он принял самое горячее участие.
— Мой юный мечтатель, — сказал Федосей Федосеевич, когда Кравцов зашел на книжный склад спустя несколько дней после описанного выше разговора. — Вам необходимо подыскать какое-либо занятие.
И тут же, усевшись у письменного стола, своим размашистым почерком, похожим на иероглифы, написал рекомендательное письмо к знакомой ему богатой даме. (Федосей Федосеевича действительно знала вся русская колония в Бухаресте.) Пока он писал, широко расставив локти, поблескивая оправой пенсне и по-стариковски обслюнивая палец, когда нужно было перевернуть страницу, пока он расчеркивался, удлиняя свою фамилию затейливыми завитушками и украшая письмо необходимыми для данного случая орнаментами, вроде «Целую Ваши ручки» или «Примите уверения в совершенном к Вам уважении», пока, наконец, заклеивал конверт, высунув наружу язык и приподняв брови, Кравцов смотрел в окно, опершись спиной об угол книжного шкафа. Железные трубы бесчисленных городских крыш поворачивались на ветру головами римских воинов. А выше, поверх города, в синих небесных лагунах становились на якорь облака.
«Как странно, — думал Кравцов, оглядывая с высоты дома крыши и трубы. — Еще недавно все это было для меня совершенно чужим. И вот теперь знакомства… И Наденька…»
Он посмотрел в тот угол, где за пишущей машинкой должна была сидеть Наденька. Но там никого не было. Постепенно он был вовлечен в тот странный круг почти непередаваемых словами ощущений, где царили ассоциации и намеки. Оттолкнувшись мысленно от крыш и от города (хотя ему казалось, что это пришло само собой, случайно), он незаметно перешел на размышления о войне. «De bello gallico»[45] — вспомнилось почему-то ему. — «Цезарь подошел к городу на две тысячи триста шагов…» Ну, это еще были войны совсем игрушечные, — подумал Кравцов. — Самое страшное артиллерия…»
Он вдруг увидел поле, все изрытое снарядами. Мишка Ломов, его приятель по полку, кричит ему издали и машет руками. А сам он бежит туманной, осенней ложбиной, заросшей лопухами (эта ложбина запомнилась навсегда). Вот он споткнулся и упал лицом в куст. Что-то прогрохотало сбоку и приподняло вверх качнувшийся горизонт. Всадники и деревья прыгали, перегоняя друг друга. А в том месте, где залег неприятель, в воздух, в синюю глубину обрывался угол подоконника, ярко освещенный солнцем, угол бухарестского подоконника… («Ибо действие сейчас происходит в Бухаресте», — несвязно подумал Кравцов.) И тут же шумным клубком скатились вниз по подоконнику дерущиеся воробьи. Кравцов вздрогнул.
«Все это нелепости, то, о чем я сейчас думаю», — решил он почти смущенно и повернулся к Федосей Федосеевичу.
— Ну-с, юноша, — сказал Федосей Федосеевич, протягивая письмо. — Вам необходимо будет сходить к Наталье Ивановне. Сегодня же. Это милейшая дама, и она вам, конечно, поможет. Ей, кажется, нужен репетитор для дочери…
Кравцов поблагодарил и, все еще оглядываясь на пишущую машинку, вышел на улицу. Гремящая и беспрерывно позванивающая конка унесла его в незнакомую часть города, к мутной Дымбовице, расщепившей здесь тротуары и мостовые. В утреннем блеске на крутой площади бронзовые Ромул и Рем сосали бронзовую волчицу; меланхолично журчал фонтан; раздуваясь, как кобры, расхаживали по карнизам голуби. Кравцов отыскал наконец нужный ему дом и, взойдя на крыльцо, несмело позвонил. Медная дощечка с запыленными буквами повторила надпись лежащего у него в кармане конверта.
— «Наталия Грушко», — прочитал Кравцов. И опять для чего-то справа налево — «Грушко Наталия». Потом он стал читать попеременно: «Наталия Грушко». «Грушко Наталия»… «Грушко Наталия». «Наталия Грушко».
В глазах у него зарябило. Неожиданно открылась дверь. Перед ним стояла еще нестарая полная дама с румяным свежим лицом, похожим на рекламу Одоля.
— Як вам, простите… — заторопился Кравцов. — Я к вам… Здесь вот к Грушко Наталии, — сказал он, показывая письмо. — К Наталии Грушко. То есть к Наталии Ивановне Грушко…
— Да, это я, — сказала дама. И жестом пригласила его войти.
Кравцов очутился в богато обставленной квартире. Наталия Ивановна ввела его в гостиную и, указав рукой на диван, неторопливо вскрыла конверт. По мере того как она читала, лицо ее все более прояснялось.
— Ну что же, — сказала она, складывая, наконец, письмо и обмахиваясь им как веером. — Мне действительно нужен учитель.
Теперь она разглядывала Кравцова со снисходительной улыбкой, небрежно вскинув лорнет и щуря при этом свои черные, немного выпуклые глаза.
— Ведь вы бывший студент, не правда ли?
— Я был естественником в Киеве, — отрывисто ответил Кравцов.
— Вот что, голубчик, — сказала Наталия Ивановна. — Я очень ценю рекомендацию Федосей Федосеевича. Но у меня есть свои принципы… Вы понимаете, конечно?.. Мы живем в исключительное время.
И так как на лице Кравцова отразилось недоумение, Наталия Ивановна принялась излагать свои взгляды на воспитание детей.
— Ужасно! Ужасно! — восклицала она, неестественно томно закатывая глаза. — Нынешняя молодежь никуда не годится. Положительно никуда не годится. Забыты идеалы, поруганы светлые кумиры. Дети растут как в лесу… Я возлагаю на вас особые надежды, — добавила она неожиданно. Кравцов неловко поклонился, привстав с дивана. — Вы должны будете внушить моей дочери уважение к героям. К нашим русским героям. И вообще, ко всем героям… Ах, герои! — воскликнула она, закатывая глаза почти до белков. — Что за имена! Наполеон! Суворов! Минин и Пожарский…
Несколько секунд лицо ее хранило восторженное выражение, как будто на фоне синих обоев она вдруг увидела весь героический эпос. В окне колыхались занавески. Круглый кактус, похожий на ежа, победоносно распустил свой лиловый цветок. Солнце освещало лунную ночь в Венеции и стенные часы в ореховом футляре.
«Но что же я знаю о героях? — подумал Кравцов, рассеянно считая ряды птиц, летящих по синему полю обоев. — Что я знаю о героях? Кутузов бил французов… И в древности была битва при Фермопилах… Придется возобновить в памяти все эти исторические сведения».
— Что же касается платы, — сказала Наталия Ивановна, и глаза ее внезапно потускнели, — то здесь у меня тоже свои условия. Но прежде позвольте узнать, любите ли вы консервы?
Вопрос настолько озадачил Кравцова, что ему даже показалось, что он ослышался.
«Ну, конечно, ослышался, должно быть, о консерваторах», — подумал он. Об его отношении к консервативным партиям.
— Право, затрудняюсь вам ответить, — сказал Кравцов раздумчиво. — Мне лично кажется, что я себя могу причислить к либералам. Но все же…
— Нет, я не о том, — спокойно перебила его Наталия Ивановна. — Я вас спрашиваю, любите ли вы мясные консервы.
Кравцов глядел на нее с тем изумленным видом, с каким новобранец глядит впервые на остановившего его посреди улицы офицера.
— Так как если вы не любите консервов, — сухо добавила Наталия Ивановна, — мне придется отказаться от ваших услуг.
Она выжидательно закусила губу. И тут Кравцов почувствовал, что ему надо ответить утвердительно, хотя он и не понимал, почему и о каких консервах спрашивала его госпожа Грушко.
— Да, я люблю консервы, — сказал Кравцов покорно. — Я даже очень люблю консервы.
Наталия Ивановна улыбнулась улыбкой фарфоровой куклы, выставляя напоказ свои великолепные зубы и слегка собирая у глаз затушеванные тушью морщины.
— У нас консервная фабрика, — пояснила она. — Мы со всеми расплачиваемся консервами. Например, прислуге мы платим консервами. Вы же будете получать одну треть деньгами.
— Одну треть? — невольно вырвалось у Кравцова.
— Да, одну треть, — подтвердила Наталия Ивановна.
В водворившейся тишине щелкающими шажками прогуливались стенные часы. Казалось, они брели чуть прихрамывая, изредка спотыкаясь и останавливаясь совсем. Но бронзовый маятник с машинным равнодушием раскачивался направо и налево.
— Завтра в девять утра, — сказала Наталия Ивановна и протянула руку.
Кравцов поднялся с дивана в каком-то оцепенении. За дверью, должно быть, в столовой, слышен был звон расставляемой на столе обеденной посуды. Запах горячего мясного супа побеждал тонкое благоухание лакфиоля, исходящее от одежд госпожи Грушко.
«Бессмысленно уходить от обеда», — почему-то подумал Кравцов, уже прощаясь и целуя протянутую ему пухлую и белую руку. Он так ясно представил себя за столом в уютной комнате… Голубоватая салфетка лежит рядом с его прибором. И он ест душистый суп, пахнущий лакфиолем.
— Значит, завтра в девять утра, — повторила Наталия Ивановна, умело прицепляя к лицу ничего не выражающую улыбку.
— Да, конечно… Я приду, — неловко пробормотал Кравцов. Он кланялся и улыбался, отступая к двери, и даже за дверью, на парадном крыльце, он еще кланялся и улыбался. И вдруг остановился и до боли сжал пальцы. Ему стало почему-то стыдно, и он почувствовал, что все лицо его и уши покрываются густым румянцем. Наконец преодолев свое смущение, он пошел вдоль ограды, мимо свежей зелени только что распустившихся каштанов. Знакомые края над крышами и проводами сияли ослепительной синевой. Он опять видел тот мир, в котором жил с детства, странный мир, созданный его собственной фантазией.
«…За спутанными ветвями на юге был Египет, а еще дальше Индия. И это облако похоже на фрегат…»
Потом взгляд его скользнул по каменной ограде, и он заметил бабочку, гревшуюся в лучах солнца. Она сидела неподвижно, распустив на камне свои темные бархатные крылья, чуть подрагивающие от скрытой неврастении.
«И вот я один ее замечаю, — подумал Кравцов. — Я один среди тысячи прохожих…» Уже подойдя к конке, он спохватился, что у него нет денег на обратную дорогу. Впрочем, это обстоятельство мало его огорчило. Было приятно идти по солнечным улицам, глядя то поверх домов, то вниз, на темные плиты тротуара. А эти соринки под ногами, эти окурки папирос, обрывки бумажек и полуистлевшие спички только подчеркивали своей мелькающей незначительностью то важное и единственное, что родилось в его душе, хотя он и пытался перехитрить самого себя.
«Здесь у стены отбит угол. И это тоже вижу я один… И об этой старой акации никто, кроме меня, не думал… А все же надень-ка шляпу… надень-ка ее все же», — повторил он про себя.
Потом раздельно, по слогам, он сказал: «На-день-ка!..» Его словно охватило ветром. Но, все же хитря с собой, он надел шляпу, стараясь возможно аккуратней надвинуть ее на голову.
— Ну и что же? — запнулся он. И вдруг сияющее имя вспыхнуло перед ним. — Наденька! Вот что: Наденька!
Он остановился у белого особняка, снежной глыбой сверкающего на солнце. Мраморный амур над воротами запутался в ветвях старой липы. Проулок был пустынен и тих, сюда едва долетал шум города. Заметив скамью, Кравцов опустился на нее и некоторое время сидел, отдаваясь наплыву мыслей. От постоянных недоеданий и от того, что он сегодня еще ничего не ел, голова его слегка кружилась, и ему казалось иногда, что он летит в сверкающей карусели навстречу облакам и деревьям. Воздух словно ломался хрустящими льдинками, и повсюду стоял чуть слышный звон. Солнце уже затопило всю улицу и огненным водопадом сбегало вниз по жестяному желобу на углу дома.
«Все устроится, все как-нибудь устроится, — думал Кравцов. — Во всяком случае, найден урок. Ну а затем ведь он же играет на виолончели. Где-нибудь в ночном баре или ресторане можно найти занятие. Ну а лекции… это еще успеется потом…»
Он закрыл глаза, и легкий ветерок зашарил у него по лицу мягкими осторожными руками. И оттого, что солнце светило прямо в глаза, темнота под закрытыми веками стала совсем малиновой, и тысячи кружочков, фиолетовых и золотистых, поплыли мимо, словно амебы или инфузории в объективе университетского микроскопа. По всему телу разлилась ленивая истома. Шум деревьев, то возникающий совсем близко, то уносящийся в сторону, убаюкивал подобно музыке.
«А вдруг это сон, — фантазируя, подумал Кравцов. — Я в России, и Наденька в России… И не было революции…»
Он открыл глаза в страстном желании чуда… Чужой южный город возник перед ним, как по мановению волшебной палочки. Перекрашенные туфли на скрещенных ногах математически доказывали настоящее. Бухарест… Да, Бухарест… Теперь он окончательно очнулся. Он вдруг забеспокоился, что никого не застанет на складе, а между тем необходимо переговорить с Федосей Федосеевичем… И, кроме того, он увидит Наденьку. Ведь вот уже несколько дней, как он ее не видел. Поднявшись со скамьи, он быстро пошел вдоль домов и скоро очутился на людной улице. Отсюда уже рукой подать до склада… Вот там за углом в большом сером доме… Но в тот момент, когда он заворачивал за угол, знакомое женское лицо качнулось перед ним из-под розовой шляпки. Кравцов остановился как вкопанный.
— Куда вы так спешите? — спросила Наденька. — У вас был страшно озабоченный вид.
Она чуть усмехнулась одними губами.
— Спешил? Нет, я не спешил, — растерялся Кравцов. — Я просто шел. Я вас увидел внезапно.
— Вы не шли, а бежали, — сказала Наденька. — Я уже решила, что где-либо пожар. Ведь вы, наверно, любите пожары?
Они пошли рядом.
«Вот оно, чудо», — подумал Кравцов, не решаясь взглянуть на Наденьку, хотя всем существом чувствовал ее близость, как музыкант, мельком взглянувший в ноты, ощущает мелодию.
— Почему же вы мне не отвечаете? — весело щебетала Наденька.
— Пожалуй, люблю, — сказал наконец Кравцов с серьезной добросовестностью. — Но больше ночные пожары.
Почти не скрывая любопытства, Наденька посмотрела на него:
— Вы очень странный человек. Иногда вы обдумываете каждую фразу, как на экзамене. А иногда вы, простите, говорите всякие глупости. Ну зачем, скажите, вы говорили прошлый раз о различных системах пишущих машинок? Это вас действительно интересовало? И потом, я ведь совершенно не знаю, кто вы такой. Вы к нам свалились, как с луны, в своих… в своих белых туфлях.
Она рассмеялась весело и звонко. Скашивая глаза, Кравцов осторожно взглянул на нее: как она была хороша в этой розовой шляпке!
— Я получил урок, — сказал он совсем некстати, словно рассуждая с самим собой, — Но это, конечно, пустяки. Придется, очевидно, играть на виолончели…
— Вы играете на виолончели? — удивилась Наденька.
— Когда-то играл. Но очень давно… в России. Придется выучить танцы. Новые танцы, понимаете?
Разговаривая, они остановились у ресторана.
— Не зайдете ли пообедать со мной? — предложила Наденька. — Я здесь обедаю. Здесь, между прочим, недорого, — поспешно добавила она.
Но он решительно отказался. Ему вовсе не хочется есть. Он сыт.
Последнюю фразу Кравцов проговорил с опущенными вниз глазами.
— Ну как хотите, я вас не неволю. — Несколько секунд они стояли молча. — Послушайте, — сказала Наденька. — Вас нужно привлечь в наш кружок. Каждую субботу мы устраиваем вечеринки с пением и танцами. Очень весело. Я вас познакомлю с молодежью, хотите?
Кравцов поблагодарил:
— О да, я с удовольствием…
— Ну и прекрасно. Приходите в субботу к шести часам на склад. Оттуда отправимся вместе. Вот увидите, как будет весело. Вы танцуете, надеюсь? — спросила она.
— Я очень давно танцевал, — признался Кравцов. — Но я специально подучусь. У меня довольно большая комната, и я могу по утрам…
Наденька рассмеялась:
— Нет, вы действительно странный человек. Как же вы будете танцевать без музыки?
— Я могу насвистывать, — просто ответил Кравцов. — Танцевать и в то же время насвистывать. Это совсем нетрудно. В особенности если…
Но Наденька уже закрыла лицо руками и вся тряслась от сдерживаемого смеха. Идущий мимо солидный господин удивленно остановился, глядя на нее.
— Идите же, идите же, — зашептала Наденька. — В субботу в шесть часов, не забудьте.
И она скрылась за дверью…
V
На складе у Федосей Федосеевича Кравцов разыскал то, что ему было необходимо для подготовки к завтрашнему уроку. Здесь оказались «История» Иловайского, «Былина об Илье Муромце», «Женщины вокруг Наполеона» и «Христофор Колумб» в издании для народа. Пожалуй, интересней всего было бы начать с Наполеона… Но когда он внимательно просмотрел книгу, то оказалось, что Наполеон был просто несчастный муж и не менее счастливый любовник. И образ великого полководца, тот образ, какой с юношеских лет сохранялся в воображении, теперь потускнел и поблек. Зато Иловайский был наполнен героями. Трудно было даже остановиться на ком-либо отдельно.
«Уж не о Румянцеве ли прочитать первую лекцию? — подумал Кравцов. — Или о графе Орлове?» Он нерешительно листал страницы, не зная, что выбрать для первого раза.
Книга была старая и истрепанная, с пожелтевшими от времени листами, пропахшими ореховой ветхостью. У Дмитрия Донского зеленым карандашом было раскрашено лицо и борода, а на одной из страниц стояла подпись: «Гимназист четвертого класса ананьевской гимназии Иван Долгов. 8 декабря 1915 г.». Некоторые иллюстрации вдруг припомнили Кравцову его собственное детство, и совсем незначительные мелочи, казалось, навсегда похороненные в памяти, всплыли теперь наверх.
«Да неужели все это было так давно?» — изумился Кравцов. Внезапно он ощутил бег времени, бешеную скачку лет, огромную дистанцию, отделяющую его от детства… Старое гимназическое здание с ярко-голубой вывеской проплыло перед ним в давнем утреннем тумане. Он увидел свою классную комнату, запушенное снегом окно, на котором мороз уже нарисовал пышные оазисы с пальмами и бамбуками. Младшая сестра Катя предлагает меняться елочными конфектами:
— Хочешь, я тебе дам двух Пушкиных за одного Скобелева?
Он соглашается. Пушкин с начинкой и гораздо вкуснее. Кроме того, на обертке стишки: «Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна… А. С. Пушкин».
И рыжий, некрасивый поэт глядит на него с конфектной обертки…
— Я съела Кольцова, — говорит сестра. — Он очень кислый.
«Неужели все это было?..» — думал Кравцов, сидя с раскрытой книгой.
Он отобрал несколько нужных ему книг и тотчас же отправился к себе домой, чтобы добросовестно подготовиться к утренней лекции. Ночью ему приснился страшный сон, будто Дмитрий Донской верхом на белой лошади въехал к нему в окно и потребовал документы:
— Пожалуйте со мной в особый отдел, товарищ! Вы арестованы!
Лошадь вздыбилась и заржала. Кравцов проснулся. В утреннем воздухе снаружи бешеной радостью встретили воробьи. «Жив! Еще жив! Жив!»
«А что же, пожалуй, с него и начну, — подумал Кравцов, одеваясь. — С Дмитрия Донского. Когда же истощатся русские герои, перейду к героям древности…»
На квартире Грушко его уже ждали, и сам господин Грушко изъявил желание познакомиться с ним.
— Пойдемьте, я вас провожу к мужу, — сказала Наталия Ивановна каким-то торжественным шепотом.
Она постучала в высокую дверь, ведущую из гостиной в кабинет господина Грушко. За дверью что-то квакнуло:
— Войдите!
Кравцов вошел, неслышно ступая по мягкому ковру, и остановился в нескольких шагах от письменного стола, за которым сидел плешивый, аккуратный старичок с короткой бородкой и с глазами, похожими на щелки.
— Вы? — квакнул он, чуть повернувшись в сторону Кравцова и как-то боком, недоверчиво косясь, взглянул на него.
— Я… — растерялся Кравцов.
— Что? — уже совсем недружелюбно спросил господин Грушко и повернулся к Кравцову похожим на корень лицом.
— Я пришел, — окончательно смутился Кравцов. — Вы хотели…
— Я хотел? — Господин Грушко деланно и раздраженно рассмеялся. — Я не хотел. Я согласился.
— Вы согласились, — для чего-то повторил Кравцов.
— Я согласился, — медленно отчеканил господин Грушко. — Но я не хотел.
Теперь он сверлил Кравцова холодными, маленькими глазками, словно испытывая его терпение.
— Я не хотел, так как не занимаюсь благотворительностью, — сказал господин Грушко, закладывая ногу на ногу и откидываясь на кресле. — Она хотела. Жена. А я не хотел.
Лицо Кравцова покрылось мертвенной бледностью. Он почувствовал порывистые и размашистые толчки сердца, как будто только что поднялся на крутую гору и сейчас должен свалиться куда-то вниз, глубоко в пропасть.
— Она хотела, а я не хотел, — тянул господин Грушко, не спуская глаз с Кравцова. — Я не могу разбрасывать деньги.
— Но ведь я… я не даром, — теряясь совсем, воскликнул Кравцов. — Я как учитель…
— Я не могу разбрасывать деньги, — повторил господин Грушко, медленно оправляя манжеты. — У меня не АРА. Не питательный пункт. Почему я должен кормить чужих людей?
Кравцов опустил глаза. Лицо его уже горело. Полированные ножки письменного стола злорадно ввинчивались в пол блестящей черной спиралью.
— Вот, собственно, все, что я нахожу нужным сказать, — внезапно заключил господин Грушко, указывая жестом на дверь. — Можете идти.
И он погрузился в рассматривание каких-то счетов и бланков, беспорядочно разложенных на столе. Кравцов вышел в совершенно подавленном настроении. Но в гостиной его встретила Наталия Ивановна одобряющей улыбкой:
— Все великолепно. Не волнуйтесь. Если бы вы ему не понравились, он бы вас выгнал сразу. Уж я его знаю, поверьте. Но это золотой человек. Это добрейшее сердце!
В классной комнате, куда они затем вошли, сидела девочка-подросток, странно напоминавшая Кравцову господина Грушко, — то же узкое лицо с глазами-щелками и упрямый, широко раздвинутый рот, топорщивший бескровные губы. Ей было на вид лет двенадцать.
— Ольга, встань! — сказала госпожа Грушко. — Это твой учитель. Поздоровайся!
— Я не могу встать, у меня болит нога, — капризно ответила девочка и недружелюбно взглянула на Кравцова.
— Ольга! — чуть повышая голос, повторила Наталия Ивановна.
Девочка медленно поднялась с места и нехотя протянула руку. Кравцов растерянно улыбнулся. Холодные детские пальцы, перепачканные чернилами, коснулись его ладони.
— Опять уроки, — невнятно пробормотала девочка. — Только уроки… Целый день уроки.
Но глаза ее уже любопытно шныряли по всей фигуре Кравцова, и он чувствовал, что ни одна деталь его костюма, ни одна мелочь не ускользнула от этого пытливого детского взгляда.
— Вы ей только не позволяйте капризничать, — сказала Наталия Ивановна. — Если не будет слушаться, пожалуйтесь мне. А уж я ее накажу.
С этими словами она бесшумно выплыла из комнаты. Кравцов сидел молча, не зная с чего начать и чувствуя стеснение от упорного взгляда своей ученицы.
— У вас не хватает одной пуговицы, — заметила вдруг девочка, лукаво улыбаясь. — А почему вы не носите бороды?
— Мне не идет борода, — откровенно признался Кравцов, но сейчас же спохватился, что этого не нужно было говорить, и покраснел.
— А папе идет борода, — с гордостью похвасталась девочка. — Папа очень красивый.
— Гм… да, — нехотя согласился Кравцов.
Он положительно не знал, как приступить к уроку. К тому же все, что он прочитал накануне, улетучилось внезапно из памяти и в голове остался какой-то хаос имен, сражений и городов.
«Все же нужно начать», — подумал он, слегка придвигаясь к столу и пытаясь придать лицу наиболее строгое выражение.
— Ваш стул ужасно скрипит, — воскликнула девочка. — Хотите, я принесу другой?
И, не дожидаясь ответа, она стремглав убежала из комнаты. Вернулась она минут через пять, волоча стул, должно быть, из самой дальней комнаты.
— Ну-с, хорошо, — сказал Кравцов, беря со стола карандаш (хотя он сам не знал, для чего ему мог понадобиться карандаш). — Начнем с истории… С русской истории…
— Этот карандаш плохо пишет, — перебила его девочка. — Я вам сейчас принесу другой.
И прежде чем Кравцов успел что-либо ответить, она исчезла за дверью.
«Однако так мы нескоро начнем, — сообразил наконец Кравцов. — Должно быть, она умышленно растягивает время».
— Вот карандаш, — сказала наконец девочка, появляясь после долгого отсутствия. — Может быть, вы хотите синий? Я могу принести синий.
— Теперь вы будете сидеть и слушать, — сказал Кравцов возможно суше. — Итак, начнем с истории. С русской истории.
Напрягая память, он пытался вообразить себе какой-либо значительный исторический эпизод или событие, но видел только зеленые ветки акаций и бездонную глубину неба, пронзительно, по-весеннему распростершуюся над городом. Совсем иные события возникали в его памяти. Заглушая шум древней сечи, грохотали трехдюймовки батьки Махно. Вольная вольница бешеным топотом взрывала херсонские степи. И не древние панцири и шлемы, а буденновские островерхие шапки неслись на него из зарева горящих сел в грохоте пулеметов… Сухонький старичок Суворов идиллически играл в бабки. У Дмитрия Донского была зеленая борода. И так же, как в древности, летели лебеди над полем сражения у Перекопа. Тысяча девятьсот двадцатый год…
«Все же нужно о древней Руси», — подумал Кравцов.
— Древняя Русь состояла из ряда княжеств, — начал он неуверенным голосом, с трудом отгоняя воспоминания. — В те времена, о которых я буду сейчас говорить, наше государство было совсем неустроенным и европейские народы называли нас варварами.
— А что такое варвары? — спросила девочка.
— Это от латинского слова и значит собственно дикий, — ответил Кравцов.
— А что такое дикий? — с лукавым любопытством спросила она.
— Дикий? Это необразованный и грубый человек, такой человек, который не умеет писать и читать, — кое-как объяснил Кравцов.
Девочка рассмеялась и радостно захлопала в ладоши:
— Наша кухарка дикая. Она не умеет писать.
Такой неожиданный вывод совсем ошеломил Кравцова. Девочка вдруг задумалась, подперев щеку ладонью.
— А папа оч-чень недикий, — решила она внезапно. — Он пишет постоянно. Но зато мама… — и она плутовато усмехнулась, — мама наполовину дикая, а наполовину недикая. Мама пишет только один раз в месяц дяде Коле…
— Я вижу, вам хочется, чтоб я позвал маму, — сказал Кравцов.
— О, нет! Не надо. Я буду молчать.
Она оперлась об угол стола локтями и теперь рассматривала своего учителя, зажав в ладонях свою хитрую мордочку с шаловливо вспыхивающими глазами. Снаружи потемнело от набежавшего на солнце облака.
«Который может быть час?» — соображал Кравцов. Ему до тошноты хотелось есть, и на воображаемой геометрической плоскости, возникшей в углу комнаты, длинными рядами стояли коробки воображаемых консервов.
— У древних русских князей был обычай, — говорил он, продолжая глядеть в угол. — Этот обычай заключался в том, что после удачной битвы устраивался общий пир для князя и его дружины.
— Что такое пир? — спросила девочка, глядя ему в рот. — Это когда едят? — («Она заметила мой золотой зуб», — догадался Кравцов инстинктивно.)
— Да, когда едят. Когда едят и пьют.
— А что они ели?
— Они ели прекрасно! — невольно вырвалось у него. — Было много вкусных вещей. Жареная баранина, например, и дикие гуси. Ну и пироги с рыбой… Вообще, очень сытно и хорошо.
— Я никогда не ела диких гусей, — смущенно призналась девочка. — А вы ели?
— Я тоже не ел, но, думаю, что очень вкусно. Дикие гуси прилетают к нам из Египта, — мечтательно добавил Кравцов.
— Ах, знаю, знаю! — обрадовалась девочка. — Это там, где Закон Божий… где Ветхий завет, не правда ли? И там еще живут верблюды.
— Верблюдов не едят, — задумчиво проговорил Кравцов. — Мясо их жестко и неприятно на вкус. Хотя в случае голода можно, пожалуй, и верблюдов. — («Однако о чем это я», — спохватился он, краснея.) — Вы меня все время перебиваете, — сказал Кравцов нарочито строгим голосом. — Слушайте и сидите молча.
Он взял в руки карандаш, но сейчас же положил его обратно и уже ровным голосом стал рассказывать о княжеской дружине. По окончании урока госпожа Грушко вручила ему жестянку консервов. Глаза ее увлажнились слезами.
— Ешьте на здоровье, — сказала она, провожая до дверей Кравцова. — Мы вас очень, очень жалеем. Вы можете разделить консервы на два раза… на обед и на ужин. Сразу всего не съедайте, нужно экономить, голубчик. До свиданья…
Бухарест распахнулся оглушительной музыкальной шкатулкой. В этот обеденный час повсюду из ресторанов несся волнующий щебет скрипок. У кафе на улицах сидели за столиками нарядные румыны. Соломенные шляпы ярко вспыхивали на солнце.
«Сейчас я наемся, наемся как следует», — думал Кравцов, поспешно шагая вдоль оград и деревьев.
VI
То обстоятельство, что Наденька сама пригласила его на вечеринку, наполнило Кравцова радостью. Ему уже не терпелось поскорей дождаться субботы. Дома по вечерам он ходил из угла в угол, насвистывая баркароллу Чайковского, странно преследующую его эти дни, хотя он не слыхал ее уже много лет, восемь или девять лет, а может быть, и больше. Он открывал дверь и выходил в крошечный садик за домом. В обугленном небе прохладными огнями сияли звезды. Дымный куст персидской сирени плыл от забора одуряющим ароматом. А поту сторону темной площади, в неясном хаосе звуков, колыхались огни города. Когда он возвращался в комнату и зажигал, наконец, лампу, на листе газетной бумаги, покрывающем стол, возникала от абажура ярко освещенная арена. Миниатюрные жучки-фокусники подпрыгивали на ней, переворачиваясь на спину. Нежнейшие ночные бабочки в серебряных ризах священнослужителей озабоченно ползали из стороны в сторону. Тонкой струной звучал где-то у потолка невидимый комар. Тень от него то появлялась на стене судорожно прыгающей точкой, то бесследно пропадала и обнаруживалась в другом углу комнаты, вырастая до невероятных размеров. Лампа чуть слышно шипела, как добродушный и укрощенный зверь. Это были часы смутных мечтаний… Но если бы у него спросили, о чем он думал, сидя неподвижно у стола с вытянутыми на коленях руками, он сам не смог бы на это ответить, так как в действительности не думал ни о чем определенном. Он только знал, что в жизнь его вошло неизъяснимо лучшее, чем то, что сохранялось в обрывках, лучшее, чем молодость и детство. («…Лучше того, что прилетают весной скворцы… и, может быть… даже наверно, лучше кровли родного дома, собственно одного только фронтона над садом… и, когда был гимназистом…») А ночью он пробуждался от шороха мышей, — сон был хрупкий и ломкий. Объектив луны вдвигался в комнату и производил киносъемку. Опытные статисты перекатывали по полу большую перламутровую пуговицу, должно быть, достояние раньше жившего здесь квартиранта.
«Пожалуй, будь деньги, я бы купил им, — полудремля, думал Кравцов, — кусочек сала, например…»
— Вы бы купили? Но ведь у вас у самого перекрашенные туфли, — смеется Наденька.
Она вся освещена луною. Вот она проходит сквозь стену и исчезает в саду. Вся комната наполняется тенями от ее розовой шляпки. Розовые, пунцовые, красные цветы сыплются с потолка на землю. Кравцов просыпается. Это заря. Это утро. Это суббота…
Никогда раньше день не казался ему таким однообразным и длинным. Выйдя с урока ровно в половине второго, он бесцельно слонялся по улицам, пытаясь как-нибудь убить время. Он направился в городской сад Чисмеджиу, и по пути, вслед за ним, поплыло улыбающееся лицо госпожи Грушко, вдруг остановившееся в зеркальной витрине модного конфексиона. Нарумяненная восковая дама улыбалась карминными губами. На ней была элегантная меховая шубка, и лакированные туфли по-муравьиному блестели на неестественно розовых и тонких ногах. Рядом с ней солидный господин, раздетый до белья, протягивал на желтой ладони патентованные подтяжки. А сзади, по вороху шелков и крепдешинов, по газовому облаку тюлей, по блестящему лоску ситцев, подкрадывался бенгальский тигр. Пасть его была свирепо оскалена. Он готовился растерзать на части тщедушного мальчика в голубой матросской шапочке. Все это напоминало жуткую драму в стиле романов Эдгара Уоллеса. И в тот же момент часы на площади пробили два удара. Железная решетка Чисмеджиу черными копьями преградила Кравцову дорогу. Деревья согнулись под тяжестью облаков и порывисто дышали, остановившись на месте. Он вошел в аллею и в зеленом бассейне увидел свое изображение со струящимися вниз ногами, свое лицо, покачивающееся в ненастоящем небе, более темном, чем в действительности, и странно колеблющем в белых тучах папиросные окурки. Ломающаяся на лету птица медленно пересекла бассейн… И на короткое мгновение, так же как в первый день приезда, смутное сознание, что он уже когда-то видел этот угол бассейна и над бассейном это самое дерево, шевельнулось в его уме.
«Но если бы я видел, я бы знал, — подумал Кравцов. — Я бы знал то, что случится дальше». И тут же ему стало ясно, что слово «дальше» особенное слово. Его необходимо произнести сорок четыре раза подряд. Он начал было мысленно отсчитывать: «Дальше, дальше, дальше…» Но голос внутри шепнул: «Ты должен вслух. Ты должен вслух, и тогда будет все хорошо. А если не вслух, то это ничего не значит. Ты должен вслух, тогда значит. Ради Наденьки».
Он оглянулся по сторонам. Из-за поворота аллеи вышел высокий господин и медленно приближался к бассейну, ведя за собой на привязи черного пуделя.
«Пожалуй, успею», — подумал Кравцов, и быстро стал произносить таинственное слово. Но что-то опять шепнуло: «Ты должен закончить как раз в тот момент, когда господин с собакой поравняется с бассейном. Не раньше и не позже. Тогда все будет хорошо. А иначе все будет плохо. И, главное, все будет плохо с Наденькой и с тобой…»
Но когда господин поравнялся с бассейном, Кравцов сбился со счета и не знал, сколько раз в действительности он произнес слово «дальше». Не то сорок три, не то сорок четыре раза. Сердце его учащенно билось.
«Пусть в таком случае неизвестность», — мысленно схитрил Кравцов.
Но тот же голос шептал: «Можно исправить. Забеги вперед господина и наступи ногой на первую же спичку. Тогда все будет хорошо. А иначе, может быть, будет плохо».
«Пусть может быть,— упрямо не соглашался Кравцов. — И вообще, все это долой, — подумал он, решительно тряхнув головою. — Долой, долой. Пусть только может быть… Все-таки шанс… И теперь уж кончено».
Он быстро пошел к выходу, но в воротах слабый отзвук таинственного голоса шепнул опять: «Коснись правой рукой стены. Чтоб закрепить шанс».
«Ну уж это в последний раз», — нахмурился Кравцов и протянул руку к стене, стараясь в то же время придать своему движению случайный вид, так, словно бы он машинально, в задумчивости коснулся стены рукой. И вот он очутился в густой толпе. По Calea Victoriei блестящими жуками ползли автомобили. И несмотря на то что до условленного времени оставалось еще довольно долго, Кравцов решил теперь же отправиться на склад. По дороге он придумал некоторое основание для своего визита. Он спросит у Федосей Федосеевича об Африке. Он давно уже собирался спросить об этом. Еще тогда, когда впервые заметил на карте зеленые флажки, ведущие через Сахару к Судану… «Для чего на самом деле Федосей Федосеевич так тщательно изучает Африку? Не думает ли он…»
Но тело его уже возносилось вверх по скрипучей деревянной лестнице, и белая дощечка «Romul», как на экране, выступила из темноты. Стараясь придать лицу наиболее беззаботное выражение, он позвонил, и сейчас же за дверью послышались шаркающие шаги Федосей Федосеевича и вслед за этим осторожная возня с дверной цепочкой.
«Как, однако, все старики медлительны», — нетерпеливо подумал Кравцов. В раскрывшейся двери лицо Федосей Федосеевича приветливо заулыбалось.
— Ах так! Юноша! — воскликнул он, протягивая руку. — А я здесь занимаюсь изучением… — Он указал на карту. — Да вы входите. Входите же! — повторил он, заметив нерешительность, с какой Кравцов топтался на месте.
Кравцов вошел. Он чувствовал, что должен что-то сказать, но стоял молча, глядя на Наденьку. Она подняла голову. Она смотрела на него прищуренными глазами.
— Благодарю вас, — ответил наконец Кравцов. — Я, если разрешите, войду на минутку…
— Но ведь вы уже вошли, — с деланным удивлением отозвалась Наденька. Она не выдержала и расхохоталась.
— Ну, ну, не смущайте молодого человека, — сказал Федосей Федосеевич, предлагая Кравцову стул.
Кравцов чуть не свалился на пол, плохо рассчитав движение.
— Вы изучаете Африку, — поспешно проговорил он, стараясь скрыть охватившие его чувства. — Это, должно быть, очень интересно. Я, к сожалению, о ней ничего не знаю. Я, к сожалению, о ней знаю очень мало, — путался в словах Кравцов.
И сам того не подозревая, он подсаживал Федосей Федосеевича на излюбленного им конька.
— Африка изумительная страна! — воскликнул Федосей Федосеевич. — Страна огромных возможностей. Да, огромных возможностей.
Теперь он устремил свой взор за черную линию экватора, и тысячи подробностей, вычитанных им в различных книгах, разместились по всей карте от Золотого Берега до Мадагаскара и от Тимбукту до Мыса Доброй Надежды. Он видел мутные реки, низвергающиеся с базальтовых скал в пустыню, стада антилоп в выжженной солнцем прерии, чудовищных крокодилов, греющихся на нильских отмелях, розовых фламинго с крючковатыми шеями и заросли пальм и алоэ. Негритянский царек, разукрашенный перьями, улыбаясь, протягивает ему финик. Федосей Федосеевич принимает финик из деликатности. Он его ест. Он ощущает во рту его мучнисто-сладкую мякоть и даже косточку, твердую как кремень и выдолбленную посередине тысячелетиями… И пыль Сахары хрустит у него на зубах. Но, повернувшись к Кравцову, он говорит:
— Для коммерческих предприятий это исключительная страна.
— Вы думаете уехать в Африку? — спросил Кравцов.
— Я уеду туда, друг мой, — просто ответил Федосей Федосеевич. — Я продам свой магазин и уеду, как только получится французская виза.
Он подошел к полке и достал книгу в коричневом переплете, тисненном золотом.
— Я выеду из Марселя в Бизерту. Потом караванной дорогой во внутрь материка. Вот в эти самые области, о которых здесь напечатано. — Он раскрыл книгу и прочитал: — «Тимбукту — негритянский город. В 1811 году на пути сюда был убит исследователь Рентген. Еще раньше путешественнику Мунго-Парку удалось добраться до Нигера, где он и был убит в 1806 году. Но через двадцать лет, в 1826 году, майору Лангу посчастливилось с севера достичь Тимбукту, и он был умерщвлен в этом городе. Позже, в 1856 году, исключительное счастье выпало на долю Фогеля: он достиг столицы Вадая-Вары и здесь был казнен по приказанию султана. Что же касается путешественника Саккони, то ему посчастливилось проникнуть даже в землю агадов, где он и был убит в 1883 году…» Но я продвинусь значительно дальше, — сказал Федосей Федосеевич.
Он сдвинул на лоб очки и стал похож на авиатора, только что возвратившегося из далекого и опасного полета. Кравцов слушал как зачарованный. Его собственный проект поездки с лекциями по Европе бледнел в сравнении с этим тщательно продуманным планом.
— Вы понимаете, — сказал Федосей Федосеевич, кладя на место книгу, — меня интересует исключительно деловая сторона путешествия. Ведь как ни грустно сознаться, друг мой, но деньги в наше суровое время играют крупную роль. Мы это в особенности почувствовали теперь, потеряв родину. И еще должен сказать, мы были неисправимыми идеалистами. Буду с вами вполне откровенен. Мы витали в облаках вместо того, чтобы заниматься земными делами. Только здесь, за границей, я окончательно прозрел. Но это еще не значит, что я буду жесток с неграми, — поспешно добавил Федосей Федосеевич. — Упаси меня Бог. Везде, где только возможно, я буду действовать силой убеждения. Слово — это лучшее оружие, мой друг. Мне всегда казалось, — сказал Федосей Федосеевич, вдруг подымая голову и ласково глядя на Кравцова, — и вы можете смеяться над этим сколько угодно, мне всегда казалось, что если бы я встретился в свое время с Лениным, мне бы удалось его переубедить. Не во всем, конечно. Он закоренелый большевик. Но во многом я бы его переубедил. Достаточно было бы часовой беседы, простой, искренней, задушевной беседы. И то же самое с неграми… Я буду их убеждать словом.
Он сбросил на нос очки легким движением головы и взглянул теперь на Кравцова увеличенными, как у марсианина, зрачками. И голова его казалась головой мудреца на тонкой и хрупкой шее.
— Ведь вот в чем дело, я возвращаюсь к нашему идеализму, — продолжал Федосей Федосеевич, — ведь дело в том, что весь мир сейчас перекроен по-иному. И люди сейчас не те, что были. Вы их с трудом можете распознать. Вот перед вами солидный господин, элегантно одетый, помахивающий изящной тросточкой. Вот молодая дама, переходящая улицу. Кто они? Вы их знаете? Вы можете установить род их занятий, их имущественное положение, их образовательный ценз? И не пытайтесь, юноша! Здесь легко впасть в глубокую ошибку. Начнем хотя бы с господина. По внешнему виду он напоминает актера. И все-таки он обыкновенный лавочник, владелец селедочной торговли. А дама, которой вы так восхищались, — она вовсе не герцогиня, она простая швея, тоже владелица целого предприятия с десятком мастериц и закройщиц. И только для них, заметьте, только для этих людей раскрыты сияющие рестораны, только для них вся полнота жизни, и все эти кафе, все эти ночные бары созданы только для них.
Федосей Федосеевич положил руку на плечо Кравцову:
— Нам нужно перестроить нашу собственную жизнь, мой юный мечтатель. Перестроить до основания.
Он отошел к столу и снова устремил свой взор на карту Африки. Как бы продираясь сквозь заросли кактусов и сплетения лиан, сквозь стебли папируса, сквозь все это волнующее очарование неизвестных стран, стараясь не думать о страусах и казуарах, о восковых листьях лотоса, он намечал вслух трезвый план своей будущей работы.
— Вы думаете, мне интересно заниматься меновой торговлей? — говорил Федосей Федосеевич. — Уверяю вас, отнюдь нет. Но я должен ею заняться, друг мой, чтобы не отстать от века. Я должен буду изучить все сорта бус и стеклянных изделий, цены на дешевый ситец и цветные ленты, я принужден буду на многие годы погасить свой интеллект, превратиться в простого торгаша, если хотите, в обыкновенного существователя и даже, увы, в авантюриста. И это последнее меня наиболее угнетает.
Он снова задумался, словно подыскивал слова, и рука его, приподнятая в воздухе, чертила неопределенные узоры. Быть может, ему давно уже хотелось высказаться до конца и, наверно, не раз он говорил об этом с Наденькой, так как она спокойно стучала на машинке, вовсе не слушая того, что он говорил теперь.
— Поймите, — говорил Федосей Федосеевич, — мы должны так же, как все эти люди, вжиться в одно занятие, мы не должны быть универсальны, ибо не смеет деловой человек думать о Сикстинской мадонне. И вот ваш проект насчет лекций… Ведь это же фантазия. Поймите, что это утопия. Вы меня искренне рассмешили. Я и сейчас смеюсь, вспоминая об этом. — И Федосей Федосеевич затрясся в добродушном старческом смехе. — Ах, фантазер, фантазер! — повторял он, вытирая глаза платочком. — Но я вас, впрочем, не сужу. Сам был такой… точка в точку. И тоже был утопистом. Мне даже иной раз жалко моих прежних мечтаний. В той деловой обстановке, в какой я сейчас живу, много иссушающей и черствой пустоты.
— Я буду играть на виолончели, — внезапно признался Кравцов, до того внимательно слушавший и не проронивший ни слова.
— Вы будете играть на виолончели? То есть зачем же это?
— Для заработка, — несмело произнес Кравцов.
Он вдруг покраснел, услышав, как фыркнула Наденька. Федосей Федосеевич стоял в виде вонзившихся в землю ножниц, широко расставив ноги и застыв на месте от изумления. Наденька вмешалась в разговор.
— Господин Кравцов прекрасно играет на виолончели, — сказала она с легкой усмешкой. — Он очень музыкален. Он даже танцует по утрам и сам себе насвистывает мелодию.
Лицо Федосей Федосеевича выразило крайнее изумление:
— Вот так пассаж! Вы музыкант?
— Я неважно играю. Так, кое-что, — смущенно ответил Кравцов. — И я играл очень давно, еще гимназистом.
Мысль его побежала по календарям и событиям. Он увидел осенний день, мокрую стену, увитую малиновыми листьями винограда, и желтые дождевые лужи во дворе, в которых лопались мутные пузырьки и вздымались лунные кратеры. А он сидит посреди комнаты и водит смычком… Когда это было? Должно быть, очень давно…
— Я играл очень давно, — повторил Кравцов машинально.
— Но ведь у вас в руках верный кусок хлеба, — воскликнул Федосей Федосеевич. — Не теряйте времени, мой дорогой, и тотчас же начните действовать. У вас в руках вернейший кусок хлеба.
— Я должен сперва разучить фокстроты, — сказал Кравцов. — Теперь везде в ресторанах играют и танцуют фокстроты. Я должен буду…
— Разучите их обязательно, — перебил его Федосей Федосеевич. — Сама судьба толкает вас на правильную дорогу. Сейчас такое время, милый юноша, когда и мне приходится поступаться многими идеалами, а я ведь, пожалуй, гожусь вам в отцы.
И он с жаром стал говорить о суровой жизненной борьбе, о беспощадном реализме и под конец признался, что купит себе револьвер, отправляясь в Африку.
— Конечно, я не буду стрелять, — сказал Федосей Федосеевич. — Я даже не умею стрелять. Но иногда, может быть, и мне придется прибегнуть к угрозе.
Но Кравцов уже слушал рассеянно. Он думал о предстоящей вечеринке и украдкой посматривал на Наденьку. Он ее любил, он знал это теперь так же ясно, как и то, что любовь его почти безнадежна. Какие-то вихри подымали со дна его души грустную музыку.
«Если бы я умер, сидя здесь на стуле, это было бы великим счастьем», — подумал он.
А Федосей Федосеевич говорил:
— …и слоновую кость, и слитки золота, и вообще все, на что обменивают товары. Я пройду вдоль Нигера, захватив по пути негритянские села.
«И я отдал бы всю свою жизнь за счастье… за облачное счастье… — думал Кравцов. — Нет, это пошлятина, пошлятина, — зачеркивал он сам свои мысли. — Просто за счастье. Так лучше. Хотя я не художник… и ведь можно просто по-человечески… Тогда, значит, и за облачное счастье… И как хорошо было бы умереть…»
VII
Они вошли в трамвай, переполненный публикой, и стояли в проходе, держась руками за одно и то же кольцо, свешивающееся с потолка на желтом ремне. Их пальцы соприкасались. Иногда, когда вагон тормозил ход и внезапно останавливался, Наденька плотно придвигалась к Кравцову плечом и ему казалось святотатственным ощущать так близко ее тело, и в то же время в этом ощущении было для него блаженство.
«Я не достоин, — думал он, покачиваясь на толчках и сам почти наваливаясь на Наденьку, словно бы кто подшучивал над его застенчивостью. — Я не достоин и я осквернен…»
Он вспоминал почему-то один раз виденную им порнографическую открытку и морщился как от боли, стараясь отогнать подленькое видение, преследующее его именно теперь. И, чем больше он не хотел его видеть, тем яснее вставали подробности во всем своем гнусном бесстыдстве.
«И это был… позвольте… это был, кажется, японец, — говорил кто-то другой за Кравцова, сладостно растягивая слова. — И он… знаете?., и он…»
Кравцов испуганно раскрывал глаза в дребезжащее стекло трамвая. Бегущие мимо дома, как в тифозном бреду, поворачивались всеми углами и, уплывая назад, обнажали на перекрестках кисельные берега зари.
— Пора сходить, идемте, — сказала вдруг Наденька, улыбаясь растерянному виду Кравцова. (Он еще не совсем избавился от японца и потому глядел на нее смущенно.) — Слышите, мечтатель? Вы все мечтаете! Нужно сходить.
Вагон остановился на краю площади. Здесь вместо пышных особняков и магазинов лежала белая размазня из домов и домишек с деревянными заборами и любительскими цветниками, с горохом и розами и со всем тем уютом, о котором втайне мечтают поэты. И, словно подтверждая то, что здесь уже не город, а только окраина, летучий субъект привязался к Кравцову, носясь над его носом с надоедливым жужжанием.
— Здесь очень красиво, — сказал Кравцов, растирая ладонью комара и чувствуя под пальцами мокрый комочек? — Очень красиво. И напоминает деревню.
Он победил, наконец, японца и теперь открыто глядел на Наденьку. В улице, по которой они шли, преющим сеном благоухала акация…
— Вы могли бы взять меня под руку, — предложила Наденька.
Она остановилась, невинно оправляя шляпку.
— О да, я сейчас… — спохватился Кравцов и с деланной развязностью просунул руку в тесную щель, образуемую ее плотно прижатым локтем. И, просунув так руку, он застыл в одном движении, захватив пальцами пуговицу своего пиджака и безжалостно ее выкручивая. Он старался приспособить свою походку к легкому шагу Наденьки, но путался и сбивался, так что она сказала наконец с некоторым изумлением:
— Бог мой! Ведь вы не умеете ходить под руку!
Но вот они приблизились к невзрачному домику, обкуренному церковным запахом цветущей смородины. Наденька привстала на носках и потянула за ручку звонка. Во дворе, у самой калитки, залилась лаем собака. В то же время открылось слева окно, и женская головка со смехом высунулась на улицу. Сейчас же вслед за ней высунулась мужская голова. Потом несколько голосов воскликнуло сразу:
— Ура, это Наденька! — И окно захлопнулось само собой.
— Пустите меня! — сказала Наденька, пытаясь высвободить руку, которую Кравцов все еще не решался освободить.
— Там собаки, — пробормотал он. — Я буду вас охранять…
— Освободите мою руку! — строго приказала Наденька. Он нехотя отпустил ее руку. — Ведь это совсем ничтожная собачка, — как бы оправдываясь, заметила Наденька. Вдруг она расхохоталась, взглянув на него. — Ах, ах! Вы совершенно оторвали себе пуговицу.
Действительно, пуговица висела на нитке и Кравцов все еще продолжал ее выкручивать. Они вошли во двор. Дощатый забор пылал огненными клиньями. А выше, над забором, туманная перспектива подымающихся в гору игрушечных домов и улиц напоминала переводную картину. В прихожей, куда они вошли, было совершенно темно и за дверью шумели голоса и раздавался смех, позванивали чайные ложечки, странно примешивающие к веселью долю своей металлической печали.
— Нет, не сюда… вот сюда, — смеялась Наденька, невидимая теперь Кравцову.
Но он уже нащупал дверную ручку и, повернув ее, внезапно очутился в ярко освещенной комнате. Он не увидел того, что ему услужливо подсказывало воображение. Он не увидел чайного стола, покрытого скатертью, выпуклой сахарницы с черепашьими бугорками, чашек и стаканов, всей той обычной картины вечернего чая, какая ему рисовалась, когда он стоял за дверью, шаря впотьмах рукой. И оттого, что он увидел теперь все совсем иным, а не таким, каким должен был увидеть, он почувствовал легкое разочарование. Он еще больше смутился, чем обычно, и неловко улыбался, оглядывая комнату. Здесь были люди совсем не такие, как ему представлялось, они сидели и стояли, разговаривая друг с другом. Некоторые из них пили чай, устроившись в углу на кожаном диване. Их лица были, как в сновидении, до неожиданности незнакомыми, и это нарушало смутный план, составившийся в уме Кравцова. Теперь в этом плане оставалась только Наденька, а все остальное было чужим и неправдоподобным. Так ему показалось, по крайней мере, в первое мгновенье.
— Разрешите, господа! — сказала Наденька, сама беря Кравцова под руку и прижимаясь к нему так, что он слышал, как пульсировало ее сердце.
Она пошла вдоль комнаты, с насмешливой торжественностью обходя всех знакомых и представляя им Кравцова. Навстречу протянулись мужские и женские руки и, пожимая их, он словно перебирал клавиши от басовых нот до самых тонких и пронзительных. Он почти не глядел в лицо тому, с кем здоровался, но в крепком или легком пожатии, в коротком или продолжительном задерживании пальцев, был тоже свой тон, своя гамма, и из этой гаммы выступало настроение приподнятой веселости. И в то же время он подумал: «Как вообще нелепо здороваться за руку… Странно… муравьи, те также щекочут друг друга усами…» Но ему уже передавалось общее настроение. Он увидел, наконец, лица окружающих в их еще новом, но подлинном выражении.
Рыжекудрая и краснощекая девушка с руками, как стебли мака, сплошь покрытыми тонкими рыжими волосками, была хозяйкой комнаты. Она тотчас же завладела Кравцовым, отстранив Наденьку и взяв его под свое покровительство. Во всех ее движениях, порывистых и смелых, сквозила безнадежность старой девы.
— Ах, господин Кравцов! Как я рада! Садитесь сюда… — быстро защебетала она, почти насильно усаживая его в укромном уголке у отгороженной ширмами кровати.
Кравцов послушно сел.
— Я много о вас слыхала, — продолжала говорить девушка, кокетливо обнажая рекламу зубов и десен. — Наденька мне не раз говорила… Вы, должно быть, большой чудак, не правда ли?
Ее полированные до розового блеска ногти нервно впивались в пушистую белизну носового платочка. Она уже с каждым играла ва-банк, как промотавшийся и отчаявшийся игрок. Рассеянно слушая ее, Кравцов в то же время рассматривал исподтишка всех присутствующих. Наденька разговаривала с худым и плоским, как вобла, молодым человеком, волосы которого были старательно зализаны назад, так, словно бы он всю жизнь бежал против ветра. И чувство незнакомой доселе ревности шевельнулось в его душе.
«О чем они там говорят?» — думал он, пропуская мимо ушей слова перезрелой девы. Он даже хотел встать и подойти к Наденьке, но в это время в противоположном углу комнаты послышались голоса:
— Господа! Фанты! Предлагается играть в фанты!
Загремели стулья, тесно сдвигаемые в ряд. Кравцов очутился подле худенькой девушки со странно сросшимися над переносицей бровями и с крохотным личиком фарфоровой статуэтки. Она робко покашливала в кружевной платочек, пропитанный фиалкой, и вся была хрупкая и тонкая.
Ему даже казалось, что ее можно сдуть со стула, как пушинку. Но по левую руку от него сидело нечто громоздкое и массивное, нечто сохранившее от женского естества только высокий голос, и это нечто, как ни странно, называлось Леночкой. Напротив сидела Наденька, а рядом с ней все тот же прилизанный молодой человек, ставший почему-то ненавистным Кравцову. Круг замыкало несколько пар, затененных абажуром и потому оставшихся incognito[46].
— Я предлагаю высказывать желания! — воскликнула Наденька. — Господа! Кто за желания, подымите руку!
Вместе со всеми Кравцов машинально поднял руку.
— Пусть каждый расскажет необыкновенную историю! — взвизгнула Леночка.
— Идет! — подхватили остальные.
Вокруг шумно зааплодировали. И вдруг Наденька указала на Кравцова.
— Пусть расскажет он первый, — предложила она с лукавой улыбкой.
— Браво! Пусть расскажет он! — зашумели голоса, и все головы повернулись в его сторону.
Кравцов от неожиданности даже встал с места и почему-то (о, как это было глупо, он сам сознавал) вежливо поклонился. Впрочем, он сейчас же стал неумело и сбивчиво протестовать. Он объявил, что не знает ни одной подходящей истории, что не привык говорить публично («И это тоже глупо — насчет публичности», — пронеслось у него в уме), что он просит кого-нибудь другого. Он взглянул на Леночку, сжатую узким платьем и выпирающуюся из него, как пасхальный кулич. Но та визжала вместе с остальными:
— Пусть он расскажет, пусть расскажет!
Наденька глядела на него смеющимися и чуть расширенными глазами. Зализанная голова ее соседа наплывала на Кравцова иллюстрацией из Брэма… «Бобр на отмели… вот откуда, — вдруг вспомнил он «Жизнь животных». — И как это Наденька может с таким?.» Но вокруг настойчиво требовали:
— Расскажите историю! И никаких отговорок! Вы не имеете права отказываться, раз просят дамы!
Дыша зубной пастой, к нему склонилась перезревшая хозяйка.
— Миленький, расскажите. Ну что вам стоит? — Она тормошила его за рукав, ощупывая, как цыпленка. — Что вам стоит?.. Какой-нибудь пустячок…
Он чувствовал себя совершенно смущенным.
— Пожалуй… если хотите… я могу… — запинаясь, начал Кравцов. — Но это очень незначительно… И малоинтересно… уверяю вас…
— Валите! Рассказывайте! — закричали со всех сторон.
— Это из моих скитаний, — объяснил Кравцов. — Но, право, пустяки… Из того времени, когда я пытался перейти советскую границу.
Он встретился глазами с Наденькой, но тотчас же отвел их в сторону: ему было стыдно перед ней за свой стыд и смущение. И что всего хуже, он чувствовал, как против воли у него начинают дрожать губы мелкой и неприятной дрожью, а под левым глазом, чуть в сторону от нижнего века, что-то стучало и прыгало, как молоточек. «Вот она, неврастения», — думал он, борясь с охватившим его волнением. И в то же время он уже видел то, о чем собирался рассказать, но видел во всех подробностях, и, может быть, именно поэтому ему было трудно передать словами встававшую перед ним картину. Он видел пограничный городок, весь пронизанный галочьим криком, сдуваемые набок голубые хвостики дыма над прокопченными трубами, заборы и деревья, и вдоль заборов цепкую зелень крученых паничей с вкрапленными в нее цветами… «Но о цветах бессмысленно, — подсказывало сознание. — О галках и о цветах не стоит…» Он попытался сосредоточиться на простых и грубых фактах. И все же вставал летний день, и в нем, как в голубой раме, придорожные сады и огороды. Сияет солнце. Шевелятся растения… Пчела заползла в граммофонный раструб цветущей тыквы и оттуда поет Шаляпиным. На ножках ее желтые бутафорские шаровары… «И о ней, о пчеле, тоже было бы бессмысленно», — быстро неслось в уме.
— Видите ли… уже летом прошлого года я хотел перейти границу, — сказал наконец Кравцов, комкая и разрушая воспоминания. — Я очень голодал в то время. — Он взглянул на Наденьку, но она сидела, опустив вниз голову, и ему не было видно ее лица. — Я очень голодал и хотел в Румынию, — неуклюже ворочал словами Кравцов. — И однажды я заблудился на берегу Днестра. Но вскоре мне повстречался военный в буденновском шлеме. Я его принял за простого красноармейца и потому откровенно попросил указать мне дорогу. Я даже пообещал ему отдать свои сапоги… — Наденька подняла голову и с видимым интересом взглянула на Кравцова. — Но я совершил ошибку, — признался он. — Это не был красноармеец. Это был начальник Особого отдела пограничной охраны.
Последовал взрыв бурного смеха. Леночка взвизгнула, покачнувшись на стуле и нелепо вскинув руками. Даже хрупкое существо, сидевшее по правую руку от Кравцова, хихикало в кружевной платочек, распространяя по комнате благоухание фиалок. Наденька рассмеялась вместе с остальными, но быстро успокоилась и теперь глядела на Кравцова пристально и внимательно.
— Тогда это не было смешным для меня, — сказал Кравцов, с недоумением оглядывая окружающих. — И мне пришлось просидеть в Чеке четыре месяца.
— Но как же вас, вообще, освободили? — спросила Наденька, с трудом подавляя улыбку.
— Они признали меня ненормальным. Сначала думали, что я был пьян. Но потом решили, что я сошел с ума и выпустили как умалишенного.
Новый взрыв смеха последовал за его словами. Прилизанный молодой человек застыл в наглом оскале и ржал шахматным коньком, беззвучно и вызывающе. Кравцов опустился на свое место.
«Как, однако, все вышло глупо, — думал он, мучительно краснея и не решаясь поднять глаза. — Я не сумел рассказать, и поэтому вышло глупо. И теперь они будут долго смеяться. А Наденька может подумать, что я очень не умен, очень не умен», — мучился Кравцов, в волнении похрустывая пальцами и глядя вниз на слинявшие полосы крашеных половиц. Он был бы рад превратиться на это время в какую-либо мелкую букашку и залезть в пыльную щель. «И там лежать постоянно рядом с обломком иглы, — думал Кравцов. — Рядом с обломком… и чтоб Наденька наступила ногой…» Но в то же время он ощущал в душе какую-то свою, ему самому не совсем ясную, правоту. «…Пусть думают… но я знаю… и я знаю иное… мерцающее вдали озарение…» — туманно определял Кравцов. В этом озарении бешено вертелся им открытый и никому неведомый мир…
Он встретился глазами с наглым взглядом прилизанного кавалера. Наденька шепталась о чем-то в углу с хозяйкой комнаты, и обе они весело смеялись.
— Возьмите ваш фант, — неожиданно пискнула Леночка, протягивая шляпу.
Кравцов покорно взял свернутый в трубочку билетик. Он развернулся его и прочитал: «Нарцисс».
— Вы Нарцисс, а я Орхидея, — сказала Леночка, смеясь и заглядывая к нему через плечо.
«Ну вот, они уже как будто забыли, — все более успокаивался Кравцов. — Но все же позорно… — Он держал в руке фант, бессознательно повторяя про себя: — Нарцисс… Нарцисс Осипович, — всплыло из памяти. — Да, да, ведь был такой… инспектор военного училища. Нарцисс Осипович Лещинский. Как странно — имя Нарцисс, а отчество Осипович… Нарцисс и Осип. И Осип тоже странно… Осип, например, охрип, а Архип осип…»
— Орхидея! — выкликнули из угла. — Господа! Вызывается Орхидея!
Леночка проплыла розовым облаком и скрылась за дверью. Через минуту она возвратилась назад, сияющая и довольная, рядом с прилизанным молодым человеком. Глаза ее блестели.
— Нарцисс! — выкликнули снова.
«Да, да, Нарцисс», — думал Кравцов, комкая в руке свой фант.
— Вызывается Нарцисс. Кто Нарцисс, господа? Чайная Роза вызывает Нарцисса.
— Идите же! Это вы! — удивленно воскликнула Леночка. — Вот так кавалер. Его вызывает дама, а он сидит.
«Нарцисс — это я, — сообразил вдруг Кравцов. — Ведь на самом же деле это я… Но Чайная Роза? — Он взглянул перед собой и не увидел Наденьку. Горячая волна захлестнула ему горло, и он побледнел, неловко подымаясь с места. — Нарцисс — это я… а Чайная Роза — Наденька».
Он пошел к двери, как вызванный к расстрелу, пошатываясь и задевая локтями обстановку. Почти бессознательно он раскрыл дверь и очутился в темном чулане, где пахло огуречным рассолом и зацветавшими хлебными корками. Теперь он стоял в абсолютной темноте. Снаружи чуть долетали крики и смех гостей. И не видя, он чувствовал вблизи себя Наденьку, как слепой чувствует солнце.
— Это вы? — спросила она шепотом и так близко от него, что ощутил ее дыхание. Но он продолжал стоять молча. Неожиданно голову его зажали маленькие и теплые ладони. Лепестки Чайной Розы прильнула к его губам.
— Вы странный и милый, — шепнула Наденька. — А теперь уходите.
И она сама подтолкнула его к двери.
VIII
Мир стал совсем иным — миром завладели ангелы. Их крылья проступали на закате небесным оперением, их голоса звучали в вечернем шуме деревьев, и над жизнью Кравцова прозвенели серебряные трубы.
«Все прекрасно, — думал он, глядя на запыленный дворик, по которому бродили куры. — Все прекрасно… И эта квочка разве не восхитительна? А как чудесна коза! Правда, вымя ее несколько неприлично… новее же она чудесна. Чудесна!.. Чудесна!.. И квочка, и коза, обе они прелестны, — снисходительно думал Кравцов. Ему казалось, что из рога изобилия кто-то излил на него доброту всей Вселенной. — Милая квочка, — думал он. — Милая коза! — И сейчас же вслед за этим: — Милая, милая Наденька!» Но вдруг смущался: нельзя о Наденьке и о козе вместе. Это нехорошо. Это грешно.
— Это подло, подло, подло, — говорил он теперь вслух, расхаживая по своей комнате. — Это подло, подло, подло… и я сам себя потяну сейчас за волосы…
Он действительно потянул себя за волосы. И тут он вспомнил об одном цветочке, росшем во дворе на мусорной куче. Он искупит свой грех. Он пересадит этот жалкий цветочек в вазон и будет о нем старательно заботиться. Пусть даже это и не цветок вовсе, а просто обыкновенная колючка, все равно он возьмет ее под свое покровительство. И колючка расцветет у него в комнате… Думая так, он ходил из угла в угол. Теперь он прощал художнику бездарную картину, висевшую над диваном и изображавшую старательно вылизанный пейзаж. Раньше эта картина очень его раздражала. Но теперь он ее прощал. «Может быть, художник не виноват, — примирительно думал Кравцов. — Может быть, художник был наследственным алкоголиком. И, в сущности, картина вовсе не так плоха. Конечно, люди на ней кривобокие. Но это, вероятно, происходит от неправильного освещения. Достаточно, например, перевесить картину в другой угол…» Душу его переполняла благожелательность. Он подошел к окну и увидел черное небо, и в лицо ему незримо дышала Наденька ночною свежестью и жасминами. Одинокая звезда пылала на горизонте зеленым трепещущим пламенем. «Чудесная звезда, — подумал Кравцов. — Великолепная звезда. Она светила еще фараонам в Египте… Я сам видел ее когда-то мальчиком и, может быть, увижу в глубокой старости…» Между тем край горизонта уже заливало призрачное сияние: вставала луна, облака медленно уходили на север колченогими и неуклюжими великанами. Они устремлялись на самый край неба в темную бездну, где творились еще подвиги и чудеса. Кравцов лег в постель, но долго лежал с открытыми глазами. Мысли его неизменно возвращались к Наденьке. Утром события пошли в уровень с веком, хотя из-за крыш неторопливо выкатилось ленивое солнце. Оно было подобно олуху Царя Небесного, розовощекому олуху, которому только что выдрали уши. Уже одетый и причесанный, Кравцов поспешно пил чай, складывая бантом губы и дуя на чашку, успевавшую все же по-гадючьи его укусить. «Сегодня об Иване Калите, — торопливо думал Кравцов. — Следовало бы все-таки просмотреть по книге…» Но сердце вместе с воробьями радостно прыгало на подоконнике. Калита превращался в калитку, и у калитки стояла Наденька.
— Вы странный и милый, — шептала она. — Странный и милый…
«К черту Калиту», — беззаботно решил Кравцов, отдаваясь всецело сладким воспоминаниям. И вдруг он произнес:
— Я вас люблю, Наденька! — Он повторил это громче, преодолевая собственное смущение. — Я вас люблю, я вас люблю, Наденька!
Раскрытый наполовину шкаф ответил ему одобрительным гудением. Старый пиджак с разбросанными на стороны рукавами благословлял с вешалки невиданное легкомыслие…
— Я вас… — запнулся Кравцов и внезапно умолк.
Он вспомнил о своем лице и воспоминание это было, как укол иглы, неожиданно и неприятно. Как мог он предполагать с таким лицом… надеяться с таким лицом?.. Ему не нужно зеркала, чтоб увидеть себя во всей неприглядности: этот нос, эти глаза и рыжеватые волосы, прямые, как солома, похожие на кровлю негритянской хижины. «Мерзостная физиономия, — впадая в отчаяние, подумал он. — Физиономия, в которую можно плюнуть… — Но, подойдя к зеркалу, он увидел свое лицо в несколько смягченном выражении. — Что же… не так противно, — успокоительно промелькнуло в уме. — Конечно, не красавец. Но и не так противно… «И все-таки ты не жених, — издевался рассудок. — Женихи не такие. Женихи совсем иные…» Да, женихи иные», — грустно подумал Кравцов, вспоминая те случаи, когда он видел женихов, кинематографически нарядных и красивых.
«Женихи иные», — нагло и беззвучно смеялся теперь пиджак, распластывая вдоль стены пустые рукава и вывернутые наизнанку карманы. Снаружи свистнул скворец: «Иные!» Нелепые фантазии рождались в мозгу, почти видения, и он видел себя самого изумительно преображенным, сказочным принцем, проходящим через толпу. Он входит в церковь и вместе с Наденькой идет к алтарю… Архиерей и четыре священника служат свадебную мессу… поет хор, гремят колокола, золоченым куполом сияет архиерейская шапка, платье Наденьки струится ладаном, и свечи освещают ее подбородок… «И ты, как Сарра! — восклицает священник, обращаясь к ней. — И ты, как Авраам!» — обращается он к нему…
— Ишь ты! Застал-таки дома, — говорит вдруг странно знакомый человек, стоящий на пороге. Он одет как жених, он держит в руке светлые перчатки. — А я вчерась еще к вам забегал, — смеется он в рыжую бороду, любовно поглядывая на Кравцова.
— Да вы кто? — воскликнул Кравцов, узнавая и не узнавая незнакомца.
— Чай забыли Топоркова? — удивился рыжебородый. — Мы же с вами здоровкались. Или уж впрямь запамятовали?
Кравцов окончательно очнулся, он поспешно отошел от зеркала, перед которым все еще стоял в момент появления неожиданного гостя, и теперь остановился посреди комнаты, растерянный и смущенный.
— Вижу, что признали, — еще шире ухмыльнулся Топорков и тяжело опустился на стул, выставляя напоказ щегольские ботинки.
— У меня урок, — нерешительно сказал Кравцов. — Через полчаса я должен буду уйти из дому.
Рыжая борода умиленно кивнула:
— Аккурат по причине ваших занятий я и зашел так рано. Думаю, дескать, застану их дома. А вот и впрямь вас застиг.
Водворилась тишина — короткий отрезок времени, предоставленный гудящей осе, случайно залетевшей в комнату.
— Севодни мы погуляем, — внезапно объявил Топорков, склонившись на спинку стула и морщась от солнечного заряда. — Ох и гульнем мы севодни! Уж будьте благонадежны. Пущай шумит душа Топоркова на все двадцать пять с полтиной!
— Но я не могу с вами, — почти испугался Кравцов. — У меня урок.
— Ох и гульнем мы после ваших умственных занятий! — стоял на своем Топорков. — Аккурат как вы освободитесь.
«Черт знает, что такое! — подумал Кравцов. — Пожалуй, от него и на самом деле не так-то легко отвязаться».
Он снял с вешалки шляпу и теперь выжидательно глядел на гостя.
— Гулять будем у меня, — продолжал Топорков, вовсе не думая подыматься с места. — Потому один я сейчас остался на целый дом. А барынька моя, видишь ли, смоталась на два дня к ихней подружке.
— Вы извините меня, — схитрил Кравцов. — Мы это обсудим с вами после урока. Но теперь я спешу. Мне нужно быть на уроке к девяти. Я не могу опаздывать.
Топорков хитро подмигнул глазом:
— Зачем же опаздывать? Вместе и выйдем. А пока вы будете заниматься науками, я вас подожду в ресторанчике насупротив.
«Черт знает что такое!» — уже совсем в сердцах подумал Кравцов.
Все его планы на сегодняшний день рушились благодаря нелепой случайности. Идя по улице рядом с Топорковым, он не переставал думать о том, как бы ему улизнуть от своего спутника, и изредка бросал недружелюбные взгляды на колыхающуюся справа черную широкополую шляпу. Но Топорков весело болтал и был в отличном настроении духа.
— Видишь ли, приятель, — сказал он, беря Кравцова за локоть (и от слова «приятель» Кравцов слегка поморщился), — как ты есть русский человек и, можно сказать, земляк, то я, значит, никаких расходов не пожалею. — Он вдруг весело расхохотался. — А, сказать вам правду, так расходов вовсе и нету. На ширмака будем гулять, накажи меня Бог! На даровщинку.
Кравцов был в замешательстве.
— Сегодня я очень занят, — сделал он последнюю попытку уклониться от приглашения. — В другой раз я с удовольствием, но только не сегодня…
— Совсем даже без расходов будем гулять, — смеялся Топорков, пропуская мимо ушей его слова. — Оченно богато они живут, а муж ихний морской капитан.
«Да ведь это же авантюра», — с ужасом подумал Кравцов, теперь только сообразив, что его приглашают в чужой дом к отсутствующим хозяевам.
— Нет, я никак не могу, — сказал он, останавливаясь посреди улицы.
— Пущай мне язык отсохнет, ежели вру, — стал уверять Топорков. — Уж раз говорю, что на ширмака, так будьте благонадежны. Мне вот только гулять одному скука, — добавил он, шагая рядом с Кравцовым. — Пить одному — скучное дело. А как вы, значит, ученый человек, то гулять с вами очень приятно.
«Далась ему, однако, моя ученость, — досадливо поморщился Кравцов. И он подумал о том, что в крайнем случае выберется от Грушко черным ходом. — Кажется, у них есть калитка, ведущая из сада в проулок. Уж как-нибудь проскользну», — успокаивал себя Кравцов.
Но после урока, когда он с консервами под мышкой осторожно вышел на улицу, широкополая шляпа выросла на его пути.
— Не туда, — остановил его Топорков. — Вправо пойдем. Так, через площадь, прямее.
«Нет, видно не уйти от него», — мысленно покорился Кравцов и, проклиная свою судьбу, последовал за Топорковым.
Они шли некоторое время молча и вскоре свернули в тихую улочку, каких еще немало в центре Бухареста.
— А вот и наш дом, — сказал Топорков, останавливаясь у нарядного особняка, окруженного чугунной оградой. На звонок вышла горничная и, узнав Топоркова, заискивающе ему улыбнулась. — Чувствует, шельма, кто здесь хозяин, — хвастливо сказал Топорков, входя в дверь и подталкивая вперед Кравцова.
Дверь закрылась, отрезывая пути к отступлению. В прихожей, куда они вошли, пахло острыми французскими духами и чуть слышным запахом нафталина. У стены стояли широкие соломенные кресла и такой же диван, с которого при их появлении спрыгнул серый кот и, лениво потягиваясь, зацарапал когтями по скользкому паркету. Топорков снял пальто и, остановившись перед высоким ромбическим зеркалом, заботливо расправил бороду и закрутил вверх усы.
— А вы что же? — вдруг обернулся он к Кравцову. — Снимайте ваше барахлишко. Сейчас будем закусывать.
Как во сне, Кравцов медленно разделся у вешалки. И, сняв пальто, он почувствовал себя соучастником преступления. Пока на нем было пальто, он мог еще сойти за случайного посетителя, по ошибке забредшего не в тот дом. Но без пальто и в чужой квартире он чувствовал себя заправским жуликом и пугливо озирался по сторонам, ожидая каждую минуту вторжения полиции.
— Пожалуйте, — сказал Топорков, предупредительно раскрыв дверь и, очевидно, разыгрывая роль радушного хозяина. — Да вы не стесняйтесь. Заходите. Это у нас вроде гостиной залы.
Двигаясь, как лунатик, Кравцов следовал за ним, любопытно оглядывая убранство комнаты. «И это даже не вроде, — с трепетом подумал он. — Это и есть парадный зал для гостей. Ах, дернуло меня согласиться!» И, думая так, он в то же время испытывал острое и необычное наслаждение от созерцания предметов, не снившихся ему и во сне, он словно переживал наяву страницу детективного романа. Ноги его утонули в мягком ковре, и он теперь шествовал по пути, устланному розами. Высокий столетник у окна победоносно и молча трубил в цветок… А над дверью висела золоченая надпись, по-румынски возвещавшая: «Добро пожаловать». «Они бы нас пожаловали», — подумал Кравцов, оглядываясь с опаской по сторонам… Топорков взял его под руку:
— Хочешь, заведу граммофон?
Но Кравцов отрицательно замотал головой:
— Нет, нет. Лучше соблюдать тишину.
— Да вы что? — удивился вдруг Топорков. — Никак боитесь? Ну и чудашный вы господин после этого. Ведь я здесь хозяин и никто окромя. Той капитан, он ихний муж только в бумагах. Да и нету его сейчас, плавает где-то в морях.
— Но он может вернуться… — робко вставил Кравцов.
— Мо-о-жет… — передразнил Топорков. — Вам-то что от этого? Чай, я буду разделываться с ним, а не вы. Гуляйте себе спокойно и бросьте заботиться.
Они перешли, наконец, в столовую, и Топорков засуетился у буфета.
— Вот увидите, какие закуски у барыньки, — говорил он, раскладывая на столе тарелки. — Что у нас на Пасху, то у них в будний день, истинное слово. Сидай, друг, — сказал он, оборачиваясь к Кравцову. — Сидай и гуляй, как вашей душе угодно.
Кравцов опустился на стул. «Все равно уж», — бесшабашно пронеслось у него в мозгу. Он вдруг почувствовал, что очень проголодался, и ел с отменным аппетитом, запивая еду вином. После третьего бокала лицо Топоркова показалось ему симпатичным. «Этакий русский богатырь, — подумал он, разжевывая телячью котлетку. — Илья Муромец…»
А Топорков говорил:
— Живу, можно сказать, как у Христа за пазухой. Ешь, пей, что душа требовает. А когда надо выкупаться, так в ванну сажусь. Ванна у них очень аккуратно изделана. Да что, не хотите ли вымыться?
«Все равно, эх, все равно», — пронеслось в уме у Кравцова.
— Вымыться? Отчего же… Можно и вымыться, — произнес он вслух.
Голова его чуть-чуть кружилась, и на циферблате стенных часов он ясно видел лишнюю стрелку.
— Так словно бы в баню сходите, — расхваливал Топорков. — Ах, хорошо! Вот только с девчонкой распоряжусь, чтоб приготовила простыни.
Он поднялся и вышел из комнаты чуть покачивающейся походкой.
Широко раскрывая глаза, Кравцов увидел дубовый буфет, полный чайной посуды, висящие по стенам картины и справа, над бамбуковой этажеркой, портрет моряка в блестящей форме с золотыми позументами на рукавах.
— Это хо-хоз… — попытался сказать Кравцов. — Хоззя… Хоз-зяин, — удалось ему наконец выговорить. — А я пьян и сижу в чужой квартире…
Топорков возвратился в столовую.
— В момент будет готово, — сказал он. — Выкупаетесь в два счета.
Они выпили по чайному стакану какого-то дорогого ликера, и необыкновенная легкость переполнила Кравцова. Он вспомнил то, что ему шепнула на вечеринке Наденька, и радостно улыбался, развалившись на стуле. Все его чувства как-то удивительно обострились и прояснились, а от лица Топоркова осталась только борода. Лицо растаяло в воздухе, оставив на память бороду. Борода раскачивалась, подобно огненному кусту рябины.
— Я сам здесь хозяин, — говорила борода. — Пей, гуляй, приятель, на даровщинку.
На столе появлялись все новые закуски. Идиллическая яблоня расцвела на картине в углу, а под яблоней стояла девушка в розовом воздушном платье.
«Девушка цветет вместе с яблоней, — подумал Кравцов. — Яблоня и девушка цветут хором… Дуэтом, — поправил он себя мысленно. — Собственно даже так: яблоня цветет, а девушка солирует… Но тогда, значит, они не цветут вместе?.. Ну, все равно, — решил он с добродушной уступчивостью. — Пусть они цветут каждая в отдельности…»
Он был совершенно счастлив.
— Живу как хочу, — говорил Топорков. — А барынька, так та и вовсе от меня без ума. Поверите, сама мне бороду подрезывает ножницами. И на руках у мене, на пальцах, ногтюрн наводит.
Борода хохотала, раскачиваясь веером. С этажерки, из-за китайской вазы, надув паруса, выплывал древний фрегат. Кукольные матросы неподвижно висели по вантам. Игрушечный капитан осматривал горизонт в подзорную трубу. На горизонте покачивались бутылки. А выше, со стены, уже не игрушечный, а настоящий капитан глядел в упор на Кравцова. Совсем, совсем не игрушечный. Совсем, совсем настоящий. «Ну и черт с ним», — успокоительно подумал Кравцов.
— Этот костюм, что на мне, то же самое в прошлом месяце справила, — хвастался Топорков. — И шляпу купила. Рубашек имею шесть пар…
«Да, вот что, — вспомнил Кравцов. — Она говорила: «Вы странный и милый». И она сама поцеловала в губы».
Ему захотелось подняться с бокалом в руке и произнести тост за здоровье Наденьки. Но дверь открылась и вошла горничная. Она почтительно доложила о чем-то по-румынски.
— Буна, — коротко ответил Топорков и повернулся к Кравцову: — Пожалуйте мыться.
— Что? — удивился Кравцов.
— В ванночку сидать уже вам пора, — пояснил Топорков усмехаясь. — Ведь вы же сами хотели.
— Ах, да… помыться в ванне… Ну все равно…
Он поднялся и последовал за горничной. В ногах была танцующая легкость. Развеселившиеся вещи толкали его со всех сторон и, теснясь вокруг, заявляли о своем присутствии. Платяной шкап в коридоре предупредительно побежал ему навстречу и добродушно загудел, целуя в голову. Горничная весело рассмеялась.
— Какая, однако, теснота, — обозлился Кравцов, потирая рукой ушибленное место.
Но вешалка уже клонилась в его сторону, и, мягко зарываясь лицом в чьи-то пальто и дамские саки, он подумал, что это, в конце концов, прямо-таки курьезно: на чужой квартире… и вот так… Наконец он добрался до ванной комнаты. Здесь он себя почувствовал гораздо уверенней, так как смог опереться обеими руками о край эмалированной ванны. Он, не торопясь и глубокомысленно обдумывая каждую запонку, стал раздеваться. И вот он сел в ванну. Приятная теплота связала его движения. «А ведь и впрямь хорошо, — подумал он. — Чудесно!»
Он открыл кран и подставил голову под освежающую и упругую, как резина, струю холодной воды. Это его значительно протрезвило. Уже не ванна плавала под ним, а он сам пытался плавать в ванне. Он заболтал ногами, вспенивая воду, как пароход. Игрушечные волны побежали к скользким эмалированным стенам, а со дна поднялись тысячи крохотных пузырьков.
— Хорошо! Эх, хорошо! — фыркал Кравцов, ложась на спину.
Медная ручка в дверях ванной комнаты несколько раз повернулась. Кто-то стукнул в двери ладонью.
— Нельзя! Еще купаюсь! — весело крикнул Кравцов.
Он вытянулся на боку, слегка поджав ноги. Но кто-то ломился в дверь, барабаня обеими руками. «Эх, как его развезло», — недовольно подумал Кравцов. Он набросил на себя простыню и, шлепая босыми ногами по сырым мраморным плитам, открыл наконец дверь.
— Ну что? — спросил он, не глядя на Топоркова, стесняясь своей наготы и босых ног. Но в открытой двери молчали. Инстинктивно он отпрянул назад, взглянув в то же время перед собой. И тут он увидел… он увидел…
Чужое, багровое лицо, со вздувшимися на лбу жилами, яростно глядело на него, поскрипывая зубами. Морская фуражка с бешенством наседала на узкий лоб, а рука теребила костяную ручку короткого морского кортика. Это был портрет, неожиданно выступивший из рамы. Совсем, совсем настоящий… совсем, совсем не игрушечный… Кравцов невольно вскрикнул и, пятясь в сторону, быстро захлопнул дверь. Железная щеколда спасительно прозвенела.
«Боже мой, где же штаны?., где же штаны? — думал Кравцов, бегая по комнатке, натыкаясь то на ванну, то на стоявший около табурет. Хмель окончательно испарился у него из головы и сознание ужасной и непоправимой неприятности встало перед ним во всей своей ясности и простоте. — Да, да… штаны и ботинки… ботинки и штаны… — лихорадочно соображал Кравцов, вставляя ногу в рукав рубашки. — Рубашку надо бы через голову… вот так… — и он вставлял голову в штаны. — Боже, что я делаю… Необходимо скорей одеться… И он меня, конечно… но ботинки, ботинки!..»
За дверью бушевал капитан субтропическим ураганом. Перепуганная горничная, всхлипывая, что-то ему объясняла. Внизу на лестнице хлопнула дверь.
«Топорков убежал… и я сам должен разделываться, — торопливо думал Кравцов. — А тот меня, конечно… за любовника… Уж он меня… уж он мне…» Ему стало жалко самого себя и он представил себя избитым и окровавленным. Он лежит в лазарете, и Наденька пришла к нему с букетом пунцовых роз… Но дверь содрогалась под тяжелыми капитанскими кулаками. «Ради Наденьки… — вдруг подумал Кравцов, невпопад и через одну застегивая пуговицы. — Ради нее… как рыцарь… претерплю…» Капитан ругался за дверью самыми страшными румынскими ругательствами. Медная ручка с жалостным скрипом вертелась на месте. Сжав плотно зубы, Кравцов открыл дверь. Не думая и только подчиняясь воле инстинкта, он закрыл голову руками. «Ради нее… Ради Наденьки…» — подумал он еще раз. И в ту же секунду он был схвачен за волосы и бешено повлечен к стене. Красное, бритое лицо придвинулось к нему напудренным куском рахат-лукума. На лбу у капитана вздулась синяя жилка, а металлическая пуговица его форменного сюртука залезла Кравцову в рот, и теперь он ее жевал, неестественно вывернув шею. Он оцепенел, притиснутый к стене, он чувствовал, как с болью растут у него волосы, и удар в ухо только освежил его, странно напомнив о телефоне. «Вызовет по телефону полицию», — внутренне содрогнулся Кравцов. Но капитан продолжал разделываться единолично. Хрипя и сопя, он колотил Кравцова судорожно сжатыми кулаками. Он кричал ему в лицо ругательства всех материков и стран и возил его вдоль стены, срывая легкий дымок штукатурки. Потом он поскользнулся, и оба они свалились на пол. Это была секундная передышка, после которой в глазах у Кравцова вспыхнул ослепительный круг. Он едва удержался, чтобы не вскрикнуть от боли. Но нет… Он будет молчать… Он претерпит все до конца ради… Они опять сцепились у стены, и капитан тряс его за отворот пиджака, ругаясь почему-то по-итальянски. Капитанская фуражка слетела на пол, и теперь на Кравцова глядело измененное лицо с взлохмаченными, чуть седеющими волосами, по-бабьи круглое и злое.
— Балшевик! — вдруг заорал капитан по-русски. — Сволошь!..
Они отпрянули от стены и с разбегу влетели в прихожую. Кравцов увидел наружную дверь, вешалку и свое старое летнее пальто, безмолвно ожидавшее его с вытянутыми по швам рукавами. Сделав отчаянное усилие, он выскользнул из рук капитана. Быстрым движением он сорвал пальто с вешалки, а дверь раскрыл, как занимательную книгу, поспешно и с затаенным дыханием. Он сбежал с крыльца, не чувствуя под собой ног. Весь город был в румянце зари. Медные проволоки телеграфа золотыми нотами легли в потемневшем небе. У дома, шаря по стене, мирно шумели акации. «Ну вот… свободен…» — облегченно вздохнул Кравцов. Сердце его еще колотилось как обезумевшее. И вдруг он улыбнулся: «В этом городе Наденька… И я ради Наденьки… — Он вытер платочком кровь из разбитого и припухшего носа. — Я претерпел ради Наденьки…»
IX
Май подходил к концу. Листья на деревьях уже приобретали плотную летнюю жесткость. Рестораны выставились наружу рядами низких мраморных столиков, и от утра до вечера толпилась повсюду публика, по-восточному оживленная и говорливая. На перекрестках в деревянных будках продавалась сельтерская вода. Разноцветные сиропы вспыхивали на солнце радугой. Наступали знойные дни. Ласточки поднялись высоко в небо и реяли над городом едва заметными точками. А ветер был напоен жарким дыханием кондитерских…
Кравцов бродил по улицам, изредка останавливаясь у аптек и косметических магазинов. В вогнутых зеркалах его лицо казалось желтым и неестественно откровенным. Зеленое пламя сияло в огромной аптечной бутыли. В бутыли же стоял он сам — маленький, с несуразно длинными руками, с ладонями, похожими на грабли. Рот изгибался турецкой туфлей. Чудовищные ботинки выползали снизу, как танки. Он придвинулся плотнее к окну, и лицо его приняло форму равнобедренного треугольника… Злостная и меткая карикатура! И опять в душе его шевельнулась неприязнь к самому себе, досадное сознание своей некрасивости. Было безумием надеяться, и если бы даже это случилось, если бы это… (он невольно закрыл глаза), то как бы вообще могла сложиться жизнь его и… Ее и… «Наша жизнь», — подумал он впервые с трепетным сердцебиением… Откуда-то из ресторана певучей пружиной развертывались скрипки. «Creme de Coti»… «Tinctura»…
«Конечно, я мог бы играть на виолончели, — прислушиваясь к скрипкам, подумал Кравцов. — Я мог бы… — По мыслям, по стенам, по стеклу бегали тени от листьев. Скрипки вспыхнули заключительным аккордом, — …мог бы играть, — думал Кравцов. — И это было бы великолепно…»
Но изнутри подымалась издевка: «Великолепно? Да? Чудесно! Прекрасно! Феноменально! Фе-е-рично!»
— Нелепость! — испуганно шатнулся Кравцов, словно спасаясь от быстрого потока восклицаний. В зеленой бутыли расплылось и сплющилось его лицо. Из дверей парикмахерской юрким сусликом выткнулся наружу парикмахер. Кравцов посмотрел вниз. Внизу протекала ножная жизнь. «Ноговая, вернее… Тоже нелепо. Ботиночная… Нет, нелепо. Просто — жизнь ног. Дамские, мужские и детские ноги. Чулки со стрелками, брюки в полоску, туфельки из желтой кожи. Шатающийся лес ног… Впрочем, и это пустяки. Нелепость. Хитрость с собой…»
Мучительно краснея, он вдруг вспомнил, как Наденька встретила его на следующий день после капитанской потасовки. Он неумело солгал ей тогда насчет лестницы и будто бы он свалился в темноте. Все это вышло глупо. Наденька выслушала его и недоверчиво усмехнулась.
— У вас такой вид, словно вы с кем-то подрались, — сказала Наденька. Впрочем, тут же добавила: — Словно вы кого-то поколотили.
«Она это снисходительно, — подумал Кравцов. — А пластырь на носу действительно смешон… Она смеялась тогда без всякого стеснения».
Вспомнив теперь это, он принялся внимательно читать французскую надпись на флаконе. От буквы до буквы он прочитал ее всю и опять сначала, пока в глазах не вычеканились цепляющиеся друг за друга, обведенные тушью медали: «Grand prix. Paris… Bruxelles». Золотой лев с женскими бровями по-человечески смеялся, растянув пасть. Золотой лев перекатывал медали…
«Нет… Что-нибудь героическое, — подумал Кравцов. — Что-нибудь исключительно важное… — Скрипки опять дохнули издалека волнующим воспоминанием. — Что-нибудь такое… такое…»
Он глядел уже поверх домов в раздвинувшуюся синеву неба…
На складе у Федосей Федосеевича он застал незнакомого ему господина, плотно вросшего в кресло короткой, словно обрубленной фигурой. На бритом и полном лице над несколько широкой переносицей узлами вязались седые брови. Седые волосы отливали цинком. Уже с порога Кравцов понял, что здесь происходит форменное сражение. Федосей Федосеевич наступал по всему фронту.
— Нет, ничего не выйдет из вашего проекта, милый мой Никодим Поликарпович, — говорил Федосей Федосеевич. — И вот рассудите сами: поляки ненавидят чехов. Чехи ненавидят поляков. Болгары и сербы друг с другом на ножах. Какое же может быть единение славян, подумайте сами?
— А вот и может быть, — упрямо не соглашался гость. — И очень даже грандиозно выйдет. Очень даже помпезно. Вы только выслушайте меня до конца. Для единения всех славян мы устанавливаем в Европе какой-нибудь определенный день. Скажем, для примера, первое февраля. И в этот день все славяне выходят на улицу: русские, чехи, поляки и так далее. Вы представляете себе грандиозность картины? Они идут, несут знамена, поют славянские песни…
— Да куда же они пойдут? — прервал его наконец Федосей Федосеевич.
— Это дело особых комиссий, — спокойно ответил гость. — Пусть комиссии разработают подробный план, куда им, вообще идти. Уж куда-нибудь да пойдут, не беспокойтесь. И ведь не это, в конце концов, важно. Важно то, что мы, русские, первые додумались до такого грандиозного плана.
В пылу разговора оба старика не заметили Кравцова. Он остановился у двери, разыскивая глазами Наденьку. Ее не было в комнате. «Не задержалась ли она в ресторане? — подумал Кравцов. — Тогда можно пойти ей навстречу».
Тихонько отступая к двери, он незаметно выбрался наружу. Еще в коридоре ему было слышно, как Федосей Федосеевич продолжал спорить со своим гостем:
— Вы только рассудите: поляки народ себе на уме… У сербов…
Голоса удалялись и затихали по мере того, как он спускался вниз по лестнице. И вдруг, при самом выходе на улицу, он неожиданно столкнулся с Наденькой. Она шла, опустив вниз голову, задумчиво комкая и расправляя зажатую в руке перчатку. Никогда раньше не казалась она ему столь недосягаемой и прекрасной. Он остановился на месте, не находя нужных слов, чувствуя, как бешено колотится у него сердце.
— Мне нужно поговорить… сказать, — пробормотал он, почти до боли сжимая ее руку. — Я вас искал. Я должен сказать…
Он увлекал ее куда-то на середину улицы, уже не соображая ничего и с нервно подергивающимися губами. Промчавшийся мимо автомобиль чуть не задел их краем кузова. Наденька невольно вскрикнула. Она попыталась было вырвать от него свою руку, но затем на лице ее промелькнула лукавая усмешка. Несколько раз он наступил ей на ногу и даже едва не упал, поскользнувшись на трамвайной рельсе. Он шел как лунатик. Дойдя до чугунных ворот, открывающих вход в небольшой скверик, они повернули в аллею и уселись на ближайшую к ним скамью. Весь мир застыл в томительном ожидании. И, глядя на сверкающий посредине дорожки осколок стекла, Кравцов почему-то подумал, что этот осколок может просиять для него или радостью или горем.
«Если радостью, то, должно быть, вот так, — думал он, вглядываясь в сияющую точку. — Но если горем…»
Как по ступеням, отсчитывая каждый удар сердца, он стал медленно скатываться вниз. В сверкающей точке, на которую он продолжал смотреть, возникали пугающие его намеки.
— Ну? — спросила Наденька. — В чем же дело? Ведь вы мне обещали что-то сказать.
Она взглянула на него с легкой улыбкой.
— Я хотел вам… хотел… — пробормотал Кравцов в замешательстве. — Я хотел посоветоваться с вами, Наденька.
— Посоветоваться со мной? — притворно удивилась она. — О чем же именно?
— Обо всем, — солгал он неуклюже. — Обо всем, о чем я хотел.
— Но о чем же все-таки? — лукаво настаивала она. — Уж не об этом ли?
И она придвинулась к нему ближе.
Он окончательно смутился. Глядя себе под ноги, он подумал с тревогой, что сейчас, сейчас это случится. Он попытался было наступить каблуком на подбежавшую к нему тень от раскачивающейся ветки, но тень отпрянула в сторону и потом опять возвратилась назад, трепещущая и неуловимая.
— Уж не об этом ли? — снова спросила Наденька. Потом, смеясь, она воскликнула: — Боже, как вы глупы! Но говорите, я слушаю.
У него, как у паралитика, совсем отнялся язык, и он сидел молча, бледный и растерянный.
— Ну я вам помогу, — предложила она. — Вы влюблены в кого-то и хотите, должно быть, со мной посоветоваться. Красива ли она, по крайней мере? Любит ли вас? Говорите!
— Она прекрасна! — воскликнул Кравцов.
Несколько секунд они сидели молча, не глядя друг на друга, словно прислушиваясь к шелесту деревьев. Два воробья, слетевших вниз на дорожку, как фехтовальщики, прыгали друг перед другом.
— Вы мне еще не ответили, любит ли вас эта девушка, — сказала Наденька, пытаясь придать своему лицу безразличное выражение.
— Я этого и сам не знаю, — откровенно признался Кравцов. — И потом… Разве я могу надеяться? Ведь я некрасив. Вы, впрочем, это видите сами.
— Да, вы не из красавцев, — лукаво согласилась она. — Но у вас есть много других хороших качеств. И как сестре, как другу, вы должны мне рассказать все о вашей любви. Ведь вы меня считаете другом, не так ли?
— Я вас считаю другом, — нерешительно подтвердил Кравцов.
Он смотрел вниз на дорожку, следя за игрой теней, за их странно значительным трепетом.
— Послушайте, — воскликнула Наденька. — У нас с вами общая судьба. Ведь и я люблю одного господина. Но этот господин непонятливый и робкий дурак, и он даже не знает, что я в него влюблена.
— И вы хотите… вы могли бы на нем жениться?
Она расхохоталась снова.
— Нет, я могла бы выйти за него замуж. Только нужно, чтобы он сам мне признался в любви.
— Признаться в любви очень трудно, — безнадежно заметил Кравцов.
— Пустяки. Можно всему научиться. Хотите, я вас научу?
Он удивленно взглянул в ее глаза, стараясь прочесть в них правду.
— Сначала вы берете меня, то есть ее, конечно, вот так за руку, — объясняла Наденька, протягивая сама руку Кравцову. — Теперь вы должны сказать: «Я вас люблю».
— Я вас люблю, Наденька, — неожиданно выпалил он.
— Разве и ее зовут Наденькой? Так же, как меня?
— Наденькой, — несмело прошептал Кравцов.
— Ну, хорошо, допустим. Хотя это довольно странно. Теперь по правилам полагается ваш первый поцелуй. Вы можете ее поцеловать.
Она приблизила к нему свое улыбающееся лицо, по которому бесшумно скользили легкие тени от листьев. Она запрокинула голову, и он увидел ее подбородок, ярко освещенный солнцем. И, закрыв глаза, он ощутил на своих губах ее губы. У него было такое чувство, словно его высоко подняли на качелях, и он сам бы не мог объяснить, как долго длилось это мгновение. Наконец Наденька оттолкнула его мягким движением руки.
— Довольно, — сказала она. — Вы этому научились вполне.
Но он вдруг попытался привлечь ее к себе. Она отодвинулась на самый край скамьи. И тогда, словно во сне, быстро и почти невнятно, он заговорил о том, как крепко и давно ее любит. С наивным непониманием влюбленного он сказал, что никакой другой Наденьки у него не было и нет, что он это выдумал нарочно и что Наденька — это она сама. Он умолял теперь сказать ему правду, то есть он просил сделать ему легкий намек… Он вообще сразу понимает намеки. И если нет никакой надежды, то он уедет с Федосей Федосеевичем в Африку, вообще навсегда уйдет с ее пути. Он говорил как безумный.
— Какой же намек вам еще нужен? — воскликнула Наденька. — Ах, Боже мой! Неужели вы думаете, что я вас только учила?
Тогда, совсем обезумев, он сорвал с головы шляпу и отбросил ее далеко в кусты. Он поймал в воздухе отстраняющую его руку и стал покрывать ее бесчисленными поцелуями.
— Я вас люблю, Наденька! Я вас люблю, — повторял он неустанно.
Словно сквозь сон, он слышал шелест деревьев, а в блеске знакомого ему стеклышка он уже видел отражение того сияния, которое переполняло его душу.
«Это стеклышко все-таки не солгало», — радостно промелькнуло у него в мыслях.
Он был счастлив как никогда.
X
В числе тех героев, о которых Кравцов прочитал в доме господина Грушко несколько довольно-таки туманных лекций, были и Кай Юлий Цезарь, и Жанна Д’Арк, и светлейший князь Римникский Суворов. Потом запас героев стал постепенно иссякать, и он уже подумывал было перейти к героям древности, к Тезею и Ахиллесу, как вдруг в сознании его просияло имя Пипина Короткого. Но как он ни ломал голову, стараясь припомнить, чем знаменит был этот Пипин, ничего, кроме имени, не возникало у него в мозгу. «Пипин Короткий… Пипин…» Идя на урок, он не переставал думать о нем. «Пипин… Кто же, однако, был этот Пипин?»
— Ах, черт побери! — выругался, наконец, Кравцов. — Черт побери! Пипина!
И тут же, словно что-то его кольнуло, он подумал о том, что в настоящем его положении нехорошо вспоминать черта. Теперь, когда он так счастлив, когда он любим и сам любит… было бы просто неосторожно. Бог побери. Вот так. Так будет лучше. Бог побери Пипина. И ведь именно, именно это он собирался сказать. Да, конечно, именно это. «Господи, возьми Пипина… И не в ад его возьми, Господи, — продолжал поправляться Кравцов, — а в рай. Пусть ему там будет великолепно… Пипинчику. Ну, теперь, кажется, все в порядке, — подумал он. — Теперь все хорошо…» Он чувствовал себя как причастник, которому не полагается грешить. Но, проходя мимо гастрономического магазина, он вдруг заметил, что какой-то толстяк, остановившийся на тротуаре, следит за ним удивленными глазами. «Это, должно быть, от того, что я говорил вслух, — сообразил наконец Кравцов. — Уж не принял ли он меня за помешанного?» И чтобы замести следы, он стал потихоньку напевать:
— Гос-поди, прийми-и Пипина…
Для пущей хитрости он даже перешел постепенно на мотив модного румынского романса. Теперь уже и толстяк сделал вид, будто он остановился только за тем, чтобы взглянуть на часы. Оба они ловко обманывали друг друга.
— Прийми-и, Гос-по-ди, — напевал Кравцов. — Возьми Пи-пи-на…
Вдруг он спохватился: «Ах, что же, однако, я делаю. Такие слова… и я их, как романс…» Он переменил мелодию и запел на церковный лад. «Ну вот… Это уж, во всяком случае, безупречно», — успокаивал он себя. Но внутренний голос шепнул: «Хитришь с Богом? Обманываешь Бога? О, негодяй, негодяй! Да знаешь ли, кто ты после этого… — И Кравцов весь съежился от неприличного слова, хлестнувшего его, как бич. — Ты после этого…»
— О-о! — почти простонал он.
Неожиданно для себя он очутился у самой витрины, перед свиной головой, дружелюбно оскалившей зубы. Гаванская сигара, воткнутая в полураскрытую пасть, символически подчеркивала сытое свиное довольство. Здесь же рядом, ощипанная до восковой желтизны, лежала индейка, странно подвернув шею. Прикрыв голубыми веками навсегда погасшие глаза, она, как сомнамбула, тянулась к букету петрушки, перевязанному для красоты розовой ленточкой. Два вареных омара сидели друг перед другом и, как ученые, вели длительный спор. Но замечательнее всего был заяц. Он изображал музыканта, играющего на флейте. Казалось, что все прислушивалось к этой немой и непонятной для посторонних музыке. Даже копченые угри блаженно застыли, извиваясь среди винных бутылок. Крепко спала под музыку фаршированная рыба на блюде, ее перламутровые щеки раздувались от сонного восторга.
Вдруг рядом открылась дверь, и из магазина вышел пузатый лавочник в сопровождении молодой дамы.
— Вот это и это, — сказала дама, указывая концом зонтика на омара и поросенка.
И, вторгаясь в сонное царство, отодвинув стекло витрины, лавочник приподнял за лапы одного из красных профессоров. Потом другой рукой он захватил блюдо с лежащим на нем жареным поросенком.
— Консервы, мадам? — почтительно спросил лавочник.
«Консервы», — отдалось в ушах у Кравцова.
И он вспомнил, что уже пора идти на урок. Когда он подошел наконец к дому госпожи Грушко и собирался было позвонить, дверь внезапно раскрылась, и на крыльце появился пожилой господин, одетый в какую-то странную одежду, нечто вроде плаща, какие носят тореадоры. Щеки у него свисли, как у бульдога, и переваливали через узкую полоску воротничка. Господин этот поднял вверх руку и осенил крестным знамением госпожу Грушко, стоявшую на пороге. Так же точно благословил он и Кравцова.
Потом он огляделся по сторонам, как бы желая еще кого-нибудь благословить. Но кроме трубочиста, сидящего верхом на печной трубе, никого поблизости не было. Подумав секунду, он благословил также и трубочиста.
— До свиданья, отец Бонифаций! — воскликнула по-русски госпожа Грушко. — В четверг мы вас ожидаем непременно.
И тут же заметив Кравцова, остановившегося поодаль, она улыбнулась ему и поманила к себе рукой. Но он не двигался с места, ошеломленный и пораженный. Эта пышная блондинка с лицом госпожи Грушко и с такими же, как у нее, ярко накрашенными губами, казалась ему странно знакомой и в то же время он ее вовсе не знал. Она говорила голосом госпожи Грушко, даже довольно ласково ему улыбалась, но все же это не была госпожа Грушко. Ведь та была брюнетка, а эта…
Но госпожа Грушко сделала рукой нетерпеливый жест:
— Идите скорей, голубчик. У меня предстоит с вами серьезный разговор.
«Эта совсем без бровей, — удивленно подумал Кравцов. — Без всяких бровей. Уж не двоюродная ли ее сестра? А может быть, даже и четвероюродная…»
— Идите же! — воскликнула госпожа Грушко.
И, не дав ему времени долго раздумывать, она сама втолкнула его в раскрытую дверь. В гостиной, как только они вошли туда, госпожа Грушко принялась излагать новую программу занятий.
— Нужно наладить все по-иному, голубчик, — сказала она. — Я заблуждалась раньше. О, как я заблуждалась! Но теперь, после проповеди отца Бонифация, после знакомства с этим замечательным человеком, я точно прозрела. Ах, что за светлая личность! Ведь из православия он перешел в католицизм только ради того, чтоб помогать сирым и убогим. И вот я хотела с вами поговорить. Пусть и у вас наконец откроются глаза, как открылись они у меня, голубчик. — Глаза у госпожи Грушко были действительно широко открыты. — Я хочу, я даже умоляю вас, голубчик, чтобы вы прочли моей дочери несколько лекций о мучениках. Вообще, обо всех этих сирых и убогих, о плавающих и путешествующих… Вы, впрочем, понимаете, о ком я говорю.
Но Кравцов не понимал решительно ничего. «Как же теперь бытье Пипином Коротким? — подумал он. — И о каких мучениках мог бы я рассказать? О плавающих мучениках я и сам, кажется, ничего не знаю. Что же касается мучеников путешествующих…»
Он чувствовал себя в весьма затруднительном положении. В это время открылась дверь, ведущая в кабинет господина Грушко, и кто-то, разительно похожий на самого хозяина дома, выглянул оттуда.
— Натали! — донесся знакомый квакающий голос.
Госпожа Грушко исчезла за дверью.
«Да что же это такое? — почти со страхом снова подумал Кравцов. — Ведь это же был господин Грушко, а в то же время это был кто-то иной. У господина Грушко бородка, а этот… Может быть, у меня уже начинается горячка и я вижу то, чего нет в действительности?»
И словно желая себя проверить, он стал пытливо рассматривать давно знакомую ему обстановку гостиной. Он даже поступил так: закрывая и открывая глаза, он заранее представлял себе тот предмет, который должен был перед ним появиться. Вот здесь, например, должна быть японская ваза. И, повернувшись на кресле, он потихоньку стал открывать глаза. Ваза, действительно, возникла перед ним в течение одной секунды. А вот там этажерка и на ней постоянно лежит большая океанская раковина… Этажерка и раковина появились, как по мановению волшебного жезла. «Ну, слава Богу, — подумал Кравцов, — все как будто бы обстоит у меня в порядке».
Вслед за этим он повернулся к стене, на которой обычно висела картина, изображающая лунную ночь в Венеции. Но когда он открыл глаза, страшное сознание, что он все-таки, все-таки сумасшедший, шевельнулось у него в уме. Вместо знакомой ему картины перед ним распростерлось огромное полотно. Два полуголых дикаря свирепо дрались на зеленой лужайке. Один из них, очевидно, закоренелый преступник, улыбался весьма злорадно, хотя голова его уже была вся в крови. Другой держал в руке обломок строительного кирпича и собирался, по-видимому, нанести своему противнику новый удар. Кравцов даже поднялся с кресла и глядел на картину стоя.
— Не правда ли, прелестно? — раздалось позади него. И, обернувшись, он увидел госпожу Грушко. — Вы только обратите внимание, как кротко улыбается Авель, — сказала она. — За эту картину я отдала одному молодому художнику триста коробок с консервами. Но я не жалею. Пусть себе кушает на здоровье. Ведь картина прелестна, не правда ли? — Кравцов пробормотал в ответ что-то нечленораздельное. — Ах, Авель! — воскликнула госпожа Грушко. — Бедный, несчастный мученик. Вы только взгляните: он уже почти что убит, а между тем кротко улыбается брату. Сколько всепрощения в этой улыбке! Сколько нечеловеческой духовной доброты! Вы непременно должны рассказать моей дочери о нем. И вот еще что, голубчик, — добавила вдруг госпожа Грушко. — Вы на меня не обижайтесь, но я вас попрошу подстричь коротко волосы.
— Подстричь волосы? — невольно вырвалось у него.
— Да, голубчик, да, да. Мы все должны измениться. И не только духовно измениться, но также со стороны внешней. Это имеет огромное значение. Мы должны сразу стать другими людьми, как бы возродиться из пепла. То есть из праха, хочу я сказать… Я ведь и мужа заставила сбрить совершенно бороду.
— Но у меня невеста, — испуганно пробормотал Кравцов. — Может быть, это будет ей не совсем…
— Нет, нет, — перебила его госпожа Грушко. — Вы обязательно подстрижетесь. Я даже освобождаю вас на сегодня от урока.
«Вот так так», — уныло подумал Кравцов. И он покинул квартиру госпожи Грушко в самом подавленном состоянии духа. На улице ему не стало легче. Как всегда, когда он был чем-либо расстроен, из тысячи мелочей, окруживших его, выступило на первый план только самое неприятное.
«Почему у этого лавочника такая хамская рожа? — раздраженно думал Кравцов, шагая вдоль тротуара. — Ведь это же не лицо, это, скорей, вареная репа. И уж наверно он всегда сыт до икоты. Этакий мешок с рисом! А жена у него рыхлая и пухлая, и они оба, должно быть, храпят по ночам в своей двуспальной кровати… Но ведь и ты, ведь и ты будешь спать в двуспальной кровати, — отдалось у него где-то на дне сознания. — Ты будешь спать не один, но вместе с Наденькой… Наденька будет в ночном чепце, она будет спать в кружевных пан…»
— Панама! — испуганно воскликнул Кравцов. — Пантеон! Паноптикум! Пантомима!
«В кружевных панталонах», — неумолимо закончил внутренний голос.
Кравцов остановился посреди тротуара. Густая краска стыда выступила у него на щеках.
«И я посмел так думать! И я посмел так думать о Наденьке. До чего же я негодяй. До чего же я пошлая скотина. До чего же я… до чего чертов босяк», — вспомнилось ему бранное слово.
Но тут же, словно оправдываясь перед кем-то, он подумал: «Да, чертов, именно чертов. Отнюдь не Божий. И пусть даже случится то, что должно случиться, но Божьим босяком я себя назвать не имею права…» Между тем он только теперь заметил, что идет совсем не в ту сторону, куда ему надлежало идти. Улица вывела его неожиданно на небольшую площадь с несколькими чахлыми деревцами посередине и выемкой цементированного бассейна. В этой части города он никогда не бывал. Машинально он опустился на скамью, приютившуюся в тени дерева. Он вспомнил, что в кармане у него лежит русская газета. Еще вчера вечером он купил ее, проходя мимо центрального киоска, но прочитать не успел, вернее, он позабыл о ней вовсе. Теперь он обрадовался ей как счастливой находке. Ему надо было успокоиться, отвлечь свои мысли от неприятного разговора с госпожой Грушко. Но когда он погрузился в чтение весьма заманчивой газетной передовицы под заголовком «Неминуемый крах большевизма в России», кто-то рассмеялся поблизости тонким, захлебывающимся смешком. Кравцов приподнял голову. Рядом с ним на скамье сидел бедно одетый человек, даже скорее человечек, так тщедушен он был и мал ростом.
Человечек этот глядел на Кравцова и тихонько хихикал.
— Газетку нашу читать изволите? — сказал он наконец по-русски. — По мне, так нестоющее это занятие. И даже наоборот, следовало бы всячески позабыть.
— Что позабыть? — удивленно спросил Кравцов.
— Действительные моменты, — ответил незнакомец. И сняв шляпу, стал обмахивать ею небольшую круглую лысинку.
— Я вас, простите, не совсем понимаю, — окончательно удивился Кравцов. — Кого и что следует позабыть?
Незнакомец тихонько хихикнул.
— Фигурально я несколько выразился, это правда. Уж так я всегда философически выражаюсь. Однако мысль моя проста и ясна, как на этой ладони. — И как бы для наглядности он вытянул вперед пухлую, покрытую беловатыми пятнышками старческую ладонь. — Вот посудите, — сказал он, придвигаясь ближе к Кравцову. — Вы, например, повседневно читаете газетную прессу. Что, мол, и как творится в России. А в Харькове-де или в Киеве произошло то-то и то-то. Но, может быть, на самом-то деле никакого такого Харькова абсолютно не существует на свете. Может быть, Россия только привиделась нам или приснилась, а на самом деле ее вовсе и нет. И ежели, скажем, мыслить так постоянно, то можно даже очень счастливо существовать. Очень даже спокойно и без всякой взволнованности души. Я, например, сам существую таким вот образом. — Он нахлобучил на голову свою изрядно поношенную шляпу, на которой от ленты сохранился только пыльный кружок. — Впрочем, разрешите отрекомендоваться, — привстал он с места. — Кузьма Данилович Клопингер, к вашим услугам.
«Сумасшедший, — мелькнула мысль у Кравцова. — Безусловно, умалишенный».
Но старичок продолжал говорить:
— Ведь теорийку эту насчет счастливого существования выдумал я сам, я, Кузьма Данилович Клопингер. А живут, между прочим, по ней многие русские эмигранты. Потому что очень удобно жить по моей теорийке и, как я уже выразился, можно жить без особой душевной взволнованности.
— Все-таки я не понимаю, что вы хотите сказать, — растерянно пробормотал Кравцов. — Он все более подозрительно поглядывал на своего соседа. — Я не понимаю, о какой теории вы говорите.
— Теорийка моя очень проста, — сказал старичок. — Только уж лучше я начну с самого начала: вам будет понятнее тогда проследить ход моего мышления. — Он извлек из кармана короткую трубку и дрожащими руками развязал шнурок, стягивающий края кисета. — Смею ли просить у вас, господин, разрешения набить табачком свою носогрейку?
Кравцов только кивнул головой. В манерах этого странного старичка, в старомодной его вежливости и в необычном подборе фраз, словно выуженных из старинных романов, было что-то такое, что вызывало к нему невольный интерес. Однако Кравцов не сомневался теперь, что имеет дело с помешанным. Наконец трубка была зажжена. Старичок сделал несколько торопливых затяжек и начал свое повествование.
— Канареечное счастье — так называется теорийка эта, господин дорогой. Она пришла мне в голову, разумеется, не сразу и не случайно. Путем многолетних страданий и всяческих бедствий подошел я к разрешению жизненной этой проблемы. И уж что я выстрадал, то только Господу Богу известно на небесах. Но не ропщу на Его святую волю, ибо заслужил по своим человеческим грехам. Надо вам сказать, любезный молодой человек (вы уж простите старику за вольное обращение), что пострадал я несправедливо уж от зачатия немецкой войны. Заподозрили меня власти в германском происхождении и даже появилась угроза немедленного моего увольнения от занимаемой должности письмоводителя уездного архива. Оно и понятно: Клопингер на поверхностный взгляд — имя немецкое.
Начали меня таскать по канцеляриям от одного департамента к другому. Кто, между прочим, такой и не немецкий шпион ли? Тогда же заболел я от огорчения расстройством нервной системы и, кажется, около полугода пролежал в нервной лечебнице. Эх, господин дорогой! Еще и посейчас остались у меня с той поры сильные головные боли. И еще в те времена нечто такое словно бы зародилось в моем мозгу, словно бы промелькнуло, но что именно, я еще не совсем понимал. Позже уже осознал в горьком моем изгнании…
Памятно вам, конечно, как началась русская революция. Тревожное было время. Жил я уже на пенсии в собственном скромном домишке, под сенью дерев и цветов. Пчел разводил. Кролиководством научным занялся. Куроводством.
Подумывал даже устроить бассейн для разведения аптечных пиявок. К пиявкам я с малолетства привык по случаю частых болезней. Да и в отношении головы пиявки мне значительно помогали, высасывая недуг. Однако революция шла своим чередом. Раз как-то поставили у меня во дворе пушку. Выстрелили из этой пушки незадолго перед рассветом, когда мы еще крепко почивали с женой в постели. Помню, вскочили мы оба.
— Кажется, лопнула банка с вишневкой, — сказала жена. — Пойди-ка взгляни, Кузя.
Но меня вдруг словно что осенило:
— Не банка, говорю, это лопнула, Амалия дорогая, а вся наша счастливая жизнь лопнула безнадежно.
И действительно, так пошло, что с каждым днем хуже да хуже. Уже не только из нашего двора стреляли, но и по нашему двору стали откуда-то бить из пушек. Гранаты у нас прыгали в саду, как какие-нибудь цыплята. Да уж что говорить! Знаете сами, как и что творилось тогда в России…
Но вот что меня окончательно доконало: была уже весна и мы с женой ощупывали в курятнике курочек, какая из них, дескать, с яйцом, а которую предназначить для исполнения обязанностей квочки. Я щупал, а жена записывала в книжку. Внезапно жена говорит:
— Ай, — говорит, — Кузьма Данилович. Что это с тобой происходит? Ты ведь никак петуха щупаешь вместо того, чтоб курицу.
И впрямь: поглядел — а в руках у меня петух. «Ого-го, — думаю. — Вот до чего дошел…» И с той самой поры стал помышлять я о переселении куда-нибудь за пределы Российского государства. Поверите ли, если бы знал, что потом случится, лучше уж никуда бы не уезжал. Но неведомо нам предназначенное от Господа Бога, и все мы только жалкие слуги Его. То, о чем думал, случилось само собою. Пришли к нам добровольцы, заняли наш городок, постреляли туда да сюда, а потом говорят:
— Отступаем из стратегической цели.
Городским головой был у нас Пимен Карпович Гуля.
— Ну, — говорит Гуля, — не будь я Гуля, если тоже не отступлю.
Поднялась суматоха. Каждый, кто только мог, захотел отступить. Стали собираться и мы с Амалией Алоисовной: продал я ульи свои и породистых кур. Мебель же оставил на сохранение у соседа сапожника. Но как прошелся я по саду, как взглянул на черешню «Воловье сердце» и на персик «Королева Гортензия», екнуло у меня сердце, и заплакал я, точно Адам в первозданном раю. «Не ты будешь кушать все это, Кузьма Данилович, — подумал я про себя. — Другой это скушает, как некая бессмысленная свинья… Эх!»
Что тут рассказывать — сами, вероятно, подобное лицезрели. Так вот и выехали мы из России, и попали в болгарский городок Варну, что на берегу Черного моря. К тому времени стала уже похварывать супруга моя Амалия Алоисовна. От тоски, полагаю, привязалась к ней эта болезнь. Стала она кашлять и таять, хоть и без того была щупленькая на вид. А тут окончились у нас денежные средства и надо было позаботиться о добывании насущного хлеба. Подвернулась мне кстати работа одна: подметать городские улицы. Восемь человек еще русских пристроились на эту работу. Был, между прочим, средь нас и один старый профессор, очень ученый и знающий господин. Бывало, обопрется на метлу, подымет с земли какой-либо камушек и начнет его изучать на ладони. А потом нам объясняет: «Милостивые государи! Этот минерал чрезвычайно редкой породы, да только латинское его название я, к сожалению, позабыл». Очень мы все его уважали. Но, как я уже имел честь доложить, чахла от горя спутница дней моих безотрадных Амалия Алоисовна. Глядя на нее, и я помрачнел. Все же молился по вечерам Господу Богу, чтоб сохранил он ее и укрепил, чтоб продолжил ей жизнь и не оставил меня, старика, в горестном моем одиночестве. Часто охватывало меня отчаяние. Раз, помню, купил я на рынке груши дюшес, любимые ее груши. Пришел вечерком в нашу каморку, а она, как всегда, лежит в уголке и смотрит перед собой так, словно бы видит что-то далекое.
— Амалия, — говорю. — Душенька! Вот я принес для тебя груши.
Но она только лежит и вовсе даже не шевелится. А потом слабеньким таким голоском:
— Кушай их сам на здоровье, Кузьма Данилович.
Словно бы по сердцу ударили меня эти ее слова.
— Да ведь дюшес-то, — говорю. — Дюшес-то. Ты их когда-то любила.
Улыбнулась она печально:
— Если уж так тебе хочется, то я откушу, пожалуй, кусочек.
Однако как приподнял я ее с подушек, раскашлялась она совсем.
— Не могу, — говорит, — Кузя. Плохо мне очень и чувствую боль в груди.
Выбежал я тогда во двор. Была уже поздняя осень. В саду за домом покачивались деревья. И вдруг мне тогда же представилось, что надо что-то такое немедленно изобрести. Мысль у меня такая мелькнула, что ежели не выдумаю чего-то, то непременно лишусь ума. Стою я без шапки среди двора в темноте этой и непогоде, а сам все думаю, думаю. И тут просияло мне словно бы светлым лучиком радостное такое и даже поющее. Ах, господин дорогой, не смею вам передать, но точно меня что осенило. Этот лучик, думаю, не иначе как канареечный хвост. А все вместе взятое — это же и есть сама канарейка. Как бы намеком мне все объяснилось, и вот тогда же пришла мне в голову теорийка насчет канареечного счастья… Схоронил я вскоре свою Амалию Алоисовну и сразу же с похорон зашел в птичную лавку.
— Дайте, — говорю, — мне канарейку, но только самую голосистую из всех. Чтоб она мне пела и днем и ночью, чтоб ни минуточки не молчала, иначе и сам я могу свихнуться с ума.
И тут же выбрал одну, ту, что казалась мне всех веселее. Принес я клетку домой, поставил ее на окно, сел в уголок и слушаю. Поет она, щебечет. «Вот, — думаю, — господин дорогой, и нет никакой России. Ибо если б, скажем, была она, то можно с горя сойти с ума, и не было, — думаю, — никогда моей Амалии Алоисовны, а только сам я ее себе сочинил. Может быть, приснилась она мне случайно». Однако душа у меня еще продолжала болеть, и, будучи таким душевно больным, я очень опасался за собственный разум. Иногда ночью вдруг проснусь на своей постели и сердце у меня начинает быстро стучать. «А что, — думаю, — ежели вправду существует Россия? Что, ежели Амалия Алоисовна на самом-то деле была?» На дворе ветер. Шумит непогода. Луна глядит мне в окно. Сижу я, обняв коленки, и трясусь от тоски. Стал я учить свою канарейку петь по ночам. Свет ей пристроил у самой клетки и даже иногда умоляю:
— Пой, пой, голубушка, старику.
И словно весна расцвела у меня в каморке.
Пало тогда мне на мысль, что обязан я осчастливить не только себя, но и остальных эмигрантов. Да только как объяснишь им эту мою теорийку? Иному расскажешь, а он рассмеется или же просто за сумасшедшего посчитает. И принялся я обдумывать этак и так. Страшно понятно мне было, что я один сохранюсь, когда остальные посходят с ума. Даже весьма подозрительно стал я приглядываться к людям, вот как и к вам я теперь приглядываюсь, господин дорогой. Потому что замечаю: очень вы к газетам охочи. Да только что их читать? По мне, надо бы всем поскорей завести канареек. Чтоб у каждого беженца, например, обязательно канарейка была. Я даже думаю, что уместно иметь по пять экземпляров: два основных и три точные копии. Когда, скажем, основные поют, копии отдыхают в архиве…
Но Кравцов приподнялся с места.
— Кажется, я опоздал, — пробормотал он поспешно. — Извините, я вас должен покинуть.
Пятясь назад, он быстро стал отступать к середине аллеи. Потом внезапно он повернул в сторону и, уже не стесняясь, побежал через площадь. Несколько раз он на бегу оглянулся: старичок все еще сидел на скамье, размахивая в воздухе шляпой.
«Бог с ним… и с его канарейками, — думал Кравцов. — Уж этот, пожалуй, куда пострашней капитана. У капитана хоть знаешь… А такие обычно без всяких предупреждений…» Очутившись уже за углом, он все еще продолжал оглядываться назад. Ему даже почудилось громкое щебетанье канарейки. Но это полисмен, надувшись до красноты, свистел проезжающему мимо мотоциклисту. Откуда-то приваливала толпа. Высохшая до кости гувернантка тащила за руку упирающегося мальчишку. Мальчишка ревел и сопел. Потом из-за угла, поцокивая лошадиными ногами, промелькнула в карете пышная дама. Улица волновалась и шумела. Сквозь густую толпу полированным гробом протискивался покойник. Кравцов, как и все, снял свою шляпу. И тотчас же на макушке его примостилось летнее солнце.
«А ведь сегодня я должен буду подстричься, — поморщился он. — Что за нелепое приказание. Как это глупо. Во всяком случае, я это сделаю только после свидания с Наденькой».
Кто-то толкнул его локтем. Все приподымались на цыпочки, чтоб лучше разглядеть похоронную процессию. Гроб уже приближался. Он полз, как черепаха, посреди улицы, покачиваясь на ходу и повисая в воздухе всеми четырьмя лапами. Сзади него, в погребальной изморози лент и венков, медленно двигался катафалк. И глухой плач, каким выражается предел человеческого горя, долетел до слуха Кравцова.
«Как странно. Как все это странно, — подумал он. — Я буду сегодня с Наденькой, и мне нет никакого дела до посторонних людских несчастий».
«О, негодяй…» — начал было внутренний голос.
Но Кравцов только отмахнулся рукой.
«Фальшивишь, — подумал он почти что злорадно. — На этот раз ты безусловно фальшивишь… Да, да, — честно признавался Кравцов, — я люблю Наденьку, и я счастлив безмерно. Если бы даже все люди превратились теперь в покойников, я продолжал бы оставаться таким же счастливым».
«Ну уж это…» — вновь заикнулся таинственный голос.
Но Кравцов принялся насвистывать веселый и бравурный марш. И так же как в детстве, когда возвращался домой из гимназии, он намечал теперь впереди какую-либо определенную точку, угол дома или решетку ограды и, поравнявшись с тем местом, испытывал странное удовлетворение. «Пусть будет теперь этот фонарный столб», — думал он, прицеливаясь в пространстве глазами. Но столб промелькнул мимо, и надо было снова отыскивать впереди какую-либо дальнюю остановку. Так незаметно он выбрался на широкую улицу, по которой уже проходил трамвай.
XI
Они сходились теперь почти ежедневно, назначая заранее определенное место для встречи. Иногда это был парк, иногда здание центральной почты, откуда уже вдвоем, тесно прижавшись друг к другу, они отправлялись бродить по улицам. Иногда в праздничный день они уезжали трамваем за город и там подолгу гуляли в полях. Наденька говорила ему смеясь:
— Хотите, я научу вас фокстроту?
Она кружила его посреди поля, напевая сама мелодию танца, а он неуклюже переставлял ноги. Он пьянел уже от одной ее близости.
— Нет, видно, легче научить пингвина, — вздыхала она. — Впрочем, вы ведь не виноваты, вы таким родились…
Она была для него загадочным и странным существом, полным противоречий. Иногда, например, в городе, она круто останавливала его перед какой-либо нарядной витриной.
— Что за прелесть! — лепетала она. — Ах, что за прелесть… Вы только взгляните.
И он добросовестно пялил глаза на кружева и тесемки, выставленные в окне, стараясь отгадать, какая именно вещь привлекала ее внимание. Наконец он говорил:
— Да, действительно, эта лента прелестна.
— Эта лента? — Она недоуменно пожимала плечами. — Эта лента может понравиться только вашей будущей горничной.
— Нет, я, конечно, ошибся, — неловко поправлялся Кравцов. — Я хотел сказать — эта сумочка.
Но она глядела на него с видимым состраданием, как на тяжко больного.
— Воображаю, какие подарки будете вы мне дарить потом! — И вдруг она прижималась к нему тесней. — Милый! Я вас за то и люблю, что вы не похожи на всех остальных…
Кравцов был счастлив. Настоящее незримо связывалось у него с днями далекого детства, когда вот так же ярко светило солнце, так же шумели деревья и те же пушинки с отцветающих тополей летели повсюду, подхваченные ветром. По-прежнему он стал замечать тончайшие голоса птиц и стрекотание насекомых, всю пеструю и таинственную жизнь природы, о которой вот уже столько лет он вовсе не думал. И, как все влюбленные, он втайне тяготел к луне, к ее рябому оспенному лику, претворяющему мир в фантастическую феерию. Тогда отливали ртутью далекие кровли домов, в аллеях парка шевелились черные тени, и сама Наденька казалась ему призрачной и нереальной, словно появившейся внезапно из его юношеских снов…
Раз как-то вечером она предложила:
— Не поужинать ли нам вдвоем?
Кравцов согласился весьма охотно. На днях он получил от госпожи Грушко полагающийся ему гонорар за мучеников и героев и теперь чувствовал себя если не богатым, то, во всяком случае, состоятельным человеком. Они вошли в ближайший ресторан, и тотчас же четыре лакея вспорхнули навстречу капустными мотыльками. На потолке торжественно вспыхнула хрустальная люстра. Возникший в углу рояль мгновенно зазвучат под пальцами сонного тапера.
— Поросенок, — сказал обер-кельнер, наклонившись к Кравцову. — Гусь. Телячьи мозги…
И так как Кравцов только кивал на все головой, плохо его понимая, Наденька сама принялась заказывать ужин. Довольно бойко она объяснила по-румынски, что они, в сущности, хотят только слегка закусить. Пара телячьих котлет, например, и жареный картофель — это все, что им надо.
— Не забудьте только принести достаточно хлеба, — сказала в заключение Наденька.
И хотя она говорила нарочито небрежным тоном, опытный кельнер сразу угадал, с кем он имеет дело. Чуть наклонив голову, он сделал знак таперу, и тот оборвал игру, пробежав по клавишам быстрой сороконожкой. Люстра, лиловея, погасла. Справа, на стене, вспыхнул скромный рожок.
— Я закажу бутылку вина, — сказал Кравцов, когда лакей принес наконец еду.
— Это излишняя роскошь. Незачем зря тратить деньги.
Но он стал упрашивать:
— Хотя бы два бокала… Мне так давно хочется выпить с вами на «ты».
Тогда, смеясь, она воскликнула:
— Боже мой! До чего же ты глупый мальчишка!..
И с этого вечера они уже говорили друг другу «ты». Между ними постепенно установилось то чудесное понимание с полуслова, когда разговор казался излишним. Достаточно было кому-либо только подумать, и мысль уже передавалась другому так, словно бы они составляли теперь одно нераздельное целое. И они удивлялись этому, как удивлялись до них миллионы других влюбленных. Они преисполнились нежности к деревьям, домам и людям, ко всему, что их окружало и даже к тому, мимо чего они проходили прежде с равнодушным непониманием. Сидя на солнечном косогоре где-либо в поле, за городом, они глядели в траву и видели иную жизнь, не похожую на все остальное. Из дремучих зарослей лебеды смотрели на них кузнечики круглыми выпуклыми глазами и потом вспархивали внезапно, раскрывая на лету синие и красные крылья. Шныряли муравьи; короткими толчками спускался на паутинке крохотный червячок, извиваясь, как балерина; мохнатый шмель протискивался в нежную воронку полевого вьюнка, благоухающую миндалем… Все вокруг было прекрасно — солнце, небо и облака, но прекрасней всего была радость, которую они носили в самих себе. Когда, усталые и довольные, они возвращались обратно в город, Наденька шептала ему в трамвае:
— Я тебя люблю, люблю…
И он отвечал ей шепотом:
— Я тебя тоже, тоже…
Думая, что никто этого не замечает, они потихоньку пожимали друг другу руки. Потом, выйдя на остановке, они шли мимо освещенных витрин, мимо фонарей над Дымбовицей, попыхивающих ацетиленом, и, наконец, очутившись на площади, они останавливались внезапно, пораженные видом ночного неба. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу. В глазах у Наденьки синим отблеском отражалось сияние звезд. И он видел теперь только смутные очертания ее лица, только силуэт ее шляпки. Ему начинало казаться, что он во сне и что время остановилось в пространстве…
Как-то, после прогулки, Наденька предложила:
— Знаешь что? Мы можем с тобой великолепно поужинать у Глазуновых. Это мои старые знакомые. Я, кстати, давно хотела тебя им представить.
Кравцов не имел ничего против. Ему было безразлично, куда идти и зачем, лишь бы только быть постоянно с Наденькой.
— Имей только в виду, — добавила Наденька, — в доме у Глазуновых нельзя говорить о политике. С тех пор как Петру Иванычу на эмигрантском собрании в Берлине сломали ребро, жена запретила ему заниматься политикой.
Но в мыслях Кравцова и без того царила одна только Наденька…
Глазуновы встретили их весьма радушно. Петр Иванович, напомнивший Кравцову своим сюртуком и всей своей толстенькой фигурой жука-навозника и даже гудевший подобно жуку, сразу же полез целоваться.
— А ну, позвольте-ка, барышня милая, — говорил он, подделываясь под народную речь, — позвольте запечатлеть на ваших щечках отеческий поцелуй.
Курносый и с бородкой клинышком, он походил на деревенского философа, хотя в прошлом был видный земский деятель из лагеря радикалов. И, как большинство политиков, он любил иногда «снизойти» до уровня обычной обывательской жизни, повеселиться, побалагурить, словно желая этим подчеркнуть: «Поглядите, мол, сколько во мне душевного здоровья, сколько непосредственности и простоты, а между тем…» И это «между тем» должно было, по его мнению, угадываться каждым. Глядя на него, Кравцов невольно подумал: «Что за несносный старикашка!» Но Наденька уже представляла его Петру Ивановичу.
— Друзья, — воскликнул Петр Иванович немного в нос. — Пожалуйте в подполье на агитационное собрание!
Он первый рассмеялся собственной шутке и жестом пригласил в столовую. Там уже находилось несколько человек гостей: какая-то дама, похожая в профиль на бронтозавра, и с такой же, как у этого древнего ящера, морщинистой и длинной шеей, седенький старичок, страдавший одышкой и все время по-рыбьи раскрывавший рот, два экс-молодых человека не первой эмигрантской молодости, оба, как близнецы, схожие друг с другом одинаковым выражением своих физиономий, и, наконец, хозяйка квартиры Лидия Андреевна Глазунова. А по стенам, как отголосок гомерически древних времен, — портреты Герцена и Льва Толстого, картина сибирского тракта с бредущими по колено в снегу арестантами, Шильонский узник, кормящий крошками воробьев, и покушение на жизнь императора Александра Второго.
— Господа! Объявляю собрание открытым, — все еще балагуря, гудел Петр Иванович. — На повестке дня доклад товарища Наденьки о парижской… — Он на секунду остановился. — Вы думаете уже, что о Парижской коммуне? А вот и не угадали — о парижской косметике.
Молодые люди весело и одновременно осклабились. Седенький старичок обнаружил вставную челюсть. Дама просияла искусственным золотом.
— Итак, товарищ Наденька, за вами слово.
Но жена махнула ему рукой:
— Дай же им закусить и напиться чаю. Экой ты право!..
И она сама положила на тарелку Кравцова кусок холодной телятины. За столом постепенно завязался общий разговор. Старичок, как после выяснилось, служащий одной погребальной конторы и в прошлом тоже видный радикал, пустился рассказывать о происшедшем недавно курьезном случае. Какой-то буржуа пришел к ним в контору и заказал гроб для своего умирающего родственника. А родственник возьми да и выздорови. Теперь погребальная контора, приготовившая все для похорон, требует от заказчика возмещения убытков. Заказчик же оказался парень не промах. «Хорошо, — говорит. — Я заплачу. Но только и вы должны выполнить ваши условия. Вы доставите мне на квартиру гроб и я в него лягу, как настоящий покойник. Потом в катафалке и под музыку вы меня честь-честью отвезете на кладбище. А там уже я воскресну из мертвых и возмещу ваши расходы».
— Ах, молодец! — смеясь, воскликнул Петр Иванович.
Наденька наклонилась к Кравцову.
— Подвинь сюда блюдо с ватрушками, — шепнула она. — Да не стесняйся, ешь сам и побольше.
— Мерси, я ем, — ответил он шепотом.
Он наблюдал теперь за госпожой Глазуновой и думал тайком про себя, что никогда, никогда не женился бы на женщине, у которой на носу вот такая крупная бородавка. А что, если и у Наденьки вырастет бородавка? Но он отогнал эту мысль.
«Ну, а что, если все-таки вырастет? — Он представил себе Наденьку с бородавкой на левом ухе. — Да, это было бы весьма неприятно…» А мысль все вертелась и мучила: «Ты не на ухе представь, ухо ведь что — чепуха. Ты на носу у нее представь, на носу. Что, не нравится на носу?»
«Ну и пусть на носу», — нехотя согласился Кравцов. И представив наконец на носу у Наденьки бородавку, он тотчас же поспешил сам ее уничтожить. «Экая ерунда лезет в голову», — подумал Кравцов.
Петр Иванович между тем гудел:
— Должен еще сообщить, что на каторге, — и было заметно, что он произносит эти слова с тем самым значительным выражением, с каким старый профессор говорит: «У нас на юридическом факультете», — у нас на каторге произошел вот какой случай…
Кравцов, однако, уже не слушал того, что говорил Петр Иванович. Глядя на картину, изображающую сибирский тракт, на оснеженные ели и сосны, на тщательно вылизанные кистью художника бураковые лица бредущих по снегу арестантов, он думал, что, должно быть, на каторге было и сытно и интересно. Еще недавно, просматривая у Федосей Федосеевича на складе «Записки из мертвого дома», он несколько раз с удовольствием перечел то именно место, где описывался обед каторжан. Ах, хорошо они ели! Каждый день непременно горячие щи. Это не то, что питаться, как он, всухомятку… Потом глаза его обратились в сторону Наденьки, и он вдруг заметил, что она говорит с одним из подобных друг другу экс-молодых людей.
«Что ей за удовольствие кокетничать с ним? — подумал он раздраженно. — Как ей только не стыдно!»
Настроение его резко ухудшилось. Сам того не замечая, он сидел с кислым и даже мрачным лицом.
— Вы, должно быть, тоже социалист? — любезно обратилась к нему госпожа Глазунова. — Я это к тому говорю, что лицо у вас совершенно эсеровское. Наше у вас лицо.
Кравцов хотел было возразить ей, что она ошибается, принимая его за эсера, но Наденька предупредила его, вмешиваясь сама в разговор.
— Не правда ли? — воскликнула она. — У него лицо террориста. Так и кажется, что вот-вот швырнет в кого-нибудь бомбу.
Все рассмеялись, Петр Иванович покровительственно взглянул на Кравцова.
— В наше время, — загудел он, — террористы были святые люди. Великие люди. Желябов, например… Сазонов… И еще многие другие. Царь их казнил и вешал, бил кнутом и ссылал в Сибирь, а они и там продолжали борьбу за правое дело. Они не боялись царя, — повышая голос, гудел Петр Иванович. — Они убивали царских сатрапов — жандармов и генералов, сановников и бюрократов, вообще всю эту царскую нечисть. Они шли на смерть как святые, как мученики, а Россия, — и при этих словах Петр Иванович усмехнулся с горьким сарказмом, — а Россия встречала их виселицами и кандалами.
— Петруша! — попыталась было удержать его Лидия Андреевна. — Ты же знаешь, что тебе нельзя волноваться.
Но Петр Иванович был подобен карусели, которая, закрутившись однажды, уже вертелась сама собой.
— Это были герои, — говорил Петр Иванович. — Корифеи. Они не страшились катов и виселиц, не боялись царской кутузки. Они шли умирать за народ в рудники, на каторгу, в ссылку. А деспот пировал в кровавом дворце, тревогу вином заливая, и грозные буквы давно на стене чертила рука роковая.
— Петруша! — снова воскликнула Лидия Андреевна.
Но Петр Иванович вертелся уже вовсю и остановить его было делом весьма нелегким.
— Герои и мученики, — гудел Петр Иванович. — Светочи русского самосознания на путях к свободе. Титаны мысли. Богатыри, не вы…
Но, на счастье, в передней вдруг резко задребезжал звонок. В комнату вошел новый гость, сразу поразивший Кравцова своим румяным и свежим лицом, хотя, судя по седине, ему было лет около пятидесяти.
— Обрати внимание, — шепнула Наденька. — Это видный толстовец Трофимов. Он в Бухаресте только проездом.
Трофимов вошел, потирая руки, словно на дворе была не душная июньская ночь, а крещенский мороз. Губы его раздвинулись, обнажая в улыбке ряд крепких белых зубов, и все лицо приняло вдруг умильное выражение.
— Здравствуйте, господа, — сказал он сладеньким голосом. И тут же глаза его остановились на блюде с телятиной. — А вы все трупоедством занимаетесь, многоуважаемый Петр Иванович, — сказал он, укоризненно покачав головой. — Ах, как это стыдно! Как это нехорошо! Вы только подумайте… Жил-был на свете теленок. Махонький такой, крохотный теленочек. Прыгал он себе на лужайке да хвостиком этак размахивал туда и сюда. — Трофимов для очевидности помахал в воздухе пальцем, изображая телячий восторг. — А вы, Петр Иванович, явились с длинным ножом и хвать его по горлышку, чик-чирик его по шейке. Ай, ай, как это бессердечно.
В голосе у него даже послышались слезы. Петр Иванович, вонзивший было челюсти в телячью ножку (у него всегда после речей и политических прений разыгрывался отменный аппетит), так и застыл в плотоядной позе, не зная, как ему поступить с застрявшим в горле куском — то ли его проглотить, то ли потихоньку выплюнуть на пол. Но на защиту его поднялась Лидия Андреевна.
— Вы же знаете, Валерий Фомич, — сказала она, заискивающе улыбаясь гостю, — вы ведь знаете, что мы оба всецело на стороне прогрессивных идей. Как радикалы мы и не можем мыслить иначе. Но после того ужасного случая, после того увечья (помните, я вам рассказывала?) врачи приказали Петру Ивановичу есть непременно мясо. И вот он ест. С отвращением, правда, и без всякой охоты, но ест, ест — что же поделаешь!
Петр Иванович, проглотивший наконец свой кусок и даже облизавший языком губы, при этих ее словах только грустно развел в воздухе руками. «Поглядите, мол, — выражало его лицо. — И рад бы питаться артишоками, но уж если врачи приказали мне есть телятину, то вы, господа, не взыщите».
— Ну разве что по болезни, — снисходительно сказал Трофимов. — А все-таки, господа, лучше бы обойтись без убийства. Мне вот и блоху жалко иногда раздавить.
Глаза его остановились где-то в пространстве с таким восторженным выражением, будто он видел теперь миллионы счастливых блох.
— А вот я так бью их без всякого сожаления, — сказал неожиданно один из экс-молодых людей.
Но Лидия Андреевна не дала ему возможности продолжать.
— Вы лучше помолчите, Володя, — заметила она довольно сухо. — Вам, как бывшему белогвардейцу, может быть, и человека убить нипочем.
И желая, очевидно, замять политический разговор, она обратилась к Трофимову:
— Надолго ли к нам в Бухарест, Валерий Фомич?
Воркуя, как горлица, Трофимов стал излагать свои планы на будущее. Конечно, долго он здесь не останется. Ему уже предложили прочесть несколько лекций в Германии, а оттуда он, вероятно, уедет в Америку к духоборам. Кроме того, он побывает перед отъездом у некрасовцев на Дунае. Разговор стал общим. Старичок с искусственной челюстью припомнил собственную свою поездку в Америку лет сорок пять тому назад. И совсем неожиданно заговорила молчавшая до сих пор дама.
— Ах! — сказала она. — Ведь это…
— Да, сорок пять лет тому назад, — повторил старичок не без гордости.
— Ах, ах! — воскликнула дама. — Ведь это же ах! Это же ах как было давно!
Кравцов уже делал Наденьке знаки, не пора ли им уходить. Но Петр Иванович совсем некстати разразился длительным монологом по поводу важности человеческих мемуаров вообще, а мемуаров социалистов-революционеров в особенности. Конечно, сам лично он еще не собирается писать мемуары. Для этого он не так еще стар и у него не все позади. О, далеко не все! Ведь новая Россия будет нуждаться в хороших ораторах, и там он еще поговорит, несомненно.
— Я вообще не успел высказаться до конца, — заявил Петр Иванович. — Да и кто же из нас успел? Все мы готовились к Учредительному собранию…
Он вдруг чихнул и, достав из кармана платок, высморкался протяжно, как саксофон. Наденька и Кравцов встали из-за стола.
— Вы это что же? — спросил Петр Иванович.
Ему как раз хотелось теперь высказать перед молодежью то именно, чего не удалось высказать на Учредительном собрании в России. И он представлял уже себе эффектный конец речи, что-нибудь, например, из Короленки, вроде того, что «а все-таки, все-таки впереди огоньки», или даже так (и тут он почувствовал сладкое сердцебиение): он мог бы закончить трогательным прощанием с молодежью. А потом, все из того же Короленки, эффектный конец… Довольно, мол. Прощайте… «Старый звонарь отзвонил»…
— Уже поздно, — сказала Наденька. — Надо идти домой.
Петр Иванович слегка насупился:
— Ну что же, не смею удерживать.
И он, должно быть, подумал при этом: вот, вот она, нынешняя молодежь. Ничто им неинтересно. Подумав так, он умилился своему беспощадному анализу, как умилялся не раз в жизни, справедливо считая свой ум строго аналитическим. Прощаясь, однако, с Наденькой, он не преминул ее все же облобызать.
— А ну, позвольте-ка, барышня милая, — проговорил он, — позвольте запечатлеть на ваших девичьих щечках отеческий поцелуй.
Растопырив руки, он заключил в свои объятия Наденьку.
— Эх, завидно даже смотреть, — сказал седенький старичок. — Меня никогда так барышни не целовали. А уж на что, кажется, добрый молодец.
И он не засмеялся, но заскрипел, как сухое дерево на погосте.
— Слава Богу, — облегченно вздохнул Кравцов, когда они с Наденькой выбрались наконец на улицу.
Наденька рассмеялась. Она взяла его под руку и, все еще смеясь, заглянула ему снизу в лицо.
«Ластится теперь, — подумал Кравцов. — А там все время кокетничала с тем…»
Он удивился сам неприятному и тягостному чувству, подымавшемуся у него в душе.
— Ты чем-то недоволен, — сказала Наденька. — Лучше признайся сразу. Терпеть не могу надутых.
Тогда, с присущей ему откровенностью, он сказал ей, что она кокетка, что он, вообще, все видел, что обмануть его невозможно и что у нее…
Но она резко выдернула от него свою руку:
— Может быть, ты ревнуешь? Может быть, ты настолько глуп?.. И я сказала ему всего несколько слов за чаем.
— Ты не несколько слов… Ты с ним целый вечер, — проговорил Кравцов странно задрожавшим голосом. — Все это было так… — он хотел сказать «отвратительно», но почему-то выговорил «отворительно».
— Ну хорошо. Прощай! — сказала вдруг Наденька и повернулась к нему спиной.
Она быстро пошла в ту сторону, откуда они только что пришли вдвоем, поблескивая на ходу лакированными каблучками. Тени бесшумно хлестали ее сзади черными прутьями, пока наконец она не исчезла за поворотом. Кравцов остался один у чужого крыльца, ставшего вдруг язвительно близким. Сквозь раздвинувшуюся гущу деревьев любопытно заглянула луна. Он снял для чего-то шляпу, и теплый ветерок с фальшивой ласковостью пробежал у него по лицу.
Еще с минуту он слышал удаляющиеся шаги. Потом наступила гнетущая тишина. Только над головой дремотно зевнуло дерево да откуда-то издалека донеслось ржавое повизгивание позднего трамвая.
«Неужели конец?» — безнадежно подумал он. И внутренний голос злорадно ответил: «Теперь конец, несомненно». В памяти у него почему-то возникла нелепая фраза: «Наука умеет много гитик». «Да, есть такой карточный фокус, — припомнил он. — Много гитик… Наука умеет. Ах, Боже мой!»
Мысль, что он может ее потерять, потерять навсегда, представлялась ему чудовищной. Он сам теперь казался себе отвратительным и мелочным, как тот лавочник, о котором он думал недавно.
Он медленно побрел мимо спящих домов и, очутившись за поворотом, вдруг остановился снова, бессмысленно глядя на белую, как мел, луну. Она висела высоко над городом, рассыпая по крышам тысячи отражений. Она закругляла верхушки деревьев, словно вырезывая их из черной бумаги. Она выращивала из земли множество бугорков и возвышенностей, может быть, только затем, чтоб шутя прикрепить к ним черные хвостики. Решетки оград покорно легли на землю. Темная выбоина на тротуаре, куда он случайно попал ногой, ухватила его звериной пастью, и Кравцов прошептал: «Черт побери», думая, что теперь уже все равно и что хуже ему не будет. И вдруг он увидел Наденьку, идущую к нему навстречу, но шла она как-то стремительно и еще издали обратилась к нему с совсем неожиданными словами.
— Только такой, как ты, — задыхаясь, сказала она, — только такой, как вы, мог ночью покинуть на улице даму. И вы должны меня проводить, слышите?
У Кравцова от удивления вытянулось лицо.
— Но ведь я… — начал было он.
— Вы должны меня проводить, — перебила она его. — И я говорю с вами строго официально. При малейшей с вашей стороны фамильярности и даже при попытке взять меня под руку я позову полисмена.
— Наденька! — воскликнул Кравцов.
— Вы можете даже идти позади, — сухо проговорила она. — Так будет, пожалуй, лучше. — И тут же она зло объяснила: — Ваша шляпа уже одним своим видом привлекает толпы прохожих. Не шляпа, а какой-то лопух! А туфли… ха-ха! Это шедевр сапожного искусства. Вы, впрочем, и ведете себя подобно сапожнику. Но что же вы стоите, как истукан?
Он не нашелся, что ей ответить, и только снова воскликнул:
— Наденька!
— Меня зовут Надежда Сергеевна, — раздраженно сказала она. — И между нами все кончено. Неужели вам до сих пор это не ясно?
Но он не хотел ничего понимать, он стоял перед ней растерянный и ошеломленный. Наконец он попросил извинить егоза шляпу и туфли. Он сознает сам, насколько Наденьке стыдно идти с ним вместе по улице.
— Но я сэкономлю на чем-нибудь и тогда куплю себе новую шляпу. Даже, пожалуй, так: я буду продавать часть получаемых за уроки консервов. Я, вообще, привык к голодовкам и это для меня совсем пустяк. Что же касается туфель… — Он вдруг удивленно почувствовал на своем плече ее руку. — То я мог бы…
Но маленькая и теплая ладонь зажала ему рот. Потом и другая рука обвилась вокруг его шеи и он услыхал тихое всхлипыванье. Знакомое до жути лицо придвинулось к нему вплотную, и он увидел губы, искривленные судорожной гримасой.
— Я дрянь, дрянь, — разрыдалась внезапно Наденька. — Ах, какая же я мерзкая, мерзкая дрянь!
— Это я дрянь, — поспешил ее утешить Кравцов. — И я был так отвратителен со своей глупой ревностью.
Между ними произошло трогательное примирение.
«Как я только мог усомниться?» — думал теперь Кравцов, почти держа в своих объятиях Наденьку.
А она все еще повторяла:
— Я знаю, что я… я знаю… — Но уже улыбалась сквозь слезы. Наконец, она взяла его под руку. Они пошли, тесно прижавшись друг к другу, и рядом с ними побежала двуглавая тень. Но вот тень, покачнувшись, остановилась.
«Наука… — блаженно подумал Кравцов, — умеет… — и весь мир, закружившись ослепительным диском, растворился в ее поцелуе, — много гитик», — подумал Кравцов, закрывая глаза.
XII
Федосей Федосеевич получил наконец французскую визу. И хотя имя его было слегка переврано и въезд во Францию разрешался собственно какому-то мифическому Федолею (Fedolej Vorotnikoff — стояло в бумаге), но, в конце концов, все это было неважно. Отныне в любой день и час он мог отряхнуть прах бухарестских улиц, и уже одно это сознание свободы, одна эта возможность подобно ясному соколу взвиться и полететь наполнили его восторгом.
— Мой юный друг! — сказал он Кравцову. — Передо мной только одна дилемма: погибнуть в пустыне или вернуться назад богатым набобом. Я, кстати, узнал недавно, что укус рогатой гадюки вовсе не так опасен. И если верить тому, что говорит Фабр о термитах…
Он был переполнен всевозможными сведениями, как честный Бедекер. Названия негритянских сел, имена путешественников и колониальных царьков чередовались у него с латинскими наименованиями трав и животных, деревьев, птиц и цветов. Несколько дней он потратил даже на составление подробного плана, как и откуда ему начать свое путешествие, когда пароход прибудет в Тунис.
— Цветные ленты и бусы я закуплю, пожалуй, в Марселе, — рассуждал вслух Федосей Федосеевич. — Там же, кстати, я приобрету себе пробковый шлем.
Он говорил, расхаживая по комнате из угла в угол, по-наполеоновски заложив назад руки и как-то вновь преображенный. В глазах у него появился мелькающий огонек, и Кравцов припомнил по странной ассоциации виденное им когда-то в детстве желтое казенное здание и на лужайке, внутри ограды, полосатых людей, бродящих туда и сюда. Потом, стирая как губкой это воспоминание, он подумал о том старичке в выцветшей шляпе («Как его… Клопи… Клопин…») и о необычной теории счастья, которую тот ему проповедовал.
— А на Канарских островах, — продолжал говорить Федосей Федосеевич, — разновидность Tamarix canariensis встречается повсеместно. — И тут же, словно угадывая мысли Кравцова, он вдруг разразился классически трезвой тирадой по адресу бесплодных мечтателей. — Мой юный друг, — сказал Федосей Федосеевич. — Мне до тошноты надоела наша исконная русская беспочвенность, вся эта романтика и постоянная погоня за легендарным журавлем в небе, когда проще и целесообразнее получить в руки синицу. Но синицу ведь тоже еще нужно поймать. И я поймаю ее, мой друг. Я ее поймаю где-нибудь в дебрях Африки, за тысячи миль от ближайшей почтовой станции, может быть, у истоков Замбези или на берегах озера Чад. Не подумайте только, что я явлюсь туда в качестве жестокого завоевателя, хитрого и наглого торгаша, все аргументы которого заключены в дуле револьвера. Я, конечно, буду реален, и, может быть, даже беспощадно реален. Но я принесу с собой квинтэссенцию современной культуры, огромный политический опыт, накопленный в изгнании, — как раз то, чего так недостает чернокожим. Ведь вы не поверите, — и тут Федосей Федосеевич подошел к столу, — вам может показаться это почти невозможным, но я урвал от себя клочок драгоценного времени, чтоб помимо чисто практических выкладок составить для негров проект конституции. Ах, друг мой! — и Федосей Федосеевич взял со стола лист бумаги. — Здесь, на этом сравнительно небольшом клочке простой писчей бумаги, трезвые выводы практического ума. Здесь уже нет заблуждений российского Временного правительства, и вопрос о тайном голосовании разработан мной по новейшей европейской системе. Я уничтожил, конечно, смертную казнь, ибо считаю ее пережитком темного варварства, но в то же время я разработал согласно с идеей Гааза гуманитарный план исправительных учреждений. И вот это я понесу туда в качестве компенсации. Честно и прямо я заявляю негритянским вождям: вот вам мой опыт, мои знания — возьмите их у меня, как пчела берет мед с расцветающей липы. Я же за это возьму у вас слоновую кость.
Федосей Федосеевич подошел к окну и устремил свой взор куда-то за вечереющие кровли домов. Потом, повернувшись к Кравцову, глядя на него сквозь очки все теми же вспыхивающими глазами, он повторил:
— Слоновую кость…
И, как бы очнувшись от сладкого сна, он провел ладонью по своей седой, совершенно серебряной гриве.
Такие разговоры, вернее монологи, так как Кравцов был только безмолвным слушателем, происходили теперь довольно часто. Следует еще отметить, что на географической карте появился новый ряд синих флажков, загибающийся куда-то на восток от Дакара. Когда Кравцов спросил у Федосей Федосеевича, не думает ли он повторить рейд Ливингстона, пройдя сам поперек Африки, старик только покачал головой.
— Ливингстон был неисправимым романтиком, — сказал наконец Федосей Федосеевич. — Он был типичным интеллигентом со всеми слабостями, свойственными этому классу. И не нам, закаленным в огне революции, следовать его примеру. Нет, нет, конечно, я не пойду по его стопам. Бессмысленно лезть в область, пораженную желтой лихорадкой, раз есть возможность избрать наиболее безопасный путь. И я возьму в качестве проводников негров из племени сомали. Эти люди, судя по описаниям, похожи на тургеневских мужичков, на добродушных Калинычей, всегда готовых оказать вам услугу. А мне не хотелось бы, мой юный друг, прибегать к грубой силе. Я уже говорил вам не раз и теперь повторяю опять: главным оружием культурного человека должно быть всегда только слово.
Федосей Федосеевич мог говорить беспрерывно.
Однажды, когда душным июльским вечером Кравцов, как обычно, зашел на склад, Федосей Федосеевич встретил его совсем непонятной фразой.
— Уанга, — сказал он, глядя в упор на Кравцова. — Лапата куринга акор лала лулу. — Потом, улыбнувшись счастливой улыбкой, он объяснил — Это пока только предварительные упражнения. Я их составил сам, желая приучить свой язык к новой тональности речи. Ведь мне придется, мой друг, изучить жаргон дикарей.
И он произнес одним духом:
— Лухавара ай-ай дудун га сюсюкика.
Глядя на его счастливое лицо, Кравцов ощутил даже мимолетную зависть, какую-то неопределенную тоску по далеким странам, может быть, то смутное желание, которое бродило в его душе со дней раннего детства. Но тут же он подумал: «А Наденька?» И все эти фламинго, папирусы и лотосы вдруг потускнели, сморщились, как догорающий в камине клочок газетной бумаги. Он уже дошел в своей любви до той наивысшей степени счастья, когда само это счастье начинает пугать безмятежной своей ясностью и простотой, заставляя подчас усомниться в собственном существовании. «Cogito ergo sum[47],— думал не раз Кравцов, шагая по улице. Иногда он вырывал у себя волос и, почувствовав мгновенную боль, успокоительно мыслил: — Все это правда, правда… Я люблю Наденьку и она любит меня…»
Впрочем было еще много других признаков несомненности всего того, что с ним происходит. Так же, как десять, как пятнадцать лет назад, пахла на солнце зеленая краска палисадника, источая в воздух терпкое вещество, известное под радостно-бешеным именем скипидара. И когда по утрам он просыпался в своей постели, на потолке акробатически ползали мухи; в графине воды переливался лиловый мираж; извне, пересекая комнату, тянулась широкая полоса света, и в ней беспрерывно вертелись тысячи разноцветных пылинок… Иногда, впрочем, он испытывал необъяснимое беспокойство, безотчетный страх перед чем-то, что вот-вот может случиться. Он сам казался себе неловким жонглером, способным уронить ежесекундно хрупкий сосуд. И у него как-то утончились чувства и восприятия, словно он шел по узкому мостику, переброшенному на солнце. Он мог с закрытыми плотно глазами ощущать позади себя любопытные взгляды предметов, он чувствовал, например, бородатое добродушие метлы и лебединую гордость черепяного чайника. В нем самом ширилась и росла доброта. Даже к мышеловке, которую все же ему пришлось завести, он испытывал нечто вроде ласковой снисходительности: «Шалишь, мол, плутовка, а я тебе это прощаю…» Мышей, впрочем, он выпускал за окно, и они возвращались обратно и уже без всякой застенчивости лезли наперебой в проволочную загородку, относясь к ней, как к дешевому ресторану.
Федосей Федосеевич завел нечто вроде трудового календаря, куда заносил все то, что необходимо было исполнить в ближайшее время, а также выписки из различных книг и журналов.
— Мне претит русское разгильдяйство, — говорил он Кравцову, — наша бессистемность и роковая вера в «авось». Мы привыкли, мой друг, глядеть на действительность сквозь розовые очки. А ведь этот именно азиатский оптимизм, в конце концов, погубил Россию. Мне суждено, очевидно, быть зачинателем новой эры, предтечей здравого смысла. Не подумайте только, что трезвость и ясность мышления исключает совершенно чувство прекрасного. О, конечно, нет! Отнюдь нет. Почему, например, и я не могу любоваться цветущей агавой? Может быть, даже, остановив караван посреди безлюдной равнины, я уделю каких-нибудь полчаса созерцанию далекого миража. Но любуясь миражем, я останусь все тем же деловым человеком. И в этом мое преимущество перед другими.
Говоря так, Федосей Федосеевич делал несколько шагов по комнате, словно и впрямь шел уже впереди каравана. Иногда, подойдя к Наденьке, он диктовал ей деловым тоном заимствуемые из книг статистические таблицы. Столько-то алмазов добыто в бурской земле, столько-то градусов тепла бывает на Мадагаскаре, столько-то минут бегемот может провести под водой, и так далее, и так далее, пока, наконец, все эти цифры не начинали казаться ей ползающими по бумаге термитами. Глядя со стороны на Федосей Федосеевича, Кравцов поражался тому запасу энергии, какой был заключен в этом довольно-таки тщедушном теле.
— Мы живем в жестокое время, — говорил Федосей Федосеевич. — В суровое и беспощадное время естественного подбора.
И он развивал вслух теорию Дарвина, подкрепляя ее десятками примеров. Он говорил о том, что за право на жизнь нужно бороться руками и ногами, что Россию вообще погубила романтика и что в каждой русской душе звучит постоянно цыганская гитара.
— Под гитару, милый мой юноша, мы прожили несколько десятилетий. И, что хуже всего, мы до сих пор еще живем под гитару.
Федосей Федосеевич был особенно хорош в эти минуты гражданского негодования, когда на щеках его проступал яркий румянец и весь облик принимал вид воплощенной укоризны. Впрочем, большую часть времени он был занят теперь подготовкой к отъезду.
— В сентябре я должен закончить все свои сборы, — объявил наконец Федосей Федосеевич. — Ах, друг мой! — и он обнял Кравцова за талию. — Мне пришла недавно на мысль замечательная идея. Вы обратили, должно быть, внимание, что в последнее время европейские дамы носят ручные сумочки, сделанные из змеиной кожи. И вот я подумал: почему бы, очутившись в Африке, мне не заняться попутно охотой на змей? Конечно, я понимаю, насколько это занятие опасно. Может быть, даже какая-либо тропическая гадюка ужалит меня в зарослях алоэ. Легко может случиться, что я погибну в объятиях удава, стиснутый его железными кольцами, задыхающийся и одинокий…
В таких рассуждениях прошел весь июль. Федосей Федосеевич покончил наконец с научными заметками и все свое внимание обратил на поиски выгодного купца, которому он мог бы без особых убытков продать книжное дело. Наденька выстукивала на машинке список имеющихся в наличности книг, проставляя внизу цену, подводя итог и думая при этом, как и что будет с ней самой, когда Федосей Федосеевич уедет в Африку и она лишится работы. Иногда из пугающей ее неизвестности появлялось заманчивое видение: они уже поженились с Кравцовым и они сидят за столом в своей уютной комнате.
«Я заставлю его купить лакированные туфли, — думала Наденька, отрываясь от работы. — В парусиновых он невозможен».
Она тянулась всей душой к простому и незамысловатому счастью, слишком уже искушенная жизнью, чтоб требовать большего.
«Было бы также недурно, чтоб на окне висели гардины. У Миловидовых, например, — мечтала Наденька. — Кстати, я еще не была вместе с ним у этих… Трактат о ядовитых гадюках — один экземпляр… пять экземпляров Шатобриана… У этих добрых… И самое главное, самое главное — чтоб никогда уже больше не голодать».
XIII
У Кравцова бывало не раз, что из давно позабытых дней возникал на мгновенье какой-нибудь отдельный момент, одна какая-нибудь мелкая и незначительная деталь, тщательно сохраненная памятью. То вдруг он видел снежное поле с голубым санным следом, ведущим через дорогу, и справа на пригорке обледенелый кустик травы, пошатывающийся во все стороны, — видение двадцатилетней давности, пронесенное неизвестно зачем через годы революции и войны, — то летнюю грозу с шумящим за окном ливнем и цинковый желоб на углу дома, выплевывающий с однообразным цоканьем мутную струйку воды… И когда он хотел связать эти воспоминания с определенным периодом своей жизни, он только еще больше их уточнял, словно бы кто шутя издевался над его попыткой.
«Почему же я помню все это? — удивляясь, думал Кравцов. — И не как-нибудь помню, а именно так…»
И он уже видел не только дождевой желоб, но и ту давнюю лужу, подернутую ветреной рябью, и розового червя, извивающегося на ее неглубоком дне, все то, что могло бы восхитить современного беллетриста и что казалось ему непостижимой тайной. Ведь этого нельзя было рассказать даже Наденьке. Он впервые теперь осознал, что в душе у него есть отдельная, ему одному известная область, таинственная перегородка, уединяющая его от остальных. И когда он пытался ввести туда Наденьку, она только улыбалась в ответ на его слова, ибо слова были бессильны передать то, что он чувствовал, они лежали в одной плоскости, подобно тщательно вымеренным геометрическим фигурам.
— Ты действительно странный… странный, — смеясь, повторяла Наденька.
И было заметно по ее лицу, что она не понимала того, что он пытался ей объяснить. Сначала это его испугало. Потом он стал находить особое удовольствие в том, что у него есть скрытый ото всех тайник, куда можно было складывать свои сокровенные мысли. По вечерам, у себя в комнате, он подолгу мечтал впотьмах, припоминая последнюю встречу, воссоздавая только что промелькнувший день — деревья, дома, облака, глухую аллею парка, скамью, на которой они сидели вдвоем, великолепную ночную бабочку, спугнутую ими по дороге со ствола старого дерева (он тогда же подумал, что это, должно быть, Красная орденская лента), и то, как она нервно кружила в воздухе, зигзагами спускаясь вниз.
Потом они шли по аллее, освещенные пламенем заката; летучая мышь, вылетевшая не в пору рано, рисовалась своей чертоподобной головкой на совершенно еще светлом небесном фоне. Наконец они остановились.
«И вот тогда, вот тогда…» — думал Кравцов со стесненным дыханием и почти пугаясь собственных мыслей.
С запечатленной навеки ясностью он увидел вырез ее летнего платья и под ним, из-за легчайшего кружева, небольшие круглые груди. Он их увидел случайно, опустив вниз глаза.
«И я не должен об этом думать», — убеждал себя мысленно Кравцов…
Но все-таки он продолжал думать об этом. Он уже хранил в памяти карамельный вкус ее поцелуев, упругую податливость губ, и в нем росло пугающее его чувство. Однажды, когда они сидели вдвоем в укромном уголке Чисмеджиу, Наденька вдруг сказала:
— Мне кажется, что нам пора подумать о будущем.
На щеках ее проступил легкий румянец.
— Да, да, — быстро согласился Кравцов. — Мы могли бы… наконец пожениться. Я утром переговорю со священником.
Но она смущенно расхохоталась:
— Какой же ты глупый!
— Нет, почему? — растерялся Кравцов. — Мы можем найти подходящую квартиру. Собственно, даже комнату, большую и для двоих.
Воображение тотчас же нарисовало ему эту комнату и в уголке у окна Наденькин туалетный столик, за которым по утрам она будет причесываться стоя… «О, Боже мой! Сорокопут… Сорока… в одной… Сорокоуст… сорочке. В одной сорочке…» Он сам ущипнул себя за руку и, глядя на Наденьку, мучительно думал: «Только твое лицо. Только лицо… И ничего больше. И… минус все остальное». Но все остальное представилось ему внезапно с огромным плюсом в бесстыдной и ослепительной наготе. Он ущипнул себя опять, даже поморщившись на этот раз от боли.
— Недели через две, — сказала Наденька, вовсе не подозревая того, что творится в его душе, — после отъезда Федосей Федосеевича за границу. Но за это время ты должен непременно подыскать для себя работу.
— О, нет, — испуганно воскликнул Кравцов. — То есть, о, да! Но две недели это слишком… Две недели слишком длительный срок. Я хотел бы дней через пять.
Но она настаивала на своем:
— Нужно все приготовить. И не так-то легко найти подходящую комнату.
Встречаясь теперь, они говорили о предстоящей свадьбе, обсуждая вдвоем каждую мелочь, прикидывая в уме расходы и решив, наконец, повенчаться втихомолку, без друзей и знакомых.
— Мы не могли бы всех накормить, — трезво рассудила Наденька. — Особенно таких. Ведь большинство наших знакомых постоянно недоедает. Что же касается шаферов, то лучше всего попросить совсем посторонних людей. Это нас избавит, по крайней мере, от свадебного ужина.
Слушая Наденьку, Кравцов восхищался ее практичным умом, способностью находить для всех случаев жизни правильное решение.
«А в сущности, — подумал он, самодовольно потирая руки, — мы из ничего сделаем приличную свадьбу».
— Меня только смущает твой пиджак, — продолжала говорить Наденька. — Для жениха он просто невозможен. И где его тебе так отвратительно сшили?
— Не мне его сшили, — смущенно признался Кравцов. — Семену Ивановичу сшили. Ты его, впрочем, не знаешь, он в Кишиневе. От Семена Иваныча пиджак перешел ко мне.
— Туфли твои тоже весьма плохи, — сокрушенно заметила Наденька. — Ведь никто никогда не венчался в парусиновых туфлях…
У них появилось теперь много неотложных забот, но каждая из этих забот являлась для них источником радости. Поиски комнаты увели их на окраину города, и они бродили по пустырям вдоль деревянных заборов, среди босоногой уличной детворы и позеленевших от злости, допотопно булькающих индюков, усталые, но счастливые, с обгоревшими на воздухе лицами. Иногда, проголодавшись, они заходили в дешевую кантину: здесь было прохладно и тихо; на стене мелодично постукивали железные часы; портрет премьер-министра в засиженной мухами позолоченной раме глядел на них покровительственно и добродушно. И, щурясь от закатного солнца, они ели поджаренные ломтики колбасы, запивая еду дешевым вином.
«Если бы я был премьером, — думал Кравцов, — я бы всегда ужинал так хорошо, как сегодня».
Выпитое вино и близость сидящей с ним рядом Наденьки, теплый августовский вечер, струящийся сквозь окно, — все располагало его к тем сокровенным мыслям, для которых в душе имелся особый тайник.
«Вот я скоро женюсь… Поженюсь…»
И он удивлялся теперь, как это раньше он не подумал о такой поразительной странности.
«Я именно… и женюсь. Женитьба….»
Ему вдруг стало жаль всех этих предметов, которые останутся здесь в ресторане, когда они с Наденькой расплатятся за ужин и уйдут, — этих железных часов, обреченных на вечное одиночество, и тускло поблескивающих на стойке графинов (какая, вообще, у них тусклая жизнь!). Даже премьер-министра, даже его. И уж конечно хозяина этой убогой кантины…
Но часы продолжали постукивать; на смуглом лице премьера дрожал оранжевый блик заката, освещая только левую сторону его лица с лихо закрученным усом.
— Да ты, кажется, пьян? — воскликнула Наденька, взглянув на Кравцова.
Он улыбнулся в ответ широкой и блаженной улыбкой. Он знал, что она все равно не поймет, если бы даже он ей все рассказал. Да и как рассказать, например, что он жалеет министра? И не просто министра, а на портрете. Портретного. И эти графины на стойке… Нет, нет, она бы не поняла.
— Ты пьян на самом деле, — смеясь, повторила Наденька.
Она уже поднялась из-за стола и стоя надевала перчатки. Ухо лакея с торчащим карандашным огрызком, проплывая, остановилось. Карандаш был сметен молниеносным движением. Потом на угол стола шурша опустился клочок бумаги.
«Однако, — подумал Кравцов. — Двадцать восемь… Сущий грабеж».
Он заплатил тридцать, оставив две леи на чай. На улице уже поблескивали фонари, от пустыря доносились крики и смех невидимых мальчишек, доигрывающих в темноте какую-то шумную игру; молодой месяц висел над городом в виде занесенной для удара секиры.
— Здесь совсем недалеко живут Миловидовы, — сказала Наденька. — Не зайдем ли к ним на часок?
Он только молча кивнул головой.
«Миловидовы… Виломидовы… А ведь я действительно немножко… Ну да на воздухе все пройдет».
Они свернули направо в узкую улицу, заканчивающуюся вдали багровой полоской зари, постепенно принимавшей все более кровавый оттенок. Вечерний ветер шевелил верхушки деревьев.
«И удивительнее всего, — подумал Кравцов, — что когда-нибудь, вспоминая сегодняшний день, я совершенно забуду вот эту калитку и на ней три звонка, и три медных дощечки одна под другой, и то, что на нижней доктор Иосиф Горнфельд, хирург…
— Ну вот, — сказала Наденька. — Мы наконец пришли.
Они остановились перед небольшим особняком, у старинного крыльца, выступающего на улицу стеклянной галерейкой.
— Сейчас нам откроет Сережа, — сказала Наденька, надавив кнопку звонка. — У Сережи такая уморительная физиономия! Мне всегда почему-то хочется надрать ему уши.
Но вместо Сережи дверь открыла сама госпожа Миловидова. Кравцову показалось, что на крыльцо выкатился пестрый лоскутный шар, вдруг странно обнаруживший две короткие и пухлые руки.
— О! Наденька! — пискнула госпожа Миловидова. — О! Как кстати! У нас сегодня семейное торжество.
И тут же она уставилась на Кравцова маленькими, как у зверька, любопытными глазками.
— Мой жених, — сказала Наденька. — Николай Яковлевич Кравцов.
Лицо госпожи Миловидовой изобразило такую улыбку, словно Кравцов был не Наденькиным женихом, а ее собственным: заплывшие глазки просияли; крошечный рот сложился бантиком, как бы для нежного поцелуя.
— О! — пискнула она опять и протянула Кравцову сразу обе руки так, что он даже не знал, какую из них поцеловать — правую или левую. Наконец он склонился над левой, в то время как правая, стиснув его пальцы и не выпуская их ни на секунду, уже тащила его самого в глубь галерейки.
— Идемте, идемте, — пищала госпожа Миловидова. — Андрей! Это Наденька! — крикнула она, подходя к двери. — И не одна, а с женихом! Простите, я забыла, как Вас зовут, — обратилась она к Кравцову.
— Николай Яковлевич, — смущенно пробормотал Кравцов.
— С Николай Яковлевичем! — подхватила тотчас же госпожа Миловидова. — Вот я вам его привела, господа! Вот он! Вот он!
Кравцов совершенно оторопел. Он стоял посреди ярко освещенной комнаты, не то столовой, не то гостиной (в эмигрантском быту две эти комнаты часто сливаются в одну), и взгляд его беспорядочно ловил в пространстве чужие брови, носы, глаза, галстуки и дамские прически. В комнате находилось человек десять гостей, и все они теперь смотрели на него такими же, как у госпожи Миловидовой, любопытными глазами.
— Мой муж, знакомьтесь, — и госпожа Миловидова подвела Кравцова к стоявшему у стола уже немолодому и очень бледному господину с деревянным, словно вырубленным лицом.
— А вот герой дня, наш юный именинник. Сережа, что же ты сидишь?
Вихрастый мальчишка с оттопыренными ушами неловко привстал со стула. Но госпожа Миловидова уже подводила Кравцова к другим. Крашеные губы, декольте, запах пудры и крепкого одеколона — все это входило в его сознание помимо воли… А над плечами, над головами — портрет покойного государя, такой же точно, как в гимназические годы, когда «спаси, Господи, люди Твоя и…», но он забыл середину. И… «родителям на утешение…».
Наконец его усадили за стол, и он созерцал теперь смущенно атласные розы на белой скатерти.
— Водочки не угодно ли? — спросил господин Миловидов, любезно оскалив зубы.
И тут же он налил ему широкобокую граненую рюмку.
Все заговорили как по команде, продолжая, очевидно, прерванный разговор.
Наденьку умышленно отделили от Кравцова и посадили в самом дальнем углу стола.
— Ну, хорошо, — сказала вдруг старая дама, сидевшая по правую руку от Кравцова. — Андрей Витальевич считает социалистов главными виновниками гибели России. Но почему же с ними так церемонились? Почему, скажите, вместо того, чтоб всех их послать на каторгу, заковать в кандалы и отправить в Сибирь по этапу, с ними еще возились? Я, господа, право, не понимаю…
Она обвела всех негодующим взором.
— Высылали, матушка, высылали не раз, — сказал старичок, бесплодно атаковавший вилкой блюдо с селедкой. — Да что толку-то? Не высылать их надо было, а просто прикалывать штыками как лютых врагов.
И, подцепив наконец селедочную головку, он положил ее к себе на тарелку.
— У государя было слишком доброе сердце, — вздохнула одна из дам. — Государь, несомненно, жалел социалистов…
Кравцов уже выпил три рюмки водки и внезапно, как это у него часто бывало, вспомнил теперь выпавшие из памяти слова: «И благослови достояние Твое…» Да, да… так пели когда-то в гимназии…
Он попытался припомнить целиком всю молитву, но ход его мыслей был вдруг нарушен появлением на сцену довольно странной фигуры. Собственно, фигура эта уже давно находилась на сцене, но играла до сих пор незаметную роль. Это был приземистый человек в лоснящемся люстриновом пиджачишке и с галстуком сиреневого цвета, путешествующим вокруг шеи при каждом повороте головы. Было что-то гнетуще жалкое в выражении его изношенного лица, в покорно свисающих вниз и словно приклеенных усах. И вдруг он заговорил, встав во весь свой незначительный рост, с салфеткой, зажатой в руке, и вздыбленной на макушке рыжеватой прядью волос, делающей его похожим на хохлатого жаворонка.
— Позвольте и мне выразить мысль, — произнес он захлебывающимся голосом. — Хотя я, вообще, не оратор. Но что касается социализма, то патриотически возмущен. Ибо как офицер. И потому еще, что жена моя не из каких-нибудь низших слоев толпы, а тоже когда-то была девицей. То есть, опять-таки, не просто была девицей, но из института благородных девиц.
— Браво, Ляпунов! — воскликнул кто-то.
— Нет, извиняюсь, — обиделся Ляпунов. — И ежели соизволите обращаться, то попрошу называть по имени-отечеству. Может быть, и я не хуже других обучался. Может быть, я трех гувернанток имел.
Кто-то откровенно фыркнул.
— Тс! Тихо! — послышались голоса. — Дайте же человеку высказаться до конца!
— И я хочу сейчас выразить мысль, — захлебываясь все больше, говорил Ляпунов. — Потому что возмутительное явление. В газетных столбцах напечатано, например, будто его святейшество папа собирается принять во дворце большевистского комиссара. Факт, господа. И не будучи в состоянии умолчать, я ему написал эти строки: «Многоуважаемый папа! Как русский офицер в чине прапорщика удивляюсь Вашим поступкам. Вы, папа, принимаете у себя во дворце всякую шваль. И я, папа, за Вас просто стесняюсь. Поступок Ваш не выше, но ниже критики. Вы, папа, например, здороваетесь за ручку с такими подозрительными типами, которых иначе не назову, как просто босявками. Но, будучи слугой покойного государя Николая Второго и патриотически настроенным, должен заявить громогласно: нехорошо, папа, так поступать… Впрочем, папа, остаюсь к Вам с уважением и на подлиннике пишу своей рукой: Онисим Ляпунов, патрицио руссо».
Ляпунов сел, скромно опустив глаза и все еще терзая зажатую в руке салфетку. Из-за стола поднялся господин Миловидов.
— Господа! — начал было он бархатным голосом.
Но его перебила госпожа Миловидова.
— Нет, нет, Андрюша! — воскликнула она. — Только не сегодня. Сегодня у нас именины, и я запрещаю дальнейший политический разговор.
Раздались аплодисменты. Госпожа Миловидова сделала шутливый поклон:
— Господа, кому еще чаю? Андрюша, это кажется твоя чашка…
«И Твоя, — вдруг окончательно припомнил Кравцов. — И Твоя сохраняя, крестом Твоим жительством…»
Предметы и лица двоились у него в глазах, принимая знакомый хрустальный оттенок. И сам он уже не просто сидел за столом, но как будто собирался вспорхнуть, преисполненный странного легкомыслия. Глаза его встретились с глазами Наденьки. И, улыбнувшись ей счастливой улыбкой, он вдруг почувствовал, что улыбку эту уже невозможно согнать с лица; о, ее не так-то просто было теперь согнать. Наоборот, она расплывалась все шире и шире и вместе с ней расплывалась комната. Господин Миловидов налил ему новую рюмку водки.
— Пер-пен-ди-ку-лярно, — попытался произнести Кравцов.
Но даже в мыслях вышло: «Пе-ри-кулярно».
— Почему же вы ничего не едите? — склонилась к нему хозяйка. — Чего вам положить, скажите? Может быть, пикулей?
— Можно пипи-кулей, — добродушно согласился Кравцов.
Потом стол со всеми сидящими поплыл куда-то далеко в угол и через минуту возвратился назад. Старая дама выросла справа как привидение. Потом было много шума и смеха, несколько отдельных фраз, почему-то воспринятых памятью, и, наконец, три ступеньки, а Наденька увлекала его вперед.
— Ты совершенно пьян, — смеялась она. — И на этот раз уже не ты меня проводишь домой, а я сама тебя провожу.
Но небо было особенно чистым и звездным, и он останавливал Наденьку на каждом шагу. Ему хотелось читать ей стихи Лермонтова, и из всего прежнего запаса остались в памяти только две первые строчки:
Выхожу один я на дорогу, Сквозь туман кремнистый путь блестит…XIV
Осень была для Кравцова излюбленным временем года. С первых дней сентября он начинал прислушиваться к ее чудесной симфонии, долетавшей издалека, но уже несомненной по тысяче признаков. По-иному и ярко синело небо; от проплывающих вверху облаков ложилась на землю студеная тень; в шуме деревьев замечалось нарастающее беспокойство, переходившее к вечеру в веселую истерику. И на пустыре за домом вдруг подымался столб пыли, вертясь и кружа обрывки бумаги. Вот у идущего мимо человека неожиданно слетает с головы шляпа и, превратившись в черное колесо, бежит, подпрыгивая, по косогору.
Человек уже немолод и толст, но он ловит ее, смешно растопырив руки, гоняясь за ней, как мальчишка, с развевающимися на ветру волосами… Да, все это была осень, и Кравцов слышал ее голос, ощущал ее холодное и целомудренное дыхание. Останавливаясь на пустыре, он переворачивал ногой камни и под ними, в желтых прессованных стеблях травы, сонно копошились мокрицы. У края канавы подымались рахитичные грибы, тонконогие, с конусообразными головками, выросшие за одну ночь, чтоб к полудню сморщиться и увянуть. Вечером, когда солнце садилось за деревянный забор, рыжехвостая птица перепархивала в пыльном саду с печальным и однотонным свистом. Когда-то в России он слышал эту же птицу и так же белели вспененные ветром вершины пирамидальных тополей… Он помнит поле с вороньими парламентами на дымящихся кучах навоза, мокрые собачьи следы вдоль выбеленной инеем лужайки, хохлатых посметюхов, припадавших перед взлетом к земле, и таинственную прелесть старого кладбища, где он бродил с учебником геометрии среди мраморных ангельских статуй…
Но никогда ни одна осень не казалась ему столь прекрасной, как эта, словно он впервые ее увидел. Душа его как-то по-новому раскрылась, и весь мир представился иным — более простым и вместе с тем более полным. Это походило на то, как однажды мальчишкой он взобрался на чердачный балкон и оттуда увидел неизвестную ему дотоле страну — верхушки деревьев, гребни черепичных крыш, соседский двор с остановившейся посредине, будто вдавленной в землю, кухаркой, и то, как она снимает с веревки постреливающее на ветру белье. Тогда же впервые предстало перед ним небо не в ограниченном кругу, а во всей беспредельности, с подымавшимся из-за дальнего дома ослепительно белым чудовищем. О, как запомнился этот день его детства — вплоть до деревянного карниза, источенного жуками… А вверху, над круглым отверстием от выпавшего сучка, кружится шмель и гудит вскипающим самоваром…
Все эти воспоминания сплетались у него теперь с настоящим, словно оттуда, издалека, протянулась связующая нить. И это тоже был тайник, обнаруженный им в извилинах памяти, ибо как рассказать Наденьке хотя бы о ласточке? Как объяснить ей, что он уже ребенком понимал ее надтреснутый щебет? Это была, правда, одна только фраза, но, вслушиваясь в нее постоянно, он вдруг понял все до последнего слова и, поняв, задохнулся от счастья.
— Вы говорите, — щебетала ласточка. — Вы говорите, говорите, говорите… и все же это не та-ак! И все же это не та-ак!.. Вы говорите, говорите, говорите… и все же это не та-ак!..
И еще раньше, будучи совсем малышом, он удивил пришедшую к ним в гости даму. Она посадила его к себе на колени и принялась рассказывать сказку.
— Я не хочу слушать, — сказал он, спрыгнув с ее колен.
— Ты не хочешь? Но что же ты хочешь слушать?
— Я хочу слушать курицу, — откровенно признался он.
И, оставив даму в совершенном недоумении, он выбежал во двор, туда, где у забора, в девственном лесу лебеды и крапивы, полудремля, сидели куры.
— Коко! — сонно воскликнула рыжая курица. — Ко-о-о-кочка!
И он ей ответил радостно:
— Я уже здесь!
Куриный глаз чуть приоткрылся из-под голубого века, похожего на пистон для детского револьвера.
— Коо-о-ко! — шепнула, засыпая, курица.
— Кокочка! — позвала мать с порога. — Кокочка, где ты?
Но он затаился в траве и глядел сквозь щелку забора на дремучий лес конопляного соседского огорода. Сосед предпочитал щеглов всем остальным птицам на свете и для них ежегодно засевал двор коноплей. И конопля, когда глядеть на нее лежа на животе, была уже совсем не коноплей, а дремучим еловым бором, и так же как бор, она шумела под ветром… Ему казалось, что в ней водятся дикие кровожадные звери, и он потихоньку рычал, стоя на четвереньках, пока взгляд его не приковывался к ползущему в стороне большеголовому муравью цвета мускатного винограда. Тогда он подымал с земли сухую веточку и втыкал ее перед муравьиным носом. И было смешно наблюдать, как муравей взбирался на эту обманчивую вершину, как он оглядывался сверху с молчаливым недоумением, словно акробат, раскланивающийся перед публикой. Из этих же детских дней сохранилась в памяти чудесная бочка, опоясанная ржавыми полосами железа, стоявшая на углу дома под водосточным желобом, сделанным в виде драконовой пасти. И в засушливые месяцы, когда застаивалась в бочке древняя, кисловато пахнущая вода, он любил, перегнувшись через край, смотреть на извивающиеся в воде живые крючечки. Он еще не знал тогда, что это комариные личинки, они казались ему особыми, таинственными существами.
— Пойдем понюхаем бочку, — предлагал он в порыве великодушия своему приятелю, соседскому мальчишке.
И они нюхали бочку, наслаждаясь ее волшебным запахом, глядя в то же время на сжимающиеся и разжимающиеся крючечки, на свои собственные физиономии, вставленные словно в медальон в сине-зеленую рамку отраженного неба. Но тайны были не только здесь. Тайны были рассеяны повсюду, от забора к забору, они начинались с утра и продолжались до вечера, когда отец и мать сходились у его детской постели.
— Почему звезды? — спрашивал он отца.
И получив не совсем ясный ответ, он продолжал спрашивать дальше:
— Почему вода? Почему ветер? Почему комната? Почему я?
Бедный отец щипал жидкую бородку в тщетном усилии ответить на все эти слишком простые и слишком уж ясные вопросы.
— Боже мой, — сказал он однажды жене. — Для того чтобы воспитать ребенка, надо быть непременно ученым-энциклопедистом…
Потом в жизнь Кравцова прочно и надолго вошла гимназия. Он ощутил ее сначала по длинным штанам с двумя глубокими карманами, куда можно было прятать все что попало, по дикарскому буйству больших перемен на гимназическом дворе, в тени желтеющих кленов, по той тишине, которая вдруг наступала повсюду, когда на цементированном строгом крыльце появлялась акулья фигура инспектора. И были особые вкусовые и нюхательные ощущения, которых он никогда не знал раньше. Он научился есть мел и жевать стиральную резину, он слизывал уже языком чернильную кляксу с тетради, привыкнув к пощипывающему металлическому вкусу, и он воспринимал весь класс как солнечную темницу, куда его втискивали на пять долгих часов, чтоб терзать главным образом математикой. Но зато в возвращении домой было столько острых и заманчивых ощущений, что уже на первом уроке он вынимал из кармана подаренные ему отцом никелевые часы и, преодолевая нелюбовь к математике, высчитывал с предельной точностью, сколько еще времени осталось до блаженной свободы. О, эта свобода с кожаным ранцем за спиной, куда до вечера складывались орудия пытки, — свобода, подталкивающая его не к дому, где ждал сытный обед, но, наоборот, к реке, к пристани, к созерцанию дальнего заднепровского берега, океанских пароходов, выраставших на перламутровом горизонте, целого леса мачт, покачивающегося, пошатывающегося, поскрипывающего, похлюпывающего, взлетающих кверху чаек и студеной осенней воды, обсасывающей старые сваи. О, эта свобода!..
В зеленом бархате затененной воды можно было видеть неподвижно стоящую щуку, утиноподобную, но хитреющую в тишине, чуть-чуть шевелящую плавниками. В ней было что-то подстерегающее, инспекторское, кондуитное.
Он отшатывался почти с испугом, инстинктивно хватаясь рукой за карман, словно оберегая спрятанную там рогатку и полфунта купленной только что дроби. Потом он долго стоял на гранитном валу набережной, глядя на воду, на скользкие волны, пробегающие мимо, и ему вдруг начинало казаться, что это он сам уже плывет, отплывает, уплывает на корабле в незнакомые жаркие страны, где можно есть апельсины сразу штук по пятнадцать, где ругаться и плеваться дозволено сколько угодно и где он мог бы стать впоследствии негритянским царем. Потом приходили летние дни каникул… Он вспоминал их с мучительной ясностью, мучительной, несмотря на то счастье, которое было в его душе, ибо в воспоминании, даже радостном, всегда есть частица печали. Где те птицы, что пели в летнем саду, когда, не занятый школьной премудростью «от сих пор и до этих», он мог слушать их, сидя на зеленой траве и, слушая, созерцать чуть заметный бег облаков. А вечера… те вечера! Он уже увлекался тогда собиранием бабочек, и когда пламенел закат, он поджидал с зеленым сачком в цветнике прилетающих с поля бражников. И с замирающим сердцем он бросался туда и сюда, размахивая в темноте своим неловким сачком. Постепенно заря угасала. От петуний и табака струился приторный аромат. Глаза уже с трудом различали отдельные цветочные головки, и только по тому, как какая-нибудь из них вдруг неожиданно клонилась к земле, он узнавал присутствие порхающей бабочки. И он с мольбой обращался к богу:
— Господи, дай мне поймать сегодня вьюнкового сфинкса!
Эта бабочка была его давней мечтой. Она была огромна и таинственно-странно неуловима. Она прилетала одной из последних уже совсем в темноте и мелькала, носясь над цветами царской бородки, как прекрасное привидение.
А потом гимназические балы, средоточие мира в заплетенных туго косичках, в розовом банте, плывущем под грохот оркестра, тихая грусть от того, что не умел танцевать и только наблюдал с бесстрастным лицом, ибо в гимназии уже проходили «Героя нашего времени». Ему было неполных семнадцать лет. В то время он заболел особой и странной болезнью, названия для которой еще не придумали медики, болезнью «стыда за себя», за каждое действие, которое он совершает, и он не находил места в слишком прекрасном мире такому, как он сам, некрасивому… и с веснушками… и потому еще, что он знает о том. Ах, о том он узнал совершенно случайно. У них в шестом классе был ученик по фамилии Долгоносое, с руками, как у саламандры, вечно покрытыми чернильными пятнами, взлохмаченный, как клоун, и с клоунскими ухватками. Долгоносова, впрочем, выгнали из гимназии, и позже, несколько месяцев спустя, Кравцов его встретил на городской набережной, загорелого, в матросском тельнике и посасывающего огромную трубку.
— Пойдем ко мне, — сказал Долгоносое. — Я живу здесь, на той широкой барже.
И тут же, состроив рожу, он изумительно ясно представил инспектора. По узкой сходне, повисшей над хлюпающими волнами, они перебрались на баржу, где их встретила захлебывающаяся лаем черная собака.
— Молчи, стерва! — прикрикнул на нее Долгоносое и тут же прибавил такое мерзкое и злое ругательство, от которого у Кравцова захватило дыхание.
— Ты здесь один? — робко спросил Кравцов.
— А ты думал! — важно ответил тот. — Я заменяю на барже капитана.
Они спустились вниз по крутой винтовой лестнице и очутились в полутемной каюте, вернее, матросском кубрике, пропахшем насквозь махоркой и луком.
— Садись и кури, — сказал Долгоносое, придвигая к Кравцову табак.
Но Кравцов отказался.
— Да, я и забыл, — насмешливо процедил Долгоносое. — Ты ведь у нас паинька-маинька, ха-ха!
Потом, подойдя к полке, он порылся в темном углу и вытащил оттуда пачку пожелтевших бумажек.
— Вот сейчас ты увидишь нечто, — сказал он, посмеиваясь. — Из Японии… Понимаешь? Шкипер Перегудов привез.
Он разложил на столе невиданно мерзкие фотографии, с неправдоподобными людьми в неправдоподобных и страшных позах.
— Ну что? Видал миндал? Это, брат, поинтереснее уравнений с двумя неизвестными.
Но Кравцов глядел на фотографии расширенными от ужаса глазами. Это была первая пощечина, полученная им от жизни, незаслуженное оскорбление, запомнившееся навсегда. Вечером, сидя у себя дома за чайным столом, он не решался взглянуть на мать. Он уже знал о том мерзком и думал, что это знание отражается на его лице подобно жирному сальному пятну. Он был несчастен и переживал свое несчастье втихомолку. Ночью, просыпаясь в испуге, он вскакивал с постели и подбегал к окну; он облокачивался на подоконник и глядел в весенний сад, где шевелились цветущие деревья. Все вокруг было таким чистым и радостным, все, кроме него самого.
А утром он уносил свое стыдливое горе далеко в поле, за город, к кувыркающимся на горизонте мельницам, к изумрудно-игольчатым зеленям, и там, в тишине, сжимая до хруста пальцы, он просил у Бога, чтобы все было не так, ибо лучше тогда не жить совсем… В голубых небесных пространствах глаза его находили только поющих жаворонков, повисших высоко над землею, и дальше все обрывалось в беспредельную глубину, откуда не доносилось ответа.
— Боже мой, Боже мой! — говорил он, глядя на небо. — Боже, сделай так, чтобы все было не так.
Ему казалось, что он должен непременно увидеть Бога среди кучевых зазубренных облаков. И он глядел вверх, пока по всему небу не протягивались темные полосы и не начинала кружиться голова. И все оставалось по-прежнему: звенели жаворонки, подымался снизу терпкий аромат чебреца, щекотал горло ветер, и в уши неожиданно врывалась будничная нота далекого фабричного гудка…
В жизни его наступил тот сложный душевный перелом, который принято называть возмужалостью. Но, достигнув этой возмужалости, он вдруг почувствовал, что как и в раннем детстве, он стоит перед той же неразрешенной загадкой: почему ветер? почему солнце? почему он и что такое он со всеми его чувствами?
Все то, что он учил в гимназии, только еще больше спутало его мысли, словно кто надсмеялся над ним зло и цинично. И в это же время душа его впервые была опалена дыханием смерти.
У него был гимназический друг Сенька Косичкин, бледный юноша, тяжело переносивший науку, влачивший ее, как тропическую лихорадку, всегда в напряженном пароксизме испуга, всегда ожидающий, что его позовут к доске, на лобное место. Никто не знал, чем занимался Косичкин у себя на дому, но уроки готовил он только в гимназии, по утрам, затыкая пальцами уши. И когда в коридоре раздавался резкий звонок, пароксизм косичкинской лихорадки достигал наивысшего напряжения. Позванивая, раскрывалась дверь. С журналом в руке проходил к кафедре историк Викентий Петрович, и в классе воцарялась мертвая тишина.
Журнал шелестя раскрывался. В напряженном и жутком миге внушительно поскрипывало перо. Наконец тишина начинала казаться уже абсурдной, и тогда от журнала подымалось злое лицо с жестко закрученными вверх усами.
Косичкин вскакивал с места, словно ужаленный гадюкой. Он доборматывал на ходу, дошептывал прочитанную наспех страницу, что-то об Анне Иоанновне, что-то о Бироне… или же нет — что-то о Вероне, Бейроне, потому что при Иоанне Анновне, кажется, был Бейрон, и был он в каком-то неизвестном, неизвестном, неизвестном году, хотя страница точно известна, страница восемьдесят вторая, и это неважно, а важно совсем другое… Но он уже стоял у кафедры, холодея от близости к тому, что было Викентием Петровичем отсюда и что казалось отсюда еще страшнее, ибо похрустывало крахмальными манжетами и глядело не мигая в лицо.
— Ну, Косичкин?
— При Анне… При Иоанне, — задыхаясь, выдавливал Косичкин. — В тысяча… в тысячу… в тысяче…
Глаза его с нездешней мольбой глядели на запотевшее окно, где переливались ртутными полосками выведенные кем-то буквы и можно было прочесть, что «Ванька Любимов — свинья», но нужно было не это, а в тысячу… в тысяча… при Анне…
Лицо историка деревенело. С крахмальным хрустом подымалось над журналом перо и опускалось в чернильницу.
— Довольно, Косичкин.
Но он стоял как зачарованный.
— Косичкин, довольно.
— Я знаю, Викентий Петрович… честное слово! В тысяча восемьсот…
— Косичкин, садитесь!
И этот Косичкин, выстрадавший аттестат зрелости, перешагнувший через бином Ньютона и логарифмы, написавший о Лизе Калитиной что-то трижды подчеркнутое красным карандашом, что-то насчет того, что Лиза Калитина была первой в России нигилисткой, этот самый Косичкин, не успевший налюбоваться новым студенческим мундиром, неожиданно умер. Кравцов был ошеломлен. Его поразила главным образом та бессмысленная кривая, по которой устремилась смерть наперекор законам природы, незыблемость которых он только что вынес из школы вместе с формулами Бойля — Мариотта и Торричелевой пустотой. До мельчайших подробностей он помнит тот день — тишину июльского неба, отцветающие акации, усыпавшие тротуары вялыми желтыми лепестками, то, как он подымался вверх на крыльцо, и, подымаясь, увидел в окне бледные языки свечей, и потом в холодноватой гостиной с бородатыми филодендронами посредине цинковый гроб и в нем засыпанного цветами незнакомого ему ничуть покойника, который был все же Косичкиным, но Косичкиным, переросшим свой рост, Косичкиным постаревшим, страшным и неподвижным. Глядя на него, он вдруг почувствовал, как к горлу подкатывает щекочущий ком и из глаз сами собой хлынули слезы. Он плакал не от жалости (странно было бы жалеть этого незнакомого ничуть человека), а от мелькнувшего в сознании чувства своей обреченности, от той постоянно живущей в нем человеческой гордости, которая была впервые оскорблена. До слуха его долетали только отдельные слова молитвы, произносимые гимназическим священником, отцом Никанором, слова о том, что «усопшие Бога узрят и все праведные упокояются». И Кравцов припомнил Косичкина в первом классе гимназии, приготовляющего на перемене уроки, припомнил, как этому же отцу Никанору он сказал, запинаясь, что у Ноя было три сына — Сис, Хас и Эфес и как отец Никанор назвал его богохульником. А теперь Косичкина нет… «и все праведные упокояются». И то, что Косичкина нет, что его не существует, что он был и теперь никогда уже быть не может, что о нем, именно о нем, в местной газете было помещено объявление в траурной рамке, приглашавшее друзей и знакомых на панихиду по безвременно скончавшемся Семене Константиновиче Косичкине, а потом торжественная важность похорон, печальный перезвон кладбищенской церкви, свежая могила, еще пахнущая перерезанными корнями, и у ворот кладбища грязный калека, а за стеной тысячи каменных крестов, и на одном из них каркающая ворона — все это вошло в сознание Кравцова непонятным и путаным хаосом ощущений. Но самое непонятное и потому самое жуткое было впоследствии, когда он возвратился к поджидающему его беззаботному спокойствию, к обманчивому благополучию родного дома, к прочно установившемуся уюту, зыбкость которого он только что осознал. Глядя на шипящего посреди двора индюка, на пушистых утят, плещущихся в деревянном корытце, на перебегающую по карнизу дома хромую кошку, он подумал о том, что все они пережили Косичкина, что все они и он вместе с ними избежали какой-то грозной опасности, и этот камень у дровяного сарая переживет, должно быть, еще и не то. Но почему именно камень? Почему именно он, не чувствующий, которому и так все равно, переживет, уцелеет, останется?.. Потом у себя в комнате Кравцов разыскал подаренную ему Косичкиным фотографию, и с квадратной картонной полоски взглянуло на него только что бывшее лицо, чуть улыбающееся, с упавшей на лоб своевольной прядью волос. Теперь фотография была обманом, ибо того, кого она изображала, не было больше на свете… Ощущение смерти, ее тлетворное дыхание пришлось изживать как болезнь. Повсюду, куда он ни обращал взор, он уже видел Ее образ, и ему казалось бессмысленным ехать в университет, тратить, может быть, последние дни и часы на зубрежку премудрости, ненужной и лишней, раз нет уверенности в завтрашнем дне. Но постепенно жизнь втягивала его в свою орбиту и, побеждая, раскрывала перед ним свои великолепные дары. Были тихие летние ночи, овеянные запахом распускающейся маттиолы, дышало над головой черное небо с миллионами светящихся точек, а от реки доносился лягушачий хор — все то, что он помнил со дней раннего детства, но что было теперь окрашено какой-то особенной, просветленной печалью. И вдруг в бездонных просторах вспыхивала звезда и, разгораясь зеленым пламенем, пересекала полнеба. Сверчки неумолчно тянули свою однотонную полицейскую ноту. Ветер бродил на ощупь по клавишам чудесного инструмента, донося то шум деревьев, то обрывки старинного вальса, то поцокиванье лошадиных копыт — и все это была жизнь, и все это дышало, пело и ликовало вопреки тому, что он знал. Осенью он уехал в университетский город. Напутствуя его в дорогу, отец сказал:
— Пойдем ко мне в кабинет, я должен тебе кое-что объяснить. Мать не должна этого слышать.
И когда за ними закрылась дверь и лысый Некрасов взглянул со стены миндалевидными, немного пьяными глазами, отец наклонился к уху Кравцова и прошептал еле слышно:
— Знаешь ли ты, что такое венерические болезни?
Кравцов почувствовал, что краснеет.
— Знаю, — ответил он шепотом. — Это когда мужчина и женщина. Когда кожные болезни и лечение сальварсаном.
— Ого, — удивился отец. — Ты уже знаешь такие тонкости?
— Но я читал об этом только в газетах, — смущенно признался Кравцов.
Он глядел отцу прямо в глаза по своей давней детской привычке, и тот вдруг смутился и полез в карман за платком.
— Ну и вот, — сказал отец. — Ну и так далее. Впрочем, ты знаешь, и незачем больше об этом говорить.
Они постояли немного друг перед другом. И в это короткое мгновение Кравцов неожиданно увидел, как постарел за эти годы отец, как за то время, что он изучал в гимназии Пунические войны, у отца поредела и поседела сплошь борода, а у глаз появились сиреневые мешочки. Но в окне успокаивала осенняя синева, успокоительно пошатывалось полуоблетевшее дерево, все говорило за то, что нечего вообще опасаться и ведь не может отец вдруг ни с того ни с сего… грешно даже думать. Отец совершенно здоров… совершенно…
Из тех дней остался в памяти теплый осенний вечер, вокзальный перрон, за которым открывалось туманное поле, и потом все сдвинулось, побежало, а в открытое окно пахнуло масляным дыханием локомотива, и вот проскочила мимо железнодорожная будка, прошелестев осыпающимся садом, из земли дугой поднялась крутая насыпь, и телеграфные столбы полезли вверх, как туристы; вот земля превратилась уже в вертящийся диск, по которому заскользило освещенное ярко окно. Поезд несся по ровной степи навстречу потрясающим годам, невиданным событиям, всему тому, что навсегда отторгло от дома и понесло, завертело, закружило в просторах Российской империи, Российской республики и Союза Советских Республик…
XV
Комната была найдена. После продолжительного торга с веселым и живым стариком румыном, который даже прищелкнул языком, взглянув на влюбленную пару, после того как он перечислил все достоинства будущего жилища, плутовски подмигнул Наденьке и покровительственно похлопал по спине Кравцова ладонью, сговорились на ста двадцати леях в месяц. И как всегда в житейских делах, Кравцов остался в стороне: говорила и торговалась Наденька. Он стоял у окна и, глядя на облупившийся подоконник, на коричневую царапинку в виде римского «с», думал с оторопелой радостью, что отныне этот подоконник уже их собственный подоконник и царапинка тоже их собственная, что здесь, в этой комнате, начнется иная счастливая жизнь и что даже, закрывая на секунду глаза, он все же слышит голос Наденьки, следовательно, все это происходит на самом деле.
— Послушай, — сказала Наденька, возвращая его в действительность. — Хозяин говорит, что умывальника у него нет. Мы должны будем сами… И вот здесь я решила поставить кровать. Как ты находишь?
Он хотел сказать, что находит все изумительным, но не ответил и только молча ей улыбнулся.
— А тут мы пристроим кухонный стол, — деловито рассуждала Наденька. — Жаль только, что я ничего не умею готовить. Но я научусь, погоди. У меня даже имеется где-то рецепт шоколадного торта.
Потом веселый старик повел их вдоль коридора и, остановившись у узкой двери, распахнул ее перед ними важно-комичным жестом. Внезапно Кравцов увидел интимное бесстыдство эмалированной посудины с откинутым назад коричневым дубовым кольцом.
— Буна, — сказал румын, любуясь смущением влюбленных.
Он даже дернул за висящую сбоку деревянную ручку, продемонстрировав игрушечный рев водопада, и наконец визгливо расхохотался. Тогда с судорожной поспешностью Кравцов сунул ему в руку задаток за комнату, боясь, как бы он не показал Наденьке и ему что-нибудь еще более… «Хоть интимнее уже, кажется, нет ничего», — промелькнуло у него в мыслях. Наконец они выбрались на улицу, в золотисто-пыльный простор пустыря. Солнце стояло низко над крышами, сверкая в электрических проводах подрагивающими тире. Посреди осенней лужайки важно расхаживал фиолетовый грач.
— А ведь хорошо здесь, — сказал Кравцов. — Я всегда любил такие тихие городские окраины. Ты посмотри только, как синеет в том месте небо.
— Да, — ответила Наденька. — Синеет… И я покрою стол не скатерью, а клеенкой. Так гораздо практичнее. Ты не находишь?
— Нахожу, — согласился Кравцов. — И здесь совсем деревенский воздух.
— Деревенский, — подтвердила охотно Наденька. — Клеенка стоит к тому же недорого…
Они оба остановились, словно по безмолвному уговору. На востоке, за пустырем, в потемневшем грифельном небе, лежало серое облако; внизу, на земле, уже сеялся легкий предвечерний туман, в котором двигались люди.
— Погоди, стой так, — сказала Наденька. Она привстала на цыпочки и поцеловала его, слегка оступившись на неровной почве, так что колени их встретились. — Ну, а теперь пойдем.
Они пересекли пустырь, щурясь от малинового блеска трамвайных рельс. На углу улицы автомобиль рассветил ранние фонари; уже поблескивала вверху одинокая звезда.
— Знаешь, мне кажется, — сказала Наденька, — будто мы были с тобой вечно вдвоем. Будто мы всегда любили друг друга. — Она тесно прижалась к нему плечом. — Ведь ты меня не бросишь, Коля? — спросила она совсем неожиданно.
Кравцов даже приостановился:
— Я? Брошу тебя?
— Ты можешь увлечься другой. Когда-то я читала об этом. Он ушел от нее и оставил ее с грудным ребенком.
— Неужели ты думаешь?.. — почти задохнулся Кравцов. — Чтобы я тебя… И чтобы с грудным… О, Наденька!
Он вдруг ясно представил себе эту жуткую картину. И, поддаваясь грустной нежности, он увлек Наденьку в ближайшую подворотню:
— Поверь мне. Я прекрасно знаю, что недостоин тебя. Скорее ты сама можешь покинуть меня с грудным ребенком.
— Ну что ты! — вспыхнула Наденька. Но, взглянув на него, она улыбнулась. — Ты был бы замечателен с ребенком на руках.
Выйдя из подворотни, они смешались с толпой. Было уже темно. Навстречу плыли по воздуху малиновые угольки папирос.
— Я должна заехать сегодня к Леночке, — сказала Наденька, останавливаясь на углу улицы. — И вот что… Позаботься о шаферах. Ведь не забывай, что уже скоро…
Но слова ее заглушил звон подходившего трамвая. Ярко освещенное окно, вздрогнув, остановилось.
— За этим дело не станет, — проговорил Кравцов, помогая ей взойти на подножку вагона. — У меня есть кое-кто на примете.
— Нет, только двух, — ответила Наденька.
— Да, хорошо. И я завтра же…
Но она уже не могла его слышать.
Трамвай, пошатываясь, стал удаляться и, добежав до угла, медленно повернул направо с каким-то собачьим повизгиванием. Кравцов постоял некоторое время, глядя ему вдогонку. Потом он побрел назад, по направлению к Оборе, все еще видя перед собой Наденьку. И чем дальше он уходил от центра, тем ярче вставал перед ним ее образ. Наконец открылась площадь и за ней просияли слившиеся в кучу тусклые огни предместья. Вверху, над головой, сентябрьским холодком дышало небо. И вдруг из этой звездной глубины долетел жалобно-радостный и как-то по-особому знакомый звук. Кравцов остановился, прислушиваясь. Звук повторился ближе и, рассыпаясь отдельными голосами, постепенно истаял в воздухе. Это с дальнего севера, из России, тронулись в путь перелетные птицы.
XVI
Все последующие дни, вплоть до отъезда Федосей Федосеевича, Кравцов находился как бы в забытьи, почти не понимал того, что ему говорила Наденька, и был весьма рассеян. Приготовления к свадьбе были уже закончены, подысканы шафера, назначен определенный срок — словом, все получалось как нельзя лучше; надо было только вооружиться терпением. Но, подобно святому Антонию, искушаемому в пустыне дьяволом, он переживал наяву странные сны. Часто на улице, в трамвае, или даже во время урока, в доме госпожи Грушко, перед ним вдруг появлялось заманчивое видение. Оно возникало внезапно, преследуя его даже в густой толпе, посреди движущихся экипажей и автомобилей, скользило по стенам домов, останавливалось на газетных киосках, мелькало в витринах лавок. И это была Наденька, но такая, какую он еще вовсе не знал и какую не решался представить себе даже в сокровеннейших мыслях. Он вел теперь с самим собой упорную борьбу, стараясь освободиться от навязчивого соблазна; и чем больше он напрягал волю, тем ярче становилось видение, тем ослепительней и прекрасней казалась греховная нагота.
«Неужели у всех женихов бывает именно так?» — смущенно думал Кравцов. Наконец он придумал хитрый прием. Он научился сосредоточивать внимание на каком-либо абсолютно невинном предмете. Так, например, он думал о вазе, виденной им недавно в витрине антикварного магазина, хотя рядом с вазой (и от этой подробности надо было тоже освободиться) стояла весьма фривольная статуэтка. «О статуэтке не следует, — убеждал себя мысленно Кравцов. — Следует только о вазе…» И он принимался думать о вазе, не замечая снующих мимо него прохожих, неловкий и странный посреди этой деловитой толпы. Иногда даже Наденька удивлялась его рассеянности.
— Проснитесь, сеньор, — сказала она однажды, когда они гуляли вдвоем. — Ну же! Раскрой глаза! И послушай вот что: нам пора завести визитные карточки. Во-первых, у всех молодых супругов непременно должны быть визитные карточки. Во-вторых, они нам весьма пригодятся для особо торжественных случаев. Но что же ты молчишь? — спросила она.
— О да! — сказал Кравцов, блаженно и бессмысленно улыбаясь.
— Что да? — воскликнула Наденька. Но сейчас же сама рассмеялась. — Ты просто великолепен. И о чем ты думаешь, скажи, ради Бога?
Кравцов был застигнут врасплох, так как думал об одном обстоятельстве, которое никак нельзя было ей объяснить; он и сам точно не знал, что с ним теперь происходит. Он, собственно, думал о нескольких обстоятельствах, о двух или трех, но он был бессилен выразить свои мысли словами. Как рассказать, например, о старой продавщице у вокзала? Он видел ее еще в день своего приезда в Бухарест, и вот теперь, спустя несколько месяцев, он ее увидел опять на прежнем месте и в той же самой, запомнившейся ему когда-то позе, словно бы все вокруг оставалось по-прежнему. А между тем в его собственной жизни…
— Ну? — снова спросила Наденька. И не дожидаясь ответа: — Ведь нам придется иногда принимать гостей. — Она произнесла торжественным голосом, обращаясь к воображаемому лицу: — Надежда Сергеевна Кравцова просит Вас пожаловать на чашку чая… На чашку кофе, — поправилась Наденька. — Кофе гораздо сытнее… Зато потом, когда мы окончательно обживемся, можно будет устраивать небольшие семейные вечеринки. Такие petite soirée[48], понимаешь?
— Petite soirée, — повторил машинально Кравцов.
— Ах, ты, я вижу, меня вовсе не слушаешь!
— Petite soirée, — сказал он поспешно. — И еще визитные карточки.
Наденька пожала плечами:
— Я боюсь одного, мой милый. Ты до сих нор не нашел постоянной работы. Подумай об этом серьезно. Ты ведь, кажется, собирался играть в оркестре? И если необходима виолончель, то мы должны ее теперь же…
Они обсуждали довольно часто программу будущей жизни: Наденька — вникая в каждую мелочь, Кравцов — как всегда, рассеянный, похожий на школьника, выслушивающего трудный урок. Почти неделю они потратили на приведение в порядок общего имущества — всех этих баночек и бутылочек, которые, накопляясь неведомым образом, составляют впоследствии главное богатство русского эмигранта. И Наденька ни за что не хотела расстаться ни с одним из этих предметов. В своей девичьей комнате, куда Кравцов был допущен на правах жениха, Наденька произвела тщательную ревизию вещей.
— Ну вот, взгляни, — говорила она, держа в руке запыленную банку. — Это нам пригодится для простокваши. А вот это… это можно использовать в качестве цветочной вазы.
И они переносили вдвоем все это богатство в новое помещение, напоминая пчел, хлопотливо строящих соты, радуясь каждому приобретению, будь то кувшин для воды или дешевый оловянный подсвечник. Постепенно их будущее жилище приобрело вид универсального магазина. Незадолго до отъезда Федосей Федосеевича Наденька перенесла сюда часть своего гардероба, развесила в углу платья, покрыла все сверху белой занавеской и, отступив на несколько шагов в сторону, залюбовалась открывающейся панорамой.
— Уверяю тебя, у нас будет не хуже, чем у других, — сказала она Кравцову.
Она рассортировала все его вещи, отыскав среди них редкие уникумы, — большие, например, металлические пуговицы, Бог знает как и откуда приблудившиеся к его имуществу, обломок железной руды, круглую морскую раковину и много хлама, причем для каждой вещи нашла соответственное применение.
— Этот кусок железа послужит тебе в качестве пресс-папье для будущих рукописей… Ты ведь, кажется, собирался прочитать публичную лекцию? А эта раковина, — и Наденька приложилась к ней ухом по давней, еще детской привычке, — эта раковина прекрасно заменит нам пепельницу. И запомни раз навсегда: не позволю разбрасывать окурки по всему полу.
— Но ведь я не курю, — удивился Кравцов.
— Все равно, — возразила она.
Федосей Федосеевич, давно уже посвященный в их тайны, не преминул с своей стороны дать им несколько добрых советов.
— Друзья мои, — поучал он. — Глядите на жизнь без всяких прикрас. Не увлекайтесь несбыточными мечтами. В наше суровое время только трезвость и ясность мышления обеспечивают человеку победу.
Впрочем, ни Наденька, ни Кравцов не проявляли особого интереса к словам Федосей Федосеевича, предоставляя ему возможность убеждать себя самого. Они спешили устроить свой дом возможно скорее, еще до начала осенней распутицы. Погода стояла прекрасная. По утрам, когда Кравцов шел на урок, под ногами у него шуршали опадавшие листья, уже свернутые в трубочку ночным морозом.
На уроке в доме госпожи Грушко он с трудом высиживал положенное ему время и, наскоро закусив в какой-либо попавшейся по пути дешевой кантине, бежал на книжный склад, откуда вдвоем с Наденькой они отправлялись на свою будущую квартиру. Там произошла как-то необычная репетиция.
— Садись сюда, к окну, — сказала Наденька, сама придвигая к нему старое облезшее кресло. — Вот так. — Она отступила в угол комнаты. — А все-таки было бы хорошо, если бы ты научился курить. Трубка создает атмосферу семейного уюта. И знаешь, что? Ты будешь всегда сидеть здесь, у окна. И ты мог бы при встрече брать меня на руки, — соображала Наденька вслух. — Нет, не теперь, не сейчас. Когда мы уже поженимся.
Но он с неожиданной быстротой подхватил ее на руки.
Ноги ее подогнулись, и он увидел розовую полоску тела, блеснувшую повыше чулка, в том именно… Боже мой!., в том именно месте, о котором вовсе не следует… а следует о другом, о чем-нибудь совершенно невинном и постороннем, например, о картине, которую он видел в парикмахерской позавчера на стене и на которой Неаполитанский залив… «Стало быть, о заливе и о вазе, — думал Кравцов. — О вазиве», — путались его мысли.
Он, шатаясь, двинулся к стоявшей в углу кровати.
— Нет, нет! — шепнула Наденька.
Голова ее запрокинулась навзничь; странная и неопределенная улыбка, та самая, что чудилась ему все эти дни, бродила теперь на ее полураскрытых губах, так, словно бы он и впрямь держал в объятиях мучившее его видение.
— Оставь! — сказала вдруг Наденька, освобождаясь из его объятий.
Кравцов очнулся. Он сел на край постели и закрыл лицо ладонями.
— Ты мне ушиб колено, — пожаловалась она. — Вот здесь. Нет, не гляди, отвернись. — Кравцов послушно повернулся лицом к стене. — И ты измял мне новую блузку.
Никогда еще не чувствовал он себя таким ничтожным и мерзким. Но уже через несколько дней он позабыл о своем преступлении, тем более что и Наденька не придавала ему значения. В их отношениях произошла перемена. В их движениях, жестах, поступках появился как бы оттенок легкого опьянения. В таком состоянии застал их отъезд Федосей Федосеевича. Ранним воскресным утром они поехали провожать старика на вокзал, и там, на перроне, перед газетным киоском, но главным образом перед самим собой, Федосей Федосеевич произнес прощальную речь.
Он говорил, говорил, пока наконец резкий свисток кондуктора не положил предел его красноречию. Поднялась всеобщая суматоха. Стоявшая на перроне толпа устремилась к вагонам.
— Я вам из Марселя! — крикнул Федосей Федосеевич уже на ходу. — Как только приеду!
Он помахивал в воздухе шляпой, пробиваясь вперед к вагону, привлекая к себе внимание публики даже здесь, в давке и тесноте; его необычайный дорожный костюм, приспособленный скорей для тропиков, нежели для мирного путешествия в европейском экспрессе, резко выделялся в толпе. Хлопали дверцы закрываемых вагонов. Стальное чудовище вмиг поглотило толпу и теперь задыхалось в мучительной астме. Наступил тот короткий момент, когда сознание словно сходит с ума, подмечая десятки ненужных подробностей — верхушку тополя, качавшуюся за станционной оградой, цветную афишу на дальнем заборе, промелькнувшего в воздухе голубя, стрелку вокзальных часов, передвинувшуюся по циферблату, клочок измятой бумаги, киоск и вот этот номер вагона…
«Эта цифра… — рассеянно думал Кравцов. — Цифра две тысячи триста пятнадцать… Она ведь уедет… Мы здесь останемся, а она, эта цифра, уедет… Но зато с нами останутся вокзал и киоск, и бумажка… и тополь…»
— Пишите! — крикнула Наденька.
Федосей Федосеевич высунулся из окна:
— Да, из Марселя!
— Нет, пишите раньше! С дороги!
— Хорошо! Может быть, из Парижа. Но вот что, друзья мои. Я хотел бы несколько слов…
Кравцов не улавливал смысл его речи. Глядя на бледные лица, высунувшиеся повсюду из окон, он почему-то подумал, что все эти люди уже существовали когда-то и в таком же точно коротком мгновении. Но где и когда? Должно быть, еще в России…
— Еще в России! — кричал Федосей Федосеевич, перегнувшись вниз из окна. — Еще тогда, друзья мои, я говорил…
— Пишите! — кричала Наденька, помахивая платочком. Она пошла вслед за вагоном, и колеса ей быстро ответили: «Да, непременно, да, непременно… да, да, да, да…» Замелькали головы, руки, платки, римские двойки и тройки, потянулись пыльные крыши и, наконец, пронесся последний вагон, из-под которого с ворчливым шипением пробивалась наружу струя белого пара.
Вскоре поезд исчез в туннеле, протащив за собой игрушечные вагоны…
Часть 2-я
Наденька первая очнулась от того блаженного полусна, в котором они оба находились вот уже две недели, и пробуждение ее было так же неожиданно, как пробуждение спящей царевны посреди чуждого мира.
— Послушай, Коля, — сказала она. (Лицо ее вдруг приняло какое-то новое выражение, неизвестное доселе Кравцову.) — Нам пора наконец взяться за труд.
Он удивился:
— За работу? Так рано?
Утро едва намечалось; лысое осеннее солнце только что поднялось над домами и, заглянув в окно, осветило постель, на которой они лежали, тесно прижавшись друг к другу.
— Ну, ладно, — вздохнул, наконец, Кравцов. — Сейчас я встану и подмету комнату.
Но Наденька звонко расхохоталась. Она высвободила свою руку из-под одеяла и растрепала прическу Кравцова своими тонкими, нежными пальцами.
— Боже мой, — смеялась она. — Какой же ты дурачок. Ведь я говорю совсем о другом.
Но он глядел на нее в полном недоумении. Он ничего ровно не понимал. Тогда она первая соскочила с постели, щеголяя тем узаконенным, супружеским бесстыдством, к которому Кравцов все еще не мог окончательно привыкнуть и которое казалось ему чуть ли не святотатством.
— Сейчас я тебе кое-что покажу, — сказала она. — О, ты никогда не угадаешь, что я придумала.
Она прошла в угол, неслышно ступая по гладкому полу, и остановилась у шкафа, похожая теперь на тирольского пастушка в своих белых кружевных панталонах. Короткая сорочка, обнажив округлость ее плеча, открыла одновременно маленькую, крепкую грудь, подобную двум близнецам, сросшимся вместе.
— Ну вот. Угадай, что здесь такое?
В ее руке очутился бумажный сверток, перевязанный крест-накрест шпагатом. Но Кравцов продолжал глядеть на ее плечи и грудь, вспомнив почему-то прошлогодний осенний парк с бассейном и статуями, где осыпались блеклые листья и где так мелодично звучали скрипки из недалекого ресторана.
— Теперь смотри, — воскликнула Наденька. — Раз, два, три! — И, тряхнув своими мальчишескими кудрями, она развернула сверток. На пол упало несколько небольших пакетиков, которые она проворно подобрала. Но Кравцов глядел на нее. «Неужели же это та самая, та прежняя Наденька? Как удивительны, например, ее ноги. — Он словно впервые теперь их заметил. — Очевидно, у всех женщин такие короткие ноги», — подумал Кравцов. Вообще от того неясного платонического образа, что царил когда-то в его душе, не осталось и следа. И тем не менее Наденька была прелестна, словно ангел и бесенок заключили между собой прочный союз.
— Итак, смотри, — сказала она, приподымаясь с пола и выпрямив стан. — Здесь полтора кило первосортного чая. Ну? Что ты на это скажешь? — Вдруг она смутилась и быстрым движением запахнула сорочку. — Да не смотри же так глупо, — рассердилась она. — Будь же хоть раз внимательным, Коля. На этот чай я истратила половину имеющихся у нас сбережений. Ты должен его непременно продать. И чем дороже продашь, тем лучше для нас. И вот тебе программа на сегодняшний день: во-первых, ты посетишь мадам Бережанскую и ее сына Павлушу, и во-вторых, ты побываешь у председателя эмигрантского общества. Но только смотри, продай им чай обязательно. Весьма возможно, что они будут отказываться. Но только ты стой на своем. Хороший комиссионер должен быть упрям и настойчив. Понимаешь? Упрям и настойчив.
И пока он одевался, Наденька приготовила ему портфель, уложив туда несколько пакетиков чая. Он успел прочитать на этикетке название фирмы «Кузьмичев и компания».
«Как я, однако, буду им продавать, — думал Кравцов, шествуя, наконец, по утренним улицам и не переставая по привычке фиксировать все, что попадалось ему на пути, — голубя на карнизе белого здания, плывущие вверху облака и сверкающий осколок стекла на серой ограде, за которой, в сплетении древесных ветвей, намечалось акварельное небо. — Не могу же я им навязывать товар через силу. Купите, мол, «Розу Востока» наивысшего сорта».
К Бережанским и вообще-то он шел с некоторой опаской. Генеральшу Олимпиаду Петровну знал весь Бухарест. О ней и о сыне ее Павлуше в русской колонии ходили легенды. Говорили даже, что старуха вдова своего сорокалетнего сына наказывает и сечет, как мальчишку. И даже будто бы это она ему помешала когда-то жениться. Но одно несомненно, с Олимпиадой Петровной шутки были плохи.
«Уж не отправиться ли прямо к председателю эмигрантского общества?» — трусливо подумал Кравцов.
Но тут же он устыдился собственной робости и, сдвинув на затылок свою старую шляпу, решительно зашагал вдоль тротуара.
Бережанские жили во флигельке, в глубине грязного темного двора, каких еще немало встречается на окраинах Бухареста. Двери открыл Кравцову сам Павел Васильевич, или Павлуша, детина изрядного роста с довольно-таки старым, нечисто выбритым и каким-то не то болезненным, не то крайне истасканным лицом. Говорил он тишайшим голосом, каким говорят обычно монастырские служки, и все движения его и жесты выражали смирение.
— Вы ко мне или к маме? — встретил он Кравцова вопросом.
— К маме, — сказал Кравцов. — Пардон. К Олимпиаде Петровне.
— Мама еще отдыхает после заутрени. Но, впрочем, скоро я должен буду ее разбудить. — Он поглядел на часы. — Ровно через двадцать минут. Прошу войти.
И рука его, подобно семафору, указала на дверь. Они вошли в крохотную кухоньку, чрезвычайно опрятную и чистую, где Кравцов за неимением стула уселся на табурет.
— Сегодня табельный день, — пояснил тихо Павлуша. — Тезоименитство его высочества покойного великого князя Константина Георгиевича.
Кравцов взглянул почему-то в угол на иконы: какой-то святой с темно-оливковым лицом и с профессорской бородой строго указывал перстом на развернутый у него же на ладони свиток пергамента. Стенные часы с качающимся маятником отстукивали давнее дореволюционное время. Довоенно и древне пахло в кухне мятой и лавандой.
— Еще шесть минут, — произнес серьезно Павел Васильевич.
Он подошел на цыпочках к двери и стал прислушиваться. Голова у него уже изрядно лысела, словно оттаивала посреди заиндевевшего леса жиденьких и неровно поседевших волос.
— Через две минуты, — шепнул, наконец, он, обернувшись к Кравцову.
Он осторожно приоткрыл дверь и бочком проскользнул в нее, не произведя ни малейшего шума. Теперь шептал только маятник: тик-так, тик-так, а святой с иконы глядел на Кравцова строго и укоризненно.
— Кто? Кто? — раздался за дверью строгий и низкий голос. — Да говори толком: кто пришел?
— Не знаю, — зашипел испуганный голос Павлуши.
— А ты сначала узнай, — громко загудел голос Олимпиады Петровны. — Имя узнай и фамилию. И какого сословия. И где родился, спроси. И если из наших, военных, то в каком чине. Ведь сколько раз я тебе говорила…
Смущенный и покрасневший, Павел Васильевич вернулся назад.
— Сию минуту маменька выйдет. Извольте чуть-чуть подождать. — Потом, виновато взглянув на Кравцова: — Вы, собственно, где же служили? В пехоте или в кавалерийских войсках?
— В пехоте, — ответил Кравцов. — В сорок четвертом стрелковом.
— Офицер, стало быть? — допытывался Павлуша.
— Нет, только юнкер. Я не успел.
— А родиться изволили где?
— В Херсонской губернии.
— Из дворян?
— Нет, не совсем, — смутился почему-то Кравцов. — Мать у меня действительно была столбовая. То есть я хочу сказать: столбовая дворянка. А отец, кажется, из мещан.
— И еще имя, — произнес просяще Павлуша. — И фамилию вашу.
«Черт знает что, — подумал Кравцов. — Как в полицейском участке». Однако назвал и фамилию свою, и имя, и отчество. В это время легонько скрипнула дверь. Кравцов невольно вскочил с табурета. Перед ним стояла генеральша Олимпиада Петровна. Высокая, величественная и прямая, она уставилась на него испытующим и внимательным взглядом. Казалось, читая в его душе, она уже заранее готовилась к длительному увещеванию, к поучению и вообще к головомойке, к разносу. Она наслаждалась заранее, как художник, предвкушающий излюбленный труд.
Павлуша засуетился:
— Вот, маменька, разрешите представить. Николай Яковлевич Кравцов. Из юнкеров. По батюшке из мещан. И вот еще, извиняюсь, по матушке столбовой дворянин. Родиться изволил…
— Не помню такого, — перебила Олимпиада Петровна.
— В Херсонской губернии, — заканчивал свой рапорт Павлуша. — В тысяча восемьсот девяносто пятом году.
— Я вас не знаю, мой милый, — сказала Олимпиада Петровна. — Да вы в церковь-то ходите? Я, например, никогда вас там не видала.
— Хожу… иногда, — робея, признался Кравцов.
— Иногда? — удивилась Олимпиада Петровна. — Вы что же, не православный?
— Православный, — покорно согласился Кравцов.
— Ну как же вам, голубчик, не стыдно? Ведь вы уже не ребенок, не какое-нибудь там бессознательное дитя. И так цинично, так бессовестно вы признаётесь, что ходите в церковь лишь иногда. Это что же? От вольности мыслей? Небось на танцульки ходите ежедневно?
— Я не танцую, — ответил Кравцов.
— Врете, врете, — решила Олимпиада Петровна. — И вдобавок врете старухе, что еще постыдней и хуже. Однако милости просим, — и она пригласила его следовать за собой.
«Как я ей предложу свой товар?» — подумал Кравцов, глядя в то же время на портреты царей и архиереев, развешанные повсюду на стенах.
Но Олимпиада Петровна сама облегчила задачу купли-продажи.
— В чем же дело? — спросила она, усадив его на диван. — Чем могу вам помочь?
И как только Кравцов извлек из портфеля чай «Розу Востока», она у него тут же купила пакетик, заплатив все сполна.
— А в церковь надо исправно ходить, — поучала она. — И Богу надо молиться. А то какой же вы православный? Какой же вы русский? Ну, Господь с вами, идите. Павлуша, проводи господина Кравцова.
Очутившись на улице, Кравцов испытал то ощущение, какое бывает у нашалившего школьника.
«А все-таки чай я ей продал, — подумал он с облегчением. — Теперь к председателю эмигрантского общества. И потом уже можно домой».
Было около полудня, когда он подходил к квартире председателя Ивана Афанасьевича Данилевского, того самого высокого птицеподобного господина в английском френче, с которым он когда-то встретился у Федосей Федосеевича на складе. Он припомнил теперь и спор относительно уличной демонстрации всех славян и вместе с тем то свое давнее апрельское настроение. Каким-то иным, ярким видением представилась ему Наденька. И сам он себе представился каким-то иным. В этой оглядке назад, в прошлое, таился неясный намек, может быть указание, но думать было не время, дверь уже раскрывалась, и госпожа Данилевская с папильотками в рыжей прическе предстала перед ним тоже внезапным видением.
— Вы, должно быть, к мужу? — защебетала она. — Подождите вот здесь, в передней. У мужа сейчас важное совещание. Вообще очень принципиальный и деловой разговор. Муж чрезвычайно занят политикой. Я сама не вижу его целыми днями. Только вечером, и то не всегда. Муж перегрузил себя общественной работой. Переутомил.
Она говорила не останавливаясь, словно в бреду, и ее худое лицо с яркими мазками искусственного румянца изредка пересекалось гримасой.
Оставшись один в передней, Кравцов стал невольно прислушиваться к доносящемуся из кабинета громкому разговору. Чей-то голос, похожий на кваканье вечерней лягушки, возражал тонкому голосу Ивана Афанасьевича Данилевского. Но вот дверь с шумом раскрылась, и на пороге показался толстенький, низенький и пухленький человечек с лягушачьими выпуклыми глазами.
— Так не отдадите, Иван Афанасьевич?
— Нет. Не отдам, — решительно подтвердил Данилевский. — Мне дела нет до того, что вы там кого-то выбрали в церковные старосты. Я не был на выборах. Я не присутствовал. Понимаете? И я эти выборы считаю неправильными.
— Да ведь не я же выбрал другого старосту, — возмутился толстяк. — Община его избрала. И постановили единогласно: просить вас сдать новому старосте дела и ключи.
— А вот я и не дам! — закричал Данилевский. — Ваши выборы суть недействительны. Слышите? Недействительны.
— Ох, раскаетесь, Иван Афанасьевич.
И толстяк нахохлился, точно посметюх.
— Не пугайте, Егор Пантелеич. Я и сам бывал на войне.
— Ну хорошо же, — прошипел, багровея, толстяк. — Если не желаете подобру, так мы на вас адвоката напустим.
— Хоть десяток! — взвизгнул вдруг Данилевский. — Хоть сотню. А квартиру мою прошу немедля покинуть. И ключей я вам не отдам. Никогда и ни за что не отдам.
Толстенький выкатился наружу, вовсе не заметив Кравцова, и дверь за ним закрылась, как мышеловка.
— Этакие прохвосты, — вздохнул Данилевский. — Тоже еще. Пугать вздумал.
И тут он увидел Кравцова:
— Вы ко мне?
— К вам.
— Попрошу.
Кравцов вошел в довольно просторную комнату, похожую скорей на полковую канцелярию, нежели на кабинет председателя эмигрантского общества. Большой письменный стол посредине был сплошь завален бумагами. В углу приютилась скромная железная кровать, прикрытая грубым солдатским одеялом.
— Садитесь, — и Данилевский кивнул в сторону стула. — Прежде всего с кем имею честь говорить?
Он придвинул к себе объемистую книгу и, раскрыв ее на чистой странице, обмакнул в чернильницу и стряхнул перо. Кравцов назвал себя и хотел было уже предложить «Розу Востока», даже раскрыл портфель, но Данилевский остановил его жестом:
— Погодите одну минутку. Надо во всем соблюдать дисциплину. Порядок. Итак, ваша фамилия?
Кравцов снова назвал себя. Перо со скрипом забегало по бумаге.
«Зачем это он?» — недоуменно подумал Кравцов.
— Имя Николай, — повторил Данилевский. — отчество Яковлевич. Вы, стало быть, хотите просить…
— Я не просить, — воскликнул Кравцов. — Я продавать.
— Одну минутку. Пардон.
Перо продолжало скрипеть.
— Мы регистрируем каждого посетителя, — пояснил, наконец, Данилевский, кладя перо и промокая написанное. Каждый посетитель имеет свой номер. Ваш входящий номер, следовательно, восемьсот сорок девятый.
— Но я не посетитель. Я с чаем, — сопротивлялся Кравцов.
Данилевский впервые взглянул на него круглыми птичьими глазами:
— С каким-таким чаем?
Глаза его стали стеклянными, они заиндевели, замерзли и приняли молочный оттенок.
— «Роза Востока». Наивысшего сорта. «Кузьмичев и компания», — залпом ответил Кравцов.
— Какая компания? Что за компания? Я ни о какой компании до сих пор не слыхал.
— Это на чае, — пояснил неумело Кравцов.
— Вы, значит, с кем-то в компании? — спросил Данилевский.
— Мы, собственно, двое. С женой. Но я не об этой компании, я об иной.
— Ничего не пойму, — сказал Данилевский. — Из ваших слов могу заключить, что в Бухаресте существует две какие-то эмигрантские компании. А я, ваш председатель, до сих пор ничего об этом не знаю. — Он стал нервно постукивать костяшкой длинного пальца по краю стола. Глаза его не мигая глядели Кравцову в лицо.
— Это на этикетках чайных написано, что компания, — пытался извернуться Кравцов. — А так вообще никакой компании нет.
— Погодите, погодите, — прервал его Данилевский. — Вы только что утверждали обратное. А теперь вы противоречите сами себе. Вы говорили мне о какой-то компании, потом говорили о двух лицах, а теперь твердите, что никаких компаний вовсе не существует.
— Существует, — пролепетал безнадежно Кравцов. — «Кузьмичев и компания».
— Милостивый государь (и Данилевский поднялся со стула), я попрошу вас меня не разыгрывать. Я не семилетний мальчишка, чтобы позволить с собой обхождение подобного рода. Я с вами телят не гонял… то есть не пас. Извините.
Тогда с жестом отчаяния Кравцов извлек из портфеля «Розу Востока». Ему стоило немало труда объяснить наконец Данилевскому, о какой компании он говорил. Он упомянул при этом, что чай «Кузьмичев и компания» исключительно первого сорта и что генеральша Бережанская купила у него, например, целую четверть.
— Но ведь вы же не состоите у нас в обществе эмигрантов, — возразил Данилевский. — Вы не удосужились даже у меня записаться. И сразу же, простите, лезете с чаем. Надо сначала зарегистрироваться, внести членские взносы, а потом уже чай предлагать.
— Я не знал. Я запишусь, — произнес Кравцов почти умоляющим голосом. — Теперь у меня очень плохо с деньгами. Но как только я заработаю, я сейчас же у вас запишусь. Непременно у вас запишусь.
— Нет, так нельзя, — упорствовал Данилевский. — Мы не можем покупать чай у совершенно постороннего нам человека. Может быть, вы и не русский даже, а китаец или японец. Откуда я знаю? Может быть, вы португалец или испанец.
Кравцов почувствовал, как густая краска заливает ему щеки и шею.
— Я не испанец. Я русский, — сказал он с неожиданной твердостью, удивившей даже его самого.
Никогда прежде не испытывал он такого волнения. Что-то сжало ему горло. И даже не поклонившись, он вышел из комнаты, прижимая локтем портфель. На улице он вынул платок и вытер вспотевший лоб. Руки его дрожали. Он шел, не отдавая себе отчета куда и зачем, не замечая встречных людей и окружавших его предметов. Он боролся с отчаянием, подымавшимся изнутри. Ему казалось, что на все его прошлое, на весь его мир, доселе прекрасный, чистый, надвигается темная туча. И вот уже тускнеет перламутровый горизонт, и Наденька что-то шепчет в тени, и лицо ее жалко и бледно.
Статьи
Бесшумный расстрел (Мысли об эмигрантской литературе)
Мне кажется, что после бесконечных и многолетних хождений вокруг да около, пора наконец кому-нибудь высказаться начистоту. Пора сказать правдивое слово, не боясь нападок со стороны, смело и открыто сказать, почему с эмигрантской литературой обстоит у нас дело неблагополучно. Есть много причин, о которых все знают и все же молчат, как о рубашке пресловутого сказочного короля. Но из всех этих «многих» причин можно выделить несколько основных, и о них необходимо сказать в первую очередь. Прежде всего нужно признаться, что у нас в эмиграции нет свободной литературы, точно также как нет ее и в Советской России.
Мы закрепощены так же, как там, с одной стороны, зависимостью от того или иного эмигрантского издания (здесь политика переплетается с протекционизмом), с другой стороны — мы связаны «социальным заказом» доминирующей в эмиграции критики (в Советской России — Кольцов, у нас — имя рек), причем в Советской России этот заказ уже хоть тем удобен, что раз навсегда «установлен» на Карла Маркса, а у нас он меняется каждый год, иногда каждый месяц, и «установка» его то на Пруста, то на Джойса, то на какого-нибудь иного представителя иностранной литературы, часто вовсе не нового, но откопанного досужим критиком для своего личного «эксперимента». Вот уже подлинно по-некрасовски: «Что ему (критику) книга последняя скажет, то на душе его сверху и ляжет». Нужно здесь же сделать существенную оговорку: эта мыльная пена «художественных» установок фабрикуется главным образом в Париже. Пеносбиватели давно уже всем известны и результат их работы тоже: эмигрантская литература, главным образом проза — обескровлена.
Но есть у большевиков перед нами одно неопровержимое преимущество. Там хотя и навязывают писателю свою «установку», хотя и давят литераторов чекистской подошвой, но одновременно с этим и подбадривают их, и призывают к работе, и как-то, по-своему, создают атмосферу. (Своеобразный ванька-встанька, подымающийся после щелчка, — вот образ советского литератора.)
Здесь же, за рубежом, эмигрантский писатель постоянно и неизменно слышит только замогильные голоса да карканье литературных ворон, свивших себе прочные гнезда в некоторых наших эмигрантских изданиях. Стоит ли повторять, о чем пишут из года в год наши литературные мортусы? Здесь и «оторванность от родной почвы», и потому «ничего, мол, из вас не выйдет», и соответствующий подбор цитат, ловко пригнанных к их собственному опустошенному мировоззрению, говорящих о тлене и прахе, о напрасной тщете усилий, и т. д., и т. д., здесь и постоянные разговоры о кризисе литературы вообще, а эмигрантской в частности, и многое иное, достаточно, впрочем, известное каждому. Эмигрантский писатель поставлен в положение школьника-новичка, которого всякий, кому только не лень, может дергать за волосы. А если он, Боже храни, идет своим особым путем, независимым от всех этих очередных «установок», то его попросту подвергают остракизму, замалчивают или же вовсе не пропускают в печать. Все это бесспорно, все это правда, и об этом все сейчас упорно молчат.
В конечном итоге немногие эмигрантские писатели уцелеют от такого «бесшумного расстрела», а сколько уже погибших, отошедших от литературы, имена которых больно назвать в печати. А между тем никогда и никому из русских писателей не приходилось жить в столь стесненных условиях, когда и жалкая комната Белинского с геранями в окнах чудится чуть ли не «буржуазным раем». Никогда и ни у кого из русских писателей не было так мало свободного времени «для себя», не было такого душевного одиночества, заброшенности, зависимости и подневольности. И никто никогда не посылал своих творений в такое безвоздушное, в такое стратосферическое путешествие — откуда ни отклика, ни звука, ни поддержки. Что же, по-гоголевски? «Батько! Где ты? Слышишь ли ты все это?» Но «батько» — он же русский читатель — расселся по всему земному шару, от мыса Доброй Надежды до Клондайка и Калифорнии, и если даже услышит случайно, то не пробиться ему сквозь тысячи километров, не произнести нужного, ободряющего слова.
И вся самоотверженная работа эмигрантского литератора превращается в конце концов в «исторический документ» для того будущего русского приват-доцента, который, чтоб стать профессором, приготовит ученую диссертацию «О некоторых попытках литературы в изгнании». Что же, работать только для этого будущего историка? Нет, надо работать для общего русского дела. Работать в молчании, стиснув зубы. Работать с оглядкой на русских классиков, а не на их искривленное отражение в западноевропейских литературах, и если нужно, то работать «вплоть до бесшумного расстрела», до той «высшей меры наказания», какую наложила на всех инакомыслящих «самоизбравшаяся» и царствующая ныне элита. Расти «под кирпичом», как растут под ним на лугу весенние травы, расти полураздавленным, расти вкось и вкривь, но расти во что бы то ни стало, даже без надежды, что кто-нибудь подымет тяжелый кирпич, ту «штемпелеванную калошу», о которой говорил недавно Д. В. Философов. И если случится чудо и кирпич будет все-таки сдвинут, то уцелеют лишь те немногие, кто «по-гинденбурговски» обладал крепкими нервами, кто не испугался зловещих сов и жестокой изгнаннической судьбы, кто имел перед собой одну крепкую цель: исполнить свой долг перед будущей освобожденной Россией.
Есть, впрочем, еще один вид «бесшумного расстрела», применяемый исподволь и часто даже по недомыслию, но упорно, но постоянно, «правыми» и «левыми» представителями зарубежной элиты. Есть одна «общая линия» в писаниях наших зарубежных критиков — это отход от русских истоков и ориентация на иностранные авторитеты. Не Достоевский — но Пруст, не Толстой — но Андре Моруа, не Бунин, не Мережковский — но Жид, Роллан или Мориак.
Прав П. М. Бицилли, написавший в одной из своих статей: «Пруст, Андре Жид несомненно и явно связаны с Толстым и Достоевским. Но, читая русских «столичных» писателей, мы, через Пруста и А. Жида, которые так и выпирают у них с каждой страницы, не видим ни Толстого, ни Достоевского, а это значит, что, тогда как Пруст и Жид продолжают традицию мировой литературы, их русские ученики из мировой литературы выпадают: их «столичность» оказывается на деле провинциальностью». («Россия и Слав.». 4.IV. 1933).
Но мне кажется, что дело здесь не только в «провинциальности», а, главным образом, в отрыве от живых истоков русского языка и от вековой русской литературной традиции. Этот отрыв уже начинает сказываться в косноязычии, в неумении строить фразу, диалог (диалог ведь как раз и является основным признаком национальности писателя), даже в импотентном отказе от диалога, в омертвении языка и в той неумелой подражательности, которая напоминает подчас африканского негра, надевшего на голову европейский цилиндр.
Только «живой водой» может спастись русская литература в изгнании, только постоянным духовным общением с нашими бессмертными мертвецами, защищающими нас из-за гроба, подобно «дорожному товарищу» из сказки Андерсена. И нужно сказать в заключение, что уже заметен легкий сквозняк в нашем душном литературном инкубаторе, уже, например, раздаются голоса «о переоценке ценностей» (правда, голоса эти звучат еще подсознательно и в духе очередной «установки»).
Есть все же какая-то доля надежды, что кирпич будет сдвинут (увы, через четырнадцать лет!), и полузадушенный, полураздавленный эмигрантский писатель скажет наконец свое слово.
Точки над «i» (Ответ Д. С. Мережковскому)
Д. С. Мережковский в статье «Около важного» касается, между прочим, и некоторых высказанных мною положений об эмигрантской литературе, с той только разницей, что говорит не о всей эмигрантской литературе, а только лишь о литературе, группирующейся вокруг парижского журнала «Числа». Остальные эмигрантские писатели, живущие вне Парижа, для Д. С. Мережковского — это лишь те, кто «высасывает из пальца патриотические стишки, браня злых дядей-редакторов, которые их не печатают». Фраза в устах Д. С. Мережковского, по моему мнению, и небеспристрастная, и несправедливая. Что знает Д. С. Мережковский об эмигрантской молодой литературе, чтобы так, сплеча, наотмашь высказывать о ней свое мнение? Разве молодая эмигрантская литература исчерпывается только кружком «Зеленой лампы», в котором наш маститый писатель играет роль и руководителя и арбитра? И позволительно ли писателю с уже европейским именем быть столь неискренним в оценке современной литературной жизни, чтобы ничтоже сумняшеся отмести «генеральским жестом» всю даже незнакомую ему литературу, вне Парижа творимую, ссылаясь при этом на довольно необъективный пример «о патриотических стишках»? Могу тут же указать Д. С. Мережковскому на пражский хотя бы литературный кружок «Скит поэтов», где кропанием «патриотических стишков» никогда не занимались, как не занимаются, впрочем, и в других литературных кружках нашей эмигрантской «провинции». И потому мнение Д. С. Мережковского на этот счет следует признать голословным.
Но вот что меня несказанно поразило. «Научиться культуре, — говорит Д. С. Мережковский, — не одна ли из задач, поставленных нам судьбой?»
Тут уж я возьму на себя смелость ответить почтенному автору, что «научиться культуре» вообще нельзя. Культура — это продукт многовекового и, заметьте, Дмитрий Сергеевич, национального воспитания народа, особенно если мы говорим о таком великом народе, как народ французский. «Научиться культуре» может только какой-нибудь парикмахер, ибо «научиться культуре» это вовсе не значит стать самому культурным. Можно приобщиться к культуре, можно понять чужую культуру (и даже полезно ее понять, не спорю), но «научиться ей» невозможно. Вот почему в своей статье («Меч», 9–10) я говорил о «подражательности» парижских писателей и вот в каком смысле я призывал вернуться к истокам русской литературной традиции, ибо эта традиция как раз и связана с нашей собственной готовой культурой. Выходит, стало быть, что дело вовсе не в «патриотических стишках», а в ясном и трезвом понимании ну хотя бы и того обстоятельства, что каждая литература, в основе своей, связана с родным ей языком и что утрата этого языка, как бы мы ни «научились чужой культуре», ведет неизменно к провалу.
Но уж если меня обвинили в «квасном патриотизме», то не побоюсь и другого обвинения, и на этот раз, может быть, еще более грозного. По моему глубокому убеждению, мы могли бы взять пример с писателей, находящихся ныне в России. Ведь не случайно же лучшие из них «равняются» на наших отечественных классиков, и это обстоятельство ведь нисколько не мешает им творить новый стиль и высказывать новые мысли. Я говорю, конечно, только о лучших из них, о Леонове, например, и Федине, а не о том писательском коллективе, который играет там приблизительно такую же роль, какую играет здесь у нас «коллектив парижский».
И есть еще одно обстоятельство, о котором мне хотелось бы сказать поясней, чтобы поставить над всеми «і» все полагающиеся точки. Я ведь прекрасно знаю, что высказываюсь почти впустую, что восстаю против коллектива, монополизирующего даже ту свободу, о которой с таким умилением говорит Д. С. Мережковский. Но есть еще русский читатель, с мнением которого всегда придется считаться и для которого, в сущности, литература и создается. И вот этот русский читатель поставлен сейчас в странное положение: с одной стороны, ему преподносят «За чертополохом» Краснова, а с другой… «Шум шагов Франсуа Биллона» — рассказ сотрудника «Чисел». (Я говорю, конечно, только о «новой» эмигрантской литературе, не упоминая многих замечательных произведений литературы «старой».) Бедный эмигрантский читатель хочешь не хочешь должен читать о Франсуа Биллоне, да еще не просто о нем, а о «шуме» его ботинок, о легчайшем шорохе его шагов. Конечно, задумано тонко, что и говорить. Ведь и самого Ф. Биллона только в словаре и разыщешь.
Но вот представьте себе того грядущего историка литературы, о котором я уже говорил в своей предыдущей статье, вообразите себе ту жадную пытливость, с какой он набросится когда-нибудь на пожелтевшие страницы наших эмигрантских журналов, чтобы понять, уяснить ту горькую жизнь, какой мы дышали в изгнании. Как удивится, должно быть, ученый-историк, прочитав подобный рассказ, действительно ведь высосанный из пальца, не связанный ничем с нашим историческим сидением в изгнании, неотражающий ничуть нашей действительности. И поймет ли русский ученый, что в самый трагический момент нашей истории мы только лишь беззаботно «учились культуре» по рецепту Д. С. Мережковского.
Любопытно, что сам Д. С. Мережковский в своей статье «Около важного» роняет многознаменательную фразу. «Лозунг «Искусство для искусства», — говорит он, — никогда не был у нас влиятельным, его приверженцы никогда не выходили из низин». И затем, в той же статье, уже тревожно спрашивает: «Неужели мы равнодушны к жизни, ко всем ее вопросам? Уж не хочет ли Оцуп сказать, что мы исповедуем «искусство для искусства»? В этой тревожной фразе Д. С. Мережковского, сказанной им на этот раз вполне искренно, и заключается вся суть вопроса. Но почему же тогда не обратиться к живой жизни, почему не отказаться от мертвых схем и зыбких мудрствований? Почему не признаться чистосердечно, что эмиграция вовсе не миф, не только «дурная сказка», а своеобразный уклад жизни с своим особенным бытом, что она заслуживает того, чтобы о ней именно писали ее писатели.
Невольно вспоминаются мне слова Достоевского: «В угоду общественному давлению молодой поэт давит в себе натуральную потребность излиться в собственных образах… и вытягивает из себя, с болезненными судорогами, тему, удовлетворяющую общее, мундирное, либеральное и социальное мнение. Какая, однако, ужасно простая и наивная ошибка, какая грубая ошибка!» Конечно, я знаю, что убедить в чем-либо Д. С. Мережковского трудно, но я позволю себе только заметить, что «литературы больше литературы» вообще не существует. Есть литература хорошая и литература плохая. И хорошая литература всегда «бродит около важного», но бродит без всякого «шума шагов». Да и как определить это важное? Все в жизни одинаково важно, будем ли мы глядеть на нее смеющимися глазами Антоши Чехонте, или так, как глядел на нее Достоевский. Мне кажется, например, что рассказ Лескова о том, как солдат подковал блоху, независимо даже от своей «пустяковой» темы, навсегда останется для нас прекрасным произведением русской литературы.
Пора бы уже отрешиться от «писаревщины», понять, наконец, что не тема определяет «важность» литературы, а качество самой литературы, сочетание стиля и языка, культура ее речи, свежесть и новизна ее художественных установок, а следовательно — поступательное движение вперед по уже проторенной, своей собственной национальной дороге. Не будем же, по совету Козьмы Пруткова, стремиться «объять необъятное», предрешать заранее ход свободной мысли художника, наклеивать ярлыки и устанавливать номенклатуру. В живом деле русской литературы не должно быть «музейности». В ней все абсолютно важно — и горестные размышления протопопа Аввакума, и жизнерадостный смех молодого Чехова. Аккуратность «первого ученика», раскладывающего по полочкам «серьезные» и «несерьезные» книги, всегда ведь представлялась нам убогой. Но это уже отдельная тема, к которой, вероятно, придется не раз возвращаться в наше странное, путаное и сбивчивое время.
Заканчивая свою статью, я хотел бы еще указать на одну совершенно неискреннюю фразу Д. С. Мережковского. «Господин Федоров из Чехословакии, — пишет Д. С. Мережковский, — напрасно так горько жалуется на безвыходную будто бы судьбу молодых писателей: не беспокойтесь, справятся». Д. С. Мережковский, конечно, прекрасно знает, что обращается не просто к «господину из Сан-Франциско», а к молодому эмигрантскому писателю, которого если он и не читал, то о котором, во всяком случае, слышал. Ведь выпустить книгу рассказов в эмиграции — это уже само по себе «событие», и, по образному выражению Д. С. Мережковского, «на свет Божий появиться — это все равно, что гору сдвинуть». Боюсь показаться нескромным, но мне кажется, что Д. С. Мережковский прекрасно осведомлен и о выпущенных мною в эмиграции книгах, и о многочисленных рассказах, печатавшихся в целом ряде наших изданий. Д. С. Мережковский только «для красного словца» называет меня «господином из Чехословакии». Своеобразный «литературный прием» в так называемой «честной борьбе». (А может быть, «расстрел на расстоянии»?)
И как же тут опять не вспомнить Достоевского! «Ведь случается иногда с самым серьезным человеком какой-то каприз, какая-то потребность избочениться, вставить в глаз стеклышко и посмотреть на вселенную — ну хоть так, как смотрят у нас иногда на вселенную, в четвертом часу пополудни, на Невском проспекте».
Марк Шагал
Шагал — художник с мировым именем. Это все знают, но мало кому известно, что Шагал пишет стихи. Приводим одно из ранних его стихотворений:
Вечер. Сад. Месяц. Ты. Сладкий запах резеды. Поцелуешь, Иль обнимешь, Или скажешь: «Отойди». Губит ласка. Любит вечер запах сада резеды.Поэзия занимает в творчестве Шагала крайне незначительное место. Но как раз стихи позволяют нам определить и творческий путь художника, и его место в искусстве.
Шагал порой менял и манеру письма, и стиль. Самые ранние его работы написаны в реалистическом стиле. Таков, например, двухэтажный дом в Лозно, под Витебском, где помещалась парикмахерская З. Шагала.
Затем художник учился в мастерской Леона Бакста. Далее прошел через последовательное увлечение новейшей французской живописью, кубизмом, Пикассо, супрематизмом Малевича и Родченко, футуризмом Давида Бурлюка, примитивизмом Ларионова и Нико Пиросманишвили. Однако по размаху своего дарования Шагал таков, что его трудно вместить в берега какого-либо одного направления в современной новаторской живописи.
Стихи же Марка Шагала, в сопоставлении с живописью художника, дают нам право утверждать, что Шагал был и остается самым выдающимся, самым значительным представителем иммажинизма в изобразительном искусстве. Художник делает в живописи то же, что Сергей Есенин в поэзии.
Но не формальные признаки, а что-то другое сближает их.
Это другое — любовь к родному пепелищу. Шагал так же привязан к своему Витебску, как Есенин к Рязанской губернии. Эта любовь и освещает творческую деятельность художника неповторимой теплотой.
И в стихах, и в картинах Марк Шагал — лирический поэт. В нем уживается гениальный ребенок, которому открыты тайны творения и крушения миров, с сентиментальным мещанином, играющим на скрипочке, закатывая от умиления глаза.
Однако силою своего таланта Шагал претворяет сентиментальность в любовь к жизни, к сокам и пьянящему хмелю ее. Позднее из этой сентиментальности вырастает сострадание к человеку, стремление облегчить боль и страдания его.
С годами живописная манера Шагала меняется.
В раннем периоде творчества художник, казалось, писал свои картины не красками, а лучами солнца. Приходилось ли вам подолгу смотреть на солнце, когда искры золотого света пляшут в глазах? Тогда наше представление о красках меняется. Черные тени становятся ярко-ярко-синими, цветы и травы разгораются в ослепительно яркий зеленый костер. Тогда весь мир обезгорен огнецветным пламенем. Именно такими и запечатлел человека и природу ранний Шагал. Его голубые дома и пейзажи с куполами церквей, которые горят, как свечи, переносят реальный мир в очарование и сказку.
У Шагала мы часто встречаем летающих по воздуху людей. Этот прием использован для того, чтобы окрылить внутренние переживания человека, сделать легенду из радости и нежности. Фантастические мотивы превращают картину в какую-то лирическую поэму в красках. Воспоминания о детстве и юности становятся тогда волшебной сказкой.
Поздний Шагал удалился от солнца, из края огнецветных и зеленых огней, в мир синих, вечерних теней. Из синевы сумерек рождается одухотворенная красота.
Вторая мировая война наложила на творчество Шагала особенно грустный, трагический отпечаток. Летающих юношей и девушек, окрыленных чистой и светлой любовью, сменили летающие мертвецы, окрыленные отчаянием и скорбью. Все чаще и чаще появляется образ распятого Спасителя на фоне охваченных пожаром зданий.
Но над огнем и смертью торжествует любовь. Только любовь позволит воздвигнуть на обугленных пепелищах новую жизнь. И Шагал, чаруя нас вдохновенной музыкой красок, становится проповедником этой любви. Не только в исключительно формальном мастерстве, но и в благороднейшей любви к человеку заключается значение лирических красок Марка Шагала.
«Зеленые скиты»
Техника объявила войну природе.
Инженеры — это гангстеры, которые силятся взломать природу, как несгораемый шкаф.
Земной шар ограблен!
Но природа этого не прощает: она беспощадно мстит — и миру не уйти от этой мести, ибо природа могущественнее техники.
В Ленинграде, там, где когда-то был рынок, вдруг — неожиданно — погорбилась и в нескольких местах дала глубокие трещины асфальтовая мостовая. Оказалось, что асфальт разворочен натужными усилиями маленьких грибов, которые старались выбиться из душного склепа на волю.
В Крыму, в Севастополе корни пирамидальных тополей заставили покоситься и чуть не опрокинули навзничь тяжелые бетонные столбы, мешавшие этим деревьям развиваться и дышать.
Приведенные эпизоды только мельчайшие частицы; но они позволяют нам, путем обобщения, подойти к определению целого.
На пароходе случайно встретились лесовод и именитый инженер-орденоносец, автор проекта гигантской электростанции.
Оба, желая как-нибудь скоротать время до прибытия парохода на место назначения, вступают в беседу. Беседа перерастает в принципиальный и поучительный диспут.
Инженер слагает восторженные дифирамбы в честь техники и говорит о том, каким благодеянием для России явится воздвигаемая по его проекту электростанция.
Лесовод иронически усмехнулся:
— А знаете ли вы, что ваша хваленая электростанция рано или поздно станет, и окажется, что работы произведены впустую. Придется все сызнова начинать.
— Почему? — удивился инженер.
— А вы зачем леса вырубили вдоль берегов речных? — спросил, в свою очередь, лесовод.
Инженер пожал плечами. Тяжело иметь дело с тугодумами или — точнее — со скудодумами. Он же инженер, маршал интеллектуального труда, а не какой-нибудь дровосек. Какое ему дело до того, кем вырублен лес. Да и беда-то невелика. Не могут же десятки тысяч строителей без топлива обойтись.
— Берега реки будут осыпаться и оползать в воду; кроме того, река начнет быстро мелеть, ибо ватаги ручьев, ручьишек и ключей, живущих в лесу, как у Христа за пазухой, на вырубках скоро иссохнут. Ваша станция по горло уйдет в песок, и вы останетесь без воды, — предостерег своего собеседника лесовод.
Инженер вначале растерялся, но затем опомнился и, взяв строгий тон, дал лесоводу понять, что власть и партия не гладят по головке противников индустриализации.
Но лесовод не из трусливых.
— Можете, если желаете, заявить, кому полагается. Я от своих слов не отопрусь, — предложил он инженеру.
Беседа эта выхвачена нами из повести Константина Паустовского «Преодоление времени». Повесть года два назад печаталась в журнале «Огонек».
Профессор Багалей, один из героев «Преодоления времени», как нельзя лучше охарактеризовал искомое нами целое:
— Война скоро кончится. Мы победим. Это бесспорно. Но вы представляете, что будет после войны. Разбитые города и села, дороги и мосты, одичалые земли, сорняки, лесные гари, взорванные плотины и заводы. Начнется восстановление. Это превосходно, но не для меня. Это меня не устраивает!
— Почему?
Профессор Багалей отвечает и на это:
— У нас из года в год падают урожаи и пересыхают реки. Что будет дальше? Засухи и суховеи будут опустошать поля, а кое-где начнется и засоление почвы. Стране угрожают разорение и вечный голод.
То, о чем профессор Багалей ведет речь, и есть необходимое нам целое, оно складывается из сумм мельчайших частиц, только что отмеченных нами; это целое называется возмездием природы за варварскую индустриализацию Иосифа Сталина.
«Давай быстрей! Темпы, темпы и еще раз темпы!»
«Пятилетку — в три года, в четыре года!»
«Догнать и перегнать!»
Вот лозунги, которыми партия стегала Россию, понукая ее к безрадостному и, может быть, к сизифову труду.
Составители планов и чертежей, направленных к тому, чтобы придать стране совсем иной облик, не брали в расчет природу.
Послушные «роботы» Сталина думали только о том, чтобы как можно скорее выполнить приказ вождя, и не задавались целью отыскать равнодействующую между природой и техникой. Насилие над природой не может не привести к катастрофе, размеры и характер которой так метко очерчены профессором Багалеем.
Зажатые в железные тиски сердца и души советских людей напряженно ищут выхода из катастрофы, и выход этот подсказан им не столько наукой, сколько искусством.
Выход — в поисках новой религии, которая заменяет исповедуемую марксистами веру во всемогущество техники верой во всемогущество природы.
Возник неопантеизм!
«Человек подчиняется или космическим силам, или технической цивилизации. Мало сказать, что он подчиняется, он растворяется или исчезает или в космической жизни, или во всемогущей технике, он принимает или образ и подобие природы, или образ и подобие машины. Но и в том и другом случае он теряет свой образ и разлагается на элементы. Исчезает человек как целостное существо, как существо внутренне центрированное, духовно сосредоточенное, сохраняющее связь и единство. Дробные и частичные права человека предъявляют права не только на автономию, но и на верховное значение в жизни. Самоутверждение этих разорванных элементов в человеке, например, несублимированных элементов подсознательного, сексуального влечения или воли к преобладанию и могуществу, свидетельствуют о том, что целостный образ человека исчезает и уступает место нечеловеческим природным элементам. Человека нет, есть лишь функция человека. Но это распадение человека на те или иные функции есть прежде всего порождение технической цивилизации. Наибольшей остроты достигает процесс дегуманизации в современной технике войны, которая больше не нуждается в человеческой доблести. Техническая цивилизация требует от человека выполнения той или иной функции, и она не хочет знать человека, она знает лишь функции. Это есть не растворение человека в природе, а уподобление человека машине. Когда цивилизованный человек тяготеет к природе, то он хочет вернуться к целостности и бессознательности, так как сознание расщепило его и сделало несчастным. Это есть романтизм.
В этом отношении очень сейчас характерен Клагес. Когда человек стремится к совершенному выполнению технических функций, когда уподобляет себя новому богу — машине, то это тенденция обратная, не к целостности, а к дифференциации все большей и большей, но человек исчезает и в той и в другой тенденции, обе тенденции дегуманизируют. Человек не может быть ни образом природы, ни образом машины. Человек — образ и подобие Бога».
Вот каким образом раскрывает Н. А. Бердяев взаимоотношения человека и техники («Судьба человека в современном мире. К пониманию нашей эпохи»).
Интуиция выше рассудка. В глубинах наших чувств и дум не только подсознание, но и надсознание или сверхсознание; именно это сверхсознание — а не атавистическое тяготение к старине, к обычаям и заветам предков — побуждает советского человека к внутренней борьбе против принудительной механизации и стандартизации душ. Тело можно поработить и омашинить. Русские мускулы и даже русский мозг можно — сильным напряжением воли — уподобить металлическим роботам. Но ни дух нации, ни душу русского человека образом и подобием машины сделать нельзя: такова сила интуитивного сопротивления вере во всемогущество техники. Быть может, техническая цивилизация расщепила сознание человека, но ей не удалось расщепить душу его. Быть может, в том, что сталинская индустриализация принесла России не радость, не облегчение от забот, а только страдания и кровь, не горе, а, наоборот, высшее счастье родины: России суждено доказать миру, что человек выше техники; она завоевала это право многолетней мученической жизнью; в этом ее историческая миссия.
Русский человек отвергает веру во всемогущество техники, ибо эта вера делает его несчастным и убивает свободу личности. Но советский человек, стремясь уйти от веры в машину, не может вернуться к старым богам, потому что образ Бога в его душе разрушен. Тогда он начинает боготворить природу, видя в ней и истинного Бога, и своего спасителя; своеобразие этого неопантеизма в том, что вера во всемогущество природы противопоставлена вере во всемогущество техники, которая уродует и калечит душу человека. В этом неопантеизме можно видеть и зачатки совершенно новой религии и особого рода богоискательства. Неопантеизм входит во внутренний мир советского человека; неудивительно поэтому, что неопантеизм отражен и советской литературой.
Лейтенант Огарков, герой повести Эммануила Казакевича «Двое в степи», освобождается от страха смерти странной уверенностью в том, что он, соединясь с землей, станет кустом дикой малины или папоротником, что растет в лесу.
Казакевич вторит поэту Вадиму Шефнеру, у которого есть такие стихи:
Не у машин бессмертию учись, А у травы и у простой полыни.(Цитирую по устному выступлению Шефнера в Доме писателей Ленинграда, а не по неудачно исправленному тексту, что помещен в журнале «Знамя».)
Пантеистическое мироощущение Казакевича и Шефнера очень уж наивно и как-то простовато. Но оба эти писателя не отличаются от того среднего советского человека, который испытывает перед природой и мистический восторг, и мистический ужас.
Гораздо более сложен и глубок пантеизм Михаила Пришвина, Ивана Соколова-Микитова, Ксении Некрасовой и Константина Паустовского, творчество которых как бы перекликается с живописью Бялыницкого-Бирули и Лидии Бродской.
Мне кажется, что та глубина, с которой эти художники раскрывают проблему взаимодействия человека и природы, объясняется воздействием Гете. Наши мастера своими художественными образами раскрывают следующую мысль Гете: «Полная тайн природа не позволяет сорвать с себя покрывало. И что она не хочет открыть тебе, то не вырвешь у нее рычагами и винтами».
Михаил Пришвин назвал свой творческий метод «микрогеографическим». В своих маленьких рассказах и очерках, написанных им в последний период творчества, Пришвин как бы смотрит на природу в увеличительное стекло и видит лик Бога в каждой травке, в каждом листике. Этот край малых величин куда сложнее и совершеннее машинного мира. Тот, кто хочет выпрямить согбенную душу, должен открыть этот край.
Весь Пришвин, раздувая из искры неясной ясное знание, вышел из двух строк Уитмана:
«Я знаю: мельчайшая жилка у меня на руке есть насмешка над всеми машинами».
И. С. Соколов-Микитов в прозе, Ксения Некрасова в стихах, Бялыницкий-Бируля и Лидия Бродская в живописи — пейзажисты.
Всех их сближает стремление облегчить ту боль, которую испытывает душа человека, когда по ней неустанно бьет тяжелый молот технической цивилизации.
«Техника, присоединившись к душе, дала ей всемогущество, но она же ее и раздавила. Появилась «техническая душа», — констатировал В. В. Розанов в «Уединенном».
Пейзажисты современного русского искусства — проповедники ухода, если не навсегда, то на время — в «зеленые скиты» или на «острова тишины»; это заповедники, ботанические сады и глухие края далекого севера или востока, куда еще не врезались циркулярные пилы.
«Зеленые скиты» и «острова тишины» — это своего рода санатории для тех, кто хочет исцелить душу от ран, нанесенных техникой, и прибежища для тех, кто хочет спастись от замены человеческой души технической душой, от трансформации человеческого сердца в двигатель внутреннего сгорания.
Константин Паустовский в ряде новелл тоже уходит в «зеленые скиты» (особенно это относится к новелле «Кордон 273»), Но в пантеистическом мировоззрении Паустовского есть одна, только ему присущая черта: если природа — Бог, то человек должен стремиться к тому, чтобы стать богочеловеком; не только созерцателем, но и, так сказать, сотворцом.
Соучастие человека в созидательной деятельности природы позволит предотвратить возмездие за осуществляемую варварскими методами индустриализацию страны. Такие же идеи развивает профессор Багалей, герой «Преодоления времени». Идеи переходят в деяния.
Багалей разрабатывает проект грандиозных искусственных лесонасаждений; проект этот после осуществления в жизнь предохранит страну от засух и суховеев. Профессором изобретен способ, позволяющий — с необыкновенной стремительностью — ускорить процесс роста деревьев.
Как следует отнестись к неопантеизму и к тому, что он занимает значительное место в духовной жизни и престарелого и нового поколения советских людей, и к тому, как он воспроизведен современной советской литературой?
Из того, что человек, боготворящий природу, не растворился и не исчез в космической жизни, — чего опасается Бердяев, — мы можем заключить, что неопантеизм — начальный этап русского богоискательства: не конечный, а, подчеркиваю, только начальный этап. В дальнейшем русский народ, который был и остается народом-богоносцем, — поймет, что есть не только творения, но и творец, через природу придет к Богу. Неопантеизм ценен не как религия в полном смысле слова, а как переходная форма к настоящей Религии, к Истинному Богу. Можно предположить, что мир стоит перед самым началом религиозного возрождения России; если этого не произойдет, то опасения Бердяева сбудутся, и неопантеизм не оправдает возлагаемых на него надежд.
Сопоставляя творчество советских неопантеистов с пантеистическими мотивами в творчестве Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Толстого и Бунина, видим, что современные русские художники бледнее и схематичнее наших классиков и их последователей. В какой-то мере это объясняется тем, что большие мастера смотрели на природу не как на Бога, а как на творение Бога. В этом отношении характерно следующее стихотворение Лермонтова:
Когда волнуется желтеющая нива, И свежий лес шумит при звуке ветерка, И прячется в саду малиновая слива Под тенью сладостной зеленого листка… Тогда смиряется души моей тревога, Тогда расходятся морщины на челе, И счастье я могу постигнуть на земле, И в небесах я вижу Бога.Природа открыла Лермонтову лик Бога. Но поэт далек от того, чтобы приравнять желтеющую ниву к Богу, а для советских неопантеистов желтеющая нива — тоже Бог.
Есть три России: хранительница наследства допетровских времен; те руины, что остались от самодержавной России, и, наконец, Россия советская, вошедшая в жизнь под ревы фабричных труб и грохот пушек. Мужики Соколова-Микитова и Паустовского по складу души близки мужикам Мельникова-Печерского, Лескова, Бунина.
Неопантеисты — археологи слов; они с помощью художественных образов реставрируют развалины двух померкших Россий: допетровской и государевой. В «зеленых скитах» и на «островах тишины» ими открыта душа Вечной России.
Другая заслуга неопантеистов — в работе над словом. Соколов-Микитов и Паустовский учатся языку и искусству воспроизводить жизнь у Ивана Бунина.
Русский язык болен и засорен выцветшими, избитыми фразами: газеты и агитационная литература придавили и сплющили русское слово, сделав его плоским.
Иван Бунин необычайно популярен в Советской России и любим народом. Эта популярность и это влияние, вне всякого сомнения, оказывают облагораживающее влияние на современный русский язык. Ориентируясь на Бунина, неопантеисты спасают нашу речь от малокровия и худосочия.
Бунин, как мастер слова, как пейзажист, замечателен тем, что искусство его обладает естественностью. Как художник с необыкновенно тонким вкусом, он чутко улавливает недостатки и ошибки других (зачем только он придает этим недостаткам чрезмерно большое значение).
В резких нападках Бунина на Блока и на Есенина, не всегда и не во всем справедливых, есть, однако, своя правда, и вот в чем: Блок и Есенин иногда рисовали пейзаж не с натуры, а по воспоминаниям, с собственного воображения, так сказать; такой метод может привести к тому, что фантазия исказит правду. Бунин этого не терпит и не прощает.
Соколов-Микитов и Паустовский в своих описаниях природы стремятся соединить художественное мастерство с достоверностью; в этом чувствуется шкода Бунина.
Как относятся к неопантеистам большевики?
Пока что терпят, не вышибают пинком за дверь, но иногда ругают, и довольно крепко.
И Шефнеру и Казакевичу — за желание стать кустом малины — досталось от критиков на орехи. (Советский человек обязан желать, чтобы после смерти он превратился в танк обтекаемой формы или, по крайней мере, в скорострельную винтовку.)
Паустовскому повезло. Он выбрал для издания «Преодоления времени» подходящий момент: правительство обнародовало постановление о борьбе с засухами и суховцами.
Но Сталинской премии Паустовский не заработал.
Куда там! На писателя ополчилась критика: Паустовский должен был доказать, что «большевики покоряют стихию, подчиняют силы природы»; а он вместо этого «развернул какую-то путаную и странную философию».
(Паустовский исправился. Учел ошибки… и написал скверную пьесу о Пушкине — «Наш современник». Отсюда вывод: нечестное обращение со словом ведет к утрате формального мастерства.)
Как после этого не вспомнить Маяковского, этого железного витию, который превратил русскую поэзию в дом нетерпимости, сотрясаемый какофонией и диссонансами.
В поэме «Пятый Интернационал» Маяковский зарычал:
Я не выдержал, наклонился и гаркнул на всю землю: — Бросьте вы там, которые о космосе. Что космос? Космос далеко-с, мусью-с.Примечания
Произведения, включенные в настоящий однотомник, дают достаточно полное представление о Василии Георгиевиче Федорове — прозаике. В данное издание вошли почти все его наиболее значительные законченные художественные произведения. Таким образом, читатели впервые получат возможность познакомиться почти во всем объеме с творчеством писателя.
При жизни Федорова вышли две книги его рассказов — «Суд Вареника» (Прага, 1930) и «Прекрасная Эсмеральда» (Ужгород, 1933). Кроме них увидела свет первая часть романа «Канареечное счастье» (Ужгород, 1938), а также брошюра «Мысли о Гоголе. Речь, произнесенная в День русской культуры в Ужгороде» (Ужгород, 1934).
На чешском языке были напечатаны рассказы «Роман с сапогами», «Восемь моих невест», «Фермеры» и др. Рассказ «Восемь моих невест» был опубликован также на немецком языке.
В начале восьмидесятых годов составителем данной книги была предпринята попытка разыскать архив Василия Георгиевича Федорова. Большая часть сохранившегося архива писателя находилась у его вдовы Марии Францевны Федоровой, которая любезно передала многие рукописи и документальные материалы в дар Центральной научной библиотеке Союза театральных деятелей РСФСР (тогда Всероссийского театрального общества) в августе 1985 г. «Я с большой радостью передаю Вам их, то есть в лице Вашей библиотеки дарю Советскому государству, — так заканчивала Мария Францевна свое письмо составителю данной книги. — Лучшего я не могла даже представить себе».
Другая часть архива Федорова была получена уже после смерти Марии Францевны от Иваны Пешковой, которая наследовала эти материалы.
В архиве писателя сохранились неоконченная вторая часть романа «Канареечное счастье», первые главы нового романа «Человек задумался», заготовки повести «Вечная симфония», черновые рукописи отдельных рассказов и стихотворений.
При подготовке к изданию тексты произведений были сверены с последними публикациями и рукописями. При этом сохранены отдельные орфографические и синтаксические особенности, которые объясняются своеобразием авторской манеры или имеют интонационный характер.
Мечта Марии Францевны Федоровой увидеть произведения мужа напечатанными на его родине сбывается.
Составитель приносит искреннюю и глубокую благодарность Вадиму Гершевичу Перельмутеру, Владимиру Николаевичу Мордовцеву, Валерию Гершевичу Хазанову, Наталье Борисовне Волковой, Витасу Юргевичу Силюнасу, Ольге Ивановне Малышевой, Юрию Львовичу Басовскому за помощь в подготовке этого издания.
Финтифлюшки.
Повесть впервые опубликована в журнале «Воля России», Прага (с 1927 г. редакция журнала — в Париже), 1928, № 3, с. 3–31; № 4, с. 3–24; № 5, с. 3–26; № 6, с. 3–22.
Прекрасная Эсмеральда.
Повесть впервые опубликована в авторском сборнике «Прекрасная Эсмеральда» (Ужгород, 1933), с. 5–48.
«Биржевые ведомости — умеренно-либеральная газета, которая выходила в Петербурге в 1880–1917 гг.
«Вестник знания» — ежемесячный иллюстрированный литературный и популярно-научный журнал с приложениями для самообразования; издавался в Петербурге в 1903–1916 гг.
Элиза Реклю… — Речь идет об основном труде «Земля и люди. Всеобщая география» (в 19 томах) французского географа и социолога Жан-Жака Элизе Реклю (1830–1905).
Земгор… — Союз земств и городов в дореволюционной России, благотворительное добровольное учреждение. Пражский русский Земгор тоже занимался благотворительной и культурной деятельностью. Его собрания происходили в «Русском доме», помещавшемся в полуподвальном зале на Панской улице, 12.
Роман с сапогами.
Рассказ впервые опубликован в журнале «Годы», Прага, 1926, № 3 (25), с. 6–8.
Чародейный плес.
Рассказ впервые опубликован в журнале «Родное слово», Варшава, 1926, № 9, с. 6–11.
Кузькина Мать.
Рассказ впервые опубликован в журнале «Воля России», Прага, 1927, № 4, с. 45–72. Вошел в книгу «Суд Вареника», с. 5–35.
Жоффр Жозеф Жак (1852–1931) — маршал Франции, в первую мировую войну главнокомандующий французской армией.
Про Иракла там или Минотавра… — Речь идет о герое греческой мифологии Геракле и чудовище Минотавре, полубыке-получеловеке.
Микита скрипач.
Рассказ впервые опубликован в журнале «Воля России», Прага, 1929, № 1, с. 3–22. Вошел в книгу «Суд Вареника», с. 59–82.
Суд Вареника.
Рассказ впервые опубликован в книге, которой и дал название, с. 83–120.
Черкес.
Рассказ был принят к напечатанию в журнале «Современные записки». Однако по требованию издателя книги «Суд Вареника» В. Д. Колесникова взят автором обратно. Впервые опубликован в книге «Суд Вареника», с. 36–58.
Деревянный мир.
Рассказ впервые опубликован в журнале «Воля России», Прага, 1927, № 10, с. 3–29. Вошел в книгу «Суд Вареника», с. 121–154.
Согласно Фрезеру и Вундту… — Речь идет о Джеймсе Джордже Фрейзере (1854–1941) — английском ученом, исследователе истории религии, и Вильгельме Вундте (1832–1920) — немецком психологе, философе-идеалисте.
Фридрих Великий — имеется в виду прусский король, крупный полководец Фридрих II (1712–1786).
Фермеры.
Рассказ впервые опубликован в книге «Прекрасная Эсмеральда», с. 49–62.
Левин — герой романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина».
Грибная история.
Рассказ впервые опубликован в книге «Прекрасная Эсмеральда», с. 63–80.
Восемь моих невест.
Рассказ впервые опубликован в книге «Прекрасная Эсмеральда», с. 81—96.
Настоящий актер.
Рассказ впервые опубликован в книге «Прекрасная Эсмеральда», с. 97–116.
«Проданная невеста» — комическая опера чешского композитора Бедржиха Сметаны (1824–1884).
Последнее гаданье Стивенса.
Рассказ впервые опубликован в книге «Прекрасная Эсмеральда», с. 117–140.
Русские праздники.
Рассказ впервые опубликован в журнале «Воля России», Прага, 1929, № 8–9, с. 35–59. Получил премию журнала. Вошел в книгу «Прекрасная Эсмеральда», с. 141–170. Печатается по книжной редакции.
Галлиполи… — По решению союзного командования остатки Белой армии должны были быть расселены в лагерях Галлиполийского полуострова и островов Эгейского моря: основная часть разбитой врангелевской армии была дислоцирована около города Галлиполи, казачьи части — на острове Лемнос, остальные — в окрестностях Константинополя и на островах Мраморного моря. Галлиполийский лагерь просуществовал год. Основная масса его обитателей покинула лагерь летом и осенью 1921 г., уехав в Болгарию и Югославию.
Жизнь за ширмой.
Рассказ впервые опубликован в журнале «Воля России», Прага, 1932, № 4–6, с. 103–111. Вошел в книгу «Прекрасная Эсмеральда», с. 171–186.
Мертвая голова.
Рассказ впервые опубликован в книге «Прекрасная Эсмеральда», с. 187–198.
Волькер Йиржи (1900–1924) — чешский поэт.
Бежал Достоевский… — В июле 1869 г. Ф. М. Достоевский пробыл три дня в Праге. В своем письме Н. Н. Страхову от 14 (26) августа 1869 г. Достоевский писал: «Переезд наш совершился через Венецию (какая прелесть Венеция!) и через Прагу, в которой мы чуть не умерли от холоду (сравнительно с Флоренцией) и в которой не нашли квартиры. Да-с, это так. Мы намерены были провести зиму не в Дрездене, а в Праге; так и решили. Но, приехав в Прагу, искали квартиру три дня и не нашли! Оттого и уехали. Меблированных квартир нет в целом городе, кроме как по одной комнате для холостых. Надо покупать свою мебель, нанимать прислугу, а на квартиру совершать контракт на шесть месяцев. С тем мы и уехали в Дрезден». (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. — Т. 29, кн. 1. Л., 1966, с. 53).
Счастье Франтишка Лоуды.
Рассказ окончен в начале 1958 г. Публикуется впервые по рукописи. Вот что писал В. Г. Федоров об этом рассказе: «…темой новеллы является любовь Милады и Франтишка на фоне страшной действительности тех лет — это основной мотив новеллы и весь смысл ее. (…) А теперь о сюжете: он не выдуман мной, а является действительным фактом. Таким именно способом немецкие оккупанты казнили школьную подругу моей жены Марженку Томанову из села Лесонице, отрубив ей и ее мужу головы за укрывание во время оккупации видного члена компартии Чехословакии. Здесь я присочинил только скульптора Франтишка и его любовь к Миладе» (ЦНБ СТД, Д. 41).
За далью непогоды.
Рассказ написан в 1944 г. и переработан в 1950 г. Публикуется впервые по рукописи. Интересно высказывание В. Г. Федорова о рассказе: «Конечно, в этой новелле и я не претендовал ни на обрисовку характеров, ни на какие-либо «глубокие» мысли. Главным героем этой новеллы является сама Природа» (ЦНБ, д. 41).
Канареечное счастье.
Отрывок из романа впервые опубликован в журнале «Современные записки», Париж, 1936, кн. 61, с. 147–154. В 1938 г. роман вышел отдельным изданием. Глава II начатой части 2-й романа (автором полностью отработаны главы I и II) публикуется впервые по рукописи, хранящейся в ЦНБ СТД РСФСР. В данном издании дается как приложение к засти 1-й.
Экклесиаст (греч.) — оратор, проповедник. Так названа одна из книг Библии («Книга Экклесиаста, или Проповедника»), приписываемая царю Соломону. Федоров взял эпиграфом к роману слова из «Экклесиаста» (раздел «Суета богатства и почестей», глава «Тщета честолюбия и вожделений», параграф 10).
Генерал Авереску… — Александр Авереску (1859–1938), председатель Совета министров Румынии в 1920–1921 и 1926–1927 гг., маршал (1934).
Calea Victoriei — Каля Викторией (Путь Победы) — главная улица Бухареста.
Дымбовица — река, протекающая через Бухарест.
«История» Иловайского… — Иловайский Дмитрий Иванович (1832–1920), русский историк, публицист. Автор учебников по русской и всеобщей истории. Основной труд — пятитомная «История России».
Граф Орлов… — Речь идет о Григории Григорьевиче Орлове (1734–1883), графе, генерал-фельдцейхмейстере русской армии (1765–1775), фаворите Екатерины II.
Скобелев — Речь идет о конфетной обертке, на которой изображен Михаил Дмитриевич Скобелев (1843–1882), русский генерал от инфантерии, герой русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
Кольцов — Имеется в виду конфетная обертка, на которой изображен русский поэт Алексей Васильевич Кольцов (1809–1842).
АРА — сокращение от англ. American Relief Administration (Американская администрация помощи), созданная и действовавшая в 1919–1923 гг. для оказания помощи европейским странам, пострадавшим в первой мировой войне. В 1921 г. в связи с голодом в Поволжье деятельность АРА была разрешена в РСФСР.
Эдгар Уоллес — Эдгар Ричард Горацио Уоллес (1875–1932), английский писатель. Автор детективных романов.
Князь Римникский Суворов — Речь идет о русском полководце Александре Васильевиче Суворове (1730–1800), графе Рымникском (1789) и князе Италийском (1799).
Шильонский узник — Речь идет о Франсуа Бониваре (1493–1570), швейцарском гуманисте, участнике политической борьбы за независимость Женевы от герцогов Савойских. В 1530–1536 гг. был заключен в подземелье Шильонского замка, который расположен на берегу Женевского озера и был резиденцией графов и герцогов Савойских.
Сазонов Евгений Сергеевич (1879–1910) — русский революционер, эсер. Убил министра внутренних дел В. П. Плеве.
Некрасовцы на Дунае — потомки донских казаков, участников Булавинского восстания 1707–1709 гг., ушедших с И. Ф. Некрасовым на Кубань. В 1740 г. поселились на территории Османской империи, в районе Добруджа, и в Малой Азии.
Фабр Жан Анри (1823–1915) — французский энтомолог.
Бедекер Карл (1801–1859) — немецкий издатель. Основал в 1827 г. в Кобленце издательство путеводителей по различным странам. Слово «Бедекер» стало синонимом слова «путеводитель».
Идея Гааза… — Федор Петрович Гааз (1780–1853), русский врач-гуманист. Будучи главным врачом московских тюрем (с 1828), добился улучшения содержания заключенных, организации тюремной больницы, школ для детей арестантов.
Ливингстон Давид (1813–1873) — английский исследователь Африки. Совершил ряд путешествий по Южной и Центральной Африке.
Калинин — герой рассказа «Хорь и Калиныч» И. С. Тургенева («Записки охотника»).
Лиза Калитина — героиня романа И . С. Тургенева «Дворянское гнездо».
Бесшумный расстрел (Мысли об эмигрантской литературе).
Статья впервые опубликована в еженедельнике «Меч», Варшава, 1934, № 9–10, с. 8–9. После подписи под статьей проставлены дата и место написания: «Чехословакия. 8.VI.1934».
В том же еженедельнике № 13–14 был напечатан отклик на статью парижского главного редактора данного издания, писателя, публициста, критика и философа Дмитрия Сергеевича Мережковского (1866–1941). Статья Мережковского называлась «Около важного (О «Числах»)». Приводим отрывок из статьи:
«Кто нынче не говорит об «упадке» — внутреннем, культурном и всяческом — русской эмиграции? Если речь о том, что ухудшились условия ее существования, увеличилась трудность жизни, — я понимаю. Нечего и повторять в сотый раз то, что нам всем отлично известно. И как, значит, живуча эта маленькая часть России — европейская, — и какая в ней сила, ежели и среди такой беспримерной беды она вовсе не находится в упадке: напротив, есть верный знак некоего расцвета: ее литература. Знаю, сейчас же закричат: ах, литература! Что такое литература? Почему литература? Да и где она?
Насчет нынешнего бедственного положения литературы мы опять все знаем: книг не покупают, журналов — один-два и обчелся, на свет Божий появиться все равно что гору сдвинуть. Еще одно доказательство силы, когда гора сдвигается, что-то на свет появляется. На вопрос же, почему литература может быть знаком общего упадка или общего восхождения, ответ нетруден. Надо только вспомнить, что мы говорим о русской литературе. В России множество прямых дорог и дорожек было заказано. Но жизнь взяла свое; все пути влились в литературу, и она стала больше, нем литература. Оттого, может быть, и достигла она такого трагизма — и таких высот. И оттого период упадка литературы был, в прежней России, периодом общего упадка, а всякое литературное оживление — знаком, что жизнь пробудилась и куда-то идет. Лозунг «искусство для искусства» никогда не был у нас влиятельным; его приверженцы никогда не выходили из низин. Я даже думаю: не одни только внешние условия (некоторая несвобода) сделали русскую литературу больше литературы. Есть и другие причины, вечные, от свойств русской души идущие. Физически придавить литературу можно, — как здешняя придавлена тяжкой борьбой за существование. Можно, оказывается, и совсем задавить, как задавлена она в СССР. «Бей ее обухом, нагнись да послухай: дышит да бормочет — значит, еще хочет». Но когда обух вывалится из обезьяньих лап, когда отдышится жертва (не скоро, может быть), — она возьмет свое, и вечное лицо найдет. Но здесь, в Европе, мы и сейчас не задавлены, — только придавлены камнем труда. Тяжел камень, — а вот, справляемся, да еще как! Шоферы, маляры, разносчики, возчики пишут… это бы еще пусть, но чудеснее, что они и на свет Божий появляются. Старой, жидкой официальной прессе, газетной, с толстым журналом в придачу, — они не нужны: у нее свои, поношенные, сотрудники и свои цензурные условия. Как же явиться на свет? Новая литература не хочет быть «портфельной»: и портфелей ни у кого нету, да и не уйдешь с ними далеко. И вот чудеса начинаются. Не чудо ли, например, что в эмиграции могут выходить «Числа»? Критикуйте журнал, как угодно (даже последний номер, один из лучших), — он этого, во-первых, не боится, а во-вторых, — даже самая злостная критика почти всегда на пользу автору. Но явление «Чисел» остается чудесным, а то, что это явление настоящей новой русской литературы — несомненно. Новый сад. И не «ростки» какие-нибудь, а уже молодые, хотя еще и не высокие, деревья; есть и кривые, они, может быть, не примутся, засохнут. Но сад будет, — уже есть, — и прививка у него — русская.
(…)
Бродя «около важного», молодая литература очень упорно бродит около вопроса о «личности и коллективе». Ее упрекают, что она занимается «человеком» преимущественно, — какой, мол, индивидуализм! Старое слово, а перегиб в сторону изображения внутреннего «человека» — не понятен ли именно сейчас, именно для нас, русских? Не наша ли родина требует убийства человека? И не потому ли мы ее оставили, — «с любимой женой развелись» (по слову одного молодого писателя), — что не хотим этого требования исполнять? Но неверно, что на «человеке» заканчивает себя эмигрантская литература; что нет в ней вопроса и о «соединении людей» — вопроса загадочного, неразрешимого, но каждым временем по-своему решаемого.
Г. Федоров из Чехословакии напрасно так горько жалуется на безвыходную будто бы судьбу молодых писателей: не беспокойтесь, справятся. Напрасно он также обрушивается на главных давителей, называя их столичной (парижской?) «элитой». В каком смысле они «элита»? В том, что заведуют и распоряжаются нашей газетной прессой? Если уж быть точным, то «элитой» и «столичной», следует назвать вот ту самую группу молодых парижских писателей, которую г. Федоров почему-то выделяет из других «провинциальных», упрекая в подражательности литературе европейской. Это еще надо доказать, что они перестали быть русскими писателями. А то, что они, несмотря на такие же тяжкие условия жизни, как везде, присматриваются ближе к европейской жизни и литературе, к дыханию «свободы», — делает их, несомненно, группой самой культурной. «Научиться культуре», — не одна ли из задач, поставленных нам судьбой? Бояться Прустов и Джойсов, высасывая из пальца патриотические стишки, браня злых дядей-редакторов, которые их не печатают, этим ни России, ни себе не поможешь».
Кольцов… — Речь идет о Михаиле Ефимовиче Кольцове (наст, фамилия Фридлянд, 1898–1940), русском советском писателе, журналисте.
«Батька! Где ты? Слышишь ли ты все это?» — неточная цитата из повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба».
Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940) — публицист, литературный критик. В то время жил в Варшаве.
Бицилли Петр Михайлович (1879–1953) — историк литературы, критик, профессор Софийского университета. Автор многих работ, в том числе «Этюды о русской поэзии» (Прага, 1926), «Проблема жизни и смерти в творчестве Толстого» (Прага, 1929).
«Россия и славянство» — ежедневная газета, выходила в Париже в 1928–1934 гг. Редактором ее был К. И. Зайцев; с 1931 г. — редакционный комитет.
Точки над «і» (Ответ Д. С. Мережковскому).
Статья впервые опубликована в еженедельнике «Меч», Варшава, 1934, № 15–16, с. 9–11.
К статье дано примечание редакции:
«Со статьей Д. С. Мережковского «Около важного» В. Г. Федоров ознакомился до появления ее в «Мече», по корректурному оттиску. Посылая означенный оттиск В. Г. Федорову, редакция предполагала поместить его ответ рядом со статьей Мережковского. К сожалению, ответ Федорова пришел в Варшаву уже по отпечатании номера, вследствие чего появление его в «Мече» пришлось отложить. Таким образом, В. Г. Федоров, отвечая Д. С. Мережковскому, не был еще знаком со статьей Д. В. Философова «В защиту г. Федорова из Чехословакии», чем и объясняется конец его «ответа».
К сему считаем нужным добавить, что В. Г. Федоров издал уже две книги: 1) «Суд Вареника» — Прага, 1930 г., изд. «Скит»; 2) «Прекрасная Эсмеральда» — Ужгород, 1933 г., изд. «Школьная помощь».
О «Суде Вареника» писал Д. В. Философов в газете «За свободу!», о «Прекрасной Эсмеральде» — автор, скрывающийся за инициалами Е. В. в газете «Молва».
Биографические сведения о В. Г. Федорове были помещены в 23-м номере газеты «Молва» от 28 января 1934 г. в отделе «Эмигрантские писатели о себе».
В статье «В защиту г. Федорова из Чехословакии» варшавский главный редактор еженедельника «Меч» Д. В. Философов («Меч», 1934, № 13–14) отвечал Д. Мережковскому:
«Нет! «г. Федоров из Чехословакии» жалуется не напрасно. Наоборот, «г. Мережковский из Франции» напрасно не захотел услышать его жалобы и слишком легко от нее отмахнулся. (…)
Можно предположить, что этот бумажный цветок полемики лишь случайно пришелся к его статье, что называется, в последнюю минуту.
К сожалению, вся его статья написана как бы не его голосом; «то флейта слышится, то будто фортепиано». А потому она неубедительна. Она также не говорит о важном. Она лишь «около важного». Не разъясняет, а опутывает вопрос очень тонкой паутиной, такой тонкой, что она рвется. (…)
Спор же этот я считаю особенно существенным именно для «Меча». Самое бытие нашего журнала, его «полезность, а может быть, и его необходимость зависит как раз от того, услышат ли архикультурные парижане менее «культурных» пражан и еще менее «культурных» варшавян. Для того чтобы живые силы эмиграции друг друга услышали, мы и пошли, совершенно сознательно, под обстрел с противоположных сторон».
«Числа» — сборники, которые выходили под редакцией И. В. де Манциарли и Н. А. Оцупа в Париже в 1930–1934 гг. Всего вышло десять сборников. В. Ф. Ходасевич в своей статье о «Числах» отмечал, что самые талантливые поэты зарубежья пришли в «Числа» из журнала «Современные записки».
«Зеленая лампа» — литературный кружок в Париже. На собраниях общества авторы читали свои стихи, прозу, а также рефераты на историко-литературные и историко-культурные темы.
Участниками кружка были как молодые, так и маститые писатели: Д. С. Мережковский, 3. Н. Гиппиус, Г. В. Адамович, В. С. Варшавский, И. Н. Голенищев-Кутузов, С. В. Мочульский, Н. А. Оцуп, Б. Ю. Поплавский, М. Л. Слоним, В. Ф. Ходасевич и др.
Первое собрание «Зеленой лампы» состоялось 5 февраля 1927 г. Стенографические отчеты о первых пяти собраниях напечатаны в журнале «Новый корабль».
Краснов Петр Николаевич (1869–1947) — генерал-лейтенант от кавалерии, атаман войска Донского, писатель. Один из организаторов контрреволюции в гражданскую войну. Сотрудничали с гитлеровцами. По приговору советского суда казнен. Печатается с 1891 г. Автор книг «От двухглавого Орла к Красному Знамени. Роман» (Берлин, 1921), «Поездка на Ай-Петри. Рассказы» (Берлин, 1921), «За чертополохом. Фантастический роман» (Берлин, 1922), «Опавшие листья» (Берлин, 1923), «Понять, простить» (Берлин, 1923), «Подвиг» (Париж, 1932), «Ненависть» (Париж, 1934), «Домой» (Париж, 1936) и др.
«Шум шагов Франсуа Биллона»… — Речь идет о рассказе Владимира Сергеевича Варшавского (1906–1978), который был опубликован в журнале «Воля России», 1929, № 7. Этот рассказ принес первое признание его автору. Варшавский жил в Праге, а с 1928 г. перебрался в Париж. Был близок к кругам Мережковского и Гиппиус.
Марк Шагал.
Статья впервые опубликована в журнале «Литературный современник», Париж, 1951, № 2, с. 106 107.
Зеленые скиты.
Статья впервые опубликована в журнале «Литературный современник», Париж, 1951, № 1, с. 77–81.
Из повести Константина Паустовского… — Речь идет о первой публикации «Повести о лесах» в журнале «Огонек», 1948, № 27–36. В этом произведении К. Г. Паустовский (1892–1968) ставит вопрос об огромной роли лесов в жизни Земли.
Клагес Людвиг (1870–1956) — немецкий психолог и философ-иррационалист. Рассматривал дух как «акосмическую» силу, разрушающую целость душевной жизни.
Бердяев Николай Александрович (1874–1948) — русский философ, представитель персонализма. Автор работ «Опыт эсхатологической метафизики», «Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого», «Смысл истории», «Самопознание» и др.
Цитирую по устному выступлению Шефнера (…) помещен в журнале «Знамя»… — По-видимому, речь идет о подбородке стихов В. С. Шефнера, опубликованной в журнале «Звезда», 1951, № 1, в частности, о «Стихах о природе».
«Я знаю: мельчайшая жилка у меня на руке…» — Цитата из 31-го стихотворения «Песнь о себе» У. Уитмана.
Розанов Василий Васильевич (1856–1919) — русский писатель, публицист, философ. Автор бессюжетной эссеистско-дневниковой прозы («Уединенное» (1912), «Опавшие листья» (1913–1915), «Апокалипсис нашего времени» (1917–1918) и др.).
Примечания
1
Ходасевич В. Канареечное счастье // Возрождение. Париж, 1938. 11 марта. № 4122. С. 9.
(обратно)2
Центральная научная библиотека Союза театральных деятелей РСФСР (ЦНБ СТД РСФСР). Ф. (фонд) В. Г. Федорова. Д. (дело) 54. Л. (лист) 12.
(обратно)3
Там же.
(обратно)4
ЦНБ СТД. Ф. В. Г. Федорова. Д. 54. Л. 12.
(обратно)5
ЦНБ СТД. Ф. В. Г. Федорова. Д. 45. Л. 1–1 об.
(обратно)6
Мейснер Д. Миражи и действительность: Записки эмигранта. М.: АПН, 1966. С. 168, 182.
(обратно)7
ЦНБ СТД. Ф. В. Г. Федорова. Д. 45. Л. 1 — об. 2.
(обратно)8
Постников С. О молодой эмигрантской литературе // Воля России. Прага. 1927. Кн. V–VI. С. 225.
(обратно)9
ЦНБ СТД. Ф. В. Г. Федорова. Д. 53. Л. 13.
(обратно)10
ЦНБ СТД. Ф. В. Г. Федорова. Д. 54. Л. 13.
(обратно)11
Цитируется по кн.: Терапиано Юр. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924–1974): Эссе, воспоминания, статьи. Париж; Нью-Йорк: Альбатрос; Третья волна, 1987. С. 87.
(обратно)12
Центральный государственный архив литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ СССР). Ф. 355. Оп. (опись) 2. Д. 242.
(обратно)13
ЦНБ СТД. Ф. В. Г. Федорова. Д. 56. Л. 3.
(обратно)14
ЦНБ СТД. Ф. В. Г. Федорова. Д. 37. Л. 1.
(обратно)15
Меч. Варшава, 1934. № 9–10. С 9.
(обратно)16
Там же.
(обратно)17
Там же. № 13–14. С. 3–5.
(обратно)18
Меч. Варшава, 1934. № 15–16. С. 10.
(обратно)19
Зайцев Б. Изгнание//Русская литература в эмиграции: Сб. ст. / Под ред. Н. П. Полторацкого. Питтсбург, 1972. С. 5.
(обратно)20
Бицилли П. В. Федоров. Канареечное счастье. Ч. I. Ужгород, 1938 // Современные записки. Париж, 1938. Кн. 66. С. 455–456.
(обратно)21
ЦГАЛИ СССР. Ф. 2226. On. 1. Д. 1151.
(обратно)22
Мейснер Д. Миражи и действительность: Записки эмигранта. М.: АПН, 1966. С. 257.
(обратно)23
ЦНБ СТД. Ф. В. Г. Федорова. Черновик письма В. Г. Федорова Н. Г. Цветковой от 1 ноября 1958 г. Д. 41. Л. 1 об.
(обратно)24
Там же. Письмо В. Г. Федорова Н. Г. Цветковой от 22 января 1959 г. Д. 41. Л. 6–6 об.
(обратно)25
В. Федоров. Точки над «i» // Меч. Варшава, 1934. № 15–16. С. 10.
(обратно)26
ЦНБ СТД. Ф. В. Г. Федорова. Д. 4. Л. 2.
(обратно)27
ЦНБ СТД. Ф. В. Г. Федорова. Письмо В. Г. Федорова Н. Г Цветковой от 25 ноября 1958 г. Д. 41. Л. 2.
(обратно)28
Навязчивая идея (фр.).
(обратно)29
Мой Бог! (нем.)
(обратно)30
До востребования (фр).
(обратно)31
Да, да! (нем.)
(обратно)32
О, да! Для вас есть письмо… (нем.)
(обратно)33
Добрый вечер (нем.).
(обратно)34
Молодая дама… (нем.)
(обратно)35
Дама из Ревеля? (нем.)
(обратно)36
«Русского изгнанника» (фр).
(обратно)37
«Доколе, Каталина, ты будешь злоупотреблять…» (лат.) (Изречение Цицерона.)
(обратно)38
Sehr schwach (нем.) — дрянь.
(обратно)39
Alles recht (нем.) — все верно.
(обратно)40
Sehr gut! (нем.) — очень хорошо!
(обратно)41
Mein lieber (нем.) — мой дорогой.
(обратно)42
Стромовский парк — прежнее название парка Культуры и отдыха имени Юлия Фучика. (Сноска В. Г. Федорова.)
(обратно)43
«Почему вы не приготовили урока?..» (фр.).
(обратно)44
Плод. (лат.).
(обратно)45
Записки о Галльской войне» (лат.).
(обратно)46
Неизвестными (итал.).
(обратно)47
«Я мыслю, следовательно, я существую» (лат.). (Изречение французского философа Р. Декарта.)
(обратно)48
Вечеринки (фр.).
(обратно)
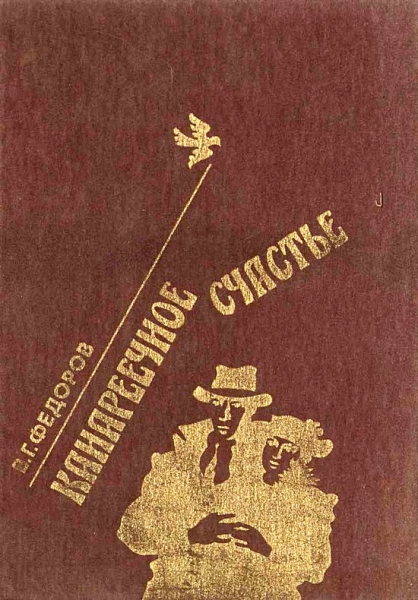

Комментарии к книге «Канареечное счастье», Василий Георгиевич Федоров
Всего 0 комментариев