Франсуа Мориак Пустыня любви
I
Долгие годы Раймон Курреж тешил себя надеждой, что еще встретит на своем пути Марию Кросс, которой он так жаждал отомстить. Не раз он, бывало, на улице бросался догонять какую-нибудь женщину, приняв ее за ту, кого искал. Но с течением лет злоба его притупилась, и когда судьба наконец столкнула их с Марией лицом к лицу, в первый миг он не ощутил того яростного торжества, какое должна была бы вызвать в нем эта встреча. В тот вечер он раньше обычного зашел в бар на улице Дюфо; было только десять часов, и джазовый певец-мулат услаждал своим пением одного-единственного слушателя — метрдотеля. В узком зале, который к полуночи едва вмещал желающих потанцевать, жужжал вентилятор, словно большая муха. Швейцара, удивленно заметившего: «Как вы сегодня рано, мосье!» — Раймон не удостоил ответом, лишь сделал знак рукой, чтобы он прекратил это жужжание. Напрасно швейцар, на правах старого знакомого, пытался убедить его, что это вентилятор «новой системы, он поглощает дым, не делая ветра», — Курреж смерил его уничтожающим взглядом, и тот отступил назад, в гардероб, а вентилятор на потолке вдруг затих, как, опустившись на цветок, затихает шмель.
Молодой человек сел за один из столиков, нарушив их безупречную крахмально-белую линию, и поймал свое отражение в зеркале: выглядел он скверно, как в худшие свои дни. «В чем дело?» — подумал он. Черт побери, он ненавидит такие вот потерянные вечера, а сегодняшний вечер потерян из-за этой скотины Эдди X. Раймону пришлось чуть ли не силой тащить юнца из дома, чтобы повести его в кабаре. Во время ужина Эдди, нетерпеливо ерзавший на стуле и весь захваченный уже каким-то новым предстоящим ему удовольствием, извинился за свою рассеянность: у него-де ужасная мигрень; а выпив кофе, удрал — веселый, с горящим взором и красными ушами, раздувая ноздри. Весь минувший день Раймон рисовал себе приятную перспективу этого вечера, но Эдди, несомненно, открыл для себя иные радости, более упоительные, нежели разговор по душам.
Курреж удивился, что испытывает не только разочарование и унижение, но и грусть. Его потрясло, насколько дорог ему теперь даже самый никчемный приятель; для него это было ново: до тридцати лет, всецело поглощенный женщинами, он не ведал бескорыстия, которого требует мужская дружба, презирал все, что представлялось ему недостойным обладания, и, как ребенок-обжора, мог бы сказать о себе: «Я люблю только то, что можно слопать». В те времена товарищи были нужны ему лишь как свидетели и поверенные его тайн; друг был для него прежде всего парой ушей. Отрадно было и убеждаться в том, что он верховодит друзьями, подчиняет их себе; оказывать влияние на людей стало у него потребностью, и он кичился тем, что постепенно их развращает.
Раймон Курреж мог бы создать себе такую же клиентуру, как его дед — хирург, брат деда — иезуит, отец — врач, если бы он оказался способен подчинить свои страсти целям карьеры и не был бы столь нетерпелив в утолении мимолетных желаний. И вот теперь он достиг возраста, когда господства над людьми можно добиться, только найдя доступ к их душе, а Курреж умел разве что преподать своим ученикам науку утонченных наслаждений. Однако молодые явно предпочитали общество своих сверстников, и его круг понемногу редел. Для любви хватает поживы надолго, но небольшая кучка друзей, начинавших жизнь вместе с нами, тает с каждым днем. Кто пережил потрясения войны, тех либо засосала семья, либо до неузнаваемости изменила работа, и Курреж, глядя на их седеющие волосы, на их лысины и животики, ненавидел их за то, что они его ровесники: он не мог им простить, что они убили свою молодость, предали ее еще до того, как она сама от них отвернулась.
Он гордился тем, что и после войны остался холостяком, и в тот вечер, сидя в пустом еще баре, где только приглушенно напевала мандолина (пламя мелодии то гасло, то, мерцая, вспыхивало опять), жадно разглядывал в отражении зеркал свое лицо под густой шапкой волос — лицо, которое тридцать пять прожитых лет еще не отметили своей печатью. Однако ему подумалось, что старение, не тронув пока его тело, исподволь подтачивает его жизнь. Хотя ему было лестно слышать, как женщины спрашивают: «Кто этот высокий молодой человек?» — он все же не мог не знать, что более прозорливые двадцатилетние юнцы уже не причисляют его к своему эфемерному племени. Может быть, у Эдди нашлось занятие поинтереснее, чем до зари разговаривать с ним под оглушительный рев саксофона, а может быть, он просто сидит сейчас в другом баре, изливая душу какому-нибудь мальчишке 1904 года рождения, который поминутно перебивает его восклицаниями: «Я тоже!» или: «Точь-в-точь, как я!»
Вошли какие-то молодые люди, от робости напустившие на себя высокомерие и важность и растерявшиеся при виде пустого зала. Они обступили бармена и прилипли к стойке. Курреж никогда не позволял себе страдать из-за другого человека, будь то любовница или приятель. И вот, прибегнув к обычному методу, он уговаривал себя, что не стоит так огорчаться из-за бегства какого-то Эдди X. — слишком много чести для подобного ничтожества. Его порадовало, что он без малейшей боли может вырвать из сердца ростки недавней привязанности. Он до того разошелся, что вознамерился завтра же выставить мальчишку за дверь, и бестрепетно решил больше никогда с ним не видеться. Ему даже стало весело, когда он подумал: «Я его вышвырну вон...» Курреж вздохнул с облегчением; но он все же чувствовал, что на душе у него осталась какая-то тяжесть и что Эдди тут ни при чем. Ах да, письмо, которое он нащупал в кармане смокинга... Перечитывать его незачем: доктор Курреж, обращаясь к сыну, пользовался всегда эллиптическим языком, легким для запоминания.
«Остановился в „Гранд-отеле“ на время съезда врачей. В твоем распоряжении утром до девяти, вечером после одиннадцати. Твой отец Поль Курреж».
Раймон пробормотал: «Еще чего!» — и лицо его невольно ожесточилось. С отцом у него были особые счеты, он не мог просто презирать старика, как презирал всю остальную родню. Достигнув тридцати лет, Раймон безуспешно пытался вытребовать себе такую же долю имущества, какую получила его замужняя сестра. Когда родители ему отказали, он сжег мосты. Однако все состояние принадлежало его матери, госпоже Курреж, и Раймон прекрасно знал, что, будь дело за отцом, тот бы не поскупился — деньги для него ничего не значили. Он повторил: «Еще чего!» — но не мог не расслышать зова в сдержанном отцовском послании. Он не был так слеп, как г-жа Курреж, которую раздражала холодность и резкость мужа и которая часто повторяла: «Какой мне толк от того, что он добрый, если я сама этого не чувствую? Представьте себе только, что было бы, будь он злым».
Раймон растерялся перед этим зовом — зовом отца, которого он не в силах был ненавидеть. Нет, он, конечно, ему не ответит, но все-таки... Позднее, когда Раймон Курреж будет восстанавливать в памяти обстоятельства этой ночи, он вспомнит, с какой горечью в душе входил в маленький пустой бар, но забудет о ее причинах — об измене приятеля по имени Эдди и о приезде в Париж отца; он уверит себя, что это горестное настроение было рождено у него предчувствием и что между его душевным состоянием в тот вечер и надвигавшимся на него событием существовала незримая связь. С тех пор он неизменно повторял, что какой-то мальчишка Эдди и даже доктор Курреж не могли бы привести его в такое смятение и что, едва пригубив свой коктейль, он бессознательно, душой и телом, почувствовал приближение той, что в ту самую минуту сидела в такси, остановившемся уже на углу улицы Дюфо, рылась в сумочке и говорила своему спутнику:
— Вот незадача, я забыла губную помаду...
— Возьмешь здесь, в туалете, — отвечал он.
— Какой ужас! Чтобы подцепить заразу...
— Ну, тогда Глэдис одолжит тебе свою.
* * *
Она вошла: шляпа с опущенными полями скрывала верхнюю часть лица, оставляя взгляду только подбородок, на котором время отмечает возраст женщины. Пятый десяток уже тронул кое-где его нежную округлость: слегка одрябла кожа, наметилась тяжелая складка. Тело, скрытое меховым манто, видимо, располнело. Она остановилась на пороге сверкавшего огнями бара, ослепленная, как только что выпущенный на арену бык. Когда к ней присоединился ее спутник, отставший из-за пререканий с шофером, Курреж, не сразу узнав его, подумал: «Где-то я видел эту рожу, это же типичный бордосец». И пока он разглядывал лицо грузного пятидесятилетнего мужчины, словно еще больше расплывшееся от самодовольства, на язык вдруг само собой навернулось имя: Виктор Ларуссель... С бьющимся сердцем Раймон стал присматриваться к женщине, а та, заметив, что в шляпе здесь она одна, сняла ее и тряхнула перед зеркалом головой с короткой стрижкой. Стали видны большие спокойные глаза, высокий лоб, наполовину прикрытый модной редкой челкой — несколькими прядями темных волос. В верхней части лица сосредоточилось все, что еще оставалось у этой женщины от ее нерастраченной молодости.
Раймон узнал ее, несмотря на короткую стрижку, располневшую фигуру и признаки медленного увядания, шедшего вверх от шеи ко рту и щекам. Он узнал ее, как узнал бы дорогу, по которой ходил в детстве, даже если бы осенявшие ее дубы были срублены. Курреж прикинул в уме число прошедших лет и через несколько секунд подытожил: «Ей сорок четыре года: мне тогда было восемнадцать, а ей двадцать семь». Как всякого, кто путает счастье с молодостью, его никогда не покидало глухое, но тревожное сознание невозвратимости минувшего, взор его непрестанно погружался в бездну мертвого времени. Каждого человека, сыгравшего в его жизни какую-то роль, он прочно привязывал к определенным событиям и увидев знакомое лицо, без труда вспоминал дату.
«Узнала она меня или нет?» Но почему же она так резко отвернулась, будто не узнала? Стоя рядом со своим спутником, она что-то говорила ему, верно, упрашивала уйти отсюда, ибо он отвечал ей нарочито громко, тоном человека, которому нравится быть в центре внимания:
«Да ничего здесь не скучно, через полчаса тут яблоку будет негде упасть».
Он отодвинул один из столиков, недалеко от того, на который облокотился сейчас Раймон, тяжело сел на стул, его лицо, красное от прилива крови и отмеченное всеми признаками склероза, выражало безоблачное довольство. Но так как женщина все еще стояла не двигаясь, он воскликнул:
— Ну, чего же ты ждешь?
И вдруг его глаза и толстые, почти лиловые губы перестали излучать довольство. Полагая, что говорит тихо, он прибавил:
— Конечно, раз мне здесь нравится, ты непременно должна надуться.
Она, видимо, сказала ему: «Тише, нас слушают», — потому что он почти крикнул:
— Уж я-то знаю, как надо себя вести! По мне, пусть слушают!
Сидя недалеко от Раймона, женщина убедилась: чтобы видеть ее, молодому человеку надо наклониться, а значит, при желании она может избежать его взгляда. Курреж угадал эту ее спокойную уверенность; он вдруг понял, — и с каким ужасом! — что вот-вот упустит случай, которого ждал семнадцать лет. Ему казалось, что за эти семнадцать лет в нем не остыло желание унизить женщину, которая тогда так унизила его, показать ей наконец, что он не из тех, кто позволяет какой-то бабенке водить себя за нос. Все эти годы он смаковал в воображении подробности желанной встречи, придумывал, какую хитрость пустит в ход, чтобы повергнуть к своим стопам, заставить плакать ту, перед которой однажды был так жалок... Если бы в этот вечер он встретил не ее, а другого знакомого той поры, когда он был восемнадцатилетним школьником, — товарища, которого особенно любил, или классного наставника, перед которым дрожал, — то при виде их наверняка не нашел бы в себе и следа той дружбы или ненависти, какую питал тогдашний юнец. Но разве в глазах этой женщины он не остался тем же, что в июньский четверг 19.. года, когда в сумерках стоял на пыльной улице предместья, благоухавшего лилиями, и звонил в дверь, с того дня закрывшуюся перед ним навсегда? Мария! Мария Кросс! Угловатого, стыдливого подростка, каким он еще был в те дни, она преобразила, сделала новым человеком, каким ему суждено было остаться на всю жизнь. Но сама Мария Кросс — как мало она изменилась! Все те же удивленные глаза, тот же лучезарный лоб. Курреж подумал, что его любимый товарищ 19.. года сегодня вечером наверняка оказался бы лысым, бородатым толстяком, но лица некоторых женщин до зрелых лет сохраняют отблеск детства, и, быть может, это их вечное детство и скрепляет нашу любовь, оберегая ее от действия времени. Вот она здесь, перед ним, все такая же по прошествии этих семнадцати лет, полных неизвестных ему переживаний, подобная тем почерневшим статуэткам Пречистой Девы, чья улыбка не померкла в пламени Реформации и Террора. И она все еще на содержании у того же влиятельного человека, шумно выражающего сейчас свое нетерпение и досаду, оттого что люди, которых он ждет, не идут.
— Это он из-за Глэдис опять опаздывает... Терпеть не могу неточных людей, сам я всегда пунктуален. Странная вещь — я не выношу, чтоб меня ждали, и ничего не могу с собой поделать. Но люди иногда бывают такими грубиянами.
Мария Кросс коснулась его плеча и, видимо, опять сказала: «Нас слушают», — потому что он стал ворчать, — он-де не говорит ничего такого, чего другим нельзя слушать, и это же просто невероятно, что именно она позволяет себе его поучать.
Одного ее присутствия оказалось достаточно, чтобы Курреж без сопротивления отдался власти прошлого. Хотя его никогда не покидало ясное сознание невозвратимости минувшего, он избегал пробуждать в памяти точные его образы и ничего так не боялся, как восстания призраков. Но сегодня он был бессилен против хоровода лиц, который закружился перед ним от встречи с Марией: он ясно слышал, как бьет шесть часов и как хлопают крышки парт; дождь в тот день шел несильный, даже пыль не прибило; трамвай был плохо освещен, и ему не удалось дочитать «Афродиту»[1], — трамвай, битком набитый рабочими, чьи суровые лица смягчала усталость.
II
От коллежа, где его часто выгоняли из класса и он, неопрятный мальчишка, слонялся по коридорам или подпирал стенку, до родительского дома в предместье было не близко, но Раймона это радовало. Сев в трамвай, он испытывал облегчение: здесь, среди чужих людей с безучастным взглядом, он был один, особенно зимой; темнота, которую лишь изредка разрывал луч фонаря или ярко освещенные окна какого-нибудь бара, изолировала его, отделяла от всех, от попутчиков в рабочей одежде, пахнущей влагой; у одного к отвислой губе прилепилась погасшая сигарета, другие дремлют, запрокинув лица в морщинах с въевшейся угольной копотью; из чьих-то отяжелевших рук выпала газета, а вон та простоволосая женщина тянет к свету очередной выпуск романа с продолжением, и губы ее шевелятся, точно в молитве. Но в конце концов после Таланской[2] церкви надо было сходить.
Трамвай, как подвижный бенгальский огонь, на секунду выхватывал из тьмы аллею какого-нибудь сада, ряды оголенных тисов и буков. Мальчишка, перескакивая через лужи, бежал по улице, где пахло сырым лесом и прелыми листьями, и слышал позади себя затихающий стук колес и троллеев. Он сворачивал на узкую тропинку, огибавшую сад Куррежей, и, толкнув незапертую калитку, входил в дом с черного хода, со стороны служб. Лампа, горевшая в столовой, отбрасывала свет на цветник под окнами, куда весной пересаживали фуксии, — они не любят яркого солнца. И Раймон опять хмурился, как в коллеже: брови его сдвигались в сплошную темную линию, рот кривился; он входил в гостиную и буркал «добрый вечер», обращаясь сразу ко всем, кто сидел там, сгрудившись возле тусклой, из экономии, лампы. Мать спрашивала, сколько раз надо ему говорить, чтобы он хорошенько вытирал ноги о железную скобу перед дверью, и неужели он рассчитывает сесть за стол «с такими руками». Г-жа Курреж-бабушка вполголоса замечала невестке:
— Вы же знаете, что Поль говорит: не надо попусту раздражать ребенка.
Так с его появлением сразу начинались язвительные речи.
Он садился где-нибудь в углу. Мадлена Баск, сестра Раймона, продолжала прилежно вышивать и даже не поднимала глаз на брата. «Я для нее значу меньше, чем собака», — думал Раймон. Он был «бичом семьи», и Мадлена любила говорить, что «он еще себя покажет», а ее муж, Гастон Баск, добавлял: «Особенно при таком бесхарактерном отце».
Рукодельница подняла голову, секунду прислушивалась, сказала: «Вот и Гастон», — и отложила вышивание.
— Я ничего не слышу, — откликнулась г-жа Курреж
— Да, да, это он, — и хотя никто, кроме нее, не улавливал ни малейшего шума, Мадлена вскочила, выбежала на крыльцо и скрылась в саду, руководимая таким безошибочным инстинктом, словно принадлежала к особой породе животных, у которых самец, а не самка испускает запах, чтобы привлечь в темноте свою пару. Вскоре Куррежи расслышали мужской голос, затем угодливый и радостный смех Мадлены; они знали, что супруги не пойдут через гостиную, а поднимутся через боковую дверь наверх, где расположены спальни, и спустятся в столовую только со вторым ударом гонга.
За столом под большой висячей лампой собиралась вся семья: г-жа Курреж-старшая, ее невестка Люси Курреж, супруги Баск и четыре внучки — рыжеватые, как и Гастон Баск, в одинаковых платьицах, с одинаковыми косичками, одинаковыми веснушками; прижавшись друг к дружке, они сидели, как прирученные птицы на жердочке.
— Чтоб никто с ними не заговаривал, — изрекал лейтенант Баск. — Если кто-нибудь с ними заговорит, наказаны будут они. Итак, я всех предупредил.
Место доктора пустовало долго, даже если он бывал дома. Он входил с пачкой журналов в руках, когда все остальные уже ели. Жена спрашивала, неужели он не слышал гонга, ведь когда еда подается так беспорядочно, невозможно удержать прислугу. Доктор дергал головой, словно отгоняя муху, и, сев за стол, раскрывал журнал. То не был жест презрения: занятой человек привык экономить время, голова его была перегружена заботами, и он знал цену минуте. В конце стола, обособившись, сидели Баски, равнодушные ко всему, что не касалось их самих или их детей; Гастон вполголоса рассказывал жене, какие шаги он предпринимает, чтобы его не переводили из Бордо: полковник написал в министерство... Мадлена слушала мужа, не спуская глаз с детей и не переставая их дрессировать: «Нельзя вытирать тарелку хлебом». — «Ты что, не умеешь пользоваться ножом?» — «Перестань вертеться». — «Руки на стол, руки, а не локти...» — «Больше ты хлеба не получишь, так и знай». — «Хватит, ты уже напилась».
Баски образовали островок, окруженный атмосферой недоверия и секретности. «Они мне ничего не рассказывают». Все претензии, какие имела к дочери г-жа Курреж, были сосредоточены в этой фразе: «Они мне ничего не рассказывают». Она подозревала, что Мадлена беременна, присматривалась к ее фигуре, по-своему истолковывала ее дурное самочувствие. Слуги всегда все узнавали раньше нее. Г-жа Курреж предполагала, что Гастон застраховал свою жизнь, но на сколько? Она не знала, какая в точности сумма досталась этой паре после смерти отца Гастона.
После ужина, в гостиной, Раймон делал вид, что не слышит ворчливого голоса матери: «Разве тебе не надо учить уроки? И сочинения вам не задали?» Он хватал одну из малышек, и казалось, что он вот-вот раздавит ее своими сильными руками; высоко подняв девочку над головой, чтобы она могла дотронуться до потолка, он потом резко опускал ее вниз и бешеным вихрем кружил маленькое податливое тельце. Мадлена Баск, перепуганная, взъерошенная наседка, как ни умиляли ее восторженные возгласы малышки, то и дело вскрикивала: «Осторожно! Ты ее искалечишь! Какой он грубый...» Тут бабушка Курреж откладывала в сторону вязанье, поднимала на лоб очки, и лицо ее растягивалось в улыбке: она горячо хваталась за любое свидетельство в пользу Раймона:
— Вот видите, как он обожает детей, и в этом ему нельзя отказать — он всегда готов возиться с малышами.
И старуха уверяла, что, раз он так любит детей, значит, по натуре он добрый:
— Достаточно увидеть Раймона с его племянницами — и всякий убедится, что это вовсе не испорченный мальчик.
Действительно ли он любил детей? Ему надо было ощущать в руках что-то живое, теплое, свежее, это как бы оберегало его от тех, кого он про себя называл «трупами». Раймон бросил хрупкое тельце на кушетку, выбежал из комнаты в сад и начал вприпрыжку носиться по устланным листьями аллеям, — клочки блеклого неба, видные сквозь голые ветви, освещали ему дорогу. В окне второго этажа горела лампа — там был кабинет доктора Куррежа. Неужели Раймон и сегодня пойдет спать, не поцеловав отца? Ах, довольно и того, что они почти каждое утро проводят вместе, во враждебном молчании: на рассвете двухместная карета доктора отвозила отца и сына в город. Раймон вылезал у заставы св. Генезия и по бульварам доходил до коллежа, доктор же ехал дальше, к больнице. Три четверти часа они сидели бок о бок в этой клетке, пахнущей старой кожей, меж двух окон с мутными от дождя стеклами. Врач, который несколькими минутами позже у себя в клинике будет непринужденно и властно разговаривать с подчиненными и со студентами, уже не один месяц тщетно искал слова, способные смягчить это существо, которому сам он дал жизнь.
Как проложить путь к этому сердцу, ожесточившемуся в постоянной самообороне? Когда доктор радовался, что нашел наконец подход, и обращался к Раймону с тщательно продуманными словами, он этих слов не узнавал, — так подводил его собственный голос, звучавший насмешливо и сухо. Всю жизнь он страдал оттого, что не умел выразить свои чувства. Доктор Курреж славился своей добротой исключительно потому, что о ней свидетельствовали его добрые дела; не будь их, никто бы и не узнал об этой глубоко запрятанной, об этой заживо погребенной доброте. Невозможно было, скажем, заставить его выслушать изъявления благодарности, — он что-то бурчал и пожимал плечами. Сколько раз, катя дождливым утром в тряском экипаже рядом с сыном, он безмолвно вопрошал замкнутое лицо мальчика! И невольно как врач истолковывал некоторые признаки, которые подмечал в облике этого злого ангела, — обманчивую кротость глаз, обведенных темными кругами. «Бедный мальчик считает меня своим врагом, это не его вина, а моя». Он упускал из виду то свойственное подросткам чутье, которое безошибочно подсказывает им, кто их действительно любит. Раймон улавливал немой зов отца, он не смешивал его с остальными членами семьи — но оставался глух. Впрочем, он бы и не знал, что сказать робевшему отцу, ибо сам, несомненно, внушал ему робость, и это его еще больше замораживало.
Случалось все же, что доктор вынужден был делать выговор сыну, но он старался при этом взять как можно более мягкий, даже товарищеский тон.
— Я опять получил письмо от вашего ректора, оно касается тебя. Бедный аббат Фарж, ты его сводишь с ума! Похоже, это ты пустил в классе книгу по акушерству... ты ее стащил из моей библиотеки. Не скрою, возмущение аббата Фаржа кажется мне чрезмерным, вы уже в таком возрасте, когда пора знать жизнь, и в конце концов лучше почерпнуть сведения из серьезных источников... В этом смысле я и ответил вашему ректору... Но, кроме того, у вас в классе, в ящике для бумаги, нашли номер «Ла Годриоль»[3] и, конечно, подозревают тебя, ты у них козел отпущения... Смотри, мой мальчик, кончится тем, что они выставят тебя за дверь за полгода до экзаменов...
— Нет.
— Почему же нет?
— Если уж они оставили меня на второй год, то теперь навряд ли провалят. Я их знаю! Не думай, они не выпустят из рук ни одного из нас, у кого есть шансы выдержать. Стоит им меня вышвырнуть, как меня тут же подхватят иезуиты. Им выгоднее, чтобы я, как они выражаются, портил других, чем лишиться хотя бы одного бакалавра, нужного им для статистики. Ты только представь себе торжествующую рожу Фаржа в день раздачи наград: из тридцати кандидатов двадцать три переведены и двоим разрешены переэкзаменовки! Гром аплодисментов!.. Ух, гады!
— Да нет же, нет, малыш...
Доктор сделал ударение на слове «малыш». Вот, наверно, подходящий момент, чтобы незаметно проникнуть в это ожесточившееся сердце. Давно уже его сын не разрешал себе с ним такой откровенности В его циничных речах сквозил проблеск доверия. Какие выбрать слова, чтобы не отпугнуть мальчика, чтобы убедить его, что на свете существуют люди, свободные от расчета и хитрости, что бывают и особо искусные, чей макиавеллизм служит благородной цели, и они причиняют нам боль лишь для нашего же блага... Пока доктор искал наилучшее выражение для этой мысли, они успели выехать с проселочной дороги на городскую улицу, озаренную грустным утренним светом и загроможденную тележками молочников. Еще несколько минут, и будет застава и крест св. Генезия, которому некогда поклонялись паломники на пути к монастырю св. Якова Компостельского, теперь же там стояли только контролеры омнибусов. Так и не найдя нужных слов, доктор взял горячую руку сына и вполголоса повторил: «Малыш». Он увидел, что Раймон спит, прислонясь головой к окну, — или делает вид, что спит. Подросток закрыл глаза, чтобы они ненароком не выдали в нем слабости, желания сдаться; в его лице, угловатом, словно высеченном из кремня и совершенно непроницаемом, живыми оставались только две темные дужки трепетных ресниц... Он равнодушно высвободил свою руку из отцовской...
* * *
Когда вошла в его жизнь эта женщина — до той сцены в карете или позже? Женщина, которая сидит сейчас здесь, на диване, отделенная от него только одним столиком, так что ему даже не надо повышать голос, чтобы она его услыхала. Она как будто уже успокоилась и пьет вино, перестав бояться, что Раймон ее узнает. Иногда она обращает взгляд на него, но тут же снова отводит. Вдруг раздался ее голос, такой знакомый, — казалось, весь шум вокруг сразу стих: «А вот и Глэдис». Вошедшая пара уселась между Марией и ее спутником, и все четверо заговорили разом: «Мы никак не могли решить, что надеть...» — «Первыми всегда приходим мы...» — «Ну ничего, главное, что вы наконец здесь».
Нет, наверное, больше чем за год до этой сцены в карете между ним и отцом, однажды вечером (дело было, по-видимому, на исходе весны, так как лампу в столовой не зажигали) г-жа Курреж-старшая сказала невестке:
— Люси, я знаю, для кого в церкви делают белые драпировки, — те, что вы видели.
Раймон подумал, что снова начинается один из тех бесконечных разговоров, когда сыплются и сыплются пустые фразы, — от доктора они отскакивали, не задев его. Чаще всего это бывали споры на хозяйственные темы: каждая из женщин защищала свою прислугу, — жалкая пародия на «Илиаду», где Олимпом служила столовая, а богини-покровительницы домашнего очага исходили яростью в кухонных перебранках. Нередко две хозяйки не могли поделить какую-нибудь поденщицу.
— Я наняла на ту неделю Травайотту, — сообщала, например, г-жа Курреж Мадлене Баск. Молодая женщина возражала, что у нее накопилось много детского белья для починки.
— Ты всегда перехватываешь у меня Травайотту.
— Ну и что же? Найми Кривоносую Мари.
— Кривоносая Мари — копуша, кроме того, она заставляет меня оплачивать ей проезд в трамвае.
Но в тот вечер упоминание о белых драпировках в церкви развязало более серьезный спор. Г-жа Курреж-старшая прибавила:
— Это для мальчика Марии Кросс, он умер от менингита. Похоже, она заказала похороны по первому разряду.
— Какая бестактность!
При этом восклицании жены доктор, который читал журнал, машинально поедая суп, поднял глаза. Его супруга тотчас же, как обычно, опустила свои, но зато очень сердитым тоном заявила: весьма прискорбно, что кюре не вразумил эту женщину, эту бесстыдную содержанку, которая пускает всем пыль в глаза своей кричащей роскошью — лошади, коляска и так далее и тому подобное. Доктор предостерегающе поднял руку:
— Не будем судить других... Нас она ничем не оскорбила
— Но ведь это скандал. Разве не так?
Доктор покривился, и Люси, поняв, что он сейчас подумал: «Какая она все-таки мещанка», — заставила себя чуть сбавить тон, но не прошло и нескольких секунд, как она спять в раздражении заявила, что такая женщина внушает ей ужас... Дом, где столько лет жила ее старая приятельница, г-жа Буффар, теща Виктора Ларусселя, отдан теперь этой распутнице... Всякий раз, когда она проходит мимо, у нее просто разрывается сердце.
Прервав жену, доктор спокойным, даже тихим голосом сказал, что нынче вечером в том доме находится лишь несчастная мать, бодрствующая у смертного одра своего ребенка. И тогда г-жа Курреж, воздев вверх указательный палец, торжественно произнесла:
— Кара Господня!
Дети услышали, как доктор с грохотом отодвинул стул. Он сунул в карман журналы и без слов направился к двери, стараясь сдерживать шаг, но семейство, застывшее в молчании, слышало, как он взбегает по лестнице через две ступеньки.
— Что я такого особенного сказала?
Госпожа Курреж с немым вопросом взирала на свекровь, на молодую чету, на детей и слуг.
Все молчали, слышался только стук ножей и вилок да голос Мадлены:
— Не кромсай хлеб... Оставь в покое эту кость...
Внимательно взглянув на свекровь, г-жа Курреж прибавила:
— Это болезнь.
Но старуха, уткнувшаяся носом в тарелку, будто не слышала. Раймон громко расхохотался.
— Выйди за дверь, там и смейся. А когда угомонишься — приходи.
Раймон отшвырнул салфетку. Какая благодать в саду! Да, это скорее всего было на исходе весны, — он помнит, что в воздухе с шумом носились жуки-дровосеки, а на десерт подавали клубнику. Он присел посреди лужайки на теплый камень — закраину фонтана, где никто еще никогда не видел бьющей воды. На втором этаже от окна к окну металась тень отца. В пыльных и душных сумерках, опускавшихся над предместьем Бордо, мерно звонил колокол, звонил по умершему ребенку той самой женщины, которая в эту минуту допивала свой бокал так близко от Раймона, что, пожелай он только, он мог бы дотронуться до нее рукой. Выпив шампанского, Мария Кросс стала смелее поглядывать на Раймона, словно уже не боялась быть узнанной. Мало сказать, что она не постарела: хотя она носила теперь короткую стрижку, хотя ее туалет ни в чем не противоречил моде нынешней зимы, весь ее облик, казалось, сохранял приметы моды 19.. года. Она молода неувядающей молодостью, которая расцвела пятнадцать лет назад. А он — он уже не молод. Ресницы у нее все такие же трепетные, что и в ту пору, когда она говорила Раймону: «У нас с вами глаза похожи, как у брата с сестрой».
* * *
Раймон вспоминает, что на другой день после того, как отец демонстративно вышел из-за стола, рано утром он сидел в столовой, пил свой шоколад и, поскольку окна в сад были отворены, слегка поеживался от утренней сырости. По дому разносился запах свежемолотого кофе. Гравий аллеи зашуршал под колесами докторской кареты: в то утро доктор запаздывал. Г-жа Курреж в лиловом капоте, с еще уложенными на ночь волосами, поцеловала мальчика в лоб, но тот невозмутимо продолжал завтракать.
— Папа еще не спускался?
Она объяснила, что хочет дать отцу письма для отправки по почте. Но Раймон догадывался о причине ее столь раннего появления. Когда большая семья живет под одной крышей, то члены ее, даже не открываясь друг другу, без труда разгадывают тайны своих близких. Свекровь говорила о невестке: «Она мне никогда ничего не рассказывает, но это не мешает мне видеть ее насквозь». Каждый считал, что всех других он видит насквозь, а сам остается неразгаданным. Раймон полагал, что знает, зачем пришла сюда его мать. «Она хочет к нему подладиться». После сцен, подобных вчерашней, г-жа Курреж всегда крутилась возле мужа, пытаясь вернуть себе его расположение. Бедная женщина всякий раз слишком поздно спохватывалась, что своими речами как нарочно отталкивает доктора от себя. Как бывает в кошмарных снах: каждая ее попытка приблизиться к мужу только еще больше отдаляла ее от него, ибо его раздражало все, что бы она ни сказала и ни сделала. Полная беспомощной нежности, она ступала вперед словно впотьмах и, дотронувшись до него, лишь причиняла ему боль.
Услыхав, что на втором этаже захлопнулась дверь кабинета, г-жа Курреж налила доктору чашку горячего кофе; улыбка осветила ее лицо, измятое бессонницей, изможденное долгой чередой хлопотливых, однообразных дней, но эта улыбка мгновенно погасла и сменилась подозрительным выражением, как только в комнату вошел доктор:
— Ты в сюртуке и цилиндре?
— Как видишь.
— Ты идешь на свадьбу?
— ?...
— На похороны?
— Да.
— Кто умер?
— Ты его не знала, Люси.
— Скажи мне все-таки.
— Маленький Кросс.
— Сын Марии Кросс? Значит, ты с ней знаком? Ты мне никогда об этом не говорил, ты мне вообще ничего не говоришь. Но как только у нас за столом заходит речь об этой распутнице...
Доктор стоя пил кофе. Он ответил жене усталым, но таким мягким тоном, который свидетельствовал у него о высшей степени отчаяния:
— За двадцать пять лет ты все еще не поняла, что я стараюсь как можно меньше говорить о своих пациентах...
Нет, она этого не понимала и твердила свое: для нее это как снег на голову, — вдруг, ни с того ни с сего, узнать, что доктор Курреж пользует подобную особу.
— Думаешь, мне приятно, когда люди удивляются: «Как, вы этого не знали?» И приходится отвечать, что у тебя нет ко мне доверия, ты мне никогда ничего не рассказываешь. Значит, ты лечил ее мальчика? От чего он умер? Можешь мне сказать без утайки, я никому не передам, впрочем, с такими людишками церемониться нечего.
Словно не слыша и не видя ее, доктор надел пальто и крикнул Раймону:
— Поторапливайся, семь давно пробило.
Госпожа Курреж засеменила за ним вдогонку.
— Что я опять такого сказала? Сразу ты начинаешь злиться...
Хлопнула дверца кареты, и вот она уже скрылась в густых зарослях бересклета; лучи солнца начали рассеивать туман. Г-жа Курреж в полном смятении, разговаривая сама с собой, вернулась в дом.
В карете Раймон с жадным любопытством присматривался к отцу, он горел желанием удостоиться отцовской откровенности. То была минута, когда отец и сын, наверное, могли бы сблизиться. Но мысли доктора витали далеко от мальчика, которому он столько раз расставлял силки. Теперь добыча сама шла к нему в руки, только он об этом не догадывался. Он бормотал себе под нос: «Надо было мне пригласить хирурга... Всегда стоит попытаться прибегнуть к трепанации...» Он бросил жесткий цилиндр в глубь кареты, опустил стекло и высунул в окошко, на улицу, загроможденную тележками, свое заросшее бородой лицо. У заставы отец рассеянно произнес: «До вечера», — но не проводил Раймона глазами.
III
Вскоре после этих событий, летом того же года, Раймону Куррежу исполнилось семнадцать. То лето помнится ему как небывало жаркое, засушливое, — кажется, с тех пор небо никогда уже не пекло каменистый город таким нестерпимым зноем. А ведь он не забыл, какое лето может быть в Бордо, где ближние холмы служат заслоном от северного ветра, а песок и сосны, подступающие к самым городским воротам, удерживают и копят жару; лето в Бордо, где почти нет деревьев, если не считать городского сада, — в тот год изнемогавшим от жажды детям казалось, что за его великолепными решетками чахнет последняя на свете зелень.
Но быть может, в памяти Раймона огонь небесный в то лето смешался с пламенем, пожиравшим его изнутри, — его и шестьдесят других таких же подростков, запертых во дворе коллежа, отделенном от соседних дворов рядом уборных. Нужны были два надзирателя, чтобы присматривать за этим стадом мальчишек, которые уже перестали быть детьми, но еще не стали мужчинами. Юная человеческая поросль, хилая и страждущая, вытянулась вверх за несколько месяцев неудержимого и мучительного роста. Но в то время, как свет и его обычаи понемногу придавали должную форму другим молодым деревцам — отпрыскам знатных семейств, Раймон Курреж еще без удержу расходовал весь свой пыл. Он внушал страх и трепет учителям, которые всячески старались изолировать от остальных этого мальчишку с порезами на лице (его детская кожа пока еще плохо переносила бритву). В глазах примерных учеников он был порочным существом, — о нем рассказывали, будто он держит в бумажнике фотографии женщин, а во время службы в часовне читает «Афродиту», вложив книжку в молитвенник... «Он утратил веру...» Эти слова наводили на весь коллеж такой ужас, как если бы в доме умалишенных пронесся слух, что самый буйный из его обитателей сорвал с себя смирительную рубашку и голый бродит в окрестностях. Было известно, что в те редкие воскресенья, когда его не наказывали, а отпускали домой, Раймон Курреж прятал подальше свою школьную форму и фуражку с монограммой Пресвятой Девы, надевал пальто, купленное в магазине готового платья Тьерри и Сиграна, напяливал на голову смешной котелок, вроде тех, какие носят полицейские в штатском, и отправлялся в подозрительные балаганы на ярмарке; однажды его видели в одном из них с потаскухой неопределенного возраста.
Когда в день торжественной раздачи наград гостям, укрывшимся от зноя под сенью пожухлой листвы, было объявлено, что ученик Курреж, безусловно, переведен с отметкой «вполне удовлетворительно», лишь он один знал, что заставило его, при его явной несобранности, приложить столько усилий, чтобы выдержать экзамен. Им завладела навязчивая идея, сделавшая его нечувствительным ко всем придиркам, скоротавшая ему часы заточения среди серых, облупившихся стен школьного двора, — то была идея ухода, бегства из дома однажды на заре летнего дня, бегства по Большой Испанской дороге, которая проходила мимо владения Куррежей и была скорее загромождена, нежели вымощена огромными булыжниками, — память об Императоре, о его пушках и обозах. С каким восторгом предвкушал Раймон каждый шаг, отдалявший его от коллежа и постылой семьи! Существовал уговор: если Раймона переведут в следующий класс, отец и бабушка дадут ему каждый по сто франков; поскольку восемьсот у него уже есть, он таким образом окажется владельцем тысячефранкового билета, благодаря которому, как он надеялся, сможет разъезжать по свету, все увеличивая расстояние между собой и своими. Вот почему он занимался и когда бывал наказан, не обращая внимания на игры товарищей. Иногда он закрывал книгу и с упоением предавался своим мечтам: путь его пролегал через сосновые рощи, где стрекотали кузнечики; устав от дороги, он останавливался в прохладной, сумрачной харчевне на краю деревни без названия; лунный свет будил петухов, и с зарей мальчик, ощущая во рту вкус свежего хлеба, снова пускался в путь. Иногда ему придется ночевать и под стогом сена; какая-нибудь соломинка заслонит от него звезду, а разбудит его влажная рука рассвета...
И все-таки он не сбежал, этот мальчик, которого учителя и родные единодушно считали способным на все; его враги, сами того не ведая, одержали над ним верх: подросток терпит поражение оттого, что дает убедить себя в своем ничтожестве. Случается, что в семнадцать лет и самый необузданный мальчишка невольно проникается тем мнением о себе, какое ему внушают окружающие. Раймон Курреж был красив, но не сомневался в том, что он чудовищный урод и чудовищный грязнуля; не оценив по достоинству благородных черт своего лица, он был убежден, что вызывает у всех одно лишь отвращение. В ужасе от самого себя, он полагал, что никогда не сумеет оправдаться перед людьми за ту неприязнь, которую им внушает. Вот почему желание бежать уступало в нем желанию спрятаться, закрыть лицо, избавиться от презрения посторонних. Этот распущенный мальчишка, чьей руки боялись коснуться воспитанники Конгрегации, так же, как они сами, еще не знал женщины и не считал себя способным понравиться хотя бы последней судомойке. Он стыдился своего тела. Ни родные, ни учителя не сумели разглядеть в его упрямом своеволии и неопрятности жалкую браваду подростка, пытающегося убедить их, что все это он делает нарочно, — бессильный бунт переходного возраста, самоуничижение паче гордости.
В каникулы по окончании класса риторики он был еще совсем не готов к побегу — им овладела безмерная трусость: скованный стыдом, он, как ему казалось, читал презрение в глазах служанки, убиравшей его комнату, не выдерживал взгляда доктора, который тот иногда подолгу задерживал на сыне. Поскольку Баски на весь август уехали в Аркашон, он лишился и привычных бесшабашных игр с детьми, с их гибкими, словно тростинки, телами.
Со дня отъезда Басков г-жа Курреж то и дело повторяла: «Как приятно все-таки наконец-то пожить своей семьей». Таким образом она брала реванш у дочери, заявившей однажды: «Мне и Гастону просто необходимо немножко полечиться одиночеством». На самом деле бедная женщина жила ожиданием ежедневных писем, а стоило только загреметь грому, как она уже видела семейство Басков, в полном составе застигнутое бурей в лодке. Ее дом наполовину обезлюдел, и пустые комнаты наводили на нее тоску. Чего хорошего ждать от такого сына, как Раймон, который целыми днями где-то носится, возвращается весь потный, озлобленный и, как зверь, набрасывается на еду?
— Люди мне говорят: «У вас же есть муж...» Да, как бы не так!
— Вы забываете, деточка, как занят Поль.
— Он сейчас почти не ездит с визитами, мама. Большая часть его пациентов уехала на воды.
— Его пациенты победнее никуда не ездят... А его лаборатория, а больница, а его статьи...
Обиженная супруга качала головой: она знала, что таких дел у доктора всегда найдется предостаточно, что до самой смерти у этого человека не будет и малейшей передышки, когда бы он, забыв о работе, спокойный и беззаботный, смог бы хоть на миг посвятить себя ей. Она не верила, что это возможно: ей было невдомек, что любовь сумеет прорыть себе ход даже сквозь самую заполненную жизнь, что, когда государственного мужа ждет любовница, он останавливает течение мировых событий. Такое неведение избавляло г-жу Курреж от страданий. Пусть она знала только один род любви — когда приходится бегать за недоступным тебе человеком, а он даже не оборачивается в твою сторону, — ее неспособность добиться от него хотя бы участливого взгляда не позволяла ей даже предположить, что с другой женщиной доктор может быть иным. Нет, она не хотела верить, что существует женщина, способная вырвать доктора из этого непостижимого мира, где ведутся наблюдения и статистика, где между двумя стеклышками растираются капли крови и гноя, и ей суждено было жить годы и годы, не ведая, что порой лаборатория по вечерам пустовала и больные напрасно ждали того, кто бы мог принести им облегчение, а он в это самое время предпочитал неподвижно сидеть в полумраке душной плюшевой гостиной, глядя на лежащую перед ним женщину.
Чтобы выкроить посреди работы эти тайные передышки, доктор вынужден был трудиться с двойным напряжением сил, он расчищал путь, стремясь доставить себе наконец эти минуты безмолвного влюбленного созерцания, когда он утолял свое желание неотрывным взглядом. Иногда незадолго до этого вожделенного часа он получал от Марии Кросс записку: сегодня она занята, лицо, от которого она зависит, дает ужин в загородном ресторане, и если в конце своего послания Мария Кросс не назначала ему другой день и час, у доктора пропадала охота жить.
Будто по мановению волшебной палочки, вся его жизнь сразу перестраивалась в угоду этому новому свиданию: как бы он ни был занят, он, словно искусный шахматист, с одного взгляда усматривал возможные комбинации: что нужно переставить, изменить, чтобы минута в минуту очутиться в душной плюшевой гостиной и молча сесть в кресло, глядя на лежащую перед ним женщину. А если она не успевала его предупредить и назначенный час проходил в напрасном ожидании, доктор утешал себя, рассуждая: «Сейчас наше свидание все равно бы уже кончилось, а так это счастье у меня еще впереди». Ему было чем заполнить оставшиеся до встречи дни: лучшим убежищем для него служила лаборатория; здесь он переставал думать о своей любви; занятия наукой как бы отменяли время, поглощая часы и часы, пока не наступала наконец минута, когда можно было переступить порог того дома за Таланской церковью, где жила Мария Кросс.
Терзаемый любовью, доктор в то лето не слишком присматривался к сыну. Посвященный во множество постыдных тайн, он часто говорил: «Мы почему-то думаем, что так называемые „происшествия“ нас не касаются, что убийство, самоубийство, бесчестье — это удел других, а вместе с тем...» А вместе с тем он так никогда и не узнал, что в те смертельно жаркие августовские дни его сын едва не совершил непоправимое. Раймону хотелось бежать и в то же время хотелось спрятаться, стать невидимкой. Он не осмеливался войти в кафе, в магазин. Ему случалось по десять раз проходить мимо какой-нибудь двери, прежде чем он решался ее отворить. Эта фобия делала бегство для него невозможным, а дома он задыхался. Вечерами ему нередко казалось, что самый простой выход — это смерть, и тогда он выдвигал ящик письменного стола, где отец держал револьвер старого образца; но Богу не было угодно, чтобы мальчик нашел пули. Однажды днем, пройдя через поникшие виноградники, Раймон спустился под уклон выгоревшей лужайки к рыбному садку: он надеялся, что водоросли и мхи оплетут ему ноги своими побегами, что он не сможет выбраться из гнилой воды и под конец глаза и рот его наполнятся тиной; никто его больше не увидит, да и ему не придется больше терпеть на себе чужие взгляды. На поверхности пруда плясала мошкара; лягушки, плюхаясь в воду, как камни, баламутили сумрачный водоем, кишевший таинственной жизнью. Не страх спас в тот день Раймона, а отвращение.
К счастью, он редко оставался один, так как теннисный корт Куррежей привлекал молодежь из соседних усадеб. Г-жа Курреж сетовала на Басков за то, что они ввели ее в расход, заставив построить корт, а сами взяли и укатили. Теперь кортом пользовались чужие люди; юноши в белом, с ракетками в руках, неслышно ступая в своих эспадрильях, появлялись в час сиесты в гостиной, здоровались с дамами и, едва осведомившись, где Раймон, выбегали опять на залитую солнцем площадку, которая вскоре оглашалась их возгласами «play», «out»[4] и звонким смехом.
— Даже не дают себе труда закрыть дверь! — ворчала г-жа Курреж-старшая: у нее была навязчивая идея — преградить жаре доступ в дом.
Раймон, возможно, не отказался бы поиграть, но его отпугивало присутствие девушек, особенно барышень Косруж — Мари-Терезы, Мари-Луизы и Маргерит-Мари, трех блондинок с такими густыми волосами, что их тяжесть вызывала мигрень у девушек, обреченных носить на голове грандиозные сооружения из золотистых кос, едва удерживаемые шпильками и поминутно грозившие развалиться. Раймон их ненавидел — какого черта они все время смеются? Они были хохотушки и всех вокруг находили «потешными».
По правде говоря, над Раймоном они смеялись ничуть не больше, чем над другими; не их вина была в том, что он считал себя всеобщим посмешищем. Впрочем, у него имелась и более определенная причина для ненависти к ним: накануне отъезда Басков Раймон смалодушничал и пообещал зятю, что будет проезжать его верховую лошадь, которую тот оставлял в конюшне. Но в те годы у Раймона, едва он вскакивал в седло, начиналось такое головокружение, что он являл собой довольно-таки жалкого всадника. Однажды утром девицы Косруж случайно увидели его на лесной дорожке: он проскакал мимо них, судорожно вцепившись в луку седла, и вскоре грохнулся на песок. При виде сестер Раймон тотчас же вспоминал, как они в тот раз оглушительно хохотали, а девушки при встрече с Раймоном снова и снова смаковали подробности его падения с лошади.
Какую бурю в юной душе в разгар ее весны способно вызвать даже самое беззлобное поддразниванье! Раймон не отличал сестер Косруж одну от другой: ослепленный ненавистью, он видел в них единое жирное чудовище о трех шиньонах, всегда потное и кудахтающее под деревьями, мертвенно неподвижными в те знойные августовские дни 19... года.
Иногда он садился в поезд, который вез его через раскаленную печь города в доки, где в стоячей воде с расплывшимися радужными пятнами нефти и масла плескались худосочные подростки, истощенные нуждой и золотухой. Они резвились, гонялись друг за другом, и их босые ноги, шлепая по плитам набережной, оставляли на ней нестойкие влажные следы.
Снова наступил октябрь. Трудный переход совершился, Раймон миновал гибельное для его жизни время, ему суждено было уцелеть, и он уцелел — покамест для школьных занятий. Начался следующий учебный год, класс философии, где новые книги, запах которых он всегда так любил, раскрывали ему в виде сводной таблицы все мечтания человечества и все системы мышления. Ему суждено было уцелеть, и не только благодаря собственным усилиям. Но близился час, когда в его жизнь должна была войти женщина — та самая, что в тот вечер в маленьком баре смотрела на него сквозь табачный дым и кружащиеся пары и чей чистый и ясный лоб пощадило время.
В зиму, предшествовавшую их встрече, Раймон пребывал во власти глубокого оцепенения, апатия обезоружила его, а присмирев, он перестал быть козлом отпущения. После этих каникул, когда он так мучительно метался между двумя навязчивыми идеями — бегства и самоубийства, Раймон стал охотно выполнять все, что от него требовали, и дисциплина помогала ему жить. Но и теперь он больше всего любил часы возвращения домой, ежевечерние поездки из одного предместья Бордо в другое. Закрыв за собой дверь коллежа, он вступал в сумрак узкой улочки, где его то окутывало влажным туманом, то пробирало сухим морозцем; ему были хорошо знакомы все оттенки неба — пасмурного или чистого, источенного звездами или затянутого облаками, подсвеченными изнутри невидимой луной; он доходил до заставы и садился в трамвай, всегда битком набитый усталыми, грязными и тихими людьми. Большой прямоугольный желтый ящик, освещенный ярче «Титаника», углублялся в полусельские окраины Бордо и катил между грустными садиками, погруженными в зимнюю мглу.
* * *
Дома Раймон больше не чувствовал себя предметом бесконечных придирок: всеобщее внимание было теперь перенесено на доктора.
— Я очень за него беспокоюсь, — говорила свекрови г-жа Курреж. — Вы счастливая женщина — умеете не портить себе кровь. Завидую таким людям.
— Поль просто устал, понятно, он слишком много работает, но по натуре он крепкий, и это меня успокаивает.
Невестка пожимала плечами, не прислушиваясь к тому, что бормочет про себя старуха: «Он не болен, но страдает, что правда, то правда».
Госпожа Курреж твердила:
— Только врачи так упорно не желают лечиться.
За столом она пристально всматривалась в мужа, а он обращал к ней усталое, раздраженное лицо:
— Сегодня пятница, по какому случаю отбивная?
— Тебе необходимо усиленное питание.
— Откуда ты взяла?
— Почему ты не покажешься Дюлаку? Врач не может лечить себя сам.
— Но, милая Люси, почему ты решила, что я болен?
— Ты же себя не видишь — на тебя страшно смотреть, это все говорят. Вчера меня опять спросили — уж не помню кто: «Что с вашим мужем?» Надо бы тебе попринимать холеин, я уверена, что это печень...
— Почему именно печень, а не какой-нибудь другой орган?
Она заявляла тоном, не допускающим возражений:
— Такое у меня впечатление.
У Люси было совершенно определенное впечатление, что это печень, — ничто не могло ее в этом поколебать, — и назойливее мухи кружила она возле доктора со своими наставлениями:
— Ты выпил уже две чашки кофе, я скажу на кухне, чтобы больше не варили. Это уже третья сигарета после завтрака, не спорь, пожалуйста, — в пепельнице три окурка.
Однажды она сказала свекрови:
— Он знает, что болен, и вот вам доказательство: вчера я застала его перед зеркалом; он, всегда такой небрежный к своей внешности, пристально рассматривал свое лицо, проводил по нему пальцами, — можно было подумать, будто он хочет разгладить морщины на лбу и на висках, он даже рот открыл и разглядывал свои зубы.
Госпожа Курреж-старшая настороженно посмотрела поверх очков на невестку, как будто боялась прочесть на ее недоверчивом лице нечто большее, чем беспокойство, — подозрение. Накануне вечером старая женщина почувствовала, что сын поцеловал ее крепче обычного, и возможно, догадалась, почему он вдруг так тяжело уронил голову ей на плечо; с тех пор, как он перестал быть ребенком, она привыкла чутьем угадывать его раны, которые могло залечить лишь единственное существо в мире — то, что их причинило. Но его жена, хотя она уже много лет страдала от своей безответной нежности, предполагала у него только физическое недомогание и каждый раз, когда он садился напротив нее и подпирал руками измученное лицо, упрямо твердила:
— Мы все считаем, что ты должен показаться Дюлаку.
— Дюлак не сообщит мне ничего такого, чего бы я не знал сам.
— Разве ты можешь сам себя выслушать?
Доктор не отвечал, прислушиваясь к тревожному биению своего сердца, которое словно держала, легонько сжимая, чья-то рука. Ах, он, конечно, лучше мог сосчитать удары в собственной груди, чем у какого-нибудь пациента, — удары сердца, трепещущего от той игры, которой он предавался возле Марии Кросс: как трудно ему было ввернуть словечко понежнее, намекнуть на свою любовь женщине, почитавшей своего врача, словно праведника, искавшей у него духовного утешения.
Доктор снова во всех подробностях переживал последний визит к ней: карету он оставил на дороге перед Таланской церковью и пошел пешком по улице, блестевшей лужами. Сумерки спустились так быстро, что, когда он входил в ворота, уже стемнело. В конце запущенной аллеи горел фонарь, бросавший красноватые отсветы на окна первого этажа невысокого строения.
Доктор не позвонил; никто из слуг не вышел ему навстречу и не проводил через столовую; без стука вошел он в гостиную, где Мария Кросс лежала на кушетке с книгой, но при его появлении не встала, а даже еще несколько секунд продолжала читать и лишь после этого сказала:
— Ну вот, доктор, я в вашем распоряжении.
Она протянула ему обе руки и чуть подобрала ноги, чтобы он мог присесть на кушетку.
— В это кресло не садитесь, оно сломано. Вы же знаете — здесь уживаются роскошь и нищета.
В загородном доме, где Виктор Ларуссель поселил Марию Кросс, посетитель то и дело спотыкался о рваные ковры, а в складках занавесей прятались дыры. Временами Мария Кросс умолкала; однако для того, чтобы доктор мог подвести разговор к признанию, которое он решил ей сделать, надо было снять зеркало над кушеткой, зеркало, где отражалось его лицо, почти скрытое бородой, его налитые кровью глаза, испорченные микроскопом, лоб с залысинами, появившимися еще тогда, когда Поль Курреж держал конкурс в ординатуру. И все-таки он попытает счастья: прелестная рука свешивалась с кушетки, почти касаясь ковра, — он схватил ее и сказал вполголоса:
— Мария...
Она не отняла доверчивой руки.
— Нет, доктор, температуры у меня нет. — И прибавила, так как привыкла говорить только о себе: — Я сделала то, что вы, мой друг, наверняка одобрите: сказала мосье Ларусселю, что коляска мне больше не нужна, — пускай продаст ее и лошадей и рассчитает Фирмена. Но вы же знаете, какой это человек, — он совершенно неспособен понять благородные побуждения. Он расхохотался и заявил, что ради каприза, который не продлится и нескольких дней, незачем «все здесь переворачивать вверх дном». Но я стою на своем и отныне буду ездить только на трамвае, в любую погоду, — уже сегодня ехала, когда возвращалась с кладбища. Я подумала, что вы будете мною довольны. Так я чувствую себя не столь недостойной нашего маленького усопшего, меньше чувствую себя... содержанкой.
Последнее слово она произнесла еле слышно. Ее прекрасные, полные слез глаза были устремлены на доктора, смиренно испрашивая его одобрения, и он тотчас дал его; серьезным, спокойным голосом он похвалил эту женщину, без конца заклинавшую его:
— Вы такой замечательный человек... вы самый благородный из всех, кого я когда-либо знала... одного вашего существования довольно, чтобы заставить меня уверовать в добро...
Он пытался протестовать.
— Я совсем не такой, как вы думаете, я всего только жалкий человек, снедаемый желаниями, так же, как другие...
— Вы бы не были святым, — возражала она, — если бы не презирали себя.
— Нет, нет, Мария! Какой там святой! Если бы вы знали...
Она взирала на него с безмерным восхищением, но ей никогда не случалось беспокоиться о нем, как беспокоилась его жена, или хотя бы замечать, что он плохо выглядит. Восторженное преклонение, которым удостаивала его эта женщина, делало его любовь безнадежной. Ее восхищение воздвигало перед его страстью каменную стену. Будучи вдалеке от Марии Кросс, несчастный убеждал себя, что нет на свете препятствий, которых такая сильная любовь не могла бы преодолеть, но стоило ему снова очутиться лицом к лицу с молодой женщиной, так почтительно ловившей каждое его слово, — и он сдавался перед очевидностью своего непоправимого несчастья: ничто на свете не могло бы изменить характера их отношений, она не любовница его, а ученица, он не любовник, а наставник. Протянуть руки к этому распростертому телу, привлечь его к себе было бы таким же безумием, как разбить это зеркало. А ведь он еще не подозревал, с каким нетерпением Мария ждала, чтобы он ушел. Внимание доктора ей льстило — при ее унизительном положении она не могла не ценить знакомство с таким видным человеком, но до чего же ей было с ним скучно! Не догадываясь, что его визиты ей в тягость, доктор с каждым днем все сильнее чувствовал, что больше не в силах скрывать свою тайну, и уже так плохо скрывал ее, что лишь бесконечным равнодушием к нему Марии можно было объяснить, почему она до сих пор ничего не заметила. Если бы она испытывала хоть проблеск влечения к доктору, его любовь бросилась бы ей в глаза. Увы! Какой рассеянной может быть женщина в присутствии человека, которого она хоть и уважает и даже чтит и обществом которого гордится, но с которым ей нестерпимо скучно, — это уже отчасти открылось доктору, открылось настолько, что он совсем пал духом.
Доктор поднялся, прервав Марию Кросс на полуслове:
— Ах, — сказала она, — конечно, ведь вы не располагаете собой, вас ждут несчастные... Я не хочу быть эгоисткой и присваивать вас себе.
Он опять прошел через пустую столовую, через переднюю, спустился в застывший сад, где на него дохнуло холодом. Пока он ехал домой в карете, ему представилось лицо Люси, участливое и огорченное, — она, наверно, ждет его и тревожится, и он несколько раз повторил себе. «Только не причинять никому страданий, довольно и того, что я сам страдаю, не причинять страданий другим...
* * *
— Сегодня ты выглядишь еще хуже. Чего ты ждешь, почему не пойдешь к Дюлаку? Если ты не хочешь сделать это ради себя, то сделай хотя бы ради нас. Можно подумать, будто ты сам по себе, а нас это совсем не касается.
Госпожа Курреж призвала в свидетели Басков, которые беседовали вполголоса, но теперь прервали разговор и послушно вторили ее увещаниям.
— Конечно, папа, мы все желаем, чтобы вы как можно дольше оставались с нами.
При звуке этого ненавистного голоса доктор устыдился своей неприязни к зятю, которая всякий раз вскипала в нем снова. «Он все же честный малый... я не прав...» Но разве мог он забыть причины своей ненависти к Гастону Баску? За все годы супружества доктор только в одном нашел осуществление своей мечты: напротив их большого супружеского ложа стояла детская кроватка, и каждый вечер они с женой любовались спящей Мадленой, их первым ребенком.
Девочка дышала неслышно, прелестная ножка откинула одеяло, между прутьями кроватки свешивалась чудесная пухлая ручонка. Это было такое кроткое дитя, что ее можно было баловать без опасения испортить, и нежная привязанность отца приручила девочку настолько, что она могла часами бесшумно играть у него в кабинете. «Вы утверждаете, будто она не слишком развита, — говорил доктор, — она развита больше, чем надо». Позднее доктор, который терпеть не мог появляться на людях с г-жой Курреж, радовался, когда его встречали с этой юной девушкой. «Тебя принимают за мою жену!» К тому времени он выбрал для нее одного из своих учеников, единственного, который, как ему казалось, вполне его понимает — Фреда Робинсона. Доктор уже называл его сыном и ждал только, пока Мадлене исполнится восемнадцать лет, чтобы можно было заключить брак, как вдруг, в конце той зимы, когда она впервые стала выезжать, Мадлена объявила отцу, что обручилась с лейтенантом Баском. Яростное противодействие отца длилось не один месяц и было одинаково непонятно для всех — и для семьи, и для общества. Как мог он предпочесть богатому офицеру с приятной наружностью и блестящим будущим какого-то жалкого неимущего студента без роду, без племени? Эгоизм ученого, говорили люди.
У доктора были причины слишком личного свойства, чтобы он мог делиться ими с кем бы то ни было. Воспротивясь браку Мадлены, он почувствовал, что стал врагом обожаемой дочери, и вбил себе в голову, что она будет рада его смерти, что отныне он для нее только препятствие — старая стена, которую надо снести, чтобы соединиться с зовущим ее самцом. Из потребности разобраться в себе и определить, насколько сильна ненависть к нему его любимой девочки, доктор довел свое упрямство до крайней степени. Даже его старуха-мать была с ним не согласна и стала сообщницей молодых людей. В его собственном доме плелись тысячи интриг, чтобы влюбленные могли соединиться вопреки его воле. Когда он наконец сдался, дочь наградила его поцелуем в щеку, а он, как прежде, слегка откинул ей волосы назад и коснулся губами ее лба. Все вокруг непрестанно твердили: «Мадлена обожает отца, она всегда была его любимицей». До самой смерти он, конечно же, будет слышать от дочери нежные слова: «Дорогой мой папочка».
А покамест приходилось терпеть общество этого Баска. Неприязнь к нему доктора так или иначе давала себя знать, несмотря на неимоверные усилия, которые он над собой делал. «Удивительное дело, — говорила г-жа Курреж. — У Поля есть зять, который думает обо всем совершенно так же, как он сам, а он его не любит». Этого-то и не мог доктор простить молодому человеку: тот искажал и возвращал ему в карикатурном виде самые дорогие для него идеи. Лейтенант принадлежал к числу людей, чье одобрение только тяготит нас и заставляет усомниться в истинах, за которые мы еще недавно готовы были пролить свою кровь.
* * *
— Да, папа, поберегите себя ради ваших детей, позвольте им защищать ваши интересы против вас самих.
Доктор вышел из столовой, не ответив ни слова. Немного погодя супруги Баск удалились к себе в спальню (священная территория, о которой г-жа Курреж говорила: «Ноги моей там не будет, Мадлена дала мне понять, что ей это было бы неприятно. Ну а мне два раза повторять не надо, я понимаю с полуслова») и стали молча раздеваться. Стоя на коленях возле кровати и уткнувшись головою в полог, лейтенант вдруг обернулся к жене и спросил:
— Это владение входит в общее имущество?
— ?
— Я спрашиваю, было ли оно приобретено твоими родителями за время их супружества?
Мадлена полагала, что это так, но точно не знала.
— Хорошо бы узнать, потому что в случае, если твой бедный папа... мы будем иметь право на половину.
Он опять погрузился в молчание, потом вдруг спросил, сколько лет Раймону, и, казалось, был недоволен тем, что ему только семнадцать.
— А какое это имеет значение, почему ты спрашиваешь?
— Просто так...
Возможно, он подумал, что наличие в семье несовершеннолетнего всегда осложняет дело с наследством, потому что, поднявшись, сказал:
— Лично я думаю, что твой папочка покинет нас не ранее, чем через несколько лет.
Огромное ложе разверзлось в полумраке перед супругами: они улеглись в него так же просто, как в полдень и в восемь вечера садились за стол — когда приходило время утолить голод.
В те ночи Раймону случалось внезапно проснуться: он не мог понять, что за теплая густая жидкость струится по его лицу, затекает в рот; нашарив рукой спички, зажигал их и убеждался, что из левой ноздри у него сочится кровь, пачкая рубашку и постель. Он вставал и, дрожа от холода, разглядывал в зеркале свое длинное тело, все в алых пятнах, вытирал о грудь липкие от крови пальцы и потешался над своим измаранным лицом, воображая себя одновременно и убийцей, и убитым.
IV
Был вечер, похожий на все вечера в конце января, — к этому времени зима в тех краях уже идет на убыль, — когда Раймон, ехавший в рабочем трамвае, с удивлением заметил напротив себя эту женщину. Ничуть не страдая оттого, что он ежевечерне оказывается среди этой людской массы, он внушал себе, будто он эмигрант и сидит на нижней палубе судна, рассекающего ночной мрак; деревья были кораллами, прохожие и кареты, плохо различимые во тьме, — обитателями морских глубин. Путешествие длилось слишком недолго, чтобы он успел испытать унижение: все люди вокруг были так же неряшливы и неухоженны, как он сам. Когда его взгляд встречался с чужим взглядом, Раймон не читал в нем насмешки; правда, его белье было все-таки чище, чем, скажем, плохо заправленная рубашка на волосатой груди вон того здоровяка. Среди этих людей он чувствовал себя уверенно, не догадываясь о том, что довольно было бы одного слова, чтобы между ним и ими пролегла вдруг пустыня, разделяющая целые классы и отдельных людей. Все, что могло быть общего между ними, заключалось в кратком соприкосновении при посадке в этот трамвай, разрезающий темноту предместий. Раймон, такой грубый в коллеже, здесь и не подумал бы оттолкнуть от себя парня, который, обессилев от усталости, привалился к нему головой, и его тело, сморенное сном, казалось, распадается, словно развязавшийся букет.
Итак, в тот вечер он увидел напротив себя эту женщину, эту даму. Она сидела между двумя мужчинами в перепачканной маслом одежде, вся в черном, откинув с лица вуаль. Позднее Раймон спрашивал себя, почему он совершенно не ощутил под ее взглядом того смущения, какое вызывала у него последняя служанка. Нет, никакого смущения, никакого стыда, быть может, потому, что в этом трамвае он чувствовал себя безымянным и ему не приходило в голову, каким образом он мог бы вступить в разговор с незнакомкой. Но прежде всего он не находил в ее лице ничего похожего на любопытство, насмешку, презрение. А между тем — как эта женщина его разглядывала! Пристально, методично, и должно быть, в это время думала: «Это лицо скрасит мне те неприятные минуты, которые я вынуждена проводить в городском транспорте, рядом с этим печальным ангельским ликом я не замечаю никого. Созерцание его делает меня неуязвимой — ничто не может меня задеть. Его лицо передо мной — словно неведомая страна, его ресницы — берега, омываемые волнами; между краями век дремлют в тумане два озера. Пальцы в чернилах, воротник и манжеты грязные, одной пуговицы не хватает, но все это лишь земля, испачкавшая прекрасный плод, который вдруг сорвался с ветки и упал, но он цел и невредим, и ты подбираешь его бережной рукой».
И Раймон тоже невозмутимо рассматривал ее, ибо мог не опасаться, что незнакомка ему что-нибудь скажет, их ведь ничто не связывало, — рассматривал с тем спокойным любопытством, с каким мы, бывает, не отрываясь глядим на какую-нибудь планету. (Как по-прежнему чист ее лоб! Нынешним вечером Курреж украдкой смотрит на нее, озаренную иным светом, нежели огни этого бара, светом мысли, отблеск которой так непривычно видеть на лице женщины, но именно он особенно волнует нас и не дает забыть, что слова Мысль, Идея, Совесть, Душа суть женского рода!)
Возле Таланской церкви молодая женщина поднялась и вышла, оставив покинутым мужчинам лишь запах своих духов, но он успел рассеяться еще до того, как сошел Раймон. В этот январский вечер было совсем не холодно, и юноша мог идти не торопясь; сырой воздух был пронизан ласковым дыханием весны. Земля была еще голая, но она просыпалась.
* * *
Погруженный в себя, Раймон не замечал, что происходило в тот вечер за семейным столом: отец казался совершенно больным, он выглядел так плохо, что г-жа Курреж прикусила язык: «Его нельзя волновать», — объяснила она потом чете Баск, когда доктор вместе с матерью поднялся к себе. Все-таки на свой страх и риск она пригласила Дюлака. Стоя у камина и отравляя воздух дымом сигары, лейтенант решительно заявил:
— Какие еще могут быть сомнения, мама, он болен.
Говорил он отрывисто и слова произносил нечетко, речь его напоминала воинскую команду, и когда Мадлена заметила: «Может быть, это просто недомогание...» — лейтенант перебил ее:
— Да нет, Мадлена, случай очень серьезный, твоя мать права.
Когда же молодая женщина посмела что-то возразить, он крикнул:
— Я ведь уже сказал, что твоя мать права! Неужели непонятно?
* * *
Поднявшись во второй этаж, г-жа Курреж-старшая тихонько постучала в комнату сына, сидевшего за столом над раскрытыми книгами. Не задав ему ни единого вопроса, она села и молча принялась вязать. Если бы ее сын пожелал прервать молчание и отчужденность, если бы у него явилась потребность говорить, — что же, она была тут, рядом, готовая его выслушать, однако безошибочное чутье подсказывало ей, что не надо лезть к нему в душу. Какой-то миг ему хотелось исторгнуть все, что его душило, но ему пришлось бы начать издалека, пришлось бы выпустить из темницы все свои муки вплоть до последней, сегодняшней... А как объяснить несоизмеримость своих переживаний с причиной, их вызвавшей? Ничего особенного ведь не случилось: в назначенный час, когда доктор примчался к Марии Кросс, слуга объявил ему, что мадам еще не вернулась; он забеспокоился, но решил подождать в пустой гостиной, где стенные часы стучали медленней, чем его сердце. Лампа освещала балки на потолке — причуду архитектора, на маленьком столике возле дивана стояла пепельница, полная окурков: «Она слишком много курит, отравляет себя». Сколько книг! Но ни одной разрезанной до конца. Он перевел взгляд на тяжелые портьеры из выцветшего шелка с дырками внутри складок. Повторяя про себя: «Роскошь и нищета, нищета и роскошь», — взглянул сначала на стенные, потом на свои часы, решил, что через четверть часа уйдет, — казалось, время бежит быстро. Но чтобы оно не прошло совсем уж незаметно, доктор запретил себе думать о своей лаборатории, о прерванном опыте. Он встал, приблизился к кушетке, опустился на колени, боязливо, искоса поглядев на дверь, и зарылся лицом в подушки... Когда он поднимался, его левое колено издало привычный треск. Он остановился перед зеркалом, потрогал пальцем набухшую височную артерию и подумал вслух, что всякий, кто увидел бы его в эту минуту, счел бы сумасшедшим. По привычке ученого все сводить к формулам он сказал себе: «Стоит нам остаться наедине с собой, как мы становимся сумасшедшими. Да, наш самоконтроль выключается, когда над нами нет контроля других». Увы! Эти рассуждения как раз и съели те четверть часа передышки, которые он себе разрешил.
Как объяснить матери, которая сидит здесь и ждет, чтобы он ей открылся, какую безмерную тоску он пережил в те минуты, минуты вынужденного отказа от ежедневного грустного счастья — беседы с Марией Кросс. Нет, это не вызывало желания излить душу кому бы то ни было, хотя бы и родной матери. Кто из нас обладает даром в нескольких словах обнажить свой внутренний мир? Как выделить из этого неостановимого потока главное, а не второстепенное? Надо говорить либо все, либо ничего. Да и что может понять сидящая здесь старая женщина в той глубинной музыке, которая звучит в душе ее сына, в ее кричащих диссонансах? Сына, человека другого пола — другой породы. Ничто так не отдаляет нас друг от друга, как пол, словно расстояние между двумя планетами... В присутствии матери доктор вновь переживает свое страдание, но не рассказывает о нем. Он вспоминает, что, устав дожидаться Марию Кросс, уже взялся было за шляпу, как вдруг в вестибюле послышались шаги, и весь он словно оборвался и полетел в пустоту. Дверь отворилась, но перед ним предстала не женщина, которую он ждал, а Виктор Ларуссель.
— Вы слишком балуете Марию, доктор.
Ни нотки подозрения в голосе. Доктор улыбнулся этому безукоризненно светскому человеку в бежевом костюме, сангвиничному, излучавшему довольство и самодовольство.
— Какая пожива для вас, врачей, все эти неврастенички и мнимобольные женщины. А? Нет, я шучу, доктор, ваше бескорыстие всем известно. Мне чертовски повезло, что Марии попался такой редкостный экземпляр вашей породы. Знаете, почему она до сих пор не вернулась? Мадам изволила отказаться от экипажа, это ее последний каприз. Между нами говоря, она, по-моему, с дуринкой, но красивой женщине это даже придает пикантность, а? Как вы думаете, доктор? Старина Курреж! Рад вас видеть, оставайтесь у нас обедать, Мария будет очень довольна, она вас обожает. Нет? Ну так, по крайней мере, дождитесь ее возвращения, ведь я только с вами и могу о ней говорить.
«Я только с вами и могу о ней говорить...» Такой блестящий, преуспевающий человек, и вдруг эта душераздирающая фраза. «Эта связь, — думал доктор в увозившей его карете, — скандализует весь город, а между тем любовь к Марии — единственное благородное чувство у этого болвана. В пятьдесят лет он показал, что способен страдать из-за женщины, и хотя он владеет ее телом, ему этого мало. За пределами его привычного мира, его общества, его дел, его конюшни для него отныне существует нечто более высокое — его страдание... Не все так уж глупо в романтической концепции страсти. Мария Кросс! Мария! Горько, бесконечно горько, что я ее не видел, но еще горше, что она и не подумала меня предупредить. Видимо, я мало что значу в ее жизни: она пропускает свидание со мной, даже не вспомнив о нем... Минуты наших встреч для меня были бесконечностью, а для нее ничем...»
Доктор вздрагивает, услышав какие-то слова: его мать решила прервать молчание. Старая женщина тем временем тоже следовала по наклонной тропе своих тайных тревог и не думала больше о неизвестной ей ране сына, обратившись к тому, что неотвязно занимало ее, — к отношениям с невесткой.
— Я ей потакаю во всем, она только и слышит от меня: ну, конечно, дочь моя, извольте, как вам будет угодно. Ни в чем ей не перечу. С тех пор как Люси дала мне понять, что все состояние принадлежит ей... Слава богу, ты зарабатываешь достаточно. Правда, когда ты на ней женился, у тебя не было ничего, кроме надежд на будущее, а за ней стояла семья Булассье, эльбефских сукноделов. Конечно, в то время их фабрики еще не были тем, чем стали теперь, и все же она могла бы сделать более выгодную партию. «Когда у тебя есть деньги, хочется, чтобы их стало больше», — вот что она мне как-то сказала в связи с замужеством Мадлены. Но не будем жаловаться, — если бы не слуги, можно было бы жить. «Самое ужасное на свете, дорогая мамочка, это когда слуги разных хозяев должны уживаться на одной кухне».
Он коснулся губами материнского лба, оставил дверь приоткрытой, чтобы ей было не так темно спускаться по лестнице, и машинально повторил: «Самое ужасное на свете...»
* * *
На следующий день каприз Марии Кросс — отказ от экипажа — все еще продолжался, потому что Раймон снова увидел незнакомку в трамвае: она сидела на прежнем месте, и ее спокойные глаза снова ощупывали лицо подростка, блуждали вокруг его ресниц, скользили вдоль темной опуши волос надо лбом, подолгу останавливались на зубах, сверкавших между неплотно сжатыми губами. Он вспомнил, что с позавчерашнего дня не брился, потрогал пальцем свою худую щеку, потом стыдливо убрал руки под пелерину. Незнакомка опустила глаза, но он не сразу заметил, что один носок без резинки у него сполз, обнажив ногу. Раймон не решился его подтянуть, только изменил положение. И все-таки он не страдал: больше всего Раймон ненавидел у людей смех, улыбку, пусть даже сдержанную; он улавливал малейшее подергиванье в уголках рта, знал, что означает закушенная нижняя губа... Но у женщины, которая сейчас его разглядывала, лицо было совсем необычное — лицо разумного существа и животного, да, животного, удивительного, невозмутимого и не ведающего, что такое смех. Он не знал, что его отец часто подшучивал над Марией Кросс, над ее манерой надевать на лицо смех, словно маску, которая потом спадает, а взгляд остается все таким же печальным.
Когда она сошла у Таланской церкви, и Раймон увидел перед собой кожу сиденья, чуть вмятого там, где она только что сидела, он уже не сомневался, что завтра увидит ее опять; он не мог бы объяснить свою уверенность никакой разумной причиной, — он просто верил. Вечером, после ужина, он притащил к себе в комнату два кувшина воды, снял с крюка лохань, а утром встал на полчаса раньше, потому что решил отныне каждый день бриться.
Куррежи могли бы часами наблюдать за почкой каштана, так и не постигнув тайны расцветания; столь же мало замечали они чудо, свершавшееся рядом с ними: подобно тому как первый удар заступа вдруг обнажает часть совершенной статуи, так первый взгляд Марии Кросс пробудил в грязном школьнике нового человека. Под теплыми лучами женских глаз неухоженное юное тело уподобилось тем шершавым молодым стволам античного леса, в которых вдруг начинала шевелиться сонная дриада. Куррежи не видели этого превращения, потому что члены тесно сплоченной семьи перестают видеть друг друга. Вот уже несколько недель, как Раймон превратился в молодого человека, стал следить за собой, стал заниматься водолечением, уверенный в том, что он нравится, и поглощенный планами обольщения, а его мать все еще видела в нем неряшливого мальчишку. Женщина, не успевшая произнести ни слова, одной лишь силой своего взгляда преображала их мальчика, лепила его заново, но Куррежи не замечали на нем следов этих неведомых чар.
В трамвае, который больше не освещался, так как дни стали длиннее, Раймон теперь каждый раз отваживался на новый подвиг: скрестив ноги, открывал свежие и хорошо натянутые носки, начищенные до блеска ботинки (у креста св. Генезия сидел чистильщик); у него больше не было причин прятать свои манжеты, носил он теперь и перчатки. Однажды он снял их, и молодая женщина не могла удержаться от улыбки при виде слишком ярко накрашенных ногтей, над которыми маникюрше пришлось изрядно потрудиться, но было бы лучше, если бы эти ногти, которые Раймон годами обгладывал, пока еще не выставлялись напоказ. То были лишь внешние признаки невидимого пробуждения: туман, скопившийся в этой юной душе, понемногу рассеивался от участливого внимания незнакомки, по-прежнему безмолвной, но с каждым днем все более близкой. Быть может, он не такое уж чудовище и, подобно другим молодым людям, способен привлечь к себе взгляд женщины, а быть может, и не только взгляд! Несмотря на их обоюдное молчание, само время пряло нить, соединявшую их вернее, чем какое-либо слово или жест. Они чувствовали, что близится час, когда они обменяются первым словом, но Раймон не предпринимал ничего, чтобы ускорить его приближение: смиренный раб, он был доволен и тем, что больше не ощущал на себе цепей. Какая это была огромная радость — стать вдруг другим человеком. Разве до того, как на него впервые взглянула незнакомка, он не был просто неопрятным мальчишкой? Всех нас лепили и переделывали женщины, любившие нас, и пусть они даже недолго были нам верны, мы остаемся их творением — творением, которого они, впрочем, не признают и которое никогда не отвечало их мечтам. Не бывает такой любовной, такой дружеской связи, которая прошла бы через нашу жизнь, не оставив в ней след навечно. Тридцатипятилетний холостяк Раймон Курреж, сидящий нынче вечером в маленьком баре на улице Дюфо, не был бы тем, что он есть, если бы в 19.. году, будучи учеником последнего класса коллежа, не увидел однажды в вечернем трамвае, как напротив него садится Мария Кросс.
V
Отец первым открыл в Раймоне этого нового человека. Как-то в воскресенье, на исходе той весны, доктор сел за семейный стол еще более погруженный в себя, чем обычно, так что едва слышал шумный спор между зятем и сыном. Речь шла о бое быков, коего Раймон был страстным любителем; сегодня он ушел с корриды после того, как закололи четвертого быка, боясь пропустить шестичасовой трамвай, но жертва оказалась напрасной: именно сегодня незнакомки там не было... «Сегодня же воскресенье, это можно было предвидеть, из-за нее я не досмотрел двух быков». Так он размышлял, когда лейтенант Баск вдруг произнес:
— Не понимаю, как твой отец позволяет тебе посещать, эту бойню.
Ответ Раймона: «Смешно, когда офицер так боится крови», — развязал скандал. Доктор вдруг услышал:
— ...Нет, ты посмотри на меня хорошенько!
— Смотрю и вижу молокососа!
— Ах, молокососа? Ну-ка, повтори еще раз!
Оба вскочили, все бросились их разнимать. Мадлена Баск кричала мужу:
— Не отвечай ему, много чести, мало ли что он болтает.
Доктор упрашивал Раймона сесть:
— Садись и ешь, и покончим с этим.
Лейтенант орал, что его обозвали трусом, г-жа Курреж уверяла, что Раймон вовсе не хотел этого сказать. Тем временем все опять сели: молчаливый сговор побуждал их поскорее погасить эту вспышку. Интересы семьи внушали им глубокое отвращение ко всему, что угрожало ее внешнему равновесию. Инстинкт самосохранения подсказывал этому экипажу, осужденному пожизненно пребывать на одной галере, что нельзя дать разгореться пожару на борту.
Поэтому в столовой наконец воцарилось молчание. Мелкий дождик, дробно постукивавший по ступенькам, вдруг перестал, и на притихшее семейство пахнуло душистой свежестью. Кто-то поспешил сказать: «Становится прохладно». На что другой голос ответил, что дождик был никудышный, даже пыль не прибило. Между тем доктор в изумлении разглядывал своего совсем взрослого сына, о котором в последнее время почти не думал, и едва узнавал его. Как раз в это воскресенье он покончил с долгим кошмаром, терзавшим его с того самого, теперь уже далекого, дня, когда Мария Кросс забыла о назначенном ему свидании и оставила его с глазу на глаз с Виктором Ларусселем. Нынешнее воскресенье, уже подходившее к концу, было одним из самых страшных дней в его жизни, но он наконец-то вернул себе свободу (по крайней мере, он так полагал). Спасение принесла безмерная усталость, изнеможенье, которому нет названия, — поистине, в этот день он слишком сильно страдал! Осталось лишь одно желание: бежать с поля боя, забраться в темную нору старости. Почти два месяца прошло с тех пор, как он напрасно ждал Марию Кросс в ее гостиной, посреди «роскоши и нищеты», до нынешнего страшного дня, когда он наконец сложил оружие! И вот за столом, где все сидят молча, доктор опять забывает о сыне и перебирает в памяти все подробности этого мученичества, восстанавливая его этап за этапом.
* * *
Нестерпимая мука началась для него назавтра после несостоявшегося свидания, когда он получил от нее длинное письмо с извинениями:
«Здесь есть и доля Вашей вины, дорогой мой друг, — говорила ему Мария в этом послании, читанном и перечитанном за два месяца сотни раз, — это Вы внушили мне мысль отказаться от ужасающей роскоши, которой я так стыжусь: не располагая больше экипажем, я не смогла вернуться вовремя, чтобы принять Вас у себя в обычный час. Теперь я позже приезжаю на кладбище и охотнее там задерживаюсь. Вы не можете себе представить, какой покой царит на склоне дня под стенами обители, где столько птиц распевает на могилах. Мне кажется, что мой мальчик одобрил мой поступок, что он мною доволен. Какое удовлетворение я испытываю теперь в рабочем трамвае, которым езжу домой! Вы, наверно, сочтете меня восторженной сумасбродкой, но ничего подобного — я чувствую себя счастливой среди этих бедняков, коих я недостойна. Не могу Вам сказать, до чего мне приятны эти поездки в трамвае. Известное Вам лицо может теперь на коленях просить меня сесть опять в коляску, которую оно изволило мне подарить, — я не соглашусь. Дорогой доктор, так ли уж важно, видимся мы или нет? Мне довольно Вашего примера, Ваших наставлений, мы с Вами близки независимо от физического присутствия. Об этом так превосходно писал Морис Метерлинк[5]: „Придет время, и оно уже недалеко, когда души будут познавать друг друга без посредничества тел“. Пишите: мне достаточно Ваших писем, дорогой страж моей совести!
Должна ли я еще принимать таблетки? А уколы? У меня осталось всего три ампулы, надо ли покупать еще коробку?»
Если бы она и не оскорбила его так жестоко, это письмо не понравилось бы ему из-за сквозившего в нем самодовольства, притворного, самоупоенного смирения. Посвященный в самые печальные людские тайны, доктор относился к людям с бесконечной снисходительностью. Но один порок был ему ненавистен: уловки тех, что жаждут обелить себя в падении. Вот последняя степень убожества, до которой может дойти человек: когда собственная грязь ослепляет его, как алмаз. Нельзя сказать, чтобы Мария Кросс была привычна к подобной лжи. Вначале она даже привлекала доктора пылким стремлением разобраться в себе и ничего не приукрашивать. Мария часто и охотно рассказывала ему о своей матери, о ее благородной самоотверженности: мать овдовела очень молодой, бедная учительница в главном городке кантона, она, — говорила Мария, — подавала дочери пример, достойный восхищения. «Мама надрывалась, чтобы платить за мое учение в лицее, она уже видела меня студенткой Высшей педагогической школы. Ей выпала радость незадолго до смерти присутствовать на моей свадьбе, довольно-таки неожиданной. Ваш зять Баск хорошо знал моего мужа, младшего врача в его полку. Он меня обожал, и я была с ним счастлива. После его смерти мне с моим мальчиком было почти не на что жить, но все-таки я смогла бы выбиться из нужды. Не лишения погубили меня, а нечто более низкое — желание занять лучшее положение, прочное положение замужней женщины... А что меня удерживает возле „него“ теперь, так это трусость, страх перед необходимостью снова вступить в борьбу за существование, перед работой, перед плохо оплачиваемой службой». С тех пор как были сделаны эти первые признания, доктор не раз слышал, как она смиренно каялась, осуждала себя без снисхождения. Откуда же взялась вдруг эта отвратительная склонность к самовосхвалению? Впрочем, не это больнее всего задело доктора в ее письме: он огорчился оттого, что обманывал себя, не решаясь по-настоящему исследовать другую свою глубокую рану, единственно невыносимую для него: Мария больше не стремилась его видеть, она весело сообщала ему об их предстоящей разлуке. Ах! сколько раз в ушах у него звучала эта фраза Метерлинка о душах, которые познают друг друга без посредничества тел! Она звучала, когда какой-нибудь пациент с бесконечными подробностями рассказывал ему о своей болезни или сам он, заикаясь от бешенства, отчитывал студента, не знающего, что такое кровохарканье. Конечно, безумец он был, полагая, будто молодой женщине может доставить радость его присутствие. Да, безумец, безумец! Но разве разумные доводы могут уберечь нас от нестерпимой муки, когда обожаемая женщина, чья близость необходима нам как воздух, с равнодушным, а быть может, утоленным сердцем соглашается нас никогда больше не видеть? Мы ничего не значим для той, что стала для нас всем.
Все это время доктор силился побороть себя. «Я опять застала его перед зеркалом, — сетовала г-жа Курреж, — он и сам уже начинает волноваться». Глядя на свое жалкое, усталое лицо мужчины за пятьдесят, доктор сознавал, что никакое другое зрелище не могло бы так охладить его пыл, вызвать такое спокойствие — спокойствие отчаяния. Не думать больше о Марии, словно она умерла, ждать смерти самому, взвалить на себя двойной груз работы, да, истязать, убивать себя, добиться облегчения благодаря отупляющему действию непосильного труда. Но он, всегда возмущавшийся тем, что другие люди себе лгут, все еще обманывал себя: «Она нуждается во мне, я обязан ее лечить, как всякого больного...» Он написал ей, что считает необходимым ее наблюдать, что она вольна ездить на трамвае, но надо ли ей каждый день выходить? Он просит указать ему день, когда она будет дома. Он оставляет за собой право навестить ее в обычное время.
Целую неделю он ждал ответа. Каждое утро, едва бросив взгляд на груду газет и проспектов, убеждался: «Она еще не написала». И принимался считать: «Я опустил письмо в субботу, по воскресеньям почту разносят только один раз, так что она может получить его не раньше понедельника. Ответила она тоже не сразу, а самое малое через два-три дня... Было бы просто удивительно, если бы я уже сегодня получил ответ. Начинать беспокоиться надо с завтрашнего дня».
Однажды вечером, вернувшись домой без сил, он нашел письмо:
«...Посещение кладбища для меня святая обязанность. Я решила совершать это паломничество в любую погоду. Именно в сумерки я чувствую себя ближе всего к нашему маленькому ангелу. Мне кажется, будто ему известен час моего прихода, будто он меня ждет. Это нелепо, я знаю, но у сердца свои резоны, как говорит Паскаль[6]. Когда я наконец сажусь в шестичасовой трамвай, я чувствую себя счастливой, удовлетворенной. Известно ли Вам, что это трамвай для рабочих? Но меня это не пугает, я чувствую себя близкой к народу, и если я по видимости от него отдалилась, то разве не приблизилась к нему иным образом? Я смотрю на этих людей, и они кажутся мне такими же одинокими, как я, — как бы Вам объяснить! — такими же деклассированными, изгоями. У меня более роскошный дом, чем у них, и все же это только меблированная комната. Я и они — мы не владеем ничем, даже нашими телами... Почему бы Вам не заглянуть сюда попозже, по дороге домой? Я знаю, что Вы не любите встречаться с г-ном Ларусселем, но я предупрежу его, что мне надо поговорить с Вами наедине. Вам придется только после консультации обменяться с ним несколькими вежливыми фразами. Вы забыли мне ответить насчет таблеток и уколов».
Сначала доктор изорвал это письмо и клочки побросал на пол. Потом на коленях собрал их, поднялся с трудом. Разве она не знает, что он не переносит общества Ларусселя? Все в этом человеке было ему ненавистно, — ах, да он же одной породы с Баском... Те же торчащие крашеные усы, отвислые щеки, квадратные плечи говорили о неизменном самодовольстве. Толстые ляжки, обтянутые коверкотом, были воплощением бесконечной сытости. Оттого что Ларуссель обманывал Марию Кросс с женщинами самого низкого пошиба, в Бордо говорили, будто Марию Кросс он держит «для показа». Доктор, наверно, единственный знал, что Мария была и осталась неразделенной страстью знатного бордосца, его тайным поражением, и что он исходит яростью. И все равно он купил ее, этот дурак, и владел ею один! Овдовев, он, быть может, и женился бы на ней, если бы не сын, единственный наследник фирмы Ларуссель, которого целая армия нянек, воспитателей, священников готовила к его высокому предназначению. Нельзя было ни подвергать мальчика опасности контакта с подобной женщиной, ни оставлять ему в наследство имя, запятнанное мезальянсом. «Что вам сказать, папа, — твердил Баск, очень дороживший славой родного города, — я нахожу такие чувства весьма достойными. Ларуссель из очень родовитой семьи, все он делает с поразительным шиком, это джентльмен, — остальное меня не касается.»
Как посмела Мария, знавшая, какое отвращение доктор питает к Ларусселю, назначить ему свидание именно в тот час, когда он неизбежно должен был столкнуться нос к носу с этим человеком? Он дошел до того, что стал убеждать себя, будто она нарочно подстроила эту встречу, чтобы от него избавиться. После того как он неделю за неделей писал ей — и тут же рвал — самые яростные и самые безумные письма, он наконец отправил ей короткое и сухое послание, в котором сообщал, что поскольку она не могла решиться хотя бы один раз побыть дома днем, это, несомненно, означает, что чувствует она себя как нельзя лучше, а посему вовсе не нуждается в том, чтобы он впредь занимался ее лечением. Она прислала ему с обратной почтой четыре страницы извинений и протестов и уведомила, что послезавтра, то есть в воскресенье, будет ждать его целый день:
«...Господин Ларуссель поедет на бой быков, он знает, что я не большая охотница до подобных зрелищ. Приходите ко мне пить чай. Буду ждать Вас до половины шестого».
Никогда еще доктор не получал от нее менее выспренного письма, где к тому же не было ни слова о здоровье и о лечении. Он перечитал письмо несколько раз и то и дело ощупывал его в кармане, убежденный в том, что это свидание будет не таким, как другие, и что он сможет открыться ей в своей любви. Но поскольку сей ученый муж не раз уже замечал, что его предчувствия не сбываются, то упорно твердил себе: «Нет, нет, это не предчувствие, в моем ожидании нет ничего противного логике: я написал ей сердитое письмо, она ответила любезно, и теперь от меня зависит, чтобы разговор с самого начала принял более интимный, более доверительный оборот...»
В экипаже, по пути из лаборатории в больницу, он рисовал себе предстоящее свидание, неустанно сочинял весь диалог. Доктор принадлежал к числу мечтателей, которые никогда не читают романов, ибо никакой чужой вымысел не может для них сравниться с их собственным, где они играют главную роль. Едва выписав рецепт какому-нибудь пациенту, еще у того на лестнице, он, как собака, отрывающая спрятанную кость, сразу же возвращался к своим фантазиям, хотя порой их стыдился, — этот робкий человек только в воображении наслаждался радостью покорять людей и вещи своей всемогущей воле. В мыслях своих доктор, в жизни столь щепетильный, не знал удержу, не останавливался перед самой ужасающей расправой — вплоть до истребления всей своей семьи ради того, чтобы начать новую жизнь.
Если в течение двух дней, еще отделявших его от свидания с Марией Кросс, доктору не пришлось подавлять в себе подобные мысли, то лишь потому, что в истории, придуманной им для собственного утешения, не обязательно было кого-то убивать, — надо было только порвать с женой, как делали у него на глазах столь многие из его собратьев, порвать без каких-либо иных оснований, кроме гнетущей скуки, которую он испытывал подле нее. В пятьдесят два года еще не поздно насладиться несколькими годами счастья, быть может, и отравленного угрызениями совести, — но почему тот, кто не изведал его совсем, должен сопротивляться хотя бы призрачной радости? Его присутствие отнюдь не делает счастливой его желчную супругу... А дочь, а сын? Он уже давно примирился с мыслью, что они его не любят. Нежность детей? После замужества Мадлены он узнал, чего она стоит. Что касается Раймона, то он не дает к себе подступиться, а значит, не заслуживает того, чтобы отец приносил себя ему в жертву.
* * *
Доктор чувствовал, что воображаемые картины, которыми он себя тешил, весьма не схожи с его обычными мечтаниями. Даже когда он, бывало, одним махом истреблял всю свою семью, он, несомненно, испытывал некоторый стыд, но никакого раскаяния, скорее сам себе казался смешным: то была пустая игра ума, которая не затрагивала глубин его существа. Нет, он никогда не думал, что способен быть чудовищем, и не считал себя отличным от других людей, каковые, по его мнению, все оказывались сумасшедшими, едва лишь оставались наедине с собой, вне контроля окружающих.
Но в течение двух суток, прожитых им в ожидании этого воскресенья, он чувствовал, что всей душой предался своей мечте и что мечта эта стала для него надеждой. Он слышал в сердце отзвук предстоящего разговора с Марией, — слышал так отчетливо, что не представлял себе, как между ними могут быть сказаны иные слова, кроме тех, что он придумал. Без конца шлифовал он свой сценарий, суть которого составлял следующий диалог:
— Мы оба находимся в глубоком тупике, Мария. Нам остается либо умереть, разбившись о стену, либо жить, начав все заново. Вы никогда никого не любившая, навряд ли сможете полюбить меня. Вам остается всецело ввериться мне — единственному человеку, способному за свою нежность ничего не требовать взамен.
В этом месте он как бы слышал протест Марии:
— Вы сошли с ума! А ваша жена, ваши дети?
— Я им не нужен. Заживо погребенный имеет право, если он еще в силах, поднять придавивший его камень. Вы не в состоянии измерить пустыню, отделяющую меня от моей жены, моей дочери, моего сына. Слова, которые я к ним обращаю, до них не доходят. Животные прогоняют от себя детей, когда те вырастают. А самцы чаще всего их вообще не узнают. Чувства, переживающие свою функцию, выдуманы человеком. Христос это знал, ибо требовал, чтобы его предпочли всем отцам и всем матерям, и осмелился гордиться тем, что пришел разлучить жену с мужем и детей с теми, кто произвел их на свет.
— Не равняйте себя с Богом.
— Разве я не являю для вас его подобие? Не мне ли вы обязаны потребностью в самосовершенствовании? (Тут доктор перебил себя: нет, нет, никакой метафизики!)
— А ваша практика, ваши больные? Репутация человека, творящего добро... Подумайте, какой скандал!
— Если бы я умер, им бы все равно пришлось обходиться без меня. Кто из нас незаменим? А ведь речь действительно идет о том, чтобы умереть, Мария, умереть для нынешней моей одинокой и трудной жизни и возродиться рядом с вами. У моей жены останется принадлежащее ей состояние. Я вполне сумею вас обеспечить: мне уже сейчас предлагают профессуру в Алжире и в Сантьяго... Детям я оставлю то, что мне удалось скопить по сегодняшний день...
На этом месте воображаемого разговора экипаж остановился у больницы. Доктор переступил ее порог с видом все еще отсутствующим, с глазами человека, освободившегося от чар, о которых он даже не знал. Покончив с делами, он опять с какой-то затаенной жадностью предался своим мечтам, повторяя про себя: «Я сошел с ума, и все же...» Он знал кое-кого из коллег, кому удалось воплотить в действительность этот прекрасный сон. Правда, если их беспорядочная жизнь заранее подготовила общественное мнение к такому скандалу, то про доктора Куррежа весь город в один голос твердил, что это святой. Ну и что? Именно потому, что он не по праву присвоил себе эту репутацию, каким облегчением будет сбросить с себя ее бремя, им не заслуженное. Ах! Наконец-то почувствовать людское презрение к себе! Да, он найдет для Марии Кросс и другие слова, кроме наставлений к добру и поучительных советов, он поведет себя, как мужчина, который любит женщину и завоевывает ее силой.
* * *
Наконец занялась заря этого воскресенья. В такие дни доктор имел обыкновение делать только самые неотложные визиты, не заезжая в свой кабинет в городе, где он принимал всего три раза в неделю и где всегда было полно больных. Он терпеть не мог эту комнату на первом этаже дома, целиком занятого всякими конторами, он не в состоянии, говорил доктор, прочесть или написать там хотя бы строчку. Подобно тому как в Лурде[7] находит себе место и самое жалкое ex voto[8], так и все, чем одаривали доктора его признательные пациенты, было собрано в этих четырех стенах. Ненавидевший вначале все эти бронзовые статуэтки, австрийскую терракоту, амурчиков из прессованной мраморной крошки, все эти бисквиты, барометры-календари, он в конце концов стал находить своеобразный вкус в своей ужасающей коллекции и даже радовался, когда получал какое-нибудь особенно безобразное «произведение искусства». «Только ничего старинного!» — советовали друг другу его пациенты, озабоченные тем, чтобы доставить доктору удовольствие.
В то воскресенье, когда доктор ждал свидания с Марией Кросс, надеясь, что оно перевернет его жизнь, он дал согласие в три часа дня принять у себя в городском кабинете одного делового человека, неврастеника, который в течение всей недели не мог урвать и часа свободного. Доктор согласился: так он сможет выйти из дому сразу после обеда и еще какое-то время до вожделенной и страшной минуты побыть наедине с собой. Он не велел закладывать экипаж и не пытался сесть в переполненный трамвай; люди гроздьями висели на подножках — на этот день был назначен матч регби и первая в году коррида. Фамилии Альгабено и Фуэнтес броско красовались на желтых и красных афишах. Хотя бой быков начинался только в четыре часа, толпа, заполонившая безглазые улицы — в воскресенье магазины закрыты — устремлялась к арене. Молодые люди в канотье с яркими лентами или в шляпах из светло-серого фетра, почитаемых ими за испанские, весело смеялись, окутанные клубами дыма от дешевых сигарет. Из кафе выплескивался на дорогу свежий запах абсента. Доктор не помнил, чтобы ему когда-нибудь доводилось вот так брести среди толпы с единственной целью убить время, остававшееся у него до определенного часа. Какой странной казалась праздность этому сверхзанятому человеку! Он, не умеющий бездельничать, теперь пытался думать о начатом опыте, но видел перед собой только Марию Кросс, лежащую на кушетке с книжкой.
Внезапно солнце скрылось, и встревоженные люди увидели на небе тяжелую тучу. Кто-то уверял, что на него упала первая капля, но солнце показалось снова. Нет, гроза не разразится до тех пор, пока не отмучается последний бык.
Может статься, размышлял доктор, что все произойдет и не совсем так, как он себе представляет, но в одном он был непоколебимо уверен — он не уйдет от Марии Кросс, пока не откроет ей свою тайну, шаг этот наконец будет сделан. Половина третьего... Еще час придется убить до приема. В кармане он нащупал ключ от лаборатории. Нет, не стоит: не успеешь войти, как надо будет уходить. Толпа заволновалась, словно ее вдруг всколыхнуло ветром. Раздались крики: «Вот они!» В стареньких «викториях» с важно восседающими спереди замызганными кучерами появились сверкающие матадоры и их квадрильи. Доктор удивился, не увидев в этих суровых, изнуренных лицах ничего низменного: странные священнослужители в красном с золотом и лиловом с серебром облачении. Набежавшая туча снова притушила свет, и матадоры подняли худые лица к потускневшему небу. Доктор выбрался из толпы и шел теперь по узким пустынным улочкам. В кабинете, где на малахитовых колонках улыбались терракотовые и алебастровые женщины, его обдало подвальной сыростью. Старинные стенные часы тикали медленно, степенно, не так торопились, как настольные часики — подделка под дельфтский фаянс, — стоявшие посреди большого стола, где прессом для бумаг служила статуэтка в стиле модерн — женщина, опирающаяся задом о глыбу хрусталя. Все эти фигурки словно пели хором название обозрения, которое доктор только что читал на всех городских перекрестках: «Только это одно хорошо!» — все, вплоть до быка из металла под бронзу, положившего морду на свою корову. Окинув взглядом эту замечательную коллекцию, доктор вполголоса произнес: «Эпоха предельной деградации рода человеческого!» Он отодвинул один ставень, и в луче огня заплясали пылинки. Расхаживая по комнате, он потирал руки и твердил про себя: «Никакой подготовки, в первых же словах намекнуть ей, какое отчаяние охватило меня, когда я подумал, что она больше не желает меня видеть. Она удивится, а я объясню, что не могу жить без нее, и тогда, может быть, может быть...»
Он услышал звонок, сам пошел открывать и ввел пациента. Ну, этот не нарушит его мечтаний, надо только не мешать ему говорить: похоже, такой неврастеник требует от врачей лишь одного — чтобы они терпеливо его слушали. Он, несомненно, представлял себе врачей некими мистическими существами, так как буквально выворачивал себя наизнанку, обнажая самые тайные свои болячки. Доктор уже опять вернулся мыслями к Марии Кросс: «Я человек, Мария, несчастный человек из плоти и крови, как все прочие люди. Нельзя жить без счастья, — я это понял слишком поздно, но все-таки ведь не настолько поздно, чтобы вы отказались последовать за мной». Когда пациент кончил говорить, доктор произнес с тем полным благородного достоинства видом, которым все знавшие его так восхищались:
— Прежде всего необходимо, чтобы вы уверовали в свою волю. Если вы не будете считать себя свободным, я не смогу ничего для вас сделать. Все наше искусство пасует перед ложным самовнушением. Если вы считаете себя беспомощной жертвой наследственности, то чего вы ждете от меня? Прежде чем вас лечить, я требую от вас акта веры в вашу способность обуздать в себе тех зверей, которые вам совершенно чужды.
Пока пациент, перебив доктора, горячо возражал ему, тот встал и, подойдя к окну, сделал вид, будто разглядывает сквозь полуотворенные ставни пустынную улицу. Он испытывал почти ужас оттого, что в нем еще живут лживые слова, рожденные умершей верой. Подобно тому как мы видим свет звезды, погасшей за столетия до нас, так и души окружавших доктора людей воспринимали лишь эхо веры, которую сам он давно утратил.
Он вернулся к столу, заметил, что фаянсовые часики под Дельфт показывают четыре часа, и отпустил пациента.
«У меня еще есть время», — говорил себе доктор, пускаясь почти бегом по тротуару. Дойдя до площади Комедии, он увидел, как публика, выплеснувшаяся из кино, осаждает трамвай. Ни одного фиакра. Ему пришлось встать в очередь, но он то и дело поглядывал на часы. Привыкнув к тому, что в его распоряжении всегда есть карета, доктор не умел рассчитывать время. Он пытался себя успокоить: в худшем случае он опоздает на полчаса, для врача это пустяк. Мария всегда его ждет... Да, но в этом письме она предупреждала — до половины шестого, а уже пять часов! «Эй, да не толкайтесь вы так, что за безобразие!» — прикрикнула на него какая-то дама, щекотавшая ему нос перьями своей шляпы. Стоя в переполненном, душном трамвае, он пожалел, что надел пиджак, ему было нестерпимо жарко: чего доброго, лицо будет грязное и от него будет пахнуть потом.
Шесть часов еще не пробило, когда он сошел возле Таланской церкви. Сначала он двинулся быстрым шагом, потом, обезумев от тревоги, побежал, хотя у него болело сердце. Небо заволокла грозовая туча. Последнему быку суждено было истечь кровью под хмурым небом. За решетками садиков пыльные ветви сирени взывали о дожде, как протянутые руки. Редкие прохладные капли уже падали на доктора, а он бежал к женщине, видя ее перед собой на кушетке с раскрытой книжкой, от которой она не сразу поднимет глаза...
Но когда он подошел к воротам, то вдруг увидел ее перед собой — она выходила. Оба остановились. Мария запыхалась, она тоже бежала.
— Ведь я вам писала — до половины шестого, — сказала она с едва уловимой досадой. Он окинул ее зорким взглядом.
— Вы сняли траур?
Она оглядела свое летнее платье.
— Но лилово-розовый цвет — это ведь полутраур.
Как непохоже было это начало на то, что он рисовал себе в воображении! Безмерная трусость подсказала ему слова:
— Поскольку вы уже на меня не рассчитывали и вас, наверное, где-то ждут, отложим до другого раза.
— Кто это, по-вашему, меня ждет? — живо спросила она. — Какой вы странный, доктор.
Она направилась обратно к дому, он последовал за ней. Подол ее платья из лилово-розовой тафты волочился в пыли, она наклонила голову, и ему открылась ее шея. Мария предложила доктору прийти в воскресенье, в полной уверенности, что в этот день незнакомого юноши в шестичасовом трамвае не будет. И все же, когда в назначенный час доктор не пришел, она, загоревшись радостной надеждой, бросилась вон из дома.
«Один шанс из тысячи, — рассуждала она, — что ради меня он поедет этим трамваем... Ах! только бы не упустить эту радость...» Ей так и не довелось узнать, ехал ли в то воскресенье незнакомый юноша в шестичасовом трамвае и грустил ли оттого, что ее там нет... Тяжелые капли дождя разбивались о ступеньки крыльца, по которым она торопливо всходила, слыша позади себя шумное дыхание старика. Ах, как назойливы те, до кого нашему сердцу нет никакого дела и чей выбор пал на нас, в то время как мы их вовсе не выбирали! Посторонние люди, о которых мы не хотим и знать, чья смерть была бы нам столь же безразлична, как их жизнь... Между тем они-то и заполняют наше существование.
Они миновали столовую; в гостиной Мария распахнула ставни и, сняв шляпу, прилегла на кушетку. Она улыбнулась доктору, тщетно собиравшему обрывки заготовленных фраз, и сказала:
— Вы задыхаетесь... Я вас заставила слишком быстро идти.
— Не такой уж я старый.
Как всегда, он поднял глаза к зеркалу, висевшему над кушеткой. Да полно, не знает он себя, что ли? Почему у него каждый раз екает сердце и лицо застывает в скорбном оцепенении, словно он ожидал, что из зеркала ему улыбнется его юность. И вот он уже спрашивает: «Ну, как наше самочувствие?» — спрашивает тем отечески-снисходительным тоном, который всегда брал в разговорах с Марией Кросс. Она еще никогда не чувствовала себя так хорошо, как сейчас, — она сообщила это доктору с удовольствием: хоть маленький реванш за только что пережитое разочарование Нет, сегодня, в воскресенье, незнакомый мальчик навряд ли оказался бы в трамвае. Зато завтра, завтра он непременно там будет, и она уже вся была устремлена к этой будущей радости, к надежде, которая каждый день ее обманывала и рождалась опять, — надежде, что, быть может, произойдет что-то новое и он наконец с нею заговорит.
— Можете беспрепятственно прекратить уколы... (Он смотрел в зеркало на свою редкую бороду, на облысевший лоб и вспоминал, какие пылкие слова готовился сказать.)
— Я хорошо сплю и, представьте себе, доктор, больше не скучаю, и, однако, мне совершенно не хочется читать. Я не смогу дочитать до конца «Путешествие в Спарту»[9], можете забрать у меня книгу.
— Вы по-прежнему ни с кем не видитесь?
— Неужели вы думаете, что я способна вдруг сблизиться с любовницами этих господ, — я, до сих пор бежавшая от них, как от чумы? Вы прекрасно знаете — в Бордо я единственная в своем роде женщина, я не могу водиться ни с кем.
Да, она часто ему об этом говорила, но как бы жалуясь, и никогда еще у нее не было такого умиротворенного, такого счастливого лица, как сейчас. Доктор догадывался, что язычок этого пламени не тянется больше к небу, что оно уже не горит понапрасну, а нашло себе пищу где-то здесь, на земле, но что это за пища, он не знал. Он не мог удержаться и довольно язвительным тоном заметил, что, хоть она и не видится с этими дамами, зато видится иногда с этими господами. Почувствовал, что краснеет, разговор, кажется, принимал тот оборот, которого он так жаждал, и действительно, Мария смеясь спросила:
— Ах, вот оно что, доктор! Вы ревнуете? Подумать только! Он делает мне сцену ревности! Нет, нет, успокойтесь, я шучу, — поспешила она добавить, — я знаю, какой вы человек.
Можно ли было сомневаться, что она и в самом деле хотела только пошутить и даже не могла вообразить себе, что доктор питает подобное чувство? Она озабоченно смотрела на него.
— Я вас не обидела?
— Да, Мария, вы меня обидели.
Но она не поняла, о какой обиде идет речь, она оправдывалась, заверяла в своем уважении, в своем благоговении перед ним: разве он не снизошел к ней? Разве ему не угодно было иногда возвышать ее до себя? Порывистым жестом, таким же фальшивым, как эта последняя фраза, она схватила его руку и поднесла к губам. Он резко ее отдернул. Уязвленная, Мария Кросс встала, подошла к окну и стала смотреть на затопленный сад. Доктор тоже поднялся. Она сказала, не оборачиваясь:
— Подождите, пока кончится ливень.
Он остался стоять в сумрачной гостиной. Человек последовательный, он воспользовался этой горькой минутой, чтобы вырвать из своего сердца всякие желания, всякую надежду. Ладно, с этим покончено, все, что связано с этой женщиной, больше его не касается, он вышел из игры. Он взмахнул рукой, словно что-то отметая. Мария обернулась и резко сказала:
— Дождь перестал.
И так как он не двигался с места, прибавила, что вовсе не выставляет его за дверь, но хорошо бы ему воспользоваться затишьем. Она предложила ему зонтик, и он было хотел взять, но потом отказался, подосадовав на себя за мелькнувшую мысль: «Зонтик придется вернуть, это будет поводом прийти еще раз».
Он не страдал. Он упивался грозой, шедшей уже на убыль, и думал о себе, вернее, о какой-то части своего существа, как думают об умершем друге, утешая себя тем, что тот больше не страдает. Партия была сыграна, и он проиграл, возвращаться к ней бессмысленно. Отныне он будет жить только своей работой. Вчера из лаборатории ему позвонили, что сдохла собака, которой удалили поджелудочную железу. Сможет ли Робинсон раздобыть другую? Шли трамваи, переполненные усталой и возбужденной публикой, но доктору нравилось идти пешком через это предместье, заросшее сиренью, где после грозы, в наступающих сумерках, воздух был по-деревенски свеж и душист. Хватит страдать, хватит биться головой об стенку, как сумасшедший в карцере. Та всемогущая сила, что исходит от женского существа и что с детства влекла его к себе, была теперь подавлена, загнана в самую глубь его души. Полное самоотречение. Несмотря на рекламные щиты, блестящие трамвайные рельсы, на велосипедистов, припавших к рулям, украшенным букетами поникшей сирени, это предместье Бордо казалось ему настоящей деревней: на месте баров он видел харчевни, где сидят погонщики мулов, — при лунном свете они снова пустятся в дорогу и будут катить всю ночь, лежа, словно мертвецы, в своих тележках лицом к звездам. На порогах домов детишки, совсем как деревенские, возились с уснувшими майскими жуками. Перестать биться головой об стенку. Сколько лет уже он изводит себя этим безнадежным занятием! Он вспоминает, как однажды утром, — это было почти полвека тому назад, — перед началом нового учебного года рыдал у постели матери, а она кричала на него: «И не стыдно тебе плакать, лентяй ты эдакий!» Она не знала, что его отчаяние имело одну-единственную причину — что ему придется расстаться с нею. А после этого... Он опять легонько взмахнул рукой, будто что-то отметал, наводил порядок. «Ну-с, завтра утром посмотрим...» — произнес он и, словно дозу морфия, вогнал в себя повседневные заботы: собака сдохла, надо все начинать сначала. Но разве на сегодняшний день у него не должно было уже накопиться достаточно фактов, чтобы он мог подтвердить свою гипотезу? Сколько времени потеряно! Какой позор! Он, не сомневавшийся в том, что все человечество напряженно следит за каждым его действием в лаборатории, — сколько же дней потратил попусту! Наука требует, чтобы ей отдавались безраздельно, со всей страстью. «Ах, я навсегда останусь дилетантом!» Ему показалось, что меж ветвей вспыхнул огонь — это взошла луна. Впереди замаячили деревья, за ними прятался дом, под крышей которого собрались все те, о ком он с полным правом мог сказать: «мои». Сколько раз уже изменял он клятве, которую теперь снова оживил в своем сердце: «С этой минуты я сделаю все, чтобы Люси была счастлива!» И доктор прибавил шагу, спеша убедиться, что на сей раз не оскользнется. Он заставил себя вспомнить их первую встречу в Аркашонском саду — ему было тогда двадцать пять лет, — устроенную одним из его коллег. Но внутренним взором видел не юную невесту тех далеких дней, не эту выцветшую, блеклую фотографию, а совсем другой образ — молодую женщину в полутрауре, ликующую оттого, что он запоздал, и радостно устремившуюся к другому — к кому? Доктор почувствовал острую боль в груди, на секунду остановился и вдруг бросился бежать, чтоб увеличить расстояние между собой и тем человеком, которого любила Мария Кросс. Он и в самом деле испытывал облегчение, не подозревая, что с каждым шагом приближается к своему неведомому сопернику... Именно в тот вечер, в столовой, когда Раймон сцепился с Баском, доктору бросилась в глаза разительная перемена в сыне — он вдруг увидел, как нежданно расцвел и возмужал этот незнакомый ему человек, которого он произвел на свет.
* * *
Поднялись из-за стола. Дети подставили лбы под рассеянные поцелуи взрослых и отправились по своим комнатам в сопровождении матери, бабушки и прабабушки. Раймон подошел к застекленной двери в сад. Доктора поразило, с какой привычной уверенностью его сын взял из кожаного портсигара сигарету, размял ее пальцами и закурил. В петлице у него красовался бутон розы, складка на брюках была безупречно отглажена. «Удивительно, — подумал доктор, — до чего он похож на моего покойного отца...» Да, это была копия хирурга Куррежа, который чуть ли не до семидесяти лет растрачивал на женщин состояние, нажитое им благодаря его врачебному искусству. Он первым в Бордо воспользовался благами антисептики. Никогда он не обращал ни малейшего внимания на своего сына и называл его не иначе как «малыш», словно не мог вспомнить его имя.
Однажды вечером его привела домой незнакомая женщина: рот у него был перекошен и сочился слюной; при нем не оказалось ни часов, ни бумажника, ни бриллиантового перстня на мизинце. «Я унаследовал от него только сердце, подверженное страстям, но не способность нравиться... она досталась его внуку».
Доктор наблюдал за Раймоном, глядевшим в сад, — тот молодой человек был его сыном. После всего пережитого сегодня ему хотелось расчувствоваться, излить душу, хотелось спросить мальчика: «Почему мы никогда не говорим друг с другом? Думаешь, я не смогу тебя понять? Так ли уж велико расстояние между отцом и сыном? Неужели двадцать пять лет, разделяющие нас, имеют такое большое значение? У меня все то же сердце, что и в двадцать лет, а ты — плоть от моей плоти, — вполне возможно, что у нас с тобой одинаковые склонности, вкусы, искушения... Кто первым прервет затянувшееся между нами молчание?»
Мужчина и женщина, как ни различны они по своей природе, соединяются в любовном объятье. И даже мать может дотянуться до лба своего взрослого сына и поцеловать его; но вот он, отец, не может ничего, разве только положить руку на плечо мальчику, что и сделал сейчас доктор Курреж. Раймон, вздрогнув, обернулся. Отец отвел взгляд и спросил:
— Дождь все еще идет?
Раймон с порога вытянул руку в темноту.
— Нет, перестал.
Не оборачиваясь, он бросил через плечо: «Пока...» — и звук его шагов вскоре затих вдали.
Госпожа Курреж остолбенела от изумления, когда муж предложил ей пройтись с ним по саду. Она ответила, что только сходит за шалью. Доктор слышал, как она поднимается по лестнице, потом с необычайной поспешностью сбегает вниз.
— Возьми меня под руку, Люси, луна скрылась, тьма кромешная...
— Но на аллее хорошо видно.
Когда она слегка оперлась на его руку, он уловил исходивший от нее запах — все тот же, что и в былые дни, когда они были женихом и невестой и долгими июньскими вечерами сидели рядышком на скамейке... Запах ее кожи и дыхание сумерек — это был знакомый аромат тех далеких дней.
Он спросил у Люси, заметила ли она серьезную перемену в их сыне. Нет, она по-прежнему находила его замкнутым, грубым, упрямым. Доктор возражал: Раймон теперь не так разболтан, лучше владеет собой, к тому же у него появилась потребность заботиться о своей внешности.
— Ах, да, в самом доле, Жюли вчера ворчала, что он заставляет ее два раза в неделю гладить ему брюки.
— Попытайся успокоить Жюли, ведь она знает Раймона с рождения.
— Жюли нам предана, но и преданность имеет свои границы. Мадлена может говорить что угодно, но ведь ее слуги ничего не делают. У Жюли плохой характер, верно, но ведь ее можно понять, если она злится, что ей приходится убирать всю черную лестницу и часть парадной.
Какой-то скупой на песни соловей взял несколько нот и смолк. Они шли под кустами боярышника, благоухавшего горьким миндалем.
Доктор опять вполголоса заговорил:
— Наш маленький Раймон...
— Мы не найдем замену Жюли, об этом не надо забывать. Ты скажешь, что она выживает всех кухарок, но чаще всего она бывает права... Взять хотя бы Леони...
Отчаявшись, он спросил:
— Какую Леони?
— Помнишь, еще такая толстуха... нет, не самая последняя, а та, что прожила у нас всего три месяца, она не желала убирать столовую. А между прочим, Жюли не обязана это делать...
Он заметил:
— Нынешняя прислуга уже не та, что прежде.
Он чувствовал, как спадает в нем поднявшаяся было волна; отлив уносил с собой уже готовые излиться признания, жалобы, слезы.
— Пожалуй, нам лучше вернуться...
— ...Мадлена мне твердит, что кухарка на нее злится!.. Но Жюли тут ни при чем. Эта девка требует прибавки: здесь они не могут так наживаться, как в городе, хотя все-таки и здесь есть на чем выгадать, а то бы они и вовсе не стали у нас жить.
— Я пошел домой.
— Уже?
Она почувствовала, что разочаровала его, что ей бы надо помолчать, дать выговориться ему, и пробормотала:
— Мы так редко говорим друг с другом...
Сквозь пошлые слова, которые накапливались в ней помимо ее воли, сквозь стену, которую изо дня в день воздвигала между ними ее мещанская узость, Люси Курреж слышала глухой призыв заживо погребенного; да, она улавливала крик засыпанного в шахте, и в ней самой — но на какой глубине! — что-то откликалось на этот голос, теплилась робкая нежность.
Она склонила голову, будто хотела положить ее мужу на плечо, угадывая во тьме его напряженную фигуру, его замкнутое лицо, но вдруг бросила взгляд на окна дома и не удержалась:
— Опять ты оставил свет в кабинете.
И тут же пожалела о своих словах. Он прибавил шагу, торопясь от нее уйти, взбежал на крыльцо, облегченно вздохнул при виде пустой гостиной и, никого не встретив, поднялся к себе в кабинет. Оставшись наконец один, он опустился в кресло у стола и принялся разглаживать свое измученное лицо, потом опять решительно взмахнул рукой... Жалко, что собака сдохла, другую будет не так-то легко достать. Но он и сам виноват: из-за всей этой идиотской истории не проследил за ходом опыта. «Я слишком полагался на Робинсона... Он, по-видимому, неправильно рассчитал срок последней инъекции». Придется пойти на новые расходы и начать все сначала... А впредь пусть Робинсон только измеряет собаке температуру и делает анализы мочи — больше ничего.
VI
Из-за перерыва тока трамваи остановились и неподвижно вытянулись вдоль бульваров, похожие на вереницу походных гусениц. Понадобилась эта маленькая авария, чтобы Раймон Курреж и Мария Кросс наконец-то подали друг другу знак. После того воскресенья, когда их обычная встреча не состоялась, обоих снедала тревога, что они могут никогда больше не встретиться, и каждый решил сделать первый шаг. Но она видела в нем неискушенного школьника, способного оскорбиться из-за пустяка, а он — как мог он осмелиться заговорить с женщиной? Он скорее угадал, чем увидел ее среди пассажиров, набившихся в трамвай, хотя на ней в первый раз было светлое платье. А она, слегка близорукая, заметила его издали, потому что в тот день из-за какой-то церемонии в коллеже ему пришлось надеть форму, и на плечи у него была небрежно накинута пелерина, не завязанная у шеи (в подражание курсантам Морского медицинского училища). Одни пассажиры садились в трамвай, решив дождаться, пока он пойдет; многие, наоборот, сходили и шли пешком. Раймон и Мария одновременно оказались у выхода. Не глядя на него, чтобы он не подумал, будто она обращается именно к нему, она вполголоса сказала:
— В конце концов мне не так уж далеко идти...
А он, чуть отвернувшись, — щеки у него горели, — подхватил:
— Разок даже приятно пройтись пешком.
Тогда она осмелилась взглянуть ему в лицо, — она еще никогда не видела его так близко.
— Уж раз мы с вами все время возвращаемся вместе, не будем нарушать эту привычку.
Некоторое время они шли молча. Она украдкой рассматривала его пылающую щеку, его слишком юную, нежную кожу, пораненную бритвой. Совсем еще по-детски, обеими руками, он поддерживал на спине набитый книгами ранец, и она утвердилась в мысли, что он почти ребенок, — мысль эта наполнила ее неясным чувством, в котором смешивались сомнение, стыд и радость. А он был скован робостью, связан по рукам и ногам, как еще недавно, когда перешагнуть через порог какой-нибудь лавки казалось ему сверхчеловеческим подвигом. Он был поражен, что ростом выше ее; розовато-лиловая соломенная шляпа закрывала ей почти все лицо, но ему была видна ее обнаженная шея и чуть приоткрытое плечо. Он пришел в ужас оттого, что не найдет слов, чтобы прервать молчание, и драгоценная минута будет упущена.
— Вы, кажется, в самом деле живете недалеко.
— Да, Таланская церковь в десяти минутах ходьбы от бульвара.
Вытащив из кармана носовой платок, испачканный чернилами, он вытер лоб, потом заметил чернила и сунул платок обратно.
— Но вам, мосье, может быть, гораздо дальше...
— О нет, моя остановка сразу после церкви. — И он поспешил добавить: — Я младший Курреж.
— Сын доктора?
Он порывисто сказал:
— Его все знают, правда?
Она вскинула голову, чтобы пристально взглянуть на него, и он увидел, что она побледнела. Тем не менее она сказала:
— Поистине, мир тесен... только, пожалуйста, не рассказывайте обо мне отцу.
— Я ему никогда ни о чем не рассказываю, кроме того, я ведь не знаю, кто вы.
— Лучше вам этого и не знать.
Она снова посмотрела на него долгим взглядом: сын доктора! Это, наверное, очень наивный, очень благочестивый мальчик. Услышав ее имя, он в ужасе убежит. Возможно ли, чтобы он его не знал? Маленький Бертран Ларуссель до прошлого года учился в том же коллеже... Там наверняка склонялось имя Марии Кросс...
Он продолжал настаивать, не столько из любопытства, сколько из страха перед молчанием:
— Да, да, назовите мне ваше имя, я же вам свое назвал...
Луч заходящего солнца упал на порог зеленной лавки и зажег огнем апельсины в корзинке. Сады были словно залеплены пылью; вдали виднелся мост, перекинутый через железную дорогу, на которую Раймон еще недавно не мог смотреть без волнения: по ней шли поезда в Испанию. Мария Кросс напряженно думала: «Назвать себя — значит скорее всего потерять его!.. Но разве долг не велит мне его оттолкнуть?» Она страдала и наслаждалась этим спором с собой, действительно страдала, но в то же время испытывала какое-то смутное удовлетворение, заставившее ее прошептать: «Как это трагично...»
— Когда вы узнаете, кто я... — (Невольно ей вспомнился миф о Психее и «Лоэнгрин»[10].)
Он вдруг расхохотался, наконец-то сбросив с себя оковы.
— Все равно мы с вами будем встречаться в трамвае... Вы же заметили, что я нарочно стараюсь сесть именно в этот, шестичасовой трамвай, — не заметили? Да ну? Знаете, я иногда прихожу раньше и мог бы вполне успеть на тот, что отходит без четверти шесть... Но я нарочно его пропускаю — из-за вас. И даже вчера ушел с корриды после четвертого быка, чтобы не прозевать вас, но вас почему-то не было, а говорят, Фуэнтес к концу превзошел себя. Ну а уж теперь, когда мы с вами заговорили, почему вы придаете такое значение вашему имени? Во-первых, мне на все плевать... С тех пор как я убедился, что вы на меня смотрите...
Эта речь, которую в устах любого другого Мария сочла бы неотесанной и грубой, показалась ей восхитительно непосредственной, и позднее, всякий раз, когда ей случалось переходить дорогу в этом месте, она вспоминала, какие чувства всколыхнулись в ней от этих неуклюжих слов мальчика, школьника, — какая нежность, какое счастье...
— Вы непременно должны назвать мне ваше имя, — в конце концов мне ведь стоит только спросить папу. Это очень просто: дама, которая всегда сходит у Таланской церкви.
— Я вам скажу, но поклянитесь, что вы никогда не будете говорить обо мне с доктором.
Она догадывалась, что теперь он уже не уйдет, даже узнав ее имя, но делала вид, будто еще боится этого. «Положимся на судьбу», — сказала она себе, ибо в глубине души была уверена в победе. Немного не доходя церкви, она потребовала, чтобы дальше он шел один: «Из-за лавочников — они все меня знают и пустят сплетню».
— Хорошо, но только после того, как я узнаю...
Не глядя на него, она быстро проговорила:
— Мария Кросс.
— Мария Кросс?
Ковыряя землю зонтиком, она поспешила добавить:
— Сначала узнайте меня получше...
Ошеломленный, он не сводил с нее глаз: «Мария Кросс!» Значит, вот она, та самая женщина, чье имя он впервые услышал в один из летних дней на Аллее Турни, когда публика разъезжалась со скачек... Она проехала в коляске, запряженной парой рысаков, и кто-то рядам с ним сказал: «Вот это женщина, что ни говори!» И еще ему вдруг вспомнилось, как в то время, когда он принимал лечебные души и из-за этого был вынужден в четыре часа уходить из коллежа, он нередко обгонял на улице юного Бертрана Ларусселя, уже полного спеси; длинные ноги в гетрах из рыжей кожи. Иногда его сопровождал слуга, иногда священник в черных перчатках, в сутане с высоким воротником. Из всех «больших» единственно Раймон пользовался у «средних» грозной славой; чистый и набожный Бертран, когда Раймон шел с ним рядом, пожирал глазами этого «порочного типа», не подозревая, что в глазах «порочного» сам он был окутан манящей тайной. В то время еще жива была г-жа Ларуссель, и по городу, да и в коллеже, ходили нелепые слухи: Мария Кросс, говорили одни, желает стать законной женой Ларусселя и требует от своего любовника, чтобы он пустил по миру всех своих домочадцев; другие уверяли, будто она ждет, пока г-жа Ларуссель умрет от рака, чтобы потом обвенчаться в церкви с вдовцом. Но раз Раймон видел в окне кареты рядом с Бертраном бескровное лицо его матери, о которой дамы Курреж и Баск говорили: «Вот страдалица! И с каким достоинством она переносит свои муки! Можно сказать, что она проходит чистилище еще здесь, на земле... Такому мужу я бы с презрением плюнула в лицо и, конечно, бросила бы его». Как-то раз Бертран Ларуссель вышел из школы один. Услышав, что сзади, насвистывая, идет «порочный тип», он прибавил шагу, но Раймон приноровился идти с ним в ногу, не спуская глаз с короткого пальто и фуражки из одинаковой английской материи, необыкновенно красивой. Каким роскошным казалось ему все, что принадлежало этому мальчику! Когда Бертран бросился бежать, из его ранца выпала тетрадь, но прежде, чем он это заметил, Раймон успел ее подобрать. Мальчик вернулся назад, бледный от страха и ненависти:
— Отдай!
Но Раймон, усмехаясь, вполголоса прочитал надпись на обложке: «Мой дневник».
— Дневник юного Ларусселя — это, наверное, интересно.
— Отдай тетрадь!
Раймон вбежал в ворота городского парка и свернул в пустынную аллею; позади он слышал прерывистый жалобный голос: «Отдай, я скажу!» Но «порочный тип», забравшись в гущу кустарника, дразнил Бертрана, который вскоре выбился из сил и, упав на траву, громко рыдал.
— На, держи свою тетрадь, свой дневник, идиот!
Он поднял мальчика, вытер ему глаза, отряхнул пыль с английского пальтишка. Какая неожиданная нежность у этого грубияна! Маленький Ларуссель, казалось, был тронут и даже улыбался Раймону, а тот, поддавшись внезапной жестокой прихоти, спросил:
— Скажи, ты ее когда-нибудь видел, эту Марию Кросс?
Залившись краской, Бертран схватил свой ранец и пустился наутек, но Раймон и не думал его преследовать.
Мария Кросс... Так, значит, это она сейчас пожирает его глазами. Он представлял ее себе более высокой и более загадочной. Эта маленькая женщина в сиреневом платье и есть Мария Кросс. Видя, как растерян Раймон, она почувствовала презрение к себе и смущенно пролепетала:
— Вы не подумайте... Вы только не подумайте...
Она трепетала перед этим судьей, который казался ей ангелоподобным; она не распознала в нем нечистого отрока, не знала, что весна нередко бывает сезоном грязи и что этот подросток может ее просто испачкать. Не в силах вынести презрение, которое виделось ей в глазах мальчика, она едва слышно с ним попрощалась и обратилась в бегство, но он ее догнал:
— Значит, завтра вечером в том же трамвае?
— Вы этого хотите?
Уходя, она дважды обернулась, а он стоял неподвижно и думал: «Мария Кросс ко мне неравнодушна». Он повторял и повторял про себя, словно не мог поверить в свое счастье: «Мария Кросс ко мне неравнодушна».
Раймон жадно вдыхал вечернюю свежесть, как будто в ней заключалась сущность мироздания и как будто его отныне раскованное тело способно было всю ее впитать в себя. Мария Кросс к нему неравнодушна... Рассказать об этом товарищам? Но ведь никто не поверит. Вот уже показалась густая листва усадьбы, где члены одной семьи жили так же скученно и разрозненно, как миры, составляющие Млечный Путь. Ах, эта клетка сегодня никак не могла вместить в себя распиравшую его гордость. Он обошел сад стороной и углубился в сосновый бор, в отличие от других зеленых насаждений не обнесенный оградой и прозванный «Береговым лесом». Земля, на которой растянулся Раймон, была теплей живого тела. Сосновые иголки оставили отпечатки на его ладонях.
Он вошел в столовую, когда отец, разрезая страницы нового журнала, отвечал на замечание жены:
— Я не читаю, я только просматриваю заглавия.
Казалось, никто не слышал приветствия Раймона, кроме бабушки.
— Ага! Вот и мой постреленок...
И так как он проходил мимо ее кресла, она остановила его и притянула к себе:
— От тебя пахнет смолой.
— Я был в Береговом лесу.
Она с удовольствием оглядела его и про себя ласково выбранила: «Озорник!»
Раймон принялся шумно, как собака, хлебать суп.
Какими ничтожными казались ему сейчас все эти люди! Он парил в небесах. Ближе всех был ему сейчас отец: он знал Марию Кросс, бывал у нее дома, лечил, видел в постели, прикладывал ухо к ее груди и спине... Мария Кросс! Мария Кросс! Это имя душило его, как сгусток крови в горле, он ощущал во рту его нежную солоноватую теплоту, и в конце концов оно горячей волной хлынуло ему на язык. Он не выдержал:
— А я только что видел Марию Кросс.
Доктор тотчас метнул на него острый взгляд.
— Откуда ты знаешь, что это была она? — спросил он.
— Мы шли с Папильоном, он ее знает в лицо.
— О, о! — воскликнул Баск. — Смотрите, Раймон покраснел!
Одна из девочек подхватила:
— Да, да, дядя Раймон покраснел!
Раймон раздраженно пожал плечами. Отец, не глядя на него, задал еще вопрос:
— Она была одна?
И, услышав ответ: «одна», принялся снова разрезать страницы журнала. Между тем г-жа Курреж сказала:
— Удивительно, что такие женщины интересуют вас больше всех прочих. Ну что за событие встретить на улице эту особу? В те времена, когда она была горничной, вы бы ее даже не заметили.
Доктор перебил жену:
— Но помилуй, она никогда не была горничной!
— Впрочем, — резко заявила Мадлена, — в этом не было бы для нее ничего унизительного, решительно ничего.
И так как горничная вышла, унося какое-то блюдо, Мадлена с ожесточением напустилась на мать:
— Можно подумать, что ты нарочно раздражаешь слуг, нарочно их оскорбляешь. А Ирма как раз особенно чувствительна.
— Невероятно... Впору у себя дома надеть перчатки...
— Можешь со своей прислугой обращаться, как тебе угодно, но не выживай из дому других, особенно, если ты заставляешь их прислуживать за столом.
— Как будто ты очень церемонилась с Жюли... ты славишься тем, что не можешь удержать ни одной служанки... Всем известно, что мои слуги уходят только из-за твоих...
Возвращение горничной прервало спор, который обе женщины продолжали приглушенным тоном, как только она опять ушла на кухню. Раймон с интересом присматривался к отцу: если бы Мария Кросс была горничной, перестала бы она существовать для него или нет? Вдруг доктор поднял голову и, ни на кого не глядя, произнес:
— Мария Кросс — дочь той самой учительницы, которая возглавляла школу Святой Клары, когда твой дорогой господин Лабрусс был там приходским священником, Люси.
— Как, это та самая ведьма, которая причинила ему столько огорчений? Та, что предпочитала пропустить мессу, когда не могла со своими ученицами занять передние скамьи главного нефа? Ну что же, меня это не удивляет. Яблоко от яблони недалеко падает.
— А помнишь, — сказала г-жа Курреж-старшая, — что нам рассказывал этот бедняга Лабрусс? Вечером после выборов, когда маркиз Люр-Салюс потерпел поражение от мелкого адвокатишки из Базаса, учительница со всей своей бандой пришла его дразнить под окна его дома, и руки у нее были все черные от пороха — она пускала ракеты в честь нового депутата.
— Нечего сказать, хороша семейка...
Но доктор уже их не слушал, и вместо того, чтобы, как каждый вечер, подняться к себе в кабинет, последовал в сад за Раймоном.
В тот вечер отцу и сыну не терпелось поговорить. Какая-то сила сблизила их помимо воли, словно они владели одной и той же тайной. Так ищут и узнают друг друга сообщники, посвященные. Каждый видел в другом единственного человека, перед кем он мог бы выговориться, излить то, что отягощало его сердце. Как два мотылька слетаются с разных концов к коробке, в которой бьется пахучая самка, так и они, следуя причудливыми путями своих желаний, столкнулись лицом к лицу перед невидимой Марией Кросс.
— Раймон, у тебя есть сигарета? Я уже забыл вкус табака... Спасибо... Пройдемся?
Доктор слушал себя и удивлялся, подобно тому обманутому, что вдруг узнает, как у него опять открылась язва, которую он считал уже чудом исцеленной. Еще сегодня утром, в лаборатории, он испытывал то облегчение, которое окрыляет верующего после отпущения грехов, — он искал в своем сердце былую страсть и не находил ее. Каким торжественным и даже резонерским тоном взывал он к Робинсону, которого с весны некая девица из театра Буфф нередко отвлекала от его обязанностей.
— Друг мой, ученый, влюбленный в свою науку и стремящийся достичь в ней известных вершин, не может не считать потерянными часы, минуты, отданные любви к женщине...
А когда Робинсон, откинув назад свои непокорные волосы и протерев стекла очков полой халата, прожженного кислотой, отважился заметить: «И все-таки любовь...» — доктор перебил его:
— Нет, дорогой мой, у настоящего ученого наука не может не одержать верх над любовью, исключая краткие затмения. Иначе у него на всю жизнь останется горький осадок оттого, что он лишил себя более высоких радостей, которыми насладился бы, отдав весь свой пыл науке.
— Несомненно, — ответил ему Робинсон, — что большинство великих ученых скорее всего испытали только плотскую любовь, я не знаю среди них таких, что были бы одержимы истинной страстью.
В этот вечер доктор понял, почему одобрение со стороны ученика заставило его покраснеть. Довольно было одной фразы Раймона: «Я видел Марию Кросс», — чтобы в нем всколыхнулась страсть, которую он считал уже умершей. Ах, на самом деле она только дремала, долетевшие до нее слова пробудили и напитали ее, и вот она уже потягивается, зевает и встает во весь рост. Не в силах завладеть тем, к чему она вожделеет, она утоляется словами. Ладно, была не была, доктор будет говорить о Марии Кросс.
Сблизившись благодаря обоюдному желанию восхвалять Марию Кросс, отец и сын с первых же слов перестали понимать друг друга: Раймон утверждал, что женщина такого пошиба не может не вызывать отвращения у благочестивых скромников, он восхищался ее смелостью, ее безудержным честолюбием, всей ее вольной жизнью, какой она рисовалась ему в воображении. Доктор возражал, что Мария вовсе не куртизанка и не надо верить людской молве.
— Я хорошо знаю Марию Кросс! Могу сказать, что во время болезни ее маленького Франсуа, да и после того, я был ее лучшим другом... Она со мной делилась...
— Бедный папа! Представляю, как она тебе морочила голову! Разве нет?
Доктор усилием воли взял себя в руки и с жаром ответил:
— Нет, мой мальчик: она исповедовалась мне с необыкновенным самоуничижением. Если на свете есть человек, о котором можно сказать, что его поступки на него не похожи, то это именно Мария Кросс. Ее погубила неизлечимая лень. Ее мать, учительница в школе Святой Клары, готовила ее к поступлению в Педагогический институт, но ее брак с младшим врачом Сто сорок четвертого полка прервал эти занятия. В течение трех лет ее семейной жизни никто не мог сказать о ней худого слова, и будь ее муж жив по сей день, она оставалась бы самой порядочной и самой незаметной из женщин. Ей ставили в упрек единственно ее лень и как следствие этой лени — неспособность позаботиться о своем доме. Муж ее, бывало, ворчал, — это она мне сама рассказывала, — что весь их обед нередко составляла миска лапши, разогретой на спиртовке. Она предпочитала целый день валяться с книжкой, одетая в драный халат и шлепанцы на босу ногу.
Если бы ты знал, как претит роскошь этой пресловутой куртизанке! Подумай только, еще совсем недавно она решила больше не пользоваться коляской, которую ей предоставил Ларуссель, и теперь ездит на трамвае, как все... Чего ты смеешься? Не вижу тут ничего смешного... Да перестань ты ржать, это мне действует на нервы... Когда она осталась вдовой с ребенком на руках и надо было идти работать, ты легко можешь себе представить, какой беспомощной должна была чувствовать себя эта «интеллигентка»... На ее беду, какая-то приятельница ее покойного мужа устроила ее секретаршей к Ларусселю. У Марии не было никакой задней мысли, по Ларуссель, как правило, беспощадный к своим служащим, ей почему-то не делал ни одного замечания, хотя она всегда опаздывала и не слишком усердствовала в работе, а этого было достаточно, чтобы ее скомпрометировать. Когда она смекнула, в чем дело, бессильная что-либо предпринять, то в глазах остальных уже была «пассией патрона», и их враждебность сделала для нее дальнейшую работу невозможной. Она уведомила Ларусселя, который только этого и ждал. Он предложил молодой женщине, пока она не подыщет себе другого места, присматривать за его загородным домом, который он не смог или не пожелал в том году сдать...
— И она не нашла в этом предложении ничего предосудительного?
— Нет, она, конечно, прекрасно поняла, для чего он это затеял, но бедной женщине приходилось теперь оплачивать квартиру, которая была ей уже не по средствам, кроме того, у ее сына Франсуа началось воспаление кишечника, и врач считал, что ему необходимо жить за городом; наконец, она чувствовала себя уже настолько скомпрометированной, что у нее не хватило мужества отказаться от такого выгодного предложения. Обстоятельства оказались сильнее ее.
— Ну, конечно...
— Ты не знаешь человека, о котором судишь! Она долго сопротивлялась. Но что ей было делать? Не могла же она запретить Ларусселю приводить к себе вечерами гостей, — да, я признаю, она оказалась слаба и непоследовательна, согласившись присутствовать на этих ужинах в качестве хозяйки. Но я-то знаю, как происходили эти знаменитые ужины по средам, эти пресловутые оргии... Они бы не вызвали никакого шума, если бы как раз в то время состояние госпожи Ларуссель так заметно не ухудшилось. Клянусь тебе, в то время Мария даже не знала, что жена ее патрона опасно больна. «Я не сознавала, что поступаю дурно, — говорила она мне, — ведь я тогда еще ничего не позволяла мосье Ларусселю, ни одного поцелуя, решительно ничего. Что плохого было в том, что я возглавляла эти дурацкие застолья? Конечно, меня опьяняло желание блеснуть перед ними... Я изображала из себя мыслящую женщину и чувствовала, что мосье Ларуссель мною гордится... Он обещал позаботиться о моем ребенке...»
— Здорово она тебя околпачила!
До чего же наивен его папаша! Но особенно злило Раймона, что доктор принизил Марию Кросс до уровня какой-то жалкой учительницы, честной и слабовольной, и тем обесценил его победу.
— Она уступила Ларусселю лишь после смерти его жены, уступила от скуки, от какого-то отчаянного безразличия, — да, вот это точное слово, она сама его нашла — «отчаянное безразличие». Впрочем, женщина трезвого ума, без иллюзий, она не верила ни его позам скорбного вдовца, ни туманным обещаниям когда-нибудь на ней жениться. По ее словам, она слишком хорошо изучила подобных господ, чтобы питать на сей счет какие-либо иллюзии. Как любовница она делала ему честь, но как жена! Тебе известно, что Ларуссель отправил своего мальчишку, Бертрана, учиться в Нормандию, чтобы тот ненароком не встретил его с Марией Кросс. В глубине души он вовсе не считает Марию существом иной породы, нежели те потаскухи, с которыми он каждый день ее обманывает. Вообще, физической близости между ними почти нет, я это знаю, я в этом убежден, — можешь мне поверить, мой мальчик, хотя Ларуссель и сходит по ней с ума — ведь он совсем не такой человек, чтобы держать ее просто «для показа», как думают в Бордо. Но она его к себе не подпускает...
— Что же, по-твоему, Мария Кросс — святая?
Отец и сын друг друга не видели, и все же каждый чувствовал враждебность другого, хоть они и разговаривали вполголоса. Имя Марии Кросс на какой-то миг сблизило их, и оно же их вновь разъединило. Мужчина шагал с поднятой головой, подросток шел, уставив глаза в землю, вдруг он со злостью отшвырнул ногой шишку.
— Ты, Раймон, видимо, считаешь меня глупцом... Однако, если кто из нас двоих и наивен, то это ты, мой мальчик. Видеть в людях одно плохое вовсе еще не значит в них разбираться. Да, ты нашел верное слово: в такой вот Марии Кросс, чьи беды мне хорошо известны, прячется святая... Но тебе не понять...
— Смех, да и только!
— Кроме того, сам ты с ней не знаком, веришь всяким россказням. Я-то ведь с ней знаком.
— А я... я знаю, что знаю.
— Что ты знаешь?
Доктор остановился посреди аллеи, затененной каштанами, и сжал руку Раймона.
— Да пусти же меня! Охотно верю — Мария Кросс не подпускает к себе Ларусселя, но ведь есть другие...
— Врун!
Ошеломленный, Раймон пробормотал: «Ах, вот оно что!» У него мелькнуло подозрение, но, едва возникнув, тут же улетучилось. Он тоже никак не мог связать любовь с привычным для него образом отца, человека хотя и занудного, но не от мира сего; детскими глазами он всегда смотрел на доктора как на существо бесстрастное и безупречное, неподвластное злу и неподкупное, выше всех прочих людей. В темноте он слышал его прерывистое дыхание.
Тут доктор сделал над собой нечеловеческое усилие и почти веселым тоном повторил:
— Врун, да, врун! Хвастунишка, вздумавший излечить меня от иллюзий. — И так как Раймон молчал, прибавил: — Ну, рассказывай.
— Я ничего не знаю.
— Ты только что сказал: я знаю, что знаю.
Раймон ответил, что сказал это просто так, — ответил тоном человека, решившего молчать. Доктор больше не настаивал. Как бы он ни старался, сын все равно его не поймет, хотя он здесь, рядом, весь ощетинившийся против отца: доктор ощущал возле себя жар и одуряющий аромат его тела — тела молодого животного.
— Я бы еще побыл здесь... Не хочешь ли на минутку присесть, Раймон? Вот наконец и ветерок повеял...
Раймон заявил, что предпочитает лечь спать. Еще несколько секунд доктор слышал, как его сын гонит ногой шишку, а потом он остался один под зеленым навесом деревьев, внимая жалобам, которые воссылали к небу изнывающие от зноя и тоски луга. Подняться со скамейки стоило огромного усилия. В кабинете у него все еще горело электричество: «Пусть Люси думает, что я работаю... Сколько времени потеряно! Мне пятьдесят два года, нет, пятьдесят три. Что за сплетни мог рассказать Раймону этот Папильон?» Обеими руками доктор стал ощупывать ствол каштана, на котором, как он помнил, Раймон и Мадлена вырезали свои инициалы. И вдруг он обнял дерево и, закрыв глаза, прижался щекой к его гладкому стволу. Немного погодя решительно выпрямился, отряхнул рукава и, наугад поправив галстук, зашагал к дому.
Тем временем Раймон, руки в карманах, шел по дорожке через виноградники, все еще гоня перед собой шишку и бормоча себе под нос: «Какой же он легковерный! Теперь таких нет!» О, уж он-то знает, что к чему, его не проведешь, Раймон не собирался смаковать свое счастье до исхода этой душной ночи. Усыпавшие небо звезды и запах акаций были ему безразличны. Летняя ночь напрасно взывала к этому юному самцу, хорошо оснащенному природой и в ту минуту, как никогда, уверенному в своей силе, в мощи своего тела, глухого ко всему, что телу неподвластно.
VII
Единственное средство забыться — работа. Каждое утро доктор просыпался исцеленным, словно у него удалили точившую его язву, и ехал в город, один, потому что с наступлением тепла Раймон экипажем не пользовался. Мыслями доктор все время жил в лаборатории, а от его страсти оставалась лишь притупившаяся боль, о которой он хранил смутное воспоминание. Он бы мог пробудить ее, если бы захотел, и дотронувшись до чувствительного места, наверняка исторг бы у себя крик. Но вчера самая дорогая для него гипотеза была опровергнута опытом, по уверениям Робинсона, безукоризненным, — это грозило свести на нет всю проделанную работу. Как будет торжествовать X., заявивший в Биологическом обществе, что у него, Куррежа, ошибочная методика исследования!
Величайшее несчастье женщин состоит в том, что ничто не отвлекает их от терзающего втайне врага. В то время как доктор, прильнув к микроскопу, совершенно забывал о себе и об окружающем мире, всецело захваченный тем, что наблюдал в эту минуту, словно собака, сделавшая стойку перед дичью, Мария Кросс лежала на кушетке при спущенных жалюзи, дожидаясь вожделенного часа свидания — краткой вспышки огня в тусклом сумраке ее дней.
Но даже этот единственный час — как был он ненадежен! Им очень скоро пришлось отказаться от удовольствия ездить вместе до Таланской церкви. Мария Кросс приезжала раньше Раймона и встречалась с ним недалеко от коллежа, в одной из аллей городского парка. Он держал себя еще более скованно, чем в первый день, и его пугливая неловкость окончательно убедила Марию в том, что это совсем еще ребенок, хотя кое-что в его поведении — то смешок, то брошенный им намек, то взгляд исподлобья — могли бы ее насторожить, но она упрямо держалась за созданный ею образ ангела. Она приближалась к этому ангелу с величайшей осторожностью, затаив дыхание и на цыпочках, словно боялась спугнуть дикую птицу. Все поддерживало ее в этом заблуждении: его щеки, вспыхивавшие румянцем от всякого пустяка, его гимназический жаргон и едва уловимые, как легкий налет, следы детскости в его развитой, сильной фигуре. Мария себя запугала тем, что она видела в Раймоне и чего на самом деле в нем не было; она трепетала перед чистотой его взгляда, упрекала себя в том, что замутила и встревожила его душу. Ничто не подсказывало ей, что в ее присутствии Раймон неотвязно думал об одном: как ему теперь поступить — снять меблированную комнату?
У Папильона был один адресок... Но, пожалуй, для такой женщины это будет не вполне пристойно... Тот же Папильон говорил, что в гостинице «Терминус» можно снять комнату на день, надо было бы справиться, но Раймон ходил и ходил мимо входных дверей, не решаясь войти. Он предвидел всевозможные трудности и считал их неодолимыми...
Мария Кросс думала о том, как бы завлечь Раймона к себе, но не решалась даже намекнуть ему на это. Она остерегалась запачкать, хотя бы и мысленно, этого пугливого мальчика, свою дикую птицу, но уверяла себя, что в душной плюшевой гостиной, в глубине дремлющего сада, их любовь наконец изольется в словах, подобно тому как недавняя гроза разрешилась дождем. Она не воображала себе ничего такого — разве что прижмет его голову к своей груди... Он будет возле нее, как молодой олень, прирученный ее заботами, и она возьмет в ладони его теплую мордочку. Впереди ей виделся долгий путь их любви, но она и мысли не допускала об иных ласках, кроме самых ранних и самых чистых, запрещая себе думать о постепенно возгорающейся пылкости — о лесе, в котором любящие раздвигают ветки ради того, чтобы заблудиться... Нет, нет, так далеко они не зайдут, она не станет разрушать чувства, обуревающие этого мальчика, — восхищение и страх. Как дать ему понять, не вспугнув, что на этой неделе он может прийти в душную плюшевую гостиную — надо воспользоваться тем, что г-н Ларуссель уехал по делам в Бельгию.
* * *
Сидя вечером за столом, доктор наблюдает Раймона, жадно хлебающего суп, но видит в нем не сына, а чужого человека, который сказал ему о Марии Кросс: «Я знаю, что знаю... «Что такое мог рассказать ему Папильон? Черт возьми, можно ли теперь сомневаться в том, что Марией завладел какой-то незнакомец? Ждать письма совершенно бессмысленно, слишком ясно, что она больше не хочет меня видеть. Признак, что она увлеклась... Но кем? Даже не знаю, как теперь подступиться к мальчику. Настаивать, чтобы он сказал, — значит выдать себя...» В эту минуту его сын поднимается из-за стола и выходит, не отвечая матери, которая кричит ему вдогонку;
— Куда ты? Он теперь почти каждый вечер ездит в город, — добавляет она. — Я знаю, что ключ от ворот он берет у садовника и возвращается в два часа ночи через кухонное окно. Если бы ты слышал, как он отвечает на мои замечания. Тебе надо наконец вмешаться, но ты бесхарактерный человек!
Доктора едва хватает на то, чтобы пробормотать:
— Умнее всего закрыть глаза.
До него доносится голос Баска: «Будь это мой сын, уж я б его выдрессировал!» Доктор поднимается, тоже выходит в сад. Посмей он только, он бы крикнул: «Для меня не существует ничего, кроме моей муки». Люди никогда не задумываются над тем, что именно увлечения отцов чаще всего отдаляют их от сыновей.
Он возвращается к себе, садится за письменный стол, выдвинув один из ящиков, достает оттуда связку писем и перечитывает те, что Мария писала ему полгода назад:
«Ничто не может привязать меня к жизни сильнее, чем желание стать лучше... Мне безразлично, что это будет совершаться втайне и что люди по-прежнему будут указывать на меня пальцем, я смиряюсь с бесчестьем...» Доктор забывает, что в то время подобный избыток добродетели приводил его в отчаяние и для него было пыткой, что их отношения развиваются в столь возвышенной сфере; он приходил в ярость оттого, что невольно спасает женщину, с которой ему так сладостно было бы пасть. Он представляет себе, с какой насмешкой читал бы это письмо Раймон, возмущается и вполголоса возражает, как будто в комнате он не один: «Позерство?» Не позерство ли этот ее высокий литературный слог? Но разве тогда, у постели умирающего ребенка, это тоже было позерство — ее смиренная скорбь, ее готовность принять страдание, словно через постулаты кантовской философии, внушенные ей матерью, к ней прорвалось наследие старой мистики? Стоя на коленях перед маленькой кроваткой (какое одиночество окружало этого покойника, какое презрение!), она нещадно винила во всем себя, била себя в грудь, стонала, что все к лучшему: по крайней мере, ее мальчик не успел устыдиться за свою мать... В этом месте слово брал ученый:
«Она, бесспорно, была искренна, и все же при всем величии ее горя в нем была доля самодовольства — она удовлетворяла свой вкус к позе... Мария Кросс всегда искала романические ситуации: разве она не вбила себе в голову, что ей непременно надо повидаться с умирающей г-жой Ларуссель? Доктор потратил немало усилий, убеждая ее, что встречи такого рода бывают эффектны только на сцене. Тем не менее ему пришлось взять на себя роль защитника любовницы перед женой, и он смог передать Марии заверения, что она прощена.
Чтобы немного отвлечься, доктор подошел к открытому окну и, вслушиваясь в полумрак летней ночи, пытался различить в ее слитном шуме отдельные звуки: непрестанный треск цикад, кваканье с болотца, отчетливые голоса двух жаб, прерывистое пенье какой-то птицы, быть может, вовсе и не соловья, звонки последнего трамвая. «Я знаю, что знаю», — сказал Раймон. Кто же это мог понравиться Марии Кросс? Доктор перебирает в памяти имена и отбрасывает их одно за другим: все эти люди внушают ей отвращение. Но кто, кто же не внушает ей отвращения? Ну-ка, вспомни, что поведал тебе Ларуссель, когда пришел однажды на прием, чтобы измерить давление: «Между нами говоря, она этого дела не любит... вы меня понимаете, а? Со мной — еще куда ни шло, потому что это все-таки я... В первое время, когда я собирал у себя приятелей, это было просто забавно. Все они вертелись вокруг нее, и я ждал, что будет: ведь когда кто-нибудь из друзей представляет нам свою любовницу, мы первым делом думаем, как бы ее отбить, верно? Я подумал: ну-ка, ну-ка, попробуйте, господа... но надолго их не хватило — она их быстро отвадила. На свете нет женщины менее искушенной в любви, чем Мария, и получающей от нее так мало удовольствия, — я знаю, что говорю. Это непорочная женщина, доктор! Более непорочная, чем все эти кичливые добропорядочные дамы, которые ее презирают». И Ларуссель еще сказал: «Именно потому, что Мария так непохожа на других женщин, я все время боюсь, что в мое отсутствие она может принять какое-нибудь нелепое решение; все дни напролет она мечтает, а выходит из дому, только чтобы поехать на кладбище... Вы не думаете, что на нее повлияла какая-нибудь книга?»
«Да, может быть, книга, — размышляет доктор, — хотя нет, я бы об этом знал, это ведь по моей части! Бывает, что книга переворачивает жизнь мужчины, и еще как! Да, бывает, но жизнь женщины? Полноте! По-настоящему, глубоко нас может взволновать лишь что-то живое, из плоти и крови. Книга? Роман?» Он покачал головой. Слово «роман» навело его на мысль о любовных шашнях, и он сразу вообразил рядом с Марией Кросс неведомого ему наглого обольстителя, эдакого горного козла.
В траве надрывно кричали коты. Под чьими-то шагами захрустел гравий, рядом со стуком открылось окно: это, конечно, вернулся Раймон. Потом доктор услышал, как кто-то идет по коридору; в дверь к нему постучали — вошла Мадлена:
— Папа, ты еще не спишь? Я беспокою тебя из-за Катрин, у нее вдруг начался хриплый кашель... ни с того ни с сего... Боюсь, не круп ли.
— Нет, круп начинается совсем не так. Сейчас я приду.
Немного погодя, когда он выходил от дочери, резкая боль в левой стороне груди вдруг приковала его к месту: схватившись рукой за сердце, он застыл у стены коридора, но никого не позвал на помощь и в ясном сознании слышал за дверью разговор четы Баск:
— Ну что тебе сказать? Да, он ученый, никто не спорит, но наука сделала его скептиком, он больше не верит в лекарства, а как можно лечить без лекарств?
— Так он же говорит, что это пустяк — не ложный круп даже.
— Не беспокойся, кому-то из своих пациентов он бы непременно выписал рецепт. Но у себя в семье он не церемонится, не желает себя утруждать. Иногда просто зло берет, что нельзя обратиться к кому-нибудь другому.
— Да, но зато как удобно, что он всегда под рукой, даже ночью. Когда папочки не станет, я потеряю всякий покой из-за малышей.
— Надо было тебе выйти за врача!
Смех был заглушен поцелуем. Доктор почувствовал, как рука, стиснувшая ему сердце, разжалась, и неслышной поступью удалился. Он лег в постель, но ему не лежалось, и, спустив ноги с кровати, он остался сидеть в потемках. Все вокруг было объято сном, только листва шелестела... «Любила ли Мария кого-нибудь? Я вспоминаю некоторые ее капризы... например, как она хотела заставить крошку Габи Дюбуа порвать с Дюпоном-Гюнтером. Но это был тоже высокий порыв... Должно быть, в числе ее предков был какой-нибудь подвижник, от которого она унаследовала стремление спасать человеческие души... Кстати, кто мне говорил в связи с этой историей, что эта самая Габи рассказывала о Марии бог знает что? Я помню и другие ее выходки... Быть может, она действительно не совсем "того"... Мне приходилось замечать, что натуры чересчур возвышенные... Но уже светает!»
Он взбил подушку, осторожно лег, чтобы не потревожить свой разладившийся механизм, и погрузился в забытье.
VIII
— А что мне сказать садовнику?
В пустынной аллее городского парка Мария Кросс пытается уговорить Раймона прийти к ней домой, где он наверняка никого не встретит. Она настаивает и стыдится своей настойчивости, чувствуя, что вопреки себе поступает как совратительница. Могла ли она увидеть в робости мальчика, который еще недавно топтался у дверей магазинов, не решаясь войти, что-либо иное, кроме невинной боязни? Вот почему она запротестовала:
— Пожалуйста, не думайте, Раймон, что я хочу... Пусть у вас не будет таких мыслей...
— Мне неприятно, что надо будет пройти мимо садовника.
— Но я же вам объясняю, что никакого садовника нет. Я живу одна в пустом доме, который мосье Ларусселю никак не удается сдать. Он поместил меня там как сторожиху.
Раймон громко расхохотался.
— Значит, вы и есть садовница!
Молодая женщина пожала плечами и, отвернувшись, пробормотала:
— Все говорит против меня. Никого не заставишь поверить, что я согласилась занять это место без всякой задней мысли. Моему сыну Франсуа нужен был свежий воздух...
«Знаем мы эту песню, — подумал Раймон. — Болтай, болтай...
Он перебил ее:
— Так вы говорите, что садовника у вас нет, ну, а прислуга?
Мария успокоила его: по воскресеньям она отпускает свою единственную служанку Жюстину. Эта женщина замужем за кочегаром, он приходит к ним ночевать, чтобы в доме с ненадежными запорами был хоть один мужчина, — в предместье неспокойно, но по воскресеньям после обеда Жюстина и ее муж уходят. Раймону надо только толкнуть дверь и войти: слева будет столовая, а сразу за ней гостиная.
Нахмурясь, он ввинчивал каблук в песок аллеи. За кустами бирючины поскрипывали качели, подошла разносчица, предлагая припорошенные пылью булочки и шоколадные батончики в желтой обертке. Раймон признался, что сегодня не завтракал, и купил себе рогалик и шоколадное печенье. Глядя на мальчика, отщипывающего кусочки рогалика, Мария поняла, что ее ждет: ее желания в истоке своем всегда чисты, а поступки неизбежно оказываются безобразными. Когда в трамвае она обратила внимание на этого подростка и его лицо стало усладой для ее глаз, на уме у нее не было ничего дурного. С какой стати отказывать себе в таком безобидном удовольствии? Разве человек, изнывающий от жажды, колеблется, прежде чем припасть к источнику, который встретился ему на пути? «Да, я хочу принять его у себя дома, но только по той причине, что на улице или на скамейке парка мне не удастся заставить его передо мною раскрыться. Ну и пусть со стороны это выглядит некрасиво: двадцатисемилетняя женщина, содержанка, завлекает к себе подростка, сына единственного человека, который оказал ей доверие, единственного, кто не бросил в нее камень...» И после того, как они расстались немного не доходя до креста св. Генезия, она опять подумала: «Я хочу, чтобы он пришел, но не за тем, не за тем, — при одной мысли об этом мне делается дурно... Но он все равно опасается, да и как ему не опасаться? Все мои поступки в моих глазах выглядят совершенно невинно, а в глазах других — гадко. Но, может быть, людям виднее?» Она произнесла одно имя, потом другое... Если ее презирают за навязанные ей поступки, то сама она помнит и другие, совершенные ею втайне, о которых знает только она одна...
Мария толкнула калитку, которую в воскресенье впервые откроет Раймон, прошла по дорожке, заросшей травой (садовника-то нет). Тучи нависали так низко, что казалось непонятным, почему они до сих пор не прорвались, — небо как будто тоже обессилело от всеобщей жажды. Поникли увядшие листья. Служанка не закрыла ставни, и большие мухи бились о деревянные панели столовой. Мария нашла в себе силы только кинуть шляпку на пианино и растянулась на кушетке, пачкая ее своими туфлями. Единственное, что она была еще в состоянии сделать, это зажечь сигарету. Ах, это была ее беда — физическая вялость при самом лихорадочном воображении! Сколько вечеров потеряла она, лежа здесь, на этой кушетке, с сердечной болью от беспрерывного курения! Сколько планов бегства, очищения рухнуло и пошло прахом! Для начала надо было подняться, что-то предпринять, повидаться с людьми. «Но уж коли я отказываюсь исправить свою жизнь с внешней стороны, остается только не позволять себе ничего такого, что могло бы отягчить или потревожить мою совесть. Так вот, юный Курреж...» Решено, она зовет его к себе ради единственного удовольствия, которое уже испытала в шестичасовом трамвае: ради его утешительного присутствия, ради грустного и неторопливого созерцания, — только здесь, у себя, она будет созерцать его вблизи и вволю. И больше ничего? Больше ничего? Когда присутствие какого-то человека нас волнует, мы невольно трепещем при мысли о возможности продолжения, неясное будущее нас пугает. «Мне очень скоро надоело бы на него смотреть, если бы я не знала, что он отвечает на мою игру и что в один прекрасный день мы с ним разговоримся... Таким образом я не мыслю себе в этой гостиной ничего иного, кроме задушевной беседы, материнских ласк, нежных поцелуев. Но имей же мужество признаться себе в том, что за пределами этого невинного счастья ты угадываешь огромное пространство, одновременно запретное и ничем не огражденное: никаких застав, перед тобой открытое поле, и ты незаметно заходишь все дальше в потемках, где так легко ненароком заблудиться.
А потом? Кто запретит нам насладиться счастьем? Разве я не могу сделать этого мальчика счастливым?.. Вот здесь-то и начинаются сомненья: ведь это сын доктора Куррежа, святого человека... Он и мысли не допустил бы о чем-либо подобном. Я сама однажды, смеясь, сказала ему, что нравственный закон в его душе сияет столь же ослепительно, как звездное небо над его головой...»
Услышав дробный стук капель по листьям, раскаты неспешно подступающей грозы, Мария закрыла глаза и, сосредоточась, представила себе чудесное лицо мальчика, такого чистого (как ей хотелось думать), а тот меж тем в эту минуту прибавлял шагу, чтобы не угодить под ливень, и размышлял: «Папильон говорит, что в этих делах надо сразу идти на штурм, он говорит: женщин такого пошиба надо брать силой, они только силу и любят...» В растерянности мальчик поглядел на рокочущее небо и вдруг пустился бежать, набросив на голову пелерину; чтобы срезать кусок пути, он с ловкостью горного козла перемахнул через кусты.
Гроза уходила, но она еще висела над головой, и как раз наступившее затишье выдавало, что она еще близко. И тут Мария Кросс почувствовала, что ее осенило свыше, она была убеждена, что поступает правильно, сомнений быть не могло. Она поднялась, села за стол и принялась писать: «Ни в коем случае не приходите в воскресенье, не приходите вообще, никогда. Только ради Вас иду я на эту жертву...» Тут бы ей и поставить точку, но какой-то демон шепнул ей, чтобы она написала еще целую страницу: «Вы могли бы стать единственной отрадой и утешением моей ужасной, загубленной жизни. Нынешней зимой, возвращаясь по вечерам вместе с вами, я отдыхала душой, о чем вы и не догадывались. Но Ваше лицо, на которое Вы позволяли мне смотреть, было лишь зеркалом души, коей я мечтала завладеть: знать о Вас все без остатка, унимать Ваши тревоги, раздвигать ветки на Вашем пути, быть для Вас больше, чем матерью, ближе, чем подругой... Да, я об этом мечтала... но не в моей власти стать иной... Вопреки себе, вопреки мне Вы дышали бы здесь атмосферой разврата, в которой я задыхаюсь...» Она еще долго писала. Дождь припустил вовсю, и не слышно было ничего, кроме плеска воды. Окна были закрыты, за печкой шуршал сверчок. Мария взяла было книгу, но было слишком темно, а из-за грозы электричество не зажигали. Тогда она села за пианино и начала играть, наклонившись вперед, словно ее руки притягивали к себе голову.
Назавтра — то была пятница — Мария почувствовала безотчетную радость оттого, что после грозы погода испортилась, и весь день провела в халате, предаваясь чтению, музыке и безделью, пытаясь вспомнить каждое слово своего письма и представить себе, как его читает юный Курреж. В субботу после гнетуще-тяжелого утра снова пошел дождь, и теперь Мария поняла, чему она так радуется: плохая погода давала ей основание не выходить в воскресенье из дома, как она намеревалась раньше; в случае, если Раймон все-таки придет на свидание, несмотря на письмо, она будет на месте. Чуть отойдя от окна, сквозь которое она наблюдала, как разлетаются брызгами на дорожке капли дождя, Мария произнесла громким и твердым голосом, словно давала торжественный обет: «Какая бы ни была погода, я уйду».
Куда она пойдет? Будь жив Франсуа, она повела бы его в цирк. Иногда она выезжала в концерт и одна занимала целую ложу, охотнее всего — ложу бенуара, но публика быстро ее узнавала: по движению губ Мария угадывала свое имя, наведенными на нее биноклями враждебная толпа словно ощупывала ее, лишенную возможности защищаться. Чей-нибудь голос произносил: «Ничего не скажешь, одеваться эти дамочки умеют», — «Имея деньги, это не так уж трудно. И, кроме того, у них ведь только и есть забот, что о своем теле». Случалось, кто-нибудь из друзей Ларусселя покидал клубную ложу и приходил с ней поздороваться: стоя вполоборота к залу, он громко смеялся, гордясь тем, что на людях разговаривает с Марией Кросс.
Но с того вечера, как в Мюзик-Холле ее публично оскорбили женщины, она перестала бывать где бы то ни было, исключая концерты общества св. Цецилии. Любовницы местных тузов ненавидели ее за то, что она не желала терпеть их общество. Только одна из них на несколько дней снискала ее благосклонность — та самая Габи Дюбуа, показавшаяся ей «возвышенной душой» после того, как они однажды вечером обменялись несколькими словами в «Красном льве», куда ее затащил Ларуссель. Шампанское немало способствовало возвышению души Габи Дюбуа. В течение двух недель молодые женщины виделись ежедневно. Мария Кросс с терпеливым ожесточением, хотя и тщетно, пыталась порвать узы, привязывавшие ее приятельницу к другим людям. На одном из утренних спектаклей «Аполлона», куда Мария пришла, поддавшись приступу скуки, и, как всегда, сидела в ложе одна, привлекая к себе взгляды всего зала, она услышала в партере резкий смех Габи, потом засмеялись другие, до Марии донеслись обрывки негромко произнесенных оскорблений: «Эта потаскуха разыгрывает из себя королеву... эта... а прикидывается недотрогой...» Марии вдруг показалось, что она больше не видит в зале ни одного человеческого профиля — только обращенные к ней звериные морды. Когда в театре опять погасили свет и глаза зрителей приковала к себе обнаженная танцовщица, Мария тихонько сбежала.
Ее маленького Франсуа с ней больше нет, и теперь она никуда не пойдет. Вот уже год, как его не стало, и только он один еще может заставить ее выйти из дому, только эта каменная плита, не длиннее детского тельца, хотя для того, чтобы к ней подойти, надо миновать аллею с указателем: «Великие». Но на пути к мертвому мальчику ей суждено было встретить живого.
В воскресенье утром бушевал ветер, но не из тех ветров, что лишь раскачивают верхушки деревьев: налетая порывами с юга, от моря, он с неодолимой силой заволакивал небо сплошным темным полотнищем. Только одинокий голос синицы открыл Марии, что тысячи птиц молчат. Тем хуже, она останется дома: юный Курреж получил ее письмо, она уже знает, насколько он робок, и может не сомневаться в его послушании. Если бы она даже не писала ему, он наверняка не решился бы войти в эту калитку. И она улыбнулась, вспомнив, как он ввинчивал каблук в песок аллеи и упрямо повторял: «А садовник?» Сидя в одиночестве за завтраком, она прислушивалась к шуму надвигающейся грозы. Крылатые кони ветра, сделав свое дело, мчались в бешеной скачке дальше, храпели и бились в ветвях деревьев. Не иначе как они пригнали сюда, на реку, с просторов взъярившейся Атлантики морских голубков и серебристых чаек, не садящихся на воду; казалось, этот ветер своим дыханьем окрасил облака, что неслись над предместьем, в мертвенно-зеленый цвет водорослей и забрызгал листву едкой пеной. Высунувшись из окна в сад, Мария ощутила на губах ее леденящий привкус. Он не придет, но если бы она даже не писала ему, разве бы мог он выйти в такую погоду? Сначала ее снедала тревога, что он не придет. Ах, куда лучше знать, что он и в самом деле не придет. Впрочем, если она никого не ждет, зачем открывать буфет в столовой и проверять, остался ли еще портвейн? Наконец хлынул ливень, пронизанный солнцем. Мария раскрыла книгу и стала читать, ничего не понимая, терпеливо начала страницу сначала, но опять без толку; села за пианино, стараясь играть не слишком громко, чтобы услышать, если хлопнет входная дверь. Боясь разочарованья, она упрямо твердила себе: «Это ветер, это, конечно, ветер», — хотя уже слышала в столовой неуверенные, мешкающие шаги. Она застыла на месте, не в силах встать, и вот он уже здесь, в гостиной, смущенный тем, что с его шапки льет вода. Он не смеет сделать ни шагу, она не смеет заговорить с ним, оглушенная всколыхнувшейся в ней страстью, которая ломает все преграды и неистово устремляется к реваншу, которая в секунду захватывает все существо человека, подчиняет себе все его физические и духовные силы, обнажает его вершины и его дно. И все же она строгим тоном произнесла самые обычные слова:
— Разве вы не получили моего письма?
Он все еще стоял в растерянности. («Она просто водит тебя за нос, — твердил ему Папильон. — Не позволяй ей морочить себе голову: держись посмелее...») Но, увидев перед собой это лицо, показавшееся ему таким разгневанным, Раймон опустил голову, как наказанный ребенок. А Мария, дрожа, словно здесь, в этой плюшевой гостиной, один на один с нею находился разъяренный молодой олень, не смела шевельнуться. Он пришел, хотя она сделала все возможное, чтобы его оттолкнуть, — значит, ее счастье не будет отравлено угрызениями совести и она может предаться ему всецело. Судьбе, которая пожелала бросить мальчика ей в жертву, она отвечала, что сумеет быть достойной этого дара. Чего она боялась? В эту минуту она была полна любви самой чистой, самой возвышенной, и доказательством тому служили слезы, набежавшие ей на глаза, когда она подумала о Франсуа: через несколько лет он стал бы таким же, как этот юноша... Она не знала, что гримаса, которую она сделала, сдерживая слезы, была истолкована Раймоном как признак раздражения, а быть может, и гнева. Неожиданно она сказала:
— В конце концов почему бы и нет? Вы хорошо сделали, что пришли. Положите-ка шапку на стул. Не беда, что она мокрая, этот генуэзский бархат видал виды... Хотите портвейну? Да? Нет? Значит, да.
Пока он пил, она сказала:
— Почему я написала вам это письмо? Я и сама не знаю... У женщин бывают причуды... впрочем, я знала, что вы все равно придете.
Раймон вытер губы тыльной стороной ладони.
— Вообще-то я чуть было не остался дома. Я подумал: она уйдет, и у меня будет дурацкий вид.
— С тех пор как у меня траур, я почти никуда не хожу... Я вам никогда не рассказывала о моем маленьком Франсуа?
Франсуа появился неслышно, словно он был живой. Быть может, матери хотелось удержать его возле себя, чтобы нарушить опасное уединение. Раймон увидел в упоминании Франсуа уловку с целью заставить его не выходить из рамок, но Мария, наоборот, хотела придать ему уверенности и, далекая от того, чтобы бояться его, полагала, что он сам ее боится. Впрочем, не она позвала на помощь своего умершего ребенка — он вошел сам, как входят дети, заслышав в гостиной материнский голос. Раз ее мальчик тут, с ней рядом, значит, все будет благопристойно. Что ты себя терзаешь, несчастная женщина? За твоим креслом стоит маленький Франсуа, он улыбается, он не краснеет от стыда.
— Прошло, кажется, чуть больше года, как он умер. Я еще хорошо помню день похорон... мама сделала сцену отцу... — Он замолчал, пытаясь вспомнить, что именно было сказано.
— Сцену? Почему? Ах да, понимаю... Даже в те дни у людей не было сострадания.
Поднявшись с кресла, Мария взяла альбом и положила его Раймону на колени.
— Я хочу показать вам его фотографии. Их видел до сих пор только ваш отец. Вот Франсуа на руках у моего мужа — ему всего месяц от роду, в этом возрасте младенец еще и на человека не похож, разве только для матери. А вот посмотрите: тут ему два года, он смеется, держа в руках мячик. Тут мы сняты в Сали, он тогда был слабенький, мне пришлось израсходовать последние сбережения, чтобы остаться на весь сезон, но там был доктор такой доброты, такого милосердия... Его фамилия была Казамайор... Это он держит ослика за повод.
Наклонившись над Раймоном, чтобы переворачивать страницы, она не видела сердитого лица подростка, который не мог шевельнуться с тяжеленным альбомом на коленях и бесился от этой вынужденной скованности.
— Вот он шести с половиной лет, за два месяца до смерти. Он выглядит поправившимся, верно? Я все время спрашиваю себя, не слишком ли много заставляла его заниматься? Ваш отец уверяет, что нет. В шесть лет он читал все, что бы ни попало ему под руку, даже то, чего он еще не мог понять. Живя рядом со взрослым человеком... — На секунду умолкнув, она продолжала:
— Это был мой товарищ, мой друг... — ибо в эту минуту и сама не понимала, чем был для нее Франсуа в действительности и чего она от него ждала. — Он уже начал задавать мне вопросы. Сколько ночей я провела без сна, думая о том, что в один прекрасный день придется ему объяснить... И единственная мысль, которая сегодня помогает мне жить, — что он ушел, не зная... что он не знал... что он никогда не узнает...
Она выпрямилась, руки ее повисли; Раймон не осмеливался поднять на нее глаза, но слышал, как содрогается ее тело. Хоть он и был растроган, он все же сомневался в ее искренности. Позже, на обратном пути, он будет повторять себе: «Она сама увлеклась этой игрой... она же просто играет покойником... И все-таки, слезы?» Его представление о ней поколебалось. Подросток создал себе канонический образ блудницы, в полном соответствии с тем, что ему внушили его учителя, хотя и считал себя не подверженным их влиянию. Мария Кросс осадила его со всех сторон, словно армия, готовая к атаке; на ее щиколотках звенели браслеты Далилы и Юдифи[11]; не существовало, по его мнению, такого предательства, такого притворства, на которое не была бы способна эта женщина, чьего взгляда праведники страшились пуще смерти.
— Приходите еще, когда захотите, я всегда дома, — сказала ему Мария Кросс.
Вся в слезах, но умиротворенная, она проводила его до дверей, не назначив ему нового свидания. После его ухода она села у кроватки Франсуа; она принесла сюда свою скорбь, как ребенка, уснувшего у нее на руках. Ее охватило чувство покоя, быть может, обманчивого. Она не ведала, что не всегда ей будет оказана помощь; нет, мертвые не помогают живым; напрасно мы умоляем их показаться на краю бездны: их молчание, их отсутствие скорее походят на соучастие.
IX
Для Марии Кросс было бы гораздо лучше, если бы первый визит Раймона не оставил у нее ощущения безопасности и невинности. Она была в восторге, что все обошлось так просто: «Я себе задурила голову», — думала она. Она как будто испытывала облегчение, но вскоре начала терзаться, что отпустила Раймона, не условившись с ним о новом свидании. Она не позволяла себе выйти из дому в те часы, когда он мог бы прийти. Жалкая игра страстей настолько несложна, что юноша овладевает ею с первой же своей интрижки, — Раймону не нужны были ничьи советы для того, чтобы решить: пусть-ка она поварится в собственном соку.
После четырехдневного ожидания Мария стала осыпать себя упреками: «Я с ним говорила только о себе, только о Франсуа, это нагнало на него тоску... Что ему за интерес смотреть этот альбом? Надо было мне расспросить, как он живет, завоевать его доверие. Ему было скучно, он счел меня занудой... А вдруг он больше не придет?»
Вдруг он больше не придет! Беспокойство вскоре переросло в паническую тревогу. «Ну, конечно! Можешь ждать сколько угодно! Он больше не придет, его теперь не заманишь, в его возрасте скучных людей не терпят... Да! Вот и все, это дело конченое!» Ужасное, ошеломляющее открытие! Он больше никогда не придет. Мария Кросс засыпала последний колодец в своей пустыне. Отныне вокруг нее только песок. Что может быть более опасного в любви, нежели бегство одного из сообщников? Его присутствие часто сковывает: сидя напротив Раймона Куррежа, Мария Кросс видела в нем прежде всего подростка и полагала, что было бы подлостью смущать его душу, — она помнила, кто его отец; то, что еще оставалось в его лице детского, напоминало ей ребенка, которого она потеряла, даже мысленно она приближалась к нему с каким-то пламенным целомудрием. Но теперь, когда его здесь нет и она опасается, что больше никогда его не увидит, чего ей пугаться этой вскипевшей в ней мутной волны, этого бешеного водоворота? Уж коли ей не дано утолить жажду этим плодом, почему хотя бы не вообразить себе его неведомый вкус? Кому от этого вред? Можно ли ждать упрека от камня, на котором выбито имя Франсуа? Кто видит ее в этом доме, где у нее нет ни мужа, ни ребенка, ни слуг? Жалкая болтовня г-жи Курреж, ссоры из-за прислуги, — как это было бы хорошо, если бы Мария Кросс заняла свой ум чем-то таким! Куда податься? За изгородью поникшего сада раскинулось предместье, а за ним — каменистый город, где если и разразится гроза, то следом неизбежно потянутся девять удушливо жарких дней. Под этим мертвенным небом и лютый зверь рыщет вялый, в поисках убежища, ворчит. Блуждая по саду или по пустым комнатам, Мария Кросс постепенно уступает (а есть ли у нее иной выход из ее унизительного положения?), уступает соблазну безнадежной любви, которая подарит ей лишь жалкое счастье быть самой собой. Она больше не предпримет никаких мер против пожара, но и не будет страдать от своей заброшенности, от безделья; огонь, сжигающий ее изнутри, поглотит ее всецело. Невидимый демон нашептывал ей: «Ты погибнешь, но больше не будешь скучать».
Самое удивительное в грозе не хаос, а тишина, оцепенение, в которое она повергает окружающий мир. Сквозь оконные стекла Мария видела листву, неподвижную и словно намалеванную. В подавленности деревьев было что-то человеческое: можно было подумать, что им знакомы бесчувствие, остолбенение, сон. Мария дошла до того предела, когда страсть становится наваждением, она бередила свою рану, раздувала в себе огонь: любовь становилась для нее удушьем, спазмой, которую она ощущала то в горле, то в груди. Письмо Ларусселя вызвало у нее дрожь отвращения. Ах, одна мысль о близости с ним... впредь этого не будет, совсем... До его приезда еще две недели... Она успеет умереть. Она жила Раймоном, мыслями о нем и воспоминаниями, которых сама стыдилась: «Я смотрела на кожаный ободок его шапки, там, где он касается лба... вдыхала запах его волос...» А удовольствие видеть его лицо, его шею, его руки... Отчаяние принесло ей невообразимый покой. Иногда у нее мелькала мысль, что ведь он жив, что ничего еще не потеряно, что, может быть, он все-таки придет. Но тут же, словно надежда пугала ее, Мария спешила вернуться к полному самоотречению, к спокойствию женщины, которой уже нечего ждать. С каким-то жутким наслаждением она углубляла пропасть между собой и тем, кого упорно считала непорочным: этот недоступный мальчик сиял так же далеко от нее и ее любви, как охотник Орион[12]. «Я, женщина уже пожившая, падшая, и он, еще не вышедший из детства; его чистота — это небо, разделяющее нас, и даже моей страсти не преодолеть этого расстояния». Все последние дни западный и южный ветры влекли за собой темные легионы туч и раскаты грома, готовые уже обрушиться на землю, но вдруг медлили, огибали зачарованные вершины и исчезали, оставляя после себя такую свежесть, словно уже излились дождем.
В ночь с пятницы на субботу дождь наконец шелестел не переставая. Благодаря снотворному Мария спокойно встретила благоуханное дуновенье, которым пахнуло из сада на ее измятую постель, и погрузилась в сон.
Солнечным утром, сладко потягиваясь в постели, она удивилась тому, что накануне так страдала. Что это еще за блажь? Зачем все истолковывать к худшему? Мальчик жив, он ждет только знака. После пережитого кризиса Мария вновь почувствовала себя трезвой, уравновешенной и, пожалуй, разочарованной. «Только и всего? Да он придет, — размышляла она, — для верности я ему напишу, и я его увижу». Ей надо было во что бы то ни стало столкнуть свое страдание с предметом этого страдания. Она постаралась внушить себе представление об обыкновенном безобидном мальчике и удивилась, что не дрожит больше при мысли о том, как его голова будет покоиться у нее на коленях. «Напишу доктору, что познакомилась с его сыном (знала, что не напишет). Почему бы и нет? Что мы с ним делаем плохого?» После полудня она вышла в сад, блестевший лужами; она была действительно спокойна, слишком спокойна, так что даже ощущала какой-то смутный страх: если в нас ослабевает страсть, значит, мы ближе к небытию; уйдет любовь, и ей нечем будет скрыть пустоту своей жизни. Она пожалела, что погуляла по саду всего каких-нибудь пять минут, и прошлась еще раз по тем же аллеям, потом поспешила домой, так как во влажной траве у нее промокли ноги... Надев шлепанцы, растянулась на кушетке, закурила, взялась за книгу, но что такое? Все ей было неинтересно. Она опять вышла в сад. И, бросив взгляд на окна дома, вдруг увидела за стеклом гостиной Раймона.
Он прижался к стеклу лицом и забавлялся, расплющивая нос. К сердцу ее прихлынула волна — была ли это радость? Она взошла по ступенькам крыльца, думая о том, что здесь только что ступали его ноги, распахнула дверь, поглядев на щеколду, которой только что касалась его рука, медленно пересекла столовую, пытаясь придать лицу подобающее выражение.
Раймону не повезло, что он пришел именно после тех дней, когда Мария так пылко мечтала о нем и так страдала. В первые минуты она была растерянна — ей не удавалось сразу заполнить теперешнюю пустоту между былым безмерным волнением и тем, кто был его причиной. Она не отдавала себе отчета в своем разочаровании, хотя уже испытывала его, о чем свидетельствовал ее вопрос:
— Вы из парикмахерской?
Мария еще никогда не видела его таким: слишком коротко подстриженные, напомаженные волосы... Она коснулась рукой белого шрама на виске:
— Это я упал с качелей, — сказал он, — мне тогда было восемь лет.
Она присматривалась к нему, пытаясь соразмерить этого сильного и в то же время тощего мальчика, этого большого щенка со своим желанием, своей болью, своим голодом, своим отречением. Из тысячи чувств, всколыхнувшихся в ней с его приходом, все, что еще можно было спасти, едва сосредоточилось вокруг этого напряженного покрасневшего лица. Но она не замечала недвусмысленного выражения его глаз, горевшей в них отчаянной решимости робкого юноши, твердо решившего победить, труса, осмелившегося действовать. Он еще никогда не казался ей таким ребенком, и она с властной нежностью повторяла ему то, что так часто говорила своему Франсуа:
— Хотите пить? Я вам сейчас дам смородинного сиропу, только сперва немного остыньте.
Она указала ему на кресло, но он присел на кушетку, на которой уже устроилась Мария, и уверял ее, что если чего и жаждет, то не сиропа. Она натянула юбку на свои приоткрывшиеся ноги, что вызвало у него восклицание:
— Какая жалость!
Тогда она поднялась и села рядом с ним; он спросил, почему она не осталась лежать:
— Надеюсь, вы меня не боитесь?
Эти слова напомнили Марии, что она и в самом деле боится, но чего? Это же Раймон Курреж, мальчик Курреж, сын доктора.
— Как поживает ваш почтенный отец?
Он пожал плечами, выпятил нижнюю губу. Она предложила ему сигарету, но он отказался; закурила сама и, опершись локтями о колени, сказала:
— Да, вы мне говорили, что не особенно дружите с отцом, это в порядке вещей: отцы и дети... Когда Франсуа, бывало, устраивался у меня на коленях, я думала: пользуйся, пока можно, долго это не продлится.
Мария Кросс заблуждалась насчет того, что означало у Раймона пожимание плечами и надутые губы. В эту минуту он хотел отогнать воспоминание об отце — не потому, что тот был ему безразличен, а наоборот: после того, что произошло между ними позавчера, воспоминание это стало неотвязным. После обеда доктор догнал Раймона в виноградниках, где тот в одиночестве расхаживал по дорожке и курил, и молча пошел с ним рядом, как человек, который подавляет в себе желание что-то сказать. «Что ему от меня надо?» — думал Раймон, предаваясь жестокому удовольствию молчать ему назло, как молчал осенними утрами в карете с мутными от дождя стеклами. Он даже со злорадством ускорил шаг, убедившись, что отец едва за ним поспевает и уже немного отстал. Но, перестав вдруг слышать позади себя его дыхание, Раймон обернулся: черный силуэт доктора неподвижно застыл посреди дорожки, обе руки он прижимал к груди и пошатывался, будто пьяный; сделав несколько шагов, он тяжело осел между кустами. Раймон бросился возле него на колени: прислонив его безжизненную голову к своему плечу, он увидел вблизи лицо с закрытыми глазами, белые, как мел, щеки. «Ну что ты, что ты, папочка!» Этот голос, одновременно молящий и властный, привел больного в чувство, словно в нем заключалась целебная сила. Еще дыша с трудом, он попытался улыбнуться — улыбка вышла смущенной. «Ничего, ничего, это пустяки...» Он видел встревоженное лицо сына, слышал его голос, такой же нежный, как в ту пору, когда Раймону было восемь лет. «Прислонись головой ко мне. У тебя нет чистого носового платка? Мой грязный». И Раймон осторожно отер отцовское лицо, начинавшее оживать. Вновь открывшиеся глаза доктора увидели сначала волосы сына, которые чуть шевелил ветер, потом тугую гроздь винограда, а надо всем — желтовато-серое небо, где что-то грохотало, словно камни сыпались из невидимых тележек. Опираясь на руку сына, доктор направился к дому. На их щеки и плечи падал теплый дождь, но идти быстрее было нельзя. Доктор сказал Раймону: «Это ложная грудная жаба, но она причиняет такие же боли, как настоящая... Я сделаю вид, будто у меня отравление, и два дня полежу в постели без еды, на одной воде. Только ни слова бабушке и маме...» А когда Раймон перебил отца: «Ты меня не обманываешь? Ты уверен, что это несерьезно? Поклянись, что это несерьезно», — доктор тихо спросил: «Ты огорчился бы, если бы я...» Но Раймон не дал ему закончить: он обхватил рукой дрожащее от напряжения тело, и у него вырвался крик: «Какой же ты глупый!» Со временем доктор будет вспоминать эту милую грубость, вспоминать в тяжелые минуты, когда сын станет для него чужим, станет противником с глухим сердцем, не отвечающим на зов. Вдвоем они вошли в гостиную, но отец так и не осмелился поцеловать сына.
— Может быть, поговорим о чем-нибудь другом? Я ведь пришел сюда не затем, чтобы говорить о своем отце! У нас найдется занятие поинтересней... Разве нет?
Раймон выбросил вперед большую неуклюжую лапу, которую Мария схватила на лету и осторожно придержала.
— Нет, Раймон, нет, вы его не знаете, потому что живете рядом с ним. Хуже всего мы знаем своих близких... Мы доходим до того, что перестаем видеть тех, кто нас окружает. Представьте себе, в моей семье меня всегда считали уродиной, потому что в детстве я немножко косила. А в лицее, к великому моему удивлению, подруги сказали мне, что я хорошенькая.
— Вот-вот, расскажите мне какие-нибудь истории про женский лицей.
Навязчивая идея старила его лицо. Мария не решалась отпустить его большую руку, хотя чувствовала, как она становится влажной, — это вызывало у нее отвращение, а ведь несколько минут назад она бледнела от одного прикосновения этой руки. Теперь же, продержав ее секунду, она готова была закрыть глаза и отвернуться, — рука была мягкая и потная.
— Ладно! Я вас заставлю узнать доктора получше, я упрямая!
Он перебил ее, заявив, что и он тоже упрямый.
— Смотрите, я поклялся, что сегодня я добьюсь своего.
Он сказал это так тихо, запинаясь, что ей нетрудно было сделать вид, будто она не расслышала. Но она все же отодвинулась от него подальше, потом встала, открыла окна
— И не скажешь, что прошел дождь, такая духота. Впрочем, я слышу вдали гром... Если только это не пушка Сен-Медарда.
Она показала ему над деревьями косматую темную тучу, неровные края которой были позолочены солнцем. Но он вдруг с силой схватил ее за руки пониже локтя, толкнул к кушетке. Она вымученно засмеялась: «Пустите меня!» — и чем сильнее она отбивалась, тем веселее смеялась, давая понять, что эта борьба не более как игра, что она понимает ее именно так. «Дрянной мальчишка, да пустите же меня...» У него на лице застыла гримаса смеха, и, отступая к дивану, она видела совсем близко бесчисленные капельки пота на низком лбу, крылья носа, усеянные черными точками, ощущала кислый запах изо рта. Незадачливый молодой фавн вознамерился одной рукой удержать оба ее запястья, но Мария высвободилась одним рывком. Теперь их отделяли друг от друга кушетка, стол и кресло. Она немножко запыхалась, но заставила себя засмеяться:
— Так вы полагаете, мой мальчик, что женщину берут силой?
Он не смеялся — униженный юный самец был в ярости от своего поражения. Его животное самолюбие, и в те времена уже непомерное, было глубоко ранено и сочилось кровью. Всю жизнь он будет помнить об этой минуте, когда женщина сочла его отвратительным (чего вовсе не было), да еще и смешным. Все его будущие победы, все его жертвы, покорные и жалкие, не смогут смягчить жгучую боль этого первого унижения. Долгое время при одном воспоминании об этом он будет до крови кусать себе губы, по ночам впиваться зубами в подушку. Раймон Курреж сдерживает слезы ярости, бесконечно далекий от мысли, что улыбка Марии Кросс может быть притворной и она вовсе не хочет оскорбить обидчивого мальчика, а лишь пытается не выдать своего смятения, краха своей мечты. Ах, только бы он ушел! Скорей бы остаться одной!
Совсем недавно Раймон удивлялся, что рядом с ним сидит знаменитая Мария Кросс, и повторял про себя: «Эта маленькая женщина, такая простая, и есть Мария Кросс». И ему надо было только протянуть руку: она была здесь, рядом, покорная, вялая, он мог взять ее, повалить, овладеть ею, — и он протянул руку, но этого жеста оказалось достаточно, чтобы между ним и Марией пролегла пропасть. Да, она все еще была здесь, но безошибочным чутьем он понял, что отныне ему никогда до нее не дотронуться, как не дотронуться до звезды. Именно теперь он увидел, что она красива: всецело занятый мыслью о том, как сорвать и вкусить этот плод, ни секунды не сомневаясь в том, что плод предназначен ему, он даже толком не разглядел ее, — что ж, теперь тебе остается пожирать ее глазами.
Она повторяла — мягко, боясь, чтобы он не рассердился, но непреклонно: «Мне надо побыть одной, Раймон... поймите, я должна остаться одна...» Доктор страдал оттого, что Мария не дорожила его присутствием, но Раймон познал страдание еще горшее — желание любимой женщины во что бы то ни стало избавиться от нашего присутствия, желание, которого она уже ничем не маскирует, не в силах скрыть, она выбрасывает, извергает нас... Для нее жизненно важно, чтобы мы ушли, она жаждет предать нас забвению: «Поторопись исчезнуть из моей жизни...» Она разве что не выталкивает нас — боится сопротивления. Мария Кросс подала Раймону его шапку, открыла дверь, пропустила его вперед, а у него было только одно стремление — испариться, он бормотал какие-то глупые извинения, сгорал со стыда, снова став подростком, который отвратителен самому себе. Но едва лишь он очутился на улице и калитка за ним захлопнулась, как он нашел наконец слова, которые надо было бросить в лицо этой шлюхе... Слишком поздно! И долгие годы его мучила мысль, что он ушел, не высказав ей всего, чего она заслуживала.
* * *
В то время как на улице Раймон облегчал свою душу всевозможными ругательствами, какими бы он хотел, но не осмелился осыпать Марию Кросс, молодая женщина закрыла двери, закрыла окно и легла. Высоко над деревьями какая-то птица то и дело издавала прерывистый зов, подобный невнятным вскрикам спящего человека. Предместье полнилось звоном трамваев, гудками; улицы оглашали песни подвыпивших субботних гуляк. Однако Марию Кросс душила тишина — тишина, которая подступала к ней не извне, а поднималась из самой глубины ее существа, скоплялась в пустой комнате, наполняла дом, сад, город, мир. И посреди этой удушающей тишины жила она, созерцая в себе пламя, внезапно лишенное всякой пищи и все-таки не угасавшее. Чем питался этот огонь? Она вспомнила, как, бывало, на исходе ее одиноких бдений черные головешки в очаге, который она считала погасшим, озарялись последней вспышкой. Она искала обожаемое лицо мальчика из шестичасового трамвая и не находила его.
Теперь это был просто дрянной, злой мальчишка, одуревший от робости и сам себя подстегивающий, — образ настолько же далекий от истинного Раймона, как и тот, что был приукрашен ее любовью. Она ополчилась против того, кого сама же преобразила и обоготворяла: «И из-за этого паршивого юнца я то страдала, то возносилась на седьмое небо...» Мария не знала, что этому незрелому подростку довольно было одного ее взгляда, чтобы превратиться в мужчину, чье коварство, чьи ласки и грубость со временем испытают на себе многие другие женщины. Если она создала его своей любовью, то, презрев его, завершила свое творение: она пустила в свет юношу, для которого стало манией доказывать самому себе, что против него нельзя устоять, даром что какая-то Мария Кросс и устояла. Отныне во все его любовные похождения будет подмешиваться глухая враждебность, желание ранить, заставить свою подружку молить о пощаде. Всю свою жизнь он будет вызывать на глазах других женщин слезы Марии Кросс. И хотя этот инстинкт охотника был у него, несомненно, врожденным, не будь Марии, какая-нибудь слабость могла бы его укротить.
«Из-за этого уличного мальчишки...» Какая гадость! И все-таки в ней продолжало гореть неугасимое пламя, хотя его больше ничто не поддерживало. Ни один человек в мире не будет обласкан этим светом, этим теплом. Куда податься? На монастырское кладбище, где покоится прах Франсуа? Нет, нет, сознайся себе, что возле покойника ты ищешь только алиби. Она так усердно посещала мальчика на кладбище ради сладостных минут, которые проводила на обратном пути рядом с другим, живым мальчиком. Лицемерка! На могиле ей нечего делать, нечего сказать; каждый раз она наталкивалась на нее, словно на дверь без замка, заколоченную навеки. Все равно, что стать на колени прямо посреди улицы... Ее мальчик, ее Франсуа, всегда готовый засмеяться или заплакать, стал горсточкой праха... О ком ей мечтать рядом с этим прахом? О зануде-докторе? Нет, он ей не нужен. Но что пользы в стремлении к самосовершенствованию, если нам на роду написано, чтобы все наши начинания, при самых благих намерениях, казались двусмысленными? Когда Мария гордилась достижением какой-нибудь цели, злое начало в ней ухитрялось обратить это достижение к своей выгоде.
Она никого не желает видеть и никуда не стремится из этой гостиной с рваными портьерами. Может быть, в Сен-Клер? Ее детство в Сен-Клере... Ей вспоминается парк, куда она прокрадывалась, когда уезжало некое религиозное семейство — враги ее матери. Казалось, будто природа дожидалась их отъезда после пасхальных каникул, чтобы сорвать с почек их коричневое облачение. Поднимались папоротники и своей раскидистой пушистой зеленью закрывали нижние ветви дубов, но сосны покачивали все теми же седоватыми макушками, и можно было подумать, будто им нет никакого дела до весны, — пока однажды утром и они тоже не выпускали желтоватое облако пыльцы — дыхание своей любви. Мария находила где-нибудь на повороте аллеи то сломанную куклу, то платок, зацепившийся за терновник. Но теперь она чужая в тех местах и не нашла бы там ничего, кроме песка, на котором когда-то лежала, растянувшись на животе.
Когда Жюстина возвестила, что обед готов, Мария привела в порядок волосы, села за стол и подвинула к себе дымящийся суп. Служанка и ее муж очень хотели через полчаса попасть в кинематограф, и Мария вскоре осталась в одиночестве у окна гостиной. Липа еще не цвела и не благоухала; подняв глаза, Мария увидела уже покрытые тенью рододендроны. Из страха перед небытием, чтобы не захлебнуться, она ищет соломинку, за которую можно было бы ухватиться. «Я поддалась, — размышляет она, — инстинктивному побуждению бежать, которое почти все мы испытываем перед человеческим лицом, искаженным голодом и нуждой. И вот ты уверяешь себя, что эта скотина — совершенно иное существо, нежели мальчик, которым ты восхищалась, — нет, это все тот же мальчик, но в маске: как у беременных женщин бывает на лице маска раздражения, так у мужчин, одержимых страстью, вылезает наружу и пристает к лицу морда сидящего в них животного, часто мерзкая и всегда страшная. Галатея[13] бежит от того, кто ее напугал, и в то же время зовет его... Я мечтала о долгом пути, о неспешном продвижении вдвоем от умеренных широт к более знойным, но этот грубиян понесся вперед без оглядки... Почему я не уступила его страсти? Вот когда бы я обрела невыразимый покой, а быть может, и нечто большее... Наверное, нет такой пропасти между людьми, которую не могла бы заполнить любовь... Какая любовь?» Она вспоминает, и рот ее искажается гримасой отвращения, вырывается возглас «фу-у-у!» — ее осаждают назойливые картины: она видит, как от нее, весь красный, бранясь, отходит Ларуссель: «Какого рожна тебе еще надо?»
Чего же ей, в самом деле, надо? Она бродила по пустой комнате, облокачивалась на подоконник, мечтала о такой необычайной тишине, когда она могла бы почувствовать в себе любовь еще до того, как та промолвит хоть слово — и все же любимый услыхал бы ее, он уловил бы в ней желание прежде, чем оно зародилось бы в нем самом. Всякая ласка предполагает преодоление расстояния между двумя существами. Но она и ее любимый так бы слились воедино, что объятье бы им не понадобилось — то краткое объятье, которое расторгается стыдом... Стыдом? Ей показалось, будто она слышит смех этой девки, Габи Дюбуа, и слова, что та однажды ей выплеснула: «Да нет же, нет, что вы говорите! Наоборот, только это одно и прекрасно, только в этом одном нет обмана... В моей собачьей жизни это единственное утешение...» «Откуда у меня такое отвращение к этому? Есть ли ему какое-то объяснение? Свидетельствует ли оно об особом влечении к кому-то единственному?» Сотни путаных мыслей возникали у Марии и потом исчезали, словно падающие звезды, пропавшие болиды в пустынной лазури над ее головой.
«Свойство моей натуры, — рассуждает Мария, — не есть ли это общее свойство? Нельзя быть на свете более одинокой, когда ты без мужа, без детей, без друзей, но что такое это одиночество в сравнении с той изоляцией, от которой не может тебя избавить и самая нежная семья, изоляцией, в которой мы оказываемся, обнаружив в себе признаки особой породы, уже почти исчезнувшей, и пытаемся истолковать ее инстинкты, ее потребности, ее таинственные цели? Ах, хватит изводить себя этим самокопанием!» Если на небе еще чуть брезжил остаток дня и отблеск нарождающейся луны, то под затихшей листвой деревьев сгущались сумерки. Свесившись в ночной сад, привлеченная печалью растений и захваченная этой печалью, Мария Кросс поддалась не столько желанию испить из воздушного потока, запруженного ветвями, сколько искушению потеряться, раствориться в этом потоке, — чтобы пустыня внутри нее наконец-то слилась с пустыней вселенной, чтобы молчание внутри нее стало неотличимо от молчания сфер.
X
Между тем Раймон Курреж, извергнув по пути все ругательства, которыми он так и не осыпал Марию Кросс, испытывал жгучую потребность запачкать ее еще больше; вот почему, едва вернувшись домой, он пожелал увидеть отца. Как доктор ему и говорил, он решил два дня провести в постели, не принимать никакой пищи и пить только воду, к несказанной радости своей матери и жены. Только ложной грудной жабы было бы мало, чтобы заставить его на это решиться: ему хотелось испытать на себе действие такого метода лечения. Накануне вечером у него побывал Робинсон.
— Я предпочла бы Дюлака, — сказала г-жа Курреж, — но как-никак Робинсон тоже врач, он может выслушать.
Робинсон неслышно, по стеночке, проскользнул в дом, украдкой поднялся по лестнице, все время боясь столкнуться лицом к лицу с Мадленой, хотя они даже не были помолвлены. Доктор, — глаза закрыты, голова легкая и до странности ясная, тело свободно покоится под тонким одеялом, согретое дневным теплом, — без усилий следовал путями своих мыслей, и ум его блуждал на этих путях, петляющих и запутанных, как собака, бывает, прочесывает кустарники вокруг хозяина, который гуляет, но не охотится. Доктор без устали сочинял статьи, которые оставалось лишь написать, последовательно, пункт за пунктом, отвечал на критику, вызванную его последним сообщением в биологическом обществе. Присутствие матери было ему приятно, но и присутствие жены — тоже, и было приятно это отметить; отдыхая, наконец, после изнурительной гонки, он не противился обществу Люси, его восхищало, как его мать стушевывалась, чтобы избежать конфликтов с невесткой; две женщины без спора поделили между собой добычу, на время вырванную у работы, у науки, у неведомой любви, — и он не сопротивлялся, он прислушивался к малейшему их слову, его мир сужался соразмерно их миру. И вот он уже хотел знать, твердо ли Жюли решила уйти или все-таки можно надеяться, что она поладит со служанкой Мадлены. И чья бы рука ни ложилась ему на лоб, рука матери или жены, он снова чувствовал себя защищенным, как в детстве, когда ему случалось заболеть; он радовался тому, что умрет не в одиночестве; он думал, что нет ничего проще, чем смерть в такой вот комнате с привычной мебелью красного дерева, где твоя мать, твоя жена принуждают себя улыбаться, и горечь последней минуты будет подслащена ими, как подслащивается всякое горькое лекарство. Да, умереть запеленатым в эту ложь, зная, что тебя обманывают...
В комнату вдруг хлынул свет; вошел Раймон, ворча: «Ни черта не видно», — и приблизился к лежащему отцу — единственному человеку, перед которым он мог сегодня вечером очернить Марию Кросс: он уже ощущал во рту вкус тех гадостей, которые собирался выплюнуть. Больной сказал: «Поцелуй меня». И с любовью взглянул на сына, который позавчера вечером на дорожке в винограднике вытирал ему лицо. Но, войдя со света в полумрак этой комнаты, подросток плохо различал отцовские черты и спросил сухим тоном:
— Помнишь наш разговор про Марию Кросс?
— Да, а что?
В этот миг Раймон, наклонившийся над распростертым телом отца, словно для того, чтобы поцеловать его или пырнуть ножом, увидел пару глаз, с тревогой прикованных к его губам. Он понял, что отец тоже страдает. «Я это знал, — подумал он, — с того вечера, когда он обозвал меня вруном...» Раймон не чувствовал ревности — ему было трудно представить себе, что его отец мог когда-либо быть любовником; ревности он не чувствовал, только непонятное желание заплакать, к которому примешивались раздражение и насмешка: этот жалкий вид — бледные щеки, поросшие редкой бородой, и этот сдавленный, умоляющий голос:
— Так что же? Что ты знаешь? Говори скорей.
— Папа, мне все наврали, ты, конечно, лучше знаешь Марию Кросс, я непременно хотел тебе это сказать. А теперь отдыхай. Какой ты бледный! Ты уверен, что эта диета тебе полезна?
Раймон с изумлением слышит собственные слова — прямо противоположные тем, которые он собирался выкрикнуть. Он кладет руку на горячий, печальный лоб отца — ту самую руку, которую только что держала Мария Кросс. Доктор находит эту руку прохладной, он боится, что сын ее снимет.
— Мое мнение о Марии сложилось уже давно...
Он приложил палец к губам, так как в комнату вернулась г-жа Курреж. Раймон бесшумно удалился.
Мать доктора внесла керосиновую лампу (потому что при его слабости от электричества у него могли заболеть глаза) и, поставив ее на комод, приспустила абажур. Этот скудный свет, свет былых времен, воссоздавал таинственный мир уже не существующих комнат, где тусклый светильник боролся с густою тьмой комнат, заставленных мебелью, едва различимой во мраке. Доктор любил Марию, но был от нее оторван: он любил ее, как должны любить нас умершие. Эта любовь соединяла в себе все его былые увлечения, с юношеских лет... Прослеживая свой путь, доктор убедился, что его всегда захватывало одно и то же чувство, похожее на то, от которого он только что перестал страдать. Он мог бы восстановить унылый ряд пережитых мук, перечислить имена тех, в кого был влюблен, почти всегда безответно... А ведь когда-то он был молод... Нет, не только возраст отделял его от Марии Кросс, он и в двадцать пять лет столь же мало был способен преодолеть пустыню между собой и этой женщиной. Он вспомнил, как, едва окончив коллеж, в возрасте Раймона был влюблен без всякого проблеска надежды. Таково уж было свойство его натуры — неспособность покорить тех, кого он обожал, и никогда он не сознавал этого более отчетливо, чем в случаях полууспеха, когда ему удавалось привлечь к себе вожделенный предмет, но вблизи тот вдруг оказывался жалким, ничтожным, совершенно несоизмеримым с тем, что доктор перечувствовал, перестрадал из-за него. Нет, не в зеркале надо было ему искать причину своего одиночества — одиночества, которое, видимо, суждено ему до смертного часа. Другие мужчины, такие, каким был его отец, каким, несомненно, станет Раймон, до старости остаются верны своей натуре, повинуются своему любовному призванию, а он с юных лет повиновался своей одинокой судьбе.
Когда обе женщины спустились в столовую к обеду, до него донеслись звуки его детства: стук ложек о тарелки; но для его слуха и для его сердца ближе был шелест листвы во мраке, стрекотанье кузнечиков, кваканье лягушек, довольных тем, что пролился дождь. Потом мать и жена вернулись к нему.
— Ты, наверно, очень ослабел, — сказали они.
— Я не смог бы держаться на ногах.
Но поскольку диета была лечебным средством, его слабость их не пугала.
— Тебе, наверно, хотелось бы поесть...
Благодаря слабости он вновь чувствовал себя ребенком. Женщины разговаривали вполголоса, доктор расслышал произнесенное имя, спросил:
— Разве это была не барышня Малишек?
— Так ты нас слышишь?.. Я думала, ты спишь... Нет, Малишек — это ее золовка, ее фамилия Мартен.
Но когда пришли Баски, доктор спал; он открыл глаза, лишь услыхав, как захлопнулись двери их комнат. Потом его мать свернула вязанье, тяжело поднялась, поцеловала его в лоб, в глаза, в шею и сказала:
— Жара у тебя нет...
Он остался наедине с г-жой Курреж, которая сразу начала причитать.
— Раймон опять уехал в Бордо с последним трамваем. Бог знает, в котором часу он вернется. У него было сегодня такое лицо! Можно испугаться... Когда он истратит деньги, подаренные ему к Новому году, он нам наделает долгов... Если уже не наделал...
Доктор произнес вполголоса:
— Нашему маленькому Раймону... уже девятнадцатый год... — и вздохнул, подумав о пустынных улицах ночного Бордо; ему пришел на память матрос, о чье распростертое тело он споткнулся однажды вечером; грудь и лицо у него были залиты вином и кровью.
На верхнем этаже еще раздавались шаги... возле служб бешено лаяла собака... Г-жа Курреж прислушалась:
— Кто-то идет... Это не может быть Раймон, собака бы сразу успокоилась.
Кто-то подходил к дому, но нисколько не таясь, а наоборот, стараясь привлечь к себе внимание. В ставни застекленной входной двери постучали. Г-жа Курреж высунулась из окна.
— Кто там?
— Нужен доктор, очень срочно.
— Доктор Курреж ночью не выезжает, вы это прекрасно знаете. Ступайте в деревню, к доктору Ларю.
Но пришелец, державший в руке фонарь, настаивал. Доктор, еще сонный, крикнул жене:
— Скажи ему, что ничего не поделаешь... Какой был бы смысл жить за городом, если все равно надо беспокоиться по ночам...
— Нет, мосье, это невозможно, мой муж выезжает только на консультации... Кроме того, у него есть условие с доктором Ларю...
— Но, мадам, речь идет о его пациентке, здесь, по соседству... Когда он узнает, кто она, он придет. Это мадам Кросс, мадам Мария Кросс — она упала и разбила себе голову.
— Мария Кросс? Почему вы думаете, что ради нее он скорее побеспокоится, чем ради кого-нибудь другого?
Но доктор, едва услыхав это имя, встал и, слегка отстранив жену, высунулся в окно:
— Это вы, Маро? Я не узнал вашего голоса... Что случилось с вашей госпожой?
— Она упала, мосье, и разбила голову... Она бредит и зовет господина доктора...
— Через пять минут... я только оденусь...
Он закрыл окно и стал искать свои вещи.
— Ты собираешься туда идти?
Он не ответил, только вполголоса пробормотал, обращаясь к самому себе:
— Куда запропастились мои носки?
Жена протестовала: он же только сию минуту объявил, что ни за какие деньги не будет выезжать ночью! Почему же вдруг такая перемена? Он на ногах не держится, того и гляди свалится от слабости.
— Речь идет о моей пациентке, ты понимаешь, что раздумывать не приходится.
Она повторила саркастическим тоном:
— Да, я понимаю, долго не понимала, но теперь понимаю.
До этой минуты г-жа Курреж еще не подозревала мужа и не старалась его уязвить. Но он, уверенный в своем окончательном избавлении, в своем отречении от любви, не уловил насмешки. После той мучительной страсти, которую он преодолел, нынешняя нежная тревога казалась ему как нельзя более безобидной и похвальной. Он не подумал о том, что его жена не имеет возможности сравнивать прежние его чувства к Марии Кросс с нынешними, как сравнивал он сам. Два месяца тому назад он не посмел бы открыто показать свою тревогу, как показывал ее сейчас. Когда мы сгораем от любви, то инстинктивно стараемся ее скрыть, но стоит нам лишь отказаться от ее радостей, стоит лишь смириться с вечным голодом и жаждой, как мы полагаем, что теперь-то уж нам незачем утруждать себя притворством.
— Нет, бедная моя Люси, все это от меня теперь далеко... Со всем этим покончено. Да, я очень привязан к этой несчастной, но ничего такого здесь нет...
Он оперся о кровать, пробормотав: «Это верно, я хочу есть», — и попросил жену сварить ему на спиртовке шоколад.
— И ты полагаешь, что в такое время я могу достать молоко? На кухне, наверно, даже хлеба не найдется. Ничего, когда ты подлечишь эту особу, она приготовит тебе легкий ужин... Не даром же ей тебя беспокоить!
— До чего же ты у меня глупа, бедняжка! Если бы ты знала!
Она взяла его за руку и сказала прямо в лицо:
— Ты сказал: «Со всем этим покончено... все это далеко от меня». Значит, между вами что-то было? Что? Я имею право знать. Я ни в чем не стану тебя упрекать, по я хочу знать.
Доктор запыхался; обуваться ему пришлось в два приема. Он пробурчал:
— Я говорил вообще. Это не относилось к Марии Кросс. Полно, Люси, ты меня просто не поняла.
Но она восстанавливала в памяти истекшие два месяца. Ах, наконец-то разгадка найдена! Все теперь объяснилось, все ей стало ясно.
— Поль, не ходи к этой женщине. Я никогда от тебя ничего не требовала... Ты можешь мне в этом уступить.
Он мягко возражал, что от него это не зависит. Он обязан пойти к больному пациенту, который, возможно, при смерти: ушиб головы может оказаться смертельным.
— Если ты помешаешь мне выйти, то будешь ответственна за ее смерть.
Она отпустила его, не найдясь, что ответить. Глядя ему вслед, она бормотала: «Может быть, это уловка, они сговорились», — потом вспомнила, что доктор со вчерашнего дня ничего не ел. Присев на стул, она прислушивалась к голосам в саду:
— Да, она выпала из окна... это, несомненно, несчастный случай: если бы она хотела покончить с собой, то навряд ли выбрала бы окно гостиной на антресолях... Да, она бредит. Жалуется на боль в голове... ничего не помнит.
Госпожа Курреж слышала, как ее муж велел человеку сходить в деревню за льдом: он может достать лед в гостинице или у мясника, кроме того, надо взять у аптекаря бром.
— Я пойду через Береговой лес. Это будет быстрее, чем если я велю закладывать карету...
— Фонарь вам не понадобится: при такой луне видно, как днем.
Доктор только вышел через задние ворота со стороны служб, как услышал, что его кто-то догоняет, прерывающийся голое позвал его по имени. Тогда он узнал жену, в халате, с заплетенными на ночь косами, — запыхавшись, не в силах говорить, она протянула ему кусок черствого хлеба и толстую плитку шоколада.
* * *
Он прошел через Береговой лес, где луна освещала поляны, но сквозь листву ее лучи проникнуть не могли, зато на дороге она царила полновластно и разлилась так широко, словно светом своим проложила себе русло. Хлеб с шоколадом напомнил доктору вкус его завтраков в пансионе — то был вкус счастливейших минут на рассвете, когда он отправлялся на охоту и его ноги омывала роса, — ему было тогда семнадцать лет. Оглушенный неожиданностью, он еще почти не чувствовал боли: «Если Мария Кросс умирает, из-за кого она хотела умереть? И хотела ли? Она ничего не помнит. Ах, до чего же они невыносимы, эти „ушибленные“, — никогда ничего не помнят и заволакивают тьмой решающий момент своей судьбы! Но расспрашивать ее нельзя: надо, чтобы ее мозг сперва мало-мальски начал работать... Помни — ты всего только врач у постели больной. Нет, это не самоубийство: когда хотят умереть, то не бросаются с антресолей.
Насколько я знаю, наркотиков она не принимает... Правда, однажды вечером в ее комнате пахло эфиром... но в тот вечер у нее была мигрень...»
Помимо снедавшей его тревоги где-то в глубинах сознания собиралась другая гроза — она разразится в свой час: «Эта несчастная Люси, она еще ревнует, какое убожество! Об этом будет время подумать позже. Вот я и пришел... Можно подумать, будто этот сад в лунном свете я вижу на сцене театра. Дурацкая декорация, как в "Вертере"... Криков не слышно». Главная входная дверь была приоткрыта. Доктор по привычке направился в пустую гостиную, но, спохватившись, вернулся и поднялся во второй этаж. Жюстина впустила его в комнату. Он подошел к кровати больной; стонущая Мария Кросс в эту минуту сбрасывала со лба компресс. Он не видел ее тела, обтянутого одеялом, тела, которое мысленно так часто раздевал. Не видел ни разметавшихся волос, ни оголенной руки — его заботило только одно: чтобы она его узнала, чтобы бред у нее был перемежающийся. Она несколько раз спросила: «Кто это пришел? Доктор? Что такое случилось?» Он констатировал: амнезия. И вот, склонившись над этой обнаженной грудью, легкое колыханье которой под платьем еще недавно приводило его в трепет, он слушает сердце, потом, осторожно касаясь пальцами раны на лбу, определяет ее границы. «Здесь больно, а здесь?.. а здесь?» Она ушибла также бедро, он немного отвернул одеяло, обнажив только пораженный участок, затем прикрыл его. Глядя на часы, сосчитал пульс. Это тело отдано ему для того, чтобы он его вылечил, а не для того, чтобы он им обладал. Его глаза знают, что им надлежит не восхищаться, а обследовать. Доктор жадно смотрит на страдающее тело, напрягая всю силу своего разума; его ясный ум ставит заслон безрадостной любви.
Мария стонала: «Больно... Ох, как больно...» Снимала компресс и требовала новый, тогда служанка смачивала полотенце в чайнике. Вернулся шофер — он принес ведерко льда, но когда доктор попытался положить Марии на лоб резиновый пузырь со льдом, она оттолкнула его и властным тоном потребовала горячий компресс.
— Поживей, пожалуйста, — прикрикнула она на доктора, — целый час надо ждать, пока вы что-нибудь сделаете!
Доктора очень заинтересовали эти симптомы, он их наблюдал и у других «ушибленных». Распростертое перед ним тело, чувственный источник его помыслов, его одиноких мечтаний и услад, вызывало у него теперь только сосредоточенное любопытство, только усиленное внимание. Больная перестала бредить, речь ее теперь лилась сплошным потоком. Доктор удивлялся, что Мария, которая обычно говорила с трудом, подолгу подыскивая слова, вдруг стала такой красноречивой, без всяких усилий находила самые точные выражения и научные термины. «Какая же это тайна — человеческий мозг, — размышлял доктор, — если от одного ушиба его мощь удесятеряется!»
— Нет, доктор, нет. Я вовсе не хотела умереть. Не смейте даже думать, что у меня было такое желание. Я ничего не помню, но одно знаю наверняка — я хотела не умереть, а уснуть. Я всегда стремилась к покою. Если кто-то хвастал, что довел меня до самоубийства, я запрещаю вам этому верить. Вы меня поняли: за-пре-ща-ю!
— Да, мой друг... Клянусь вам, что никто не хвастал... Приподымитесь чуть-чуть: проглотите-ка вот это — это бром... Он вас успокоит...
— Меня не нужно успокаивать... Я страдаю, но я спокойна. Уберите только лампу. Тем хуже, я испачкала постель. Возьму и опять опрокину ваше лекарство, если мне захочется...
А когда доктор спросил ее, не стало ли ей легче, она отвечала, что страдает сверх всякой меры, но не только из-за раны; и, возвысив голос, начала опять сыпать словами, вызвав у Жюстины замечание:
— Мадам как по книге читает.
Доктор велел ей идти отдыхать, он сам посидит до утра возле больной.
— Какой еще есть выход, кроме сна, доктор, я вас спрашиваю? Все для меня теперь так ясно! Я понимаю то, чего раньше не понимала... люди, которых мы, кажется, любили... любовь с неизменно жалким концом... теперь мне открылась истина... (Она сбросила рукой остывший компресс, и ее намокшие волосы прилипли ко лбу, словно от пота.) Нет, не любовные увлечения, а любовь — она в нас живет одна, единственная, и мы пытаемся соединить наши случайные находки — глаза и рты, вдруг да они подойдут друг к другу. Какое безумие надеяться, что ты достигнешь этой цели! Подумайте — между нами и другими людьми нет иного общения, кроме прикосновений, кроме объятий... и, наконец, сладострастия! Правда, мы прекрасно знаем, куда ведет эта дорога и для чего она проложена, — для продолжения рода, как говорите вы, доктор, исключительно для этого. Да, понимаете, мы следуем по единственно возможному пути, но он ведет не к тому, чего мы ищем...
Вначале доктор лишь краем уха прислушивался к этой речи, не пытаясь ее понять и только изумляясь этому сумбурному словоизвержению, как будто физического потрясения оказалось довольно, чтобы пробудить в ней дремавшие мысли.
— Доктор, надо любить наслаждение. Габи сказала: «Да нет же, милая Мария, представьте себе — это единственная вещь в мире, которая меня никогда не обманывала». Увы! Наслаждение доступно не всем... Я не создана для этого... Может быть, оно единственно способно заставить нас забыть о цели, которой мы ищем, и стать самой этой целью. «Поглупейте» — это легко сказать.
Доктор подумал: «Любопытно — она применяет к сладострастию наставление Паскаля, касающееся веры». Чтобы успокоить ее любой ценой и дать ей отдохнуть, он поднес ей ко рту ложку брома, но она оттолкнула ее, снова облив одеяло.
— Нет, нет, не желаю вашего брома: захотела и вылила на постель. Уж вы-то мне в этом не помешаете. — И без всякого перехода заявила: — Между мной и теми, кем я хотела обладать, вечно оказывается эта зловонная трясина, эта грязь, это болото... Они не могли понять... Они думали, я позвала их затем, чтобы мы вместе погрязли...
Губы ее шевелились, и доктору показалось, что она бормочет имена, фамилии, он наклонился к ней с жадным любопытством, но не услышал имени того, кто произвел в ней это смятение. На несколько секунд он забыл, что перед ним больная, он видел только лживую женщину и обрушился на нее с упреками:
— Ну вот! Значит, и вы такая же, как другие! Как другие, вы ищете только одного: наслаждения... Да, мы все, все ищем только этого...
Она вскинула свои прекрасные руки, закрыла ими лицо, застонала протяжно. Доктор пробормотал: «Что это со мной? Я сошел с ума!» Он сделал свежий компресс, налил опять ложку брома, чуть приподнял раненую голову. Мария наконец согласилась выпить лекарство. Немного помолчав, она сказала:
— Да, я тоже, я тоже. Но вы знаете, доктор, как бывает, когда видишь вспышку молнии и в ту же секунду раздается удар грома? Так вот, у меня наслаждение и отвращение смешиваются, как молния и гром, — они поражают меня одновременно. Я не знаю дистанции между наслаждением и отвращением.
Она немного успокоилась и перестала разговаривать. Доктор сел в кресло и бодрствовал, пытаясь разобраться в путанице мыслей. Он думал, что Мария заснула, но вдруг снова раздался ее голос, мечтательный и умиротворенный:
— Человек, с которым мы могли бы соединиться, владеть им — но не плотски... тот, кто владел бы нами...
Нетвердой рукой она сбросила со лба влажное полотенце. Воцарилась тишина, тишина уходящей ночи — время самого глубокого сна, когда звезды на небе передвинулись и мы их больше не узнаем.
«Пульс у нее ровный, она спит, как ребенок, который дышит так неслышно, что мы встаем проверить, жив ли он. Кровь прилила у нее к щекам, они порозовели. Это тело перестало страдать, боль уже не защищает его от твоего желания. Надо ли, чтобы твоя томящаяся плоть еще долго бодрствовала возле этой усыпленной плоти? Плотское счастье, — размышляет доктор. — Рай, открытый простакам. Кто сказал, что любовь — это радость бедняков? Могло ведь случиться и так, что именно я каждый вечер, окончив дневные труды, ложился бы рядом с этой женщиной, но это была бы уже не та женщина... Она родила бы мне уже нескольких детей... Ее тело носило бы на себе следы перенесенных мук и тех усилий, которые она изо дня в день тратила бы на домашнюю работу... Желания больше нет, есть только пошлая привычка... Однако уже светает! Служанка что-то не торопится!»
Доктор опасается, что не сможет дойти до дому. Он уговаривает себя, что это голод его так обессилил, он боится, как бы сердце не подвело, и считает его удары. Физический страх вытесняет у него любовную тоску, но судьба Марии Кросс, хотя этого еще ничто не предвещает, уже незаметно отделилась от его собственной: отданы швартовы, выбран якорь, корабль снялся с места, и, хотя люди еще не знают, что он отплыл, через час он станет всего лишь точечкой на горизонте. Доктор не раз замечал, что жизнь обходится без подготовительных церемоний: с юношеских лет почти все предметы его обожания исчезали внезапно, увлеченные другой привязанностью или, в лучшем случае, уехав насовсем из города, перестав писать. Не смерть отнимает у нас тех, кого мы любим, напротив того, — она их нам сберегает, задерживает в их пленительной юности. Смерть — это соль нашей любви; жизнь — вот от чего тает любовь. Завтра доктор будет лежать больной, а его жена — сидеть у изголовья кровати. За выздоровлением Марии Кросс будет наблюдать Робинсон, он и отправит ее на воды, в Люшон, потому что там обосновался его лучший друг и надо помочь ему создать клиентуру. Осенью г-н Ларуссель, которого дела часто призывают в Париж, надумает снять там квартиру, невдалеке от Булонского леса, и предложит Марии Кросс в ней поселиться, потому что, по ее словам, она предпочтет умереть, нежели вернуться в таланский дом с рваными коврами и дырявыми портьерами и опять сносить оскорбления бордосцев.
Когда в комнату вошла служанка, то будь доктор и не так слаб, — настолько, что ничто иное, кроме этой слабости, уже не занимало его мысли, — будь он даже полон жизни и сил, никакой внутренний голос не подсказал бы ему, чтобы он подольше глядел на спящую Марию Кросс. Ему не суждено было снова прийти в этот дом, но он этого не знал.
— Вечером я приду опять, — сказал он служанке. — Если она будет неспокойна, дайте ей еще ложку брома. — И так как он шатался и вынужден был держаться за мебель, чтобы не упасть, то в этот единственный раз, уходя от Марии Кросс, не оглянулся.
Он надеялся, что утренняя свежесть всколыхнет в нем кровь, но принужден был остановиться возле крыльца, зубы у него стучали. Как часто пробегал он весь этот сад за несколько секунд, летя навстречу своей любви, а теперь он видит вдалеке ворота и думает, что навряд ли сможет до них дотащиться. Он едва бредет сквозь туман, размышляет, не лучше ли вернуться, у него наверняка не хватит сил дойти до церкви, где он, возможно, нашел бы помощь. Вот наконец и ворота, за их решеткой карета, его карета, и сквозь поднятое стекло он видит застывшее, словно мертвое, лицо Люси Курреж. Он открывает дверцу, валится на жену и, положив голову ей на плечо, теряет сознание.
— Не волнуйся, Робинсон проделает в лаборатории все, что нужно, и будет вести твоих больных... Сейчас он в Талансе, ты знаешь, у кого... Не разговаривай.
Из своей безмерной усталости доктор наблюдает за суетой обеих женщин, догадывается о смысле их шепота. Он не сомневается в том, что серьезно болен, и нисколько не верит их заверениям: «Обыкновенный грипп, но при твоем нынешнем истощении он тебе совсем ни к чему...» Он хочет видеть Раймона, а Раймона никогда нет дома. «Он заходил, когда ты спал, но не захотел тебя будить». На самом деле лейтенант Баск уже три дня тщетно искал Раймона по всему Бордо, в тайну посвятили пока только одного сыщика-любителя: «Мало ли что может быть...»
Через шесть дней Раймон однажды вечером вошел в столовую во время ужина, — исхудавший, с закопченным лицом, с подбитым глазом. Он жадно набросился на еду, и даже девочки не посмели обратиться к нему с вопросами. У бабушки он спросил, где отец.
— Он загрипповал... Ничего страшного, но мы немножко беспокоимся за его сердце. Робинсон сказал, что не надо оставлять его одного. Мы с твоей мамой дежурим возле него ночью.
Раймон заявил, что сегодня его очередь. А когда Баск рискнул заметить: «Тебе бы лучше пойти спать, взгляни на свое лицо...» — он возразил, что совершенно не чувствует усталости, что все это время прекрасно спал.
— Знаете, кроватей в Бордо еще хватает.
Это было сказано таким тоном, что Баск потупил взгляд. Немного спустя доктор, открыв глаза, увидел, что возле него стоит Раймон. Он притянул его к себе и слабым голосом сказал: «От тебя пахнет мускусом... Мне ничего не нужно, ступай спать». Но около полуночи его вырвали из забытья шаги Раймона, ходившего взад-вперед по комнате. Юноша распахнул окно, высунулся и недовольно сказал: «Какая душная ночь...» Влетели мотыльки. Раймон снял пиджак, жилет и воротничок и уселся в кресло; через несколько минут доктор услышал его ровное дыхание. На рассвете доктор проснулся раньше того, кто взялся его оберегать, и удивленно воззрился на сына — голова Раймона свесилась, он не дышал, словно убитый сном. Рукав его рубашки был разорван, обнажая черную от грязи мускулистую руку, на которой выделялась татуировка — такая, какую делают себе моряки.
XI
Вертящаяся дверь маленького бара ни на минуту не останавливалась; вокруг танцующих пар сужалось кольцо столов, а под их ногами, словно шагреневая кожа, сжимался ковер линолеума: в такой тесноте танцы поневоле принимали вертикальное направление. Женщины, сидевшие на банкетках, смеялись, заметив у себя на руках, плотно прижатых к чужим рукам, пунцовый след нечаянной ласки. Женщина, которую звали Глэдис, и ее спутник закутались в меха.
— Так вы еще не идете?
Ларуссель заверил их, что они уйдут, когда все это начнет становиться слишком забавным. Засунув руки в карманы, поводя плечами и выставив вперед живот, он подошел к стойке, взгромоздился на табурет и рассмешил бармена и сидевших рядом с ним молодых людей, похвалившись, что знает рецепт возбуждающего коктейля. Оставшись одна за столиком, Мария отпила шампанского, поставила бокал. Равнодушная к присутствию Раймона, она улыбалась неопределенной улыбкой, поглощенная какой-то неведомой ему страстью, защищенная и отделенная от него всем тем, что накапливается в жизни человека за семнадцать лет. Раймон, нырнув в пучину этих ушедших лет, всплыл на поверхность слепой и оглохший. Пусть в хаосе прошлого ему неотъемлемо принадлежит всего лишь узкая дорожка, по которой он пробежал в густом мраке; принюхиваясь к земле, он шел своей тропой, невзирая на тех, кто встречался ему на пути. Но вдруг он очнулся от грез: сквозь толпу и дым Мария Кросс метнула на него быстрый взгляд и сразу отвернулась. Почему она даже не улыбнется ему? Раймон растерялся: под взглядом этой женщины, после стольких лет, в нем снова ожил подросток, каким он когда-то был, — робкий и неуклюжий от затаенного желания. Сердцеед Курреж, прославленный своей дерзостью, в этот вечер трепетал: с минуты на минуту Мария Кросс могла подняться, исчезнуть — неужели он так и не попытается ничего предпринять? Над ним тяготело роковое предопределение, по которому мы раз и навсегда становимся в глазах женщины лишь соединением произвольно выбранных элементов, и других она знать не желает. Против законов этой химии человек бессилен: когда бы мы с этой женщиной ни столкнулись, она видит в нас именно эти элементы, всегда одни и те же, от которых нам чаще всего хочется отделаться. Это наша беда — наблюдать, как любимое существо у нас на глазах составляет себе наш образ, пренебрегая нашими лучшими добродетелями, но извлекая на свет такую-то слабость, такой-то порок, такой-то смешной недостаток... И до тех, пор, пока она на нас смотрит, она навязывает нам свое видение, вынуждает нас считаться с ее узким представлением. И она никогда не узнает, что в глазах другой, чья привязанность для нас ничего не стоит, наша добродетель лучезарна, наш талант ослепителен, наша сила сверхъестественна, а наше лицо — лицо кумира.
Опять став под взглядом Марии Кросс стыдливым подростком, Курреж перестал помышлять о мести; теперь у него было скромное желание, чтобы этой женщине стали известны его любовные успехи и все его победы с того дня, когда, изгнанный из Таланса, он буквально сразу же был похищен и взят на содержание одной американкой, которая полгода продержала его в «Рице» (семья полагала, что он в Париже готовится к экзаменам в Центральное училище искусств и ремесел). Но ему кажется, что именно это и невозможно, невозможно явиться перед Марией Кросс иным, чем он явился в душной плюшевой гостиной, среди «роскоши и нищеты», в тот день, когда она твердила ему, отвернувшись: «Мне надо побыть одной, Раймон, поймите, я должна остаться одна».
Наступил час, когда обычно начинался отлив посетителей, оставались только завсегдатаи, которые, войдя сюда, в этот бар, сбрасывали с себя вместе с верхней одеждой и будничную тоску. Вот молодая женщина в красном платье кружится от радости, раскинув руки крыльями, а партнер обхватил ее за бедра: как они счастливы, эти бабочки-однодневки, вспорхнувшие ввысь; здоровенный американец покачивает в танце своей бритой головой, головой мальчугана; повинуясь какой-то прихоти, изобретает всевозможные па, моментами непристойные, а когда ему аплодируют, неуклюже раскланивается со счастливой детской улыбкой.
Виктор Ларуссель вернулся на свое место напротив Марии, время от времени он оборачивался и пристально смотрел на Раймона. Его широкое лицо раскраснелось от вина (кроме темно-бурых мешков под глазами), казалось, он ждет, чтобы с ним наконец поздоровались. Напрасно Мария умоляла его направить взгляд в другую сторону; в Париже Ларусселю было невыносимо одно — что там кругом незнакомые лица. У себя в городе он почти не встречал людей, самый вид которых не напомнил бы ему какое-то имя, какие-то связи, — людей, которых он не мог бы с первого взгляда отнести к определенному кругу — к тем, кому следует оказывать учтивость, или к отверженным, которых знаешь, но не приветствуешь.
Такая память на лица, которую историки приписывают лишь великим людям, более чем заурядна: Ларуссель помнил Раймона, потому что видел его когда-то в окне отцовской кареты и потому что ему случалось потрепать мальчика по щеке. В Бордо, где-нибудь на Интендантской улице он бы и виду не подал, но здесь, помимо того, что он не мог свыкнуться с унижением, что его никто не узнает, у него было еще тайное желание, чтобы Мария не оставалась одна за столиком, пока он заигрывает с двумя русскими девицами. Внимательно следивший за движениями Марии, Раймон предположил, что она пытается убедить Ларусселя не заговаривать с ним; он вбил себе в голову, что и через семнадцать лет она по-прежнему видела в нем неуклюжее и робкое животное. Молодой человек услышал, как бордосец ворчит: «А потому что я так хочу, вот и все». Его злое лицо расплылось в улыбке, и он подошел к Раймону с самоуверенностью человека, убежденного в том, что его рукопожатие — великая милость.
— Я не ошибаюсь? Вы ведь сын нашего славного доктора Куррежа, моя жена вас очень хорошо помнит — она вас знала мальчиком, в те времена, когда доктор ее лечил.
Не спрашивая, он взял бокал молодого человека и заставил его пересесть за их столик, рядом с Марией, которая быстро сунула руку Раймону и тут же отдернула.
Ларуссель на секунду присел, потом встал и бесстыдно спросил:
— Вы позволите, а?.. на минутку...
И вот он уже снова у стойки, рядом с двумя русскими девицами. Хотя он мог вернуться с минуты на минуту и Раймону надо было воспользоваться моментом, он хранил молчание. Мария отвернулась, — на него пахнуло запахом ее волос, и он с глубоким волнением заметил в этих коротких теперь волосах несколько сединок. Несколько? Быть может, тысячи... Рот, пожалуй, слишком большой, с полными губами, — плод, каким-то чудом еще не тронутый, — сосредоточил в себе всю чувственность этой женщины, зато ее глаза под высоким, открытым лбом лучились чистым огнем. Ах, что за важность, если волны времени помяли, исподволь источили, сделали дряблыми ее подбородок и шею! Не глядя на молодого человека, она сказала:
— Мой муж деликатностью не отличается...
Раймон сделал глупость, которой можно было бы ждать от восемнадцатилетнего: позволил себе выразить удивление, что она замужем.
— А вы не знали? Весь Бордо, между прочим, это знает!
Она решила замкнуться от Раймона в ледяном молчании, но, казалось, была сбита с толку, обнаружив, что на свете есть человек, притом житель Бордо, не знающий, что она теперь зовется г-жа Виктор Ларуссель. Он оправдывался тем, что уже много лет не живет в Бордо. Тут уж она не могла удержаться и нарушила обет молчания: г-н Ларуссель решился на этот шаг в первый послевоенный год... Он долго колебался из-за сына...
— Но именно Бертран, как только демобилизовался, упросил нас оформить брак. Я больше уже не настаивала — уступила более высоким соображениям...
Она добавила, что, конечно, осталась бы жить в Бордо, если бы...
— ...не Бертран, он учится в Политехническом, а господин Ларуссель проводит здесь каждые две недели, так что у мальчика есть домашний очаг.
Вдруг ей стало стыдно, что она разговорилась, разоткровенничалась; вновь напустив на себя отчужденный вид, она спросила:
— А как поживает наш милый доктор? Жизнь разлучает нас с самыми добрыми друзьями.
Как бы она была рада с ним увидеться! Но когда Раймон, поймав ее на слове, сказал: «Отец как раз сейчас в Париже, в „Гранд-отеле“, он будет счастлив...» — она резко отвернулась, притворившись, будто не слышала. Ему не терпелось ее позлить, пробудить в ней ярость, и он наконец набрался духу и осмелился затронуть больную тему:
— Вы на меня не сердитесь за ту мою выходку? Я был просто неотесанным мальчишкой, да еще таким наивным! Скажите мне, что вы больше не сердитесь!
— За что мне на вас сердиться? — Она сделала вид, что не понимает, потом сказала: — А, вы имеете в виду ту нелепую сцену... но мне вам нечего прощать, думаю, в те времена я была просто глупа. Принять всерьез такого юнца, каким вы были тогда! Сегодня мне эта история кажется совершенно не стоящей внимания! Вы не поверите, как все это теперь от меня далеко!
Он, несомненно, ее разозлил, хотя и не совсем так, как предполагал. Все, что напоминало прежнюю Марию Кросс, внушало ей отвращение, однако историю с Раймоном она считала теперь просто смешной. Ее беспокоило: вдруг он знает, что она пыталась покончить с собой... Нет, тогда он держался бы более нагло, не сидел бы таким скромником. Раймон предвидел все, кроме самого худшего — кроме равнодушия.
— Я была тогда целиком сосредоточена на самой себе и придавала значение всяким пустякам. Мне кажется, будто вы говорите со мной о какой-то другой женщине.
Раймон знал, что ярость, ненависть — суть продолжение любви; и если бы ему удалось пробудить их в Марии Кросс, его дело было бы не безнадежно, но он вызвал в ней только раздражение, только стыд, что она могла когда-то ввериться такому ничтожеству, так унизить себя! И она еще насмешливым тоном прибавила:
— И вы полагали, что подобные глупости могут играть в моей жизни какую-то роль?
Он пробурчал, что в его-то жизни они сыграли роль, — признание, которого он не делал даже самому себе и которое наконец-то вырвалось у него. Он не сомневался в том, что вся его судьба была отмечена печатью этой злосчастной истории отроческих лет; он страдал, слыша спокойный голос Марии Кросс:
— Не зря Бертран говорит, что настоящей жизнью начинаешь жить только после двадцати пяти — тридцати лет.
Раймон смутно чувствовал, что это не так, что на исходе отрочества в нас уже заложено все, чему суждено исполниться впоследствии. На пороге юности наша игра уже сделана, все определено; быть может, она сделана еще с детства: какая-то склонность, заложенная в нашу плоть еще до нашего рождения, растет вместе с нами, приспосабливается к нашей отроческой чистоте, а когда мы возмужали, неожиданно распускается чудовищным цветом.
Раймон, растерянный и все искавший оружие против этой недоступной женщины, вспомнил наконец, что так жаждал ей высказать, и хотя по мере того, как он говорил, в нем росла уверенность, что слова его совершенно не к месту, все же продолжал: конечно, эта история не помешала ему познать любовь... да еще как! У него, несомненно, было больше женщин, чем у любого из его сверстников, — стоящих женщин, потаскух он не принимает в расчет... Мария Кросс, пожалуй, даже принесла ему счастье. Она откинула голову назад и, прищурясь, посмотрела на него с выражением гадливости. Так чем же он недоволен?
— Потому что вас, понятно, интересует только эта гадость...
Она закурила сигарету, прислонилась своим подбритым затылком к стене и сквозь дым наблюдала, как кружатся в танце три пары. Когда джаз делал передышку, мужчины отпускали от себя дам, хлопали в ладоши, потом умоляюще протягивали руки к неграм — так, словно их жизнь зависела от этого дикого грохота; тогда сердобольные музыканты ударяли с новой силой, и бабочки-поденки, взвихренные бешеным ритмом, порхали опять, прильнув друг к другу.
Тем временем Раймон зло смотрел на женщину с коротко стриженными волосами, которая сидела и спокойно курила, на ту самую Марию Кросс, — он искал и наконец нашел слова, способные вывести ее из себя:
— Тем не менее вы бываете здесь.
Она поняла, что он хотел сказать: человек всегда возвращается к своим ранним склонностям. С удовольствием отметил он, как ее лицо залилось краской, как сурово сдвинулись брови.
— Мне всегда были отвратительны заведения такого рода, вы, должно быть, плохо меня знаете! Вот ваш отец, наверное, помнит, какой для меня было мукой, когда господин Ларуссель тащил меня в «Красный лев». Бесполезно говорить вам, что я хожу сюда по обязанности, да, по обязанности... Но разве такой человек, как вы, способен понять мои терзания? Даже Бертран и тот советует мне потакать, — конечно, в разумных пределах, — вкусам моего мужа. Если я хочу сохранить какое-то влияние на него, не надо слишком натягивать струну. Знаете, Бертран человек широких взглядов: он умолял меня не противиться его отцу, когда тот требовал, чтобы я остригла волосы...
Достаточно было Марии произнести это имя — Бертран, чтобы напряжение оставило ее и она успокоилась, помягчела. Раймон увидел мысленным взором пустынную аллею бордоского парка в четыре часа пополудни и мальчишку, который запыхавшись догонял его; услышал плаксивый голос: «Отдай тетрадь...» Что за человек получился из этого хилого мальчика? Раймон попытался задеть Марию:
— Теперь у вас взрослый сын...
Нет, она вовсе не была задета, а засияла улыбкой:
— Ах, да, вы же знаете его по коллежу!
Раймон снова стал человеком в ее глазах — ведь он бывший соученик Бертрана.
— Конечно, взрослый, но не только сын, а одновременно и друг, и наставник. Вы не можете себе представить, сколь многим я ему обязана.
— Да, вы говорили — вашим замужеством.
— Замужеством, верно, но это еще не все. Он открыл мне... ах, нет, вам не понять. И все-таки, я сейчас подумала, ведь вы были его товарищем, — мне хотелось бы знать, каким он был в детстве. Я уже не раз спрашивала мужа, но это просто невероятно: отец ничего не может сказать о том, каким был его сын. Он твердит одно: «Был милым ребенком, как все дети». По правде говоря, непохоже, чтобы вы могли близко наблюдать Бертрана. Во-первых, вы намного старше!
Раймон пробурчал:
— На четыре года, это ерунда. — И добавил: — Помню мальчишку с девичьим личиком.
Она не рассердилась, но со спокойным презрением сказала: да, она вполне представляет себе, что ему и Бертрану не дано понять друг друга. Раймон увидел, что в представлении Марии ее пасынок парит над ним на недосягаемой высоте. Мария думала о Бертране, она пригубила шампанского и блаженно улыбалась. Как разъединившиеся бабочки-поденки, она тоже хлопала в ладоши, чтобы музыка помогла ей продлить очарование. Что осталось в памяти Раймона от женщин, которыми он обладал? Многих он навряд ли бы узнал снова. Но за эти семнадцать лет почти не проходило дня, когда бы он не воскрешал в своей памяти, не поносил, не ласкал это лицо, которое сегодня видит так близко. И все же она была так далека от него в эту минуту, что он не выдержал и, стремясь приблизиться к ней любой ценой, еще раз упомянул Бертрана.
— Он скоро уже окончит институт?
Она отвечала с готовностью, что он на последнем курсе, он потерял четыре года из-за войны, она надеется, что он окончит с отличием. А когда Раймон прибавил, что Бертран, несомненно, пойдет по стопам отца, Мария возразила, что ему будет дано время подумать. Впрочем, она уверена, что он везде займет достойное место. Раймону не понять, какая это высокая душа!
— В институте он затмевает всех. Но я сама не знаю, зачем вам все это говорю... — И, словно спустившись с облаков, спросила: — А вы? Чем вы занимаетесь?
— Всякими делами... Ничем определенным.
И вдруг его собственная жизнь показалась ему бесконечно жалкой. Мария вряд ли слышала, что он ответил: нет, она не презирала его, для нее он просто не существовал. Привстав, она делала знаки Ларусселю, который все еще разглагольствовал у стойки, тот крикнул:
— Еще минуточку!
Вполголоса она заметила:
— Какой он красный! Он слишком много пьет.
Негры укутывали свои инструменты, как заснувших детей. Только пианино, казалось, не может остановиться; одна пара еще кружилась, другие, так и не расцепившись, рухнули. Наступил час, который любил посмаковать Раймон: час, когда когти спрятаны, глаза полны неги, голос приглушен, а руки притаились... В это время он обычно улыбался, грезя о том, что вскоре произойдет: на рассвете из комнаты выйдет мужчина, насвистывая, он тихо удалится, оставив на кровати изнуренную, словно убитую женщину... Ах, Марию Кросс он бы, конечно, так не оставил. Целой жизни не хватило бы на то, чтобы насытиться этой женщиной! Она настолько равнодушна к нему, что и не замечает, как он касается ее колена своим, даже не чувствует прикосновения. У него нет власти над нею, а ведь в минувшие годы счастье было так близко: тогда она думала, что любит его. Он этого не знал, он был еще совсем ребенком, ей надо было предупредить его, намекнуть, чего она от него ждет, он приближался бы к ней так медленно, как бы она того желала, — он умел, когда надо, умерять свое неистовство. Она насладилась бы радостью... Теперь уже слишком поздно, неужели придется ждать века, до тех пор пока снова произойдет совпадение их судеб в шестичасовом трамвае? Он поднял глаза, посмотрел на себя в зеркало: молодость уходила, появились признаки увядания, время быть любимым прошло, наступило время любить, если ты этого достоин. Он положил свою руку на руку Марии Кросс:
— Помните трамвай?
Она пожала плечами и, не оборачиваясь к нему, с вызовом спросила:
— Какой трамвай? — И сразу же, чтобы он не успел ответить, прибавила: — Вы будете очень любезны, если сходите за господином Ларусселем и возьмете его пальто, иначе мы никогда не уйдем отсюда.
Он как будто не слышал. Она притворялась, когда спросила: «Какой трамвай?» Раймон хотел возразить, что в его жизни не было ничего более драгоценного, чем те минуты, когда они сидели друг против друга среди бедняков, которые дремали, запрокинув черные от угольной пыли лица; из чьих-то отяжелевших рук выскользнула газета, а простоволосая женщина тянула к свету роман с продолжением, и губы ее шевелились, словно в молитве. Тяжелые предгрозовые капли прибили пыль на узкой дороге, огибавшей сзади Таланскую церковь; их обогнал какой-то рабочий на велосипеде; он сидел, пригнувшись к рулю, и на боку у него висел холщовый мешок, откуда торчала бутылка. Пыльные ветви деревьев походили на протянутые руки, молящие о глотке воды.
— Прошу вас, будьте так любезны, приведите сюда моего мужа. Он не привык столько пить, мне надо было остановить его, он совершенно не переносит алкоголя.
Раймон, севший было на свое место, поднялся и, увидев себя в зеркале, опять ужаснулся. Зачем ему оставаться молодым? Он еще мог рассчитывать, что его полюбят, но выбирать уже не приходилось. Все возможно для того, кто сохраняет эфемерный блеск человеческой весны. Пять лет долой, думает Раймон, и он мог бы еще попытать счастья: как никто другой, он знал, что мужчина в пору цветущей молодости способен победить неприязнь, привычки, целомудрие и угрызения совести женщины уже пожившей, ибо самая его молодость пробуждает в ней жадное любопытство. Но теперь он чувствовал себя безоружным и смотрел на свое отражение в зеркале, как накануне битвы смотрел бы на сломанную шпагу.
— Если вы не решаетесь, я пойду сама. Его там спаивают... Как мне его увести? Боже, какой позор!
— Что сказал бы ваш Бертран, если бы увидел вас здесь, рядом со мной, а своего отца там, за стойкой?
— Он бы все понял, он понимает все.
* * *
В эту минуту возле стойки послышался шум от падения грузного тела. Раймон бросился туда и попытался с помощью бармена поднять Ларусселя, ноги которого застряли в опрокинутом табурете, а окровавленная рука судорожно сжимала разбитую бутылку. Мария вся дрожала; она накинула отцу Бертрана на плечи меховую шубу и подняла воротник, чтобы скрыть от людей его полиловевшее лицо. Бармен сказал Раймону, уплатившему по счету, что «никогда нельзя знать — вдруг это сердечный приступ», — и почти на руках донес до такси своего грузного клиента — настолько он боялся, чтобы тот не «окочурился» в стенах заведения.
Мария и Раймон, сидя на откидных сиденьях, поддерживали лежащего; на носовом платке, которым была обернута его раненая рука, все шире расплывалось кровавое пятно. Мария причитала:
— Такого с ним еще никогда не бывало... надо было мне помнить, что он не переносит вина... Дайте мне слово, что вы никому не скажете...
Раймон ликовал: с безмерной радостью приветствовал он неожиданный поворот судьбы. Нет, в этот вечер он не расстанется с Марией Кросс. Как глупо было сомневаться в своей счастливой звезде!
Хотя зима была уже на исходе, ночь выдалась холодная; выпал мелкий град, покрывший площадь Согласия белым ковром.
Раймон продолжал поддерживать грузную тушу на заднем сиденье, откуда слышались бессвязные слова, перемежавшиеся отрыжкой. Мария открыла флакон с нюхательной солью, и молодой человек с наслаждением вдохнул отдающий уксусом запах; его согревал жар любимого тела, и он пользовался короткими мгновеньями, когда в машину падал свет какого-нибудь фонаря, чтобы пожирать глазами это прекрасное и униженное лицо. Мария взяла в руки массивную голову старика, на которую было страшно смотреть, — в эту минуту она была похожа на Юдифь.
Больше всего на свете она желала сейчас, чтобы консьерж ничего не заметил, и была счастлива воспользоваться услугами Раймона, чтобы дотащить больного до лифта. Уложив его в постель, они увидели, что его рука сильно кровоточит, а зрачки сузились и их почти не видно.
Мария металась в растерянности, не умея оказать больному ту помощь, к которой привычны другие женщины... Придется будить слуг на седьмом этаже! Но какой скандал! Она решила позвонить своему врачу, но тот, по-видимому, выключил у себя телефон, так как никто не отвечал. Она разрыдалась. Тогда Раймон вспомнил, что его отец в Париже, подумал, что надо бы его вызвать, и предложил Марии это сделать. Не сказав ему «спасибо», она бросилась искать в справочнике телефон «Гранд-отеля».
— Отцу нужно только одеться и поймать такси, и он будет здесь.
На этот раз Мария взяла его за руку; она открыла какую-то дверь, зажгла свет.
— Не хотите ли прилечь здесь? Это комната Бертрана.
Она сказала, что больного вырвало и теперь ему лучше; но рана все еще беспокоит его. Когда она ушла, Раймон сел и застегнул пальто на меху: батареи плохо грели. Он вызывал в памяти полузабытый голос отца; из какой-то дали доносится до него этот голос. Они не виделись три года — со дня смерти бабушки Курреж. В то время Раймон был очень стеснен в деньгах; может быть, он в слишком резких выражениях потребовал свою долю наследства. Но вот что особенно задело за живое молодого человека и ускорило разрыв: отцовские упреки, касавшиеся его образа жизни, который приводил в ужас этого щепетильного человека; сделки маклера, комиссионера казались ему недостойными отпрыска Куррежей; он считал себя вправе потребовать от Раймона, чтобы тот нашел себе более подобающее ему занятие... Через несколько минут он будет здесь — поцеловать ли его или только подать руку?
Раймон задается этим вопросом, но один предмет в комнате приковывает к себе его взгляд — кровать Бертрана Ларусселя, железная койка, такая узкая, такая целомудренная, под ситцевым покрывалом в цветочек, что Раймон разражается смехом: кровать старой девы или семинариста. Стены голые, за исключением одной, заставленной книгами; на рабочем столе — порядок, как в душе праведника. «Если бы Мария пришла ко мне, — размышляет Раймон, — это произвело бы в ней перемену». Она увидела бы диван, такой низкий, что он почти сливался с ковром на полу; всякий, кто попадал в полумрак этой комнаты, испытывал опасное чувство потерянности, искушение расслабиться, позволить себе поступки, которые, казалось бы, ни к чему не обязывают — как если бы ты совершил их на другой планете или во сне... Но в комнате, где в тот вечер сидел Раймон, не было даже занавесок на окнах, замерзших в ту зимнюю ночь: тот, кто в ней жил, несомненно, желал, чтобы рассвет будил его еще до первого удара часов. Раймон не распознал во всем этом признаков безгрешной жизни; эта комната, созданная для молитв, навела его на мысль, что отказ от любви, отрицание ее — это лишь уловки, отдаляющие наслаждение и делающие его более острым. Он прочел на корешках названия нескольких книг и проворчал: «Нет, что за идиот!» Все эти истории о мире ином были ему бесконечно чужды, ничто не могло бы вызвать у него большего отвращения.
Что отец так долго не едет! Ему не хотелось больше сидеть одному, эта комната, казалось, смеется над ним. Он распахнул окно: глазам его представились крыши в свете запоздалой луны.
— Ваш отец уже здесь.
Он закрыл окно, последовал за Марией в комнату Виктора Ларусселя и увидел тень, склоненную над его кроватью, узнал на стуле огромный отцовский цилиндр, палку с набалдашником слоновой кости (его, Раймона, лошадку в те времена, когда он играл в лошадки), но когда доктор выпрямился, Раймон не узнал его. И все-таки он знал, что этот старик, который сейчас улыбался ему и притянул к себе, — его отец.
— Не курить, не пить спиртного, не употреблять кофе; в полдень — белое мясо, ужин без мяса, — и вы проживете сто лет. Вот так!
Доктор повторил «вот так» тем тягучим голосом, который бывает у человека, когда он думает совсем о другом. Он не спускал глаз с Марии, а она, видя, что он не двигается с места, поторопила события:
— Я думаю, что сейчас нам всем хорошо бы поспать.
Доктор последовал за ней в переднюю и робким голосом опять повторил: «Все-таки какая удача, что мы снова встретились...» Когда у себя в гостинице он торопливо одевался и потом ехал в такси, он был уверен, что Мария Кросс не даст ему договорить эту короткую фразу и прервет ее восклицанием: «Теперь, доктор, когда я вас нашла, я вас больше не отпущу». Но она сказала совсем другие слова в ответ на те, которые он, едва переступив порог, поторопился произнести: «Все-таки какая удача...» И вот он повторял эту заранее заготовленную фразу уже четвертый раз, словно его настойчивость могла вызвать желанный ответ. Нет, она его не вызвала: Мария подала ему пальто, не раздражаясь тем, что он не сразу попал в рукав, и мягко сказала:
— Поистине, мир тесен, — вот сегодня вечером мы встретились снова, может случиться, что встретимся еще.
Так как она сделала вид, что не расслышала реплики доктора: «А не надо ли немножко помочь случаю?..» — он возвысил голос:
— Не думаете ли вы, мадам, что надо бы немножко помочь случаю?
Насколько в тягость были бы для нас умершие, если бы они вернулись. Иногда они возвращаются с тем представлением о нас, которое мы бы страстно желали разрушить, возвращаются полные воспоминаний о том, о чем мы жаждем забыть. Всякому живому человеку тягостны эти вновь всплывающие обломки.
— Я уже не та ленивица, доктор, которую вы когда-то знали; я должна сейчас лечь, потому что в семь мне надо вставать.
Она была уязвлена тем, что он не выразил удивления. Ее раздражало, что старик не сводит с нее упорного взгляда, твердя: «Так вы не считаете, что мы могли бы помочь судьбе? Нет?» С несколько суховатой вежливостью она ответила, что знает его адрес.
— Я теперь почти не бываю в Бордо... Но, может быть, вы...
Это так любезно с его стороны, что он побеспокоился!
— Если свет на лестнице погаснет, кнопка вон там.
Он не двигался с места, упорствуя: помнит ли она еще о своем падении из окна? Раймон выступил из темноты и спросил:
— О каком падении?
Она утомленно покачала головой и сказала с большим усилием:
— Знаете, доктор, что было бы очень мило? Мы могли бы писать друг другу... Я уже не такая любительница писем, как прежде, но в конце концов ради вас...
Он возразил:
— Письма ничего не стоят — какой смысл писать, если не видишься?
— Так именно потому, что не видишься!
— Нет, нет. Если люди уверены, что больше никогда не увидятся, то неужели им, по-вашему, нужно, чтобы переписка, эта видимость жизни, поддерживала их дружбу? Особенно, когда один из них убеждается, что для другого это тяжкая повинность... Когда человек стареет, Мария, он становится трусливым, свою долю горя он уже получил — он боится прибавки.
Он никогда еще не говорил с ней так откровенно; поняла ли она наконец? В этот момент она была рассеянна, потому что ее звал Ларуссель, потому что было уже пять часов и ей хотелось поскорее избавиться от обоих Куррежей.
— Ну что ж, я напишу вам первая, доктор, и повинность отвечать ляжет на вас.
Но немного погодя, когда дверь за ними закрылась и, взяв ее на задвижку, она вернулась в комнату мужа, он услышал, что она хохочет, и спросил о причине.
— Знаешь, что я вообразила? Ты не будешь смеяться надо мной? Доктор, похоже, был немножко влюблен в меня — тогда, в Бордо... Это бы меня нисколько не удивило...
Виктор Ларуссель заплетающимся языком ответил, что он ее нисколько не ревновал, ему вспомнилась одна из его старых шуток: «Еще один, созревший для холодного камня». Он добавил, что бедняга доктор, видимо, пережил сердечный приступ, многие его пациенты, которые не решаются отказаться от его услуг, потихоньку обращаются к другим врачам.
— У тебя сейчас нет болей в сердце? А рука не беспокоит?
Нет, у него уже ничего не болит.
— Как бы эта сегодняшняя история не стала известна в Бордо... Молодой Курреж не может, а?..
— Он туда не ездит. Спи... я погашу свет.
Она села в темноте на кресло и не двигалась, пока не послышался спокойный храп. Тогда она вышла и направилась к себе в комнату, замешкалась перед неплотно закрытой дверью к Бертрану, не устояв, толкнула ее и, едва переступив порог, услышала запах табака, человеческий запах. Она пришла в ярость: «Надо же было так потерять голову, чтобы впустить сюда этого...» Она открыла окно, вдохнув рассветный холодок, на какое-то мгновенье стала на колени у кровати; губы ее шевелились, она прижалась лбом к подушке.
XII
Как некогда двухместная карета с мутными от дождя стеклами везла отца и сына по улицам предместья, так и теперь такси увозило доктора и Раймона, обменявшихся поначалу не большим количеством слов, чем в те забытые утренние часы. Но то было молчание иного рода: Раймон держал за руку старика-отца, слегка привалившегося к нему, и говорил:
— Я не знал, что она вышла замуж.
— Они никому не сообщили, по крайней мере, я так полагаю, я надеюсь... Во всяком случае, мне не сообщили.
Говорят, на оформлении брака настаивал молодой Ларуссель. Доктор привел остроту Виктора Ларусселя: «Я заключаю морганатический брак». Раймон проворчал: «Это чудовищно!» В серых лучах рассвета он наблюдал украдкой лицо отца, лицо обреченного, видел, как тот шевелит бескровными губами. Это застывшее лицо, эта каменная маска испугали его, и он произнес первую пришедшую на ум фразу:
— Как поживают наши?
Все поживали хорошо. Нельзя не восхищаться Мадленой, — сказал доктор, — она живет только ради дочерей, руководит ими в житейских делах, плачет втихомолку и вообще показала себя достойной героя, которого потеряла. (Доктор никогда не упускал случая похвалить зятя, убитого в Гюизе, и воздать ему должное, он упрекал себя в том, что не распознал его достоинств; а между тем сколько людей во время войны погибли смертью, которая им не подобала.) Катрин, старшая дочь Мадлены, просватана за Мишона, третьего сына в этой семье, ждут, пока ей исполнится двадцать два года, чтобы объявить о помолвке.
— Только никому не говори.
Это наставление он произнес тоном своей жены, но Раймон ничего не ответил: «Кого это здесь может интересовать?» Доктор вдруг замолчал, словно его пронзила острая боль. Молодой человек занялся вычислениями: «Ему шестьдесят девять или семьдесят лет... Можно ли в таком возрасте еще страдать от любви, к тому же после стольких лет разлуки?» Он ощутил боль от собственной раны и испугался; нет, нет, это скоро пройдет. Ему вспомнилось, что часто твердила одна из его любовниц: «Когда мне приходится страдать от любви, я сворачиваюсь калачиком, я жду, я уверена, что человек, из-за которого мне хочется умереть, завтра, быть может, не будет значить для меня ничего; виновника стольких моих страданий я впредь даже не удостою взглядом; как ужасно любить и как постыдно разлюбить...» Однако этот старик исходит кровью уже семнадцать лет: при такой жизни, как у него, строго размеренной, отданной долгу, страсть держится годами, замыкается в себе; она не растрачивается, гниет, выделяет яд и разъедает живой сосуд, в котором заключена.
Они обогнули Триумфальную арку; между чахлыми деревьями Елисейских полей текло черное шоссе, как река в Эребе.
— Я думаю, что скоро покончу со случайными заработками. Мне предлагают место на одном предприятии — на цикорной фабрике. Через год обещают пост управляющего.
Доктор ответил рассеянно:
— Я очень рад, мой мальчик... — И вдруг: — А как вы познакомились?
— С кем?
— Ты знаешь, о ком я говорю.
— О товарище, который предлагает мне это место?
— Да нет, о Марии.
— Это дело давнее: когда я был в последнем классе, мы, кажется, перекинулись несколькими словами в трамвае.
— Ты мне об этом ничего не говорил. Однажды ты рассказывал — я это помню — что какой-то приятель показал ее тебе на улице.
— Может быть... Через семнадцать лет я уже точно не помню... А, да! Как раз на другой день после этой встречи она и заговорила со мной — вот-вот, она спрашивала, как ты поживаешь, — она знала меня в лицо. Впрочем, я думаю, что сегодня вечером, если бы ко мне не подошел ее муж, она бы обдала меня презрением.
Казалось, доктора это успокоило, он прикорнул в углу, бормоча: «Впрочем, что это может значить для меня?» Он махнул рукой, потом разгладил ладонями лицо, выпрямился и, сев вполоборота к Раймону, постарался отвлечься от этих мыслей и всецело сосредоточиться на делах сына:
— Как только ты займешь прочное положение, сынок, женись.
И так как Раймон расхохотался, запротестовал, старик снова обратился к самому себе, снова заговорил о своем.
— Ты не можешь себе представить, как это хорошо — жить в гуще семьи... Да, да! Несешь на себе тысячи забот о других; эти тысячи уколов оттягивают твою кровь от сердца, понимаешь? Они отвлекают нас от нашей потаенной боли, нашей глубокой внутренней боли, становятся необходимыми для нас... Видишь, я хотел дождаться окончания конгресса, но это сильнее меня: я уеду сегодня восьмичасовым поездом... Самое важное в жизни — это создать себе убежище. Надо, чтобы в конце, как и в начале, нас выносила женщина.
Раймон процедил сквозь зубы: «Спасибо! Лучше сдохнуть...» Он смотрел на высохшего старика, изглоданного страданиями.
— Ты не можешь себе представить, какую защиту я обрел среди вас. Жена, дети — все это окружает, стесняет нас, оберегает от натиска желаний. Вот ты, хотя ты со мной почти не разговаривал, — это не упрек, дорогой мой, — ты никогда не узнаешь, сколько раз в минуту, когда я уже готов был поддаться сладостному и, быть может, преступному побуждению, я чувствовал у себя на плече твою руку, и это помогало мне опомниться.
Раймон пробурчал: «Что за безумие считать, будто существуют запретные радости!» Вслух он сказал:
— Ах, мы с тобой сделаны из разного теста: я быстро разорил бы свое гнездо.
— А думаешь, я не причинял страданий твоей матери? Не такие уж мы разные: сколько раз я мысленно разорял свое гнездо!.. Ты ничего не знаешь... Не спорь; быть может, несколько неверностей не так омрачили бы ее счастье, как та измена в мечтах, которую я совершал в течение тридцати лет. Я хочу, чтобы ты знал, Раймон: ты навряд ли был бы худшим мужем, чем я... Да, да! Я развратничал в мечтах — разве это лучше, чем действительный разврат? И посмотри, как мне теперь мстит твоя мать: избытком заботы. Теперь ее назойливость мне просто необходима... Она не щадит себя, печется обо мне денно и нощно, ах, моя смерть будет блаженной! С прислугой теперь плохо; нынешние слуги, говорит она, совсем не похожи на прежних: мы не смогли найти замену Жюли. Ты еще помнишь Жюли? Она уехала к себе в деревню. Так вот, твоя мать сама заменяет всех, мне иногда приходится ей выговаривать за это: она не боится сама подметать, натирает паркет...
Он на секунду замолчал, потом умоляюще закончил:
— Не оставайся один!
Раймон не успел ответить; такси остановилось возле «Гранд-отеля», надо было выйти, расплатиться.
У доктора едва оставалось время уложить вещи.
* * *
Этот утренний час — час подметальщиков и зеленщиков был хорошо знаком Раймону Куррежу; он жадно вбирал в себя, вспоминал, узнавал ощущения, связанные с возвращением на рассвете: радость усталого, сытого животного, которое хочет лишь поскорее забраться в свое логово и уснуть. Удачно, что отец пожелал расстаться с ним у входа в «Гранд-отель». Как он постарел! Как сдал!
«Расстояние, отделяющее нас от родных, — подумал он, — всегда слишком мало; наши близкие никогда не бывают от нас достаточно далеко». Раймон полагал, что больше не думает о Марии, вспомнил, что сегодня у него много дел, достал записную книжку, полистал ее, изумился тому, что нынешний день словно бы удлинился, — или, может быть, сократилось количество дел, которыми он собирался его занять? Утром? Ничего. После полудня? Те два свидания? Он не пойдет. Он заглянул в предстоящий день, как ребенок в колодец, — ему нечего туда бросить, разве что несколько камешков, но чем же засыпать дыру? Только одним можно было бы заполнить эту безмерную пустоту: позвонить у дверей Марии, велеть доложить о себе, быть принятым, сесть в комнате, где будет сидеть она, заговорить с нею — все равно о чем, — этого более чем достаточно, чтобы занять сегодняшние свободные часы и еще многие другие. Условиться о свидании с Марией, пусть даже на далекий срок, — с каким терпением, словно охотник в засаде, убивал бы он время, отделяющее его от этого дня! Даже если бы она отложила свидание, Раймон утешился бы, знай он, что оно все-таки состоится, и этой новой надежды хватило бы, чтобы заполнить пустоту его жизни. Его жизнь — это провал, через который перекинут мост ожидания. «Подумаем, — рассуждал он, — начнем с самого простого: можно возобновить отношения с Бертраном Ларусселем, войти в его жизнь. Но у нас разные склонности, разный круг знакомых, где я могу встретить этого святошу, в каком святилище?» Раймон мысленно пропускает все остановки на пути к Марии; пропасть между ними наконец-то преодолена, и вот ее загадочная головка покоится у него на руке, он ощущает на своем бицепсе ежик ее подбритого затылка, словно щеку подростка; лицо Марии движется к нему навстречу, растет, — увы! — такое же недоступное, как на экране кинематографа. Раймона удивляет, что первые прохожие не оборачиваются на него, не замечают его безумия. Он опускается на скамью напротив церкви св. Магдалины. Какое несчастье, что он увидел ее снова, не надо было больше ее видеть: ведь все его увлечения за эти семнадцать лет, помимо его воли, вспыхивали, как средство против Марии, подобно тем кострам, что зажигают крестьяне в ландах[14], чтобы встречным огнем остановить лесной пожар... Но он увидел ее опять, и пламя стало еще жарче, только усилившись за счет огней, которые должны были его подавить. Его чувственные пристрастия, его привычки, вся наука разврата, которую он терпеливо усваивал и развивал, стали пособниками пожара, который гудел и ширился, захватывая все более обширное пространство.
«Свернись калачиком, — твердил он себе, — долго это не продлится, а покамест заглушай боль наркотиками; поплавай на спине». Но его отец — тот будет страдать до самой смерти, да и что у него была за жизнь! Главное — это знать, помог бы ему разврат избавиться от любви или нет. Все служит любви: голод ее раздражает, сытость усиливает; наша добродетель — дразнит, возбуждает; любовь запугивает и чарует нас, но стоит нам ей раз уступить, как мы все больше и больше поддаемся ее безмерным требованиям. Да, она неистова. Надо было спросить отца, как мог он жить с этой опухолью. Что он, в сущности, получил за свою добродетельную жизнь? Какую нашел отдушину? Что может Бог?
Раймон пытался разглядеть, куда передвинулась большая стрелка на циферблате пневматических часов; он подумал, что его отец, наверное, уже покинул отель. У него явилось желание еще раз поцеловать старика — естественное желание сына, но его с отцом соединила еще другая, тайная кровная связь: они породнились через Марию Кросс. Раймон поспешно спустился к Сене, хотя времени до отхода поезда еще оставалось достаточно; быть может, он поддался тому роду безумия, который заставляет бежать человека, чья одежда охвачена огнем.
Уверенность, что он никогда не будет обладать Марией Кросс, умрет, не обладав ею, была нестерпима. Все, что у него было, ничего не стоит; ценность имеет лишь то, что никогда ему не достанется.
Ах, эта Мария! Он был потрясен тем, что один человек, сам того не желая, может возыметь такой вес в судьбе другого человека. Ему никогда не случалось думать о тех наших свойствах, что нередко помимо нашей воли и на большом расстоянье воздействуют на чужие сердца. Сейчас, когда он шел по тротуару между Тюильри и Сеной, страдание заставило его впервые сосредоточиться на вещах, о которых он никогда раньше не думал. Нет сомнения: именно потому, что на заре нынешнего дня он почувствовал, что у него больше нет ни планов, ни желаний, ни радостей, ничто уже не отвлекало его от жизни минувшей; когда он лишился будущего, все его прошлое закопошилось перед ним. Сколько там было созданий, для которых встреча с ним оказалась роковой! Он еще не знает, сколько жизней направил по верному, сколько по неверному пути; ему неведомо, что из-за него некая женщина вытравила плод, некая молодая девушка умерла, что такой-то его товарищ поступил в духовную семинарию и что каждая из этих драм так или иначе повлекла за собой другую. На краю той ужасной пропасти, какою стал для него этот день без Марии, — а за ним потянется вереница других таких же дней, — ему открылись одновременно и его зависимость от нее, и его одиночество: жизнь близко столкнула его с женщиной, которая — он в этом уверился — навсегда останется для него недосягаемой; достаточно ей видеть свет, для того чтобы Раймон оставался в потемках, но до каких пор? А если он захочет выйти из тьмы, чего бы это ему ни стоило, если захочет вырваться из этого силового поля, какое может найтись для него убежище, кроме отупения и сна?..
Разве что эта звезда на его небосклоне вдруг погаснет, как гаснет всякая любовь. Но Раймон носит в себе неистовую страсть, унаследованную от отца, — всесильную страсть, способную до самой смерти порождать другие живые миры, других Марий Кросс, чьим жалким спутником он постепенно станет... Надо было, чтобы до смерти отца и сына им наконец открылся Тот, кто помимо их воли призывает, притягивает из самых глубин их существа этот огненный прилив.
Он миновал пустынную набережную Сены, взглянул на вокзальные часы: отец, наверное, уже сидит в поезде. Раймон спустился на перрон, прошел вдоль вагонов, но долго искать ему не пришлось; в одном из окон он увидел его мертвое лицо; веки были сомкнуты, руки сложены на раскрытой газете, голова слегка запрокинута, рот приоткрыт. Раймон постучал в стекло: мертвец открыл глаза, узнал сына, заулыбался и, спотыкаясь, двинулся по коридору ему навстречу. Но вся его радость была отравлена детским страхом, что поезд вот-вот тронется и Раймон не успеет выйти.
— Теперь, когда я тебя повидал, когда я знаю, что ты хотел еще раз увидеться со мной, ступай, мой дорогой, уже запирают двери
Напрасно молодой человек уверял его, что осталось еще пять минут и что в худшем случае поезд остановится на Аустерлицком вокзале; старик успокоился только тогда, когда его сын очутился опять на перроне. Опустив стекло, он ласкал его взглядом, полным любви.
Раймон осведомился, все ли у него есть, что нужно в дороге: не хочет ли он другую газету или книгу? Закрепил ли он за собой место в вагоне-ресторане? Доктор отвечал: «Да... да...» — пожирая глазами этого мальчика, этого мужчину, такого отличного от него, такого похожего на него, — частицу его существа, которая на какое-то время его переживет и которую ему не суждено больше увидеть.
Примечания
1
Эротический роман французского поэта и писателя-модерниста П. Луиса (1870-1925).
(обратно)2
Таланс — пригород Бордо.
(обратно)3
Периодическое издание скабрезного содержания.
(обратно)4
«Игра», «аут» (англ.).
(обратно)5
Метерлинк Морис (1862-1949) — бельгийский драматург и поэт, символистская поэтика которого выражала протест против приземленности натурализма.
(обратно)6
Паскаль Блез (1623—1662) — французский математик, физик, религиозный философ и писатель. В своих литературных работах полемизировал с иезуитами, развивал представление о трагичности и хрупкости человека, находящегося между двумя безднами — бесконечностью и ничтожеством. Путь постижения тайн бытия и спасения человека от отчаяния видел в христианстве.
(обратно)7
Лурд — город на юге Франции в департаменте Верхние Пиренеи. Один из наиболее важных в Европе центров паломничества.
(обратно)8
Таблички, прибиваемые в церкви верующими в благодарность за исполнение просьбы.
(обратно)9
Роман французского писателя М. Барреса (1862–1923), посвященному своему «путешествию» в Грецию. Но на деле автор занимался в романе не столько описанием того, что ему приходилось встречать на пути, сколько пропагандой националистских идей.
(обратно)10
Психея — мифологическая, красивая молодая девушка, на которой женился Амур; олицетворение человеческой души.
«Лоэнгрин» — опера Р. Вагнера (1850), в основу сюжета которой положены различные народные легенды о рыцаре, приплывающем в ладье, запряженной лебедем. Он появляется в тот момент, когда девушке или вдове, всеми покинутой и преследуемой, грозит смертельная опасность. Рыцарь освобождает девушку от врагов и женится на ней.
(обратно)11
Далила — в Ветхом Завете женщина, возлюбленная Самсона, которого она предательски выдала филистимлянам.
Юдифь — в ветхозаветной апокрифической традиции вдова, спасающая свой город от нашествия ассирийцев. Придя с лагерь врага, она обольщает полководца Олоферна и обещает ему помочь овладеть городом. Но, оставшись с ним наедине в шатре, отрубает Олоферну голову, чем повергает захватчиков в замешательство, помогая городскому ополчению прогнать их прочь.
(обратно)12
Орион — красавец-великан, охотник из свиты богини Артемиды. Был убит ею из лука за любовную измену, но помещен Зевсом на небо в виде созвездия.
(обратно)13
Галатея — нимфа, любившая простого пастуха Акиса. Циклоп Полифем, из ревности, обрушил на него скалу, и тогда Галатея обратила своего погибшего возлюбленного в источник.
(обратно)14
Ланды — низменные песчаные равнины шириной в 100-150 км по берегам Бискайского залива во Франции, отделенные от моря полосой дюн шириной в 7-8 км и высотой до 100 м, препятствующей стоку вод; в прошлом сильно заболочены. В 19 в. дренированы и засажены приморской сосной.
(обратно)
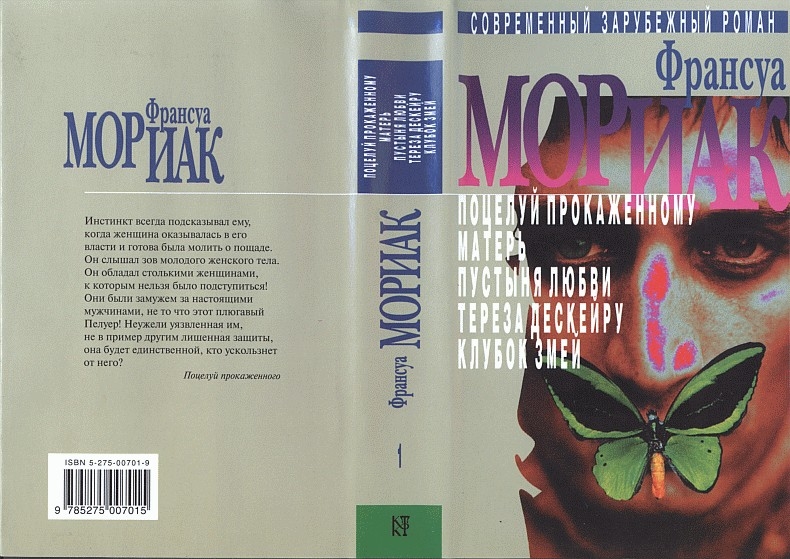

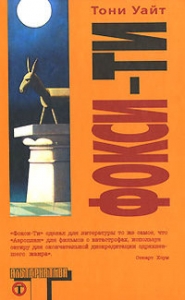


Комментарии к книге «Пустыня любви», Франсуа Шарль Мориак
Всего 0 комментариев