Марк Твен. Собрание сочинений в 12 томах. Том 9
ПО ЭКВАТОРУ
Книгу эту с любовью посвящаю моему молодому
другу Гарри Роджерсу, который многого уже
достиг и, возможно, достигнет большего, если не
всегда будет следовать пагубному примеру автора.
КНИГА ПЕРВАЯ
Глава I МЫ ПЛЫВЕМ С МИЛЕЙШИМ КАПИТАНОМ
Бывает, что у человека нет дурных привычек,
но зато есть нечто худшее.
Новый календарь Простофили ВильсонаОтправились мы в кругосветную лекционную поездку из Парижа, где прожили перед тем около двух лет.
Сперва мы поехали в Америку, чтобы сделать там кое-какие приготовления. Это не отняло много времени. Сопутствовать мне вызвались двое моих родственников. А также карбункул. Карбункул — род драгоценного камня, объясняет толковый словарь; но, по-моему, юмор в словарях неуместен.
В разгар лета мы двинулись на запад от Нью-Йорка, и до самого Тихого океана деловой стороной путешествия занимался майор Понд. В дороге ему пришлось изрядно попотеть; вдобавок последние две недели мы задыхались от дыма, потому что в Орегоне и Британской Колумбии бушевали лесные пожары. Потом мы еще неделю глотали дым на берегу, пока ждали свой корабль. В дыму он наскочил на мель, и пришлось отвести его в док на ремонт. Наконец мы отчалили, и на этом окончился сорокадневный переход черепашьим шагом через континент.
Мы отплыли на запад днем, по сверкающему, искрящемуся зыбью летнему морю — восхитительному морю, чистому и прохладному морю, желанному для всех пассажиров и уж во всяком случае для меня — после отчаянной пылищи, копоти и зноя минувших недель. Путешествие сулило трехнедельный праздник, праздник почти беспрерывный. Впереди — весь Тихий океан, а у нас только в дела, что ничего не делать и наслаждаться покоем. Город Виктория мелькнул в глубине густого облака дыма и скрылся; мы сложили подзорные трубы и, в превосходном расположении духа, опустились на свои складные стулья, однако они тут же разлетелись под нами в щепы, опозорив нас перед всеми пассажирами. А ведь мы купили эти стулья в самом солидном мебельном магазине Виктории и заплатили как за добротные, хотя им красная цена грош за дюжину. На пароходы, плавающие в Тихом и Индийском океанах, до сих пор приходится брать собственные шезлонги или обходиться без них, совсем как в старые, давно забытые времена плавания по Атлантике — тяжелые времена для морских путешествий.
Пароход был довольно удобный, кормили на нем — как обычно на море — обильной хорошей пищей, ниспосланной господом богом и приготовленной дьяволом. Порядки здесь, видимо, были не лучше и не хуже, чем на прочих судах в Тихом и Индийском океанах. Пароход не очень-то годился для путешествия в тропиках, но тут уж ничего не поделаешь — таков удел всех судов, посылаемых в тропики. Многовато было тараканов, но ведь и это тоже удел кораблей, плавающих в южных морях, — во всяком случае тех, которые давно служат.
Наш молодой капитан был на редкость красивый мужчина — высокий, статный, с фигурой, словно нарочно созданной для парадного мундира. Он был всегда преисполнен самих лучших намерений, вежлив и учтив до приторности. Где бы он ни находился, его галантность и лоск превращали это место в гостиную. В курительную комнату он не заходил. Пороков у него не было. Капитан не курил, табака не нюхал и не жевал; он не ругался, не употреблял ни жаргона, ни грубых, вульгарных или непристойных выражений; не каламбурил, не рассказывал анекдотов, не разражался смехом, не повышал голоса сильнее, чем дозволяют правила хорошего тона, и даже приказы звучали у него как просьбы. После обеда капитан и офицеры присоединялись к обществу в дамском салоне и там пели, играли на рояле или переворачивали ноты. У капитана был приятный мелодичный тенор, и он умело и со вкусом им пользовался. Когда кончали музицировать, он садился за карточный стол и играл в вист — всегда с одним и тем же партнером и теми же противниками, — пока дамы не расходились. В салоне электричество горело до тех пор, пока это угодно было дамам и их гостям, зато в курительной свет выключался ровно в одиннадцать. Разумеется, в корабельном своде законов было много всяческих правил, однако, насколько я заметил, лишь это и еще одно выполнялись с такой скрупулезностью. Капитан объяснял это тем, что его каюта находится рядом с курительной, а от запаха табачного дыма его тошнит. Я, правда, не мог понять, каким образом дым попадает к нему, ибо курительная и его каюта помещались на верхней палубе, открытой всем ветрам, и между собою никак не сообщались, в массивной переборке между ними не было ни одной щелочки. Впрочем, чувствительному желудку может повредить и воображаемый дым.
Капитан, по натуре такой кроткий, деликатный и утонченный, с безупречной нравственностью и безупречной речью, казалось совершенно не подходил для суровой и грубой профессии моряка. Вот вам еще один пример иронии судьбы.
На родину он возвращался с запятнанной репутацией. Пассажиры знали про его беду и жалели его. Вблизи Ванкувера, в узком и опасном проливе, к тому же полном дыма лесных пожаров, ему не повезло, он сбился с курса, и его судно наскочило на рифы. Мы с вами сочли бы подобный проступок простой оплошностью; директора пароходных компаний сочли его преступлением. Дело слушалось в Адмиралтейском суде в Ванкувере, и капитана оправдали, но это было еще не все. В Сиднее предстояло разбирательство в суде более суровом, суде директоров — хозяев компании, на пароходах которой он много лет плавал помощником капитана, несчастье произошло в его первый самостоятельный рейс.
Офицеры нашего корабля, сердечные, общительные молодые люди, не давал пассажирам скучать и участвовали во всех наших развлечениях. Рейсы в Тихом и Индийском океанах для команды — всегда увеселительные прогулки. Судовым экономом был молодой шотландец, отличавшийся редким самообладанием. Он был тяжело болен, и по его виду сразу можно было это сказать; но болезнь не сломила его дух. Жизнь била в нем ключом, он был всегда весел и остер на язык. Казалось, он сам не знает, что болен, ибо он никогда не говорил о своем недуге и вел себя как вполне здоровый человек; между тем у него довольно часто бывали страшнейшие спазмы и сердце. Приступы длились часами, и пока они не проходили, он не мог ни сидеть, ни лежать. Как-то раз наш эконом целые сутки простоял на ногах, превозмогая мучительную боль, а на следующий день был полон жизни, веселья и энергии, словно с ним ровно ничего не произошло.
Среди пассажиров особенно выделялся молодой канадец, самый интересный и остроумный собеседник на пароходе, который никогда не расставался с бутылкой виски, Он был сыном богатых и влиятельных родителей и с их помощью сделал бы, наверное, блестящую карьеру, если ом сумел обуздать свою страсть к спиртному; но он не сумел и незаурядные способности пропали у него даром. Много раз давал он зарок не пить и являл собой поучительный пример того, как это неразумно, особенно для человека, не обладающего железной волей. Зарок плох по двум причинам: во-первых, он не уничтожает корень зла; во-вторых, зарекаться в чем нибудь значит, идти наперекор природе, ибо зарок это цепь, которая не переставая звенит и напоминает тому, кто ее носит, что он лишился свободы.
Я сказал, что зарок не уничтожает корень зла, и я готов повторить сноп слова, Корень зла не в самом пьянстве, а в желании выпить. Это вещи совершенно разные. Чтобы бросить пить, нужна воля, и сильная воля, — ведь надо принять решение и постоянно себя обуздывать; а чтобы побороть желание, нужно лишь следить за собой — и то недолго. Желание, конечно, предшествует действию, и начинать следует с него; бесполезно отказываться от выпивки снова и снова, не подавив желания; оно будет постоянно заявлять о себе и почти наверняка рано или поздно возьмет верх. Желание надо гнать из головы, как только оно появится. Надо быть все время начеку, чтобы не дать ему проникнуть в мозг, и сделать это вовремя — иначе оно там угнездится. Зато не пройдет и двух недель, как оно умрет. Это единственный способ излечиться от пьянства. Отказываться от выпивки, не борясь с желанием, на мой взгляд, тактика неразумная.
Я частенько давал себе всякие зароки — и тут же нарушал их. Воля у меня была слабая, и я ничего не мог с этим поделать. К тому же человека, привыкшего распоряжаться собой, тяготят любые оковы, — он, естественно, стремится их порвать и вернуть себе свободу. Ибо когда я перестал давать зароки и решил подавлять пагубные желания, оставляя за собой право в любое время удовлетворить их и вернуться к своей привычке, как только надумаю, — все мои тревоги кончились. В пять дней я отделался от потребности курить и от необходимости быть начеку; с тех пор я не испытывал сильного желания курить. Как-то раз после пятнадцати месяцев безделья я стал писать книгу — и вдруг обнаружил, что перо меня не слушается. Я попробовал закурить, в надежде, что это поможет. И правда, помогло. В течение пяти месяцев я ежедневно выкуривал восемь — десять сигар и столько же трубок; закончив книгу, я снова не курил целый год, пока не начал писать новую.
Я могу избавиться от любой из своих девятнадцати дурных привычек без особого беспокойства и труда. Наверное, доктору Таннерсу и всем, кто постится по сорок дней, это удается потому, что они с самого начала решительно подавляют в себе желание есть; через несколько часов оно ослабевает, а потом и вовсе пропадает.
Однажды я испытал свой метод более широко — как лечебное средство. Несколько дней я провалялся в постели с прострелом и никак не мог поправиться. Наконец врач сказал:
— Мои лекарства вам не помогут. Вы только подумайте, с чем им приходится бороться, кроме вашего прострела. Вы очень много курите, не так ли?
— Да.
— В кофе себя не ограничиваете?
— Нет.
— Чай тоже пьете?
— Да.
— Едите что попало и как попало?
— Да.
— Пьете на ночь два стакана горячего грога?
— Да.
— Ну вот, теперь вы сами видите, что мешает лечению. Так вам не выздороветь. Придется вам немного сократиться; умерьте свой аппетит на несколько дней.
— Не могу, доктор.
— Это почему?
— Не хватит силы воли. Я могу совсем от всего отказаться, но урезывать себя я не в силах.
Доктор ответил, что попробуем хоть так, и обещал зайти на следующий день и снова наняться моим прострелом. Но он сам заболел в не зашел; впрочем, он был мне уже не нужен. Двое суток я не ел и не пил ничего вредного; вернее, я вообще ничего не ел, а пил только воду, — и к концу вторых суток избавился от своего прострела. Я был совершенно здоров и, возблагодарив всевышнего, вновь принялся за прежнее.
Такой способ лечения показался мне стоящим, и я рекомендовал его одной даме. Она таяла день ото дня и под конец дошла до такого состояния, когда ей уже не помогали никакие лекарства. Я сказал, что за неделю поставлю се на ноги. Мои слова подбодрили ее и окрылили надеждой, но она согласилась во всем меня слушаться. Тогда я посоветовал ей на четыре дня бросить курить, сквернословить, пить и объедаться и обещал, что она тотчас выздоровеет. Не сомневаюсь, что так бы оно и было, но больная оказала, что не может бросить пить, курить и сквернословить, потому что никогда ничем таким не занималась. Вот так штука! Она не позаботилась вовремя запастись дурными привычками, у нее их не было. Теперь, когда они могли ей пригодиться, их не оказалось. Ей не на что было опереться. Она походила на тонущее судно, не имеющее балласта, и ей нечего было выбросить за борт. Да, какие-нибудь две-три дурные мелкие привычки, наверное, спасли бы ее, но она была моральным банкротом. Обзавестись такими привычками в молодые годы ей помешали родители — невежественные люди, хоть и вращались в лучшем обществе; а теперь было уже поздно. Какая жалость, право; но чем я мог помочь? О таких вещах надо думать смолоду, иначе на старости лет вам нечем будет бороться с болезнями.
В юности я давал себе всяческие зароки, но, как я ни старался их выполнить, мне это не удавалось; а все потому, что я не уничтожал корень дурной привычки — желание; не проходило и месяца, как я сдавался. Однажды я попытался ограничить одну из своих привычек. Поначалу дело шло неплохо. Я дал зарок выкуривать веет одну сигару в день: я приберегал эту сигару до позднего вечера и уже тогда наслаждался вовсю. Но желание преследовало меня каждый день, с утра до вечера; через неделю я стал искать сигары побольше тех, что курил обычно, потом еще большего размера. А через две недели я уже курил сигары, специально для меня сделанные — невероятной величины. Однако я и на этом не успокоился. Через месяц моя сигара выросла до таких размеров, что могла бы заменить мне трость. Наконец, поняв, что, ограничивая себя одной сигарой в день, я не достигаю цели, я плюнул на зарок и вновь обрел свободу.
Но возвратимся к молодому канадцу. Он жил на «месячном содержании». Я в жизни о таком не слышал, да и не знал, что так бывает. Пассажиры объяснили мне, что это значит. В Англии и Канаде высокопоставленные семьи не отказываются от своих беспутных отпрысков, пока есть хоть какая-нибудь надежда их исправить; но окончательно убедившись, что оболтус безнадежен, они выпроваживают его куда-нибудь подальше, с глаз долой. Грузят его на пароход, выдав деньги на путевые расходы не ему, а судовому казначею, — а на месте назначения его ждут деньги, присланные на его содержание. Не бог весть какая сумма, но достаточная, чтобы протянуть месяц. И эту сумму он получает ежемесячно. Человек на «месячном содержании» первым делом вносит плату за квартиру и стол — об этом всегда позаботится его квартирный хозяин, — оставшиеся деньги он прокучивает за одну ночь, а потом скулит, изнывая от тоски и безделья, пока не придет очередной чек. Жизнь, как видите, незавидная.
Говорили, что на пароходе он не единственный шалопай на «месячном содержании». Таких было еще двое, — во всяком случае, уверили, что это так. Только на канадца они не походили; им недоставало его опрятности, джентльменских манер, его ума, решительности, великодушия и благородства. Один из них — паренек лет девятнадцати — двадцати — совсем опустился, судя по его внешнему виду и поведению. По словам этого молодого человека, он был отпрыском герцогского дома в Англии; для своего спокойствия родные отправили его в Канаду, там он попал в беду н теперь его отсылают в Австралию. Он сказал, что титула у него нет. В остальном он был скуп на правду. Приехав в Австралию, он первым делом угодил за решетку, а на следующее утро на допросе в полицейском участке объявил себя графом, но доказать этого не мог.
Глава II КАК ПОСТУПИЛ БЕДНЯГА БРАУН
Когда не знаешь, что сказать, говори правду.
Новый календарь Простофили ВильсонаДня через четыре после отплытия из Виктории стало жарко, и наши мужчины облачились в белые полотняные костюмы. А еще через два дня, когда мы пересекли 25-ю параллель северной широты, капитан приказал всем офицерам сменить синюю форму на белую. Дамы уже щеголяли в белом. Благодаря белоснежным туалетам прогулочная палуба стала похожа на лужайку, манящую прохладой, на местечко, где устроили веселый пикник.
Из моего дневника.
Есть в жизни напасти, от которых никуда не денешься, беги хоть на край света. Только ускользнешь от одной, как тебя уже подстерегает другая. Мы кое-как избавились от охотничьих и рыбацких рассказов, и душа обрела мир и покой; но тут на нас обрушились россказни про бумеранг, и вот мы снова тяжко страдаем. Старший офицер как-то видел человека, который хотел скрыться от неприятеля за деревом; однако враг метнул бумеранг в небо, гораздо выше и дальше того места, где росло дерево; потом бумеранг повернулся, спустился и убил этого человека наповал. Пассажир-австралиец тоже видел подобный случай, но уже с двумя людьми, скрывавшимися за деревьями, причем бумеранг уложил обоих одним махом. Рассказ был встречен недоверчивым молчанием, и австралиец в подкрепление своей истории добавил, что его брат видел, как бумеранг убил птицу с расстояния в сто ярдов и, подхватив убитую дичь, вернулся с нею к охотнику. И все эти басни приходится слушать. От них нет спасенья.
С бумеранга разговор перешел на сны — тема благодатная и на суше и на море, — но только на этот раз она быстро истощилась. Потом заговорили о людях с необыкновенной памятью — здесь результат был лучше. Кто-то рассказал о слепом Томе, негритянском пианисте, который, однажды услышав любое музыкальное произведение, мог его сыграть, каким бы сложным и длинным оно ни было; через полгода он снова безошибочно исполнял это произведение, хотя с тех пор ни разу его не играл. Одну из самых поразительных историй рассказал джентльмен, служивший в свое время при дворе вице-короля Индии. Изредка он заглядывал в свою записную книжку, — он сразу же записал этот случай, так как опасался, что, если не изложит все черным по белому, ему потом покажется, будто это его собственная выдумка или сон.
Когда вице король путешествовал по стране, майсурский магараджа всячески развлекал его и, между прочим, показал человека, отличающегося необыкновенной памятью. Вице-король и тридцать джентльменов из его свиты уселись и ряд, затем в залу ввели обладателя удивительной памяти, индийца из касты брахманов, и посадили на пол против гостей. Брахман сказал, что знает только два языка — родной и английский, но готов испытать свою память на любом другом языке. Потом он предложил программу весьма необычную. Пусть каждый из присутствующих назовет одно слово из иностранной фразы и укажет его место в этой фразе. Вначале назвали французское слово est[2], второе в предложении из трех слов. Следующий джентльмен произнес немецкое слово verloгеn[3] и сказал, что оно третье в фразе из четырех слов. Третьего брахман попросил назвать одно слагаемое из суммы, следующего — вычитаемое или уменьшаемое на разности; других просил назвать по одному числу из различных арифметических задач; все его просьбы исполнили, Остальные называли слова из фраз на греческом, латинском, испанском, португальским, итальянском и других языках и указывали их место и этих фразах. Когда наконец каждый из присутствующих назвал слово из иностранной фразы или цифру из задачи, брахман снова начал опрос с первого джентльмена и у всех подряд получил второе слово или вторую цифру и узнал их место в предложении или задаче. Эту процедуру он повторял до тех пор, пока ему не назвали всех цифр в задачах и всех слов в предложениях, — разумеется, вперемежку, а не подряд. На это ушли два часа.
Потом брахман некоторое время сидел молча и думал и вдруг начал произносить фразу за фразой, расположив слова в должном порядке, решил все перепутанные арифметические задачи и дал на них правильные ответы.
Перед началом представления он попросил, чтобы в течение этих двух часов все бросали ему миндаль, а он потом скажет, сколько штук бросил каждый, но вице-король заявил, что испытание и без того потребует большого напряжения и незачем его усложнять, и миндаль бросать не стали.
У генерала Гранта[4] тоже была великолепная память на всякую всячину, даже на имена и лица, и я мог бы рассказать один случай, но мне это тогда не пришло в голову. Я впервые увидел генерала Гранта в начале первого срока его президентства. Я только что приехал в Вашингтон с побережья Тихого океана, чужой, никому не известный человек, и утром, проходя мимо Белого Дома, встретил знакомого — сенатора из Невады. Он спросил, не хочу ли я взглянуть на президента. Я ответил, что был бы очень рад, и мы вошли в Белый Дом. Я представлял себе, что президент будет окружен толпой народа и я смогу преспокойно глазеть на него издали, как бродячий кот глазел бы на короля. Но дело было утром, и сенатор воспользовался привилегией своего звания, о которой я понятия не имел, — побеспокоить главу государства в рабочие часы. Не успел я опомниться, как мы с сенатором оказались перед президентом, и, кроме нас троих, в комнате никого не было. Генерал Грант не спеша поднялся из-за стола, положил перо, и я увидел перед собой человека с каменным выражением лица, — этот человек семь лет не улыбался и не имел намерения улыбаться еще семь. Он смотрел та меня в упор — я не выдержал и опустил глаза. Я никогда не видел великих людей так близко, и мною овладели испуг и сознание собственного ничтожества.
— Господин президент, разрешите представить вам мистера Клеменса, — сказал сенатор.
Президент неприязненно тряхнул мою руку и тут же выпустил. Он все стоял и молчал. Я до того оробел, что не мог придумать, что сказать, мне хотелось лишь поскорее убраться восвояси. Наступила неловкая пауза, долгая и томительная. Наконец я придумал, что сказать, и, взглянув в его застывшее лицо, робко пролепетал:
— Господня президент, я... я растерялся. А вы?
Лицо его дрогнуло — самую малость; некое подобие улыбки мелькнуло, как зарница,— за семь лет до срока, — и исчезло; в то же мгновение исчез и я.
Второй раз я увидел генерала Гранта только через десять лет. Я уже приобрел некоторую известность, и мне поручили в числе других произнести тост на банкете, который давала в Чикаго теннессийская армия в честь генерала Гранта после его возвращения из кругосветного путешествия. Я приехал ночью и на следующее утро проснулся поздно. Все коридоры в гостинице были забиты желающими взглянуть на генерала Гранта, когда он будет проходить к месту, откуда ему предстояло произвести смотр войскам. Я с трудом протиснулся сквозь толпы, заполнившие все комнаты, и наконец очутился у широко распахнутой стеклянной двери, — она выходила на большой угловой балкон, устланный коврами и украшенный флагами. Я вышел на балкон и увидел внизу несметное множество народа: люди запрудили улицы, теснились у окон, заполнили крыши близлежащих зданий. Меня приняли за генерала Гранта, и вся эта масса людей разразилась бурными приветственными криками; но с балкона было хорошо видно, я не ушел. Вскоре я услышал далекую музыку военного оркестра, и в конце улицы показались войска, — рассекая толпу, они приближались под несмолкаемые крики «ура!». Во главе шествия, в мундире генерал-лейтенанта, ехал верхом Шеридан — олицетворение воинской доблести.
И тут под руку с майором Картером Гаррисоном на балконе появился генерал Грант, а за ним попарно, в парадной форме в во всех регалиях, шли четыре члена комитета, устроители этого торжества. За десять лет с той злополучной встречи генерал Грант ничуть не изменился — все то же бесстрастие бронзы и стали. Мистер Гаррисон подошел ко мне и, подведя меня к Гранту, церемонно представил ему. Но успел я открыть рот, как генерал Грант сказал:
— Мистер Клеменс, я не растерялся. А вы? — И мимолетная, раз в семь лет, улыбка опять сверкнула на его лице.
Прошло еще семнадцать лет, и сейчас, когда я пишу эти строки, весь Нью-Йорк высыпал на улицы воздать последние почести останкам великого воина на пути к месту его вечного упокоения в склепе под монументом; пушечные залпы и погребальный звон сотрясают воздух, и многомиллионное население Америки вспоминает человека, который возродил Союз и Флаг, вдохнул новую жизнь в демократический строй и — как мы искренне верим и надеемся — упрочил его место среди общественных систем, благодетельных для человечества.
На корабле мы увлекались игрой, которая помогала нам коротать время, — по крайней мере вечерами в курительной, где мужчины немного оживлялись после дневной скуки и однообразия. Игра заключалась в придумывании конца к неоконченным историям. Кто-нибудь рассказывал историю, обрывал ее на середине, а остальные пробовали сочинить конец. Потом, когда желающих больше не было, рассказчик говорил, чем кончилась его история. Настоящий конец сравнивали с придуманным, и новая развязка не раз оказывалась лучше старой. Но одна история особенно подстрекнула наше тщеславие и заставила потрудиться в поте лица: она не имела конца, и все, что мы придумывали, не с чем было сравнить. Рассказчик довел ее до определенного момента и объявил, что продолжения и сам не знает. Он читал этот рассказ в книге лет двадцать пять назад, но дочитать ему тогда не удалось. Теперь он готов заплатить пятьдесят долларов любому, кто сумеет сочинить такой конец, который удовлетворит избранное нами жюри. Выбрав жюри, мы ринулись в бой. Мы сочинили целую кучу всяких окончаний, но жюри отвергло их все до единого. И правильно сделало. Возможно, сам автор завершил свой рассказ неплохо, но если ему это удалось, мне было бы очень интересно узнать конец. Даже неискушенный человек увидит, что рассказ обрывается на самом интересном месте, а ведь самой интересной должна быть развязка — и потому так трудно было его закончить. Бот вкратце содержание этого рассказика:
Джон Браун, тридцати одного года от роду, добрый, кроткий, робкий и застенчивый, жил в тихой деревушке штата Миссури. Он был директором пресвитерианской воскресной школы. Должность не бог весть какая, но другой у него не было, и Джон скромно душой был предан своей работе и интересам школы. Все признавали за ним редкую доброту; про него говорили, что он весь соткан из добрых намерений и робости; что всегда можно рассчитывать на его помощь там, где она нужна, и на его робость, независимо от того, нужна она или нет.
Мэри Тэйлор, двадцати трех лет, скромная, милая, обаятельная прекрасная душой и телом, была для Джона всем на свете. Да и он, верно, был для нее тоже всем на свете. Она уже сдавалась, и он был полон надежд. Ее мать с самого начала была против брака, но и она заколебалась; он это ясно видел. Ее тронуло его горячее участие и помощь одиноким старушкам, которым она покровительствовала. Речь идет о двух сестрах, что жили и бревенчатой хижине у проселочной дороги, в четырех милях от фермы миссис Тэйлор. Одна на сестер была не совсем в своем уме и порой даже буйствовала, хоть и не так уж часто.
Но вот настала пора действовать, и Браун, собрав все свое мужество, решил сделать предложение. Он удвоит сумму, которую ежемесячно дает старушкам, и мать будет завоевана; сломив ее сопротивление, он, конечно, быстро добьется победы.
Джон Браун отправился к Тэйлорам в тихий воскресный день теплого миссурийского лета, снарядившись в путь, как того требовали обстоятельства. На нем был белый полотняный костюм с голубым бантом вместо галстука и роскошные узкие сапоги. Лошадь и коляска были лучшими во всем извозчичьем дворе. Новехонький полог из белой парусины окаймляла ручная вышивка, по красоте не имевшая себе равной во всей округе.
Когда молодой человек проехал четыре мили по безлюдной дороге и вел лошадь через деревянный мост, ветер сорвал с него соломенную шляпу; шляпа упала в речку, поплыла по течению и наконец зацепилась за бревно. Что ж теперь делать? Без шляпы ехать нельзя — это ясно, но как ее вытащить из воды?
И вдруг его осенило. Дорога пустынна, кругом ни души. Да, можно рискнуть. Он поставил лошадь на обочину — пусть щиплет травку, — потом разделся, положил одежду в коляску, потрепал лошадь по шее, чтобы заручиться ее сочувствием и преданностью, и поспешил к речке. Он поплыл к бревну, и скоро шляпа была у него в руках. Но когда Джон выбрался на берег, лошади там не оказалось.
У него чуть ноги не подкосились. Лошадь не спеша трусила вдоль дороги. Браун побежал вдогонку, приговаривая: «Тпру, тпру, милая!» Но как только он догонял коляску и собирался в нее вскочить, лошадь прибавляла шагу, и он опять отставал. И так всякий раз. Голый человек бежал все дальше по дороге, обливаясь холодным потом от ужаса, зная, что в любую минуту его могут увидеть. Целую милю лошадь, казалось, дразнила его, а он умолял и заклинал ее подождать; только почти у самой фермы Тэйлоров ему удалось наконец вскочить в коляску. Впопыхах он напялил сорочку, повязал бант, надел сюртук и потянулся за... но поздно; он быстро присел и натянул полог, — кто-то выходил из калитки. Женщина, подумал Браун. Он повернул коня влево и понесся по проселочной дороге. Дорога была прямая и открытая, но милях в трех круто сворачивала в лесок, и Браун совсем повеселел, когда оказался за поворотом. Здесь он пустил лошадь шагом и потянулся за брю... — увы, опять слишком поздно. Навстречу ему шли миссис Эндерби, миссис Глоссоп, миссис Тэйлор и Мэри. Они казались усталыми и взволнованными. Женщины бросились к коляске, поздоровались и наперебой стали говорить, горячо и искренне, как они ему рады и какая это для них удача, А миссис Эндерби проникновенно сказала:
— То, что мы его встретила здесь, в эту минуту, может показаться случайным. Но так думать грех: он нам ниспослан — ниспослан свыше.
Все были растроганы, а миссис Глоссоп с благоговением прошептала:
— Сара Эндерби, никогда еще ваши слова не были столь справедливы. Это не случайность, это промысел господень. Да, он ниспослан. Он ангел, воистину ангел, он ангел-спаситель. Сара Эндерби, я говорю: ангел, и нет у меня другого слова. Пусть кто-нибудь посмеет сказать мне теперь, что промысла господня не существует; уж если это не пример тому, тогда что же?
— Да, да, разумеется, это так, — с горячностью вставила миссис Тэйлор, — Джон Браун, я готова молиться на вас, готова стать перед вами на колени. Ведь правда, внутренний голос подсказал вам... ведь вы почувствовали, что ниспосланы? Я готова поцеловать край полога вашей коляски.
Джон Браун лишился дара речи; стыд и страх парализовали его.
— Нет, вы только подумайте, Джулия Глоссоп, — продолжала миссис Тэйлор.— Неужели кто-нибудь может усомниться в том, что это рука провидения? Что мы увидели в полдень? Мы увидели клубы дыма. И я заговорила первая: «Горит хижина сестер-старушек», — сказала я. Разве не так, Джулия Глоссоп?
— Слово в слово так, Нэнси Тэйлор. Я стояла от нас не дальше, там сейчас, и я слышала эти слова. Вы, кажется, сказали хибарка, а не хижина, но ведь сущность одна и та же. И вы побледнели.
— Побледнела! Я была бледна, как... да вот, как этот полог, Потом я крикнула: «Мэри Тэйлор, вели работнику запрячь лошадь — мы едем им на помощь». А она оказала: «Разве вы забыли, маменька, что отпустили его на целое воскресенье к родным?» Ну конечно, так оно и было. Сознаюсь, это совсем вылетело у меня из головы. «В таком случае, — сказала я, — мы пойдем пешком». И мы пошли. А по дороге встретили Сару Эндерби.
— И мы пошли вместе, — подтвердила миссис Эндерби. И оказывается, сумасшедшая подожгла хижину, и та сгорела дотла; а несчастные старушки, такие старые и слабые, едва держались на ногах. И мы отвели их в тень, устроили поудобнее и стали думать, как бы нам доставить их в дом Нэнси Тэйлор. И тут я заговорила первая и сказала... что же я сказала? Не оказала ли я: «Всевышний ниспошлет нам помощь»?
— Истинная правда, эти самые слова вы и сказали! Как я могла забыть!
— И я забыла! И я забыла! — восклицали миссис Глоссоп и миссис Тэйлор. — Но вы сказали именно эти слова. Ну не удивительно ли!
— Да, я так и сказала. И потом мы все вместе пошли к Мослеям, за две мили; но оказалось, что все они отправились на богослужение в Стони Форк; и мы пошли назад — опять две мили; потом сюда — еще милю, — и вот всевышний действительно ниспослал нам помощь! Вы теперь сами это видите.
Дамы, потрясенные, взглянули друг на друга, воздели руки к небу и в один голос воскликнули:
— Со-вер-шенно поразительно!
— А теперь как лучше сделать? — спросила миссис Глоссоп. — Может быть, мистер Браун перевезет старушек к Нэнси Тэйлор поодиночке или посадит обеих в коляску, а сам поведет лошадь под уздцы?
У Брауна захватило дух.
— Да, решить не так-то просто, — заметила миссис Эндерби. — Все мы до смерти устали, и что бы ни придумали, все покажется трудным. Если мистер Браун заберет сразу обеих, кому-нибудь из нас придется ехать с ним, чтобы помочь подсадить старушек в коляску, — одному ему не справиться, а они такие беспомощные.
— Верно, — отозвалась миссис Тэйлор. — Похоже, что... А если сделать так: одна из нас поедет с мистером Брауном, а остальные отправятся ко мне на ферму и все приготовят. Я поеду с ним. Вдвоем мы втащим в коляску одну из старушек, потом отвезем ее ко мне и...
— А кто присмотрит за второй? — перебила миссис Эндерби. — Не можем же мы бросить ее одну в лесу — особенно ту, помешанную. А ведь дорога в оба конца – это восемь миль.
Разморенные усталостью женщины сидели на траве возле коляски. Несколько минут все молчали, раздумывая, как быть; потом вдруг миссис Эндерби просияла.
— Кажется, я придумала! — воскликнула она. — Ясно, что идти пешком мы больше не можем. Вы только подумайте, сколько мы прошли: целых девять миль — четыре мили туда и две до Мослеев — это уже шесть, и еще обратно сюда, а ведь у нас маковой росинки во рту не было! Как мы только выдержали! Я, например, просто умираю с голоду. Так вот, кто-нибудь должен отправиться с мистером Брауном, без этого не обойтись, — только не пешком, а в коляске. Вот что я предлагаю: одна из нас едет с мистером Брауном к старушкам, потом отвозит одну из них на ферму Нэнси Тэйлор; мистер Браун тем временем будет присматривать за второй, а остальные пойдут к Нэнси, и пока вернутся уехавшие, они там отдохнут; потом кто-нибудь поедет назад и привезет к Нэнси вторую сестру, а мистер Браун пойдет пешком.
— Прекрасно! — воскликнули все дамы разом.— Это вполне подходит... как раз то, что надо.
Потом они сказали, что у миссис Эндерби светлая голова и такого разумного плана никому ее придумать; и еще что удивительно, как им самим не пришел на ум такой простой план. Добрые, чистые сердца, этим замечанием они совсем не собирались брать свою похвалу обратно и даже не подозревали, что сделали это. Посовещавшись, дамы решили отправить с Брауном миссис Эндерби, — выбор пал на нее, потому что план придумала она. Теперь, когда все было решено, умиротворенные и счастливые они поднялись с лужайки, расправили платья, и трое из них уже повернули к дому; миссис Эндерби поставила ногу на подножку коляски, чтобы взобраться туда, но в эту минуту Браун вновь обрел голос и прохрипел:
— Миссис Эндерби, пожалуйста, верните их... у меня сильная слабость, я не могу идти пешком, право же не могу.
— Конечно, дорогой мистер Браун! Вы так бледны; мне, право, совестно, как это я раньше не заметила. Вернитесь... вернитесь все назад! Мистер Браун нездоров! Не могу ли я помочь вам чем-нибудь, мистер Браун? Простите меня. Что у вас болит?
— Ничего не болит, сударыня, только слабость. Я не болен, но очень ослабел... только что, совсем недавно.
Дамы возвратились, соболезнуя мистеру Брауну, сочувственно заохали, заахали и осыпали себя упреками: как это они раньше не заметили, что он такой бледный. Тут же составили новый план, и вскоре все согласились, что он лучше всех прежних. Сперва все вместе отправятся к Нэнси Тэйлор и позаботятся о мистере Брауне. Его уложат на диван в гостиной, и Мэри с матерью останутся ухаживать за ним, две другие дамы съездят за одной старушкой, а другая тем временем останется под надзором второй дамы, и...
Без всяких проволочек они взялись за уздечку и уже поворачивали коня назад. Катастрофа казалась неминуемой; но тут Браун снова обрел голос, и это его спасло. Он сказал:
— Однако, сударыни, вы упускаете нечто такое, что делает ваш план невыполнимым. Если вы увезете одну из сестер и кто-нибудь из вас останется со второй, то когда за ними приедут — кому-нибудь ведь надо приехать с коляской, — там уже окажется три человека, а трое в коляске не поместятся.
— Ну да, так оно и есть! — воскликнули женщины хором и опять пришли в замешательство.
— Боже мой, боже мой, что же нам делать? — горестно вопросила миссис Глоссоп. — Такой задачи век не решить, В сравнении с ней загадка про волка, козу и капусту — сущий пустяк.
Они опять устало опустились на траву и снова принялись ломать свои измученные головы, придумывая выход из положения. На этот раз план предложила Мэри; до сих пор она держалась в стороне.
— Я молода, сильна и уже совсем отдохнула, — сказала она. — Отвезите мистера Брауна к нам домой и позаботьтесь о нем — по лицу видно, как ему плохо. Я вернусь к старушкам и присмотрю за ними; я дойду туда за двадцать минут. А вы, как и собирались, остановите на проезжей дороге возле вашего дома какую-нибудь телегу и пошлите за нами тремя. Долго вам ждать не придется, ведь фермеры скоро начнут возвращаться из города. Старую Полли я успокою и уговорю, чтоб не падала духом, ну а помешанной это не нужно.
План обсудили и одобрили; все равно ничего лучше не придумать, да к тому же следовало торопиться — бедные старушки уже, наверное, совсем извелись.
Браун облегченно вздохнул, и сердце его преисполнилось благодарности. Только бы добраться до большой дороги. Уж там-то он сумеет удрать.
Тут миссис Тэйлор сказала:
— Уже вечереет, скоро станет совсем прохладно, а бедным погоревшим старушкам нечем укрыться. Захвати полог от коляски, милочка.
— Хорошо, маменька.
Мэри шагнула к коляске и протянула руку к пологу...
На этом история кончалась. Рассказчик читал ее в вагоне двадцать пять лет тому назад, и как раз на этом месте ему помешали: поезд свалился с моста в речку.
Сперва вам показалось, что присочинить конец вовсе нетрудно, и мы взялись за дело, уверенные в успехе. Вскоре, однако, выяснилось, что задача далеко не так проста; напротив — она очень сложна и запутана, Вспомним характер Брауна — редкостное великодушие и доброта, да при этом еще необычайная робость и застенчивость, особенно в присутствии дам; кроме того, его любовь к Мэри с надеждой на счастливое завершение дела, но пока только надеждой,— значит, именно теперь необходимо проявить исключительную деликатность, не сделать ни малейшей ошибки и никого не обидеть. Не забудьте, что там была и мамаша, которая еще колебалась — то ли была согласна, то ли нет, — и уломать ее удалось бы только с помощью тонкой, безупречной дипломатии, — теперь или никогда. К тому же в лесу дожидались беспомощные старушки, — их участь и счастье Брауна зависели от того, как он поступит и эту минуту. Мэри протянула руку к пологу; нужно немедленно решить... время не терпит.
Разумеется, жюри одобрило бы только счастливый конец этой истории: Браун должен подняться еще выше в глазах дам, его поведение должно быть безупречным, скромность не опорочена; он жертвует собой, как это свойственно его натуре, старушки спасены благодаря ему, их благодетелю; все счастливы и гордятся им, его превозносят на все лады.
Мы пытались все это сочетать, но натолкнулись на неодолимые противоречия и трудности. Стыдливость не позволила бы Брауну отдать полог. Это обидело бы Мэри и ее мать и удивило бы остальных дам, потому что подобная жестокость по отношению к несчастным старушкам не вяжется с характером Брауна; и к тому же он не может так поступить, ибо послан провидением. Если его попросит объяснить свой поступок, стыдливость не позволит ему сказать правду, а сочинить убедительную ложь он бы не сумел, так как не отличался находчивостью и не имел житейского опыта.
До трех часов утра бились мы над этой задачей, а Мэри все еще стояла, протянув руку к пологу. Так мы ничего и не придумали и решили: пусть ее стоит. Предоставляем читателю пораскинуть умом и самому придумать конец этой истории.
Глава III ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД ГОНОЛУЛУ
Правильно вести себя легче, чем придумать правила поведения.
Новый календарь Простофили ВильсонаНа седьмой день плавания из пучины Тихого океана перед нами возникла темная громада; мы тотчас узнали ее — это были смутные очертания мыса Даймонд-Хэд, уголка того мира, с которым я расстался двадцать девять лет тому назад. Мы приближались к Гонолулу[5] столице Сандвичевых островов,— где я когда то познал рай, и все эти долгие годы я страстно мечтал увидеть этот рай вновь. Ничто на свете не могло бы взволновать меня так сильно, как вид этого гиганта.
Ночью мы бросили якорь в миле от берега. Через иллюминатор моей каюты я видел мигающие огни Гонолулу и черную цепь гор, высившихся справа и слева от города. Прекрасную долину Нууану я различить не мог, но знал, где она находится, и хорошо помнил, какой она была прежде. В те далекие дни мы, молодежь, отправлялись туда верхом и на песчаной отмели, где Камеамеа дал одно из своих первых сражений, искали человеческие кости, Камеамеа был необыкновенным королем; да и дикарем он был необыкновенным. В 1777 году, когда здесь впервые появился капитан Кук, Камеамеа был еще совсем ничтожным королишкой, но не прошло и четырех лет, как он задумал «расширить сферу своего влияния». Это — современное деликатное выражение, означающее: «ограбить своего соседа для его же пользы»; широкой ареной для подобных благодеяний является Африка. Камеамеа затеял войну и за десять лет стер с лица земли всех прочих королей и завладел всеми островами архипелага, — кажется, всего их девять или десять. Но на этом он не остановился. Камеамеа накупил кораблей, нагрузил их сандаловым деревом и другими местными товарами и послал в Южную Америку и Китай; а инструмент, домашнюю утварь и другие заморские товары, провезенные возвратившимися кораблями, он продал своим дикарям и тем самым открыл дорогу цивилизации. Вряд ли в истории дикарей можно найти что-либо подобное. Дикари охотно перенимают у белых новые способы убивать друг друга, но вовсе не в их привычкам жадно схватывать и без оглядки применять более высокие и благородные идеи, которые им предлагают. Знакомясь подробнее с историей Камеамеа, убеждаешься, что он никогда не упускал случая изучать идеи белых и проявлял благоразумие и осмотрительность, выбирая из выставленных напоказ образцов.
Его сын и приемник Лиолио, на мой взгляд, такой мудрой осмотрительностью не отличался. Лиолио можно, пожалуй, назвать реформатором, но король из него не получился. Не получился потому, что он хотел быть королем и реформатором одновременно. А это все равно, что бросать в огонь порох. Королю не пристало заниматься реформами. Самое лучшее, что он может сделать, — это сохранять существующие порядки; а если он на это не способен, пусть попытается изменить их к худшему. Я говорю не наобум; я продумал этот вопрос весьма основательно, и если бы мне выпал случай стать королем, уж я бы знал, как управиться с этим делом.
Когда Лиолио наследовал своему отцу, у него в руках оказались такие возможности проявления и охраны королевской власти, которыми другой, более мудрый король сумел бы воспользоваться разумно и с выгодой. Страна была под единым скипетром, и владел этим скипетром Лиолио. В стране была единая государственная церковь, и во главе ее стоял Лиолио. Была там и регулярная армия, и во главе ее стоял Лиолио. Армия из ста четырнадцати рядовых под командой двадцати семи генералов и одного фельдмаршала. Была там древняя и спесивая Наследственная Аристократия, и еще — табу. Табу, наделенное таинственной, мистической властью, — сила, какой нет в арсенале ни одного европейского монарха, — неоценимое орудие в деле управления государством. И хозяином табу был все тот же Лиолио, — хозяином самого хитроумного и самого действенного из всех средств, когда-либо изобретенных человеком, чтобы держать народ в повиновении.
Табу требовало, чтобы мужчины и женщины не жили под одной крышей. Оно не разрешало ни тем, ни другим есть у себя дома, — пусть едят где-нибудь в ином месте. Оно запрещало женщинам переступать порог хозяина дома — мужчины. Оно запрещало мужчинам и женщинам есть вместе; сперва едят мужчины, а женщины пусть прислуживают. Женщинам не возбранялось прислуживать самим себе и доедать остатки,- если что-нибудь оставалось. Точнее — если оставалась объедки, грубая и несъедобная пища, но отнюдь не тонкие, вкусные, изысканные кушанья, вроде свинины, птицы, бананов, кокосовых орехов, лучших сортов рыбы в тому подобного. Согласно табу, вся эта снедь предназначалась мужчинам; женщины же были обречены всю жизнь мечтать об этих лакомствах, гадая, какие они на вкус, и умирали, так и не отведав их.
Правила, как видите, очень простые и понятные. Их легко было запомнить — и небесполезно: ведь нарушение любого из них каралось смертью. И женщины без особого труда научились довольствоваться мясом акулы или собаки или кореньями таро, раз уж за другую пищу приходилось расплачиваться такой ценой.
Смерть грозила тому, кто ступил на землю, объявленную табу; и тому, кто осквернил своим прикосновением какой-нибудь предмет табу; и тому, кто не выразил должного почтения вождю или наступил на тень короля. Аристократы, король и жрецы постоянно вывешивали то тут, то там небольшие тряпицы в знак того, что это место или предмет — табу, и смерть притаилась рядом. Тяжкой и полной превратностей была в те дни борьба за существование на Сандвичевых островах.
Вот в каком выгодном положении оказался новый король. И представьте себе, он начал с того, что начисто искоренил государственную церковь. Да, именно сак он и сделал! Выражаясь фигурально, он уподобился удачливому мореплавателю, который сжег свой корабль и пересел на плот. Церковь была отвратительной штукой. Она жестоко угнетала народ; с помощью мрачных и таинственных угроз она держала его в вечном страхе; она приносила людей в жертву на алтарь нелепых уродцев из камня и дерева; она запугивала людей, принижала их, делала их рабами жрецов, а через жрецов — рабами короля. Лучшего и более надежного друга, чем церковь, король и желать не мог. Профессиональный реформатор, уничтоживший такую страшную и разрушительную силу, как эта церковь, стяжал бы себе хвалы и почет, но король, сделавший подобное, заслуживал лишь осуждения; осуждения и, быть может, еще жалости, — он оказался недостойным своего трона.
Лиолио упразднил государственную церковь, и в результате этого его королевство стало республикой.
Уничтожая церковь и идолов, он совершил благое дело для цивилизации и для своего народа, только это не было «бизнесом». Он поступил не по-королевски, поступил бездарно и во вред самому себе. Сожженные идолы еще дымились, а в страну уже прибыли американские миссионеры. Они застали народ без религии и поспешили восполнить пробел. Они предложили свою религию, и она была принята с радостью. Но такая религия не была опорой для деспотического властелина, и с тех пор королевская власть начала хиреть. Сорок семь лет спустя, в мою бытность на островах, Камеамеа V пытался исправить промах Лиолио, но безуспешно. Он учредил государственную церковь, а себя назначил ее главой. Однако это была лишь видимость церкви, подделка, пустышка, мыльный пузырь. Она не обладала никаким могуществом, и королю от нее было мало толку. Не в ее власти было терзать, жечь и убивать людей, она ничем не походила на ту превосходную машину, которую уничтожил Лиолио. То была государственная церковь без государственной власти над нею, и каждый верил во что хотел.
Само королевство уже давно стало бутафорией, пустым звуком. Сперва миссионеры превратили его в некое подобие республики; впоследствии белые бизнесмены превратили его в точную копию республики.
Во времена капитана Кука (1778) на Сандвичевых островах насчитывалось четыреста тысяч человек коренного населения; в 1836 году их оказалось уже всего около двухсот тысяч, в 1806 — не больше пятидесяти тысяч; а в наши дни, согласно последней переписи, — всего двадцать пять тысяч. Рассудительные люди превозносят Камеамеа I и Лиолио за то, что они даровали своему народу великие блага цивилизации. Я бы и сам, наверное, их превозносил, да у меня что-то в голове разладилось, от чрезмерной работы должно быть. Лет тридцать тому назад я познакомился на этих островах с молодой американской четою, у них был прелестный сынишка лет семи; правда, я не мог с ним даже поболтать, так как он не говорил по-английски. Всю свою короткую жизнь он играл на плантациях отца с маленькими канаками и так привык к их языку, чти не котел учиться никакому другому. Через месяц после моего приезда семья возвратилась в Америку, и мальчик стал учиться английскому и забывать туземный. К двенадцати годам он уже не помнил ни одного слова на языке канаков; этот язык начисто исчез из его сознания и речи. Спустя девять лет, когда ему минул двадцать один год, случай снова спел меня с этой семьей — в городе на одном из островов штата Нью-Йорк,— и мать рассказала мне, что приключилось с их сыном. Он был теперь по профессии водолазом. Однажды буря застигла на озере пароход, и он со всеми пассажирами пошел ко дну. Через несколько дней после катастрофы молодой водолаз в полном облачении спустился на затонувший пароход и вошел в кают-компанию. Держась за поручни, он остановился на нижней ступеньке трапа и стал вглядываться в мутную воду. Вдруг что то коснулось его плеча; обернувшись, он увидел мертвеца, который, качаясь, прыгал возле него и, казалось, с недоумением его разглядывал. Водолаз оцепенел от ужаса. Опускаясь, он взбаламутил воду и теперь различал вокруг смутные очертания тел — они плыли к нему со всех сторон, тряся головами и раскачиваясь из стороны в сторону, словно сонные люди, пытающиеся танцевать. Водолаз потерял сознание. Его вытащили из воды, дома уложили в постель, и он совсем расхворался. В течение нескольких дней он часами бредил и в бреду безостановочно бойко говорил по-канакски, только по-канакски. Когда я пришел его навестить, он был еще очень болен и заговорил со мной на атом языке; разумеется, я не понял ни единого слова. Медицинские книги описывают подобные случаи. Так почему же врачи не научат их и не отыщут средства умножить их число? Сколько языков и всяких полезных сведений лежат без толку в головах у людей только потому, что такое средство не найдено.
Множество воспоминаний о моих прежних посещениях Сандвичевых островов пронеслось в моем воображении в ту ночь, пока мы стояли на якоре у Гонолулу. Картины... картины... целая вереница пленительных картин! С величайшим нетерпением ждал я утра.
Наконец утро настало, но с ним пришло разочарование. В городе вспыхнула эпидемия холеры, и мы оказались отрезанными от берега. Так разбилась мечта, лелеянная двадцать девять лет. Приходили вести от друзей, но увидеться с ними мне было не дано. Зал для моих лекций был подготовлен, но мне не суждено было переступить его порог.
Среди пассажиров оказалось несколько жителей Гонолулу, и их туда переправили; но сойти на берег, а потом вернуться на корабль не разрешалось никому. Кое-кто в городе запасся билетами на наш пароход до Австралии, но мы не могли взять их на борт: это грозило бы нам карантином в Сиднее. Еще накануне у этих людей была возможность спастись, уехав на пароходе в Сан-Франциско, но теперь гавань заперли; могут пройти недели, прежде чем какой-нибудь капитан рискнет принять их на свой корабль. Неудача постигла и других. Пожилая дама из Массачусетса вздумала прокатиться по морю вместе с сыном просто так, ради удовольствия; они плыли все дальше и дальше на запад и уже много раз собирались вернуться, но все откладывали свое возвращение еще ненадолго; и вот теперь, когда они бесповоротно решили, что уже несомненно пора возвращаться, они застряли возле Гонолулу. Что толку принимать решения на нашей планете? Как правило, это пустая трата времени. Матери и сыну поневоле придется оставаться в нашем обществе до Австралии. Им предоставляется выбор: совершить оттуда кругосветное путешествие или той же дорогой плыть обратно — расстояние одно и то же, те же удобства, и времени они потеряют столько же, какой бы путь на эти двух ни выбрали. Есть над чем поразмыслить: задумано путешествие в пятьсот миль, постепенно оно все удлиняется и в конце концов растягивается чуть ли не до двадцати четырех тысяч миль. Впрочем, дама и ее сын уже привыкли к тому, что едут все дальше в дальше, и это новое удлинение пути их не очень-то огорчало.
Ехал с нами и адвокат из Виктории, посланный правительством в Гонолулу по делу дипломатического характера; он взял с собой жену, а детей оставил дома на попечения слуг. Что делать родителям? Сойти на берег, рискуя заразиться холерой? Конечно нет. Они решили ехать до островов Фиджи, подождать там недели две следующего парохода и на нем возвратиться домой. Но могли ли они ожидать, что попутный корабль придет только через шесть недель и что за это время они не получат ни строчки от своих детей и сами ни строчки не смогут им написать? Не велика мудрость строить планы в этом мире, на это способна даже кошка; но когда забираешься в такую даль, то, будь ты кошка или человек, планам твоим грош цена.
Нам ничего больше не оставалось, как сидеть под тентом на палубе и любоваться недосягаемым берегом. Вода за кормой была ослепительно синей; ближе к берегу она сделалась изумрудной — изумрудной и искрящейся; а у самого берега рассыпалась длинной полосой белой ряби, без всплеска, без малейшего шума. Город укрывался в зелени, похожей на мшистый ковер, в пышном великолепии нежнейших красок и переливов стоили атласные горы, кое-где окутанные вуалью сползающих туманов. Все это было мне знакомо. Таким предстал остров предо мною когда-то; таким я видел его и сейчас — та же красота и то же очарование.
Правда, за это время там произошли перемены, но они касались политики, и с корабля их не разглядишь. Прежней монархии больше не существует; ее место заняла республика. Впрочем, сущность не изменилась. Исчезла показная парадность, мишурный блеск и марка королевской фирмы — вот, пожалуй, и все, что изменилось. Еще в мое время это подобие монархии выглядело нелепой карикатурой: продержись она еще лет тридцать, и у короля вовсе не осталось бы подданных одной с ним расы.
Закат был великолепный. Водную гладь рассекали широкие полосы ярко контрастных цветов: один — густо-синего, другие — пурпурного, третьи — цвета полированной бронзы. Волнистая цепь гор переливалась изысканными коричневыми и зелеными красками, всеми оттенками бирюзы, пурпура и темных цветов, а мягкие бархатные склоны иных холмов хотелось погладить, словно лоснящуюся спину кота. Пологий мыс, далеко врезавшийся в море на западе, потускнел и сделался сперва свинцовым и призрачным, потом заалел и превратился в розовое видение, как говорится в романах, — таким он казался невесомым и нереальным. Пролетевшее облачко вспыхнуло ярким пламенем в небе и на море, и от этого восхитительного зрелища кружилась голова.
Из разговоров с жителями Гонолулу — пассажирами нашего корабля — и очерка миссис Мэри Кроут я понял, чем отличается теперешний Гонолулу от прежнего. В мое время это был прелестный городок с белоснежными деревянными домиками, утопающими в кустах и пышной зелени тропических лиан, деревьев и кустарников; коралловые мостовые его улиц и переулков были твердые и гладкие и такие же белоснежные, как дома. Глядя на такой городок, представляешь себе жизнь скромную, но приятную и в достатке — для многих, а может быть, даже для всех. Не было там ни роскошных зданий, ни дорогой мебели, ни богатого убранства. В спальнях горели сальные свечи, лампа с китовым жиром освещала гостиную. Местные циновки заменяли ковры. В гостиных висели две-три литографии — обычно портреты Камеамеа IV, Лайоша Кошута, Женни Линд; иногда две-три гравюры — «Ревекка у колодца», «Моисей, исторгающий воду из скалы» и «Слуги Иосифа находят кубок в мешке Вениамина». На столике посреди комнаты — поучительные книги: «Долг и обязанности человека», «Отдохновение праведников» Бакстера[6], «Великомученики» Фокса, «Философия, вошедшая в пословицы» Таппера[7], комплекты «Вестника миссионера» в переплетах, «Друг моряка» патера Дамиена. Вы увидели бы фисгармонию, пюпитр, на котором рядом со сборником псалмов лежат «Вилли, нам без тебя грустно», «Вечерняя звезда», «Плывя, мой серебряный месяц», «Там ли ты теперь?», «Мне не жить вечно» и другие чувствительные любовные романсы. Этажерка для безделушек и на ней стеклянные пресс-папье в виде полушарий с миниатюрными изображениями кораблей, снежных бурь в сельских местностях Новой Англии и тому подобного; морские раковины, на которых выгравированы, как на камее, библейские тексты; местные диковинки; китовый зуб, на котором вырезан корабль в полном оснащении. Сувениров из чужих краев вы бы там не нашли, ибо за границей никто не бывал. Ездили в Сан-Франциско, но какая же это заграница? В общем, жители Гонолулу не имели обыкновения путешествовать.
Но с той поры Гонолулу разбогател, а с богатством пришли и новшества; былая простота во многом исчезла. Вот как выглядит современное жилище в описании миссис Кроут:
«Чуть ли не каждый дом утопает в зелени лужаек и садов, обнесенных стенами из вулканита или густой изгородью ослепительной мальвы.
Дома обставлены с большим вкусом и комфортом; полы из твердого дерева устланы либо коврами, либо красивыми индийскими циновками; как обычно в жарких странах, здесь предпочитают мебель из раттана или бамбука; в комнатах всякого рода безделушки, книги, картины и диковинки из всех частей света, так как жители Сандвичевых островов неутомимые путешественники.
К большинству домов пристроена так называемая «ланаи». Это большая, открытая с трех сторон веранда, с крышей, полом и дверью или задрапированной аркой, ведущей и гостиную. Кровлей нередко служат толстые переплетенные ветви дерева «хоу», — такая крыша не пропускает солнца и даже дождя, разве что в сильную бурю. По сторонам веранды вьются ползучие растения — стефанотисы или какой-нибудь другой плющ с благоухающими цветами, которыми изобилуют эти острова. От дождя и солнца защищают также циновки, опускающиеся, как жалюзи. Чтобы было прохладнее, пол совсем не устилают коврами пли устилают не весь; ланаи со вкусом обставлена удобными креслами и диванами, на столах много цветов или редкостных папоротников в горшках.
Ланаи — излюбленная гостиная; здесь музицируют, когда собирается общество, сюда подают сласти и мороженое; здесь утром принимают гостей или собираются веселые компании перед прогулкой верхом; на дамах изящные юбки с разрезом, незаменимые для верховой езды, — мода, широко распространенная среди европейцев и американцев, а также местного населения.
Удобство и роскошь такой веранды, особенно на приморской вилле, трудно себе представить. Проносится легкий ветерок, насыщенный ароматом жасмина и гардоний, сквозь покачивающиеся ветви пальм и мимоз проглянет то цепь гор с вершинами, окутанными облаками, то фиолетовое море и вечно дробящаяся о рифы белая пена прибоя — ослепительно белая под тропиками в золотом сиянии солнца и в волшебном свете луны».
Итак — ковры, мороженое, ланаи, картины, мирские книги, греховные безделушки со всех концов света. И дамы, которые ездят верхом по-мужски. Это ли не новшества? В мое время так ездили только туземки, у белых женщин не хватало мужества перенять их мудрый обычай. Лед был редкостью в Гонолулу в мое время. Иногда его привозили, как балласт, суда из Новой Англии; ну а если в то время в гавани стоял военный корабль и, значит, давались балы и званые вечера, то балласт — по свидетельству почтенных преданий — продавали по шестьсот долларов за тонну. Теперь же машина, изготовляющая лед, обошла весь свет, и нет такого уголка на земле, где бы его не было. В наши дни даже в Лапландии и на Шпицбергене натуральным льдом пользуются только медведи и моржи.
О велосипеде миссис Кроут не упоминает. И незачем. Мы и так знаем, что велосипеды там есть. А где их нет? Если бы не было велосипедов, люди никогда не обзаводились бы дачами на вершине Монблана; пока велосипед не вошел в обиход, земельные участки там ни во что не ценились. Дамы гавайской столицы слишком поздно выучились правильно ездить верхом — теперь от этого уже мало толку. Верховая лошадь повсюду уходит в область преданий. Пройдет всего несколько лет, и она превратится в анахронизм и в Гонолулу.
Все мы знаем историю патера Дамиена, французского священника, который добровольно ушел из мира и отправился на Молокаи — остров прокаженных, чтобы помогать этим несчастным отверженным, в муках ожидающим смерти — избавительницы от страданий. Мы знаем также — то, что патер предвидел, действительно произошло: он заболел проказой и умер от этой страшной болезни. Это не единственный известный мне пример самоотверженности. Я спросил о «Билли» Рэгсдэйле — метисе, в мое время служившем переводчиком при парламенте. Всеобщий любимец, выдающийся молодой человек и переводчик непревзойденный. Просто удивительно, с какой легкостью и блеском он переводил речи на заседаниях парламента с английского языка на гавайский и с гавайского на английский. В ответ на мой вопрос мне сказали, что его многообещающая карьера оборвалась совершенно неожиданно — как раз тогда, когда он собирался жениться на прелестной девушке-метиске. По какому-то едва заметному пятнышку на коже он понял, что заразился проказой. Никто об этом не знал, и он мог бы хранить свою тайну годами, но ведь это было бы предательством по отношению к девушке, которая его любила. Он хотел оградить ее от участи обреченных. Молодой человек привел в порядок свои дела, простился с друзьями и на корабле прокаженных уехал на Молокаи. Там он умер ужасной медленной смертью, какой умирают все прокаженные!
Я позволю себе привести отрывок из: «Рая на Тихом океане» (преподобного X. X. Гоуэна):
«Несчастные прокаженные! Хорошо, если у вас нет среди них близких или друзей, — вам легко будет беспощадно выполнять закон об изоляции; но кто сумеет описать происходящие при этом страшные, душераздирающие сцены?
На одном из Гавайских островов неожиданно схватили и увезли мужчину, и его беспомощная жена на сносях осталась одна. Преодолевая всяческие препятствия, рискуя собой и ребенком, верная жена добралась до Гонолулу и так умоляла чиновников, что ей в конце концов позволили отправиться в изгнание вместе с прокаженным мужем.
Молодой, полной сил женщине объявляют, что у нее признаки проказы, и, не дав опомниться, уводят ее; вернувшись домой, муж застает двух своих малышей, со слезами зовущими мать, которую у них отняли.
Вы только представьте себе! Ужасна участь детей, но их горькая доля — пустяк, ничто, по сравнению с тем, что переживает мать; переживания ее не потеряют остроты; ей предстоит терзаться час за часом, день за днем, месяц за месяцем, год за годом, и не будет ей облегчения до самой смерти.
Лука Кааукау, жена прокаженного, двенадцать лет жила на острове Молокаи. У ее мужа были разъедены все суставы, руки превратились в обрубки, сплошь покрытые язвами; четыре года она клала ему в рот каждый кусочек пищи. Муж не раз просил Луку оставить его, калеку, — сама она была здорова, — но Лука продолжала ухаживать за любимым человеком и сказала, что не отойдет от него, пока его исстрадавшаяся душа не покинет тела.
Несколько ужасных случаев произошло на моих глазах: девушка, по-видимому совершенно здоровая, помогала мне украшать церковь к пасхе, а под рождество ее увезли как больную проказой; одна мать годами скрывала в горах ребенка из боязни, что его отнимут, и даже самые близкие друзья не подозревали, что ее ребенок еще жив; я знал почтенного человека, белого, которого разлучили с семьей и отправили в лепрозорий, и все, даже страховые агентства, считают его умершим».
Но всего ужаснее, что эти мученики неповинны в своем несчастье. Они заболели проказой не за свои грехи, а за грехи отцов, которые сами-то избежали этого проклятия.
Мистер Гоуэн упоминает об одном поразительном факте. Можно ли себе представить, что на этом страшном острове прокаженных существует обычай, достойный подражания? Да, такой обычай есть, несказанно трогательный, прекрасный обычай. Когда смерть распахивает дверь темницы, оркестр исполняет в честь освобожденной души радостный гимн!
Глава IV «ЛОШАДИНЫЙ БИЛЬЯРД». МНЕ НЕ ВЕЗЕТ
Легче снести десяток порицаний,
чем выслушать одну сомнительную похвалу.
Новый календарь Простофили ВильсонаОтплыли из Гонолулу.
Из моего дневника.
2 сентября. — Стаи летучих рыб — легкие, изящные, гибкие и ослепительно белые. Когда они озарены солнцам кажется, будто летят серебряные ножики. Эти рыбы способны пролететь сотню ярдов без передышки.
3 сентября. 9°50' северной широты; за завтраком. Идем к экватору под углом. Пассажиры, никогда не пересекавшие экватор, в большом волнении. Да и я предпочел бы это удовольствие всему на свете! Вчера вечером вошли в «штилевую полосу» — неожиданные ливни, переменные ветры, сменяющиеся полным затишьем, зыбь на море, пароход качается, как пьяный, — все это порой наблюдается и в других местах, но в штилевой полосе — обязательно. Полоса, которая опоясывает земной шар и называется штилевой, имеет 20° ширины, а линия, называемая экватором, проходит по самой ее середине.
4 сентября. — Вчера вечером было полное лунное затмение. Луна начала закрываться в половине восьмого. Когда она закрылась совсем — или почти совсем, — от нее осталось только выпуклое темно-розовое облачко с изрытой поверхностью, обрамленное кольцом, — совсем как шарик клубничного мороженого. Когда луна открылась наполовину, она была похожа на золотой желудь в его чашечке.
5 сентября. — Сегодня в полдень подойдем к экватору. Один матрос объяснил молодой девушке, что мы движемся медленно, потому что взбираемся по выпуклости к центру земли; зато когда перемахнем через экватор и будем плыть под уклон, мы полетим со скоростью ветра. На другой день девушка, услышав слово «бак» — носовая часть верхней палубы, — спросила матроса, что это такое, а он ответил, что это сосуд, в котором кипятят воду. У этого человека большие запасы знаний, и девушка того и гляди все их из него выкачает.
Полдень. — Пересекли экватор. Издали казалось, будто через океан протянута синяя лента. Кое-кто из пассажиров фотографировал ее. Мы не выполняли дурацких обрядов — никаких дурацких шуток, никаких грубых развлечений. Подобные потехи отжили свой век. Бывало, наряженный Нептуном матрос выходил со своей свитой на нос судна, намыливал и брил всех, кто впервые пересекал экватор, а потом подвешивал этих бедняг к ноку реи и трижды окунал их в море. Развлечение считалось забавным, а почему — никто не знает. Впрочем, это неверно. Мы знаем почему. Оно никогда не было бы забавным на суше; ни одна деталь комических представлений, устраиваемых на борту корабля, чтобы ознаменовать переход через экватор, не была бы забавой на земле, — сухопутные крысы сочли бы их плоскими, ничуть не остроумными. Но на море, когда плывешь очень долго, даже сухопутные крысы изменяют свое мнение. Однообразие такого плавания пагубно сказывается на умственных способностях, и люди вскоре доходят до того, что готовы предпочесть любую детскую забаву любому разумному занятию. Иной раз просто диву даешься — какие ребячества затевают взрослые на море, с каким увлечением им отдаются и какое получают от этого удовольствие! Но, разумеем я, это только в дальнем плавании. Ум постепенно становится вялым, ленивым; утрачивается привычный интерес к повышенным предметам; его способны расшевелить только грубые шутки и веселят только дикие, бессмысленные нелепицы. Пассажир короткого плавания не успевает принять столь неприглядный облик: у него просто нет времени опуститься до такого жалкого уровня.
В коротком плавании главный моцион пассажиров — «лошадиный бильярд». Превосходная игра. Мы развлекаемся ею и на нашем пароходе. Кто-нибудь рисует мелом на палубе такую фигуру.
Игрок вооружается клюшкой, похожей на палку от метлы с деревянным серпом на конце. Этой клюшкой он толкает плоские деревянные диски величиной с блюдечко, стараясь ударить с такой силой, чтобы этот диск пролетел футов пятнадцать — двадцать по палубе и остановился в одной из клеток. Если к концу первого кона его оттуда не выбьют, игроку засчитывается столько очков, сколько показывает цифра в клетке, куда он попал. Задача противника — выбить его оттуда и на его месте оставить свой диск, — особенно если тот лежит в клетке 9 или 10 или с другой большой цифрой; ну а если диск попал в «минус 10», он должен его «перекрыть» — загнать свой фута на два дальше, чтобы помешать противнику выбраться из этого злосчастного места и улучшить свое положение. Итог подводят после каждого кона. Иногда все бьют удачно, и все четыре диска каждого из играющих идут в счет; бывает, что один или несколько застрянут на меловой черте, и их не засчитывают; и очень часто все терпят крах — ни один диск не попал в клетку. Как бы там ни было, итог подводят, и игра продолжается. Выигрывает тот, кто набрал сто очков, а занимает это от двадцати до сорока минут — в зависимости от состояния моря и от удачи. «Лошадиный бильярд» — игра азартная, и толпа зрителей награждает игроков дружными аплодисментами за каждую удачу и громким смехом за промах. Она требует ловкости, но с ловкостью неизменно вступает в единоборство качка на море, что и придает игре элемент случайности, и потому исход во многом зависит от везения.
Мы провели несколько грандиозных турниров на звание «чемпиона Тихого океана», в которых участвовали чуть ли не все пассажиры — мужчины и женщины — и все офицеры судна, и мы обеспечили себе на много дней захватывающе интересное развлечение и убийственный моцион,— для этой игры нужна поистине лошадиная сила.
Насколько эта игра зависит от удачи, нагляднее всяких описаний покажет вам итог одной из заключительных игр первого турнира. Все потерпевшие в пей поражение вышли победителями в предыдущих встречах, и некоторые даже со значительным перевесом.
Чейс — 102 Миссис Д. — 57 Мортимер — 105 Судовой врач — 92 Мисс С — 105
Миссис Т. — 9 Клеменс — 101 Тейлор — 92
Тэйлор — 109 Дэвис — 95 Томас — 102 Ропер — 76 Кумбер — 106 Чейс — 98
Мисс С — 108 Мортимер — 55 Клеменс — 111 Мисс С. — 89
И так далее, пока не осталось три пары победителей. Потом я побил своего противника, юный Смит своего, и Томас — своего. Теперь нас осталось трое. Смит и я заняли места, и я начал игру. К концу первого кона у меня было минус десять, у Смита семь. Мне не везло и дальше. Когда я набрал пятьдесят семь, Смит имел девяносто семь, — еще три, и он бы выиграл. И тут счастье ему изменило. Несколько раз он нарвался на «минус 10», и ему так и не удалось оправиться. Выиграл я.
Следующая игра завершала турнир № 1.
Состязались мистер Томас и я. Ему выпало начинать, и он, так сказать, стал в боевую позицию. И так он стоял, нацелившись на диск, а судно медленно поднялось, потом медленно опустилось, опять поднялось и опять опустилось. Казалось, оно никогда не примет такого положения, какое устраивало бы мистера Томаса. Пароход снова содрогнулся, и когда он совсем уже готов был накрениться, мистер Томас нанес удар, и его диск лег точно в левый край клетки 10. (Аплодисменты.) Судья объявил плюс десять, а тот, кто вел счет, записал. Теперь в игру вступил я. Мой диск слегка задел диск мистера Томаса и... вылетел из поля. (Аплодисменты.)
Мистер Томас делает ход, — его второй диск ложится рядышком с первым, с правой его стороны. «Десятка плюс», (Бурные аплодисменты.)
Ударил я и... промахнулся. (Аплодисментов нет.)
Мистер Томас делает третий удар, и его диск ложится справа от первых двух. «Плюс десять!» (Гром аплодисментов.)
Итак, они лежали, три диска, бок о бок, в один ряд. Немыслимо было себе представить, что по ним можно промахнуться. Тем не менее я промахнулся. (Гробовое молчание.)
Мистер Томас посылает свой последний диск. Как это ни удивительно, он ложится рядышком с остальными, и именно справа от них, — четыре диска в один ряд. (Взрыв долгих несмолкаемых аплодисментов.)
Потом сыграл я, своим последним диском. И опять казалось, что промахнуться невозможно, нельзя не попасть в этот ряд — он был бы длиною в четырнадцать дюймов, даже если бы диски сдвинули, — а ведь между ними было расстояние, и ряд был еще длиннее. И все же я промахнулся! Наверное, сдали нервы.
Я готов утверждать, что в истории «лошадиного бильярда» не найдется подобного кона. Разве не было подвигом уложить в ряд в клетке 10 четыре диска? Это же было своего рода чудо. Промахнуться по ним — не меньшее чудо. Человек, который сумел бы загнать четыре диска в клетку 10, рождается раз в столетие; ну а такой, который не сумел бы их оттуда выбить, — и того реже. Тогда мне было стыдно за свою игру, но теперь, когда я о ней вспоминаю, мне думается, что это была тонкая игра и не всякий бы сумел так отличиться.
Мистеру Томасу везло до конца, он вышел в этой игре победителем, а там стал и чемпионом.
В одном менее солидном турнире я завоевал первенство и меня наградили уотерберийскими часами. Я положил их в чемодан. Девять месяцев спустя, в Южной Америке, в Претории, испортились мои прежние часы; я достал из чемодана уотерберийские, завел их, поставил по башенным на здании парламента — нить минут девятого, — возвратился в гостиницу и прилег отдохнуть после утомительной поездки по железной дороге. Парламентские часы обладали свойством,— чего я тогда не знал, — какого нет ни у одних часов в целом мире и не было бы и у этих, если бы их сделал человек нормальный: на половине каждого часа они отбивали все удары наступающего и в положенное время отбивали все их снова. Лежа в постели, я читал и покуривал, а когда сон уже смыкал мне веки и я собирался выключить свет, начали бить часы на башне, и я сосчитал — десять. Я взглянул на уотерберийские, чтобы проверить их ход. Они показывали половину десятого. Часы ценою в три доллара могли бы быть порасторопнее, подумал я, но решил, что виноват климат. Я перевел стрелку на полчаса вперед и, продолжая читать, ждал, что будет дальше. В десять башенные часы снова пробили десять. Уотерберийские показывали десять тридцать. Излишняя расторопность за такую цену, подумал я, и мне стало не по себе. Я перевел их на полчаса назад и опять ждал; я уже не мог не ждать, так как нервничал и злился, мою сонливость как рукой сняло. А потом башенные часы пробили одиннадцать. На уотерберийских было десять тридцать. Я уже довольно нетерпеливо перевел стрелки на полчаса вперед. Потом башенные часы снова пробили одиннадцать. Уотерберийские показывали одиннадцать тридцать. И тогда я хватил их об спинку кровати и вышиб из них дух, Наутро я пожалел об этом, когда узнал, в чем дело.
Но вернемся к пароходу.
Средний человек существо упрямое и порочное, а если нет, то уж во всяком случае он любит зло подшутить. Правда, тому, кого избрали мишенью, совершенно все равно: так или иначе, он обречен на муки. Окачивание палубы водой начинается ранним утром на всех судах, но как мало пароходов, где заботятся о том, чтобы предупредить пассажиров, разбудить их или послать стюарда закрыть иллюминаторы в каютах. Мойщикам палубы предоставлена полная свобода, и они ничуть не стесняются. Они с размаху выплескивают ведра воды за порт, вода течет в иллюминаторы и заливает одежду пассажиров, а частенько и их самих. Этот славный патриархальный обычай существовал и у нас, к тому же при исключительно благоприятных условиях: в зонах тропической жары к иллюминаторам в каютах прикрепляют цинковую штуку вроде совка, чтобы втягивать воздух и освежать помещение; этот совок втягивает и выплескиваемую за борт воду — целые потоки. Миссис И., больной женщине, врач рекомендовал спать на рундуке у иллюминатора, и стоило ей чуть заспаться и не успеть о себе позаботиться, как мойщики окатывали ее холодным душем.
А какое раздолье было малярам! Нашему кораблю предстоял месяц ремонта в доке Сиднея, тем не менее его постоянно подкрашивали то здесь, то там. Дамам вечно портили платья, но ни мольбы, ни угрозы не помогали, Случалось, какая-нибудь леди вздремнет после обеда на палубе вблизи вентилятора или чего-нибудь иного, не нуждающегося в покраске, а проснувшись, обнаруживает, что шутник маляр тихонько помазал этот предмет и сверху донизу забрызгал ее белое платье желтой масляной краской.
В этой безрассудной мазне офицеры корабля неповинны — виноват обычай. Еще во времена Ноя появился закон беспрестанно красить и прихорашивать суда во время плаванья; закон стал обычаем, а морские обычаи бессмертны. Этот обычай сохранится до тех пор, пока не высохнет море.
8 сентября, воскресенье. — Плывем с большим уклоном к югу и потому за день проходим только два градуса долготы. Сегодня утром мы были на 178° западней Гринвича и на 57° к западу от Сан-Франциско. Завтра подойдем к самому центру земного шара — 180° западной долготы и 180° восточной долготы.
И тогда мы потеряем день — нам придется вычеркнуть целый день из нашей жизни, и день этот безвозвратно погибнет. Мы все умрем на день раньше, чем нам было предначертано. На веки вечные мы будем на один день отставать. Всякий раз, когда мы скажем небожителям: «Какая сегодня прекрасная погода», нам не преминут возразить: «Но сейчас не сегодня, а завтра». Мы навсегда лишимся покоя и никогда не познаем истинной радости.
Назавтра. — Так оно и вышло. Вчера было 8 сентября, воскресенье; сегодня на доске около трапа написано: «10 сентября, вторник». В этом есть что-то жуткое. Очень неприятно. В самом деле, как подумаешь — ведь это почти немыслимо, совершенно невозможно. Когда мы пересекали 180-й меридиан, на корме, где сидела моя семья, было воскресенье, а на носу парохода, где сидел я, был вторник. Жена ела половинку свежего яблока 8-го числа, я ел вторую половинку в то же самое время, но уже 10-го, — и я заметил, что мой кусок яблока потерял свежесть. Возраст моей жены и дочери не изменился, а я, отойдя от них, в пять минут состарился на целые сутки. Их день простирался за ними через Тихий океан, Америку и Европу, огибая половину земного шара; мой день тянулся впереди меня, огибая вторую половину земли, пока оба не сошлись вместе. По своему объему и протяженности то были дни-колоссы; они явно были намного длиннее любого предыдущего дня нашей жизни. По сравнению с ними все прежние прожитые нами дни казались какими то съежившимися комочками. Очень заметна была разница в температуре обоих дней; день моей семьи был жарче моего — ведь он находился ближе к экватору.
В то мгновенье, когда мы пересекали Великий меридиан, в каюте третьего класса родился ребенок,— и вот извольте угадать, в какой день он родился? Медицинская сестра считает, что в воскресенье, врач говорит: во вторник. Ребенок никогда не узнает истинного дня своего рождения. Он обречен всю жизнь колебаться, не зная, какую из двух дат предпочесть, и разрешить свои сомнения ему не суждено. Такая неуверенность внесет сумятицу и непостоянство в его религиозные и политические воззрения, в его отношение к женщинам, в выбор профессии и во все остальное, подорвет его нравственные устои, сделает беднягу беспринципным и бесхарактерным и навсегда лишит возможности добиться успеха и жизни. Так думают все на корабле. Но и это еще не все, во всяком случае — не самое худшее. С нами вместе едет сказочно богатый пивовар, и всего десять дней назад он заявил, что, если ребенок родится в день его рождения, он подарит новорожденному десять тысяч долларов «на зубок». День рождения пивовара приходится на понедельник, 9 сентября!
Если бы все суда плыли в одном направлении,— я имею и виду на запад, — мир потерял бы уйму драгоценного времени: ведь на Великом меридиане все пассажиры и команды всех судов оставляют за бортом целые сутки. По счастью, не все суда плывут на запад - половина держит курс на восток, так что в конце концом ничего не теряется. Корабли, плывущие на восток, вылавливают брошенные дни и кладут их обратно в фонд мирового запаса времени; при этом они ничуть не хуже новых: соленая вода, как известно, предохраняет от порчи.
Глава V ЗАВЕРБОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ИЛИ РАБЫ?
Шум ничего не доказывает. Иная курица, снесши яйцо,
кудахчет так, будто снесла маленькую планету.
Новый календарь Простофили ВильсонаСреда, 11 сентября. — Людям свойственно ошибаться в своих суждениях. При этом, как правило, выйти сухими из воды не удается, но все же бывает и наоборот. Вчера вечером за ужином собрались шотландцы, англичане, американцы, канадцы и уроженцы Австралазии — заспорили о произношении некоторых шотландских слов. Конечно, это узкая область, и все нешотландцы, за исключением одного человека, скромно молчали. Не отличаясь скромностью, я не вытерпел и ввязался в спор. Ничего я в этом вопросе не смыслю, а ввязался просто так, от нечего делать. Тогда как раз спорили о слоне трое. Один из шотландцев утверждал, что крестьяне Шотландии произносят трое, противники же уверяли, что нет — они произносят трои. Шотландцу, который был в единственном числе, приходилось туго, я решил немного подбодрить его. В данном случае я поневоле был вполне объективен, ибо одинаково не был вооружен для борьбы что на одной, что на другой стороне. Не долго думая, я заявил, что крестьяне произносят трое, а не трои. Это суждение оказалось ошибочным. Миг изумленного и зловещего молчания, и разразилась буря. Ураган распространился с удивительной силой и в несколько минут сбил меня с ног. Я понес ужасное поражение — своего рода Ватерлоо. Казалось, мне уже не подняться, и я пожалел, что очертя голову кинулся в эту безумную авантюру. Но тут у меня мелькнула спасительная мысль — во всяком случае, стоило попытаться. Под рокот несмолкающей бури я сочинил шотландское двустишие и, не долго думая, сказал:
— Ладно, хватит доказывать. Признаю себя побежденным. Мне казалось, что я прав, и только теперь понял, что меня сбило. Во всем виноват один ваш шотландский поэт.
— Шотландский поэт! Неужели? Кто же это?
— Роберт Бернс.
Магическая сила этого имени поистине удивительна. Люди не совсем поверили мне и тем не менее были потрясены. Сперва они лишились дара речи; потом кто-то благоговейно — благоговение неизменно появляется в голосе шотландца, когда он произносит это имя, спросил:
— Робби Бернс? Что же он сказал?
Он сказал:
Детей было ровным счетом трое — Один у груди, на коленях двое.На этом спор кончился. Не нашлось такого богохульного, такого самонадеянного человека, который хоть единый словом возразил бы против того, что узаконил Бернс. Я нею жизнь буду чтить это великое имя за то, что оно выручило меня в такую тяжелую минуту.
Не сомневаюсь, что почти любая придуманная цитата, если ее преподнести с апломбом, введет в заблуждение кого угодно. Есть люди, которые считают лучшей политиков честность. Это предрассудок; я знаю случаи, когда видимость честности действовала во сто крат вернее.
Неуклонно плывем на юг - скатываемся все ниже и ниже по толстому пузу земного шара. Вчера вечером мы наблюдали, как Большой Ковш и Северная звезда вышла за горизонт и исчезли из нашего мира. Впрочем, не «мы», а они. Они наблюдали, — кто-то видел и сказал мне об этом. Ну и что же? Исчезли — и пусть. Эти звезды порядком намозолили мне глаза. В своем роде они вовсе не дурны, по нельзя же вечно любоваться одним и тем же. А вот Южный Крест меня всегда интересовал. Его я никогда не видел, хотя всю свою жизнь только о нем в слышал и, вполне естественно, сгорал от желания взглянуть на него. Ни одно созвездие не возбуждает так много толков. Я ничего не имею против Большого Ковша, — да и не мог бы иметь ничего против, раз он пользуется правом гражданства на небосклоне Соединенных Штатов и является их собственностью, — но почему бы ему по посторониться и не освободить место Южному Кресту? Судя по толкам, которые вызывал этот незнакомец, я представлял себе, что он один займет все небо.
Однако я заблуждался. Ночью мы увидели Крест; оказалось, что он вовсе не так велик. Не так велик и не так уж ярок. Правда, он стоял низко над горизонтом, и, может быть, он будет мне больше нравиться, когда немного поднимется. Назвали его весьма остроумно. Он точь-в-точь такой, каким был бы крест, если бы походил не на крест, а на что-нибудь иное. Впрочем, мое описание не описательно; оно слишком туманно, слишком общо и расплывчато. В известной степени он напоминает крест, но крест несколько расшатанный или криво нарисованный. Он совсем неправильной формы. Одна перекладина чересчур длинна, другая коротка, к тому же короткая съехала вбок.
Неправильный крест
Он состоит из четырех больших звезд и одной маленькой. Маленькая расположена как-то в стороне и окончательно портит форму креста. Ее бы следовало поместить там, где перекладины пересекаются. Если не провести между звездами воображаемой линии, тогда и вовсе не догадаться, что это крест или вообще какая-нибудь фигура.
На маленькую звезду вообще не следует обращать внимания, она только вносит путаницу. Если ее откинуть, то четыре звезды могут составить какое-то подобие креста — только неправильного, или подобие воздушного змея — тоже неправильного, или же подобие гроба и опять-таки неправильного.
Испокон веков хлопотно было придумывать названия для созвездий. Дайте какому-нибудь созвездию оригинальное название и оно ни за что не будет ему соответствовать; оно будет упорно отказываться походить на предмет, именем которого его назвали. Кончается обычно тем, что в интересах публики приходится менять высокопарное название на самое простое, чтоб всем было понятно. Большая Медведица тысячелетия оставалась Большой Медведицей, хотя ее никогда не признавали за таковую; люди постоянно роптали, и вполне справедливо; но стоило ей сделаться собственностью Соединенных Штатов, как конгресс переименовал ее в Большой Ковш, — и теперь все довольны, и всякие разговоры о бунтах прекратились. Я бы не стал менять название Южный Крест на Южный Гроб, я назвал бы его Южный Змей, ибо пустота над нашими головами как раз место для воздушного змея, а не для гробов, крестов или ковшей. В скором времени — не берусь предсказывать, когда именно,— народам, говорящим на английском языке, будет принадлежать весь земной шар, в том числе и небосвод, конечно. Тогда созвездия пересортируют, наведут на них лоск и переименуют — большинство в «Виктории», надо думать, — но одно будет вечно плыть под именем Южного Змея или же лишится своего места. Уже теперь именем ее величества королевы то тут, то там названо немало городов, и не только городов.
Последние несколько дней пробираемся сквозь настоящий Млечный Путь островов. На географических картах океан усеян ими так густо, что кажется, даже для лодчонки не останется места; однако нам они встречались редко. Однажды где-то вдали мелькнули смутные очертания двух островов — призрачные и фантастические: Алофи и Фортуна из архипелага Хорн. На большем на них правят два туземных короля — у соперников хлопот полон рот. И они и их подданные — католики. Обратили этих людей в христианство французские миссионеры,
В былые времена на этих бесчисленных островах набирали «рекрутов» для плантаций Квинсленда; вероятно, их там набирают и по сей день. Сюда приходили суда, оснащенные на манер старинных невольничьих кораблей, и увозили туземцев в эту огромную австралийскую провинцию для работы на плантациях. По свидетельству миссионеров, вначале людей просто похищали без всяких церемоний. Это всячески отрицалось, однако никто не доказал обратного. Впоследствии закон запретил «вербовать» туземца против его воли, и на все вербовочные корабли направили правительственных чиновников следить за исполнением закона, — что они и делали, как утверждают вербовщики; и чего они частенько не делали, как утверждают миссионеры. По закону, туземец мог завербоваться на три года; при желании он мог остаться еще на три года; по истечении срока он мог вернуться на свой остров, не истратив ни гроша на обратный путь, — правительство взыскивало для этой цели деньги с хозяина до того, как ему доставляли рекрута.
Капитан Ваун много лет командовал вербовочным кораблем. Любопытная книжонка, написанная им, внушает читателю, что островитяне вербовались, в общем, довольно охотно. И тем не менее это занятие не стало чересчур скучным и однообразным; оказывается, монотонность то и дело нарушали маленькие неожиданности — вроде такой, к примеру:
«В день, когда мы достигли Острова Прокаженных, шхуна, при полном штиле, стояла под прикрытием скалистой части острова, приблизительно в трех четвертях мили от берега. Лодки отошли на некоторое расстояние, но мы не теряли их из виду. Вербовочный бот бросил якорь в небольшой бухте у обрывистого, скалистого берега; наверху стояла одинокая хижина, за нею высился густой лес. Лодка с правительственным чиновником и шкипером, находилась ярдах в четырехстах западнее.
Вдруг мы услышали выстрелы, крики туземцев на берегу и увидели, что вербовочный бот выбирается из бухты с заметно поредевшим экипажем, Лодка шкипера поспешно кинулась ему наперерез, взяла на буксир и привела к шхуне; все люди на этом боте были легко или тяжело ранены. Оказалось, что туземцы заманили их в бухту под видом дружбы. Толпа окружила корму, несколько парней забрались в лодку. И вдруг туземцы напали на наших людей с дубинками и томагавками. Вербовщик вначале кулаками оборонялся от посыпавшихся на него ударов, потом ему удалось вытащить свой револьвер. Матросу Тому Сейерсу с острова Маре ударом томагавка поранили голову; череп, ни счастью, не был пробит. Лодочнику Бобби Таунсу с острова Маре в схватке изрезали большие пальцы рук, один был почти отсечен, и врачу осталось лишь довершить операцию. Лигу, парнишку с острова Лифу, слугу вербовщика, всего искололи и изрезали; правда, ни одна рана не была опасной. Джеку, злополучному лодочнику с острова Танна, стрела проткнула руку пониже плеча, и головка стрелы — кость семи-восьми дюймов длиной — застряла в теле, и когда лодки вернулись, она все еще торчала с обеих сторон руки. Сам вербовщик остался бы цел и невредим, если бы стрела не пригвоздила его палец к румпелю, когда они отчаливали. Схватка была недолгой, но ожесточенной. Неприятель потерял двоих, оба были застрелены».
По правде говоря, капитан Ваун приводит такую кучу примеров кровопролитных стычек между туземцами и английскими и французскими командами вербовочных судов (французы промышляют вербовкой для плантаторов Новой Каледонии), что в конце концом невольно приходишь к выводу: островитяне, видимо, вербовались не очень-то охотно, а то зачем бы они стали затевать эти бесконечные стычки и леденящую кровь резню? Капитан взваливает вину на «влияние Эксетер Холла»[8]. Ну конечно! Если бы филантропы не лезли не в свое дело, туземные отцы н матери были бы в восторге оттого, что их детей тащат в изгнание, а частенько и в могилу, и не проливали бы слезы и не посягали на жизнь симпатичных вербовщиков.
Глава VI КАК КВИНСЛЕНД ИСТРЕБЛЯЕТ КАНАКОВ
Он был скромен, как газета, когда она восхваляет свои заслуги.
Новый календарь Простофили ВильсонаВ одном вопросе взгляды капитана Вауна не оставляют сомнений: он не одобряет миссионеров. Они наносят вред его делу. Из-за них «вербовка», как выражается он («охота за рабами», как откровенно говорят они), — сплошные неприятности, тогда как ей надлежит быть пикником, увеселительной прогулкой. У миссионеров свой взгляд на то, как ведется торговля трудом туземцев, и на уловки вербовщиков обходить закон, и на самую торговлю; и их мнение отнюдь не лестно для торговли и всего, что с ней связано, включая закон о правилах ведения торговли. Книжонка капитана Вауна издана совсем недавно; у меня под рукой брошюра, выпущенная в свет еще позднее, еще тепленькая, так сказать; ее автор — миссионер, преподобный В. Грэй; и, как я убедился, читать их вперемежку — на редкость увлекательное чтение.
Увлекательное и доступное пониманию, — за одним исключением, о котором я скажу позднее. Нетрудно понять, почему владелец квинслендской сахарной плантации стремится получить рекрута-канака: он дешево обходится; даже очень дешево. Вот что расходует плантатор: двадцать фунтов стерлингов вербовщику, который заполучил, или, по выражению миссионера, «изловил» канака; три фунта квинслендским властям за «надзор» при доставке; пять фунтов с него берет правительство на обратный проезд канака — на случай если через три года тот еще будет жив; фунтов двадцать пять плантатор израсходует на самого канака — жалованье и одежда; итого — пятьдесят три фунта за три года, а вместе с питанием — шестьдесят. В общем, сотня долларов в год. Нетрудно понять, почему вербовщик в восторге от такого промысла: рекрут стоит ему несколько безделиц (которыми он одаривает его родных, а не самого «завербованного»), меж тем, доставив свой товар в Квинсленд, он выручает за него двадцать фунтов стерлингов. Все это вполне ясно; остается только выяснить, почему соглашается канак. Он молод и беззаботен; жизнь дома, на прекрасном острове, для него непрерывный блаженный праздник; а если он пожелает работать, ему достаточно собрать несколько мешков копры в неделю и продать их по четыре или пять шиллингов мешок. А ведь в Квинсленде ему придется вставать на рассвете и работать на плантациям от восьми до двенадцати часов в день, в непривычно жаркой климате — за каких-то четыре шиллинга в неделю.
Никак не пойму, почему его тянет в Квинсленд. Для меня это прямо-таки непостижимая загадка. Вот объяснение с точки зрения плантатора; по крайней мере из брошюры миссионера явствует, что это точка зрения плантатора:
«Он покидает свой остров дикарем, неискушенным и простодушным. Он не стесняется своей наготы и отсутствия украшений. Он возвращается домой хорошо одетым, при уотерберийскжх часах, воротничке, манжетах, и башмаках, у него есть разные побрякушки. Он привозит с собой сундук, а то в два, набитые одеждой, музыкальные инструмент, парфюмерию и прочие предметы роскоши, которые научился ценить».
На миг кажется, будто ты наконец понял, что влечет канака на чужбину в изгнание: он покидает родовой очаг, чтобы приобщиться к цивилизации. Конечно, он ходил нагишом и не стыдился, — теперь он одет и научился стыдиться; он был невежествен, — теперь у него уотерберийские часы; он был неотесан, — теперь у него есть побрякушки, и от него теперь хорошо пахнет; он был никто, провинциал, — теперь он побывал в далеких краях и может этим щегольнуть.
Все это кажется убедительным, но лишь на миг. Наступает очередь миссионера, и он тут же обрушивается на эти доводы, разбивает их по пунктам и так с ними расправляется, что от них ровно ничего не остается.
«Если принять вышесказанное за истину, то истинный результат таков: манжеты и воротнички или не носят вовсе, или же дети надевают их на ногу пониже колена, в виде украшения. Уотерберийские часы, сломанные и грязные, за безделицу сбываются лавочнику или же механизм разбирают, колесики нанизывают на шнурок и вешают себе на шею. Ножи, топоры, ситец и носовые платки раздаривают друзьям — и на всех едва хватает по штуке. Сундучок — ключи обычно теряются по дороге — можно приобрести у владельца за два шиллинга шесть пенсов. Сколько их гниет под открытым небом чуть ли не в каждой прибрежной деревушке острова Танна! (Все это я видел собственными глазами.) Один вернувшийся домой канак ужасно разозлился на меня, когда я отказался купить у него брюки, которые, по его мнению, пришлись бы мне впору. Впоследствии он продал их одному аниванскому учителю за девятипенсовую пачку табака, — брюки, которые стоили ему в Квинсленде не меньше восьми — десяти шиллингов. Пиджак или сорочка пригодятся в холодную погоду. Целые носовые платки, «сенет» (парфюмерию), зонт и, пожалуй, шляпу канак сбережет. Он, возможно, оставит себе и башмаки, если только они не окажутся впору скупщику копры. Напомаженная голова, вымазанное краской лицо, грязный носовой платок вокруг шеи, полоски черепашьего панциря в ушах, пояс, нож в ножнах и дождевой зонтик — так выглядит канак на другой день после возвращения на родину».
Шляпа, зонт, пояс, платок вокруг шеи. В остальном — как мать родила. «Цивилизация», добытая каторжным трудом, слиняла в один день. Но и это свое бренное достояние он сохранит ненадолго. В сущности, лишь с одной частицей обретенной цивилизации он, возможно, не расстанется никогда: по словам миссионера, он научился сквернословить. Это — искусство, а искусство вечно, как сказал поэт.
Законы любой страны бросают свет на ее прошлое. Квинслендский закон, регулирующий торговлю трудом туземцев, — это признание. Признание того, что зло, в котором миссионеры винят работорговцев, существовало издавна, существовало в тогда, когда был издан этот закон. В своих обвинениях миссионеры идут еще дальше: они говорят, что вербовщики обходят закон, а правительственные чиновники нередко помогают им в этом. Статья тридцать первая устава вскрывает два обстоятельства: что нередки случаи, когда легковерный молодой канак, которого убедили продать на трехлетний срок свою свободу, вдруг опомнился и хочет во что бы то ни стало избавиться от обязательства и остаться дома со своими близкими и что его насильно удерживают на вербовочном судне и заставляют выполнять контракт запугиванием и угрозами. Статьей тридцать первой подобные насильственные меры запрещены. Закон требует, чтобы канака не задерживали; а согласно другой статье, вербовщик обязан доставить его на берег, и непременно в лодке, ибо тамошние воды кишат акулами. Обращаюсь к брошюре преподобного мистера Грэя:
«Существуют «полезные советы», как удержать раскаявшегося в своем опрометчивом поступке канака. Я впервые столкнулся с торговлей рабами в 1884 году, как раз при такого рода случае. Вербовочное судно бросило якорь вдалеке от миссии, и ко мне пришли сказать, что похищено несколько юношей и родные просят меня вернуть их. Я узнал, что шестеро юношей завербовались,— сами ринулись в лодку, как сообщил мне правительственный чиновник. Все они «подписали контракт и останутся на борту», сказал чиновник. Меня заверили, что все шестеро уже достигли положенного возраста и уезжают охотно. Однако, когда я покидал судно. четверо из этих юношей поджидали меня, чтобы вернуться домой в моей лодке! Я отказал им. Тогда один прыгнул в воду, умоляя, чтобы я взял его с собой. Я обратился к правительственному чиновнику, но он посоветовал мне уезжать и предоставить судовой лодке подобрать беглеца, — к тому времени он отплыл уже на четверть мили!»
Бывает, что канак одумается, — тогда закон и миссионеры ему сочувствуют — и можно считать, что правильно: ведь он молод, неискушен и его легко сбить с толку; однако вербовщик не знает жалости. Преподобный мистер Грэй пишет:
«Капитан, много лет занимавшийся торговлей туземцами, научил меня, каким образом можно удержать раскаявшегося канака. «Когда парень прыгает за борт, мы посылаем лодку, которая должна его опередить и преградить ему путь к берегу. Если он проплыл мимо, она опять его обгоняет, и так до тех пор, пока он не выбьется из сил. Подобная уловка почти наверняка достигает цели. Измучившись, парень по доброй воле садится в лодку и покорно возвращается на судно».
Да, по-видимому, измором парня взять можно. Если бы несчастный юноша был сыном того капитана, а преследователи — туземцами, капитан бы очень удивился, увидев, как изменилась его точка зрения на эту уловку; впрочем, не в наших привычках ставить себя на место другого. А ведь в смирении этого обманутого юного дикаря есть что-то трогательное. Нужно сказать, что на языке этих торговцев «парень» — не обязательно мальчишка; это часто юноша около шестнадцати лет. Квинслендский закон позволяет достигшему этого возраста «дать согласие», хотя ни для кого не секрет, что вербовщики определяют возраст на глазок и далеко не всегда точно.
Свободный дух капитана Вауна стонет под бременем «железных ограничений». Закон и миссионеры отравили ему жизнь. Он скорбит о добрых старых временах, увы! безвозвратно ушедших. Так и видишь его слезы, так и слышишь между строк его проклятия!
«Долгое время мы имели право ловить беглецов, подписавших контракт на корабле, и сажать их под арест, но «железный» закон 1884 года положил этому конец. Теперь канак мог подписать контракт на три года, прокатиться на корабле, где его кормят и поят; без зазрения совести попрошайничать и уйти когда вздумается, если только его увеселительная прогулка не затянулась до Квинсленда»,
Преподобный мистер Грей называет этот железный закон «фарсом»: «С туземцами обращаются бесчеловечно и несправедливо как в рамках закона, так и наперекор ему. Существующие законы несправедливы и неудовлетворительны, такими они и останутся на веки вечные». В доказательство, он приводит всякие доводы, но я их не повторяю, так как они слишком пространны.
Как бы то им было, если трехгодичный курс цивилизации в Квинсленде только и дал канаку что ожерелье, зонт и явно несовершенное уменье сквернословить, то выходят, что все барыши от сделки достаются белому. Пожалуй, это можно признать убедительным аргументом в пользу того, что с торговлей туземцами надо безоговорочно покончить.
Впрочем, есть все основания полагать, что она прекратится сама по себе. Утверждают, что не пройдет и двадцати — тридцати лет, как торговля людьми исчерпает свои возможности, — на островах не останется туземцев. Квинсленд на редкость здоровое место для белых — процент смертности двенадцать на тысячу, но среди канаков смертность намного выше. По статистике 1893 года, она достигла пятидесяти двух на тысячу; и 1894 гиду (округ Маккей) — шестидесяти восьми. Особенно губительны для канака первые полгода на чужбине, пока он еще не освоился с суровым, непривычным климатом. Из тысячи вновь прибывших канаков нередко умирают сто восемьдесят, тогда как на их родине процент смертности — двенадцать на тысячу в мирное время и пятнадцать во время войны. Итак, изгнание в Квинсленд — возможность приобщиться к цивилизации, зонт и малая толика ругательств — для него в двенадцать раз смертоноснее войны. Простое христианское милосердие, простая гуманность подсказывают нам, что мы должны отправить этих людей домой и обрушить на них войну, мор, голод, — и все это будет для них менее губительно, чем «цивилизация».
Много лот тому назад — с тех пор прошло пятьдесят пять — на тему об этих тихоокеанских островах и их жителях витийствовал один пророк. Не скрою, речь его была несколько преждевременной, Быть пророком — недурная профессия, не будь она сопряжена с риском. Упомянутый пророк не кто иной, как доктор права и доктор церковного права — преподобный М. Рассел из Эдинбурга:
«Докатится ли поток цивилизации только до подножья Скалистых гор, и обречено ли солнце науки померкнуть в волнах Тихого океана? Нет, великий день, засиявший четыре тысячи лет тому назад, приближается к своему концу; солнце человечества совершило предначертанный ему путь, но его последние лучи еще не скоро погаснут на западе, и теперь его свет засиял над островами восточных морей... И мы видим, как поднимается племя Иафетово, чтобы населить острова, и видим, как в краю солнца зарождается еще одна Европа и вторая Англия. Запомните слова пророчества: «Он будет жить в шатрах Сима, и Ханаан будет его слугою». Там не говорится, что Ханаан будет его рабом. Англосаксам вручен скипетр земного шара, но не бич рабовладельца и не дыба палача. Восток не будет осквернен мерзостями, какими осквернен Запад; страшная гангрена порабощения не станет уделом сынов Иафетовых в мире Востока; идя вперед и не уничтожая, а возвышая народы, среди которых они живут; живя с ними в согласии, а не обращая их в рабство, британцы достигнут... (и т. д. и т. д.)».
Свое видение автор заканчивает призывом из Кемпбелла.
Прогресс! Грядя на колеснице лет, Неся всем странам мира равный свет.Что ж, как видите, Великий Прогресс пришел, а с ним и цивилизация — уотерберийские часы, зонт, третьесортная ругань, и механизм цивилизации — «возвышающий, а не уничтожающий», и заодно смертность сто восемьдесят на тысячу, и столь же мило протекает все прочее.
Но хорошо говорит тот пророк, который говорит последним. Вот что сказал преподобный мистер Грэй:
«Меня огорчает, что мы, христиане, истребляем эти народы ради своего обогащения».
Свою брошюру он заключает суровым обвинением, и слова неприкрашенной истины не менее красноречивы, чем цветистая речь раннего пророка:
«Я обвиняю торговлю трудом канаков в Квинсленде и следующем:
1. Она по всех отношениях развращает канака и несомненно доводит его до обнищания, лишает гражданства и опустошает острова, которые являются его домом.
2. Она в известной степени унижает человеческое достоинство белого сельскохозяйственного рабочего Квинсленде и несомненно снижает его заработок.
3. Вся система порождает угрозу здоровью населения Австралии и островов.
4. Если торговля трудом канаков не прекратится, она, по причинам социальным и политическим, окажется помехой для подлинного объединения австралийских колоний.
5. Законы, на основе которых эта торговля ведется в Квинсленде, не в силах помешать злоупотреблениям и впредь не смогут, ибо это заложено в самой их сущности.
6. Вся система противна духу и учению Христова евангелия. Евангелие учит нас помогать слабым, а канака обдирают и попирают ногами.
7. Торговля зиждется на убеждении, что жизнь и свобода черного человека менее ценны, чем жизнь и свобода белого. А торговля, возникшая из «охоты за рабами», разумеется, никогда не уйдет далеко от своих истоков».
Глава VII НАМ ЖАЛЬ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ФИДЖИАНЦЕВ
Правда — самое ценное из всего, чем мы владеем.
Так будем же расходовать со бережно.
Новый календарь Простофили ВильсонаИз дневника. — Последние два дня пробираемся незримую чащу островов, и неясные очертания какого-нибудь из них нет-нет да и покажутся в тумане.
В нынешнем году их, кажется, особенно много; карта этого района вся испещрена ими. Их так много, что, наверно, и не сосчитать. Сейчас плывем среди островов архипелага Фиджи — двести двадцать четыре острова и островка. Впереди нас, на запад, лабиринт тянется в сторону Австралии, затем изгибается вверх к Новой Гвинее и идет все дальше и дальше, до самой Японии; позади, на восток, он протянулся на 60 градусов по Тихому океану; к югу от нас — Новая Зеландия. Где-нибудь тут, меж этих мириад островов, притаился Самоа, но на карте мне его найти не удалось. Однако если вы вздумаете отправиться туда, вы отыщете его в два счета, нужно лишь следовать указаниям, которые Роберт Льюис Стивенсон дал доктору Конан-Дойлю и мистеру Дж. М. Барри: «Поезжайте в Америку, пересеките континент до Сан-Франциско, а оттуда — второй поворот направо». Если хотите ощутить всю пикантность этой шутки, взгляните на карту.
Среда, 11 сентября. — Вчера прошли близко от одного из островов и узнали описанные в литературе характерные черты Фиджи: остров окаймлен широким поясом белоснежных коралловых рифов; за ними — полоска грациозно склоненных пальм с уютно прильнувшими к их стволам хижинами туземцев среди кустарника; дальше — равнина, поросшая тропической растительностью; и совсем вдали — остроконечные живописные горы. А на самом переднем плане — остов разбитого корабля, торчащий на уступе прибрежного утеса.
Эта деталь довершает композицию и придает панораме художественное совершенство.
Днем мы увидели Суву — главный город архипелага, и осторожно пробрались в небольшую уединенную гавань — бассейн сверкающих зеленых и бирюзовых вод, мирно дремлющих под укрытием холмов. В бухте стояло на якоре несколько кораблей и в их числе парусник под американским флагом; нам сказали, что он прибыл из Дулута. Вот это путешествие! Дулут находится в нескольких тысячах миль от океана, что, однако, не мешает судну важно представлять Торговый Флот Соединенных Штатов Америки. Есть только один вольный, независимый, несубсидируемый американский корабль, который плавает в иностранных морях, и он принадлежит Дулуту. Этот единственный корабль и есть торговый флот Америки. Он один заставляет уважать имя и могущество Америки в самых отдаленных частях земного шара. Он один свидетельствует миру, что наиболее многолюдное из цивилизованных государств на земле по праву гордится огромной протяженностью своей береговой линии и намерено утвердить ее и отстаивать свое законное место одной из Великих Морских Держав. Он один приучает взор иностранцев к Флагу, который вот уже сорок лет они видят разве только в музее. За то, что сделал Дулут, построив, оснастив и содержа на собственные средства Американский Торговый Флот, плавающий в чужеземных морях, и тем самым избавив Америку от позора и высоко подняв ее престиж среди других государств, мы перед ним в неоплатном долгу, и впредь всякий раз, когда будет упоминаться его имя, наши благодарные сердца будут биться учащенно. Многие национальные тосты со временем канут в Лету, но пока развевается Флаг и существует Республика, те, что живут под их защитой, всегда будут поднимать бокал и стоя, с обнаженными головами, произносить: «Счастья и процветания тебе, Дулут, Американская Королева Иностранных Морей!»
С берега к нашему пароходу начали подплывать лодки; на веслах сидели первые туземцы, которых мы видели. На них не было никакой лишней одежды, что казалось весьма мудрым при такой жаркой погоде. То были темнокожие, красивые рослые мужчины, мускулистые, стройные, с умными, волевыми лицами. Не думаю, что между темнокожими можно еще где-нибудь встретить им подобных.
Мы все сошли на берег поглядеть, что там делается, осмотреть местность и пообедать на суше — наслаждение высшее из высших для морского путешественника. Там мы увидели и других туземцев: сморщенных старух с плоскими грудями, закинутыми через плечо или висящими спереди, словно застывшие струи черной патоки; улыбающихся молодых девушек, веселых и довольных, гибких, пухленьких и грациозных, — отрада для глаз; молодых женщин, высоких, статных, миловидных, прекрасно сложенных, которые шли гордо подняв голову, с несравненным достоинством в осанке; величавых молодых мужчин - атлетов по сложению и мускулатуре — в ослепительно белых свободных одеждах, оставлявших открытыми бронзовую грудь и бронзовые ноги; на голове у них была настоящая щетка жестких волос, выкрашенных в ярко-кирпичный цвет, Каких-нибудь шестьдесят лет назад они были еще совсем невежественны, а теперь они умеют обращаться с велосипедом.
Мы бродили по улицам городка белых и по горным дорогам и тропкам, которые вились между европейскими домами, садами и плантациями, мимо пышных кустов с огромными цветами, такими огненно-красными, что мы невольно жмурили глаза, глядя на них. Потом мы остановили какого-то пожилого колониста-англичанина, чтобы поболтать с ним и выразить сочувствие насчет нестерпимой жары, но он удивился и сказал:
— Жара? Какая же это жара? Вот вы бы летом здесь пожили разок!
— А разве сейчас не лето? Все признаки налицо. Такую погоду в любой стране приняли бы за лето. Чего еще вам не хватает для лета?
Не хватает полгода. Сейчас только середина зимы.
Перед поездкой я несколько месяцев страдал от простуды, и такая внезапная смена времен года, естественно, не могла не повредить мне. Я снова простудился. Просто диву даешься, какие бывают резкие скачки из одного времени года в другое. Мы покинули Америку две недели назад в середине лета, а здесь сейчас середина зимы; еще через неделю мы прибудем в Австралию уже весной.
После обеда я встретил в бильярдной местного жителя, с которым был знаком в какой-то другой части света; вскоре я завел себе еще нескольких друзей и вместе с ними отправился в город навестить его превосходительство губернатора в его загородной резиденция, — надо думать, он скрывался там от превратностей зимней погоды: резиденция находилась на прохладной возвышенности, Куда более привлекательной, чем низина, где лежал город и где зима была в полном разгаре, а от солнечных лучей чуть ли не вспыхивали волосы, когда приходилось снимать шляпу для поклона. Из дома губернатора открывался величественный и прекрасный вид на океан, острова, вершины гор, остроконечные, словно шпили замков, а все вокруг обволакивала та сказочная дрема и безмятежность, что придаст такое очарование жизни на островах Тихого океана.
Один из моих новых знакомых, который пришел со мною сюда, был очень крупный мужчина, и я всю дорогу изумлялся его росту. Он стоял на веранде возле губернатора и разговаривал, а я все еще смотрел на него с изумлением; но вот вошел дворецкий-фиджианец объявить, что чай подан, и высокий мужчина сразу превратился в карлика. Ну, может, и не совсем в карлика, но все-таки разница в их росте была потрясающей. Я думаю, темнокожий исполин был королем, скрывающимся по каким-нибудь политическим соображениям. Кажется, в разговоре на веранде кто-то сказал, что туземные короли и предводители племен на Фиджи, как и на Сандвичевых островах, куда крупнее и выше ростом, чем простые смертные. Просторная белая одежда этого дворецкого казалась нарочно для него сделанной, она великолепно гармонировала с его огромной фигурой и королевским достоинством и осанкой. Европейский костюм принизил бы его, сделал бы самым обыденным, рядовым человеком. Я убежден в этом, ибо это участь всех, кто носит европейскую одежду.
Говорят, что туземцы и поныне сохраняют глубочайшую преданность вождям и почтение к их особе. Образованный молодой джентльмен, глава племени, живущий неподалеку от столицы, одевается по моде высшего европейского енота, но даже это не лишает его поклонения народа. Подданные гордятся его высоким саном и древним происхождением, невзирая на его утерянное могущество и злые чары его портного. Ему незачем осквернять себя трудом и обременять душу пошлыми земными тяготами: племя постарается, чтобы он не знал нужды, высоко держал голову и жил, как положено джентльмену. Я мельком видел его в городе. Возможно, он потомок последнего короля с таким трудным именем, короля, в честь которого за оградой в центре города стоит высеченный из камня монумент. Такомбау, вот как его звали, — я вдруг вспомнил. Такое имя легче хранить на граните, чем в голове.
В 1858 году этот король уступил Фиджи Англии; кто-то из гостей губернатора привел слова короля, находчиво и не без грусти ответившего английскому представителю во время церемонии передачи острова. Представитель в утешение Такомбау сказал, что передача его королевства Англии — «формальность — вроде того как меняет жилище рак-отшельник». «Да, — заметил бедный Такомбау, — только с той разницей, что рак вползает в свободную раковину, а моя занята».
Насколько мне известно по книгам, король в ту пору находился между молотом и наковальней, и выбора у него не было. Он задолжал Соединенным Штатам огромную сумму — долг, который выплатил бы, если бы ему дали время, но в отсрочке ему отказали. Он должен был заплатить немедленно, иначе пришлось бы иметь дело с военными кораблями. Чтобы уберечь свой народ от такой беды, он передал королевство Великобритании, предусмотрев в договоре, что она выплатит его долг Америке.
Когда-то фиджианцы были бесстрашными воинами, они были очень набожны и ревностно поклонялись идолам. Предводители их были горды и надменны и привыкли жить на широкую ногу. Каждый имел по нескольку жен, а наиболее влиятельные — нередко до пятидесяти; когда вождь умирал, на его похоронах душили нескольких его жен и опускали вместе с ним в могилу. В 1804 году двадцать семь английских ссыльных бежали из Австралии на острова Фиджи; у них было с собой оружие и боеприпасы. Вы только подумайте, какое могущество давало им это оружие и какие перед ними открывались возможности! Будь они люди энергичные и рассудительные, обладай они здравым смыслом и умей шевелить мозгами, они завладели бы всем архипелагом — все двадцать семь стали бы королями, и каждому было бы подвластны восемь, а то и девять островов. Но они упустили свое счастье. Они прожили никчемную жизнь в грехе и роскоши и умерли бесславно — большинство насильственной смертью. Честолюбием отличался из них лишь один ирландец, по имени Коннор. Он задался целью наплодить пятьдесят детей, но больше сорока восьми не вышло. Он умер, так и не примирившись с такой неудачей. Ничем не оправданная жадность. Любой отец счел бы себя богачом, имея только сорок детей.
Эти фиджианцы — отличный народ, у них и голова есть на плечах и ум пытливый. Оказывается, религиозной доктрине их предков-дикарей не чужда была вера и бессмертие, правда, с некоторыми оговорками. Так, они полагали, что их умершему другу уготовано вечное блаженство, если удастся собрать воедино все части его тела, — только при таком условии. Они не заходили чересчур далеко. По их мнению, вера миссионера в бессмертие слишком всеобъемлюща, слишком обширна. Фиджианцы указывали ему на некоторые факты. Например, многих их друзей сожрали акулы; в свою очередь, акул съели поймавшие их люди; далее — эти люди во время войны были взяты в плен и съедены врагом. Те, первые, вошли в состав акул; затем они и акулы стали частью плоти, крови и костей победителей. Как же можно отыскать в получившейся смеси разрозненные части тех первых людей и как сложить их в одно целое? Пытливость фиджианцев наводила на тысячу сомнений и свидетельствовала, что миссионер не вник в дело со всей серьезностью и обстоятельностью, как того заслуживает столь важная проблема.
Миссионер преподал этим дотошным дикарям много полезных идей, и от них он тоже получил идею — удивительно поэтическую и изысканную: эти дикие и темные, простые дети природы верили, что цветы, поблекшие на земле, уносятся ветрами в далекие небесные луга, чтобы цвести там вечно неувядаемой красотой!
Глава VIII ПТИЦА МОА ОБГОНЯЕТ ПОЕЗД
Можно, наверное, доказать цифрами и фактами,
что нет более типично американской категории преступников,
чем члены конгресса.
Новый календарь Простофили ВильсонаЕсли вы взглянете на карту, вам покажется, что на Тихом океане непролазная чаща островов и они давят друг на друга; однако даже в центре архипелага нет никакой давки, а между отдельными группами лежат обширные водные пустыни. Еще не все известно об этих островах, их обитателях и языках, на которых они говорят. Взять хотя бы такой удивительный случай: двадцать лет тому назад на Фиджи обитали два странных одиноких существа; прибыли они из неведомой страны и говорили не неведомом языке. «Их подобрало проходившее мимо судно в сотнях миль от какой-либо известной нам страны, в той же лодчонке, в которой их унесло в океан. Когда их подобрали, они были кожа да кости. Их речь никто не понимал, и они ни разу не назвали своей родины, а если и назвали какой-то остров, то на карте такого и не бывало. Теперь они сытые и гладкие и в ус себе не дуют. В судовом журнале помечена широта и долгота того места, где их нашли, и это, по-видимому, для них единственный ключ к поискам их утраченной родины»[9].
Какой странный романтический эпизод; и до чего любопытно узнать, откуда явились эти таинственные существа, эти Люди без Родины, блудные сыны, не знающие имени своей утраченной страны, бродячие Дети Ниоткуда.
Чаща островов на Тихом океане — поистине колыбель романтики, грез и таинственности. Своеобразная прелесть уединения, величавость, красота и глубокий, покой этих островов исцеляют истерзанные души людей, потерпевших крах в борьбе за существование в цивилизованном мире, и людей, изгнанных из этого мира за преступление; прельщают любителей легкого и беспечного бытия и тех, кто любит вольную бродячую жизнь, острые ощущения, разнообразие и приключения, а также тех, кто предпочитает спокойный и удобный способ наживы и торговли, необременительные брачные союзы, разводы без судов и затрат, разнузданные кутежи, — тогда жизнь кажется им идеально прекрасной.
Подкрепив свои силы, мы поплыли дальше.
Самым образованным человеком на нашем пароходе был молодой англичанин из Новой Зеландии. Он был естествоиспытатель. Его познания в этой области отличались глубиной и доскональностью, интерес к своему делу граничил у него со страстью; и вдобавок он обладал ораторским искусством, так что, когда он говорил о животных, слушать его было одно удовольствие; к тому же поучительно, хотя порой и нелегко понять, ибо он то и дело употреблял научные термины, которые были недоступны пониманию многих из нас. Не скрою, они и мне были непонятны, по он так охотно давал объяснения, что я постоянно засыпал его вопросами. Я, правда, недурно знал его предмет, — конечно, как дилетант, — но его разъяснения придали моим знаниям ясность и научность, — короче говоря, придали им ценность.
Особенно его интересовала фауна Австралазии, и его познания в этой области были исчерпывающими и безупречными. Я и раньше немало знал о кроликах Австралазии, об их непостижимой плодовитости, но только после разговоров с ним я понял, что мое представление о том, какой это ужасный бич для уличного движения и путешественников, — ничто в сравнении с фактами. Он рассказал мне, что первая пара кроликов, привезенная в Австралазию, расплодилась невероятно быстро, и всего через шесть месяцев в стране их стало такое множество, что пришлось прорывать в них каналы, чтобы добираться из города в город.
Он рассказал мне массу всякой всячины о червях, кенгуру и прочих жесткокрылых и добавил, что знает всю подноготную и образ жизни всех этих толстокожих. Он сказал, что кенгуру снабжен карманами, в которых носит своих детенышей, когда у него нет яблок. И еще он сказал, что эму не уступает по величине страусу, очень похож на него и ест что попало, даже кирпичи. И что динго — вовсе не динго, а самая обыкновенная дикая собака; и что динго отличается от дронта только тем, что оба они не лают; в остальном это одно и то же.
Он сказал, что единственная дичь Австралазии — сумчатый заяц; единственная певчая птица — хулиган, и что и тот и другая охраняются правительством. Самая красивая среди местных птиц — райская птица. Затем следуют два вида лирохвосток; пишутся они по-разному. Он сказал, что один вид вымирает, второй размножается. Он объяснил, что «сумеречник» вовсе не птица, а человек; сумеречником в Австралии называют бродягу. Это лодырь, горький пьяница, проходимец. В пору стрижки овец он шатается по стране, будто бы в поисках работы; на овечье пастбище он подгадывает явиться в сумерки; когда трудовой день уже кончился. Ему нужно только виски, ужин, ночлег и завтрак; получив все это, он исчезает. Естествоиспытатель рассказывал и о птице-колокольчике, которая день-деньской, почти беспрерывно, издает из глубины леса свой сочный, чарующий звон. Она — закадычный друг усталого, изнывающего от жажды сумеречника, ибо он знает, что там, где звенит птица-колокольчик, есть вода; и он отправляется дальше. Англичанин сказал, что самая удивительная птица Австралазии — пересмешник, а самая крупная, теперь вымершая, — моа-великан.
Моа имел тридцать футов в высоту и мог перешагнуть через голову стоящего человека среднего роста или смахнуть с него шляпу; впрочем, и голову тоже. Он сказал, что птица была бескрылой, но быстро бегала. Туземцы ездили на моа верхом. Он с легкостью делал сорок миль в час и, пробежав так четыреста миль, был еще вполне бодр. Когда в Новой Зеландии провели железную дорогу, эта птица еще водилась; и то время она доставляла почту. Управление дороги ввело расписание, существующее и сейчас: два скорых поезда в неделю, делавших двадцать миль в час. Чтобы забрать в свои руки доставку почты, компании пришлось истребить птицу моа.
Говоря о местных кроликах и бактрийских верблюдах, натуралист заметил, что шишконосные и бактерии Австралазии поражают своими многочисленными и странными отклонениями от законов, которым подчинены эти виды бугорчатых; однако, по его мнению, склонность природы стряпать курьезы наиболее ярко проявилась в том причудливом сочетании птицы, рыбы, амфибии, землеройного, пресмыкающегося, четвероногого и христианина, который называется орниторинкусом.
По многогранности своей натуры и строению это самое причудливое из всех животных, король микротварей всего земного шара. Привожу слова натуралиста:
«Назовите его как угодно, и вы не ошибетесь. Это рыба, ибо половину жизни проводит в воде; это земнородное, ибо половину жизни обитает на земле; это земноводное, ибо живет в воде и на земле и не знает, чему отдать предпочтение; оно не отказывается от зимней спячки, ибо в пасмурную погоду, когда ему становится скучно, зарывается в ил на дно лужи и отлеживается там недельку-другую; это некая разновидность утки, ибо у него утиный клюв и четыре перепончатых плавника; это сочетание рыбы и четвероногого, ибо в воде оно гребет плавниками, а на суше передвигается при их помощи с места на место; это своего рода тюлень, ибо у него тюленья шкура; это плотоядное, травоядное, насекомоядное и червоядное, ибо питается рыбой, травой и бабочками, а когда наступает пора спячки, откапывает из ила червей и пожирает их; это явно птица, ибо несет яйца и высиживает птенцов; это явно млекопитающее, ибо кормит детенышей своим молоком: и это несомненно некое подобие христианина, ибо соблюдает воскресение, когда кто-нибудь есть поблизости, и не соблюдает, когда никого поблизости нет. Ему присущи все склонности, кроме утонченных, ему присущи все черты характера, кроме положительных».
Это вид, который выжил в борьбе за существование, — вид, наиболее приспособившийся. Мистер Дарвин сочинил теорию, названную его именем; однако первым, кто проверил на практике и доказал ее состоятельность, был орниторинкус. И значит, ему надо воздать такую же хвалу, как мистеру Дарвину. Орниторинкус не спасался в Ноевом ковчеге, — вы напрасно стали бы искать его в перечне, — он благородно остался за бортом, чтобы разрабатывать теорию дарвинизма. Из всех живых существ в мире он один был снаряжен для этого всем необходимым. Тринадцать месяцев ковчег носился по воде, затопившей земной шар. Нигде не видно было ни клочка суши, ни растеньица, не было пищи, чтобы накормить млекопитающее, не было воды, чтобы напоить млекопитающее, ибо все съедобное погибло. А когда чистые потоки с небес и соленые моря земли смешали свои воды и они поднялись выше горных вершин, оказалось, что ни одна обыкновенная птица и ни один нормальный зверь не могут утолить ими жажду и остаться в живых. Но подобная смесь была для орниторинкуса, если можно так выразиться, манной небесной. Ведь вода его родной реки была всегда подсолена водами морского прилива. Всемирный потоп увлек с собой множество лесных деревьев, и по ним-то орниторинкус безмятежно странствовал; странствовал от пояса к поясу, от полушария к полушарию, в довольстве, ни о чем не заботясь, с живым интересом наблюдая постоянные смены пейзажа, смиренно благодаря судьбу за свою удачу, следя со все возрастающим энтузиазмом за развитием великой теории, ради подтверждения которой он рисковал жизнью, состоянием и незапятнанной честью, — если я могу, не нарушая приличий, выразиться этими словами применительно к подобного рода случаю.
Он вел роскошный и беспечный образ жизни существа, нестесненного в средствах; у него было все, что нужно, чтобы жить, благословляя судьбу. Хотелось ему прогуляться — он лазал по стволу дерева; днем он размышлял в тени листвы, ночью спал под ее сенью. Когда ему хотелось освежиться — он плавал; хотелось ему пищи вегетарианской — он ел листья; из-под коры деревьев он выкапывал червей и личинок; а когда ему хотелось рыбы — он удил; когда он хотел яиц — ничто не мешало ему класть яйца. Если все личинки переведутся на одном дереве, он плывет к другому; ну а рыбы было такое изобилие, что он терялся в выборе. И, наконец, испытывая жажду, он с благодарностью хлебал смесь, от которой издох бы и крокодил.
Когда же в конце концов после тринадцати месяцев научных странствий по всем поясам он пришвартовался к вершине горы и сошел на сушу, он мысленно сказал себе: «Пусть те, кто придет после меня, придумывают теория и видят сны насчет выживания наиболее приспособленных, если хотят, а я все-таки был первым, кто доказал это на себе!»
Это удивительное существо, подобно кенгуру и многим другим австралийским гидроцефалическим беспозвоночным, восходит к тем незапамятным временам, когда человека на земле и в помине не было; оно, без сомнения, восходит к той эре, когда Австралию и Африку соединяло шоссе в сотни миль шириной и тысячи миль длиной, и животные на обоих континентах были одни и те же, и все принадлежали к отдаленной геологической эпохе, известной в науке под названием Древняя Красноизвестковая Послеплеозавровая эпоха. Впоследствии шоссе опустилось на дно морское, мощные подземные толчки подняли африканский континент на тысячу футов вверх, а Австралия осталась на прежнем уровне. В новом африканском климате животные в силу необходимости стали эволюционировать и постепенно переходить в новые виды, семейства и породы, а животные Австралии — в силу той же необходимости — остались неизменными, и такими они сохранились до наших дней. Несколько миллионов лет африканский орниторинкус все эволюционировал и эволюционировал и, одну за другой, терял части своего тела, пока наконец не распался, и его составные части рассеялись. Теперь, когда встретишь в Африке птицу или зверя, тюленя или выдру, можно не сомневаться, что это всего-навсего жалкий остаток упомянутого мною идеального творения — того самого, которое представляло собой все в общем и ничего в частности, — щедро одаренного природой pluribus unum животного мира.
Такова история самого почтенного, самого древнего организма, живущего на земле — Ornithorhyncus Platypus Extraordinariensis, да хранит его бог!»
Нашему естествоиспытателю ничего не стоило воспарить на такую высоту, если тема его захватывала. И не только в прозе, но и в стихах. В свое время он сочинил изрядное число стихотворений и теперь роздал их читать пассажирам, и охотно разрешил переписывать. Вот «Обращение», — в нем, на мой взгляд, меньше специальных терминов, чем в других его стихах, и оно кажется мне наиболее возвышенным.
ОБРАЩЕНИЕ О, ложе тинное покинь, Орниторинкус милый мой. И клюв и улыбке распахнув, Вce, что я жажду знать, открой. Происхожденья твоего Я тайну мне молю открыть: Зачем там плоть, где кость нужна, И кость, где плоти должно быть? Откуда твой бобровый хвост И эти лапы-плавники? А вместо жабр зачем тебе Даны звериные клыки? О Сумчатый, о Кенгуру, Похожий с виду на горшок, Чьи ноги разнятся длиной, В чьем сером животе мешок, Открой, реликт, зачем ты здесь? Друзья твои, в тисках земли, Окаменелостями став. Давно бессмертье обрели[10].Пожалуй, нет поэта, который был бы плагиатором сознательно; вместе с тем я склонен подозревать, что нет и поэта, который порой не совершил бы плагиат бессознательно. Вышеприведенные стихи поистине прекрасны и даже трогательны, и все же в них проскальзывает нечто такое, что напоминает «Соловья Мичигана». Не может быть никаких сомнений, что автор «Обращения» читал произведения этого поэта и был ими очарован. Нельзя утверждать, что он заимствовал из них хоть слово, а тем более фразу, но его стихам присуще мастерство, стиль, ритм и мелодичность стихов «Соловья». Пусть читатель сравнит «Обращение» с «Фрэнком Даттоном» — особенно строфы первую и семнадцатую — и сам убедится в том, что тот, кто написал первое, читал второе[11].
I Фрэнк Даттон светел был душой, Но был его жребий лих: В Сосновом озере он утонул, И нет его больше в живых. Ему сравнялось четырнадцать лет. Он рос без мамы с детских дней. Когда бедняжка Фрэнк утонул, Он с бабушкой жил своей. XVII Он утонул во вторник днем, Его в воскресенье нашли, И слухи о том, что он утонул, Округу всю обошли. Рядом с мамой своей он был зарыт. В холодной земле погребли его, И слезы прольют его друзья, Увидев могилку его[12].Глава IX ТАИНСТВЕННАЯ, ВЕЧНО НОВАЯ, УДИВИТЕЛЬНАЯ АВСТРАЛИЯ
Климат зависит от людей, которые нас окружают.
Новый календарь Простофили Вильсона15 сентября. — Ночь. Австралия уже совсем близко. До Сиднея осталось пятьдесят миль.
Эта запись напоминает мне такой случай. Пассажиров созвали на нос парохода полюбоваться великолепным зрелищем. Было совсем темно. Океан открывался взору ярдов на пятьдесят вокруг — дальше все тускнело и скрывалось во мраке. Но тот, кто некоторое время терпеливо вглядывался в темноту, был щедро вознагражден. Вскоре в четверти мили от парохода на воде вспыхнул ослепительно яркий свет, — вспышка настолько неожиданная и столь удивительно яркая, что дух захватило; потом световое пятно вдруг вытянулось наподобие штопора и превратилось в огромного сказочного змея; каждый изгиб его тела, дорожка, прокладываемая головой, волна, бегущая за его хвостом, — все было охвачено неистовым огнем пожара, И он приближался к нам с быстротой молнии! Не успели мы опомниться, как этот исполин пламени длиною в пятьдесят футов, пылая и бушуя, пронесся мимо и тут же исчез, а в том месте, откуда он появился, вспыхнуло снова, снова и снова; и все эти вспышки мгновенно превращались в морских змеев. Мы видели, как вспыхнуло в шестнадцати местах одновременно; змеи бешено ринулись в сторону парохода — клубок извивающихся спиралей, движущийся костер, видение умопомрачительной красоты, зрелище огня и мощи, равное которому многим из собравшихся на палубе вряд ли суждено увидеть в мире сем.
То были дельфины — дельфины, горящие фосфорическим светом. Вскоре они подплыли причудливой шаловливой стаей к носу парохода и добрый час проказничали, прыгая, резвясь, дурачась и кувыркаясь у форштевня или перескакивая через него, — но ни разу на него не наткнулись, ни разу не просчитались, хотя частенько мчались мимо него всего лишь в каком-нибудь дюйме. По величине дельфины были самые обыкновенные, футов восемь десять, — но каждым движением тела они выбрасывали длинную цепь сплетенных вместе пылающих спиралей. Мы не могли оторвать взгляд от этого огненного клубка и не двинулись с места, пока все дельфины не уплыли; увидеть что-либо подобное дважды никому не дано. Дельфин — котенок океана: ни одной серьезной мысли, только забавы и шалости. Но таким шальным, как той ночью, я его никогда прежде не видел. Правда, это было неподалеку от центра цивилизации, и, возможно, он был просто пьян.
Тем временем мы уже подошли к Сиднею, и на одном на высоких валов, милях в тридцати от города, замелькал свет огромного электрического фонаря; вскоре искорка разгорелась, и исполинское солнце пронзило темный небосвод длинным клинком света.
Сиднейская гавань отгорожена от моря скалами, которые тянутся на несколько миль, словно стена, и на первый взгляд эта стена кажется сплошной. Однако она прерывается посередине, но настолько незаметно, что даже капитан Кук проплыл мимо и не разглядел этого. Возле прохода есть ложный проход, похожий на настоящий, и в былые времена, когда гавань еще не освещалась, он не раз являлся причиной бедствий для мореплавателей. Из-за него произошло памятное крушение «Дункан-Денбера» — одна из самых душераздирающих трагедий в истории безжалостного убийцы-океана. «Дункан-Денбер» был парусным судном — прекрасный, пользующийся популярностью пассажирский пакетбот, и управлял им известный капитан с незапятнанной репутацией. Судно шло из Англии, и Сидней ждал его, считая часы и приготовясь к восторженной встрече, — ведь на нем возвращались в стосковавшиеся сиднейские дома их краса и радость — матери и дочери; дочери, что долгие годы воспитывались на чужбине, и матери, которые опекали их там все это время. Лишь Индия и Австралазия нагружают корабли самым дорогим, что у них есть на свете, и только там понимают неизмеримый смысл этих слов; только там понимают, что значит ждать, когда такой груз доверен не пару, а коварным ветрам; и как велика радость, когда корабль с этим сокровищем в целости и сохранности входит в гавань и ужас томительного ожидания уже позади.
В пасмурный полдень на борту «Дункан-Денбера», плывшего к мысу Сиднея, поднялась веселая суматоха: пассажирки усердно готовились, — ведь все были уверены, что еще до наступления вечера они обнимут своих близких; эти бедные невесты смерти сбросили дорожное платье и оделись в более подходящее для встречи, в самое свое нарядное, самое красивое платье. Тем временем то ли упал ветер, то ли произошла ошибка в расчетах, но стемнело, а мыс все еще не показывался. Говорят, что в любом другом случае капитан остался бы в открытом море до утра, но тут случай был не обычный: на капитана смотрели умоляющие глаза, лица трогательно разочарованные, и, движимый жалостью, он решился проскользнуть в проход, несмотря на темноту. Семнадцать раз он благополучно входил в порт и полагал, что хорошо знает эти места. Итак, он повел судно прямо к ложному входу, приняв его за настоящий. Он понял, что ошибся, когда было уже слишком поздно. Корабль ждала неминуемая гибель. Бурные волны подхватили его и разбили вдребезги об острые рифы у подножия скалистой стены. Никто из этого приятного общества не остался в живых. Историю гибели «Дункан-Денбера» рассказывают каждому, кто проезжает мимо места катастрофы, и будут рассказывать впредь из поколения в поколение. Она никогда не устареет, время не лишит ее свежести, никогда не развеется заключенная в ней бесконечная скорбь.
На корабле было двести человек, и уцелел только один. То был матрос. Огромная волна подбросила его вверх и кинула на узкий выступ скалы где-то посередине между вершиной и подножьем; там он пролежал всю ночь. В другое время он лежал бы там до конца своих дней, без надежды на спасенье, но на следующее утро Сидней облетела ужасная весть: «Дункан-Денбер» разбился в виду родного города! И убитые горем жители мгновенно облепили стены гавани. Кто-то, свесившись над пропастью, чтобы разглядеть хоть что-нибудь внизу, увидел этот чудом уцелевший обломок крушения. Притащили веревки и почти невероятными усилиями спасли этого человека. Матрос отличался практической сметкой: он снял в Сиднее зал и за шестипенсовик с человека показывался публике до тех пор, пока не выкачал все доходы с золотых россыпей за тот год.
Мы вошли в гавань и бросили якорь, а утром, охая и ахая от восхищения, поплыли через бухты и излучины этого просторного прекрасного порта — любимца Сиднея и признанного чуда мира. Не удивительно, что люди гордятся им и выражают спои восторги в пышных словах. Один местный житель, возвращавшийся домой на нашем пароходе, спросил, какого я мнения о гавани, и я рассыпался в похвалах, вполне, как мне казалось, подходящих к случаю. Я сказал, что она прекрасна — сверхъестественно прекрасна. Затем я невольно воздал хвалу за это господу богу. Однако местный житель все-таки не был удовлетворен. Он сказал:
— Да, она прекрасна; разумеется, она прекрасна — наша гавань, но это еще не все, это всего лишь половина; вторая половина — Сидней, и прежде чем приходить и восторг, надо видеть и то и другое. Гавань создана богом, и против этого ничего не скажешь, а вот Сидней создал дьявол.
Я принес извинения и попросил, чтобы он передал их своему приятелю. Он был прав, сказав, что Сидней — вторая половина. Гавань прекрасна и без Сиднея, но сама по себе она была и вполовину не так хороша, как с ним вместе. Формой она напоминает дубовый лист — большой лист прелестной голубой воды, которая с двух сторон врезается узкими каналами в материк и течет меж длинных пальцев суши — лесистых горных кряжей с ровными, как на могильных холмах, скатами. На этих кряжах там и сям под сенью листвы прикорнули хорошенькие виллы, и они радуют ваш взор, когда судно плывет мимо, по направлению к городу. Город одел камнем волнистую линию холмов и гребни их отрогов, а возвышающиеся над всем этим башни, шпили и иные архитектурные украшения прерывают плавные линии и придают живописность всей панораме.
Узкие заливы, о которых я упоминал, повсюду врезаются в сушу и исчезают в ней; любители прогулок и пикников постоянно бороздят эти заливы на парусных лодках. Люди, вполне заслуживающие доверия, уверяют, что, вздумай кто-нибудь объездить все эти бухты, ему пришлось бы проделать семьсот миль водного пути. Впрочем, в нынешнем году лжецы развелись повсюду, и если их дела пойдут хорошо, они, не моргнув глазом, удвоят это число.
Октябрь был не за горами, наступила весна. Это и правда была весна — все так говорили, но в Канаде вы вполне могли выдать ее за лето, и никто бы не усомнился. Погода стояла такая, какая в наших краях считается восхитительным летом, — конечно, если выехать за город или к морю. Но местные жители говорили, что довольно прохладно; чтобы узнать, что такое теплая погода, надо пожить в Сиднее летом, а если хотите иметь представление о жаре — поезжайте на север миль за тысячу или полторы. По их словам, в тех местах, поближе к экватору, куры несут печеные яйца. В Сиднее всегда можно получить точные сведения о том, где какой климат. Я начинаю думать, что быть беспристрастным путешественником, собирающим сведения, — самое приятное и самое безответственное занятие. Путешественник всегда может узнать все, что его интересует, — для этого ему надо только спрашивать. Он доберется до любых фактов, и даже больше. Все помогают ему, и никто не мешает. Всякий, у кого залежался какой-нибудь факт, не имеющий больше хождения на внутреннем рынке, охотно отдаст его по своей цене. Такой товар накапливается быстро и без затруднений. Стоит он пустяк, а меж тем поднимает ваш престиж на мировом рынке. Путешественники, приезжающие в Америку, нагружаются все теми же набившими оскомину ребячьими баснями, которыми нагрузились их предшественники, потом увозят их обратно и без всяких хлопот сбывают на внутреннем рынке,
Если бы климат устанавливался по аналогии широт, мы бы знали климат любого места на земном шаре по его положению на карте; таким образом, мы бы знали, что климат Сиднея — копия климата Колумбии, Южной Каролины, Литл-Рока и Арканзаса, поскольку Сидней находится примерно на таком же расстоянии к югу от экватора, как эти города к северу от него,— тридцать четыре градуса. Так нет же, климат не желает считаться с широтами. Когда в Арканзасе зима — в Сиднее тоже зима, но только по названию. Я видел, как по Миссисипи плыл лед мимо самого устья Арканзас-Ривер, а у Мемфиса, только чуть повыше, река была скована льдом от берега до берега. Меж тем в Сиднее не бывает настолько холодно, чтобы ртуть в термометре опустилась до точки замерзания. Однажды, в разгар зимы, в июле месяце, ртуть опустилась до +36°, и этот день вошел в историю города как достопамятный «холодный день». В Литл-Роке температура, вне сомнения, опускается ниже нуля. Однажды в Сиднее в разгар лета — примерно под Новый год — градусник показывал +106° в тени, — и это был сиднейский достопамятный жаркий день. Это, по-видимому, соответствует и самому жаркому дню Литл-Рока. Приведенные мною данные по Сиднею взяты из правительственного отчета и заслуживают доверия. В Арканзасе летняя погода, пожалуй, не имеет преимуществ перед сиднейской; ну а что касается зимы, то это уже совсем другое дело. Если разделить арканзасскую зиму на сто зим сиднейских, то и тогда хватит для Арканзаса и еще для сирот.
В Новом Южном Уэльсе, на всем узком холмистом поясе со стороны Тихого океана, такой же климат, как и в столице этой колонии: пятьдесят четыре градуса — средняя зимняя температура, и семьдесят один градус летняя. Для здоровья лучшего, кажется, и желать нельзя; однако специалисты утверждают, что девяносто градусов в Новом Южном Уэльсе труднее перенести, чем сто двенадцать градусов в соседней Виктории, ибо в Уэльсе воздух влажный, а в Виктории — сухой.
Средняя температура в самой южной точке Нового Южного Уэльса такая же, как в Ницце, — шестьдесят градусов: а ведь Ницца на четыреста шестьдесят миль дальше от экватора, чем Новый Южный Уэльс.
Но природа скупа на совершенный климат, а по отношению к Австралии — особенно. На этом обширном континенте по-настоящему хороший климат, очевидно, только у самых его краев.
Взгляните на карту мира, и вы удивитесь, до чего велика Австралия. Ее площадь равняется почти двум третям Соединенных Штатов до присоединения Аляски.
Но если в Соединенных Штатах, в общем, вполне сносный климат и плодородная земля, то на территории Австралии, как известно, множество пустынь и местами такой климат, выдержать который могут разве что некоторые, самые твердые породы скал. Поэтому Австралия до сих пор не заселена. Возьмем карту Соединенных Штатов, оставим на месте штаты, расположенные по побережью Атлантического океана, а также кромку южных штатов от Флориды на запад до устья реки Миссисипи, а также узкую незаселенную полосу вверх по Миссисипи на полпути к ее истокам, а также узкую незаселенную полоску вдоль берегов Тихого океана, затем окунем кисть в краску и замажем всю огромную площадь между приатлантическими штатами и кромкой побережья Тихого океана — теперь наша карта будет напоминать последнюю карту Австралии.
На этом громадном пространстве — жара, если не сказать пекло; часть его плодородна, все остальное — пустыня; воды там мало, городов нет. Стоит только пересечь горы Нового Южного Уэльса и спуститься в край, лежащий к западу, как вы почувствуете, что благодатный климат остался позади, а новый не имеет с ним ничего общего. Взглянув на термометр, вы решите, что попали в палящий зной индийской прерии. Знаменитый исследователь капитан Стурт так описывает эту жару:
«Ветер, все утро дувший с северо-востока, усилился до жестокого урагана; я никогда не забуду его разрушительного действия. Я искал убежища под массивным эвкалиптом, но палящие шквалы ветра были настолько ужасны, что мне казалось странным — почему не вспыхивает трава. Право, в этом не было бы ничего сверхъестественного: ураган грозил уничтожить все живое и неживое; лошади стояли спиной к ветру, уткнувшись носом и землю, не в силах поднять головы; птицы умолкли, а листья с деревьев, под которыми мы сидели, падали вокруг нас, словно хлопья снега и буран. В полдень я вынул из футляра свой термометр с делениями до +127° и заметил, что ртуть поднялась до +125°, Я решил, что виновато солнце, и положил термометр рядом с собой, в развилку дерева, где он был одинаково защищен как от ветра, так и от солнца. Час спустя я взглянул на него и увидел, что ртуть поднялась до самого верха и взорвала шарик, — случай, насколько мне известно, до сих пор не отмеченный ни одним путешественником. Не нахожу слов, чтобы дать читателю представление о губительности этого невыносимого зноя».
Такой пышущий жаром ветер проносится порой и над Сиднеем, неся за собой «пыльную бурю». Говорят, что пыльная буря знакома большинству австралийских городов. Видимо, и я знаю, что это за прелесть, ибо по описанию мистера Гейна, которое я сейчас приведу, она очень похожа на бурю щелочной пыли в Неваде, если не упоминать лопаты. Впрочем, лопата — весьма важная деталь, и поэтому моя невадская буря, в общем, ломаного гроша не стоит.
«Чем ниже мы спускались, тем становилось жарче, пока мы не достигли Дуббо, который расположен на высоте шестьсот футов над уровнем моря. Это красивый город, раскинувшийся на обширной равнине. Когда земля высыхает после ливня, ее поверхность трескается и превращается в густой слой пыли, и временами, при ветре определенного направления, весь этот слой в буквальном смысле слова поднимается в воздух огромной темной тучей. В такой буран ничего не увидишь на расстояния нескольких ярдов; несчастный, кого он застигнет, вынужден искать убежище где придется, лишь бы поскорее спрятаться. Заботливая хозяйка, заметив вдалеке приближающийся темный вихрь, поспешно закрывает все окна и двери. Гостиная, где во время пыльной бури опрометчиво оставили открытым окно, примет поистине необычайный вид. Одна почтенная женщина, прожившая в Дуббо несколько лет, говорила, что пыль покрывает ковер таким толстым слоем, что ее приходится выгребать лопатой».
А вывозить, должно быть, фургонами. Я ошибся: настоящей пыльной бури я не видел. По-моему, знакомиться с характеристикой и описаниями Австралии и размышлять над ними — одно удовольствие: Австралия предстает перед нами такой необычайной, вечно новой, таинственной, она так удивительно и забавно отличается от других частей света всем нам известных, всем нам приевшихся. Что касается некоторых частностей, то мы теперь уже знаем, какой благодатный климат на побережье Нового Южного Уэльса и какой зной в Австралии, если верить капитану Стурту; мы познакомились с потрясающей пыльной бурей и задумались о необыкновенном явлении природы — почти необитаемой знойной пустыне площадью в половину Соединенных Штатов Америки, где только на узкой полоске земли живут люди и есть цивилизация и вокруг — хороший климат.
Глава X О НЕКОТОРЫХ ВАРВАРСКИХ АНГЛИЙСКИХ ЗАКОНАХ
Все человеческое грустно. Сокровенный источник юмора
не радость, а горе. На небесах юмора нет.
Новый календарь Простофили ВильсонаКапитан Кук открыл Австралию в 1770 году, а восемнадцать лет спустя британское правительство начало привозить туда каторжников. За пятьдесят три года в Новый Южный Уэльс прибыло восемьдесят три тысячи каторжников. Они были закованы в тяжелые цепи; надзиратели дурно с ними обращались и скудно кормили; их жестоко наказывали за малейшее нарушение правил. «Такой суровой дисциплины не знал мир», говорит историк, описывая их жизнь[13].
Английский закон того времени был беспощаден. За малейшую провинность, — в наши дни за нее наказали бы незначительным штрафом или несколькими днями заключения, — мужчин, женщин и юношей отправляли на край света, сроком от семи до четырнадцати лет, а за серьезное преступление ссылали пожизненно. За кражу кролика даже детей ссылали в исправительные колонии на семь лет!
Двадцать три года тому назад, когда я был в Лондоне, там применялось новое средство борьбы с грабителями, душившими свои жертвы, и с женоистязателями — двадцать пять плетей по голой спине. Говорят, этот страшный способ воздействия усмирял даже самых отпетых головорезов, и не было человека, который бы вытерпел и не закричал после девятого удара, — как правило, крики раздавались раньше. На душителей и женоистязателей это наказание оказывало огромное и благотворное влияние, но современный гуманный Лондон не выдержал, и закон пришлось отменить. Немало избитых и окровавленных английских жен впоследствии сетовали на этот бессердечный подвиг сентиментальной «гуманности»!
Двадцать пять плетей! В Австралии и Тасмании каторжника награждали пятьюдесятью чуть ли не за любой ничтожный проступок, а порой жестокий надзиратель добавлял пятьдесят, и еще пятьдесят, и еще, пока страдалец был в силах выдерживать пытку. В Тасмании один каторжник получил триста плетей за кражу нескольких серебряных ложек, — я прочитал об этом случае в старом рукописном официальном отчете. А ведь бывало и еще больше. Кто орудовал плетью? Нередко другой каторжник, случалось — самый близкий друг провинившегося; и ему приходилось стараться изо всех сил, не то его самого отстегали бы за милосердие — ведь с него не спускали глаз, — а другу это милосердие все равно не принесло бы пользы: ни одна плеть не миновала бы его... его передали бы в другие руки и отмерили наказание полной мерой.
В Тасмании жизнь каторжника была столь невыносимой, а самоубийство столь трудно осуществимо, что бывали случаи, когда отчаявшиеся люди собирались и тянули жребий, кому из них убить своего же товарища, — убийство обеспечивало преступнику и свидетелям преступления смерть от руки палача!
Приведенные примеры — лишь смутный намек; они только наводят на мысль о том, какой была жизнь ссыльных, — всего лишь несколько мелочей, всплывших на поверхность безбрежного моря им подобных; или же, пользуясь другим образом, — всего лишь две-три горящие колокольни, сфотографированные с такого места, откуда не виден охваченный пламенем город у их подножья.
Некоторые каторжники — и немало, говоря по совести, — были очень дурными людьми даже для того времени; но большинство вряд ли было многим хуже тех, кто остался на родине. Мы должны этому верить; от этого никуда не денешься. Мы обязаны верить, что страну, способную равнодушно смотреть на то, как вздергивают на виселицу женщин, которых голод или холод вынудили украсть кусочек бекона или жалкие лохмотья стоимостью в двадцать шесть центов, как мальчиков отрывают от матерей, а мужчин от семьи и ссылают на долгие годы на край света за столь же ничтожные проступки, никак не назовешь «цивилизованной» в сколько-нибудь значительной степени. И мы вынуждены также предполагать, что страна, которая в течение сорока с лишним лет знала об участи этих изгнанников и мирилась с этим, явно не поднялась на более высокую ступень цивилизации.
Если мы заинтересуемся личностью и поведением надзирателей и чиновников, которым был вверен надзор за каторжниками и забота об их спинах и желудках, то нам придется и в этом случае признать, что между каторжниками и тюремщиками, теми и другими, и их соотечественниками на родине существовало весьма заметное сходство и единообразие.
Прошло четыре года, и за это время в Австралию прибыло множество ссыльных. Начали стекаться и почтенные поселенцы. Обе эти категории колонистов нуждались и охране, на случай стычек между ними и туземцами. Здесь уместно вспомнить о туземцах, хотя их было так мало, что и говорить-то почти нечего. Даже в ту пору, когда их не очень донимали, ибо они еще не очень мешали, было подсчитано, что в Новом Южном Уэльсе всего один туземец на сорок пять тысяч акров территории.
Итак, людей нужно было охранять. Офицеры регулярной армии не хотели служить в Австралии — здесь, на краю света, не заработаешь ни чинов, ни почета. Посему Англия сколотила своего рода милицейский гарнизон из тысячи добровольцев и, снабдив их офицерами и форменной одеждой, переправила в Новый Южный Уэльс под названием «Корпус Нового Южного Уэльса».
Такого жестокого удара колония еще никогда не испытывала, и она была потрясена. Корпус наглядно показал, каким было моральное состояние Англии за пределами каторжных тюрем. Колонисты затрепетали. Как бы не привезли чего доброго английскую знать!
В те первые годы колония еще не могла обходиться своими средствами. Предметы первой необходимости — пища, одежда и прочее — присылались из Англии. Их хранили в огромных правительственных складах и выдавали каторжникам и продавали поселенцам с пустяковой надбавкой к цене. Корпус быстро смекнул, что делать. Офицеры взялись за торговлю, и притом самым беззаконным образом. Они стали ввозить ром, а также изготовлять его на собственных заводах, наперекор распоряжениям и протестам правительства. Они объединились и подчинили себе рынок; они бойкотировали правительство и других виноделов; они создали замкнутую монополию и крепко держали ее в руках. Когда в порт приходил корабль со спиртным, они не допускали к нему покупателей и вынуждали владельца продавать им спиртное по цене, которую устанавливали сами, — и цена всегда была достаточно низкой. Они покупали ром в среднем по два доллара за галлон, а продавали в среднем по десять. Они сделали ром валютой страны, — ведь там почти не было денег, — и сохраняли свою пагубную власть, держа колонию под каблуком лет восемнадцать-двадцать, пока правительство не расправилось с ними окончательно.
Между тем они приучили к пьянству всю колонию. Они спаивали поселенцев, прибирали к рукам их фермы одну за другой и богатели, как крезы. Когда фермер вконец спивался, они сдирали с него семь шкур за глоток рома.
Известен случай, когда за галлон рома стоимостью в два доллара фермер отдал участок земли, который через несколько лет был продан за сто тысяч долларов.
Лет через восемнадцать — двадцать после того, как была создана колония, выяснилось, что природные условия здесь особенно благоприятны для овцеводства. Страна начала процветать, вышла на мировой рынок, а к тому времени открыли еще и богатые месторождения благородных металлов; теперь сюда хлынули иммигранты, а также и капиталы. Так родилась большая, богатая, просвещенная колония — Новый Южный Уэльс.
Это — страна рудников, овцеводческих ранчо, есть здесь трамваи и железные дороги, пароходные линии, школы, газеты, картинные галереи, ботанические сады, музеи, больницы, библиотеки, ученые общества; здесь радушно встречают всякое культурное и практическое начинание; церковь здесь возле каждого дома, а ипподром — напротив.
Глава XI СИДНЕЙ — АНГЛИЙСКИЙ ГОРОД С АМЕРИКАНСКОЙ ОКРАСКОЙ
Из жизненного опыта следует извлекать только полезное и ничего больше, — иначе мы уподобимся кошке, присевшей на горячую печку. Она никогда больше не сядет на горячую печку — и хорошо сделает, но она никогда больше не сядет и на холодную.
Новый календарь Простофили ВильсонаВо всех колониях, где принят английский язык, люди щедры на гостеприимство, и Новый Южный Уэльс с его столицей не является исключением из этого правила. Любую такую колонию Соединенных Штатов Америки путешественник-англичанин неизменно называет расточительно гостеприимной. Я знаю по опыту, что эта характеристика годится и для всех прочих колоний, где говорят по-английски. Не стану вдаваться в подробности, ибо, по моим наблюдениям, писатели постоянно сталкиваются с неодолимыми трудностями и попадают впросак, если пытаются отблагодарить всех подряд.
Мистер Гейв (Новый Южный Уэльс и Виктория, 1885 год) попытался отблагодарить всех и потерпел неудачу:
«Жители Сиднея славятся своим гостеприимством. Прием, оказанный нам этими благородными людьми, больше чем что бы то ни было, заставит нас с удовольствием вспоминать о пребывании в их городе. В качестве хозяев и хозяек они не имеют себе равных. Новичку стоит только завести знакомство с кем-нибудь одним, и тут же все наперебой начнут радушно его принимать и будут к нему добры и внимательны. Из городов, где нам посчастливилось побывать, самым уютным и гостеприимным оказался Сидней».
Лучше, кажется, не скажешь! Ему бы закрыть на этом фонтан своего красноречия и оставить Дуббо в покое, — так нет же, фонтан продолжает бить вовсю, даже когда Гейн уже далеко продвинулся в своей книге и успел забыть то, что он говорил о Сиднее:
«Покидая Дуббо, этот многообещающий город, нельзя не выразить искренней благодарности его добросердечным и гостеприимным жителям. Хоть Сидней вполне заслуживает своей репутации любезного обхождения с чужестранцами, все же он отличается некоторой сухостью и сдержанностью. В Дуббо, напротив, отношение такое же, но тут мы ощущаем приятный оттенок почтительного дружелюбия, благодаря чему в этом городе нам по-домашнему уютно, что не столь уж часто случается. Мы откладываем в сторону перо с чувством удовлетворения, ибо представился случай, — к сожалению, только теперь, когда наш труд уже подходит к концу, — воздать хвалу, пусть скромную, городу, который, хотя и не обладает особенно живописной природой и сколько-нибудь интересной архитектурой, тем не менее славен жителями, чьи открытые сердца невольно создают своему городу репутацию радушия и добросердечности».
Хотел бы я знать, чем ему не угодил Сидней? Просто удивительно: протянули человеку три-четыре пальца почтительного дружелюбия, и он тут же размяк и заболевает манией славословия, и притом в тяжелой форме. Это сразу видно. Никто в здравом уме не станет клеветать на город только за то, что у него нет «интересной архитектуры» и «не особенно живописная природа», и не сделает вид, будто ему больше всего понравились в Дуббо пыльная буря и «приятный оттенок почтительного дружелюбия». Да, это старые, знакомые симптомы; они безошибочно указывают на манию славословия.
В Сиднее четыреста тысяч жителей. Если сюда приедет американец, он прежде всего с изумлением обнаружит, что город раз в восемь или девять больше, чем он ожидал. Потом он поразится тому, что это английский город с американской окраской. В Мельбурне это еще больше бросается в глаза, там даже архитектура зданий напоминает американскую; фотографию самой величественной деловой улицы Мельбурна можно смело выдать за фотографию лучшей улицы большого американского города. Мне сказали, что большинство роскошных зданий Мельбурна — городские резиденции скваттеров. Понятие скваттер показалось мне там довольно неуместным, но когда мне объяснили, что оно означает в Мельбурне, я подумал: вот еще пример того, как забавно меняются слова (и животные) с переменой места в климатических условий. В Америке, когда вы говорите о скваттере, неизменно полагают, что вы имеете в виду человека бедного, а когда вы говорите о скваттере в Австралии, предполагается, что вы имеете в виду миллионера; и Америке вы именуете этим словом обладателя нескольких акров земли и сомнительного положения в обществе, в Австралии — человека, земли которого тянутся на длину железнодорожной магистрали, а положение в обществе безупречно; в Америке это слово относится к человеку, владеющему десятком голов скота, в Австралии — к владельцу от пятидесяти тысяч до полумиллиона голов; в Америке это слово относится к человеку неприметному, не имеющему никакого леса, в Австралии — к человеку видному, с которым все считаются; в Америке вы не ломаете шапки перед скваттером, в Австралии — непременно; в Америке вы не очень-то кричите, что у вас дядюшка скваттер, в Австралии — звоните об этом во все колокола; в Америке от друга скваттера вам нет никакого проку, но если у вас друг скваттер в Австралии, вы будете ужинать с королями, окажись они там.
В Австралии, чтобы прокормить овцу, нужно два с половиной акра пастбищ (иные говорят, что вдвое больше); значит, когда у скваттера полмиллиона овец, его земельная собственность по площади почти равна — ну, скажем, Род-Айленду. Он ежегодно настригает шерсти примерно на четверть или полмиллиона долларов.
Он живет во дворце в Мельбурне, или Сиднее, или ином большом городе и время от времени наезжает в свое овечье королевство, расположенное за сотни миль оттуда на огромных равнинах, чтобы присмотреть за полчищами конных и прочих пастухов и других работников ранчо. У него и там есть просторный дом, и если вы придетесь ему по душе, он пригласит вас погостить у него недельку; он устроит вас уютно и с комфортом, покажет свое огромное хозяйство во всех подробностях и будет кормить, поить, угощать сигарами и всем самым лучшим, что только можно купить за деньги.
В одном из этих колоссальных поместий расположился довольно большой город со всевозможными ремеслами и промыслами, какие придают городу значительность; город и земля, на которой он стоит, — собственность скваттеров. Я побывал там. Вполне возможно, что это не единственный город в Австралии, принадлежащий скваттерам.
Австралия поставляет на мировой рынок не только прекрасную шерсть, но и баранину. Эту обширную торговлю породил недавно изобретенный способ хранения мяса в холодильниках и возможность применения его на кораблях. В Сиднее я был на исполинской фабрике, где ежедневно колют, разделывают и надежно замораживают тысячу баранов, чтобы отправить морем в Англию.
Не скажу, чтобы австралийцы заметно отличались от американцев одеждой, манерами, нравами, произношением, интонацией или общим своим обликом. По каким-то едва ощутимым, мимолетным признакам догадываешься об их английском происхождении, но, как правило, в глаза это не бросается. Они держатся непринужденно и сердечно с той самой минуты, как вас познакомили. Это по-американски. Если выразиться иными словами — это английское дружелюбие, без свойственной англичанам сдержанности и чопорности.
Порой — впрочем, довольно редко — вы услышите такие слова, как «пинжак» вместо «пиджак», «афтанабиль» вместо «автомобиль», из уст людей, от которых вы этого никак не ожидали. В Сиднее существует заблуждение, будто это австралийский диалект, но люди, побывавшие «дома», — местные жители любовно и благоговейно называют так Англию, — знают, что это неверно. Это диалект «уличного торговца». В Австралазии же таким диалектом повсюду пользуются слуги, как в Лондоне некультурные или малокультурные люди любого сословия или профессии. Эти слова особенно поражают, если их много в одной короткой фразе. Как-то утром в гостинице Сиднея горничная сказала:
— Пинжак я почистила, газета на тувалетном столе, и если госпожа готова, я велю подать афтанабиль.
Я уже вскользь сказал, что австралийцы имеют обыкновение называть Англию «домом». Это всегда звучит умилительно; а порой они безотчетно говорят «дома» так ласково, что нельзя не растрогаться; говорит с таким выражением, что ваши .чувства воплощаются и образ: вы видите Австралазию в образе юной девушки, поглаживающей старую, седую голову матери — Англии.
В Австралазин беседа за столом течет оживленно и свободно, в разговоре нет скованности или принужденности. Это напоминает скорее Америку, чем Англию. Впрочем, Австралазия строго демократична, а замкнутость и скованность, как известно, порождаются сословными различиями.
В Англии, как и в колониях, аудитория реагирует на все необычайно живо и непосредственно. При большом стечении публики дух кастовости рассеивается, а с ним в английская чопорность; в такие минуты воцаряется равенство и все чувствуют себя свободно, настолько свободно, что привычка англичанина быть постоянно начеку и сдерживать всякое неблагоразумное проявление чувств забывается и на время теряет над ним власть, да еще в такой степени, что иной, пожалуй, начнет аплодировать в одиночку, если ему вздумается, — отвага, какой больше нигде в мире не встретишь.
Но если ваш новый знакомый, англичанин, находится с вами наедине или в узком кругу малознакомых ему людей, расшевелить его трудно. Тогда он насторожен, и сразу видна его природная замкнутость. Из-за этого то и составилось ложное мнение, будто англичанин лишен чувства юмора и не способен его оценить. Американцы и англичане — люди разные, и юмор у американцев и англичан разный; но сам американец и его юмор — родом из Англии, и оба они претерпели изменения лишь вследствие изменившихся условий и новой среды. Самыми остроумными речами, какие я когда-либо слышал, были две застольные речи, произнесенные за ужином в австралийском клубе. Одну произнес англичанин, вторую — австралиец.
Глава XII ГАНУМАН СИЛЬНЕЕ САМСОНА
Некоторые люди бранят школьника, называя его пустым болтуном. А ведь именно школьник сказал: «Веровать — это верить в то, чего не существует».
Новый календарь Простофили ВильсонаВ Сиднее мне приснился замечательный сон, и в разговоре я рассказал его миссионеру из Индии, который ехал в Новую Зеландию навестить каких-то родственников. Мне снилось, будто вселенная — это телесная оболочка бога; будто огромные миры, мерцающие над нами в небесных просторах на расстоянии миллионов миль, — кровяные шарики в его венах; а люди и все другие существа — бесчисленные микробы, что вливают многообразие жизни в кровяные шарики.
Миссионер выслушал мой рассказ, подумал немного и сказал:
— Вашему сновидению нет равных, ибо то, что вы видели, беспредельно, как беспредельна сама вселенная, и, мне кажется, оно объясняет то, что иначе почти необъяснимо, — происхождение священных индийских легенд. Может быть, индийцы искренне считают божественным откровением то, что привиделось им во сне. Так оно, по всей вероятности, и есть, ибо в бодрствующем состоянии жрецам, конечно, не придумать такое, как бы они ни старались.
Он рассказал мне несколько легенд, в которые, по его словам, непоколебимо верят все индийцы, включая высшие слои общества и людей высокообразованных, и добавил, что это всеобщее легковерие очень мешает деятельности миссии. Потом он рассказал мне такую историю:
«— У нас в Англии не понимают, почему в Индии так медленно прививается христианство. Многие слышали, что индийцев легко убедить, что у них врожденная слабость к чудесам и они радушно открывают им свое сердце. Рассуждают так: поскольку индийцев легко убедить, поведайте им учение Христово — и они уверуют; подтвердите его истины библейскими чудесами — и вы рассеете все сомнения. Естественный вывод: если христианство распространяется в Индии медленно – виноваты мы: значит, нам не удается достаточно убедительно рассказать об учении и чудесах Христовых.
А ведь все дело в том. что мы вовсе не так уж хорошо оснащены, как они там полагают. Наша задача вовсе не так проста. Пользуясь военной терминологией, можно сказать, что нас послали на врага, зарядив наши ружья холостыми патронами; я хочу сказать: наши чудеса не убедительны; они не производят впечатления на индийцев; у них есть свои, более чудесные. Все подробности их религии основаны на чудесах и доказаны чудесами, — наша религия должна быть подкреплена подобным же образом. Когда я начал проповедовать в Индии, я плохо представлял себе трудности предстоящей мне задачи. Свою ошибку я понял очень скоро. Подобно друзьям в Англии, я полагал, что подготовить людей, по-детски жадных до чудес, благосклонно слушать мою проповедь слова Христова очень просто — достаточно расцветить ее необычайным, удивительным, чудесным. С полной уверенностью в успехе я стал рассказывать о чудесах, сотворенных Самсоном, самым сильным человеком, какого знал мир, — ибо так я называл его.
Сперва я читал на лицах своих слушателей живейшее любопытство и глубокое внимание, но по мере того как я в этом несравненной истории переходил от эпизода к эпизоду, я с огорчением замечал, что интерес у слушателей неуклонно падает. Я не мог понять, в чем причина. Это удивило и огорчило меня. Под конец все ослабевавший интерес сменился полным равнодушием и больше уже не пробудился; все мои старания ни к чему не привели.
Один добрый старый джентльмен индиец разъяснил мне, что произошло. Он сказал: «Мы, индийцы, познаем бога по делам рук его — других свидетельств мы не принимаем. Очевидно, то же и у вас, христиан. Если обыкновенный человек совершает непосильные подвиги, то мы знаем, что это бог наделил его такой силой. По-видимому, и у христиан это единственное средство убедиться, что человек действует божественной силой, а не своей собственной. Вы поняли, что волосы Самсона обладали сверхъестественным свойством, ибо заметили, что, лишившись их, он стал таким же, как все люди. Я уже сказал, что так думаем и мы. На свете много народов, и каждая группа народов имеет собственных богов и не станет поклоняться чужим. Каждый народ считает своих богов самыми могущественными и сменит их на других только тогда, когда ему докажут, что те еще могущественнее. Человек — существо слабое и нуждается в помощи богов, без этой помощи ему не обойтись. Так зачем же ему вверять свою судьбу слабым богам, если можно найти более сильных? Это было бы глупо. Зато если он услышит, что есть боги сильнее его собственных, он не должен от них отворачиваться, — дело-то ведь серьезное. А как же ему решить, чьи боги сильнее — его или те, что пекутся о других народах? Надо сравнить дела своих богов с делами чужих — другого способа нет. Но когда мы начинаем сравнивать, чужие боги от этого ничуть не выигрывают. Наши боги по их делам самые сильные, самые могущественные. У христиан немного богов, да к тому же они совсем недавние и, как нам кажется, не очень могущественные. Правда, число их умножится, ибо так бывает со всеми богами, но этого долго ждать. Пройдет много столетий и тысячелетий, так как для богов тысяча лет — одно мгновение. Наши боги рождались через миллионы лет один после другого. Это процесс медленный, и так же медленно накапливается сила и могущество богов, С неторопливой поступью веков неуклонно возраставшая сила наших богов в конце концов стала исполинской, У нас есть тому тысячи подтверждений как в их собственных невероятных деяниях, так и в деяниях обыкновении людей, которых они наделили сверхъестественными свойствами. Вашему Самсону была дана сверхъестественная сила, и вас поражает, что он разорвал своя путы, убил тысячи людей ослиной челюстью и унес городские ворота на своих плечах, вы трепещете от ужаса, ибо понимаете, что только бог мог наделить его такой силой. Однако нечего и рассчитывать, что рассказами об этом вы пробудите удивление в вашей индийской пастве: ведь индийцы сравнят деяния Самсона с тем, что сделал Гануман, в мускулы которого наши боги влили свою божественную силу, и они останутся равнодушны, как вы сами убедились. Давным-давно, в незапамятные времена, когда наш бог Рама воевал со злым богом Цейлона, Рама задумал построить мост через море и связать Цейлон с Индией, чтобы удобнее было переправлять свои войска; и он послал своего полководца Ганумана, наделенного, как и ваш Самсон, божественной силой, принести материалы дли моста. В два дня Гануман прошел полторы тысячи мили до Гималаев и, взвалив на плечи цепь этих высоких гор длиною в двести миль, отправился в сторону Цейлона. Дело было ночью. Когда он шел через равнину, жители Говардуна, услышав его громовую поступь и почувствовав, как дрожит земля у него под ногами, выбежали из домов и увидели движущийся Гималайский хребет с его снежными вершинами вышиной до небес. Огромный континент проплывал мимо, затемняя землю; на его склонах, в тысяче спящих деревень, мерцали огоньки, и казалось, будто звезды плывут вереницей по небу. Пока люди смотрели, Гануман споткнулся, и от Гималаев откололся и упал на землю небольшой горный кряж из красного песчаника длиною в двадцать миль. Половина его с течением времени выветрилась, но остальные десять миль и по сей день стоят на равнине Говардуна — как свидетельство могущества, которое наши боги могут вдохнуть в человека. Вы и сами знаете, что Гануман сумел унести эти горы на Цейлон только благодаря божественной силе. Вы знаете, что он не мог этого сделать собственными силами, и, значит, вы знаете, что это сделано силою богов, точно так же как Самсон унес городские ворота благодаря божественной силе, а не своей собственной. Согласитесь, что два обстоятельства бесспорны: первое — унеся ворота на своих плечах, Самсон не доказал превосходства ваших богов над нашими; второе — у вас нет иного свидетельства его подвига, кроме устного предания, тогда как подвиг Ганумана известен не только из предания — его очевидность установлена, подтверждена и доказана видимым, осязаемым, вещественным свидетельством, самым убедительным из всех: у нас есть кряж из песчаника; и до тех пор, пока он существует, мы не можем и не будем сомневаться. А у вас эти ворота есть?»
Глава XIII ЧТО НАШЕЛ СЕСИЛЬ РОДС В БРЮХЕ АКУЛЫ
Человек робкий попросит десятую долю того, что хочет получить. Человек смелый запросит вдвое больше и согласится на половину.
Новый календарь Простофили ВильсонаПросто удивительно, с какой щедростью Австралазия расходует средства на всякие общественные сооружения — правительственные здания, ратуши, больницы, богадельни, ботанические сады, парки. Там, где какой-нибудь городишко Америки на ратушу, бульвары и скверы истратит сотню долларов, такой же городок Австралазии не пожалеет тысячу. Думаю, что та же пропорция остается, наверно, и в строительстве больниц. В австралийской деревне с полуторатысячным населением я видел прекрасную больницу, хорошо оборудованную и очень красивую. Ее построили на частные средства — на деньги жителей этой деревни и соседних плантаторов; они же и содержат больницу. Вряд ли увидишь подобное и какой-нибудь другой стране. Когда я был там, эта деревня намеревалась заключить контракт на электрическое освещение улиц. Она опередила Лондон. Лондон и по сей день тонет во мраке — он освещается газовыми фонарями, причем в иных районах их очень мало, — так мало, что разыскать фонарь можно разве только в лунную ночь.
Ботанический сад в Сиднее раскинулся на площади в тридцать восемь акров; он прекрасно распланирован и богат растениями всех стран и всех климатических поясов мира. Расположен он в центре города, на высоком холме, откуда открывается чудесный вид на гавань, и примыкает к огромному — в пятьдесят шесть акров — парку губернаторской резиденции; а поблизости есть площадка для игр площадью в восемьдесят два акра. Есть в Сиднее и зоологический сад, и ипподром, и огромные крикетные поля, где происходят международные состязания. Как видите, там сколько угодно места, чтобы спокойно отдохнуть и побродить, и есть где поразмять кости, если это вам по душе.
В Сиднее четыре вида светских развлечений. Стоит вам оставить свою визитную карточку в доме губернатора, и вы получите приглашение на первый же бал, который там состоится, если вы ничем не опорочены. Вы прекрасно проведете время, ибо увидите все местное обществе, кроме губернатора, завяжете кой-какие новые знакомства и приобретете новых друзей. Губернатора вы не встретите — он окажется в Англии. Он всегда там. В Австралии четыре или пять губернаторов, да сколько-то еще управляют отдаленным архипелагом; но так или иначе, вы их не увидите. Получив назначение, они приезжают из Англии, торжественно вступают в должность, дают бал, участвуют в молебствии о ниспослании дождя, потом садятся на корабль и отправляются восвояси. Ну а вся работа остается на долю помощника губернатора. Я пробыл в Австралазии три с половиной месяца и видел только одного губернатора. Остальные сидели у себя дома, на родине.
Наверно, австралийский губернатор не был бы таким непоседой, если бы вел войну, или обладал правом вето, или если бы еще что-нибудь потребовало от него всей его неизрасходованной энергии; но ничего такого у него нет — ни войны, ни права вето, — и губернатору в самом деле нечего, или почти нечего, здесь делать. Страна управляется сама, и это ей вполне по нраву. Она так крепко держится за свою привилегию и так ревниво оберегает свою независимость, что встает на дыбы всякий раз, когда имперское правительство предлагает свою помощь. Итак, имперское вето существует, но лишь на бумаге.
Теперь вы сами видите, что обязанности губернатора в Австралазии куда более ограничены, чем у нас в Соединенных Штатах, а следовательно, и более обременительны. Он — кажущийся глава страны и действительный глава общества. Он представляет культуру, изысканные чувства и возвышенные мысли, светскую жизнь и религию. Своим примером он их насаждает, и они распространяются, цветут пышным цветом и приносят плоды. Он законодатель вкусов, и он задает тон. Его бал всем балам бал, под его покровительством процветают скачки.
Как правило, он — лорд, что весьма кстати, ибо положение обязывает его жить на широкую ногу, а уж это-то английские лорды умеют.
Второе светское развлечение Сиднея — визит в резиденцию адмирала; дом его красиво расположен на холме и обращен к морю. Гостей доставляют нарядные шлюпки флота, а гостеприимство, которое вам окажут там или на борту флагманского корабля, ничем не уступает гостеприимству губернаторского дома. Адмирал, командующий флотилией в английских водах, — вельможа первой величины, и, как полагается при такой высокой должности, дом у него роскошный.
Третьим в списке светских развлечений стоит катание по заливу на прогулочном катере. Такого рода суденышко безусловно найдется у ваших друзей побогаче, они вас пригласят, и прогулка будет так хороша, что вы не заметите, как пролетит день.
И, наконец, — ловля акул. Сиднейская гавань кишмя кишит лучшими в мире акулами-людоедами. Здесь немало людей, для которых ловля акул — источник существования, ибо правительство щедро вознаграждает за это. Чем крупнее рыба, тем выше премия, а ведь длина иной акулы достигает двадцати футов. И вы получаете не только премию, нам принадлежит и желудок акулы, a eго содержимое иногда представляет немалую ценность.
Ни одна рыба не плавает быстрее акулы. Самый быстроходный корабль не обгонит ее. Она удивительно неугомонна, шныряет по всем морям и океанам и где только не ухитряется побывать во время своих бесконечных странствий. А сейчас я расскажу вам историю, которая еще нигде не публиковалась.
В 1870 году из далеких краев в Сидней приехал юноша и стал искать себе какое-нибудь занятие. Знакомых у него не было, рекомендательных писем — тоже, а посему он не мог нигде устроиться. Сначала он метил высоко, по время шло, деньги таяли, и его требования становились скромнее и скромнее; под конец он готов был согласиться на любую работу, только бы иметь кусок хлеба да крышу над головой. Но удачи все не было — для него не нашлось даже самой захудалой должности. И кот у него уже не осталось ни гроша. Целый день бродил он но улицам — и думал, думал; нею ночь бродил он и думал, думал; и все сильнее и сильнее мучил его голод. Рассвет застал его далеко от города; он без всякой цели брел вдоль гавани. Когда он проходил мимо клюющего носом ловца акул, тот поднял голову и сказал:
— Эй, парень, подержи-ка за меня бечеву, авось принесешь мне счастье.
— А вы уверены, что не будет хуже?
— Уж куда хуже. Всю ночь было так худо, что дальше некуда. Если тебе не повезет, беда не велика; ну а повезет — и слава богу. На, держи.
— Ладно. А что дадите?
— Отдам акулу, если поймаешь.
— А я ее съем со всеми потрохами. Давайте бечеву.
— Держи. А теперь я уйду на минутку, чтоб мое невезенье не передалось тебе. Сколько раз я замечал: стоит только... Тащи, тащи скорей, клюет! Так я и знал! У тебя на лице написано, что ты везучий. Ну вот, готово!
Акула была на редкость крупной: добрых девятнадцать футов, сказал рыбак, вспоров ей брюхо ножом.
— Вот что, парень, выпотроши-ка ты ее, а я схожу достану свежую наживку, у меня тут припасена. Авось не зря провозишься — бывает, в них и путное что находят. Мне-то ты принес счастье, только бы свое не потерял.
— Не важно, не стоит беспокоиться. Ступайте за наживкой. Я выпотрошу акулу.
Когда рыбак вернулся, молодой человек уже вымыл руки в море и собирался уходить.
— Да ты что, уходишь?
— Ухожу. Прощайте.
— А как же акула?
— Акула? А на что она мне?
— На что? Сказал тоже! Не знаешь, что ли? Надо только заявить о ней, и сразу получишь целых восемь шиллингов премии. Чистоганом, дружище! Что ты теперь скажешь?
— Ну и получайте, пожалуйста.
— И взять себе — так, что ли?
— Да.
— Чудно что-то. Ты, похоже, из тех, кого зовут чудаками. Не зря, видно, говорят: не суди по одежке. Твоя ведь совсем никудышная, а ты, должно быть, богатый.
— Так оно и сеть.
Юноша медленно зашагал к городу, погруженный в свои мысли. На минуту он задержался возле роскошного ресторана, но посмотрел на свой костюм и побрел дальше, к закусочной. За пять шиллингов он сытно позавтракал. Получив сдачу с соверена, он взглянул на серебро, пробормотал: «На это не оденешься», — и пошел своей дорогой.
В половине десятого утра самый богатый в Сиднее маклер по покупке и продаже шерсти завтракал у себя дома и просматривал утреннюю газету. В комнату заглянул слуга и сказал:
— Вас спрашивает какой-то оборванец, сэр.
— Нашел о чем докладывать. Гони его в шею.
— Он не уходит, сэр. Я уже гнал.
— Не уходит? Гм... странно. Тогда одно из двух: либо он выдающаяся точность, либо сумасшедший. Он что, сумасшедший?
— Нет, сэр, По нем не скажешь.
— Значит, выдающаяся личность. Что же ему надо?
— Не говорит, сэр; сказал только, будто что-то очень важное.
— И не уходит! Он так и сказал, что не уйдет?
— Сказал, что не сойдет с места, пока не повидает вас, сэр. Хоть до ночи простоит.
— И притом не сумасшедший. Веди его сюда.
Оборванца ввели. «Нет, этот в своем уме, — сказал про себя маклер, — сразу видно; значит — второе».
— Вот что, дружище, выкладывайте, только без лишних слов. Что вам нужно? — спросил он.
— Мне нужно сто тысяч фунтов взаймы.
— Только и всего? («Я ошибся, он все-таки сумасшедший... Нет... не может быть... глаза разумные!») Ну и удивили! А кто вы, собственно, такой?
— Да никто.
— Как вас зовут?
— Сесиль Родс[14].
— Что-то не припомню такого имени... Гм... из чистого любопытства... почему вы обратились ко мне с такой удивительной просьбой?
— Я намерен в ближайшие два месяца заработать сто тысяч фунтов для вас и столько же для себя.
— Ну и ну... Никогда не слыхал ничего подобного... садитесь. Любопытно... Вы чем-то... да, чем-то меня заинтересовали... именно заинтересовали... И вовсе не нашим предложением, оно тут ни при чем... нет, не оно меня привлекает, тут что-то другое, я сам еще толком не знаю что; должно быть, что-то в вас самом, вы сами но себе. И да... опять же из чистого любопытства... если я верно понял, вы хотели бы занять...
— Я сказал: «намерен».
— Извините, вы в самом деле так сказали. Я думал вы оговорились.., не учли истинного значения слова.
— Нет, как раз учел.
— Н-да, должен вам сказать... погодите, я немного похожу по комнате, у меня какой-то ералаш в голове. А вы, кажется, совершенно спокойны. («Этот парень безусловно не сумасшедший, а насчет исключительной личности... что ж... может быть, даже весьма исключительная».) Н-да, кажется, меня теперь уже ничем не удивишь! Шпарьте, не стесняйтесь! Так что же вы надумали?
— Скупить весь настриг шерсти — поставка через два месяца.
— Всю шерсть?
— Всю.
— Н-да, вы все-таки ухитрились меня еще раз удивить. Что вы говорите! Вам известно, во что станет вся шерсть?
— Два с половиной миллиона фунтов стерлингов... может быть, немного больше.
— Подсчет у вас, во всяком случае, верный. А вам известно, сколько надо наличными, чтобы через два месяца вся шерсть была наша?
— Те самые сто тысяч фунтов, за которыми я пришел.
— Опять верно. Н-да, хотел бы я, чтоб они у вас были... просто чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Ну а если бы они у вас были, как бы вы с ними поступили?
— В два месяца превращу их в двести тысяч фунтов.
— Вы хотите сказать — могли бы превратить, если бы...
— Я сказал: «превращу».
— Черт возьми, вы в самом деле сказали «превращу»! Выражаетесь вы точно, ничего не скажешь, точнее быть не может. Погодите, дайте сообразить! Ведь точность речи означает трезвость ума. Клянусь честью, у вас и в самом деле есть веские, с вашей точки зрения, основания ворваться сюда с этим сумасбродным планом скупить для продажи шерсть целой колонии. Выкладывайте, меня уже ничем не проймешь — я закалился, если так можно выразиться. Почему вы собираетесь скупить всю шерсть и почему вы надеетесь выручить за нее такие деньги? То есть какие у нас основания полагать...
— Я не полагаю — я знаю.
— Опять ясно. Откуда же вы знаете?
— Франция объявила Германии войну, и в Лондоне цена на шерсть поднялась на четырнадцать процентов и продолжает подниматься.
— Aх, вот как? Теперь-то вы попались, голубчик! Видно, думали убить меня своей новостью, думали, я вскочу как ужаленный? Так нет же — как видите, я совершенно спокоен. И по очень простой причине: я только что прочел утреннюю газету. Вот, можете взглянуть. Пятьдесят дней как из Лондона, прибыла вчера в одиннадцать вечера самым быстроходным судном. Вот они, все новости, — черным по белому. Нигде и намека нет на войну, а что касается шерсти, так это самый завалящий товар на английском рынке. Теперь ваша очередь вскакивать... Что же вы сидите? Почему вы сидите так невозмутимо, когда...
— Потому что у меня новости более свежие.
— Более свежие? Ну, знаете... да ведь пароход всего пятьдесят дней как из Лондона...
— Мои новости десятидневной давности.
— Да вы что, Мюнхгаузен? Нет, вы только послушайте, что говорит этот безумец! Где вы их взяли?
— В брюхе акулы.
— Ну, это уж слишком! Вот наглость! Полицию сюда, тащите ружье... поднимите на ноги весь город! Сумасшедшие всего мира вырвались на свободу в лице этого...
— Сядьте! И возьмите себя в руки. Что толку волноваться? Разве я волнуюсь? Волноваться совершенно ни к чему. Успеете выдумать всякие нелепицы насчет меня и моего рассудка потом, если у меня не окажется доказательств.
— О, простите, тысячу раз прошу прощения! Мне бы следовало сгореть со стыда — ведь это такой пустяк: подумаешь, что стоит послать в Англию акулу за биржевым бюллетенем!..
— Как ваше имя, сир?
— Эндрю. Что вы там строчите?
— Одну минутку. Насчет акулы... и еще кое-что. Десять строчек. Вот и все. Подпишите.
— Вы очень любезны. Благодарю вас. Позвольте-ка, тут написано... написано... скажите пожалуйста, это любопытно! Что... что такое?! Докажите это, и я тут же выложу деньги, удвою сумму, если понадобится, и разделю барыш пополам — ровно пополам. Вот, возьмите — подписано. Выполняйте обещание. Покажите мне этот самый лондонский «Таймс» десятидневной давности.
— Извольте... а вот вам и пуговицы и записная книжка человека, которого проглотила акула. Проглотила в Темзе, вне всякого сомнения. Вы увидите, что последняя запись сделана в Лондоне и помечена тем же числом, что и «Таймс»: «Per conseguentz der Kriegeserklarung, reise ich heute nach Deutschland ab, auf dapich mein Leben auf dem Altar meines Landeslegen mag». Написано на чистейшем немецком языке и означает, что по случаю объявления войны эта верноподданная душа в тот же день отбывает в Германию, чтобы положить жизнь на алтарь отечества. Он и в самом деле отбыл, бедняга, — только его тут же сцапала акула.
— Жаль человека. Однако всему свой час, успеем еще его оплакать. Теперь у нас более неотложные дела. Я пойду в контору и потихоньку запущу машину, начну закупать шерсть. Это поднимет настроение нашим париям — ненадолго, разумеется, Впрочем, в этом мире все недолговечно. Через два месяца, когда им придется поставлять товар, у них глаза на лоб полезут. Однако всему свой час, оплачем их заодно с тем беднягой. Идемте, я отведу вас к своему портному. Как, вы сказали, вас зовут?
— Сесиль Родс.
— Сразу не запомнишь. Но ничего, живы будете — привыкнем. Есть три категории людей: люди Заурядные, Исключительные и Сумасшедшие. Вас я причисляю к Исключительным, и будь что будет.
— Сделка состоялась, и молодой человек получил свой первый в жизни куш.
Жителям Сиднея следовало бы остерегаться акул, но почему-то они их не остерегаются. По воскресным дням молодежь уплывает на лодках в море, и порой оно все усеяно маленькими парусами. Когда бесшабашные юноши уж очень разойдутся, какое-нибудь суденышко невзначай опрокинется, а бывает — лодку и нарочно перевернут забавы ради... хотя кругом акулы и только того и ждут. Молодые люди тут же влезают в лодку... а случается, и не все успевают. Подобные драмы здесь далеко не редкость. Когда я был в Сиднее, случилось, что на реке Параматта, в самом ее устье, из лодки вывалился юноша и стал звать на помощь. Юноша из другой лодки прыгнул за борт — спасать его от стаи акул; однако акулы в два счета расправились с обоими.
Правительство платит премию на каждую пойманную акулу; ради этой премии рыбак насаживает на крючок или кладет в сеть кусок доброй баранины; весть об этом быстро распространяется, и на даровое угощение устремляются акулы всего Тихого океана. Недалек день, когда акулий промысел станет одним из самых доходных в этой колонии.
Глава XIV УДИВИТЕЛЬНОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО ДВУХ КОЛОНИЙ
Если хочешь заслужить одобрение людей — поступай справедливо и старайся изо всех сил; но собственное одобрение стоит сотни чужих, а как его заслужить — никто не знает.
Новый календарь Простофили ВильсонаВ мае, еще в Нью-Йорке, я серьезно заболел; потом я чувствовал себя сносно восемьдесят два дня, хотя и не совсем оправился; на Тихом океане я снова заболел. Заболел я опять и в Сиднее, однако уже после того как совершил несколько чудесных прогулок и прочитал несколько лекций. Этот последний приступ лишил меня возможности посетить Квинсленд — врачи не советовали мне ехать на север, в более жаркий климат.
Итак, мы двинулись к югу, отклоняясь несколько на запад, и семнадцать часов ехали по железной дороге до Мельбурна, столицы колонии Виктория, — юного шестидесятилетнего города с полумиллионным населением. На карте расстояние казалось небольшим, но в такой огромной стране, как Австралия, наше представление о расстояниях путается. Сама по себе колония Виктория на карте кажется крохотной — всего с какое-нибудь графство, — а ведь она примерно такой же величины, как Англия, Шотландия и Уэльс вместе взятые, или же, если взять другое сравнение, она ровно в восемьдесят раз больше Род-Айленда и лишь втрое меньше штата Техас.
Виктория, — за исключением Мельбурна, — по-видимому. собственность горстки скваттеров, у каждого из которых овцеводческая ферма величиной с Род-Айленд. К такому выводу приходишь, как послушаешь, что говорят кругом; однако по размаху производства шерсти она намного уступает Новому Южному Уэльсу. Климат Виктории благоприятен и для других важных отраслей экономики — таких, как выращивание пшеницы и виноделие.
Мы выехали из Сиднея днем, часа в четыре. Поезд напоминал американский, ибо спальное купе было на редкость удобное; к тому же вагон был новый, чистый и красивый — ничуть не похожий на европейские. Тем не менее багаж взвесили и с нас взяли за лишний вес. Это уже было по-европейски. По-европейски — и хлопотно. Всякая мелочь на железной дороге, которая доставляет хлопоты, честно говоря, производит впечатление европейской.
У нас были круговые билеты до Мельбурна, оттуда прямо на Аделаиду в Южной Австралии и обратно до Сиднея. Получалось на тысячу двести миль больше, чем мы намеревались проехать, но круговой билет стоил лишь немногим дороже прямого, так почему не купить столько миль, сколько тебе по средствам, даже если в них нет надобности? Такова уж человеческая натура — всегда хочется иметь больше хорошего, чем может понадобиться.
А теперь я расскажу о единственном в своем роде явлении, о самом удивительном, самом диковинном, самом необычайной и саном необъяснимом чуде из всех чудес, какие можно увидеть в Австралии. Высоко в горах, на границе между Новым Южным Уэльсом и Викторией, морозным ранним утром, при свете фонарей, всех без исключения пассажиров вытряхнули из уютных постелей, чтобы пересадить в другой поезд, хотя дорога идет напрямик от Сиднея до Мельбурна! Разве не тупой мозг породил эту идею? Вы только подумайте, что за кочан капусты был на плечах у этого ископаемого законодателя!
До границы проложена узкая колея, а оттуда до Мельбурна — колея пошире. Построила дорогу правительства обеих колоний, и принадлежит она им обеим. Объясняют это необычное положение вещей двумя причинами: во-первых, соперничеством между этими колониями — двумя важнейшими колониями Австралии; а вторую причину я позабыл. Впрочем, какое это имеет значение? Объяснить необъяснимое все равно невозможно.
Из-за этой удвоенной колеи страдали все пассажиры, страдали, разумеется, и все владельцы багажа; лишние расходы, потеря времени и неудобства коснулись всех, а пользы никому не было.
Каждая австралийская колония отгораживается от своего соседа таможней. Я лично не возражаю, но ведь есть люди, которым это причиняет кучу неприятностей. И у нас в Америке кое-где встречается нечто подобное, только под другим названием. Огромной империи побережья Тихого океана требуется уйма оборудования из металла, и ей было бы очень удобно производить это оборудование на месте, если бы сняли налоги на привозной металл. А налоги не снимают. Потому что защищают интересы Пенсильвании и Алабамы. Для побережья Тихого океана результат в точности такой же, как если бы на всем пространстве между побережьем и Востоком понаставили таможенные рогатки. Металл, провезенный через весь американский континент по разорительным железнодорожным тарифам, обошелся бы в такую сумму, что из него имело бы смысл разве что чеканить монеты.
Мы пересели в другой поезд. Произошло это в Олбери. И, кажется, именно здесь, на заре утра, первые лучи солнца осветили далекую цепь гор, называемых Синие горы. Лучше не назовешь. «Вот это да!», как говорят австралийцы, это был умопомрачительный синий цвет. Густой, сочный, роскошный, непревзойденный; величавая громада синевы, светящаяся мягким светом, мерцающая синева, словно призрачный огонь освещает ее изнутри. Она гасит синеву неба, делает его бледным, нездоровым, выцветшим и белесым. Изумительный цвет, просто божественный!
Один местный житель сказал мне, что это вовсе не горы, а груды кроликов. И пояснил, что кролики кажутся такими синими, потому что перезрели и слишком долго пробыли на воздухе. Может, он и прав, этот человек, но я начитался книг о путешествиях и теперь отношусь с сомнением к даровым сведениям, когда они исходит от неофициальных лиц. Данные, которыми местные жители снабжают путешественников, обычно далеки от истины, а иногда им просто невозможно поверить. Нашествие кроликов действительно приняло в Австралазии ужасающие размеры, и на одну гору их бы в самом деле хватило, но целая цепь гор — это уже слишком,
Мы позавтракали на вокзале. За исключением кофе, завтрак был хороший и дешевый. Цены устанавливает правительство и заставляет писать их в прейскуранте. Обслуживали нас, кажется, мужчины, но это редкий случай в Австралазии. Обычно официантки — девушки. Нет, не девушки, а молодые леди, чаще всего — герцогини. Как одеваются? Они обратили бы на себя внимание на любом высочайшем приеме в Европе. Императрицы и королевы и те так не одеваются. Денег-то у них, пожалуй, хватило бы, но они бы просто не сумели.
Все чудесное утро мы плавно скользили по равнинам через редкие — именно редкие, а не густые — леса могучих печальных эвкалиптов, увешанных завитками отмирающей коры, — как люди, у которых шелушится кожа после скарлатины. Повсюду мы видели крошечные домики, иногда деревянные, иногда из серо-голубого рифленого железа; и нес заборы и пороги были усеяны детьми — оборванными, нищенски одетыми ребятишками; казалось, всех их до единого импортировали с берегов Миссисипи.
Мы видели небольшие деревушки с чистенькими станциями, сплошь заклеенными кричащими плакатами - рекламой различных марок «овечьего бальзама», если он так называется, — кажется, именно так. Это вещество напоминает деготь; если у овцы вместе с шерстью выстригли кусок мяса, бальзамом смазывают рану. Он отпугивает мух, обладает лечебными свойствами и так жжет, что овцы, как телята, скачут через все сто холмов. Он вообще-то несъедобен, за исключением тех случаев, когда его примешивают к кофе, который подают пассажирам на железной дороге. Вкус железнодорожного кофе от него улучшается. Без него железнодорожный кофе недостаточно крепок, зато когда подбавят «овечьего бальзама», кофе дает себя знать — он бодрит. Сам по себе этот кофе пассивен; «овечий бальзам» будоражит его и заставляет делать свое дело. Интересно, где они берут железнодорожный кофе?
Нам попадались птицы, но мы не видели ни кенгуру, ни эму, ни орниторинкуса, ни лектора, ни туземца. Словно в стране вымерла всякая дичь. Впрочем, я неверно употребил слово «туземец», — здесь его применяют только в отношении белых уроженцев Австралии. Мне бы следовало сказать: мы не видели «черных» аборигенов. Я и по сей день ни одного так и не видел. В больших музеях вы найдете какие угодно диковинки, но не ищите там диковин, которые больше всего интересуют чужеземца, — их там нет. У нас в Америке пропасть музеев, но в них не окажется ни одного американского индейца. Ведь нелепость, а никогда прежде мне не приходило это в голову.
Глава XV ИСТЕЦ ТИЧБОРН И ВАГА-ВАГА
Правда необычнее вымысла — для некоторых. Но мне она ближе.
Новый календарь Простофили Вильсона
Правда необычнее вымысла, но это только потому, что вымысел обязан держаться в границах вероятности; правда же — не обязана.
Новый календарь Простофили ВильсонаВоздух был нежен и упоителен, солнце лучезарно; мы совершили чудесную прогулку. По пути останавливались в городе, странное название которого — Вага-Вага — четверть века назад прогремело на весь мир, а все потому что Истец Тичборн[15] когда-то держал там мясную лавку. И вдруг из окружавших его скромных колбас и потрохов он воспарил на вершину славы и повис там в безбрежности времени и пространства, а мир с неуемным любопытством глазел на него в телескопы, любопытствуя, кто же он из двух давно пропавших без вести: Артур Ортон, скрывшийся в неизвестном направлении матрос из Уоппинга, или же сэр Роджер Тичборн, исчезнувший наследник имени и состояния, древних, как сама история Англии. Теперь мы все знаем, кем он был, но тогда знали не более десятка человек, а они упорно хранили тайну, пока этот взятый из жизни, самый хитросплетенный, самый фантастический и непостижимый романтический эпизод из всех, когда-либо разыгравшихся на мировой сцене, акт за актом спокойно распутывался долгой, кропотливой процедурой английского судопроизводства.
Вспоминая подробности этой необычайно романтической истории, мы дивимся тому, какую безрассудную отвагу может позволить себе истина, создавая сюжет, если сравнивать с жалкой смелостью, дозволенной вымыслу. Виртуоз-выдумщик не добился бы успеха, располагай он великолепными материалами истории Тичборна. Ему пришлось бы отказаться от основных персонажей, ибо публика ни за что не поверила бы, что в жизни бывают такие люди. Ему пришлось бы отказаться от самых эффектных сцен, ибо публика заявила бы, что такие вещи не происходят в жизни. И тем не менее эти основные персонажи существовали и сцены эти произошли.
Тичборны израсходовали четыреста тысяч долларов на то, чтобы сорвать маску с Истца и избавиться от него, — но даже после разоблачения огромное число англичан продолжало верить в него. Еще четыре тысячи долларов израсходовало английское правительство, чтобы осудить его за ложную присягу, — но эти толпы людей продолжали в него верить и после приговора; и заметьте: среди веривших было немало образованных и интеллигентных, иные даже лично знали подлинного сэра Роджера. Истца приговорили к четырнадцати годам заключения. По выходе из тюрьмы он отправился в Нью-Йорк, где некоторое время держал бар в Бауэри, потом совсем исчез ни виду.
До самой смерти он утверждал, что он — сэр Роджер Тичборн. Умер он всего несколько месяцев назад — целое поколение сменилось с тех пор, как он покинул Вага-Вага и отправился вступать в права наследства. На смертном одре он открыл свою тайну и письменно признался, что он всего-навсего Артур Ортон из Уопкинга, ловкий моряк и мясник, — и больше никто. И все-таки, несомненно, нашлись люди, которых не убедило даже его предсмертное признание. Извечная привычка питаться нелепицами, должно быть, стала у них как бы потребностью в острой пище; пресный кусок, очевидно, застрял бы у них в горле.
Я был в Лондоне, когда Истец предстал перед судом на принесение ложной клятвы. Я посетил один из его пышных вечеров в роскошном доме, предоставленном ему на деньги доброжелателей и почитателей. На Истце был фрак, и мне он показался человеком приятным и вполне достойным. Там собралось человек двадцать пять — джентльмены образованные, джентльмены вращающиеся в светском обществе, но ни одного простолюдина; были среди них джентльмены известные, но ни одного заурядного. Все закадычные друзья и обожатели. Только и слышалось «сэр Роджер», «сэр Роджер» из всех уст; ни один не обратился к нему без титула, все словно с удовольствием смаковали этот титул.
Много лет я не мог разгадать одну загадку. Мельбурн, только Мельбурн откроет мне тайну! В 1873 году с женой и маленьким ребенком я приехал в Лондон и вскоре получил письмо из Неаполя за подписью неизвестного мне человека. Звали его не Баском и не Генри, но удобства ради я буду называть его Генри Баском. Это письмецо в шесть строк было написано на клочке белой бумаги, оборванном внизу. Впоследствии я не раз получал подобные бумажки. Они были всегда неизменной величины и формы, и смысл записки был всегда один и тот же: не приеду ли я вместе со своей семьей в поместье автора письма в Англии такого-то числа, таким-то поездом, чтобы провести у него двенадцать дней и после означенного срока отбыть таким-то поездом? На станции нас будет ждать коляска.
Эти приглашения я получал задолго до назначенной даты: за три месяца, если мы были в Европе; за полгода, а иногда и за год, когда мы оставались в Америке. В письме всегда точно указывались поезд и число для нашего приезда и отъезда.
Первое приглашение я получил за три месяца. Нас просили приехать поездом, отправлявшимся из Лондона в четыре часа десять минут дня, шестого августа. Коляска будет нас ждать. Спустя семь дней та же коляска отвезет нас назад; поезд указывался. Затем следовала приписка: «Поговорите с Томом Хьюзом»[16].
Я показал записку автору «Том Браун в Регби», и он сказал:
— Примите приглашение и скажите спасибо.
Он охарактеризовал мистера Баскома как человека гениального, прекрасно образованного, человека необыкновенного по всех отношениях, личность исключительную и превосходную. Он сказал, что дом Баскома — это редкостно великолепный образец феодального поместья времен королевы Елизаветы, и стоит совершить далекое путешествие, чтобы побывать в таком доме; что мистер Баском любит общество, принимает у себя приятных людей, и таких людей там всегда можно встретить.
Мы поехали. Ездили мы туда и в последующие годы, и последний раз в 1879 году. Вскоре после этого мистер Баском отправился и кругосветное путешествие на паровой яхте — в длительную прогулку, ибо неторопливо собирал в чужих странах коллекции птичек, бабочек и тому подобного.
В день, когда президент Гарфилд был убит Гито[17], мы отдыхали на небольшом приморском курорте на Лонг-Айленд-Саунд, и дневной почтой нам пришло письмо с мельбурнской маркой на конверте. Письмо было адресовано моей жене, но я узнал почерк мистера Баскома в вскрыл конверт. В нем была обычная по форме записка – с тем же расположением строк и написанная на таком же клочке бумаги, но содержание ее не имело ничего общего с обычным. В записке говорилось, что, если это может хоть сколько-нибудь облегчить ее горе, он, автор письма, заверяет мою жену, что мои лекции в Австралии были удачным предприятием с начала до конца, а также, что моя преждевременная кончина оплакивается всеми слоями населения, о чем она, должно быть, уже знает из телеграмм, опубликованных и печати задолго до того, как она получит это письмо; что на похоронах присутствовали служащие и сановники из правительства колонии и города; и что хотя он, автор письма, ее и мой друг, не успел своевременно приехать в Мельбурн, чтобы отдать мне последний долг, на его долю выпала печальная честь быть в числе тех, кто нес покров. Подписано: «Генри Баском».
Первою моею мыслью было, почему он не велел открыть гроб? Он бы обнаружил, что труп — самозванец, и сразу принял бы меры, осушил бы все слезы, утешил скорбящих сановников, а останки продал и переслал бы мне деньги.
Я ничего не предпринял по этому поводу, В Америке я не раз наводил полицию на след моих здравствующих двойников-лекторов, но полиции не удавалось их поймать; поймать своих двойников-самозванцев пытались и другие люди моей профессии, но тоже безрезультатно. Так какой же смысл тревожить мертвеца? Никакого; и я не стал нарушать его покоя. Мне, конечно, любопытно было знать, хорошо ли читал лекции этот человек и как он провел последние минуты своей жизни, но с этим можно было повременить. Увижусь с мистером Баскомом, и он обо всем мне расскажет. Но он отошел в вечность прежде, чем мы успели повидаться. Мое любопытство угасло.
Однако, когда я собрался ехать в Австралию, оно снова разгорелось. И вполне естественно: если бы публика заявила, что я всего лишь скучная, жалкая пародия на то, чем был до кончины, это сильно повредило бы делу. Представьте, к великому моему удивлению, сиднейские журналисты понятия не имели о том самозванце! Я всех расспрашивал, но они твердили одно: они никогда о нем не слышали и не верят в его существование.
Меня это удивило, но я все еще надеялся, что все разъяснится в Мельбурне. Должно же помнить правительство и прочие, кто меня оплакивал. Я решил все разузнать на ужине Общества журналистов, но нет — оказалось, что и здесь ничего об этом не слышали.
Загадка так и осталась загадкой, к великому моему огорчению. Я решил, что на этом свете тайна так и не раскроется, и постарался забыть о ней.
И вдруг! Когда я меньше всего ожидал...
Впрочем, здесь не место досказывать, чем все кончилось; я еще вернусь к этому позднее, в другой главе.
Глава XVI ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕНЬ В ГОДУ — РОЗЫГРЫШ КУБКА В МЕЛЬБУРНЕ
Есть чувство нравственности, а также чувство безнравственности. История учит, что первое помогает нам понять сущность нравственности и как от нее уклоняться, тогда как второе помогает понять сущность безнравственности и как наслаждаться ею.
Новый календарь Простофили ВильсонаМельбурн раскинулся на огромном пространстве. Этот город величествен не только размерами, но и архитектурой. В нем густая сеть трамвайных линий; есть музеи, школы, университеты, парки, электричество и газ, библиотеки в театры; там сосредоточены рудники и сеть шерстяная промышленность, искусства и пауки, торговые организации, корабли, железные дороги и порт; великосветские клубы и клубы журналистов, клубы жокеев и клуб скваттеров — в роскошном здании и роскошно оборудованный, и все церкви и банки, каким удается не прогореть. Одним словом, Мельбурн имеет все, из чего складывается современный большой город. Это крупнейший город в Австралазии, и он носит свои титулы с честью и достоинством. Но есть у него одна особенность, которую нельзя смешивать со всем прочим. Он помазанный митрополит Культа Скачек. Их арена — Мекка Австралазии. Ежегодно, 5 ноября, в день Гая Фокса[18] — знаменательный день памяти порохового заговора, — все дела на суше и на море замирают на пространстве не меньшем, чем от Нью-Йорка до Сан-Франциско, и большем, чем от северных озер до Мексиканского залива. Мужчины и женщины всех званий и сословий, все, кому позволяют средства, откладывают в сторону все свои занятия и спешат в Мельбурн. Они начинают заполнять пароходы и поезда еще за две недели до праздника, и с каждым днем все больше и больше, так что под конец все средства передвижения до отказа забиты устремляющимися сюда людьми, а гостиницы и частные квартиры готовы, кажется, лопнуть от нажима изнутри. По самым достоверным сведениям, толпа разбухает до ста тысяч и забивает все трибуны и пространство вокруг стадиона, — подобное зрелище вы нигде больше в Австралазии не увидите.
Мельбурнский кубок — вот что привлекает эти толпища людей. Свои туалеты они заказали уже давным-давно, не щадя затрат, рассчитывая на то, что по красоте и великолепию они затмят все виденное доныне; фасон хранился в тайне, ибо освящение ожидалось именно в этот день. Я имею в виду туалеты дам, как вы, разумеется, сами поняли.
Итак, трибуны являют собой блистательное, неповторимое зрелище — неистовство красок, видение красоты. Шампанское льется рекой, все возбуждены, веселы, счастливы; повсюду заключаются пари, перчатки и состояния поминутно переходят из рук в руки. Скачки идут своим чередом, веселье и возбуждение не остывают ни на секунду, а когда проходит день, люди всю ночь танцуют, чтобы наутро вновь предаться буйному веселью; и так изо дня в день. А к концу великой недели все эти массы людей уже заботятся о жилье и средствах передвижения на будущий год, потом укатывают назад в свои далекие дома, подсчитывают прибыль и убытки, заказывают себе платья к Кубку будущего года, потом сваливаются и две недели беспробудно спят, — и просыпаются с грустной мыслью, что надо как-то убить год, пока снова не представится возможность вдоволь повеселиться.
Розыгрыш Мельбурнского кубка — Национальный день Австралазии. Он первый из первых. В этой группе колоний он затмевает все праздники и любые особые дни. Затмевает? Мне бы следовало сказать: сводит на нет. Любой другой праздник отмечается, но не всеми; любой другой возбуждает интерес, но не у всех; любой другой вызывает восторг, но не всеобщий; во всех этих случаях половина внимания, интереса, восторга — дань привычке и обычаю, а вторая половина — равнодушное отбывание повинности. День Кубка и только День Кубка вызывает интерес, внимание и восторг у всех без исключения — и притом от всей души, а не формально. День Кубка — величайший праздник, ни с чем не сравнимый. Как ни старайся, во всем мире не найдешь дня, который бы ежегодно отмечался и мог удостоиться такого громкого названия: величайший! Во всем мире не найдется дня, с приближением которого все население страны вспыхивало бы пламенем приготовлений, предвкушения, ликования. Другого такого дня нет — только этот.
У нас в Америке нет ежегодного величайшего дня; нет такого дня, приближению которого радовался бы весь народ. У нас есть Четвертое июля[19], рождество и День благодарения, но разве хоть какой-нибудь из них может претендовать на первое место, может вызвать такой единодушный подъем? Восемь из десяти взрослых американцев с ужасом ждут приближения Четвертого июля с его суматохой и волнениями; и счастливы, когда он миновал, — если остались в живых. Рождество приносит многим прекрасным людям одни неприятности. Им приходится покупать целую гору подарков, и они никогда не знают, что купить, чтобы угодить на все вкусы. Три недели трудятся они в поте лица, а когда наступает рождественское утро, они так удручены результатами своих трудов и так разочарованы, что хоть плачь. Потом они благодарят бога за то, что рождество бывает только один раз в году. За последние годы День благодарения — как торжество — стал широко праздноваться, Сама благодарность так широко не распространилась, — а вполне естественно: две трети населения весь год изо дня в день терпят лишения, а тяжкая жизнь, как известно, умеряет восторги.
У нас тоже есть величайший праздник — бурный, шумный, захватывающий; он вызывает радостное волнение у всех поголовно, но он бывает не каждый год, а только раз в четыре года, и не может поэтому сравниваться с Мельбурнским кубком.
В Великобритании и Ирландии есть два великих дня — рождество и День рождения королевы, — но они одинаково популярны, так что неизвестно, который из них величайший.
Значит, нужно признать, что Национальный день Австралазии занимает исключительное, неповторимое, единственное в своем роде место; и, надо думать, это место сохранится за ним на долгие времена.
В чужих краях путешественника прежде всего интересуют люди, затем всякие диковинки и, наконец, история тех мест и стран, где он побывал. Диковинки — редкость в городах, являющих верх современной цивилизации. Если вам знакомы подобные города в других частях света — вам, в сущности, знакомы и города Австралазии. Их внешний вид ничем новым вас не порадует. Правда, названия могут быть новые, однако предметы, которые они обозначают, частенько далеко уже не новы. Небольшая разница, по-видимому, есть, но она почти неуловима для непосвященного глаза чужеземца. В «ларикене» — местном хулигане — на первый взгляд не окажется ничего необычного, словно это старый знакомец, встречающийся повсюду, — и только, в зависимости от географического положения страны, по-разному именуемый — бездельник, проходимец, бродяга или громила. Хулиган Австралазии все же несколько отличается от других: он более общителен с чужими, более гостеприимен, приветливее и сердечнее, более дружелюбно настроен. По крайней мере я так думаю, а мне случалось их наблюдать. Во всяком случае, в Сиднее. В Мельбурне мне приходилось ездить в лекционный зал, туда и обратно, зато в Сиднее можно было ходить в оба конца пешком, что я и делал. Каждый вечер, часов в десять или в начале одиннадцатого, возвращаясь домой, я видел где-нибудь на перекрестке большую группу хулиганов, и они всегда очаровательно приветствовали меня:
— Эй, Марк!
— Наше вам, старина!
— Послушай, Марк, он что, помер?
Вопрос касался эпизода из какой-нибудь моей книги, но я в ту пору этого еще не понимал. Не понял я и позднее, в Мельбурне, когда в первый раз вышел на подмостки и этот же вопрос свалился на меня с головокружительной высоты галерки. На такой неожиданный вопрос всегда трудно ответить, когда не знаешь, что за ним кроется. Пользуясь случаем, скажу, если это будет мне позволено, что прием, оказанный аудиторией британской колонии лектору-американцу, трогает до глубины души; от такого приема на глаза навертываются слезы, прерывается голос. И хотя я проделал с лекциями долгий путь, от Виннипега до Африки, опыт ничему меня не научил: я так и не привык ожидать подобной встречи, и она всякий раз заставала меня врасплох. Угроза войны, нависшая над Англией и Америкой, меня никак не коснулась. В любой день я мог стать военнопленным, однако на обедах, ужинах, на сцене, где бы я ни находился, ничто не напоминало мае об этом. То было гостеприимство высшей марки, и в иных странах его явно недоставало бы в подобных случаях.
Говоря о военной горячке, мне бы хотелось задержать внимание читателя на двух-трех неожиданных деталях. Казалось, разговоры о войне по обе стороны океана должны вести политические деятели, а между тем всегда, когда в воздухе начинало пахнуть войной, большую часть разговоров, и самую горькую, вел народ. Здесь и позиция газет была для меня неожиданной. Я имею в виду газеты Австралазии и Индии, ибо только к ним я имел доступ. Они освещали вопрос логично и с достоинством, без всякого раздражения и злобы, В этом сказывался новый дух, не заимствованным из французской или немецкой прессы, как до Седана, так и после него. Я слышал немало публичных речей, и в них отражалась сдержанность печати. Основная мысль заключалась в том, что народы, для которых английский язык родной, через сотню лет будут господствовать на земле, если, конечно, не передерутся между собой. Жаль было бы испортить такое будущее войнами, затягивающими и тормозящими этот процесс, когда арбитраж мог бы куда лучше и куда более определенно разрешить все их разногласия.
Нет, в наше время, диковины редко встречаются в больших столичных городах, как я уже говорил. Даже биржу шерсти в Мельбурне и ту не отличишь от обычной фондовой биржи в других странах. Маклеры шерсти — копия биржевых маклеров; как те, так и эти срываются с места, вздымают вверх руки и вопят в один голос, — никто из непосвященных не поймет, что они вопят; а председатель спокойно объявляет: «Продано Смиту и Компании за три пенса один фартинг. Следующий!» — хотя похоже, что ничего подобного и не произошло, — с чего он это взял?
Музеи битком набиты невероятными, ошеломляющими предметами; но ведь все музеи ошеломляют, — от них устают глаза, ломит спину, они выжимают вас, как лимон. Вы даете себе слово, что никогда больше туда не пойдете, и все-таки идете. Дворцы богачей в Мельбурне весьма напоминают дворцы богачей в Америке, и жизнь и них одинаковая; однако на этом сходство кончается. Парки, окружающие американские дворцы, редко бывают большими и столь же редко красивыми, в и Мельбурне они обычно по-царски велики, садовники же, совместно с природой, делают их прекрасными, как мечта. Я слышал, что при иных загородных особняках бывают парки, по величине и великолепию не уступающие паркам загородных владений английских лордов; но мне не пришлось побывать на лоне природы: у меня и в городе дел было по горло. А как возник Мельбурн, этот гигантский город? Откуда пошло его благосостояние, дома-дворцы и загородные поместья? Первый камень заложил и первый дом построил бродяга-каторжник. История Австралии колоритна почти во всем; право, она столь необычайна и удивительна, что сама по себе является первейшей диковинкой и отодвигает все прочие диковины на второй и третий план. Она читается не как история, а как увлекательнейшие выдумки. Выдумки новые, свежие, не то что какая-нибудь замшелая старина. История эта полна неожиданностей, приключений, несуразностей, противоречий и неправдоподобия; однако все это правда, все так и произошло на самом деле.
Глава XVII ШИРОЧАЙШАЯ ТОРГОВЛЯ АВСТРАЛИИ
Англичане упоминаются даже в библии:
«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».
Новый календарь Простофили ВильсонаЕсли мы задумаемся о том, какой территорией располагает Британская империя, как велико ее население и торговля, нам трудно будет поверить в цифры, отражающие вклад Австралазии в торговое могущество империи. В сравнении с владениями Великобритании территориальные владения любой другой страны, — не считая России, — покажутся весьма скромными. Известно, что Британская империя по площади почти на четверть больше Российской империи. Вообразите, что ваша ладонь представляет Британскую империю; тогда, если отрезать пальцы несколько выше среднего сустава среднего пальца, то оставшаяся часть ладони приблизительно и будет Россия. Население, находящееся под эгидой Британской империи, почти равно населению Китая — четыреста миллионов человек. Численность населения любой иной державы намного меньше. Даже Россия осталась далеко позади.
Число жителей Австралазии — четыре миллиона — совершению ничтожно, оно тонет в море британских четырехсот миллионов; в тем не менее статистика показывает, что оно всплывает на поверхность, и весьма существенно, когда речь идет о доле Австралазии в торговле Британской империи. Ежегодный ввоз и вывоз Aнглии оценивается в сумму три миллиарда долларов;[20] и утверждают, что больше одной десятой этой колоссальной суммы приходился на долю Австралазии[21]. Не следует забывать, что Австралазия ведет торговлю с другими государствами и ее торговый оборот с ними достигает ста миллионов долларов в год; а межколониальный оборот внутри страны — ста пятидесяти миллионов.
Четырехмиллионное население ежегодно покупает и продает товаров — в круглых цифрах — на шестьсот миллионов долларов. Утверждают, что около половины этих товаров — австралазийского производства. Стоимость продукции, ежегодно вывозимой из Индии, немногим выше пятисот миллионов долларов. Вот некоторые удивительные цифры:
Индия — триста миллионов жителей — вывозит товаров на пятьсот миллионов долларов.
Австралазия — четыре миллиона жителей — вывозит товаров на триста миллионов долларов.
Это значит, что ежегодная продукция (на экспорт) одного индийца стоит один доллар семьдесят пять центов, а одного австралазийца — семьдесят пять долларов! Иными словами, индийская семья из мужа, жены и троих детей ежегодно вывозит товаров на восемь долларов семьдесят пить центов, а австралазийская семьи — на триста семьдесят пять долларов.
Вполне достоверные статистические данные сэра Ричарда Темпла и других показывают, что ежегодная продукция одного индийца на экспорт и для внутреннего потребления оценивается всего лишь в семь с половиною долларов, а целой семьи — в тридцать семь с половиною долларов. Вычисленная в той же пропорции продукция австралазийской семьи оценивается почти в тысячу шестьсот долларов. Поистине, нет ничего разительнее цифр, если ими заняться.
Из Мельбурна мы поехали поездом в Аделаиду, столицу обширной колонии Южная Австралия, — семнадцатичасовое путешествие. По дороге мы встретили наших сиднейских друзей, и среди них одного судью, у которого был круговой билет, — судья направлялся вершить суд в Брокен-Хилл, где находятся знаменитые серебряные копи. Странный путь он избрал, чтобы туда попасть. Брокен-Хилл расположен неподалеку от западной границы Нового Южного Уэльса, а Сидней — на его восточной границе. Прямая линия в семьсот миль длиною, проведенная от Сиднея на запад, уперлась бы в Брокен-Хилл, точно так же как несколько более короткая, проведенная на запад от Бостона, уперлась бы в Буффало. Судья, по его словам, проедет более двух тысяч миль поездом: на юго-запад — от Сиднея до Мельбурна, затем на север — до Аделаиды, оттуда крюк обратно к северо-востоку и через границу опять в Новый Южный Уэльс — до Брокен-Хилла. Это все равно что отправиться из Бостона на юго-запад до Ричмонда, штат Виргиния, затем на северо-запад до Эри, штат Пенсильвания, оттуда крюк обратно на северо-восток и через границу к Буффало, штат Нью-Йорк.
Однако дело объяснялось просто. Во времена оны на ничего не подозревавший мир совершенно неожиданно свалились баснословно богатые залежи серебра в Брокен-Хиллс. Сперва акции стоили несколько шиллингов, потом, возрастая не по дням, а по часам, цена достигла фантастической цифры. То был один из тех случаев, когда ваша кухарка, купив акции на свое месячное жалованье, в следующем месяце являлась к вам и покупала ваш дом, сколько вы бы ни запросили, чтобы поселиться в нем самой; когда кучер приобретал несколько акций и через месяц открывал банкирскую контору; когда матрос, вложив в акции деньги, которых хватило бы лишь на один кутеж, в следующем месяце скупал все акции пароходной компании и брался за дело на свой собственный страх и риск. Короче говоря, это было одно из тех внезапных событий, что вдруг притягивает в самый заурядный город несметные толпы людей, чьи потребности надо удовлетворить, и немедленно. Аделаида была совсем рядом, Сидней далеко. Не успел Сидней опомниться и начать прокладывать длинную дорогу, как Аделаида проложила через границу короткую; а потом Сиднею уж и вовсе не имело смысла ее прокладывать. Весь колоссальный торговый доход с Брокен-Хилла потек в Аделаиду, и безвозвратно. Новый Южный Уэльс снабжает Брокен-Хилл законами и посылает туда судей за две тысячи миль, преимущественно через чужие страны, законы эти соблюдать; а дивиденды получает Аделаида и в ус себе не дует.
Мы выехали днем, в двадцать минут пятого, и до самой ночи ехали открытыми равнинами. Утром мы попали в полосу скрёба — зарослей кустарника, — того самого, что так выручает австралийских романистов. В скрёбе прячется коварный абориген, таинственно промелькнет то там, то сям и вдруг неожиданно выскакивает и убивает поселенца; потом нырнет назад в кусты, не оставив никаких следов, по которым белый смог бы его найти. Где, как не в скрёбе, заблудиться героине романа, — и поиски, конечно, оказываются тщетными; она растерянно бродит в зарослях, пока, выбившись из сил, не падает без сознания, а спасители проходят в нескольких шагах от места, где она лежит, не догадываясь, что несчастная так близко; и только спустя много времени какой-нибудь бродяга наталкивается на ее скелет и дневник с душераздирающими записями, которые она нацарапала слабеющей рукой. Заблудившуюся героиню не дано найти никому, кроме аборигена-следопыта, но он не позволит себе вмешаться, если это идет вразрез с замыслом автора.
Кустарник раскинулся во всех направлениях; кажется, будто милю за милей тянется плоская крыша из верхушек кустов, бел единого перерыва или просвета — как одно сплошное покрывало. На мой взгляд, можно с одинаковым успехом бродить под водой, надеясь найти дорогу и выбраться оттуда. И все-таки утверждают, что абориген-следопыт выслеживал людей, заблудившихся в скрёбе, а также в непролазных джунглях, а также в песках пустыни; и даже видел следы на голых скалах и на морском берегу, хотя следы эти явно были начисто смыты водой.
Из австралийских книг и услышанных мною рассказов я узнал, что в области следопытства абориген проявляет такую удивительную хитрость, прозорливость, практическую сметку, точность и тщательность наблюдений, каких мы даже приблизительно не находим ни у кого другого, будь то белый или чернокожий. В официальном документе о черных жителях Австралии, опубликованном правительством Виктории, сказано, что абориген не только замечает слабые следы когтей взбиравшегося на дерево опоссума, но также определяет по ему одному известным признакам, когда они были оставлены — сегодня или вчера.
В этом же документе описан таков случай: поселенец А. держал пари с Б., что, куда бы Б. ни упрятал корову, абориген, которого он, А., приведет с собою, отыщет ее. Б. выбирает корову и показывает аборигену отпечатки ее копыт, затем следопыта запирают, чтобы он не подглядывал. Б. ведет корову несколько миль путем, петляющим во всех направлениях и нередко пересекающим самое себя, неизменно изыскивая самые замысловатые дорожки, а раза два даже гонит корову через стадо других коров, и ее следы совершенно теряются в путанице других следов. В конце концов Б. пригоняет свою корову домой; аборигена выпускают, и он сразу же начинает кружить по огромному пространству, изучая все коровьи следы, пока не находит искомый; затем он идет по этому следу, повторяет весь приделанный коровой замысловатый путь, который под конец приводит его к стойлу, где Б. спрятал корону. Хотел бы я знать, чем отличаются следы одной коровы от следов другой? А ведь есть же разница, иначе абориген не сумел бы проделать такой трюк; разница ничтожная, призрачная, какую не обнаружили бы ни вы, ни я, ни даже покойный Шерлок Холмс; и тем не менее ее обнаруживает дитя народа, который, по мнению иных, находится на самой низшей ступени интеллектуального развития..
Глава XVIII ГДЕ ПРОЦВЕТАЮТ ВСЕ РЕЛИГИИ
Легче не ввязываться, чем развязаться.
Новый календарь Простофили ВильсонаТеперь поезд пробирался по прекрасному холмистому краю и, извиваясь, то и дело пробегал через прелестные зеленые долины. Нам встречались всевозможные породы эвкалиптов, некоторые из них — настоящие исполины. У иных ствол и кора были как у тутовой смоковницы; иные имели совершенно фантастический вид и напоминали причудливые яблони с японских картин. Было там дерево особенной красоты, — я не знаю, какой оно породы и как называется. Листва, казалось, состояла из больших пучков сосновых игл, нижняя часть каждого такого пучка была густо-коричневая или циста старого полота, верхняя — удивительно яркого, резкого, кричаще-зеленого. Зрелище волшебное. Это, должно быть, дерево редкое. Через полчаса скрылось последнее, и больше мы их не видали. Мы заметили еще одно потрясающее дерево — разновидность сосны, как нам сказали. Ее листва казалась мягкой, как волосы, — словно дымчатое облако взвивалось над прямым голым стволом. Эта порода не отличалась общительностью: деревья не теснились группами или парами, каждое стояло довольно далеко от ближайшего соседа. Они располагались на склонах пузатых, поросших травою больших холмов просторно и оригинально и высились, залитые лучами великолепного солнца; и пока дерево не скрывалось из виду, мы видели на ослепительно зеленом ковре у подножья чернильно-черное пятно его тени.
Где-то по пути нам встретились ракитник и дрок, занесенные из Англии. Попутчик, который зашел к нам в купе, пытался растолковать мне, какое из этих деревьев дрок, а какое ракитник, но, поскольку он и сам этого не знал, он совсем запутался. Он сказал, что стыдится своего невежества, но за пятьдесят с лишним лет, прожитых в Австралии, ему никогда не задавали подобного вопроса, и поэтому он им не интересовался. Но ему нечего было стыдиться. Большинство людей страдает подобным недостатком. Мы интересуемся всякими новинками — и это естественно; но было бы отнюдь не естественно интересоваться тем, что у нас под боком. Ракитник и дрок придавали особенную прелесть пейзажу. Они вдруг возникали то там, то сям пожаром яркой желтизны на спокойном или темном фоне, — контраст столь необычайный, что от удивления и неожиданности просто дух захватывало. А тут еще акация, куст или деревцо, — восхитительное облако роскошных желтых цветов. Акация - любимица австралийцев, и у нее чудесный аромат, чего обычно не хватает австралийским цветам.
Попутчик, обогативший меня бедностью своих познаний насчет ракитника и дрока, сказал, что он приехал в Южную Австралию из Англии, когда ему было двадцать лет, с тридцатью шестью шиллингами в кармане, — юный искатель приключений, без ремесла и профессии, без друзей, но с ясной и определенной целью: он не уедет отсюда до тех пор, пока не сколотит двести долларов. Эту сумму он собирался накопить за пять лет.
— Прошло уже больше пятидесяти, — сказал он,— а я все еще здесь.
При выходе из купе он столкнулся с приятелем, которого мне представил; приятель остался, и мы курили и болтали. Я рассказал ему о предшествовавшем разговоре и заметил, что в этой полувековой ссылке есть что-то очень печальное и я от души жалею, что план насчет двухсот долларов не осуществился.
— Чей, его? Давно осуществился. Не такой уж это грустный случай. Мой друг скромен, потому и умолчал о некоторых подробностях. Парень приехал в Южную Австралию как раз вовремя, чтобы помочь найти медные рудники «Бура-Бура». За первые три года они принесли семьсот тысяч долларов, а на сей день — двадцать миллионов, Он получил свою долю. Если бы он вернулся на родину через два года, у него хватило бы денег, чтобы купить деревню; теперь, пожалуй, хватит на покупку целого города. Да, в его истории нет ничего печального. Он и его медь явились как раз вовремя, когда надо было спасать Южную Австралию. Ведь незадолго до этого ее чуть было не разорил лопнувший земельный бум.
Опять необычная история, чем Австралия и отличается. В 1829 году в Южной Австралии не было ни одного белого. В 1836 году британский парламент основал эту провинцию, до той поры все еще стоявшую особняком, и дал ей губернатора и прочие атрибуты управления. На арену выступили спекулянты земельными участками, разработали широкую программу и начали привлекать сюда колонистов, соблазняя их обещаниями мгновенно разбогатеть. Лондон сразу соблазнился. Епископы, государственные деятели, люди самых разных сословий тут же кинулись на земельные участки компании. В район Аделаиды устремились иммигранты и стали разбирать городские участки и участки для ферм на мангровых болотах и песках приморья. Прибывало все новые и новые толпы. Цепа на землю росла не по дням, а по часам, все процветали и веселились, бум раздулся до гигантских размеров. На песке возникла деревня из хижин, крытых жестью, и дощатых сараев, и в этих вигвамах высший свет задавал тон: богато одетые дамы играли на дорогих фортепьяно, лондонские франты щеголяли во фраках и лакированных башмаках, и это избранное общество пило шампанское и во всем остальном вело себя в столице жалких сараев, как обычно в аристократических кварталах любой столицы мира. Власти провинции воздвигли роскошные здания для собственных надобностей и дворец с парком для губернатора. Губернатор обзавелся стражей и свитой. Были построены дороги, пристани и больницы. И все в кредит — на бумаги, на воздух, на вздутые и дутые ценности, — по сути на сплошной мираж.
Лет пять дела шли прекрасно. Потом вдруг все полетело вверх тормашками. Государственное казначейство прекратило платежи по многочисленным чекам, выданным губернатором, кредит земельной компании рассеялся, как дым, началась паника, ценности стремительно падали; перепуганные насмерть иммигранты схватили свои саквояжи и бросились в иные края, оставив за собой недурное подобие пустыни там, где еще недавно кишел густой людской муравейник.
Аделаида почти совсем обезлюдела, там осталось не более трех тысяч жителей. Оцепенение смерти длилось года два, если не дольше. Не было никаких признаков возрождения, исчезла даже надежда. Потом вдруг, как гром среди ясного неба, пришло воскрешение: открыли чудовищно богатые залежи меди; труп ожил и пустился в пляс...
Начало развиваться производство шерсти, потом земледелие — да так энергично, что лет через пять после того, как нашли медь, эта маленькая колония, прежде ввозившая хлеб и вдобавок по очень высокой цене — однажды цена поднялась до пятидесяти долларов за бочонок муки, — превратилась в экспортера зерна. Процветание продолжалось. Через несколько лет провидение пожелало проявить особую милость к Новому Южному Уэльсy и нежную заботу о его благосостоянии: в назидание всем другим государствам оно признало высокую добродетель и выдающиеся заслуги этой колонии, ниспослав ей сказочные богатства — залежи серебра в Брокен-Хилле. Южная Австралия перешагнула через границу и приняла эти богатства с благодарностью.
Среди наших попутчиков был американец с уникальной профессией. Уникальная — сильное слово, но я применил его правильно, если верно понял то, что этот американец мне сказал; из его слов я заключил, что он единственный человек в мире, занимающийся таким делом. Он скупал шкурки кенгуру — все сколько есть, как в Австралии, так и в Тасмании, — скупал для Нью-Йоркского торгового дома. Цены были невысокие, поскольку не было конкуренции, и все же шкурки обходились ему в тридцать тысяч фунтов в год. Меня это удивило, ибо я полагал, что кенгуру почти вымерли в Тасмании и редко встречаются на континенте. В Америке шкурки дубит и делают из них башмаки. После дубления кожу называют уже по-иному, — я забыл как, помню только, что новое название не имеет ничего общего с кенгуру. Несколько лет назад с американцами начала было конкурировать Германия, но скоро бросила. Немцам не удалось открыть секрета дубления кожи, и они отстранились от этого дела. В таком случае я, по-видимому, действительно встретил человека, чья профессия заслуживает такого громкого эпитета, как «уникальный». Вряд ли в мире есть еще человек, который бы захватил бы в свои руки целый промысел. Я ни крайней мере такого не знаю. Папа римский не один на свете, императоров тоже немало; даже живых богов, что ходят по земле и перед которыми со всей серьезностью преклоняется изрядное количество людей, — и тех порядочно. В Индии я видел их собственными глазами, и даже с двумя разговаривал, а у одного из них получил автограф. Нужно, пожалуй, приложить этот автограф к моему разрешению «на погрузку», он может мне пригодиться.
Неподалеку от Аделаиды мы сошли с поезда и в открытом экипаже, по склонам холмов и через их вершины, отправились к городу. Поездка длилась часа два, и очарование ее просто непередаваемо. Дорога вилась вокруг глубоких ущелий и обрывов, открывая взору разнообразнейшие картины и панорамы — горы, скалы, виллы, сады, леса, — и краски, краски, всюду необычайные краски; ароматный свежий воздух, голубые небеса и ни единого облачка, которое заслонило бы потоки сверкающих лучей солнца. Наконец горы раздвинулись, и у подножья раскинулась бескрайняя равнина, по обе стороны уходившая и туманные дали, нежная, заманчивая и прекрасная, На ближнем ее крае покоился город.
Мы спустились вниз. Ничто здесь не напоминало жалкую столицу хижин и сараев, канувших в Лету дней земельного бума. Нет, то был современный город с широкими улицами, разумно спланированными, повсюду хорошие дома, окруженные зеленью, внушительные общественные здания, поражающие благородством ансамбля и красотой архитектуры.
В воздухе веяло процветанием, ибо в полном разгаре был новый бум. Провидение, желая показать свою особую милость к соседней колонии на западе, называемой Западной Австралией, и проявить нежную заботу о ее благосостоянии, в назидание всем другим государствам признало высокую добродетель и выдающиеся заслуги этой колонии и недавно ниспослало ей огромное богатство — золотые россыпи Кулгарди; теперь Южная Австралия завернула за угол и с благодарностью эти богатства приняла. Доброму и терпеливому всегда воздается по заслугам.
Впрочем, Южная Австралия заслуживает всяческих похвал, ибо, насколько я могу судить, она — гостеприимный дом для любого чужестранца, надумавшего туда приехать; и для его вероисповедания тоже. По последней переписи ее население немногим превышает триста двадцать тысяч, однако разнообразие вероисповеданий говорит о том, что там живут представители чуть ля не всех уголков земного шара. В цифрах это разнообразие вероисповеданий выглядит весьма внушительно. Где в другом месте найдете вы что-либо подобное? Вот она, диковина космополитизма, — и, учтите, по официальным источникам:
Англиканская церковь….80,271
Римско-католическая….47,179
Веслеянцы….49,159
Лютеране….23,328
Пресвитериане….18,206
Копгрегационисты….11,882
Библейские христиане….15,762
Древнив методисты….11,654
Баптисты….17,547
Христианские братья….465
Обращенные методисты….39
Унитарианцы….688
Христова церковь….3,367
Квакеры….100
Армия Спасения….4,356
Церковь Нового Иерусалима….168
Иудеи….840
Протестанты (не уточнено)….5,532
Магометане….299
Последователи Конфуция и т. д…..3,884
Другие религии….1,719
Неверующие….6,940
Не назвали своего вероисповедания….8,046
Итого….320,431
Графа «Другие религии» из вышеприведенного списка, как оказалось, включает следующее:
Агностики….50
Атеисты….22
Адвентисты седьмого дня….203
Буддисты….52
Божья церковь….6
Верующие в Христа….4
Валлийская церковь….27
Греческая церковь….44
Городская миссия….16
Гугеноты….2
Гуситы….1
Деисты….14
Евангелисты….60
Евангелистская община….11
Кальвинисты….46
Космополиты….3
Марониты….2
Менониты….1
Моравские братья….139
Мормоны….4
Миряне-секуляристы….12
Неверующие….9
Натуралисты….2
Последователи Христа….8
Православные….4
Пантеисты….3
Плимутские братья….111
Последователи Зороастра….2
Прочие (не установлено)….17
Рационалисты….7
Реформатская вера….7
Свободная церковь….21
Свободные методисты….5
Свободомыслящие….258
Синтоисты….24
Спириты….37
Теософы….9
Христадельфианцы….134
Христиане….308
Христианская капелла….9
Христиане-израелиты….2
Христиане-социалисты….6
Цвинглианец….1
Шейкер….1
Эксклузивные братья….8
Язычники….20
Чуть ли не шестьдесят четыре дороги в потусторонний мир. Сразу видно, какая там подходящая для религий атмосфера. Там все уживаются. Агностики, атеисты, свободомыслящие, язычники, мормоны, идолопоклонники, люди без определенного вероисповедания — все они тут. И все крупные секты мира не только уживаются, они имеют возможность действовать, распространяться, процветать. Все, кроме спиритов и теософов, и в этом самая удивительная особенность сей удивительной таблицы. В чем тут дело? Почему в Южной Австралии отмахиваются от духов? Ведь в других местах земного шара духами забавляются очень охотно.
Глава XIX НА ЧТО МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ ПЕРЕСМЕШНИК
Жалейте живых, завидуйте мертвым.
Новый календарь Простофили ВильсонаУ преемника жестяной деревушки на мангровых болотах есть и вторая особенность Австралии — ботанический сад. У нас такой рай ни за что бы не получился. Самое большее, на что мы были бы способны, — это упрятать большое пространство под стекло и пустить туда паровое отопление. И конечно, это совсем не то, еще очень многого будет не хватать; спертый воздух и удушье, туман и изнурительную влажность — вот что вы получите вместо австралийского простора небес, солнечного света и легкого ветерка. Все, что у нас произрастает под стеклом, может в Австралии буйно расти на воле[22]. Когда на континенте появились белые, там было почти такое же жалкое однообразно растительности, как в пустыне Сахаре; теперь там есть все, что родит земля. И не только Австралия — вся Австралазия собрала у себя флору остальной части земного шара. Куда бы вы ни взглянули, вы это повсюду заметите: в парках — частных и общественных, и живых изгородях у проезжих дорог, даже в лесах. Если вы увидите диковинное или особенно красивое дерево, куст или цветок и спросите, откуда оно, вам, вероятнее всего, назовут чужую страну — Индию, Африку, Японию, Китай, Англию, Америку, Яву, Суматру, Новую Гвинею, Полинезию и так далее.
В зоологическом саду Аделаиды я видел единственного пересмешника, который пожелал быть со мной учтивым. Он широко раскрыл клюв и хохотал, как сатана, а возможно — как маньяк, которого душит смех над плоской, старой, как мир, остротой. То был удивительно человеческий смех. Если бы я не видел перед собой эту птицу, то подумал бы, что смеется человек. С виду она странная, голова и клюв у нее чересчур велики для туловища. Со временем человек истребит все прочие дикие существа Австралии, но эта птица, пожалуй, останется, ибо человек ей друг и не трогает ее. По отношению к диким существам — будь то зверь или человек — люди всегда найдут разумное основание для великодушия, если таковое у них имеется. Пересмешника же щадят потому, что он убивает змей. Я бы ему посоветовал не торопиться перебить их всех.
В том же зоологическом саду я видел дикую австралийскую собаку динго. Это красивое животное, стройное, грациозное, слегка напоминающее колка, но с удивительно добрыми глазами и общительным характером. Динго не иммигрант; когда в Австралии появились белые, там этих собак было великое множество. По всей вероятности, это самая древняя в мире собака; ее происхождение и родина неизвестны, — их так же невозможно установить, как невозможно установить историю верблюда. Динго — самая драгоценная собака на Земле, ибо она не ласт. Но, себе на беду, она с голоду нападает на овечье стадо, — и это решило ее судьбу. В наше время ее истребляют так же рьяно, как волков. Она приговорена к смерти, и приговор будет приведен в исполнение. Это справедливо и не вызывает возражений. Мир создан для человека — для белого человека.
Название «Южная Австралия» только путает людей. Кроме Квинсленда, к югу расположены все колонии. Собственно говоря. Южная Австралия — средняя Австралия. Она протянулась по центру материка, подобно средней доске круглого стола. Ее длина с юга на север две тысячи миль, а ширина — примерно треть длины. на крошечном клочке ее юго-восточного края разместилось восемь или девять десятых всего населения, а одна или две десятых рассеяны по всей остальной территории. Места там сколько угодно — как, скажем, между Денвером и Чикаго, Канадой и Мексиканским заливом, если взять для сравнения Соединенные Штаты.
Телеграфная линия тянется от Аделаиды напрямик на север, к океану, до Порта Дарвина, через тысячи миль диких дебрей и пустынь. Эту линию проложила Южная Австралия, и было это в 1871-1872 годах, когда там насчитывалось не более ста восьмидесяти пяти тысяч жителей. Работа оказалась нелегкой, — ведь в то время не существовало ни дорог, ни троп. Лишь часть этого пути — тысяча триста миль - была пройдена белыми, и то всего один раз. Продовольствие, кабель и столбы приходилось возить через огромные пустыни и рыть по дороге колодцы, а не то люди и скот погибли бы без воды.
Сначала был проложен кабель от Порта Дарвина к Яне, а оттуда — к Индии; у Индии же была телеграфная связь с Англией. Таким образом, соединить Аделаиду с Портом Дарвина — значило соединить ее со всем миром.Затея удалась. Теперь стало возможно ежедневно следить за лондонским рынком; огромное значение этого для австралийских шерстепромышленников не замедлило сказаться.
Телеграмма, посланная из Мельбурна в Сан-Франциско, покрывает около двадцати тысяч миль, что равняется пяти шестым длины экватора. По пути ей не раз приходится останавливаться, чтобы ее повторили, и все же времени почти не пропадает. В нижеприведенной таблице указаны места таких остановок и расстояние между ними:[23]
Мили
Мельбурн — Маунт-Гамбир . . . 300
Маунт-Гамбир — Аделаида . . . 270
Аделаида — Порт Аугуста . . . 200
Порт Аугуста — Алис-Спрингс . . 1036
Алис-Спрингс — Порт Дарвин . . . 898
Порт Дарвин — Ваньюванги . . . 1150
Ваньюванги — Батавия .... 480
Батавия — Сингапур 553
Сингапур — Пенанг 399
Пенанг — Мадрас ....1280
Мадрас — Бомбей..... 650
Бомбей — Аден .....1662
Аден — Суэц .....1346
Суэц — Александрия ..... 224
Александрия — Мальта ....828
Мальта — Гибралтap..... 1008
Гибралтар — Фалмут ......1061
Фалмут — Лондон .....350
Лондон — Нью-Йорк.... 2500
Нью-Йорк — Сан-Франциско . . .3500
Спустя несколько месяцев я вновь побывал в Аделаиде и видел несметные толпы, собравшиеся в соседнем городе Гленелге, чтобы ознаменовать День Чтения Декларации — 1836 год, — положившей основу провинции. Если я хоть раз назвал Южную Австралию колонией, приношу извинения. Это не колония, это — провинция, и так она числится официально. Больше того, в Австралазии так называют только ее. Гленелг ликовал: ведь это национальный праздник провинции — ее, так сказать, Четвертое июля. Первейший праздник! А это что-нибудь да значит в стране, где мания на праздники удивительная, совсем не как у англичан. Главным образом это праздники рабочего люда, ибо в Южной Австралии рабочий человек — важная персона. Заполучить его голос на выборах — мечта политических деятелей: ведь рабочий человек ему нужен, как воздух; парламент для того и существует, чтобы выражать волю рабочего человека, а правительство — чтобы ее выполнять. В Австралии рабочий человек повсюду великая сила, но Южная Австралия — его рай. Он много страдал в мире сем и заслужил свой рай. Я рад, что он его нашел. Праздников здесь так много, что иностранец теряет им счет. Я пытался понять причину этого, но так и не сумел.
Вы уже видели, какую мудрую терпимость проявляет Южная Австралия к религиозным верованиям жителей, Столь же терпима она и к их политическим взглядам. Один на ораторов на банкете в День Ознаменования — министр общественных работ — был американец, родившийся и выросший в Новой Англии.
Эта провинция не знает косности ни политической, ни какой-нибудь иной. Шестьдесят четыре вероисповедания, и министр — янки! Можно сколько угодно играть на скачках — никто не осудит.
Средняя годовая температура здесь шестьдесят два градуса. Смертность — тринадцать на тысячу: наполовину меньше, чем в Нью-Йорке, а ведь климат Нью-Йорка очень здоровый. Тринадцать — процент смертности граждан в среднем, но к старикам это, очевидно, не относится. На банкете я видел людей, которые помнили еще Кромвеля. Их было шестеро. Эти ветераны присутствовали на первом чтении Декларации — в 1836 году. Губительное время наложило отпечаток на их внешность, по они были молоды душой — молоды, жизнерадостны и говорливы; они охотно говорили о чем угодно в свою очередь и вне всякой очереди. Им полагалось произнести шесть речей, но они произнесли сорок две. Губернатору, мэру и членам кабинета полагалось произнести сорок дно, но они произнесли шесть. У этих ветеранов великолепная выдержка, великолепная выносливость! Правда, они плохо слышат, а потому, когда мэр взмахивал руками, они решали, что он представляет оратора, и принимали это на свой счет: нее они вставали и откликались с завидным воодушевлением; а чем энергичнее мэр махал руками и кричал: «Садитесь! Садитесь!», тем увереннее они принимали это за аплодисменты и тем энергичнее и с большим рвением предавались воспоминаниям; а потом, когда видели, что все смеются до слез, трое из них полагали, что растрогали всех своим рассказом о тяжких лишениях в те далекие времена, а трое остальных полагали, что смех вызван шутками, выдерживавшимися с 1836 года, которые они ввернули,— и тут уж их нельзя было остановить. И когда наконец к ним подходили распорядители, просили, умоляли и деликатно и почтительно уводили их на место, они говорили: «Что вы, я нисколько не устал, меня еще надолго хватит!» — и усаживались, простодушные, кроткие, как дети, гордые своим красноречием, совершенно не замечая того, что делалось в другом конце зала. Тут открывалась возможность выйти на трибуну кому-нибудь из больших вельмож, и он начинал солидно и торжественно свою тщательно подготовленную речь:
— Когда мы, теперь сильные, процветающие и могучие, в благоговейном изумлении склоняем головы перед той великой энергией, мудростью предвидения и...
Но тут опять поднималась бессмертная шестерка, все вместе, с радостным «Эй, я вспомнил еще одну штуку!» — и они вновь начинали изо всех сил проталкиваться и трибуне, не слыша ропота вокруг и, как прежде, принимая оживление в зале за приветствия; так они радостно пробирались вперед, пока распорядители снова не водворяли их на место. А жаль, ибо в дни почтенной старости эти славные ветераны так радовались, вновь переживая свою героическую юность, — уж конечно то, что они могли бы рассказать, стоило рассказать и услышать.
То было волнующее зрелище, волнующе трогательное, ибо оно было на редкость забавным и вместе с тем глубоко печальным; ведь эти убеленные сединами ветераны так много видели и так много выстрадали, они так много и старательно трудились и так надежно заложили фундамент благополучия своей страны в свободе и терпимости, и дожили до той поры, когда их усилия принесли прекрасные, обильные плоды и их преподносят за их благородный труд.
Один из этих патриархов рассказал мне потом много интересного, главным образом об аборигенах. Он считал их умными — в некоторых отношениях поразительно умными — и сказал, что наряду с дурными качествами у них были и на редкость хорошие, и очень сожалел, что народ этот вымер. Как пример их сметливости он привел изобретение ими бумеранга и «вит-вита»; другим примером он считал то, что ему ни разу не встретился белый человек, у которого хватило бы ума научиться проделывать с этими двумя игрушками такие чудеса, какие проделывали аборигены. Он сказал, что даже самые толковые белые вынуждены были сознаться, что не могут как следует овладеть секретом бумеранга, что в нем скрыты тайны, для них непостижимые. Белый человек не умеет направить полет бумеранга так, чтобы он подчинялся его воле, меж тем аборигену это удавалось. Старик рассказал мне невероятные вещи, чуть ли не сверхъестественные, и об умении темнокожих владеть бумерангом и вит-витом. Все это мне впоследствии подтвердили и другие ранние поселенцы, да к тому же я прочитал об этом в книгах, заслуживающих полного доверия.
Утверждают, — можно даже сказать признано, — что бумеранг был у некоторых диких племен в Европе еще в эпоху Римской империи. В подтверждение приводят стихи Виргилия и других древнеримских поэтов. Утверждают также, что о нем знали и древние египтяне.
Отсюда следует одно из двух: либо кто-нибудь с бумерангом появился в Австралии еще в древности, прежде чем Европа его забыла, или же абориген-австралиец изобрел его вновь. Пройдет немало времени, пока выяснится, какое из этих двух предположений вернее. Но нам не к спеху.
Глава XX ИНТЕРМЕДИЯ НА ЛИСЬЕЙ ОХОТЕ
Милостью божьей в нашей стране есть такие неоценимые блага, как свобода слова, свобода совести и благоразумие никогда этими благами не пользоваться.
Новый календарь Простофили ВильсонаИз дневника.
Заходил мистер Г. В последний раз я видел его несколько лет тому назад в Наугейме в Германии, когда в Гамбурге разразилась холера. Разговор коснулся людей, которых мы знали там или с кем изредка встречались.
— Помните, я представил вас графу Ц.? — спросил Г.
— Да. Это было в нашу последнюю встречу. Он сидел с вами в коляске, и вы направлялись... спешили к поезду. Я помню.
Я тоже это помню, в связи с одним неожиданным происшествием. Незадолго до этого граф рассказал мне об одном выдающемся калифорнийце, вашем друге, с которым он познакомился, и добавил, что если бы он нас встретил, то спросил бы у вас кое-что об этом калифорнийце. В тот день, в Наугейме, разговор об этом не зашел, гак как мы торопились и разговаривать было некогда, и удивило меня вот что: когда я вас представил, вы сказали: «Рад встретиться с вами вновь, милорд». «Вновь» меня и удивило. Граф туговат на ухо и этого слова не расслышал, а мне показалось, что вам это и не нужно было. Когда мы тронулись с места, я успел лишь спросить вас: «Что вы о нем знаете?» А вы ответили что-то вроде: «Да почти ничего, разве только, что он самый тонкий знаток...» Но мы уже отъехали, и я так н не уловил конца фразы. Мне было любопытно — в чем же он такой тонкий знаток? Впоследствии я не раз об этом думал и никак не мог понять, что вы имели в виду. Я говорил об этом с ним, но мы так ничего и но выяснили. Он полагал, что это могли быть лошади или гончие, ибо в этом он был истинный знаток, лучшего не найти.
— Но как вы-то могли знать — ведь вы его никогда не видели; не приняли ни вы его за кого-то другого? «Так оно, наверно, и есть», — сказал он, ибо был уверен, что вы прежде не встречались. Ведь вы и правда не встречались?
— Нет, встречались.
— Что вы! Где же?
— На лисьей охоте в Англии.
— Как странно! Он начисто все забыл. И вы разговаривали с ним о чем-нибудь?
— Кое о чем, да.
— Ну, у него в памяти ничего об этом не осталось. О чем вы говорили?
— О лисице. Кажется, больше ни о чем.
— Гм... Это заинтересовало бы его, об этом он бы должен был помнить. А о чем он говорил?
— О лисице.
— Очень странно. Ничего не понимаю. А вы помните его слова?
— Да. Они показали мне, что он тонкий знаток... Впрочем, лучше я вам расскажу все, как было, и судите сами. Произошло это лет двадцать пять назад, году этак в тысяча восемьсот семьдесят третьем или семьдесят четвертом. В Лондоне у меня был приятель, американец Ф., страстный охотник; и его друзья, Бланки, пригласили нас с ним поохотиться в свою загородную усадьбу. Утром подали верховых лошадей, но когда я их увидел, мне не захотелось ехать, и я попросил разрешения пойти пешком. Мне прежде не приходилось видеть английских верховых лошадей, и я подумал, что безопаснее охотиться за лисой на своих ногах. Я всегда был робок с лошадьми даже нормального роста и уж конечно не решился бы охотиться на коне, которого поставили на ходули. Выручила меня миссис Бланк: она предложила мне поехать с ней в двуколке, вместе с собаками, и сказала, что отвезет меня в одно местечко, откуда очень удобно наблюдать охоту.
Когда мы туда приехали, я вышел ив двуколки и облокотился о низкий каменный парапет, огораживавший чудесное огромное скаковое поле, со всех сторон, кроме той, где находились мы, окаймленное густым лесом. Миссис Бланк сидела в двуколке, ярдах в пятидесяти от меня, — ближе подъехать было невозможно. Я ждал затаив дыхание, ибо никогда прежде не видел охоты на лисиц. Ждал в глубокой тишине и покос, царивших и этом уединенном местечке, мечтая и фантазируя. Вскоре слева, где-то в глубине леса, загудел охотничий рог; потом вдруг на поле вырвалась громадная свора собак, бешено промчалась мимо и скрылась в лесу справа; наступила пауза, а потом из леса по левую сторону вылетела туча всадников в черных шапочках и алых куртках и понеслась через поле, словно пожар в прерии, — изумительное зрелище! Человек, возглавлявший кавалькаду, пришпорил коня и поскакал прямо на меня. Он был необычайно возбужден. Приятно было видеть его на лошади, скакал он мастерски. Подлетев как вихрь, он футах в семи от ограды, где я стоял, резко осадил коня и заорал:
— Куда ушла лиса?
Мне не очень понравился его тон, но я сдержался — ведь всадник был сильно возбужден. Я спокойно спросил его, кротко и без всякого раздражения:
— Какая лиса?
Вопрос, видимо, разозлил его, не знаю почему, и он прогремел:
— Какая лиса? Просто лиса! Куда ушла лиса?
Я сказал ему очень мягко и сдержанно:
— Не могли бы вы объяснить поточнее... не так расплывчато... ведь я иностранец, а тут много лис, хотя вам это известно лучше, чем мне, и если я не буду знать, какая именно нас интересует...
— В жизни не видал такого тупицу!...
Он повернул своего огромного коня с такой легкостью, словно тот был котенком, и умчался как ураган. Очень нервный человек.
Я подошел к миссис Бланк; она тоже нервничала, просто вся дрожала.
— Он заговорил с вами! Правда, заговорил? — воскликнула она.
— Да, так и было.
— Я это поняла. Я не слышала, что он вам сказал, но видела, что он заговорил с нами! Вы знаете, кто это? Это же лорд Ц., глава охотников Букингема. Скажите... что вы о нем думаете?
— О нем? Извольте. Я никогда не встречал человека, который бы так быстро и верно составил себе мнение о незнакомце.
— Мои слова ей понравились. Впрочем, на это я и рассчитывал.
Г. уехал из Наугейма как раз вовремя, чтобы избежать карантина на границе; избежали его и мы, ибо уехали на следующий день. Но у Г. была куча неприятностей в итальянской таможне, что случилось бы и с нами, если бы не предусмотрительность нашего франкфуртского консула. Он представил меня итальянскому генеральному консулу, и я получил в этом консульстве письмо, которое расчистило нам путь. Всего несколько строк, адресованных чиновникам его итальянского величества — в общих словах просьба оказать мне любезность, — но эта с виду пустяковая бумажонка обладала магическим действием. Помимо уймы обычного багажа, у нас было сундуков шесть или восемь, полных всякой всячины, того, что облагается таможенной пошлиной, — домашняя утварь, купленная во Франкфурте для дома во Флоренции, куда мы переезжали. Я намеревался переправить эти сундуки экспрессом, но в последнюю минуту в Германии вышло распоряжение, запрещающее отправлять поездом какие бы то ни было грузы, если их не сопровождает владелец. Это было весьма некстати. Нам пришлось взять сундуки с собой, а ведь неизбежный осмотр на таможне мог задержать нас, и мы прозевали бы свой поезд. Я рисовал себе всяческие ужасы и, по мере того как мы приближались к итальянской границе, все больше волновался. Нас было шестеро, и мы по уши увязли в багаже, а я был представителем нашей группы — самым бездарным из всех моих предшественником.
Мы прибыли, вместе с толпой втиснулись в огромный зал таможни, и качались обычные в таких случаях терзания: каждый проталкивался к середине и молил, чтобы его багаж осмотрели первым; в зале стоял гул голосов и стук открываемых и закрываемых крышек. Мне казалось, что я совершенно беспомощен; лучше всего не ввязываться, бросить багаж и уйти. Я не знаю языка, я ничего не смогу добиться. Но тут мимо проходил высокий красивый мужчина в нарядной форме; я догадался, что это начальник вокзала, и вдруг вспомнил о письме. Я подбежал к нему и сунул ему в руки конверт. Он вынул оттуда письмо и, как только взгляд его упал на королевский герб в уголке, снял фуражку, театрально поклонился и сказал по-английски:
— Где ваш багаж? Покажите мне, пожалуйста.
Я указал ему на гору. Никто к ней не прикасался, она никого не интересовала, все попытки моих домашних привлечь к ней внимание оказались тщетными, чего нельзя было сказать разве лишь о сундуке с вещами, на которые налагалась пошлина: его как раз открывали. Мой чиновник сказал:
— Прекратите! Заприте сундук! А теперь пометьте его. Пометьте все остальное. Теперь пойдемте и покажите мне, пожалуйста, наш ручной багаж.
Он пробрался сквозь толпу ожидающих к барьеру, я за ним, и он опять выразительно, по-военному, приказал:
— Пометьте эти вещи, весь багаж.
Потом он снял фуражку, снова поклонился и отошел от нас. К этому времени особое к нам внимание вызвало изумление у всей массы пассажиров, вокруг шептали, что здесь королевская семья и это их багаж пометили; и когда мы шли к двери под обстрелом направленных на нас взглядов, мне было очень приятно сознавать, что все мне завидуют.
Впрочем, вскоре произошла авария. Карманы моего пальто были набиты немецкими сигарами и холщовыми пачками американского табака, и это пальто, перекинутое через руку нашего носильщика, постепенно сползало вниз. Как раз в то мгновение, когда последний из моей семьи проходил мимо часовых у двери, несколько пачек вывалилось на пол. Часовой кинулся к ним, собрал в охапку, указал мне снова на таможенный зал и повел впереди себя сквозь длинный строй пассажиров обратно, при этом он говорил без умолку и дьявольски ликовал, пассажиры улыбались тихой, счастливой улыбкой, а я пытался делать вид, что мое самолюбие не задето и я не чувствую себя ни капельки опозоренным перед этими злорадствующими людьми, которые так недавно мне завидовали. Однако в душе я чувствовал себя жестоко униженным.
Когда мы прошли две трети длинного пути и муки мои достигли предела, откуда-то показался величавый начальник вокзала; часовой бросил меня и кинулся за ним; по возбужденной жестикуляции солдата я понял, что он докладывает об этом бесславном деле. Начальник был явно возмущен. Быстрым шагом направился он ко мне и, когда подошел ближе, разразился бурей негодования по-итальянски, потом вдруг снял фуражку, поклонился своим театральным поклоном и сказал:
— Ах, это вы! Тысяча извинений! Этот идиот... — Он повернулся к ликующему часовому, изверг на него поток раскаленной лавы по-итальянски и тут же раскланялся, а мы с часовым снова двинулись друг за дружкой — на сей раз он впереди, опозоренный, я — с высоко поднятой головой. И так мы промаршировали сквозь толпу потрясенных пассажиров, и я отправился к поезду с военными почестями. Табак и все прочее осталось при мне.
Глава XXI МЫШЬЯКОВЫЙ ПУДИНГ ДЛЯ ДИКАРЕЙ
Человек готов на многое, чтобы пробудить любовь,
но решится на вес, чтобы вызвать зависть.
Новый календарь Простофили ВильсонаЯ не слыхал о вит-вите, пока не попал в Австралию. Я встречал очень немного людей, которые видели, как его бросают, — во всяком случае, они это утверждали. В общих чертах вит-вит — это нечто вроде толстой деревянной сигары, один конец которой прикреплен к гибкому прутику. Вся штука всего лишь в два фута длиною и весит менее двух унций. Это перо, — назовем его так, — бросают не вверх, а из-за спины, — так, чтобы оно ударилось о землю много впереди того, кто бросил; потом оно скользнет и сделает длинный скачок; снова скользнет и снова подскочит; потом снова и снова, — подобно тому как подпрыгивает на воде плоский камешек, кинутый мальчишкой. Поверхность воды гладкая, и камешку там раздолье, сильная рука может кинуть его ярдов на пятьдесят, а то и на семьдесят пять; у вит-вита же нет такого раздолья, ибо в пути он падает то на песок, то на траву, то на землю. Тем не менее один искусный абориген кинул его на двести двадцать ярдов, — расстояние было измерено. Он пролетел бы еще дальше, если бы ему не помешали буйный папоротник и молодая поросль. Двести двадцать ярдов! — и такая невесомая игрушка: мышонок на конце кусочка проволоки; и он не плыл в благодатном воздухе, а отскакивал от земли и при каждом скачке падал то на траву, то на песок, то еще куда-нибудь. Кажется поистине невероятным, но мистер Броу Смит видел этот трюк собственными глазами, измерил расстояние и изложил факты в книге о жизни аборигенов, которую написал по поручению правительства Виктории.
В чем тут секрет? Этого никто не объясняет. Физическая сила бросившего? Нет, она не могла бы метнуть предмет с весом пера даже на ничтожное расстояние. Значит — искусство? Но никто не объясняет, что это за искусство и как оно обходит закон природы, гласящий, что нельзя заставить штуковину весом в две унции пройти двести двадцать ярдов ни по воздуху, ни скачками по земле. Преподобный Дж. Г. Вуд пишет:
«Воистину поразительно, как далеко можно закинуть вит-вит — «крысу-кенгуру», как его называют. Я видел австралийца, который, стоя на одной стороне Кеннингтон-Овал, забросил крысу-кенгуру прямо на противоположную. (Ширина Кенпингтон-Овала не указана.) Она неслась по воздуху с резким, грозным свистом, как пуля, и, ударяясь о землю, подскакивала порой на семь или восемь футов… Если правильно бросить, то, глядя на нее, кажется, будто скачет зверек.... Его движения удивительно напоминают длинные скачки крысы-кенгуру, которая в испуге спасается бегством, волоча за собой свой длинный хвост».
Престарелый поселенец рассказал мне, что в далекие времена он видел, на какие огромные расстояния забрасывают вит-вит, и это почти убедило его, что вит-вит такое же необычайное орудие, как бумеранг.
По-видимому, эти нагие тощие аборигены были весьма сообразительны, иначе разве они сделались бы такими непревзойденными следопытами, бумерангистами и вит-витистами? Наверное, в репутации народа, стоящего на низшей ступени интеллектуального развития, до сих пор сохранившейся за ними и мировом общественном мнении, в большой мере повинна расовая к ним антипатия.
Они были ленивы, всегда этим отличались. Возможно, в этом вся их беда. Это убийственный порок. Разумеется, ничто не мешало им придумать себе хороший дом и построить его, но они этого не сделали. И ничто не мешало им изобрести и развивать сельское хозяйство, но и этого они не сделали. Жилья у них не было, они ходили голыми, питались рыбой, гусеницами, червями и дикими плодами и, при всей своей сообразительности, были настоящими дикарями.
Страна, где им суждено было жить и множиться, по площади равнялась Соединенным Штатам; они не знали заразных болезней, пока белые не завезли их сюда вместе с прочими благами цивилизации; и все же в истории австралийских аборигенов, по-видимому, не найти такого дня, когда во всей стране их набралось бы сто тысяч. Дикари усердно и сознательно ограничивали рост населения — часто с помощью детоубийства, но предпочитали некоторые иные способы. Зато когда пришел белый, аборигену больше незачем было прибегать к искусственным мерам. Белый знал средства, как убавлять население, каждое из них стоило десятка способов аборигенов. Белый знал средства, с помощью которых он в двадцать лет сократил туземное население на восемьдесят процентов. Разве абориген достиг бы когда-либо столь превосходного результата?
Возьмем для примера край, который сейчас называется Виктория, — край, как я уже говорил, по площади в восемьдесят раз больше Род-Айленда. В середине тридцатых годов белые застали там, по наиболее точным официальным данным, четыре тысячи пятьсот аборигенов. Из них тысяча жила в Гипсленде, на территории величиной с пятнадцать или шестнадцать Род-Айлендов; число этих туземцев убавлялось не так стремительно, как в некоторых других районах Виктории, — через сорок лет там все еще было двести человек. Гилонское племя таяло успешнее: за двадцать лет из ста семидесяти трех человек осталось тридцать четыре, а еще через двадцать — все племя свелось к одному человеку. В обоих мельбурнских племенах до прихода белых насчитывалось около трехсот человек; спустя тридцать семь лет, в 1875 году, их осталось двадцать. В том году по всей Виктории еще можно было кое-где наскрести остатки туземных племен, но ныне, как мне сказали, чистокровные аборигены — большая редкость. Правда, говорят, какие-то туземцы до сих пор здравствуют на обширной территории Австралии, называемой Квинсленд.
Первые поселенцы еще не были привычны к дикарям. Они не понимали основного закона жизни дикаря: если человек причинил тебе зло, вина ложится на все племя, на каждого из племени в отдельности; мститель не утруждает себя розысками виновного — в ответе любой из рода. Когда белый убивал аборигена, племя, в соответствии с этим древним обычаем, убивало первого попавшегося белого. Однако белым такой порядок показался возмутительным. Смерть — вот что излечит этих животных! Не откладывая в долгий ящик, они стали убивать черных, — и убили хоть и не всех, но вполне достаточно, чтобы обезопасить собственные персоны. Начав на заре цивилизации, белые пользуются этой мерой предосторожности и по сей день. В «Очерках из жизни Австралии» миссис Кемпбелл Прэд, которая, будучи ребенком, жила в те далекие времена в Квинсленде, мы найдем поучительные картины, рисующие, как черные и белые старались исправить друг друга.
Описывая жизнь первых поселенцев на необъятных просторах Квинсленда, миссис Прэд говорит:
«Сперва туземцы уходили вглубь страны и не причиняли беспокойства белым, разве только изредка убьют дротиком чью-нибудь овцу. Но по мере того как число скваттеров увеличивалось и каждый забирал себе целые мили земли, располагая лишь двумя или тремя работниками, а лагери скотоводов и хижины пастухов находились далеко друг от друга, беззащитные среди враждебных племен чернокожих, — нападения участились и убийства стали обычным явлением.
Словами не описать, насколько пустынны австралийские дебри. Миля за милей тянется девственный лес, где, возможно, никогда не ступала нога белого человека, — бесконечные лесные массивы, где величественные эвкалипты устремляют вверх свои гордые стволы, простирая во все стороны неуклюжие ветви, из которых сочится красная камедь и свисает фантастическими гирляндами, похожими на пурпурные сталактиты; лощины, вдоль которых буйно растут высокие травы; голые равнины, перемежающиеся холмистыми пастбищами, там и сям перерезанными скалистым кряжем, глубоким оврагом или высохшим руслом ручья. Кругом дикость, простор, безлюдье, кругом все те же унылые серые краски, и только изредка мелькнет одетая золотым пухом акация, если она в цвету, или полоска скрёба, изумрудного, блестящего и непроходимого, как индийские джунгли.
Пустынность словно еще усугубляют голоса незнакомых птиц, жужжание насекомых, шипение змей и отсутствие крупного зверя, — днем услышишь разве только топот удирающего в испуге стада кенгуру да шелест травы, когда ее раздвинет сумчатая крыса или динго, пробираясь к себе в нору. Трещат кузнечики, гулко хохочет пересмешник, скрипят какаду и попугаи, шипят складчатые ящерицы, жужжат бесчисленные скопища насекомых в чаще молодой поросли. А ночью жалобное причитание каравайки, печальный вой динго и нестройное квакание древесных лягушек способны вконец расстроить нервы одинокого путника».
Такова сцена, на которой разыгрывались трагедии. Нетрудно представить себе, сколь соблазнительна была обстановка, как благоприятствовала она преступлению! А ведь были еще и другие причины. В этой глубокой глуши лагери скотоводов были разбросаны на расстоянии многих миль один от другого, и в каждом не более пяти-шести человек. У них была уйма скота, а чернокожие туземцы постоянно недоедали. Земля принадлежала им. Белые не купили землю, да и не могли купить — ведь у этих племен не было вождей, не было никого, кто был бы правомочен ее продавать или обменивать; к тому же туземцам и в голову не приходило, что владение землей можно кому-нибудь уступить. Белые захватчики презирали изгнанных ими владельцев и ничуть этого но скрывали. Это ли не идеальные условия для трагедии! Предоставляем слово миссис Прэд:
«Однажды темной ночью ничего не подозревавший хозяин хижины в лагере Ни-Ни, полагая, что находится в полной безопасности, крепко спал, завернувшись в одеяло. Черные бесшумно спустились по трубе и пробили спящему череп».
Этих нескольких строк достаточно, чтобы представить себе всю драму. Занавес поднят. Он не опустится до тех пор, пока какая-нибудь из сторон не возьмет верх, и навсегда.
«Обе стороны отличались вероломством. Черные при каждом удобном случае убивали белых, а белые пачками истребляли черных, не брезгая способами, против которых восставало мое детское чувство справедливости... На чернокожих смотрели почти как на животных, и бывало, что их уничтожали, как паразитов.
Однажды произошел такой случай. Скваттер подозревал, что черные, расположившиеся вокруг его лагеря, враждебны к нему, и опасался их нападения. Стоя на пороге своего дома, он обратился к ним с речью. Он сказал, что сейчас рождество — праздник для всех людей, белых и черных, что у него в кладовой есть мука, засахаренные сливы и всякие другие вкусные вещи, и он приготовит пудинг, какого они и в глаза не видали, — громадный пудинг, чтобы все наелись досыта. Черные соблазнились — на свою погибель. Пудинг приготовили, и каждый получил свою долю. На следующее утро лагерь огласился криками и стонами: пудинг подсластили сахаром и мышьяком!»
Белый рассудил правильно, но способ он выбрал неправильный. Его суждение ничуть не отличалось от обычного суждения цивилизованного белого по отношению к дикарю, но, прибегнув к яду, он отступил от обычая. Правда, отступление было чисто техническое, а не по существу, но все-таки отступление, и тем самым он, на мой взгляд, сделал ошибку. Его способ был лучше, вернее и человечнее многих других способов убийства, освященных обычаем, — и все же это его не оправдывает. То есть не совсем оправдывает. Таких исключительных средств следует остерегаться, ибо они выделяются и привлекают чересчур большое внимание, чего вовсе не нужно. Они болезненно действуют на воображение иных людей и могут произвести впечатление бессмысленной жестокости, что бросает тень на добрую славу нашей цивилизации; любой же прежний, более суровый способ в силу привычки остался бы незамеченным, и его бы сочли безобидным. Во многих странах на дикарей надевают кандалы, морят их голодом до смерти, — но мы не придаем этому значения, ибо таков обычай; меж тем куда гуманнее было бы отравить их мышьяком. Во многих странах сжигают дикарей на костре, — но мы не придаем этому значения, ибо таков обычай; меж тем куда гуманнее было бы отравить их мышьяком. Есть страны, где на дикаря, его детей и мать его детей напускают собак, грозя ружьями, гонят по лесам и болотам, с единственной целью развлечься после завтрака, и вся округа оглашается веселым смехом, когда загнанные жертвы спотыкаются, неуклюже падают, отчаянно молят о сострадании, — но такой способ убийства не вызывает у нас возражений, ибо таков обычай; меж тем куда гуманнее было бы отравить их мышьяком. Во многих странах мы отобрали у дикаря землю, превратили его в раба, каждый день стегаем плетью, попираем его человеческое достоинство, заставляем мечтать о смерти как о единственном избавлении и принуждаем работать до тех пор, пока он не свалится замертво, — но мы и этому не придаем значения, ибо таков обычай; меж тем куда гуманнее было бы отравить его мышьяком. В Матабелеленде — и в наши дни! — мы, родс-бейтские миллионеры Южной Африки и лондонские герцоги, не отступаем от узаконенного обычая, и никто не придает этому значения, ибо мы привыкли к древним священным обычаям и желаем лишь одного: пусть никакие новые выдумки не привлекают к себе внимания и не нарушают покой нашей совести. Миссис Прэд сказала об отравителе: «Этот скваттер заслуживает того, чтобы имя его с ненавистью произносили потомки».
Мне очень жаль, что она так сказала. Лично я упрекнул бы его в одном — упрекнул бы сурово, но только в одном. Я упрекнул бы его в том, что он неосмотрительно ввел новшество и сознательно привлек внимание к нашей цивилизации. Этого делать не следовало. Его долг — долг каждого лояльного человека— охранять те наследие любыми доступными ему средствами; а самое лучшее для этого средство—отвлечь внимание чем нибудь другим. Скваттер рассудил дурно, в этом нет сомнения; но душа у него была добрая. Он чуть ли не единственный в истории пионер цивилизации, про которого можно сказать, что он поднялся выше кастовых предрассудков и унаследованных правил поведения и сделал попытку внести элемент сострадания в обхождение высшей расы с дикарем. Имя его забыто, — а жаль, ибо этот человек заслуживает того, чтобы его имя с почтением произносили потомки.
Вот выдержка из одного лондонского журнала:
«В целях ознакомления с методами, к которым прибегает Франция, распространяя блага цивилизации в своих отдаленных владениях, небесполезно обратиться к Новой Каледонии. Для привлечения вольных поселенцев в это место ссылки губернатор М. Фелье силой отнял у земледельцев-канаков их лучшие плантации, уплатив лишь ничтожное вознаграждение, невзирая на протест Генерального Совета острова. Таким образом, иммигранты, решившиеся пересечь океан, оказались владельцами тысяч кофейных, какаовых, банановых и хлебных деревьев, которые туземцы годами выращивали в поте лица, получив взамен несколько пятифранковых монет на выпивку в нумейских кабаках».
Что вы скажете о такой сделке? Это ли не разбой и насилие, преднамеренное убийство, медленная смерть от голода и от виски белого человека! Добрый друг дикаря, благородный друг дикаря, единственный великодушный и бескорыстный друг, какого знал дикарь, почему ты не был там со своим отравленным пудингом? Ты в одну ночь избавил бы их от страданий.
На свете множество нелепых и смешных вещей, в их числе уверенность белого человека, будто он не такой дикарь, как другие[24].
Глава XXII ВОЛШЕБСТВО АБОРИГЕНОВ
Нет ничего ненадежнее левой руки человека, — разве что дамские часики.
Новый календарь Простофили ВильсонаСразу видно, что миссис Прэд знает свое дело. Она умеет заставить читателя увидеть то, о чем она пишет. И не у нее одной такой дар. Австралия изобилует писателями, книги которых правдивое зеркало истории и жизни страны. Материал там необычайно богат как по количеству, так и по качеству, — и Маркус Кларк, Рольф Болдревуд, Гордон, Кендолл и другие[25], воспользовавшись им, создали яркую, блистательную литературу, достойную остаться в веках. Материал — ему конца края нет! Да что там, можно написать целое собрание сочинений об одних лишь аборигенах, настолько их характер и поведение отличаются многообразием,— многообразием не избитым, совсем для нас новым. Вам незачем добавлять колоритности: аборигены снабдят вас любой, какую бы вы ни пожелали; и в ней не будет вымысла или фальши, а подлинные, достоверные факты. В истории аборигенов, которая написана белыми и хранится в архивах, абориген — все что угодно, все, чем только может быть человек. В нем сосредоточены все мыслимые и немыслимые качества. Он трус, что подтверждается тысячей фактов. Он храбрец, что подтверждается тысячей фактов. Он вероломен просто беспредельно! Он предан, верен, искренен — архивы белых предоставят вам массу тому примеров, благородных, достойных уважения, трогательно прекрасных. Он убивает умирающего от голода незнакомца, который просит пищи и крова, — тому есть доказательства. Он сегодня приютит, накормит, отведет в безопасное место заблудившегося незнакомца, который стрелял в него вчера, — тому есть доказательства. Он силой овладеет своей сопротивляющейся невестой, завоюет ее расположение дубинкой, потом до конца дней своих будет преданно любить, — об этом есть свидетельства в архивах. Он подберет себе таким же манером другую жену, каждый день будет колотить ее ради забавы, а потом отдаст жизнь, защищая от какого-нибудь обидчика, — об этом есть свидетельства в архивах. Он сразится о сотней врагов, спасая своего ребенка,— и убьет другого своего ребенка, потому что семья и без того велика. Его нежный желудок принимает не всякую пищу белого человека,— меж тем он без ума от тухлой рыбы, жареной собаки, кота или крысы и с наслаждением съест родного дядю. Он животное общительное,— и тем не менее сворачивает за угол и прячется за свой щит, когда видит, что идет теща. Он, как дитя, боится привидений и прочих пустяков, опасных для его души, но страх перед физической болью — слабость, ему незнакомая. Он знает все крупные и немало мелких созвездий и дал им всем названия; у него есть своя азбука, посредством которой он может сообщить что угодно соседним и отдаленным племенам; его глаз верно схватывает форму и выражение, и он неплохо рисует; он разыщет беглеца по таким неуловимым следам, каких белый и не заметит, и с помощью методов, какие не в силах постичь самый изощренный ум белого; он изобрел метательное орудие, которое сама наука но в состоянии воспроизвести без образца — да вряд ли и с ним, — орудие, секрет которого семьдесят лет ставит в тупик белых математиков и разбивает все их теории; он владеет одному ему присущим даром совершать своим орудием чудеса, непостижимые для непосвященного белого человека и немыслимые даже для посвященного. В определенных пределах у этого дикаря самый светлый и живой ум из всех известных в истории или по преданиям, — и тем не менее это несчастное создание так и не сумело изобрести систему счета выше пяти или котелок, чтобы вскипятить себе воду. Он побил рекорд, как самый диковинный среди всех народов. В сущности, он мертв физически, — но некоторые его качества никогда не умрут в литературе. Мистер Филипп Чонси, правительственный чиновник Виктории, передал в архивы и свой доклад, где изложены его личные наблюдения над аборигенами; кой-какие из них я позволю себе вкратце привести. Он говорит, что острота зрения туземца и точность, с какой он улавливает направление приближающегося метательного снаряда, совершенно поразительны; ловкость и рассчитанность его движений, когда он уклоняется от этого снаряда, столь же поразительны. Мистер Чонси видел аборигена, служившего мишенью, — в него с расстояния десяти — пятнадцати ярдов игроки-профессионалы с силой бросали крикетные шары, — и в течение получаса он успешно увертывался от них или отбивал своим щитом. Любой такой шар мог убить его на месте, и «все же он с несравненным самообладанием доверялся своему проворству и остроте глаза».
Он пользовался обычным военным щитом туземцев, — мне или вам он не послужил бы защитой. Щит этот не шире печной трубы и длиной с мужскую руку от плеча до кисти. Наружная поверхность не плоская — от центра у нее скат к краям, наподобие носа лодки. Сложность защиты в том, что, когда крикетный шар бросают искусным «витком», он чуть ли не у самой мишени вдруг меняет направление и попадает в цель, хотя, казалось, летел выше или в сторону. Я бы не сумел целых полчаса отбиваться от подобных шаров, да и вообще бы, наверно, не сумел.
Мистер Чонси однажды видел, как «небольшого роста туземец» бросил крикетный шар на сто девятнадцать ярдов. Говорят, это на тринадцать ярдов выше официального рекорда Англии.
Все мы видали циркача, подпрыгнувшего с трамплина и на лету перекувыркнувшегося через восемь лошадей, стоявших бок о бок. Мистер Чонси видел, как абориген сделал подобное сальто через одиннадцать лошадей, и его уверяли, что иногда этот же туземец перекувыркивается через четырнадцать. Но вот еще более удивительный случай:
«Я видел как тот же человек прыгнул с места без помощи рук и нырнул головой в шляпу, стоявшую в перевернутом положении на голове другого человека, который сидел верхом на лошади, — причем всадник и лошадь были нормального роста. Туземец, с шляпой на голове, опустился по другую сторону лошади. Недостижимая высота прыжка, точность, с какой он был совершен, позволившая нырнуть головой в шляпу, превосходят все трюки подобного рода, какие мне довелось наблюдать».
Еще бы! Недавно на пароходе я видел, как молодой спортсмен из Оксфорда пробежал четыре шага, подпрыгнул вверх и боком перескочил через планку на высоте в пять с половиной футов; но без разбега он не сумел бы перепрыгнуть через планку на высоте хотя бы в четыре фута. Я знаю наверняка, ибо сам пробовал.
Теперь мне понятно, у кого учился своему искусству кенгуру.
Сэр Джордж Грэй н мистер Эйрс утверждают, что туземцы рыли колодцы в четырнадцать — пятнадцать футов глубиной и диаметром в два фута, — рыли в песке колодцы «совершенно круглые, абсолютно отвесные и замечательно выполненные».
Единственным инструментом им служили руки и ноги. Как туземцы ухитрялись выбрасывать песок из такой глубины? Как умудрялись нагибаться, чтобы его достать, если там было лишь два фута пространства? Как им удавалось укрепить эту песчаную трубу, чтобы она не осыпалась и не погребла их там? Чего не знаю, того не знаю. Но как бы то ни было, эти невероятные трюки они проделывали. Глотали они этот песок, что ли?
Мистер Чонси с восхищением говорит о терпении, ловкости, живом уме туземца-охотника, подстерегающего эму, кенгуру или иную дичь:
«Когда он пробирается через кустарник, его шаги легки, упруги, бесшумны; его зоркий глаз не пропустит ни малейшего следа на земле; перевернутый листок, сломанная ветка, травинка, примятая недавно пробежавшим зверьком, сразу же привлекут его внимание; словом, от его острого взгляда не укроется ничто, что могло бы пойти ему в пищу или предупредить об опасности, близкой или далекой, на земле или на деревьях. Ему достаточно беглого взгляда на ствол дерева, чуть оцарапанного поднявшимся или спустившимся опоссумом, чтобы определить: поднялся ли опоссум на дерево прошлой ночью, и спустился ли он обратно на землю».
Вот была бы находка для Фенимора Купера! Уж он бы по достоинству оцепил этих людей. Он не променял бы глупейшего из них на самого умного из своих могикан.
Все дикари вырезают изображении различных предметов на коре; однако они не очень-то похожи на оригинал, и обычно им недостает выразительности. Между тем рисунки аборигена-австралийца передавали характерные признаки зверей, сохраняя правильные пропорции; они получались живыми и выразительными. А его изображения белых людей и своих соплеменников были почти столь же хороши, как его рисунки прочих зверей. Он одевал белых людей по последней моде, что мужчин, что женщин. Как художник-самоучка он вряд ли имел себе равных среди дикарей.
Его место в искусстве — я имею в виду рисунок, а не живопись — не из последних, в самом широком смысле. Его искусство вообще нельзя считать искусством дикарей, а на две ступени выше него и на одну ступень выше самой низкой градации искусства цивилизованного. Точнее говоря, его место в искусстве — между Ботичелли и Дюморье. Это значит, что он рисовал не хуже, чем Дюморье, и лучше, чем Ботичелли. По настроению, экспозиции и выбору сюжета его рисунки напоминали обоих. Его «корробори»[26] австралийских дикарей перекликается с белгравскими бальными залами Дюморье, если не считать одежды и налета цивилизации; «Весна» Ботичелли — «корробори» еще более идеализированное, но в этой картине меньше одежды и больше цивилизации. Зато вполне достаточно добрых намерений, — вот это да!
Абориген умеет разводить огонь трением. Я тоже пробовал.
Все дикари с завидным мужеством переносят физическую боль. У аборигена-австралийца это качество развито особенно сильно. Нижеследующие ужасы приведены преподобным Генри Вулостоном из Мельбурна, который был хирургом, прежде чем стал священником. Слабонервным читать не рекомендуется.
«(1) Летом 1852 года я отправился верхом из Олбани, бухта Кит Джордж, и Кейп-Рич, и сопровождал меня пеший туземец. В первый день мы проделали около сорока миль и остановились на ночлег у колодца. Мы сварили и съели ужин; потом туземец сгреб в кучу горячую золу и на секунду сунул в эту тлеющую массу свою правую ногу; вытащив ее, он затопал по земле с гортанным протяжным криком, выражавшим боль и удовлетворение. Он проделал это несколько раз. Когда я спросил о причинах его странного поведения, он сказал только: «Лечу свою ногу», — и показал мне обугленный большой палец, ноготь с которого был сорван по дороге пнем чайного дерева, защемившим палец; он стоически терпел боль до вечера, пока ему не представилась возможность прижечь рану вышеописанным примитивным способом».
На следующий день он «как ни в чем не бывало» продолжал путешествие и прошел тридцать миль. Не забавно ли: иметь при себе врача и самому врачевать себя.
«(2) Однажды туземец, лет двадцати пяти, обратился ко мне как к доктору с просьбой - извлечь из его груди деревянное острие копья, которое месяца четыре назад, но время схватки с врагом, довольно глубоко проникло ему в тело, едва не задев сердце. Копье срезали, но острие осталось и постепенно двигалось все дальше в сторону спины. Исследуя молодого человека, я прощупал меж ребер под левой лопаткой твердый предмет. Я сделал глубокий разрез и с помощью щипцов извлек зубец, сделанный, как обычно, из твердого дерева, длиною в четыре дюйма и около дюйма толщиной. Он был гладкий и частично, так сказать, переварился, благодаря размачиванию, которому подвергался во время четырехмесячного путешествия по телу. Рана от копья давно зажила, оставив лишь небольшой рубец; после операции, — туземец перенес ее не дрогнув, — он, видимо, не ощущал боли. По правде говоря, если судить по его отменному здоровью, посторонний предмет в теле ничуть ему не мешал. Через несколько дней он чувствовал себя превосходно».
Но больше всего мне нравится случай 3. Всякий раз, когда я перечитываю это место, я словно сам переживаю все переживания пациента, каковы бы они ни были.
«(3) Однажды около бухты Кинг-Джордж ко мне явился одноногий туземец и попросил сделать ему деревянную ногу. Чтобы добраться до меня, ему пришлось с таким увечьем пройти чуть ли не сто миль.: Нога была отнята по самое колено, и при осмотре я обнаружил, что обрубок обуглился и оттуда дюйма на дна торчит обожженная кость. Кость я тут же отпилил, сделав по возможности приличную культю, покрыл ампутированный конец кости мышечной средой и, пока не зажила рана, несколько дней держал пациента под наблюдением. Туземец рассказал мне, что в схватке с другими чернокожими его ударили копьем в ногу, и копье застряло в кости под коленом. Видя, что дело плохо, он совершил над собой эту варварскую операцию, которая, по-видимому, не такая уж редкость среди этих людей. Он зажег костер и вырыл рядом яму такой длины, чтобы в ней поместилась нога, и такой глубины, чтобы раненое место находилось вровень с поверхностью земли. Потом он обложил ногу горящими угольями и подбавлял угли до тех пор, пока нога в прямом смысле слова не отгорела. Подобное прижигание исключало возможность кровотечения, а дня через два туземец е помощью длинной крепкой палки заковылял к проливу, хотя ему предстояло идти больше недели».
Но он оказался привередливым человеком. Деревянную ногу, которую ему сделал доктор, он вскоре выкинул, ибо «в ней не было чувствительности». Хотел, наверное, чтоб в ней была такая же чувствительность, как в той, которая отгорела.
Ну, хватит об аборигенах, хоть мне и жаль с ними расставаться. Они необыкновенно занятные существа. Вот уже четверть века как власти многих колоний держат тех, кто остался к живых, в комфортабельных лагерях, кормят их и заботятся о них. Если бы я это знал, когда был в Австралии, я бы не упустил случая повидать их, но я не знал. Я бы не поленился пройти пешком тридцать миль, только бы увидать хоть чучело аборигена.
У австралийцев есть свой диалект. Это само собой разумеется. Широкое разведение овец и крупного рогатого скота, своеобразная природа и своеобразные туземные животные — как люди, так и звери — не могли не породить местный диалект. У меня где-то хранятся записи всяких оборотов речи на этом диалекте, но сейчас я помню только несколько словечек и фраз. Однако и они достаточно выразительны. Обширные, безлюдные, бесплодные пустыни создали такие красноречивые сочетания слов, как: «ничья земля», «страна — конца края не видать», а также меткие словоупотребления: «она живет в стране конца края не видать», что означает: она старая дева. Неплохо и такое: «выгон для телок» — пансион для молодых девиц; «перепахать поле» — соответствует нашему разбойничьему термину «ограбить» дилижанс или поезд; «зеленый» — все равно что по нашему «новичок», новый поселенец. А бессмертное «Вот это да!». Мы должны его позаимствовать, «Вот это да!» Напечатанное, оно примерно соответствует вашему: «Вот так номер!» Но что способны передать бесстрастные буквы! Если «Вот это да!» произнести с истинно австралийским умилением и страстью, оно стоит шести наших по своему изяществу, прелести и колоритности. Наше выражение грубо, оно раздражает, его не скажешь в гостиной или в «выгоне для телок», меж тем «Вот это да!» там уместно; оно ласкает слух, если, конечно, умеючи его произнести. Я не раз видел это выражение напечатанным во время путешествия по Тихому океану, но оно меня не тронуло, не вызвало во мне симпатии. Ведь то была лишь мертвая оболочка, без души — недоставало интонации, одухотворенности, глубины чувства, красноречивости. Но когда я впервые услышал его из уст австралийца, оно меня воистину потрясло.
Глава XXIII САМАЯ НЕПЬЮЩАЯ СТРАНА В МИРЕ
Будь неопрятен в одежде, если тебе так уж хочется,
но душу держи в чистоте.
Новый календарь Простофили ВильсонаВ назначенный час мы покинули город Аделаиду и двинулись в Хоршем, колония Виктория. Насколько я помню, путешествие было долгим, но приятным. Хоршем расположен на земле, ровно», как стол, — одна из тех знаменитых мертвых равнин, которые австралийские книги так часто описывают: бесплодная, серая, спекшаяся, растрескавшаяся, печальная и мрачная в долгую изнуряющую засуху, но ярко-изумрудная, необозримый океан травы — через день после дождя. Это провинциальный, тихий, мирный, манящий городок с уютными домиками, палисадниками, массой цветов и аллей, окаймленных кустарниками.
Хоршем, 17 октября. — В гостинице. Погода божественная. Через дорогу, перед австралийским отделением Лондонского банка, растет красавец тополь. Он весь в листве, и каждый листок — совершенство. Весна старалась вовсю, не жалея сил, и я почти вижу, как он растет. Рядом с банком, чуть поодаль в саду — дерево с пушистой листвой, вздрагивающей при малейшем ветерке, взлетающей ввысь, словно брызги фонтана; ее пронизывают вспышки света — они резвятся и играют, как искорки в глубине опала; дерево красивейшее из красивых и полная противоположность тополю. На тополе ясно очерчен каждый лист — точная, строгая, трезвая фотография во всех ее деталях; второе дерево - картина импрессиониста, полная тонкого, изысканного очарования, но все детали растворились в дымке мягкой, неяркой прелести.
Мне пояснили, что это перечное дерево, ввезенное из Китая. У него шелковистый блеск, густой и нежный. Я видел несколько перечных деревьев, в листве которых прятались длинные красные гроздья ягод, похожие на смородину. Издали, при соответствующем освещении, они окрашивали дерево в розовый цвет, придавая ему новое очарование.
Милях в восьми от Хоршема есть сельскохозяйственное училище. Нас отвез туда его директор. Ехали мы в полдень, в открытом экипаже; было безветренно, в небе ни единого облачка; ослепительное солнце, температура + 92° в тени. В иных странах неторопливая полуторачасовая веда в открытом экипаже при такой погоде вконец измучила бы путешественника, но здесь все было иначе. Уж очень климат хорош. Жара совсем не ощущалась, собственно ее и не было; чистый, свежий воздух бодрил; если бы поездка длилась полдня, мы и тогда, наверное, ничуть не утомились бы, но перестали болтать, не устали, не пали бы духом. Конечно, секрет этого в необычайной сухости воздуха. На Хоршемской равнине 120° в тени перенести безусловно легче, чем 90° в Нью-Йорке.
Дорога пролегала по самой середине свободной полосы земли шириною около ста ярдов. Мне назвали ширину не в ярдах, а в мерных цепях, перчах и, кажется, фурлонгах. Я бы дорого дал, чтобы узнать точно, какая там ширина, но я не настаивал. В подобных случаях разумнее принимать сведения такими, какими вам их преподносят, сделать вид, что они вас вполне устраивают, что вы поражены, благодарны, и сказать «Вот это да!», ничем себя не выдав. Ширина была огромная. Я мог бы сказать вам точно — в цепях, перчах и фурлонгах, но какой в этом толк? Слова эти хорошо звучат, но смысл их столь же туманен и расплывчат, как разница между английской мерой веса для благородных металлов и мерой веса для всего прочего, кроме благородных металлов: никто в этом ничего не понимает. Если вы вздумаете купить лекарство и аптекарь спросит вас, как вам его взвесить — в граммах или золотниках, — лучше всего ответить «да» и переменить тему.
Мне сказали, что это широкое пространство сохранилось с той поры, когда здесь только начали разводить овец и рогатый скот. Людям приходилось перегонять стада с места на место и проделывать огромный путь, пока не попадалось свежее пастбище, где была вода, и это обширное пространство нарочно оставили неогражденным и поросшим травой, чтобы скот не погиб в пути.
По дороге нам встречались обычные австралийские птицы - красивые зеленые попугайчики, сороки и еще какие-то пернатые; была там и изящная птица со скромным оперением и названием из тех, что вечно забываются, — самая умная среди птиц, любому попугаю даст тридцать очков вперед и заговорит его до смерти. Никак не вспомню названия этой пичужки. Кажется, оно начинается на «м». Уж лучше бы начиналось на «д» или какую нибудь другую букву, которую мыслимо запомнить.
Сорок в полях и на заборах было великое множество. Это большая красивая птица с белоснежной грудкой, и к тому же певица, — у нее милый, глубокий и воркующий голосок. Когда-то она была скромна, даже застенчива, но лишилась этих качеств с тех пор, как узнала, что в Австралии она единственная певчая птица. Она талантлива, находчива, дерзка, но если вы ее приручите, она станет для вас незаменимым домашним животным, которое никогда не является на зов, всегда торчит возле вас, когда не нужно, и возводит непослушание в принцип. Ее не держат в клетке, и она слоняется по дому и саду, точно пересмешник.
Не знаю, может ли сорока научиться говорить, но она несомненно может научиться петь, и ее друзья утверждают, что воровству ее учить не надо — она и так умеет. В Мельбурне я как-то познакомился с ручной сорокой. Она несколько лет жила в доме у одной дамы и была уверена, что дом принадлежит ей. Хозяйка приручила сороку, а та, в свою очередь, приручила хозяйку. Она всегда оказывалась рядом, когда от нее хотели избавиться, всегда поступала по-своему, всегда изводила собаку и превратила жизнь кошки в сплошные муки и страдания. Она знала несколько песен и распевала и очень точно и ритмично; пела она в любое время, и в особенности тогда, когда хотелось тишины; потом сама себя вызывала на бис и повторяла арию; зато, когда ее просили спеть, она невозмутимо отправлялась на прогулку.
Долгое время считали, что фруктовые деревья не могут расти на спекшейся, безводной равнине вокруг Хоршема, но сельскохозяйственное училище рассеяло это мнение. Его обширные питомники выращивали абрикосы, апельсины, лимоны, миндаль, персики, вишню, сорок восемь пород яблонь — словом, всяческие плодовые деревья, и в изобилии. Деревья, по-видимому, не испытывала недостатка во влаге, у них был здоровый и цветущий вид.
Чтобы проверить, какие культуры здесь лучше прививаются и какой климат им больше подходит, проводятся опыты с различными почвами. Человек, по неведению пытающийся вырастить на своей ферме культуры, которым не подходит почва и климатические условия, может приехать сюда за советом из любого уголка Австралии; вернувшись домой, он ведет хозяйство по-новому, и земля его начинает родить и давать доход.
В училище было сорок учеников — несколько фермеров, решивших более основательно изучить свое дело; остальные — новички, главным образом молодые люди из городов. Я удивился тому, что сельскохозяйственное училище привлекает юношей, выросших в городе, но факт остается фактом. И ученики они способные, легко могла бы постигнуть науки более сложные, чем сельское хозяйство, к тому же они лишены унаследованной приверженности к устаревшим, неразумным методам, освященным вековой привычкой.
Три дня в неделю, с утра до вечера, ученики работают в поле, в питомниках, под навесами, где стригут овец, чтобы во всех подробностях изучить дело практически. Три остальных дня они слушают лекции и занимаются теорией. Их учат основам наук, полезных для сельского хозяйства, — химии, например. Мы видели, как второкурсники стригли овец. Делалось это не машиной, а вручную. Овцу хватали, швыряли на бок и крепко держали, чтобы она не вырвалась, а ученики быстро и ловко состригали с нее шерсть. Иной раз они выстригали и кусок мяса, но это делают все и обращают на это даже меньше внимания, чем сама овца. Плеснут на ранку «овечьего бальзама» и продолжают стричь.
Шерсть была невероятно густая. До стрижки овца напоминала дебелую женщину, вроде тех, что показывают в цирке; после стрижки она оказывалась похожей на деревянную скамью. Шерсть состригали до самой кожи — гладко и равномерно. Руно снимается одним куском, величиною с одеяло.
Над училищем развевался австралийский флаг — большое красное полотнище с беспорядочно разбросанными по нему звездами Южного Креста и английским флагом в левом верхнем углу.
Из Хоршема мы отправились поездом в Стоуэлл — город в той же колонии. Стоуэлл находится в краю золотых приисков. В сейфе банка хранился галлон золота, добытого с поверхности, — золотой песок, крупинки золота; роскошное, чистейшее золото, приятно пропускать его сквозь пальцы, но было бы еще приятнее, если бы оно прилипало к пальцам. Было там и два золотых слитка, тяжелые — не поднять; каждый стоит семь тысяч пятьсот долларов. Они из очень ценного кварцевого рудника, две трети которого принадлежат одной даме; она получает с этого рудника семьдесят пять тысяч долларов дохода ежемесячно. И ей удается сводить концы с концами.
В районе Стоуэлла добывают не только золото — там есть обширные виноградника и изготовляются превосходные вина. Виноградная плантация мистера Ирвинга — Большая Западная — считается образцовой. Ее продукция славится за границей. На этой плантации производят первосортное шампанское и отличный кларет, а её рейнвейн года два-три назад получил приз во Франции. Шампанское держат в подземных коридорах, высеченных в скале, чтобы в течение положенных трех лет вино хранилось при ровной температуре. Я видел в этих подвалах сто двадцать тысяч бутылок шампанского. В Виктории миллион жителей; говорят, они выпивают двадцать пять миллионов бутылок шампанского в год. Вот где самая непьющая страна в мире! Недавно правительство снизило пошлину на иностранные вина – один из подвохов протекционистской политики. Вкладываешь годы труда и кругленькую сумму в выгодное предприятие с твердой верой в существующие законы, но закон вдруг меняют, и оказывается, что собственное правительство тебя обворовало.
На обратном пути в Стоуэлл мы видели группу валунов под названием «Три сестры» —диковину, расположенную довольно странно, ибо она находится на возвышенности, снижающейся уступами, а над ней нет никакой горы, откуда эти валуны могли бы скатиться. Должно быть, остатки древних ледников. Солидные валуны. Один — большой, гладкий и пузатый, точно огромнейший воздушный шар. Дорога вела через лес высоких эвкалиптов, хилых, тощих и грустных. Она была сливочно-белого цвета — очевидно, какая-нибудь разновидность глины.
Время от времени нам встречались фуры с грузом, запряженные длинным двойным рядом волов. Эти фуры, как нам сказали, проходят путь миль в двести и успешно конкурируют с железной дорогой. Железные дороги — собственность правительства и содержатся государством.
Печальные эвкалипты, высящиеся над сухой белой глиной,- пример терпения и отрешенности. Это дерево способно обходиться без воды; тем не менее оно обожает влагу и впитывает ее с жадностью. Это очень разумное дерево, оно обнаруживает воду, скрытую на расстоянии пятидесяти футов, посылая на разведку длинные нежные корневые волоски. Они-то и находят воду и добудут ее даже сквозь цементную стенку шестидюймовой толщины. Однажды в Стоуэлле стало заметно уменьшаться количество воды в водопроводе, и в конце концов вода совсем иссякла. Стали искать причину. И что же оказалось? Цементная труба была засорена, вся забита корневыми отростками, тонкими, как волосы. Сперва никак не могли понять, каким образом эта масса волокон пробралась в водопровод; потом нашли почти невидимую глазом трещинку, через которую они проникли. Эвкалипт забрался в водопроводную трубу с расстояния в сорок футов и пил из нее воду.
Глава XXIV В БАЛЛАРАТЕ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК БЕЗУПРЕЧЕН
Образцовый английский язык теперь не называют «королевским». Собственность перешла в руки акционерного общества, и большая часть акций у американцев!
Новый календарь Простофили ВильсонаВ Австралии порой бывают такие редкостные сочетания облаков, каких нигде больше не увидишь. Подобная декорация, прелестно оформленная, сопутствовала нам до самого Балларата. Поэтому мы всю дорогу смотрели больше на небо, чем на землю. Одно время огромная полоса небесного свода была густо усеяна крошечными, ослепительно белыми облачками с зазубренными краями — одинаковой величины и формы и на одинаковом расстоянии одно от другого, а сквозь узкие щели между ними просвечивала дивная лазурь. Впечатление такое, будто по небу проносится ураган снежных хлопьев. Постепенно хлопья слились в бесконечные вереницы, разделенные тенистыми углублениями, и эти длинные атласные валы как бы плавно катились друг за дружкой, восхитительно изображая величественную поступь волнующегося моря. Но вот море застыло; вскоре оно раздробилось на бесчисленное множество высоких белых колонн, почти одинаковой величины, выстроившихся наподобие гигантской колоннады, уходящей вдаль, теряясь за горизонтом, словно мираж, явившийся из врат далёкого, иного мира.
Хороши окрестности Балларата. Очертания ландшафта, огромные зеленые просторы холмистых пастбищ, пересеченные радующими глаз живыми изгородями из дрока цвета старого и нового золота вперемежку, и чудесное озеро. Здесь надо остановиться, легонько встряхнуть читателя и не дать ему проехать мимо, не обратив внимания на озеро, на него необходимо обратить внимание, ибо в Австралии вы куда чаще увидите из окон вагона сухую землю, чем чудесное озеро. Опять +92° в тени, но мягкий, свежий воздух приятно бодрит. Идеальный климат.
Сорок пять лет тому назад там, где ныне стоит город Балларат, были безлюдные лесистые земли, тихие и прекрасные, как рай. Никто о них и не слыхивал. 27 августа 1851 года здесь обнаружили первое колоссальное месторождение золота в Австралии. Наткнувшиеся на него бродячие рудокопы в первый же день набрали два с половиною фунта золота, на сумму в шестьсот долларов. А несколько дней спустя это места превратилось в гудящий улей — здесь уже был город. Весть о находке разнеслась мгновенно — с быстротой молнии облетела весь земной шар. Вряд ли история знает город, который обрел бы мировую славу так быстро. Словно название Балларат вдруг вспыхнуло на небе огненными буквами и все прочитали его одновременно.
Менее крупные россыпи, обнаруженные за три месяца до этого в Новом Южном Уэльсе, к тому времени уже начали привлекать в Австралию иммигрантов; прежде люди вливались сюда ручейками, теперь они хлынули потоком. В течение одного месяца в Мельбурне высадилось сто тысяч человек, прибывших из Англии и других стран, и они наводнили рудники. За ними двинулись матросы с кораблей, которые доставили этих людей в Австралию; следом за ними — служащие государственных учреждений; потом повара, горничные, кучера, камердинеры и прочая домашняя прислуга; затем плотники, кузнецы, водопроводчики, маляры, репортеры, издатели, адвокаты и их клиенты, трактирщики, бродяги, шулеры и воры, проститутки, бакалейщики, пекари, мясники, врачи, аптекари, сиделки и полицейские; даже важные начальники бросили свои завидные должности и устремились в Австралию. Эта бурлящая лавина унеслась из Мельбурна, и город осиротел, по-воскресному затих; все остановилось, корабли лениво покачивались на якорях, прекратилась всякая жизнь, смолкли все звуки; стало гак тихо, что было слышно, когда тени облаков задевали друг дружку, скользя по пустынным улицам.
В лихорадочных поисках скрытых богатств травянистый, лесистый рай Балларата вспороли, разворотили, истерзали, распотрошили. Наземная разработка недр — ни с чем несравнимый способ убить всю прелесть, красоту и плодородие рая, сделать так, чтобы на него противно было смотреть.
Как наживались люди! Пришельцы успевали разбогатеть, пока разгружалось и вновь грузилось их судно, — и они навсегда возвращались на родину в той же каюте, в которой прибыли! Правда, не все. Лишь некоторые. Сорок пять лет спустя я сам видел тех, кто остался в Балларате, — тех, кто уцелел, кого пощадило время, смерть и страсть к приключениям. Когда-то они были молоды и веселы, теперь они угрюмые старики, ничто уже их больше не волнует. Они говорят о прошлом, живут им. Жизнь их — сновидение, воспоминания о былом.
Балларат был край «самородков». Таких, какие поставлял Балларат, не находили даже в Калифорнии. Собственно, в районе Балларата нашли самые большие самородки из всех известных истории. Два из них были весом в сто восемьдесят фунтов каждый и стоили вместе девяносто тысяч долларов. Их предлагали любому бедняку, при условии, что он взвалит их на спину и унесет. Вот какими щедрыми становятся люди, когда золота некуда девать.
Сперва Балларат был кипучим городом палаток. Некоторое время все были довольны и явно процветали. Потом начались неприятности. Правительство обрушило на золотоискателей налог, и к тому же самого ужасного свойства, ибо налог взимали не с того количества золота, которое золотоискатель добыл, а с того, каков мог бы добыть, если бы нашел. То был закон о лицензиях — лицензиях на право разрабатывать участок; и тот, кто не платил, не имел права начинать разработки.
Посмотрите, что получалось. Нет предприятия более рискованного, чем наземная разработка. Ваш участок может оказаться великолепным или никуда не годным. Он может озолотить вас в течение месяца, а бывает, целых полгода роешь, трудишься до седьмого пота, истратишь все, что имеешь, — лишь для того, чтобы узнать, что добыча не покрывает даже издержек, а затраченное время и тяжкий труд пропали даром. Было бы разумно, если бы правительство ежемесячно давало золотоискателю известную сумму вперед, чтобы он помогал развивать богатства страны, но ежемесячно брать авансом налоги — об этом в Америке и не помышляли. Там ни с участка, ни с добычи, малой или большой, налогов не брали.
Балларатские золотоискатели ходатайствовали, жаловались, протестовали и все напрасно: правительство стояло на своем и продолжало собирать налоги. Оно не останавливалось даже перед насильственными мерами, что в высшей степени возмущало свободных людей. Рокот надвигающейся бури слышался все отчетливее.
Вскоре она разразилась. На мой взгляд, происшедшее событие было самым замечательным в истории Австралазии. То была революция — пусть небольшая по размерам, но огромная по своему политическому значению; то была битва за свободу, борьба за принцип, протест против насилия и произвола. Повторилась история борьбы английских баронов против короля Иоанна, Хэмпдена и корабельных денег[27], Конкорда и Лексингтона[28]; начинались они все с малого, но привели к результатам большого политического значения, каждое сделало эпоху. Это был еще один пример того, как проигранная битва привела к победе. В историю была вписана еще одна почетная страница; народ это знает и гордится этим. Он хранит память о тех, кто пал у стен Эуреки, а Петеру Лалору, предводителю восстания, поставлен памятник.
Верхний слой балларатской земли был полон золота. Золотоискатели эту землю вскрыли, перерыли, распотрошили и выгребли из нее все сокровища. Потом начали глубокими шахтами спускаться вглубь в поисках каменистых русел древних рек и ручьев — и находили их. Идя по этим руслам, они их опустошали, посылая наверх, на поверхность, бадьи гравия, и намывали из него небывалые отстой золота. Самые крупные самородки, не считая тех двух гигантов, о которых я говорил выше, были найдены в старом русле реки на глубине в сто восемьдесят футов под землей.
Наконец дошла очередь до кварцевых жил. Их разработка — не для бедняков. Если вы вздумаете добывать и дробить кварц, запаситесь терпением, выдержкой и капиталами. Образовались крупные акционерные общества, и вот уже несколько десятилетий жилы успешно разрабатываются и приносят огромные доходы. С тех пор как в 1851 году было найдено золото, балларатские россыпи — учитывая все три вида разработок — увеличили мировой запас золота более чем на триста миллионов долларов; иными словами, этот едва заметный на географической карте уголок земного шара за сорок четыре года дал почти четверть всего количества золота, добытого в Калифорнии за сорок семь лет. В Калифорнии с 1848 по 1895 год включительно, по данным Монетного двора Соединенных Штатов Америки, было добыто золота на 1 265 217 217 долларов.
Один балларатский житель рассказал мне занятную штуку об этих недрах. Я считаю себя знатоком горного дела, однако ничего подобного никогда не слыхал. Главная золотоносная жила простирается на север и на юг, ибо так, как правило, ведет себя всякая богатая жила. В Балларате она пролегает в сланцах. Так вот, балларатский житель сказал, что на протяжении двадцати миль эту жилу мостами пересекает прямой черный прожилок угольной породы — прожилок в сланцах, не толще карандаша, — и где бы он ни пересек жилу, в стыке обязательно находят золото. Его называют «указатель». По обе стороны указателя, на расстоянии тридцати футов (и, разумеется, вглубь) проходит еще более тонкий прожилок — тонкий, как след карандаша, который так и называется — «след карандаша». Если вам попался «след карандаша», знайте, что в тридцати футах от него находится указатель; отмерьте расстояние, покопайте, найдите указатель и в том месте, где он пересечет жилу, ройте шахту; можете считать, что вы уже разбогатели. Удивительно, если это верно. А если нет, — все равно удивительно.
В Балларате всего сорок тысяч жителей; и тем не менее, раз это город австралийский, у него есть все неотъемлемые черты большого, вполне современного и просвещенного города. Иначе и быть не может. Мне бы пора перестать твердить об этом, но я не в силах удержаться, ибо всякий раз поражаюсь сызнова. Я опущу кое-какие подробности, скажу только, что там есть парк, раскинувшийся на трехстах двадцати шести акрах; ботанический сад — на восьмидесяти трех акрах, с великолепными дорогими газонами папоротниковых растений и необычайно красивыми, подчас ценными, скульптурами; есть там искусственный пруд на площади в шестьсот акров, и к нему двести легких гоночных лодок, небольшие парусники и маленькие паровые яхты.
Меня так и подмывает добавить еще кое-что о похвальных особенностях города, но я молчу — не потому, что это неправда или что я могу нескладно выразиться: нет, просто пусть об этом скажет другой человек, у которого к тому же больше оснований говорить, ибо он местный житель и все знает наверняка. Я подобрал отрывки из довольно пустой речи, произнесенной несколько лет тому назад мистером Уильямом Литт-лом, — он был в ту пору мэром Балларата:
«Как здесь, так и в других местностях Австралазии, наши граждане говорят на хорошем англосаксонском языке, свободном от американизмов, вульгаризмов и разнообразных диалектов нашей отчизны; он настолько чист, что его но постыдились бы Тренч или Латам[29]. Наша молодежь, выросшая в благодатном климате, по своему телосложению и миловидности не имеет равных на солнечном юге. Наши юноши ведут себя отменно, а наши девушки, прелестные, как Психеи, «не преступая границ скромности», расточают улыбки, восхитительные, как ноябрьские цветы».
Комплимент, заключенный в последней фразе, может показаться прохладным, но это только кажется. Там ноябрь — летний месяц. А комплимент мистера Литтла в адрес местного языка — вовсе не комплимент, а истинная правда. Язык там нисколько не засорен — это признано всеми. В Германской империи все культурные люди утверждают, что говорят на ганноверском немецком, а все культурные люди Австралазии утверждают, что говорят на балларатском английском. Даже в Англии культ балларатского языка распространился довольно широко; а теперь, когда к кому благоволят даже два крупных университета, уже недолго ждать, пока он войдет в обиход всех образованных людей Великобритании. Главное его достоинство и том, что он короче обычного английского, — я хочу сказать: он более компактен. Сперва вы с трудом понимаете, если говорят так быстро, как говорил вышеупомянутый оратор. Свою мысль я поясню примером. Когда он пришел ко мне и я придвинул ему стул, он поклонился и сказал:
— Вас.
Потом, когда мы зажигали сигары, он протянул мне спичку, и я сказал:
— Благодарю вас.
А он ответил:
— Ста.
Тут я понял. «Вас» — конец фразы «Благодарю вас». «Ста» — конец фразы «Не за что, пожалуйста». Мистер Литтл не придал выражения ни одной из них; напротив, он произнес эти фразы настолько бегло, что они едва прозвучали. Таков весь балларатский английский в целом, и потому он очень мягок и приятен. Все звуки лишаются жесткости в резкости, приобретают нежные оттенки; голос замирает и услаждает слух, подобно тихому шелесту листьев в лесу.
Глава XXV ЗАБАВНЫЙ МАРК-ТВЕНОВСКИЙ КЛУБ
«Классической» называется книга, котирую все хвалят и никто но читает.
Новый календарь Простофили ВильсонаСнова в поезде — едем в Бендиго.
Из дневника.
23 октября. — Встали в шесть, выехали в половине восьмого; вскоре прибыли в Кастльмайн — в свое время край богатых золотых россыпей; несколько часов ждали поезда; двинулись без двадцати четыре и через час прибыли в Бендиго. Моим попутчиком был католический священник, человек куда более достойный, чем я, — но он, кажется, об этом не догадывался, — человек возвышенных свойств души, ума и характера; милый человек. Он далеко пойдет. Когда-нибудь он станет епископом. Потом архиепископом. Потом кардиналом. И наконец, я надеюсь, архангелом. И тогда он вспомнит обо мне, если я скажу: «Помните нашу поездку из Балларата в Бендиго? Тогда вы были всего-навсего отцом С., а я нулем в сравнении с тем, кем стал теперь». Чтобы добраться от Балларата до Бендиго понадобилось девять часов. Мы выиграли бы семь, если б пошли пешком. Впрочем, нам было не к спеху.
Бендиго в свое время тоже поразил мир богатыми месторождениями золота. Теперь здесь ведутся грандиозные кварцевые разработки — дело, которое, мне кажется, больше любого другого учит терпению, требует выдержки и крепких нервов. Город полон высоких дымовых труб и всяческих подъемных приспособлений и похож на нефтяной город. Кстати о терпении: одна местная компания, например, не находя ни крупинки и не получая ни гроша дохода, бурила и искала золото на большой глубине изо дня в день в течение одиннадцати лет; а потом нашла, и все сразу разбогатели. Одиннадцатилетние работы обошлись в пятьдесят пять тысяч долларов, а первой находкой было зернышко золота величиной с булавочную головку. Его хранят за семью замками, как реликвию, и благоговейно показывают посетителям — «шапки долой!». Когда мне его показывали, я еще не знал всей истории.
Это золото. Присмотритесь хорошенько, возьмите лупу. Ну, сколько, по-вашему, оно стоит?
— Два цента, наверное, или, в ваших английских деньгах, четыре фартинга, — ответил я.
— Так вот, оно стоит одиннадцать тысяч фунтов.
— Вы шутите!
— Нисколько. Балларат и Бендиго дали миру три огромнейших слитка, а этот самый огромный из трех. Каждый из двух других стоит девять тысяч фунтов стерлингов; этот — тысчонки на две больше. Он невелик, смотреть не на что, но его с полным правом назвали «Адам». Этот самородок — Адам наших россыпей, а его потомство дошло до миллионов.
Возвращаюсь к разговору о терпении. Другой рудник разрабатывали семнадцать лет и истратили уйму денег, пока он начал окупаться. А был случай, когда пришлось запастись терпением на двадцать один год, пока рудник начал приносить доходы. В обоих случаях рудник не только вернул все издержки в течение года-двух, но и принес немалую прибыль.
Бендиго выкачал золота даже больше, чем Балларат. Оба вместе они дали золота на шестьсот пятьдесят миллионов долларов, — а ведь это половина всей добычи в Калифорнии.
Благодаря мистеру Неизвестному — не будем вдаваться в подробности, касающиеся его имени и фамилии, — благодаря главным образом мистеру Неизвестному мое пребывание в Бендиго оказалось интересным и на всю жизнь оставило приятные воспоминания. Он мне это сам растолковал. Он сказал, что только благодаря его влиянию городские власти пригласили меня в ратушу, где я слушал речи в мою честь и говорил ответные; благодари его влиянию меня возили по городу и развлекали, показывая достопримечательности; благодаря его влиянию меня пригласили на крупнейшие рудники; благодаря его влиянию меня повезли в больницу и позволили взглянуть на выздоравливающего китайца, который ночью, два месяца назад, подвергся нападению разбойников в своей одинокой хижине и получил сорок шесть ножевых ран, не считая того, что был скальпирован; благодаря его влиянию этот китаец — сплошные заплаты, пластыри и бинты — восседал на своей койке, когда я пришел в больницу, притворяясь, будто читает какую-то мою книгу; благодаря его влиянию прилагались усилия уговорить архиепископа католической церкви Бендиго пригласить меня на обед; благодаря его влиянию прилагались усилия уговорить епископа англиканской церкви Бендиго послать мне приглашение на ужин; благодаря его влиянию шеф всей пишущей братии повез меня в лесистые окрестности и показал с вершины Холма Одинокого Дерева самую величественную, самую дивную панораму долин и одетых лесами гор из всех виденных мною в Австралии. А когда мистер Неизвестный спросил меня, что в Бендиго произвело на меня самое сильное впечатление и я ответил, что самое сильное впечатление на меня произвели служение общественным интересам и вкус, с каким сто пять миль городских улиц украсили тенистыми деревьями, он сказал, что это было сделано благодаря его влиянию.
Впрочем, я выражаюсь не совсем точно. Он не говорил, что все, о чем я рассказывал, случилось благодаря его влиянию, — это было бы дурным тоном; он попросту навел меня на такую мысль, и притом столь ненавязчиво, что я уловил ее, сам того не заметив, — как летом в лугах мы невольно улавливаем тончайший аромат, струящийся в воздухе, — навел меня на эту мысль деликатно, без капли назойливости или самохвальства, — но, как бы то ни было, все-таки навел.
Мистер Неизвестный — ирландец; человек образованный, серьезный, любезен и учтив; холостяк, лет сорока пяти, а может, пятидесяти от роду. Он пришел ко мне в гостиницу, и именно там происходила наша беседа. Он сразу расположил меня к себе и добился этого без особых усилий, отчасти своими подкупающе приятными манерами, но главным образом поразительным знанием моих сочинений, как выявилось в разговоре. Он знал самые последние и вряд ли был бы осведомлен лучше, если бы сделал их изучение целью своей жизни. Он поднял меня в моих собственных глазах, и я никогда не был так доволен собой. Я убежден, что он был наделен большим чувством юмора, хотя он ни разу не рассмеялся, он даже ни разу не улыбнулся; больше того, юмор не заставил его хоть чуточку изменить выражение лица. Мистер Неизвестный был неизменно серьезен — ласково, задумчиво серьезен, — зато он беспрерывно смешил меня; это было мучительно и в то же время доставляло огромное удовольствие — ведь он цитировал мои сочинения.
Уходя, он обернулся и спросил:
— Вы меня не помните?
— Я? Нет, а разве мы с вами встречались?
— Нет, но мы переписывались.
— Переписывались?
— Да, много лет назад. Двенадцать или пятнадцать. Нет, даже больше. Но вы, конечно... — Он запнулся, потом спросил: — А замок Корриган вы помните?
— Н-нет... Такого названия я что-то не припоминаю.
Он с минутку постоял, держась за ручку двери, сделал шаг к выходу, но потом вернулся, сказал, что когда-то я интересовался замком Корриган, и спросил, не хочу ли я вечером поехать с ним к нему домой, чтобы поболтать об этом за стаканчиком горячего грога. Я был трезвенник, но обрадовался случаю сделать себе поблажку и согласился.
Около половины одиннадцатого мы вышли из зала, где я читал лекцию. Он привез меня в прелестно обставленную, уютнейшую гостиную, с хорошими картинами на стенах, индийскими и японскими безделушками на камине и на столиках и книгами повсюду — большей частью моими, что преисполнило меня гордостью. Яркое освещение, мягкие кресла, и под рукой все необходимое для грога и курения. Мы пили грог и курили. Наконец он протянул мне листок почтовой бумаги и спросил:
— Вы помните это?
— Еще бы, конечно помню!
Бумага была роскошного качества. Наверху — витая монограмма, оттиснутая, но тогдашней моде, металлической печаткой золотом, синим и красным; а под монограммой четкими готическими прописными буквами синего цвета выведено следующее:
Марк-Твеновский клуб
Замок Корриган
………………187
— Господи, как это к вам попало?! — воскликнул я.
— Я был президентом клуба.
— Не может быть! Вы...
— Да, я был первым президентом. Меня ежегодно переизбирали, пока заседания происходили в моем замке Корриган, в течение пяти лет.
Потом он показал мне альбом с двадцатью тремя моими фотографиями. Пять были давнишние, остальные — разных лет; коллекцию завершил снимок, сделанный Фолком в Сиднее, месяц назад.
— Вы нам прислали первые пять, остальные куплены.
Я чувствовал себя, как в раю. Мы сидели до поздней ночи и все говорили и говорили, и все на тему о Марк-Твеновском клубе в замке Корриган в Ирландии.
Я узнал об этом клубе давным-давно, лет двадцать назад, не меньше. Узнал я о нем из учтивого письма, написанного на вышеупомянутой почтовой бумаге и подписанного: «По поручению президента, С. Пемброук, секретарь». В нем сообщалось, что в мою честь учрежден клуб и члены его надеются, что я одобрю этот знак признания моего творчества.
Я ответил, поблагодарив за честь, и с трудом сдержался, чтобы не перелить свою благодарность через край.
Тогда и началась эта длительная переписка. Пришло новое письмо, доставившее мне, по поручению президента, список членов клуба — тридцать два. Я получил также копии устава и протоколы в форме брошюр, художественно отпечатанные. Все было предусмотрено: вступительный взнос и членские взносы, а также план заседаний — ежемесячно, для чтения рефератов о моих книгах и их обсуждения; раз в три месяца деловое заседание и ужин, без рефератов, но с застольными речами после ужина; был также приложен список возглавляющих лиц: президент, вице-президент, секретарь, казначей и другие. Письмо было кратким, но доставило мне удовольствие, ибо в нем говорилось о том глубоком интересе, какой проявляют члены клуба к своему новому начинанию, и так далее и тому подобное. В заключение меня просили сняться и прислать им фотографию. Я пошел к фотографу, снялся и послал им карточку, — разумеется, с ответным письмом,
Вскоре я получил значок клуба — очень изящную и красивую вещичку, очень художественную: лягушка из эмали, на золотом основании с золотой булавкой, выглядывала из-за прелестно перепутанных травинок и стебельков камыша. Я ее гладил, разглядывал, забавлялся и развлекался ею часа два подряд; потом свет случайно упал на нее под другим углом, и мне открылась новая хитроумная деталь: при определенном освещении какие-то нежные тени травинок и камышовых стебельков сплетались в монограмму — мою монограмму! Теперь вы сами понимаете, что эта драгоценность была настоящим произведением искусства. А если подумать, как дорого она должна была обойтись, то станет ясно, что далеко не всякий литературный клуб может позволить себе подобный значок. По мнению Маркуса и Норда из Нью-Йорка, она стоила никак не менее семидесяти пяти долларов. Они не согласились бы сделать копию за эту цену, потому что ничего не заработали бы.
К этому времени клуб был уже на полном ходу, и с той поры его секретарь не забывал заполнять каждый час моего досуга. Он подробно и добросовестно сообщали мне о клубных прениях по поводу моих книг и делал это с воодушевлением и знанием дела. Обычно он конспектировал заседания; однако особо блестящие речи он полностью стенографировал, потом лучшие места из них выписывал и посылал мне. Больше всего он благоволил к пяти ораторам: Палмеру, Форбсу, Нейлору. Норрису и Колдеру. Палмер и Форбс в своих речах никак не могли удержаться от нападок друг на друга — оба с непревзойденной страстью, но каждый на собственный манер: Палмер при помощи красноречивой энергичной брани, а Форбс — изысканной, учтивой, но едкой сатиры. Я всегда угадывал, чью речь читаю, прежде чем видел подпись. У Нейлора был отточенный стиль и счастливый дар находить меткие сравнения и образы; стиль Норриса не блистал завитушками, зато отличался завидным лаконизмом, прозрачностью и строгостью. Однако настоящим перлом был Колдер. Он никогда не говорил, будучи трезвым; зато, когда не был трезв, говорил безостановочно, и, разумеется, его речи были самыми пьяными из всех, когда-либо произнесенных человеком. В них было множество разумных мыслей, но притом столько невообразимой путаницы и бреда, что у вас закружилась бы голова, если бы вы попытались что-нибудь понять. Оратор не имел намерения смешить, однако не смеяться было невозможно, ибо он со всей серьезностью плел невероятные нелепицы. За пять лет я изучил стиль всех пяти ораторов не хуже, чем стиль ораторов своего собственного клуба.
Доклады посылались мне каждый месяц. Они были написаны на бумаге обычного формата, по шестьсот слов на странице, в каждом почти всегда двадцать пять страниц, — добрых пятнадцать тысяч слов; собственно говоря, солидный труд целой недели. Хоть они и были длинноваты, я считал их захватывающе интересными, но, к моему несчастью, доклады никогда не приходили сами по себе. К ним всегда прилагался целый лист вопросов насчет смысла отдельных мест и выражений в моих книгах, и на все вопросы клуб желал получить ответы; кроме того, раз в три месяца мне присылали доклад казначея, доклад редактора, доклад комитета и отчет президента, — и о каждом из них всегда было желательно знать мое мнение; кроме того, клуб ждал от меня советов, если бы мне пришло на ум что-либо полезное.
С течением времени я начал страшиться этих посланий, и мой страх все рос и рос, и в конце концов я стал обливаться холодным потом при одной мысли о клубе. По натуре я лентяй и не люблю писать писем, а ведь всякий раз, когда я получал эти послания, мне приходилось — для собственного спокойствия — все бросать и шевелить мозгами, снова и снова ломать себе голову, пока не подвернется что-нибудь подходящее для ответа. Первый год я справлялся недурно, но в последующие четыре года Марк-Твеновский клуб замка Корриган стал для меня проклятием, кошмаром, нестерпимой мукой всей моей жизни. И мне так ужасно, таи бесконечно надоело делать умное лицо для фотографии! Ежегодно к течение пяти лет я позировал фотографам, чтобы удовлетворять этот ненасытный клуб. В конце концов я взбунтовался. У меня больше не было сил выносить этот гнет. Я собрался с духом, разорвал цепи и снова стал свободным, счастливым человеком. С этого дня я сжигал толстые конверты секретаря в ту самую минуту, как их доставляла почта; он посылал их все реже, а потом и вовсе перестал.
В общем, той ночью в Бендиго, дружески сблизившей меня с мистером Неизвестным, я во всем чистосердечно ему покаялся. Тогда мистер Неизвестный, под влиянием тех же чувств, сперва кротко извинившись, заявил, что он был Марк-Твеновским клубом и единственным когда-либо существовавшим его членом!
Мне бы следовало рассердиться, но я нисколько не сердился. Он сказал, что ему никогда не приходилось зарабатывать себе на хлеб, и к тридцати годам жизнь ему опостылела. Он утратил интерес ко всему, жизнь постепенно теряла для него всякий смысл, и он был близок к отчаянию. Он уже начал было помышлять о самоубийстве, как вдруг в голову ему пришла счастливая мысль учредить воображаемый клуб, и, не теряя ни минуты, он взялся за работу с увлечением и любовью, Идея пленила его, у него появилось дело. Дело спорилось и стало раз в двадцать сложнее и объемистее, чем он полагал сначала. И всякий раз, когда у него возникала новая мысль и он расширял свой первоначальный план, интерес его разгорался и доставлял ему новое наслаждение. Он сам набросал эскиз значка и работал над ним, видоизменяя и совершенствуя его, немало дней и ночей; потом послал в Лондон и заказал значок. Заказал один-единственный: только для меня; «остальные члены клуба» обошлись без него.
Он выдумал всех других членов клуба и их имена. Выдумал пять полюбившихся ему ораторов и для каждого— свой стиль. Он выдумывал им речи и сам мне о них докладывал. По его словам, клуб существовал бы и поныне, если бы и но сбежал. Он сказал, что работал над этими докладами в поте лица, каждый стоил ему недели или двух недель тяжкого труда, — но труд радовал его, поддерживал в нем жизнь и интерес к жизни. Гибель клуба была для него жестоким ударом.
Наконец, никакого замка Корриган в Ирландии не существовало. Он и это выдумал.
Разве не чудесная затея? И разве это не самая остроумная, веселая, старательно продуманная шутка, какую только можно вообразить? Мне она понравилась: я с удовольствием слушал рассказ о ней, хоть и терпеть не могу таких шуток с тех пор как себя помню. Под конец он сказал:
— Помните письмо, которое вы получили из Мельбурна лет четырнадцать или пятнадцать назад, насчет ваших лекции и Австралии, вашей смерти и погребения в Мельбурне? Записку от Генри Баскома из Баском-Холла, в Аппер-Холлиуэлле, Хентсе?
— Конечно.
— Ее написал я.
— Вот это да!
— Да, это сделал я. Сам не знаю почему. Просто взбрело на ум, и я написал, не дав себе труда подумать. Это было нехорошо. И могло вам повредить.
Я всегда потом раскаивался. Простите меня. Я был гостем на яхте мистера Баскома, когда он совершал кругосветное путешествие. Он часто говорил о вас и рассказывал, как интересно вы проводили вместе время в его доме; и эта мысль пришла мне на ум еще в Мельбурне, я подделал почерк мистера Баскома и написал это письмо.
Так, спустя много, много лет раскрылась и эта загадка.
Глава XXVI ЧТО ТАКОЕ НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Есть люди, которые способны на любой благородный и героический поступок, но не могут устоять перед соблазном рассказать несчастному о своем счастье.
Новый календарь Простофили ВильсонаПобывав в Мериборо и некоторых других австралийских городах, мы отправились в Новую Зеландию, Если бы это не казалось бахвальством, я сказал бы читателю, где находится Новая Зеландия, ибо читатель, так же как и я прежде, думает, что все знает сам. Он думает, что знает, где находится Герцеговина, и как надо произносить слово пария, и как применять слово уникальный, не осрамившись перед словарем. Но на самом деле он ничего этого не знает. Только четыре или пять человек в целом мире обладают такими знаниями, и для них это источник заработка. Они переезжают с места на место, являются на сборища литераторов, в географические общества, клубы ученых и сразу же держат пари, что люди, там собравшиеся, вышеупомянутых вещей не знают. Но поскольку все уверены, что им это доподлинно известно, то авантюристы легко поддевают их на удочку. Вернее, легко поддевали на удочку прежде, пока три месяца назад в это дело не вмешался закон и нью-йоркский суд не признал подобную игру противозаконной, «ибо она противоречит пункту 9 статьи IV Конституции Соединенных Штатов, запрещающей держать пари о чем-либо заведомо известном». Решение было принято при полном составе Нью-Йоркского Верховного суда, после того как прокурор неожиданно провел опыт, показавший, что ни один из девяти судей не может ответить ни на один из этих четырех вопросов.
Все думают, что Новая Зеландия находится около Австралии, или Азии, или где-то там поблизости и что добираются туда через мост. Однако это вовсе не так. Она лежит не около какого-нибудь материка, а просто в океане, сама по себе. Ближе всего она к Австралии, — но тоже не так уж близко. Расстояние между ними порядочное. Читатель будет удивлен, как удивился и я, узнав, что от Австралии до Новой Зеландии добрых тысяча двести, если не тысяча триста, миль и что моста там никакого нет. Мне сказал это М., профессор Йельского университета; я встретил его на пароходе на Великих Озерах, когда пересекал материк, отправляясь в путешествие через Тихий океан. Чтобы завязать разговор, я спросил его о Новой Зеландии. Я думал, что он просто скажет какую-нибудь общую фразу и переменит тему на более знакомую для себя, и цель моя будет достигнута: лед тронется, мы познакомимся, завяжется беседа, и мы приятно проведем время. Однако, к моему удивлению, вопрос не только не смутил его, а, напротив, доставил удовольствие, и профессор заметно оживился. Он заговорил плавно, уверенно, а я слушал, все более и более восхищаясь, ибо, по мере того как он развивал тему, я убеждался, что он не только знает, где лежит Новая Зеландия, во ому также досконально известны все подробности ее истории, политические убеждения и религиозные верования жителей, внешняя и внутренняя торговля, фауна и флора, геология, что страна производит и какие у нее климатические особенности. Когда он окончил, я был вне себя от восторга и изумления! Этот человек знает все на свете, сказал я себе, он король в царстве человеческих познаний!
Мне захотелось, чтоб он сотворил еще какое-нибудь чудо, и я, предвкушая удовольствие услышать его ответ, спросил о Герцеговине, парии и уникуме. Но тут он сказал общую фразу, и я увидел, что ему мучительно неловко. Когда разговор отошел от Новой Зеландии, он оказался Самсоном с остриженными волосами, — он был таким, как все смертные. Что за удивительная, необычайная загадка? И я, не скрывая любопытства, попросил его объяснить, в чем тут дело.
Сперва он хотел увернуться, потом засмеялся и сказал, что дело это не стоит того, чтобы окутывать его тайной, и он раскроет мне секрет. Вот что он мне рассказал:
— Прошлой осенью, когда я работал утром у себя дома, мне принесли визитную карточку — карточку иностранца. Под фамилией было напечатано, что посетитель — профессор богословия Новозеландского университета в Веллингтоне. Меня это очень обеспокоило, — обеспокоило потому, что я не был предупрежден о его приезде. По обычаю нашего университета, кто-нибудь из профессоров факультета должен был тут же пригласить гостя к обеду в тот же день, — приглашение нельзя было перенести даже на завтра. Я не знал, как быть. По обычаю университета, когда присутствовал гость иностранец, застольную беседу следовало начать с лестных высказываний в адрес его родины, великих его соотечественников и их заслуг перед цивилизацией, научных учреждений и прочих вещей в этом роде. Само собой разумеется, что в ответе за все — хозяин, ему полагается самому начать беседу или позаботиться, чтобы это сделал кто-нибудь другой. Я был в большом затруднении, и чем больше рылся в памяти, тем в большее приходил в отчаяние. Я обнаружил, что ничего о Новой Зеландии не знаю. Я полагал, что знаю, где она находится, но на этом мои сведения о ней кончались. Мне казалось, что Новая Зеландия около Австралии, или Азии, или где-то там поблизости и что добираются туда через мост. Но, возможно, мои познания окажутся неточными, а если и точными, то этого мало — на таком обеде полагается говорить еще о многих других вещах, — и я выставил бы университет на посмешище перед гостем, он увидел бы, что я — профессор первого университета Америки — полный невежда во всем, что касается Новой Зеландии, и, уйдя, он будет всем рассказывать об этом и смеяться надо мной. От такой мысли кровь ударила мне в голову.
Я позвал жену, объяснил ей создавшееся положение и попросил мне помочь; и она придумала выход, до которого я бы додумался, наверное, и сам, не будь я так взволнован и обеспокоен. Она предложила принять гостя вместо меня: скажет, что меня нет дома, но что я скоро вернусь, и будет занимать его разговором, а я тем временем выйду через черный ход, сбегаю к профессору Лоусону и уговорю его устроить обед у себя. Лоусон знает все на свете, уж он-то сумеет достойно принять гостя, не посрамив чести университета. Я побежал к Лоусону, но меня постигло разочарование: о Новой Зеландии он ничего не знал. Он сказал, что, если память ему не изменяет, она находится около Австралии, или Азии, или где-то там поблизости и добираться туда надо через мост; этим его сведения исчерпывались. Такого удара я никак не ожидал. Лоусон был поистине ходячей энциклопедией редкостных знаний, а в час испытания оказалось, что он ничего путного не знает.
Что было делать? Он понимал, что честь университета поставлена на карту; он ходил по комнате взволнованный, сам с собой разговаривая, изо всех сил стараясь найти выход из затруднения. В конце концов он решил, что нам следует опросить остальных профессоров факультета — должен же кто-нибудь знать что-либо о Новой Зеландии, Мы позвонили по телефону профессору астрономии и спросили его, но он знал только то, что Полая Зеландия находится около Австралии, или Азии, или где-то там поблизости и добираются туда…
Мы дали отбой и позвонили профессору биологии, но он знал только, что Новая Зеландия находится около Авст...
Мы дали отбой и, унылые и озабоченные, сели думать, что делать дальше. Вскоре мы набрели на план, показавшийся нам вполне приемлемым; мы одобрили его и тут же пустили в ход. Вот что мы придумали. Обед дает Лоусон. Факультет извещают по телефону, чтобы готовился. Мы все должны прилежно трудиться и через восемь часов прийти к обеду осведомленными насчет Новой Зеландии, — ну, хотя бы настолько, чтоб не пришлось краснеть перед ее коренным жителем. Чтобы произвести впечатление людей вполне образованных, нам необходимо было знать, кто населяет Новую Зеландию, какая там форма правления, что она производит и чем торгует, налоги, древнюю и новую историю, политические убеждения и вероисповедание жителей, кодекс законов, размер доходов, откуда они поступают, методы сбора налогов и процент недоимок, климатические условия и еще целую кучу подобных вещей; словом — необходимо было впитать в себя все, что есть в энциклопедиях и географических картах. А пока мы будем накачиваться знаниями, факультетские жены должны как бы случайно приходить одна за другой и помогать моей жене занимать новозеландца и не выпускать его, чтобы он не помешал нашей зубрежке. План удался как нельзя лучше, но из-за него остановились дела, остановилось решительно все.
Этот Великий Пустой День занесен в официальный журнал Йельского университета — пусть грядущие поколения читают и дивятся, — незабываемый Пустой День, день, когда остановилось колесо культуры, повсюду царила воскресная тишина и весь университет замер, пока факультет готовился и набирался знаний с единственной целью — сесть за обеденный стол, не испытывая стыда перед профессором богословия из Новой Зеландии.
Настал час, и мы собрались к обеду, измученные, но эрудированные. Я заявляю это с полным правом.
Собственно, эрудиция — слишком слабое слово. Новая Зеландии была единственной темой разговора, и было истинным наслаждением слушать, как он струился. И с какой неподражаемой свободой и как ненавязчиво блистали мы знанием всяких подробностей, безукоризненно владея предметом! А какая легкость и непринужденность разговора!
Потом кто-то вдруг заметил, что у гостя ошеломленный вид и он даже рта не открывает. Ну, конечно, его втянули в беседу. И тогда этот человек рассыпался в комплиментах, хороших, искренних, красноречивых, заставивших факультет покраснеть. Он сказал, что недостоин находиться в обществе таких людей, как мы, что восхищение сковало ему язык; но что молчал он еще и по другой причине — молчал потому, что ему было стыдно, стыдно за свое невежество! «Ибо я, — сказал он, — проживший в Новой Зеландии восемнадцать лет, из коих пять являюсь профессором, и обязанный иметь обширные знания о стране, теперь понял, что почти ничего о ней не знаю. Мне стыдно сознаться, но за два часа, которые я провел за этим столом, я узнал в пятьдесят — нет, в сто раз больше о Новой Зеландии, чем за все восемнадцать лет моего пребывания там. Я молчал, потому что мне нечего было сказать. Мои сведения о налогах, политике, законах, доходах, промышленности, истории и о всей прочей массе вещей были лишь общие и расплывчатые, — словом, не научные, и с моей стороны было бы безумием выступить с ними здесь, на ослепительном фоне ваших поразительно точных и всеобъемлющих знаний этих вопросов, джентльмены. Прошу вас, позвольте мне сидеть молча, как мне подобает. Только, пожалуйста, не меняйте тему, ибо сейчас я способен хотя бы следить за беседой, а если вы изберете тему, где ваша колоссальная эрудиция проявится с полной силой, то я совсем пропаду. Если вы так много знаете о таком отдаленном ничтожном клочке земли, как Новая Зеландия, можете ли вы не знать хоть что-нибудь о любом другом предмете!»
Глава XXVII РОБИНСОН МИРОТВОРЕЦ
Человек — единственное животное, способное краснеть.
Впрочем, только ему и приходится.
Новый календарь Простофили Вильсона
Наше самое ценное достояние — братство всех людей;
вернее — то, что от него осталось.
Новый календарь Простофили ВильсонаИз дневника.
1 ноября, полдень. — Чудесный день, яркое солнце. На солнце тепло, в тени холодно — с юга дует ледяной ветер. На север торжественно катится бесконечная волна. Она идет с Южного полюса, и нет на ее пути преград, нет ничего, что умерило бы ее решимость. Я читал в какой то книге, что наблюдательный первооткрыватель — не то Кук, не то Тасман — счел эту величественную волну убедительным доказательством того, что к югу значительного материка не найти, и, не теряя времени на бесплодные поиски в этом направлении, изменил курс и поплыл открывать новые земля куда-то в другое место.
Днем. — Плывем между Тасманией (прежде называлась Земля Ван-Дьемена) и соседними с ней островами — томи самыми, откуда несчастные изгнанники, тасманские дикари, глядели на свою утраченную родину и плакали, и умирали от тоски. Как я рад, что все — или почти все — эти туземные народы вымерли и их больше нет на свете. В иных местах Австралии расправа была жестокой, зато милосердно быстрой. Что касается Тасмании, то там истребили всех поголовно, не осталось ни одного коренного жителя. Борьба велась годами, десятками лет. Белые и черные охотились друг за другом, выслеживали друг друга из засады и убивали. Черных было немного. Но они были бдительны, осторожны, хитры и прекрасно знали свою страну. Они долго держались, хоть их была всего небольшая кучка, и успели вырезать порядочно белых.
Правительство стремилось по возможности уберечь черных от поголовного истребления. С этой целью придумали такой план: всех переловить, согнать на соседний остров и держать там под стражей. Идти на охоту вызвались толпы белых, так как за это хорошо платили — пять фунтов за каждого пойманного и доставленного черного; однако толку они почти не добились. Черный не носил одежды, тело его было смазано жиром: не так-то просто его схватить и удержать. Вооруженные белые группами рыскали по стране, нежданно-негаданно нападали на небольшие семьи туземцев и кое-кого ловили; но вскоре возникли подозрения, что на каждого пойманного приходилось полдюжины убитых, а ведь правительство хотело не этого.
Другой план сводился к тому, чтобы загнать всех туземцев на край острова и оцепить кордоном белых, отрезав им таким образом путь к бегству; но туземцы то и дело умудрялись проскользнуть через кордон, и убийства и поджоги продолжались.
Губернатор предупредил этих невежественных дикарей печатным объявлением, чтобы они не смели покидать пустынную местность, официально для них отведенную. Объявление помогло как мертвому припарки — дикари не умели читать! Тогда выпустили объявление в рисунках: нарисовали картинки на досках и приколотили их к деревьям в лесу. Оно означало примерно следующее:
1) Губернатор желает, чтобы белые и черные любили друг друга.
2) Губернатор любит своих чернокожих подданных.
3) Если черный убьет белого, он будет повешен.
4) Если белый убьет черного, он будет повешен.
На осуществление своих планов правительство израсходовало тридцать тысяч фунтов и долгое время эксплуатировало руки и мозг нескольких тысяч белых — и все зря. Прошло четверть века, и только тогда наконец нашли нужного человека. Впрочем, он нашелся сам. То был Георг Огастес Робинсон, известный в истории под прозвищем «Миротворец». Человек он был необразованный, ничем не выдающийся, — простой рабочий-каменщик из Хобарта. И все же он, наверное, был любопытной фигурой. Чтобы поглядеть на такого, стоило съездить хоть на край света. Возможно, его двойник имеется в истории, но я не знаю, в какой эпохе его искать,
Робинсон поставил перед собой неслыханную задачу: он хотел пойти в глубь страны, в джунгли и горные ущелья, где прятались преследуемые по пятам, но непримиримые дикари; хотел явиться к ним безоружным, говорить с ними на языке дружбы и любви, убедить их покинуть свои дома, дикую привольную жизнь, которой они так дорожили, и последовать за ним — отдать себя в руки ненавистным белым, чтобы жить под их охраной и опекой, их милостями до конца дней своих! Ясно, что все это показалось мечтой безумца!
План Робинсона сперва язвительно окрестили «леденцовой теорией». Что и говорить, беспримерная затея просто ошеломляла, но ведь и само положение было беспримерным. Вот как обстояло дело. В 1831 году белых насчитывалось сорок тысяч. Черных — триста человек. Не триста воинов, а триста мужчин, женщин и детей. Белые были вооружены ружьями, черные — копьями и дубинками. Белые четверть века воевали с мерными, не брезгая никакими мыслимыми средствами, чтобы их поймать, убить или заставить покориться, но не сумели. А уж если эти не сумели, так в целом мире не сыскать белых, любой нации, которые бы сумели. Все планы провалились — блистательные три сотни, непревзойденные три сотни туземцев оставались непобежденными и явно непобедимыми. Они не желали подчиниться, не желали принимать никаких условий и защищались до последней капли крови. А ведь у них даже не было поэта, чтобы поддерживать в них мужество и воспевать чудеса их безграничной любви к отчизне.
Двадцать пять лет длилась ожесточенная борьба, по три сотни нагих патриотов, оставшихся в живых, по-прежнему не сгибались, по-прежнему упорствовали, по-прежнему умело действовали своим примитивным оружием, а губернатор и сорок тысяч белых не знали, как быть и что предпринять.
Тогда каменщик — этот удивительный человек — вызвался пойти вглубь страны, в логово озлобленных дикарей, скрывающихся в темных лесах и заснеженных горах, безоружным, надеясь только на силу своего убеждения, свой честный взгляд и отзывчивое сердце. Не удивительно, что его сочли сумасшедшим, но это было вовсе не так. Я бы даже сказал, что он был вполне разумен. Он строил свой план, опираясь на многолетнее и близкое знакомство с характером туземца. Люди, высмеивавшие этот план, были правы — со своей точки зрения, — ибо они считали туземцев дикими зверями; Робинсон был прав — со своей точки зрения, ибо он считал их человеческими существами. В действительности же и те и другие были и правы и не правы. Жизнь показала, что Робинсон рассудил более здраво; хотя в течение четырех лет, примерно раз в месяц, обстоятельства складывались в пользу насмешников, ибо примерно раз в месяц Робинсона спасало от копий туземцев только чудо.
История показывает, что он был человек весьма неглупый, а не просто сентиментальный фантазер. Он желал, например, чтобы белые приостановили военные действия, когда он, безоружный, тронется в путь со своей миссией мира. Он желал обеспечить себе полный успех, а не половинный. И он очень хотел иметь помощников, а посему было обещано щедрое вознаграждение тому, кто согласится, безоружный, пойти вместе с ним. Однако никто не отважился. Робинсон уговорил нескольких туземцев — мужчин и женщин, которые не враждовали с белыми, пойти с ним — яркое доказательство силы его убеждения: ведь эти люди отлично знали, что идут почти на верную гибель. И они не ошибались — им пришлось неоднократно смотреть в глаза смерти.
Трудная задача была у Робинсона и его спутников. Они не могли въехать в лес с удобствами, верхом на лошадях, пригласить к себе на следующий день Леонида и его триста человек[30] и тут же договориться с ними, ибо дикари не селились все вместе, они были разбросаны на огромных пространствах в крае таком пустынном, что даже птицы не могли там прокормиться, — разбросаны группами по двадцать, двенадцать, шесть, а то и три человека. А ведь посланцам приходилось идти пешком. Мистер Бонвик описывает эти страшные места, которые не удавалось пересечь даже бандам беглых, самым отъявленным, закоренелым дьяволам в человеческом обличье, каких когда-либо знал мир, — каторжникам, отобранным, чтобы населить адов Порт Макуори; если не считать одного-единственного случая, они не выдерживали ужасов пути, падали от голода и истощения, более крепкие поедали обессилевших, а в конце концов все умирали.
Вперед, все вперед вел своих спутников непреклонный Робинсон. Человек, не бывавший на западе Тасмании, никогда не сможет представить себе, какие опасности подстерегают там путешественника. Когда я жил в Хобарте, губернатор сэр Джон Франклин вместе с женой отправился через этот край в Порт Макуори; намучились они ужасно. Горьким опытом этого путешествия поделился со мною человек, помогавший нести леди Франклин через болота. Несколько человек на всю жизнь остались калеками. Не удивительно, что только одна группа каторжников, бежавших из Порта Макуори, благополучно достигла цивилизованной земли. Люди гибли в зарослях, проваливались в снежные сугробы или же их съедали спутники. Именно через эту местность шли мистер Робинсон и его чернокожие проводники. Честь и слава его отваге и их достойной удивления преданности! Вы только представьте себе, что испытали эти люди, когда им пришлось в разгар зимы переправляться через глубокие бурные потоки, идти через ущелья в горах в шесть тысяч футов высотой, прокладывать себе дорогу через опасные заросли, отыскивать еду в глуши, покинутой даже птицами.
После ужасающего похода вдоль горы Кредл и через высокое плато Мидлсекских равнин на путешественников свалились новые неслыханные беды, и тут раскрылись благороднейшие черты небольшого отряда мужественных людей. Впоследствии Робинсон описал мистеру Барнетту некоторые подробности этого страшного похода. В письмо от второго октября 1834 года он рассказывал, что его туземцам ужасно не хотелось перебираться через жуткие горные ущелья; что «семь дней подряд шли по сплошному снегу»; что «слой снега был невероятной толщины»; что «туземцы не раз проваливались в снег по грудь». И все же эти оборванные, голодные, больные, измученные дорогой мужчины и женщины остались верны своему бесстрашному другу и с истинным благородством отзывались на его неутомимый зов.
Мистер Бонвик пишет, что мирная победа над племенем Большой реки — не забудьте, над целым племенем! – «была самым замечательным событием этой войны и венцом усилий Робинсона». Слово «война» выбрано не очень удачно и вводят в заблуждение. Война еще шла, но вели ее только черные, — белые выжидали, пока Робинсону представится случай как следует испытать свой план на деле. Я полагаю, не может быть сомнений в том, что мирная победа над племенем — самое важное, самое ценное из всего, что произошло за тридцать лет непрерывных военных действий; что это решающее событие — мирное Ватерлоо, капитуляция тасманского Наполеона и его грозной армии, счастливый итог долгой борьбы. Ибо «то племя наводило ужас на колонии», а его вождь звался «Черным Дугласом царства зарослей»[31].
Робинсон знал, что эти грозные воины скрываются где-то в далеких уголках описанных выше ужасных мест, и вместе со своим небольшим отрядом безоружных туземцев двинулся на изнурительные и опасные поиски. И вот наконец «здесь, под навесом горы Шапка Француза, вершина которой зловеще возвышалась на пять тысяч футов над безлюдной западной частью внутренней области страны», дикаря были найдены. Настала решающая минута. На этот раз Робинсон и сам был уверен, что его миссия, до тех пор успешная, кончится провалом и что пробил его смертный час.
Суровый вождь стоял в угрожающей позе, держа наготове копье в восемнадцать футов длиной; за ним столпились воины, готовые к битве; их лица красноречиво говорили о ненависти к белым, вынашиваемой долгие годы. «Они потрясали копьями и издавали свой боевой клич». Позади стояли женщины, нагруженные запасным оружием, и сдерживали сто пятьдесят нетерпеливых псов, которые только и ждали сигнала вождя к нападению.
— Скоро мы, наверное, попадем в рай, — прошептал кто-то из маленького отряда Робинсона.
— Я тоже так думаю, — ответил Робинсон; потом, собравшись с духом, он начал увещевать дикарей на их языке, что приятно удивило вождя. Однако вождь прервал его:
— Кто вы такие?
— Мы честные люди.
— Где ваши ружья?
— У нас нет ружей.
Вождь удивился.
— А ваши маленькие ружья (пистолеты)?
— У нас нет маленьких ружей.
Прошло несколько минут в молчании, нерешительности, переговорах. Тем временем сопровождавшие Робинсона туземки отважились перейти за черту и стали уговаривать женщин. Потом вождь отошел назад, «чтобы посовещаться со старыми женщинами, ибо в войне дикарей они имеют решающий голос». Мистер Бонвик продолжает:
«Подобно тому, как сраженный гладиатор ждет на арене цирка решения своей судьбы, наши друзья, в мучительной неизвестности, ждали развязки. Спустя несколько минут, прежде чем кто-либо произнес хоть слово, старые женщины племени три раза подняли вверх руки. То был сокровенный знак мира! Опущены копья. С глубоким вздохом облегчения и обращенным к небу благодарственным взглядом вперед вышли поборники мира. Туземцы порывисто бросились к ним, и все плакали и кричали, словно каждый встретил любимого, давно потерянного друга...»
То было веселое празднество. Начался пир. И хотя рассказы о горестях вызывали слезы, этот знаменательный день завершился танцами и веселым смехом.
За четыре года, не пролив ни капли крови, Робинсон доставил и сдал на руки белому губернатору всех туземцев, этих добровольных пленников, положив конец войне, которую порохом и пулями безрезультатно вели тысячи людей с 1804 года.
Орфей, приручавший диких зверей своим пением, — миф; но чудеса, сотворенные Робинсоном, — непреложный факт. Это история совершенно достоверная; и я убежден, что история любой страны, древняя или новая, не знает факта более великого, заслуживающего большего уважения.
И в честь величайшего человека, какого породила или породит Австралазия, признательное потомство воздвигло Георгу Огастесу Робинсону Миротворцу величественный памятник в... впрочем, нет — памятник поставлен кому-то другому, не помню кому.
Как бы то ни было, современники Робинсона почитали его, и тем самым почитали себя. Правительство наградило его крупной денежной суммой и участком земли в тысячу акров; и люди собирались толпами и восхваляли его, подкрепляя свою хвалу значительными суммами, собранными по подписке.
Прекрасная драматическая ситуация, но занавес скрывает от нас другую картину:
«Когда это отчаянное племя было захвачено вышеописанным способом, к общему великому удивлению оказалось, что на войну израсходовали тридцать тысяч фунтов стерлингов и держали под ружьем все население провинции, чтобы сражаться с вражеским войском, состоявшим из шестнадцати человек, вооруженных деревянными копьями! Таковы факты. Знаменитое племя Большой реки, которое европейцы со страху воображали целым полчищем, насчитывало шестнадцать мужчин, девять женщин и одного ребенка! Учитывая, сколько бед причинила эта горстка людей, их удивительные переходы и внезапные набеги из конца и конец всей провинции, враги вынуждены были признать, что дикари эти храбры и умеют сражаться. Какой-нибудь Уоллес[32] мог измотать большую армию, располагая небольшим отрядом смелых людей, но там враждующие стороны были равно цивилизованны и вооружены. Зулусы, сражавшиеся с нами в Африке, маори в Новой Зеландии, арабы в Судане были куда лучше вооружены, лучше знали технику ведения войны и были значительно многочисленнее, чем эти голые тасманцы. Губернатор Артур справедливо назвал их благородным племенем».
Эти туземцы и впрямь были удивительные люди. Нельзя было допустить, чтобы они вымерли. Их следовало скрестить с белыми. Белые бы от этого только выиграли, а туземцы не потерпели бы ущерба.
Но туземцы все-таки вымерли, бедные отважные дети природы! Их собрали в маленькие поселения на соседних островах, правительство отечески пеклось о них, обучало религии и лишило табака, ибо надзиратель воскресной школы был некурящим и поэтому считал, что курить безнравственно,
Туземцы не приучены были придерживаться режима, носить одежду, вести размеренную жизнь; им были не нужны дома, церковь, образование, воскресная школа и прочие чуждые им учреждения цивилизованных людей, и они стремились к утраченной родине и дикой, вольной жизни. Слишком поздно спохватились они, что променяли свой рай на этот ад. День за днем сидели они на постылых им утесах и с неугасающей страстью, сквозь слезы, тоскливо глядели на море, на маячившую вдали громаду — призрак их земного рая; и то у одного, то у другого сердце не выдерживало, и он умирал.
Через несколько лет в живых осталась лишь жалкая кучка людей. Горстка дотянула до старости. В 1864 году умер последний мужчина, в 1876 — последняя женщина, и спартанцы Австралазии перестали существовать.
Даже самый доброжелательный белый неминуемо попадает впросак, когда имеет дело с дикарями, — белые вылавливают их, как рыб из океана, с самыми лучшими намерениями, потом суют их в курятник, рассчитывая, что там они обсушатся, обогреются, будут довольны и счастливы. Белый не в состояния поставить себя на место дикарей. Как бы ему понравилось, если бы добрый дикарь увел его из дома, лишил церкви, одежды, книг, лакомств и забросил в пустынное безбрежье песка, скал, снега, льда, слякоти, бурь и палящего солнца, где у него не будет ни крова, ни ложа, где ему и его близким нечем будет прикрыть свое нагое тело, где нет иной еды, кроме змей, гусениц и падали: Такая жизнь была бы для него сущим адом, и, обладай он хоть каплей разума, он понимал бы, что его цивилизация — ад для дикаря. Но разума у него нет и никогда не было, а посему он обрек бедных туземцев на невообразимую гибель в оковах его цивилизации, совершая это преступление с наилучшими намерениями, и смотрел, как эти бедняги умирали, не вынеся мук; смотрел несколько обеспокоенно и с огорчением, с удивлением спрашивая себя: чего же им недостает? И невольно проникаешься чуть ли не уважением к этим преступникам: ведь они такие доброжелательные, такие заботливые, гуманные и отзывчивые.
Они не понимали, отчего эти дикари-изгнанники умирают, и честно старались выяснить причину. И наконец один человек и Новом Южном Уэльсе выяснил и пришел к такому заключению:
«Это божья кара, ниспосылаемая с небес за всякое неблагочестие и неправедность людскую».
На этом все и успокоились.
Глава XXVIII ШУТКА, КОТОРАЯ СДЕЛАЛА ЭДУ КАРЬЕРУ
Хорошо, что на свете есть дураки. Это благодаря им мы преуспеваем.
Новый календарь Простофили ВильсонаВот уж действительно верное изречение: «В нужный момент явится нужный человек». Только пусть не является раньше времени, а не то все пойдет прахом. В случае с Робинсоном Момент приближался целые четверть века, а будущий Миротворец тем временем спокойно клал кирпичи в Хобарте. Когда все прочие способы оказались тщетными, наступил Момент — и Каменщик, отложив в сторону кельню, вышел на арену. Явись он раньше, его с презрением отправили бы назад к его кельне. Этот случай напомнил мне одну историю, ее рассказал мне уроженец Кентукки в поезде, шедшем через Монтану. Он сказал, что в свое время эта история нашумела в Луисвилле. Он полагал, что ее напечатали, но не помнил точно. Как бы то ни было, я постараюсь по возможности передать ее здесь.
За несколько лет до начала Гражданской войны стало ясно, что Мемфису, в штате Теннесси, предстоит сделаться крупным поставщиком табака, — это предвидели все дальновидные люди. Разумеется, к тому времени в Мемфисе уже была пристань. Для удобства погрузки и выгрузки имелся наклонный мощеный причал, но пароходы швартовались к дебаркадеру, и грузы складывались на его широкую палубу между пароходом и беретом, За работой наблюдали молодые служащие, которые часть дня были очень заняты, а остальное время томились от безделья. Молодость и жизнерадостность бурлила в этих юнцах через край; часы безделья нужно было чем-то заполнить, и они обычно развлекались, придумывая разные каверзы и разыгрывая друг друга.
Излюбленной мишенью для шуток был Эд Джексон, ибо сам он никого не разыгрывал и легко попадался на удочку, — он всегда принимал за чистую монету все, что ему говорили.
Однажды он рассказал товарищам, как собирается проводить отпуск. На охоту и рыбную ловлю он на этот раз не поедет — нет, он задумал нечто более интересное. Из своих сорока долларов в месяц он сберег достаточно, чтобы осуществить свою мечту — взглянуть на Нью-Йорк.
Удивительная, из ряда вон выходящая затея! Это означало путешествие, грандиозное путешествие; в те времена это означало увидеть мир, — по нашим современным понятиям, нечто вроде кругосветного путешествия. Сперва молодые люди решили, это Эд сошел с ума, а когда убедились, что он не шутит, то сразу сообразили: такая отважная затея открывает отличную возможность над ним подшутить.
Вопрос обсудили со всех сторон, потом втайне составили план действий. Было решено, что один из заговорщиков приготовит для Эда рекомендательное письмо к миллионеру Вандербильту и уговорит его это письмо передать. Все это очень хорошо. Но что будет, когда Эд вернется в Мемфис? Вот в чем загвоздка! Эд был славный малый и всегда воспринимал шутки добродушно, но ведь они не унижали его достоинства а ви перед кем не срамили; на этот же раз они собираются сыграть с ним жестокую шутку — это игра с огнем. Эд родился на Юге, а в переводе на английский язык это значило, что по возвращении он убьет столько заговорщиков, сколько успеет, прежде чем свалится сам. И все-таки нужно рискнуть — разве можно упустить такой случай?
Письмо заготовили заботливо и очень старательно. Оно было написано непринужденно, в дружеском тоне, от имени Альфреда Фэрчайлда, и гласило, что податель письма закадычный друг сына того, кто пишет эти строки, прекрасный молодой человек, на которого можно положиться, как на каменную гору, и Фэрчайлд просит ради него обласкать молодого незнакомца. «Ты, наверное, забыл меня за эти долгие годы, — говорилось дальше, — но сразу вспомнишь, если воскресишь в памяти наше детство, ночь, когда мы забрались в сад старого Стивенсона, и как мы удирали от него через поле, и, пока он гнался за нами по дороге, забежали к нему в дом с черного хода и продали украденные в его же саду яблоки его кухарке за шапку пончиков. А помнишь, как мы...» — и так далее и тому подобное, с упоминанием всевозможных вымышленных имен, описанием подробностей диких, нелепых приключений и проказ школьников, разумеется от начала до конца выдуманных, по живо и выразительно изложенных.
Эда со всей серьезностью спросили, не хочет ли он получить письмо к Вандербильту, знаменитому миллионеру. Как и следовало ожидать, вопрос очень удивил Эда.
— Как, ты знаешь этого выдающегося человека?
— Не я, мой отец его знает. Они вместе учились в школе. Если хочешь, я напишу отцу и попрошу его прислать рекомендательное письмо. Я уверен, он охотно сделает это для меня.
Эд не находил слов для выражения благодарности и восторга. Через три дня ему вручили письмо. Перед отплытием, пожимая руки обступившим его друзьям, он все еще рассыпался в благодарностях. Когда пароход скрылся из виду, товарищи залились громким смехом, счастливые и очень довольные собой; потом затихли и были уже не так счастливы и довольны собой: их снова начали терзать сомнения — разумно ли они поступили, обманув Эда.
Приехав в Нью-Йорк, Эд отправился в контору Вандербильта, и его ввели в большую приемную, где человек двадцать терпеливо ждали своей очереди удостоиться двухминутного разговора с миллионером в его кабинете. Лакей потребовал у Эда визитную карточку и вместо нее получил письмо. Через минуту Эда вызвали, и он вошел в кабинет; мистер Вандербильт был один, в руке он держал распечатанное письмо.
— Прошу садиться, мистер... мистер...
— Джексон.
— А... садитесь, мистер Джексон. Судя по началу, это письмо от старого друга. Извините... я его просмотрю. Он пишет... он пишет... но кто же это? — Вандербильт перевернул листок и нашел подпись. — Альфред Форчайлд... гм... Фэрчайлд... не помню такого имени. Не удивительно... я забыл тысячи имен на своем веку. Он пишет... он пишет... право, недурно! О, это редкостная проделка! Я действительно что-то припоминаю, смутно, правда... ничего, после вспомню. Он пишет... он пишет... гм... гм... ну и подурачились же мы! Вот замечательно! Как будто вижу все это перед глазами! Немного туманно, конечно... все это так давно было... и имена... некоторые как-то мелькают, путаются... но я знаю, что все это было... я чувствую! Владыка небесный, как это согревает сердце, и как приятно вспомнить ушедшую юность! М-да, да... да... но надо возвращаться в будничный мир — дела призывают, и ждут люди, — дочитаю конец перед сном, в постели, тогда и вспомню дни своей молодости. Поблагодарите за меня Фэрчайлда, когда увидите его снова, — я, наверное, звал его Алф, — поблагодарите и скажите ему, что письмо подбодрило усталого труженика и что я всегда готов сделать все, что в моих силах, для него и его друзей. А вы, мой мальчик, вы — мой гость, и не подумайте идти куда-нибудь в гостиницу. Посидите здесь, пока я освобожусь от этих людей, и мы вместе пойдем домой. Положитесь на меня, сын мой, — уж о вас-то я позабочусь.
Эд прожил у Вандербильта неделю и чувствовал себя на седьмом небе. Ему и в голову не приходило, что проницательный глаз миллионера неустанно наблюдал за ним, что его взвешивали, проверяли, изучали и испытывали.
Да, он чувствовал себя на седьмом небе, однако домой не написал ни слова, приберегая свою удивительную историю до того дня, когда вернется. Дважды с приличествующей скромностью и вежливостью он заговаривал о том, что визит затянулся и не пора ли уезжать, но миллионер отвечал:
— Нет, погодите, доверьтесь мне: когда придет время уезжать, я сам вам скажу.
В те дни Вандербильт, как всегда, был занят своими обширными комбинациями — соединением небольших разбросанных железных дорог в стройную систему, для сосредоточения случайной, хаотической торговли в мощные центры, что не помешало его зоркому оку уловить грандиозное будущее табачной торговли в Мемфисе, о которой я уже говорил; и он решил завладеть этим делом.
Прошла неделя, и Вандербильт сказал Эду:
— Теперь можете ехать, но сперва мы еще раз потолкуем об этом табачном деле. Я теперь вас знаю. Знаю наши способности не хуже, а возможно и лучше, чем знаете вы сами. Вы в табачном деле хорошо разбираетесь, понимаете, что я хочу взять его в свои руки, и понимаете, каким путем я собираюсь это сделать. Мне нужен человек, который меня понимает, способный представлять меня в Мемфисе и возглавлять это важное предприятие, — и я назначаю на эту должность вас
— Меня?
— Да. Оклад у вас будет, разумеется, высокий, ибо вы мой представитель. Со временем вы дослужитесь до прибавки, и ваш оклад будет увеличен. Вам понадобятся помощники, — подберите их сами, и подберите осмотрительно. Не исходите из одних только дружеских чувств, но при прочих равных условиях оказывайте другу, человеку, которого вы знаете, предпочтение перед человеком неизвестным.
Добавив еще кой-какие наставления, Вандербильт сказал:
— Прощайте, сын мой, и поблагодарите от меня Алфа за то, что он вас прислал.
По приезде в Мемфис Эд первым делом кинулся к пристани, спеша поделиться своими удивительными новостями с товарищами, снова и снова поблагодарить их за то, что они дали ему письмо к мистеру Вандербильту. Он пришел как раз в то время, когда молодые люди бездельничали. Знойный полдень, и никаких признаков жизни на пристани. Но когда Эд пробирался меж штабелей грузов, он заметил под навесом, на куче мешков с зерном фигуру в белом костюме; сказав про себя: «Это кто-нибудь из них», он ускорил шаг; потом сказал: «Да это Чарли... Фэрчайлд… вот здорово!» — и в следующее мгновение любовно коснулся плеча спящего. Глаза Чарли лениво раскрылись, взглянули на Эда, лицо страшно побледнело, он как ужаленный вскочил на ноги, и в следующий миг Эд остался один, а Фэрчайлд как вихрь мчался к дебаркадеру!
Эд опешил, он просто оцепенел от изумления. Что бы это значило? Неужели Фэрчайлд сошел с ума? Медленно, в раздумье, он пошел дальше; обогнув кипу тюков, он вдруг наткнулся на двух своих приятелей — те беспечно смеялись, видимо над чем-то забавным; они услышали шаги и увидели Эда в то самое мгновение, когда он их обнаружил, — смех резко оборвался. Эд не успел и рта раскрыть, как они бросились прочь и, прыгая через бочки и тюки, умчались, словно дичь от охотника! Эд вновь оцепенел. Что они тут, все рехнулись? Чем объяснить такое нелепое поведение? Погруженный в размышления, он подошел к дебаркадеру, шагнул на трап — кругом тишина и покой. Он пересек палубу, повернул за угол и пошел вдоль борта, как вдруг услышал лихорадочное: «О господи!» — и увидел, как человек в белом полотняном костюме плюхнулся в воду.
Потом он вынырнул на поверхность и, фыркая и задыхаясь, крикнул:
— Уходи отсюда! Не трогай меня. Это не я, клянусь это не и сделал,
— Чего ты не сделал?
— Не я дал тебе...
— Меня не интересует, чего ты мне не дал. Почему вы все от меня бегаете? Что я сделал?
— Ты? Ты ничего не сделал. Но...
— Так отчего же вы злитесь на меня? За что так со мной обращаетесь?
— Я... мы... А ты разве не злишься на пас?
— Конечно нет. С чего это пришло тебе в голову?
— Честное слово, не злишься?
— Честное слово.
— Поклянись!
— Разрази меня бог, если я знаю, о чем ты говоришь! Но все равно — клянусь!
— И ты пожмешь мне руку?
— Видит бог, с какой радостью! Да я просто мечтаю пожать руку хоть кому-нибудь из вас!
Пловец пробормотал: «Черт возьми! Он смекнул, в чем дело, и не отдал письма. И очень хорошо, уж я-то об этом не заговорю».
Весь мокрый, рассыпая вокруг себя брызги, он влез на дебаркадер, чтобы пожать Эду руку. Потом опасливо, один за другим, стали показываться и прочие заговорщики, вооруженные до зубов. Видя, что обстановка мирная, они отважились подойти поближе и тоже стали радостно пожимать ему руку.
На нетерпеливый вопрос Эда, почему они так странно себя вели, друзья уклончиво отвечали, что хотели пошутить, — взглянуть, мол, как он поступит. С наскоку ничего лучшего и не сообразить. И каждый думал: «Он так и не отдал письма, — на этот раз он подшутил над нами; но правды он не узнает — не такие уж мы дураки, чтобы ему сказать».
Конечно, всем не терпелось услышать подробности о его поездке, и Эд сказал:
— Соберемся все на дебаркадере и закажем вина — я угощаю. Потом я расскажу вам все подробно. А вечером я опять угощаю — будут устрицы, вот уж повеселимся!
Когда принесли кино и все закурили сигары, Эд сказал:
— Так вот, когда я передал письмо мистеру Вандербильту...
— Боже праведный!
— Фу, как вы меня испугали. В чем дело?
— Ты... мы... ничего. Ничего особенного... у меня гвоздь в стуле, — ответил один.
— Но вы все вскрикнули. Ну, ладно! Так вот, когда я передал письмо...
— Ты и впрямь его передал? — И они взглянули друг на друга, словно не веря своим ушам.
Наконец все успокоились. Эд повел рассказ, а приятели, удивляясь все больше и больше, слушали затаив дыхание, не проронив ни словечка. Два часа они просидел и как зачарованные, упиваясь этой неправдоподобной романтикой. Наконец Эд кончил рассказ и сказал:
— Вам, только вам, мальчики, обязан я всем этим! И я никогда не отплачу вам неблагодарностью, мои друзья, самые лучшие на свете. Вы все получите должности, вы мне нужны все до единого. Я вас знаю, «я вашу карту насквозь вижу», как говорят картежники. Вы шутники, любите позабавиться, но люди вы падежные, чистое золото, высшей пробы. А ты, Чарли Фэрчайлд, будешь первым моим помощником, правой рукой, потому что у тебя редкие способности и потому, что ты раздобыл мне письмо, и чтобы порадовать твоего отца, который его написал, и мистера Вандербильта, ибо он сказал, что это его порадует. Так выпьем же за здоровье этого великого человека! Ура!
Да, когда наступает Момент, подходящий человек тут как тут, даже если он находился за тысячи миль и обнаружили его только при помощи злой шутки.
Глава XXIXХ ОБАРТ — САМЫЙ ОПРЯТНЫЙ ГОРОД
Если нас не уважают, мы жестоко оскорблены; а ведь в глубине души никто по настоящему себя не уважает.
Новый календарь Простофили ВильсонаВ истории любой страны наибольший интерес вызывают судьбы людей. Летопись Тасмании, под сенью которой мы плыли, примечательна судьбами трагическими. В былые времена Тасмания была местом ссылки каторжников; об этом написано в рассказе о Миротворце, там же упоминается о тщетных попытках отчаявшихся каторжников, бежавших из Порта Макуори и «Ворот в Ад», обрести наконец свободу. В те годы Тасманию населяло огромное число каторжников, мужчин и женщин всех возрастов, и жизнь они вели тяжкую и горестную. Была там и колония для малолетних преступников — детей, лишенных родителей и друзей и загнанных сюда, на край света, чтобы они искупили свои «преступления».
Наконец наш пароход вошел в устье Деруэнта, у которого лежит главный город Тасмании — Хобарт. Берега Деруэнта изобилуют интересными пейзажами. Историк Лори в своей только что вышедшей книге «Рассказ об Австралазии» описывает их пылко и вполне правдиво. «Дивная живописность каждого открывающегося взору уголка, в сочетании с прозрачностью глубин океана и чистым целительным воздухом, наверное привела в восторг и глубоко взволновала первооткрывателей. Если зажатые скалами берега — хмурые, угрюмые, неприступные — и казались неприветливыми, то ведь их то здесь, то там прорезали соблазнительные бухточки, устланные золотым песком, одетые вечнозеленым кустарником, украшенные всеми видами местной акации, дуба, диких цветов, папоротника - от нежного, изящного «девичьего волоса» до пальмовидного «старца»; а величественный эвкалипт, гладкий и стройный, словно мачта «какого-нибудь высокого флагманского корабля», пронзает прозрачный воздух на высоту в двести тридцать футов, а то и больше».
Так оно и есть. «Как, наверное, приятно был поражен первый моряк, плывший вдоль побережья Тасманского полуострова, когда перед ним неожиданно возник Кейп-Пиллар со своими чернополосыми базальтовыми колоннами высотою в девятьсот футов, с головами гидры, окутанными шаловливым облаком, и подножьем, которое, изрыгая фонтаны бушующей пены, хлестали ревнивые волны».
Описано не плохо, только я никак не думал, что эти коряги в девятьсот футов высотою. И все же картина прелестная. Они храбро стоят совершенно одни, являя зрелище чарующе-причудливое. Однако я не заметил ничего такого, что напоминало бы головы гидры. Деревья походили на ряд высоких горбылей с заостренными верхушками, вроде ножа для мяса; не подозревая об огромной высоте этих колонн, первый путешественник скорее принял бы их за ряд ветхих, подгнивших свай, которые осели и покосились.
Полуостров высок, скалист, густо порос скрёбом или мелким кустарником, а то и тем и другим вместе. С материком его соединяет низкий перешеек. Здесь, на стыке, прежде был лагерь каторжников, называвшийся «Порт-Артур», — местечко, откуда не удерешь: позади тянулись дебри скрёба, где беглец неминуемо погибал от голода; впереди — этот узкий перешеек, перегороженный целым кордоном цепных собак, сплошной линией фонарей и заслоном вооруженной стражи. Мы видели это место, когда плыли мимо, — вернее, перед нами промелькнуло то, что было воротами в «Порт-Артур», как нам сказали. Мелькнуло, словно напоминание, и только»
«Путешествие отсюда вдоль устья Деруэнта на всем его протяжении открывает взору сказочно прекрасные виды, равных которым нот нигде в мире. Когда скользить но темно-синему морю, усеянному прелестными островками с роскошной растительностью у самой кромки воды, просто теряешься — куда смотреть, чем восхищаться больше. Минуя Хуон и Бруни, думаешь: вот лучше этих уже не будет; и вдруг на горизонте буквально вырастает гора Веллингтон, могучая и величественная, как ее сестра Этна, неотступно охраняемая с одной стороны горой Нельсон, с другой — Румней. Но вот мы к бухте Сэлливана, перед нами — Хобарт!»
Приятный городок. Стоит он на невысоких холмах, спускающихся к гавани, похожей на речку, — такая спокойная у нее поверхность. Ее гладь испещрена отражениями изящных лодок, травянистых берегов, пышной растительности. Позади города — горные плато; прекрасная лесистая местность, а над ней — величественный Веллингтон, этот благородный великан, великолепнейшая громада, какую только можно себе представить. Как прекрасен весь край — своими очертаниями, гармонией деталей, богатством и свежестью растительности, переливами всевозможнейших красок; как изысканны формы холмов, а какие вершины и мысы; а неподражаемый плеск солнечного сияния, роскошные туманные дали, прелесть мелькнувшей то тут, то там водной глади! И в этом-то раю высадили каторжников в желтых куртках и разместили корпус бандитов, и в осенний майский день тех варварских времен устроили бессмысленную резню ни в чем не повинных чернокожих, которые охотились разве только на кенгуру. До чего же это не вяжется с окружающей красотой — словно свели вместе небеса и преисподнюю.
Воскрешая в памяти этот рай, я вспомнил, что именно Хобарт был первым из серии Англий в миниатюре. Вскоре мы увидели и другие, сперва в Новой Зеландии, а потом и в Натале. Изгнанника-англичанина, где бы он ни обосновался, до глубины души трогает все, что напоминает ему родину; любовь, которую он хранит в сердце споем, будит воображение, а сила любви и воображения вместе превращает чуть похожие картины в точные копии боготворимого оригинала. Прекрасно чувство, вызывающее подобные чары, оно достойно всяческого уважения и найдет отклик и в вашей душе — найдет обязательно, даже в том случае, что нередко бывает, если вы не видите сходства столь ясно, как видит обнаруживший его изгнанник.
Сходство, конечно, существует, и порой удивительно близкое к оригиналу; и все же какие-то едва уловимые признаки присущи только одной Англии на свете. Теперь, когда я объездил мир, я в этом более не сомневаюсь. Существует красота Швейцарии, но она повторяется в глетчерах и снежных вершинах гор многих других стран мира; существует красота фиорда, но она повторяется в Новой Зеландии и Аляске; существует красота Гавайи, но она повторяется в тысяче островов Южных морей; существует красота равнины и прерии, но она то и дело повторяется на земном шаре. Все мною названное заслуживает преклонения, каждое в своем роде совершенно, однако их красота не единственная в своем роде, а нот красота Англии — одна, второй такой нет. Она состоит из самых простых деталей — трава, кусты, деревья, дороги, изгороди, сады, дома, виноградники, церкви, замки, кое-где руины, — по все это овеяно сказочной дымкой истории. Красота эта неповторима, она одна в целом мире.
У Хобарта есть своя особенность — это необыкновенно опрятный город; я готов утверждать, что он самый чистенький во всем мире. Во всяком случае, его первенство в опрятности не вызывает сомнений. Разве вы найдете еще где-нибудь город, где нет обшарпанных наружных стен, сломанных ворот и заборов, старых, разваливающихся домов, уродливых, покосившихся сараев, поросших сорняком дворов бедноты, задворков, усеянных консервными банками, рваными башмаками и пустыми бутылками, где не было бы хлама в сточных канавах, мусора на тротуарах, грязных переулков и залатанных жестью хибарок на окраинах? Да, в Хобарте опрятно повсюду, здесь все радует глаз; самый скромный одноэтажный дом имеет причесанный, приглаженный вид, он обвит плющом, окружен цветниками, обнесен аккуратным забором, и ворота там аккуратные, а на подоконнике дремлет холеный котенок.
Мы заглянули в музей, куда нас любезно сопровождал американец, его хранитель. Там было выставлено штук шесть различных видов сумчатых[33] — в их числе «Тасманский дьявол» — волк; то есть мне кажется, он тоже был среди них. Была там и рыба, дышавшая легкими; когда высыхает вода, она может жить в иле. Но любопытнее всего был попугай, который убивает овец. На одном большой овечьем пастбище эта птица убила за год целую тысячу овец. Ей нужна не вся овца, а лишь почечный жир. Только богачу по средствам содержать птицу с таким изысканным вкусом. Чтобы добыть жир, птица вонзает в овцу клюв и вытаскивает почки, - рана смертельна. Этот попугай — разительный пример того, как изменение условий жизни ведет к эволюции видов. Когда в стране появилось овцеводство, попугай стал голодать, ибо пропали какие-то гусеницы, которыми он питался. Голод вынудил эту птицу есть сырое мясо, поскольку ничего другого ей не удавалось раздобыть, и она начала клевать остатки мяса с овечьих шкур, сушившихся на заборах. Скоро попугай уже явно оказывал предпочтение овечьему мясу перед любой иной пищей, а потом почечный жир стал его любимым лакомством. Выдирать жир несколько мешала попугаю форма клюва, но тут на помощь пришла природа — она изменила форму клюва, и теперь попугай умеет выдирать жир лучше, чем главный судья Верховного суда и все другие, кто этим занимается; лучше любого адмирала.
Была в музее еще одна диковина — по-моему, совершенно потрясающая: наконечники стрел и ножи, совсем такие, какие первобытный человек делал из кремня, думая, что он совершает чудо. Еще бы! Восторженные ученые так долго ублажали его и заискивали перед ним, что он и сам уверовал в этот предрассудок и теперь, наверное, к нему не подступишься на том свете. А ведь в этом музее мы видели точные копии его самых прекрасных работ, сделанные в наши дни, и притом людьми, которые никогда не слышали ни о нем, ни о его творениях, — аборигенами, что жили на островах здешних морей в наш век. И они не только воспроизвели эти произведения искусства; они сделали их из самого хрупкого материала, какой только есть, — из стекла, из старых бутылок из-под виски, выброшенных англичанами, — они выбрасывают их миллионами тонн. Пора бы первобытному человеку поубавить свою спесь. Его время прошло. Теперь он уже не то, чем был прежде.
Мы совершили поездку по благоуханной и цветущей сказочной стране в приют для престарелых — просторное, удобное убежище для мужчин и женщин, где есть больницы и все что нужно. Там было множество таких старых людей, каких я в жизни не видел. Казалось, я вдруг перенесся в другой мир — таинственный мир, из которого изгнана Молодость; мир, отданный во власть Старости, морщинам, согбенным фигурам. Из трехсот пятидесяти девяти человек двести двадцать три — бывшие каторжники, и они могли бы, наверное, кое-что порассказать, если бы захотели; сорока двум было уже за восемьдесят, а нескольким — под девяносто; в среднем там умирают в возрасте семидесяти шести. Меня туда не тянет, там слишком здоровый климат. Мне хватит и семидесяти лет — дольше задерживаться рискованно. Когда молодость и радость уйдут, что тогда останется? Смерть при жизни, смерть без всяких ее преимуществ, без ее достоинств. В приюте было сто восемьдесят пять женщин, из них восемьдесят одна — бывшие каторжницы. Пароход испортил нам все дело. Мы думали, что он, как обычно, простоит в Хобарте долго, но отплыли мы очень скоро. Тасмания лишь мелькнула перед нами, и мы отправились дальше.
Глава XXX ПРИРОДА ЖECTOKO ПОСТУПИЛА С ГУСЕНИЦЕЙ
Природа создала саранчу, и она пожирает посевы; если бы саранчу создал человек, она пожирала бы песок.
Новый календарь Простофили ВильсонаВечер и ночь мы плыли, а ранним утром пароход пришвартовался к Блаффу в Новой Зеландии. Блафф находится в нижней части серединного острова — на юге, почтя на сорок семь градусов ниже экватора. Он лежит к югу от экватора на столько же градусов, на сколько Квебек в северу, и казалось бы, климату в обоих городах следовало бы быть одинаковым; однако по тем или иным причинам это далеко не так. В Квебеке летом жарко, а зимой — холодно. В Блаффе таких колебаний не бывает; холодная погода там не очень холодная, а жаркая не очень жаркая, и разница между самым жарким и самым холодным месяцем в году всего лишь семнадцать градусов по Фаренгейту.
Кроличья напасть, постигшая Новую Зеландию, началась с Блаффа. Человек, который привез первого кролика, прославился, в его честь устраивали банкеты; теперь бы его повесили, если бы до него добрались. В Англии исконных врагов кролика ненавидят и преследуют; в районе Блаффа их почитают, и личность их неприкосновенна. В Англии исконный враг кролика — браконьер; его исконные враги в Блаффе — горностай, ласка, хорек, кошка и мангуста. В Англии любой человек, за исключением наследника престола, пойманный с кроликом, обязан дать убедительное объяснение, каким образом тот к нему попал, или же он платит штраф, садится в тюрьму и заодно лишается звания пэра; в Блаффе кошка, идущая с кроликом в зубах, никому не обязана давать объяснений — никто на нее не смотрит; человек же, увидевший кошку с кроликом, платит штраф, садится в тюрьму и лишается звания пэра. Вот где подрывают кошачьи моральные устои. Через тридцать лет в Новой Зеландии не останется ни одной нравственной кошки. Впрочем, иные полагают, что их там нет уже сейчас. В Англии браконьера выслеживают, преследуют, травят — он не осмеливается и на глаза показаться; в Блаффе — кошка, горностай, ласка, хорек и мангуста разгуливают где им только вздумается, и никто их не трогает. Власти вывесили на видном месте закон, гласящий, что любой человек, у которого найдут хотя бы одного из этих зверьков (мертвого), обязан дать убедительное объяснение причины его смерти или же уплатить штраф — не менее пяти и не более двадцати фунтов. Но этот источник государственного дохода не очень-то велик. Все реже и реже встречаются люди, которые пожелали бы уплатить сто долларов за дохлую кошку. А жаль, ведь эта статья дохода предназначалась в фонд университета. Все правительства в той или иной степени близоруки; в Англии штрафуют браконьера, хотя разумнее было бы выслать его в Новую Зеландию: Новая Зеландия оплатила бы дорогу и назначила бы ему жалованье.
Из Блаффа мы рассчитывали отправиться напрямик к западному побережью, в Новозеландскую Швейцарию, страну непревзойденных красот природы — снежного великолепия, могучих глетчеров и дивных озер; именно здесь находятся эти изумительные соперники фиордов Норвегии и Аляски, а рядом — водопад, низвергающийся с высоты в тысячу девятьсот футов. Но нам пришлось отложить поездку на неопределенное время.
6 ноября. — Чудесное летнее утро; ослепительно голубое небо. В нескольких милях за Инверкаргиллом проехали через обширное зеленое пастбище, усеянное, как снегом, стадами овец. Очаровательное зрелище. Зеленый цвет был порой густым и очень ярким, а порой восхитительно нежным. Какой-то пассажир напомнил мне, что я в «Англии Дальнего Юга».
Данидин, того же числа. — Город достоин восторгов Майкла Дэвитта[34]. Жители — шотландцы. Здесь они задержались, когда ехали в рай, — решив, что уже приехали. Журналист Малькольм Росс определил численность населения Данидина в сорок тысяч; один член парламента — в шестьдесят тысяч. Разумеется, журналист никогда не лжет.
Мы посетили доктора Хокина, У него прекрасная коллекция книг о Новой Зеландии, и его дом — музей искусства маори и всяких древностей. Он собрал портреты и цветные гравюры с изображением туземных вождей далекого прошлого, иные из них нашли свое место в истории. Они совсем не похожи на дикарей; редко встретишь черты лица более утонченные, такие умные лица, такие мужественные фигуры, такую благородную ослику, как у этих людей. Аборигены Австралии и Тасмании казались дикарями, а эти новозеландцы — настоящие римские патриции. Татуировка могла бы нанести на мысль, что это портреты дикарей, но этого не происходит. Линии так красивы, они такие изящные и плавные, что воспринимаешь татуировку как прекрасное украшение. Через пятнадцать минут я совсем примирился с ней, а еще через пятнадцать иными и не мог представить себе эти лица. После них нераскрашенное лицо европейца кажется неприятным и плебейским.
Доктор Хокин подарил нам отвратительную диковинку — одеревенелую гусеницу, у которой на шее росло деревцо — тонкий стебелек дюйма в четыре высотою. Он появился не случайно, а по обдуманному плану — по замыслу Природы. Гусеница честно собиралась выполнить закон, навязанный ей Природой, навязанный специально для того, чтобы втянуть ее в беду, — закон-ловушку; итак, выполняя его, гусеница приготовила все необходимое, чтобы превратиться в ночную бабочку: вырыла себе ямку, маленькую могилку, вытянулась в ней на животе и наполовину зарылась в землю, но тут вмешалась Природа. Она развеяла в воздухе споры какого-то грибка — и не зря. Несколько спор упало в складку на шее гусеницы, пустило побеги и пошло расти, — ведь там была земля, гусеница-то шею не мыла. Корни пробились вглубь, расползлись по всему телу, высасывая соки для собственного роста; гусеница медленно умирала и превращалась в дерево. И вот теперь у нас деревянная гусеница; каждая частица ее строения бережно сохранена в точности и неприкосновенности, и, как памятник, на ней высится стебель — памятник, увековечивающий ее верность долгу и коварство Природы.
Природа всегда так поступает. Миссис П., конечно, сказала, что гусеница не способна чувствовать и нисколько не страдала. Но миссис Н. не права. Никакая гусеница не сумеет обмануть Природу. Если бы эта не страдала. Природа выискала бы другую. Но и первую она не оставила бы в покое. Никогда! Она подождала бы, пока гусеница превратится в ночную бабочку, а потом зажарила бы ее на свечке.
Природа так забивает рыбе глаза паразитами, что та уже не способна ни увернуться от врага, ни найти себе пищу. Она насылает на морскую звезду паразитов, и те так облепят ее зубцы, что они вздуются и станут ужасно болеть, и бедняжке придется избавиться от одного зубца, чтобы облегчить свои страдания, потом еще от одного и от третьего. Стоит ей отрастить себе новые зубцы, как опять являются паразиты,— и вся история начинается сначала. И наконец, с годами, когда бедная старушка морская звезда потеряет способность восстанавливать свои зубцы и не в силах будет тягаться с Природой, она умрет от голода.
В Австралии распространена ужасная болезнь, вызываемая «неполноценным солитером». Это они его так называют, — не пойму по какой причине: он справляется со своим делом так же хорошо, как если бы был вполне полноценным, украшен фресками, позолочен и все такое прочее.
9 ноября. — Президент Общества художников повел нас в музей и публичную картинную галерею. Видели чудесные картины, выставленные обществом, — часть из них была куплена, другие получены в дар. Оттуда мы пошли в картинную галерею общества — на недавно открывшуюся ежегодную выставку. Прекрасная выставка. Подумать только, две таких коллекции картин и Общество художников в небольшом городке! В Австралазии это отнюдь не редкость. В этом не было бы ничего удивительного, будь здесь монархия. Я хочу сказать — абсолютная монархия, когда нет надобности ставить на голосование вопрос о деньгах, — протянул руку и бери. Вот тогда искусство, процветает. Но ведь эти колонии — республики, республики с широким избирательным правом; в Новой Зеландии, например, даже женщины имеют право голоса, В республиках правительство и богатые люди не очень-то заботятся о развитии искусств. Меж тем в Австралазии повсюду для публичных галерей приобретаются картины знаменитых европейских художников за счет государства или общества граждан — живых граждан, а не покойников; они грабят себя, а не своих наследников. 06-щеетно художников Данидина имеет собственный дом, построенный на средства, собранные по подписке.
Глава XXXI «ГОСТИНИЦА В МЭРИБОРО — ЧЕРТ ЗНАЕТ ЧТО!»
Греховны не слова, а дух гнева; и этот дух — брань. Мы начинаем браниться прежде, чем научились говорить.
Новый календарь Простофили Вильсона11 ноября. На железной дороге. — Наш поезд — экспресс — идет со скоростью двадцать с половиною миль в час, по графику; впрочем, нам и не хочется ехать быстрее — очень занятны виды моря и суши, очень удобны вагоны. Они устроены не на английский и не на американский лад, — это нечто среднее между теми и другими, как в Швейцарии. Вдоль вагона тянется узкий, обнесенный перилами балкончик, по которому можно прогуливаться. В каждом вагоне есть уборная. Это уже прогресс, веяние девятнадцатого столетия. Так называемые экспрессы ходят в Новой Зеландии два раза в неделю. Об этом не мешает знать, если хочешь уподобиться птице и лететь через страну со скоростью двадцать миль в час; иначе рискуешь выехать в один из остальных пяти дней недели и попасть на такой поезд, который не поспевает даже за собственной тенью.
Эти приятные вагоны по контрасту напомнили мне вагоны железнодорожной ветки на Мэриборо на Австралийском континенте и разговор с пассажиром об этой ветке и о тамошней гостинице.
На пути в Мэриборо я зашел в вагон для курящих. Там я застал двух джентльменов; оба сидели спиной к паровозу, в противоположных концах вагона. Между собой они были знакомы. Я сел против того, что примостился у правого окна. У него было симпатичное лицо, дружелюбный взгляд, а по платью я принял его за диссидентского священника. Лет ему было около пятидесяти. Без всякой просьбы с моей стороны он зажег мне спичку, и я закурил сигару. Дальнейшее привожу из своего дневника.
Чтобы завязать разговор, я задал ему какой-то вопрос о Мэриборо. Он ответил спокойно, с невозмутимой убежденностью, голосом на редкость приятным и даже мелодичным:
— Город чудесный, но гостиница там — черт знает что!
Я удивился. Очень странно было слышать, как священник употребляет на людях бранные слова. Он же безмятежно продолжал:
— Самая мерзкая гостиница в Австралии. Пожалуй, не ошибешься, если скажешь, что во всей Австралазии нет хуже.
— Плохие постели?
— Куда там — вовсе никаких. Одни мешки с песком.
— Неужели и подушки?
— Да, и подушки. Один песок. И к тому же скверный. Свалялся в комки, никогда не просеивают. Чересчур много в нем гравия. Спишь все равно что на орехах.
— А разве там нет мелкого песка?
— Сколько угодно. Такого хорошего песка для постелей, как там, нигде в мире не найти. Мягкий песок, рассыпчатый, но они его не покупают. Им нужен такой, который слеживается и тверд, как камень.
— Ну а каковы комнаты?
— Восемь квадратных футов, и холодный линолеум, на который надо ступить утром, когда выберешься из песчаной ямы.
— А освещение?
— Керосиновая лампа.
— Светло горит?
— Нет. Свет мутный, как в бане.
— Я привык, чтобы лампа горела у меня всю ночь,
— Не выйдет. Ее приходится гасить рано.
— Скверно, Ведь свет может понадобиться и ночью. Как найдешь лампу впотьмах?
— Это-то немудрено: найдете по вони.
— А платяной шкаф?
— Два гвоздя на двери, чтоб развесить семь одежек, если они у нас есть.
— Звонок?
— Еще чего захотели.
— А как быть, если что-нибудь понадобится?
— Можете кричать, только никто не явится.
— А если надо позвать горничную опорожнить помойное ведро?
— Какие там помойные ведра! Гостиницы их не держат. Кроме сиднейских и мельбурнских, конечно.
— Да, я знаю. Я сказал просто так. Это самое странное, что есть в Австралии. Еще одно: завтра мне надо встать ни свет ни заря, а не то я не попаду на пятичасовой поезд. Если бы хоть коридорный...
— Такого нет.
— Ну, швейцар...
— Такого нет.
— Кто же меня разбудит?
— Никто. Сами себя разбудите и сами себе посветите. Ни в коридорах, ни на лестнице света нет. И если не прихватите лампу, свернете себе шею.
— А кто мне поможет вынести багаж?
— Никто. Но я дам вам совет. В Мэриборо живет один американец, который провел там полжизни; славный человек, преуспевающий, его там все знают. Он за вами присмотрит и избавит от всех хлопот. Можете спать спокойно: он вас оттуда вытащит, и вы попадете на свой поезд. А где же ваш менеджер?
— Остался в Балларате, изучает язык. Кроме того, ему пришлось съездить в Мельбурн, чтобы все подготовить для поездки в Новую Зеландию. Это моя первая попытка путешествовать самостоятельно, и оказывается — все не так-то просто.
— Просто! Еще бы, вы выбрали для своего опыта самый отвратительный участок железных дорог Австралии. Тут есть двенадцать миль, которые человек, не обладающий административным талантом, и надеяться не может... скажите, у вас есть административный талант? первоклассный талант?
— У меня... по всей вероятности... впрочем...
— Все ясно. Ваш тон... ну, вам ни за что не справиться. Но американец вас выручит, положитесь на него. А билеты у вас есть?
— Да, круговые до Сиднея.
— Ага, я так и думал! Вы едете эти двенадцать миль кастлмайнским пятичасовым, а не балларатским, что отходит в семь пятнадцать, — чтобы на два часа меньше быть в дороге. Так вот — не прерывайте, дайте мне сказать. Вы намерены сэкономить правительству кусок пути, но вам это не удастся; на вашем билете стоит: «через Балларат», значит на эти двенадцать миль он недействителен, и поэтому правительство...
— При чем тут правительство, ему-то что за дело, какой дорогой я поеду?
— Одному богу известно! Спросите ветер, что вокруг рассеял по морю обломки, как сказал юнга, стоявший на палубе горящего корабля[35]. Правительство предпочитает управлять железной дорогой по-своему, а разбирается в этих делах не больше французов. Сперва на дороге хозяйничали идиоты; потом привезли французов — и стало еще меньше толку; теперь правительство управляет дорогами самолично — и толку совсем никакого. А почему? Потому, видите ли, что дорогу строят где кто захочет — только бы не потерять благосклонности избирателей, — в угоду любому; любому, у кого за душой пара овец и собака. Вот и выходит, что в Виктории, например, восемьсот железнодорожных станций, но на восьмидесяти из них не продают билетов и на двадцать шиллингов в неделю.
— На пять долларов? Нет, вы шутите!
— Это правда. Истинная правда.
— Но ведь на каждой станции трое-четверо служащих.
— Разумеется. И все эти станции не окупают даже «овечий бальзам», которым они там сдабривают свой кофе. Поверьте мне. А как обслуживают? Кто-нибудь взмахнет тряпкой, и поезд остановится посреди пустыни, чтобы его подобрать. Такая политика влетает в копеечку. И разве это всё? Вздумай город с порядочным числом избирателей иметь красивый вокзал — и он будет выстроен. Не забудьте обратить внимание на вокзал в Мэриборо, если интересуетесь правительственными диковинками. Там поместятся все жители города, и если поставить каждому диван, еще останется свободное место. В Америке таких огромных вокзалов не наберется и пятнадцати, и нет, наверное, и пяти наполовину таких красивых. Шикарный вокзал! А какие там часы! Уж их-то вам будет показывать каждый встречный. Вокзала с подобными часами нет нигде и Европе. Правда, они без боя — и слава богу. Ни боя, ни курантов. А ведь бой и звон часов — проклятие Австралии, и если вы не сойдете здесь с ума, вам этого в жизни но забыть. Каждые четверть часа, днем а ночью, все часы Австралии одновременно отзвякивают тоскливую мелодию из полудюжины нот, и все ноты в точности одни и те же: сперва гамма вниз — ми, ре, до, соль; потом вверх — соль, си, до, ре; и снова вниз — ми, ре, до, соль; и снова вверх — соль, си, до, ре; потом, в полночь, часы бьют: бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом! — и к тому времени вы уже... Эй, что там за кутерьма? Ясно — удирает от поезда, испугался; вам, верно, и в голову не пришло бы, что этот поезд способен испугать кого-нибудь. Судите сами, если правительство строит и содержит в убыток восемьдесят железнодорожных станций, и кучу станций-дворцов, и часы вроде тех, что в Мэриборо, — опять-таки в убыток, так надо же ему на чем-то наводить экономию? Прекрасно... обратите внимание на подвижной состав! Вот на чем они сберегают деньги. Возьмите поезд, который идет из Мэриборо; в нем восемнадцать товарных вагонов и две собачьих конуры для пассажиров, скверные, убогие, замызганные, без питьевой воды, без санитарных устройств, зато все неудобства, какие только можно себе представить. Скорость? Ползет, как застывшая патока; ни воздушного тормоза, ни рессор — будете стукаться головой всякий раз, когда поезд тронется или остановится. Вот на чем они наводят экономию, видите ли. Расходуют тонны золота на постройку дворцов, где приходится минут пятнадцать ждать поезда, а потом везут вас целых шесть часов, как каторжников, чтобы вернуть эти дурацкие издержки. Между тем разумный человек предпочтет, чтобы ждать было неудобно; вот тогда он по-настоящему оценит поездку в хорошем вагоне. Но так подсказывает здравый смысл, а у правительства его не бывает. Кроме того, они подрабатывают на этой ерунде, видите ли: объявляют недействительными билеты, которые сами продали, и незаконно берут с нас лишний шиллинг за эти двенадцать миль, и...
— Ну, во всяком случае...
— Погодите, я не кончил. Представьте себе, что этого американца там нет, и вот что произойдет. Когда вы сядете в поезд, никто вашего билета не проверит. Но за минуту до отхода поезда кондуктор непременно появится и потребует его. Дополнительный билет вы купить не успеете — поезд не ждет, — и вам придется сойти.
— Но разве нельзя заплатить за билет кондуктору?
— Нельзя, он не уполномочен брать деньги и не возьмет. Вам придется сойти. Выбора у вас нет. Должен вам сказать, эксплуатация дорог — это почти единственное, что делается здесь точно по-европейски, — я имею в виду европейский континент, а не Англию. Это совершенно то же самое, что на континенте, включая штраф. Все точно, вплоть до взвешивания багажа, хотя доходы это приносит грошовые.
Поезд остановился у станции моего спутника. И напоследок он сказал:
— Да, Мэриборо вам понравится. Масса поучительного. Чудесный город, но гостиница там — черт знает что!
С этими словами он ушел. Я обратился ко второму джентльмену:
— Скажите, ваш приятель священник?
— Нет, только еще учится.
Глава XXXII КАК ЖЕНЩИНЫ ПОМОГАЮТ УПРАВЛЯТЬ НОВОЙ ЗЕЛАНДИЕЙ
Человек, одержимый новой идеей, успокоится, только осуществив ее.
Новый календарь Простофили Вильсона.На всем пути в Крайстчерч кажется, будто ты в «Миниатюрной Англии»: куда ни погляди — раскинулся сад. И сам Крайстчерч — английский город, с английским парком и извилистой английской речкой, совсем как Эйвон и даже названной Эйвон — не в честь реки на родине Шекспира, а в честь какого-то человека. Ее зеленые берега обрамлены, кажется, самыми прекрасными и величавыми в мире плакучими ивами; у них был великий предок: их вырастили из побегов ивы, осенявшей могилу Наполеона на острове Святой Елены. Крайстчерч — старинный городок, с устоявшимся укладом, со всеми прелестями и безмятежностью, удобствами и уютом идеального домашнего очага. Будь там государственная церковь и социальное неравенство, это была бы тютелька в тютельку Англия.
В музее мы видели всякие любопытные вещи и среди них замечательный туземный дом прежних времен — совсем как настоящий, до мельчайших подробностей, яркие цвета были верны и на месте. Каждая мелочь, прелестные коврики, циновки и все прочее, и дивная замысловатая резьба по дереву воистину поражали, если вспомнить, кто их создал; они поражали рисунком и особенно выполнением, ибо были выполнены удивительно точно и тщательно, хотя у туземцев инструменты были только из кремня, нефрита и морских раковин; были там и тотемы — предок над предком, смешные уродцы с высунутыми языками и с руками, благодушно сложенными на животах, где вырезаны предки других племен; и все это сделано искусно и с любовью. Не забыли поместить в дом и фигуры самих туземцев — каждого на свое место, — и они казались совсем живыми; были там и предметы домашнего обихода, а рядом — военная лодка, покрытая резьбой и мастерски украшенная.
Мы видели в музее маленьких нефритовых божков, — их носили на шее; впрочем, не на всякой, а лишь на шее высокопоставленного туземца. Видели нефритовое оружие и множество всяких безделушек из этого на редкость твердого камня, вытесанных без помощи какого бы то ни было металлического инструмента. И некоторых вещицах были просверлены крохотные круглые дырочки; как это делалось, никому ire известно, тайна, утерянное искусство. Кто-то нам сказал, что, если в наши дни кому-нибудь вздумается просверлить в куске нефрита дырочку, ему придется послать нефрит резчику в Лондон или Амстердам.
Видели мы также полный скелет исполинского моа — в десять футов высотой. Вот, наверное, было зрелище, когда птица была живая! Она брыкалась, как страус; и драке пускала в ход ногу, а не клюв. И удар уж наверное был веский. Человек, которого эта птица нежданно брыкнула бы в спину, подумал бы, что его сшибла ветряная мельница.
В далекие незапамятные времена по земле ходило, должно быть, множество моа. Сейчас целые груды костей этой птицы находят в огромных могилах. Не в пещерах, а в земле. Одному богу известно, кто их туда сложил. Обратите внимание — кости, а не окаменелости. Из этого следует, что моа не так уж давно вымерли. Меж тем это единственное живое существо Ноной Зеландии, не упоминаемое в столь объемистой литературе — легендах туземцев. Подробность знаменательная, и косвенно она доказывает, что моа вымерли лет пятьсот назад, поскольку племя маори, по преданию, поселилось и Новой Зеландии в конце XV столетия. Первый маори явился из неведомой страны, потом уплыл в своей лодчонке назад и вернулся со всем племенем; пришельцы истребили коренных жителей, побросали в море или зарыли в землю, и овладели островом. Так гласит предание. Нетрудно понять, как появился здесь первый маори, — любой может нечаянно приплыть в какое угодно место; но каким образом этот исследователь нашел без компаса дорогу обратно к себе на родину — знает только он один; и эту тайну он унес с собой в могилу. Судя по его речи, он явился из Полинезии. Он сказал, откуда явился, но не знал, как правильно написать название, и теперь найти это место на карте невозможно, — а все потому, что люди, составляющие карты и умеющие писать лучше первого маори, написали его так, что от настоящего названия и следа не осталось. Я лично считаю, что для карты не так важны точные географические данные, как правильно написанные названия.
В Новой Зеландии женщины имеют право выбирать в законодательное собрание, но их самих туда не пускают. Закон, давший им право голоса, вошел в силу в 1893 году. К тому времени число жителей Крайстчерча (по переписи 1891 года) составило тридцать одну тысячу четыреста пятьдесят четыре человека. Первые выборы с участием женщин происходили в ноябре того же года. Голосовало шесть тысяч триста тринадцать мужчин и пять тысяч девятьсот восемьдесят девять женщин. Эти цифры наглядно показывают, что женщины вовсе не столь равнодушны к политической жизни, как уверяют иные. Взрослое женское население Новой Зеландии составляло сто тридцать девять тысяч девятьсот пятнадцать; имели право голосовать и внесли свои имена в списки избирателей сто девять тысяч четыреста шестьдесят одна — семьдесят восемь и двадцать три сотых процента. Из них голосовало девяносто тысяч двести девяносто — восемьдесят пять и восемнадцать сотых процента. Разве в Америке или где-нибудь в другом месте мужчины когда-либо проявили больше усердия? Заслуживают похвалы и местные мужчины. Цитирую официальный отчет:
«Выборы отличались порядком и здравым отношением к ним всех избирателей. Женщинам не чинили никаких препятствий».
В Америке считают, что женщина не сможет подойти к избирательной урне, не подвергаясь оскорблениям, и это самый веский довод, приводившийся там против предоставления женщинам права голоса. Доводы против равноправия женщин всегда облекаются в удобную форму пророчества. Пророки изрекают свои пророчества с тех самых пор, как началось движение за эмансипацию женщин — с 1848 года, но за сорок семь лет ни одно их предсказание так и не сбылось.
За этот срок мужчины могли бы научиться хоть немного уважать своих матерей, жен и сестер. Женщины этого заслуживают, ведь они неплохо поработали. Их стараниями американский свод законов за сорок семь лет избавился от изрядного числа несправедливых законов. За такое короткое время эти рабыни весьма основательно себя раскрепостили. Мужчинам не удалось бы в такое короткое время добиться чего-либо подобного без кровопролития, — во всяком случае, до сих пор им это не удавалось; они просто не знали, как взяться за дело. Женщины совершили мирный переворот, и весьма благотворный; однако это не убедило мужчин, что женщины умны, отважны, настойчивы и обладают силой духа. А кто способен в чем-нибудь убедить мужчин? И пожалуй, никто не заставит их когда-либо понять, что они во многих отношениях ниже женщин, а ведь немало убедительных фактов показывает, что так оно и есть. Мужчина управляет родом человеческим со дня сотворения мира, но ему не следует забывать, что вплоть до середины нынешнего века мир этот был невежественный, неразумный, просто глупый; сейчас, конечно, мир немного поумнел и с каждым днем продолжает умнеть. Вот тут-то женщине представился долгожданный случай. Хотел бы я знать, что станется с мужчиной еще через сорок семь лет?
В своде законов Новой Зеландии есть такая оговорка: «Слово «человек», когда бы оно ни упоминалось в законодательство, подразумевает также женщину».
Как видите, женщина идет в гору. Благодаря расширению значения слова «человек» умудренная пятидесятилетним жизненным опытом матрона одним махом уравнивается политически со своим только что достигшим совершеннолетия, неоперившимся отпрыском. Колонию населяют шестьсот двадцать шесть тысяч белых; маори там — сорок две тысячи. Белые избирают и палату представителей семьдесят депутатов, маори — четырех. Женщины маори участвуют в выборах своих четырех депутатов.
16 ноября. — Сегодня в полночь покидаем Крайстчерч, где провели приятных четыре дня. Мистер Кинсей подарил мне орниторинкуса, И я его приручаю.
Воскресенье 17. — Вчера вечером отплыли из Литтлтона на «Флоре».
Да, так оно и было. Я помню это по сей день. Люди, отплывшие той ночью на «Флоре», забудут все что угодно, если доживут до старости, но, сколько бы они ни прожили, этого забыть не сможет никто. «Флора» годится только для перевозки скота, но когда Пароходному обществу не хочется выполнять контракт и невыгодно его расторгнуть, оно тайком переводит «Флору» в пассажирскую службу, а «сдачу оставляет себе».
Владельцы не предупреждают пассажиров, что задумали грабеж; ничего не подозревая, вы покупаете билет на какой-нибудь объявленный пассажирский пароход, а в полночь, прибыв в Литтлтон, обнаруживаете, что его заменили «Флорой». У них там сколько угодно хороших пароходов, но нет конкуренции — вот в чем беда. Если вы рискуете опоздать, приходится ехать на чем попало.
Пароходное общество всесильно, в его руках монополия, и все его боятся, включая правительственных чиновников, которые стоят у пристани, считают пассажиров и следят, чтобы ни один пароход не принял на борт больше, чем ему положено по закону. Эти чиновники отлично видели, что на «Флору» село много больше пассажиров, чем полагалось, но они, хитро подмигнув, ничего не сказали. А пассажиры кротко примирились с мошенничеством, даже не пикнув.
Можно было подумать, что мы у себя на родине в Америке, — там обманутые пассажиры ведут себя точно так же. Несколько дней назад Пароходное общество уволило капитана за то, что он подверг судно опасности, и повсюду раззвонило об этом, как о доказательстве неослабной заботы о благополучии пассажиров, — всадить капитану нож в спину денег не стоит; зато когда представилась возможность без особых хлопот послать в море до отказа перетруженную лохань, положив в карман кругленькую сумму, Пароходное общество забыло побеспокоиться о благополучии пассажиров.
Помощник капитана сказал мне, что «Флора» имеет право взять сто двадцать пять пассажиров. А взяла она все двести. Каюты и каждое стойло в главном клеву были забиты людьми, площадки над трапами были забиты людьми, каждый дюйм площади на полу и на столах в буфетной был занят спящими людьми, и они не вставали, пока буфетная не понадобилась для завтрака; были заняты все стулья и скамьи на верхней палубе, и все же многим пришлось всю ночь простоять на ногах!
Если бы той ночью «Флора» пошла ко дну, у половины ее пассажиров не было бы никакой возможности спастись.
Перед законом владельцев судна нельзя было обвинить в покушении на убийство, но по существу они были в этом виновны.
Мне отвели стойло в главном хлеву — пещере с двумя длинными двухэтажными рядами коек; между рядами болталась ситцевая занавеска — двадцать мужчин и мальчиков по одну сторону и двадцать женщин и девочек по другую. Там было темно, как в душе Пароходного общества, и воняло, как в канализационной трубе. Когда судно вышло в открытое море и стало зарываться носом и барахтаться на волнах, пленники пещеры немедля заболели морской болезнью; то, что затем последовало, затмило все испытанное мною в подобных случаях прежде. Стоны, крики, вопли, визг, дикие возгласы — этот концерт не поддается описанию.
Женщины, дети, в также некоторые мужчины и юноши провели ночь в этом хлеву, они так ослабели, что не могли двинуться с места; по остальные один за другим поднимались и выходили на палубу, чтобы провести там остаток ночи.
Никогда еще мне не случалось ехать на таком вонючем судне; а пробираться через буфетную, между потными пассажирами, лежавшими вповалку на полу и на столах, можно было только заткнув нос.
Многие сошли на берег на первой же остановке и стали ждать другого судна. Через три часа мы получили хорошие каюты на «Магинапуа», — это был крохотный пароход, как для свадебного путешествия, грузоподъемностью всего лишь в двести пять тонн; чистый, удобный, с хорошей прислугой и хорошими постелями, хорошим столом и нормальным числом пассажиров. Волны швыряли суденышко во все стороны, словно утку, но оно держалось твердо и уверенно.
Ранним утром мы прошли через Французский пролив — узкие скалистые ворота в крутых мысах, — такой узкий, что он показался мне не шире улицы. Течение мчалось там, как зерно по мельничному лотку, а судно пролетело со скоростью телеграммы. Через полминуты мы уже вышли на простор, где величавые, огромные водовороты торжественно описывали круг за кругом в мелководье; и я спрашивал себя: что же теперь будет с нашим суденышком? Но долго раздумывать мне не пришлось: водовороты подхватили его, завертели, как перышко, и бережно опустили на ровную, устойчивую песчаную отмель — так бережно, что мы и не почувствовали прикосновения к суше и лишь едва ощутили дрожь пароходика в тот миг, когда он остановился. Вода была прозрачна, как стекло, видно каждую песчинку, а рыбы, казалось, резвились в пустоте. Мы достали удочки; но прежде чем успели насадить на крючок приманку, пароход снялся с места и поплыл дальше.
Глава XXXIII КАРЛСБАД АВСТРАЛАЗИИ
Будем же благодарны Адаму, благодетелю нашему. Он отнял у нас «благословение» праздности и снискал для нас «проклятие» труда.
Новый календарь Простофили ВильсонаВскоре мы прибыли в город Нельсон, где провели почти целый день, навещая знакомых и разъезжая с ними по саду; там всюду — цветущий сад, за исключением места, где тридцать лет назад разыгралась трагедия «Убийств в Маунгатапу». Это дикое место, дикое и глухое; идеальное местечко для убийства. Находится оно у подножия большой скалистой, поросшей густым лесом горы. Четыре отъявленных негодяя — Бургесс, Сэлливан, Ливи и Келли — засели у горной тропы в лесном полумраке, чтобы убить и ограбить четырех путешественников: Кемпторна, Мэтью, Дадлея и Де Понтиуса; последний — житель Нью-Йорка. Случайно туда забрел какой-то безобидный старик рабочий; он мог помешать, и они его задушили, спрятали труп и продолжали ждать тех четверых. Им пришлось запастись терпением, но в конце концов все произошло, как они задумали.
Этот мрачный эпизод — единственное значительное событие в истории Нельсона. Молва о нем разнеслась далеко. Бургесс оставил письменное признание, — удивительный документ. В литературе по криминалистике, пожалуй, не сыскать ему равных по сжатости, лаконизму и насыщенности. В нем нет лишних слов, нет отступлений, нет ничего, не относящегося к теме; до конца сохранен бесстрастный тон, свойственный формальному деловому отчету, — ибо, именно этим он и является: деловым отчетом о совершенном убийстве его главного автора, распорядителя, производителя работ — или как вам заблагорассудится его назвать.
«Мы уже начали терять терпение, когда наконец вдали показались четверо людей и вьючная лошадь. Я вышел из засады, чтобы взглянуть, те ли это люди, ибо Ливи говорил мне, что Мэтью маленький человечек с большой бородой, а лошадь гнедая. Я сказал: «Они уже близко». Они тогда были еще на порядочном расстоянии. Я вынул из своего ружья пистоны и вставил новые. Я сказал: «Оставайся на месте, я их задержу; когда будешь их вязать, ружье отдашь мне». Так и было сделано. Они подходили все ближе, а когда были ярдах в пятнадцати, я вышел вперед и сказал: «Стой. Сомкнуться!» Что означало — сбиться в кучу. Я заставил их упасть на высокий откос у дороги, и Сэлливан отдал мне свое ружье и связал им руки за спиной. Лошадь была очень смирная, она и не шелохнулась. Когда всех связали, Сэлливан отвел лошадь на юру, is кусты; там он обрезал веревку, и тюки упали на землю; потом вернулся ко мне. Мы повели людей по скату вниз к ручью; он был в то время совсем мелкий. Мы повели их вдоль этого ручья — думаю, ярдов пятьсот или шестьсот, на это ушло с полчаса. Потом мы повернули направо и отошли от ручья — думаю, ярдов на полтораста к подъему на гору, и тут мы все уселись. Я сказал Сэлливану: «Положи ружье и обыщи этих людей», что он и сделал. Я спросил у каждого, как его звать; они мне ответили. Я спросил: ждут ли их в Нельсоне. Они ответили: «Нет». Если бы не это, они остались бы в живых. Денег мы взяли шестьдесят фунтов с лишним. Я спросил: «Это всё? Лучше будет, если вы признаетесь». Сэлливан сказал: «Вот мешок золота». Я спросил: «Что на этой лошади? Есть там золото?» На что Кемпторн ответил: «Да, мое золото в саквояже; я надеюсь, вы не все заберете». — «Ну вот что, — сказал я, — нам придется уводить вас поодиночке, потому что здесь крутой подъем, а потом мы вас отпустим». Они очень бодро ответили: «Хорошо». Мы связали им ноги и взяли с собой Дадлея; с ним мы прошли ярдов шестьдесят через кустарник. Предыдущей ночью мы уговорились, что лучше всего их задушить, а то выстрелы могут услышать с дороги, и потом, если мы промахнемся, их уже не найти. Значит, мы завязали ему глаза носовым платком, Сэлливан снял с него кушак, обмотал ему шею и так его задушил. Когда я душил старика рабочего, Сэлливану не понравился мой способ. Он сказал: «В другой раз, когда будем душить, я покажу тебе мой способ». Я сказал: «Мне не приходилось этого делать. Я застрелил человека, но никогда еще не душил». Мы вернулись к остальным, и Кемпторн спросил: «Что это был за шум?» Я ответил, что это трещали сучья, когда мы продирались через кусты. Дело отнимало чересчур много времени, и мы решили все-таки их застрелить. Я сказал: «Дальше не пойдем, но мы вас разлучим; потом одного развяжем, пусть освобождает остальных». Тут Сэлливан повел Де Понтиуса влево от того места, где сидел Кемпторн. Я повел Мэтью вправо. Я стянул ему ноги ремешком и выстрелил в него из револьвера. Он вскрикнул, а я убежал от него с ружьем в руке и увидел, что Кемпторн поднялся на ноги. Я прицелился и выстрелил ему в затылок за правым ухом; хлынула кровь, и он тут же умер. К тому времени Сэлливан застрелил Де Понтиуса и подошел ко мне. Я сказал: «Погляди, как там Мэтью», и указал место, где он лежал. Сэлливан вскоре вернулся и сказал: «Парень был еще живой, пришлось его «пришить», — жаргонное словечко означает, что пришлось его прирезать. Потом мы возвратились к дороге и прошли мимо места, где лежал Де Понтиус, он был мертвый. Сэлливан сказал: «Этот — старатель, все остальные лавочники; давай схороним старателя: если найдут остальных, подумают, что это сделал он и смылся», — означает — удрал. И мы завалили его камнями, потом ушли. Кровавое дело заняло почти полтора часа, с того времени как мы остановили этих людей».
Всякий, кто прочтет это признание, подумает: человек, написавший его, был лишен эмоций, лишен всяких чувств. В известном смысле это верно. По отношению к другим он был холоден, как лед, и безжалостен, но когда дело касалось его собственной персоны, все обстояло совсем иначе. Спасение собственной души его весьма беспокоило; что же касается будущего убитых им людей — о нем он ничуть не заботился. Кровь стынет в жилах, когда читаешь предисловие к признанию Бургесса. Судья назвал его «чудовищным богохульством». И в самом деле, выглядит оно именно так, однако Бургесс и не думал богохульствовать. Он был просто животным, и это проявлялось во всем, что он говорил и писал. Он считал искупление грехов самой настоящей реальностью, — ни один христианский мученик, привязанный к столбу на костре, не был так ликующе счастлив, как Бургесс на виселице. Обитатели мира сего устроены странно, а судьбы их неисповедимы. Нам полагается считать, что убитые Бургессом люди попадут в ад, а сам Бургесс — в рай; и все-таки мы об этом невольно сожалеем:
«Написано в мрачном подземелье, сего августа 7-го дня лета от рождества Христова 1866-го. Божьим произволением и его могуществом смирен мятежный дух окаянного грешника, удостоившегося через посредство верного Христова служителя познать всю тяжесть своего преступления, поскольку жизнь он вел ужасную и постыдную; и проповедями своими сей верный воин Христов склонил его на путь праведный и вселил в него веру в милосердие божие и надежду, что он все же примет его в лоно свое и очистит от скверны. Я отдаю себя во власть господа, ибо сказано: «Приди ко мне, и мы вместе рассудим; если грехи твои красны, как кровь, — они станут белы, как снег; если они алы, как пурпур, — то убелятся, как руно». И на это я уповаю».
Вечером мы снялись с якоря, провели несколько часов в Нью-Плимуте и снова поплыли, а на следующий день, 20 ноября, пришли в Окленд и несколько дней пробыли в этом прекрасном городе. Окленд стоит на возвышенности, и оттуда несравненный вид на океан. В окрестностях города чудесные прогулки; нам удалось насладиться ими благодаря любезности наших друзей. С высоты зеленой вершины вулкана Маунт-Эден глазу открываются самые разнообразные пейзажи — роскошные густые леса, изумрудные холмистые поля, алые островки цветов, зеленые полосы равнин, спускающиеся до горизонта, то тут, то там рассеченные потухшими вулканами, высокими и симметричными; а голубые заливы, искрясь и сверкая, убегают в дремотные дали, где в дымке тумана смутно маячат горы.
Из Окленда обычно отправляются в Роторуа — край знаменитых горячих озер и гейзеров, одно из первейших чудес Новой Зеландии; но я был не настолько здоров, чтобы туда съездить. Правительство построило там санатории, где всячески заботятся о больных и туристах. Однако официальный врач весьма сдержанно отзывается о целебном действии ванн при ревматизме, подагре, параличах и тому подобных недугах; зато когда речь заходит об искоренении пьянства — сдержанности как не бывало. Ванны излечивают от пьянства даже при самой застарелой форме, излечивают так основательно, что алкоголик теряет даже малейшее желание выпить. Сюда бы кинуться всем алкоголикам Европы и Америки; и они, конечно, кинутся, стоит им только пронюхать, что их тут ждет.
Район горячих ключей Новой Зеландии занимает более шестисот тысяч акров — почти тысячу квадратных миль. Роторуа — излюбленное местечко туристов. Это средоточие великолепных панорам гор и озер, и отсюда любители развлечений отправляются на прогулки. Больных тут масса и становится все больше. Роторуа — Карлсбад Австралазии.
Именно из Окленда отгружают смолу каури. В течение многих лет ее привозят сюда до восьми тысяч тонн ежегодно. Тонна несортированной смолы стоит примерно триста долларов, тонна высшего сорта — около тысячи. Вывозят ее главным образом в Америку. Это твердые гладкие плиты, напоминающие янтарь: светло-желтая смола похожа на новый янтарь; темно-коричневая похожа на старый янтарь. Она и наощупь приятна, как янтарь. Иные светлые куски почти можно принять за нешлифованные южноафриканские брильянты — такие они гладкие, блестящие и прозрачные. Из этой смолы вырабатывают лак; он не хуже копалового лака, да и стоит дешевле.
Эта смола — сок дерева каури. Ее добывают из земли, где она лежит веками. Доктор Кемпбелл из Окленда рассказал мне, что пятьдесят лет назад он отправил груз этой смолы в Англию, но из его затеи ничего не вышло. Никто не знал, что с ней делать, и ее продали на растопку, по пяти фунтов за топну.
26 ноября. — Отплыли в три часа дня. Гавань красивая и просторная. Еще долгие часы вокруг видна земля. Тангарива — гора, у которой «одинаковые очертания с любой стороны, откуда ни взгляни». В Окленде в это верят все. Да ведь оно так и есть — с любой стороны, кроме тринадцати... Идеальная летняя погода. Вдали резвится большая стая китов, они выпускают целые фонтаны воды; если видишь эти фонтаны в розовом отблеске заходящего солнца или на фоне темного массива острова, дремлющего в сизой тени грозовой тучи,— зрелища восхитительнее невозможно себе представить. Поодаль, слева от нас, в море высится громадный утес. Не так давно на него на полном ходу наскочил корабль, в тумане сбившийся на двадцать миль с курса; погибло сто сорок человек. Капитан, не медля ни секунды, лишил себя жизни. Он знал, что Пароходная компания уволит его, виновен ли он в катастрофе или нет, и сделает из этого рекламу: «Безопасность пассажиров превыше всего!», навсегда лишив его работы.
Глава XXXIV ПЕРЕДАЧА МЫСЛЕЙ НА РАССТОЯНИИ. Я ОШИБСЯ
Но будем чересчур привередливы. Лучше иметь старые подержанные брильянты, чем не иметь никаких.
Новый календарь Простофили Вильсона27 ноября. — Сегодня прибыли в Гисборн и бросили якорь в большой бухте; морс было неспокойно, и мы остались на борту.
Стояли мы в миле от берега; вскоре к нам направился небольшой буксирный пароход; пассажиры с трепетом следили за ним. Он то взбирался на гребень волны, раскачивался, словно пьяный, секунду — серая тень в вихре пены, то нырял в пучину и долго не показывался; а когда мы совсем уже считали его погибшим, вдруг круто, наискосок, подскакивал вверх, низвергая с бака целые водопады; и так все время, пока не подошел к нам. Пароход принес в своем чреве двадцать пять человек, мужчин и женщин, — главным образом актеров странствующей труппы. Команда собралась на палубе в зюйдвестках, желтых непромокаемых парусиновых костюмах и высоких сапогах. Палуба так и ходила под ногами и чаще всего стояла вкось, как стремянка, а могучие волны захлестывали борт и перекатывались через корму. Мы привязали длинный канат к ноку реи, прицепили к нему самое обыкновенное плетеное кресло и с размаху подбросили в воздух; направленное ловкой рукой, оно раскачивалось там, словно маятник, потом метнулось вниз, и его подхватили два матроса на баке пароходика. В кресле мы переправили молодого матроса, чтобы он оберегал прибывших пассажирок. На палубе тотчас появились две дамы, уселись к нему не колени, и мы потянули кресло вверх под небеса; а когда оно очутилось над нашим кораблем, быстро опустили и поймали его, прежде чем оно коснулось палубы. Мы перетащили к себе на пароход двадцать пять пассажирок и доставили на буксирный двадцать пять своих, среди них несколько пожилых женщин и одну слепую, и все благополучно. Хорошо поработали.
У нас чудесный пароход, вместительный и удобный; порядок на нем полный — придраться не к чему. В гостиницах нет-нет, да и наткнешься на крысу, но на судах мы давно не видали крыс, разве только на «Флоре»; впрочем, там нам было не до них. По моим наблюдениям, крысы водятся теперь только в гостиницах и на тех судах, где все еще пользуются отвратительным китайским гонгом. Наверное, это потому, что крысы не умеют узнавать время по часам и бегут из тех мест, где их не оповещают, что обед готов.
29 ноября. — Врач рассказал мне о нескольких горьких пьяницах, одном отчаявшемся бродяге и безнадежных нравственных калеках, которых обратила на путь истинный Армия Спасения: вот уже два года, как они не поддаются соблазну и усердно трудятся. Куда ни пойди, всюду встретишь подобные доказательства полезной деятельности Армии Спасения... Сегодня утром к нам залетела балларатская зеленая муха, и каюта сразу наполнилась оглушительным свистом, как на лесопилке; эта муха — самое быстрое, что есть на свете, не считая молнии. В ее крохотном теле таится огромная энергия, Если бы эта энергия, в тех же пропорциях, была у корабля, мы бы пронеслись от Ливерпуля до Нью-Йорка за один час — время, за которое можно успеть только позавтракать. Новозеландский курьерский поезд называют «балларатская муха»... У местных жителей скверные зубы. Местный уроженец сказал мне, что они их не пломбируют — вырвут и вставят искусственные; и совсем не редкость встретить молодую девушку с полным комплектом искусственных зубов. Счастливица! Как жаль, что я не родился с искусственными зубами, искусственной печенью и искусственными карбункулами. Мне жилось бы намного легче.
2 декабря, понедельник. — Уехали из Нейпира на «балларатской мухе» — поездом, который ходит два раза в неделю. От Нейпира до Гастингса двенадцать миль — пятьдесят минут езды; примерно тринадцать миль в час... Чудесный летний день; прохладный ветерок, ослепительное небо, роскошная растительность. Днем нам раза два-три встретились на редкость красивые густые леса, беспорядочно тянувшиеся по склонам к самому небу, но склоны совсем не похожи на обычные, напоминающие скаты крыш, где все деревья одинаковой высоты. Нам сказали, что самые величественные деревья тех лесов — деревья породы каури; из них делают брусчатку для мостовых европейских городов, — лучшего материала для этого не найти. Порой эти гигантские патриархи леса увешаны гирляндами ползучих лоз, а масса подлеска порой словно коконом спелената каким то иным видом лиан, топким, как паутина, — называют ого, кажется, «пролазой». Куда ни глянь — древовидные папоротника; ствол футов в пятнадцать высотой, увенчанный изящной чашей перистых листьев, — прелестное украшение леса. Видели мы также какой-то десятифутовый тростник, увенчанный чем-то похожим на желтые растрепанные волосы. Не знаю, как он называется, но если существует растение «скальп», то это оно и есть. А вблизи Пальмерстон-Нортс — романтическое ущелье, на дне которого струится ручей.
Вайтукурау. — Двадцатиминутный завтрак за столом. Со мною жена, дочь и мой менеджер — мистер Карлейл Смит. Я сидел во главе стола и видел стену справа; остальные сидели к ней спиной. На этой стене, довольно далеко от меня, висели две картины в рамах. Я не мог толком их разглядеть, но по расположению фигур решил, что на них изображено убийство зулусами сына Наполеона III в Южной Африке. Я вмешался в разговор о поэзии, капусте и искусстве и сказал жене:
— Помнишь, как в Париж пришло известие...
— Что убит принц?
(Именно эти слова были у меня на уме.)
— Да, но какой принц?
— Наполеон. Лулу.
— Почему ты о нем вспомнила?
— Сама не знаю.
Мы не сговаривались. Моя жена не видела картин, и о них не было сказано ни слова. В это путешествие мы отправились из Парижа семь месяцев назад, прожив там два года, и казалось, жене следовало бы вспомнить какую-нибудь недавнюю новость, а ведь она вспомнила о том, что произошло за время нашего краткого пребывания в Париже, шестнадцать лет назад.
Разве не явный случай передачи мыслей? Мой мозг телеграфировал мысль в ее мозг. Откуда у меня такая уверенность? Очень просто — я телеграфировал ошибку. Оказалось, что картина вовсе не изображала убийство Лулу и вообще не имела к нему никакого отношения. Моя жена приняла ошибку от меня, ибо эта мысль родилась у меня в голове.
Глава XXXV МАОРИ — ПАТРИОТЫ И ВОИНЫ
Русский самодержец обладает самой большой властью на земле, но и он не может запретить чихать.
Новый календарь Простофили ВильсонаВангануи, 3 декабря. — Вчера славно прокатились на «балларатской мухе». Поездка длилась четыре часа. Не знаю точно расстояния, но, по-видимому, чуть ли не пятьдесят миль. Растянись она на восемь часов, я был бы только рад: если тебе удобно и некуда спешить, время не имеет значения, во всяком случае для меня; а ведь новозеландские поезда — самое удобное и приятное из всего, что ходит на колесах. Нигде нет таких разумно устроенных вагонов, кроме Америки. Если добавить к этому прелестные ландшафты и почти полное отсутствие пыли, то... впрочем, тот, кто и теперь недоволен, пусть выйдет из вагона и прогуляется пешком. Это может оказать благотворное влияние на его настроение. Через часок вы на него наткнетесь — он будет смиренно ожидать у колеи, и вы его осчастливите, если позволите снопа сесть в поезд.
В городе и его окрестностях много ездят верхом; много хорошеньких девушек в красивых летних платьях; на каждом шагу — Армия Спасения; множество маори; лицо и тело некоторых стариков разрисовано с большим вкусом. За рекой высится здание городского управления маори — большое, солидное, из конца в конец устланное циновками, украшенное великолепной художественной резьбой. Маори чрезвычайно учтивы.
Один из членов палаты представителей уверял меня, что коренное население ничуть не уменьшается, а, наоборот, даже несколько увеличивается. Еще одно доказательство тому, что маори — высшая порода дикарей. Я не знаю ни одного дикого племени, которое строило бы такие добротные дома, уделяло бы столько внимания сельскому хозяйству, так прочно, изобретательно и разумно возводило бы крепости и обладало бы военным мастерством и механизмами, почти не уступающими военному мастерству и механизмам белых людей. Если добавить к этому, что маори способные судостроители и что у них есть склонности и вкус к прикладным наукам, то их «дикость» можно уже считать полуцивилизацией или, по крайней мере, четвертью цивилизации.
Народу маори делает честь, что британское правительство не уничтожило его, как уничтожало австралийцев и тасманцев, а удовлетворилось порабощением и дальше не пошло. Делает ему честь и то, что англичане отняли у него не всю лучшую землю, а значительную часть оставили и пошли еще дальше, защитив его от прожорливых земельных акул, — новозеландское правительство продолжает защищать его и по сей день. Делает честь народу маори и то, что правительство допустило его представителей в законодательные органы и кабинет министров и дало избирательное право как мужчинам, так и женщинам. Подобные поступки делают честь и самому правительству. В нашем мире победители не так уж часто проявляют милость к побежденным.
Достойнейшие белые люди, жившие среди маори в прежние времена, были о них высокого мнения и питали к ним искреннюю симпатию. В числе этих людей были автор «Новой Зеландии в далеком прошлом» и доктор Кемпбелл из Окленда. Доктору Кемпбеллу, близкому другу нескольких вождей, было что порассказать о верности, благородстве и великодушии этих людей, а также об их забавных понятиях о странной цивилизации белых и об их забавных о ней суждениях. Так, один из вождей думал, что миссионер все перепутал и поставил вверх ногами: «Ведь он требует, чтобы мы перестали почитать и задабривать злых богов, а почитали бы и задабривали доброго бога! А какой в этом смысл? Добрый бог и без того не причинит нам вреда».
Племя маори имело табу; так же как у полинезийцев, оно охватывало огромный круг предметов и выполнялось буква в букву. Некоторые его особенности, возможно, были заимствованы из Индии и Иудеи. Простой смертный у маори, как и у индийцев, не смел варить пищу на огне, которым пользовался аристократ племени, а знатному маори или знатному индийцу нельзя было пользоваться огнем, служившим человеку низкого происхождения; если маори или индиец низкого происхождения пил из сосуда, принадлежащего человеку знатному, сосуд считался оскверненным, и его следовало разбить. Между табу маори и кастовыми обычаями индийцев были и иные сходные черты.
Вчера ко мне ворвался сумасшедший и предупредил, что иезуиты собираются «извести» (отравить) меня пищей или же убить вечером на сцене. Он сказал, что видел на афишах о моих лекциях мистический знак (), означающий смерть. Еще он сказал, что спас жизнь преподобному мистеру Гейсу, предупредив, что на сцене есть три человека, которые его убьют, если он во время проповеди хоть на миг отведет от них взгляд. Те же люди присутствовали вчера и на моей лекции, но они заметили его. «А сегодня они придут?» Он замялся, потом сказал: «Нет, они, пожалуй, сделают передышку и попытаются меня отравить». Сумасшедший не отличался деликатностью, однако был довольно забавен. Он наговорил мне уйму всякой всячины. Он сказал, что за двадцать лет «спас от смерти так много лекторов, что они упрятали его в сумасшедший дом». В жизни не встречал сумасшедшего, столь дурно воспитанного.
8 декабря. — В Вангануи есть несколько любопытных памятников воинам. Один в честь белых, «которые пали, защищая закон и порядок от варварства и фанатизма». Фанатизм! Мы, американцы, — англичане по крови, англичане по языку, англичане по вере, англичане по основам вашего государственного строя и нашей цивилизации; так пусть не оставит нас надежда — из уважения к родственной нам крови, из уважения к родственному нам народу, — что это слово оказалось на памятнике по небрежности и его оттуда уберут. Если бы слова «которые пали, защищая закон и порядок от фанатизма» были высечены на Фермопилах, или там, где погиб Винкельрид, или на монументе Банкер-Хилла[36], было бы сразу понятно, что они означают и как они неуместны. Патриотизм остается патриотизмом. Его не унизишь, назвав фанатизмом; его ничем не унизишь. Даже если бы он был политической ошибкой — тысячу раз ошибкой, — сущность его не меняется. Патриотизм почетен — всегда почетен, всегда благороден и имеет право высоко держать голову и смело смотреть народам в глаза. Белых храбрецов, павших в войне с маори, почтили справедливо, по их заслугам, но слово «фанатизм» принижает величие дела, за которое они сражались, и их подвиги, — создает впечатление, будто они пролили кровь в бою с низким врагом, с врагом, недостойным этой великой жертвы. Но маори были ее достойны. С ними сразиться не было позором. Они воевали за свой дом, за свою родину, они храбро сражались и пали смертью храбрых; и слава доблестных англичан, покоящихся под монументом, ничуть не пострадала бы, — им бы еще прибавилось славы, если бы было сказано, что они погибли, защищая английские законы в дома англичан в борьбе с достойным противником — с маори, патриотами своей отчизны.
Второй памятник ничем не исправишь. Разве что динамитом. Он весь — сплошная ошибка, и удивительно безрассудная. Монумент воздвигли белые в честь маори, которые пали, сражаясь на стороне белых, против своего народа: «Памяти храбрецов, павших на поле брани 14 мая 1864 года», и так далее. На одной стороне высечено около двадцати имен маори. Это не плод моей фантазии — такой монумент существует, я сам его видел. Действительно, наглядный урок подрастающему поколению! Он призывает к предательству, вероломству, отречению от родины. Он недвусмысленно учит: «Измени своему знамени, убивай своих соотечественников, сжигай их дома, покрой позором свой народ — такие люди у нас в почете».
9 декабря. Веллингтон. — Доехали из Вангануи на «балларатской мухе» за десять часов.
12 декабря. — Веллингтон — красивый город, прекрасно расположенный. Бойкое место, жизнь кипит ключом. Провели там три дня, частью в прогулках, частью и обществе приятных людей, но больше всего бесцельно бродили по изумительному саду в Хатте, раскинувшемуся путь поодаль, вдоль побережья. Вряд ли нам скоро доведется еще раз попасть в сад подобной красоты.
Сегодня вечером укладываемся, едем обратно в Австралию. Пребывание в Новой Зеландии было слишком коротким, но мы рады, что видели эту страну хотя бы мельком.
Упорные маори порядком затруднили белым поселение на их острове. Не с самого начала, а позднее. Спорна они радушно встретили белых и очень охотно торговала с ними, особенно если могли приобрести ружья, — ибо забавы ради они постоянно воевали между собой и оружие белых нравилось им гораздо больше своего собственного. Я не оговорился — война действительно была для них забавой. Они нередко затевали стычки без всякой причины и убивали друг друга шутки ради, просто так. Автор «Новой Зеландии в далеком прошлом» приводит такой случай: победоносное войско, воспользовавшись своим преимуществом, могло уничтожить врага, но отказалось от этого: «Потому что, — наивно объяснили победители, — если бы мы это сделали, нам больше не с кем было бы воевать». В другой стычке армия известила противника, что у нее недостает оружия, и если ей не пришлют хоть немного, она будет вынуждена прекратить войну. Оружие было послано, и битва продолжалась.
Первое время дела шли неплохо. Туземцы продавали землю, не понимая условий сделки, а белые покупали, нимало об этом не заботясь. Мало-помалу маори стали догадываться, что их надувают, и тогда начались неприятности — не такие они люди, чтоб проглотить обиду и уйти в кусты проливать слезы. Маори отличались гордым духом и стойкостью тасманцев, к тому же они недурно владели военной наукой. Итак, они восстали против своих притеснителей — доблестные «фанатики» открыли военные действия, которые кончились только тогда, когда несколько поколений сошли в могилу,
Глава XXXVI ПОЭЗИЯ ТУЗЕМНЫХ НАЗВАНИЙ
Есть несколько недурных рецептов устоять перед соблазнами, но самый верный — трусость.
Новый календарь Простофили Вильсона
Имена не обязательно такие, какими кажутся на первый взгляд. Распространенное валийское имя Бзикслвип произносится: Джексон.
Новый календарь Простофили Вильсона13 декабря, пятница. — Отплыли в три часа дня на «Марароа». Теплые моря и хороший пароход — на свете нет ничего лучше.
Понедельник. — Три дня провели в раю. Тепло, солнечно и безмятежно; море сияет прозрачной синевой, совсем как Средиземное... Целый день нежишься на палубе, и шезлонге под тентом, — читаешь, куришь, безгранично умиротворенный. Проза не соответствует такому настроению, читаешь только поэзию. Я перечитывал стихи миссис Джулии А. Мур и снова открывал в них то изящество и мелодичность, что покорили меня двадцать лет назад, когда стихи впервые вышли из печати, и держат в радостном плену по сей день. «Сборник лирических песен» давно не переиздавался, и мир, в общем, позабыл его, но я не забыл. Куда бы я ни поехал, эта книга всегда со мной; она и бессмертный роман Гольдсмита... Для меня она полна такого же глубокого очаровании, как «Векфильдский священник», и я нахожу в ней тог же тонкий прием, — благодаря чему эпизод нарочито смешной становится трогательным, а нарочито трогательный смешит. В свое время миссис Мур называли «Соловьем Мичигана», и она была больше всего известна под этим именем. Сегодня прочитал ее книжку дважды — хотелось определить, какое же из стихотворении лучше всех, — и пришел к выводу, что по силе воздействия и глубине первого места заслуживает «Уильям Апсон»
УИЛЬЯМ АПСОН (На мотив «Майора единственный сын») Внемлите все. Пойдет сейчас О бедном юноше рассказ. Он духом храбрый был герой, А ныне спит и земле сырой. Он Уильям Апсон звался, но Так или этак — все равно Участье принял он в бою И в нем утратил жизнь спою. Сын Перри Апсона он был, И первенца отец любил, Кто в девятнадцать лет хотел Восстанье взять себе в удел. Отец сказал ему: «Иди!» Но мать молила: « Не ходи, Останься, Билли, здесь со мной». Но он не тронулся мольбой. Покинул он края свои, Поехал в Нашвилл, в Теннесси. Не знал никто, как умер он, Где прах его был погребен. Он ровно месяц прохворал. О, как рыдали отец и мать! А ныне сколь тяжка их грусть: Ушел их Билли в дальний путь! Коль сыну глаза закрыла бы мать (Ведь сына родного любила мать!) И в смертный бы час его с ним была, Спокойней бы встречи за гробом ждала. Была бы матери грусть легка, Коль умер бы он на ее руках И покинул бы этот свет, Прошептав ей прощальный прилет. И матери грусть теперь легка — Знает она, где могила сынка. Перенесен он на наш погост. Будет лить она меньше слез, Хоть не знает она, что то ее сын: Ведь гроб этот не был открыт. Не знает мать, кто в нем схоронен, И может, это вовсе не он[37].17 декабря. — Прибыли в Сидней.
19 декабря. — В поезде. Вошел мужчина лет тридцати, с четырьмя саквояжами; тщедушный субъект, с такими зубами, что рот его напоминает заброшенное кладбище. Волосы слиплись от помады и прикрывали голову, как панцирь. Он курил невероятные папиросы — вместо табака в них, по всем признакам, был навоз. Вместе с шевелюрой они распространяли запах истинно туземный. На нем был низко вырезанный жилет, порядком открывавший измятую, дырявую, грязную сорочку. Кричащие запонки из поддельного золота оставили на манишке черные круги. На манжетах были такие же запонки, только непомерно крупные и тоже под золото, — оборотная сторона у них была медная. Часы на увесистой цепочке под золото. По-видимому, они стояли, ибо один раз он спросил у Смита, который час. Его сюртук некогда был молод и красив; парадные светлые брюки были непостижимо засалены; побурели в башмаки на дешевого лака; кончики его рыжих усов лихо закручивались кверху. Он был диковинкой — подделкой под щеголя. Если бы ему позволили средства, он сделался бы настоящим, но и теперь он был вполне доволен собой. Об этом говорило выражение его лица, весь его вид, каждое его движение. Он жил в сказочной стране щеголей, где его убогая бутафория и сам он были настоящими. Он так упивался напускной томностью, аристократичностью и надменностью, неестественном светскостью и утонченностью своих манер, что это обескураживало насмешников и смягчало раздражение. Мне было ясно, что он мнит себя принцем Уэльским и держится так, как, по его мнению, держался бы принц. Носильщику, который внес и уложил в сетку его четыре саквояжа, он отвалил четыре цента, небрежно извинившись за ничтожное вознаграждение с истинно царственным высокомерием. Он растянулся на переднем месте, закинув руку за свою напомаженную черепную коробку, высунул ноги в окно и принялся разыгрывать роль принца, застыв в томной, мечтательной позе; он лениво следил за синими кольцами дыма своей папиросы и, скорчив блаженную мину, вдыхал распространяемое ею зловоние; изящнейшим жестом он стряхивал пепел и при этом, как бы нечаянно, самым нарочитым образом выставлял напоказ свое медное кольцо. Право, он так искусно подражал своему идеалу, что, наблюдая за ним, вы почти переносились в Марлборо-Хаус.
В дороге мы наблюдали и другие картины. Прекрасные берега реки Хоуксбери в районе Национального парка — дивные, несказанно прекрасные; широкая панорама речушек и озер в живописнейшем обрамлении лесистых холмов; то тут, то там самые причудливые группы гор, великолепнейшие сочетания водных эффектом. Дальше — зеленые равнины, кое-где поросшие эвкалиптовыми лесами; мелькали хижины и домишки мелких фермеров, занятых главным образом выращиванием детей. А еще дальше — полосы унылой и безжизненной пустыни. Затем Ньюкасл — кипучий город, центр богатого угольного района. Вблизи Сконы тянулись поля и пастбища, где зачастую попадалось неприятное растение — мерзкая низкорослая колючая груша, которую фермеры денно и нощно проклинают в своих молитвах; это грушевое дерево привезла в дар колонии некая чувствительная дама... Целый день стоял палящий зной...
20 декабря. — Снова в Сиднее. Опять палящий зной. Составил забавный список названий австралийских городов — по карте и из газеты, — думаю использовать для стихотворения.
Тумут
Таки
Мерривиламба
Бонрал
Балларат
Маллонгаджори
Марраранди
Вага-Вага
Вейлонг
Маррамбиджи
Гуморру
Уолловей
Кондопаринга
Квитпо
Тунгкилло
Уонилла
Уорру
Коппио
Япкалилла
Яранъяка
Якамурунди
Кайвака
Кунамбл
Кутамандра
Уолгулга
Миттагонг
Джамберу
Хвангроа
Оукапаринга
Талунга
Ятала
Парвирра
Гумуру
Тауранга
Джилонг
Тонгариро
Кайкура
Уонгари
Вейтпинга
Гоэлва
Манно Пара
Нангкита
Майпонга
Капанда
Куринга
Пенола
Нангуори
Конгоронг
Уакатипу
Угипара
Наракурт
Малуверти
Биннум
Уоллару
Уиррега
Мундура
Гаураки
Рангирири
Тивомут
Таранаки
Тувумба
Гундивинди
Джерилджери
Комам
Куливурти
Килланулла
Уоллонгонг
Вуллумуллу
Бомбала
Кулгарди
Бендиго
Кунамбл
Кутамандра
Уолгулга
Миттагонг
Джамберу
Хвангроа
Оукапаринга
Талунга
Ятала
Парвирра
Муруру
Хвангарей
Вулунгунга
Булеру
Пернатти
Паррамата
Тарум
Наррандера
Дениликвин
Кавакава
Пожалуй, лучше сесть за стихотворение не откладывая, сейчас, и погода поможет.
ЗНОЙНЫЙ ДЕНЬ В АВСТРАЛИИ (читать приглушенным голосом в полутьме) Здесь Бомбалу душит горячий Боврал, И весь Малленгаджери зноем объят. Нет, бриз из Кулгарди сюда не достал, — И пламенем дышит зловещий закат. И вздохи Мерривиламбы летят К цветочным беседкам Вуллумуллу, И в мечтах Уоллонгонг, и в мечтах Балларат По тенистым садам Джамберу. Вздыхает валляби по Маррамбиджи, По бархатным пастбищам Манно Пара, Где воды целебные Малуверти Струятся, сверкая, близ Яранъяка, Оплакал Уолловей Коппио тень, И втайне вздыхает по Марраранди, А вомбат в Хвангроа поносит тот день, Когда он покинул свой Джерилдери. И Нангкита лебедь, и дрозд Уоллару, И Тивомут Тумут с Уирреги полян Тоскуют по вас, Миттагонг, Тимару, Где воздух тенистой прохладою пьян. В жаре задыхается Куринга бык, Над Кондопарингой сожженная твердь. Хоть Конгоровг Комам прохлады достиг, Над Гумерру веет палящая смерть. В аду раскаленном равнин Муруру, Иссохнув, Ятала Уонгари лежит. Не выдержав мук, Уонидла Уорру В безумье к лесам Уолгулти бежит. Льет слезу Пангуори. Кунамбл в тоске. Над Тунгкилло Квитпо печали наряд. Ведь бриз Киллануллы затерян в песке, И ветры Булеру на западе спят. Майпонга, Капанда, очнитесь скорей! Янкалилла, Парвирра, не время вам спать! Ведь близится смерть. Но скажи, Хвангарей, Доколе Пеноле вотще вопиять? Кутамандра, и Таки, и Уакатипу, Тулумба, Кайкура погибли давно. От Оукапаринги до Гумуру Все адским огнем сожжено, Парраматта и Биннум покой обрели В долине Тапанни Тарум. Кавакава, Дениликвин — радость земли, Уничтожил жестокий самум. Нарраидера рыдает, а Камеру нем. Мы зовем, но в ответ тишина. Тонгариро, Гундивинди, Вулунгунга, вам всем Та же гибель судьбой суждена.Недурно, если учесть, что я не поэт. Возможно, прославленный поэт-лауреат оправился бы лучше, но лауреат получает жалованье, а это меняет дело. Мне за стихи жалованье не платят, наоборот — я часто несу на этом убыток. В списке самое лучшее слово и самое мелодичное и переливчатое — Вуллумуллу. Так называется модное курортное местечко неподалеку от Сиднея. В этом слове четыре «у» и четыре «л».
Великолепный материал для стихов. Лучший, с каким мне приходилось иметь дело. В списке восемьдесят одно название. Я не использовал их все, но большую часть все же пристроил; кажется, справился
КНИГА ВТОРАЯ
Глава I ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА ЦЕЙЛОН
Чтобы достигнуть успеха на каком-либо поприще, надо проявить способности; в юриспруденции достаточно их как следует скрыть.
Новый календарь Простофили ВильсонаПонедельник, 23 декабря 1895 г. — В воскресенье отплыли из Сиднея на Цейлон пароходом «Океана». Команда на этом корабле — ласкары[38], я впервые их вижу. Белые хлопчатобумажные юбочки и шаровары; босиком; красные кушаки на талии; на голове соломенные шляпы без полей, обвитые красной материей; лица темно-коричневые; короткие прямые черные волосы; усы и бороды шелковистые, черные, как вороново крыло. Добродушные, милые лица; доброжелательный, послушный народ и к тому же способный; но говорят, что при малейшей опасности эти люди невероятно теряются. Они из Бомбея и прилегающего к нему побережья... Часть вещей мы оставили в Сиднее, их переправят в Южную Африку кораблем, который пойдет туда через три месяца. Пословица гласит: «Не расставайся со своим багажом...» «Океана» — большое величавое судно, прекрасно оборудованное. У него просторные палубы для прогулок, большущие каюты; вообще пароход чрезвычайно комфортабелен. Библиотека для офицерского состава подобрана превосходно, — для корабельных библиотек это большая редкость... К обеденному столу призывают звуком горна, словно на военном судне, — приятное разнообразие после ужасного гонга... Три больших кошки — очень ласковые бездельницы, они бродят по всему пароходу; одна из них — белая — бегает за старшим стюардом, как собачонка. Есть и корзина с котятами. Кот сходит на берег, когда «Океана» останавливается в каком-нибудь порту — в Англии, Австралии или Индии, — и навещает свои многочисленные семьи, появляясь на пароходе лишь в ту минуту, когда он готов к отплытию. Никто не знает, как этот кот угадывает час отплытия, по, видимо, он каждый день приходит на пристань взглянуть, что тут делается, и, увидев хлынувший к пароходу поток пассажиров и чемоданов, решает, что пора отправляться на борт и ему. Моряки считают, что дело происходит именно так... Старший механик плавает на торговых судах в Китай и Индию тридцать три года и за это время встретил рождество у домашнею очага не больше трех раз... Темы разговоров за обедом: «Мокко? По всему свету торгуют мокко? Как бы не так! Да на самом деле очень мало иноземцев, за исключением русского императора, в жизни видели хоть зернышко мокко, — да они его и не увидят». Другой говорит иное: «Австралийскому вину в Австралии сбыта нет. Оно идет во Францию и возвращается оттуда с французской этикеткой, и тогда его покупают уже и здесь». Мне приходилось слышать, что большая часть кларета с французской маркой, продаваемого в Нью-Йорке, изготовляется в Калифорнии. И я вспоминаю, как профессор С. однажды рассказывал мне историю о клико — если только речь шла именно об этом вине. Профессор С. гостил у крупного виноторговца, житного в городке, окруженном виноградниками, где рос виноград сорта клико, и виноторговец спросил гостя, много ли пьют в Америке клико. — О, разумеется много, — отвечал профессор С. — Огромное количество.
— А легко ли это вино достать?
— Легче легкого, — не труднее, чем воду. Оно есть во всяком отеле первого и второго класса.
— А почем его продают?
— Это зависит от отеля — цена колеблется от пятнадцати до двадцати пяти франков за бутылку.
— Благословенная Америка! Ведь даже у нас, где производится это вино, оно стоит сто франков бутылка.
— Не может быть!
— Уверяю вас.
— Уж не считаете ли вы, что нам приходится пить клико поддельное?
— Конечно. Настоящего клико не попадало в Америку ни бутылки со времен Колумба. Виноград для этого вина растет на крошечном клочке земли, — много вина с него не получить. И все оно каждый год идет к одной-единственной персоне — к русскому императору. Он заранее закупает весь урожай на корню, велик он или мал.
4 января 1896 г. — Рождество — в Мельбурне, Новый год — в Аделаиде; там и тут вновь видел многих-друзей... Сегодня весь день стоим на якоре — Олбани (бухта Кинг-Джордж), Западная Австралия. Это прекрасно укрытая гавань, или рейд, очень просторная на вид, но отнюдь не глубокая. Унылые одинокие утесы и изрезанные рубцами холмы. Сюда приходит теперь множество судов; все бросились к новым золотым россыпям. Госты полны фантастических историй,— такие истории появляются всякий раз, когда золото находят в новом месте. Вот образец: один юноша застолбил участок и пытался продать половину его за пять фунтов; покупателей нет; он сидит на участке, как проклятый, четырнадцать суток, умирая с голода, потом находит кучу золота и продает участок за десять тысяч фунтов... Вечером, перед заходом солнца, когда подул свежий бриз, снялись с якоря. Мы находились в небольшом глубоком «ковше», выбраться из которого к открытому морю можно было лишь по узенькому каналу, густо обставленному буями. Я стоял на палубе, с интересом наблюдая, как справляется с такой задачей наш огромный пароход да еще при столь сильном ветре. На мостике наш богатырь капитан, одетый по всей форме; рядом с ним маленький лоцман, — его мундир обильно расшит золотом; на баке белый штурман, двое старшин и готовая к любой работе, сверкающая черная толпа ласкаров. Мы стояли к выходу из канала прямо кормой, так что разворачиваться в тинистом «ковше» надо было буквально на месте, — а ветер, как я сказал, был очень сильный. Пароход справился с этим, и справился блестяще. Это было сделано с помощью кливера. Мы взбаламутили воду и подняли на поверхность много грязи, но дна не задели. И развернулись мы самым точным образом на месте, — дело почти неслыханное. Промеры глубин давали меньше 27 футов, а кормой наше судно сидело на 26 футов. К тому времени, как мы закончили разворот и легли на курс, первый буй был от нас не более чем в сотне ярдов прямо по носу. Это была отличная работа, и я оказался единственным пассажиром, который ее видел. Впрочем, остальные пассажиры за это время пообедали; мой же обед достался Пароходной компании... Кошек развелось еще больше, Смит говорит, что, по британским законам, без кошек на борту обойтись нельзя; он рассказывает случай, когда кораблю не разрешили выйти в море, пока не была куплена пара кошек. Пришел и счет: «За двух кошек двадцать шиллингов...» Получены известия, что на этой неделе Сиам признал себя французским владением. Теперь уже очевидно, что все дикие и полудикие страны скоро будут захвачены... На корабле гриф — лысый, красный, с уродливой странной головой и голыми, без единого перышка, проплешинами по всему телу; пронзительные большие черные глаза, и вокруг них ободки голого, словно воспаленного мяса; рассеянный взгляд; вид совершенно деловой, самодовольный, бессовестный, вид злодея, — и однако, эта птица с внешностью профессионального убийцы никогда не убивает. Зачем ей понадобился столь устрашающий вид при ее мирном образе жизни? Ведь она отнюдь не нападает на живых, ее пища — падаль, и чем больше она воняет, тем лучше. Природа должна бы дать этой птице порыжевшее черное одеяние — тогда она походила бы на гробовщика, что и соответствовало бы ее привычкам; нынешний же ее вид ужасно неуместен.
5 января. — В 9 часов утра прошли мыс Львиный и закончили свое многодневное плавание вдоль южного берега Австралии — на запад. Обогнув эту крайнюю юго-западную точку австралийской земли, мы направляемся без остановок почти прямо на северо-запад, к Цейлону. С продвижением на север температура будет все больше попытаться, — правда, и сейчас отнюдь не холодно... Наш гриф — из городского зверинца в Аделаиде, где собрана большая и интересная коллекция животных. Там мы видели, как маленький тигренок важно раскрывает пасть и пытается громко рычать, подражая своей величественной мамаше. Освоившись, он торжественно расхаживал взад и вперед на своих коротких лапах точно так же, как расхаживала его мама на длинных, и время от времени злобно урчал, обнажая зубы и приподнимая верхнюю губу с ощетинившимися усами; а когда ему казалось, что он произвел большое впечатление на зрителей, он широко разевал пасть и издавал визгливые звуки, которые считал грозным рыком, но которые никого не устрашали. Тигренок относился к себе с невероятной серьезностью, и это было и забавно и трогательно. Была там также гиена — отвратительное существо, столь же отвратительное, сколь забавен был тигренок. Гиена то и дело выгибала спину и испускала пронзительные крики, удивительно напоминавшие крик человека, когда ему очень больно. В темноте кто-нибудь мог бы кинуться на помощь — и был бы немало смущен и разочарован... На борту много сторонников Австралазийской федерации. Они считают, что хорошие времена уже не за горами. Но, по-видимому, есть партия, готовая пойти еще дальше, — отделить Австралазию от Британской империи и начать хозяйничать на свой страх и риск. Думается, что это неразумно. Эти люди ссылаются на Соединенные Штаты, но, мне кажется, тут нет никакой аналогии. Австралазия управляет собою вполне самостоятельно, ей никто не мешает, на ее тор ron.no и промышленность никто не давит. Если бы у нас все было так же, мы в свое время не пошли бы на отделение.
13 января. — Невероятно жарко. Вновь приближается экватор. Мы не более чем в восьми градусах от него. Перед нами Цейлон. Боже мой, как он прекрасен! Это воистину тропики, если говорить о пышности и богатстве растительности, «О, какие душистые ветры овевают остров Цейлон» — красноречивая строка, несравненная строка; в ней мало слов, но она таит целые тома чувств, всю прелесть Востока и все его тайны; в этой строке — очарование тропиков, она трепещет и звенит, навевая тысячу невыраженных и невыразимых ощущений, которые томят душу и высказать которые — нет слов... Коломбо, столица. Восточный город, типично восточный и очаровательный... На нашем роскошном пароходе пассажиры одеваются к обеду. Туалеты дам сияют всеми цветами радуги в полной гармонии с элегантным убранством судна и сверкающим потоком электрического света. В бурной Атлантике на корабле никогда не увидишь мужчину во фраке, разве только в редчайших случаях; да и то во фраке бывает один единственный мужчина один единственный раз за все плавание — вечером накануне прихода в порт, — в этот вечер устраивается «концерт», и люди слушают завывания и декламацию любителя. Это, как правило, тенор... На палубе много играют в крикет; казалось бы, тут это не совсем подходящая игра, но игроки огораживают прогулочную палубу сеткой, не давая шарам падать за борт, и все идет отлично, с должным оживлением и азартом... Здесь мы должны этот пароход покинуть.
14 января. — Отель «Бристоль». Слуга Бромпи. На редкость проворный, добрый, веселый и обаятельный коричневый юноша. Красивые блестящие черные волосы зачесаны назад, как у женщины, и стянуты на затылке узлом; узел проткнут черепаховым гребнем: в знак того, что юноша — сингал; гибкое, стройное тело; куртка; из-под куртки спадает вниз, без всякого пояса, широчайшее белое хлопчатобумажное платье — от шеи до самых пяток; парень совсем и непохож на мужчину. В его присутствии даже стесняешься раздеваться.
Едем на базар, наняв японского типа рикшу; на рикше мы впервые в жизни. Это легкая коляска, которую везет индиец. В течение получаса он бежит быстро, но работа эта тяжела для него, он для нее чересчур худосочен. Через полчаса всякое удовольствие от езды пропадает: все ваше внимание сосредоточивается на индийце, словно на измученной лошади; и вы не можете ему не сочувствовать. Таких рикшей тут множество, стоят они невероятно дешево.
Несколько лет назад я был в Каире. Это город восточный, но все же не совсем. Когда вы приезжаете во Флориду или Новый Орлеан, вы явно оказываетесь на Юге, но вы еще не на самом Юге, — это только еще смягченный, умеренный Юг. Каир был умеренным Востоком, — для настоящего Востока ему недостает чего-то смутного, неуловимого. На Цейлоне такого чувства нет. Цейлон — это Восток в самом полном его выражении. Восток абсолютный. И тропики тут абсолютные; Восток и тропики в нашем представлении неотделимы. Тут есть все, что требуется от Востока: живописные восточные костюмы; черные и бронзовые тела людей, незнакомых с чувством ложного стыда; факир со своей корзинкой, со своей змеей, со своей мангустой и всевозможными приспособлениями для фокусов — он может вырастить из семечка зрелое дерево с листвой и плодами прямо на ваших глазах; повсюду растения и цветы, знакомые только по книгам, — прославленные, желанные, диковинные, произрастающие лишь в жарком экваториальном поясе; а стоит немного отъехать в глубь острова — и там настоящие ядовитые змеи, свирепые хищные звери, дикие слоны и обезьяны. В воздухе стоит некое марево, которое в воображении всегда связывается с тропиками, и этот давящий зной, насыщенный ароматами неведомых цветов, и внезапное наступление багровых сумерек, пронизанных молниями, затем сокрушительный грохот грома и ливень, — и вот уже опять все улыбается и снова сияет солнышко; все это есть в здешних краях, все тут выражено с удивительной полнотой, большего и желать нечего. А там, в непроходимой чаще джунглей и в отдаленных глухих горах, руины городов и заброшенные храмы, таинственные реликвии роскоши былых времен и исчезнувших рас, — и это все тоже тут есть, ибо какой же Восток без волнующих душу тайн и древностей?
Поездка по городу и посещение Галле Фас на побережье — волшебная сказка: тут и тропическая роскошь цветов, и истинно восточная, пламенная яркость костюмов! Группами идут мужчины, женщины, дети, каждый — словно огненный цветок, каждая группа — будто пылающий костер. И какие великолепные, какие живые краски, как чудесно переливаются и сверкают в них радуги и молнии! И все чрезвычайно гармонично, все носит печать превосходного вкуса: ни одного кричащего оттенка, ни одного тона в одежде, который бы мешал другому тону, все цвета сливаются в безукоризненной гамме, и ни один человек не нарушает ее. На всех шелк — тонкий, мягкий, нежный, прекрасно облегающий фигуру; как правило, каждый кусок шелка однотонный: дивный зеленый, дивный голубой, дивный желтый, дивный пурпурный, дивный рубиновый, — они мерцают огненными искрами, колышутся в людских сборищах и толпах, сияют, сверкают, горят, лучатся; каждые пять секунд мелькает красный — столь ослепительный, что у вас дух захватывает от восторга. А невообразимое изящество этих костюмов! Порою все одеяние женщины состоит из одного шарфа, который обвивает ее тело и голову; случается, что на мужчине только чалма и один-два небрежно повязанные лоскута; и у женщин и у мужчин блестящая темная кожа. Всюду пиршество красок, радующее глаз, и ваше сердце поет от счастья.
Я словно сейчас вижу эту сверкающую панораму, это буйство ярчайших красок, эти несравненные оттенки, эти гибкие полуприкрытые человеческие тела, прекрасные коричневые лица, изящные, грациозные жесты, движения, позы — свободные, естественные, лишенные какой-либо скованности или стыдливости. И вот...
В эти сказочные видения, в эти райские краски вонзился резкий диссонанс. Из миссионерской школы вышло шестнадцать набожных девочек-христианок; это были чернокожие девочки, они шагали парами, все в европейском платье, — одетые так, как их одели бы в воскресный летний день в английской или американской деревне. Это миссионерское платье — оно было чудовищно! Уродливое, варварское, лишенное вкуса и изящества, отталкивающее, как погребальный саван. Я посмотрел на одеяние моих спутниц — их платья оказались увеличенными копиями отвратительных одежд несчастных девочек, — и мне стало неловко идти рядом с ними по улице. Но когда я посмотрел на свой собственный костюм — мне стало неловко за самого себя.
И тем не менее мы вынуждены мириться с нашей одеждой, с такой, как она есть, — она не зря существует. Наша одежда разоблачает нас — она показывает то, что, казалось бы, должна скрывать. Наша одежда — это символ, знак лицемерия, знак подавленного тщеславия; мы делаем вид, что презираем пышные краски, грацию, гармонию и формы, — и мы надеваем наши одежды, чтобы распространить эту ложь и подкрепить ее. Но нам не обмануть своих соседей; а когда мы попадаем на Цейлон, нам становится ясно, что мы не сумели обмануть даже самих себя. Оказывается, мы любим яркие краски и изящные костюмы; даже на родине мы в любую погоду выскакиваем из дома, чтобы взглянуть на красочное шествие, — и завидуем нарядным одеждам. Мы идем в театр, чтобы посмотреть на наряды, и горюем, что сами не можем так одеться. Мы идем на придворный бал, если выпадет такой случай, и с удовольствием разглядываем великолепные мундиры и сверкающие ордена. Когда мы получаем разрешение посетить королевскую гостиную, мы запираемся у себя и тайком часами красуемся в шикарных придворных костюмах, любуясь на себя в зеркало и чувствуя себя бесконечно счастливыми; каждый чиновник при губернаторе в нашей демократической Америке проделывает то же самое со своим новым пышным мундиром, и если за ним не подсматривают, он, пожалуй, с удовольствием сфотографируется в этом мундире. Когда я гляжу на лакея в доме лорд-мэра, я чувствую себя обиженным судьбой. Да, наши одежды лживы, и такими они были все последнее столетие. Они неискренни, они — безобразное и подобающее выражение нашего внутреннего притворства и упадка морали.
Коричневый мальчишка, которого я последним видел на запруженных народом улицах Коломбо, прикрывал свою наготу лишь шнурком, перепоясывавшим его талию, но в моем представлении откровенная честность его костюма куда приятнее, чем те вопиющие по безвкусице одеяния, в которые были облачены бедные девочки из воскресной школы.
Глава II БОМБЕЙ — ОЖИВШАЯ СТРАНИЦА ИЗ «ТЫСЯЧИ И ОДНОЙ НОЧИ»
Богатому можно иметь любые принципы.
Новый календарь Простофили Вильсона14-го, вечер. — Отплыли на «Розетте». Это старая калоша, которую надо бы застраховать и утопить. Здесь, точно так же как и на «Океане», все переодеваются к обеду, это стало чем-то вроде торжественного ритуала. Чудесные, изысканные наряды являют собой такой явный контраст с убогой бедностью окружающего!.. Если вам понадобится кружочек лимона к дневному чаю, вы должны специально его заказать. Лимоны стоят 14 центов бочонок.
18 января. — Вот мы идем наконец по Аравийскому морю. Приближаемся к Бомбею, сегодня вечером должны быть там.
20 января. — Бомбей! Колдовской, удивительный, чарующий город, будто снова читаешь «Тысячу и одну ночь»! Это большой город, в нем около миллиона жителей. Всё индийцы, прослойка белых очень невелика и ничуть не влияет на общий вид темнокожей толпы. Здесь теперь зима, но погода дивная — чистейший июнь; листва на деревьях свежа и пышна, как в июне. Напротив отеля — вереница благородных, тенистых, большущих деревьев, под ними сидят живописные группы индийцев, мужчин и женщин; тут же факир в чалме со своими змеями и фокусами; целый день течет поток экипажей и людей в самых разнообразных одеждах. Кажется, никогда не устанешь смотреть на это вечно подвижное, сверкающее красками зрелище... На огромном базаре, в густой толпе, в давке, наблюдать местных жителей восхитительно: море ярких тюрбанов и одеяний; причудливая индийская архитектура, чудесно гармонирующая с окружающим ее пейзажем. К вечеру новое зрелище — поездка вдоль берега моря, к мысу Малабар, где живет лорд Сандхерст, губернатор Бомбея. Сначала едешь мимо дворцов парсов[39]; когда их минуешь, то тебе покажется, будто двинулся в путь весь город; кучер и три лакея в каретах богатых англичан и знатных индийцев одеты в ошеломляющие восточные ливреи; причем две таких фигуры в чалмах, неподвижные, как статуи, стоят на запятках. Иногда даже в наемных каретах видишь такое же изобилие лакеев; правда, они располагаются там чуть в ином порядке — один правит, второй сидит с ним рядом и наблюдает за первым, третий стоит на запятках и кричит — кричит, когда кто-нибудь есть на пути и когда никого нет, — для практики. Все это создает впечатление беспрерывного шума, оживленного движения и суматохи.
В районе Скандального мыса — меткое название! — где есть удобные скалы, чтобы посидеть, и открывается с одной стороны прекрасный вид на море, а с другой двигаются сплошной тесной вереницей пышные экипажи, встречается множество хорошо одетых парсианских женщин; они словно охапки ярких цветов, — чарующее зрелище! Люди идут, идут по дороге, идут поодиночке, парами, группами, толпами; видишь здесь и рабочих и работниц, но одеты они совсем не так, как у нас. Мужчина-рабочий — это обычно прекрасно сложенный атлет, на нем одна набедренная повязка; кожа у него темно-коричневая, атласистая, мускулы под нею вздуваются, словно шары. Женщина — изящное, стройное существо, прямая, как пальма, и все ее одеяние состоит из одного куска яркой ткани, которой она окутывает себе голову и тело до колен и которая плотно ее облегает. Икры и ступни ног у нее голые, голые и руки, только на лодыжках и запястьях множество разнообразных серебряных колец. Одна ноздря украшена кольцом, по нескольку блестящих колец и на пальцах ног. Когда она раздевается перед сном то, я думаю, она снимает свои украшения. Если она снимет с себя что-нибудь еще, она может простудиться. Как правило, на голове у нее большой сияющий, великолепной формы, медный кувшин для воды; она поддерживает его своею изогнутой голой рукою. Она так стройна, шагает с такой легкостью, грацией и достоинством, ее изогнутая рука и медный кувшин так живописны — право, нашей простой женщине до нее далеко!
Всюду краски, чарующие, колдовские краски, — везде, кругом, вдоль всего раскинувшегося дугой жемчужного залива, вплоть до губернаторского дома, у дверей которого торжественно стоят на страже местные дюжие чапраси[40] в огромных чалмах и огненно-красных одеждах, — они так дополняют общую великолепную картину, завершая ее с театральной пышностью. Хотел бы я быть чапраси!
Это истинная Индия: страна романтики и мечты; страна сказочного богатства и сказочной нищеты, роскоши и лохмотьев, дворцов и жалких лачуг, голода, эпидемий, джиннов, великанов и Аладдиновых ламп, тигров и слонов, кобр и джунглей; страна, где существует сотня различных народов и сотня различных языков, тысяча религий и два миллиона богов; колыбель человеческой расы, земля, где зародилась человеческая речь; страна — мать истории, бабка легенды, прабабка преданий, чей вчерашний день не моложе самой глубокой древности остальных народов, — единственная страна под солнцем, которая неизменно и всегда интересна для любого иноземного принца и иноземного землепашца, для изысканно образованного и для невежественного, для мудреца и глупца, для богача и нищего, угнетенного и свободного; единственная страна, которую хотят увидеть все люди, а увидев ее хотя бы мельком, уже никогда не забудут, не променяют на все зрелища земного шара.
Даже теперь, когда минул целый год, восторженное исступленно тех днем в Бомбее живет в моей душе и, я думаю, будет жить в пей всегда. Все тогда было для меня новым, каждая мелочь. И не надо было ждать утра, чтобы увидеть Индию, — она начиналась тут же в отеле. Коридоры и залы были полны коричневых людей в чалмах в фесках, в расшитых одеяниях, в шапках, босиком; кто опрометью куда-то бежит, кто сидит на корточках и отдыхает, кто оживленно разговаривает, кто молчит и словно грезит; в столовой за спинкой стула у каждого стоит местный слуга, одетый так, будто сошел со страниц арабских сказок.
Нам отвели комнату на верхнем этаже, окнами на улицу. Белый человек — коренастый немец — поднялся вместе с нами, прихватив с собой трех индийцев, чтобы разместить в номере наши вещи. Еще четырнадцать индийцев гуськом шли за первыми тремя, таща наш ручной багаж; каждый нес только один предмет.— не больше; иногда это был чемодан, иногда что-нибудь поменьше. Один дюжий индиец нес мое пальто, второй — зонтик, третий — ящик с сигарами, четвертый — книжку, а последний носильщик в этой процессии тащил веер. Все это делалось очень серьезно и старательно. Никто, начиная с первого носильщика и кончая последним, и не подумал улыбнуться. Каждый подходил и спокойно, терпеливо ждал, пока кто-нибудь из нас не давал ему монетку, — тогда индиец почтительно кланялся, прикладывал пальцы ко лбу и удалялся. Это, по-видимому, мягкий, вежливый народ, в их поведении было что-то очень душевное и трогательное.
В номере была большая застекленная дверь, выходящая на балкон. Надо было то ли поплотнее закрыть ее, то ли протереть — и индиец опустился на колени и начал работать. Мне казалось, что он все делает как положено, но, по-видимому, это было не так, ибо коренастый немец скорчил недовольную мину и без всякого объяснения ударил его в челюсть, а уж потом сказал ему, в чем он провинился; Как ему только не стыдно делать такие вещи при нас! Индиец снес все совершенно покорно и ни словом, ни жестом не выдал своей обиды. Я не видел ничего подобного уже лет пятьдесят. Этот случай перенес меня в годы моего детства, и тут мне все стало ясно: ведь это же обычный способ показать рабу, что ты от него чего-то хочешь. Я вспомнил, что тогда мне это казалось и правильным и естественным; я привык к этому с молодых ногтей и не представлял себе, что где-то существуют иные отношения; в то же время я вспомнил, что такие покорно принимавшиеся зуботычины вызывали во мне жалость к жертве и чувство стыда за того, кто наносил удар. Мой отец был добрым и вежливым человеком, очень степенным, даже строгим, человеком щепетильной честности, неукоснительно справедливым и прямым, хотя он и не ходил в церковь, никогда не заговаривал о религии и не принимал никакого участия в благочестивых радостях своей пресвитерианской семьи и, по-видимому, ничуть от этого не страдал. Он наложил на меня свою карающую руку лишь дважды в жизни, да и то довольно легко; один раз за то, что я ему солгал,— наказание очень удивило меня и открыло мне глаза: сколь доверчив был отец, — ибо лгал я ему тогда далеко не в первый раз. Он наказал меня всего дважды и никого другого из нашей семьи не коснулся пальцем, но он то и дело давал тычок-другой нашему безобидному мальчишке-невольнику Льюису, — и к тому же за самые пустячные упущения или простую неловкость. Мой отец с колыбели жил среди рабов, и затрещины, которыми он их награждал, объяснялись отнюдь не его характером, а правами времени. Когда мне было десять лет, я видел, как один человек в ярости швырнул железным бруском в невольника только за то, что тот что-то сделал недостаточно проворно, — словно это было преступление. Брусок попал рабу в голову, и тот упал наземь. Через час он умер. Я знал, что хозяин имел право убить своего невольника, если ему хотелось, и все же я чувствовал в этом что-то ужасно обидное и несправедливое, но почему — этого я тогда не смог бы объяснить. Никто в поселке не одобрил этого убийства, хотя, разумеется, вес помалкивали.
Удивительно, с каким могуществом мысль преодолевает время и пространство. Увиденная мною сцена на одну секунду перенесла меня в поселок в штате Миссури, на другую сторону земного шара, и я снова ясно увидел забытые картины пятидесятилетней давности — в ту секунду я видел только их и ничего более. В следующую секунду я оказался снова в Бомбее, и у стоящего на коленях индийца щека еще пылала от удара! Назад к детству — пятьдесят лет; снова к сегодняшнему дню — еще пятьдесят; полет, по дальности равный окружности Земли, — и все это в две секунды по часам!
Несколько индийцев — не помню, сколько именно — пошли и мою спальню, привели там все в порядок, наладили сетку от москитов, и я лег в постель, чтобы лелеять свой кашель. Было около девяти часов вечера. Но что такое?! Еще три часа не умолкали крики и завывания индийцев в вестибюле, мягкое шлепанье их проворных босых ног. Раздавались какие-то выкрики, с третьего этажа на первый летели громкие приказания, — шум не прекращался ни на миг. Можно было подумать, что происходит бунт, возмущение, революция. Потом донеслись новые звуки, они присоединились к прежним и время от времени как бы подчеркивали их — словно рушились крыши, разбивались окна, погибали люди; где-то пронзительно кричали вороны, хихикали, бранились, скрипуче пищали канарейки, бормотали обезьяны, кричали что-то богохульное попугаи, а время от времени я слышал дьявольский хохот и взрывы динамита. К полуночи все было кончено, я стойко выдержал все звуки, шумы и трески, какие есть на свете, и понял, что теперь уже ничто не может смутить мой покой — ни что-нибудь одно, ни все вместе. И тогда наступила тишина — глубокая, торжественная тишина... и длилась она до пяти часов утра.
Тут все началось снова. И кто бы, вы думали, начал? Птица птиц — индийская ворона. Позднее я познакомился с нею поближе и был прямо-таки очарован. Мне кажется, что из всех пернатых ей выпала самая суровая участь. И тем не менее это весьма жизнерадостная птица, весьма довольная собою. Ворона — это не плод беззаботного творчества, не результат какого-то внезапного созидательного порыва, — это поистине произведение искусства, а «искусство вечно»; ворона — продукт незапамятных времен, результат тщательных расчетов, — невозможно сотворить подобную птицу в одни сутки. Она перевоплощалась большее количество раз, чем Шива, и при каждом новом перевоплощении сохраняла что-то от прежнего и привносила это в свою телесную оболочку. В своем постепенном продвижении вперед, в своем величественном марше к конечному совершенству она бывала картежником, низким комедиантом, распутным священником, суетливой женщиной, мерзавцем, безбожником, лжецом, вором, шпионом, полицейским агентом, продажным политиканом, мошенником, профессиональным лицемером, радетелем мамоны, реформистом, лектором, адвокатом, заговорщиком, бунтарем, роялистом, демократом, проповедником хамства и непочтительности, самозванцем, пролазой, сплетником, язычником, неисправимым грешником. Странный, невероятный факт: при столь пагубном соединении столь неприглядных свойств ворона не знает, что такое забота, печаль или угрызении совести; ее жизнь — это сплошное торжество, экстаз, истинное счастье, и она примет свою смерть без тени волнения, прекрасно зная, что в свое время воплотится в какое-то новое существо — ну хотя бы в писателя — и будет еще мудрее и счастливее, чем когда-либо прежде.
Когда она делает широкий шаг вперед, подпрыгивает несколько раз подряд в сторону, то и дело с хитрым и самодовольным видом поворачивая голову, она становится похожей на американского черного дрозда. Но это поразительное сходство тут же исчезает. Она гораздо крупнее дрозда, не столь изящна и нарядна, у нее нет такого красивого клюва; и, конечно, ее скромная черная одежда серо-ржавого оттенка куда беднее я бледнее великолепного блеска и металлической черноты дрозда, в чьем оперении переливаются и сверкают бронзовые сполохи. Американский дрозд — совершенный джентльмен как по манерам, так и по платью; мне кажется, он и не сварлив, за исключением тех случаев, когда вместе со своими родичами служит молебны или участвует в политических сходках на деревьях; а эта индийская жительница, прикидывающаяся квакершей, просто безобразница; если она не спит — она неизменно кричит, постоянно болтает, бранится, издевается, хохочет, визжит, ругается, находя для этого тысячи поводов. Мне никогда не доводилось видеть, чтобы птица была так щедра на высказывания. Ничто не ускользает от ее глаза, она замечает буквально все, что происходит вокруг, и высказывает поэтому поводу свое мнение, проявляя пыл тем больший, чем меньше дело касается ее. И те это она делает отнюдь не в деликатных, а в самых запальчивых выражениях — запальчивых и подчас неприличных, — присутствие дам ее не стесняет. Любое мнение, которое высказывает ворона, не является плодом размышления, ибо она ни о чем никогда и не размышляет, она попросту кричит то, что придет в голову; нередко бывает, что она заговаривает совсем не о том, что требуется по ходу дела. Но уж такая у нее манера; главное — высказать свое мнение; если она на миг замолкнет, чтобы поразмыслить, то может упустить возможность высказаться.
Я думаю, что у нее нет врагов среди людей. И христиане и магометане, кажется, никогда не докучают ей; индусы же, повинуясь своей религии, щадят любое живое существо[41], не трогая даже имей, тигров, мух и крыс. Когда я сижу в одном углу балкона, вороны присаживаются на перила в другом и обсуждают мою персону; они придвигаются ко мне все ближе и ближе, пока не оказываются почти рядом; тут они и сидят и без всякого смущения болтают насчет моего костюма, моей прически, цвета лица, какой у меня может быть характер, какова профессия и каковы политические взгляды. Они судачат о том, как я попал в Индию и что делал до этого, сколько времени затратил на путешествие, почему меня до сих пор не повесили и когда, наконец, повесят, и есть ли там, откуда я явился, еще такие же, и когда повесят их,— и так далее и так далее, пока я наконец не теряю терпения. Я криком гоню их прочь, они недолго кружат в воздухе, смеясь и издеваясь, потом опять присаживаются на перила и принимаются за старое.
Они становятся чрезвычайно общительны, если есть чем поживиться, — пожалуй, даже чересчур. При малейшем поощрении они могут залететь в комнату, сесть на стол и помочь мне управиться с завтраком; однажды, когда я вышел в другую комнату и они остались одни, они утащили с собой все, что только в силах были утащить, отдавая при этом предпочтение таким вещам, которые были им явно бесполезны. Сосчитать ворон в Индии невозможно, и гвалт, который они поднимают, прямо пропорционален их количеству. Я полагаю, что они обходятся стране дороже, чем правительство, а ведь последнее обходится не дешево. И однако жители идут на этот расход; если бы смолкли веселые вороньи голоса, вся страна была бы очень опечалена.
Глава III СВИДАНИЕ С ЖИВЫМ БОГОМ
При желании вполне можно научиться переносить невзгоды.
Конечно, не свои, а чужие.
Новый календарь Простофили ВильсонаСкоро вы чувствуете, что ваши давние представления об Индии, словно нежный, трепетный свет луны, всплывают в сознании и выхватывают из сумрака тысячу забытых деталей той картины, которая сложилась у вас еще в детские годы, дух ваш погружается в легенды Востока. Варварское великолепие, например, и княжеские титулы — роскошные, звонкие титулы, — как приятно их произносить! Низам Хайдарабада, магараджа Траванкора, наваб Джаббалпура; бегум Бхопала, наваб Майсура; рани Гульнара; ахунд Свата; рао Рохилканда; гаеквар Бароды. Да, в этой стране поистине изобилие имен. У великого бога Вишну их 108—108 специальных имен, 108 особо святых имен только для обращения к Вишну по воскресеньям. Все 108 я когда-то знал наизусть, но успел позабыть; теперь я припоминаю лишь одно — Джон У.
А романтические истории, связанные с этими княжескими индийскими семьями, — они случаются и по сей день, словно в седую старину. Чем не романтична история, которая раскрылась в английском суде в Бомбее, незадолго до нашего приезда туда? Индийский принц, шестнадцати с половиной лет от роду, четырнадцать лет наслаждавшийся своими титулами, положением и богатством без всяких помех, вдруг вызывается в суд, где ему заявляют, что он совсем не принц, а бедный крестьянин, что истинный принц умер двух с половиной лет от роду, что смерть его была скрыта, что и княжескую колыбель был подложен крестьянским младенец и что он и есть этот крестьянский младенец. Именно такие сюжеты берутся в основу множества восточных сказок.
В истории с другим принцем, гаекваром Бароды, сюжет развивается в обратном направлении. Трон Бароды однажды опустел, и какое-то время гаеквару никак не могли найти наследника, но наконец наследник нашелся. Это был крестьянский мальчик, безмятежно лепивший пирожки из дорожной грязи и чувствовавший себя вполне счастливым. Но его происхождение не вызывало сомнения — это был настоящий принц, и он сел на трон, и никто никогда не оспаривал его прав.
Был и еще случай поисков наследника трона — его нашли примерно при таких же обстоятельствах, как и гаеквара Бароды. Его родословную проследили до четырнадцатого колена и точно доказали, что он законный наследник трона. Материалом при этих изысканиях служили записи, оставляемые в одной прославленной индусской часовне; принцы и князья, совершавшие к ней паломничество, ставили в ней свое имя и дату приезда. Это была своего рода княжеская религиозная отчетность по спасению их душ, но записи оказались полезными и для выяснения родословных.
Размышляя о Бомбее сейчас, когда прошло уже какое-то время, я словно смотрю в калейдоскоп; я слышу, как звенят стеклышки калейдоскопа, вижу, как возникает радужная фигура, как она рассыпается и как вспыхивает новая, потом еще и еще, и я чувствую, что с появлением каждого нового видения меня бросает в жар и у меня напрягается каждый нерв — столь все это прекрасно и удивительно. Эти памятные картины мелькают передо мной в определенной последовательности, в определенном порядке; взметнув свои краски, они исчезают с быстротой сновидения, будто все это длилось в свое время не более часа, хотя на самом деле я жил этим не одни сутки.
Воспоминания начинаются с того, что я нанимаю «носильщика» — слугу-индийца, — человека, которого надо выбирать с осторожностью, ибо, пока он находится в вашем услужении, он соприкасается с вами так же близко, как ваша рубашка.
Можно сказать, что ваш индийский день начинается со стука «носильщика» в дверь спальни; стука, за которым следует определенная словесная формула. Общий смысл этой формулы состоит в том, что ванна готова. Правда, поначалу нам кажется, что в ней вообще нет никакого смысла, но это происходит потому, что вы еще не привыкли к английскому языку «носильщика». Скоро вы привыкнете.
Откуда у него такой английский язык — никто не знает. Такого нет не то что на земле, но даже в раю, хотя в преисподней им, может быть, и пользуются. Вы нанимаете «носильщика», как только ступите на индийскую землю; мужчина вы или женщина, без «носильщика» вам псе равно никак не обойтись. Ведь он вам и посыльный, и слуга, и горничная, и официант, и горничная жены, и курьер — он для вас буквально все. Он таскает с собой грубый полотняный саквояж и стеганое одеяло; спит на каменном полу за дверью вашей спальни и питается неизвестно где и когда; вы только можете утверждать, что у вас он не ест, — безразлично, живете ли вы в отеле, или в частном доме. Жалованье у него большое — с его точки зрения, — и на это жалованье он кормится и одевается. За два с половиной месяца у нас было три «носильщика». Первый из них получал тридцать рупий в месяц — иначе говоря, двадцать семь центов в день; два других — по сорок рупий в месяц. Это царское жалованье; стрелочник-индиец на железной дороге и слуга-индиец в частном доме получают лишь семь рупий в месяц, а батрак в деревне — четыре рупии. И стрелочник и слуга кормят и одевают самих себя и свои семьи на свой доллар и девяносто центов в месяц, но мне кажется, что батрак не обязан кормиться на свой доллар и восемь центов. Может быть, он ест у хозяина, и весь его заработок, за исключением каких-то грошей священнику, идет на содержание семейства. Я хочу сказать — на пропитание, ибо семейство живет в землянке, построенной его же руками, за которую, несомненно, не надо платить, а одежды никто в семье не носит, если не считать жалких тряпок. Да и много ли этих тряпок, в особенности на мужчинах? И все же нынешние времена — это хорошие времена для батраков: в такой роскоши они купаются далеко не всегда. Недавно главный комиссар Центральных провинций, отчитывая одну депутацию за жалобы на тяжелую жизнь, в своем официальном заявлении напомнил ей, что еще не так много воды утекло с тех пор, когда заработок батрака составлял полрупии (по старому курсу) в месяц — то есть менее цента в день, около двух долларов девяноста центов в год. Если у такого кормильца большая семья, — а у них у всех большие семьи, так как господь бог в каком-то смысле очень добр к ним, — ему удается отложить из годового заработка пятнадцать центов; я, конечно, имею в виду бережливого, расчетливого человека, а не мота, не любителя пофанфаронить. А если он должен кому-то тринадцать долларов пятьдесят центов и заботится о своем здоровье, он сможет выплатить свой долг в течение девяноста лет. После этого он будет вправе высоко держать голову и снова смотреть в глаза своим кредиторам.
Подумайте об этих фактах и о том, что они значат. Индия — это не страна городов. В Индии, по существу говоря, городов и нет. Ее колоссальное население состоит из земледельцев. Индия — это одна огромная деревня, почти безграничные просторы полей, разрезанных глиняными перегородками. Представьте себе все это и осознайте, какое море нищеты раскинулось перед вашим взором.
Первый носильщик, предложивший нам свои услуги, ожидал внизу, прислав наверх свои рекомендации. Это было наше первое утро в Бомбее. Мы вновь перечитали его рекомендации — тщательно, придирчиво, вдумчиво. В них не было никакого изъяна, кроме одного: все они исходили от американцев. Это насторожило меня — и тому были свои причины. Мой опыт говорит мне, что если слугу рекомендует американец, то рекомендация эта не очень надежна. Дело в том, что мы чересчур добродушный народ; мы не любим говорить неприятные вещи; мы всячески избегаем необходимости высказывать неприглядную правду о бедном человеке, хлеб которого зависит от нашего приговора; и вот мы перечисляем только его хорошие стороны и, таким образом, не стесняемся солгать — молчаливо солгать, — ибо, не упоминая о его дурных сторонах, мы как бы и совсем отрицаем их наличие. Единственная разница между молчаливой ложью и ложью высказанной заключается, насколько я понимаю, в том, что молчаливая ложь еще менее почтенна, И кроме того, она может ввести в заблуждение; тогда как высказанная ложь, как правило, в заблуждение не вводит. Мы грешим, когда, прибегая к молчаливой лжи, умалчиваем о пороках слуг, но мы грешим и в ином смысле: мы преувеличиваем их добрые качества; ведь когда нужно написать рекомендацию слуге, мы, американцы, не знаем удержу. И у нас нет для этого никаких извиняющих обстоятельств, как хотя бы у французов. Во Франции вы должны дать уходящему слуге хорошую рекомендацию, вы должны скрыть его пороки, — у вас нет иного пути. Если вы только заикнетесь о недостатках своего слуги, желая оградить интересы его будущего патрона, слуга может требовать с вас возмещения убытков, и суд его поддержит, а судья со своей стороны еще отчитает вас за то, что вы пытались очернить бедного малого и лишить его куска хлеба. Эти сведения я не придумал, я получил их от одного известного французского врача; он родился в Париже и практиковал там всю свою жизнь, и он говорил, что его рассказ основывается не только на общеизвестных истинах, но и на личном опыте.
Как я уже сказал, все рекомендации нашего носильщика исходили от американских туристов; и, прочтя эти рекомендации, сам святой Петр, ничтоже сумняшеся, пропустил бы носильщика в рай, — конечно, если он так мало знаком с моими соотечественниками и их слабостями, как я предполагаю. Согласно предъявленным рекомендациям, Мануэль X. был верхом совершенства во всех искусствах, связанных с его сложным ремеслом; и все эти разнообразные искусства были тут же перечислены и превознесены — подробнейшим образом. Его английский язык был расхвален в выражениях самых восторженных, даже экстатических. Я отметил это с радостью, надеясь, что хоть в какой-то мере это окажется правдой.
Слуга нам требовался безотлагательно; мое семейство сошло вниз и наняло его с недельным испытательным сроком; потом его послали ко мне наверх, а семейство отправилось в город по своим делам. Я был прикован к постели из-за своего бронхита и обрадовался случаю увидеть свежего человека и немного рассеяться. Мануэль не подкачал, он пришелся мне весьма по нраву. Ему было около пятидесяти; это был рослый, стройный человек, с легкой сутулостью — сутулостью напускной, почтительной, выработанной долгой привычкой, с лицом европейского склада; короткие, очень черные волосы; мягкие черные, поистине робкие глаза; цвет лица очень темный, почти черный; чисто выбрит. На голове у него ничего не было, не было и на ногах, — только таким я его и видел всю неделю, пока он служил у нас; платье его было европейского покроя, дешевое, непрочное и сильно поношенное.
Он стоял передо мною склонив голову (и спину), по трогательному индийскому обычаю касаясь лба кончиками пальцев правой руки в знак приветствия.
Я сказал:
— Мануэль, вы безусловно индиец, но у вас испанское имя. Как это получилось?
Лицо его приняло растерянное выражение; ясно, что он не понял моего вопроса, но признаться в этом не хотел. И, отвечая мне, он невозмутимо заговорил:
— Зовут Мануэль. Да, господин.
— Я знаю, но откуда у вас такое имя?
— О да, я полагаю. Так получилось. Так звали отца, не мать.
Очевидно, мне надо было упростить свою речь и говорить каждое слово раздельно, иначе этот знаток английского языка ничего не поймет.
— Ну — тогда — откуда — такое — имя — у — вашего — отца?
— Ах, отец, — оживился Мануэль, — он христианин-португал, живет Гоа[42]; я родился Гоа; мать не португал, мать здешняя, из высокой касты брахманов[43] — кулин брахман, — самая высокая каста, другой такой нет. Я тоже высокая каста брахманов. Тоже христианин, как отец; высокая христианская каста брахманов, господин, — Армия Спасения.
Все это он произносит запинаясь, с трудом. Затем, словно вдохновившись, он выпаливает целый поток елок, в котором я ничего не могу разобрать; посему я говорю ему:
— Постойте, постойте. Я не понимаю хиндустани.
— Нет, не хиндустани, господин, — английский. Всегда я говорю по-английски, иногда каждый день говорю, все время, как вам.
— Прекрасно, вот так и говорите, — сейчас уже понятно. Это не то, на что я рассчитывал, не то, что обещали рекомендации, по все-таки это английский, и я его понимаю. Не пытайтесь его усовершенствовать; усовершенствования хороши только тогда, когда они проводятся уверенной рукой.
— Господин?..
— О, не обращайте внимания; это только случайная мысль, — я и не рассчитывал, что вы ее поймете. Как вы научились своему английскому языку? Благодаря большим стараниям или это просто дар божий?
После некоторого колебания — весьма благочестиво:
— Да, он очень хороший. Христианский бог очень хороший; и индусский хороший. Два миллиона индусские боги — один христианский бог, выходит их два миллиона одна штука. И все мои — два миллиона и одна штука. Хватает! Когда-нибудь я им молюсь все время, целый день, хожу и молюсь; принесу что-нибудь к святыне — и все хорошо, и я уже делаюсь лучше, и мне хорошо, и моей семье хорошо. Чертовски хорошо!
Потом на него опять накатило, и он начал молоть чепуху — бессвязно, как в лихорадке, и мне пришлось снова остановить его. Считая, что мы уже наговорились, я велел ему идти в ванную комнату, убрать ее и вынести грязную воду, — мне просто хотелось от него отделаться. Он вышел, как будто усвоив все, что ему было приказано, взял мою одежду и начал чистить ее щеткой. Я повторил ему свое приказание, повторил несколько раз, все упрощая и упрощая свою речь, и наконец он понял, что от него требуется. Тогда он куда-то удалился и скоро привел с собой человека, чтобы тот выполнил мое приказание; мне он объяснил, что такая работа несовместима с законами его касты, что она осквернит его, а очиститься и восстановить свои права после этого можно будет лишь ценой многих хлопот и неприятностей. Он сказал, что выполнять эту работу лицам, принадлежащим к его касте, строжайше запрещено и что ее должен делать низший слой индийского общества — презренные шудры (труженики, работники). Все это действительно так; и, очевидно, бедные шудры довольствуются своей странной участью, своими оскорбительными правами целые века — так сказать с самого начала всего сущего. Бокль утверждает, что слово «шудра» — работник — выражает презрение и что, как предписано законами Ману (900 г. до п. э.), если шудра сядет рядом с человеком высшей касты, он должен быть сослан или заклеймен; если он презрительно выражается о высшем или оскорбляет его, он подлежит смерти; если он слушает чтение священных книг, ему вольют в уши горячее масло; если он запомнил какие-то отрывки из этих книг, он должен быть убит; если он выдаст свою дочь замуж за брахмана, зять пойдет в ад за то, что он осквернил себя сожительством с женщиной, которая настолько ниже его; и что шудре запрещено наживать богатство, «Большая часть населения Индии[44], — говорит Бокль, — это шудры — рабочие, крестьяне, созидатели богатств».
Бедняга Мануэль никак не справлялся со своей работой. Он был слишком стар и к тому же безнадежно медлителен и феноменально забывчив. Если он уходил за два квартала, он бродил целых два часа и потом начисто забывал, зачем пошел. Когда он укладывал чемодан, это занимало у него целую вечность, а вещи в чемодане, когда он был наконец уложен, оказывались в невообразимом хаосе. Он не умел толком прислуживать за столом — очень существенный недостаток, ибо, если в индийском отеле у вас нет собственного слуги, вы будете обедать несколько часов, и вам все-таки придется уйти голодным. Мы не понимали его английского языка, он не понимал нашего, а когда мы убедились, что он не понимает и своего собственного, нам не оставалось ничего иного, как расстаться. Я был вынужден рассчитать его, иного выхода я не видел. И я сделал это как можно мягче и деликатнее. Мы должны распроститься, сказал я, но я надеюсь, что мы встретимся вновь в лучшем мире. Это было, конечно, ложью, но так немного надо было сказать, чтобы не оскорбить его чувств, — и это мне ничего не стоило.
И вот, когда его не стало и мой ум и сердце от него освободились, мне сразу стало легче, и я почувствовал в себе силы идти навстречу новым приключениям. Скоро впорхнул и преемник Мануэля, коснулся рукой лба и начал бегать повсюду, мягко шаркая ногами,— через пять минут он, как говорят матросы, «надраил комнату до полного блеска» и уже стоял передо мною навытяжку, ожидая распоряжений. Бог ты мой, какой это был расторопный малый по сравнению с копушей Мануэлем! Тот, бедняга, словно во сне веревки вил! Всем своим восхищенным сердцем, всеми чувствами сразу же потянулся я к этому шустрому, быстрому, как молния, черному дьяволенку, к этому сгустку энергии, воплощению силы, ловкости, проворства и уверенности, к этому щеголеватому, улыбчивому, обаятельному человечку, у которого глаза так и сияли, а красная феска, венчавшая его макушку, пылала, словно раскаленный уголь, и огнем рдела кисточка, спускавшаяся с фески. С чувством глубокого удовлетворения я сказал:
— Вы мне подходите. Как вас зовут?
Он застрекотал, как сорока, произнося что-то очень длинное и сложное.
— Давайте выберем из всего этого словечко покороче, хотя бы для будней, а остальное прибережем для воскресений. Ну ка, повторите, что вы сказали, только отдельными кусками.
Он повторил. Однако все отрывки показались мне чересчур длинными; короче всего было слово «Муас», что походило на «Маус» — то есть мышь. Но такое имя совсем не годилось — оно было слишком смиренно, слишком сдержанно и чересчур буднично, оно ничуть не подходило к его блестящему стилю. Подумав, я сказал:
— Муас — достаточно кратко, но мне не очень нравится. Это как-то бесцветно, противоречит вашему характеру — совсем не подходит; я, знаете ли, очень щепетилен в таких вещах. Что вы скажете насчет Сатаны — такое имя вам подойдет?
— Да, хозяин. Сатана будет ошен хорошо.
Кто-то легонько постучал и дверь. Одним прыжком Сатана пересек комнату, что-то кому-то сказал на хиндустани и исчез. Через три минуты он уже вновь стоял передо мной вытянувшись, как бравый солдат, и ждал, пока я заговорю.
— Что там такое, Сатана?
— Вас желает видеть бог.
— Кто?
— Бог. Провести его наверх, господин?
— Да, но это так странно, что... что... вы понимаете — это столь неожиданно для меня... я прямо-таки не знаю, что ответить. Господи, неужели вы не можете объяснить мне как следует? Ведь это, как бы сказать, столь... столь... не... не...
— Вот визитная карточка, господин.
Ну разве не удивительно, не потрясающе, не чудовищно? Такая особа — и вдруг ходит с визитами к таким, как я, и посылает свою визитную карточку, как простой смертный, и с кем посылает — с Сатаной! Какое-то загадочное сочетание совершенно невероятных вещей. Но ведь это страна «Тысячи и одной ночи», это Индия! А есть ли что-либо невозможное для Индии?
Беседа состоялась. Сатана был прав — посетитель оказался действительно богом[45] — в это свято верят его многочисленные последователи, они ему поклоняются, поклоняются со всей искренностью и смирением. Их не тревожат никакие сомнения в его божественном происхождении и божественной миссии. Они верят в него, они молятся ему, делают ему приношения, просят его очистить их от грехов; сам он и все, что с ним связано, — в их глазах священно; они покупают у богова цирюльника обрезки его ногтей, вставляют их в золотую оправу и носят на себе как драгоценные амулеты.
Я старался казаться спокойным и говорить в обычном тоне, но это мне не удавалось. Да и кому бы удалось? Я с трудом подавлял волнение, любопытство и радостное удивление. Я не в силах был отвести от него глаза. Ведь я смотрел на бога, живого бога, признанного, безусловного бога, и все в нем с головы до пят вызывало во мне жгучий интерес. Мысли вихрем проносились в моем мозгу. «Ему поклоняются — подумать только! Ему не просто несут пресную дань, называемую похвалой, которой вынужден довольствоваться самый высокий смертный, — нет, ему дана духовная пища несравненно богаче: поклонение, обожествление! Мужчины и женщины слагают к его ногам свои заботы и горести, свои сокрушенные сердца, а он вселяет в них мир, и они уходит от него исцеленными».
И как раз в эту минуту Неземной Посетитель сказал самым обыкновенным, будничным тоном:
— В философии нашего Гека Финна есть одна черта, которая...— И он произнес мне очень ясный, сжатый и отточенный литературный приговор.
Да, Индия и впрямь страна неожиданностей! У меня бывали честолюбивые мечтания — я надеялся, почти рассчитывал, что меня будут читать короли, президенты и императоры, — но я никогда не заходил так далеко, чтобы представить себе, что меня будет читать бог. Было бы ложной скромностью утверждать, что я не был необыкновенно польщен. Конечно был. Я был польщен гораздо больше, чем если бы мне наговорил комплиментов простой смертный.
Оп просидел у меня полчаса и оказался самым любезным и очаровательным джентльменом. Божественность была наследственным достоянием его рода уже много лет, не знаю — сколько именно. Он магометанский бог; земной его чин — принц, и не индийский, а персидский, он потомок Пророка по прямой линии. Он довольно миловиден, довольно молод — особенно для бога; ему нет сорока, возможно даже не больше тридцати пяти. Оказываемые ему необыкновенные почести он принимает со спокойной непринужденностью и достоинством, приличествующими его высокой миссии. По-английски он говорит легко и чисто, как человек, знающий язык с самого детства. Мне кажется, что тут я не преувеличиваю. Это был единственный бог, которого мне довелось видеть за всю свою жизнь, и он произвел на меня самое приятное впечатление. Когда он поднялся, чтобы попрощаться, дверь распахнулась, мелькнула красная феска, и я услышал следующие слова, произнесенные почтительным тоном:
— Сатане проводить бога?
— Да.
И эти два существа, оказавшиеся в столь немыслимом соседстве, прошли и скрылись из вида — Сатана впереди, указывая дорогу, а за ним бог.
Глава IV БАШНИ ВЕЛИКОГО БЕЗМОЛВИЯ
Мало кто из нас может вынести бремя богатства. Конечно, чужого.
Новый календарь Простофили ВильсонаСледующая картина, которая встает передо мной, — это губернаторский дворец на мысе Малабар; из его окон и с широких балконов открывается прекрасный вид на море. Здесь резиденция его превосходительства губернатора Бомбейского округа; вид у нее был бы вполне европейский, если бы не местные стражи и слуги; в резиденции гармонично сочетаются жилой дом и государственный дворец.
Дворец этот — сама Англия, мощь Англии, цивилизация Англии, — вполне современная цивилизация с ее спокойным изяществом, спокойными красками, спокойным вкусом, спокойным достоинством, — словом, со всем тем, что влечет за собой культура. И рядом с этой картиной встает другая: картина древней индийской цивилизации — час, проведенный во дворце индийского князя Кумара Шри Саматсингха Бахадура в княжестве Палитана[46].
Вместе с князем нас принимал его наследник, совсем еще мальчик, и дочурка — крошечный коричневый эльф, — очень хорошенькая, очень серьезная, обаятельная, с изящной фигуркой, нарядная, словно бабочка, маленькая сказочная принцесса; ей очень хотелось подружиться с незнакомцами, и все же она на первых порах, пока не освоилась с нами и не решила, в какой степени нам можно доверять, предпочитала держаться за руку отца. Ей было лет восемь; значит, по заведенному индийскому порядку, через три-четыре года она станет невестой, и тогда прощай свободное общение с солнцем, воздухом и всею природой, прощай беседы с заезжими туристами; она на всю жизнь укроется в зенане[47], как укрылась ее мать, и по веками сложившейся привычке будет чувствовать себя счастливой в своем затворничестве, не испытывая ни досады, ни тоски.
При всем своем старании я не в силах толково описать игру, которой в свободное время развлекался князь. Я старался вникнуть в нее, пока моя жена и дочь ходили в зенану к очаровательной княгине, бегло говорившей по-английски, — но потерпел неудачу. Это очень сложная игра, и я, кажется, слышал, что научиться ей как следует может только индиец. Я и чалму повязывать никак не мог научиться. Поначалу это казалось мне простым и легким делом, но это только поначалу. Берется кусок тонкой мягкой материи в фут шириной и футов сорок — пятьдесят длиной; ваш наставник, владеющий этим искусством, берет конец полосы обеими руками, ловко обвивает ею свою голову и в одну-две минуты сооружает аккуратную симметричную чалму, облегающую голову так, словно она была сделана по мерке.
Мы интересовались гардеробом, драгоценностями и серебряной утварью — ее изяществом, красотой и тонкостью отделки. Серебро держат под замком, вынимается оно только во время трапезы, и ключ от этих сокровищ хранится только у старшего дворецкого и самого князя. Почему они так делают — не совсем понятно, но во всяком случае не для сохранности серебра. Это делается или для того, чтобы князь не осквернился, если его посуды будут касаться руки людей низших каст, или для того, чтобы его не отравили. Возможно, тут преследуются обе цели. Кажется, есть специальный человек, нанятый для пробы пищи; он отведывает каждое блюдо, прежде чем к нему отважится прикоснуться князь, — старинное и мудрое установление Востока, в результате которого ряды специалистов по пробе сильно поредели, ибо отраву в пищу кладет, конечно, повар. Будь я индийским князем, я не стал бы расходоваться на специального слугу для пробы пищи, — я бы просто стал есть вместе с поваром.
Любые церемонии всегда интересны; я заметил, что индийское утреннее приветствие — это целая церемония, чего никак нельзя сказать о нашем. Приветствуя отца, сын почтительно притрагивается к его лбу специальной серебряной палочкой; конец ее намазан киноварью, и она оставляет на лбу крошечное пятнышко; отец в ответ благословляет сына. Наше «доброе утро» вполне подходит деловому Западу, но для изнеженного и церемонного Востока оно оказалось бы чересчур грубым.
После того как, согласно обычаю, нам повесили на шею большие гирлянды желтых цветов и снабдили бетелем для жеванья, мы покинули гостеприимных хозяев и скоро попали в совсем другую обстановку: после сияния радостных красок и солнца мы оказались в мрачной усыпальнице мертвецов-парсов — в Башнях Великого Безмолвия. В этом названии есть что-то величавое, что-то глубоко проникновенное: в нем веяние смерти. У нас есть слова: могила, надгробие, мавзолей, погост, кладбище; в силу заключенного в них смысла они звучат для нас торжественно; но у нас нет слова столь величественного, исполненного столь глубокой, неизбывной печали.
Среди тропического рая, среди пышной листвы и цветов, на горделивом возвышении, вдали от мирской суеты и шума стоят они, эти Башни Безмолвия; под ними внизу раскинулись рощи кокосовых пальм, затем, на многие мили, вновь идет город, а за ним — океан с ползущими по нему судами. Все тут погружено в тишину столь же глубокую, в какой цепенеет это раскинувшееся на холме царство мертвых. Тут мы увидели коршунов. Тесно прижавшись друг к другу, они сидели, облепив край низкой массивной башни, — сидели в терпеливом ожидании, неподвижно, словно каменные; в самом деле, с первого взгляда их вполне можно было принять за скульптурное украшение Башни. Но вот все люди, собравшиеся тут, почтительно сошли прочь с тропы, разговоры стихли. В большие ворота вступила погребальная процессия — ее участники в полном молчании, парами, проследовали к Пашне. Покойник лежал в неглубоком гробу, прикрытый белым полотном; одежды на нем никакой не было. В тридцати футах за гробом шествовали плакальщики. Вся процессия была одета в белое; плакальщики были как бы связаны попарно друг с другом, — они держались за концы белой веревки или носового платка. За процессией шла собака на поводке. Когда плакальщики приблизились к Башне, — ни один человек, кроме несущих гроб, не должен подходить к ней ближе чем на тридцать футов, — они повернули и пошли в молельню, которая находилась по эту сторону ворот, чтобы помолиться за душу покойника. Те, кто нес гроб, открыли единственную дверь Башни и вошли внутрь. Скоро они появились вновь, неся пустые носилки и белое покрывало, и заперли дверь Башни. Тогда коршуны поднялись, хлопая крыльями, и устремились в Башню — пожирать покойника. Через несколько минут, когда птицы вновь уселись на прежнем месте, от мертвеца остался лишь начисто объеденный скелет.
Главный принцип, лежащий в основе всех обычаев и представлений парсов, связанных с похоронами, — это принцип чистоты. По догматам зороастризма, первейшие стихии — Земля, Огонь и Вода — священны и не должны оскверняться трупом. Поэтому покойников нельзя ни сжигать, ни хоронить. Никто не смеет касаться мертвецов или входить в Башню, где они лежат, — туда входят только определенные, официально назначенные люди. Они получают большое жалованье, но жизнь их мрачна, и живут они совсем обособленно, не общаясь с другими людьми, так как они осквернены общением с мертвецами, и тот, кто будет иметь о ними дело, осквернится сам. Когда они выходят из Башни, они меняют свою одежду на другую, не покидая ограды, — прежняя одежда считается уже оскверненной, ее нельзя больше ни надеть, ни унести отсюда. Таким образом, носильщики мертвых являются на каждые похороны в новых одеяниях. Насколько это известно, ни один человек, кроме официальных носильщиков, ни разу не входил в Башню Великого Безмолвия после того, как она была освящена. Впрочем, один исключительный случай имел место. Ровно сто лет назад какой-то европеец бросился вслед за носильщиками и утолил свое жестокое любопытство, глянув на запретные таинства Башни. Имя этого презренного дикаря до нас не дошло, не знаем мы и его звания и положения. Все это, а также тот факт, что за столь неслыханное богохульство правление Ост-Индской компании сделало ему лишь официальный «выговор», заставляет нас думать, что это был европеец с большим весом. Тот же официальный документ, где записан упомянутый выговор, предупреждал, что если подобный проступок совершит служащий компании в будущем, то он будет уволен; если же виновным окажется купец, то он лишится разрешения на торговлю и будет выслан в Англию.
Башни Великого Безмолвия не высоки; они, словно газгольдер, имеют широкое основание. Если вы наполните газгольдер внутри до половины прочной гранитной кладкой, а затем пробьете в ней широкий и глубокий колодец, то получите довольно точное представление о Башне. Трупы помещают на каменной кладке, в неглубоких желобах, которые радиально расходятся от колодца. Они имеют уклон к центру, куда стекает и вся дождевая вода. Со дна колодца вода уходит через подземные водостоки с угольным фильтром.
Пролежав в Башне месяц под дождем и палящим солнцем, скелет становится абсолютно сухим и чистым. Затем те же носильщики, что внесли покойника, вновь появляются в Башне и, надев перчатки, щипцами скидывают скелет в яму. Там он превращается в прах. Его уже никто на свете больше не увидит, никто никогда к нему не прикоснется. Другие народы хоронят каждого мертвеца отдельно и сохраняют между ними различия, выделяя и отличая высокопоставленных людей даже в могиле: останки королей, государственных деятелей и генералов с соответствующей пышностью и торжественностью помещают в храмы и пантеоны, а кости простого люда и бедняков — в подобающие им более скромные места; но парсы считают, что в смерти все люди равны — все ничтожны, все бессильны, все нищи. И в знак их нищеты их кладут и могилу голыми, а в знак равенства кости всех людей — богатых и бедных, знаменитых и безвестных — бросают в общую яму. На похоронах у парсов никому нельзя ехать, все участники похорон — богат он или беден — должны идти пешком, как бы велико ни было расстояние. В ямах пяти Башен Безмолвия смешан прах всех парсов — мужчин, женщин, детей, — которые умерли в Бомбее и его округе в течение двух столетий, то есть с той поры, как мусульманские завоеватели изгнали парсов из Персии и те оказались здесь, в этой части Индии. Самая древняя из пяти Башен построена более двухсот лет назад семейством Моди и до сих пор закреплена за потомками этого рода — в эту Башню кладут только покойников из рода Моди.
Неизвестно происхождение по крайней мере одной детали похоронного обряда парсов — присутствия собаки. Прежде чем покойника вынесут из дома, его открывают и показывают собаке; собака должна идти на поводке позади похоронной процессии. Мистер Нуссерванджи Бирамджи, секретарь панчаята[48] парсов, сказал, что этот обычай имел в свое время смысл и значение, но что теперь это только пережиток и проследить его происхождение невозможно. По традиции, обычай этот держится, а древность происхождения освящает его. Полагают, что когда-то в Персии собака была священным животным; считалось, что она сопровождает души умерших на небо; считалось также, что собачий глаз обладает способностью очищать всякий предмет, оскверненный соприкосновением с мертвым; потому-то пес и шествует имеете с остальными участниками похоронной процессии — авось пригодится на всякий случай.
Парсы утверждают, что их похоронный обряд отлично охраняет интересы живых; что при таком порядке не распространяется никакого гниения, никакой грязи и нечистот, никаких микробов; что ни к покрывалу, ни к чему другому, находившемуся на покойнике, живые потом уже не прикасаются; что из Башен Безмолвия не исходит ничего такого, что могло бы принести вред миру живых людей. Я думаю, что эти утверждения справедливы. С точки зрения санитарии, похоронный обычай парсов можно почти приравнять к кремации. А ведь мы медленно, но неуклонно идем к тому, чтобы ввести кремацию. Нельзя ожидать, что это произойдет скоро. Но если тенденция к этому не исчезнет и будет хоть и медленно, но развиваться, то можно не сомневаться, иуда это приведет. Когда кремация станет всеобщим правилом, мы уже не будем содрогаться при мысли о ней; напротив, мы будем содрогаться при мысли о захоронении, если только решимся представить себе, что происходит в могиле.
Пес на похоронах произвел на меня большое впечатление — он олицетворял собой некую тайну, ключ к которой утрачен. Держался пес очень смиренно и был явно подавлен происходящим. Он задумчиво опускал морду долу, словно старался вспомнить, что именно он символизировал в те давно минувшие времена, когда был заведен этот обычай. Была близ меня и еще одна на редкость интересная вещь, но увидеть ее мне так и не пришлось. Я говорю о священном огне — огне, который, как утверждают, негасимо горит уже больше двух столетий, и горит с такою же силой, с какой горел в самом начале.
Парсы — община весьма примечательная. В Бомбее их всего около шестидесяти тысяч, и примерно вдвое меньше во всей остальной Индии. Но малочисленность парсов отнюдь не мешает им играть большую роль в обществе. Они весьма образованны, энергичны, предприимчивы, отзывчивы ко всему новому, богаты, а по щедрости и склонности к благотворительности не уступают даже евреям. Парсы строят и содержат больницы — для людей и для животных; кошельки их мужчин и женщин всегда открыты для любого великого и доброго дела. Они представляют собой значительную политическую силу и служат серьезной опорой правительству. У них чистая и возвышенная религия; они хранят ее во всей первозданной неприкосновенности и строят свою жизнь согласно ее велениям.
Мы еще раз окинули взглядом долину, город и океан и распростились с Башнями Великого Безмолвия; последнее, что я увидел здесь, опять оказалось своеобразным символом, — и было в этом символе что-то сознательное, преднамеренное. Это был коршун, сидевший на спиленной верхушке стройной, лишенной веток пальмы, одиноко возвышавшейся на открытой местности; коршун сидел неподвижно, словно каменное изваяние, венчавшее колонну.
Его зловещий силуэт словно еще усугублял мрачное уныние этой обители смерти.
Глава V В ТОЛПЕ ГОСТЕЙ, СВЕРКАЮЩИХ ВСЕМИ ЦВЕТАМИ РАДУГИ
Есть один старинный тост, несравненный по красоте: «Когда ты идешь вверх, по пути к богатству — да на встретится тебе на дороге друг».
Новый календарь Простофили ВильсонаСледующая картина, которая приходит мне на память, связана с делами религиозными. Друзья повели нас посмотреть джайнский[49] храм. Храм был небольшой, над его кровлей на шестах развевалось множество флажков или вымпелов, на наружных каменных зубцах стояли многочисленные изваяния. Когда мы поднялись по лестнице и пошли в храм, какой-то джайн в полном одиночестве не то молился там, не то читал что-то вслух. Наше появление ничуть ему не помешало и не уменьшило его молитвенного экстаза. Он стоял футах в десяти — двенадцати от идола — маленького изваяния в сидячей позе. У этого идола был глуповато-младенческий вид восковой куклы, но ему недоставало округлости форм и правильных пропорций, присущих кукле. Объяснения нам давал мистер Ганди. Он был делегатом Конгресса религий на Всемирной выставке в Чикаго; мистер Ганди говорил великолепно, на прекрасном английском языке, но со временем его объяснения потускнели в моей памяти, и сейчас от всей этой экскурсии у меня осталось только одно: туманное представление о религии, выраженной в утонченно-рассудочных формах, возвышенной и чистой, лишенной какого-либо налета плотской непристойности; у меня осталось и другое туманное представление — о некоей связи столь интеллектуальной системы с тем вульгарным, грубым идолом, о котором я упоминал, — сам не знаю почему. Ведь между ними и в самом деле нет ничего общего. По-видимому, идол символизирует какого-то человека, который благодаря ряду перевоплощений, длившихся многие века, постепенно накапливал святость и в конце концов стал настоящим святым или богом; считается, что теперь он и сам способен воспринимать молитвы и передавать их в небесную канцелярию. Кажется, дело именно в этом.
Затем мы отправились в бунгало мистера Премчанда Ройчанда, в Лавлене, округ Байкулла, где индийский князь должен был принять депутацию джайнской общины; депутация желала поздравить его с высокой честью, оказанной ему императрицей Индии Викторией. Виктория сделала его рыцарем ордена Звезда Индии. По-видимому, даже самый знатный индийский вельможа рад прибавить к своим древним туземным титулам скромное словечко «сэр» и готов пойти на многое, чтобы добиться этой чести. Он готов добровольно простить недоимки, будет щедро отпускать деньги на улучшение условий жизни своих подданных, если только сможет таким образом обеспечить себе рыцарство. Он будет лезть из кожи вон, только бы британское правительство добавило ему еще один выстрел во время традиционного салюта[50]. Каждый год императрица раздает рыцарские звания и добавляет выстрелы из пушки индийским князьям за их общественно-полезную деятельность. Салют в честь мелкого князя производится из трех-четырех пушек; князьям более могущественным салютуют большим количеством пушек. Самая мощная батарея доходит до одиннадцати; может быть, их бывает и больше, но я слыхал лишь об одиннадцатипушечных князьях. Мне рассказывали, что если четырехпушечный владетель получает еще один выстрел из пушки, то он немало досаждает своим соседям, пока не свыкнется с новым своим положением, ибо пальба ему так нравится, что он ищет любой предлог, чтобы устроить салют в свою честь. Вполне возможно, что у таких блистательных властителей, как низам Хайдарабада и гаеквар Бароды, имеется и больше одиннадцати пушек, но я этого не знаю.
Когда мы приехали в бунгало, большой зал первого этажа был почти полой, а кареты все подъезжали и подъезжали. Собравшиеся гости являли собой великолепное зрелище по костюмам и сверкающим краскам. Это был настоящий фейерверк. Чалмы на гостях были поразительно разнообразны. Как нам сказали, причиной этому было то обстоятельство, что делегация джайнов собралась из многих местностей Индии и что каждый из ее членов надел наиболее модную чалму своей округи. В целом это создавало эффект необыкновенный.
Хотел бы я для сравнения устроить здесь выставку христианских шляп и костюмов. Я очистил бы одну половину зала от этих великолепных индийцев и заполнил ее христианами из Америки, Англии и колоний, одев их как в современные шляпы и костюмы, так и в те, что носили лет двадцать — пятьдесят назад. Это было бы отвратительное зрелище, несказанная гадость. Христиане проиграли бы еще и потому, что у них белые лица. Само по себе это не столь уж мерзко, но когда белая кожа оказывается рядом с коричневой и черной, то становится ясно, что мы миримся с нею только в силу привычки. Почти все оттенки черной и коричневой кожи красивы, но красивая белая кожа — редкость. Чтобы понять, какая это редкость, выйдите в будний день на обыкновенную улицу Парижа, Нью-Йорка или Лондона и посчитайте, сколько людей с хорошей кожей встретится вам на протяжении мили. Когда видишь почти сплошь черные лица, то белое лицо, попавшее в поле зрения, невольно кажется выцветшим, болезненным, а подчас и просто ужасным. Я замечал это еще мальчишкой на Юге, в дни невольничества, еще до войны, Великолепная черная атласистая кожа южноафриканского зулуса кажется мне почти идеальной. Я вижу этих зулусов как сейчас — рикши, ожидающие клиента под окнами отеля: атлетически сложенные, красивые, очень черные молодцы, полуприкрытые по-летнему свободной белоснежной одеждой, белизна которой еще резче подчеркивает черноту их кожи. Вспоминая их теперь, я сравниваю их лица с лицами тех белых людей, поток которых движется в эту минуту по лондонской улице за моими окнами.
Дама. — Кожа цвета нового пергамента.
Другая дама. — Кожа цвета старого пергамента.
Еще дама.— Кожа бело-розовая, очень красивая.
Мужчина. — Кожа сероватая, с багровыми пятнами.
Мужчина. — Кожа болезненная, цвета рыбьего брюшка.
Девушка. — Лицо желтоватое, с веснушками.
Старушка. — Лицо беловато-серое.
Юноша-разносчик. — Лицо сплошь красное.
Мужчина, страдающий желтухой. — Лицо желтое, горчичного оттенка.
Пожилая дама. — Кожа бесцветная, с двумя очень заметными родинками.
Пожилой мужчина. — Пьяница. Нос, напоминающий вареную цветную капусту; лицо вялое, с багровыми прожилками.
Здоровый молодой мужчина, — Чудесная свежая кожа.
Больной юноша. — Лицо отвратительно белое.
Какое множество людей, чья кожа является скучным и тусклым вариантом того цвета, который мы несправедливо называем белым! Есть лица прыщеватые; есть лица, изобличающие больную кровь по-иному; есть с очень заметными резкими шрамами. Кожа белого человека ничего не скрывает. Не может скрыть. Она словно нарочно создана, чтобы показывать все, что может ей повредить. Женщинам приходится подкрашивать свою кожу, пудрить ее, питать косметическими снадобьями, взбадривать мышьяком и другими средствами; чтобы кожа была красивой, женщины ухаживают за ней, подмазывают ее, мучают и терзают ее — и все понапрасну. Но все эти усилия показывают, что естественным цветом своей кожи женщины недовольны. Они считают, что его следует улучшать. Тот цвет кожи, каким они хотели бы обладать, природа дает немногим, очень немногим избранным; девяносто девять женщин из ста получают дурную ножу, и только одна сотая - хорошую. Эта сотая может гордиться ею, но как долго? Быть может, лет десять, не больше.
Зулусы в этом отношении имеют перед нами некоторое преимущество. Они рождаются с хорошей кожей и с хорошей кожей живут весь век. А уж если говорить о коричневой коже индийцев — упругой, гладкой, без изъянов, приятной для глаза, не боящейся сочетания с любым цветом одежды и, наоборот, придающей любому цвету добавочное очарование, — то, мне кажется, с такой великолепной кожей кожа белого человека не выдерживает никакого сравнения.
Но возвратимся в бунгало. Самые пышные костюмы на этом сборище были у детей. Они, казалось, полыхали огнем, столь ярка была их расцветка и так переливались и сверкали украшения на этих богатейших одеяниях. Дети были профессиональными танцовщиками-мальчиками, хотя и походили на девочек. Они выступали поодиночке, парами и четверками и танцевали и пели под аккомпанемент весьма странной музыки. Позы и движения танцовщиков были и искусны и грациозны, но голоса их неприятно дребезжали и резали слух, а мелодии были чересчур монотонны.
Но вот снаружи донеслись приветственные крики и шум, и в зал с театрально-торжественным видом вошел князь в сопровождении свиты. Это был величественный мужчина, превосходно одетый, весь увешанный ожерельями из драгоценных камней: тут были нити жемчуга и нити крупных нешлифованных изумрудов, известных всему Бомбею своей красотой и ценностью. Эти камни прямо завораживали нас, их размеры были удивительны. При князе был мальчик — наследный принц; его пышный убор тоже сверкал и переливался разными красками.
Церемония была ничуть не скучна. Князь величественно — и в то же время строго — прошел к трону, словно Юлий Цезарь, пришедший принять в свои руки какое-то отдаленное царство, поставить свою подпись и удалиться без лишних слов и вольностей. Стоял тут также трон и для наследного принца, и оба они — князь и его наследник — уселись рядышком; свита разместилась по обе стороны, — в точности, как на картинках, которые каждый видел в книгах: эти картинки изображают персон королевского и княжеского достоинства со времен царя Соломона, принимавшего царицу Савскую и показывавшего ей свои богатства. Глава джайнской делегации прочитал бумагу с поздравлениями, затем вложил ее в чудесно гравированный серебряный футляр цилиндрической формы, который он церемонно передал в руки князя и который был тотчас, без всяких церемоний, передан князем в руки одного из его придворных. Ниже я приведу текст этого поздравления. Он интересен — он показывает, за что может благодарить индийского князя его подданный в наши дни, когда Индией правит Англия;[51] это особенно интересно, если представить себе, за что можно было бы благодарить предка этого князя лет полтораста назад — в дни свободы, когда Англия не вмешивалась в индийские дела. Полтораста лет назад подобный адрес мог быть написан в нескольких строках. Подданные могли бы благодарить своего князя:
за то, что тот перебил не так уж много людей из чистого каприза;
за то, что тот не обобрал их дочиста и не лишил их хлеба, наложив по своему произволу ни с того ни с сего новые налоги;
за то, что тот не разоряет богатого и не забирает его имущество под вымышленным предлогом;
за то, что тот не убивает, не ослепляет, не сажает в тюрьму и не ссылает родственников княжеской семьи для защиты трона от возможных заговоров;
за то, что тот не предаст за взятку своих подданных в глухих местах княжеской территории в руки профессиональных тугов, на смерть и ограбление.
Именно таковы были обычные княжеские занятия в старые времена. Но при британском владычестве это давно отошло в прошлое. Теперь князья заняты более приличными делами, и об этом свидетельствует поздравительный адрес общины джайнов:
«Ваше высочество, мы нижеподписавшиеся, члены джайнской общины Бомбея, пользуемся приятной возможностью обратиться к Вашему высочеству и сердечно поздравить Вас с недавним получением Вашим высочеством титула рыцаря великого ордена Звезда Индии. Десять лет назад мы имели случай и удовольствие приветствовать прибытие Вашего высочества в наш город при обстоятельствах, которые в истории нашего княжества составляют целую эпоху. Ибо если бы Ваше высочество действовало в переговорах между дурбаром[52] княжества Палитана и общиной джайнов не в духе благородства и разума, то дух примирения, царивший в сердцах нашего народа, не дал бы своих плодов. Это был первый шаг Вашего высочества, когда Вы приняли правление в свои руки, и он заслуженно вызвал похвалу джайнской общины и бомбейского правительства. Десятилетие Вашей плодотворной административной деятельности, в течение которого Вы показали свои способности и опыт, справедливо вознаграждено высочайшей честью — присвоением Вам рыцарского звания и несравненного ордена Звезда Индии, которое, как мы понимаем, дано Вам первому среди князей вашего ранга и положения. И мы заверяем Ваше высочество, что мы не меньше Вас гордимся теми знаками отличия, которые оказала Вам Ее величество королева императрица. Организация торговых факторий, школ, больниц и тому подобное — вот чем ознаменовало Ваше высочество это десятилетие своей деятельности в нашем княжестве, и мы полны веры, что Ваше высочество и впредь будет благополучно править своим народом с мудростью и прозорливостью, а также беречь и поддерживать те многие реформы, которые Вашему высочеству угодно было провести в нашем княжестве. Мы еще раз приносим Вашему высочеству наши самые горячие поздравления по поводу той высокой чести, которой Вы удостоились. Имеем честь пребывать послушными слугами Вашего высочества».
Фактории, школы, больницы, реформы. Этим занимаются князья в наше время и получают за это рыцарские звания и пушки.
Выслушав адрес, князь ответил кратко и энергично; потом поговорил минуту с пятью-шестью гостями по-английски и с двумя-тремя своими должностными лицами на родном языке; затем, как обычно, гостям преподнесли гирлянды цветов, и на этом церемония закончилась.
Глава VI ОБИТЕЛЬ ЧЕРНОЙ СМЕРТИ
Самое дорогое в жизни человека — его последний вздох.
Новый календарь Простофили ВильсонаВ ту же ночь я присутствовал на другой церемонии. Это была индусская свадьба, — нет, скорее обряд обручения. Раньше, когда мы разъезжали по городу, там всегда двигались толпы людей и кипела красочная жизнь, но сейчас все было по-иному. Казалось, мы попали в мертвый город. На безмолвных, пустых улицах не было и признака жизни. Не слышно было даже ворон. Но всюду на земле валялись тела спящих — их были сотни; они лежали вытянувшись и плотно завернувшись с головой в одеяла. Их позы, их деревянная окоченелость — все наводило на мысль о смерти. Правда, чумы в Бомбее в ту пору не было, но зато ныне она опустошает город. Бомбейские лавки и магазины теперь опустели, половина населения разбежалась, а те жители, которые остались, толпами гибнут каждый день. Вероятно, зачумленный город теперь выглядит днем так, как он выглядел тогда ночью. Когда мы углубились в индийские кварталы и пробирались по темным переулкам, нам приходилось двигаться с чрезвычайной осторожностью, ибо повсюду лежали спящие люди, и трудно было проехать, не задев их. В сумраке под ноги лошадей то и дело бросались большие стаи крыс — старшие родственники тех, что переносят сейчас чуму в Бомбее из дома в дом. Ланка представляли собой простые навесы, открытые настежь киоски; все товары были оттуда убраны, а на прилавках спали целые семьи; рядом с ними обычно стояла керосиновая лампа, словно это было бдение у мертвых тел.
Но наконец мы повернули за угол и увидели впереди сияние света. Это был дом невесты — он весь горел огнями; в честь свадьбы тут была устроена целая иллюминация, главным образом при помощи специальных газовых светильников. Внутри в доме тоже псе сияло и сверкало — огни, яркие одежды, украшения, зеркала, — еще одна сказка из «Тысячи и одной ночи».
Невеста оказалась пригожей, скромной девочкой лет двенадцати; одета она была так, как мы одели бы мальчика, только, конечно, пышнее и дороже. Она преспокойно расхаживала по дому, останавливаясь, чтобы поговорить с гостями и показать им свои свадебные драгоценности. А драгоценности были отменные, в особенности нить огромных алмазов, на которую приятно было поглядеть и приятно подержать в руках. К этой нити алмазов был подвешен большой изумруд.
Жених отсутствовал. Оказалось, что у него было свое свадебное празднество, в доме его родителей. Как я понял, оба они — и жених и невеста — должны принимать и чествовать гостей у себя каждый вечер, почти до утра, в течение недели и больше, а затем, если они все это выдержат, им можно пожениться. И жених и невеста были немного старше, чем это принято в Индии, — им было по двенадцать лет; они должны были пожениться годом или двумя раньше; правда, чужестранцу они могли показаться еще довольно молодыми.
Коте время перешло за полночь, в роскошном зале появились две прославленные дорого оплачиваемые танцовщицы, которые стали танцевать и петь. Вместе с ними пришли мужчины — они играли на странных инструментах, издававших жуткие звуки, от которых бежали по коже мурашки. Один из этих инструментов представлял собою трубочку, под ее звуки танцовщицы изображали заклинание змей. Мне показалось сомнительным, что подобной музыкой можно хоть кого-то зачаровать, но один местный джентльмен уверил меня, что змеям эта музыка нравится и что, слушая ее, они выползают из своих укрытий и изъявляют все признаки удовольствия в благодарности. Джентльмен рассказал вдобавок, что однажды, когда в его доме было празднество, на звуки такой трубочки приползло полдюжины змей, и, чтобы заставить их убраться восвояси, пришлось прекратить концерт. Их общество никого не привлекает, ибо змеи нахальны, навязчивы и опасны, но убить змею никто, конечно, не решится, так как убийство любого живого существа для индуса — большой грех.
Мы покинули празднество в два часа утра. И вот перед глазами другая картина, но она осталась в моей памяти как нечто, увиденное скорее на театральной сцене, чем в жизни: темные лица и белые, словно у привидений, одежды на веранде, у выхода, и на низкой лестнице; на эту толпу сверкающим потоком льется свет огней свадебной иллюминации; а посредине толпы, на ступеньках, высится фигура гиганта в чалме, имя которого вполне соответствует его размерам: Рао Бахадур Баскирао Балинкандже Питало, вакил[53] его высочества гаеквара Бароды. Без этого колосса в чалме картина свадебного пиршества была бы неполной, а если бы его звали просто Смит, то он утратил бы все свое очарование. Рядом, по обеим сторонам узкой улочки, у фасадов домов были поставлены осветительные сооружения, обычные у местных жителей: множество стеклянных стаканов (в них вставлены свечи), укрепленных на решетчатой раме в нескольких дюймах друг от друга, — в результате получается некое мерцающее созвездие, ярко выделяющееся в ночном мраке. По мере того как мы удалялись по темным переулкам, огни иллюминации сливались в один сноп и сияли в сгущающейся тьме подобно солнцу.
И вот опять глубокая тишина, шныряющие крысы, неясные очертания распростертых на земле тел, а по обеим сторонам улицы открытые лавки, напоминающие гробницы, и спящие люди, напоминающие мертвецов, тускло освещенных погребальными светильниками. И теперь, год спустя после этой ночи, когда я читаю телеграммы в газетах, мне кажется, что я читаю о том, что частично видел сам, еще прежде, чем это случилось, — видел в каком-то пророческом сне. В одной телеграмме говорилось: «Деловая жизнь в городе почти замерла. Слышен лишь погребальный плач. Все словно оцепенело, все недвижимо. Число закрытых лавок превосходит число еще действующих». Другое сообщение гласило, что 325 тысяч населения бежало из города и разносит чуму по стране. Три дня спустя появилось новое сообщение: «Население города сократилось вдвое». Беженцы занесли заразу в Карачи: «220 заболеваний, 214 смертных случаев». Сутки или двое позднее: «52 новых заболевания, все со смертельным исходом».
Чума вызывает ужас, какого не вызывает ни одна другая болезнь; из всех известных людям болезней чума самая смертоносная, самая убийственная. «Пятьдесят два новых заболевания, все со смертельным исходом»! Так может косить только Черная Смерть. В той или иной мере мы все можем представить себе опустошенный чумою город, оцепенение и мертвую тишину, нарушаемую лишь отдаленным заупокойным плачем, означающим, что и там, и тут, и еще где-то несут новую жертву; но, мне кажется, мы не способны осознать всю глубину того безумного страха, который владеет человеком, оказавшимся в зачумленном городе и не имеющим возможности из него выбраться. Полмиллиона людей в панике бросились прочь из Бомбея — и это дает нам приблизительное представление о том, что они испытывали: по, может быть, даже они не в состоянии были сообразить, что чувствовали остальные полмиллиона жителей, оказавшихся лицом к лицу с чумой, без какой-либо надежды на спасение. Много лет назад Кинглэйк оказался в Каире во время нашествия Черной Смерти; он знает, какой ужас сжимает сердце в ту пору, когда человек ждет появления роковых признаков у себя под пышкой; как наступают бред и кошмары, питают видения детства, дыбом встают бильярдные столы, и наконец внезапный провал — смерть:
«Человек, вокруг которого свирепствует чума, страшится роковой неизбежности смерти, не верит ни в судьбу, ни в провидение божие; у него нет заменяющего веру равнодушия, его ужасает каждая тряпка, трепыхающаяся на ветру в пораженном чумою городе. Если и силу жестокой необходимости он должен куда-то идти, ему на каждом углу мерещится смерть; и он дрожа пробирается вперед, съеживаясь, чтобы не задеть какую-нибудь куртку справа — она может его ужалить, или какой-либо плащ слева — он тоже может нести смерть. И в первую очередь его мучит страх перед тем, что он должен был бы сильнее всего любить, — он шарахается от прикосновения женского платья: ведь матери и жены, спеша по разным делам прямо от смертного одра, бегут по улицам без большой опаски и не проявляют той осторожности, о которой не забывает мужчина. Может статься, что, всячески оберегаясь, бедный левантиец на какое-то время и избежит опасного прикосновения, но рано или поздно то, чего он так боится, происходит. Женщина — этот полотняный узел, с темными, полными слез глазами, бредущий по улице с сладострастной неуклюжестью Гризи[54], — женщина коснулась левантийца краем своего рукава! И с этой ужасной минуты бедный левантиец лишается покоя: он постоянно думает об этом прикосновении, как бы призывая смертельный удар; он следит за симптомами чумы столь неотступно, что рано или поздно они действительно появляются. Запекшиеся губы — это признак чумы, — у него и в самом деле запеклись губы; стук в висках, — да, да, у него стучит в висках; учащенный пульс, — он уже нащупывает его сам, ибо боится обратиться к другому человеку, чтобы его не бросили; он щупает запястье и чувствует, как отхлынула кровь от его сердца. Теперь только опухоль под мышкой, и он будет окончательно убежден в печальном исходе дола; и тут он сразу чувствует какую-то тяжесть под мышкой — это скорее не боль, а легкое напряжение кожи; он благодарил бы бога, если бы этот знак оказался лишь плодом его фантазии, — ведь хуже этого ничего нельзя себе представить! Теперь ему кажется, что он был бы счастлив, будь у него только запекшиеся губы, стук в висках и учащенный пульс, — если бы только не было этой роковой опухоли под мышкой... Может быть, пощупать? Он колеблется и, немного успокоившись, решает не прикасаться к подмышечным железам. Но скоро он начинает терзаться невообразимо, его мучают опасения, он напрягает всю свою волю и отваживается взглянуть в глаза правде, узнать судьбу: он щупает железу и чувствует, что кожа вполне нормальна, но под нею катается шарик величиной с пистолетную пулю. Да ведь это не что иное, как смерть, неизбежная смерть! Пощупаю-ка я с другой стороны: там такого шарика нет, но есть что-то похожее. А может быть, бывает увеличенная железа и у здоровых людей? Какое счастье, если бы у него было лишь одно это! Таким образом, бедный левантиец сам себя терзает и убивает, еще не дождавшись чумы, а когда ангел смерти, которого так накликали, приходит на самом деле, ему остается лишь закончить начатое; он прижимает свою огненную руку ко лбу жертвы, заставляя ее бредить воспоминаниями о людях и вещах, некогда ему близких и дорогих или даже безразличных. Бедняга вновь оказывается у себя на родине, в прекрасном Провансе, — он видит и старинные солнечные часы в саду своего детства, и свою мать, и давно забытое милое личико сестры (это, конечно, воскресное утро, — слышишь, как в церкви звонят колокола?), он стремительно летит по огромным пространствам мира, чувствуя, что все повсюду выложено мягкими кипами хлопка, что это хлопок вечности, — он знает, что именно так; он может поклясться, что выиграл бы эту партию на бильярде, если бы бильярдный стол неожиданно не избочился и не стал дыбом и если бы в его руках был настоящий кий, а не эта дрянь, которая но хочет шевелиться — его рука не хочет шевелиться, — короче говоря, в голове бедного левантийца происходит бог знает что; и, вероятно, на следующую ночь он станет пищей семьи завывающих шакалов, которые вытащат его за ноги из мелкой песчаной могилы».
Глава VII КОЛЕСНИЦА ДЖАГГЕРНАУТА, САМОСОЖЖЕНИЕ ВДОВ И ТУГИ
Голод — служанка гения.
Новый календарь Простофили ВильсонаВо время нашего пребывания в Бомбее там было весьма интересное судебное дело — чудовищно реалистическая страница из «Тысячи и одной ночи», странное сочетание первобытной простоты, благочестия и разбойничьей сноровки. Можно было подумать, будто вернулись давно забытые времена тугов; во всяком случае, уж не приходилось сомневаться, что такие времена действительно были. Дело заключалось в том, что была убита молодая девушка, — убийцы хотели забрать у нее какие-то грошовые украшения, стоимость которых не составляла и однодневного заработка американского рабочего. Это могло случиться где угодно, в любой стране, но, пожалуй, нигде жертву не убили бы с таким холодным цинизмом, с такой наглостью и бесцеремонностью, с таким отсутствием страха, раскаяния и сожаления, как это было в данном случае. Всюду убийцы действуют тайно, по ночам, избегая свидетелей; страх не дает им покоя, пока убитый находится поблизости; убийца успокаивается лишь тогда, когда упрячет тело жертвы как можно надежнее. Но этот индийский убийца совершает свое дело средь бела дня, не страшась никаких очевидцев, присутствие трупа его ничуть не смущает, и он вовсе не спешит от него избавиться; все соучастники убийства ведут себя столь беззаботно, столь беспечно, что спокойно спят в положенное время, как будто ничего не произошло и над ними не нависла никакая угроза; и эти пятеро добродушных людей заканчивают дело религиозной церемонией. Все тут звучит, как в написанном полвека назад романе Медоуса Тэйлора о тугах,[55] — в этом легко убедиться из официального судебного отчета:
«Вчера в Мазагонском полицейском суде в присутствии мистера Фироз Xoшанг Дастура — судьи четвертого участка — полицейский надзиратель Нолан вновь предъявил обвинение Тукараму Санту, женщине Сават Байе, ее дочери Кришни и Гопалу Витху Бханайкару по статьям 302 и 109 Кодекса в том, что в ночь на 30-е число декабря месяца прошлого года они убили индусскую девушку Касси, двенадцати лет, посредством удушения в комнате барака на Джакария Бандер, на шоссе Сыори, а также в том, что они помогали друг другу и подстрекали друг друга при совершении этого преступления.
Мистер Ф. А. Литтл, прокурор, выступал на суде от имени ее величества; подсудимые не выставили защиты. Мистер Литтл, ссылаясь на процессуальный уголовный кодекс, предлагал оправдать одну из обвиняемых — женщину Кришни, 22 лет, на том основании, что она чистосердечно и полностью во всем призналась и раскрыла все обстоятельства, при которых была убита девушка Касси.
Судья удовлетворил просьбу прокурора, обвиняемая Кришни была допрошена в качестве свидетеля и в ответ на вопросы мистера Литтла призналась в следующем:
— Я работница, работаю на фабрике Джубили Миллс[56]. Я помню тот день [вторник], когда было найдено тело убитой Касси. Как раз перед этим я полдня была на фабрике и вернулась домой в три часа дня, и тут в доме я увидела пять человек: первого обвиняемого Тукарама, моего любовника, мою мать Байю, вторую обвиняемую, обвиняемого Гопала и двух гостей по имени Рамджи Даджи и Аннаджи Гушарам. Тукарам снимал комнату в бараке на улице Джакария Бандер, у хозяина по имени Гирдхарилл Радхакишан; и в этой комнате жили я, мой любовник Тукарам и его зять Йессо Махадху. Йессо жил с нами с тех пор, как приехал в Бомбей из своей родной деревни. Когда я пришла в тог день с фабрики, два гостя сидели на койке на веранде, а через несколько минут сюда пошел обвиняемый Гопал и сел рядом с ними, в то время как я и моя мать сидели в комнате. Тукарам, который выходил купить немного бетеля и орехов пальмы арека, привел с собой в дом этих двух гостей. Придя домой, он дал им бетель, как прощальное угощение. Пока они жевали его, из комнаты вышла моя мать и спросила одного из гостей — Рамджи, что у того с ногой, а Рамджи ответил, что он перепробовал много лекарств, но они ему не помогли. Моя мать взяла тогда в руку горсть риса и предсказала, что болезнь Рамджи не пройдет до тех пор, пока он не возвратится в свои родные места. Тем временем ныне покойная Касси пришла со двора и остановилась на пороге нашей комнаты, с металлическим кувшинчиком в руке. Тогда Тукарам попросил гостей уйти с веранды, и те ушли и направились к каменоломне. Как только гости вышли, Тукарам схватил девушку Касси, которая тем временем вошла в комнату, накинул на нее свой кушак и привязал к столбу, поддерживающему потолок. После этого он сжал девушке горло и, завязав ей рот тряпкой (каковая сейчас находится перед судьями), тоже прикрепил ее к столбу. Убив девушку, Тукарам снял у нее с головы золотое украшение и золотые подвески, а также забрал ее кувшинчик. Кроме этих двух украшений, на Касси были серьги, кольцо в носу, несколько серебряных колец на пальцах ног, два ожерелья на шее, пара серебряных колец на щиколотках и браслеты. Тукарам потом пытался снять с нее серебряные амулеты и серьги и вынуть кольцо из носа, но это ему не удалось. Пока он это делал, я, моя мать и Гопал были тут же. Сняв два золотых украшения, Тукарам передал их Гопалу, который в тот момент стоял рядом со мной. Убив Касси, Тукарам пригрозил задушить также и меня, если я расскажу кому-либо о происшедшем. Гопал и я стояли в комнате, у дверей, и Тукарам угрожал нам обоим. Моя мать Байя держала Касси за ноги, когда Тукарам привязывал ее к столбу и убивал. Касси кричала. Тукарам и моя мать убили девушку вместе. Потом труп девушки завернули в матрац и переложили на полати над дверью нашей комнаты. Когда Касси была задушена, Тукарам запер дверь комнаты изнутри. Все это произошло вскоре после того, как я пришла домой с фабрики. Тукарам завернул тело убитой и матрац и положил его на полати, а потом пошел брить себе голову к цирюльнику Самбху Рагхо, что живет через Дверь от меня. Моя мать и я — мы обе никому ничего обо всем этом не говорили. Мой любовник Тукарам бил меня и грозил мне, и я только поэтому никому тогда ничего не сказала. Когда я сказала Тукараму, что я расскажу про убийство, он ударил меня. Тукарам велел обвиняемому Гопалу идти к себе в комнату; тот ушел и унес с собою оба золотых украшения и кувшинчик. Йессо Махадху, зять Тукарама, пришел в дом и спросил Тукарама, зачем он занялся тут стиркой, ведь водяная колонка совсем рядом. Тукарам отвечал, что он стирает свою тряпку, которую запачкали птицы. Около шести часов вечера того же дня моя мать дала мне три пайсы[57] и велела купить кокосовый орех, а я отдала деньги Йессо, и тот пошел и купил кокосовый орех и немного листьев бетеля. Потом Йессо и другие были в комнате, я умывалась; а когда я кончила мыться, мать взяла кокосовый орех и листья бетеля у Йессо, и мы вчетвером отправились к морю. К морю пошли Тукарам, моя мать, Йессо — зять Тукарама, и я. Придя к берегу, моя мать сделала приношение морю и помолилась, прося прощения за то, что мы совершили. Еще раньше, чём мы подошли к морю, кто-то явился к нам и стал спрашивать про девушку Касси. Полиция и еще какие-то люди приходили к нам до того, как мы были у моря, и после того, и спрашивали про Касси. Полиция спрашивала о девушке мою мать, и та отвечала, что Касси подходила к нашей двери, но потом ушла. На следующий день полиция спросила Тукарама, и он дал такой же ответ. Это было в тот вечер, когда хватились девушки. После приношения, которое мы сделали морю, мы поели вместе кокосового ореха и возвратились домой; моя мать дала мне немного еды, но Тукарам в тот вечер ничего не ел. После ужина я и мать легли спать в комнате, а Тукарам спал на койке близ своего зятя Йессо Махадху, снаружи. Обычно Тукарам спал совсем не тут. Он спал всегда в комнате. Когда я ложилась спать, труп убитой находился еще на полатях. Комната, где мы спали, была заперта, и я слышала, как мой любовник Тукарам ворочался и долго не мог заснуть. Около трех часов утра Тукарам постучал в дверь, и мы с матерью открыли ее. Тукарам велел мне пойти к ступенькам, что ведут к каменоломне, и посмотреть, есть ли там кто-нибудь. Эти ступеньки вели к конюшне, через которую мы выходили к каменоломне позади двора. Когда я вышла к ступенькам, там никого не было. Тукарам спросил меня, есть ли там кто-нибудь, и я ответила, что никого нет. Потом он снял тело убитой с полатей и, завернув его в сари, велел мне идти вслед за собой к ступенькам у каменоломни, и я пошла. То сари, что лежит сейчас здесь, перед вами, это то самое. Кроме сари, на трупе была также чоли[58]. Тукарам поднял труп на руки и пошел по лестнице, через конюшню, потом повернул направо, к бунгало какого-то сахиба, и там положил труп у стены. Все это время я и моя мать были рядом с ним. Когда переносили труп, Йессо лежал на койке. Положив труп у стены, мы все вернулись домой, а когда настало пять часов утра, снова явилась полиция и увела Тукарама. Через час полиция вернулась и забрала меня и мою мать. Нас стали допрашивать, и тогда я все рассказала. Два часа спустя меня привели в нашу комнату, и я показала там полицейскому надзирателю Нолану, инспекторам Робертсу и Рушан-Али в присутствии матери и Тукарама и кушак, и тряпку, и матрац, и деревянный столб. Тукарам убил девушку Касси ради ее украшений — он хотел подарить эти украшения девушке, на которой собирался вскоре жениться. Тело Касси было найдено на том самом месте, где его положил Тукарам»,
Преступления у индийцев всегда носили живописный и занимательный характер. Деятельность тугов была подавлена англичанами, было искоренено и несколько других явлений столь же отвратительного характера, но в жизни страны еще осталось достаточно темного и загадочного. Свидетельства этому можно найти даже в газетах. В своем замечательном очерке, посвященном Уоррену Гастингсу, Маколей[59] проливает свет на этот вопрос, когда говорит о результатах временных неудач могущественного Гастингса, вызванных происками сэра Филиппа Фрэнсиса и его сторонников.
«Индийцы смотрели на Гастингса как на человека конченного и действовали сообразно своим обычным методам. Может быть, кто-нибудь из читателей видел, как в Индии туча ворон насмерть заклевывает больного коршуна, — вот вам наглядный пример того, что происходит в этой стране, когда счастье изменяет человеку, перед величием которого раньше трепетали. В одно мгновение все низкопоклонники, еще недавно готовые ради него лгать, идти на подлог, отравлять, уже переметнулись на другую сторону, и, всячески черня его имя, выторговывают милости у его удачливых врагов. Индийскому правительству стоит лишь намекнуть, что оно желало бы погубить такого-то человека, как через двадцать четыре часа на него возведут столько тяжких обвинений, подкрепленных обильными и обстоятельными клятвенными свидетельствами[60], что любой человек, незнакомый с азиатской лживостью, сочтет эти обвинения неопровержимыми. Хорошо еще, если подпись обреченного не подделают под каким-нибудь незаконным соглашением или если какая-нибудь бумага, изобличающая предательство, не обнаружится вдруг в укромном уголке его жилища».
Это было почти сто двадцать пять лет тому назад. Статья в одной из влиятельнейших индийских газет («Пайонир») показывает нам, что в некоторых отношениях индиец сегодняшнего дня является копией своих предков. Ниже приводится рассказ о тонкостях весьма деликатного свойства, возводящих мошенничество уже в рант настоящего искусства, вызывающего чуть ли не унижение:
«Протоколы индийских судов могут убедительнейшим образом доказать, что класс мошенников на Востоке по блеску выполнения и изобретательности своих замыслов может соперничать со своими европейскими и американскими собратьями и способен даже превзойти их. Индия особенно отличается искусством подделки. Там есть некоторые округа, которые известны своим изысканным исполнением подделок. Этим делом заняты целые фирмы, располагающие складами гербовой бумаги, годной для любого случая. Они обычно каждый год изготовляют массу свежей гербовой бумаги, а иные фирмы, более процветающие и с большим стажем, могут поставить документы за любой из последних сорока лет, причем на бумаге будут соответствующие водяные знаки и вид у документов будет именно такой, как должно по их давности. Есть округа, завоевавшие известность тем, что там можно найти искуснейшего лжесвидетеля, — об этом думаешь с почтительным восхищением, учтя, что такое искусство находит весьма большой спрос, а люди, желающие выиграть неправедное судебное дело, готовы платить большие деньги, лишь бы только заручиться услугами этих специалистов по лжесвидетельству».
В газете приводятся различные примеры, иллюстрирующие методы индийских мошенников. Из них явствует, что эти жулики и их сообщники чрезвычайно хитры и начисто лишены всякого чувства порядочности; очевидно также, что жертвы мошенников проявляют больше тупости, чем можно было бы ожидать и стране, где подозрительность — чуть ли не первое, что усваивает человек с младенчества. Излюбленным объектом махинаций является юный простофиля, только что получивший богатство и пытающийся как можно хуже им воспользоваться. Я приведу одну цитату:
«Иногда применяется и другой трюк для обмана доверчивых людей, и трюк этот неизменно себя оправдывает. Облюбовывается какой-нибудь простак, с ним завязывается знакомство, и его подстрекают ко всякого рода порокам и излишествам. Когда дружба стала достаточно тесной, мошенник говорит юноше, что у него есть брат и что этот брат просит у него, мошенника, взаймы десять тысяч рупий. Мошенник заявляет, что деньги у него есть и что он дал бы их взаймы, но поскольку брат есть брат, с песо невозможно спросить проценты. И мошенник предлагает следующее: он вручит свои деньги юноше, а тот даст их взаймы брату мошенника, предварительно взыскав с него изрядные проценты, которые, по уговору, мошенник и юноша сообща прокутят. Юный простофиля не видит в этом ничего дурного, в назначенное время получает у мошенника семь тысяч рупий и передает их его «брату», то есть сообщнику. Последний рассыпается в благодарностях и выдает долговое обязательство на десять тысяч рупий с уплатой на предъявителя. Мошенник до поры до времени молчит, не раскрывая своих карт, а потом заявляет, что так как деньги «брат» ire возвратил, а судиться с ним не хочется, то было бы лучше всего продать долговое обязательство на базаре. Юный простофиля вручает мошеннику долговое обязательство — ведь деньги, данные взаймы, совсем не его деньги, — затем, услышав от мошенника, что обязательство следует подписать на обороте, а не то оно не имеет силы и его не продать, он не колеблясь ставит свою подпись. Мошенник передает обязательство своим сообщникам, а тс направляют к юноше солидных и уважаемых стряпчих — удостовериться, действительно ли это его подпись на обязательстве. Юноша, разумеется, заявляет, что подпись принадлежит ему, — и судьба его решена. Один из сообщников возбуждает против юноши судебное дело, два первых сообщника тоже привлекаются в качестве обвиняемых. Они признают свои передаточные подписи, а один из них клянется, что купил у юноши долговое обязательство за его полную стоимость. Юноша оказывается беззащитным, так как ни один суд не поверит его наивному объяснению того, как его подпись попала на вексель».
Вот вам Индия, единственная в своем роде! Страна с монополией на великое и внушительное! Если у какой-либо другой страны есть какая-либо примечательная черта, она никогда не является ее безраздельным достоянием — у какой-нибудь другой страны непременно есть то же самое. Но Индия — о, тут совсем другое дело! Все ее чудеса принадлежат только ей, ее права неприкосновенны, никакие подражания невозможны. И сколько величия, грандиозности, таинственности почти во всех ее необыкновенных чудесах!
Взять к примеру чуму, Черную Смерть: ее породила Индия, она — ее истинная колыбель.
Колесница Джаггернаута — тоже изобретение Индии.[61]
Или сати[62], — ведь еще на памяти ныне здравствующего поколения восемьсот женщин с охотой, даже с радостью сожгли себя на трупах своих покойных мужей за один только год. Если бы им позволило британское правительство, восемьсот индийских вдов сделало бы это и в нынешнем году.
Голод — это специальность Индии. Во всех остальных странах голод — просто преходящая случайность, но в Индии это опустошительная катастрофа; если в других странах от голода умирают сотни людей, то здесь — миллионы.
В Индии два миллиона богов, и всем этим богам поклоняются, В этом отношении все остальные страны просто нищие, а Индия — единственный миллионер.
В Индии все приобретает гигантские размеры — даже ее нищета; тут с ней не сравнится ни одна другая страна. Но та же Индия владеет такими колоссальными богатствами, что там пришлось сокращать многозначные обозначения цифр до одного коротенького слова: сто тысяч там выражают одним словом — «лакх»; десять миллионов — коротким словом «крор».
В недрах гранитных гор индийцы с неистощимым терпением высекли множество обширных храмов и прославили их скульптурными колоннадами и величавыми изваяниями, а вечные стены этих храмов украсили благородной живописью. Они возвели такие могущественные крепости, что все остальные с виду грозные укрепления в мире по сравнению с ними кажутся игрушками; они выстроили дворцы, которые по редкости примененных материалов, по тонкости и красоте отделки, по стоимости затраченных средств производят впечатление чуда; они соорудили такой мавзолей, что со всего света съезжаются люди взглянуть на него. В Индии восемьдесят национальностей, говорящих на восьмидесяти языках; ее население достигает трехсот миллионов.
И сверх того Индия является родиной чуда из чудес — касты, и родиной тайны тайн — сатанинского братства тугов, убийц-душителей.
Индия положила начало всех начал на заре человеческого существования. Она создала первую цивилизацию; она первой начала сосредоточение материальных богатств; в ней жили глубокие и топко чувствующие мыслители; в Индии были и богатые копи, и леса, и плодородные земли. Все, казалось, вело к тому, что она должна была остаться в первых рядах и быть сегодня не жалкой, слабой страной, зависящей от иноземного хозяина, а ведущей державой, вершительницей судеб мира, диктующей слово закона и приказа всем племенам и народам земного шара. Но истинных возможностей для такого верховенства у нее по существу не было. Еще если бы это была одна Индия и один язык, — а ведь их восемьдесят! Там, где восемьдесят национальностей и несколько сот правительств, борьба, войны и раздоры становятся неизбежностью; единство целей и единство политики уже немыслимы; при такой ситуации мирового превосходства, конечно, не достигнуть. Нет сомнения, что уже само по себе наличие каст могло иметь такое же убийственное влияние, как и множественность языков, ибо они делят население на изолированные слои, но имеющие общности чувств, а подобные условия ничуть не способствуют развитию патриотизма.
Именно разделение страны на множество государств и национальностей породило тугов и создало благодатную почву для их деятельности. Оценить положение вещей и этой стране нелегко, но, быть может, читатель хоть отдаленно представит себе ситуацию, вообразив, что Соединенные Штаты населены отдельными национальностями, которые говорят на разных языках, что внутри страна разделена границами со стражей и таможнями, что существует бездна всевозможных препятствий для путешественников и торговцев, что переводчиков, знающих все языки, очень мало или почти нет, что все время то тут, то там ведется какая-нибудь война, вконец разрушая всякую возможность торговли и передвижения. Внутренние связи в такой стране почти сведены к нулю. В Индии восемьдесят языков, а таможенных застав там больше, чем кошек. Всякий неглупый человек с инстинктами разбойника с большой дороги не может не заметить, какие широкие возможности для грабительского ремесла таятся в стране при таком положении. В Индии было полно неглупых людей с разбойничьими инстинктами, и вполне понятно, откуда взялось братство тугов: оно просто отвечало назревшей потребности.
Давно ли это произошло — никто не знает; возможно, столетия назад. А как удавалось тугам хранить свои тайны — одна из самых непостижимых загадок во всей их истории. Английские купцы вели свои дела в Индии уже более двух столетий, когда наконец они впервые услышали о тугах, а ведь туги убивали людей тысячами всюду и везде, убивали постоянно, каждый день.
Глава VIII ПРОСТЫЕ, НО ПРИЯТНЫЕ СПАЛЬНЫЕ ВАГОНЫ
«Не затрагивай собаку, когда она спит», — гласит старая поговорка. Правильно. Если многое поставлено на карту — не затрагивай газеты.
Новый календарь Простофили ВильсонаИз дневника.
28 января.— Недавно я узнал о существовании официальной книги о тугах. Раньше я и не слыхал о ней. Мне дали ее почитать на время. Мы готовимся к путешествию. Подготовка заключается главным образом в покупке постельных принадлежностей. Они пригодятся, чтобы спать в вагоне, иногда в частном доме и почти во всех гостиницах. Это кажется невероятным, но дело обстоит именно так. И это своего рода пережиток, явно излишняя предосторожность, каким-то образом сохранившаяся в дорожном обиходе от тех времен, когда она была действительно необходима. Пережиток ведет свою родословную с тех дней, когда не существовало ни железных дорог, ни отелей; когда случайный белый путешественник ехал верхом на лошади или в телеге, запряженной быками, на ночь он останавливался на маленькой почтовой станции, которые понастроило правительство на небольших расстояниях друг от друга, — просто крыша над головой, не больше. Путешественнику приходилось тогда возить с собой постельное белье или обходиться без него. Жилища английских резидентов просторны и комфортабельны, хорошо обставлены, и, конечно, очень странно видеть, как приезжие входят туда и повсюду сваливают свои одеяла и подушки. Но привычка делает приемлемыми и неприемлемые вещи.
Постельные принадлежности вместе с непромокаемыми портпледами можно купить почти в любом магазине — затруднений с этим нет никаких.
30 января. — Что за зрелище вокзал, когда туда приходит поезд! Это был олень просторный вокзал, но, когда мы туда приехали, нам показалось, что там собрался весь мир — половина внутри, половина снаружи, — и все тащили на головах горы постельных принадлежностей и иного скарба. Причем все старались одновременно протиснуться в узкие двери двумя встречными потоками. Эти два людских потока состояли из терпеливых, мягких, многострадальных индийцев, среди которых белые попадались лишь изредка; но как только появлялся местный слуга белого человека, он словно бы отбрасывал на это время природную деликатность и мягкость и брал на себя права белого, энергично расчищая путь и расталкивая мешающие ему черные тела. Сатана выказывал тут свою власть и свои права с ужасающей ревностностью. В своих предыдущих воплощениях он, вероятно, был тугом.
Внутри просторного вокзала пестрая людская толпа лилась поток за потоком, в разные стороны, — люди толкались, спешили, опаздывали, волновались, бросались к длинным поездам и втискивались в них со своими тюками и свертками, потом исчезали, и тут же подступала новая людская волна, новый поток. И среди всей этой сумятицы и толчеи, как будто не обращая на это ни малейшего внимания, то тут, то там на голом каменном полу группами сидели индийцы: молодые стройные смуглые женщины, седые морщинистые старухи, нежнотелые коричневые ребятишки, старики, юноши, подростки, — всё бедный люд, но на всех женщинах здесь, от девочек до старух, дешевые яркие украшения: кольца в носу, кольца на щиколотках и пальцах ног, браслеты на руках; украшения эти, несомненно, составляли все их богатство. Люди эти молча сидели на полу, окруженные жалкими свертками и всяким домашним скарбом, и терпеливо ждали — чего? Поезда, который должен отойти в какое-то время днем или ночью! Они даже не пытались приноровиться к часам или расписанию, — это и не имело для них значения: все предопределено свыше, зачем же волноваться? А что касается времени, то его уйма; и то, чему суждено произойти, обязательно произойдет, торопиться нечего.
Индийцы ехали третьим классом, где билеты удивительно дешевы. Они переполняли вагоны, забиваясь туда человек по пятьдесят; рассказывают, что в таких случаях нередко человек, принадлежащий к высшей касте брахманов, вынужден войти в соприкосновение с людьми низшей расы и, таким образом, осквернить себя, — ужасная вещь, как ясно для всякого, кто способен до конца осознать это и по-настоящему оценить. Да, брахман, у которого нет и рупии за душой и которому не у кого ее занять, вынужден касаться своим локтем локтя богача низшей касты, наследника древнего титула в два ярда длиной. И ему ничего не остается, как переносить такое осквернение; ведь если бы одному из них разрешили войти в священные вагоны для белых, то скорей всего выбор пал бы не на величественного бедного брахмана. Вагоны третьего класса тянулись длинной вереницей, ибо индийцы ездят целыми ордами, и провести ночь в этих битком набитых душных вагонах было, надо думать, весьма нелегко.
Когда мы подошли к нашему вагону, Сатана и Барни были уже там и делали свое дело — вместе с ними явилось множество носильщиков, тащивших постельные принадлежности, зонты, ящики с сигарами. Имя «Барни» мы применяли для краткости: называть его подлинным именем у нас не хватало времени.
Наш вагон выглядел удобным и даже роскошным. А между тем билет стоил... — нет, такая дешевизна была бы немыслима нигде, даже во Франции... и даже в Италии. Вагон был построен из простых, самых дешевых, частично обструганных досок, покрытых тусклой краской, и никому и в голову не пришло попытаться его как-нибудь украсить. Пол был голый, но это только сначала, — вскоре его покрыла летящая пыль. Вдоль одной стены купе тянулась сетка для багажа; в другом конце находилась дверь, которую можно было с великим трудом закрыть, но которая сейчас же вновь открывалась. Дверь вела в узкую маленькую умывальную, где было место для таза и полотенца, если, конечно, оно у вас есть с собой,— а оно у вас непременно есть, ибо, зная, что железная дорога вас полотенцем не обеспечит, вы купили его вместе с постельными принадлежностями. У обеих стен вагона стояло по широкому обтянутому кожей дивану — на них можно было сидеть днем и спать ночью. Над каждым диваном висела на ремнях широкая, плоская, тоже обтянутая кожей полка — место для сна. Днем вы могли откидывать ее к стене, чтобы она не мешала, — и вы становились обладателем просторной и очень удобной, уютной комнаты. Ни в одной стране, по-моему, нет вагонов столь уютных (и приспособленных для уединения), ибо, как правило, в купе только два человека; но даже когда в нем четыре, чувство уединенности вас не покидает. Вагоны в Америке лучше, чем где бы то ни было, но у них есть один недостаток: мало уюта, и слишком много людей.
Возле каждого дивана — отдельная дверь. Над диванами во всю длину идут ряды больших цельных, окон со стеклом синеватого оттенка — чтобы умерить ослепительный блеск солнца и защитить глаза. Окна можно и пути опускать, если пассажир хочет глотнуть свежего ветерка. В потолке укреплены две керосиновые лампы, достаточно яркие, чтобы можно было читать; когда спет не нужен, лампы закрываются специальными зелеными шторками.
Пока мы беседовали на платформе с друзьями, Барни и Сатана разложили на сетках наш ручной багаж, книги, фрукты и бутылки с содовой, а портпледы и более солидные грузы поместили в умывальной, развесили на крюках пальто, защитные шлемы и полотенца, сложили боковые полки, чтобы они не мешали, затем вскинули на плечи свои постели и удалились в вагон третьего класса.
Теперь вы сами видите, какой это чудесный, просторный, светлый и уютный вагон, — тут можно расхаживать, можно сидеть и писать или вытянуться на диване, читать и курить. Средняя дверь в переднем конце купе ведет в другое купе, такое же, как у меня. Там мои жена и дочь. Около девяти часов вечера, когда мы ненадолго остановились на какой-то станции, явились Барни и Сатана, расстегнули тяжелый портплед и расстелили постельные принадлежности в обоих наших купе — матрацы, простыни, цветные одеяла, подушки,— словом, все, что требуется. Горничных в Индии нет, о такой должности здесь, должно быть, и не слыхивали. Затем Барии и Сатана закрыли дверь между купе, проворно привели все в порядок, положили на постель ночное белье, поставили на место ночные туфли и удалились восвояси.
31 января. — Все здесь ново и приятно для меня, и я долго старался не заснуть, чтобы насладиться уютом и почитать об этих удивительных убийцах-душителях. Даже когда я заснул, они все еще тревожили мой мозг и пытались меня удушить. Предводителем шайки выступал тот гигант индиец, которого я увидел в ярком свете на крыльце, когда мы уезжали с празднества обручения в два часа ночи, — Рао Бахадур Баскирао Балинкандже Питало, вакил гаеквара Бароды. Именно он привез мне от своего властелина приглашение приехать в Бароду и почитать ему лекции, — а теперь этот гигант так скверно вел себя в моем сне. Но чего только не случается в сновидениях! Это похоже на то, о чем пела «Соловей Мичигана», — хотя, конечно, ее стихи тут некстати, ибо одно из неотъемлемых качеств, которое отличает ее стихи от стихов Шекспира и которое делает их для нас особо ценными, — это их явное и простодушное свойство быть некстати:
Сердце мое в упоенье, Как во хмелю голова: Знаю — придут ко мне рифмы И золотые слова. Чудное время настанет, Песня моя зазвучит. То-то душа пылает, То-то сердце стучит[64].Барода. — Приехали сегодня утром в семь часов. Заря только-только занималась. Выходить из вагона в незнакомом месте в такое время было очень тоскливо, а мигающие огни станции создавали впечатление, будто еще царит глухая ночь. Однако господа, приехавшие встретить нас, и их слуги уже делали свое дело: они не потеряли ни минуты. И вот мы покидаем станцию и быстро движемся сквозь сероватый рассветный сумрак, вот мы уже размещены в доме; слуг вокруг нас гораздо больше, чем мы привыкли, и распоряжаются ими столь важные и представительные люди, что эхо приводит нас в немалое смущение. Но здесь лее это в порядке вещей; тут говорят на балларатском английском, держат себя непринужденно и гостеприимно, и все идет прекрасно.
Завтрак был отличный. Через открытое окно вдали за лужайкой виднелся индийский колодец: два вола ленивой и тяжкой поступью поднимались и спускались по скатам, подавая наверх воду. В тишине раздавался тоскливый скрип механизма — не слишком музыкальный, но все же какой-то успокоительно-мечтательный, ласковый, грустный, — совсем как плач погибшей души. Быть может, в таком сравнении есть какие-то отзвуки книги, которую я читал, ибо, конечно, душители-туги бросали в этот колодец убитых ими людей.
Сразу после завтрака начался деловой день и, кстати сказать, довольно напряженный. Нас повезли по извилистой дороге через обширный парк с рощами вековых деревьев и густейшими зарослями всяких кустарников и трав; в одном месте через дорогу проковыляли три большущих серых обезьяны, — это было неожиданно и неприятно: подобные создания гораздо естественнее выглядят в зверинце, чем в первобытной глуши, — тут в них чувствовалось что-то нелепое и неуместное.
Скоро мы оказались в городе и проехали его от начала до конца. Город был чисто индийский, древний, как мир, и невероятно одряхлевший, — казалось, он вот-вот рассыплется в пыль. А дома-то! Дома были причудливы и странны до изумления: по фронтонам на них красовались необычайно изящные и замысловатые деревянные резные узоры, тут и там виднелись грубые изображения слонов, князей и богов, написанные кричащими красками; все нижние этажи домов на этих удивительно узких улочках были заняты лавчонками — неописуемо крошечными, до предела набитыми какой-то рухлядью, выставленной на продажу, и почти голыми людьми, которые, сидя на корточках, стучали и звенели молотками, паяли, наваривали, шили, кроили, готовили пищу, отмеривали зерно, мололи его, чинили изваяния богов; и толпы оборванных и крикливых людей, снующих прямо под ногами наших лошадей, и всепроницающие тошнотворные запахи и испарения!
Все было восхитительно, все замечательно.
Представьте себе процессию слонов, шествующих по такой узкой, тесной улочке и соскребающих своими боками краску с домов! Какими громадинами должны они казаться и какими маленькими будут выглядеть рядом с ними дома! Л когда слоны идут, покрытые сверкающими придворными попонами, как роскошны они в сравнении с окружающим их жалким и убогим городским пейзажем! А когда взбесившийся слои в ярости мчится вперед, нанося удары хоботом направо и налево, куда бегут и как спасаются от него людские толпы? Мне кажется, что время от времени такие трагедии должны разыгрываться на улицах в периоды слоновьего бешенства (ибо у слонов бывают такие периоды).
Интересно, сколько этому городу веков? Здесь есть строения — и порой весьма массивные, настоящие монументы — столь ветхие и дряхлые, столь отягощенные грузом столетий, столь потускневшие и помрачневшие от стараний припомнить что-то, забытое ими еще в доисторические времена, что начинает казаться, будто они еще частица изначального божьего творения. Действительно, Барода — одно из древнейших индийских княжеств и всегда славилось своей варварской роскошью, блеском и богатством своих властителей.
Глава IX Я СОГЛАШАЮСЬ ПРОКАТИТЬСЯ НА СЛОНЕ
Чтобы поразить вас в самое сердце, нужны совместные усилия вашего врага и вашего друга: один чернит вас, а другой передает вам его слова.
Новый календарь Простофили ВильсонаВновь мы покинули город; едем открытой равниной, по извилистым дорогам, среди одиноких деревушек, прячущихся под манящей сенью тропической растительности; всюду праздничная тишина, порой навевающая чувство одиночества, по везде скользят мимо, беззвучно ступая, будто Духи, босые индийцы — идут, удаляются и исчезают вдали, словно фантомы, порождение мечты. Время от времени перед глазами встает караван горделивых верблюдов, — на них всегда интересно смотреть; ступни у верблюдов бархатные от природы, шаги их беззвучны. Действительно, в атом Эдеме нет никакого шума, никаких звуков. Но чу... что-то коротко звякнуло: под охраной офицера проходит группа осужденных индийцев, и мы услышали мягкое позвякивание их оков. В уединенном месте, под сенью дерева, сидит святой человек — голый темнокожий факир, тощий, костлявый и весь усыпанный бело-серым пеплом.
Побывали мы в загоне у слонов, и я даже прокатился на одном из них; правда, я отнюдь не хотел этого и вовсе к этому не стремился, но меня попросили сесть на слона, и мне пришлось согласиться, потому что в противном случае они бы решили, что я струсил, — а я действительно трусил. Слон по команде опускается на колени — сначала передними ногами, потом задними; вы взбираетесь по лесенке в седло с балдахином, слон поднимается — сначала задними ногами, потом передними — и шагает своими чудовищными шагами; а вас качает, совсем как корабль на крутой волне. Погонщик тычет своим длинным железным стрекалом в затылок слону, и вы дивитесь его отважному безрассудству и терпению слона; у вас даже мелькает мысль, что терпению этому может прийти конец, однако все обходится благополучно. Погонщик все время что-то тихо говорит слону, и слон будто понимает его, и разговор этот, кажется, доставляет ему удовольствие, — животное послушно, с охотой подчиняется каждому приказанию погонщика. Среди двадцати пяти слонов, которых мы там видели, два были такие громадные, каких мне еще не доводилось встречать, и если бы я знал, что страх перед ними у меня когда-нибудь все-таки пройдет, я бы украл такого слона, улучив момент, когда полиция отвернется.
В седельной мы увидели множество слоновьих седел, изготовленных из серебра, одно золотое, а одно из старой слоновой кости; седла были снабжены дорогими, пышными балдахинами и подушками. Там же находились и одеяния слонов: громадные бархатные попоны, плотные и тяжелые от золотого шитья, серебряные и золотые колокольчики, золотые и серебряные шнуры, которыми скреплялись на слоне все эти вещи, — так сказать, слоновья упряжь; чудовищные обручи литого золота, — их надевают слону на лодыжки, когда слон выступает в процессиях государственного значения.
Однако нам не пришлось увидеть сокровищницу короны, и это очень жаль, так как по своей величине и ценности она стоит на втором месте в Индии. Вместо этого нас по ошибке повели осматривать новый княжеский дворец, и на этот осмотр мы потратили все оставшееся время. Это очень прискорбно, ибо новый дворец оказался по стилю американо-европейским зданием, и единственным его достоинством было то, что на его возведение ушли громадные средства. Он совершенно чужд духу Индии и нелеп до наглости. Его архитектор сбежал. Вот что получилось от чрезмерного усердия в преследовании тугов, — от них тоже была некоторая польза. Старый дворец — чисто восточный по стилю; он очарователен и вполне гармонирует со всем окружающим. Он всегда казался бы величественным, — даже если бы в нем не было ничего, кроме просторного и высокого зала, в котором происходят дурбары. Читать лекции в этом зале не очень удобно по причине раскатистого эха, но для дурбаров и государственных дел это превосходное место, — а именно для этого он и предназначается. Если бы у меня был такой зал, я устраивал бы дурбары каждый день, а не один-два раза в году.
Князь оказался человеком образованным. Он воспитан по-европейски. В Европе был пять раз. Говорят, что это удовольствие обошлось ему дорого, так как на пароходе ему приходится порой пить воду из сосудов так сказать общего пользования, а это оскверняет достоинство его касты. Чтобы очиститься от такой скверны, князь вынужден совершать паломничества к какому-нибудь знаменитому индусскому храму и жертвовать не него одно, а то и два состояния. Подданные князя, как и все индусы, глубоко религиозны, и они ни за что не примирится с нечистым владыкой.
Мы не видели драгоценностей короны, но мы видели пушки — золотую и серебряную, ядра их весят, кажется, шесть фунтов; эти пушки отлиты не для военных действий, а для салютов в редких, особо торжественных случаях государственного характера. Один из предков нынешнего гаеквара отлил серебряную пушку, а другой предок — наследник первого,— чтобы перещеголять его, приказал изготовить золотую.
Подобная артиллерия вполне в духе традиций Бароды, издавна славящейся великолепием и роскошью. Ею развлекали гостей — раджей и вице-королей, когда устраивались бои тигров и бои слонов, иллюминации и парадные выезды на слонах, обставленные с ослепительной пышностью.
Цирк перед этими зрелищами бледнеет и теряет всякую привлекательность.
Уже в поезде, возвращаясь из Бароды, мы оказались в обществе джентльмена, который вез с собой удивительного вида собаку. Насколько я могу припомнить, видеть таких собак мне еще не доводилось, хотя, возможно, я их видел, но не обратил внимания, поскольку я гораздо ближе знаком с кошками, чем с собаками. Шерсть у этой собаки гладкая и блестящая, черного цвета; кажется, где-то по краям и внизу у нее были коричневые подпалины. Это был длинный приземистый пес с очень короткими и странными лапами — они были вогнуты внутрь, вроде круглых скобок, написанных наоборот, — вся фигура его напоминала длинную и низкую скамейку. Собака была явно довольна собой, а мне эта конструкция показалась очень неразумной — слишком уж велико было расстояние между передними и задними конечностями, поддерживающими туловище. С годами спина собаки непременно прогнется; и у меня сложилось такое впечатление, что, если бы у нее было побольше ног, собака была бы крепче и более приспособлена к жизни. Пока ее туловище еще не провисало, но очертания конечностей показывали, что тяжесть, давившая на них, уже начинала сказываться. У нее была длинная морда, на которой было написано выражение покорности, и висячие уши. Я не отважился спросить хозяина, что это за собака и почему она так уродливо сложена, ибо мне было ясно, что он к ней очень прилизан, и, естественно, такой вопрос обидел бы ого. Я считал, что деликатность обязывает меня делать вид, что я ничего особенного не замечаю. Для меня было ясно, что человек с подобной собакой должен был испытывать примерно то же, что и родитель, имеющий ребенка с физическим недостатком. А этот джентльмен не только любил свою собаку, он ею гордился, — точно так же, как, если продолжить сравнение, гордится мамаша своим слабоумным дитятей. Я совершенно определенно видел, что он гордится своим псом, несмотря на то, что этот пес был таким неуклюже-длинным и смотрел нa мир с покорно-кислой миной. Джентльмен не расставался с псом долгие годы и ездил с ним по всему белому свету. Пес проделал со своим хозяином пятьдесят тысяч миль по морю и по железной дороге; сидя впереди хозяина в седле, он проскакал с ним восемь тысяч миль на коне. Английское Географическое общество выдало псу за эти путешествия серебряную медаль, — я видел ее своими глазами. Он получал призы на многих выставках в Индии и Англии — я видел эти медали и жетоны.
Джентльмен сказал мне, что родословная его собаки записана в книгах Собачьего клуба и что это очень известная собака, Он заявил, что в Лондоне многие узнают ее с первого взгляда. Я ничего не сказал в ответ, но я не видел в этом ничего странного: я и сам теперь в любое время узнаю эту собаку, хотя я, как правило, не замечаю собак. Джентльмен заявил, что когда он ходит с собакой по Лондону, люди часто останавливаются и смотрят на нее. Разумеется, я ничего не ответил, потому что я не хотел его обижать, но я бы мог сказать ему, что если человек будет ходить по улице любого города с такой огромной, длинной и приземистой собакой и но брать денег за ее осмотр, то люди везде будут останавливаться и смотреть. Он гордился медалями своего пса. Но ведь это ничего не доказывает: если бы у меня было такое телосложение, я бы тоже получал медали. Мне ужасно хотелось узнать, какой породы эта собака и для чего она предназначена, но я стеснялся его расспрашивать, так как мне пришлось бы обнаружить свое невежество. Не подумайте, что мне захотелось завести себе такую же собаку: нет, мне просто хотелось узнать тайну ее происхождения.
Джентльмен как будто собирался охотиться с этой собакой на слонов, потому что по некоторым вскользь брошенным замечаниям я понял, что он принимал участие в охоте на крупного зверя в Индии и Африке и любит это занятие. Но я думаю, что если бы он попытался охотиться на слонов с этой собакой, то его постигло бы разочарование. Я не верю, что она годится для подобной охоты. Ей недостает энергии, недостает характера, злости. Это ясно при одном взгляде на ее вялую и унылую физиономию. Я уверен, что она ни за что не нападет на слона. Возможно, она не побежит от него, если тот появится перед ней, но она вполне может сесть и начать молиться богу.
Меня разбирало любопытство, какая это все-таки порода и где еще водятся подобные собаки, но теперь я уже сразу узнаю такую собаку и в следующий раз постараюсь отбросить всякую тактичность и все выспросить. Если читателю покажется, что я проявляю излишний интерес к собакам, то на это у меня есть свои причины. Дело в том, что однажды собака выручила меня из весьма неприятного положения, и с тех пор я испытываю благодарность к этим животным; и если я смогу, хоть и с трудом, научиться отличать одну породу от другой, то мне это будет чрезвычайно приятно. Я знаю лишь одну собачью породу — ту, к которой принадлежала собака, спасшая меня тогда. И я всегда узнаю эту породу; и если мне попадется потерявшаяся или голодная собака той породы, я всегда о ней позабочусь. А моя история, в которой собака сыграла такую роль, сводится к следующему:
Это было много лет назад. Я получил записку от мистера Огастина Дэли, из театра на Пятой авеню, с просьбой зайти к нему, когда я буду в Нью-Йорке. Я в те времена писал пьесы, он был от них в восхищении и старался помочь мне, чтобы их поставили в Сибири. Я вскочил на первый же поезд — он отходил из Хартфорда в 8 часов 29 минут утра. В Нью-Хейвене я купил газету и увидел, что она вся заполнена кричащими крупными заголовками о какой-то выставке. Я, конечно, слыхал о разных выставках, но никогда не питал к ним интереса, полагая, что это нечто вроде лекций, которые плохо посещаются. Но на этот раз оказалось, что речь идет о выставке собак. Две колонки были посвящены красе и гордости этой выставки — какому-то сенбернару, который стоил десять тысяч долларов и считался самой крупной и самой красивой собакой этой породы во всем мире. Все это я прочитал не без интереса, так как смутно помнил, что еще школьником я читал, как монахи и странники на перевале Сен-Бернар выходили в буран и метель и вытаскивали этих собак из снежных завалов, если они заблудились и уже совсем замерзали; приводили их в чувство коньяком, уносили в монастырь и ставили на ноги, откармливая овсянкой.
В газете был помещен снимок этого чемпиона выставки: могучее и благородное животное, по виду очень добродушное, стояло рядом со столом. Это было сделано специально для того, чтобы дать представление о его необыкновенных размерах. Вы могли воочию убедиться, что собака была чуть-чуть выше стола, — рост для пса действительно выдающийся. Тут же давалось детальное описание чемпиона. Указывался его чрезвычайно большой вес —150,5 фунтов, его длина от носа до хвоста — 4 фута и 2 дюйма, высота у крестца — 3 фута 1 дюйм. Снимок и цифровые данные произвели на меня такое впечатление, что мне захотелось увидеть этого красавца самому, и часа два я не переставал о нем думать; потом поезд подошел к Нью-Йорку, и я совсем выкинул сенбернара из головы.
В толчее и суматохе вестибюля отеля я столкнулся с блаженном памяти Джеймсом Льюисом, актером мистера Дали, и в разговоре упомянул случайно, что сегодня в восемь часов вечера я намерен посетить мистера Дэли. Джеймс Льюис удивился и сказал, что это вряд ли выйдет. Вместо отпета я протянул ему записку мистера Дэли. Она звучала примерно так: «Заходите в мою берлогу над театром, здесь нам никто не помешает. И идите с заднего хода, а не с переднего. По Шестой авеню № 642 есть табачная лавка; пройдя через нее, вы окажетесь на внутреннем мощеном дворе; войдите во вторую дверь слева и поднимитесь по лестнице».
— И это все? — спросил Джеймс Льюис.
— Да, — отвечал я.
— Ну, нам туда не попасть ни за какие деньги.
— Почему же?
— Потому что не попасть. А если вы пройдете к нему, считайте, что я вам должен сто долларов, ибо вы будете первым, кто ухитрится сделать это за двадцать пять лет. Не понимаю, о чем только думал мистер Дэли. Он позабыл одну весьма важную подробность, и утром, когда он увидит, что вы пытались пройти к нему и вам это не удалось, он будет чувствовать себя весьма скверно.
— Но в чем же, черт побери, дело?
— Видите ли...
В эту секунду толпа нас разъединила, кто-то другой заговорил со мной, и мы больше не увиделись. Но я не придал этому никакого значения, — я был уверен, что Джеймс просто пошутил.
В восемь часов вечера я прошел через табачную лавку во двор и постучал во вторую дверь слева.
— Войдите!
Я вошел. Это была небольшая пыльная комната, без ковров, с голым ломберным столом и двумя дешевыми деревянными стульями, заваленными разным хламом. Передо мной стоял гигантский ирландец в рубашке с расстегнутым воротничком и жилете нараспашку, без пиджака. Я положил шляпу на стол и собирался заговорить, но ирландец меня опередил. В тоне его не было особой вежливости:
— Ну, сэр, чего вам надо?
Я почувствовал себя немного смущенным, и моя уверенность в себе сразу пошатнулась. Ирландец стоял передо мной, недвижный, как Гибралтарская скала, и в упор смотрел на меня угрюмым, немигающим взглядом. Это было очень тяжело и очень унизительно. Заикаясь, я пытался заговорить и после нескольких неудач наконец вымолвил:
— Я только что приехал из...
— Будьте любезны не курить, — понятно?
Я положил сигару на подоконник, с минуту пытался собрать разбежавшиеся мысли и сказал самым миролюбивым образом:
— Я... я пришел повидать мистера Дэли,
— Ах вот как, в самом деле?..
— Да.
— Так вот, вы его не повидаете.
— Но он просил меня зайти к нему.
— Ах вот как, он вас просил?
— Да, он прислал мне вот эту записку и...
— Позвольте-ка мне ее...
Я уже подумал было, что атмосфера сейчас же изменится, но эта надежда оказалась преждевременной. Человек в жилетке испытующе разглядывал записку, поднеся ее к газовому рожку. Я сразу же увидел, что он держит ее вверх ногами, — обескураживающее свидетельство того, что он не умеет читать.
— Это его, что ли, рука?
— Да, это он писал сам.
— Ах вот как, так-таки сам?
— Да.
— Хм-м. Но почему же это он пишет таким манером?
— Что именно вы имеете в виду?
— Я имею в виду, почему он не поставил свое имя.
— Нет, он поставил свое имя. Да вы не туда смотрите— вы смотрите на мое имя.
Я думал, что мой выстрел попал в цель, но он и виду не подал, что хоть сколько-нибудь задет. Он сказал:
— Какое трудное, однако, имя. Как вы его произносите?
— Марк Твен.
— Хм-м. Хм-м. Майк Трен. Хм-м. Не помню такого имени. Зачем он вам понадобился?
— Это не он мне понадобился, а я ему.
— Ах вот как, это вы ему понадобились?
— Да.
— А зачем это вы ему нужны?
— Я не знаю.
— Вы не знаете! И вы еще в этом признаетесь? Так вот, я говорю вам — вы его не повидаете. А вы что, тоже с ним в деле?
— В каком деле?
— Ну, выставляетесь на сцене?
Убийственный вопрос. Я понял, что побежден. Если я скажу ему, что я «не в деле», он тут же покончит со мной всякие разговоры и выпроводит меня, не удостоив ни единым словом, — я читал это в его беспощадном взгляде; если я заявлю, что я лектор, — он проникнется ко мне презрением, обругает и выгонит; если я признаюсь, что я драматург, — он вышвырнет меня в окно. Я видел, что положение мое безнадежно, и выбрал курс, который показался мне наименее унизительным: я проглочу свой стыд и ретируюсь из комнаты, не пускаясь больше ни в какие объяснения. Минута прошла в молчанье.
— Я вас еще раз спрашиваю: вы сами-то выставляетесь или не выставляетесь?
— Выставляюсь.
Я ответил с поразительной самоуверенностью, ибо в этот момент сущая копия того самого огромного пса из Нью-Хейвена вошла в комнату, и я заметил, что глаза ирландца вспыхнули гордостью и любовью.
— Ах вот как? Так вы выставляетесь? Где же?
— Да вся выставка в Нью-Хейвене — моя!
Лед был сломан мгновенно.
— Да что вы говорите?! Это ваша выставка, сэр? О, это замечательная, это великая выставка, сэр, и я горжусь, что сегодня повидал вас, ваша честь! Вы ведь, значит, знаток, сэр, вы должны знать про собак всю подноготную — больше, чем они сами о себе знают. Могу в этом поклясться, сэр!
Я скромно ответил:
— Мне кажется, что кое-какой авторитет в этом деле у меня есть. Вы понимаете, без этого в моем деле не обойтись.
— Кое-какой авторитет! Уж против этого ничего не скажешь, ваша честь! Да во всем свете не найти джентльмена, который понимал бы в собаках лучше вас, сэр. Осмелюсь сказать, что, напорное, вы точно знаете размеры этой нот собаки, — точнее, чем она сама знает. Вам стоит лишь взглянуть на нее, и вы ее словно измерили. Будьте же настолько любезны, скажите, каковы ее размеры?
Я знал, что от моего ответа зависит моя судьба. Если я сделаю этого пса крупнее того нью-хейвенского чемпиона, вряд ли это окажется удачным дипломатическим ходом, скорее только заронит подозрение; если же я сделаю его на много меньше чемпиона, это тоже будет опрометчивым шагом. Собака стояла у стола, и мне казалось, что я почти точно почувствовал разницу между нею и тем псом, снимки которого я видел в газете. Ни секунды не задумываясь, я сказал:
— Определить размеры этого благородного животного ничего не стоит: высота — три фута, длина — четыре фута и три четверти дюйма, вес — сто сорок восемь с четвертью.
Ирландец сорвал с гвоздя шляпу, швырнул ее на пол и заплясал.
— Вы не ошиблись ни на волосок, сэр, вы попали в самую точку! — кричал он. — Ну и глаз же у вас! Удивительный глаз на собак, ваша честь, невероятный, редкий глаз!
И, не переставая восхищаться моими талантами, он скинул с себя жилетку и начал усердно тереть и полировать ею один из стоивших в комнате стульев.
— Садитесь же, пожалуйста, сэр, сделайте милость! Мне так стыдно — я и не заметил, что вы все время стоите на ногах, сэр; и наденьте, пожалуйста, шляпу, здесь очень дует, а вам незачем рисковать здоровьем; вот наши сигара, сэр, — она потухла, но я вам сейчас ее зажгу. Прикурите, пожалуйста. Комната в вашем распоряжении, сэр,, чувствуйте себя как дома; вытяните ноги и положите их на стол, а я пока сбегаю за свечой, чтобы посветить нам на этой проклятой старой лестнице, — со свечой вы пройдете по ней совершенно спокойно, а мистер Дэли, должно быть, ожидает вас с нетерпением, он, наверное, уже рвет и мечет, что вас так долго нет.
Ирландец заботливо и даже нежно провел меня по лестнице, освещая мне путь и дружески предостерегая от столкновения с разными предметами, затем открыл дверь, поклонился и отправился восвояси, все еще бормоча что-то насчет моего удивительного глаза на собак. Мистер Дэли писал, сидя ко мне спиной. Он обернулся, когда я вошел, вскочил с места и сказал:
— Господи боже, я совершенно забыл предупредить!.. Я как раз писал вам письмо, прося у вас тысячу извинений. Но как вы сюда попали? Как вы прорвались через этого ирландца? Вы первый человек, которому это удалось за целых двадцать пять лет. Я уверен, что вы его не подкупили: во всем Нью-Йорке не хватит денег, чтобы подкупить этого человека. И вы, конечно, не смогли его уговорить — он весь словно в броню закован, ничем не прошибешь. В чем же тут дело? Откройте мне ваш секрет. Слушайте, вы должны заплатить мне сто долларов, ведь я без всякого умысла дал вам возможность совершить чудо — ибо то, что вы совершили, — чудо, самое настоящее чудо.
— Что ж, пожалуйста, — отвечал я. — Получите эту сумму у Джимми Льюиса.
Таким-то вот образом эта добрая собака не только выручила меня из весьма затруднительного положения, но и принесла мне завидную славу среди театральных кругов от берегов Атлантики до Тихого океана: я оказался единственным человеком в истории, который прорвал блокаду перед дверью кабинета Огастина Дэли,
Глава X ОПТОВЫЕ УБИЙСТВА
Если бы желание убить и возможность убить постоянно сопутствовали друг другу — кто из нас избежал бы виселицы?
Новый календарь Простофили ВильсонаВ поезде. — Пятьдесят лет назад, когда я был мальчишкой и жил в глухой, малонаселенной долине Миссисипи, до нас доходили смутные легенды и слухи о таинственной шайке профессиональных убийц из страны, которая была от нас столь же далека, как и мерцающие на небе звезды, и которая называлась Индией: смутные легенды и слухи о секте разбойников-душителей, называемых тугами, что подстерегают путников на пустынных дорогах и убивают их в угоду божеству, которому поклоняются. Легенды эти все любили слушать, но никто им не верил, а если и верил, то далеко не всему. Считалось, что в устах многочисленных рассказчиком эти легенды обрастали всевозможными подробностями. Потом все затихло, и долгое время ничего об этом не было слышно. Затем появился роман Эжена Сю «Агасфер» и вызвал на какое-то время оживленные толки. Среди действующих лиц этого романа был предводитель тугов Феринги — таинственный и ужасный индиец, изворотливый, коварный, как змей, и, как змей, опасный; Феринги вновь пробудил интерес к разбойникам-душителям, но ненадолго. Вскоре он снова исчез, и на этот раз навсегда.
С первого взгляда это может показаться странным, но на самом деле тут нет ничего странного — наоборот, все естественно, — я говорю о нашей стране. Источником сведений о тугах служил главным образом правительственный отчет, а он, без сомнения, не публиковался в Америке; возможно, его там даже не видали. Правительственные отчеты обычно широкого распространения не имеют, их рассылают только избранным; и эти избранные не всегда их читают. Я узнал о существования этого правительственного отчета всего дня два назад и взял его почитать. Он чрезвычайно увлекателен и сразу превратил туманные и таинственные легенды, слышанные мною в детстве, в живую действительность.
Отчет этот был составлен в 1839 году майором колониального управления Слименом и напечатан в Калькутте в 1840 году. Это весьма неуклюжий, громоздкий и пухлый образец полиграфического искусства, но, возможно, достаточно хороший для захудалой правительственной типографии тех отдаленных времен. На майора Слимена была возложена гигантская задача: очистить Индию от тугов, — и он, вместе с семнадцатью своими помощниками, выполнил ее. Это была словно вторая чистка авгиевых конюшен. В те дни капитан Валланси писал в мадрасском журнале следующее:
«День, когда в Индии будет истреблено это буйно разросшееся зло и от него останется лишь одно воспоминание, в немалой степени прославит британское владычество на Востоке».
Капитан Валланси не преувеличивал трудности предстоящего дела и не преуменьшал те лавры, которые стяжало бы британское правительство, если бы оно сумело выполнить такую задачу.
Существование секты тугов стало известно британским властям в Индии примерно в 1810 году, но тогда еще никто не догадывался, какой силой они обладают; серьезной угрозой их еще не считали, и до 1830 года систематических карательных мер против них не проводилось. Приблизительно в это время майор Слимен захватил предводителя тугов (Феринги, описанного Эженом Сю) и заставил его рассказать о своих преступлениях и назвать сообщников. То, что открылось майору Слимену, было столь ошеломляющим, что он не поверил своим ушам. Слимен считал, что он знает всех преступников, действовавших на его участке, и что самые худшие из них — просто воры, но Феринги открыл ему глаза: оказалось, что майор Слимен живет в самой гуще шайки профессиональных убийц, что они окружали его долгие годы и даже хоронили свои жертвы тут же поблизости. Слимен воспринял это сначала как бред, как плод больного воображения, но Феринги сказал: «Пойдем, я покажу тебе». Он повел его к могиле, откопал там сотню трупов и рассказал майору, когда и как были убиты эти люди, и назвал ему всех участников преступления. Это было потрясающее открытие. Слимен арестовал нескольких душителей и начал допрашивать их поодиночке, приняв необходимые меры, чтобы они не могли сговориться между собою, ибо на слово он обычно не верил ни одному индийцу. Расследование подтвердило все, что сообщил Феринги, а также тот факт, что банды разбойников-душителей орудовали по всей Индии. Удивленные власти теперь спохватились и повели против тугов систематическую и беспощадную войну; через десять лет туги были наконец уничтожены. Захватывали шайку за шайкой, судили и наказывали. Душителей ожесточенно преследовали по всей Индии, из конца в конец. Правительство выпытало у них все их тайны, узнало имена членов шаек и записало их в книгу вместе с указанием места их рождения и места жительства.
Туги поклонялись богине Бховани; для нее они убивали всех, кто попадался под руку, но имущество убитых они оставляли себе, так как богиня была заинтересована только в трупах. Новых членов принимали в секту с соблюдением торжественных церемоний. Затем новичком учили душить человека особым священным платком, но разрешали пользоваться им для убийства лишь после долгой практики. Никто без основательной выучки не способен задушить человека так быстро, чтобы жертва не успела издать ни звука, будь то приглушенный крик, булькающий хрип, вздох, стон или еще что-нибудь, но для мастера требуется одно лишь мгновение: священный платок набрасывается на шею жертвы, затем резкое скручивающее движение — в голова жертвы с вылезшими из орбит глазами бесшумно падает на грудь, — дело сделано. Разбойники-душители принимали тщательные меры, чтобы жертва не оказывала сопротивления. Обычно жертву усаживали, ибо в таком положении ее удобней всего было душить.
Бели бы туш создавали Индию по собственному плану, то и тогда они не могли бы сделать ее более приспособленной для своих целей, чем она есть. В Индии не было общественного транспорта. Там не было и наемного транспорта. Путешественник или шел пешком, или ехал на телеге, запряженной быками, или верхом на лошади, которую специально для этого покупал. Как только он выбирался за пределы своего крошечного государства или княжества, он оказывался уже среди чужих: здесь его никто не знал, никто не обращал на него внимания, и с этого момента его маршрут уже невозможно было установить. Он не останавливался в городах или селениях, а устраивал стоянку где-нибудь в окрестностях, посылая своих слуг купить провизии. Никаких жилищ между деревнями не было. Путешественник здесь становился легкой добычей для кого угодно, в особенности потому, что двигался он преимущественно по ночам, когда не так жарко. Путешественнику постоянно встречались незнакомцы, предлагавшие ему защиту или просившие защиты у него, — и зачастую этими незнакомцами оказывались туги, в чем в конце концов путешественник убеждался ценою своей жизни. Помещики, местная полиция, мелкие князьки, деревенские власти, таможенные чиновники нередко покровительствовали душителям, укрывали их и предавали в их руки путников, получая долю добычи. Такое положение дел на первых порах чрезвычайно затрудняло усилия правительства выловить убийц; их бдительные друзья давали им возможность легко скрыться. И вот по всему огромному полуострову, где кишмя кишели разбойники, беззащитные люди всех каст и званий, обившись в пары и маленькие группы, двигались в ночной тишине по тропинкам и дорогам, перевозя товары и ценности — деньги, драгоценные камни, ювелирные изделия, свертки шелка, пряности и всякие другие вещи. Для тугов это был истинный рай.
Когда наступала осень, туги, по заведенному порядку, начинали сходиться в одно место. Всем остальным людям приходилось поминутно прибегать к услугам переводчиков, по душители отлично обходились без этого — они понимали друг друга, как бы далеко друг от друга они ни родились и воспитывались, ибо у них был свой собственный язык, свои тайные знаки, по которым они узнавали любого члена секты, и все они считали друг друга друзьями. Даже различие религий и каст бледнело перед их преданностью общей цели; мусульманин и индус — будь он высокой касты или низкой — все они были преданными и верными братьями по секте.
Когда банда была в сборе, разбойники-душители устраивали религиозную церемонию и ждали знамения свыше. Относительно знамений у них были свои твердые представления. Крик некоторых животных считался добрым знаком, крик других — дурным. При дурных предзнаменованиях туги распускали свое сборище и отправлялись по домам.
Кинжал и платок для удушения были их священными эмблемами. Разбойники поклонялись кинжалу дома, прежде чем отправиться на сборище, и всей бандой, уже на сборище, поклонялись священному платку. Предводители почти всех шаек руководили религиозными церемониями сами, но кайеты[65] поручали их неким официальным душителям (чаурам). Ритуальные церемонии кайетов считались столь священными, что никто, кроме чаура, не был вправе прикасаться к сосудам и иным вещам, применяемым во время этих церемоний.
Приемы, которыми пользовались туги для расправы со своей жертвой, являли собой любопытную смесь предусмотрительности и беспечности, холодного делового расчета и внезапного, бесконтрольного порыва; но при всем том два правила были неизменны и не терпели никаких отступлений: выдержка и настойчивость в преследовании жертвы и безжалостная решительность, когда наступало время действовать.
Предусмотрительность проявлялась в том, что шайки всегда были сильны и многочисленны. Душители никогда не чувствовали спокойствия и уверенности, если не знали, что их силы вчетверо или впятеро превосходят силы любой группы путешественников, которую они могут встретить. Они никогда не нападали открыто, а лишь тогда, когда их жертва не подозревала об опасности. Встретившись с какой-либо партией путников, душители нередко шли вместе с ними в течение нескольких дней, пользуясь всеми возможными уловками, чтобы завоевать их дружбу и доверие. И когда они этого наконец добивались, тут-то и начиналось настоящее дело. Несколько душителей потихоньку отделялись от остальных и уходили под прикрытием темноты вперед — выбрать удобное место для убийства и вырыть могилу. Когда к этому месту подходили все остальные, объявлялся привал: всех приглашали отдохнуть или покурить. Путешественникам предлагали сесть. Предводитель тугов знаками приказывал некоторым своим бандитам садиться против путешественников, лицом к лицу с ними, словно бы для того, чтобы прислуживать им, другим велел садиться рядом с путешественниками и занимать их разговорами, а третьи — наиболее опытные душители — становились позади путешественников и ждали сигнала к нападению. Сигналом, как правило, служила какая-нибудь обычная фраза, например: «Принеси табак». Порой требовалось немалое время, чтобы все действующие лица заняли свои места, — предводитель выжидал удобной минуты, чтобы все произошло по задуманному плану. Между тем разговор велся своим чередом, в мутном свете двигались неясные фигуры, всюду царили мир и спокойствие, путешественники предавались приятному отдыху, ничуть не подозревая, что за спиной у них уже недвижимо стоят ангелы смерти. Вот наступает минута, и звучит сигнал: «Принеси табак». В ту же секунду все проворно и бесшумно приступают к делу: разбойники, сидящие по бокам жертвы, хватают ее за руки, разбойник, сидящий напротив, хватает ее за ноги и тянет на себя, а разбойник, стоящий за спиной, накидывает на шею жертвы платок и делает скручивающее движение — голова несчастного падает на грудь, трагедия окончена. Трупы раздевают и зарывают в могилу, вся добыча увязывается в узлы, разбойники-душители возносят хвалу Бховани и удаляются, чтобы вершить свое святое дело дальше.
Правительственный отчет показывает, что путешественники странствовали очень маленькими группами — как правило, по двое, по трое, вчетвером; партия в двенадцать человек была редкостью. Большими сборищами бродили, по-видимому, одни только туги. Шайки их состояли из 10, 15, 25, 40, 60, 100, 150, 200, 250 человек; была даже банда численностью в 310 человек. Поэтому удивляться их успехам не приходится, тем более что они не отличались особой разборчивостью, а захватывали всех кого могли — богатых и бедных; а бывало, что убивали даже детей. Время от времени убивали женщин, хотя это считалось грехом и дурной приметой. «Сезон» длился шесть — восемь месяцев. В один такой сезон с полдюжины шаек Банделкханда и Гвалиура насчитывали в своем составе 712 бандитов, и задушили они 210 человек. В шайках Мальвы и Хандеша в один сезон было 702 разбойника, убили они 232 человека. Был сезон, когда в Бераре и Хандеше в шайках насчитывалось 963 человека, ими было убито 385 жертв.
Вот перед вами отчет банды, состоявшей из шестидесяти человек, за один сезон; банда действовала под руководством двух прославленных предводителей, «Чхоти и шейха Нашу из Гвалиура»:
«Вышли из Пуры, в Дханси, и по прибытии в Сарору убили путешественника.
Близ Бхопала встретили трех брахманов и убили их. Перешли Нарбаду; в деревне Хаттия убили одного индуса.
Прошли через Аурангабад до Валагоу; здесь встретили хавилдара[66] из касты цирюльников и пятерых сипаев (туземных солдат); к вечеру были в Джокуре и утром убили их близ того места, где в прошлом году были убиты переносчики казны.
Между Джокуром и Дхолия встретили сипая из касты пастухов; убили его в джунглях.
Прошли через Дхолию и остановились в деревне; двумя милями дальше, по дороге на Индур, встретили байраги (святого нищего); убили его в Тхапе.
Утром, за Тхапой, повстречались с тремя путешественниками марварцами[67]; убили их.
Близ деревни на берегу Таити встретили четырех путешественников и убили их.
Между Чоупрой и Дхорией встретили марварца; убили его.
В Дхории встретили трех марварцев; две мили прошли с ними вместе, в потом убили.
Двумя милями дальше нас обогнали три переносчика казны; две мили вели их и убили в джунглях.
Пришли в Хургор Батиса, в Индуре, поделили добычу и разошлись.
Всего убили 27 человек за один поход».
Чхоти (ради спасения своей шкуры) дал показания и рассказал обо всем этом. В его показаниях стоит отметить несколько особенностей: 1) деловая краткость; 2) отсутствие эмоций; 3) малочисленность групп путников, встретившихся с 60 разбойниками; 4) разнообразие жертв; 5) объединение двух вождей — индуса и мусульманина — в служении Бховани; 6) отсутствие какого-либо уважения к священной касте брахманов со стороны обоих предводителей; 7) отсутствие уважения к нищенствующему святому — байраги.
Нищий — это святой человек, и некоторые банды иногда щадили его даже в тех случаях, когда жертв попадалось мало, но были банды, убивавшие не только нищего, но святого из святых — факира — отталкивающее, голое, до нельзя исхудалое существо, всклокоченные полосы которого покрыты песком и грязью, а тощее тело так обсыпано пеплом, что факир похож на привидение. Порою факиры чересчур полагались на свою святость. В отчете Феринги, предводительствовавшего сорока тугами, я нашел такой случай: после того как были задушены тридцать девять мужчин и одна женщина, на сцене появляется факир:
«Приближаясь к Дорегоу, встретили трех бандитов; встретился также факир верхом на лошади; факир был обмазан сахаром, чтобы привлечь на себя мух, и весь был усыпан ими. Прогнали факира, а трех остальных убили.
Прошли Дорегоу, факир пристал к нам опять и ехал с нами до Раоджаны; встретили 6 кхатриев, возвращающихся из Бомбея в Нагпур. Прогнали факира камнями, убили шестерых на стоянке и зарыли в роще.
На следующий день факир пристал опять; заставили его отстать от нас в Мане. За Маной встретили двух кахаров и сипая и двинулись дальше, к месту, выбранному для убийства. Когда были близ этого места, факир появился вновь. Потеряв всякое терпение с факиром, дал Митху, одному из членов банды, 5 рупий (два с половиной доллара) с, тем, чтобы он убил факира и взял грех за это на себя. Все четверо, включая факира, были задушены. К нашему удивлению, среди пожитков факира мы обнаружили 30 фунтов коралла, 350 нитей мелкого жемчуга, 15 нитей крупного и золотое ожерелье».
Любопытно, как мало значат давность и время, если речь идет о действительно интересных вещах. Вот вам случай, столь давний, уже сколько лет совсем позабытый, — а читаешь его с такой же жадностью и интересом, как утреннюю газету: воодушевляешься, падаешь духом — потом воодушевляешься вновь, следя за тем, как факир уходит от грозившей ему опасности; надеешься, теряешь всякую надежду, потом надеешься вновь; наконец все обходится благополучно, и ты чувствуешь, что теплая волна удовлетворения охватывает все твое существо; и ты уже протягиваешь руку, чтобы похлопать по спине Митху, и вдруг — пуфф! - осознаешь, что все это было и быльем поросло, исчезло начисто, что и Митху, и вся его банда давным-давно стали прахом и отошли в область преданий уже много-много лет назад! Потом возникает чувство досады: хочется узнать, получил ли Митху всю добычу или ему целиком достался только грех, а добыча была поделена обычным порядком? Литературными достоинствами правительственные отчеты, конечно, не блещут. Какая-нибудь любопытная история в них обрывается на самом интересном место.
Бесконечные повествования разбойников-душителей о своих походах тянутся в отчетах самым унылым образом: «Встретили сипая — убили его; встретили 5 бандитов — убили их; встретили 4 раджпутов и женщину — убили их», и так далее. Вся эта статистика быстро приедается. Но в эту скучную литературу отчет о небольшом рейде Феринги и его сорока сообщников вносит некоторое оживление. Однажды эта банда наткнулась на человека, прячущегося в могиле, — это был вор, он украл 1100 рупий у Духунрадж Сетха из Пароти. Душители умертвили его и взяли эти деньги: ворам эта банда не давала никакой пощады. Она убила двух переносчиков казны и захватила 4 тысячи рупий. Затем душителям попались две воловьи упряжки, «нагруженные модными пайсами»; все четыре погонщика были убиты, а деньги захвачены. Денег там было, надо полагать, с полтонны. Надо, кажется, не меньше двух горстей пайс, чтобы получилась одна анна: шестнадцать анн составляют рупию, а ведь даже в те времена одна рупия равнялась лишь пятидесяти центам. Возвращаясь своим путем из Бароды, душители Феринги воспользовались еще одним удачным случаем: лохары из Удейпура поручили их заботам — для безопасности — некоего путешественника. Бедняга! Сквозь дымку времени мы видим, как Феринги, ухмыляясь, обнажает зубы, мы и сейчас видим эту улыбку. Он принял путника под свое покровительство, этот молодец, и мы уже знаем, чем все это кончится.
Феринги не боялся даже раджей: однажды он встретил погонщика слонов, принадлежавшего радже Удейпура, и немедля удушил его.
«Всего за этот поход было убито 100 мужчин и 5 женщин».
В записях о походах душителей упоминаются жертвы самых различных званий и рангов:
Туземные солдаты
Факиры
Нищие
Разносчики святой воды
Чапраси
Переносчики казны
Дети
Пастухи коровьих стад
Служанки, ищущие работы
Пастухи
Стрелки из лука
Плотники
Слуги, ищущие работы
Официанты
Ткачи
Священники
Коробейники
Портные
Конюхи
Кузнецы
Полицейские (туземные)
Паломники в Мекку
Садовники
Лавочники
Носильщики паланкинов
Крестьяне
Погонщики волов
Банкиры
Лодочники
Торговцы
Косари
Был там, кроме того, и княжеский повар, и даже водонос владыки владык и короля королей, генерал-губернатора Индии! Столь разнообразны были вкусы душителей. Надо добавить, что они убивали еще и бедных бродячих комедиантов. Об этом имеются две записи: в одной речь идет о шайке, где предводителем был бандит, запятнавший имя, которое носил также хороший человек — бессмертный киплинговский Гангадин:
«Умертвив четырех сипаев и продвигаясь к Индуру, встретили четырех бродячих комедиантов и уговорили их идти с нами, сказав, что мы хотим посмотреть, как они будут разыгрывать свое следующее представление. Умертвили их у храма близ Бхопала».
Вторая цитата:
«Близ Деохатти к нам пристали комедианты. Убили их к востоку от этого места».
Шайка Гангадина отличалась особой жестокостью. За этот поход они убили факира и двенадцать нищих. Тем не менее Бховани покровительствовала убийцам: так, когда однажды эти разбойники душили человека в лесу и поблизости от них шла толпа народу, а петля сорвалась и жертва пронзительно закричала, то в тот самый момент Бховани заставила зареветь верблюда, и его рев заглушил крик человека; второй раз жертва крикнуть уже не успела, ибо ее прикончили.
Корова — священное животное в Индии, и убить ее пастуха считается там страшным святотатством; это признавали даже туги; тем не менее жажда крови порою была столь сильна и них, что они все-таки убили нескольких коровьих пастухов. Один из бандитов, участвовавших в таком убийстве, показал: «Среди тугов это запрещено строго-настрого и ждать добра после этого не приходится. Я потом десять дней проболел лихорадкой. И твердо верю, что убийцу человека, пасущего корову, постигает кара. А если коровы нет, это ничего». Второй разбойник признался, что он держал коровьего пастуха за ноги, в то время как первый разбойник душил его. Этот второй разбойник не испытывал никакого беспокойства за свою судьбу, «так как все дурные последствия этого убийства ложатся на душителя, а не на его помощников, будь их хоть целая сотня».
Тысячи тугов наводняли Индию в течение многих лет. Они сделали свое ремесло наследственной профессией, обучая ему своих сыновей и внуков. Подростки получали полные права в шайках, достигнув шестнадцати лет; ветераны продолжали заниматься своим делом даже в семьдесят лет. Что же привлекало людей в этих убийствах, что к ним манило? Очевидно, часто играли свою роль религиозные соображения, еще чаще — стремление к легкому обогащению, но есть также все основания считать, что наиболее притягательную силу тут имел спортивный интерес. Разбойник-душитель, выведенный в одной из книг Медоуса Тэйлора, заявляет, что чувство удовлетворения, которое приносит ему убийство человека, очень похоже на чувство белых людей, охотящихся на зверей, только это чувство у душителей еще сильнее, утонченнее и благороднее.
Вот отрывок из книги:
Глава XI ОХОТА НА ЧЕЛОВЕКА ИЗ ЧИСТО СПОРТИВНОГО ИНТЕРЕСА
Простой способ экономить деньги: когда вас обуревает желание немедленно пожертвовать деньги на какое-нибудь благотворительное дело, не спешите: сосчитайте до сорока — вы сохраните половицу денег; сосчитайте до шестидесяти — вы сохраните три четверти; сосчитайте до шестидесяти пяти — и вы сохраните все.
Новый календарь Простофили ВильсонаТуг сказал:
«Сколько среди вас, англичан, страстных охотников! Вы проводите в охотничьем азарте целые дни, целые месяцы! Чтобы убить тигра, пантеру, бизона или кабана, вы напрягаете все свои силы, даже рискуете жизнью. Насколько возвышенней охота туга!»
Именно в этом, надо полагать, и кроется тайна зарождения и широкого распространения секты тугов. Радость убить самому, радость видеть, как уминают, — это чувство свойственно всему человечеству. Мы — белые — всего лишь видоизмененные туги; туги, сдерживаемые но очень крепкими путами цивилизации; туги, которые когда-то ликовали при виде кровавых боев гладиаторов на римской арене, а позже при виде костров на площадях, где сомнительных христиан сжигали христиане истинные; туги, которые вместе со своими собратьями на Испании и Нима собираются толпами и торжествуют, глядя на кровь и мучения, сопровождающие бой быков, У нас не находится ни одного туриста — безразлично, мужчина это или женщина, и безразлично, какую религию он исповедует, — который удержался бы от соблазна посмотреть на бой быков, когда к тому представляется случай; и мы лишь немногим добропорядочнее тугов, когда наступает охотничий сезон и мы с жаром гонимся за пугливым зайцем и убиваем его. И тем не менее мы достигли некоторого прогресса — прогресса, конечно, микроскопического, такого, что о нем не стоило бы и говорить и которым уж никак не надо бы гордиться, — однако это все же прогресс: мы уже не испытываем удовольствия, глядя, как режут или жгут беспомощных людей; мы уже достигли той небольшой высоты, с которой смотрим на индийских разбойников-душителей с самодовольным содроганьем; мы даже можем рассчитывать, что наступит день, быть может через многие века, когда наши потомки с тем же чувством будут смотреть на нас.
Есть много свидетельств того, что разбойник-душитель нередко охотился за людьми лишь ради спортивного интереса; что страх и мучения, испытываемые жертвой, значили для него не больше, чем страх и мучения убитого зайца или оленя для нас; что он стыдился своих уловок и игры на доверии жертвы ничуть не больше, чем стыдимся мы, подражая крику дикого животного и пристреливая его, если оно простодушно подойдет узнать, что нам нужно.
«Мадара, сын Пихала, и я, Рамзам, вышли из Котди в холодную погоду и шли по тракту дней двадцать в поисках путешественников; потом мы оказались возле Селемпура и там встретили очень старого человека, он шел на восток. Мы завоевали его доверие следующим образом. Он тащил кладь, которая была для него чересчур тяжела, и я сказал ему: «Ты старый человек, я помогу тебе нести твою кладь, ведь мы с тобой земляки». Старик ответил: «Очень хорошо, возьми меня с собой». Мы и взяли его с собой в Селемпур, где мы заночевали. Утром мы разбудили его еще до рассвета и, пройдя с ним три мили, усадили его отдохнуть, — тогда было еще совсем темно. Мадара уже стоял у него за спиной и задушил его. Старик не вымолвил ни слова. Ему было лет 60-70».
Другая банда наткнулась на двух цирюльников и уговорила их идти вместе с собой, обещая работу — брить всех участников банды, тридцать человек. Дойдя до того места, которое было выбрано для убийства, пятнадцать бандитов побрились и в самом деле заплатили за это цирюльникам. Потом цирюльников убили и забрали назад деньги.
Шайка душителей в сорок два человека, повстречав на дороге двух брахманов и лавочника, заманила их в рощу и устроила им там концерт. Пока бедняги слушали музыку, душители стояли у них за спиной, а в самый подходящий для драматического эффекта момент накинули на них петли.
Самый страстный рыболов должен выходить на рыбалку хотя бы раз в неделю, иначе его страсть остынет и он забудет свои удочки. Охотник на тигров должен выследить тигра хотя бы раз в две недели, иначе охота ему наскучит и он ее забросит. Энтузиазм охотника на слонов начнет угасать и мало-помалу иссякнет вовсе, если ему за целый месяц не удастся убить хотя бы одного из этих благородных животных.
Но когда сердце охотника жаждет самой благородной добычи — человека, насколько возрастает его охотничий пыл! Как жалка по сравнению с этим страсть всех остальных охотников, какой ребячливой кажется их стойкость и выдержка! Тут уже ни голод, ни жажда, ни усталость, ни утраченная надежда, ни постоянное разочарование, ни свинцовое бремя бесцельно проведенных дней не истощат терпение охотника, не омрачат радости погони, не охладят великолепной ярости его порыва. Ни одна охотничья страсть, какой одержим человек, не может оставить его столь неуязвимым для разочарований, как та страсть — высшая из высших, — где добычей является его брат — человек. Рядом с этой охотой охота на тигра, например, кажется пресной и бесцветной, как бы ее ни восхваляли.
И в самом деле, разбойник-душитель готов терпеливо бродить под палящим индийским солнцем неделю за неделей, покрывал в среднем девять-десять миль в сутки, ради одной надежды где-нибудь, когда-нибудь найти себе добычу и утолить свою алчную жажду крови. Вот вам пример:
«С целью удушения путешественников я (Рамзам) и Хайдар вышли из Гаддапура и отправились через форт Джелалабад, Невальганге, Бангермоу, по берегу Ганга сто миль вверх но течению, а потом возвратились другой дорогой. Нам не попалось ни одного путешественника! Но вот мы дошли до Бхованитанга — и наконец повстречались с путником, лодочником; мы уговорили его идти с нами, и когда прошли мили две к востоку, Хайдар удушил его, когда тот стоял: рыбак был взволнован, напугай и не хотел садиться. Потом мы сделали большой переход (около ста тридцати миль) и добралась до Хассанпура Бандва, где около водоема мы встретили путешественника, — у этого водоема он ночевал; наутро мы пошли за ним и старались завоевать его расположение; пройдя две мили, мы попытались заставить его сесть, но он не соглашался, заподозрил в нас душителей. Я пытался задушить его на ходу, но не сумел; тогда мы навалились на него оба. Он громко кричал: «Меня убивают!» В конце концов мы его удушили и бросили труп в колодец. После этого мы разошлись по домам, затратив на поход целый месяц и пройдя около двухсот пятидесяти миль. Всего за поход убили двух человек».
Приведем другой случай, рассказанный грозным Фатх-ханом, человеком ужасающей репутации, — о нем мы еще не раз услышим.
«Я, и со мной еще трое, прошли за сорок пять дней около двухсот миль в поисках жертвы по тракту, ведущему к Бандва, и возвратились через Давудпур (еще двести миль), и за этот поход мы убили только одного человека. Вот как это было. В четырех милях к востоку от Пубастагхата мы повстречали путника, старого человека. Я, Кошал и Хайдар заманили его с собой и дошли с ним в тот день почти до самого Рампура, не дошли только трех миль. Здесь, когда стемнело, в пустынном месте, мы заставили его сесть отдохнуть; пока я занимал его разговором, сидя к нему лицом, Хайдар, став за его спиной, задушил его; старик не сопротивлялся. Кошал ударил его кинжалом под мышку и в горло, и мы бросили труп в ручей. Мы взяли у него по четыре-пять рупий на каждого (два — два с половиной доллара). После этого мы отправились домой. Всего за этот поход мы убили одного человека».
Вот, пожалуйста. Они прошли четыреста миль, затратив почти три месяца, и заработали по два с половиной доллара на брата. Но им достаточно было того, что они удовлетворили свою охотничью страсть. В их глазах это оправдывает все остальное. Они не жалуются.
Время от времени в этой объемистой книге попадаются такие, повергающие в трепет фразы: «Мы старались заставить его сесть, но он не соглашался». Слова эти говорят о многом. Какой-нибудь пустяк зарождает в путнике подозрение, что эти вкрадчивые друзья, которые так ласковы и дружелюбны с ним и с которыми он чувствует себя в такой безопасности после его одиноких и опасных странствий, — эти люди и есть страшные душители, а теперь их жуткое предложение «сесть и отдохнуть» лишь подтверждает его подозрение. Путник знает, что он обречен и что он смотрит на белый свет в последний раз, но он «не соглашается сесть». Нет, нет, только не садиться — об этом страшно и подумать!
В отчете описывается немало случаев, когда человек, вкусивший величайшую радость охоты на человека хоть однажды, впоследствии уже не может удовлетворяться скучной, монотонной жизнью без преступлений и убийств. Приведу признание одного туга:
«Мы дошли до Курнала и встретились здесь с бывшим тугом по имени Джануа, старым нашим товарищем; теперь он стал бродячим нищим, святым человеком. Он пришел к нам в караван-сарай и, плача от радости, вернулся к своему старому ремеслу».
Если туг бросал снос ремесло, то ничто на свете — ни богатство, ли почести, ни звания — не могло надолго удовлетворить его. Наступал день, и он отказывался от всего этого и вновь предавался преступному наслаждению охоты за человеком, в то время как за ним самим охотились англичане.
Крупный индийский вельможа принял туга Рамзама к себе на службу и дал ему власть над пятью деревнями. «Я имел право вызывать всех этих людей к себе, заставлять их стоять или сидеть. Я прекрасно одевался, разъезжал на собственном коне, имел в своем распоряжении двух сипаев, писца и деревенского стражника. В течение трех лет я ежемесячно посещал все эти деревни, и никому даже в голову не приходило, что я принадлежу к секте тутов. Староста являлся ко мне, если надо было решить какое-нибудь дело, а когда я проезжал по деревне, стар и млад приветствовали меня».
И однако в эти же три года он однажды взял отпуск, будто бы «съездить на свадьбу», но вместо «свадьбы» он с шестью другими тугами пятнадцать дней охотился на больших дорогах и был, кажется, доволен результатами.
Впоследствии Рамзам занимал высокий пост на службе у раджи. Он управлял территорией в десять квадратных миль и имел военную охрану из пятнадцати человек, с правом созвать в случае нужды еще две тысячи человек. Но британские власти узнали о его тайных делах и так прижали его к стенке, что он вынужден был во всем признаться. Послушайте, как выглядел этот человек, вырядившись в свое парадное платье и нацепив нее свои регалии: «Я был вооружен до зубов — меч, щит, пистолеты, мушкет с фитильным замком и кремневое ружье; я любил этот воинственный наряд, и когда я был так вооружен, я ничего не боялся — выйди против меня хоть сорок человек».
Рамзам сдался и с гордостью заявил, что он душитель. Потом он согласился выдать своего дружка и компаньона Бахрама, душителя с самой громкой репутацией: «Я пошел в дом, где ночевал Бахрам (частенько водил он наши шайки!). Я разбудил его; он хорошо меня знал и вышел ко мне из дома. Ночь была холодная, и вот, под предлогом, что мне хочется погреться, а на самом деле для того, чтобы посветить страже, которая готовилась схватить его, я поджег солому и раздул костер. Мы сидели и грели руки. Стража обступила нас кольцом. Я сказал стражникам: «Это Бахрам», и его схватили, как кошка хватает мышь. Тогда Бахрам сказал: «Я туг, мой отец и дед были тугами, и я со многими ходил в походы!»
Так сказал великий охотник, самый могучий среди могучих, Гордон Камминг[68] своего времени. Особых угрызений совести в его словах не заметно[69].
Как часто официальный отчет оставляет неудовлетворенным наше любопытство! Вот, например, небольшой отрывок из сообщения о некоей банде разбойников-душителей в сто девяносто три человека:
«Встретились с Лалл Сингх Субадаром и его семьей, состоявшей из девяти человек. Шли с ними два дня, на третий предали всех их смерти за исключением двух детей, полуторагодовалых мальчиков».
И это все. А куда они дели этих бедных крошек? Как в дальнейшем сложилась их судьба? Может быть, бандиты собирались сделать из них тугов? И как они могли заботиться о малышах в походе, длившемся несколько месяцев? Никто, кажется, так и не заинтересовался этими детьми, никто ничего о них не спросил. А мне так хотелось бы узнать их дальнейшую участь.
Кое-кто, пожалуй, подумает, что разбойники-душители — люди, лишенные всякой человечности, не знающие никаких чувств, бессердечные к своим семьям в той же мере, как они бессердечны к другим; но это не так. Подобно всем индийцам, они страстно привязаны к своей кровной родне. Хитрый английский офицер, прекрасно разбиравшийся в характере индийцев, положил эту их черту в основу своего плана поимки Феринги — знаменитого героя Эжена Сю. Он выследил, где скрывался Ферипги, и ночью послал туда стражников схватить его, но стражники оказались нерасторопными, и разбойник удрал. Однако стражники захватили семью Феринги — его мать, жену, ребенка и брата — и доставили их всех к офицеру, в Джаббалпур; офицер спокойно стал выжидать время: «Я знал, что Феринги далеко не уйдет, пока дорогие ему люди находятся в моих руках». И он оказался прав. Феринги отлично понимал, какой опасности подвергается, оставаясь там, но не мог заставить себя уйти. Офицер выяснил, что Феринги скрывается поочередно в пяти деревнях, где у него были родственники и друзья и где он мог получить вести от своей семьи из джаббалпурской тюрьмы; он выяснил также, что Феринги никогда не ночует две ночи подряд в одной и той же деревне, Офицер проследил, в каких именно деревнях укрывается Феринги, устроил внезапный налет на все пять деревень в одну ночь, в один и тот же час, — и поймал душителя.
Другой пример семейной привязанности. Немногим ранее того, как английский офицер захватил семейство Феринги, он изловил его молочного брата, вожака шайки в десять человек, — всех их, вместе с вожаком, судили и приговорили к повешению. Захваченное семейство Феринги было доставлено в тюрьму за день до казни этой шайки. Молочный брат Феринги — его звали Джхарху — стал умолять о разрешении повидаться с престарелой матерью и остальными. Просьба его была удовлетворена — и вот что затем произошло (со слов английского офицера):
«Свидание происходило на моих глазах, утром, перед самой казнью. Он упал к ногам старухи, умоляя ее освободить его от обязательств по отношению к ней как его кормилице, ибо он уже на пороге смерти и еще не выполнил ни одного из них. Она положила руки ему на голову, он стал на колени, и она простила ему все, заклиная его умереть как подобает мужчине».
Если бы талантливый художник написал эту картину, она была бы полна торжественности и достоинства, она могла бы вас растрогать. Вы увидели бы в ней что угодно, но только не то, что там было в действительности. Ведь тут и сыновняя почтительность, и нежность, и благодарность, и сострадание, и самоотверженность, и сила духа, и чувство собственного достоинства, — нет только ни малейшего чувства стыда и позора, ни малейшей мысли о бесчестии! Прощание носило самый благородный характер, было исполнено трогательной красоты и изящества. А кто прощался? Убийца-душитель с матерью убийц! Чудовищная противоречивость человеческой натуры достигла здесь своего предела.
Когда я думаю обо всем этом, мне хочется отметить еще одну вещь. В невероятных признаниях тугов сплошь и рядом попадаются такие фразы:
«Удушили его и бросили в колодец». Был случай, когда бандиты бросили в колодец шестнадцать человек, и в тот же колодец они бросали свои жертвы и раньше. Вряд ли придет охота напиться из такого колодца.
Не менее любопытно и другое. У шаек душителей были свои собственные кладбища. Они не любили убивать и хоронить, где попало, по воле случая. Пот, они предпочитали выжидать, увлекая и заманивая жертву, чтобы оказаться по возможности ближе к одному из своих кладбищ (бхилов). В небольшом королевстве Ауде, по размерам равном примерно половине Ирландии или целому штату Мэн, у душителей было двести семьдесят четыре кладбища. Они были разбросаны вдоль дороги на протяжении тысячи четырехсот миль, попадаясь в среднем через каждые пять миль, и английские власти разыскали все эти кладбища и нанесли их на карту.
Аудские банды редко покидали пределы своего княжества, но на своей земле дела у них шли превосходно. Преуспевали здесь и душители-пришельцы, заглядывавшие из других областей. Некоторые вожаки аудских банд оказались необычайно удачливыми. Их было четверо, и за каждым числилось не меньше 300 убийств, у одного почти 400, а у нашего друга Рамзама — 604; это тот самый Рамзам, который брал себе отпуск от служебных дел якобы на свадьбу, а вместо этого рыскал по дорогам в поисках жертв; он же выдал Бахрама английским властям.
Но самый обширный перечень жертв был у Фатх-хана и Бахрама. Фатх-хан умертвил меньше людей, чем Рамзам, но он называется первым, так как среднее число жертв за год у него выше, чем у кого-либо из душителей Ауда. На его счету было пятьсот восемь жертв за двадцать лет, и он был еще совсем молод, когда английские власти прервали его деятельность. В списке Бахрама насчитывалась девятьсот тридцать одна жертва, но ему для этого понадобилось целых сорок лет. На месяц у него приходится несколько менее двух жертв (в течение сорока лет), а у Фатх-хана — две жертвы плюс кусочек третьей на месяц в течение двадцати лет его разбоя.
Есть еще одно поразительное явление, на которое я хотел бы обратить внимание читателя. Вы уже заметили, просматривая списки жертв душителей по профессиям, что никто не мог путешествовать по дорогам Индии без защиты и остаться в живых; душители не щадили никого; невзирая ни на звание, ни на религию, они убивали любого невооруженного человека, который попадался на их пути. Это совершенно верно, но тут есть одно исключение. В показаниях душителей, — а этих показаний множество, — лишь однажды упоминается английский путник. Об обстоятельствах этого дела душитель рассказывает так:
«Он направлялся из Мхоу в Бомбей. Мы старательно избегали его. Наутро он двигался с группой других путников, которые искали у него защиты, и все они вышли на дорогу к Бароде».
Мы не знаем, кто был этот англичанин, он мелькнул на странице заплесневелой старой книги и навсегда исчез во мраке, — но он тревожит наше воображение: так и видишь его, идущего по долине смерти, спокойного и бесстрашного, облеченного могуществом своего английского происхождения.
Мы перелистали официальную книгу о душителях до самого конца, и теперь мы вполне понимаем, что такое туги — какой это кровавый ужас, какой опустошительный бич. В 1830 году англичане увидели, что эта язва гнездится всюду и разъедает самое сердце страны; она осуществляла свою разрушительную работу в глубокой тайне, ей помогали, ее защищали и укрывали бесчисленные чиновники, деревенские старосты, туземная полиция, — эти люди всеми правдами и неправдами выгораживали ее, а народные массы из страха делали вид, что ничего не знают о ее деяниях. Такое положение существовало из поколения в поколение, а печать старины и обычая лишь освящала это ужасное зло. На свете не было более неблагодарной, более безнадежной задачи, чем задача подавить и искоренить секту тугов. Но горстка английских чиновников в Индии наложила свою твердую, уверенную руку на душителей и выкорчевала их, вырвала со всеми корнями! Как скромно звучат слова капитана Валланси теперь, когда мы снова перечитываем его статью, зная то, что знаем:
«День, когда в Индии будет истреблено это буйно разросшееся зло и от него останется лишь одно воспоминание, в немалой степени прославит британское владычество на Востоке».
Трудно найти более простые и скромные слова, чтобы охарактеризовать это благородное дело.
Глава XII ВДОВА, КОТОРАЯ С РАДОСТЬЮ ВЗОШЛА НА КОСТЕР
Когда придет горе, оно само о себе позаботится, но чтобы почувствовать всю глубину радости, необходимо с кем-то поделиться ею.
Новый календарь Простофили ВильсонаМы выехали из Бомбея в Аллахабад ночным поездом. Здесь существует обыкновение избегать дневных путешествий при всяком удобном случае. Но есть и одно неудобство: вам кажется, что вы обеспечили себе два нижних спальных места, заказав их заранее, но у вас нет на руках ни билета, ни иного документа, чтобы доказать свои права, если на ваше место будет посягать кто-то другой. В окне купе появляется слово «занято», но без всякого указания, для кого оно занято. Если ваш Сатана и ваш Барни придут в вагон раньше чьих-либо других слуг, расстелют постельные принадлежности на обоих диванах и будут стоять на страже, пока вы не явитесь, — все будет в порядке; но стоит им на минуту отлучиться, как ваши вещи могут оказаться уже на полке, а чьи-то слуги могут стоять и охранять постели своего хозяина, разостланные на ваших диванах,
Причина этих неурядиц кроется в том, что за спальное место вы не платите никаких дополнительных денег. Если вы купили железнодорожный билет и не воспользовались им, ваше место может занять кто-то другой; но если его никто и не займет, то все равно, когда вы будете готовы к поездке, вам дадут по вашему билету другое место.
Однако человеку, привыкшему к более разумной системе, все эти объяснения кажутся не вполне обоснованными. Если бы распоряжались этим мы, то за гарантированное спальное место взималась бы дополнительная плата, и дорога не несла бы никакого убытка, если какой-то пассажир купит билет и не явится.
Существующая здесь система поощряет вежливость — и одновременно препятствует ей. Если молодая девушка заняла место на нижней полке, а потом вошла пожилая дама, то со стороны девушки естественно уступить свое место даме, а той естественно воспользоваться предложенным местом, и поблагодарить девушку. Но на деле часто получается иначе. Когда мы уезжали из Бомбея, вещи моей дочери лежали на своем месте — на нижней полке. В последнюю минуту перед отходом поезда в купе ввалилась американка средних лет, в сопровождении индийцев-носильщиков, нагруженных ее багажом. Эта дама ворчала, фыркала, бранилась, — словом, сделала все, чтобы произвести самое отвратительное впечатление. Не говоря ни слова, она схватила вещи моей дочери, закинула их на верхнюю полку и заняла нижнее место.
В одну из наших поездок мы как-то вышли с мистером Смитом на станции, чтобы прогуляться, и, возвратившись, увидели, что постель мистера Смита уже заброшена на верхнюю полку, а на диване, который он прежде занимал, преспокойно расположился со своей постелью англичанин, кавалерийский офицер. Низко радоваться этому, но так уж мы устроены; я радовался этому не меньше, чем если бы в это неприятное положение попал не мистер Смит, а мой злейший враг. Все мы любим смотреть, как другие попадают в беду - конечно, если такое зрелище нам не стоит ни цента. Огорчением мистера Смита я наслаждался так, что не мог заснуть, Я знал, что, по мнению Смита, этот офицер отнял у него место по собственному почину, тогда как офицер, без сомнения, ничего об этом не знал, а все устроил его слуга. Мистер Смнт горевал и никак не мог успокоиться: он жаждал подложить кому-нибудь такую же свинью. Вскоре ему представился удобный случай. Это было в Калькутте. Мы уезжали на сутки в Дарджилинг. Как уверил меня мистер Смит, мистер Баркли, генеральный инспектор дороги, отдал специальное распоряжение позаботиться о нас и обо всем договорился, так что спешить к поезду было незачем; и, разумеется, мы немного запоздали. Когда мы приехали на вокзал, обычное для Индии столпотворение и толчея были там в полном разгаре. Поезд оказался необычайно длинным, словно все жители Индии собрались куда-то ехать на нем, и местные служащие вконец измотались, устраивая запоздавших, взволнованных пассажиров. Они не знали, где наш вагон, и никак не могли вспомнить, получали ли какие-либо указания или приказы относительно нас вообще. Мы были глубоко разочарованы; более того, похоже было на то, что мы — половина пашей группы — вообще никуда не поедем. Затем к нам подбежал Сатана и отвал, что нашел купе с свободной полкой и диваном и что он уже расстелил постели и разложил багаж. Мы кинулись в это купе, И в ту минуту, когда поезд должен был вот-вот тронуться и носильщики уже захлопывали все двери, служащий Индийской гражданской службы, наш хороший приятель, просунул к нам голову и сказал:
— А мы ищем вас всюду, прямо с ног сбились. Почему вы здесь? Разве вы не знаете...
Но тут поезд тронулся. Случай, которого ждал мистер Смит, наконец представился. И вот он, не теряя ни секунды, схватил свою постель с верхней полки и положил ее на диван, напротив моего, хотя на этом диване лежала чья-то чужая постель. Часов в десять мы где-то остановились, и огромного роста англичанин с военной выправкой важно вошел в наше купе. Мы сделали вид, что спим. Лампы были прикрыты, но было все же достаточно сипло, и мы видели, как удивленно посмотрел англичанин на представшую перед ним картину. Рослый и молодцеватый, он не двигался с места, вперив взгляд в Смита и молча раздумывая, как ему быть. Наконец он сказал:
— Ну и ну! — И это было все.
Но и этого было достаточно. Все было ясно. Это означало: «Чудовищно. Какое нахальство! В жизни не видел ничего подобного!»
Он сел на свои вещи, и в течение двадцати минут мы исподтишка наблюдали, как он сидел, покачиваясь в такт движению поезда. Потом мы подъехали к какой-то станции, англичанин поднялся и вышел, бормоча: «И все-таки я отыщу нижнее место, или мне придется ждать другого поезда». Вскоре явился его слуга и забрал все вещи.
Итак, рана мистера Смита была залечена, жажда мести удовлетворена. Но он никак не мог заснуть, не мог заснуть и я: вагон был самый допотопный, и все в нем было расшатано и разболтано до ужаса; дверь в умывальную хлопала всю ночь напролет, несмотря на всяческие приспособления, которые мы безуспешно изобретали, чтобы ее закрепить. Изнуренные бессонной ночью, мы встали с рассветом и вышли на какой-то станции; когда мы пили там кофе, мимо нас прошел тот самый англичанин, и кто-то спросил его:
— Значит, вы все-таки не сошли?
— Нет! Проводники нашли мне свободный вагон, он был для кого-то оставлен, но пассажиры не явились. Я получил в свое распоряжение целый салон-вагон — дворец, прямо дворец, иначе не назовешь. Повезло, как никогда в жизни!
Вы понимаете, он попал в наш вагон! Недолго думая, мы направились туда всей компанией. Я пригласил англичанина остаться с нами и ехать в этом вагоне дальше, и он согласился. Приятный оказался человек, полковник от инфантерии, — до сих пор думает, что вовсе не Смит отнял у него диван, а что это сделал слуга Смита, без его ведома. Мы помогли ему укрепиться в этом мнении.
Поезда в Индии обслуживают только индийцы; железнодорожные станции — за исключением самых крупных и важных — обслуживают тоже индийцы; это же происходит и в почтовых и телеграфных конторах. Вся рядовая полиция набирается из индийцев. Все они обычно приятные и услужливые люди. Однажды на большой станция я сопим с экспресса, чтобы полюбоваться восхитительным потоком людей, который вечно бурлит и льется, мечется и шумит на просторных платформах крупных индийских вокзалов. Я смотрел как зачарованный и забыл обо всем на свете; когда я очнулся, поезд уже тронулся и набрал порядочную скорость. Я решил присесть и ждать следующего поезда, как сделал бы у себя на родине, — ничто иное даже не пришло мне в голову. Но тут меня увидел служащий-индиец, с зеленым флажком в руках. Он вежливо опросил:
— Вы с этого поезда, сэр?
— Да, — сказал я.
Он помахал своим флажком, и поезд дал задний ход! Он усадил меня в вагон так же почтительно как если бы я был генерал-инспектором дороги. Они добрые люди, эти индийцы. И лица, и манера поведения, которые говорили бы о злобном уме и черством сердце, чрезвычайно редки среди индийцев — таких людей практически среди них почти не встретишь; и иногда мне кажется, что все эти душители-убийцы — сказка, а не быль. Конечно, черствые сердца есть и в Индии, но я уверен, что ничтожно мало. И совершенно ясно одно: индийцы — самый интересный народ в мире, и их почти невозможно понять до конца. Во всяком случае, разобраться в их психологии труднее, чем в психологии любого другого народа. Их характер, их история, обычаи и религиозные верования на каждом шагу ставят перед вами загадки, и загадки эти, после того как вам их разъяснят, становятся только еще загадочнее. Относительно какого-нибудь обычая вы можете установить факты, - скажем, факты относительно каст, самосожжения вдов, деятельности душителей и т. д., вы можете узнать даже какую-либо теорию, объясняющую эти факты, но никакая теория ничего вам толком не объяснит. Как и почему возникло то или иное явление — до конца вы никогда этого не поймете.
Возьмем хотя бы обычай самосожжения вдов. Вот вам его объяснение. Женщина, жертвующая своей жизнью, когда умер ее муж, тут же вновь соединяется с супругом и будет вечно счастлива с ним на небе; ее семья поставит ей маленький памятник или даже храм, всегда будет ее почитать, поклоняться ее памяти; само ее семейство будет пользоваться уважением со стороны общества; самопожертвование женщины надолго бросит отплеск благородства на все ее потомство. И кроме того — взгляните, чего избежала эта женщина, лишив себя жизни! Ведь если бы она предпочла остаться в живых, ее считали бы обесчещенной; она никогда бы вновь не вышла замуж, семья презирала бы ее и отреклась от нее; она превратилась бы в изгоя, лишенного какой-либо дружеской помощи, она не знала бы радости до конца своих дней.
Очень хорошо, скажете вы в ответ, но все же такое объяснение неполно. Как пришли люди к такому странному обычаю? Откуда он взялся? «Ну, этого никто не знает; быть может, это откровение богов». Еще один вопрос: почему выбрали такую жестокую смерть, разве нельзя было придумать что-нибудь помягче? В ответ на это вам тоже скажут: «Никто не знает; может быть, тут также откровение богов».
Нет, вы этого никогда не поймете. Все это кажется невероятным. Вы, разумеется, будете уверены, что вдова никогда не решится на самосожжение добровольно, а идет на это только из страха перед общественным мнением. Но скоро вам придется отказаться от такого мнения. Вас заставят это сделать исторические факты. В одной из своих книг майор Слимен приводит по этому поводу весьма убедительный случай. Управляя округам Нарбада, он 28 марта 1828 года сделал смелую попытку запретить самосожжение вдов на свой собственный страх и риск, без распоряжения верховного правительства Индии. Он тогда не мог предвидеть, что восемь месяцев спустя правительство само запретит этот обычай. Слимену подсказали этот шаг его отзывчивое сердце и отважная душа. Он издал приказ, которым самосожжение в его округе запрещалось. 24 ноября того же года, утром, во вторник — заметьте, что именно во вторник, — скончался Уммед Сингх Упадхия, глава самого уважаемого и многочисленного брахманского семейства в округе. К Слимену явилась делегация из сыновей и внуков брахмана с просьбой разрешить престарелой вдове покойного сжечь себя вместе с его телом. Слимен пригрозил, что он заставит исполнять свой приказ и сурово накажет ослушников; он выслал полицейскую стражу, чтобы не допустить самосожжения. С раннего утра вдова, которой было шестьдесят пять лет, долгие часы сидела на берегу священной реки, рядом с покойником, ожидая желанного разрешения; наконец она узнала, что этого разрешения ей не дали. В короткой фразе Слимен дает нам трогательным образ этой одинокой седовласой старухи: весь день и всю ночь «она неподвижно сидела на берегу реки, ни разу не прикоснувшись ни к еде, ни к питью». На другое утро тело брахмана было сожжено в яме восьми футов ширины и трех или четырех футов глубины, в присутствии нескольких тысяч зрителей. Затем вдова вброд добралась до голой скалы в реке, и псе зрители разошлись, остались только сыновья и родственники старухи. Весь день сидела она на скале под палящим солнцем, без пищи и воды; одежды на ней не было, только на плечи было накинуто покрывало,
Родственники не уходили и все время уговаривали старуху отказаться от задуманного, так как они глубоко любили ее. Старуха не хотела ничего и слышать. Тогда часть семейства отправилась к Слимену, за десять миль оттуда, и пыталась умолить его разрешить старухе сжечь себя. Тот отказал, все еще надеясь ее спасти.
Весь день она пеклась на скале под одним своим покрывалом, а ночью не заснула ни на минуту и сидела, дрожа от холода. В четверг утром, на глазах у всех родственников, она совершила обряд, который говорил им больше, чем любые слова: она надела дхаджу (чалму из грубой красной материи) и переломала на куски все свои браслеты. Теперь, согласно законам, она сразу стала как бы мертвым человеком и навсегда изгонялась из касты. Старинный обычай с железной неумолимостью гласил, что, если старуха останется в живых, она не имеет права вернуться в свою семью. Слимен не на шутку встревожился. Если старуха умрет от голода, ее семейство будет опозорено, да и умирать ей придется с неменьшими страданиями, чем от огня. Возвратившись вечером домой, Слимен все думал, какой же найти выход из создавшегося положения. Утром, когда он приехал к реке, старуха все еще сидела на скале, на голове у нее была та же красная чалма. «Она совершенно спокойно сказала мне, что решила смешать свой пепел с пеплом ее усопшего мужа и будет терпеливо ждать моего на то разрешения, — она была уверена, что господь даст ей силы дожить до этого, хотя она не смеет все это время ни есть, ни пить. Посмотрев на солнце, в тот момент поднимавшееся над большой и красивой излучиной реки, она сказала спокойно: «Вот уже пять дней, как моя душа соединилась с душой моего мужа близ этого солнца; от меня осталась здесь лишь бренная плоть, и я знаю, что придет время, когда вы позволите мне смешать мой пепел с пеплом мужа в одной яме, ибо не в вашем характере и не в ваших привычках бессмысленно продлевать страдания бедной старой женщины».
Слимен пытался убедить ее, что его долг и его единственное желание — спасти ее, уговорить ее не искать смерти и тем самым уберечь ее родных от того, чтобы они считали себя убийцами бедной вдовы. Но старуха сказала, что она этого не боится: ее родные, как добрые дети, сделали все возможное, чтобы убедить ее не искать смерти и оставаться жить с ними: «Я знаю, что, если я соглашусь жить, они будут любить и чтить меня, но мой долг по отношению к ним уже исполнен. Я оставляю их всех на ваше попечение и иду к моему мужу, Уммеду Сингху Упадхии, с пеплом которого мой пепел был уже смешан трижды».
По ее верованиям, они с покойным жили на земле уже трижды, жили как муж и жена, и она предавала свое тело огню на том месте, где был сожжен ее муж, уже трижды; поэтому она и сказала такие странные слова. Переломав браслеты и надев на голову красную чалму, она смотрела на себя уже как на труп и потому позволила себе такое нечестие, как произнести вслух имя мужа. «Она назвала его имя впервые за свою долгую жизнь, ибо все женщины и Индии, к какому бы классу они ни принадлежали, никогда не произносят имя своего мужа».
Майор Слимен все стремился разубедить старуху. Он обещал, если она согласится не умирать, построить ей красивый дом, который будет стоять среди храмов ее предков на берегу реки, и дать хороший участок земли, с которого не будут (взиматься налоги; если же она его не послушает, грозил Слимен, он не позволит поставить на месте ее смерти никакого камня, никакого знака. В ответ старуха только улыбнулась и сказала: «Моя кровь уже давно не течет по жилам, мой дух уже покинул меня, на костре я не почувствую никаких мучений; если вы хотите убедиться в этом, прикажите зажечь огонь, и вы увидите, что я сожгу эту руку, не почувствовав никакой боли».
Тогда Слимен понял, что бессилен поколебать ее решение. Он позвал всех старших членов ее семьи и заявил, что согласен на самосожжение старухи, если они подпишут письменное обязательство впредь навсегда отказаться от этого обычая всей семьей. Те согласились, бумага была составлена и подписана, и в субботу в полдень старухе сказали, что все наконец решено. Старуха была совершенно счастлива. Она совершила обряд омовения и к трем часам дня была готова к смерти; костер в яме уже пылал ярким пламенем. Старуха не пила и не ела уже более четырех суток. Она перешла со скалы на берег и прежде всего смочила свое покрывало в воде священной реки — без этой предосторожности любая тень, которая могла упасть на псе, сделала бы ее нечистой. Затем, опираясь на плечи сыновей и племянника, она пошла к горевшему в яме костру — до него было расстояние ярдов в сто пятьдесят.
«Вокруг костра я расставил часовых и подходить к нему ближе чем на пять шагов было запрещено. Она подошла со спокойным и радостным выражением лица, остановилась и, подняв глаза к небу, сказала: «Зачем же пять дней меня не пускали к тебе, муж мой?» Дойдя до часовых, ее сыновья и племянник остановились и остались на месте; старуха пошла дальше и, обойдя один раз яму вокруг, постояла немного, а потом, бормоча молитву, бросила в огонь цветы. Затем она уверенно и твердо ступила на край ямы и вошла в самую середину огня, села там и, откинувшись всем телом, слоено опираясь на подушку, сгорела, не издав ни одного звука, не явив ни одного признака предсмертных мучений».
Это прекрасно. Это вызывает невольное восхищение и уважение — нет, не невольное, а вполне добровольное, без всякой натяжки. Мы видим теперь, почему обычай, однажды зародившись, никогда не умирает, ибо в основе всего тут лежит могучая сила — вера; вера, доведенная до крайнего фанатизма под двойным воздействием каждодневной самоотверженности, с одной стороны, и давности обычая, с другой; и все же мы не можем понять, как это получилось, что первым индийским вдовам в те далекие времена, когда возник этот обычай, он так понравился. Это обстоятельство ставит нас в тупик.
Слимен пишет, что во время самосожжения обычно играет музыка, — но убеждение европейца, будто бы музыкой заглушают крики жертвы, совершенно неверно. На самом деле тут преследуют другую цель. Считается, что умирающий на костре умирает пророком; порою бывает, что он предсказывает несчастья, — и музыка играет для того, чтобы те, кого касаются зловещие предсказания, не слышали их и не знали, что скоро к ним постучится беда.
Глава XIII АЛЛАХАБАД И СВЯЩЕННАЯ ЯРМАРКА
Он много раз имел дело с врачами, и он говорит: «Единственный способ
сохранить свое здоровье — это есть то, что не хочешь, пить то,
что не нравится, и делать то, что противно».
Новый календарь Простофили ВильсонаЭто было долгое путешествие — мы ехали две ночи, день и часть другого дня, все к востоку от Бомбея, к Аллахабаду; но путешествие это было очень интересно и неутомительно. Сначала я боялся, что ехать по ночам будет трудно, — меня беспокоила пижама. Этот дурацкий ночной костюм состоит из куртки и штанов. Иногда его шьют из шелка, иногда из шершавой, царапающей, словно наждачная бумага, шерстяной материи. Штаны скроены как на слона, без единой пуговицы, и держатся обычно на одной только тесемке. Куртка тоже весьма просторная, но спереди она застегивается. В пижаме жарко в жаркую ночь и холодно в холодную — порок, которого лишена ночная сорочка. Я пробовал надевать пижаму по соображениям моды, но вынужден был отказаться от этого: я просто не выдержал — не чувствуешь никакой разницы между дневным и ночным костюмом. Я тосковал но ночной рубашке, облачившись в которую испытываешь прекрасное, освежающее чувство облегчения и свободы от стесняющих движения пут дневного костюма, А лежа в постели в пижаме, я чувствовал, как она сковывает, давит и душит меня, будто я лег совсем не раздеваясь. Жаркую часть ночи пижама жгла и раздражала тело, вызывая лихорадку, а сумбурные прерывистые сны, которые я видел, так угнетали меня, как, должно быть, угнетают сны какого-нибудь проклятого, отверженного человека; в холодную же часть ночи спать тоже было невозможно — я занимался только тем, что стаскивал с других одеяла. Но в таких случаях не спасают и одеяла: чем больше их нагромождаешь на себя, тем надежнее они удерживают холод, не давая ему выйти наружу. В результате ноги у вас так леденеют, что вам становится ясно, как вы будете чувствовать себя в могиле. В минуту просветления я сбросил с себя пижаму, и с тех пор жизнь моя потекла спокойно и безмятежно.
В индийской деревне день начинается рано. Перед вами без конца без края раскинулась плоская, цвета пыли и кирпича, равнина; над ней еле брезжит тусклый, сероватый свет; во все стороны, пересекая равнину, бегут утоптанные узкие тропы; кое-где указывают на близость деревни призрачные купы деревьев; по тропинкам шагают стройные женщины, мелькают темные фигуры долговязых, почти голых Мужчин, идущих на работу; у женщин на головах медные кувшины, мужчины несут с собой мотыги. Мужчины не совсем наги; обычно на них кусок белой материи — набедренная повязка, не шире обычного бинта; ее белизна выделяется на черном теле, как серебряное кольцо на чубуке трубки. Порой у мужчин на голове огромная пышная белая чалма, и это создает в их убранстве второе светлое пятно. Тогда индиец вполне соответствует поразительно краткой характеристике, какую дала ему мисс Гордон Камминг, — по ее словам, это человек, одетый «в чалму и носовой платок».
Весь день перед глазами тянется однообразная, мертвая равнина цвета пыли, и лишь изредка мелькают группы деревьев и глиняные деревушки. Скоро вы убеждаетесь, что Индия отнюдь не красива, но что-то в ней все же манит и привлекает вас, никогда не надоедая. Вы не можете сказать, что именно вас чарует, но вы отчетливо ощущаете это чувство и признаетесь в нем самому себе. Конечно, где-то в глубине души вы смутно понимаете, что все дело тут в истории: вас преследует сознание того, что мириады человеческих жизней цвели, увядали и гибли на этой земле, вновь и вновь проходя друг за другом, поколение за поколением и век за веком бесплодный, бессмысленный путь; именно история дает этой заброшенной, неуютной стране власть тревожить ваш дух и располагать вас к себе; эта страна говорит с вами голосом подчас жестким и насмешливым, но красноречиво печальным. Пустыни Австралии и ледники Гренландии безмолвны, ибо у них нет внушающей почтение истории, им нечего сказать о человеке и его делах, о его быстротечной славе и его печалях, они не могут одухотворить свое пустынное безобразие и придать ему хоть какое-нибудь очарование.
В индийской деревне нет ничего привлекательного— я говорю о глинобитной деревне, ибо я не помню, чтобы за долгое путешествие к Аллахабаду мне попалась на глаза хоть одна неглинобитная деревня. Обычно это небольшая горстка грязно-серых глиняных хижин, сбившихся в кучу за глиняной стеной. Многие дома обычно повреждены частыми дождями; и от этого вся деревня напоминает древние руины. Я думаю, что за стенами деревни содержится скот и что там полно паразитов; я видел, как скот входил и выходил из деревни, а деревенский житель, когда его ни встретишь, всегда чешется. Этот последний довод служит: лишь косвенным доказательством наличия паразитов, но мне кажется, он довольно убедителен. В каждой деревне есть один или два маленьких ветхих храма. В них достаточно места, чтобы поставить идола, и традиций — чтобы вполне прилично прокормить жреца. Если в деревне есть мусульмане, то на окраине виднеется несколько жалких могил, — обычно они запущены и полуразрушены. Я заинтересовался индийской деревней, прочтя книги майора Слимена; особенно привлекли меня в этих книгах сведения о разделении труда в деревне. Слимен пишет, что вся Индия разбита на земельные участки, которыми владеют сельские общины; что девять десятых огромного населения страны состоит из земледельцев; что земледельцы эти живут в деревнях; что там есть, так сказать, узаконенные общинные ремесленники, которым община выплачивает жалованье и профессия которых переходит от отца к сыну из поколения в поколение, подобно участку земли. Слимен дает перечень таких общинных ремесленников: жрец, кузнец, плотник, писец, стиральщик белья, плетельщик корзин, гончар, сторож, цирюльник, сапожник, медник, изготовитель сластей, ткач, красильщик и т. д. Во времена Слимена было еще множество колдуном; считалось даже неразумным выдавать девушку замуж в семью, где нет ни одного колдуна, ибо когда у молодой появятся дети, от них некому будет отнести дурной глаз, а ведь детей непременно сглазят соседские колдуны.
Должность повивальной бабки являлась наследственной в семье плетельщика корзин; это всегда была его жена. Она могла даже не разбираться в повивальном деле, но должность все-таки принадлежала ей. Платили повитухе не так уж много: когда она принимала мальчика — двадцать пять центов, а когда девочку — половину этой суммы. Девочки были нежелательны, так как из-за них семье приходилось идти впоследствии на огромные расходы. Как только девочка вырастала настолько, что ей пора было начинать, по соображениям приличия, носить одежду, семье следовало во избежание позора выдать ее замуж, а это означало для родителей финансовую катастрофу, — ибо обычай требует, чтобы отец израсходовал на свадебные торжества и празднества все, что он имеет и что может занять, то есть практически приходилось доводить себя до такого нищенства, выбраться из которого зачастую было уже немыслимо.
Именно страх перед возможным разорением — причина столь распространенных убийств младенцев-девочек в старой Индии, пока англичане железной рукой не наложили запрет на этот обычай. О том, какие широкие размеры приняли эти убийства, можно судить по многозначительной фразе Слимена, которую он обронил, говоря об играющих деревенских детях: «Голосов девочек в деревне не услышишь!»
Безрассудная привычка праздновать свадьбу как можно пышнее существует в Индии и теперь, поэтому тайные убийства девочек случаются и поныне, хотя и не столь часто, — мешает бдительность властей и суровость наказания.
В некоторых областях Индии сельская община содержит за свой счет еще трех служителей: астролога, который указывает крестьянам, когда наступает пора сеять, пускаться в путешествие, жениться, душить ребенка, одолжить у соседа собаку, влезть на дерево, поймать крысу, обмануть соседа — не разгневав всевидящего ока небес; астролог растолкует, что означает тот или иной сон, если он приснился крестьянину, который недостаточно сообразителен, чтобы объяснить его на основании съеденного за ужином. Два других служителя общины — это заговорщик тигров и отвратитель бури и града. Первый не подпускает к деревне тигров — в случае, если это ему удается, и во всех случаях получает жалованье, а второй отгоняет град и при неудаче объясняет крестьянам, почему он но справился со своим делом. Плату он берет одну и ту же — как за объяснение неудачи, так и за успех. Заработать себе на хлеб в Индии не может только идиот.
Майор Слимен впервые вскрывает то обстоятельство, что и профсоюзы и бойкот существуют в Индии издавна. Все на свете, кажется, берет свое начало в Индии. Метельщик принадлежит к низшей касте, он низший из низких, псе другие касты презирают его и издеваются над его профессией. Но это ничуть его не беспокоит. Каста, к которой он принадлежит, — все-таки каста, н ему этого довольно, он горд, он отнюдь не стыдится. Слимен пишет:
«Многие мои соотечественники — даже в Индии — возможно, не знают, что право подметать дома и улицы городов является монополией; монополия эта держится исключительно благодаря кастовой гордости метельщиков — самой низкой социальной группы. Право подметать в пределах определенной территории принадлежит определенному члену касты; если какой-нибудь другой метельщик претендует на ту же самую территорию, его изгоняют из касты — ни один член касты но будет курить из его трубки или пить из его кувшина; восстановить свое положение в касте ослушник может только тем, что устроит празднество и угостит всех метельщиков. Если какой-либо домохозяин в определенной округе обидит метельщика этих мест, то никто не будет убирать нечистоты в его доме, до тех пор пока хозяин не помирится с метельщиком, ибо никакой иной метельщик не осмелится коснуться чужой работы; и жители города часто подчиняются тирании метельщиков в большей мере, чем тирании какой-либо другой касты».
Винцент Артур Смит, издатель сочинений майора Слимена, пишет в примечании, что в наши дни эта тирания гильдии метельщиков является одним из главных препятствий, какие встречает на своем пути любая санитарная реформа в Индии. Вдумайтесь в следующее:
«Метельщиков не так-то легко подчинить, ибо ни один индус или мусульманин не будет заниматься их ремеслом даже под страхом смерти, и никто из них не осквернит себя прикосновением к упрямому метельщику, хотя бы для того, чтобы его ударить».
Поистине, метельщики обладают властью; более прочную позицию, чем у них, трудно себе представить. «Права метельщиков, описанные в тексте, пользуются на деле таким признанием, что нередко служат предметом продажи или заклада». Положение тут такое же, как с разносчиками молока или с метельщиками лондонских перекрестков. Говорят, что права лондонских метельщиков на тот или иной перекресток охраняются всей гильдией, что гильдия считает это право собственностью метельщика, что некоторые отборные перекрестки представляют собой большое достояние и «продаются» за крупные суммы. Я заметил однажды, что метельщик, трудившийся у здания складов армии и флота, имел вид процветающего аристократа из Южной Африки, а когда этот метельщик полагает, что за ним никто не наблюдает, на его лице появляется такое выражение, какое бывает у счастливого отца, который готовится выдать свою дочь за герцога.
По Слимену выходит, что погонщики слонов в Индии — только магометане. Интересно, почему это так? Водонос (бхисти) — обязательно магометанин; говорят, это потому, что религия запрещает индусу прикасаться к шкуре мертвой коровы, а мех для воды сделан из коровьей кожи и, следовательно, осквернил бы индуса. Кроме того, религия индусов запрещает им есть мясо, — ведь мясо получают от убитого животного, а лишать какое-либо создание жизни — грех. Хорошая, добрая религия у индусов, но исполнять все ее требования довольно-таки затруднительно.
Любая большая индийская река, когда спадает вода, напоминает собой знакомое анатомическое изображение человека, с которого содрана кожа; протоки и каналы похожи на сложную сеть переплетающихся мускулов и сухожилий, а перекаты и песчаные отмели выглядят как вписанные между сухожилиями островки жира и мяса. По дороге в Аллахабад мы как-то раз видели такую реку, а путешествуя впоследствии, столкнулись с точной ее копией — рекой Сатледж. Любопытные это реки: берег от берега находится на таком расстоянии, что кажется подернутым туманной дымкой, между берегами раскинулись пески — огромные плоские пространства, иссеченные вялыми струями воды, которые с трудом пробивают себе дорогу. По количеству песка — это настоящая Сахара; через нее по прямой, как экватор, линии от одного берега до другого пролегают, будто оспины, следы ног (прерываемые лишь у протоков), — здесь устроен, так сказать, сухопутный паром. При наличии таких рек необходимы очень длинные железнодорожные мосты — и в Индии они есть. К Аллахабаду вы подъезжаете по очень длинному мосту. Мы пересекаем русло Джамны — вид у него такой, словно по этому руслу уже давно ничего не протекало. Мост был перекинут не только через русло реки, он охватывал главным образом низкие берега, которые может залить вода.
Слово Аллахабад означает: «Город бога». Я узнал это из книг. Печатная диковинка — письмо, сочиненное одним из тех отважных и самоуверенных индийских знатоков английского языка, которых называют «бабу», — дала мне еще один перевод, более сжатый: «Богоград». Перевод совершенно верный, но больше к этому ничего не прибавишь.
Мы приехала в Аллахабад еще до полудня и оказались без слуги: Сатана утром где-то застрял и догнал нас лишь поздно вечером. Жизнь без него показалась очень тихой, Мир словно бы погрузился в дремотную грезу.
Старого города я, кажется, не видел. Уже не помню теперь, как это произошло, потому что индийские кварталы Аллахабада связаны с восстанием сипаев[70], а этого достаточно, чтобы они меня заинтересовали. Но я видел английскую часть города. Там широкие проспекты, красивые площади, блеск и уют, все признаки комфорта и роскоши и тот отпечаток безмятежности, который порождают спокойная совесть и солидный счет в банке. Бунгало (дома) стоят в глубине обширных огороженных участков (частных владений, сказали бы мы), под семью деревьев. Даже фотограф и преуспевающий торговец арендуют под свои предприятия великолепные отдельные участки, и их клиенты въезжают внутрь этих резиденций. И въезжают не на извозчике, нет, — в индийских городах извозчиками пользуются лишь заезжие иностранцы; у всех живущих здесь европейцев имеются собственные кареты с полным штатом кучеров и темнокожих ливрейных слуг в белых чалмах. Около подъезда здания, где читается лекция, бело, словно от снега, и у лектора появляется ощущение, будто он попал в оперу. У Индии множество эпитетов и названий, и все они правильно характеризуют ее. Страна Противоречий, Страна Утонченности и Суеверий, Страна Богатства и Нищеты, Страна Великолепия и Запустения, Страна Чумы и Голода, Страна Душителей и Отравителей, Страна Кротости и Терпения, Страна Самосожжения Вдов, Страна Вдов, Не Выходящих Замуж, Страна, где Всякая Жизнь — Святыня, Страна Кремаций, Страна, где Коршун есть и Могила и Памятник, Страна Множества Богов; и вдобавок, если названия что-то значат, — Страна Собственных Карет.
В Бомбее, чтобы снять мерку для платья — конечно, не моего, — старшая модистка из мастерской явилась в гостиницу в собственной карсте. Модистка приехала в Индию, предполагая прожить здесь недолго, но теперь не знает, уедет ли когда-нибудь вообще; скорее всего, она останется здесь до конца своих дней. В Лондоне, рассказывала она, работа у нее была тяжелая, рабочий день длинный; ей приходилось из экономии ютиться в дрянной квартире, далеко от мастерской, трястись над каждым пенсом, лишать себя элементарных удобств, сводя расходы к самому необходимому, не брать извозчиков, а ездить с работы и на работу лишь в вагоне третьего класса подземки, где приходилось постоянно дышать дымом и копотью и находиться в обществе людей, подчас еще менее приятных, чем дым и копоть. А в Бомбее почти на любое жалованье она может жить с комфортом, держать свою карету, а вместо одной служанки на все руки, как было в Лондоне, теперь на нее трудятся шесть слуг. Позже, в Калькутте, я увидел, что самые мелкие служащие компании «Стандард-Ойл» держат одноконную пролетку и никогда не ходят пешком; мне говорили, что тут не ходят пешком служащие и других крупных концернов. Но вернемся к Аллахабаду.
Наутро я поднялся с зарей. Слуга туриста в Индии спит не в номере гостиницы, а, закутавшись с головой в одеяло, укладывается на веранде, напротив двери своего хозяина, и тут проводит ночь. Я не думаю, чтобы чьему-либо слуге когда-либо отводили комнату. Слуги в бунгало тоже, по-видимому, спят на веранде; веранды здесь просторные и тянутся вокруг всего дома. Разумеется, я говорю лишь о слугах мужского пола, служанок я просто не видел. Мне кажется, что здесь их нет вообще, за исключением нянек. С рассветом я был на ногах и обошел всю веранду, оглядывая ряды спящих. Напротив одной двери сидел на корточках чей-то слуга-индиец и ждал, не кликнет ли его хозяин. Он уже начистил желтые ботинки и поставил их у двери, теперь ему оставалось лишь ждать. Утро было очень холодное, а слуга сидел неподвижно, как каменное изваяние, и столь же терпеливо. Это меня обеспокоило. Мне хотелось сказать ему: «Что ты сидишь тут, не разгибаясь, и мерзнешь? Никто от тебя этого не требует, встань и походи, погрейся». Но я никак не мог подобрать слов. Я хотел было сказать «джелди джоу», но не мог вспомнить, что это значит, и воздержался. В запасе у меня была еще одна какая-то фраза, но память отказала мне и тут. Я прошел дальше, стираясь больше не думать об этом слуге, но его голые ноги не давали мне покоя. Я то и дело возвращался с солнечной стропы веранды, чтобы еще раз взглянуть на него. Прошел целый час, а он сидел все в той же позе, не шелохнувшись. Это был поразительный пример кротости и терпения, а может быть, выдержки или безразличия — право, не знаю, чего именно. Но это меня мучило и отравляло мне утро. Во всяком случае, это основательно испортило мне целых два часа. Потом я ушел с веранды, предоставив слуге самоистязаться сколько ему вздумается. Но до самого последнего мгновения он сидел все в той же позе, не сдвинувшись ни на волос. Он, должно быть, навсегда останется в моей памяти, ничуть не поблекнув. Когда мне приходится читать об индийской покорности, индийском терпении под ударами судьбы, при всяких трудностях и невзгодах — мне всегда приходит на память образ этого слуги. Он стал для меня олицетворением Индии в беде. И во веки веков Индию в беде подгоняли именно теми словами, которые я хотел сказать тому слуге и не сказал, так как забыл их значение: «Джелди джоу!» (Давай, давай, пошевеливайся!). А ведь их-то и надо было сказать.
Под ослепительным утренним солнцем мы выехали, направляясь к форту[71]. Часть пути была восхитительна. Дорога шла мимо чудесных высоких деревьев и индийских домов, мимо деревенских колодцев, где всегда собираются, смеясь и болтая, живописные группы людей; мы видели, как многие жители обливают свои бронзовые тела прозрачной, чистой водой, — это была картина весьма освежающая и приятная, так как солнце уже начало свое дело и сжигало Индию огнем своих лучей. Это утреннее обливание водой шло в тот час повсюду: время приближалось к завтраку, а индус не должен есть, пока он не обмыл тело.
Затем мы выехали на опаленную зноем равнину и увидели, что дороги запружены толпами паломников, мужчин и женщин, — оказалось, что в те дни собиралась одна из величайших в Индии религиозных ярмарок; она раскинулась как раз за фортом, у слияния двух священных рек — Ганга и Джамны. Собственно, мне следовало сказать: трех священных рек, ибо существует еще река — подземная. Ее, правда, никто не видел, но это не имеет значения. Важно, что она есть. Паломники собирались сюда со всей Индии; некоторые из них шли месяцами, безропотно мирясь с жарой и пылью; они бедствовали, страдали и голодали, по вера их была непоколебима, она помогала и поддерживала их в пути,—теперь они чувствовали себя бесконечно счастливыми и довольными; цель их путешествия и награда за испытания была уже близка — они очистятся от грехов в тех священных водах, которые очищают абсолютно все, чего бы они ни коснулись, пусть даже мертвое и гнилое. Удивительна сила этой веры — она заставляет тысячи старых и слабых, молодых и хрупких людей без колебания пускаться в тягчайший путь и безропотно переносить нее испытания. Что движет ими — любовь или страх, я, право, не знаю. Но, каковы бы ни были их побуждения, то, что они делают,— для нас, трезво мыслящих белых людей, кажется немыслимым чудом. Бывают и среди нас избранные великие души, которые могут проявлять не меньшие чудеса самопожертвования, но все прочие прекрасно знают, что они не способны ни на что подобное. Однако все мы немало говорим о самопожертвовании, и это вселяет в меня надежду, что у нас достанет благородства оценить способность к самопожертвованию в индусах.
На такие ярмарки в Индии ежегодно стекается два миллиона людей. А сколько их, пустившись в путь, умирает в дороге от старости, переутомления, болезней, недоедания и сколько гибнет по тем же причинам на обратном пути — этого никто не знает, хотя надо думать, что цифра получится большая, может быть даже колоссальная. Каждый двенадцатый год считается там годом особой благодати — и количество паломников в тот год резко возрастает. Говорят, что особое почтение к двенадцатому году идет от самых отдаленных времен. Говорят также, что для Ганга остался лишь одни священный двенадцатый год. Затем эта наиболее почитаемая из всех священных рек перестанет быть священной, и паломники не будут сходиться к ее берегам в течение многих веков — скольких именно, мудрецы не сказали. После этого длительного перерыва Ганг снова станет священным. Сроки этого определят те, которые ведают этим делом, — великие брахманы. Это будет напоминать закрытие Монетного двора. На первый взгляд это выглядит не по-брахмански бескорыстным, но, будучи наслышан о брахманах, я не особенно за них волнуюсь. «Братец Лис — он лежит тихо», — как говорил дядюшка Римус[72]; а в нужное время этот лис покажет индийцам нечто такое, из чего будет ясно, что финансовые выкладки и расчеты не покидали его мозг и в тот момент, когда он закрывал ярмарку на Ганге.
Огромные толпы индийцев, идущих по дорогам, несли с собой воду из священных рек. Они понесут ее по всей Индии и будут продавать. Французский путешественник Тавернье (XVII век) отмечает, что воду из Ганга часто подавали на свадьбах: «каждый гость получал чашку или две, в зависимости от щедрости хозяина; нередко на свадьбах этой воды расходовалось на две-три тысячи рупий».
Форт представляет собой громадное старинное строение, не раз видевшее на своем веку, как одна религия сменяет другую. На обширном дворе там есть камень с благочестивыми буддийскими надписями, он стоит уже две тысячи лет; сам форт построил три столетия назад мусульманский властитель, пожелавший вновь освятить это место в интересах своей религии. Тут же имеется и индусский храм с подземными ходами, со святынями и идолами; теперь форт принадлежит англичанам, и там выстроена христианская церковь. Можно сказать, что форт застрахован во всех страховых компаниях сразу.
С высоких стен форта открывается прекрасный вид на священные реки. Неподалеку от форта они сливаются — светло-голубая Джамна, чистая и прозрачная, и мутный, грязновато-желтый Ганг. На длинной изогнутой косе между реками видны городки палаток со множеством развевающихся флажков и огромные толпы паломников. Туда нелегко добраться, и там не очень-то спокойно, но весьма интересно. Все там движется, все кипит и шумит — а это одновременно и религиозное торжество и настоящий базар; мусульмане собрались здесь, чтобы сквернословить и продавать, а индусы — покупать и молиться. Словом, ярмарка тут уживается со святым праздником. Людские толпы купались, молились, пили воду, очищающую от скверны, а многие больные, слишком слабые, чтобы ходить, прибыли сюда в паланкинах, — они рассчитывали излечиться от своих недугов, омывшись в священных водах; если же это не исцелит их, то хотя бы умереть на благословенных берегах — тогда уж непременно попадешь на небо. Тут было множество факиров, тела которых обсыпаны пеплом, а длинные волосы склеены коровьим пометом, ибо корова священна, и нее, что исходит от коровы, тоже священно, — и священно настолько, что крестьяне-индусы мажут коровьим пометом стены своих хижин и из него же выкладывают узоры для украшения земляного пола. Было тут немало людей, чудовищно раскрашенных, — они рассаживались группами, изображая собой семьи великих богов. Был тут святой старец, совершенно нагой, он целыми неделями сидел на железных остриях и, по видимому, не испытывал никаких мучений; был и другой святой человек — тот стоял весь день, вытянув свои сухие руки вверх; говорят, что он стоит так не один год. Рядом со всеми старцами и святыми людьми лежит по тряпке, на которую надо класть милостыню; самый последний бедняк кладет сюда монетку — в надежде, что это зачтется ему и принесет счастье. Наконец перед моими глазами с пением двинулась целая процессия нагих святых людей — и тут я сбежал.
Глава XIV НЕПОСТИЖИМЫЕ ТАЙНЫ ИНДУССКОГО БОГОСЛОВИЯ
Человек, кричащий о своей скромности, подобен статуе,
прикрытой лишь фиговым листком.
Новый календарь Простофили ВильсонаДо Бенареса мы доехали засветло, это заняло у нас всего несколько часов. Пыль была восхитительная. Она ложилась на все кругом толстым слоем, превращая вас в усыпанного пеплом факира, — вам не хватало только коровьего помета в волосах и ощущения святости. Солнце стояло еще высоко, когда мы сделали пересадку в Могол-Сарае, — кажется, это место называется так, — и часа два ожидали там поезда на Бенарес. Мы вполне могли тут же найти карету и ехать в священный город, но тогда мм лишились бы удовольствия ждать. В других странах долгое ожидание на вокзале — дело всегда утомительное и нудное, но скучать на вокзале в Индии вы не имеете права. Ведь здесь перед вами такая чудовищная толпа увешанных побрякушками индийцев, такая суета, суматоха, толчея, такое великолепие и разнообразие одежд и украшений, что вас охватывает восторг, выразить который нет слов. Два часа ожидания пролетели слишком быстро. Среди множества такого, что привлекало глаз, был и какой-то мелкий индийский князек, приехавший из далекого захолустья; он был со своей почетной стражей — оборванной, по чрезвычайно живописной бандой из пятидесяти темнокожих варваров, вооруженных заржавелыми кремневыми мушкетами. Внести что-то новое в разнообразие толпы, казалось уже невозможным, но когда вошел этот Фальстаф со своими оборванцами, стало ясно, что невозможное свершилось.
Потом мы оттуда уехали и скоро были уже на подступах к Бенаресу; здесь нам снова пришлось подождать, но, как всегда, немало любопытного было и тут. Мы увидели скопление паланкинов — небольших полотняных домиков. Сам по себе паланкин не представляет особого интереса, но когда в нем сидит женщина — это совсем другое дело. Паланкины стояли поодаль, на ужасающем солнцепеке, все сорок минут, пока мы на них глазели. В паланкинах сидели женщины из зенан. Они вынуждены были именно сидеть, ибо прилечь в паланкине невозможно. Может быть, женщинам это и нравилось. Они привыкли к тому плену, в котором живут всю жизнь; когда им приходится куда-то ехать, их несут к поезду в паланкинах, в поезде они тоже должны быть укрыты от посторонних взоров. Многие жалеют этих женщин, я сам всегда их тоже жалел, не ища никакой корысти, но эту жалость никто не ценит. Когда мы были в Индии, некоторые сердобольные европейцы в одном городе предлагали отвести женщинам из зенан специальный обширный парк, где бы они могли без помех гулять с открытыми лицами, дышать свежим воздухом и нежиться на солнышке, чего они лишены всю жизнь. Добрые намерения этих благожелателей были вполне оценены, их от души благодарили, но само предложение было безоговорочно отклонено людьми, уполномоченными выступать от имени женщин из зенан. Очевидно, проект показался этим женщинам диким, — да это и в самом деле было так. Представьте себе, что европейских женщин приглашают в некий уединенный парк, где они должны разгуливать полураздетыми. В глазах индийских затворниц предложение, с которым к ним обратились, мало чем отличалось от этого.
Чувство скромности, конечно, святое чувство, и человек, чьи правила скромности оскорблены, испытывает, несомненно, такое же чувство обиды, какое испытал бы, если бы на его глазах осквернили что-то святое, символ его веры. Я говорю «правила скромности», потому что на свете разных правил существует около миллиона, — так что нужно одновременно следить за соблюдением целого миллиона условностей. Майор Слимен рассказывает об одном случае, когда индийские женщины, носившие чадру, — они принадлежали к высшей касте, — были страшно шокированы, встретив молодых англичанок с открытыми лицами; эти индийские матроны были охвачены негодованием и удивлялись: как могут люди быть столь бесстыдными и так обнажать свое тело. А между тем «ноги негодующих были голы до середины бедер». И та и другая сторона были совершенно чистосердечны и скромны с точки зрения своих правил, но принять чужие правила, не испытывая глубочайшей неловкости, они оказались не в силах. Мне кажется, что все человеческие правила в какой-то мере отдают идиотизмом. И так, конечно, лучше. Ведь положено вещей ныне таково, что в психиатрическую лечебницу могут запереть и нормального человека, но если бы попытались запереть всех сумасшедших, нам не хватило бы строительных материалов.
Прежде чем попасть в гостиницу, вы долго едете по окраинам Бенареса. Все тут выглядит очень тоскливо. Какое-то пыльное захолустье, запущенные храмы, обваливающиеся гробницы, осевшие глиняные стены, жалкие хижины. Весь квартал, казалось, сник под гнетом времени и нищеты. Потребовалось, наверное, десять тысяч лет гнетущей нужды, чтобы они приобрели именно такой вид. Мы были все еще вне пределов большой индийской части города, когда добрались наконец до гостиницы. Это был тихий, уютный дом, располагающий к отдыху и, по-видимому, очень удобный. Но еще больше нам понравился флигель гостиницы, и мы решили поселиться там. Флигель стоял примерно за милю от главного здания, в глубине большого огороженного участка, и был построен по типу бунгало — одноэтажный, с верандой вокруг. В Индии всюду двери, но я но знаю, зачем их делают. Они не запираются, всегда открыты и только, как правило, занавешены, чтобы защитить дом от ярких солнечных лучей. И все-таки в помещении чувствуешь себя очень уединенно, так как ни один европеец не войдет к тебе без предупреждения. Зайдут разве местные слуги, но их брать в расчет не приходится. Они входят в комнату бесшумно, всегда босиком, и появляются перед вами совершенно неожиданно. Сначала вы немного пугаетесь, порой смущаетесь, но к этому можно привыкнуть, и в конце концов вы привыкаете,
На участке было дерево, на котором жила обезьяна. Вначале я очень заинтересовался этим деревом: мне сказали, что это знаменитый пипал — дерево, в тени которого вы не можете солгать. Но в данном случае это отнюдь не подтвердилось, и я отошел от дерева разочарованный. Рядом слышалось приглушенное поскрипывание колодца, и пара волов часами тянула из него воду под присмотром двух индийцев в обычных костюмах — то есть «в чалме и носовом платке». Дерево и колодец — вот все, что было на этом участке, поэтому он и казался таким тихим и умиротворяющим, отдохнуть здесь после длительной горячки и спешки было очень приятно. В нашем бунгало не жил никто, кроме нас; остальные постояльцы обосновались в соседнем, где был табльдот. Все здесь было приспособлено самым чудесным образом. К каждой комнате была пристроена обычная ванная — комнатка в десять-двенадцать квадратных футов, с большой, выложенной камнем ямой, в которой было сколько угодно воды. Что-либо усовершенствовать или улучшить в этом устройстве было нелегко, разве что заменить горячую воду холодной, противопоставляя ее, так сказать, жаркому климату, — но это запрещено: это причинило бы вред здоровью купальщика. Иностранцев предупреждают, что мыться холодной водой в Индии нельзя, но даже наиболее умные иностранцы оказываются дураками, не внимают этому совету и сразу же заболевают. Я был самым большим дураком из всех умных, прошедших через это испытание в нынешнем году. Теперь, когда уже слишком поздно, я стал умнее.
Интересно, является ли слава дориана — по-моему, я пишу это слово правильно — таким же предрассудком, как и слава дерева пипала. Я видел великое множество самых разнообразных тропических фруктов, но не видел дориана — все не попадал к сезону. Всегда его должны были вот-вот подвезти из Бирмы, по никогда не подвозили. Согласно всем отзывам, это очень странный фрукт, он прекрасен и несравненен по вкусу, по никак не по запаху. Говорят, что кожура дориана наполняет комнату такой ужасающей, невыносимой вонью, что по сравнению с ним даже запах хорька действует освежающе. Нам довелось встретить немало людей, которые ели дориан, и все они отзываются о нем с восторгом. Они говорят, что если зажать нос, то вы испытываете прямо-таки божественное наслаждение и забудете о запахе этого плода, но если вы разожмете пальцы и нечаянно понюхаете его, прежде чем съесть, то упадете в обморок. В кожуре дориана таятся неисчислимые богатства. Кто нибудь когда-нибудь начнет импортировать ее в Европу, и тогда она заменит сыр.
Бенарес нас отнюдь не разочаровал. Он вполне оправдывает свою репутацию весьма любопытного города. Стоит он на возвышенности, нависающей над большой излучиной Ганга. Дома огромной плотной массой покрывают эту возвышенность; при взгляде на запутанную сеть улиц издали кажется, будто город изрезан трещинами. Со стороны реки всюду видны высокие стройные минареты и украшенные флажками шпили храмов — это придает Бенаресу живописность. Город весь движется, копошится, кишит народом, как муравейник, и толпы людей, снующих по узким улицам, тоже напоминают муравьев. Тут же во множестве бродят священные коровы — они идут куда им вздумается и взимают дань с хлебных лавок, всюду внося сумятицу и всюду мешая, ибо отогнать их нельзя,
Бенарес древней самой истории, древней всех легенд и преданий, он кажется вдвое старше и легенд и истории взятых вместе. В сжатом и толковом «Путеводителе по Бенаресу» достопочтенного мистера Паркера я нашел слова одного индуса о том, что место, где стоит Бенарес, было первым плодом творения. Сначала среди безбрежного океана будто бы поднялся просто «лингам» размером с печную трубу. Это было делом бога Вишну. Затем лингам, увеличиваясь и расширяясь, занял собою десять миль в окружности. И все же он был еще недостаточно велик, и Вишну пришлось построить вокруг лингама земной шар. Таким образом выходит, что Бенарес является центром земли, а это, как известно, считается преимуществом.
У Бенареса бурная история — и материальная и духовная. Вначале — много веков назад — город был брахманистским; затем, совсем недавно, примерно две с половиной тысячи лет назад, его постепенно завоевал Будда, и несколько столетий — может быть, целых двенадцать — город был буддийским, но потом в Бенаресе вновь возобладали брахманы и держатся в нем по сей день. Святость Бенареса в глазах индийца несказанна; столь же несказанна в нем грязь и вонь, напоминающая запах кожуры дориана. Это штаб-квартира религии брахманов, и священнослужители этой религии составляют одну восьмую населения города. Но переизбытка брахманов все же не чувствуется, потому что к их услугам вся Индия. Вся Индия совершает сюда паломничества, и в карманы брахманов щедрым потоком льются сбереженные гроши, а поток этот никогда не иссякает. Положение брахмана на Перстах Ганга, если у него хорошее место, куда надежнее и лучше, чем положение метельщика на самом процветающем лондонском перекрестке. Хорошее место стоит огромных денег. Святой обладатель этого места сидит себе всю жизнь под своим внушительным зонтиком и благословляет верующих, собирает с них приношения, жиреет и богатеет; потом его место переходит к сыну, потом к внуку — и так из века в век; оно всегда остается доходным местом и руках его рода. Как пишет мистер Паркер, иногда оно может стать предметом спора, и тогда дело решается не молитвами, постом или советами с Вишну, а вмешательством куда более могущественной силы английского суда. Некий американский миссионер в Бомбее сказал мне, что в Индии проповедуют 640 протестантских миссионеров. На первый взгляд это кажется огромной силой, но, конечно же, вся затеи совершенно бессмысленна. Один миссионер на 500 тысяч местных жителей — нет, это не сила, а скорее бессилие; 640 человек, наступающих на укрепленный лагерь, где сидят 300000000, — неравенство сил чересчур велико. Эти 640 миссионеров не управились бы в одном только Бенаресе, где им противостоит 8000 брахманов. Миссионер должен быть движим надеждой и верой, и, по-видимому, это присуще миссионерам и любой стране. Вера и надежда есть и у мистера Паркера. Это дает ему возможность прийти к благим выводам на основании статистических выкладок, которые других математиков могли бы подтолкнуть к совершенно иному заключению. Мистер Паркер пишет, например: «В течение последних лет компетентные наблюдатели заявляют, что количество паломников в Бенарес возросло».
Приведя этот факт, мистер Паркер делает следующий вывод: «По это оживление таит в себе, если можно так выразиться, семена смерти. Это агония, судороги перед концом».
Мы видели, как в течение многих столетий в таких же выражениях отпевали умирающую римско-католическую церковь. Сколько раз мы уже совсем готовы были хоронить ее, а потом все откладывали и откладывали, ссылаясь то на плохую погоду, то на что-нибудь другое. Наученные опытом, мы не должны спешить надевать траур, пока своими глазами не увидим похоронную процессию. Отпевать религию — это, по-видимому, одно из самых ненадежных и неопределенных занятий на свете.
Я был бы рад хоть немного понять индусскую теологию, но трудности оказались слишком велики, а предмет чересчур запутан. Становишься в тупик уже с самого начала. Существует, например, троица — Брахма, Шива и Вишну; по всей видимости, они самостоятельные силы, хотя в этом нельзя быть уверенным до конца: в одном из храмов, например, имеется изображение, где сделана попытка соединить эту троицу в одном лице,. У каждого из троицы есть и другие имена, даже множество имен, что весьма путает и затрудняет человека, который хотел бы во всем разобраться. У каждого из троицы есть жены, и у тех тоже множество имен, — путаница от этого только увеличивается. У каждого из троицы есть дети, и имен у них без числа, — что, как вы понимаете, тоже не облегчает дела. Овладеть же сонмищем мелких богов нечего и пытаться — такое их несметное число.
В целях простоты стоит исключить из поля внимания самого высшего, самого главного бога — Брахму, так как в Индии с ним не особенно считаются. Самые горячие симпатии и весь пыл верующих обращены на Шиву, Вишну и их семьи. Символу Шивы — лингаму, с помощью которого Вишну начал сотворение мира, — по-видимому, поклоняются все без исключен ния. В Бенаресе это самый распространенный предмет. Здесь он попадается на глаза повсюду; его увивают цветами, ему делают подношения, — словом, он всегда в центре внимания. Лингам представляет собою обычно стоячий камень, вытесанный в форме наперстка, — иногда несколько удлиненного наперстка. Этот фаллический культ древнее самой истории. Мистер Паркер пишет, что изображений лингама в Бенаресе «больше, чем жителей».
В Бенаресе есть немало и мусульманских мечетей. А индусским храмам нет числа — эти причудливые каменные кувшины, богато украшенные скульптурой, заполняют все улицы. Сам Ганг и каждая капля воды в Ганге тоже, собственно, храм. Таким образом, религия — это специальность Бенареса, так же как добыча золота — это специальность Йоханнесбурга. Если в Бенаресе и занимаются чем-то другим, то, по сравнению с той всепоглощающей суетой и волнением, которые вызывает религия, все другое отходит на задний план. Бенарес самый священный из всех городов. В ту самую минуту, когда вы переступаете черту, резко отделяющую Бенарес от остального мира, вы оказываетесь на земле, несказанно и невыразимо священной. Мистер Паркер говорит: «Невозможно передать даже приблизительно то благоговейное чувство, тот трепет и умиление, с каким набожный индиец смотрит на «Святой Каши» (Бенарес). Затем мистер Паркер приводит живую и трогательную картинку:
«Если индийский полк, марширует где-то поблизости и пересекает границу святого города, он оглашает воздух криками: «Кашиджи ки джай-джай!» (Святой Каши! Привет тебе! Привет! Привет! Привет!) Едва держащийся на логах, старый и немощный паломник, полуслепой от пыли и зноя, почти умирающий от усталости, вылезая из раскаленного, словно печка, вагона, как только ноги его коснутся земли, вздымает свои высохшие руки и произносит те же благочестивые приветствия. Если европеец, находясь в отдаленном городе, в случайном разговоре заикнется, что когда-то жил в Бенаресе, то сейчас же раздаются голоса, призывающие благословение на его голову, ибо житель Бенареса — благословеннейший из людей».
Наш религиозный пыл по сравнению с этим кажется тусклым и холодным. Поскольку религиозное чувство живет в сердце, а не в голове, эта трогательная картинка, нарисованная мистером Паркером, говорит нам, что похороны религии брахманов придется отложить на неопределенный срок.
Глава XV КАК ОБЕСПЕЧИТЬ СПАСЕНИЕ ДУШИ
Мне бы только наделить народ суевериями,
и тогда пусть кто угодно наделяет его законами и песнями.
Новый календарь Простофили ВильсонаДа, Бенарес — это по сути огромная церковь, религиозный улей, где каждая ячейка — храм, святыня, мечеть, где под одной крышей уживаются любые мыслимые земные или небесные боги, — короче говоря, это нечто вроде Складов армии и флота, только в богословском смысле.
Сейчас я набросаю небольшой путеводитель для паломников в Бенаресе, и вы увидите, как удобна, проста и наглядна моя система. Если вы поедете в Бенарес с серьезными намерениями духовно обогатиться, этот путеводитель окажется вам полезен. Составляя его, я извлек кое-какие факты из бесед с достопочтенным мистером Паркером, а другие — из «Путеводителя по Бенаресу», так что все сведения вполне надежны.
1. Очищение. С рассветом вы должны отправиться к Гангу и искупаться, помолиться и испить воды; это, так сказать, очищение общего характера.
2. Меры против голода. Затем вы должны укрепить себя для преодоления упомянутого прискорбного земного зла. Это достигается посещением и молитвой в храме Коровы. У двери этого храма вы найдете изображение Ганеша, сына Шивы; у него слоновья голова и туловище человека; его лицо и руки сделаны из серебра. Поклонившись ему, вы пройдете дальше, на крытую веранду, где увидите верующих, читающих с помощью наставника священные киши. Тут стоят целые группы грубых, унылых идолов. Вы можете сделать им какое-нибудь приношение, а потом уж пройти в храм — мрачное вонючее помещение, ибо там полно священных коров и нищих. Вы пожертвуете какую-нибудь мелочь нищим и «уважительно поцелуете хвосты» тех коров, которым случится пройти мимо, так как коровы эти — самые священные из священных и такой акт поклонения гарантирует вас от голода на весь день.
3. «Друг Бедного Человека». Затем вам надо воздать должное и этому богу. Находится он на дне каменной цистерны в храме Далбхайешвар, под тенью благородного дерева пинал, на обрывистом берегу Ганга, — посему нам придется вновь возвращаться к реке. Друг Бедного Человека есть бог материального благополучия вообще и бог дождя в частности. Поклоняясь ему, вы испрашиваете себе благоденствия и в придачу дождя. Друг Бедного Человека — это не кто иной, как Шива, но он выступает под новой личиной и обитает в этой цистерне, приняв форму каменного лингама. Вы льете на него воду, взятую из Ганга, и получаете за это обещанные вам блага. Если дождя долго нет, то вы должны лить воду на бога до тех пор, пока цистерна не наполнится до краев, — уж тогда-то дождь будет непременно.
4. Лихорадка. У пристани Кедар вы найдете длинную каменную лестницу, ведущую вниз к реке. На полпути там есть водоем для сточной воды. Пейте ее сколько вам захочется. Это для лихорадки.
5. Оспа. Идите оттуда прямо к центральной пристани; чуть повыше ее вы увидите небольшое, беленное известкой строение — это храм, посвященный Ситало, богине оспы. Ее представитель тут как тут — грубо вытесанная человеческая фигура, скрытая медным экраном. Вы поклонитесь он — по причине, которую скоро узнаете.
6. Колодец Судьбы. Есть причины, по которым вы должны идти и поклониться этому колодцу. Вы найдете его в храме Дандиан, в городе. Лучи солнца проникают в этот храм через круглое отверстие в крыше. Вы приближаетесь к колодцу с благоговением, ибо теперь на карте вся ваша жизнь. Вы склоняетесь над колодцем и смотрите вниз. Если судьба у вас счастливая, вы увидите отражение своего лица в воде, глубоко внизу. Если же дела плохи, то внезапное облако затянет солнце, и на дне колодца вы уже ничего не разглядите. Это означает, что вам осталось жить не больше шести месяцев. Если вы уже на пороге смерти, то приходится серьезно подумать о делах. Времени терять нельзя. Поскольку приходится покинуть этот мир, надо приготовиться к другому. Возможность для этого есть тут же, она под рукой. Вы поворачиваетесь и молитесь изображению Маха Кал — Великой Судьбы, — и ваше счастье в новой жизни обеспечено. Если у вас пока есть какой-то запас сил для земного бытия, вам надо сделать еще усилие, чтобы немного утвердиться в нем. Возможности пока имеются. Тут есть всяческие возможности, в этих превосходно оборудованных и замечательно систематизированных духовных Складах армии и флота. Вы должны двинуться дальше, чтобы посетить
7. Источник долголетия. Это в пределах территории покрытого плесенью почтенного храма Бридхкал, одного из древнейших в Бенаресе. Вы входите на его территорию, минуя каменное изваяние обезьяньего бога Ганумана, и тут же, среди загроможденного обломками двора, вы наткнетесь на мелкую лужу вонючей сточной воды. Она воняет, словно лучший лимбургский сыр, в ней плавает грязь от прокаженных, мывшихся тут, — но не обращайте на это внимания, омойтесь в ней, омойтесь с благодарностью и благоговением, ибо это источник Юности, это Воды Долголетия. У вас пропадут седые волосы, исчезнут морщины и ревматизм, с вас спадет бремя забот и усталость, вы выйдете оттуда молодым, свежим, крепким и полным стремления начать жизнь вновь. На вас нахлынут различные желания, которые тревожат сны человека на заре его жизни. Вы пойдете дальше и найдете
8. Исполнение Желаний. Это в храме Камешвар, посвященном Шиш — как богу Желаний. Позаботьтесь же и о своих. И если вам среди давки и толчеи храма захочется поглядеть на идолов, их тут столько, что хватит на целый музей. Поскольку вы начнете теперь грешить с новым пылом и воодушевлением, то вам надо будет почаще ходить в такое место, где обеспечивается
9. Временное Очищение от Грехов. Это значит, что вам надо посетить Колодец Серьги. Вы должны приближаться к нему с величайшим благоговением, ибо он несказанно свят. Действительно, это самое священное место в Бенаресе, святая святых,— так смотрит на него все местное население. Это обнесенный оградой водоем с каменными ступенями, ведущими к воде. Вода там нечистая. Да она и не может быть чистой, потому что в ней постоянно купаются люди. Стоит нам остановиться где-нибудь поблизости, и вы увидите, как вереницы грешников спускаются вниз и поднимаются обратно: спускаются грешниками, а поднимаются уже очистившимися от грехов. «Лжец, вор, убийца, прелюбодей могут омыться здесь и стать чистыми», — говорит достопочтенный мистер Паркер в своей книге. Что ж, прекрасно. Я знаю мистера Паркера и верю ему, но если бы это сказал мне кто-нибудь другой, я посоветовал бы ему снова пойти к водоему и очиститься от лжи. Водоем этот выкопан богом Вишну. Копать ему было совершенно нечем, если не считать его «диска». Я не знаю в точности, что такое «диск», но, по-видимому, вещь для рытья мало удобная, потому что, когда Вишну кончил свою работу, водоем оказался заполненным его трудовым потом — потом Вишну. Он сотворил то место, где стоит Бенарес, а потом пристроил к нему земной шар и считал для себя все это сущим пустяком, а вот над рытьем водоема потел как прбклятый. Какой-то из двух этих рассказов неизбежно вызывает сомнение. Я не могу решить, какой именно, но, по-моему, трудно себе представить, чтобы бог, настолько могущественный, что создал целый мир вокруг Бенареса, не сообразил бы создать кстати мир и вокруг водоема, а копал этот водоем вручную, да еще таким несовершенным орудием. Юность, долгая жизнь, временное очищение от греха, спасение путем умилостивления Великой Судьбы — все это прекрасно. Но вам надо сделать еще кое-что:
10. Вы должны Обеспечить Себе Спасение Души. Для этого имеется несколько, путей. Один из них — утонуть в Ганге, но это не очень-то приятно. Умереть в Бенаресе — это другой путь, но это путь ненадежный, потому что, когда придет смерть, вы сможете оказаться вне пределов города. Лучший способ — это Паломничество Вокруг Города. Вы должны идти пешком, без всякой обуви. Путь составляет сорок четыре мили, ибо извилистая дорога идет частично по сельской местности, и путешествие займет пять-шесть дней. Но вы окажетесь в большой компании. Вы будете идти с толпами счастливых паломников, чьи многоцветные одежды будут радовать глаз и чьи ликующие песнопения в торжественные гимны как рукой снимут с вас усталость и поднимут ваш дух, а время от времени вам будут попадаться храмы, где можно будет поспать и подкрепиться пищей. Когда паломничество будет закончено — знайте, что спасение вашей души обеспечено и оплачено вами. Но все же и тогда вы можете его не получить, ибо надо еще
11. Зарегистрировать Ваше Искупление. Вы можете сделать это в храме Сакхи Бинайак, и сделать это необходимо, — в противном случае вам трудно будет доказать, что вы совершили паломничество, если такой вопрос когда-нибудь возникнет. Храм Сакхи Бинайак находится в проулке, позади храма Коровы. Над входом там стоит красная статуя бога со слоновьей головой — это Ганеш, сын и наследник Шивы, играющий в этой теологической монархии роль, так сказать, принца Уэльского. Внутри храма помещается бог, на чьей обязанности лежит зарегистрировать ваше паломничество и отвечать за вас. Бога этого вы не увидите, но увидите брахмана, который займется этим делом и получит с вас деньги. Если он забудет с вас их взять, можете ему напомнить. Он твердо знает, что с этого момента ваше спасение уже обеспечено, но, конечно, нам захочется увериться в этом самому, Для этого нам остается лишь идти и помолиться и внести лепту.
12. Колодца Уверенности в Спасении. Это близ Золотого храма. Там вы увидите быка, высеченного из глыбы гладкого черного мрамора, который гораздо крупнее любого живого быка и не очень-то похож на живых быков. Тут же вы столкнетесь с довольно редкостной штукой—изображением Шивы. Лингам вы уже видели пятьдесят тысяч раз, но сейчас перед вами сам Шива и, как говорят, очень похожий на самого себя. У него три глаза. Это единственный бог во всей иерархии, у которого три глаза.
«Колодец прикрыт каменным сводом, опирающимся на сорок столбов», и вокруг него вы увидите то, что уже видели вокруг любой святыни в Бенаресе, — толпу набожных паломников, объятых религиозным рвением. Из колодца черпают воду и наделяют ею паломников: вместе с этой водой на них нисходит уверенность, — ясная, торжествующая, абсолютная уверенность в том, что души их спасены; по лицам паломников вы можете убедиться, что есть в этом мире счастье, которое превыше всего и с которым не сравнится ни одна другая радость. Вы получаете воду, вносите деньги и — чего вы еще хотите? золота, брильянтов, власти, славы? Все это в один миг стало в ваших глазах прахом, пылью и пеплом. Мир уже бессилен дать вам что-либо. Для вас он нищ.
Я отнюдь не утверждаю, что паломники совершают свое поклонение в той последовательности, как я описал выше и своем путеводителе, но логика говорит, что им следовало бы делать это именно так. Ведь вместо беспорядочного блуждания я предлагаю твердый порядок: откуда надо паломничество начать и где его закончить, с тем чтобы паломник все более и более приближался к определенной цели, чтобы тут была своя логика. Так, выкупавшись утром в Ганге, он приобретает аппетит; он целует хвосты коровам — и аппетит пропадает. Затем наступает деловой час, и в душе паломника возникает стремление к материальному благополучию — он идет и льет воду на символ Шивы: это гарантирует паломнику процветание и в то же время приносит дождь, который вызывает лихорадку. Поэтому, дабы избавиться от лихорадки, паломник вслед за этим пьет сточную воду у пристани Кедар, — от лихорадки ни избавляется, по подцепляет оспу. Паломнику хочется знать, чем обернется дело, и он идет в храм Дандпан и глядит на дно колодца. Затянутое облаком солнце говорит ему, что смерть близка. Теперь, поскольку он может умереть в любую минуту, логически ему необходимо позаботиться о своей судьбе после смерти, — и он делает это, воспользовавшись посредничеством богини Великой Судьбы. После этого его процветание на небе обеспечено, но ему, естественно, хочется еще задержаться на земле и пожить сколько можно. Паломник идет в храм Бридхкал и обретает Юность и Долголетие, выкупавшись в луже, полной гноя прокаженных, где гибнут даже микробы. Само собой понятно, что Юность укрепляет его и дает новые возможности грешить, — поэтому паломник направляется к святилищу, называемому Исполнение Желаний, и достигает здесь нужной договоренности. Потом, бесспорно, ему надо время от времени наведываться к Колодцу Серьги, с тем чтобы сбросить с себя грехи и быть готовым к новым запретным удовольствиям. Но паломник — прежде всего и в конце концов человек, а человеческая природа заставляет его постоянно заботиться о будущем. Он совершает Великое Паломничество вокруг города и добивается того, что спасение ого души гарантировано ему совершенно твердо; он даже проходит соответствующую регистрацию, чтобы больше не волноваться, что вдруг, когда наступит день Страшного суда, его забудут или в спешке прогонят прочь. Вполне логично также, что паломнику ради собственного спокойствия хочется лично убедиться в том, что спасение его души обеспечено, — поэтому он предпринимает последний, завершающий шаг: является к Колодцу Уверенности в Спасении и уходит оттуда безмятежный и довольный! Да и как ему не быть довольным, когда ему свыше дарованы такие блага, каких но может дать ни одна религия и мире, кроме его собственной: теперь он может грешить, сколько ему заблагорассудится — его уже не постигнет никакая кара, никакое наказание.
Таким образом, моя система, насквозь пронизанная логикой, точна, ясна, четко очерчена и охватывает все что можно. Я хотел бы рекомендовать ее тем, кто находит, что для нашей краткой переменчивой жизни все остальные слишком трудны и утомительны.
Однако я никого не хочу обманывать. В моем путеводителе недостает одной подробности, и сейчас я хочу его дополнить. Дело заключается в том, что, даже если паломник честно выполнил до конца все требования «Путеводителя», обеспечил себе спасение души и лично удостоверился в этом, — он все равно не гарантирован от одной случайности, которая может свести на нет все его старания. Если паломник когда-нибудь пересечет Ганг и окажется на другой стороне и неожиданно скончается там, то он тут же вернется к жизни на земле в виде осла. И это после всех-то хлопот и денежных расходов! Теперь вы видите, как ненадежно и капризно спасение души. Индусы относятся к превращению в осла с каким-то неразумным детским предубеждением. Трудно сказать, откуда проистекает эта неприязнь. Ведь с таким же основанием можно ожидать, что подобное предубеждение испытывает и осел при мысли о превращении в индуса. И тут дело понятное: осел теряет при этом массу достоинств — свое звание, самоуважение и девять десятых рассудительности. А индус, будучи превращен в осла, не теряет ничего, если не принимать в расчет его религии. Но выиграть он может много — он освободится от рабства по отношению к двум миллионам своих богов и двадцати миллионам жрецом, факиров, нищенствующих святых и прочих священных паразитов; он избавится от индусского ада, он избавится также и от индусского рая. Это такие преимущества, о которых ему следовало бы поразмыслить, — и тогда он переправится через реку и умрет на той стороне. Бенарес — это религиозный Везувий. В его недрах веками трепещут и бьются, грохочут и содрогаются, кипят и мечутся, горят и курятся столбами дыма различные религиозные силы. И здесь же пристроилась маленькая группа миссионеров, которая питает даже какие-то надежды. Здесь действует Баптистское миссионерское общество, Церковное миссионерское общество, Лондонское миссионерское общество, Методистское миссионерское общество, Библейская и Медицинская миссии для зенаны. У всех этих обществ есть школы, и основную работу они ведут среди детей. И, надо думать, именно эта работа дает лучшие результаты, ибо взрослые люди всегда склонны крепко держаться за ту веру, в которой они воспитаны.
Глава XVI ВЕЛИКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ГАНГ
Морщины должны быть только следами прошлых улыбок.
Новый календарь Простофили ВильсонаВ одном из храмов Бенареса мы увидели верующего, который зарабатывал себе спасение души весьма любопытным способом. Подле него лежал большой ком глины, и он лепил из нее божков величиной с гвоздь, каким прибивают ковры. В каждого божка он втыкал зернышко риса, — хотел, я полагаю, изобразить лингам. Лепил он своих божков очень проворно, видимо за долгие годы практики он приобрел известную сноровку. Каждый день он делал по две тысячи божков, а затем бросал их в священный Ганг. Такое поклонение реке влекло за собой поклонение со стороны верующих и ему самому, и результате чего к нему текли и их медяки. Таким образом он обеспечивал себе неплохое существование как на этом, так и на том свете.
Набережная Ганга в Бенаресе — место чрезвычайно красочное. Высокие крутые берега реки от самой воды на расстоянии трех миль сплошь усеяны живописными каменными зданиями — тут и там видны площадки, храмы, лестницы, богатые и величественные дворцы, — и между ними нет ни малейшего промежутка, нигде не видно пустой земли; по всей длинной набережной тесным строем идут площадки, устремленные ввысь лестницы, украшенные скульптурой храмы, великолепные дворцы, очертания которых с расстоянием рисуются все мягче и мягче; и всюду тут движение, толчея, всюду человеческая толпа — в своих ярких одеждах, сверкая всеми цветами радуги, люди спускаются и поднимаются по крутым лестницам, являя собой как бы цветники, колыхающиеся вдоль всей набережной Ганга.
Все эти каменные строения, все дворцы — все тут подчинено благочестию. Дворцы построены индийскими князьями, которые живут, как правило, далеко от Бенареса, но время от времени приезжают сюда, чтобы освежить свою Душу, ступив на берег обожествляемого ими Ганга. Лестницы также построены ради благочестия. А множество дорогостоящих небольших храмов свидетельствует о том, что богачи тратили свои деньги, стремясь к почету на земле и надеясь на вознаграждение на небе. Богатых христиан, жертвующих большие деньги на церковь, у нас все знают, ибо их можно счесть по пальцам, но богатого индуса, который не тратил бы большие суммы на благочестие, по-видимому просто не найти. Бедняк у нас тоже тратит деньги на церковь, но он оставляет немного и себе. А в Индии бедняк на свою религию, видимо, совсем разоряется, разоряется каждый день. Богатый индус может себе позволить подобные расходы: он в результате получает славу и между тем сохраняет немало денег и на свою жизнь на земле; бедняка же индуса можно лишь пожалеть: тратя деньги на свою религию, он остается бедняком, не приобретая никакой славы.
Мы совершили обычную прогулку вверх и вниз по роке, сидя на чреслах под навесом обыкновенной гребной баржи; мы прокатились туда и обратно дважды или трижды и могли бы проехать с неослабевающим интересом и удовольствием еще много раз, ибо, как это нередко бывает в таких случаях, дворцы и храмы казались нам все прекраснее и прекраснее; никогда не надоест глядеть и на купальщиков, на их костюмы, на то, как они простодушно раздеваются и одеваются, не слишком обнажая свои бронзовые тела, как благочестиво складывают руки и читают свои молитвы.
Но купальщики полоскали себе рот ужасающе грязной водой и вдобавок пили ее — такое зрелище должно было утомить меня, — и действительно оно мне надоело, и очень скоро. В одном месте, где мы остановились на минуту, было видно, как в реку, мутя все вокруг, вливается грязная сточная струя, и там же качался на волнах случайный труп, приплывший откуда-то из-за города. Десятью шагами ниже этого места по пояс в воде стояла толпа мужчин, женщин и миловидных молодых девушек — они зачерпывали руками воду и пили ее. Вера, несомненно, способна делать чудеса, и здесь мы видели тому пример. Люди пили эту гадость не затем, чтобы утолить жажду, а чтобы очистить свои души и внутренности. Ведь по их верованиям вода из Ганга мгновенно очищает все, чего она коснется, — и очищает совершенно. Сточные воды не беспокоили их, труп не волновал нисколько: ведь их коснулась священная река, и, значит, они теперь были чисты, как снег, и не могли осквернить никого и ничего. Эта сцена навсегда останется в моей памяти, хотя я очень хотел бы ее позабыть,
Еще несколько слов об отвратительной, но всеочищающей воде Ганга. Когда мы позднее приехали в Агру, то попали сюда как раз вовремя, чтобы оказаться свидетелями чуда — замечательного научного открытия, в результате которого выяснилось, что грязная, осмеянная вода Ганга в некоторых отношениях действительно является самым мощным очистителем в мире! Этот любопытный факт, как я уже сказал, только что добавлен к сокровищнице современной науки. Давно уже замечена странная вещь — в Бенаресе бывают частые вспышки холеры, но дальше города холера не распространяется. Это долго оставалось необъяснимым. Мистер Хенкин, ученый на службе правительства Агры, решил исследовать воду. Он приехал в Бенарес и провел тут свои опыты. Он брал воду в тех местах, где в реку впадают сточные канавы и где рядом с пристанями купаются люди; кубический сантиметр этой воды содержал миллионы бактерий, по через шесть часов все эти бактерии умирали. Хенкив поймал плавающий труп, подтащил его к берегу и взял для своего опыта воду близ этого трупа, — она кишела бактериями холеры, но через шесть часов все бактерии умерли. Он добавлял в эту пробу воды все новых и новых бактерий холеры - и через шесть часов все они неизменно умирали, все до единой. Затем Хенкин много раз брал чистую воду из колодца, лишенную каких-либо микробов, и пускал в нее холерные бактерии; бактерия эти начинали тут же размножаться и через шесть засов они уже кишмя кишели, они были неисчислимы, их были миллионы и миллионы.
Веками индусы свято верили, что вода в Ганге абсолютно чиста, что она не может быть загрязнена буквально ничем и что буквально все при соприкосновении с вея очищается. Индусы верят в это и ныне и поэтому купаются в ней и пьют ее, не обращая внимания на ее кажущуюся загрязненность и на плавающие в ней трупы. По этой причине над индусами издавна смеялись, но сейчас приходится смеяться над ними уже не столь беспечно и бездумно. Как же узнали они секрет воды Ганга еще в седой древности? Неужели у них были ученые-специалисты по бактериям? Нам это неизвестно. Нам известно только то, что у индусов существовала цивилизация еще задолго до того, как мы вышли из состояния дикости. Но возвратимся к тому предмету, о котором я уже рассказывал, — я хочу посвятить несколько слов пристаням, где сжигают покойников.
Индусы не сжигают факиров, этих почитаемых нищих. Факиры столь святы, что они попадают куда нужно и без этого обряда, — их надо только предать священной реке. Мы видели, как однажды мертвого факира вывезли на середину реки и бросили за борт. Факир был запакован между двумя каменными плитами— что-то вроде сандвича.
Мы простояли у пристани, где сжигают мертвых, с полчаса и видели сожжение девяти покойников. Я не хотел бы видеть больше ни одного, разве только если мне позволят самому намечать кандидатов. За носилками с покойником через весь город до самой пристани идут провожающие; затем те, кто тащит носилки, передают их людям низкой касты — домам, а провожающие поворачивают назад и уходят восвояси. Я не слышал рыданий и не видел слез; обряда прощания, собственно, и не было. По всей вероятности, эти выражения скорби и горя на людях считаются неуместными. Женщин приносят сжигать одетыми в красное, а мужчин — в белое. Перед сожжением, пока готовят костер, покойников кладут у самого берега в воду.
Первым сжигали мужчину. Когда домы сняли с него перед омовением покрывало, покойник оказался коренастым, упитанным и красивым стариком, без малейших следов каких-либо болезней или недугов. Принесли сухих дров и соорудили костер; на этот костер был положен покойник, сверху его прикрыли дровами. Затем какой-то голый святой, сидевший на возвышении поодаль, начал что-то весьма энергично говорить и кричать и шумел так довольно долго. Должно быть, это была своего рода панихида. Я забыл сказать, что один из провожающих остался при покойнике, хотя все остальные ушли. Это был сын покойного, мальчик лет десяти — двенадцати, темнокожий, красивый, печальный и сдержанный, в развевающихся белых одеждах. Он должен был сжечь отца. Ему дали в руки факел; и пока он медленно обходил семь раз вокруг костра, голый святой выкрикивал свои заклинания еще энергичнее. Сделав семь кругов, мальчик коснулся горящим факелом головы покойного, а затем его ног; пламя быстро охватило тело, вспыхнувший костер затрещал — и мальчик отошел в сторону. Индусы не хотят иметь дочерей, так как их замужество разоряет семью, но они хотят иметь сыновей, — ведь тогда они могут с почетом покинуть этот мир: нет высшей чести для индуса, чем та, когда твой погребальный костер зажигает сын. Отец, не имеющий сыновей, — это человек печальной судьбы, достойный жалости. Жизнь изменчива, и индус женится еще мальчиком, в надежде, что, когда прядет его день, у него будет уже взрослый сын. А если нет собственного сына, он усыновит приемного. Такой сын во всем заменит настоящего.
Тем временем тело старика уже горело, горели и другие покойники. Это было гнетущее зрелище. Домы не сидели сложа руки, а действовали — длинными шестами они ворошили костры и то и дело подбрасывали дрова. Иногда они приподнимали труп шестом, потом придавливали его и расколачивали, как головешку, чтобы он лучше горел. Точно так же они поднимали и расколачивали черепа. Смотреть на все это было чрезвычайно тяжело, но было бы еще тяжелее, если бы вокруг костра стояли родственники. У меня не было особого желании смотреть на эту церемонию, и я скоро был сыт ею по горло. С точки зрения санитарии, кремацию надо бы ввести всюду, но у индусов она отвратительна, и ее никак нельзя рекомендовать.
Само собой разумеется, что огонь погребальных костров — священный огонь, он покупается за деньги. Обыкновенный огонь запрещен — он не связан с денежными расходами. Мне говорили, что огонь для погребальных костров поставляется одним человеком, он владеет монополией на огонь и берет за него немалую плату. Бывает, что богатые родственники платят ему за огонь тысячу рупий. Так что попасть в рай из Индии — это дело дорогое. Каждый шаг, каждая деталь связаны тут с деньгами и способствуют обогащению жрецов. По-моему, есть все основания заключить, что этот кровосос-торговец — продавец огня — принадлежит к какому-нибудь священному сословию.
Близ площадки, где сжигают покойников, виднеется несколько старых камней, они поставлены в память самосожжения вдов. На каждом камне — грубые резные изображения: мужчина и женщина идут или стоят рука об руку. Эти камни обозначают место, где вдовы принимали смерть на костре в те дни, когда самосожжение цвело пышным цветом. Мистер Паркер утверждает, что вдовы охотно шли бы на самосожжение и теперь, если бы только это разрешало правительство. Все завидуют семьям, которые могут, указывая на эти маленькие памятники, сказать: «Женщина, что сожгла себя здесь, — наша прародительница».
Индусы — странный народ. Всякая жизнь священна в их глазах, кроме человеческой. Даже жизнь насекомого, жизнь паразита священна, и на нее нельзя посягать. Набожный джайн прежде чем куда-нибудь сесть, вытирает это место, чтобы случайно не придавить и не убить каких-либо ничтожных насекомых. Он сокрушается, когда пьет поду, потому что микробы, попав с водой в желудок, могут пострадать там. И Индия же породила тугов и самосожжение вдов. Постигнуть такую страну — нелегкая задача.
Мы посетили храм богини тугов, — ее зовут Бховани, или Кали, или Дурга. Кроме этих имен у нее есть и другие. Это единственное божество в индусском пантеоне, которому приносятся живые жертвы. Обычно ей приносят в жертву коз. Дешевле обошлись бы обезьяны, — вокруг храма их великое множество; будучи священными, они держатся очень свободно и лазают где им вздумается. Резные украшения на храме и его портике очень красивы, но само изображение богини изяществом не отличается. На Бховани неприятно смотреть. У нее лицо из серебра, а язык выкрашен ярко-красной краской. Вокруг шеи у нее ожерелье из черепов.
Вообще ни один из бенаресских идолов не отличается красотой или привлекательностью. А какое их здесь множество! Ведь город—это огромный музей идолов, и все они грубы, безобразны, чудовищны. Они снятся вам по ночам, теснясь в голове ворепицей кошмаров. Когда они надоедают вам в храмах, вы выходите к реке, но гигантские, ярко раскрашенные идолы стеной тянутся вдоль берега и там. И всюду, где только есть свободное место, всюду обязательно торчит лингам. Если бы Вишну предвидел, во что превратится его город, он назвал бы его Идолвилль или Лингамбург.
Самым заметным ориентиром в панораме Бенареса являются два стройных белых минарета; они, словно мачты, возвышаются над большой мечетью Аурангзеба[73]. Куда бы вы ни пошли, эти минареты — воздушные, изящные, радостные — всегда у вас на виду. Сравнение с мачтами, собственно, не совсем к ним подходит, ибо мачты к копну истончаются и суживаются, а у минаретов этого нет. Вышина их 142 фута, а диаметр — всего 81/2 основании и 71/2 у верхушки. Значит, сужение кверху у них совсем незначительное. Все пропорции у них — как у свечи, и свечи эти волшебно стройны и воздушны. Во всяком случае, такими они будут, когда их унаследуют христиане и увенчают их верхушки электрическими огнями. С этих минаретов открывается на город удивительный вид. Мне только мешала большая серая обезьяна. У обезьян, по-видимому, совершенно нет рассудка. Эта обезьяна вертелась на самой вершине мечети, перепрыгивала через такие пространства, через которые, казалось, невозможно было перепрыгнуть, и всякий раз каким-то чудом не срывалась вниз. Я так волновался, что уже не смотрел на город, а только следил за нею. Когда она летела над бездной, у меня замирало сердце, а когда она наконец ухватывалась за перекладину, я невольно тоже хватался за перекладину. При этом обезьяна проявляла полную беззаботность и беспечность, и все волнения доставались на мою долю. Она была десятки раз на волосок от смерти, и я впадал в такое неистовство, что, кажется, застрелил бы ее, если бы мне было чем ее застрелить. Тем не менее посмотреть на город с минаретов я очень советую. Конечно, смотришь больше на обезьяну, чем на пейзаж, и так будет до тех пор, пока жива эта сумасшедшая обезьяна, но все-таки и то, что удается увидеть, — великолепно. Перед вами раскинулся весь Бенарес, река, все окрестности. Захватите с собой ружье — и вволю любуйтесь городом.
Вслед за этим я увидел нечто, внесшее в мою душу некоторое успокоение. Это был новый вид искусства — живопись на воде. Демонстрировал это искусство индиец. Он брал мелкий песок разных цветов и сыпал его на ровную гладь воды в бассейне, и на воде постепенно возникала прелестная, необычайная картинка; разрушить ее можно было одним дуновением. После долив блужданий среди древних, обомшелых храмов, которые стоят на развалинах храмов еще более древних, а те тоже стоят на развалинах храмов, эти живописные образы на воде производили глубокое впечатление. Это была как бы притча, аллегория, это был как бы символ Изменчивости. Ведь в конце концов все эти высеченные из камня храмы и идолы — не более как картинки на воде.
В Бенаресе произошел один из выдающихся эпизодов индийской карьеры Уоррена Гастингса. Где бы только ни ступил этот необыкновенный человек, всюду он оставлял, неизгладимый след. Он явился в Бенарес в 1781 году, чтобы взыскать штраф в пятьсот тысяч фунтов стерлингов, который был им наложен от имени Ост-Индской компании на раджу Бенареса, Чаит Сингха[74]. Гастингс был далеко от родины и не мог рассчитывать в Бенаресе на какую-либо помощь. Нигде поблизости не было, вероятно, и десятка англичан; а раджа сидел в своей собственной крепости, окруженный мириадами своих подданных. Но для Гастингса это ровным счетом ничего не значило. Раскинув свой маленький лагерь в соседнем парке, Гастингс высылает небольшой отряд — арестовать раджу. Он послал на столь опасное дело две сотни солдат-сипаев под командованием трех молодых англичан-лейтенантов. Раджа беспрекословно подчинился приказу. Этот эпизод бросает яркий свет на положение дел в Индии в те годы, он дает нам возможность живо представить себе, как усилились англичане, какое могущество они приобрели в стране после исторической победы Клайва[75]. Четверть столетия назад они были в стране нулем и никто их не боялся, — и вот они уже стали признанными владыками и господами, и их уже страшились все, и все им подчинялись, включая местных князей и властителей. После этого поверишь, что правдивы и волшебные сказки. Англичане не побоялись набрать солдат из местного населения и заставили их сражаться против собственного народа и держать его в повиновении. И, как видите, Гастингс не побоялся явиться в это отдаленное место с горсткой сипаев и послал их арестовать местного владыку.
Лейтенанты захватили раджу в его собственной крепости. По своей отваге и дерзости это было прекрасно. Пленение раджи привело его подданных в ярость, и жители Бенареса стекались к крепости, угрожая местью. Но если бы не одна чистая случайность, вероятно ничего серьезного бы и не произошло. Толпа обнаружила поразительную, почти невероятную вещь: эта горстка солдат, выполняя рискованный приказ, явилась с незаряженными ружьями, без всяких боеприпасов. Впоследствии это приписали легкомыслию, но едва ли так было на самом деле, ибо в подобных чрезвычайных обстоятельствах разумные люди все-таки думают. Очевидно, дело было в презрении к индийцам и чрезмерной уверенности в своих силах, проистекавшей из покорности местного населения, которое мгновенно сдавалось, когда против него выходили хотя бы всего два британца, одетые в боевые доспехи. Но как бы то ни было, открытие, сделанное разъяренной толпой, оказалось роковым. Теперь она осмелела, ворвалась в форт и перебила беспомощных солдат и офицеров. Сам Гастингс благополучно спасся, бежав под покровом ночи и оставив княжество в состоянии буйного мятежа; но через месяц он вернулся и. успокоил всю округу со свойственной ему быстротой и решительностью; потом он отнял у раджи трон и передал его другому. Он был способный человек, этот Уоррен Гастингс. Случай в Бенаресе — единственный, когда Гастингс оказался без боевых припасов. Некоторые деяния Гастингса наложили на его имя несмываемое пятно, но он спас для Англии Индийскую империю, и это было лучшей за все времена услугой для самих индийцев — этих несчастных людей, столетиями страдавших от безжалостного угнетения и обид.
Глава XVII ПИКНИКИ В ТАДЖ-МАХАЛЕ
Истинная неучтивость — это неуважение к чужому богу.
Новый календарь Простофили ВильсонаИменно в Бенаресе я увидел второго живого бога. Значит, всего я видел двух богов. Мне кажется, что я видел значительную часть всех больших и малых чудес мира, но, насколько помню, ничто не вызывало у меня такого захватывающего интереса, как эта пара живых богов.
Когда я пытаюсь понять, почему они меня так заинтересовали, то это, оказывается, не так уж трудно. Я нахожу, что если мы видим какое-то чудо, то оно является для нас чудом не потому, что именно мы видим в нем чудесное, а потому, что в нем видят это другие. Почти всегда мы получаем чудеса, так сказать, из вторых рук. Мы стремимся увидеть все прославленное — и мы никогда не разочаровываемся в нем; мы ценим самую возможность посмотреть на какое-то явление или вещь, которая вызывала восторг, почтение, любовь или восхищение множества людей; мы бесконечно рады, что увидели ее, — в результате мы чувствуем себя обогащенными, и с воспоминаниями о том, что мы ее видели, мы не расстанемся ни за какие деньги. Может быть, именно такое зрелище для нас — Тадж-Махал. Когда перед вами предстает этот парящий в воздухе мраморный пузырь, вы не можете совладать с собой, не можете подавить своего волнения. Но по существу это волнение не ваше, — вам лишь передалось волнение множества пылких авторов, которые исподволь воздействовали на ваш разум и сердце с детства, — теперь же все эти чувства только вырвались наружу и захлестнули вас; и если бы весь этот восторг, все эмоции были подлинно вашими, то и тогда вы не могли бы быть счастливее. Потом, когда вы немного успокоитесь и придете в себя, вам станет понятно, что вы опьянели от вина, которое пил кто-то другой. Однако воспоминание о том, как я впервые издали увидел Тадж-Махал, — редкая удача, выпавшая на мою долю, — вознаградит меня за все труды и хлопоты, связанные со странствованием вокруг света.
Но Тадж-Махал — при всех раздутых обманчивых чувствах, которые вы восприняли, так сказать, из вторых рук, от других людей, которые переняли эти чувства тоже из вторых рук, — обстоятельство, о котором вы, к счастью, не думали, иначе оно могло бы пошатнуть вашу уверенность в самостоятельности наших суждений, — разве же Тадж-Махал такое уж чудо и невероятное, немыслимое диво, если сравнить его с живым, говорящим существом, которое несколько миллионов человек благоговейно, искренне и безоговорочно считают богом и которому с радостным смирением поклоняются как богу!
Ему было шестьдесят лет, когда я его увидел. Его имя — Шри 108 Свами Бхаскарананда Сарасвати. Это одна из форм его имени. Мне кажется, что эта форма предназначена для обращения к тому при разговоре, ибо она короткая. Но если вы будете ему писать, надо употребить форму более распространенную, — этого требует вежливость. Но даже и тогда вам не придется пользоваться полной формой и вы можете ограничиться хотя бы такой:
Шри 108 Матпарамахансапариваджакахарьясвамибхаскаранандасарасвати.
Вы не должны добавлять в конце слово «эсквайр», в этом нет необходимости. Слово «Шри», открывающее эту тираду, само по себе обозначает почетный титул. Цифра 108 указывает, по-моему, на количество опущенных имен. Вишну имеет 108 имен, которыми он практически не пользуется; и, без сомнения, иметь 108 имен про запас стало у богов священной привилегией. Даже то урезанное имя, которое я воспроизвел выше, даже и оно представляет собой довольно внушительное имущество, не говоря уже об опущенных 108. По моим подсчетам, в нем 57 букв. С ним не могут тягаться даже длинные немецкие слова — они не выдержат никакого сравнения.
Шри 108 С. Б. Сарасвати достиг того, что у индусов называется «состоянием совершенства». Это то самое состояние, которого другие индусы достигают, рождаясь вновь и вновь, с каждым разом перевоплощаясь из одного существа в другое, — утомительнейшее дело, требующее столетий и десятков столетий, да и рискованное, ибо можно, например, случайно скончаться не на той стороне Ганга и перевоплотиться в осла, после чего надо начинать все сначала, совершая те же превращения. Но Шри 108 G. Б. С. на пути к своему совершенству избежал всего этого начисто. Он уже не принадлежит к этому миру, его сущность изменилась, утратив все земное; он совершенно свят, совершенно чист, и омрачить или запятнать его святость и чистоту не способно ничто на свете; он по существу живет уже не здесь, земные дела ему чужды, земные заботы и печаля не могут его тревожить. Когда он умрет, ему обеспечена Нирвана, он сольется с субстанцией Верховного Божества и приобщится к вечному покою.
Индусские священные книги указывают, каким путем можно достичь такого состояния, но получается это, может быть, раз в тысячу лет. Если кандидат в боги прошел весь курс этап за этапом, с начала до конца, то теперь ему ничего не осталось, как ждать призыва, который освободит его от нашего бренного мира, где у него нет уже никаких интересов. Сначала он прошел этап обучения и стал знатоком священных книг. Потом он был гражданином, кормильцем семьи, мужем и отцом. Этого требовал второй этап. Затем, подобно христианскому паломнику Джона Беньяна, он, как положено, попрощался с семьей и отправился странствовать. Он ушел далеко в пустыню и жил там, сколько следовало, отшельником. Потом «в соответствии с обычаями, указанными в писании», он стал нищим и бродил по стране, выпрашивая себе на пропитание. Таким путем четверть века назад Шри 108 С.Б.С. достиг стадии чистоты. На этой стадии не нужны никакие одежды, ее символ — нагота, и он сбросил набедренную повязку, которую до того носил. Ныне он вправе надеть ее вновь, если захочет, ибо любое соприкосновение с любым предметом теперь уже не может его осквернить, однако надевать повязку он не желает.
Мне кажется, что есть и другие стадии искуса, но я не могу их припомнить. Шри 108 С.Б.С. прошел их все до единой. В течение многих лет он совершенствовался в религиозных познаниях, писал комментарии к священным книгам. Он постоянно размышлял о Брахме, как размышляет о нем и поныне.
Его портреты в виде белых мраморных барельефов продают по всей Индии, Он живет и Бенаресе и хорошем доме, окруженном огромным садом; все там устроено соответственно его головокружительному рангу. Разумеется, он не ходит по улицам. Божества никогда не станут запросто ходить по улицам. Если кто-нибудь из тех, кого мы почитаем за бога, вознамерится выйти однажды на улицу и день этот будет заранее известен, то в городе остановится движение и вся деловая жизнь сразу замрет.
Наш бог живет с удобствами, но скромно, принимая во внимание его ранг, ведь если бы он пожелал жить во дворце, то по одному его слову верующие охотно построили бы ему дворец. Иногда он принимает верующих, хотя и не надолго, утешает и благословляет их, а те целуют ему йоги и уходят счастливые. Звания и ранги для него ничего не значат, так как он бог. Все люди для него равны. Он принимает только того, кого ему заблагорассудится принять. Бывает, что он принимает князя и отказывает бедняку, а иной раз принимает бедняка и отсылает прочь князя. Но принимает он, в общем, редко. Он должен беречь время для размышлений. Мне кажется, что он принял бы достопочтенного мистера Паркера в любое время. Я полагаю, что он жалеет мистера Паркера, а мистер Паркер жалеет его, и, без сомнения, такая обоюдная жалость обоим им приносит пользу.
Приехав к нему в дом, мы должны были подождать немного в саду. Обстановка была не из приятных, так как в тот день он не принимал махараджей, а принимал только нищих и сирых, — мы же не принадлежали ни к махараджам, ни к нищим. Но вот появился слуга и сказал, что все в порядке, сейчас он к нам выйдет.
И действительно, он вышел, и я увидел того, кому поклоняются миллионы. Какой-то трепет, какое-то странное чувство овладело мною. Хотелось бы мне, чтоб этот трепет еще хоть раз в жизни пробежал по моим жилам! А ведь этот бог был для меня вовсе не богом, он был для меня лишь своего рода Тадж-Махалом. И охвативший меня трепет был, по сути дела, не моим трепетом, а трепетом незримых миллионов верующих, — это был трепет, так сказать, из вторых рук. Обмениваясь рукопожатием с их богом, я принимал на себя весь чудовищный электрический заряд, концентрировавший всю силу их веры и поклонения.
Он высок и тонок, вид у него изнуренный. У него очень умное лицо с резкими чертами и глубокие, ласковые глаза. Выглядел он намного старше, чем был на самом дело, но это могло быть следствием долгих лет учения, дум, постов, молитв и суровой жизни отшельника и нищего. Местных жителей он принимал совершенно голым, невзирая на то, к какому рангу они принадлежали; но сейчас на бедрах у него была белая повязка: вне всякого сомнения, уступка европейским предрассудкам мистера Паркера.
Как только я немного пришел в себя, у нас началась премилая беседа: божество, на мой взгляд, оказалось очень приятным и дружелюбным. Он много слышал о Чикаго и проявил огромный — для бога — интерес к этому городу. Все это, конечно, результат Всемирной выставки и Конгресса религий, состоявшихся в Чикаго. Если Индия и не знает об Америке ничего другого, то уж это-то она знает и некоторое время будет помнить.
Он предложил обменяться автографами. Этот тонкий знак внимания так растрогал меня, что я почти перестал сомневаться в его святости, хотя раньше у меня были кое-какие сомнения. Он расписался в собственной книге, и я до сих пор отношусь к ней с почтением, хотя слова там идут справа налево и прочитать я их не могу. Как все-таки опрометчиво со стороны индийцев печатать справа налево, а не наоборот[76]. Книга представляет собой объемистый комментарий к индусскому священному писанию, и если бы я мог в ней хоть что-нибудь разобрать, я постарался бы извлечь для себя пользу в целях самоусовершенствования. Я преподнес ему «Гекльберри Финна». Мне думалось, что, читая мою книгу, он, возможно, отдохнет от своих размышлений о Брахме, — ведь он выглядел таким усталым; кроме того, я знал, что если моя книга и не принесет ему пользы, то не принесет и вреда.
У бога есть ученик, размышляющий под его руководством, — Мина Бахадур Рана, — но мы его не видели. Он носит одежду и еще очень далек от совершенства. Он написал о своем учителе брошюру; эта брошюра у меня есть. В ней помещена гравюра, изображающая учителя и его самого, сидящих на коврике в саду. Портрет учителя очень удачен. Поза у него в точности такая, какую принимает сам Брахма, — для этого требуются длинные руки и гибкие ноги, а сидеть в такой позе могут только боги и резиновые манекены. В саду, где мы беседовали, стоит мраморная статуя Шри 108 С.Б.С. в натуральную величину. Там он изображен в той же позе.
Как все-таки странен и удивителен этот мир! В особенности его индийское отделение. Ведь этот ученик, Мина Бахадур Рана, не рядовой индиец, а человек выдающихся способностей, и перед ним, вероятно, открывалась блестящая мирская карьера. Двадцать лет назад он находился на службе правительства Непала, занимая высокую должность при дворе вице-короля Индии. Он блистал талантами, глубоко мыслил, был образован, богат. Но ему захотелось посвятить себя религии, и он отказался от своего высокого поста, отверг все мирские блага и утехи и удалился в хижину, чтобы жить отшельником, изучать священные, книги, размышлять о добродетели и святости и стремиться достичь их. Религиозность такого характера напоминает нашу. Христос советовал богатым раздать свои богатства и служить ему, живя в нищете, а не в изобилии. Американские и английские миллионеры поступают так каждый день и этим подтверждают всему миру, какая огромная сила заложена в религии. Однако многие смеются над их преданностью своему духовному долгу, так же как смеялись бы над Миной Бахадуром Раной, называя его чудаком. Подобно многим христианам сильной воли и большого ума, он посвятил свою жизнь изучению священных книг и писанию комментариев к ним. Как и они, он был убежден, что эти его занятия не пустая и глупая трата времени, а самое нужное и благородное дело. Однако найдется немало людей, которые будут считать тех людьми, достойными уважения и преклонения, а его не более как глупцом. Но я не окажусь в их числе. Я почитаю его. И я говорю это слово не в общепринятом и банальном смысле, — нет, я хочу придать ему необычное, более глубокое значение. Почтение в обыкновенном, обиходном понятии, как его определяют толковые словари, мало чего стоит. Почтенно к тому, что для тебя свято — к родителям, вере, флагу, закону, уважение к собственным убеждениям, это такое чувство, которое говорит в нас независимо от нашей воли. Оно заложено в нас природой, оно непроизвольно, как дыхание. В том, что человек дышит, нет никакой его заслуги. Но если человек без всякого принуждения извне уважает и чтит политические и религиозные взгляды другого, даже если они совсем не совпадают с его собственными, то это уже другое дело. Вы не можете почитать на самом деле его богов или его политические взгляды, и никто от вас этого не требует, но если вы как следует постараетесь, вы отнесетесь с уважением к его вере в них, а вместе с этим и к нему самому, — если как следует постараетесь. Но это очень, очень трудно; это почти недостижимо, и потому мы почти никогда не стараемся. Если чьи-то взгляды и убеждения не походят на наши, мы говорим: «Он чудак!» — и на том дело кончается. То есть так дело кончается в наши дни, потому что сжечь этого чудака мы теперь уже не можем.
Мы постоянно лицемерим по поводу отсутствия у людей чувства «почтения», постоянно обвиняем в этом грехе то одного, то другого, думая про себя, что сами-то мы куда лучше и уж в этом-то неповинны. Все это с нашей стороны не что иное, как ложь и лицемерие; нет среди нас человека, который был бы по-настоящему почтителен настолько, чтобы это можно было счесть за его собственную заслугу, — в глубине души все мы весьма непочтительны. Исключения из этого правила, возможно, не сыскать на всей земле. Возможно, что нет человека, чья почтительность и уважение поднимались бы выше тех понятий, которые святы и дороги его собственному сердцу, а это значит, что нам тут нечем хвастать или гордиться, — ведь то же самое встречается и у самых отсталых дикарей; и, подобно лучшим из нас, дикари тоже не поднимались выше почитания только дорогих их сердцу понятий и представлений. Короче говоря, мы презираем все проявления почтения и его объекты, если они выходят за пределы наших собственных представлений о святом и великом. Но, по странной непоследовательности, мы чувствуем себя оскорбленными, когда другие люди презирают и отвергают нечто священное для нас. Вообразите себе, что мы наткнулись бы на такое сообщение в газете:
«Группа английских аристократов устроила вчера пикник на Маунт-Вернон, они выпивали и закусывали, пели модные песенки, играли и танцевали вальсы и польки на могиле Вашингтона».
Разве это не оскорбило бы наших чувств? Разве мы бы не возмущались? Разве не были бы изумлены? Разве не назвали бы этот пикник кощунством? Конечно, все это имело бы место. Мы отозвались бы об этих людях в самых сильных выражениях, мы обругали бы их как хотели.
А представим себе, что нам попалось бы на глаза такое сообщение в газете:
«Группа американских свиных королей устроила вчера пикник в Вестминстерском аббатстве. В этом священном место они выпивали и закусывали, поли модные песенки, играли и танцевали вальсы и польки».
Разве не были бы шокированы англичане? Разве они бы не возмущались? Разве не были бы изумлены? Разве не назвали бы этот пикник кощунством? Все это, несомненно, имело бы место. Свиные короли были бы награждены крепкими эпитетами, их обругали бы как хотели.
В могиле на Мауит-Вернон покоится прах самого чтимого из сынов Америки; в Вестминстерском аббатстве похоронены величайшие люди Англии; гробница гробниц, самая дорогостоящая из всех, чудо мира — Тадж-Махал — была построена великим властителем в память совершенной жены и совершенной матери, имя которой было безупречно, любовь которой служила ему опорой, жизнь которой была его единственным светом. В этой гробнице покоится ее прах, и для миллионов мусульман Индии Тадж-Махал является святыней. Эта гробница для них — то же самое, что Маунт-Вернон для американцев, что Вестминстерское аббатство для англичан.
Майор Слимен лет сорок или пятьдесят назад писал (курсив мой. — М. Т.):
«Я хотел бы здесь выразить мой смиренный протест против тех кадрилей и пикников, которые порой устраиваются для европейских дам и господ в пределах этой царской гробницы; выпивка и танцы, без сомнения, хороши в свое время, но они прискорбно неуместны под сенью гробницы».
Были ли среди участников пикника американцы? Если только их приглашали, то они, конечно, были.
Если бы мои вымышленные пикники в Вестминстерском аббатстве и на могиле Вашингтона действительно имели место, это вызвало бы поток возмущенных речей насчет Варварства и Непочтительности; но к этому хору присоединились бы и те люди, которые буквально на следующий день могли бы танцевать в Тадж-Махале, если бы им только представился для этого случай.
Когда мы распрощались с бенаресским богом и покидали его сад, мы увидели в воротах группу индийцев, смиренно дожидавшихся приема, — тут был какой-то раджа и несколько человек более скромного звания. Бог знаком разрешил им приблизиться, и, проходя, мы заметили, как раджа опустился на колени и почтительно целовал священные ноги бога.
Вот если бы Барнум... но честолюбивые проделки Барнума уже в прошлом[77]. Этот бог будет сидеть в благостной тишине своего сада никем не тревожим. Правда, Барнум не заполучил бы его ни за что. Но он нашел бы какую-то подмену, какую-то копию, которая вполне бы отвечала цели.
Глава XVIII ОХТЕРЛОНИ, А ТАКЖЕ ЧЕРНАЯ ЯМА
Головную боль не следует недооценивать. Когда она разыграется, ощущение такое, что на ней ничего не заработаешь; но зато, когда она начнет проходить, неизрасходованный остаток вполне стоит 4 доллара в минуту.
Новый календарь Простофили ВильсонаСемнадцать с половиной часов мы ехали по железной дороге со всеми удобствами, и вот мы в Калькутте, столице Индии и Бенгалии. Как и в Бомбее, здесь около миллиона местных жителей и кучка белых. Город большой, красивый; его называют городом дворцов. Он богат историческими воспоминаниями, в нем множество свидетельств британских достижений — военных, политических, коммерческих, и множество свидетельств чудес двух могущественных волшебников — я имею в виду Клайва и Гастингса. И еще там стоит поднимающийся к облакам памятник некоему Охтерлони[78].
Его высота 250 футов, и он напоминает нарезной подсвечник. Кажется, этот лингам — единственный большой монумент в Калькутте. Он изрядно украшает город и заставляет помнить Охтерлони.
Где бы вы ни были — в Калькутте и на целые мили вокруг, — вы его увидите, а увидев, обязательно подумаете об Охтерлони. И потом вам приходится круглые сутки думать об Охтерлони и пытаться угадать, кто он был такой. Хорошо, что Клайв уже не вернется на этот свет, — он обязательно решил бы, что эта штука сооружена в честь Плесси; и какое разочарование постигло бы его гордую душу, когда он убедился бы, что это вовсе не так. Клайв узнал бы, что памятник стоит в честь Охтерлони, и подумал бы, что Охтерлони — это битва. Да, великая это была битва, подумал бы он: «С тремя тысячами я опрокинул шестьдесят тысяч солдат, основал империю — и мне не поставили памятника; этот полководец, наверное, с десятком солдат разгромил целый миллиард и спас вселенную».
Но Клайв ошибся бы. Охтерлони — это не битва, а человек. Он хорошо и с честью служил — так же хорошо, как служили в Индии еще семьдесят пять или сто англичан — храбрых, честных и высокоодаренных деятелей. Индия была очень благодарной почвой для таких людей, она остается такой даже сейчас — для людей, великих во время войны и в мирное время и столь же скромных, сколь и великих. Но им не поставили памятников, да они этого и не ждали. Охтерлони тоже, наверное, не ждал, да и не хотел, чтобы ему поставили памятник, — во всяком случае, до тех пор пока нет памятников Клайву и Гастингсу. Каждый день Клайв и Гастингс смотрят с небесного парапета вниз, желая угадать, кому из них двоих воздвигнут этот памятник; они терзаются и мучаются, так как разглядеть ничего нельзя; поэтому небеса не приносят им покоя. Но Охтерлони другое дело. Охтерлони спокоен. Он не подозревает, что это ему воздвигли памятник. Он наслаждается на небесах миром и счастьем. Во всем этом есть что-то несправедливое.
Что и говорить, если бы в Индии всем ставили памятники за особые отличия, за честное выполнение долга и беспорочную службу, ее пейзаж стал бы слишком однообразен.
Горстка англичан в Индии управляет миллионами индийцев с видимой легкостью[79], без заметных трений — благодаря своей тактичности, опытности и необыкновенному административному искусству, соединенному со справедливым и свободным законодательством; а также благодаря тому, что англичане всегда держат слово, данное индийцу.
Англия находится далеко от Индии и не знает, как блестяще оправляются там со своими обязанностями ее слуги; ведь славу создают журналисты, а их посылают не в Индию, а только в Европу: сообщать о жизни разных мелких князьков и герцогов — куда кто поехал, кто на ком женился. Зачастую британский чиновник проживет в Индии тридцать-сорок лет, поднимаясь по служебной лестнице с помощью таких дел, которые прославили бы его где угодно; наконец он становится правой рукой вице-короля, управляет огромной областью и миллионами подданных; и вот он возвращается домой в Англию, а там его никто не знает и никто о нем ничего и не слышал; он селится где-то в глуши и исчезает... Лет через десять в лондонских газетах появляется некролог в двадцать строк и ошеломляет читателя невероятным послужным списком человека, о котором он раньше, кажется, и не слыхал. А вот зато о европейских князьках и герцогах он был осведомлен в мельчайших подробностях.
Невероятно, до чего доходит невежество среднего человека, когда речь идет о странах, лежащих далеко от его родины. При упоминании о них в его мозгу всплывут один-два факта, да еще, может быть, несколько имен осветят там, как фонарики, несколько дюймов, а прочее оставят во тьме. Упоминание о Египте вызовет в памяти что-нибудь из библии да пирамиды — и больше ничего. Упомянут о Южной Африке — Кимберли, алмазы — и точка. Раньше слово «Америка» вызывало у индийца в памяти имя — Джордж Вашингтон, и на этом его сведения о нашей стране исчерпывались. За последнее время его осведомленность возросли вдвое, так что когда теперь упоминают Америку, то в темных пещерах его сознания появляются уже два факела, и он говорит: «А, в этой стране великий человек — Вашингтон, и святой город — Чикаго». Он слышал о Конгрессе религий, и отсюда у него осталось ошибочное представление о Чикаго.
Когда гражданина какой-нибудь отдаленной страны спрашивают об Индии, он вспоминает Клайва, Гастингса, восстание сипаев, Киплинга и еще несколько известных фактов; упоминание о Калькутте непременно заставит его вспомнить Черную Яму[80]. И если этот гражданин оказывается в столице Индии, он прежде всего идет поглядеть на Черную Яму Калькутты — и разочаровывается.
Черная Яма не сохранилась; ее уже давно нет. Это странно. Сама по себе она уже памятник, готовый памятник. Это был памятник завершенный, оконченный, созданный из материалов крепких и долговечных, его не надо было бы подновлять, ремонтировать — нужно было просто его не трогать. Это был первый кирпич, краеугольный камень, на котором воздвигнута была могущественная империя — Индийская империя Великобритании. Чудовищный эпизод с Черной Ямой возмутил англичан и заставил Клайва, этого молодого армейского вундеркинда, примчаться туда из Мадраса. Это было семенем, из которого проросло потом Плесси; а ведь именно это необычайное сражение, подобного которому не было со времени Азинкура, заложило крепкие и глубокие основания могущества англичан в Индии.
И однако еще при жизни наших современников Черная Яма была беззаботно сломана и снесена, как будто ее кирпичи были простой глиной, а не слитками золота истории. Поступки людей поистине непостижимы.
На том месте, где, как полагают, была Черная Яма, сейчас установлена надпись, выгравированная на доске. Я ее видел; это все же лучше, чем ничего. Черная Яма — это была тюрьма, правильнее сказать — клетка в восемнадцать квадратных футов, размер обычной спальни; и туда победоносный наваб Бенгалии втиснул сто сорок шесть пленных англичан. Им не хватало моста стоять и не хватало воздуха для дыхания; была знойная ночь. До рассвета все пленные, кроме двадцати трех, погибли. Подробный рассказ мистера Холуэлла об этом ужасном событии появился сто лет назад, но сейчас редко можно встретить в печати хотя бы выдержки из него. В нем среди прочих потрясающих подробностей есть следующая: мистер Холуэлл, погибая от жажды, спас себя тем, что стал высасывать из своих рукавов пропитавший их пот. Из этого можно составить себе ясное представление, в каком положении были эти люди. Он заметил, что, пока он высасывал спасительную влагу из одного рукава, какой-то молодой англичанин припал к другому рукаву. Холуэлл не был эгоистом, он отличался всегда самыми благородными побуждениями; при его жизни и после смерти все признавали за ним эти драгоценные редкие качества. Но когда он заметил, что происходило с его вторым рукавом, он поспешил высосать его досуха сам. Ужасы Черной Ямы изменили даже его натуру. Впрочем, юноша оказался в числе двадцати трех, которые выжили, и он признавался, что украденный пот спас ему жизнь. Я дам краткую выдержку из повествования мистера Холуэлла:
«Затем все стали молить небо, чтобы огонь справа и слева скорей подошел к нам и положил конец нашим страданиям. Но так как молитвы наши не были услышаны, те из нас, чьи духовные и телесные силы совершенно истощились, падали на своих товарищей и тихо умирали; другие, у которых еще оставалось сколько-нибудь силы и энергия, сделали последнюю попытку добраться до окон. Некоторые сумели туда взобраться, вскарабкавшись по спинам и головам тех, кто стоял ближе К окнам; они схватились за решетки, от которых невозможно было их оторвать. Многие справа и слева оказались под ногами и скоро задохнулись; от живых и от мертвых поднимались испарения, и это действовало на нас почти совершенно так, как если бы нам насильно прижимали голову к чашке с крепким нашатырным спиртом, пока мы не теряли сознания. Испарении людей смешивались; часто, когда тяжесть, давившая мне на голову и плечи, заставляла меня опускать голову, мне приходилось сразу же поднимать ее, хотя я был рядом с окном, ибо я опасался задохнуться. Вы не сможете отказать мне в сочувствии, дорогой друг, если я расскажу вам, что в таком положении мне пришлось выдерживать тяжесть грузного мужчины, стоявшего коленями на моей спине и всем телом давившего на мою голову, и хирурга-голландца, расположившегося на моем левом плече. Кроме того, какой-то топаз (чернокожий христианин-солдат) налег на мое правое плечо; это продолжалось от половины двенадцатого примерно до двух часов ночи, при этом я выдерживал только благодаря тесноте н напору окружавших меня тел. Я часто отталкивал голландца и солдата, давая им под ребра и перехватывая решетки, на которые я держался; но того, что был сверху, оторвать было невозможно, он намертво вцепился в две перекладины решетки.
Я снова призвал себе на помощь всю свою силу и мужество, но в конце концов меня совершенно истощили повторные попытки сбросить с себя невыносимую тяжесть, и к двум часам, увидев, что я должен или отойти от окна, или упасть на том месте, где я стоял, я решил сделать первое, и, в сущности, ради других я вынес, стремясь сохранить жизнь, гораздо больше, чем стоит самая лучшая жизнь на свете. Среди тех, кто стоял позади меня, был офицер с одного корабля, по имени Кери; во время осады он вел себя очень мужественно (его жена, женщина превосходная, хотя и родившаяся в сельской местности, не оставила его и последовала за ним в тюрьму; она осталась в живых). Этот несчастный долго кричал, прося воды и воздуха; я сказал ему, что не хочу больше цепляться за жизнь, и предложил ему занять мое место у окна. Когда я отодвинулся, он сделал тщетную попытку занять мое место, но его опередил голландец-хирург, который сидел у меня на левом плече. Несчастный Кери поблагодарил меня и сказал, что он тоже хочет проститься с жизнью, но нам стоило величайшего труда отодвинуться от окна (во внутренней части помещения некоторые, по-видимому, умерли стоя и не могли упасть из-за того, что их со всех сторон подпирали люди). Он лег и умер; мне кажется, смерть его была мгновенной, потому что он был низенький полнокровный толстяк. Он был очень силен, и, я думаю, если бы он не стал двигаться вместе со мной, я никогда не пробил бы себе дороги. В то время я не чувствовал никакой боли и очень мало тревожился; я не могу лучше дать вам понять свое положение, чем повторив свое сравнение насчет чашки нашатырного спирта. Я почувствовал, что быстро впадаю в оцепенение, и опустился на пол рядом с умершим преподобным мистером Джервасом Беллами, милейшим стариком, который лежал рука об руку со стоим сыном, лейтенантом, тоже мертвым, возле южной стены тюрьмы. Когда я пролежал там некоторое время, у меня еще оставалось довольно сознания, чтобы с тревогой подумать, что, когда я умру, меня будут так же топтать, как я сам топтал других. Я с трудом поднялся и занял прежнее положение, но сразу же потерял всякое ощущение происходящего; последнее, что я помню после того, как лег, это что меня давит мой ремень; я его расстегнул и отбросил. О том, что происходило потом, до времени моего воскресения после этой ямы ужасов, я уже не могу вам рассказать».
В Калькутте есть масса интересного, но времени у меня было слишком мало, чтобы все осмотреть. Я видел укрепления, построенные Клайвом, и место, где произошла дуэль между Уорреном Гастингсом и автором «Писем Юниуса»; и большой ботанический сад; и фешенебельные гуляния на Майдане[81]; и общий смотр гарнизона утром на большой равнине; и военные состязания, в которых крупные части местных войск показывали свое искусство в обращении со всеми видами оружия, — эффектное и прекрасное зрелище, которое заняло несколько вечеров и закончилось инсценировкой штурма местной крепости, — штурм был совсем как настоящий, но всех подробностях, а по своей безопасности и удобству наблюдения даже лучше настоящего; благодаря любезности наших друзей мы предприняли приятную поездку на «Хугли», а остальное время посвятили светским приемам и Индийскому музею. В музее, этом зачарованном дворце индийских древностей, можно было бы провести месяц. Да что месяц — среди этих прекрасных и удивительных вещей можно было провести и год, и каждый день узнавать что-либо новое.
Была зима. Мы были как Киплинговы «толпы туристов, которые разъезжают по Индии в холодную погоду и всех учат, что надо делать». Здесь часто употребляют это выражение — «холодная погода» и думают, здесь такое есть на самом деле. Это потому, что люди провели здесь половину жизни и их восприятие притупилось. Когда человек привык к ста тридцати восьми градусам в тени, его представления о холодной погоде ничего не стоят. Я читал в истории, что англичане во время восстания сделали в июне переход от Лакхнау до Канпура как раз при такой температуре — сто тридцать восемь градусов в тени; но я думал, что это просто историческое преувеличение. Потом я снова прочел это, кажется в отчете майора Форбс-Митчелла о его участии в кампании по время восстания; и в Калькутте я его спросил, правда ли это. Он сказал, что да. Другой весьма высокопоставленный офицер, который побывал в самой гуще этого мятежа, подтвердил то же самое. Пока они говорили о том, что они сами знают, им можно было верить, и я верил; но когда они сказали, что сегодня «холодная погода», то я увидел, что здесь они вышли из сферы своей компетенции и блуждают в потемках. Вероятно, в Индии «холодная погода» — просто условное выражение: ведь нужно же как-нибудь отличать жару, расплавляющую бронзовые дверные ручки, от жары, которая их только размягчает. Я заметил, что, когда я был в Калькутте, у дверей были именно бронзовые ручки, а для фарфоровых было еще не время: фарфоровыми, мне сказали, их заменят только в мае. Но для нас эта холодная погода была слишком жаркой, так что мы отправились в Дарджилинг, в Гималаи, — дорога туда занимает двадцать четыре часа,
Глава XIX ГДЕ ЖЕ ПРЕДЕЛ НИЗОСТИ ЯЗЫЧНИКА?
Есть восемьсот шестьдесят девять разных видов лжи,
но из них только один решительно запрещен:
«Не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна».
Новый календарь Простофили ВильсонаИз дневника.
14 февраля. — Двинулись в путь в 4. 30 пополудни. Дотемна ехали среди пышных деревьев, потом сели в лодку и переправились через Ганг.
15 февраля. — Поднялись на заре. Утро ослепительное и свежее. Надеваем две пары фланелевого белья. Равнина совершенно гладкая и как будто убегает далеко-далеко, до самого края света, а там тускнеет в расплывается. Какой высокой, упругой, стремительной фонтанной струей нежной зелени выглядит растущий пучками бамбук! Всюду, насколько хватает глаз, красуются эти огромные растительные гейзеры; вдалеке их струи превращаются в тонкий пар. В других местах — поля бананов; солнечные лучи играют на блестящей поверхности их склонившихся широких листьев. Нередко попадаются пальмовые рощи; иногда встречаются отдельные пальмы, придающие пейзажу своеобразие, — высокие, словно башни, с гладкими стволами, с разреженными, словно разорванными кронами: что-то похожее на сделанный самой природой зонтик, который выглянул на улицу посмотреть, что представляет собой циклон, и старается не казаться разочарованным. И всюду в туманных утренних далях маячат перед нами деревни — бесчисленные деревни, мириады деревень — с соломенными крышами, выстроенные на свежего камыша, прижавшиеся к пальмовым рощам и бамбуковым зарослям; деревни, деревни, бесконечные деревни, на расстоянии не больше трехсот ярдов друг от друга; десятки и десятки их все время на виду; это громадный город, протянувшийся на сотни миль в длину и в ширину, состоящий из всех этих деревень, самый большой город на земле, по населению равный целому европейскому государству. Никогда раньше не видал я такого города. Все новые и новые толпы голых людей, все более многочисленные, видны по обе стороны дороги и впереди. Мы мчимся мимо них милю за милей, но они по-прежнему остаются по обеим сторонам дороги и виднеются впереди — загорелые обнаженные мужчины и мальчики пашут поля. Но ни одной женщины. За эти два часа я не видел на полях ни одной женщины или девочки.
С холодных гор гренландских, С индийских берегов, От жарких африканских Расплавленных песков, Из древних поселений Они зовут прийти — От давних заблуждений Их родину спасти.[82]Прекрасные стихи! Они остались в моей памяти на всю жизнь. Но если их последние строчки справедливы, то позвольте нам надеяться, что когда мы ответим на зов и освободим страну от ее заблуждений, мы скроем от нее некоторые стороны нашей высокой цивилизации и позаимствуем кое-что из ее языческих привычек, чтобы обогатить этим нашу высокую систему. Мы имеем право так сделать. Если мы поднимаем этих людей, то почему бы нам с их помощью не поднять и себя на девять или десять ступенек? Несколько лет тому назад я провел недели три в области Тельц, в Баварии. Это католическая область, и даже Бенарес не может похвастаться такой глубокой, всепроникающей и разумной религиозностью, как Тельц. В моем дневнике тех дней я нашел следующее:
«Вчера мы долго разъезжали по прелестным деревенским дорогам. Но удовольствие от этой прогулки было отравлено двумя обстоятельствами: страшными местными святынями, и постыдным зрелищем седых, почтенных старушек, надрывавшихся на полях. Святыни часто попадались нам на дорогах — изваяния Спасителя на кресте; из его ран от гвоздей и шипов текла кровь.
Зачем миссионеры едут отсюда в нехристианские страны, неужели и здесь недостаточно языческих идолов? Я видел много женщин, семидесятилетних и даже восьмидесятилетних, которые жали и вязали снопы на полях и метали снопы вилами на телеги».
Позднее я был в Австрии и в Мюнхене. В Мюнхене я видел седых старух, возивших тележки на большое расстояние в гору и под гору, — тележки, груженные бочонками с пивом, — невероятная тяжесть. А в своем австрийском дневнике я нашел вот что:
«На полях мне часто случается видеть, что женщина вместе с коровой запряжена в плуг, а мужчина идет за плугом».
«Сегодня на городской улице в Мариенбаде я видел старую, сгорбленную, седовласую женщину, запряженную вместе с собакой; она тащила по голой пыльной дороге и по голым тротуарам нагруженные салазки; а за ними налегке шагал погонщик, покуривая трубку, — здоровый детина, не старше тридцати лет».
Пять или шесть лет тому назад я купил открытую лодку, устроил над ее кормой парусиновый навес от солнца и дождя, нанял лоцмана и лодочника и на двенадцать дней отправился в речное путешествие вниз по Роне от озера Бурже до Марселя. В дневнике этой поездки я нашел следующую запись — я тогда проехал уже далеко по Роне:
«Проплываем Сент-Этьен; 2.15 после полудня. Далеко от берега, на гребне холма, господствует над местностью высокая решетчатая ограда со статуей святой девы. Благочестивая страна. На всем протяжении реки, как только попадется скала — обязательно на ней статуя богородицы. Честное слово, я видел их но меньше сотни. Все же во многих отношениях крестьяне здесь, кажется, просто язычники, лишенные сколько-нибудь высокой степени цивилизации.
...К четырем часам мы приплыли к какой-то не очень привлекательной деревушке; я решил задержаться там на день. Жевать фрукты и дымить трубкой под парусиновым навесом мне надоело, а свернуть его я не мог, потому что дождь не прекращался ни на минуту. На берегу была таверна, как обычно. В ней было скучно и тоскливо — только и гляди в окно на пронизывающий дождь и дрожи да дрожи, потому что погода была унылая, холодная, ветреная, а настоящих печей во французской деревне нет. Зимнее пальто не очень-то помогало мне; пришлось призвать на помощь пледы. Капли дождя были такие крупные и с такой силой били по реке, что разбрызгивали воду, как будто в нее кидали камешками.
Кроме одного случайно вышедшего крестьянина в деревянных башмаках, ни один человек не выглядывал на улицу в такую мрачную погоду, — я имею в виду: ни один человек нашего пола. Но для женщин этих европейских стран погода безразлична. Для них, как и для других животных, жизнь — не шутка, ничто не может прервать их рабский труд. Три женщины стирали в реке под окном, когда я приехал, и продолжали стирать, пока было достаточно светло. Одной было, кажется, лет тридцать; другой — матери! — около пятидесяти; третья — бабушка! — была так стара, истощена, седа, что могла сойти за восьмидесятилетнюю; я, во всяком случае, так и подумал. Конечно, у них не было ни плащей, ни калош; на плечи они накинули мешки из рогожи — простые стоки для текущих с неба рек; часть воды скатывалась на землю, а остальное впитывалось по пути.
Наконец, дымя трубкой, под большим зонтом, подъехал дюжий мужчина лет тридцати пяти, ничуть не промокший и удобно расположившийся в тележке, запряженной ослом, — муж одной, сын другой и внук третьей из этих женщин! Он привстал в тележке, прикрывая себя зонтом, и стал распоряжаться хозяйским тоном, раздражаясь, когда ему подчинялись недостаточно быстро. Не жалуясь, не ворча, насквозь промокшие женщины терпеливо выполняли приказания, поднимая огромные корзины сырого отжатого белья в тележку и укладывая их там, как приказывал мужчина, У них было шесть больших корзин, и мужчина средней силы не смог бы поднять из них ни одной. Тележка наполнилась, француз спустился, все еще прикрытый своим зонтом, вошел в таверну, а женщины, усталые, потащились домой вслед за тележкой и вскоре скрылись из виду в потоках дождя.
Когда я сошел в таверну, француз пил вино и ел что-то из тарелки на столе, не покрытом скатертью, черном от грязи, хрупая зубами, как лошадь. У него была с собой религиозная газетка, которую на берегах Роны читают все; он просвещался рассказами о французских святых, которые в средние века обыкновенно удалялись в пустыню, чтобы избежать осквернения женщиной. В течение двухсот лет Франция посылала миссионеров в другие дикие страны. Уделять крохи для помощи нуждающимся, когда сам находишься в таком бедственном положении, — пример прекрасного и истинного благородства».
Но вернемся к Индии, — как говорит мой любимый поэт,
Там красота повсюду, Лишь человек урод.Это потому, что и Бавария, и Австрия, и Франция не успели еще принести ему своей цивилизации. Но Бавария, и Австрия, и Франция уже в пути. Они скоро придут. Они спасут его; они очистят его от уродства.
Немного спустя, тем же утром, приблизившись к горам, мы пересели с обычного поезда на поезд, составленный ни крытых парусиной вагончиков, которые скользили на высоте фута от земли, со скоростью, — как нам показалось, — миль пятьдесят в час, в то время как на самом деле скорость равнялась примерно двадцати милям. В каждом вагончике могло усесться шесть человек; когда занавески поднимались, мы сидели, в сущности, на открытом воздухе, могли все видеть, наслаждаться ветерком, и чувствовать себя в высшей степени удобно. Без всякого преувеличения, это была приятная поездка.
Вскоре мы остановились у деревянного курятника — станции, на самом краю непроницаемой завесы мрачных джунглей, в темном и густом лесу из огромных деревьев и густого кустарника, увитых лианами. Здесь хозяйничает королевский бенгальский тигр, он очень смел и решителен. С этой одинокой маленькой станции однажды пришла телеграмма в Калькутту управляющему железной дорогой: «Тигр ест начальника станции у главного входа; телеграфируйте инструкции».
Здесь я впервые охотился на тигров. Я убил тринадцать. Теперь нам надо было уезжать, и поезд начал карабкаться в гору. В одном месте семь диких слонов пересекли дорогу, но два из них убежали, прежде чем я успел их настичь. Железнодорожный путь в гору — длиной в сорок миль, а поездка занимает восемь часов. Но там так дико, так интересно, всюду такое очарование, что хотелось бы, чтобы она длилась неделю. Что касается растительности — это музей. В джунглях есть, кажется, образцы всех редких и любопытных деревьев и кустарников, о которых мы когда-нибудь слышали и которые где-либо видели. Надо думать, именно этот музей снабдил мир всеми ценными деревьями, лозами и кустами.
Дорога беспрерывно извивается, и каждый поворот прелестен. Она сворачивается и разворачивается под высокими утесами, покрытыми лианами и листвой, и по краям бездонных пропастей; и все время мы скользим мимо групп живописных индийцев, — некоторые из них несут в гору грузы, другие спускаются после работы на чайных плантациях; а один раз нам встретилась свадебная процессия, вся сверкающая мишурой и яркими красками. Невеста, миловидная, еще совсем дитя, выглядывала из-за занавесок паланкина, выставляя на показ всему миру свое лицо с тем чистым наслаждением, какое молодость и счастье находят в грехе ради самого греха.
Понемногу мы добрались до самых туч, и с этой овеваемой свежим ветром высоты стали смотреть далеко вниз, на чудную картину: равнины Индии, протянувшиеся до горизонта, — ласковые, прекрасные, гладкие, как доска, мерцающие маревом жары, испещренные тенями облаков и изрезанные сверкающими реками. Прямо под нами и дальше, далеко-далеко внизу, до самой долины, толпились безлесные вершины холмов, а по ним и вокруг них желтыми лентами змеились дороги и тропки, и каждый их изгиб и поворот был ясно виден.
На высоте 6000 футов мы въехали в плотное облако, и оно закрыло от нас мир, так что мы ничего не могли видеть. Мы взобрались еще на 1000 футов, потом начали спускаться и так достигли Дарджилинга, — он лежит на 6000 футов выше равнины.
Поднимаясь вверх, мы миновали не одну горную деревню и видели незнакомые местные племена, в том числе много воинственных гурков. Это люди не высокие ростом, но сильные и решительные. В британских туземных войсках нет солдат лучше них. Мы видели группы их женщин, одолевавших пешком все сорок миль крутой дороги от равнины до их жилищ в горах; на спинах у них были высокие корзины, прикрепленные с помощью лепты, обвязанной вокруг лба; каждая корзина была нагружена... — я не скажу сколькими сотнями фунтов, все равно вы не поверите. Это были молодые женщины, и под такой чудовищной ношей они шагали бодро, как на воскресной прогулке. Мне оказали, что женщина может на спине донести сюда в гору пианино, и это не раз случалось. Если бы это были пожилые женщины, я стал бы считать, что гурки не более цивилизованны, чем европейцы.
На железнодорожной станции в Дарджилинге вы можете найти множество подобий кеба — нечто вроде открытых гробов, и которые вы садитесь, и мужчины несут вас на плечах по крутым дорогам в город.
Там, наверху, мы обнаружили довольно комфортабельный отель; его хозяин, человек не щепетильный и беспечный, сам ни о чем не заботится, а предоставляет все делать целой армии слуг-индийцев; впрочем, нет, надо отдать ему справедливость: он заглядывает в счет, — и путешественнику лучше всего следовать его примеру. Одни постоялец мне сказал, что вершина горы Кинчинджунга часто закрыта облаками, так что как-то раз путешественник ждал двадцать два дня, и все-таки ему пришлось уехать, так и не увидев ее. И однако у него не было оснований разочаровываться, потому что, когда он получил счет, он обнаружил, что смотрит сейчас на самую высокую вещь в Гималаях. Но, возможно, все это совсем не так.
После лекции, я пошел вечером в клуб; там было очень уютно. Клуб расположен высоко, и оттуда открываются далеко раскинувшиеся ландшафты; оттуда можно видеть место, примерно в тридцати милях, где смыкаются границы трех стран: это Тибет, затем Непал, а третья, по-моему, Герцеговина. По-видимому, в каждом городе и городке Индии для джентльменов британской военной и гражданской службы имеется клуб; иногда он великолепен, но всегда приятен и уютен. Гостиницы не всегда так хороши, как могли бы быть, и приезжий, который имеет доступ в клуб, всегда признателен за эту привилегию и умеет ее ценить.
На другой день было воскресенье. Еще до рассвета пришли друзья с лошадьми, и все отправились далеко к тому месту, откуда лучше всего видны Кинчинджунга и Эверест, но я, здраво поразмыслив, остался дома, потому что было холодно, да и с этими лошадьми я знаком не был. Я взял трубку и несколько одеял и два часа сидел у окна, глядя, как солнце разгоняет туманную мглу и касается бледно-розовыми брызгами и тонкими золотыми мазками всех снежных пиков одного за другим и в конце концов заливает все могучее скопление снежных гор потоком своих богатых даров.
Пик Кинчинджунги был виден только время от времени, но зато, когда я видел его, он резко вырисовывался на фоне неба — далеко вверху, на голубом своде, больше 28 000 футов над уровнем моря, — на 12 000 футов с лишним выше самой высокой горы, которую я когда-либо видел. Он был в 45 милях отсюда. Эверест на 1000 футов выше, но его не было в море гор, громоздившихся передо мной, так что я не видел его; и я не огорчился, потому что подумал, что на горы такой высоты смотреть уже неприятно.
Я перешел в переднюю часть здания и провел там остаток утра, наблюдая, как толпы странных смуглых людей спускаются из своих далеких жилищ в Гималаях. Люди были всех возрастав, мужчины и женщины, таких я никогда не встречал, хотя по костюму тибетцы очень похожи на китайцев. Я часто видел у них молитвенное колесо. Увидев его, я почувствовал себя к ним ближе, они показались мне родными. Благодаря нашим духовным отцам мы тоже молимся как бы через доверенное лицо. Правда, мы не крутим его на палке, как тибетцы, но это мелочь. Странное, непривычное зрелище представляла собой эта весьма оживленная толпа, долгие часы сновавшая туда и обратно. Жаль, что на нее здесь никто не любуется. Хорошо было бы послать ее в города Европы и Америки — порадовать глаз, уставший от бесцветного однообразия цирковых представлений. Эти люди отправлялись на базар с различными товарами. Позднее мы спустились туда, увидели этот новый конгресс дикарей, потолкались среди виз и пришли к выводу, чти стояло приехать сюда из Калькутты, чтобы посмотреть на этих людей, даже если бы не было Кинчинджунги и Эвереста,
Глава XX ВЫСШЕЕ НАСЛАЖДЕНИЕ
Два раза в жизни человек не должен задумываться:
когда у него есть на это время и когда у него нет на это времени.
Новый календарь Простофили ВильсонаВ понедельник и вторник, на заре, нам еще раз удалось почти без помех увидеть величественные горы; затем, освежившись и порядком подкрепившись, мы приготовились вновь помериться силами с жарой лежащего под нами мира.
На обычном поезде мы поднялись на вершину горы, преодолев расстояние в пять миль, а затем пересели в маленькую дрезину с брезентовым верхом, в которой нам предстояло преодолеть тридцатипятимильный спуск. В дрезине размером с сани размещалось шесть человек, и была она такой низкой, что казалось, будто сидишь прямо на земле. На ней не имелось ни мотора, ни какого-либо другого двигателя, по, для того чтобы лететь вниз по этим крутым склонам, техника была вовсе не нужна; чтобы сдерживать стремительный полет, требовался только мощный тормоз, а он там был. Нам рассказывали историю о несчастном путешествии, совершенном однажды губернатором Бенгалии на такой же маленькой дрезине, когда дрезина эта соскочила с рельсов и все пассажиры полетели в пропасть. Ничего такого в действительности не произошло, по для меня эта история имела ценность, ибо заставила поволноваться, а волнение возбуждает человека, бодрит и подстегивает его, увеличивает остроту восприятия чего-то нового и рискованного. Дрезина действительно могла сойти с рельсов; камешек, случайно попавший или нарочно положенный на рельсы на крутом повороте — там, где на него очень легко было наскочить, не заметив, — мог послужить причиной крушения и сбросить дрезину вниз, в Индию; и если губернатору удалось спастись, то это отнюдь не гарантия того, что и мне так же повезет. И вот, пока я стоял там, глядя вниз на Индийскую империю с высоты в семь тысяч футов, она казалась мне неприятно далекой, угрожающе далекой, и мне совсем не хотелось полететь туда, вывалившись из дрезины.
Но, по правде говоря, для меня опасности почти не было. Больше всего ей подвергался инспектор индийской полиции мистер Пью, в сопровождении и под защитой которого мы прибыли из Калькутты. Он много лет прослужил артиллерийским офицером, обладал более крепкими нервами, чем я, и поэтому должен был ехать впереди нас, в головной дрезине, вместе с каким-то турком и еще одним местным жителем; было условлено, что, если его дрезина свалится в пропасть, мы должны пустить и ход наш тормоз и послать за новым водителем. План был отличный. Кроме того, нашу дрезину должен был лично вести старший машинист горного участка дороги, мистер Барнард, а он уже не раз совершал подобные поездки.
Опасности как будто не было никакой. Оставалась лишь одна спорная деталь: очередной поезд должен был выйти вслед за нами, как только мы двинемся в путь, и он мог, конечно, задавить нас. Я, признаюсь, думал, что именно так и случится.
Впереди дорога круто падала вниз, штопором вонзаясь в скалы и пропасти, — вниз, вниз, все ниже и ниже, вызывая пренеприятнейшее ощущение винтообразного скольжения с гор, которому не видно конца. Мистер Пью взмахнул флажком и помчался вниз как стрела, и, прежде чем я успел вылезти из дрезины, мы тронулись вслед за ним. До этой минуты мне пришлось лишь однажды ощутить нечто подобное: точно так же у меня перехватило дыхание, когда я впервые полетел вниз с горы на салазках. Но и обоих случаях ощущение было приятным — чрезвычайно приятным; я испытал внезапный и безмерный восторг, смесь смертельного ужаса и невыразимой радости. Вероятно, именно такое сочетание и составляет высшую степень наслаждения человека.
Стремительное движение дрезины водителя напоминало полет ласточки: так быстро, плавно и грациозно скользила она по длинным прямым отрезкам, то опускаясь, то поднимаясь, огибая излучины и скрываясь за углами. Мы летели вслед за ней, проносясь мимо скал и утесов, казалось, со скоростью света; время от времени мы почти догоняли ее, нам казалось, что вот-вот мы ее настигнем, но она лишь дразнила нас: когда мы приближались, тормоз выключался, и, скользнув за угол, она исчезала из виду, с тем чтобы через несколько секунд снова появиться в виде едва заметной точки далеко впереди. Такую же игру вели и мы с поездом. Мы часто вылезали из нашей дрезины, чтобы собрать цветов или посидеть на краю пропасти и полюбоваться окружающим пейзажем. Вскоре до нас доносилось пыхтенье и нарастающий гул, потом нас обволакивали темные кольца дыма, но мы не спешили садиться в дрезину. Мы трогались только тогда, когда паровоз был совсем рядом, и вскоре оставляли его далеко позади. Поезд должен был останавливаться на каждой станции, поэтому он не внушал нам никаких опасений. Тормоз у нас был добротный, он мог остановить дрезину на склоне, крутом, как крыша дома.
Окружавшая нас природа была величественной, разнообразной и прекрасной, спешить было некуда, и мы часто останавливались, чтобы все как следует рассмотреть. Времени было предостаточно. Мы ничуть не мешали продвижению поезда: если нужно было освободить ему дорогу, мы переходили на запасный путь и пропускала его, а затем снова догоняли и обгоняли. Мы остановились посмотреть скалу Гладстона — громадный утес, из которого время, дожди и ветры сделали очень похожий скульптурный портрет почтенного государственного деятеля[83]. Мистер Гладстон — акционер этой дороги, и прозорливая природа десять тысяч лет назад начала создавать его портрет, рассчитывая закончить этот дар благодарности к нужному часу.
Мы видели индийскую смоковницу — дерево, которое спускало на землю с высоты в шестьдесят футов опоры для своих ветвей. То есть я думаю, что это была смоковница: кора ее весьма напоминала кору огромной смоковницы в Калькуттском ботаническом саду, как паук расставившей свои древесные лапы. Часто нам попадались совершенно безлистные деревья, и на их многочисленных сучьях и ветвях, казалось, тучами сидели алые бабочки. На самом же деле это были ярко-красные цветы, но иллюзия была полной. Позднее, в Южной Африке, мне довелось увидеть еще один потрясающий эффект, производимый красными цветами. Эти цветы назывались, кажется, горицвет, — во всяком случае, такое название им бы очень подошло. Из грациозного стебля высотой в несколько футов вырывался язык пламени — ярко-красный цветок, размером и формой напоминающий маленький кукурузный початок. Цветы эти на расстоянии в три-четыре фута друг от друга покрывали весь склон холма протяженностью в милю, — так выглядела бы парижская площадь Согласия, будь там, вместо белых и желтых, мириады красных огней,
Промчавшись несколько миль вниз с горы, мы остановились на полчаса, чтобы посмотреть тибетский драматический спектакль. Представление происходило прямо на открытом воздухе, на склоне холма. Спектакль смотрели тибетцы, гурки и другие столь же необычные для нас зрители. Костюмы актеров были в высшей степени диковинными, а игра их — вполне под стать костюмам. Актеры появлялись на сцене один за другим под аккомпанемент каких-то варварских звуков и начинали с необыкновенным проворством, энергией и страстностью кружиться на месте и петь; вскоре вся труппа вертелась вихрем и пела, поднимая вокруг тучи пыли. Они играли древнюю и знаменитую историческую пьесу, и по мере развития действия какой-то китаец передавал мне смысл событий на смешанном англо-китайском жаргоне. Пьеса была достаточно непонятной и до этого перевода, а после него я окончательно перестал что-либо понимать. Как драматическое произведение этот памятник древнего искусства, мне кажется, никуда не годился, но как дикое и варварское зрелище он был просто бесподобен.
Далее по пути мы остановились взглянуть на замечательный образец дорожной техники — спираль, где дорога извивается с такой крутизной, что, когда поезд вошел в петлю, мы находились над ним и видели, как паровоз скрылся под мостом, с тем чтобы через несколько секунд появиться вновь, ловя свой собственный хвост; затем мы увидели, что он догнал свои задние вагоны, перегнал их и пытался даже состязаться с ними в беге, словно змея, пытающаяся проглотить самое себя,
Проехав половину пути, мы остановились на часок перекусить в доме мистера Барнарда, и когда мы сидели на веранде, глядя сквозь лесную прогалину на раскрывающуюся перед нами панораму далеких холмов, нам чуть не удалось увидеть, как леопард убивает теленка[84]. Дикая и прекрасная страна. Из леса доносилось пение птиц; среди них были и голоса двух птиц, которых мне раньше видеть не приходилось: верескуна и медника. Песня дьявола-верескуна начинается с низких тонов, но они неуклонно повышаются, и мелодия представляет собой витиеватую руладу, которая с каждой новой трелью становится все более и более резкой, все более и более пронзительной, все более и более мучительной, все более и более безумной, невыносимой, нестерпимой, но мере того как она все глубже, и глубже, и глубже проникает в мозг слушателя, пока наконец не наступает спасительное затмение сознания, и человек умирает. Я везу несколько таких птиц с собой домой, в Америку. Там они будут пока редкостной диковинкой, но, я думаю, в нашем благотворном климате скоро начнут размножаться, как кролики.
Голос медника на определенном расстоянии напоминает скрежет санных полозьев по камню; на другом расстоянии скрежет приобретает более металлический оттенок, и вам кажется, будто птица чинит медный чайник; на третьем — голос ее теряет свой металлический оттенок и напоминает резкий звук извлекаемой деревянной затычки. Поэтому для этой птицы трудно придумать одно название: ее можно назвать и камнетесом, и медником, и пробочником. Но даже все эти прозвища не характеризуют ее полностью, ибо, когда она рядом с нами, голос ее приобретает мягкий, глубокий, мелодичный оттенок, и тут уж вы не можете придумать ни одного подходящего названия. Другие оттенки ее голоса вы переносите сравнительно легко, но когда эта птица располагается рядом, размеренное и монотонное повторение одной и той же поты начинает вам надоедать, потом оно вас утомляет, затем начинает раздражать, — и очень скоро каждый звук уже причиняет вам острую головную боль; если птица продолжает петь, от боли и отчаяния вы начинаете сходить с ума и вскоре окончательно теряете рассудок. Несколько таких птиц я тоже везу в Америку. До сих пор там не встречалось ничего похожего. Они вызовут сенсацию и, говорят, в нашем климате превзойдут все ожидания в смысле плодовитости.
Я везу также нескольких соловьев и хвостатых сов. Я раздобыл их в Италии. Песня соловья — самая смертоносная из всех известных в орнитологии. Этот дьявольский визг способен убивать на расстоянии тридцати ярдов. Голос хвостатой совы безгранично мягок и сладок — мягок и сладок, как журчанье флейты, но просверлить он может, кажется, даже котельное железо — до того он беспредельно пронзителен. Его тягучая нота проникает в ваш мозг триплетами, в одном неизменном ключе: хоо-о-о, хоо-о-о, хоо-о-о. Потом пятнадцатисекундная пауза, потом снова триплет и так далее — всю ночь напролет. Сначала звук этот чарует, потом перестает чаровать, затем он раздражает, затем угнетает, потом начинает терзать; вскоре слушатель в агонии, а через два часа он окончательно лишается рассудка.
Итак, мы снова уселись в дрезину и снова полетели вниз; мы то летели, то останавливались, пока наконец не очутились вновь на равнине, откуда обычным поездом отправились в Калькутту. Это был самый чудесный день в моей жизни. Нет на свете более волнующего, более щекочущего нервы, безграничного наслаждения, чем спуск на дрезине с Гималайских гор. Приходится жалеть лишь о том, что это удивительное, восхитительное, чарующее путешествие длится не пятьсот миль, а всего тридцать пять.
Глава XXI СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА ТИГРА СО ЗМЕЕЙ
Она была не то чтобы очень благородная, но и совсем неблагородной ее тоже не назовешь; в общем, она была из тех, что держат попугаев.
Новый календарь Простофили ВильсонаНасколько я могу судить, человек и природа сделали все, что было в их силах, дабы превратить Индию в самую удивительную страну из всех, какие посещает солнце на своем пути. Ничего, казалось, не было забыто, ничто не было упущено. Но стоит вам упомянуть, кажется, все ее многочисленные достоинства и исчерпать все подходящие для нее названия, как то: Страна Тугов, Страна Чумы, Страна Голода, Страна Великих Иллюзий, Страна Необозримых Гор и так далее, как откуда ни возьмись новое достоинство — и требуется новое название. Я не упомянул, например, о том, что Индия — непревзойденный край по количеству хищных и диких зверей. Вероятно, проще всего будет отказаться от всех этих названий и обобщить их в одно всеобъемлющее — Страна Чудес.
Уже много лет британское правительство в Индии старается уничтожить хищных зверей; оно истратило на это огромные деньги. Ежегодные официальные отчеты свидетельствуют о том, что затея эта весьма трудная.
Ежегодные отчеты раскрывают также любопытное постоянство подведенных итогов; такое постоянство можно встретить в ежегодной статистике самоубийств во всех столицах мира и в процентах смертности от различных заболеваний. Почти всегда можно довольно точно предсказать, сколько самоубийств произойдет в Париже, Лондоне и Нью-Йорке в будущем году, а также сколько человек умрет от рака, туберкулеза и бешенства, сколько человек выпадет из окна, сколько попадет под колеса и так далее, если вам известна статистика подобных случаев за текущий год. Точно таким же образом, располагая статистикой за один год, можно почти безошибочно отгадать, сколько человек в Индии погибло от когтей тигров в прошлом году и в позапрошлом, и в позапозапрошлом, и сколько человек за те же годы задрали медведи, загрызли волки, и сколько погибло от укусов змей; можно даже довольно точно вычислить, сколько человек будет ежегодно погибать по тем же причинам в ближайшие пять лет. Так же нетрудно предугадать, какое количество этих врагов рода человеческого будет ежегодно истребляться властями за те же пять лет.
Предо мной лежат статистические данные за шесть лет подряд. Из них я заключил, что тигр убивает ежегодно более 800 человек и что власти в ответ на это истребляют примерно вдвое больше тигров. В течение четырех из шести обозреваемых лет тигр убивал по 800 с лишним человек; в течение пятого года он убил только 700, а в течение последнего года ему удалось выравнять счет, прикончив 917 человек. Тигр всегда заботится о том, чтобы не снизить средний показатель. Каждый, кто побьется об заклад, утверждая, что в Индии тигр убьет 2400 человек в течение любого трехлетия, может быть спокоен за свои деньги; тот же, кто будет спорить, что тигр убьет 2600 человек, наверняка проиграет.
Ежегодный итог убитых тигром людей в Индии отличается столь же удивительным постоянством, какое свойственно статистике самоубийств. Деятельность властей также отличается удивительным постоянством: их итог всегда примерно вдвое больше итога тигра. За шесть лет тигр убил 5000 человек; за этот же период было истреблено 10 000 тигров.
Волк губит примерно столько же людей, сколько тигр, — 700 в год (тигр —800 с лишним), но за тот же период удается убить более 5000 волков.
Леопард убивает в среднем 230 человек за год, но за то же время теряет 3300 представителей своего племени.
В лапах медведя гибнет 100 человек в год — ценою гибели 1250 медведей.
Как видно из цифр, наиболее успешную борьбу с человеком ведет тигр. Но это ничто но сравнению с успехами слона. Царь зверей, повелитель джунглей теряет 4-х представителей своего племени в год и мстит за это смертью 45 людей.
Что же касается домашнего скота, то в нем повелитель джунглей не заинтересован: он убивает за шесть лет всего 100 голов — лошадей охотников, по-видимому, — а тигр за те же шесть лет убивает более 84000, леопард - 100000, медведь — 4000, волк — 70000, гиена — более 13 000, прочие дикие звери — 27 000, змеи—19000, что в сумме составляет более 300 000, — то есть в среднем 50 000 голов в год,
В ответ на все это правительство истребляет за шесть лет 3 201 232 зверей и змей. Десять за одного!
Следует отметить, что змеи не очень интересуются домашним скотом; они убивают всего 3000 с лишним голов в год. Змеи гораздо охотнее убивают людей. Индия кишит ядовитыми змеями. Перечень их возглавляет кобра — самая ядовитая змея на свете, укус которой смертелен, — по сравнению с ним укус гремучей змеи всего лишь детская шутка.
В Индии ежегодная смертность от укуса змеи столь же постоянна, столь же регулярна и столь же легко может быть предусмотрена, как количество убитых тигром и число самоубийств. Любой, кто будет держать пари, что в Индии в течение трех лет подряд змеи губят 49500 человек, наверняка выиграет; а тот, кто будет утверждать, что в течение трех лет подряд змеи убивают 53500 человек, проиграет пари. В Индии змеи умерщвляют 17000 человек в год; они почти всегда придерживаются этой цифры и очень редко превышают ее. Статистика страхового общества могла бы сопоставить листы по переписи населения в Индии с данными о смертности от укуса змеи и сказать с точностью до шести пенсов, во сколько обойдется страховка человека от смерти, причиненной змеиным ядом. Если бы я получал по доллару за каждого человека, погибшего в Индии, я бы предпочел это любому другому доходу, поскольку это единственный на свете надежный доход.
Неплохо бы получать пошлину за каждую убитую властями змею, и сейчас в Лондоне я попытаюсь добиться этого; но когда я получу на нее право, она не будет таким же регулярным доходом, как был бы тот первый. Я уже подал соответствующее заявление. Змеи выполняют свои обязанности более регулярно и методично, чем правительство свои, потому что у змей больший опыт и лучшее понимание дела. Можете быть уверены, что правительство никогда не истребит меньше чем 110 000 змей в год и что оно никогда не достигнет 300 000, — слишком уж велика разница между этими цифрами; это хороший источник дохода для спекулянта, играющего на понижение биржевых ценностей, и для спекулянта, играющего на повышение биржевых ценностей, которые покупают и продают направо и налево и тому подобное, но не так подходит для капиталовложения, как тот, другой источник дохода. Человек, который хочет нажиться на убитых правительством змеях, должен действовать осторожно. Я бы ни в коем случае не посоветовал покупать урожай одного года — я имею в виду какой-либо предстоящий год, — ибо разница в цифрах может оказаться весьма значительной. Если же он закупит шесть будущих урожаев сразу, с поставкой всех 1500 000 убитых змей, — это совсем другое дело. Я не знаю, сколько сейчас стоят змеи, но мне ясно, сколько они будут стоить в этом случае, ибо статистика доказывает, что продавец не мог бы рассчитать точнее, чем в пределах 427 000 при выполнении своего контракта. Одним словом, я считаю, что человек, который спекулирует на змеях, в любом случае дурак. Он потом обязательно об этом пожалеет.
И последние цифры. В течение шести лет дикие звери убивают 20 000 человек, а змеи —103 000. За эти же шесть лет правительство истребляет 1073546 змей. И их еще очень много.
В Индии часто находишься на волосок от смерти. В джунглях, где я убил шестнадцать тигров и много слонов, меня ужалила кобра, но я не умер, и это вызвало всеобщее удивление. Такой случай может произойти не чаще одного раза в десять лет. Обычно смерть наступает через пятнадцать минут.
Из Калькутты мы направились не то на запад, не то на северо-запад зигзагообразным маршрутом через всю Индию, который должен был в конце концов привести нас на крайний северо-запад, у границы с Афганистаном. Первая половина пути лежала через район, представлявший собой огромный, бесконечный сад: на протяжении многих миль все было покрыто прекрасными цветами, из сока которых приготовляют опиум, а в Музаффарпуре мы очутились в самой гуще огромных плантаций индиго. Оттуда по железнодорожной ветке мы добрались до Ганга, вблизи Динапура, причем поездом, который доставил бы нас к месту назначения неделей позже, если бы не заботливость нескольких ехавших вместе с нами английских офицеров, которые знали, что такое поезд, управляемый только индийцами, без присмотра белых. Этот поезд останавливался в каждой деревне, по причинам, отнюдь не вызванным деловой необходимостью. Никто не высаживался, никто не садился. Вылезал только служебный персонал поезда, чтобы с четверть часа поболтать с друзьями, затем мы трогались, — и все повторялось сначала в каждой следующей деревне. Нам предстояло преодолеть расстояние в тридцать пять миль за шесть часов, но вскоре стало ясно, что этого сделать не удастся. И вот тогда английские офицеры заявили, что сейчас они превратят нашу черепаху в экспресс. Они дали машинисту рупию и велели ему лететь. Средство оказалось весьма верным. После этого мы мчались со скоростью девяносто миль в час. Мы пересекли Ганг на заре, сошли на нашей станции и направились в Бенарес, где провели двадцать четыре часа и снова осмотрели этот удивительный и обворожительный людской муравейник благочестивых паломников. Затем мы поехали в Лакхнау — город, пожалуй, самый яркий из множества разбросанных по свету памятников силы духа и доблести, присущих британской расе. Шара стояла невыносимая, на плоских равнинах сгорела вся трава, а рассохшаяся под солнцем земля превратилась в пыль, которая тучами носилась в воздухе. Но в дни восстания 1857 года, когда в Лакхнау прибыли вспомогательные полки, зной был еще более палящим, В то время температура достигала 138° в тени.
Глава XXII СТРАШНЫЕ ДНИ ВОССТАНИЯ
Задайтесь целью ежедневно делать то, что вам совсем не по душе. Это золотое правило поможет вам выполнять свой долг без отвращения.
Новый календарь Простофили ВильсонаТеперь уже общепринято считать, что в числе многих причин, вызвавших Великое восстание, основной является аннексия королевства Ауд Ост-Индской компанией — акт, который сэр Генри Лоуренс называет «величайшей из всех совершенных на земле несправедливостей»[85]. Весной 1857 года мятежный дух охватил многие местные гарнизоны, и дух этот рос и ширился изо дня в день. Молодые офицеры сразу почуяли в этом нечто серьезное и с охотой принялись бы за дело ревностно и энергично, чтобы убить мятежный дух в самом зародыше, но они не имели права действовать самостоятельно. Высшие должности в армии были заняты стариками — людьми, которым давно пора было уйти в отставку по причине их весьма преклонного возраста, — а они не придавали никакого значения начавшимся волнениям. Они были уверены в туземных солдатах и не допускали даже мысли о том, что есть причины, способные побудить этих солдат к восстанию. Безмятежно прислушивались упрямые ветераны к гулу подземных вулканов прямо у них под ногами, утверждая, что все это ровно ничего не значит.
Таким образом, руководители восстания могли действовать совершенно беспрепятственно. Они свободно разъезжали по лагерям, рассказывая туземным солдатам о том, как англичане угнетают их родных и близких, и вселяя в их сердца жажду мести. Свои рассказы они подкрепляли двумя довольно убедительными и грозными доводами: в дни Клайва туземные части представляли собой беспорядочный, плохо вооруженный сброд и, конечно, не могли противостоять даже небольшой горстке хорошо вооруженных солдат. Теперь дело обстояло совсем иначе. Почти вся английская армия в Индия была сформирована из туземных частей; их обучали и готовили английские офицеры, они были вооружены английским оружием, сила была в их руках — это была дубинка, сделанная англичанами для собственного избиения. Англичане ничего не могли им противопоставить, кроме разве нескольких жалких английских батальонов, разбросанных по всей Индии, а о такой силе, естественно, не стоило даже говорить. Этот довод сам по себе, возможно, и не подействовал бы, ибо даже самые храбрые индийские воины испытывали панический страх перед белым солдатом, независимо от того, слаб он или силен, но агитаторам удалось подкрепить этот аргумент другим, более веским: они вспомнили о пророчестве, высказанном еще сто лет назад. Пророчество всегда находит путь к сердцу индийца: доказательство может его не убедить, но пророчество убедит всегда. Это пророчество гласило, что через сто лет после битвы, с помощью которой Клайв основал Британскую Индийскую империю, индийцы сбросят власть англичан и положат конец их господству.[86]
Восстание вспыхнуло в Миратхе (Мируте) 10 мая 1857 года, вызвав целый ряд выступлений огромного исторического значения. В июне Нана Сахиб перебил весь гарнизон, сдавшийся в плен в Канпуре, а затем началась длительная осада Лакхнау.[87] Воинские подвиги Англии имеют славную историю, но мне кажется, что подавление восстания 1857 года вписало в эту историю самую незабываемую главу. Восстание началось ночью, англичане были застигнуты врасплох. Их насчитывалось всего несколько тысяч, в то время как врагов был безбрежный океан. Потребовались бы долгие месяцы, чтобы известить Англию и получить помощь, но офицеры не пали духом и, не теряя времени на размышления, с истинно английской решительностью и энергией принялись выполнять свой долг и упорно не отступали ни на шаг, то защищаясь, то наступая, ведя самые неравные бои, какие только можно встретить в романах или в действительности, и под конец одержали блестящую победу.
Восстание вспыхнуло так внезапно и разрасталось с такой быстротой, что обитателям жалких окраинных гарнизонов не удавалось спастись бегством. Они, конечно, пытались это сделать, но даже те немногие, кому удалось спастись, прошли через страдания, равносильные смерти, ибо жара в те дни достигала ста двадцати — ста тридцати восьми градусов в тени, путь лежал мимо враждебно настроенных деревень, и раздобыть там хлеб и воду было невозможно. Для женщин и детей, привыкших к спокойствию, комфорту и достатку, такое путешествие явилось, наверное, тяжким испытанием. Сэр Дж. О. Тревельян приводит следующий пример[88]:
«Вот что выпало на долю миссис М., жены военного врача гарнизона, стоявшего на южных границах охваченного мятежом района. «Я услышала, — рассказывает она, — несколько выстрелов и, выглянув из окна, увидела, что от дома, где находилась офицерская столовая, мчится коляска, и в ней, яростно размахивая хлыстом, — мой муж. Я побежала к нему, на бегу выхватила ребенка на рук няньки и прыгнула в коляску. Около столовой собрались все офицеры и шестьдесят оставшихся верными сипаев. Одним большим отрядом мы тронулись в путь мимо охваченных огнем домов, еще недавно служивших нам кровом и приютом. На следующее утро мы добрались до караван-сарая в Чаттапуре, а оттуда двинулись на Каллинджер. И тут наша охрана, состоявшая из сипаев, бросила нас на произвол судьбы. Нас обстреляли из мушкетов, и один офицер был убит. Вскоре мы услышали, что в Каллинджере тоже вспыхнуло восстание, и пошли назад, проделан на этот день десять миль. Муж и я поочередно несли ребенка. Потом от солнечного удара умерла миссис Смолли. Еды у нас не было. Какой-то офицер сжалился и дал нам свою лошадь. Мы совсем ослабели. Похоронили майора, потом старшего сержанта и нескольких женщин. Музыканты покинули нас 19 июня. Нас снова обстреляли из мушкетов, и мы свернули в сторону на Аллахабад. Отряд наш состоял теперь из девяти офицеров, двух детей, сержанта и его жены. Утром 20-го капитан Скотт посадил Лотти на свою лошадь: я ехала в седле позади мужа, и девочке было очень тесно между нами. Первого числа ей исполнилось всего два года. Мы обе очень ослабели от жары и голода. Головы у нас были не покрыты. На муже была шапка сипая,— я нашла ее на дороге. Вскоре после восхода солнца за нами погналась толпа крестьян, вооруженных дубинами и копьями. Одно копье вонзилось в ногу лошади капитана Скотта; лошадь понесла, увозя на себе Лотти, и моему бедному мужу так и не довелось вновь увидеть своего ребенка. Мы проехали еще несколько миль, стараясь держаться подальше от деревень, и затем перешли реку. Пить хотелось невыносимо. Мужа мучали ужасные судороги, и мне приходилось поддерживать его в седле. Я очень тревожилась за него. Накануне я увидела, что жена барабанщика ест чапати, и попросила ее дать кусочек ребенку. Она дала. Наконец я заметила внизу в овраге воду. Спуск был крутой, а единственным сосудом для питья служила шапка моего мужа. Мы напоили лошадь, и я вымыла шею. Чулок на мне не было, и ноги покрылись ранами и волдырями. Вдали показались двое крестьян, и мы в испуге пустились наутек. Сержант подержал нашу лошадь, муж посадил меня и сам сел в седло. Внезапно он, должно быть, потерял сознание, потому что, когда лошадь тронулась, я упала на дорогу, а он упал прямо на меня. За несколько часов перед тем он сам сказал, и Барбер подтвердил, что долго он не протянет. Еще до того, как мы добрались до оврага, я видела, что он умирает. Он высказал мне свою волю насчет детей и меня самой и попрощался. Голова у меня горела, но слез не было. Когда мы упали, сержант отпустил лошадь, и она ускакала прочь. Путь дальше был отрезан. Мы сели на землю, ожидая смерти. Бедняга! Он совсем обессилел. Его беспрерывно мучила жажда, и я отправилась за водой. Подошли крестьяне и отняли у меня деньги и часы. Я сняла свое обручальное кольцо и спрятала его в волосах. Потом я оторвала подол своей юбки, чтобы набрать воды, но все было напрасно, ибо, когда я вернулась, глаза моего мужа уже остекленели, и сколько я ни звала его, ни тормошила, ничто не помогало. Я лила воду ему в рот, но она лишь булькала у него в горле. Он так и не сказал мне ни слова. Я держала его в своих объятиях до тех пор, пока тело его не начало тяжелеть. Я чувствовала, что схожу с ума, но плакать не могла. Теперь я осталась одна. Я обвязала его голову моим платьем, ибо похоронить его было негде. У меня невыносимо болели руки и ноги. Спустившись в овраг, я села на камень в воде, надеясь дождаться ночи и тогда двинуться на поиски Лотти. Когда я выбралась на берег, я увидела, что у меня остались ее маленькие часики, цепочка и брелоки. Я привязала их под нижнюю юбку. Через час подошли крестьяне, их было человек тридцать. Они вытащили меня из оврага, сорвали с меня одежду и нашли цепочку. Затем они поволокли меня к себе в деревню, по пути не переставая издеваться надо мной и спорить, кому я буду принадлежать. Все жители деревни собрались посмотреть на меня. Я попросила у них подстилку и легла на улице, у дверей хижины. У них было штук десять коров, но молока мне по дали. Когда наступила ночь и все в деревне заснули, какая-то старуха принесла мне пригоршню риса. Но у меня во рту все пересохло, и я не могла есть; тогда мне дали воды. На следующее утро раджа, владения которого были по соседству с этой деревней, прислал за мной паланкин и всадника; посланный сказал мне, что в доме его господина находятся три сахиба и маленький ребенок». Вот как несчастная мать вновь обрела свое измученное «покрытое волдырями» дитя. Европейцам в Индии следует молить бога о том, чтобы бегство их из этой страны пришлось на зиму».
В начале июня разбежались все туземные солдаты престарелого генерала сэра Хью Уилера[89], командующего войсками в Канпуре; тогда генерал покинул форт и расположился на открытой равнине, окружив свой штаб земляной стеной высотой в четыре фута. С ним было несколько сот белых солдат и офицеров и значительно больше женщин и детей. Ему не хватало продовольствия, оружии, снаряжения, ему не хватало воинской сообразительности,— одним словом, у него не было ничего, кроме отваги и преданности делу. Оборона этого открытого участка земли в течение двадцати одних суток непрерывного голода, жажды, жары, под ни на минуту не прекращавшимся градом пуль, шрапнели и пушечных ядер, оборона, руководимая не престарелым в дряхлым генералом, а молодым офицером по фамилии Моор, является одним из самых героических эпизодов истории. Когда Нана наконец понял, что ему не победить этих изнуренных голодом мужчин и женщин с помощью пороха и ядер, он прибегнул к вероломству, и тут удача ему улыбнулась. Он пообещал снабдить их продовольствием и в лодках отправить в Аллахабад. Земляная стена и бараки англичан развалились, запасы продовольствия кончались, — они сделали все, что могли сделать храбрые и мужественные люди; они заслужили это почетное перемирие, ибо понесли огромные потери, умирая не только от пуль, но и от болезней, и были не в силах продолжать столь неравную борьбу. Не подозревая о предательстве, они покинули свои укрепления, и в ту же минуту воины Наны окружили их, и по сигналу трубы началась резня. Женщин и детей — их насчитывалось около двухсот — пока не тронули, но мужчины, за исключением трех-четырех человек, все погибли. Сэр Дж. О. Тревельян так описывает один из эпизодов этого массового истребления людей:
«Когда по истечении двадцати минут число погибших начало превосходить число живых, когда огонь ослабел, ибо целиться было почти не в кого, — тогда воины, выстроенные с правой стороны храма, бросились в реку, держа в зубах саблю, а в руке пистолет. Две женщины-христианки смешанной крови, жены музыкантов из оркестра пятьдесят шестого полка, оказались свидетельницами сцены, которую лучше всего передать их собственными словами: «В лодке, на которой мне предстояло уехать, — рассказывает миссис Брэдшоу (се рассказ полностью подтверждает миссис Сетс), — находились учительница и ее двадцать две ученицы. Последним прибыл в паланкине генерал Уилер. Его внесли прямо в воду. Я была совсем рядом. Генерал сказал: «Поднесите меня поближе к лодке». Но солдат ответил: «Нет, вылезайте здесь». И когда генерал высунулся из паланкина, чтобы вылезть, солдат саблей ударил его по шее, и генерал упал в воду. Мой сын погиб рядом с ним. Увы! Все это произошло на моих глазах. Несколько человек были заколоты штыками, другие были зарублены. Маленьких детей разрывали на куски. Мы видели это, видели и рассказываем вам только то, что видели собственными глазами. Других детей закалывали штыками и сбрасывали в реку. Школьниц сожгли живьем. Я видела, как пламя охватило их одежду и волосы. В воде, в нескольких шагах от нас, возле следующей лодки мы увидели младшую дочь полковника Уильямса. Сипай уже направил на нее штык. Она сказала: «Мой отец всегда был добр к сипаям». Он отвернулся, и как раз в эту минуту какой-то крестьянин ударил ее по голове дубинкой, и она упала в воду».
Эти же люди были очевидцами того, как добрый пастор мистер Монкриф достал из кармана книгу, открывать которую ему прежде был недосуг, и начал читать молитву о милосердии, но ему так и не суждено было ее закончить. Еще один свидетель видел, как один из белых, словно напуганная водяная крыса, устремился к водостоку; сидевшие в лодках индийцы отрезали ему путь, до смерти забили дубинами и затоптали в грязь».
Женщин и детей, уцелевших в этой резне, посадили на две недели под замок в маленький тесный одноэтажный дом — настоящая Черная Яма Калькутты. Они сидели там, со страхом ожидая своей участи; никто не знал, что с ними будет. Тем временем слухи об этой резне разнеслись далеко вокруг, и на выручку уже шел спасательный отряд под командованием Хэвлока, — по крайней мере они еще надеялись кого-нибудь спасти[90]. Отряд двигался форсированным маршем, устилая путь трупами своих солдат: люди погибали от холеры и жары, достигавшей ста тридцати пяти градусов. Но сердца англичан горели жаждой мести, и ничто — ни жара, им усталость, ни болезни, ни враждебность местного населения — не могло их задержать. Отряд с боями прорывался вперед, одерживая одну победу за другой, — вперед, только вперед, не останавливаясь даже, чтобы оглянуться на пройденный путь. И наконец, завершив этот беспримерный поход, отряд очутился у стен Канпура, встретился с войсками Наны, нанес им сокрушительный удар и вступил в город.
Но отряд опоздал всего на несколько часов. Ибо в последний момент Нана решил уничтожить пленных женщин и детей и послал трех мусульман и двух индусов выполнить это.
Сэр Дж. О. Тревельян пишет:
«Вошли пять человек; был час сумерек, которые обычно длятся очень недолго в Индии; в этот час дамы всегда отправляются на прогулку. В дверях появилась женщина и заговорила с офицером. С ней был местный доктор и двое слуг. Только это и было видно с веранды, все остальное было скрыто во мраке. Но по крикам и шуму, доносившимся изнутри, можно было понять, что наемники стараются вовсю. Вскоре вышел Сарвар Хан, держа в руках сломанную у рукоятки саблю. Он принес новую саблю из дома Наны, но через несколько минут сломал и ее. Третий клинок оказался лучшего закала; впрочем, возможно, основная часть работы была уже окончена. Когда совсем стемнело, мужчины вышли и заперли за собой двери. Теперь крики прекратились, ню стоны доносились из дома всю ночь до утра.
Солнце взошло, как обычно. Часа через три после рассвета эти пятеро вновь явились в дом, где изрядно потрудились накануне. С ними пришли слуги и тотчас начали переносить тела погибших из дома к пересохшему колодцу, скрытому в тени деревьев. «Трупы, — вспоминает один из тех, кто все это видел, — часто выволакивали за волосы. Сколько-нибудь приличную одежду сдирали. Несколько женщин были еще живы. Не знаю, сколько именно, но трое могли говорить. Они молили бога положить конец их мучениям. Я заметил одну очень толстую женщину, полукровку; она была тяжело ранена в обе руки и умоляла убить ее. Ее и двух-трех других положили на краю тропы, по которой ходят быки, вытягивая воду из колодца. Сначала в колодец сбросили покойников. Посмотреть на это зрелище собралась большая толпа; люди стояли вдоль стен двора, где находился дом-тюрьма. В основном это были городские жители и крестьяне. Среди них были и сипаи. В живых осталось трое мальчиков. Это были славные ребятки. Старшему, я думаю, было лет шесть-семь, младшему — пять. Они бегали вокруг колодца (куда еще им было деваться?), и никто даже не пытался их спасти. Нет, никто не сказал ни слова, никто и пальцем для них не шевельнул.
Наконец младший, по глупости, попытался убежать. Он увидел, как убили одну из оставшихся в живых женщин, и совсем перепугался. Но этим он только привлек внимание одного из крестьян, и тот сбросил и его и остальных детей в колодец».
Солдаты совершили восемнадцатидневный переход почти без отдыха, чтобы спасти женщин и детей, но они опоздали — пленники погибли, а убийца скрылся. Что произошло потом, Тревельян даже не решается описывать: «О том, что тут было, чем меньше сказано, тем лучше».
Затем он продолжает:
«Но представшая перед ними картина может вполне оправдать их поступки. Солдаты, которые явились туда прямо с поля боя и, рыдая, ходили по комнатам, где еще недавно томились женщины, увидели то, что должна была бы сама разгневанная земля укрыть в своих недрах. В помещении было по щиколотку крови. Стены были изрезаны сабельными ударами, но на такой высоте, как бьются мужчины: удары приходились ниже, часто по углам, словно жертва невольно уползала туда, пытаясь избежать удара. Привязанные к дверным ручкам полосы материи — лоскуты, оторванные от одежды, — говорили о тщетных попытках отчаявшихся женщин не впустить убийц. На полу валялись поломанные гребни, оборочки от детских штанишек, разорванные манжеты и передники, круглые шляпки, башмаки с оборванными шнурками, фотографии в рамках с разбитыми стеклами. Офицер поднял с пола картонную коробочку с надписью: «На память от Неда», в которой лежало несколько локонов, а вокруг валялась локоны, иногда длиною почти в ярд, отрепанные не на память, и не ножницами, а совсем другим орудием».
Битва при Ватерлоо произошла 18 июня 1815 года. Я констатирую этот факт не в качестве напоминания читателю, а для того, чтобы сообщить ему нечто новое, — ибо забытый факт всегда кажется новостью, когда слышишь о нем вторично. У писателей есть привычка отмахиваться от любого знаменитого исторического события, заявляя: «Подробности этого славного эпизода слишком знакомы читателю, чтобы повторять их вновь». Они знают, что это неправда. Это просто грубая лесть. Они знают, что читатель давно забыл все подробности и что для него то или иное славное событие — всего лишь смутное и расплывчатое воспоминание. Помимо желания польстить читателю, писатель преследует подобным заявлением еще одну цель, даже две: он сам не помнит подробностей, а отыскивать их в других книгах и переписывать ему не хочется; кроме того, он боится, что если отыщет их и перепишет, то рецензенты поднимут его на смех за то, что он снова рассказывает всем давно известные факты. А ведь по правде говоря, насмешек рецензентов бояться нечего: они сами не помнят этих «всем давно известных» фактов до тех пор, пока о них не напомнит им книга, которую они рецензируют.
Я сам не раз делал приведенное выше заявление, но совсем не с целью польстить читателю: я просто экономил время. Если бы я помнил все подробности, не тратя времени на их розыски, я бы вставил их в свою книгу; но я не помнил, а отыскивать их мне не хотелось, поэтому я и заявлял: «Подробности этого славного эпизода слишком знакомы читателю, чтобы повторять их вновь». Конечно, такая ложь мне совсем не по душе, зато она превосходно экономит время.
Я не пытаюсь уклониться от пересказа подробностей осады Лакхнау из страха перед рецензентом, я опускаю их не из боязни, что они не заинтересуют читателя, — я опускаю их частично из-за недостатка времени, а в основном из-за отсутствия места. Жаль, конечно, ибо в этом рассказе не было бы ни одной скучной подробности.
Первого мая, за десять дней до начала восстания в Лакхнау, огромной столице княжества Ауд, незадолго до этого аннексированного Ост-Индской компанией, царило полное спокойствие. Там был размещен большой гарнизон, около 7000 туземных солдат и 700 или 800 белых. Эти белые солдаты и их семьи были, наверное, единственными представителями своей расы в тех краях; а рядом с ними кишела масса воинственных индийцев, прирожденных вояк, смелых и отважных. На холме у въезда в город находился дворец высокой персоны — резидента, полномочного представителя британского могущества. Он стоял посредине огромного парка, территория которого вместе со всеми пристройками и службами была обнесена стеной, — стеной не для обороны, а для уединения. Мятежный дух реял в воздухе, но белых он не пугал и даже почти не беспокоил.
Первым вспыхнуло восстание в Миратхе, затем мятежники овладели Дели; в июне сэр Хью Уилер выдержал трехнедельную осаду в своем открытом лагере в Канпуре — в сорока милях от Лакхнау, — потом произошло вероломное массовое истребление отважных защитников этого маленького гарнизона. И теперь, когда великое восстание было в полном разгаре, положение вещей в Лакхнау сразу изменилось.
Там начались волнения, и 30 июня сэр Генри Лоуренс выступил из Резиденции, чтобы разделаться с мятежниками, но, потерпев тяжелое поражение, с трудом вернулся обратно в Резиденцию. В ту ночь началась незабываемая осада Резиденции, названная впоследствии Осадой Лакхнау. Спустя три дня был убит сэр Генри, и командование принял бригадир Инглис.
За стопами Резиденции собралось великое множество враждебно настроенных и уверенных в своей победе индийцев; в Резиденции находилось 480 верных туземных солдат, 730 белых и 500 женщин и детей. В те времена английские гарнизоны всегда ухитрялись обременять себя женщинами и детьми.
Расположившись в близлежащих домах, индийцы начали поливать Резиденцию градом пуль и пушечных ядер; это длилось круглые сутки в течение четырех с половиною месяцев, причем маленький гарнизон ни на минуту не переставал энергично отвечать противнику тем же. Женщины и дети вскоре так привыкли к гулу пушек, что он больше не тревожил их сон. Дети играли в осаду и оборону. Женщины — по любому поводу или без повода — не боялись выходить из дому в парк, простреливаемый со всех сторон.
Много недель длилась эта оборона, и люди ни на минуту не теряли присутствия духа перед лицом смерти, которая являлась в самых различных образах, в образе пули, оспы, холеры и других болезней, вызванных несъедобной пищей и постоянным недоеданием, в образе изнурительного и тяжкого труда в долгие часы дневных и ночных сражений в гнетущей индийском жаре и отсутствия отдыха из-за невиданного нашествия москитов, мух, мышей, крыс и блох.
Через шесть недель после начала осады гарнизон не досчитывал уже более половины своего первоначального состава белых солдат и примерно трех пятых первоначального числа индийских.
Но борьба продолжалась, несмотря ни на что. Противник устраивал подкопы, англичане отвечали тем же, и посты тех и других взлетали на воздух. Вся усадьба Резиденции была изборождена подземными ходами противника. Шел постоянный обмен смертоносными любезностями: то англичане совершали вылазки под покровом ночи, то противник переходил в атаку, стремясь пробить брешь в стене или перелезть через нее; впрочем, атаки эти стоили больших потерь и всегда заканчивались неудачей.
Женщины привыкли ко всем ужасам войны: к стонам, раненых, к виду крови и смерти. Вот что пишет леди Инглис в своем дневнике:
«Мимо наших дверей сегодня пронесли няню миссис Брюер; ее ранило в глаз. Чтобы извлечь пулю, необходимо было вынуть глаз. Миссис Брюер держала ее во время этой страшной операции».
Первый посланный на помощь полк во главе с Хэвлоком и Утрамом[91] пришел только через три месяца после начала осады и ничем не смог помочь. Ценою мужественных сражений полк ворвался в Лакхнау, а затем с отчаянными боями, где против каждого белого бились сотни индийцев, прошел через весь город и пробился в Резиденцию; но к тому времени ряды его настолько поредели, что он уже не в силах был оказать помощь отважному гарнизону. В последнем бою полк потерял больше людей, чем оставалось в Резиденции. Остатки этого полка превратились в осажденных.
Тем временем бои и голод не прекращались, и люди продолжали умирать от пуль и болезней. Обе стороны сражались энергично и неутомимо. Вот как описывает капитан Бёрч положение в Резиденции во время третьего месяца осады:
«В качестве примера шквального огня, который нам приходилось выдерживать в тот месяц, можно привести случай, когда верхний этаж кирпичного здания был, можно сказать, почти начисто срезан огнем из простых мушкетов. Это здание служило отличной мишенью. В него неизменно попадали все пули, которые миновали верхушку крепостного вала, и ложились они в одну линию, как бы перерезая стену, в это в конечном итоге привело к тому, что верхний этаж рухнул. Рухнула и надстройка на крыше в той части, где размещалась столовая артиллерийского дивизиона. Дом Резиденции превратился в развалины. Командный пункт капитана Эндерсона был давно уничтожен пушечным огнем, за ним пал и пункт Иннеса. Их изрешетили пули. В пункт полковника Мастерса попало не менее двухсот пуль».
Но измученный гарнизон продолжал упорно сопротивляться еще целый месяц — октябрь. Второго ноября стало известно, что вскоре на помощь им из Канпура двинутся части сэра Колина Кемпбелла[92].
12 ноября послышался гул их пушек.
13 ноября гул орудий стал более отчетливым. Сэр Колин Кэмпбелл приближался медленно, но неуклонно, с боями прорываясь вперед, штурмуя одну крепость за другой.
14 ноября он заявил колледж Мартиньер[93] и поднял на нем британский флаг. Флаг этот был виден и из Резиденции.
Затем он овладел Дилкушей[94].
17 ноября он занял дом, где раньше размещалась столовая 32-го полка — укрепленное здание, настоящая крепость. «Один из самых тревожных и самых волнующих дней!» — пишет леди Инглис в своем дневнике. — «Около четырех часов дня во двор вошли два незнакомых офицера, ведя на поводу лошадей». И, увидев их, она поняла, что английские войска наконец соединились, что на этот раз помощь действительно пришла и что долгая осада Лакхнау кончилась.
Последние восемь — десять миль пути сэр Колин Кемпбелл шел через море крови. Основным оружием служил штык, бой шел не на жизнь, а на смерть. Путь преграждали крепкие каменные здания, каждое из которых представляло собой маленький, но хорошо укрепленный форт, защищаемый сотнями индийцев, и взять их можно было только штурмом. Ни та, ни другая сторона не желали ни просить, ни даровать пощады. Около Сикандербагха[95], где почти две тысячи солдат противника засели в большом каменном здании, расположенном в саду, кровопролитие продолжалось до тех пор, пока не погибли все участники сражения. Вот каков был характер этого опустошительного похода.
В то время деревьев на равнине почти не было, и защитники Резиденции могли наблюдать каждый шаг, каждую победу солдат Кемпбелла; их продвижение можно было видеть по клубам порохового дыма и слышать по гулу орудий.
Сэр Колин Кемпбелл пришел в Лакхнау не для того, чтобы завладеть городом, а лишь для того, чтобы прорвать кольцо осады и спасти защитников Резиденции. Дней через пять после его прихода в глухую полночь через главные ворота Резиденции (Бейли-Гард) началась тайная эвакуация английского гарнизона. Первыми были выведены двести женщин и двести пятьдесят детей. Капитан Бёрч пишет:
«Затем начался превосходно подготовленный маневр под весьма успешным командованием — общий отход всех частей, объединенный марш, требующий величайшего внимания и мастерства. Сначала была выведена рота, которая непосредственно вела бои с противником на самом переднем крае Резиденции. За ней поочередно снимались с позиций все остальные роты, пока наконец не был эвакуирован весь гарнизон. Затем в таком же порядке начали отходить части Хэвлока, следуя у нас в арьергарде. За ними двинулись отряды главнокомандующего. Вся операция по выводу частей была проведена предельно организованно, четко и точно, — так точно, как складывается подзорная труба. В Резиденции царила мертвая тишина, и противник ничего не заподозрил».
Леди Инглис, рассказывая о своем муже и генерале сэре Джеймсе Утраме, сообщает заключительную подробность этого величественного ночного отступления, когда приходилось двигаться ощупью, в полнейшей темноте, проскальзывая через ворота, которые так долго и так славно охранялись:
«Ровно в двенадцать часов они тронулись в путь; Джон и сэр Джеймс Утрам оставались на место, пока все до единого не вышли, а затем они сняли шляпы перед Бейли-Гард, местом самой славной обороны в истории».
Глава XXIII ВОСТОРГИ ПО ПОВОДУ ТАДЖ-МАХАЛА
Не расставайтесь с иллюзиями. Без них жизнь ваша превратится в тоскливое существование.
Новый календарь Простофили Вильсона
Часто самый верный способ ввести человека в заблуждение —
сказать ему чистую правду.
Новый календарь Простофили ВильсонаАнглийский офицер вел нас по пути, пройденному сэром Колином Кемпбеллом, и когда я прибыл в Резиденцию, я так хорошо знал дорогу, что мог бы самостоятельно вести по ней людей; но компас у меня в голове не работает с самого моего рождения, и как только я очутился за разбитыми воротами Бейли-Гард и стал припоминать, как шли, с боями прорываясь через город, спасательные войска, у меня в голове все спуталось, и я уже так и не смог ничего припомнить. Да и теперь, когда я смотрю на карту боев, я ничего не соображаю. Для меня все равно что запад, что восток, и я совершенно не способен читать оперативные карты, у которых восток обычно находится справа.
Руины Резиденции, заросшие цветущим плющом, по-прежнему величественны и прекрасны. Места боев сейчас считаются священными, за ними очень следят, и пока англичане остаются в Индии хозяевами, никому не позволит осквернить эти места ради каких-нибудь корыстных или коммерческих целей. На территории Резиденции похоронены те, кто погиб во время долгой осады.
Я был способен до известной степени представить себе тот страшный ураган, что день и ночь свирепствовал здесь в течение стольких месяцев, и некоторым образом мог даже представить, как вели себя мужчины, но я никак не мог понять, как жили здесь двести женщин, и уж совершенно не в состоянии был вообразить тут двести пятьдесят детей. Из дневника леди Инглис я узнал, что детей ничуть не смущали кровь, резня, треск и гул осады, словно это были вполне естественные явления, присущие жизни всякого ребенка; и я честно пытался представить себе все это. Но когда я прочитал, как ее маленький Джонни вбежал, весь окутанный пороховым дымом, возбужденно крича: «Мама, мама, белая курица снесла яичко!», я понял, что сделать этого не могу. В подобном случае Джонни полагалось сидеть под кроватью. Я мысленно видел его там, потому что видел там себя; и я думаю, вряд ли меня заинтересовала бы курица, которая снесла яйцо, — меня бы куда больше волновали солдаты, которые осыпали друг друга смертоносными снарядами. Во время обеда в клубе я оказался за столом рядом с одним из тех детей; я знал, что во время осады он был в том возрасте, когда у ребенка прорезаются зубы н он учится говорить; и хотя для меня он был после руин Резиденции самой интересной достопримечательностью Лакхнау, все же я не мог вообразить, каково было его существование в те бурные времена его младенчества и какое он должен был испытывать удивление, когда весь этот шум и пальба стихли и он очутился в незнакомом ему мире тишины. Когда я с ним познакомился, ему исполнился только сорок один год — просто мальчишка по сравнению со столь древним событием, каким считалось Великое Восстание.
Потом мы осмотрели Канпур и видели открытый участок земли — арену памятной обороны Моора, и то место на берегу Ганга, где произошло массовое истребление обманутого гарнизона, и маленький индийский храм, откуда раздался сигнал, приказывающий убийцам приступить к делу. Этот храм расположен в тихом, уединенном месте, на берегу медленной безгласной реки. Неподвижные мелкие воды ее заключены и узкие каналы, разделенные широкими песчаными отмелями по всему руслу, и единственным живым существом там оказалась причудливая птица с лысой головой — зобастый аист. Он с важным видом одиноко стоял на своих шестифутовых ногах-ходулях на дальней отмели, втянув голову в плечи и о чем-то задумавшись; наверное, он думал о своей добыче — мертвый индиец покачивался на воде у его ног — и размышлял, съесть ли его самому или позвать приятелей. Оба они — и он сам, и его добыча — вполне подходили к этой мрачной местности. Они удивительно гармонировали с ней, подчеркивая ее уединенность и торжественность.
Видели мы и место гибели беззащитных женщин и детей, а также великолепный памятник над колодцем, где покоились их останки. Черная Яма Калькутты уничтожена, но наступил более почтительный век, и малейшие следы ужасных страданий и мужественных подвигом гарнизонов Лакхнау и Канпура будут свято охраняться потомством,
В Агре и вокруг нее, а затем и в Дели мы видели множество крепостей, мечетей и склепов, построенных в дни мусульманского владычества. Сейчас они по своему богатству, великолепию и ценности материала и украшений являются величайшими произведениями искусства, превосходящими все созданное до сих пор на земле. Я не собираюсь описывать эти чудеса, по сравнению с которыми все остальное кажется мелким и незначительным. К счастью, мне не довелось много читать о них, поэтому я мог самостоятельно и разумно оценить их; они потрясли меня, привели в восторг, довели до состояния высшего блаженства. Но если бы я предварительно подстегнул свое воображение, испив слишком много пагубно действующего литературного алкоголя, мне пришлось бы испытать разочарование и скорбь.
Я хочу рассказать лишь об одном из этих многочисленных всемирно известных памятников — о Тадж-Махале, самом знаменитом сооружении на земле[96]. Я слишком много читал о нем. Я видел его при свете солнца и при свете лупы, я смотрел на него издали и вблизи; я все время знал, что это — настоящее чудо из чудес, что он не имеет и никогда не будет иметь равного себе, — и все же я чувствовал, что это не мой Тадж. Мой Тадж был создан восторженными писаками, он жил в моем воображении, и я не мог от него избавиться.
Мне хочется познакомить читателя с несколькими отрывками из обычных описаний Тадж-Махала и просить его отметить те впечатления, что останутся у него в памяти. Эти описания отличаются полной достоверностью, — по крайней мере они правдивы настолько, насколько позволяет ограниченность речи. По речь — штука коварная, на нее никогда нельзя положиться: она редко располагает определения и другие слова так, что факты не представляются читателю в преувеличенном виде, тем более что читательское воображение всегда с охотой принимается за дело и с легкостью раздувает из мухи слона.
Для начала приведу строки из маленького местного путеводителя, отлично составленного мистером Сатья Чандра Мукерджи. Возьмем наугад несколько отрывков:
«Мозаичные украшения Таджа, цветы и лепестки на мраморе его стен говорят о великолепии отделки».
Это сущая правда.
«Мозаичные украшения, мрамор, цветы, бутоны, листья, лепестки и стебли лотоса почти не имеют себе равных во всем цивилизованном мире».
«Мозаичная работа из драгоценных камней достигла своего совершенства при создании Тадж-Махала».
Драгоценные камни, инкрустированные цветы, листья и бутоны на стенах. Что вы видите перед собой? Не растет ли сказочное здание? Не становится ли оно шкатулкой, набитой драгоценностями?
«В целом Тадж производит удивительное впечатление— сочетание величественного и прекрасного».
Дадим слово суру Уильяму Уилсону Хантеру:[97]
«Тадж-Махал с его величественными оводами, это мраморное чудо, возвышается над рекой».
«Он выстроен из белого мрамора и красного песчаника».
«Невозможно описать всю сложность его архитектуры и тонкие изящество отделки».
Сэр Уильям продолжает. Я особо выделю некоторые его слова:
«Мавзолеи покоится на высоком мраморном постаменте, по углам которого возвышаются четыре стройных минарета, поражающие изяществом своих пропорций и исключительной красотой. За постаментом крыльями вздымаются дно мечети, каждая из которых представляет законченное произведение индийского зодчества. В центре всего сооружения стоит мавзолей; он занимает площадь в сто восемьдесят шесть квадратных футов, и его сильно усеченные углы образуют неправильный восьмиугольник. Самая примечательная особенность этого центрального здания — огромный купол, примерно в две трети шара; он постепенно суживается кверху, заканчиваясь острием, которое венчает полумесяц. Ниже — обнесенная ажурной мраморной решеткой королевская усыпальница, где покоится прах жены правителя и его самого. Каждый угол мавзолея увенчан точно таким же куполом, только меньшего размера, воздвигнутым на украшенном изящными сарацинскими сводами фронтоне. Свет проникает внутрь черев двойную решетку ажурного мрамора; она смягчает яркий блеск индийского неба, в то время как белизна итого мрамора рассеивает мрак под сводами. Внутренняя отделка состоит из мозаичного орнамента, инкрустированного дорогими камнями — агатом, яшмой и другими, — которым богато украшен каждый свод и каждый рельеф сооружения. Коричневый и фиолетовый мрамор, широко использованный для гирлянд, завитков и панелей, приятно ласкает глаз на фоне белоснежных стен. В отношении игры красок и архитектурных достоинств Тадж-Махал может считаться лучшим образцом декоративного искусства в мире, и, раз увидев, нельзя забыть ни совершенную симметрию его внешних форм, ни воздушного изящества его куполов, мраморными шарами устремляющихся в ясное небо. Тадж-Махал — венец декоративного искусства индомусульманских зодчих, достигших той ступени творчества, когда нельзя различить, где кончается работа архитектора и начинается работа ювелира. Его великолепные ворота украшены по углам не диагональным орнаментом, который вполне удовлетворял создателей ворот мавзолеев Итимадуд-даула и Сикандера, а витыми мраморными гирляндами, отличающимися красотой и рельефностью своих линий и непревзойденной смелостью замысла. Прекрасная мозаика заменила треугольные инкрустации в виде больших цветов из белого мрамора. Строгие перпендикулярные линии черного мрамора и отлично соразмеренные панели из того же материала весьма эффектно использованы в отделке интерьера ворот. Наверху индийские консоли и монолитные архитравы Сикандера заменены мавританскими сводами, выложенными пз красного песчаника и образующими многочисленные киоски и павильоны для украшения крыши. Из этих павильонов с колоннами открывается великолепный вид на тадж-махальские сады, в дальнем конце которых протекает величественная река Джамна, и на город Агру с городской крепостью. Через эти прекрасные ворота попадаешь напрямую как стрела аллею, осененную вечнозелеными деревьями, прохладную из-за широкого, но неглубокого ручья, что течет прямо посередине этой аллеи, направляясь к самому Таджу. Тадж весь состоит из мрамора и драгоценных камней. Красный песчаник других мусульманских сооружений окончательно исчез, или, правильнее будет оказать, красный песчаник, который обычно использовался для придания стенам толщины, в Тадже целиком покрыт белым мрамором, а белый мрамор в свою очередь инкрустирован прекрасными, цветами из драгоценных камней. Интерьеры оставляют впечатление необыкновенной чистоты — этот эффект достигается отсутствием грубых строительных материалов, столь часто применяемых зодчими Агры. Внизу стены и панели покрыты растительным орнаментом в виде тюльпанов, олеандров и распустившихся лилий, выполненных резьбой по белому мрамору; и хотя мозаичные цветы из драгоценных камней ослепительны, если смотреть на них вблизи, тем не менее в целом создается впечатление белизны, тишины и спокойствия. Белизна нарушается лишь игрой света инкрустированных камней, линиями черного мрамора и выписанными тонкой вязью текстами из корана, тоже из черного мрамора. Под куполом гигантского мавзолея стоят гробницы — или, скорее, кенотафии — властителя и его супруги, обнесенные высокой ажурной решеткой белого мрамора; и в этом мраморном чуде зодчие отказались от старинных геометрических фигур ради ажурной резьбы в виде цветов и листьев, выполненных с невиданной свободой творческой мысли и вдохновением. на кенотафиях, окруженных этим изумительным художественным произведением, нет никакой резьбы, кроме Каламдана в виде удлиненного пенала на гробнице Шах-Джехана, Но оба кенотафия украшены мозаикой из самых дорогих камней и вечно прекрасными олеандровыми гирляндами».
Байярд Тэйлор, подробно описав Тадж, продолжает:
«Вокруг сплетается листва пальм, смоковниц и перистых бамбуковых деревьев; неумолчно звенит пение птиц, а воздух напоен ароматом роз и цветов лимона. В конце аллеи, на самом видном месте, возвышается Тадж. В нем нет никакой таинственности, в нем все ясно и просто. Произведение совершенной красоты и полнейшей законченности линий, он похож на творение гения, которому неведомы слабости и пороки, присущие человечеству».
Все эти описания абсолютно правдивы. Но взятые вместе они создают для вас картину совершенно искаженную. Вы не в состоянии правильно соединить их в своем воображении. Писатели вкладывают вполне определенное значение в свои слова и фразы, но для вас эти слова и фразы имеют другое, менее конкретное значение. Мне кажется, я теперь понимаю, какую ценность представляют для писателей их собственные фразы, и, чтобы помочь читателю, я повторю некоторые из этих описаний и снабжу их коэффициентом, характеризующим их ценность, — тогда мы увидим разницу между расчетами писателя и ошибочными расчетами читателя.
Дорогие камни: агат, яшма и прочие. — 5.
Которые украшают богатой резной работой каждый рельеф сооружения. — 5.
Лучший образец декоративного искусства в мире. — 9.
Тадж является той ступенью творчества, когда нельзя различить, где кончается работа архитектора и начинается работа ювелира. — 5.
Тадж весь состоит из мрамора и драгоценных камней. - 7.
Инкрустирован прекрасными цветами из драгоценных камней. — 5.
Мозаичные цветы из драгоценных камней ослепительны (за чем следует чрезвычайно важная оговорка, к которой читатель, разумеется, отнесется весьма легкомысленно) . — 2.
Гигантский мавзолей. — 5.
Это мраморное чудо. — 5.
Изумительное художественное произведение. — 5.
Мозаичные цветы из самых дорогих камней. —5.
Произведение совершенной красоты и полнейшей законченности линий. — 5.
Все эти описания верны: цифры, стоящие рядом с ними, довольно точно воспроизводят ценность каждого из них. Тогда почему же они создают картину столь искаженную? Да потому, что читатель, увлеченный своим собственным богатым воображением, располагает их совершенно неправильно. Писатель расположил бы первые три коэффициента следующим образом:
5
5
9
Итого 19, — и это была бы истинная правда.
А читатель располагает их по-другому: 559, — и получается ложь.
Писатель сложил бы все двенадцать цифр вместе, и сумма их, выраженная числом 63, была бы правдой о Тадж-Махале, чистой правдой.
Но читатель — всегда во власти своего воображения — поставит цифры к ряд, одну за другой, и получит число, соответствующее огромной, благородной лжи:
559575255555
Вам придется самим расставить точки. Я должен продолжать свой рассказ.
Читатели, обязательно расположит цифры именно так, и тотчас же перед ним вырастет, сверкая на солнце брильянтами, огромный, до неба, Тадж-Махал.
Мне пришлось раз пятнадцать побывать на Ниагаре, пока я наконец не отделался от того образа Великого водопада, который жил в моем воображении, и начал здраво и рассудительно восхищаться тем, что он собою представляет в действительности, а не тем, что я ожидал увидеть. Когда я впервые приближался к нему, я задрал голову вверх, ибо думал, что сейчас увижу, как целый Атлантический океан низвергается вниз с вершины покрытых вечными туманами Гималайских гор, — сплошную стену зеленоватой воды шириной в шестьдесят миль и высотой в шесть миль; и потому, когда я внезапно увидел действительность — вывешенный для просушки маленький мятый и мокрый фартук, — разочарование было так велико, что я упал на землю как подкошенный.
И вот медленно, но верно и неуклонно за пятнадцать посещений размеры водопада все больше и больше приближались к действительности, пока я наконец не понял, что, хотя высота Ниагары составляет всего сто пятьдесят пять футов, а ширина ее четверть мили, тем не менее это весьма внушительное явление природы. Водопад, правда, рассеял мои прежние иллюзии, но все же был достаточно велик.
Я знаю, что с Тадж-Махалом мне нужно было поступить точно так, как я поступил с Ниагарой, а именно: посетить его пятнадцать раз и постепенно избавиться от образа, созданного в моем мозгу писателями с помощью моего собственного воображения, заменив его настоящим Таджем. Он был бы благородным, великолепным чудом; не тем чудом, которое он заменил, но все же чудом, заслуживающим восхищения. Я сам, мне кажется, легкомысленный читатель, читатель-импрессионист; импрессионистски настроенный читатель того, что вовсе не является импрессионистским; читатель, который часто упускает немаловажные детали и неправильно располагает цифры, извлекая из прочитанного только общее смутное впечатление, впечатление ложное, не подтвержденное подробностями, находящимися в моем распоряжении, подробностями, которые я не изучал и значение которых я не пожелал осторожно и разумно оцепить. Это — впечатление, которое раз в тридцать пять или сорок прекраснее действительности, и следовательно — во много лучше и ценнее ее. И поэтому незачем мне было охотиться за этой действительностью; лучше бы я остался на расстоянии многих миль от нее и хранил в своем воображении собственную могучую Ниагару, что низвергается прямо с небесного свода, и собственный Тадж-Махал, созданный из разноцветных туманов, покоящихся на украшенных драгоценными камнями радугах, опорами для которых служат колоннады, сотканные из лунного света. Человеку с необузданной фантазией лучше никогда не видеть воочию знаменитые чудеса света.
По-видимому, много, много лет назад я почему-то решил, что среди произведений искусства, созданных человеком, Тадж занимает такое же место, какое среди творений природы принадлежит ледяной буре; что Тадж представляет собою совершеннейшее творение рук человеческих по красоте, изяществу, утонченности и величию, точно так же как ледяная буря представляет собой совершеннейшее твореное природы ни сочетанию тех же качеств. Я не знаю, давно ли возникла у меня эта мысль, но я твердо знаю, что не могу припомнить такого времени, когда мысль об одном из этих воплощений небывалого и бесподобного совершенства не вызывала бы мысли о втором. Стоило мне только подумать о ледяной буре, как тотчас же передо мной вставал Тадж-Махал во всей своей божественной красе; а когда я думал о Тадже с его мозаикой и инкрустациями из драгоценных камней, я видел перед глазами ледяную бурю. Итак, для меня Тадж-Махал никогда не имел себе равного среди храмов и дворцов, ничто не могло соперничать с ним, — это была ледяная буря, созданная руками человека.
Здесь, в Лондоне, беседуя на днях со своими английскими в шотландскими друзьями, я упомянул о ледяной бурс, использовав этот образ в качестве риторической фигуры, но прием мой успеха не имел, ибо никто из присутствующих никогда не слышал о ледяной буре. Один джентльмен, неплохо знавший американскую литературу, заявил, что он ни в одной книге не встречал даже упоминания о ледяной буре. Это очень странно. Правда, в я не мог вспомнить, читал ли я о ней в какой-нибудь книге; а между тем осенним листьям, как и всем прочим деталям американского пейзажа, литература оказывает большое внимание.
Подобное упущение тем более удивительно, что в Америке ледяная буря — настоящее событие, и к ней нельзя отнестись легкомысленно. Весть о ее приближении передается из комнаты в комнату, люди стучат друг другу в двери с криком: «Ледяная буря! Ледяная буря!», и даже самые ленивые сони сбрасывают с себя одеяла и бросаются к окнам. Ледяная буря чаще всего бывает в середине зимы и творит свои чудеса в тишине и мраке ночи. Славный моросящий дождик многие часы орошает обнаженные ветви и сучья деревьев, замерзая на лоту. Вскоре каждый ствол дерева, каждая ветка, каждый сучок оказываются закованными в броню твердого прозрачного льда, а все дерево становится похожим на скелет, сделанный из кристально-чистого стекла. Под каждой веткой, под каждым сучком по всей длине их висят гирлянды маленьких сосулек— замерзших капель. Иногда эти подвески напоминают не сосульки, а круглые бусинки — замерзшие слезы.
К рассвету погода проясняется, на небе ни облачка, воздух чист и свеж, все кругом тихо, ни шороха, ни ветерка. Заря занимается и разгорается, весть о ледяной буре облетает весь дом, и все — и стар и млад, — закутавшись в шали и одеяла, спешат к окнам, чтобы, сгрудившись там, полюбоваться делами великого белого волшебника. Тишина стоит мертвая, люди боятся шелохнуться, взоры всех прикованы к деревьям. Все ждут: они знают, что сейчас произойдет, и ждут, — ждут чуда. Время бежит, но не слышно ни звука, лишь часы тикают на степе; наконец солнце заливает пучком первых своих лучей дерево, похожее на привидение, и оно чудесно превращается в белый сноп сверкающих алмазов. Затаив дыхание, с комком в горле и влагой в глазах, зрители снова ждут, ибо знают, что это еще не все, — сейчас произойдет нечто большее. Солнце поднимается выше, еще выше, заливая потоком света все дерево от вершины до самых нижних ветвей, превращая его в костер белого пламени; и вдруг, совершенно неожиданно, свершается великое чудо, величайшее чудо из чудес на земле: порыв ветра приводит в движение все ветви, и в следующую секунду белое дерево разбрасывает во все стороны поток драгоценных камней всех цветов радуги. Оно стоит и, покачиваясь, переливается, искрится, танцуют, искрясь, рубины и изумруды, алмазы и сапфиры. Это ослепительное, божественное, волшебное зрелище! Это чарующее видение разноцветного пламени, в котором столько неописуемой красоты, столько неземного блеска, что такого не увидишь, наверно, и за вратами рая!
И всем существом своим, всеми фибрами души я чувствую, что ледяная буря — вершина творчества Природы в области прекрасного и величественного; и, хотя бы разумом, я твердо знаю, что Тадж-Махал — это ледяная буря, содеянная руками человека.
В ледяной буре каждая бусинка из мириад ледяных бусинок, свисающих с каждого сучка и с каждой ветки, выглядит настоящей жемчужиной и меняет цвет при малейшем движении, вызванном порывом ветра; на каждом дереве сверкают миллионы таких жемчужин, и весь лес тысячу раз повторяет величие одного дерева. Сейчас мне пришла в голову мысль о том, что я никогда не видел ледяной бури на картинах и никогда не слышал, чтобы какой-нибудь художник попытался ее изобразить. Интересно, почему это так? Быть может, потому, что краски и кисть не способны передать ослепительный блеск залитого солнцем драгоценного камня? Должна же быть причина тому, что самое чарующее явление в природе не запечатлено кистью художника.
Самый верный способ ввести читателя в заблуждение — сказать ему чистую правду. Те, кто описывал Тадж-Махал, употребляли слова «драгоценный камень» в самом строгом его смысле, в научном смысле. А в этом смысле слова «драгоценный камень» очень скромны и ничего особенного не обещают глазу; нет в них ничего яркого, ничего ослепительного, ничего блестящего, ничего великолепного, никакой игры красок. Эти слова совершенно точно определяют спокойную и трезвую работу с драгоценными камнями в Тадже, то есть определяют ее для одного тонко понимающего человека из тысячи; но для 999 остальных они создают совершенно ложное восприятие. А эти 999 человек - как раз те люди, о которых нужно особенно заботиться, ибо у них эти слова не вызывают понятия о скромных инкрустациях из яшмы, агата или других камней; они знают эти слова только в их широком, обыденном смысле, для них они означают брильянты, рубины и опалы и им подобные, и как только они видят эти слова на бумаге, как тотчас же в их воображении возникают мириады огней всех цветов радуги.
Писатели пишут для большинства; и для того, чтобы их правильно понимали, им следует употреблять слова в их обычном смысле или прилагать объяснения. Слово «фонтан» имеет одно значение в Сирии, но там живет не так уж много людей; совершенно иное значение приобретает оно в Северной Америке, где население составляет семьдесят пять миллионов человек. Если бы я, описывая сирийский пейзаж, воскликнул: «На узком пространстве земли всего в четверть мили я увидел в сиянии лунного света двести прекрасных фонтанов — представьте себе это зрелище!» — в воображении североамериканцев возникли бы многочисленные водяные столбы, вздымающиеся ввысь, изогнутые в грациозные дуги, рассыпающиеся жемчужными каплями — белый огонь в лунном сиянии; и представление это оказалось бы ложным. А вот сирийца не обмануть: он бы представил себе двести простых родников — двести ленивых, навевающих дремоту лужиц, таких же плоских, скромных и спокойных, как любой коврик у двери, и даже лунный свет не заставил бы его утратить реальное отношение к вещам. И я имел бы полное право употребить слово «фонтан»; оно было бы совершенно правдивым, оно выражало бы чистую правду для горстки сирийцев, но чистую неправду для миллионов североамериканцев. Всячески склоняя и спрягая слова «драгоценные камни», авторы книг о Тадже не нарушают своих юридических прав, но совершенно игнорируют права моральные: они описывают его с научной скрупулезностью, и читатель дает волю своей самой буйной фантазии.
Глава XXIV САТАНА ПЬЯН И ЛИШИЛСЯ РАБОТЫ
Сатана, обращаясь к пришельцу, раздраженно: «Вы, чикагцы, воображаете, что вы тут лучше всех; а на самом деле вас тут просто больше всех».
Новый календарь Простофили ВильсонаДовольные путешествовали мы по Индии. Побывали мы и в Лахоре, где губернатор одолжил мне слона. С таким гостеприимством я столкнулся впервые в жизни. Это был прекрасный слон, приветливое, благородное, хорошо воспитанное животное, и я ничуть его не боялся. Я даже довольно уверенно разъезжал на нем по запруженным народом улочкам города, где лошади при виде моего слона цепенели от ужаса, а дети чудом ухитрялись не попадать ему под ноги. С важным, независимым видом шествовал он посередине улицы, заставляя всех уступать ему дорогу или расплачиваться за последствия. Обычно, когда я езжу верхом или в экипаже, я всегда побаиваюсь столкновений, но на сей раз, на спине у слона, опасений у меня как не бывало. Я, наверно, преспокойно проехал бы на нем сквозь табун диких лошадей. Езду на слоне я предпочел бы, пожалуй, всем остальным способам передвижения: во-первых, из-за ее безопасности; во-вторых, ради того прекрасного зрелища, какое открывается перед тобой со спины слона; в-третьих, из-за чувства собственного достоинства, какое испытываешь на такой высоте; и, наконец, ради того, что можно заглядывать во все окна и видеть, что там делается. Лахорские лошади привыкли к слонам, но тем не менее безумно их боятся. Это очень странно. Возможно, чем больше они узнают слонов, тем больше уважают их, выражая свое уважение столь своеобразным способом. Ведь и мы не страшимся динамита до тех пор, пока не познакомимся с ним как следует.
Мы добрались даже до Равальпинди на афганской границе, — то есть я полагаю, что это была афганская граница, а быть может, и Герцеговина — она тоже где-то там, — а затем отправились обратно в Дели, чтобы только посмотреть — но не описывать — старинные памятники архитектуры в Новом и Старом Дели. Мы хотели видеть и места знаменитых боев времен восстания, когда англичане взяли Дели штурмом, проявив неслыханные чудеса храбрости и героизма.
В Дели мы недурно отдохнули и освежились в огромном старинном особняке, представляющем большой интерес с точки зрения истории. Особняк этот был выстроен богатым англичанином, который проникся духом Востока до такой степени, что даже завел гарем. Но он был человеком широких взглядов и таким оставался всегда. Для нужд своего гарема он выстроил мечеть, а для себя — церковь. Такие люди еще кое-где попадаются. В дни восстания особняк был штаб-квартирой английского генерала. Он стоит в большом саду — тоже в восточном стиле — и окружен величественными деревьями. На деревьях живут обезьяны, — и не просто обезьяны, а обезьяны сметливые, дерзкие и ничуть не пугливые. Улучив минуту, они забираются в дом и тащат оттуда все, что им вовсе не нужно. В одно прекрасное утро владелец дома принимал ванну, причем окно ванной комнаты было отворено. Возле окна стоила банка с желтой краской, и рядом лежала кисть. В окне появились обезьяны; желая их прогнать, хозяин швырнул в них губкой. Однако обезьяны и не подумали пугаться; они вскочили в комнату и, схватив кисть, обдали хозяина дома желтой краской с ног до головы, вынудив его спасаться бегством. Они перепачкали краской все стены, пол, ванну, окна и мебель и уже забрались было в гардеробную, начав хозяйничать и там, когда наконец подоспела помощь и их прогнали.
Две обезьяны пробрались рано утром и в мою комнату — ставни оставались незатворенными, и они проникли через окно, — и когда я проснулся, одна из них причесывалась перед зеркалом, а другая горько плакала, читая юмористические заметки в моей записной книжке. Поведение обезьяны перед зеркалом меня не задело, зато поведение второй глубоко оскорбило и оскорбляет до сих пор. Я швырнул в нее какой-то предмет, хотя делать этого совсем не следовало, ибо мой хозяин предупредил меня, что обезьян лучше не трогать. В ответ они стали швырять в меня чем попало, а когда поблизости ничего больше не осталось, побежали в ванную комнату, чтобы пополнить свои запасы метательных снарядов; тут-то я и запер их в ванной.
В Джайпуре, в Раджпутане, мы прожили довольно долго. Мы поселились там не в старом городе, а в небольшом предместье, в нескольких милях от него, где жили европейцы. Европейцев насчитывалось там всего четырнадцать человек, но все они были милыми, гостеприимными людьми, и мы чувствовали себя как дома.
В Джайпуре нам снова довелось увидеть то, что мы видели по всей Индии: слуга-индиец — настоящее сокровище в своем роде, но за ним необходимо присматривать, и англичане это знают. Если его посылают с каким-нибудь поручением, он должен чем либо доказать, что выполнил его. Когда нам посылали фрукты или овощи, к ним обычно прилагалась расписка, которую мы должны были подписать; иначе мы могли их и не получить. Если нам предоставляли экипаж, то в расписке ясно указывалось, с какого и по какой час он находится в нашем распоряжении, чтобы кучер со своими подручными не отнял у нас часть дарованного времени и не использовал его в свое удовольствие.
Двухэтажная гостиница, где нас удобно разместили, стояла посреди большого пустого двора, огороженного земляной стеной высотою в человеческий рост. Владельцы гостиницы, девять братьев-индийцев, ютились со своими семьями в одноэтажном домике, расположенном тут же во дворе, только в сторонке. На веранде этого дома всегда виднелась куча славных темнокожих ребятишек, а среди них восседали их родители, покуривая свои хука, или хауда, или как там они их называют[98]. Возле веранды росла пальма, а на ней жила обезьяна; вид у нее всегда был усталый и печальный, вероятно потому, что она была одинока, да и вороны частенько нарушали ее покой.
По двору гостиницы свободно разгуливала корова, что придавало этому месту уединенный и сельский вид; была здесь и собака-дворняжка, которая постоянно спала, растянувшись на припеке; вид ее еще больше усиливал впечатление тишины и спокойствия, царивших тут, когда вороны улетали по своим делам. По двору то и дело сновали облаченные в белое слуги, но они казались лишь призраками, ибо шаги их босых ног были совершенно неслышны. Немного поодаль, в тени большого дерева, жил слон; он раскачивался из стороны в сторону и, протягивая хобот, выпрашивал еду у своей темнокожей госпожи или заигрывал с детьми, которые шалили у его ног. Во дворе обитали и верблюды, но их поступь была столь бархатной, что они ничуть по нарушали окружающую тишину и безмятежность.
Сатана, упомянутый в названии этой главы, — не наш Сатана, а другой. Нашего Сатану мы потеряли. Он недавно исчез из нашей жизни, и я искренне оплакивал его. Я скучал по нему; прошло уже много месяцев, а я все еще скучаю. С удивительной быстротой перелетал он с места на место, выполняя одно поручение за другим. Он не всегда все делал правильно, но, во всяком случае, все делал, причем мгновенно и не теряя ни минуты. Бывало, скажешь:
— Упакуй сундуки и чемоданы, Сатана.
— Слушаюсь.
Тотчас поднимался стук, грохот, шум и возня, причем халаты и платья, сюртуки и ботинки летали по воздуху; затем очень скоро все смолкало, и Сатана докладывал, касаясь рукой лба и кланяясь:
— Все готово, господин.
Это было удивительно. Положительно голова шла кругом. Правда, одежда была ужасно помята, и он соблюдал — по крайней мере вначале — лишь одно правило: все укладывалось не туда, куда нужно. Но вскоре он разобрался, что куда класть, хотя, правда, тоже не совсем: до самого конца он запихивал в чемодан, предназначенный только для книг, всякую всячину, которую не знал, куда девать. И его ничуть не смущало, если ему запрещали делать это даже под страхом смерти; он лишь с приятной улыбкой касался рукой лба и говорил: «Слушаюсь», а на следующий день все начиналось снова.
Сатана был всегда при деле: он убирал в комнатах, чистил ботинки и платье, следил за тем, чтобы в умывальнике всегда была свежая вода, а костюм мой был готов еще за час до того, как мне предстояло отправиться на лекцию. И он одевал меня с головы до ног, невзирая на мое твердое решение одеваться самому, как я привык делать всю свою жизнь.
Он был прирожденным организатором и любил командовать; он отчитывал своих подчиненных, бранил и всячески изводил их. На вокзале он был просто великолепен! Да, там он чувствовал себя в своей стихии. Толкаясь и расшвыривая всех, пробирался он сквозь толпы индийцев, ведя за собой девятнадцать носильщиков, каждый из которых что-нибудь нес: один тащил сундук, другой — зонтик, третий — шаль, четвертый — веер, и так далее; каждый нес только одну вещь, и чем длиннее была эта процессия, тем лучше чувствовал себя Сатана. Он направлялся прямо к какому-нибудь спальному вагону, где все места были уже заняты, и начинал выбрасывать из него чьи-то вещи, клянясь, что это наши места и что произошла ошибка. Когда наконец отыскивался наш вагон, он тотчас же развязывал тюки со спальными принадлежностями, готовил постели, укладывал все вещи по своим местам и за две минуты наводил полный порядок; затем он высовывал голову из окна вагона, самозабвенно ругался с носильщиками и кричал, что они воры и мошенники, пока не появлялись мы и не заставляли его заплатить им все сполна и прекратить весь этот шум.
Что касается шума, то Сатана был, конечно, самым шумным дьяволом в Индии,— а это что-нибудь да значит, и даже очень многое. Я любил его за этот шум, но вся моя семьи его ненавидела. Они не могли выносить этого шума, они не могли к нему привыкнуть. Он их изводил. Обычно, когда мы приближались к вокзалу, еще за шестьсот ярдов на нас обрушивалась лавина шума, криков, визга и воплей. Я был в восторге, но мои домашние обычно говорили смущенно;
— Ну вот. Опять Сатана. Когда ты наконец его выгонишь?
И, разумеется, там, в самом центре огромной, суетливой толпы, мы находили этого маленького человечка, размахивавшего руками, как охваченный судорогами паук; черные глаза его сверкали, кисточка от фески металась из стороны в сторону, а из уст на группу изумленных носильщиков, моливших заплатить им деньги, лились потоки ругательств.
Я любил его, я ничего не мог с собой поделать; но мои жена и дочь... они не могли даже спокойно говорить о пом. По сей день сожалею я о том, что потерял его, и был бы рад взять его обратно, но они... они смотрят на это совсем иначе. Он был индийцем, родом из Сурата. Двадцать градусов широты отделяли его родину от родины Мануэля, а разница в их привычках, характерах и склонностях исчислялась по крайней мере в полторы тысячи градусов. Мануэль мне только нравился, а Сатану я любил. Настоящее имя его было настолько типично индийским — нечто вроде Бандер Рао Рам Чандер Клам Чаудар, — что я никак не мог его запомнить. Постоянно пользоваться им, во всяком случае, было немыслимо, и я его сократил.
Пробыв у нас две-три недели, он начал совершать проступки, которые мне с трудом удавалось исправить. Однажды, когда мы подъезжали к Бенаресу, он сошел с поезда — посмотреть, не найдется ли желающего завести с ним спор, ибо путешествие было долгим и утомительным и ему захотелось освежиться. Он нашел того, кого искал, но беседа несколько затянулась, и он отстал от поезда. Итак, мы оказались в чужом городе без слуги. Положение было очень неприятное, и мы сказали ему, чтобы он впредь не позволял себе подобных выходок. Он коснулся рукой лба и, как всегда, премило ответил: «Слушаюсь». Позднее, в Лакхнау, он напился. Я сказал жене и дочери, что у несчастного лихорадка, и из чувства сострадания они заставили его выпить чайную ложку жидкого хинина, который огнем обжег его внутренности. Гримасы, которые он строил, изобразили лиссабонское землетрясение лучше, чем все картины и описания, вместе взятые. На следующее утро он был все еще пьян, и все же мне, возможно, удалось бы скрыть его состояние от моей семьи, если бы он только согласился принять еще ложку хинина, но не тут-то было: хотя разум его и был порядком притуплён алкоголем, память его тем не менее сохраняла проблески жизни. Он улыбнулся своей на редкость глупой улыбкой и сказал, неловко кланяясь:
— Прости меня, большая госпожа, прости меня, маленькая госпожа. Сатана лучше не хочет, пожалуйста.
И тогда какой-то инстинкт подсказал им, что он пьян. Они решительно заявили ему, что, если это повторится, ему придется уйти. «Слушаюсь», — ответил он грустным, кротким голосом и снова неловко поклонился.
Через неделю он опять напился. И — о горе! — на сей раз это произошло не в отеле, а в доме одного англичанина. Да еще в Агре. Итак, он должен был нас покинуть. Когда я сообщил ему об этом, он кротко ответил: «Слушаюсь», коснулся рукой лба на прощанье и вышел, с тем чтобы больше никогда не вернуться. Клянусь, я бы не променял одного этого дьявола на сотню ангелов! А как он был одет, будь то в пышном отеле или в частном доме! Белоснежный муслин с головы до босых ног, вокруг талии алый кушак, расшитый золотом, а на голове синевато-зеленая чалма, достойная увенчать голову самого турецкого паши.
Он не был лгуном, но со временем, несомненно, им станет. Однажды он рассказал мне, что в детстве разгрызал кокосовые орехи зубами. А когда я спросил его, как ему удавалось засунуть их в рот, он ответил, что был в то время шестифутового роста и обладал необыкновенно большим ртом.
Желая уличить его, я спросил, куда же девался его шестой фут, но он спокойно заявил, что на него обрушился дом и что с тех пор в нем осталось только пять футов. Подобные отклонения от суровой истины способны совратить даже самого честного человека; он все чаще и чаще говорит неправду и в конце концов становится настоящим лгуном.
Преемником Сатаны оказался мусульманин Саадат Мухаммед-хан, очень темнокожий, очень высокий и очень мрачный человек. С головы, увенчанной большой чалмой, до босых ног он был укутан в белые разлетающиеся одежды. Голос у него был тихий. Ходил он бесшумно, скользящим шагом, и похож был на привидение. Обязанности свои выполнял с большим усердием и умением. Но при нем каждый день казался воскресеньем. При Сатане дело обстояло совсем иначе.
Джайпур — типично индийский город, но у него есть кое-какие особенности, которые свидетельствуют о внедрении европейской науки и европейском стремлении к всеобщему благу: это благоустроенный водопровод, построенный полностью за счет княжества; хорошее состояние санитарных устройств, понижающее цифру смертности здесь до степени, необыкновенной для Индии; превосходный парк, где в определенные дни вход открыт только для женщин; школы, где местную молодежь обучают современным ремеслам — как декоративным, так и утилитарным, и, наконец, новый великолепный дворец, в котором размещается чрезвычайно интересный и ценный музей. Конечно, без помощи махараджи и его кошелька этих сооружений не было бы и в помине; но он — натура широкая как по взглядам, так и по щедрости, и, естественно, все подобные начинания вызывают в нем горячий отклик.
Из отеля Кайсар-и-Хинд мы часто ездили в город; такая прогулка представляла большой интерес, ибо дорога, по которой мы ехали, в любое время суток была заполнена людьми и жила полной жизнью, Казалось, вся Индия пришла в движение — по дороге всегда струился поток темнокожих людей, закутанных в одежды, отливающие всеми цветами радуги, — беспокойный, колыхающийся поток счастливых, шумных, славных и вместе с тем странных людей, и странных животных, и не менее странных и диковинных экипажей.
Сам город тоже весьма своеобразен. Всякий индийский город своеобразен, но этот совсем не похож ни на какой другой. Он обнесен высокой стеной с башнями и разделен на шесть частей прямыми как стрела улицами шириною более ста футов; кварталы домов имеют длинную линию фасадов, необычная архитектура которых невольно привлекает внимание: прямые линии повсюду перерезаны хорошенькими балкончиками с колоннами, всевозможными украшениями, хитроумными, изящными и уютными карнизами и выступами. Многие фасады причудливо расписаны красками, и у всех у них фон имеет мягкий сочный цвет клубничного мороженого. Если смотреть вдоль главной улицы, то нельзя отделаться от ощущения, что это игрушечные дома, а вовсе не улица, что все это — не действительность, а лишь картина или декорация в театре.
Как-то раз во время нашего пребывания в Джайпуре эта иллюзия оказалась особенно сильной. Какой-то богатый индиец потратил целое состояние на изготовление великого множества идолов и соответствующего убранства для них, и все это должно было изображать сцены из жизни его любимого бога иди святого. В десять часом утра черва весь город должна была пройти процессия, выставляя все это великолепное зрелище на всеобщее обозрение. В огромном общественном парке по дороге в город мы увидели толпу индийцев. Это было очень любопытно. Но дальше пошло еще интереснее. Посреди широкой лужайки стоит дворец, в котором находится музей — прекрасное сооружение из камня, со сводчатыми колоннадами, расположенными одна над другой и вздымающимися к небу в виде террас. Все эти колоннады до самого верха были облеплены людьми. Представьте себе массу индийцев в одеждах самых ярких цветов; толпы, возвышающиеся одна над другой на фоне синего неба под лучами индийского солнца, превращающего их в костры яркого пламени.
Когда мы добралась до города и увидели главную улицу цвета клубничного мороженого, снова перед нашим взором заиграли краски во всем великолепии их оттенков; ибо каждый балкон, каждая причудливая ниша комнаты, окна которой выходили на улицу, все крыши домов были усеяны людьми, и каждая группа людей сверкала разноцветными красками. И сама улица, широкая и длинная, кишела пышно одетыми людьми, беспрерывно двигавшимися: они теснились, суетились и, увлекаемые общим движением, представляли собой фантастическую палитру красок всех цветов и оттенков, начиная от самых нежных, мягких и теплых и кончая самыми резкими, яркими, веселыми, блестящими, — цветов, похожих на метель из лепестком душистого горошка, которая мчится на крыльях урагана. Наконец, врезаясь в эту бурю красок, мерным шагом, покачиваясь, появились величавые слоны, облаченные в праздничные наряды, а за ними — длинная вереница причудливых повозок, где покоились столь своеобразные и столь дорогие куклы; шествие заключало множество торжественно шагавших верблюдов, на спинах которых сидели живописные наездники.
По игре красок, живописности, величию и необычайности, и по тому очарованию — и неизменному интересу, какое оно вызывало, это было самое потрясающее зрелище из всех, какие мне довелось видеть, и я не надеюсь когда-либо еще увидеть что-нибудь подобное.
Глава XXV ЧИНОВНИКИ-ИНДИЙЦЫ ОШИБАЮТСЯ НИЧУТЬ НЕ БОЛЬШЕ НАС
Сначала господь сотворил идиотов. А затем, имея уже богатый опыт, он произвел на свет школьных наставников.
Новый календарь Простофили ВильсонаЧто, если бы в обучении глухих, немых и слепых детей мы не проявляли большей изобретательности, чем в обучении детей, не имеющих никаких физических недостатков? В результате этого глухие, немые и слепые не приобретали бы никаких знаний. Они бы жили и умирали невежественными и бесчувственными, как камни. Методы обучения в приютах для неполноценных детей вполне рациональны. Сначала учитель точно определяет способности ребенка, а затем ставит перед ним задачи, которые помогают постепенному развитию его способностей. Задачи эти усложняются в соответствии с успехами ребенка. Они не летят на много миль или на много лиг впереди в силу неразумных причуд и равнодушия, как это часто имеет место в планах обычной государственной школы в Америке. В государственной школе ребенка научат писать слово «кот» и потом сразу требуют, чтобы он вычислял даты солнечных затмений. А когда он начинает читать двусложные слова, то уже хотят, чтобы он умел объяснить систему кровообращения. По окончании же начальной школы его запугивают головоломками, объемлющими все области человеческих знаний. Мои слова кажутся преувеличением, но тем не менее они весьма близки к истине.
Однажды и получил очень любопытное письмо из Пенджаба. Написано они было превосходным почерком, и слова там были английские, — английские, и в то же время не совсем английские. Язык письма был легким, бойким и беглым, и все же в нем чувствовалось нечто неуловимо иностранное: какая-то витиеватость стиля, сентиментальность и риторичность. Оказалось, что его написал молодой индиец, занимавший скромную должность клерка в железнодорожной конторе. Он получил образование в одном из многочисленных индийских колледжей. Как выяснилось, в Индии очень много таких образованных молодых людей. Их подняли до снеговых вершин образования, но рынок сбыта столь высокой культуры совершенно не соответствовал количеству предлагаемой продукции. Там существовало всего несколько тысяч мест мелких государственных служащих, а претендентов на эти места было великое множество. То обстоятельство, что юноша, обладавший столь превосходным знанием английского языка и таким бойким пером, занимал всего-навсего должность клерка в железнодорожной конторе, означало, что в стране есть сотни не менее способных людей, иначе он занимал бы значительно более высокую должность. Это обстоятельство, несомненно, свидетельствовало и о том, что есть тысячи молодых людей с чуть меньшими способностями и образованием, и они-то уж оказались совсем без работы. Из всего этого следует заключить, что индийские колледжи делают то же, чем уже давно занимаются наши высшие учебные заведения: с избытком поставляют на рынок труда высокообразованных молодых людей, чем наносят непоправимый вред как самим молодым людям, так и всей стране.
У себя на родине я однажды произнес речь в осуждение вреда, причиняемого средней школой. Сущность этой речи заключалась в том, что мальчики, которые, остановись они на начальной школе, были бы готовы зарабатывать себе на жизнь земледелием или каким-нибудь ремеслом, теперь начинала чувствовать к ним непреодолимое отвращение. Но мне никого не удалось убедить. Ни один из массы «высокообразованных» бездельников, и думать не желающих о том, чтобы унаследовать ремесло своих отцов, не может найти применения своим книжным знаниям. Той же почтой, что доставила мне письмо из Пенджаба, я получил небольшую книжку, опубликованную калькуттской фирмой Тэкер, Спинк и КО; книжка эта интересовала меня как своим предисловием, так и содержанием, касающимся вопроса об избытке образованных людей. В предисловии был приведен отрывок из статьи в журнале «Калькутта ревью». Читайте вместо слов «правительственное учреждение» слова «торговая контора», и вам покажется, будто в этой статье говорится об Америке.
«Образование, которое получают наши юноши, чуть улучшает их манеры, а их самих делает более смышлеными в разговоре с незнакомыми людьми. Но, с другой стороны, они начинают чувствовать неудовлетворенность своей судьбой и не желают заниматься физическим трудом. Форма, которую в нашей стране принимает неудовлетворенность, — явление нездоровое, ибо молодые индийцы полагают, что единственным занятием, достойным образованного человека, является работа чиновника в каком-нибудь учреждении, предпочтительно в правительственном. Деревенский парнишка с большой неохотой вновь берется за плуг, а городской школьник столь же неохотно и неумело принимается за работу в мастерской своего отца. Иногда эти «образованные молодые люди» решительно отказываются работать, и родителям не раз приходится пожалеть о том, что они позволили своим сыновьям соблазниться обучением в средней школе».
Книжка, из которой я взял приведенный отрывок, называется «Англо-индийская литература» и порядком напичкана ломаным английским языком коренного населения Индии: языком клерка, книжным языком, приобретенным в школе. Кое-что в ней выглядит очень забавным, — наверно, так же забавно выглядят наши сочинения, когда мы пытаемся писать не на нашем родном языке, — но большая часть книги написана удивительно правильным и легким языком. Если бы я хотел принести пример этого хорошего английского языка... Впрочем, не стоит. В Индии очень многие говорят и пишут на английском языке не хуже, чем самые образованные люди у нас. Я просто хочу привести несколько примеров странного и неправильного употребления английских слов. В книге много писем; в них нищета молит о помощи: о хлебе, о деньгах, о сострадании, о должности, — чаще всего о должности клерка, о какой-либо возможности использовать полученное просителем, но нигде не применимое образование; просят о пище и одежде, причем о пище не только для себя и своей семьи, но иногда и для десятка беспомощных родственников, ибо люди эти удивительно неэгоистичны и на редкость преданны узам кровного родства. У нас не отыщешь ничего подобного. Некоторые из этих писем причитают и молят, другие полны униженности и даже пресмыкательства, третьи, — а таких очень много, — необычайно смешны и бессвязны, но все они, как правило, трогательны, и возникший было смех обрывается, и тебе становится даже стыдно за него. В приведенном ниже письме слово «отец» не следует понимать буквально. На Цейлоне маленькая нищенка порядком смутила меня, назвал «отцом», хотя я знал, что она ошибается. Тогда я еще понятия не имел, что так поступают все просители и люди зависимые:
«Сэр!
Умоляю, пожалуйста, дать мне что-нибудь делать потому как я очень бедный парень и помочь мне некому. Отец вы добрый мне нужна работа пусть телеграф другая работа какое будет ваше желание. Я очень бедный парень вы мой отец я ваш сын хоть что-нибудь.
Ваш слуга П. С. Б.»
Столетия унизительного угнетения собственными местными правителями научили этих людей считать раболепство и лесть вполне законными формами обращения, и об этом следует постоянно помнить и относиться снисходительно, когда судишь о характере индийцев. В таких письмах нередко чувствуется тайное намерение просителя затронуть самую чувствительную, религиозную струнку белого. Даже бедный юноша закидывает свою удочку с приманкой в виде изуродованного библейского текста, надеясь, вероятно, выловить что-нибудь хоть на эту наживку, если все остальное ни к чему не приведет.
Вот просьба о месте учителя английского языка для детей:
«Дорогой сэр или джентльмен, проситель имеет много знаний в английском языке, чтобы обучать мальчиков. Мне дали понять, что Ваши подходящие дети для обучения английскому языку».
В качестве образчика цветистого восточного стиля я приведу несколько фраз из длинного письма молодого индийца губернатору Бенгалии. Это тоже прошение насчет работы:
«Достопочтенный и многоуважаемый сэр! Надеюсь, Ваша честь соблаговолит выслушать историю бедняка. Я преисполнюсь бесконечной благодарности за этот знак Вашего поистине королевского снисхождения. Счастье, подобно птице, улетело из гнезда, свитого в моем сердце, и не возвращается с тех пор, как ледяное дыхание смерти коснулось розы жизни моего отца, или, говоря по-английски: с тех пор, как он сошел в могилу; и с той минуты образ радости ни разу не вставал перед моим взором».
Как видите, типичный образец школьного английского языка, книжного языка, в котором, по правде говоря, ничего страшного нет. Если бы юноше-индийцу пришлось учить только один английский язык, он, безусловно, знал бы его превосходно. Однако дело обстоит иначе. Индиец находится в том же положении, что и наши школьники: его перегружают множеством других наук; очень часто эти науки совершенно непосильны для ученика на его ступени общего развития, и лишь самая необузданная фантазия позволит вообразить, что он способен все это одолеть. По-видимому, индиец, как и наш школьник, должен трудиться и трудиться не покладая рук и школе и дома, после чего у него почти совсем не остается времени на отдых. По-видимому, обучение его, как и обучение нашего школьника, заключается в ознакомлении с вещами, предметами и явлениями, а не с их смыслом и значением; его пичкают лишь шелухой, а не зерном. Среди нескольких сочинений индийских школьников на тему, как они проводят день, я выбрал одно, написанное подробнее остальных:
«66. Я поднимаюсь со своей постели на рассвете и кончаю мои ежедневные обязанности, потом до 8 часов я занимаю себя, после чего я занимаю себя мытьем, потом беру для своего тела сладости и как раз в 9.30 я явился в класс выполнять мои школьные обязанности, затем в 2.30 я вернулся из школы и занялся выполнением моих естественных обязанностей, потом я занимаю четверть часа на обед, затем до 5 часов я учусь, после чего я начал играть во все, что пришло в голову. После 8.30 (половина без половины восемь) мы легли спать, но перед спаньем я сказал констеблю, ровно одиннадцать ч., он пришел и разбудил нас, с половины двенадцатого мы начали читать до утра».
Не очень ясно, а? Я постараюсь помочь вам и расшифровать это сочинение. Он встает около пяти часов утра, или что-то вроде этого, и ложится спать часов через пятнадцать — шестнадцать, - это как будто понятно; но зачем ему снова вставать спустя три часа и снова учиться до самого утра - вот загадка.
Я думаю, все это потому, что он учит историю. История требует массу времени и упорного труда, если ваша «образованность» ненамного превосходит «образованность» кошки; если вам приходится буквально начинять себя множеством ничего не говорящих вам имен, случайных событий и ускользающих из памяти дат, которые вам никто не пытается объяснить, а необъясненные, они не стоят и тысячной доли затраченного на них времени. Да, он, конечно, был вынужден вставать в 11.30 вечера только для того, чтобы в полдень знать заданный ему урок по истории. А каковы результаты этого, мы сейчас увидим из экзаменационных ответов, написанных школьниками Калькутты:
Вопрос: «Кто был кардинал Уолси?»[99]
«Кардинал Уолси был редактором газеты «Норд Бритон». В номере 45 этой газеты он уличил короля во лжи, произнесенной с трона. Был арестован и брошен в тюрьму. После освобождения уехал во Францию».
3. «Был епископом Йоркским, но умер от дизентерии в церкви, на пути к месту, где ему предстояло быть оболваненным».
8. «Кардинал Уолси был сыном Эдуарда IV, после смерти отца он в возрасте десяти (10) лет сам сел на трон, но когда он превзошел или когда он впал в свой двадцатилетний возраст, в то время он хотел совершить путешествие по своим странам, подчиненным ему, но его мать воспротивилась этому, и по примеру матери он остался в своем доме и затем стал королем. После многих препятствий и беспорядков он стал королем, а потом и его брат»,
В этом, конечно, нет и слова истины.
Вопрос: «Что означают слова Ich Dien?»[100]
10. «Честь, воздаваемая первым или старшим сыновьям английских королей. Ничего особенного — просто пучок перьев».
И. «Ich Dien» - слово, написанное на перьях Слепого короля, который явился на бой, запутавшись в уздечке своей лошади».
13. «Ich Dien — титул, данный Генриху VII папой римским, когда он сопровождал Реформацию кардинала Уолси в Рим, и по этой причине его прозвали Командором веры».
В книге приведено с десяток таких бредовых ответов, высказанных на экзамене. И каждый ответ сам по себе бесспорно доказывает, что, когда школьник начал изучать историю, перед ним поставили задачу, явно для него непосильную, что от него потребовали овладения наукой, не научив предварительно, как ею овладевать а это все равно что заставить ученика заниматься геометрией, не дав ему даже самых элементарных познаний в арифметике, без которых невозможно приступить к более сложным предметам. Этим калькуттским школьникам совершенно незачем было учить историю. Незачем было устраивать им экзамен по истории, незачем было выставлять на посмешище и их самих и учителей. Знаний у них не было, значит и проверять было нечего.
Эллен Келлер потеряла дар речи, слух и зрение в раннем детстве, ей было тогда всего полтора года; а когда ей исполнилось шестнадцать, эта удивительная девочка, это чудо из чудес, сдала в Гарвардском университете экзамены по латыни, немецкому языку, французской истории, изящной словесности и другим наукам, причем не просто сдала, а сдала блестяще. Она не только знает предметы, вещи и явления, но и прекрасно понимает их сущность. Когда она пишет сочинение о шекспировском герое, ее английский язык точен и выразителен, ее подход к предмету — это подход человека знающего, и каждая страница ее сочинений озарена светом мысли. Интересно, использовала ли ее преподавательница мисс Сэлливан методы, применяемые в индийских или американских государственных школах? Нет, конечно, нет; иначе Эллен стала бы еще более немой, глухой и слепой, чем была раньше. Жаль, что невозможно обучать всех наших детей в приютах для неполноценных.
Но посмотрим, что еще знают калькуттские школьники.
«Что такое шериф?»
«Шериф — это должность, учрежденная во времена Иоанна. Здесь, в Калькутте, обязанность шерифа — выискивать и ловить тех кучеров, которые по-сумасшедшему гонят свои экипажи; но в Англии — это высокий пост».
«Шериф — это перечень ежедневных молитв».
«Человек, который охраняет винительных людей, называется шерифом».
«Шериф — латинское название кустарника, который мы называем ракитником; первый граф Энджью, отправившись в паломничество, носил его как эмблему смирения, и из этого их наследники сделали себе герб и фамилию».
«Шериф — титулованная секта, как «бароны», «дворяне» и т. д.»
«Шериф — титул, который дается таким людям в Англии, которые уважительны и набожны».
Учащихся экзаменовали по таким громоздким и различным вопросам, как геометрия, солнечный спектр, закон Habeas Corpus[101], английский парламент и метафизика; их просили проследить развитие скептицизма от Декарта до Юма. Не будет преувеличением сказать, что результаты оказались потрясающими. Разумеется, некоторые ученики оправдали мудрое решение учителей ознакомить их с этими науками; но совершенно очевидно и то, что остальные напрасно теряли время, пытаясь изучать эти сложные вопросы, меж тем как они могли его использовать гораздо продуктивнее, занимаясь более доступными им предметами. По геометрии один из учащихся подал следующее решение:
49. «Весь. BD = всему СА и т. д., и т. д., и т. д.».
Мне кажется, что это весьма туманный ответ, но, правда, я никогда не был силен в геометрии. Однако он оказался единственным, хотя на экзамен явилось пятеро учащихся, остальные только пискнули и сдались без борьбы. Писк был очень жалобный, писк отчаяния; лишь один учащийся вместо писка разразился красноречивыми упреками; это был бедный юноша, сверх меры перегруженный по глупости учителя, но упреки его красноречивы, несмотря на скудный запас знаний по английскому языку. Бедняге пришлось разгадывать загадки, которые, вероятно, не сумел бы понять даже сэр Исаак Ньютон.
«Дорогой отец экзаменатор мой отец будь добрый дай мне оценку чтобы пройти экзамен мой великий отец».
«Я бедный юноша и у меня нет средств содержать мать в двух братьев которые все время хотят есть. Из фонда благотворительности я получаю четыре рупии в месяц из них две рупии я посылаю им а две оставляю себе. Отец если я расскажу наше несчастное положение ты наверно не сможешь сдержать слезу жалости».
«Сэр совсем невозможно что я третий ученик подготовительного класса могу понять то, чего но понимают сэр Исаак Ньютон и другие опытные математики. И потом экзаменатор дал мне очень тяжелые утомительные задачи».
Не забывайте, что этим школьникам приходилось думать на одном языке, а выражать свои мысли — на другом, да еще чужом[102]. Это им очень мешало. У меня есть составленный учительницей мисс Каролиной Б. Ле Роу сборник экзаменационных работ, написанных в государственных школах Бруклина. Стоит только полистать его страницы — и вам станет ясно, что ответы американского школьника, который думает и пишет на одном и том же языке, причем на родном, ничуть не лучше, чем ответы его индийского собрата.
По истории
«Христофор Колумб назывался отцом своей страны. Королева Испании Изабелла продала часы с цепочкой и шляпы, чтобы Колумб мог открыть Америку».
«Индейские войны оскверняли страну».
«Индейцы воевали, прячась в кустах, а затем снимали с них скальпы».
«Капитан Джон Смит был назван отцом своей страны. Его дочь Покохонтас спасла ему жизнь»[103].
«В дебрях Америки пуритане нашли приют для душевнобольных».
«Закон о гербовом сборе должен был заставить каждого проштемпелевать все материалы так, чтобы они потеряли всякую законную силу».
«Вашингтон умер в Испании почти с разбитым сердцем. Его останки были перевезены в собор в Гаване».
«Гверилья — это когда люди ездят верхом на гориллах».
В Бруклине экзаменуют ученика так же, как в Индии, и, когда обнаруживают, что он ничего не знает, его начинают засыпать вопросами по литературе, геометрии, астрономии, по законоведению и прочим наукам, чтобы он как следует проявил свое невежество.
По литературе
«Брейсбридж Холл» написан Генри Ирвингом»[104].
«Эдгар А. По был очень страшным писателем»,
«Беовулф написал библию»[105].
«Бен Джонсон кое в чем пережил Шекспира».
«В «Кентерберийских рассказах» говорится о том, как король Альфред ехал к гробнице Томаса Бекета»[106].
«Чосер был отцом английской посуды».
«Преемником Чосера был Г. У. Лонгфелло».
Мы закончим двумя примерами из «литературы»: один отрывок принадлежит американскому школьнику, другой — индийскому. Первый представляет собой попытку переложить на прозу несколько строф из «Девы озера»[107]. Вы сами убедитесь, что он сумел выполнить поставленную перед ним задачу:
«Человек, который ехал на лошади, изо всех сил, ничуть не уменьшающихся, махал кнутом и инструментом, сделанным из чистой стали, ибо, хотя он и устал от времени, проведенного за тяжким трудом, он был преисполнен гнева и не знал, что такое утомление, а каждый вздох его был полон горечи, молодой олень, который, задыхаясь от быстрого бега, появился на виду».
Следующий отрывок дается из маленькой книжонки, очень известной и Индии, — биографии знаменитого индийского судьи Онукула Чандера Мукерджи; биография, написана его племянником и, вопреки намерению ее автора, забавна. И предлагаю вашему вниманию заключительные строки. Если вам захочется прочитать всю книгу, можете получить ее у издателей: фирма Тэкер, Спинк и К°, Калькутта.
«И, произнеся эти слова, он герметически закупорил свои уста с тем, чтобы никогда не открывать их вновь. Все известные калькуттские врачи, каких только можно было раздобыть для достойного лечения такого знатного и богатого человека, были доставлены к изголовью его постели: доктор Пейн, доктор Ферер, доктор Нилмадаб Мукерджи и другие. Они делали все, что было в их силах, прилагая все свое могущество и медицинские сознания, по потом оказалось, что это все равно что доить барана! Жена и дети не получили даже печального утешения — не смогли выслушать последние слова умирающего; несколько часов он пролежал молча, а в 6.12 вечера ушел от нас, согласно воле всевышнего, смысл которой скрыт от нас».
Глава XXVI НА СТРАННОМ МАВРИКИИ ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ
Нет людей более грубых, чем чересчур утонченные натуры.
Новый календарь Простофили ВильсонаВ конце марта мы отплыли из Калькутты, остановились на день в Мадрасе, провели дня три на Цейлоне, а затем направились на запад, на поиски острова Маврикии.
Из моего дневника.
7 апреля. — Мы находимся в открытом море, среди безмятежных просторов Индийского океана; под широкими палубными тентами тень, уют и тишина. Жизнь снова кажется прекрасной, даже идеальной.
Разница между рекой и морем состоит в том, что река кажется жидкой, а море — твердым: так и хочется ступить на него ногами.
У нашего капитана есть одна особенность: в его устах правда кажется ложью. В этом отношении он полная противоположность суровому шотландцу, что сидит за одним столом с нами в кают-компании: в устах того любая ложь звучит чистейшей правдой. Когда капитан что-нибудь рассказывает, пассажиры незаметно переглядываются, как бы спрашивая друг друга: «Вы верите этому?» Когда же говорит шотландец, во взглядах пассажиров написано: «Вот удивительно, и как интересно!» А ведь все дело только в манере говорить. Капитан немного застенчив и робок, он излагает самые простые факты так, будто сам в них не уверен, в то время как шотландец плетет самые явные небылицы с видом человека, сообщающего истинную правду, и вы вынуждены ему верить, заведомо зная, что он лжет. Однажды шотландец рассказал нам о ручной летающей рыбе, которая жила у него в оранжерее, в маленьком бассейне, и сама заботилась о своем пропитании, ловя обитающих в соседних полях птиц, лягушек и крыс. И буквально никто из сидевших за столом не усомнился в достоверности его рассказа.
Как-то раз, во время разговора о нудных таможенных формальностях, капитан рассказал нам один простой, обыденный случай, но говорил он так неуверенно, что никто ему не поверил.
Вот что он рассказал:
— Однажды во время стоянки в Неаполе, когда я плавал на той линии, я сошел на берег помочь пассажирам, так как я немного говорю по-итальянски. Чиновник таможни несколько раз спрашивал меня, нет ли у меня чего-нибудь такого, что подлежит обложению пошлиной, и всякий раз, когда я отвечал отрицательно, он все больше и больше раздражался. И тут один пассажир, которому я оказал помощь, пригласил меня выпить чего-нибудь. Я поблагодарил его, но отказался, заявив, что еще на пароходе, перед тем как сойти на берег, выпил стаканчик виски.
Это признание оказалось роковым. Чиновник тотчас же заставил меня уплатить шесть пенсов пошлины за вынос виски с борта парохода на берег; кроме того, он оштрафовал меня на пять фунтов стерлингов за то, что я не сообщил ему об этом виски, на пять фунтов — за ложное заявление о том, что у меня нет ничего подлежащего обложению пошлиной, на пять фунтов — за то, что я скрыл наличие виски на пароходе, и па-конец — на пятьдесят фунтов за провоз контрабанды, т. е. максимальное наказание — за незаконный ввоз товара ценою ниже семи с половиной пенсов. В общем, я заплатил шестьдесят пять фунтов шесть пенсов за сущий пустяк!
Шотландцу всегда верили, хотя он не говорил и слова правды, в то время как капитана считали лгуном, а ведь в его рассказах, насколько мне известно, не было и капли лжи. Попытайся он утверждать, что его дядюшка— мужчина, он, должно быть, говорил бы это с таким видом, что никто не поверил бы ему, а шотландец мог бы заявить, что его дядюшка — женщина, и ни у кого эти слова не вызвали бы и тени сомнения. Нечто подобное происходит и со мной как с писателем: если я лгу, все считают, что я говорю правду, а настоящую правду всегда принимают за ложь.
На пароходе полно ручных зверьков и птиц. В этих дальних странах белые люди страшно увлекаются ручными животными. У нашего хозяина в Канпуре была чудесная коллекция птиц — лучшая из всех виденных нами в частных домах Индии. И в Коломбо, в большом саду и просторном бунгало доктора Маррея, жила большая компания прирученных обитателей лесов: прыгали резвые белочки; летал по дому цейлонский воробей; зеленый попугайчик, не раскрывая клюва, насвистывал одну и ту же ноту, настойчиво призывая кого-то и хихикая; в клетке на задней веранде обитала обезьяна, а ее сородичи жили в саду на деревьях, где нашли приют и несколько попугаев с перьями необыкновенной раскраски; кроме того, там было великое множество птиц и животных, ранее мною не виданных. Но кошек не было, хотя им, без сомнения, понравилось бы это место.
9 апреля. — На Цейлоне очень много чайных плантаций. Один пассажир сказал мне, что чай дает сорок процентов прибыли на капиталовложение и что сейчас чайная торговля процветает.
10 апреля. — Цвет воды голубой, как в Средиземном море, а это, по-моему, самый божественный цвет, какой только бывает в природе.
Как удивительны и прекрасны щедрые дары Природы ее творениям, — по крайней мере всем остальным, кроме человека. Для тех, кто летает, Природа создала не имеющее пределов жилище высотой в сорок миль, а площадью во весь земной шар, и нигде никаких препятствий для полета. Тем, кто плавает, природа также даровала весьма величественные владения — владения во много миль глубиной, а покрывают они четыре пятых земного шара. Человеку же выпали на долю одни лишь остатки да огрызки. Природа предназначила ему тонкий слой земной поверхности, скудный слой, занимающий всего одну пятую земного шара, причем большая его часть непригодна для жизни. Половина владений человека представляет собой только вечные снега и льды, песок и скалы. Итак, только одна пятая унаследованного человеком родового поместья имеет для него известную ценность, и с этой одной пятой он должен, трудясь в поте лица, не только добывать себе пропитание, но и содержать короля и его солдат и снабжать их порохом для распространения благ цивилизации. И все же человек, по своей простоте и благодушию и неспособности хитрить, наивно полагает, что Природа считает его важнейшим членом своей семьи, даже любимцем. Однако по временам и в его тупую голову, по-видимому, приходит мысль о том, что Природа проявляет свою любовь к нему довольно странным способом.
Днем. — Капитан только что рассказал нам, как во время одного из его плаваний по Ледовитому океану было так холодно, что тень его помощника примерзла к палубе, и лишь ценою больших усилий удалось ее оторвать, да и то только две трети. Когда он кончил говорить, никто не проронил ни слона, и капитан удалился. По-моему, он начинает приходить в отчаяние...
Справедливости ради, не могу не похвалить пароходную библиотеку; в ней нет ни одного экземпляра «Векфильдского священника», этого странного скопища самодовольных лицемеров и идиотов, дешевых и напыщенных героев и героинь, любящих пускать пыль в глаза, отрицательных персонажей, которые никого не способны заинтересовать, и положительных, от которых просто тошнит. Удивительная книга! В ней нет ни одного искреннего слова, ни одного действующего лица, достойного уважения. Эта книга — настоящая сточная яма ханжески слюнявых добродетелей и скучнейших сентенций; книга, полная слезливости, вызывающей отвращение, и юмора, от которого становится тяжело на сердце. Мало найдется в литературе эпизодов, более грустных, более жалких, чем знаменитая «комическая» история о Моисее и очках. В этой библиотеке вы не найдете и книг Джейн Остин[108]. Уже одно только это могло бы превратить в хорошую даже такую библиотеку, в которой нет ни единой книги.
Распорядок дня в тропических морях. В пять часов утра окатывают водой палубы, и дамам, которые там ночуют, приходится вставать и спускаться вниз, куда переносят и их постели. Затем один за другим появляются мужчины в пижамах, они только что приняли ванну и теперь гуляют по палубе час-другой, босиком и засучив брюки. Подают кофе и фрукты. Появляется корабельная кошка с котенком, и они тоже приступают к утреннему туалету. Затем приходит парикмахер и прямо на обдуваемой ветерком палубе бреет и стрижет нас. В 9.30 завтрак, и тут начинается обычный день. Спокойнее этого дня не найти; ничто не шелохнется; синее море, гладкое, как стекло; насколько видит глаз — кругом одни безбрежные просторы; корабль идет быстро, и потому нас овевает легкий ветерок. Никто здесь не получает никаких писем, которые нужно было бы читать, а затем отвечать, нет ни газет, заставляющих волноваться, ни телеграмм, вечно раздражающих и пугающих вас. Мир словно отрезай от вас; он перестает существовать для вас в первые же дни, он забывается, как сон, и начинает казаться чем-то нереальным, он исчезает из памяти вместе с делами и стремлениями, вместе со счастьем и невзгодами, с надеждой и отчаянием, радостью и горем, с заботами и волнениями. Все это уже не трогает вас больше, все это ушло из вашей жизни, как буря, что промчалась мимо, оставив после себя полный покой. Пассажиры, облаченные в белоснежные костюмы, группами собираются на палубах, читают, курят, вышивают, играют в карты, беседуют, дремлют, — словом, каждый занят своим делом. На других линиях пассажиры только и знают, что высчитывают, когда они наконец доберутся до места назначения! В этих же водах вы почти никогда не услышите подобных разговоров. На других пароходах пассажиры в полдень с жадностью бросаются к бюллетеню, в котором сообщается пройденный путь. У нас же им никто не интересуется. Я ни разу не видел, чтобы к нему кто-нибудь подошел, я сам за тринадцать дней пути подошел к нему всего один раз. И в этот-то раз я заметил цифры пройденного за день расстояния. В тот день за обедом зашел разговор о скорости современных судов. Я оказался единственным из пассажиров, кто был осведомлен о скорости движения нашего парохода. На этой линии никто не заключает пари насчет быстроты хода судна, как бывает обычно в Атлантике, — никому это и в голову не приходит.
Мне лично решительно все равно, когда мы придем в порт, да я, признаться, не заметил, чтобы и кто-нибудь другой этим интересовался. Если бы это зависело от меня, то мы бы вообще не пришли туда, ибо жизнь на воде имеет для меня неувядаемое очарование. Здесь нет ни усталости, ни утомления, ни забот, ни ответственности, ни работы, ни плохого настроения. Где на суше можно найти такое спокойствие и комфорт, такую безмятежность и такую глубокую удовлетворенность? Если бы я мог выбирать, я бы предпочел жизни на твердой земле бесконечное плавание по морю.
Одна из баллад Киплинга правильно передает невыразимое очарование волшебного моря:
Улыбчивою синевой Цветет Индийский океан; Простор, сиянье и покой — Лишь под винтом кипит буран.14 апреля. — Оказывается, человек, занимающийся астрономическими расчетами, показал мне часть Млечного Пути вместо Магеллановых Облаков. Но вчера вечером другой, более опытный в этих делах человек показал мне один из них. Кто было маленькое, еле заметное изящное облачко, похожее на клочок белого дыма, — из тех, что обычно плавают в небе после разрыва шрапнели.
Среда, 15 апреля. — Остров Маврикий. Прибыли в два часа ночи в стали на якорь в Порт-Луисе. Вокруг суровые скалы и утесы, до самых вершин заросшие зеленой растительностью; от их подножья к морю отлого спускается зеленая долина, и вода с острова сбегает по ней в море. Полагаю, что мы находимся на 56° восточной долготы и 22е южной широты — в жарких тропиках.
Зеленая долина выглядит очень привлекательно; в тени деревьев гнездятся дома местных жителей. Это места, где разыгралась сентиментальная история Поля и Виргинии.
На острове засилье французов, которые считают, что сохранить их здоровье могут только карантины, и поэтому пренебрегают санитарией.
Четверг, 16 апреля. — Утром сошли на берег. Порт-Луис — миленький городишко, но там живет самое большое из виденных нами ранее количество различных национальностей всех цветов и оттенков кожи. Французы, англичане, китайцы, арабы, африканцы с курчавыми волосами, чернокожие с прямыми полосами, индийцы, люди смешанной крови, квартероны — настоящий калейдоскоп костюмов и красок.
В 1.30 сели на поезд, идущий в Кюрпип, и два часа поднимались в гору. Какая разница между этим неистовым изобилием растительности — и бесплодными равнинами Индии; между этими картинно-живописными утесами, скалами и миниатюрными горами — и унылым однообразием совершенно гладких равнин Индии!
Один из местных жителей, указав на красивого смуглого человека, степенного и величественного вида, сказал с благоговейным страхом:
— Это такой-то; он уже тридцать семь лет занимает то один, то другой пост при правительстве. Он известен на всем острове и, возможно, в других странах, — кто знает! Но одно несомненно: назовите его имя в любом конце острова, и не найдется взрослого человека, кто бы его не слышал. Как хорошо быть таким знаменитым. А посмотрите на него — слава совсем его не изменила, он, по-видимому, даже и не подозревает о ней.
Кюрпип (означает, кажется, «подушечка для булавок» или «город колышков») находится в шестнадцати милях (в двух часах езды по железной дороге) от Порт-Луиса. По всем четырем углам каждой крыши и на коньке каждого слухового окна стоит деревянный колышек в два фута высотой; иногда конец его тупой, иногда острый и похож на зубочистку. Страсть к этому скромному украшению обуревает всех.
В истории острова Маврикий произошло лишь одно выдающееся событие, но и оно ничуть не достоверно. Я говорю о романтическом пребывании здесь Поля и Виргинии. Именно эта история и сделала известными всему миру и сам остров Маврикий, и его название, оставив в неизвестности лишь его географическое положение.
Одного священнослужителя попросили угадать, что находится в коробке на столе. Это оказался пергаментный веер, на котором было нарисовано кораблекрушение. Нам сообщили, что «это один из свадебных подарков Виргинии».
18 апреля. — Это единственное в мире место, где приезжему не задают традиционного вопроса: «Как вам здесь нравится?» Это и самом деле сильно отличает остров от других мест. Здесь местный житель сам говорит о своей стране и не просит в этом помощи приезжего. Вы можете получить исчерпывающие сведения по всем вопросам. От одного из аборигенов вы узнаете о том, что сначала был создан остров Маврикий, а потом уже, по его образу и подобию, — рай. Другой считает это преувеличением и утверждает, что двум главным городам острова — Порт-Луису и Кюрпипу — все же не хватает райского совершенства, что в Порт-Луисе жить можно только по принуждению, а Кюрпип — самое сырое и дождливое место на земле.
Один англичанин, живущий на острове, рассказал мне следующее:
«В начале этого века остров Маврикий служил французам базой для операций против англо-индийской торговли; желая помешать этим действиям, англичане захватили Маврикий и соседний остров Бурбон. Затем англичане возвратили Бурбон — лондонское правительство не нуждалось в увеличении своих владений «в Вест-Индии». Если бы правительство получше разбиралось в географии, оно бы не поступило так глупо с Бурбоном. В одни прекрасный день, во время войны, Суэцкий канал может оказаться для нас закрытым, и английским кораблям, чтобы попасть в Индию, придется огибать мыс Доброй Надежды. И вот тогда Англия вынуждена будет снова забрать Бурбон, и она его заберет.
Еще двадцать лет назад остров Маврикий был английской колонией, им управлял губернатор, назначаемый Великобританией, в помощь себе он назначал Совет. Но вот губернатором стал Поуп Хенесси; изо всех сил он старался сделать хотя бы часть мест в Совете по-настоящему выборными, и в конце концов ему это удалось. Поэтому теперь весь Совет состоит из французов, и по всем обычным вопросам законодательства они голосуют в интересах Франции, а не Англии. Английское население здесь весьма невелико, и у него даже нет достаточного количества голосов, чтобы избрать от себя хоть одного члена в законодательный орган. Законодательная власть на острове находится в руках полдюжины богатых французских семей. Член парламента Поуп Хенесси, ирландец, католик, сторонник гомруля, член парламента, ненавидел Англию и англичан и, будучи по природе своей очень беспокойным человеком, оказался серьезной помехой для Вестминстера. Поэтому его решили отправить в страну с нездоровым климатом, в надежде, что там с ним что-нибудь случится. Но надежды эти не оправдались. Первый опыт оказался не просто неудачным, но и доказал, что сам Хенесси был гораздо опаснее, чем все болезни, с которыми ему предстояло столкнуться. Второй эксперимент проводился на месте. Темный замысел снова провалился. Серьезных болезней в то время почти не было, люди болели только корью, и здоровье Поупа Хенесси ничуть не пострадало. Он работал с французами и для французов, против англичан; он ужасно надоел англичанам, а французы были просто счастливы, и он дожил до того радостного дня, когда флаг, которому он служил, был публично освистан. Французы свято чтят и хранят о нем память.
Этот остров — место бесконечных карантинов. Здесь постоянно держат пароход в карантине, есть ли для этого причина или нет; держат по двадцать и даже по тридцать дней. Однажды пароход подвергли карантину только за то, что его капитан в детстве перенес оспу. За это и за то, что он был англичанином.
Население острова очень невелико, ничтожно мало. Большинство его составляют ост-индцы, затем люди смешанной крови, потом негры (потомки рабов времен господства французов), французы и англичане. Был и один американец, но он не то умер, но то сбежал. Люди смешанной крови происходят от браков людей самых различных рас: черных и белых, мулатов и белых, квартеронов и белых, окторонов и белых. Поэтому здесь можно увидеть все цвета кожи: черного дерева, старого красного дерева, конского каштана, коричневато-рыжий, черной патоки, тусклого янтаря, чистого янтаря, старой слоновой кости, новой слоновой кости, мертвенно-белого, — последний появляется у англосаксов после длительного пребывания в жарком тропическом климате и придает им болезненный вид.
Теперь вам покажется странным, что житель этого острова гордится своей родиной, не правда ли? Но это действительно так. Большинство жителей никогда не выезжали за пределы своего острова, мало читали, мало знают и уверены, что мир состоит из трех стран: Иудеи, Франции и острова Маврикий, и очень гордятся тем, что живут в одной из трех частей земного шара. Они думают, что Россия и Германия находятся в Англии и что Англии ничего особенного собой не представляет. Они что-то смутно слышали о Соединенных Штатах и об экваторе и считают их монархиями. Они полагают, что Маунт Питер Ботт — самая высокая гора в мире, а когда вы показываете им фотографию Миланского собора, они пыжатся от гордости и уверяют, что идея создания леса шпилей скопирована с их идеи украшать здания колышками и «зубочистками», которые делают крыши домов Кюрпипа такими красивыми и колючими..
Книжная торговля на острове не процветает. Образованием и развлечением местных жителей занимаются газеты,— больше развлекают, чем учат. Газеты состоят из двух полос; одна печатается на английском, а другая на французском языке. Английская полоса — перевод с французского. Полиграфия здесь чрезвычайно низкого качества; такой, пожалуй, нигде не встретишь. Корректора сейчас нет, он умер.
Где берут они на этом островке, затерявшемся среди безбрежных просторов Индийского океана, материал для целой газетной полосы? Его поставляет Мадагаскар, Они пишут в основном о Мадагаскаре и Франции. А оставшееся место они битком набивают советами правительству и сплетнями насчет английской администрации. Все газеты принадлежат креолам-французам и ими же редактируются.
Основной язык на острове — французский. На нем говорят все: приходится. Вы обязаны знать французский, особенно французский язык туземцев — своеобразный жаргон, на котором говорит каждый встречный— люди всех цветов и оттенков кожи, — иначе на острове жить невозможно.
Прежде это был цветущий край, ибо он производил — да и до сих пор производит — лучший в мире сахар; но потом его сначала отрезал от мира и оставил прозябать в одиночестве Суэцкий канал, а затем на европейских рынках появился свекловичный сахар, производство которого поощряется правительственными премиями. Сахар — единственный источник существования острова, а сейчас он начинает терять свое значение. Падение цен на сахар было несколько приостановлено обесцениванием рупии, — ибо плантатор платит жалованье в рупиях, а продает свой урожай на золото, — и восстанием на Кубе, вызвавшим там упадок сахарной промышленности, что немного подняло цепы на наш сахар, но эта благоприятная перспектива, кажется, недолговечна. Тростник созревает целый год — в нагорье на три-шесть месяцев дольше, — причем всегда нужно опасаться ежегодного циклона, который значительно уменьшает урожай. Еще совсем недавно циклоп уничтожил весь урожай, — а ведь это был самый большой урожай за все время? владельцы некоторых крупнейших плантаций испытывают большие затруднения. Около дюжины плантаций существует целиком за счет английского капитала, и компании, владеющие ими, сейчас изо всех сил стараются спасти хоть половину вложенных ими денег. Ведь в наши дни, если страна начинает заниматься разведением чая, то, значит, основная отрасль ее хозяйства пришла в упадок. Взгляните хотя бы на Бенгалию, на Цейлон. Вот и здесь теперь начали выращивать чай.
На острове ежегодно продается большое количество экземпляров «Поля и Виргинии». Ни одна книга не пользуется здесь подобным успехом, разве только библия. Многие даже наивно верят в то, что «Поль и Виргиния» — часть священного писания[109]. Миссионеры, прибывающие сюда обращать туземцев в католическую веру, учатся французскому языку по этой книге. Это величайшая и к тому же единственная в мире книга, об острове Маврикий».
Глава XXVII ГДЕ СПИЧКИ НЕ ЖЕЛАЮТ ЗАЖИГАТЬСЯ
Основное различие между кошкой и ложью
в том, что у кошки только девять жизней.
Новый календарь Простофили Вильсона20 апреля. Циклон 1882 года погубил и искалечил согни людей; он сопровождался ливнем, который затопил Порт-Луис до такой степени, что вызвал недостаток в воде. Именно так, потому что ливень разрушил водохранилище и водопроводные трубы; и когда наводнение кончилось, город еще долго страдал от недостатка воды.
Это единственное в мире место, где любые спички не выдерживают сырости. Зажигается только одна из шестнадцати.
Дороги хорошо утрамбованы, без выбоин; встречаются весьма обширные поместья и просторные бунгало; по обеим сторонам дороги стоят изгороди из высокого бамбука — красивого, зеленого, аккуратно подстриженного, — и кустов белых и красных азалий; ничего подобного мне раньше видеть не доводилось. Что же касается климата этих мест, то я приведу отрывок из статьи, помещенной в сегодняшней (за 20 апреля) «Мерчантс энд плантерз газетт» и написанной ее постоянным корреспондентом «Карминжем», в которой сообщается о смерти племянника одного из именитых жителей острова:
«Печальное и мрачное существование ведем мы на острове Маврикий. Мне кажется, что во воем мире не найдется места, где бы люди уходили из жизни так легко, как здесь. Малейшее недомогание превращается в неизлечимую болезнь; головная боль заканчивается менингитом, простуда — воспалением легких, и, наконец, когда мы совсем этого не ожидаем, в наш дом входит смерть».
Эта же ежедневная газета сообщает метеорологическую сводку, в которой говорится, какая погода была два дня назад.
В городе, насколько я смог убедиться, нищие и разносчики товаров не пристают к прохожим. Это немалое достоинство по сравнению с Индией.
22 апреля. — Том, кто верит, что несколько необычайный предмет импорта, называемый французской цивилизацией, явился бы усовершенствованием цивилизации Новой Гвинеи и подобных ей стран, захват Мадагаскара и принудительное внедрение там французской цивилизации покажется вполне оправданным. Но почему англичане позволили французам захватить Мадагаскар? Быть может, Англия с уважением относится к краже, совершенной два века назад? Никогда не считалось и поныне не считается грехом, если европейские нации тащат друг у друга колонии. Для некоторых правительств политические отношения между странами уподобляются веревкам для сушки белья, и основное занятие этих правительств заключается в том, что они не сводят глаз с чужого белья и при малейшей возможности стараются прибрать к рукам нес, что плохо, висит. Территориальные владения всех стран, включая, разумеется, и Америку, возникли из мелких краж чужого белья. Ни одно самое малочисленное племя, ни одна самая могущественная держава не имеет и фута земли, которая не была бы украдена. Когда англичане, французы и испанцы появились в Америке, индейские племена уже много веков занимались захватом чужих земель, так что каждый акр, наверно, не менее пятисот раз переходил из рук в руки. Англичане, французы и испанцы тотчас приступили к делу и начали забирать землю у индейцев, а покончив с этим, понемногу принялись ощипывать друг друга. В Европе, Азии и Африке каждый акр земли переходил из рук в руки несколько миллионов раз. Однако преступление, непрерывно совершаемое в течение тысячелетий, перестает быть преступлением и становится добродетелью. Таков закон привычки, а привычка могущественнее всякого другого закона. В наши дни христианские правительства так же откровенно, честно и открыто обсуждают свои набеги на чужие бельевые веревки, как они это делали еще до того, как в этот негостеприимный мир с улыбкой явилось христианство, но нигде не могло отыскать приюта хоть на одну ночь. В течение ста пятидесяти лет Англия срывала одну за другой вещи, которые развесила для просушки Индия, и занималась этим до тех пор, пока на веревке не осталось почти ни одной тряпки. В течение восьмисот лет неведомое племя русских дикарей поднялось до блестящего положения главного похитителя земли: им удалось отыскать развешанную для сушки на многочисленных параллелях широты целую четверть земного шара, которую они тотчас же прибрали к рукам. Они не спускают глаз со множества мелких веревок, которые тянутся вдоль северных границ Индии, и время от времени срывают с них то трусы, то пижаму. Россия прекрасно знает, что Англия считает эти земли будущей своей собственностью, но это ее ничуть не беспокоит. В паши дни захват чужих земель, территориальные притязания являются предметом вожделения европейских правительств. Некоторые из них недавно основательно потрудились у границ Китая, в Бирме, Сиаме и на островах, а сейчас все вместе орудуют в Африке. Вся эта банда так хладнокровно поделила Африку вдоль и поперек, словно купила ее, заплатив сполна. А теперь они снова приступают к своей старой игре: начинают воровать друг у друга. Германия присмотрела добрый кусок Центральной Африки, где уже развевался английский флаг и всюду были разбросаны английские миссии и английские фактории, по, правда, были упущены некоторые формальности — отсутствовали дощечки с надписями: «На траву не ступать», «Посторонним вход воспрещен» и так далее; поэтому она вошла туда с холодной, спокойной улыбкой, сама расставила дощечки и без лишних разговоров выгнала оттуда англичан.
Это весьма примечательный факт. Его можно выразить в форме афоризма: главное — соблюдайте все формальности, а на мораль можно и не обращать внимания.
Конечно, это была беспримерная наглость, однако Англии пришлось с ней примириться. Что же касается Мадагаскара, то в этом случае все формальности были соблюдены с самого начала, но из-за недосмотра они много веков назад потеряли законную силу. Англии следовало бы утащить Мадагаскар с французской веревки. Ей удалось бы без особых усилий спасти невинных туземцев от бедствий, в которые их ввергла французская цивилизация; но она этого не сделала, а сейчас уже поздно.
Знамения времени достаточно ясно говорят о том, что не замедлит произойти. Все нецивилизованные страны перейдут в собственность христианских правительств Европы. Но меня это ничуть не огорчает, я даже рад. Такая участь могла оказаться для туземцев бедственной двести лет назад, во сейчас она может при известных обстоятельствах сыграть для них роль благодеяния. Чем скорее это произойдет, тем лучше для туземцев. Долгие мрачные века кровопролитий, беззакония и насилия уступят место миру, порядку и закону. Если только подумать, например, чем была Индия во время индусского и мусульманского владычества и во что она обратилась сейчас, если припомнить жалкое существование миллионов ее жителей, которые теперь пользуются защитой и гуманностью закона, то приходится согласиться, что самым счастливым событием из числа выпавших на долю этой страны явилось установление там британского владычества. Нецивилизованные земли всего мира непременно перейдут во владение других стран, а народы, населяющие их, непременно сдадутся на милость чужих правителей. Будем же верить и надеяться, что все они выгадают от этих перемен.
23 апреля. — «В первый год они собирают раковины, во второй год они собирают раковины и пьют, на третий год они только пьют» (Об иммигрантах на острове Маврикий.)
Население 375 000 человек. Сто двадцать сахарных заводов,
В 1851 году население составляло 185 000 человек.
Прирост идет главным образом за счет индийских кули. Теперь они, по видимому, составляют огромное большинство населения. Они прекрасные производители — в их домах всегда полно детей. Живут очень экономно. Один английский офицер рассказал мне, что в Индии он платил своему слуге десять рупий в месяц, на которые тот ухитрялся содержать родителей, дядей, двоюродных братьев - всего одиннадцать человек. Говорят, что эти бережливые кули даже умудряются время от времени приобретать клочок земли и обрабатывать его; так мало помалу они могут завладеть всем островом.
Женщины выполняют очень тяжелую работу, получая от сорока до пятидесяти сотых рупии за двенадцатичасовой рабочий день. За полрупии они целый день носят на голове тюки сахара весом в семьдесят фунтов, грузя их на суда, или работают на плантациях за еще меньшую плату.
Камарон живет в пресной воде и похож на речного рака. Он считается здесь лучшим в мире деликатесом; и действительно — это очень вкусное блюдо. Ручьи, в которых он водится, тщательно охраняются от браконьеров. За браконьерство, говорят, полагается штраф в двести или триста рупий. В воду бросают крючок; камарон заглатывает его, а охотник опускает в воду петлю и опутывает ею все тело камарона до тех пор, пока не захватит и хвост; потом веревку дергают, желая предупредить камарона, что его очередь настала; он рвется назад, затягивая веревку, и ему приходит конец.
Другое блюдо называется пальмиет; по виду оно похоже на очистки репы, а вкусом напоминает свежий миндаль. Очень нежное и приятное кушанье. Оно стоит жизни пальме в возрасте от двенадцати до двадцати лет, потому что это ее сердцевина.
Еще одно блюдо, похожее на овощи или клубок морских водорослей, приготовляется из белладонны. Довольно вкусно.
Обезьяны живут к густых лесах, покрывающих склоны невысоких гор; по ночам они спускаются вниз в долину и совершают набеги на сахарные плантации. В других поместьях они уничтожают урожаи бобовых культур — просто так, ради забавы: они обрывают стручки и бросают их на землю.
Циклон 1892 года разрушил два больших квартала каменных зданий в центре Порт-Луиса — главную архитектурную достопримечательность города,— в то время как старые и, видимо, более хрупкие сооружения остались нетронутыми. Всюду на своем пути циклон разрушал дома, срывал крыши, вырывал с корнем деревья и уничтожал урожаи. В городах и деревнях погибли, были искалечены и потеряли рассудок от страха сотни мужчин, женщин и детей; их заливали потоки дождя, выл ветер, гремел гром, сверкала молния. Через час наступила тишина и выглянуло солнце, люди вышли из своих убежищ, — и вдруг с противоположной стороны подул ветер, началась новая буря и разрушила все до основания. Говорят, что китайцы много дней бесплатно кормили потерпевших рисом.
Ураган сравнял с землей целые улицы Порт-Луиса. В течение полутора минут ветер мчался со скоростью ста двадцати трех миль в час; возможно, что скорость его достигла ста пятидесяти миль в час, — официальных данных по этому поводу нет. Ветер снес памятник. Он сорвал с двух якорей американский корабль и вынес его прямо в прибрежную рощу. Теперь пользуются четырьмя якорями: два на носу и дна на корме. В отчете говорится о том, что за полчаса в одном Порт-Луисе погибло тысяча двести человек. Снова наступила тишина — никто не знал, что барометр продолжает падать, — а потом внезапно на людей обрушился ад, в то время как они бросились на поиски близких и спасали раненых. Поднялся шум, который можно сравнить только с раскатами грома и гулом пушечной стрельбы, но и это сравнение не способно передать всей силы грохота.
Остров Маврикий прекрасен. Перед вами простираются холмистые просторы сахарного тростника — красивого зеленого растения, ласкающего глаз; вокруг — девственное изобилие тропических растений всех оттенков зеленого цвета, кустарник и высокие грациозные пальмы, вздымающие в небо свои искривленные кроны; тянется густой, тенистый лес с прозрачными ручьями, которые, журча, пробираются сквозь его чащу, то появляясь, то исчезая из виду, то снова появляясь, словно играют с вами в прятки; вы видите перед собой миниатюрные горы, причудливые цепи живописных, словно игрушечных, вершин и крохотный, изящный Маттерхорн; и то здесь, то там промелькнет полоска моря с белым кружевом прибоя.
Таков незабываемый остров Маврикий. Достопримечательностей там немного, но общее впечатление — чарующее, хотя острову и не хватает величественности и размаха; он не волнует, не тревожит — он спокоен, как воскресный ландшафт. У него нет перспективы и очарования, создаваемых расстоянием. Здесь нет расстояний, поэтому нет и перспективы. Расстояние в пятнадцать миль, которое легко пролетает и ворона, здесь обычный предел обзора. Остров Маврикий — это сочетание сада С парком, и он производит на человека такое впечатление, какое способны произвести сад и парк. Он приятен для глаз, но не волнует, не проникает в глубину души. Простор, далекие горные вершины, таинственность, окутывающая неприступные горные массивы и вздымающиеся в небо вершины, — вот что волнует душу, заставляя ее видеть видения и мечтать о мечте.
Сандвичевы острова всегда будут моим идеалом среди тропических островов. Если бы я мог, я бы добавил еще одну историю к рассказам о Мауна Лоа высотой в шестнадцать тысяч футов, представив ее особенно крутой, обрывистой, отвесной, неприступной и покрытой вечными снегами; я бы заставил вулкан извергать потоки лавы из вершины, а не со склонов, но, кроме этого, мне, пожалуй, нечего добавить. Я надеюсь, что читатель прочувствует эти детали, — мне бы не хотелось возвращаться к ним вновь.
Глава XXVIII ЧТО СДЕЛАЛ БАРНУМ ДЛЯ ШЕКСПИРА
Когда у нас портятся часы, есть два выхода: бросить их в огонь или отнести к часовому мастеру. Первое — быстрее.
Новый календарь Простофили Вильсона«Эрандл Касл» — лучшее судно из тех, на которых мне довелось плавать по здешним морям. Оно вполне современное, а это уже говорит о многом. Впрочем, и оно не лишено того общего недостатка, обычного недостатка, повсеместного недостатка, от которого не свободен еще ни один пароход на свете: постели его оставляют желать лучшего. На многих судах имеются неплохие постели, но по-настоящему хороших я не видел нигде. В вопросе выбора постелей на всех пароходах с самого начала совершается грубая ошибка: их предназначают для здоровенного, крепкого мужчины с сильной спиной, в то время как следовало бы иметь в виду хрупкую женщину, с детства страдающую болью в пояснице и бессонницей. По обе стороны океана ничто не представляется такой редкостью, ничто так не трудно найти, как отличную постель. В некоторых отелях еще можно увидеть хорошую постель, но ни на одном судне ее никогда не было и нет. На Ноевом ковчеге постели были просто возмутительные. Ной ввел эту моду, и она будет существовать, с небольшими изменениями, до очередного потопа.
8 часов утра. — Проходим мимо острова Бурбон. К небу поднимается изломанная линия вулканических гор. Уверен, что выровнять их стоило бы совсем недорого, и, по-моему, оставлять их в таком виде - непростительный недосмотр.
Глупо посылать усталых людей на отдых в Европу. Как может по-настоящему отдыхать мозг человека, вынужденного метаться из города в город, в пыли и дыму, чтобы осмотреть галереи и достопримечательности архитектуры, постоянно встречаться с людьми на завтраках, обедах и ужинах, получать волнующие телеграммы и письма? Да и путешествие по Атлантике совсем не приносит пользы: оно слишком коротко, а море — слишком бурно. Только длительные прогулки по спокойным Индийскому и Тихому океанам являются истинным спасением для тела и души.
2 мая, утро. — На горизонте — красивый большой корабль, первый за несколько недель нашего одинокого плавания. Мы находимся сейчас в Мозамбикском проливе, отделяющем Мадагаскар от Южной Африки, и направляемся прямо на запад, к заливу Делагоа.
Вчера вечером, когда дородный пожилой старший механик рассказывал нам интересную морскую историю и как раз дошел до самого волнующего места, где упавший за борт человек отчаянно кричал и быстро плыл по волнам на кормой корабля, а все пассажиры, обезумев от волнения и теряя надежду, бросились к корме корабля, оркестр после небольшой паузы начал играть то, что всегда играл перед отходом ко сну,— английский национальный гимн. Механик умолк на полуслове, так и не досказав своей истории, снял свою украшенную шнурами фуражку, прижал ее к груди и слегка наклонил седую голову. Когда прозвучал финальный такт, он снова надел фуражку и продолжал свой рассказ с таким видом, будто музыка являлась непременной частью его рассказа. В этом было нечто трогательное и прекрасное; и я с волнением подумал, что он — лишь один из миллионов людей, разбросанных по всему земному шару, которые поочередно каждый час в течение суток — ведь одни бодрствуют, когда другие спят — делают то же, что он, и эти внушительные звуки всегда плывут над разными странами, никогда не замолкая и никогда не испытывая недостатка в благоговейных слушателях.
Все, что я помню о Мадагаскаре, — это слова маленького Билли, созданного Теккереем, который, взобравшись на верхушку мачты, опускался там на колени и говорил:
«Я вижу
Иерусалим и Мадагаскар,
И Северную и Южную Америку».
3 мая, воскресенье. — Пятнадцать — двадцать африкандеров, чье путешествие сегодня заканчивается, — завтра они уже разъедутся из залива Делагоа по домам,— до трех часов ночи сидели на палубе при свете луны и пели. Хорошее и полезное развлечение. И песни их были чистые, в некоторых звучали даже нежные нотки. Наконец, когда они замолчали, один из пассажиров спросил: «Слыхали ли вы о человеке, который вел дневник во время путешествия по Атлантике?» Это прозвучало таким диссонансом, что нам показалось, будто нас окатили холодной водой. Люди были вовсе не в настроении слушать неприличные анекдоты. Песня перенесла их домой, и они мысленно сидели у своего очага, видя перед собой лица совсем иные, чем те, которые окружали их здесь, и слыша иные голоса. Поэтому предложение послушать старый да еще неприличный анекдот было встречено с неудовольствием. Никто, однако, ничего не ответил. А бедняга, не заметив своей оплошности, повторил вопрос. И вновь никакого ответа. Он сконфузился и пошел по совсем уж неверному пути, сделав совсем не то, что следовало: он начал рассказывать анекдот. Начал в мертвой, враждебной тишине, сменившей атмосферу жизни, волнения и тепла, царившую перед тем на палубе. Он изложил немногие происшествия, занесенные в дневник после первого дня путешествия, причем довольно самоуверенно и с увлечением. Никто не засмеялся. Наступила неловкая пауза. Люди сидели неподвижно, как статуи. Ни движения, ни звука. Ему пришлось продолжать, другого выхода не было; по крайней мере он ничего не мог придумать. После изложении записей каждого очередного дня дневника наступала та же унылая пауза. Когда наконец он закончил свой рассказ неожиданной сальностью, которая должна была вызвать взрыв смеха, последовало гробовое молчание, как будто он рассказывал все это не живым людям, а мертвецам. После показавшейся бесконечно долгой паузы кто-то вздохнул, кто-то неловко зашевелился, затем все начали тихонько переговариваться друг с другом, — и инцидент был исчерпан. Человеку этому, несомненно, нравился его анекдот: это был его любимый анекдот, его конек, выстрел, который неизменно попадал в цель и составил ему репутацию острослова. Но больше он его никогда не расскажет. Он будет, наверно, частенько о нем вспоминать, ибо забыть его трудно, но в таких случаях он всегда будет видеть перед собой одну и ту же картину: два ряда мертвецов, пустую палубу, простирающуюся за ними в туманной дымке, широкую гладь моря за бортом, серп луны, выглядывающий из-за рваных туч, далекую верхушку бизань-мачты, проложившую зигзагообразную тропинку среди звездных полей в беспредельной вышине, — и эта тихая картина напомнит ему о том времени, когда он сидел на палубе, чувствуя себя бесконечно одиноким, и рассказывал свою жалкую историю.
Пятьдесят индийцев и китайцев спят на шкафуте на носу парохода; они лежат рядом, плотно прижавшись друг к другу: индийцы — завернувшись с головы до ног в свои одеяла, как на улицах индийских городов, китайцы — ничем не покрытые; фонарь и принадлежности для курения опиума лежат посредине.
Один пассажир рассказал, что в Иоганнесбурге недавно взорвалось десять вагонов, с двумя тоннами динамита в каждом. Были убиты сотни людей — он не знает точно сколько, — на многие мили вокруг собирали куски тел погибших. На расстоянии двухсот ярдов от места взрыва были выбиты стекла, сорваны или прокалились крыши, а куски железа летели на три с половиною мили.
Это произошло в три часа дня. В шесть часов было собрано 65 000 фунтов стерлингов в пользу пострадавших. В тот час, когда этот пассажир уезжал, власти города и штата уже внесли 35 000 фунтов, а население и торговые фирмы 100 000 фунтов. Когда же известие о катастрофе дошло до биржи, там собрали 35 000 фунтов в первые же пять минут. Сбор денег продолжался и после его отъезда. Газеты даже не называли людей, дающих деньги, — не хватало места; они называли только суммы. Отдельные граждане и фирмы внесли 100 000 фунтов; если это правда, значит свершилось то, что в Австралии называют «рекордом», — самый удивительный в истории поток единодушной благотворительности; если принять во внимание число населения в городе, это означает, что каждый белый житель, включая и грудных младенцев, пожертвовал от 7 до 10 долларов.
4 мая, понедельник. — Медленно входим в громадную бухту Делагоа. Рукава ее, затянутые туманом, простираются далеко-далеко по обе стороны, исчезая из поля зрения. Здесь хватило бы места для всех судов в мире, но глубина бухты очень невелика. Лот несколько раз показывал глубину в три с половиною сажени, а у нас осадка всего на шесть дюймов меньше.
Берег — отвесная скала в 150 футов высотой и в милю шириной, ярко-красного цвета. Кто-то сказал, что это кровь португальцев, — в прошлом году они сражались здесь с туземцами. Я лично в этом сомневаюсь. На плоскогорье над скалой виднеются прелестные группы домов, а между ними — холмистые зеленые лужайки и куши деревьев — совсем как в Англии.
На протяжении семидесяти миль до границы железная дорога принадлежит португальцам, а дальше она переходит в собственность голландской компании. По ней ежедневно курсирует один пассажирский поезд. На берегу, прямо под открытым небом, лежат тысячи тонн грузов. Все истинно португальское: праздность, набожность, бедность и покорность судьбе.
Команды маленьких шлюпок и буксиров состоят из очень мускулистых, черных, как уголь, курчавых людей.
Зима. — Начинается южноафриканская зима, но только опытный человек может отличить ее от лета. Мне надоело лето — оно длится без перерыва уже одиннадцать месяцев. День мы провели на берегу залива. Делагоа — маленький город, никаких достопримечательностей. Экипажей нет, только три рикши, но нам не удалось их нанять, — по-видимому, они обслуживают только своих хозяев. У здешних португальцев темно-коричневый цвет кожи, совсем как у индийцев. Некоторые негры отличаются лошадинообразной головой и очень длинным подбородком — совсем как у негров на картинках в книгах, но большинство из них похоже на негров наших южных штатов: круглолицые, с плоскими носами, очень добродушные и всегда готовые посмеяться.
Мимо вереницей шли черные женщины, неся на голове невероятно тяжелые тюки; только осторожная поступь да особая напряженность тела свидетельствовали о том, как нелегка их ноша. Они работают грузчиками и выполняют ту же работу, какую обычно выполняют грузчики-мужчины. Когда они возвращались без ноши, осанка их отличалась особой стройностью, красотой и горделивостью, как у всех, кто носит тяжести на голове, — как и у индийских женщин.
Иногда мы встречали женщин, у которых на голове была корзина огромной тяжести, формой напоминающая перевернутую пирамиду; верхушка ее была диаметром с глубокую тарелку, а основание диаметром с чашку. Чтобы удерживать ее на голове, требуется большое чувство равновесия.
Ярких красок здесь нет, хотя среди населения много индийцев.
Пассажир второго класса появился, как обычно, по сигналу «гасить огни» (в одиннадцать часов), и мы не спеша бродили по огромной темной палубе, курили трубки и мирно беседовали. Он рассказал мне об одном случае с мистером Барнумом; эта история весьма характерна для великого циркача во многих отношениях.
Четверть века назад Барнум решил купить дом, где родился Шекспир. Пассажир второго класса в то время работал у Джамрака и хорошо знал Барнума. По его словам, все началось так: однажды утром Барнум и Джамрак сидели в маленьком кабинете Джамрака, позади клеток с обезьянами, змеями и другими тварями, которые составляли источник доходов хозяина. Они закусывали после трудов праведных. Джамрак закусывал степенно и разумно, а Барнум, поскольку он принадлежал к обществу трезвенников, — наоборот. Сделка, только что ими завершенная, касалась слонов. Джамрак подписал с Барнумом контракт на доставку в Нью-Йорк, к открытию нового сезона в цирке Барнума, восемнадцати слонов на сумму в триста шестьдесят тысяч долларов. И тогда мистеру Барнуму пришло в голову, что ему необходим «гвоздь сезона». Он пожелал заполучить Джамбо. Только не Джамбо, ответил Джамрак, с этим слоном ничего не выйдет, зоопарк не отдаст его. Барнум заявил, что готов заплатить за Джамбо целое состояние. Об этом нечего и думать, ответил Джамрак; Джамбо не менее популярен, чем сам принц Уэльский, зоопарк не осмелится его продать. Вся Англия придет в ярость, узнав об этом, ибо Джамбо принадлежит Англии, он — часть ее национальной славы. Если мечтать о покупке Джамбо, то можно подумать о покупке памятника Нельсону. Барнум тотчас ответил:
— Вот это мысль! Я куплю памятник.
Джамрак на секунду потерял дар речи. Затем он смущенно сказал:
— Вы меня поймали. Я, наверно, задремал. На мгновенье мне показалось, что вы говорите серьезно.
Барпум учтиво ответил:
— Я и в самом деле говорил серьезно. Я знаю, что его не продадут, но, тем не менее, я не откажусь от этой мысли. Мне нужна хорошая реклама. Я буду иметь это в виду, и если ничего лучшего не подвернется, я предложу купить его. Это будет отвечать всем целям, ибо обеспечит мне одну-две колонки бесплатной рекламы во всех английских и американских газетах в течение двух месяцев и создаст моему представлению самую большую шумиху в мире.
Джамрак начал было выражать свое восхищение, как вдруг Барнум прервал его, воскликнув:
— Вот это да! Англии следовало бы покраснеть от стыда.
Взгляд его в это время упал на какую-то заметку в газете. Он прочел ее про себя, а затем вслух. В ней говорилось, что дом в Стратфорде-на-Эйвоне, в котором родился Шекспир, постепенно разрушается, потому что за ним никто не смотрит; что в комнатке, где великий писатель впервые увидел свет, сейчас находится лавка мясника, что все обращения к англичанам с просьбой пожертвовать деньги (была указана нужная сумма) для покупки и ремонта дома, с тем, чтобы потом поручить заботу о нем надежным государственным служащим, остались без ответа. И тогда Барнум сказал:
— Вот шанс для меня. Оставим пока Джамбо и памятник в покое — они подождут. Я куплю дом Шекспира. Я установлю его в моем музее в Нью-Йорке, укрою стеклянным колпаком и сделаю из него священную реликвию, а вы увидите, как толпы американцев ринутся к нему на поклонение. И не только американцы — начнется паломничество со всех концов земли. Я заставлю их снимать шляпы перед домом Шекспира. Мы в Америке умеем ценить то, что освятил своим прикосновением великий Шекспир. Вот увидите.
В заключение пассажир второго класса сказал:
— И вот что произошло. Барнум действительно купил дом Шекспира. Он заплатил назначенную сумму и получил аккуратно оформленные документы о продаже. И тогда произошел взрыв. Вы и представить себе не можете. Англия восстала! Ка-к? Дом, в котором родился величайший из всех гениев всех стран и времен, драгоценнейшая на всех жемчужин в британской короне, будет вывезен из страны как старый хлам и установлен для осквернения в грошовом американском балагане? Нет, такая мысль была невыносима для англичан! Возмущенная Англия восстала, и Барнум с радостью отказался от своего приобретения и принес глубочайшие извинения. Однако он предъявил ультиматум: он пошел на уступку — Англия должна продать ему Джамбо. И Англия с грустью согласилась.
А сейчас я продемонстрирую вам, как время может изменить события в рассказе, несмотря на то, что Барнум имел возможность первым изложить их. Много лет назад он сам рассказывал мне эту историю. Он говорил, что разрешение купить Джамбо было вызвано отнюдь не ультиматумом: просто он купил его и вывез из Англии прежде, чем об этом узнала публика. Кроме того, покупка слона уже обеспечивала ему достаточную рекламу. Многочисленные газеты неоднократно и бесплатно похищали свои статьи этому событию, а ему больше ничего и не нужно было. Барнум рассказывал, что, если бы ему не удалось приобрести Джамбо, он бы попросил какого-нибудь надежного приятеля «по секрету» сообщить в прессу, что он, Барнум, намерен купить памятник Нельсону, а после того, как сотни газет, не взяв за это ни гроша, разрекламировали бы его вдоль и поперек, он бы выступил о неловким, глуповатым, но чистосердечным извинением, а в постскриптуме наивно предложил бы купить за ту же цену Стонхендж[110], если нельзя купить памятник Нельсону.
По его мнению, подобное извинение, написанное с удачно имитированной туповатой простотой и откровенностью, вызвало бы поток осмеивающих его невежество и глупость газетных статей, которые стоили бы ему шести состояний н которые невозможно было бы приобрести и за двойную цену.
Я хорошо знал мистера Барнума и в истории с домом, где родился Шекспир, вполне верю его версии. Он говорил, что, увидев этот дом заброшенным и приведенным в состояние разрушения, он заинтересовался им. Ему рассказали, что уже предпринимались неоднократные попытки собрать деньги на ремонт и сохранение этого дома, но безуспешно. Тогда Барнум предложил купить его. Предложение было принято доброжелательно, и даже названа цена, — кажется, пятьдесят тысяч долларов; но какова бы ни была цена, Барнум без дальнейших разговоров уплатил деньги и получил оформленные по всем правилам документы. Он говорил, что действительно собирался установить дом Шекспира в своем музее, отремонтировать его, охранять его от невежд и грубиянов и потом передать в качестве посмертного дара в падежные руки и под постоянную охрану Смитсоновского института в Вашингтоне.
Однако, как только стало известно о том, что дом Шекспира переходит в собственность иностранца и будет увезен за океан, Англия пришла в ужасное волнение, — а ведь неоднократные мольбы о помощи со стороны хранителей этой реликвии не сумели вызвать такого взрыва чувств; хлынул поток протестов — и даже денег, - для того чтобы помешать такому оскорблению британской гордости. Появились предложения перекупить дом, причем предлагалась сумма, вдвое превосходившая сумму, заплаченную мистером Барнумом. Он возвратил документы, но взял только те деньги, которые заплатил сам, поставив при этом условие, что будет собрано достаточно денег для охраны и содержания этой священной реликвии в будущем. Его условие было выполнено.
Все это рассказал мне сам Барнум; и до конца своих дней он с гордостью и удовлетворением утверждал, что не Англия, а Америка в его лицо спасла от разрушения дом, где родился Шекспир.
6 мая в три часа дня пароход медленно отвалил от берегов Делагоа и не спеша, осторожно направился к уютной гавани Дурбана в Южной Африке.
Глава XXIX ОТЛИЧНАЯ РАБОТА СУРОВЫХ ТРАППИСТОВ
В управлении государством главное — соблюдать все формальности,
а на мораль можно и не обращать внимания.
Новый календарь Простофили ВильсонаИз дневника.
Королевский отель. — Отель хороший; вкусный стол; услужливые туземцы и мадрасцы. Поразительная смесь нового и старого, города и деревни, первобытной простоты и современной сложности. Есть электрические звонки, но они не работают. Когда я спросил, почему они не звонят, сторож в конторе ответил, что они, должно быть, испорчены; он так полагает, потому что некоторые звонят, но большинство в неисправности. Быть может, следовало бы привести их в порядок? Сторож замялся, — видимо, он был не совсем в этом уверен, но затем согласился со мной.
7 мая. — В шесть утра раздался громкий стук в дверь: почистить ли мне ботинки? Через пятнадцать минут снова стук: подать ли нам кофе? Через пятнадцать минут опять стук: готова ванна для жены. Еще через четверть часа — готова ванна для меня. Постучали еще дна раза — я уже не помню зачем. Слуги шумят, перекрикиваются о том, о сем, совсем как в индийских отелях.
Вечером. — В четыре часа дня стояла ужасная жара. Через полчаса после захода солнца требовалось уже демисезонное пальто, а к восьми часам — зимнее.
Дурбан аккуратный и чистый город. Это можно заметить даже без особого напоминания.
Коляски запряжены великолепно сложенными чернокожими зулусами, от которых так пышет здоровьем, что видеть их за работой просто приятно. Они улыбаются и смеются, показывая все свои зубы, — добродушные люди! Им запрещено пить спиртное; два шиллинга в час с одного человека, с двоих — три шиллинга; в один конец с одного человека — три пенса.
Во дворе отеля живет хамелеон. Он отличается толщиной, ленью и созерцательностью, но сразу становится по-деловому оживлен и подвижен, когда мимо пролетает муха: высовывает язык, похожий на чайную ложку, и втягивает им насекомое. Сначала он жует свой язык. У него всегда набожный вид. Таким же терпеливым и благодарным выглядит он, когда провидение посылает ему муху. У него лягушачья голова, а спина формой напоминает свежий могильный холм; лапы похожи на обмороженные птичьи когти. Но самое интересное в нем — это глаза. С обеих сторон головы торчат шишечки, на концах которых сидят крошечные блестящие бусинки — глаза. Эти шишечки свободно поворачиваются в разные стороны, как вращающийся пулемет, причем они ничуть не зависят одна от другой, каждая управляется отдельно. Когда я стою позади него, а С. — впереди, он поворачивает один глаз назад, а второй устремляет вперед, что весьма напоминает взгляд нашего конгресса (один глаз смотрит на конституцию, а другой — на доходы); а когда что-нибудь происходит над ним и под ним, один глаз у него превращается в телескоп, а другой смотрит вниз, — выражение его лица от этого меняется, но лучше не становится.
После сигнала «гасить огни» туземцам не разрешают появляться на улицах без специального пропуска. В Натале на одного белого приходится десять негров.
Женщины отличаются крепким сложением и полнотой. Они превращают свое руно на голове в высокую башню и эту прическу скрепляют красновато-коричневой глиной; если башня окрашена до половины, то это означает, что девушка помолвлена; замужняя женщина окрашивает всю прическу.
В полиции служат только зулусы-язычники. Христиан туда не берут.
9 мая. — Вчера вместе с друзьями совершил прогулку по городу. Очень красивые горные дороги, откуда открывается величественный вид на город, гавань и море, — чудесное зрелище. Вдоль дороги расположены особняки, окруженные зелеными лужайками, кустарником и обязательно двумя-тремя ярко-красными деревьями, огненно-пунцовые листья которых представляют резкий контраст с окружающей зеленью. Кактусы похожи на канделябры, а один из них напоминает извивающихся серых змей. «Плоскокронные» деревья (их следует назвать «плоскокрышными») — это полдюжины голых ветвей с острыми сучками, поднятыми вверх, — словно искусственные подпорки, они поддерживают плоскую, как крыша, крону из нежнейших листьев; и сквозь эту крышу вы можете видеть небо, как сквозь зеленую паутину или вуаль. Ствол кажется покрытым черным лаком. Кругом множество совершенно незнакомых, но удивительно красивых деревьев, У одних на редкость густая темно-зеленая листва, — такая темная, что вы это сразу замечаете, несмотря на то, что рядом так много апельсиновых деревьев. Другое дерево, когда оно в цвету, кажется объятым пламенем, и оно вполне оправдывает свое название — «пламенеющее». У третьего среди густой листвы поднимаются вверх прелестные кисточки, они сверкают, как раскаленные угольки. То там, то здесь можно увидеть камедные деревья. Величественные норфолькские сосны вздымают к небу свои буйные ветви. Группами растет высокий бамбук.
Видел одну птицу. Птиц здесь немного, и они не поют. И цветы не сильно пахнут — они слишком быстро растут.
Кругом все аккуратно и приглажено, как в городе. Такого разнообразия великолепнейших деревьев не увидишь нигде, разве только когда приближаешься к Дарджилингу, Мне не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь называл Наталь цветником Южной Африки, но такое название ему бы очень подошло.
Будучи епископом Наталя, Коленсо произвел целый переворот в религии[111]. И теперь еще религиозные интересы играют здесь важную роль. Строго соблюдается воскресный отдых. Музеи и другие столь же опасные места закрыты для посетителей. Кататься в лодке по заливу можно, но игра в крокет считается грехом. Некоторое время допускались воскресные концерты, но при условии, что вход будет бесплатным, а публике предоставлялась возможность вносить пожертвования. Но сборы стали так велики, что концерты пришлось отменить. Большие строгости соблюдаются и в отношении грудных детей. Священник ни за что не согласится хоронить младенца, если того не успели крестить. Индийцы в этом отношении более терпимы: они не сжигают детей до трех лет, ибо считают, что такие дети не нуждаются в очищении.
Король зулусов, красивый тридцатилетний мужчина, шесть лет назад был изгнан на семилетний срок. Его выслали на остров Святой Елены а туда же, куда был сослан Наполеон. Люди немного страшатся его возвращения, и у них есть для этого все основания, ибо зулусские короли, вроде Чаки[112], Дингаана и Кечвайо, нередко отличались чрезвычайно жестоким нравом.
В двух часах езды от Дурбана находится большой траппистский монастырь[113], и мы с мистером Милиганом и мистером Хантером, директором правительственных железных дорог в Натале, отправились посмотреть его.
Здесь действительно было все, о чем читаешь в книгах и чему не можешь поверить: тяжелый труд, короткий сон, скудная пища, грубое одеяние, жесткая постель, запрещение человеческой речи, общения с людьми, отдыха, развлечений, забав и присутствия женщин. Все это мы там увидели. Это был не сон, не ложь. Но даже видя все это, не веришь собственным глазам. Это полное подавление всех человеческих инстинктов, уничтожение человека как личности.
Монастырь Ла Трапп, должно быть, знал людей. Система, которую он придумал, изгоняет из жизни все, чего человек жаждет и что ценит, и лишает его этого. По-видимому, в траппистском монастыре людям не оставлено ничего, ради чего стоило бы жить. Откуда Ла Трапп мог знать, что на свете бывают люди, находящие удовольствие в этом отречении от всех земных благ?
Посоветуйся он с вами или со мной, мы бы заверили его, что его система совсем непривлекательна, что се невозможно осуществить, Но здешний монастырь доказывает, что Ла Трапп знал человеческую натуру лучше, чем она сама себя знает. Он исключил из жизни все желания человека до единого — и тем не менее преуспел в своих планах: дело его процветает уже двести лет и, несомненно, будет процветать и впредь.
Мы, люди, любим известность — там, в монастыре, существует только серая, одноликая масса. Мы любим вкусно поесть — монахи питаются лишь бобами, хлебом и чаем, да и то не вдоволь. Мы любим мягкую постель — они спят на набитых песком матрацах и, хотя пользуются подушкой и одеялом, не знают, что такое простыни. За едой мы любим поболтать и посмеяться с друзьями — монах во время трапезы читает вслух священное писание, а кругом царит мертвая тишина. Когда у человека много друзей, он любит вечерами повеселиться и не прочь лечь спать попозже — в монастыре все молча отправляются на покой в восемь часов, и поскольку переодеваться на ночь не приходится, следует лишь сбросить с себя просторную коричневую рясу, то огня не зажигают, все происходит в полной темноте. Утром мы любим понежиться в постели подольше — монахи поднимаются два-три раза за ночь, чтобы исполнить какой-нибудь религиозный обряд, а после двух часов ночи уж больше не ложатся. Мы стремимся к легкой работе или стараемся совсем избавиться от нее — монахи весь день работают в поло, в кузнице или в других мастерских, занимаясь сапожным, шорным или плотничьим ремеслом. Мы любим общество девушек и женщин — монахи его лишены. Нам нравится видеть вокруг себя детей, баловать их и играть с ними — в монастыре детей нет. Здесь нет бильярда, нет спортивных игр, нет ни театра, ни музыки, нет никаких развлечений. Человек любит заключать пари — мне сказали, что спорить здесь запрещено. Когда человек раздражен, он рад выместить свой гнев на первом попавшемся — здесь это категорически запрещено. Не разрешается держать домашних животных, нельзя курить. Человек любит узнавать новости — здесь нет ни газет, ни журналов. Когда мы находимся вдали от родителей, братьев и сестер, мы хотим знать, как они поживают и не скучают ли по нас, — сюда такие сведения не доходят. Мы любим красивый дом, красивую мебель, красивые вещи и благоухающие цветы — здесь все голо, пусто и мрачно. В монастыре нет места человеческим радостям.
В награду за такие лишения, как я узнал, здесь обретают только спасение души.
Все это кажется странным, невероятным, невозможным. Но Ла Трапп знал людей. Он знал могущественную силу соблазна; он знал, что нет существования более неприятного и отталкивающего и тем не менее найдутся люди, желающие его испытать.
Монастырь был основан пятнадцать лет назад немецкими монахами, пришедшими в эти места бедными и не имевшими никакой поддержки; сейчас монастырь владеет пятнадцатью тысячами акров земли, сеет пшеницу, выращивает фрукты, занимается виноделием, изготовляет различные изделия; в его мастерских много учеников из туземцев, которые обучаются там грамоте и со временем сами начинают зарабатывать на жизнь своим ремеслом. Это молодое учреждение имеет в Южной Африке одиннадцать филиалов, где обращается в христианскую веру и обучается всевозможным ремеслам тысяча двести мальчиков и девочек. К работе же протестантских миссий коммерческие круги белых колонистов во всем языческом мире относятся, как правило, весьма холодно, и их воспитанники (лентяи, которые принимают христианство только из материальной заинтересованности) носят кличку «рисовых христиан»; а вот католических монахов, мне кажется, трудно и чем-либо упрекнуть, — да, по-моему, никто и не пытается это сделать.
Вторник, 12 мая. — Трансваальская политика в замешательстве. Сначала поразил Англию своей суровостью приговор по делу иоганнесбургских реформистов; затем Крюгер[114] обнародовал зашифрованную корреспонденцию, сообщавшую о том, что вторжение в Трансвааль с целью его захвата и присоединения к Британской империи было задумано Сесилем Родсом и Бейтом; это произвело полный переворот в чувствах англичан и вызвало бурю негодования против Родса и «компании по хартии» за такое унижение британской чести. Долгое время я никак не мог понять всей этой истории, так она была запутанна. Но наконец после долгих и терпеливых размышлений мне это, кажется, удалось. Насколько я понимаю, уитлендеры и прочие голландцы были недовольны тем, что англичане не позволяют им принимать участие в управлении Трансваалем, кроме разве уплаты налогов. К тому же, насколько я понимаю, доктор Крюгер и доктор Джеймсон, не удовлетворенные доходами от своей врачебной практики, совершили набег на Матабелеленд, намереваясь захватить столицу Иоганнесбург, а женщин и детей держать в качестве заложников до тех пор, пока уитлендеры и другие буры не добьются для них и для компании по хартии тех прав, которых они были лишены. Этот смелый план наверняка удался бы, если бы в это дело не вмешались Сесиль Родс, мистер Бейт и другие официальные лица Матабеле, которые убедили своих соотечественников восстать и сбросить вассальную зависимость от Германии. Это в свою очередь, насколько я понимаю, побудило короля Абиссинии разгромить итальянскую армию и отойти к Иоганнесбургу; все это затеял Роде, чтобы поднять цены на бирже.
Глава XXX ПРАВДА О НАБЕГЕ ДЖЕЙМСОНА
Человек подобен луне — у него тоже есть темная сторона,
которую он никогда никому не показывает.
Новый календарь Простофили ВильсонаКогда я год назад дописывал в записной книжке последние строки предыдущей главы, мне хотелось в несколько необычной форме указать на два явления: во-первых, на противоречивый характер сведений насчет южноафриканской политики, сообщаемых иностранцу местными жителями; и во-вторых, на возникшую вследствие этого сумятицу в голове иностранца.
Но сейчас все это отнюдь не кажется таким необычным. В те тревожные и смутные времена местные жители не в состоянии были ясно и трезво воспринять сущность южноафриканской политики, ибо этому препятствовали, кроме личной заинтересованности, еще и политические предрассудки; а поскольку источник сведений был таков, каким мы его описали, то, естественно, и иностранец был не в силах правильно и разумно разобраться в существе этой политики.
Я пробыл в Южной Африке очень недолго. Когда я туда прибыл, политические страсти кипели вовсю. За четыре месяца до этого Джеймсон в сопровождении шестисот вооруженных кавалеристов перешел границу Трансвааля, для того чтобы «освободить женщин и детей Йоханнесбурга»; на четвертый день марша он потерпел поражение в битве с бурами и вместе со своими солдатами попал в плен и был доставлен в Преторию, столицу Южно-Африканского Союза; затем бурское правительство передало Джеймсона и его офицеров британскому правительству, чтобы их отдали под суд, и отправило их в Англию. Вслед за тем в Иоганнесбурге были арестованы шестьдесят четыре уважаемых жителя за участие в заговоре Джеймсона, четверых руководителей приговорили к смертной казни; затем приговор отменили, и все шестьдесят четыре сидели в тюрьме, ожидая решения своей участи. Но уже в начале лета их всех, за исключением двоих, отказавшихся подписать прошение о помиловании, выпустили на свободу. Пятьдесят восемь человек были оштрафованы — на сумму к 10 000 долларов каждый, четверо руководителей отделались штрафом в 125 000 долларов каждый, и только один был навсегда выслан из страны.
Эти дни были необычайно интересными для иностранца, и я был счастлив, что попал сюда в самый разгар событий. Каждый считал своим долгом высказать собственное мнение, и я рассчитывал, что очень скоро сумею понять происходящее, по крайней мере с точки зрения одной стороны.
Но я ошибся. Вопрос был настолько своеобразен, загадочен и непонятен, что я не сумел с ним справиться. Личного доступа к бурам у меня не было; их воззрения, кроме тех, с которыми я мог ознакомиться в прессе, остались для меня тайной. Мои симпатии были на стороне реформистов, томящихся в преторийской тюрьме, на стороне их друзей, их дела. После тщательных расспросов в Иоганнесбурге мне как будто удалось установить все их требования, кроме одного: чего они рассчитывали добиться с помощью вооруженного восстания?
Этого, по-видимому, никто не знал.
Причина недовольства реформистов и их стремления к переменам была, казалось, совершенно ясна. В Иоганнесбурге стало известно, что уитлендеры (чужеземцы, иностранцы) платят тринадцать пятнадцатых всех трансваальских налогов, а взамен почти ничего не получают. У города не было своей хартии, не было своего муниципального управления; он не имел права взимать налоги на строительство канализации, водопровода, мощение дорог, на уборку улиц, санитарию и поддержание порядка. Полиция существовала, но она состояла из буров; полицейские находились на службе у правительства, и город не мог их контролировать. Разработки недр стоили очень дорого: правительство сильно увеличило их стоимость, облагая непомерными налогами рудники, добычу, машины, сооружения, налагая на ввозимые материалы обременительные пошлины и устанавливая на железнодорожные перевозки непосильные тарифы. И что было самое тяжкое — правительство сохранило за собой монополию на самый необходимый для горного дела товар — динамит, назначив за него неслыханную цену. Ненавистные голландцы — пришельцы из-за моря — держали в своих руках все общественные учреждения. Правительство было насквозь продажным. Уитлендеры не имели права голоса, они приобретали его только после десяти- или двенадцатилетнего пребывания в стране. У них не было своих представителей в Рааде (законодательный орган), который угнетал их и обдирал как липку. Религиозных свобод не было. Школ на английском языке не существовало, хотя большинство белых в стране не знало иного языка. Правительство ввело сухой закон, но разрешило торговлю среди негров прескверным дешевым вином, — поэтому двадцать пять процентов всего количества чернокожих, занятых на работе в шахтах, — пятидесяти тысяч человек, — были обычно пьяны и не способны работать.
Итак, совершенно ясно, что разумных причин для стремления к каким-либо переменам было более чем достаточно, если только вышеприведенный перечень не был преувеличен.
Уитлендеры мечтали о реформах при сохранении существующего политического строя — республики.
Превратить же свои мечты в действительность они намеревались при помощи молитв, петиций и убеждений.
Они составили петиции; затем выпустили манифест, первая строка которого кричала о полной лояльности: «Мы хотим, чтобы наша республика была настоящей республикой».
Может ли что-либо быть яснее, чем перечень наносимых уитлендерам обид и испытываемых ими притеснений? Может ли что-нибудь быть более открытым, более достойным гражданина и более уважающим закон, чем их мысли, выраженные в манифесте? Нет. Все это было предельно ясно, предельно понятно.
Но как раз тут-то и появляются все те загадки, недоумения и вопросы, о которых я говорил. Вы дошли до того места, постичь которое никто не в силах.
Потому что вы видите, что, готовясь к этой лояльной, законной и во всех отношениях разумной попытке убедить правительство восстановить справедливость, уитлеидеры тайком перевезли в город спрятанные и баках с горючим или в вагонах с углом два-три пулемета и тысячу пятьсот мушкетом и начали формировать и обучать военные отряды, составленные из мелких служащих, купцов и гражданского населения.
Что они намеревались делать? Уж не предполагали ли они, что буры нападут на них за то, что они осмелились просить восстановления их прав? Нет, не может быть.
Быть может, они опасались гнева буров за выпуск манифеста с требованием облегчения их участи при сохранении существующего правительства?
Да, этого они, по-видимому, опасались, ибо в воздухе носились разговоры о том, что. придется заставить правительство силой даровать им требуемые права, если оно не пожелает сделать это миром.
Реформисты были людьми умными. Раз они всерьез решились действовать, значит пошли на огромный риск. Им пришлось бы защищать весьма ценное имущество; в городе было полно женщин и детей; на рудниках и в усадьбах работали десятки тысяч здоровенных чернокожих. Начни буры военные действия, рудники пришлось бы закрыть, и негры не преминули бы напиться допьяна; разгул, пожары и буры — все вместе могло бы принести реформистам в течение одного дня столько убытков, крови и страданий, что желанное восстановление в политических правах не могло бы их компенсировать, даже если бы они одержали победу и добились реформ.
Сейчас май 1897 года; с тех смутных дней прошел целый год, и теперь гораздо легче разобраться в происшедших событиях. Мистер Сесиль Родс, доктор Джеймсон и другие лица, на которых лежит ответственность за нападение на Трансвааль, дали показания в Лондоне перед парламентской комиссией по расследованию; дали показания также мистер Лайонел Филлипс и другие иоганнесбургские реформисты, незадачливые нянюшки мертворожденного переворота. Их показания пролили свет на минувшие события. Еще больше света пролили на них три недавно опубликованные книги: «Южная Африка, как она есть» Стэтема, способного писателя, сторонника буров; «История африканского кризиса» Гаррета, великолепного писателя, сторонника Родса; и «Участие женщин в революции» — дневник миссис Джон Хейс Хэммонд, энергичной и живой мемуаристки, сторонницы реформистов. Собрав в один сосуд все сведения, изложенные в этих далеко не объективных книгах, вместе с необъективными показаниями свидетелей, выступивших перед парламентской комиссией, я хорошенько переметал все это и влил в свою собственную (необъективную) форму; таким образом я наконец разобрался в этом загадочном южноафриканском вопросе, сущность которого сводится к следующему:
Капиталисты и другие видные люди Иоганнесбурга волновались по поводу различных политических и финансовых притеснений со стороны правительства (Южно-Африканской Республики, именуемой иначе Трансваалем) и хотели мирными средствами добиться изменения законов.
Мистер Сесиль Родс, премьер-министр Капской колонии, миллионер, основатель и директор огромной, по территории и невыгодной в финансовом отношении Южно-Африканской компании, уже много лет лелеявший мечту об объединении и консолидации всех южноафриканских земель в одно внушительное государство, или империю, под сенью и защитой британского флага, решил воспользоваться недовольством уитлендеров и заставить иоганнесбуржцев таскать для него каштаны из огня. С этой целью он принялся всячески превращать законные и справедливые петиции и воззвания уитлендеров в бунтарские выкрики, а их волнения — в угрозы, подстрекая их к мятежу и вооруженному восстанию. Если бы ему удалось довести дело до кровопролитного столкновения между уитлендерами и бурским правительством, Великобритании пришлось бы вмешаться, буры оказали бы ей сопротивление, и Великобритания, в наказание бурам, присоединила бы Трансвааль к своим южноафриканским владениям. План был далеко не глуп, весьма практичен и легко выполним.
Потратив года два на тщательную подготовку к заговору, мистер Родс был наконец вознагражден успехом: в Иоганнесбурге бурлил революционный котел, а уитлендерские вожди засыпали правительство теперь уже не прошениями, а требованиями, подкрепляя их угрозами насилия и кровопролития. К середине декабря 1895 года взрыв казался неминуемым. Сидя в своей отдаленной резиденции в Кейптауне, мистер Родс старался изо всех сил. Он помогал иоганнесбуржцам добывать оружие, он подготовил возможность Джеймсону перейти границу и добраться до Иоганнесбурта со своими шестьюстами всадниками. Джеймсон, по-видимому по наущению Родса, потребовал от реформистов письма с просьбой прийти на помощь. Это была неплохая мысль. Значительная доля ответственности за вторжение Джеймсона в город ложилась теперь на реформистов, Джеймсом его получил, это знаменитое письмо с мольбой мчаться на помощь женщинам и детям. И получил он его за два месяца до того, как помчался. Реформисты, однако, хорошенько обдумав свой поступок, пришли к выводу, что поступили не слишком благоразумно, и на следующий день после передачи Джеймсону этого порочащего их документа пожелали взять его обратно, предпочитая оставить женщин и детей на произвол судьбы; но им сказали, что уже поздно. Оригинал письма был отправлен мистеру Родсу в Кейптаун. Правда, Джеймсон благоразумно сохранил у себя копию.
С этого часа вплоть до 29 декабря реформисты всеми силами пытались заставить Джеймсона не приходить им на помощь. Выступление Джеймсона было назначено на 26-е. Реформисты не были готовы. Город не был объединен. Одни жаждали войны, другие — мира; одни хотели создания нового правительства, другие ратовали за преобразование старого; и, по-видимому, лишь немногие желали переворота в интересах и под знаком британского флага, — тем не менее стали распространяться слухи, что именно эту цель преследует мистер Родс с его нежеланной помощью.
Джеймсов был уже на границе и нетерпеливо натягивал уздечку, горя желанием ринуться вперед. Ценой отчаянных усилий реформистам удалось немного оттянуть дату выступления Джеймсона, а хотели они ее оттянуть на одиннадцать дней. Казалось, агенты Родса тоже старались изо всех сил: они заполняли все телеграфные провода, пытаясь задержать Джеймсона. Сам Родс был единственным человеком, способным его удержать, но это никак не входило в его планы, — напротив, это разрушило бы его двухлетний труд.
Три дня Джеймсон терпел, а затем решил больше не ждать. Без всяких приказаний — за исключением многозначительного молчания мистера Родса — он 29-го числа перерезал телеграфные провода, ночью перешел границу и, уступая настойчивым просьбам, — высказанным в письме девятидневной давности (только по дате, а в действительности двухмесячной), поспешил на помощь женщинам и детям. Он прочитал письмо своим солдатам; оно произвело на них большое впечатление. Правда, впечатление было не для всех одинаковым. Некоторые увидели в рейде неразумную пиратскую выходку и пожалели о том, что согласились принять участие в нападении на дружественную территорию, вместо того чтобы совершать набеги на туземные краали, как они рассчитывали.
Джеймсону предстояло скакать сто пятьдесят миль. Он знал, что в Трансваале о нем кое-что подозревают, но надеялся дойти до Иоганнесбурга раньше, чем эти подозрения подтвердятся. Однако один телеграфный провод по недосмотру не был перерезан. Весть о вторжении Джеймсона распространилась с быстротой молнии, и через несколько часов после его выступления буры уже мчались ему наперерез со всех сторон.
Как только в Иоганнесбурге стало известно о том, что Джеймсон идет на помощь, благодарные жители тотчас усадили женщин и детей в поезд и отправили в Австралию. Приближение «спасителей» вызвало в Иоганнесбурге ужас и панику, и мирные жители — мужчины — толпами кинулись на вокзал, сметая все на своем пути, как смерч. Тем, кто пришел первым, повезло: они успели захватить места за восемь часов до отхода первого поезда.
Мистер Родс тоже не терял времени даром. он опубликовал в лондонских газетах уже известное нам письмо иоганнесбуржцев, — такого древнего документа телеграф еще никогда не передавал.
Поспешил высказаться и новый поэт-лауреат. Он разразился восторженной поэмой, и которой воспевал решимость и самоотверженный героизм Джеймсона, помчавшегося на помощь женщинам и детям; поэт не знал, что герой помчался лишь через два месяца после получения приглашения. Он был обманут подложной датой письма, которое пометили двадцатым декабря.
Буры перехватили Джеймсона в день Нового года, а на следующий день он сложил оружие. Копия письма была при нем; в если только он заранее получил приказ в случае нужды позаботиться о том, чтобы письмо попало в руки буров, он в точности его исполнил. Миссис Хэммонд, резко упрекая его за эту «беспечность», выражает свои чувства пламенным курсивом: «Письмо нашли на поле битвы в кожаном подсумке, который, как предполагается, был седельным вьюком доктора Джеймсона. Почему же, во имя всего святого, он не проглотил это письмо?»
Она требует слишком многого. Он ведь не служил реформистам — разве что только с виду, — он находился в услужении у мистера Родса. Письмо было единственным документом, написанным на обычном английском языке; оно было не зашифровано, не подделано, под ним стояли подписи; письмо это вполне недвусмысленно свидетельствовало о том, что виноваты в рейде Джеймсона реформисты, — поэтому отнюдь не в интересах мистера Родса было уничтожать это письмо. Кроме того, это ведь было не само письмо, а только копия. Оригинал находился у мистера Родса — и он тоже его не проглотил: он послал его телеграфом в лондонскую прессу. Англия, Америка и Еврола прочли его раньше, чем оно было обронено Джеймсоном на поле боя. Если подчиненный заслуживал упрека, то хозяин заслужил его вдвое.
Эта история с письмом поистине глубоко драматична и вполне заслуживает своей славы, ибо впечатления, произведенные ею, необычайны по своему разнообразию. За одну только неделю она сделала Джеймсона знаменитым героем в Англии, пиратом в Претории и ослом без такта и без чести в Иоганнесбурге; она вызвала блестящий фейерверк стихотворных строф поэта-лауреата, наполнивших ослепительным блеском небо над земным шаром и сообщивших всему миру, что Джеймсон шел с этим письмом в кармане на помощь женщинам и детям Иоганнесбурга, которых там уже не было. Вот что может наделать старое письмо. Будучи письмом двухмесячной давности, оно произвело сенсацию; а если бы оно было годичной давности, оно бы, вероятно, совершило чудо.
Глава XXXI ПОЧЕМУ БУРЫ РАЗБИЛИ ДЖЕЙМСОНА
Сначала поймай бура, а потом уж пинай его.
Новый календарь Простофили ВильсонаВ эти дни встревоженные реформисты пребывали в тяжких заботах.
От миссис Хэммонд мы узнаем, что 31-го числа (на следующий день после того, как в Иогаинесбурге стало известно о вторжении), «комитет реформистов отрекся от участия в набеге доктора Джеймсона».
В то же время комитет обнародовал свое намерение придерживаться принципов манифеста.
И одновременно комитет совершенно искренне высказывал пожелание, чтобы население воздерживалось от действий, направленных против правительства бурoв.
И в то же время комитет «распределял оружие» в здании суда и снабжал лошадьми «вновь завербованных добровольцев».
И в то же время в помещение комитета был внесен флаг Трансвааля, и все члены комитета, стоя перед ним «с непокрытой головой и воздев кверху руки», присягнули ему в верности.
Одновременно повстанцам «была роздана тысяча винтовок системы Ли-Метфорд».
В то же время, выступая с речью, реформист Лайонел Филлипс сообщил широкой публике, что делегация от комитета реформистов «была принята правительственной комиссией очень любезно» и что, «как заверили делегацию, все предложения реформистов будут рассмотрены с надлежащим вниманием». Что «хотя комитет реформистов сожалеет об опрометчивом поступке Джеймсона, тем не менее он будет его поддерживать».
Одновременно народ пребывал в состоянии «дикого воодушевления»: «его едва можно будет обуздать, он хочет выйти навстречу Джеймсону и под восторженные крики внести в город на руках».
В то же время британский верховный комиссар выпустил воззвание, осуждающее Джеймсона и всех англичан — его соучастников в этой игре. Оно вышло в свет 1 января.
Реформисты оказались в необыкновенно трудном положении, полном неожиданностей и подводных камней. Их долг был тяжек, но ясен:
1. Они должны были отречься от участия во вторжении доктора Джеймсона — и в то же время его поддерживать.
Они были вынуждены присягнуть на верность бурскому правительству — и обеспечивать повстанцев лошадьми.
Они обязаны были запрещать действия, направленные против бурского правительства, — и раздавать оружие его врагам.
Они были вынуждены избегать столкновения с английским правительством — и в то же время поддерживать Джеймсона и оставаться верными своей новой присяге бурскому правительству, которая была принесена с непокрытой головой перед государственным флагом Трансвааля.
Они изо всех сил старались делать все, что могли; да, они сделали все, но не одновременно, а по очереди. Выполнить все это одновременно было невозможно чисто физически.
Серьезно ли готовились реформисты к вооруженному восстанию или только «шумели» об этом? Если действительно серьезно, то они очень многим рисковали, как я уже говорил. Один высокопоставленный джентльмен из Иоганнесбурга рассказал мне, что у него в руках был отпечатанный документ — список членов нового правительства во главе с президентом — одним из реформистских лидеров. Этот документ с минуты на минуту должны были опубликовать, но вовремя задержали, когда рейд Джеймсона провалился. Быть может, я неправильно понял этого джентльмена. Разумеется, я неправильно его понял, потому что ни в одной книге, ни в одной газете я не встречал упоминания об этом значительном событии.
Кроме того, я надеюсь, что ошибаюсь: ибо если я ошибаюсь, значит можно утверждать, что реформисты в глубине души намеревались лишь припугнуть бурское правительство и заставить его провести необходимые реформы.
Бурское правительство и вправду испугалось — и у него были на то все основания. Ибо если мистер Родс намеревался спровоцировать столкновение, которое должно было бы вызвать вмешательство Англии, то дело обстояло очень серьезно. Если бы можно было доказать, что и реформисты стремились к тому же, то это означало бы, что они задумали вполне осуществимый проект, хотя он обошелся бы им очень дорого, прежде чем Англия успела бы прийти на помощь. Совершенно очевидно, однако, что у них не было ни такого плана, ни стремления. Во всяком случае, даже если бы они и намеревались сбросить правительство, то только для того, чтобы самим прийти к власти.
Этот план едва ли мог удаться. Даже если бы весь город вооружился, шансы на успех были бы весьма сомнительны: впереди была армия буров, а под носом у реформистов — пятьдесят тысяч буйных туземцев. И вдобавок они располагали лишь двумя с половиной тысячами винтовок, и, конечно, никакой надежды на успех у них практически не было.
Во всем этом деле военная проблема представляла для меня значительно больший интерес, чем политическая, ибо я по характеру своему всегда чувствовал особое расположение к войне. Нет, конечно, не к самой войне, а к разговорам о войне; кроме того, я люблю давать советы по этому вопросу. Будь я возле Джеймсона в ту ночь, когда он перешел границу, я бы посоветовал ему вернуться. Это событие произошло в понедельник. В этот день он получил от буров первое предупреждение не нарушать границу дружественного Трансвааля. Это означало, что его намерения уже известны. Будь я при нем во вторник утром и днем, когда он получил новые предупреждения, я бы повторил свой совет. Будь я при нем в новогоднее утро, когда ему сообщили, что впереди его поджидает «несколько сот» буров, я бы не просто посоветовал, а приказал ему повернуть назад. А будь я возле него два-три часа спустя — чего я совершенно не могу себе представить,— я бы силой заставил его отступить; ибо как раз в это время он узнал, что эти «несколько сот» превратились в 800 человек и что число их будет непрерывно возрастать.
По свидетельству мистера Гаррера, известно, что «600 всадников» Джеймсона в действительности состояли самое большее из 530 человек, если не считать туземных возниц и т. п., и что эти 530 человек были в основном «зеленой молодежью», никогда не нюхавшей пороха, а не опытными, закаленными в боях английскими солдатами; я сказал бы Джеймсону, что эти парни верхом на лошади не сумеют даже попасть в цель в пылу и шуме битвы, да и стрелять-то придется только по скалам, ибо буры привыкли сражаться, прячась за скалами, а не в открытом бою. Я бы сказал Джеймсону, что прячущиеся за скалами 300 отборных бурских стрелков с легкостью выйдут победителями в поединке с 500 неопытными юнцами верхом на конях.
Будь мужество решающим фактором на войне, англичане но знали бы поражений. Но в борьбе против бурою, так же как и в борьбе против краснокожих индейцев, нужна не только отвага, но и осторожность. В Южной Африке британцы всегда придерживались тактики открытого наступления на скрывающихся в скалах буров, невзирая на потери. Джеймсон тоже последовал бы установившимся традициям. Он не стал бы и слушать меня — он старался бы действовать так, как действовали его предки. Американцам неизвестны подробности англо-бурской войны 1881 года, хотя ее история представляет большой интерес и могла бы оказаться поучительной для Джеймсона, если бы он захотел извлечь из нее урок. Я приведу некоторые сведения, полученные мною из достоверных источников — в основном из расселского «Наталя». Мистер Рассел — не бур, он англичанин, школьный инспектор, и его книга, — учебник, предназначенный для проживающих в Натале молодых англичан.
После захвата Англией Трансвааля в 1877 году и роспуска бурского правительства буры целых три года продолжали волноваться, посылая в Англию требования о восстановлении своих прав, но безрезультатно. Тогда они собрались в Крюгерсдорпе на огромный массовый митинг, обсудили свои невзгоды и решили начать борьбу за освобождение из-под гнета англичан. (Крюгерсдорп — это место, где буры остановили отряд Джеймсона). Горстка фермеров восстала против сильнейшей державы в мире. Они объявили о восстановлении республики и ввели в стране военное положение. Затем, организовав военные отряды, они выслали их вперед — преградить путь английским батальонам,
И все это несмотря на то, что незадолго до этого сэр Гарнет Уолсли заявил: «Пока солнце светит на небе», Трансвааль будет и останется английской территорией. И несмотря на то, что командир 94-го полка, уже двигающегося для подавления восстания, сказал: «При первом же ударе большого барабана у буров только пятки засверкают»[115].
Через четыре дня после водружения флага республики армия буров, высланная вперед, чтобы помешать вторжению английских войск, встретилась с англичанами возле Бронкхорст Спрут, — это были двести сорок шесть солдат 94-го полка под командованием полковника, — и под бой большого барабана, под звуки оркестра произошло первое сражение. Оно длилось всего десять минут. Результат:
Англичане потеряли более 150 офицеров и солдат из 246. Остальные сдались в плен.
Потери буров — если они у них была — ни указаны.
Искуснейшие стрелки, эти буры! Едва выбравшись из колыбели, они садятся верхом на лошадь и почти всю жизнь проводят в седле, охотясь с ружьем на диких зверей. У них есть две страсти - свобода и библия, а остальное их не интересует.
«Генерал сэр Джордж Колли, генерал-губернатор Наталя и главнокомандующий английскими войсками, счел своим долгом немедленно выступить на освобождение лояльного населения и солдат, осажденных в различных городах Трансвааля». Он выступил в сопровождении тысячи солдат и нескольких артиллерийских орудий. Буры засели в укрепленных и укрытых позициях в горах Лаингс Нек; каждый бур укрылся за скалой. Ранним утром 28 января 1881 года генерал Колли перешел в наступление, «бросив в атаку 58-й полк под командованием полковника Дина, конный эскадрон в составе семидесяти всадников, 60-й батальон стрелков, морской дивизион, вооруженный тремя ракетометами, и шесть артиллерийских пушек». В течение двадцати минут он поливал буров артиллерийским огнем, а затем началась атака, причем 58-й полк поднимался по склону горы сомкнутым строем. Битва быстро окончилась, в результате чего (по Расселу):
англичане потеряли убитыми и ранеными 174 человека; потери буров были «незначительны».
Полковник Дин погиб; и, по-видимому, все офицеры в чине от лейтенанта и выше тоже были убиты или ранены, потому что 58-й полк вернулся в свой лагерь под командованием лейтенанта («Африка, как она есть».)
Так закончился второй бой.
7 февраля генерал Колли обнаружил, что буры угрожают его позициям с флангов. На следующее утро он выступил из своего лагеря у Маунт Плезент и, перейдя с отрядом в двести семьдесят человек реку Ингого, начал штурмовать гору Ингого, и там, на ее склонах, произошла встреча с бурами; бой длился с двенадцати часов дня до наступления темноты. Колли был вынужден отступить, оставив раненых под защитой полкового священника, но, форсируя на обратном пути разлившуюся реку, потерял в ее водах ещё несколько солдат. Это была третья победа буров. Результат ее (но мистеру Расселу):
Англичане потеряли 150 человек из 270.
Потери буров: 8 убитых, 9 раненых; итого: 17 человек.
Затем наступило временное затишье, но по прошествии трех недель сэру Джорджу Колли пришла в голову мысль за одну ночь преодолеть силами пехоты и артиллерии крутой и обрывистый склон горы Амаджуба; трудная, непосильная задача, но он ее выполнил. По пути он оставил около двухсот человек охранять стратегически важные позиции, а сам в сопровождении четырехсот солдат двинулся вверх. Утром изошло солнце, и взорам потрясенных буров предстала следующая картина: на вершине горы, на расстоянии двух-трех миль от них, стояли англичане, и теперь уже их собственные позиции находились во власти английской артиллерии. Командир буров решил двинуться к вершине горы. Он кликнул добровольцев, и люди тронулись вслед за ним.
Ударная штурмовая часть буров перешла через болото и начала ползком взбираться вверх по склону горы: «...прячась за скалами и в кустах, они целились в англичан, четко вырисовывавшихся на фоне неба, словно охотились на оленей, — говорит мистер Рассел. — Одна сторона вела беспрерывный, смертоносный огонь из мушкетов, а другая стреляла беспорядочно и безрезультатно». Буры достигли вершины и принялись за свою разрушительную работу. Наконец англичане «дрогнули и, спасая свою жизнь, бросились вниз по обрывистому склону». Буры одержали победу. Убитых и раненых, включая и погибшего английского генерала, насчитывалось:
У англичан — 226 человек из 400 принимавших участие в этом бою.
Потери буров: 1 убитый, 5 раненых.
Так закончилась война. Англичане прислушались к голосу разума и признали бурскую республику — правительство которой фактически и не подвергалось серьезной опасности, до тех пор пока против него не выступил Джеймсон со своими пятьюстами «неопытными парнями».
Подведем итоги:
Бурские фермеры и английские солдаты встретились в четырех боях, и буры во всех четырех одержали победу. В результате этих сражений
англичане потеряли убитыми и ранеными 700 человек; потери буров, по имеющимся сведениям, составляют 23 человека.
Интересно отметить, насколько Джеймсон и несколько его хорошо обученных английских офицеров пытались в своей тактике следовать примеру своих предшественников. Рассказ мистера Гаррета об этом рейде — лучшее из всего, что я об этом читал, и мои представления о рейде почерпнуты из него.
Когда Джеймсон узнал, что возле Крюгерсдорпа стоят, преграждая ему путь, 800 буров, он ничуть не встревожился. Он чувствовал себя так же, как два-три дня назад, когда выступил в поход с теми же историческими словами и с той же целью, что и командир 94-го полка. Приступая четырнадцать лет назад к военным действиям, послужившим началом англо-бурской войны, командир заявил, что «при первом же ударе большого барабана у буров только пятки засверкают». Джеймсон заявил, что он со своими «парнями» сумеет «дать хороший пинок всем бурам в Трансваале». Как видите, он строго придерживался исторических традиций.
Джеймсон достиг лагеря буров. Как всегда, их нигде не было видно. Кругом было полно скал, ущелий, рвов, оврагов, оледеневших остатков руды из заброшенных рудников, — кавалеристам было еще труднее продвигаться, чем у Лаингс Нек и прежние исторические дни. Джеймсон, следуя примеру генерала Колли в битве при Неке, обрушил артиллерийский огонь на скалы и ущелья, но не сумел причинить бурам никакого вреда и не заставил их выглянуть из-за своих укрытий. Затем около сотни его солдат решились штурмовать горный склон — по примеру 58-го полка во время битвы при Неке, — но на сей раз, учтя печальный опыт 58-го полка, они двинулись вперед цепочкой; когда они находились уже в двухстах ярдах от вершины, буры открыли огонь и сбили двадцать кавалеристов. Остальные спешились и, укрывшись за спинами лошадей, начали стрелять по скалам, но ответный огонь был слишком жарким, поэтому они вновь вскочили на лошадей «и помчались назад или уползли в тростниковые заросли, где их вскоре отыскали и взяли в плен. В зарослях взяли человек тридцать; и в ту же ночь буры отыскали и унесли еще тридцать убитых и раненых; раненые были отправлены в крюгерсдорпский госпиталь». По подсчетам мистера Гаррета, атакующая сторона лишилась шестидесяти процентов своего боевого состава.
И здесь были соблюдены исторические традиции: в битве при Амаджубе англичане потеряли 226 человек из 400 принимавших в ней участие.
И в лагере Джеймсона в ту ночь «лежало около тридцати раненых или искалеченных» солдат. И в ту же, ночь «около 30—40 юношей сбежали из лагеря и побрели в Иоганнесбург». Итак, из 530 солдат англичане лишились примерно 150 человек. Люди Джеймсона сражались доблестно, но не сумели ни к одному буру подойти достаточно близко, чтобы дать ему пинка.
На рассвете следующего дня поредевший отряд из 400 англичан снова двинулся в путь. Упрямству Джеймсона можно позавидовать; впрочем, упрямство свойственно англичанам. Он еще не утратил надежды. Однако после многочасового, утомительного зигзагообразного перехода по пересеченной местности, во время которого английские солдаты то и дело попадали под обстрел буров, отряд «попал в своеобразную западню», и буры «его окружили». «Люди и лошади падали на каждом шагу. Солдаты все яснее понимали, что, если им не удастся здесь прорваться через линии буров, они обречены. Пулеметы строчили без перерыва до тех пор, пока не накалились, и поскольку воды для охлаждения кожухом по хватало, то пять пулеметов заклинило, и они вышли из строя, Пушка стреляла семифунтовыми снарядами до тех пор, пока их не осталось всего на полчаса. Была сделана еще одна неудачная попытка прорваться, а затем на левом фланге появилась стаатсовская артиллерия — и все было кончено».
Джоймсон выкинул белый флаг и сдался.
Рассказывают, — не знаю, правда это или нет, — об одном невежественном бурском крестьянине, который решил, что белый флаг является английским национальным флагом. Ему довелось участвовать в битвах при Бронкхорсте, Лаингс Нек, Ингого и Амаджубе, и он думал, что англичане поднимают свой флаг всегда только в конце сражения.
Вот в каких цифрах (насколько я понял) мистер Гаррет подытоживает общие потери Джеймсона убитыми и ранеными за два дня.
«Когда они сдались в плен, у них не хватало около 20% общего числа боевого состава. Насчитывалось 76 выбывших из строя. 30 раненых и больных лежали в санитарных фургонах. 27 человек были убиты на месте или смертельно ранены», Итого; 133 человека из 530. Это составляет ровно 25%[116]. Эти цифры не так страшны, как данные о числе убитых и раненых при Бронкхорсте, Лаингс Нек, Ингого и Амаджубе, и свидетельствуют о том, что буры стали менее искусны в меткой стрельбе, нежели раньше. Но в одной своей подробности рейд Джеймсона точно повторяет предыдущие рейды. При сдаче в плен при Бронкхорсте вся английская армия исчезла с театра военных действий; то же самое произошло и с отрядом Джеймсона.
Потери буров тоже сохраняют определенную историческую последовательность. В четырех названных сражениях буры потеряли, насколько мне известно, в среднем по шесть человек в каждом бою, в то время как англичане теряли в среднем но сто семьдесят пять. Во время сражений с Джеймсоном буры потеряли убитыми, по их собственным официальным данным, четырех человек. Двое из них случайно погибли от руки самих буров, двое других были убиты солдатами Джеймсона: один — намеренно, а второй — из-за досадной ошибки. «Когда первая атака была отбита, молодой бур по имени Джейкобс направлялся к одному из раненых солдат Джеймсона, чтобы дать ему воды; как вдруг другой раненый, не так поняв его намерения, застрелил его». В крюгерсдорпском госпитале находилось всего три-четыре раненых бура, и, по-видимому, больше случаев зарегистрировано не было. Мистер Гаррет, «исходя из теории вероятности, полностью принимает официальную версию и благодарит господа бога за то, что число убитых не достигло еще большей цифры».
В качестве человека военного, я хочу особо подчеркнуть чисто военные, как мне кажется, ошибки в проведении разбираемой нами кампании. Я видел активные действия на поле битвы, и именно во время сражений обрел я свой опыт, а отсюда и право на критику. В начале нашей гражданской войны я прослужил две недели в действующей армии, командуя взводом из двенадцати пехотинцев. Генералу Гранту известна моя военная история, ибо я ему о ней рассказал. Я также рассказал ему о принципе, которым руководствовался во время этой кампании; принцип этот заключался в изматывании противника. Мне удалось измотать и вывести из строя не один батальон, а сам я остался цел и невредим и не потерял ни одного солдата из своего взвода. Генерал Грант не любил говорить комплименты, но тут он чистосердечно признался, что, если бы боевыми действиями руководил я, было бы пролито гораздо меньше крови, а вдохновение, которое могла бы испытать армия в битвах с врагом, было бы с лихвой возмещено облагораживающим влиянием постоянных передвижений с места на место. Дальнейшие рекомендации, мне кажется, не требуются.
Давайте обратимся к истории и посмотрим, чему она нас учит. В четырех сражениях 1881 года и двух боях Джеймсона англичане но существу потеряли убитыми, ранеными и пленными тысячу триста человек; потери буров, насколько известно, — более или менее достоверно, — составили около тридцати человек. Эти цифры свидетельствуют о какой-то ошибке в стратегии англичан. В отсутствии мужества их обвинить нельзя. Мне кажется, что ошибка их заключалась в недостаточной осторожности. Британцы должны были или отказаться от своих методов ведения войны и сражаться с бурами их собственными методами, или накапливать свои силы до тех пор, пока — используя британские методы — силы эти не станут достаточными, чтобы не уступать бурам.
Сохранение британских методов ведения войны против буров потребовало бы определенных условий, в основе которых должна лежать арифметика. Если бы, скажем, мы предположили, что все 1716 английских солдат, которые участвовали в четырех первых сражениях, встретились с точно таким же числом буров, то результаты были бы следующие: для уравнивания потерь в будущих боях английская армия должна в тридцать раз превосходить по силе армию буров, ибо англичане потеряли 700 человек, а буры — 23 человека. По словам мистера Гаррета, отряд буров, непосредственно сражавшийся против Джеймсона, состоял из 2000 человек, а к вечеру следующего дня в его рядах насчитывалось уже 8000 человек. Простая арифметика доказывает, что для уравнивания своих сил с силами 8000 буров Джеймсону потребовалось бы 240000 солдат, а ведь у него было всего 530 парней. С точки зрения военного, подкрепленной фактами из истории, я прихожу к выводу, что Джеймсон был никуда не годным стратегом.
И еще вот что. Джеймсон был чересчур перегружен артиллерией, боеприпасами и ружьями. Ход битвы говорит о том, что ему совсем незачем было тащить их с собой. Их тяжесть метала его продвижению, задерживала его. Стрелять приходилось по скалам, — по ведь Джеймсон заранее знал, что других целей для стрельбы у него не будет, и понимал, что пушки и ружья бесполезны против скал. Он тащил с собой слишком много разной ерунды. У него было восемь пулеметов системы «максим», которые выпускают 500 пуль в минуту, одна пушка для ядер в двенадцать с половиною фунтов и две — для семифунтовых; и кроме того, 145 000 пулеметных лент. Он так усиленно расстреливал из своих «максимов» скалы, что пять из них вышли из строя, — пять пулеметов, а не скал. Говорят, что за двадцать один час сражения было расстреляно 100 000 пулеметных лент. А убит был — один человек! Вероятно, его изрешетили вдоль и поперек. Зачем же было тащить с собой столь бесполезные «максимы»? Лучше бы Джеймсон вооружился «максимами» Простофили Вильсона. Они разят точнее, чем их знаменитые тезки, да и носить их легче, ибо они невесомы.
Мистер Гаррет, не скрывая улыбки, оправдывает наличие пулеметов тем, что их треск, по его словам, мешал бурам как следует прицелиться и тем самым спас жизнь многих солдат.
Три пушки, восемь пулеметов и пятьсот винтовок привели к результату, который вновь подчеркнул уже установленный ранее факт: что тактика открытого наступления в войне с бурами, скрывающимися за скалами, неразумна, ничем не оправдана и должна быть немедленно заменена чем-нибудь гораздо более действенным. Ибо на войне нужно убивать, а не расходовать боеприпасы зря.
Если бы мне довелось командовать хоть в одной из этих кампаний, я бы знал, что нужно делать, потому что я изучил характер буров. Больше всего на свете они почитают библию. Самым вкусным блюдом в Южной Африке считается «билтонг». Это блюдо упомянуто и в книгах Оливии Шрайнер[117]. Жители равнин у нас называют его «вяленым мясом». Это блюдо — основное питание бура. Он его обожает, — и правильно делает.
Если бы я командовал в войне с бурами, у меня были бы только винтовки и никаких тяжелых пулеметов и пушек, которые только портят скалы. Ночью я бы тайком пробрался к месту, находящемуся на расстоянии четверти мили от лагеря буров, и там выстроил бы пятидесятифутовой высоты пирамиду из билтонга и библий, а вокруг спрятал бы своих солдат. Утром буры выслали бы разведчиков, а потом и все остальные толпой хлынули бы к пирамиде. Я бы окружил их, и им пришлось бы сражаться с нами на равных условиях, в открытую. Уж тогда-то результаты были бы совсем не те, что в битве при Амаджубе[118].
Глава XXXII БУР, КАКОЙ ОН НА САМОМ ДЕЛЕ
Ни у кого из нас нет тех бесчисленных достоинств, какими обладает автоматическая ручка; нет и половины ее коварства. Но мы можем мечтать об этом.
Новый календарь Простофили ВильсонаГерцог Файф клялся, что мистер Родс обманул его. Точно так же мистер Родс поступил и с реформистами. Он втянул их в беду, а сам остался в стороне. Рассудительный человек, что и говорить! Он всегда был таким. Всего один-единственный раз он усомнился в правильности своего поступка: это произошло во время его последнего пиратского набега на Матабелеленд. Телеграф растрезвонил всем, что он отправился туда безоружным, намереваясь лишь нанести визит группе враждебных ему вождей. Все это так и было; причем отважная экспедиция чуть не вызвала еще одну бестактность со стороны поэта-лауреата. Это было бы весьма неприятно, поскольку, как выяснилось позже, тут была замешана женщина, и она тоже не имела при себе оружия.
По мнению многих, мистер Родс и есть Южная Африка; другие полагают, что он — только большая ее часть. Эти последние считают, что Южная Африка состоит из Столовой горы, алмазных копей, Иоганнесбургских приисков и Сесиля Родса. Золотые прииски — явление, достойное всяческого восхищения. За семь или восемь лет в пустыне вырос город с населением в сто тысяч жителей, как белых, так и чернокожих; и это не просто горняцкий поселок с деревянными хибарками, а настоящий город с прочными зданиями. Нигде в мире нет такого скопления богатейших приисков, как в Иоганнесбурге. Мистер Бонамичи, мой импрессарио там, подарил мне маленький золотой кирпичик, на котором были выгравированы цифры, рассказывающие о добыче золота со времени открытия этих приисков по июль 1895 года и об огромных темпах развития золотопромышленности: в 1888 году было добыто золота на сумму 4 162 440 долларов; за следующие пять с половиною лет — на сумму 17 585 894 доллара, а только за двенадцать месяцев по июнь 1895 года золота было добыто на сумму 45 553 700 долларов.
Капитал, вложенный в разработки этих приисков, поступил из Англии, горные инженеры приехали из Америки. То же самое произошло и с алмазными копями. Южная Африка — рай для американца — горного инженера. Здесь он занимает лучшие должности и не боится увольнения. Его жалованье во много раз превосходит заработки в Америке.
Акционеры процветающих рудников получают значительные дивиденды, хотя руда здесь, с калифорнийской точки зрения, и не очень богата. Порода считается богатой, если с тонны ее можно получить доход в десять — двенадцать долларов. В местной руде содержится такой большой процент неблагородных металлов, что еще двадцать лет назад она могла бы принести лишь вдвое меньшую прибыль, ибо в то время платили только за добычу крупнозернистого чистого золота; нo теперь, с применением обработки цианистой кислотой, ежегодный доход от добычи золота во всем мире увеличился до пятидесяти миллионов долларов, которые прежде пропадали из-за отбросов.
Я не был знаком с процессом обработки золота цианистой кислотой, и он, естественно, очень меня заинтересовал; мне также до сих пор не приходилось видеть дорогое и сложное горное оборудование, но остальные детали золоторудной промышленности были мне знакомы и прежде. Я сам когда-то работал на золотых приисках и понимаю в процессе добычи золота все, кроме одного: как этим зарабатывать деньги. Но зато мне удалось узнать много нового о бурах, о которых прежде я почти ничего не слыхал. Все, что я услышал на приисках, было впоследствии подтверждено в других частях Южной Африки. Суммировав все добытые мною сведения о бурах, я пришел к следующим выводам:
Буры очень набожны, глубоко невежественны, тупы, упрямы, нетерпимы, нечистоплотны, гостеприимны, честны во взаимоотношениях с белыми, жестоки по отношению к своим чернокожим слугам, ленивы, искусны в стрельбе и верховой езде, увлекаются охотой, не терпят политической зависимости; хорошие отцы и мужья; они но любят шумное общество в городах, предпочитая ему уединенность, отдаленность, одиночество, пустоту и тишину степи; отличаются здоровым аппетитом и не очень разборчивы в еде: их вполне устраивает свинина, маис и билтонг, при одном условии — чтобы всего этого было побольше; они с удовольствием едут за тридевять земель на веселую танцульку с угощением на всю ночь, но ради молитвенного собрания охотно проедут н вдвое большее расстояние; они гордятся своим голландско-гугенотским происхождением, своим религиозным и военным прошлым; гордятся подвигами своего народа в Южной Африке, своими смелыми исследованиями пустынных, не нанесенных на карту земель, куда они отправляются в поисках территории, свободных от власти ненавистных им презренных англичан, и своими победами над туземцами и англичанами; но больше всего они гордятся тем непосредственным интересом, какой постоянно проявляет к их делам само провидение. Буры не умеют ни читать, ни писать; и хотя здесь печатаются две-три газеты, однако никто, по-видимому, этим не интересуется; еще до недавнего времени здесь не было школ, детей не учили; слово «новости» оставляет буров равнодушными, — им совершенно все равно, что творится в мире; налоги им ненавистны, буры решительно против них восстают. В течение двух с половиною столетий они мирно просуществовали в Южной Африке и хотели бы прожить так до скончания века, ибо нисколько не сочувствуют прогрессивным идеям уитлендеров. Они жаждут богатства — ибо они люди, однако предпочитают большое стадо красивым платьям, красивым домам, золоту и брильянтам. Золото и брильянты привлекли в их страну безбожников-чужеземцев — источник беспокойства и порчи нравов, — поэтому буры очень жалеют, что эти драгоценности были здесь обнаружены.
Я думаю, что основное, о чем я здесь пишу, можно отыскать и в книгах Оливии Шрайнер, а уж ее никак нельзя упрекнуть в несправедливом отношении к бурам.
Что же после всего этого можно ожидать от буров? Что может возникнуть на такой неблагодарной почве? Законы, ограничивающие свободу религии? Да. Законы, лишающие иностранцев избирательного права п, следовательно, участия и выборных органах? Да. Законы, враждебные образованию и учебным заведениям? Да. Законы, ограничивающие добычу золота и развитие железных дорог? Да. Законы, облагающие громадными налогами иностранцев и обходящие буров? Да.
Уитлендеры, по-видимому, ожидали совершенно иного. Не знаю почему. Ведь, здраво рассуждая, ни на что другое они надеяться не могли. Круглый человек не может своим телом заполнить квадратную дыру, — надо дать ему время изменить свою форму. Небольшие изменения начались еще до набега Джеймсона и продолжались после него. С тех пор произошли и дальнейшие изменения. В бурском правительстве сидят умные люди — именно этим и объясняются изменения; впрочем, в самой массе буров изменения еще не начались. Будь члены бурского правительства людьми менее мудрыми, они бы повесили Джеймсона, превратив тем самым обыкновенного пирата в великомученика. Но даже их мудрость имеет свои границы, ибо, если к ним к руки попадет мистер Родс, они, конечно, его повесят. После этого мистер Родс будет уже наверняка причислен к лику святых. Он уже удостаивался всех титулов, символизирующих земное величие, и ему следовало бы удостоиться и этого, самого высшего.
Конечно, для этого предстоит совершить головокружительный прыжок из его нынешнего состояния в небытие, но игра стоит свеч, если вспомнить о той прекрасной компании, в которой ему предстоит очутиться, и в конце концов — это будет для него приятным разнообразием.
Некоторые требования, содержащиеся в иоганнесбургском манифесте, теперь уже удовлетворены, и нет никакого сомнения, что в ближайшем будущем будут удовлетворены и остальные. Владельцы рудников Иоганнесбурга должны только радоваться, что налоги, которые их так удручали, были установлены бурским правительством, а не их «другом» Родсом или его «Компанией по хартии», состоящей из настоящих разбойников с большой дороги, ибо они забирают у своих жертв в рудниках половину добычи — обычный процент их не устраивает. Если бы иоганнесбуржцы находились в их власти, они бы через год очутились в богадельне.
Мне все время казалось, что в моей записной книжке есть о бурах что-то неприятное и что-то приятное. Сейчас я нашел эти заметки. «Неприятная» написана в одном поселке. Вот она:
«Зашел мистер Z, уроженец Южной Африки, но происхождению англичанин; давно, живет здесь и женат на дочери бура. Говорит на африкансе и в делах связан исключительно с бурами. Он рассказал мне, что старинные бурские семьи, проживающие в той округе, торговым центром которой является этот поселок, становятся жертвами унаследованной ими праздности и глупости и, при современной отчаянной борьбе за материальные ценности, один за другим попадают в лапы ростовщиков, увязая в долгах, теряя свое высокое положение и оказываясь на вторых ролях и ниже. Ферма бура, когда он ее лишается, переходит уже не в руки другого бура, а в руки иностранца. Некоторые семьи пали так низко, что продают своих дочерей чернокожим».
В другом южноафриканском городе я сделал следующую запись, свидетельствующую в пользу буров:
«Доктор X. рассказывал мне, что во время войны буров с кафрами[119] тысяча пятьсот кафров укрылись в огромной пещере в горах, в девяноста милях к северу от Иоганнесбурга; буры завалили вход в пещеру и дымом задушили кафров. Доктор X. побывал там и видел множество высохших добела скелетов; среди них был и скелет женщины, прижимавшей к груди скелет ребенка».
Огромная масса дикарей должна исчезнуть с лица земли. Их земля нужна белым людям, и все они, за исключением небольшой горстки, которая будет работать на белого на продиктованных им условиях, должны исчезнуть. Поскольку история устранила из этого положения элемент неопределенности и превратила его в непреложный факт, то необходимо принять наиболее гуманный способ уничтожения черного населения, а не пользоваться старыми, жестокими способами. Мистер Родс и его банда — приверженцы старых методов. Их наняли грабить и убивать, и они делают это на законном основании, но совсем не в духе христианского сострадания. Они отняли у племен Машона и Матабеле часть принадлежащих им земель, пользуясь старым, почтенным способом «покупки» за бесценок, а потом спровоцировали конфликт и силой забрали все остальное. Они лишили туземцев скота под тем предлогом, что весь скот в стране принадлежал королю, которого туземцы обманули и убили. Они издают «правила», обязующие разъяренных и измученных туземцев работать на белых поселенцев, забросив для этого свои собственные дела. Это — рабство, и во много раз более тяжелое, чем рабство негров в Америке, которое в свое время так огорчало Англию; более тяжелое оно потому, что, когда родсовский раб болен, стар или немощен по каким либо другим причинам и не может сам о себе позаботиться, ему остается только умереть голодной смертью, ибо хозяин не обязан его кормить.
Сокращение населения до желаемых пределов при помощи родсовских методов — это возврат к старой системе уничтожения туземного населения путем долгих страданий и медленного умирания, системе опозоривших себя времен насаждения цивилизации варварскими методами. Мы гуманно уничтожаем избыток собак, усыпляя их хлороформом; буры так же гуманно уничтожили избыток чернокожих методом быстрого удушения; безыменный, но справедливый австралийский пионер столь же гуманно уничтожил избыток своих соседей-аборигенов при помощи сладкой отравы, таившейся в пудинге. Все это достойно восхищения и всяческой похвалы. Мы с вами скорей бы предпочли в течение целого месяца изо дня в день переживать любую из этих смертей, чем медленно умирать двадцать лет одним из родсовских способов смерти, ежедневно испытывая на себе всю тяжесть оскорблений, унижений, принудительной работы на человека, раса которого нам ненавистна. Родезия — удачное название этой страны разбоя и грабежа, выразительное, как настоящее клеймо.
Несколько продолжительных поездок позволили нам детально изучить железные дороги в Капской колонии; спокойное путешествие, прекрасные вагоны, все удобства, чрезвычайная чистота, в спальных вагонах мягкие постели. Стоял июнь, начало зимы; днем было тепло, по ночам спускалась легкая прохлада. Было просто наслаждением, проезжал по стране, весь день вдыхать свежий, бодрящий воздух и любоваться из окна вагона бархатистыми просторами коричневых равнин, мягких и прекрасных вблизи, еще более мягких и прекрасных вдали и самых мягких и прекрасных на горизонте, где, казалось, плавали в море тумана острова — горы, в море мечты, окрашенном в яркие и приглушенные тона; а какой необыкновенной была небесная глубина, красота облаков самых причудливых форм, великолепие солнечного сияния во всей его щедрости и расточительности! Сила, свежесть и влияние воздуха и солнца были такими... ну, какими они описаны в книгах Оливии Шрайнер.
Африканская степь в ее скромном зимнем уборе показалась мне удивительно прекрасной. Мы проезжали и неровные места, где земля волнообразно поднималась и опускалась, уходя в бесконечную даль к горизонту наподобие необъятного океана; бледно-коричневые ее краски постепенно сменялись густо-оранжевыми, на смену которым там, где равнина скатывалась к лесистым холмам и голым скалам, где небо соприкасалось с землей, появлялись пурпурные и алые.
Всюду — от Кейптауна до Кимберли и от Кимберли до Порта Елизаветы и Восточного Лондона — города населены ручными чернокожими, и не только ручными, но и, по-видимому, обращенными в христианство, ибо они носят ту же отвратительную одежду, что и остальные христианские цивилизованные народы. Если бы не эта одежда, некоторые из них могли бы быть удивительно красивы. Эти дьявольские одеяния вместе со свойственной туземцам ленивой походкой, добродушным лицом, беспечным видом и беззаботным смехом делают их совершеннейшими копиями наших американских негров; часто туда, где все удивительно гармонично и волнующе проникнуто африканским духом, является целая толпа эти туземцев, которые выглядят на редкость не к месту, внося раздражающий диссонанс, образуя полуафриканскую, полуамериканскую смесь.
Однажды в воскресный день я встретил в Кингуильямстауне группу семенивших по бульвару чернокожих женщин, одетых… ну, по последней моде, в новые с иголочки, дорогие и яркие одежды, в которых сочетались самые невероятные циста, — точно такую же смесь красок мне приходилось видеть и у себя на родине; их лица и походка отражали тот же томный, аристократический, божественный восторг и восхищение своим нарядом, который был мне так знаком и всегда так радовал мой взор и мое сердце. Мне показалось, что я встретился со старыми добрыми друзьями, которых не видел много лет, и я остановился и дружески поздоровался с ними. Они мило рассмеялись, сверкнув белыми зубами, и все разом ответили мне. Я не понял ни слова, и это меня очень удивило, — я никак не ожидал, что они могут говорить не по-английски.
Голоса африканских женщин, нежные и сладкозвучные, как у рабынь времен моего детства, тоже были мне знакомы. Я даже последовал за двумя женщинами по всей Оранжевой республике — нет, по ее столице Блумфонтейну, — чтобы слышать их певучие голоса и звонкий, счастливый смех. Язык их был намного приятное английского языка. Он был приятнее и языка зулусов. В нем нет характерного щелканья, нет грубости, нет резких, отрывистых, неприятно свистящих и шипящих звуков; их языку свойственна напевность, мелодичность, плавность.
Передвигаясь по стране поездом, я имел случай видеть в степи множество буров. Однажды добрая сотня их вылезла из вагона третьего класса — подкрепиться на маленькой станции. У них была весьма примечательная одежда. По уродству покроя и чудовищной дисгармонии в цвете она не знала себе равных.
Зато впечатление она производила не менее волнующее и интересное, чем прекрасные сверкающие одежды отличающихся большим вкусом индийцев. На одном человеке были плисовые штаны цвета полинялой жевательной резинки; штаны были совершенно новые, цвет их не был случайностью, он, видимо, понравился их хозяину, — самый безобразный из всех цветов, какие мне довелось когда-либо видеть. Длинный неуклюжий деревенский парень шести футов росту, в потрепанной серой шляпе с широкими обвислыми полями и в поношенных, бурого цвета бриджах, одет был в новый уродливый суконный сюртук, своей расцветкой из волнообразных ярко-желтых и темно-коричневых полос напоминавший тигровую шкуру. По-моему, такого человека следовало незамедлительно повесить, и я спросил начальника станции, нельзя ли это устроить. Он ответил отрицательно, — и ответил довольно грубо, с совершенно неуместной горячностью. Пробормотав по моему адресу нечто вроде «болван», он отошел в сторону, а затем начал пальцем указывать на меня окружающим, всячески стараясь настроить против меня общественное мнение. Вот что получается, когда хочешь сделать людям добро.
В тот же день один пассажир из нашего вагона рассказал мне еще кое-что о жизни степных буров. Он говорил, что буры встают рано и гонят своих негров на работу (те выгоняют скот на пастбище и пасут его), затем едят, курят, бездельничают и спят; под вечер они наблюдают за дойкой коров, потом снова едят, курят, бездельничают и еще засветло ложатся спать, не снимая тех благоухающих одежд, какие носят весь день и всю неделю уже много лет подряд. Эта же деталь описана в «Истории африканской фермы», принадлежащей перу Оливии Шрайнер. Тот же пассажир поведал мне, что буры заслуженно славятся своим гостеприимством. Он рассказал об этом целую историю. Его преосвященство епископ одной епархии однажды по долгу службы совершал поездку по степи, где не было гостиниц, на ночь он остановился в доме одного бура; после зажина ему отвели постель; он разделся, лег и, так как был очень измучен и утомлен дорогой, тотчас же уснул; среди ночи он почувствовал тесноту и духоту и, проснувшись, обнаружил, что бур и его толстуха жена лежат в той же постели, по обе стороны от него; они спали в одежде и громко храпели. Ему пришлось остаться в постели и терпеливо переносить их соседство всю ночь, без сна, пока на рассвете сон не сморил его. Через час он проснулся. Бура уже не было, но жена его все еще лежала в постели.
Реформисты ненавидели бурские тюрьмы: они не привыкли к тесным помещениям, скуке и безделью; они не привыкли рано ложиться спать; не привыкли ограничиваться пределами своей камеры, подчиняться деспотическим и раздражающим правилам; не привыкли к отсутствию роскоши. Пребывание в тюрьме сказалось на их физическом н умственном состоянии, но тем не менее они не упали духом и постарались наилучшим образом использовать сложившиеся обстоятельства. Женам удавалось тайком проносить мимо бдительных стражей разные деликатесы, которые помогали переваривать тюремный рацион.
В поезде мистер Б. рассказал мне, что тюремщики-буры на редкость безжалостно обращаются с чернокожими заключенными, даже с теми, кто обвиняется в политическом преступлении. Одного африканского вождя и его товарища держали в тюрьме девять месяцев без суда, и все это время над их головой не было и крыши, способной укрыть их от дождя и солнца.
А однажды стража заковала негра-великана в колодки только за то, что он осмелился вылить на землю свою похлебку; они растянули его ноги в разные стороны и посадили его на склоне холма, лицом к вершине; естественно, он не мог сидеть в таком положении и уперся руками в землю за спиной. Стражник приказал ему убрать руки и пнул его в спину ногой. «Тогда, — продолжал мистер В., — этот чернокожий гигант вырвал ноги из колодок и пошел на стражника. Реформист-заключенный оттолкнул его в сторону и сам отколотил стражника».
Глава XXXIII АЛМАЗЫ И СЕСИЛЬ РОДС
Даже чернила, которыми пишется всемирная история,
не что иное, как разжиженный предрассудок.
Новый календарь Простофили Вильсона
Нет такой параллели, которая бы но считала, что, не будь она ущемлена в своих правах, она бы обязательно стала экватором.
Новый календарь Простофили ВильсонаИз всех естественных явлений Южной Африки — после мистера Родса — меня больше всего заинтересовал алмазный кратер. Рэндовские золотые прииски поистине великолепны; после них все прииски в миро кажутся просто крошечными, а ведь я не новичок, — мне довелось на своем веку повидать золотые рудники. Африканская степь производит сильное впечатление, но это всего лишь более приятный вариант наших Великих прерий; в туземцах тоже есть много привлекательного, но мало нового, а что касается африканских городов, то я неплохо ориентировался в них без всякой посторонней помощи, так как заранее знал все улицы: я много раз видел их, только под иными названиями, в городах других стран. И лишь алмазные копи оказались для меня совершенно новым явлением, захватившим меня и приковавшим к себе мое внимание. Немного найдется в мире людей, которым удалось видеть алмазы там, где они рождаются. В мире существует всего три-четыре месторождения алмазов, в то время как месторождений золота — миллион. Стоит объехать весь земной шар, если в награду за это удастся увидеть нечто действительно необыкновенное, а алмазные копи — это величайший и наиболее редкий дар природы, каким располагает земля.
Залежи алмазов в Кимберли были открыты, кажется, около 1869 года. Принимая во внимание все обстоятельства, остается только удивляться, что они не были открыты пять тысяч лет тому назад и не стали известны африканцам уже давным-давно: ибо первые алмазы были найдены прямо на поверхности земли; гладкие и прозрачные, они светились ярким огнем в солнечных лучах. Даже африканские дикари ценили эти камни превыше всего на свете, за исключением, правда, стеклянных бус. В течение уже нескольких столетий мы покупаем их землю, скот, их соседей — все, что только можно купить, расплачиваясь за это стеклянными бусами; поэтому просто удивительно, что дикари оставались так равнодушны к алмазам, — ведь они, должно быть, не раз находили их на земле. Им, наверное, и в голову не приходило предложить белым эти блестящие камешки, раз у белых есть такое множество бус, гораздо более красивых по форме. Но ведь беднейшие из чернокожих, которым настоящие стекляшки были не по карману, могли бы украсить себя этим жалким их подобием, а белый торговец заметил бы их, смутно заподозрил бы что-то, отвез несколько образцов домой, узнал, что они собой представляют, — и тогда сотни искателей счастья ринулись бы в Африку. В мировой истории часто встречаются удивительные парадоксы, но самым невероятным, без сомнения, является го, что сверкающие алмазы в течение многих веков валялись на земле и никто ими не заинтересовался.
Обнаружили их совершенно случайно. В хижине одного бура, который жил в глухой степи, путешественник-иностранец заметил, что ребенок играет каким-то блестящим предметом; ему сказали, что это кусок стекла и что он был подобран в степи. Иностранец купил стекляшку за бесценок и увез с собой; будучи человеком бесчестным, он убедил другого иностранца, что это алмаз, и, продав его за 125 долларов, был так доволен собой, словно совершил какое-то хорошее дело. В Париже «обманутый» иностранец получил за этот камешек 10 000 долларов от владельца ссудной кассы, который продал его некоей графине за 90 000 долларов, а та, в свою очередь, перепродала его пивовару за 800 000 долларов; пивовар получил у короля за камень герцогство и родословную, а король заложил алмаз. Все эти подробности абсолютно достоверны.
Новость об этом открытии облетела весь мир, и началась южноафриканская алмазная лихорадка. Первый путешественник — тот, бесчестный, — вспомнил, что однажды ему довелось видеть, как бур, погонщик волов, подложил под колесо своего фургона, поднимавшегося по крутому склону, вместо тормоза — алмаз величиною с футбольный мяч; путешественник тотчас же забросил все свои дела и отправился на поиски этого алмаза, на сей раз уже не собираясь продать его за 125 долларов, ибо он за это время поумнел.
Теперь поговорим о более поучительных вещах. Алмазы не залегают в рудных жилах длиною в пятьдесят миль, как иоганнесбургское золото, а распределяются в породе колодца, если можно его так назвать. В колодце их много, стены резко обозначены, вне этих стен алмазов нет. Такой колодец — не что иное, как большой кратер. До начала разработки поверхность его лежит на общем уровне равнины, так что нет никаких признаков его существования. Пастбища над кимберлийским кратером хватало, чтобы прокормить одну корову, а недр его хватило бы, чтобы прокормить целое королевство, — но корова этого не знала и упустила свое счастье.
На площади кимберлийского кратера мог бы разместиться римский Колизей; до его дна еще не дошли, и никому неведомо, как далеко он простирается вглубь земли. Сначала это была просто яма, наполненная голубой горной породой, в которой, как изюминки в пудинге, сидели алмазы. И пока не кончится эта голубая порода, как бы глубоко она ни тянулась, в ней будут находить алмазы.
Поблизости имеются еще три-четыре знаменитых кратера, все они расположены на площади диаметром в три мили. Они принадлежат Компании де Беерс,— это объединенный концерн алмазных владений, основанный мистером Родсом лет двенадцать — четырнадцать назад. Компании де Беерс принадлежат и другие кратеры; они еще находятся под травяным покровом, но Компания знает, где они расположены, и начнет их разрабатывать, если этого потребует рынок алмазов.
Сначала залежи алмазов были собственностью Оранжевой республики, по вследствие законного «выпрямления» пограничной линии они оказались на британской территории Капской колонии. Один высокопоставленным чиновник из Оранжевой республики поведал мне, что его стране было выплачено 400000 долларов в качестве возмещения убытков, потерь — можно назвать это как угодно — и что, по его мнению, республика поступила правильно, взяв эти деньги и отказавшись от споров, ибо вся сила была на одной стороне, в то время как на другой — только слабость. Компания де Беерс добывает сейчас алмазов на сумму 400 000 долларов еженедельно. Капская колония приобрела лишь землю, а не доходы, ибо копи принадлежат мистеру Родсу, Ротшильдам и другим акционерам Компании де Беерс, и те налогов не платят.
В наши дни разработка алмазных копей ведется на строго научных принципах, под руководством самых опытных горных инженеров Америки. Порода подвергается тщательной обработке, ее измельчают и просеивают до тех пор, пока не извлекут из нее все алмазы до единого. Я видел, как работают «концентраторы» — огромные чаны с водой и грязью, в которой содержатся пока еще невидимые алмазы, — и мне сказали, что каждый из них может, размешивая и взбалтывая, обработать в день триста вагонеток породы, весом в тысячу шестьсот фунтов каждая, и превратить их в три вагонетки грязи. На моих глазах эти три вагонетки грязи были помещены в пульсаторы, и там часть груза превратилась в чистый темный песок. Затем я проследил за ней до сортировочных столов и видел, как рабочие, рассыпая и пересыпая песок, ловко и умело отыскивали в нем алмазы, узнавая их по блеску. Я сам покопался в песке и один раз нашел алмаз величиною в половину миндаля. Это вылавливание алмазов - занятие весьма увлекательное; каждый раз, когда вы видите в темном песке прозрачный сверкающий камень, вас охватывает радостная дрожь. Я был бы не прочь время от времени по воскресным дням заниматься этим прелестным видом спорта. Конечно, не обходится и без разочарования. Иногда найденный вами алмаз — совсем не алмаз, — это лишь кусочек горного хрусталя или какой-нибудь другой ненужный камешек. Опытные люди тотчас отличают его от настоящего драгоценного камня, под который он подделывается; в сомнительных же случаях камень кладут на железную полосу и ударяют по нему кувалдой. Если это алмаз, он остается цел и невредим, в то время как все остальное превращается в пыль. Мне очень понравилась эта операция, и я ее не раз проделывал. Испытываемое волнение доставляет громадное удовольствие, и при этом решительно ничем не рискуешь. Компания де Беерс обрабатывает ежедневно 8000 вагонеток голубой породы — примерно 6000 тонн, — получая в результате этого три фунта алмазов. Ценность этих алмазов до шлифовки составляет от 50 000 до 70 000 долларов. После шлифовки они весят значительно меньше фунта, зато их ценность увеличивается в четыре-пять раз.
Вся равнина в округе покрыта слоем вырытой из недр земли голубой породы в фут толщиной и похожа на вспаханное поле. Такую породу, пролежавшую какое-то время на поверхности, обрабатывать гораздо легче, чем только что добытую из-под земли. Если сейчас прекратить добычу алмазов, то из разбросанной по всей равнине породы можно было бы еще в течение трех лет ежедневно подвозить к сортировальне 8000 вагонеток. Участок этот огорожен и тщательно охраняется; ночью он ярко освещен лучами мощных электрических прожекторов. Алмазы, которые находятся там, оцениваются в пятьдесят — шестьдесят миллионов долларов, и, естественно, в ворах нет недостатка.
Даже в грязи улиц Кимберли скрыты огромные богатства. Несколько лет назад жителям дали право свободной промывки. Со всех сторон сюда ринулся народ, работа велась весьма тщательно, в результате чего собрали недурной урожай алмазов.
В рудниках работают туземцы. Их там тысячи. Они живут в хибарках, находящихся на территории огромного огороженного участка. Это веселый, добродушный и услужливый народ. Военный танец, который они исполнили для нас, был самым диким зрелищем из всех когда-либо виденных мною. По контракту, который, как правило, длится, кажется, три месяца, им не разрешается выходить за пределы участка. Они спускаются в шахту, отрабатывают там свою смену, поднимаются наверх, где их обыскивают, и ложатся спать или развлекаются на территория участка; и так изо дня в день.
Считается, что теперь им очень редко удается красть алмазы. Обычно они их проглатывали или прятали другими способами, но белого человека не так-то легко провести. Один туземец разрезал себе ногу и спрятал алмаз в рану, но и эта проделка не удалась. Когда туземцы находят красивый большой алмаз, они предпочитают отдать его, нежели скрыть, ибо в первом случае получают награду, а во втором — скорее всего их ждет беда. Несколько лет назад на руднике, принадлежавшем не Компании де Беерс, а кому-то другому, негр нашел алмаз, по величине своей не имеющий равных в мире; и награду его освободили от службы, подарила одеяло, лошадь и пятьсот долларов. Он сразу превратился в Вандербильта. Он купил четырех жен, и у него еще остались деньги. Четыре жены — огромное богатство для туземца. Имея четырех жен, он может не работать, Жены будут работать на него.
Этот величайший в мире алмаз весит 971 карат. Некоторые говорят, что по своей форме он похож на квасцы, другие спорят, что на сахарный леденец, а третьи авторитетно утверждают, что на кусок льда. Но это все не имеет значения, и, по-моему, верить этому нельзя. В алмазе есть какой-то дефект, иначе ему бы не было цены. Во всяком случае, сейчас он стоит 2 000 000 долларов, а после огранки цена его дойдет до 5 000 000 — 8 000 000 долларов, — поэтому тот, кто купит его сейчас, может заработать на нем кучу денег. Он принадлежит синдикату, и, по-видимому, его так и не удастся продать. До сих пор он не принес ни копейки прибыли и остается мертвым капиталом. На нем еще никто не разбогател, кроме нашедшего его туземца.
Туземец отыскал его в шахте, которая разрабатывалась по контракту. Это значит, что некая компания за определенную сумму и процент с дохода купила право промыть 5 000 000 вагонеток голубой породы в этой шахте. Сделка себя не оправдала, но в тот самый день, когда истекал срок контракта, туземец нашел алмаз стоимостью в 2 000 000 долларов и вручил его хозяевам. Как видите, даже добыча алмазов не лишена романтических эпизодов.
Большой и очень ценный алмаз Кох-и-Нор не может соперничать с теми тремя брильянтами, которые, как говорят, принадлежат коронам Португалии и России. Один ценится в 20 000 000 долларов, другой — в 25 000 000, а третий — свыше 28 000 000.
Это в самом деле великолепные алмазы — не важно, существуют ли они на самом деле или нет, — но все же они никак не могут сравниться с тем, который подкладывал под колесо своей телеги на склоне холма тот самый бур, о котором я уже рассказывал раньше. В Кимберли мне довелось побеседовать с человеком, видевшим все это собственными глазами, — случай этот имел место лет за двадцать семь — двадцать восемь до нашей беседы. Человек этот уверял меня, что тот алмаз стоил бы никак не меньше миллиарда долларов, а то и больше. Я поверил ему, ибо он посвятил двадцать семь лет своей жизни поискам этого алмаза, — должен же он знать, что ищет.
После наблюдения за тяжелыми, утомительными и дорогостоящими процессами добывания алмазов из недр земли и очищения их от грязи нужно непременно посмотреть конторы Компании до Беерс в Кимберли, куда доставляют ежедневную добычу; здесь алмазы взвешивают, сортируют, оценивают и прячут в сейфы, где они хранятся до самой их отправки. Незнакомый и не пользующийся доверием человек никогда не попадет в эти конторы; однако, судя по многочисленным мерам предосторожности, преградам, запрещениям, предупреждениям и приспособлениям для охраны алмазов, даже знакомые и пользующиеся доверием лица не так-то легко могут украсть там алмазы.
Мы видели дневную добычу: маленькие кучки сверкающих алмазов разложены на прилавке на отдельных листах белой бумаги, на расстоянии фута одна от другой. В тот день алмазов было добыто на 70 000 долларов. В течение года через весы и этот прилавок проходит полтонны алмазов стоимостью в 18 000 000 — 20 000 000 долларов. Чистой прибыли — около 12 000 000 долларов.
Сортировка производится молодыми девушками; это приятная, чистая, легкая, но, вероятно, мучительная работа. Ежедневно через руки этих девушек проходит, сверкая своим блеском, доход целого герцогства, и тем не менее они ложатся спать такими же бедными, какими встали утром. И так происходит изо дня в день.
Прекрасное зрелище представляют собой алмазы в их первобытном состоянии. Они имеют самые различные формы; поверхность их бывает гладкой и округленной, очень острых ребер у них нет. Встречаются алмазы всевозможных цветов и оттенков — от ослепительно белого до настоящего черного; и благодаря своей гладкой поверхности, округлости линий, разнообразию цветов и необыкновенной прозрачности алмазы похожа на отборнейшие леденцы. Чаще всего встречаются алмазы светло-соломенного оттенка. Мне показалось, что эти неотшлифованные алмазы должны быть во сто раз прекраснее брильянтов, но когда принесли коллекцию отшлифованных камней, я понял свою ошибку. Нет ничего прекраснее розового брильянта, переливающего всеми цветами радуги, когда на него падает свет, — ничего, кроме одного удивительно похожего на него явления природы, которое тем не менее совсем ничего не стоит: это пронизанная солнечным светом до самого бело-песчаного дна морская волна.
К середине июля мы прибыли в Кейптаун, где должно было закончиться наше путешествие по Африке. Мы были вполне удовлетворены, ибо прямо перед нами возвышалась Столовая гора — последняя.из достопримечательностей Южной Африки; из этих достопримечательностей нам не удалось увидеть только мистера Сесиля Родса. Я, конечно, понимаю, что это немаловажное упущение. Я отлично знаю, что, будь мистер Роде действительно благородным и почтенным патриотом и государственным деятелем, каким считают его тысячи людей, или будь он сам дьявол во образе человека, каким считают его все остальные, он все равно является самой импозантной фигурой в Британской империи за пределами Англии. Когда он стоит на мысе Доброй Надежды, тень его падает до Замбези. Он единственный колонизатор во всех британских доминионах, чье каждое движение служит предметом наблюдения и обсуждения во всем мире и чье каждое слово передается по телеграфу во все стороны земного шара; он единственный человек некоролевского происхождения, чей приезд в Лондон привлекает такое же внимание, как затмение солнца.
Насколько я слышал, даже самые заклятые его враги в Южной Африке не решаются отрицать, что он — человек необыкновенный, а не просто баловень судьбы. Весь южноафриканский мир — друзья и недруги — трепещет от какого-то благоговейного страха перед ним. Одни видят в нем посланца божьего, другие — наместника дьявола, властелина людей, способного одним лишь дуновением осчастливить или погубить человека; многие на него молятся, многие его ненавидят, но люди здравомыслящие никогда его не проклинают, и даже самые легкомысленные делают это только шепотом.
В чем же тайна его всемогущества? Одни говорят, что она — в его огромном богатстве, крохи от которого вознаграждают и поддерживают существование множества людей, превращая их в его верноподданных; другие утверждают, что эта тайна — в его личном обаянии и силе красноречия и что эти качества способны загипнотизировать всех, кто попадает в орбиту его влияния, и превратить их л счастливых его рабов; третьи полагают, что она заключается и его величественных идеях и широких планах увеличения английских владений, в его патриотизме, в самоотверженности, с какой он пытается распространить благотворное покровительство Англии и ее справедливое господство над просторами языческой Африки, с тем чтобы и эта погрязшая во мраке страна озарилась славой британского знамени; четвертые считают, что ему просто нужна вся земля, нужна для себя самого и что только уверенность в том, что он ее получит и даст возможность своим друзьям существовать на ней, и есть та тайна, которая привлекает к нему столь многочисленные взоры и держит его в зените славы.
Выбирайте что хотите — цена одна. Родс сохраняет свою популярность и огромное число приверженцев, несмотря на все свои преступления, — это несомненно. По словам герцога Файфа, Родс «обманул» его, но тем не менее Файф остался ему предан. Своим вторжением в Трансвааль Родс причинил огромные неприятности реформистам, но большинство из них убеждено, что у него были наилучшие намерения. Он проливает слезы над обремененными большими налогами иоганесбуржцами, завоевывая их дружбу, и одновременно снижает на пятьдесят процентов налоги своим поселенцам, завоевав таким образом их любовь и преданность, — они просто приходят в отчаяние при малейшем слухе об аннулировании хартии. Захватив землю Матабеле, он грабит, убивает и порабощает это племя, а массы христиан на землях, полученных по хартии, аплодируют ему. Он вовлек в невыгодную сделку Английский банк, заставив его скупить ничего не стоящие денежные знаки, выпущенные на землях, полученных по хартии, и ограбленные сами тем не менее воздают ему почести, достойные принесшего им богатство божества. Он сделал все что мог, дабы обеспечить свое падение; на его месте десятка полтора великих мира сего рухнуло бы со своих пьедесталов, а он и по сей день стоит на головокружительной высоте, под самым куполом неба, оставаясь чудом своего времени, загадкой нынешнего века, архангелом с крыльями — для одной половины мира, и дьяволом с рогами — для другой.
Откровенно признаюсь, я восхищаюсь им; и когда пробьет его час, я непременно куплю на память о нем кусок веревки, на которой его повесят.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Я путешествовал очень много и пришел к выводу, что даже ангелы
говорят по-английски с иностранным акцентом.
Новый календарь Простофили ВильсонаСтоловую гору мне все-таки удалось увидеть — величественное зрелище! Высота ее три тысячи футов. Есть у нее и вершина высотой в семнадцать тысяч футов. Этим цифрам вполне можно верить. Мне сообщили их в Кейптауне два знатока этого дела, которые посвятили всю свою жизнь изучению Столовой горы. Видел я и Столовый залив, прозванный так за свою необычайно гладкую поверхность. Довелось мне посмотреть и замок, построенный триста лет назад голландской ост-индской компанией, который сейчас занимает главнокомандующий; видел я и бухту Святого Симона, где живет адмирал. Побывал я у губернатора и в парламенте, где при мне ругались на двух языках и ни на одном не пришли к согласию. Посетил я и клуб. Ездил по прекрасным набережным, что высятся у подножья гор, по райским долинам, где расположены виллы. Побывал я в чудесных старинных голландских домах — они остались столь же уютными, какими были прежде, — где наслаждался гостеприимством хозяев.
Перед самым отъездом я увидел в одном доме необычную старинную картину, связанную с любопытной романтической историей; на картине был изображен бледный молодой человек с умным лицом, в розовом камзоле с высоким черным воротником. Это был портрет доктора Джеймса Барри, военного хирурга, который прибыл на мыс Доброй Надежды вместе со своим полком пятьдесят лет назад. Доктор Барри отличался весьма вспыльчивым правом, и за ним числилось множество различных проступков. Несколько раз на него жаловались и английский генеральный штаб, надеясь, что придет приказ тотчас подвергнуть его суровому наказанию; однако по какой-то никому не ведомой причине подобного приказа не поступало — Англия отделывалась лишь внушительным молчанием. Это всякий раз сильно озадачивало жителей города и окружило личность доктора ореолом таинственности.
Затем его повысили в должности и чине — с явной целью от него избавиться. Он был назначен главным инспектором санитарной службы в Индии. Но вскоре он вновь вернулся на мыс Доброй Надежды, и все началось снова. В городе было множество хорошеньких девушек, но ни одной не удалось завлечь его в свои сети, ни одна не сумела овладеть его сердцем; по-видимому, он был убежденным холостяком. Это тоже вызывало всеобщее удивление, служило темой бесконечных пересудов. Однажды ночью его позвали к роженице; ему предстояло помочь женщине, которая, как все думали, непременно должна была умереть. Действуя искусно и умело, он спас обоих — мать и ребенка. Можно было бы привести и другие примеры, свидетельствующие о его профессиональном мастерстве, о любви к своей специальности и преданности ей. Среди его многочисленных приключений была и дуэль на шпагах; она происходила в замке, и противники дрались не на жизнь, а на смерть. Доктор Барри убил своего противника.
Спасенный им ребенок, о котором я только что упомянул, был назван в его честь и до сих пор живет в Кейптауне. Ом заказал портрет доктора Барри и подарил его тому джентльмену, в старинном голландском доме которого я и увидел эту необычную фигуру в розовом камзоле с высоким черным воротником.
История эта, вероятно, кажется вам не очень интересной. Но это лишь потому, что я еще не кончил.
Доктор Барри умер в Кейптауне тридцать лет назад. И вот только тогда выяснилось, что это была женщина.
Рассказывают, что благодаря расследованиям — очень быстро прекращенным — стало известно, что она происходила из знатного английского рода, и потому-то английский штаб и смотрел на все ее поступки сквозь пальцы и не наказывал ее. Фамилия Барри не имеет ничего общего с ее настоящим именем. Она опозорила себя в глазах своих родных, приняла мужское имя и начала новую жизнь.
Мы отплыли 15 июля на «Нормане», великолепном, превосходно оборудованном корабле. Путешествие до Англии заняло всего лишь две недели, — мы останавливались только на острове Мадейра. Такая поездка — отличный отдых для утомленных людей, а мы порядком устали. Я чувствовал себя так, словно читал лекции не год, а тысячу лет, а среди пассажиров было много реформистов, которые никак не могли оправиться после пятимесячного заключения в преторийской тюрьме.
Наше путешествие по экватору закончилось у причалов Саутгемптона, откуда оно началось тринадцать месяцев назад. Совершить кругосветное плавание за такой короткий срок казалось мне чудесным и важным деянием, и я в глубине души немало гордился им. Но недолго. Вдруг из обсерватории, от этих чванливых астрономов получилось очередное известие о том, что еще одно огненное небесное тело недавно вспыхнуло в бесконечном пространстве вселенной и летит оно с такой скоростью, что может за полторы минуты преодолеть все расстояние, какое я покрыл за год. Гордость человека — хрупкая штука: чуть тронь — лопнет, как мыльный пузырь.
Настоящий перевод «По экватору» сделан по американскому изданию «Харпер энд брозерс» 1899 г.
ТАИНСТВЕННЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ
Глава I
Шла зима 1590 года. Австрия была оторвана от всего мира и погружена в сон. В Австрии царило средневековье, — казалось, ему не будет конца. Иные даже утверждали — пренебрегая счетом времени, — что, если судить по состоянию умственной и религиозной жизни в нашей стране, она еще не вышла из Века Веры. Это говорилось не в укор, а в похвалу, и так всеми и принималось и даже служило предметом тщеславия. Я отлично помню эти слова, хоть и был еще мальчишкой, и помню, что они доставляли мне удовольствие.
Да, Австрия была оторвана от всего мира и погружена в сон, а наша деревня спала крепче всех, потому что была в самом центре Австрии. Она мирно почивала в глубоком одиночестве, среди холмов и лесов. Вести из окружающего мира не достигали ее, не смущали ее грез, и она была счастлива. Прямо перед деревней протекала река, медлительные воды которой были украшены отраженными в ней облаками и тенями барж, груженных камнем. За деревней лесистые кручи вели к подножию высокого утеса. С утеса, хмурясь, глядел огромный замок, стены и башни которого были увиты диким виноградом. За рекой, верстах в пяти левее деревни, тянулись густо поросшие лесом холмы, рассеченные извилистыми лощинами, куда не заглядывал луч солнца. Справа, где утес возвышался над рекой, между ним и холмами, о которых идет речь, лежала обширная равнина, усеянная крестьянскими усадьбами, прячущимися в тени раскидистых деревьев и фруктовых садов.
Весь этот край на много миль кругом искони принадлежал владетельному князю. Княжеская челядь поддерживала в замке образцовый порядок, однако ни сам князь, ни его семейство не приезжали к нам чаще чем раз в пять лет. Когда они приезжали, то казалось, что прибыл сам господь бог в блеске своей славы. Когда же они покидали нас, воцарялась тишина, подобная глубокому сну после разгульного празднества.
Для нас, мальчишек, Эзельдорф был раем. Ученьем нас не обременяли. Нас учили прежде всего быть добрыми христианами, почитать деву Марию, церковь и святых мучеников. Это — главное. Знать остальное считалось необязательным и даже не очень желательным. Наука ни к чему простым людям: она порождает в них недовольство своей судьбой; судьба же эта уготована для них господом богом, а бог не любит тех, кто ропщет на него.
У нас в деревне было два священника. Один из них, отец Адольф, был ревностным и усердным священнослужителем, и все уважали его.
Возможно, что встречаются лучшие священники, чем отец Адольф, но в нашей общине не бывало ни одного, кто внушал бы своим прихожанам такое почтение и такой страх. Дело было в том, что он совершенно не боялся дьявола. Я не знаю другого христианина, о котором я мог бы это сказать с такой твердой уверенностью. По этой причине все боялись отца Адольфа. Каждый понимал, что простой смертный не решился бы вести себя так отважно и самоуверенно. Никто не хвалит дьявола, все осуждают его, но делают это без дерзости, с долей уважения. Что же до отца Адольфа, то он честил дьявола всеми бранными словами, какие только попадались на язык, так что слушателя охватывал трепет. Часто он отзывался о дьяволе насмешливо и с презрением, и тогда люди крестились и спешили прочь, боясь, как бы с ними не приключилось что-нибудь худое.
Если говорить начистоту, отец Адольф не раз встречался с дьяволом лицом к лицу и вступал с ним в поединок. Отец Адольф сам об этом рассказывал, не делая из этого тайны. И он говорил правду; по крайней мере одно его столкновение подтверждалось вещественным доказательством. В пылу ссоры он бесстрашно швырнул однажды в противника бутылкой, и в том месте, где она разбилась, на стене его кабинета осталось багряное пятно.
Другой наш священник был отец Питер, и мы все любили и жалели его. Про отца Питера шел слух, будто он кому-то сказал, что бог добр и милосерд и когда-нибудь сжалится над своими бедными детьми. Подобные речи были, конечно, ужасны, но ведь не имелось прямого доказательства, что отец Питер это сказал. Да и не похоже это было на него, такого доброго, кроткого и нелживого человека. Правда, никто не решался утверждать, что он сказал это с церковной кафедры перед прихожанами, тогда каждый из них слышал бы его слова и мог бы их засвидетельствовать. Говорили, будто преступная мысль была высказана им в частной беседе, но ведь такое обвинение легко возвести на каждого из нас.
У отца Питера был враг, могущественный враг. Это был астролог, который жил в старой полуразрушенной башне, стоявшей на краю нашей равнины, и целыми ночами наблюдал звезды. Все знали, что он умел предсказывать войну и голод, хоть это и нетрудное дело, потому что война где-нибудь шла всегда, а голод был тоже нередким гостем. Но он умел, кроме того, сверяясь со своей толстой книгой, прочитать судьбу человека по звездам и разыскать покражу, — и все в деревне, кроме отца Питера, боялись его. Даже отец Адольф, который не боялся самого дьявола, с приличным случаю почтением приветствовал астролога, когда тот проходил через деревню в длинной развевающейся мантии, расшитой звездами, в высокой остроконечной шляпе, с толстой книгой под мышкой и с посохом, в котором, как всем было известно, таилась волшебная сила. Говорили, что сам епископ прислушивается к мнениям астролога. Хотя астролог изучал звезды и занимался предсказаниями, он также не упускал случая показать свою приверженность к церкви, и это, конечно, нравилось епископу.
Что до отца Питера, то он не искал расположения астролога. Отец Питер заявлял во всеуслышание, что астролог — шарлатан и обманщик, что астролог не только не владеет чудодейственными познаниями, но, напротив, невежественнее многих других; и он нажил себе в астрологе врага, который стал искать его погибели. Мы все были уверены, что слух об ужасных словах отца Питера шел от астролога и что он же донес о них епископу. Отец Питер будто бы сказал их своей племяннице Маргет. Тщетно Маргет отрицала обвинение и умоляла епископа поверить ей и не навлекать на ее старика дядю нужду и бесчестье. Епископ не пожелал ее слушать. Поскольку против отца Питера было только одно показание, епископ не стал отлучать его от церкви, но лишил на неопределенный срок сана. Уже два года, как отец Питер не выполняет священнических обязанностей, и его прихожане перешли теперь к отцу Адольфу.
Нелегко дались эти годы старику священнику и Маргет. Раньше все их любили и искали их общества, но с немилостью епископа все тотчас же переменилось. Иные из прежних друзей совсем перестали с ними видеться, другие стали холодны и неразговорчивы. Когда случилось несчастье, Маргет исполнилось восемнадцать лет. Это была прелестная девушка и умница, какой не найдешь во всей деревне. Она обучала игре на арфе и зарабатывала столько денег, что ей хватало на платья и на личные расходы. Но теперь ученицы одна за другой покинули ее; когда в деревне устраивались вечеринки и танцы, ей забывали передать приглашение; молодые люди перестали посещать их дом — все, кроме Вильгельма Мейдлинга, а его визиты не имели большого значения. Опозоренные и всеми покинутые, священник и его племянница загрустили и упали духом — солнце больше не светило к ним в окно. А жить становилось все труднее. Одежда износилась, каждое утро надо было думать, на что купить хлеба. И вот наступил решительный день: Соломон Айзекс, который ссужал им деньги под залог их дома, известил отца Питера, что завтра он должен либо вернуть долг, либо уходить прочь из дому.
Глава II
Мы трое всегда были вместе, чуть не с колыбели. Мы сразу полюбили друг друга, н наша дружба крепла год от году. Николаус Бауман был сыном главного судьи. Отец Сеппи Вольмейера был владельцем большого трактира под вывеской «Золотой олень»; сад при трактире со старыми раскидистыми деревьями спускался к самому берегу реки, а там была пристань с прогулочными лодками. Я, третий, Теодор Фишер, был сыном церковного органиста, который также дирижировал деревенским оркестром, обучал игре на скрипке, сочинял музыку, служил сборщиком податей, выполнял обязанности причетника, — словом, был деятельным членом общины и пользовался всеобщим уважением.
Окрестные холмы и леса были знакомы нам не хуже, чем живущим в них птицам. Каждый свободный час мы проводили в лесу или же купались, удили рыбу, бегали по льду замерзшей реки или катались на санках по склону холма.
В княжеском парке редко кому разрешалось гулять, но мы проникали и туда, потому что были в дружбе со старейшим из замковых слуг, Феликсом Брандтом, и часто вечерком отправлялись к нему в гости, чтобы послушать его рассказы о старых временах и необычайных происшествиях, выкурить трубку — он научил нас курить — и выпить чашечку кофе. Феликс Брандт много воевал и был при осаде Вены[120]. Когда турок разбили и погнали прочь, среди захваченных трофеев оказались мешки с кофе, и пленные турки объяснили ему, на что годятся эти зерна, и научили изготовлять из них приятный напиток. С тех пор Брандт всегда варил кофе, пил сам и удивлял им несведущих людей. Если погода была ненастная, старик оставлял нас у себя на ночь. Под раскаты грома и сверкание молний он вел свой рассказ о привидениях и всяческих ужасах, о битвах, убийствах и жестоких ранениях, а в его маленьком домике было так уютно и тепло.
Брандт черпал свои рассказы главным образом из собственного опыта. Он повстречал на своем веку немало привидений, волшебников и ведьм, а однажды, заблудившись в горах в страшную бурю, наблюдал в полночь при вспышке молний, как Дикий Охотник, яростно трубя в рог, мчался по небу, а за ним по разорванным тучам неслась его призрачная свора. Приходилось ему видеть и инкуба[121], и вампира, который высасывает кровь у спящих, тихо обвевая их крылами, чтобы они не пробудились от рокового сна.
Старик учил нас, что не надо пугаться сверхъестественных явлений. Призраки, говорил он, не причиняют вреда и бродят просто потому, что они одиноки и несчастны и ищут утешения и сочувствия. Постепенно мы привыкли к этой мысли и даже спускались вместе с ним по ночам в подземелье замка, посещаемое привидениями. Призрак появился только раз, прошел мимо нас еле видимый, бесшумно пронесся по воздуху и исчез. Мы даже не дрогнули при этом — так воспитал нас старый Брандт. Он рассказывал после, что этот призрак иногда приходит к нему по ночам, будит его от сна, прикасаясь к его лицу липкой, холодной рукой, но не причиняет ему никакого вреда, — просто ищет сочувствия. Самое же удивительное, что Брандт видел ангелов, настоящих ангелов с неба, и беседовал с ними. Они были без крыльев, одеты в обычное платье, выглядели в точности как обыкновенные люди, и так же ходили и разговаривали. Никто бы не принял их за ангелов, если бы они не творили чудес, которых простой смертный творить не может, и не исчезали вдруг неведомо куда, пока вы с ними беседовали, что тоже превышает силы смертного человека. Ангелы не были унылыми и сумрачными, подобно призракам, — напротив, веселыми и жизнерадостными.
Однажды майским утром, после затянувшихся допоздна рассказов Брандта, мы поднялись с постели, сытно позавтракали вместе с ним, а потом, перейдя мост влево от деревни, забрались на поросшую лесом вершину холма, наше излюбленное местечко. Там мы растянулись в тени на траве, намереваясь отдохнуть, покурить и еще раз обсудить диковинные рассказы старика, произведшие на нас сильное впечатление. Но мы не могли раскурить трубку, потому что по забывчивости не захватили с собой кремня и огнива.
Немного погодя из леса показался юноша, он подошел к нам, сел рядом и заговорил с нами дружеским тоном. Мы не отвечали, — чужие люди заходили к нам редко, и мы побаивались их. Пришелец был хорош собой и нарядно одет, во всем новом. Лицо его внушало доверие, голос был приятен. Он держался непринужденно, с удивительной простотой и изяществом и был совсем не похож на застенчивых и неуклюжих молодых людей из нашей деревни. Нам хотелось завязать с ним знакомство, но мы не знали, с чего начать. Я вспомнил о трубке и подумал, что было бы любезно с нашей стороны предложить незнакомцу покурить. Но тут же я вспомнил, что у нас нет огня, и мне стало обидно, что мой план невыполним. А он бросил на меня оживленный и довольный взгляд и сказал:
— Нет огня? Это пустое. Я сейчас его добуду.
Я был так удивлен, что не мог ничего ответить: ведь я ни слова не произнес вслух. Он взял трубку и подул на нее. Табак затлелся, и голубой дымок спиралью поднялся кверху. Мы вскочили с места и пустились наутек: ведь то, что произошло, было сверхъестественно. Мы отбежали на несколько шагов, но он самым убедительным тоном стал просить нас вернуться, дал честное слово, что не причинит нам никакого вреда, и сказал, что ему хочется подружиться с нами и побыть в нашем обществе. Мы остановились. Мы были вне себя от удивления и любопытства. Нам хотелось вернуться, но мы не решались. Он продолжал уговаривать нас, как и раньше, спокойно и рассудительно. Когда мы увидели, что наша трубка цела и невредима и ничего дурного не приключилось, мы немножко успокоились, а потом, когда любопытство возобладало над страхом, двинулись назад осторожно, шаг за шагом, готовые в любую минуту снова искать спасения в бегстве.
Он старался рассеять нашу тревогу и делал это умело. Когда с вами говорят так просто, так вдумчиво и ласково, опасения и робость уходят сами собой. Мы снова прониклись доверием к нему, завязалась веселая беседа, и мы были счастливы, что нашли такого друга. Когда стеснение наше совсем прошло, мы спросили, где он научился своему странному искусству, и он сказал, что нигде не учился, что от рождения наделен этой силой, да и другими необычными способностями.
— А что ты еще умеешь?
— Да многое, всего не перечислишь.
— Ты покажешь нам? Покажи, пожалуйста! — закричали мы дружно.
— А вы не убежите?
— Нет, честное слово, нет! Покажи, пожалуйста. Ну покажи!
— С удовольствием, но смотрите — не забудьте своего слова.
Мы подтвердили, что не забудем, и он подошел к луже, набрал воды в чашку, которую сделал из листка, подул на нее и, перевернув чашку, вытряхнул из нее застывший кусок льда. Мы глядели, изумленные и очарованные, нам уже не было страшно, мы были очень довольны и попросили его показать нам еще что-нибудь. Он согласился и сказал, что угостит нас фруктами и чтобы мы назвали любые, не раздумывая долго о том, настала пора для этих фруктов или нет. Мы закричали хором:
— Апельсин!
— Яблоко!
— Виноград!
— Ищите в карманах, — сказал он; и правда, каждый нашел в кармане то, чего пожелал. Фрукты были самого лучшего сорта; мы съели их, и нам захотелось еще, но никто не решался сказать это вслух.
— Поищите в карманах, — повторил он, — и все, чего вы ни пожелаете, все там будет. Просить не нужно. Пока вы со мной, ваше дело только желать.
Так и было. Никогда еще с нами не случалось ничего столь удивительного и заманчивого. Хлеб, пирожки, конфеты, орехи — чего ни пожелай, все в кармане. Сам он ничего не ел, а только болтал с нами и развлекал нас новыми чудесами. Он слепил из глины маленькую игрушечную белочку, и она взбежала вверх по дереву и, усевшись на суку, стала цокать по-беличьи. Тогда он слепил собаку величиной не больше мыши, и она загнала белку на верхушку дерева и стала бегать вокруг с громким лаем, как самая заправская собака. Она погнала белку с дерева на дерево и бежала вслед за ней, пока обе не скрылись в гуще леса. Он слепил из глины птиц, пустил их на волю, и, улетая, они запели.
Набравшись наконец храбрости, я спросил его, кто он такой?
— Ангел, — спокойно ответил он, выпуская еще одну птицу, хлопнул в ладоши, и птица улетела.
Благоговейный ужас охватил нас при этих словах, мы снова были в смятении. Но он сказал, чтобы мы не тревожились: ангелов бояться незачем, и подтвердил, что питает к нам самые добрые чувства. Он продолжал беседовать с нами все так же естественно и непринужденно, а сам мастерил в это время фигурки мужчин и женщин с палец величиной. Кукольный народец тут же принялся за работу. Они расчистили и выровняли клочок земли на поляне в два-три квадратных ярда и стали возводить славный маленький замок. Женщины замешивали известковый раствор и носили его по строительным лесам в ведрах, держа их на голове, как это делают работницы у нас в деревне, а мужчины возводили стены. Не меньше пятисот этих куколок сновали взад и вперед, трудились что было сил, стирали пот со лба, словно настоящие люди. Это было бесконечно притягательное зрелище — глядеть, как пятьсот крошечных человечков строят замок, камень за камнем, башню за башней, как здание растет и обретает архитектурные формы. Страх наш снова прошел, и мы наслаждались от души. Мы спросили его, можно ли и нам смастерить что-нибудь, он сказал: «Пожалуйста», — и велел Сеппи слепить несколько пушек для замковых стен, Николаусу — несколько алебардщиков в шлемах и латах, а мне — кавалеристов на конях. Отдавая свои распоряжения, он назвал нас по именам, но не объяснил, откуда знает, как нас зовут. Тогда Сеппи спросил, как зовут его, и он спокойно ответил:
— Сатана.
Подставив щепку, он поймал на нее маленькую женщину, которая повалилась со строительных лесов, поставил ее на место и сказал:
— Экая дурочка, ступает назад и не глядит, что у нее за спиной.
Имя, которое он произнес, застало нас врасплох, пушки, алебардщики, лошади, которых мы лепили, выпали у нас из рук и разлетелись на куски. Сатана засмеялся и спросил, что случилось.
Я сказал:
— Ничего не случилось, но это странное имя для ангела.
Он спросил, почему я так думаю.
— Потому что это имя... Разве ты не знаешь?.. Это — его имя.
— Что же тут такого? Он мой дядя.
Он произнес это безмятежным тоном, но у нас пресеклось дыхание и сердце заколотилось в груди. Словно не замечая нашего волнения, он поднял алебардщика и другие игрушки, починил их и вернул нам назад со словами:
— Неужели вы не знаете? Ведь он тоже был раньше ангелом.
— Правда! — сказал Сеппи. — Я не подумал об этом.
— До падения он был чужд всему дурному.
— Да, — сказал Николаус, — он был безгрешным.
— Мы из знатного рода, — сказал Сатана, — благороднее семейства не найти. Он единственный из нас, кто согрешил.
Трудно сейчас передать, как все это было интересно. Когда вы сталкиваетесь с чем-либо столь необычайным, захватывающим, изумительным, некий трепет и вместе с тем ликование охватывает все ваше существо. Вами владеет мысль: неужели вы живы и в самом деле все это видите? Вы не в силах оторвать изумленного взгляда, губы у вас сохнут, дыхание прерывается, но это ощущение вы не променяли бы ни на что на свете. Мне очень хотелось задать ему один вопрос, он был уже у меня на кончике языка, и удержаться было трудно, но я боялся показаться слишком дерзким. Сатана отложил в сторону почти законченную фигурку быка, улыбнулся, глядя на меня, и сказал:
— Не вижу в этом ничего дерзкого, а если бы и видел, то простил бы тебя. Ты хочешь знать, встречал ли я его? Миллионы раз. В младенчестве — мне не исполнилось тогда и тысячи лет — я был одним из двух малюток-ангелов нашего рода и нашей крови (кажется, у вас так принято выражаться), которых он особенно отличал. И так продолжалось все восемь тысяч лет (по вашему счету времени), вплоть до его падения.
— Восемь тысяч лет?
— Да.
Он повернулся к Сеппи и продолжал, как бы отвечая на вопрос, который был у Сеппи на уме.
— Это верно, я выгляжу мальчиком. Так оно и есть. Наше время протяженнее вашего, и нужно очень много лет, чтобы ангел стал взрослым.
Я тоже хотел задать ему один вопрос, и он повернулся ко мне и сказал:
— Если считать по-вашему, мне шестнадцать тысяч лет.
Потом он посмотрел на Николауса и сказал:
— Нет. Его падение не затронуло ни меня, ни остальных членов нашего рода. Только он один, в честь которого я был назван, вкусил от запретного плода и соблазнил им мужчину и женщину. Мы же, остальные, не ведаем греха и не способны согрешить. Мы беспорочны и останемся такими навсегда. Мы...
Двое крохотных рабочих повздорили. Еле слышными, как писк комара, голосками они бранились и сыпали проклятиями. Замелькали кулаки, полилась кровь, и вот они сцепились не на жизнь, а на смерть. Сатана протянул руку, сжал их двумя пальцами, раздавил, отбросил в сторону, отер кровь с пальцев носовым платком и продолжал свою речь:
— Мы не творим зла и чужды всему злому, потому что не ведаем, что такое зло.
Слова Сатаны удивительным образом расходились с его поступком, но мы даже не заметили этого обстоятельства, настолько нас поразило и огорчило бессмысленное убийство, которое он совершил. Это было самое настоящее убийство, и оно не имело ни объяснения, ни оправдания, — ведь маленькие человечки не сделали ему ничего дурного. Нам было очень горько, мы полюбили его, он казался нам таким благородным, таким прекрасным и милосердным. У нас не было сомнения, что он ангел. И вот он совершил эту жестокость и упал в наших глазах, а мы-то так гордились им.
Между тем он продолжал беседу с нами так, словно ничего не случилось, рассказывал о своих странствиях, о том, что ему приходилось наблюдать, посещая огромные миры нашей солнечной системы и других солнечных систем, разбросанных в необъятных пространствах вселенной, о жизни населяющих их бессмертных существ, и рассказы его увлекали, захватывали, завораживали нас, уводя от печальной сцены, только что разыгравшейся перед нами. Между тем две крохотные женщины разыскали искалеченные тела своих убитых мужей и стали оплакивать их, причитая и вскрикивая.
Рядом — коленопреклоненный — стоял священник, скрестив руки на груди, и читал молитву. Сотни соболезнующих друзей толпились вокруг, со слезами на глазах, сняв шапки и склонив обнаженные головы. Сначала Сатана не обращал на все это никакого внимания, но потом его стал раздражать жужжащий звук рыданий и молитв. Он протянул руку, поднял тяжелую доску, служившую нам сиденьем на качелях, бросил ее на землю в том месте, где столпились маленькие люди, и раздавил их, как мух. Сделав это, он продолжал свой рассказ.
Ангел, убивающий священника! Ангел, который не ведает, что такое зло, и хладнокровно уничтожает сотни беззащитных, жалких людей, не сделавших ему ничего дурного! Мы едва не лишились чувств, когда увидели это страшное дело. Ведь ни один из этих несчастных, кроме священника, не был подготовлен к кончине; никто из них не был ни разу у мессы и даже не видел ни разу церкви. И мы трое были этому свидетелями, убийство произошло на наших глазах! Долг наш сообщить о том, что мы видели, и дать делу законный ход.
Но он по-прежнему вел свой рассказ, и роковая музыка его голоса зачаровывала нас. Забыв обо всем, мы внимали его речам и были снова исполнены любви к нему, и были снова его рабами, и он мог делать с нами все что ни пожелает. Мы были вне себя от счастья, что мы с ним, что мы созерцаем небесную красоту его глаз, и от малейшего прикосновения его руки блаженство разливалось по нашим жилам.
Глава III
Незнакомец побывал всюду и видел все, он все узнал и ничего не забыл. То, что другому давалось годами учения, он постигал мгновенно; трудностей для него не существовало. А когда он рассказывал, картины словно оживали перед глазами. Он присутствовал при сотворении мира; он видел, как бог создал первого человека; он видел, как Самсон потряс колонны храма и обрушил его на землю[122]; он видел смерть Цезаря[123]; он рассказывал о жизни на небесах; он видел, как грешники терпят муки в раскаленных пучинах ада. Все это вставало перед вами, словно вы сами там присутствовали и глядели собственными глазами, и вас невольно охватывало волнение. Он же, как видно, только забавлялся. Видение ада — эти толпы детей, женщин, девушек, юношей, взрослых мужчин, стонущих в мучениях и молящих о пощаде, — кто в силах взирать на это без слез? Он же оставался невозмутимым, словно глядел на игрушечных мышей, горящих в бенгальском огне.
Всякий раз, как он заговаривал о жизни людей на земле, об их поступках, даже самых великих и удивительных, мы испытывали какую-то неловкость, потому что по всему его тону было видно, что он считает все, что касается рода людского, не заслуживающим никакого внимания. Можно было подумать, что речь идет о мухах. А один раз он сказал, что, хотя люди тупые, пошлые, невежественные, самонадеянные, больные, хилые и вообще ничтожные, убогие и никому не нужные существа, он все же испытывает к ним некоторый интерес. Он говорил без гнева, как о чем-то само собой разумеющемся, как если бы речь шла о навозе, о кирпичах, о чем-то несущественном и неодушевленном. Видно было, что он не хотел нас обидеть, но все же мысленно я укорил его в недостаточной деликатности.
— Деликатность! — сказал он. — Я говорю правду, а правда всегда деликатна. То, что вы называете деликатностью, — вздор. А вот и наш замок готов. Ну как, нравится он вам?
Как мог он нам не нравиться! Глядеть на него было одно удовольствие. Он был так красив, так изящен и так удивительно продуман во всех деталях, вплоть до флажков, развевающихся на башнях. Сатана сказал, что теперь надо установить пушки у бойниц, расставить алебардщиков и построить конницу. Наши солдатики и лошади никуда не годились: мы были неискусны в лепке и не сумели сделать их как следует. Сатана признался, что хуже ему не приходилось видеть. Когда он оживил их своим прикосновением, на них нельзя было смотреть без смеха. Ноги солдат оказались разной длины, они шатались, валились, словно пьяные, друг на друга и наконец растянулись на земле, болтая руками и ногами, не в силах подняться. Мы смеялись, но это было горькое зрелище. Мы зарядили пушки землей, чтобы салютовать, но они тоже были дурно сделаны и взорвались при выстреле, и часть канониров была убита, а часть покалечена. Сатана сказал, что, если мы хотим, он сейчас устроит бурю и землетрясение, но тогда нам лучше будет отойти в сторону, чтобы не пострадать. Мы хотели забрать с собой и маленьких человечков, но он сказал, что этого не следует делать, они никому не нужны, а если понадобятся, мы понаделаем других.
Маленькая грозовая туча спустилась над замком, блеснула крохотная молния, грянул гром, задрожала земля, пронзительно засвистал ветер, зашумела буря, полил дождь, и маленький народец бросился искать защиты в замке. Туча становилась все чернее и чернее и почти скрыла от нас замок. Молнии, сверкая одна за другой, ударили в кровлю замка, и он запылал. Свирепые красные языки пламени пробились сквозь темную тучу, и народ с воплями выбежал из замка. Но Сатана движением руки загнал их обратно, не обращая внимания на наши просьбы, мольбы и слезы. И вот, покрывая вой ветра и раскаты грома, раздался взрыв, взлетел на воздух пороховой погреб, земля расселась, пропасть поглотила развалины замка и сомкнулась вновь, похоронив все эти невинные жизни. Из пятисот маленьких созданий не осталось ни одного. Мы были потрясены до глубины души и не могли удержаться от слез.
— Не плачьте, — сказал Сатана, — они никому не нужны.
— Но они попадут теперь в ад!
— Ну и что же? Мы сделаем других.
Растрогать его было невозможно. Очевидно, он не знал, что такое жалость, и не мог нам сочувствовать. Он был в отличном настроении и так весел, как будто устроил свадьбу, а не кровавое побоище. Ему хотелось, чтобы и у нас было такое же настроение, и с помощью своих чар он преуспел в этом. Это не стоило ему большого труда, он делал с нами что хотел. Прошло несколько минут, и мы плясали на этой могиле, а он наигрывал нам на странном певучем инструменте, который вынул из кармана. Это была мелодия, какой нам никогда не приходилось слышать, — такая музыка бывает только на небесах; и оттуда, с небес, он принес ее нам. Наслаждение сводило нас с ума, мы не в силах были оторвать глаз от него и тянулись к нему всем сердцем, и наши немые взгляды были исполнены обожания. Пляску эту он принес нам тоже из райских сфер, и мы вкушали райское блаженство.
Потом он сказал, что ему пора уходить: у него важные дела. Для нас было невыносимо расстаться с ним, и мы, обняв его, стали просить, чтобы он не уходил.
Наша просьба, как видно, обрадовала его; он согласился побыть с нами еще немного и предложил посидеть всем вместе и побеседовать. Он сказал, что, хотя Сатана его настоящее имя, ему не хотелось бы, чтобы оно стало известно всем; при посторонних мы должны называть его Филипп Траум. Это простое имя, оно не вызовет ни у кого удивления.
Имя было слишком будничным и ничтожным для такого создания, как он. Но раз он так решил, мы не стали возражать. Его решение было для нас законом. Мы досыта нагляделись чудес в этот день, и я подумал, как интересно будет рассказать обо всем виденном дома. Он приметил мою мысль и сказал:
— Нет, об этом будем знать только мы четверо. Впрочем, если тебе не терпится рассказать, попытайся. А я позабочусь, чтобы твой язык не выдал тайны.
Досадно, но что ж тут поделаешь! Мы только вздохнули про себя разок-другой и продолжали беседу. Сатана по-прежнему отвечал на наши мысли, не дожидаясь вопросов, и мне казалось, что это самое поразительное из всего, что он делает. Он прервал мои размышления и сказал:
— Тебя это удивляет, на самом же деле ничего удивительного здесь нет. Я не ограничен в своих возможностях, подобно вам. Я не подвластен условиям человеческого существования. Мне понятны слабости человека потому, что я изучил их, но я от них свободен. Вы ощущаете мою плоть, касаясь меня, но она призрачна, как призрачно и мое платье. Я — дух. А вот к нам идет отец Питер.
Мы оглянулись. Никого не было.
— Он приближается сюда. Скоро вы увидите его.
— Ты знаком с отцом Питером, Сатана?
— Нет.
— Пожалуйста, поговори с ним, когда он придет. Он умный и образованный человек, не то, что мы. Ему будет приятно побеседовать с тобой. Пожалуйста!
— В другой раз, не сегодня. Мне пора уходить. А вот и он, теперь вы видите его. Сидите спокойно и — ни слова.
Мы оглянулись, отец Питер шел к нам из каштановой рощи. Мы втроем сидели на траве, а Сатана напротив нас на тропинке. Отец Питер шел медленным шагом, — понурив голову. Не дойдя до нас нескольких ярдов, он остановился, словно намереваясь заговорить с нами, снял шляпу, вынул из кармана фуляровый платок и стал вытирать лоб. Постояв так, он пробормотал, как бы обращаясь к самому себе:
— Не знаю, что привело меня сюда. Не прошло и минуты, как я сидел у себя дома. А теперь мне кажется, будто я проспал целый час и пришел сюда во сне, не замечая дороги. Так тревожно на душе эти дни, я словно сам не свой.
Он двинулся дальше, продолжая что-то бормотать, и прошел сквозь Сатану, как через пустое место. Мы остолбенели. Хотелось крикнуть, как это бывает, когда случается что-нибудь неожиданное, но крик непонятным образом замер у нас в горле, и мы молчали, тяжело переводя дыхание. Как только отец Питер скрылся за деревьями, Сатана сказал:
— Ну что, убедились вы теперь, что я дух?
— Должно быть, так это и есть... — сказал Николаус. — Но мы-то ведь не духи. Понятно, что он не видел тебя, но почему же он не видел нас? Он глядел нам прямо в лицо и словно ничего не замечал.
— Да, я сделал вас тоже невидимыми.
С трудом верилось, что это не сон, что мы участвуем во всех этих поразительных романтических событиях. А он сидел рядом с самым непринужденным видом, такой естественный, простой, обаятельный, и вел свою беседу. Трудно передать словами владевшие нами чувства. Это был восторг, а восторг не укладывается в слова. Восторг — как музыка. Попробуйте передать другому свои впечатления от музыки так, чтобы он проникся ими. Сатана снова стал вспоминать давние времена, и они вставали перед нами как живые. Он видел много, очень много. Мы глядели на него и пытались представить себе, каково быть таким, как он, и нести на себе этот груз воспоминаний. Наше человеческое существование казалось нам теперь безнадежно будничным, а сам человек — однодневкой, вся жизнь которой укладывается в один-единственный день, быстротекущий и жалкий. Сатана нисколько не старался щадить наше уязвленное самолюбие. Он говорил о людях все тем же равнодушным тоном, как говорят о кирпичах или о навозной куче; было видно, что они не интересуют его нисколько, ни с положительной, ни с отрицательной стороны. Он не хотел обидеть нас, был, должно быть, далек от этого. Когда вы говорите, что кирпич плох, вы не задумываетесь о том, оскорблен ли кирпич вашими словами? Есть ли у кирпича чувства? Вам не приходило в голову размышлять об этом.
Раз, когда он швырял величайших монархов, завоевателей, поэтов, пророков, пиратов и мошенников в одну груду, как швыряют кирпич, я не выдержал посрамления человечества и спросил, почему, собственно, ему кажется, что так велика разница между ним и людьми. Он был озадачен, он не сразу сумел понять, как я мог задать такой странный вопрос. Потом сказал:
— Какая разница между мной и человеком? Какая разница между смертностью и бессмертием, между пролетающим облаком и вечно живущим духом?
Он поднял травяную тлю и посадил ее на кусок коры.
— Какая разница между этим существом и Юлием Цезарем?
Я сказал:
— Нельзя сравнивать то, что несравнимо по своему масштабу и по своей природе.
— Ты сам ответил на свой вопрос, — сказал он. — Сейчас я поясню. Человек создан из грязи, я сам видел, как он был создан. Я не создан из грязи. Человек — это собрание болезней, вместилище нечистот. Он рожден сегодня, чтобы исчезнуть завтра. Он начинает свое существование как грязь и кончает как вонь. Я же принадлежу к аристократии Вечных существ. Кроме того, человек наделен Нравственным чувством. Ты понимаешь, что это такое? Он наделен Нравственным чувством! Довольно одного этого, чтобы оценить разницу между ним и мною.
Он замолчал, как бы исчерпав тему. Я был огорчен. Хотя в то время я имел самое смутное представление о том, что такое Нравственное чувство, я знал все же, что, имея Нравственное чувство, следует этим гордиться, и меня задела ирония Сатаны. Так, должно быть, огорчается вырядившаяся молодая франтиха, когда слышит, как чужие люди смеются над ее любимейшим нарядом, а она-то считала, что все от него без ума! Наступило молчание, мне было грустно. Помолчав, Сатана заговорил о другом, и скоро его живая, остроумная, брызжущая весельем беседа вновь захватила меня. Он нарисовал несколько уморительно смешных сцен. Он рассказал, как Самсон привязал горящие факелы к хвостам лисиц и пустил их на поля филистимлян[124]; как Самсон, сидя на плетне, хлопал себя по ляжкам и хохотал до слез, а под конец свалился от смеха на землю. Вспоминая это зрелище, Сатана сам рассмеялся, а следом за ним и мы принялись дружно хохотать.
Немного погодя он сказал:
— Теперь мне пора уходить, у меня неотложное дело.
— Не уходи! — закричали мы хором. — Ты уйдешь и больше не вернешься.
— Я вернусь, даю вам слово.
— Когда? Сегодня вечером? Скажи — когда?
— Скоро. Я вас не обману.
— Мы любим тебя.
— И я вас люблю. И на прощание покажу вам интересную вещь. Обычно, уходя, я просто исчезаю. А сейчас я медленно растаю в воздухе, и вы это увидите.
Он поднялся на ноги и стал быстро меняться у нас на глазах. Его тело словно таяло, пока он не сделался совсем прозрачным, как мыльный пузырь, сохраняя при этом свой прежний облик и очертания. Сквозь него были видны теперь окружающие кусты, и весь он переливался и сверкал радужными красками и отражал на своей поверхности тот рисунок наподобие оконного переплета, который мы наблюдаем на поверхности мыльного пузыря. Вам, наверно, приходилось видеть, как пузырь катится по ковру и, прежде чем лопнуть, легко подскакивает вверх раз или два. С ним было то же. Он подскочил, коснулся травы, покатился, взлетел вверх, коснулся травы еще раз, еще, потом лопнул — пуфф! — и ничего не осталось.
Это было красивое, удивительное зрелище. Мы молчали и продолжали сидеть, щурясь, раздумывая и мечтая. Потом Сеппи встал и сказал с печальным вздохом:
— Наверно, ничего этого не было.
Николаус тоже вздохнул и сказал что-то в этом же роде.
Мне было грустно потому, что та же мысль беспокоила и меня. Тут мы увидели отца Питера, который возвращался назад по тропинке. Он шел согнувшись и что-то искал в траве. Когда он поравнялся с нами, то поднял голову, увидел нас и спросил:
— Вы давно здесь, мальчики?
— Недавно, отец Питер.
— Значит, вы шли вслед за мной и, быть может, поможете мне. Вы шли тропинкой?
— Да, отец Питер.
— Вот и отлично, Я тоже шел тропинкой. Я потерял кошелек. Он почти пустой, но не в том дело: это все мое богатство. Вы не видели моего кошелька?
— Нет, отец Питер, но мы поможем вам искать его.
— Об этом я и хотел вас просить. Да вот он лежит!
В самом деле! Кошелек лежал на том месте, где стоял Сатана, когда начал таять у нас на глазах, — если, конечно, все это не было сном. Отец Питер поднял кошелек, и на лице его выразилось недоумение.
— Кошелек мой, — сказал он, — а содержимое — нет. Мой кошелек был тощий, этот — полный. Мой кошелек был легкий, этот — тяжелый.
Отец Питер открыл кошелек и показал его нам: он был туго набит золотыми монетами. Мы смотрели во все глаза, потому что никогда не видели столько денег сразу. Мы раскрыли рты, чтобы сказать: это дело Сатаны, — но ничего не сказали. Так вот оно что! Если Сатана не хотел, мы просто не могли выговорить ни слова. Он предупреждал нас.
— Мальчики, это ваших рук дело?
Мы засмеялись, и отец Питер тоже засмеялся, поняв всю нелепость своего предположения.
— Здесь был кто-нибудь?
Мы снова раскрыли рты, чтобы ответить, но ничего не сказали. Сказать, что никого не было, мы не могли, потому что это была бы ложь, а другого ответа не находилось. Вдруг мне пришла на ум правильная мысль, и я сказал:
— Здесь не было ни единого человека.
— Да, это так, — подтвердили мои товарищи, стоявшие с разинутыми ртами.
— Нет, не так, — возразил отец Питер и строго посмотрел на нас. — Правда, когда я проходил, на лужайке никого не было, но это еще ничего не значит. С тех пор кто-то здесь побывал. Этот человек мог, конечно, обогнать вас, и я вовсе не утверждаю, что вы его видели. Но то, что здесь кто-то прошел, — несомненно. Дайте честное слово, что вы никого не видели.
— Ни единого человека.
— Ну хорошо, я верю вашему слову.
Он присел и стал считать деньги. Мы опустились рядом на колени и принялись раскладывать монетки в маленькие кучки.
— Тысяча сто дукатов с лишним! — сказал он. — О боже, если бы мне эти деньги! Я так нуждаюсь!
Губы его задрожали, голос пресекся.
— Это ваши деньги, сэр! — закричали мы хором. — До последнего геллера.
— Увы, нет. Моих здесь только четыре дуката. А остальное...
Бедный старик принялся размышлять, поглаживая монеты, которые держал в руках, и забылся в думах. Он сидел на корточках, с непокрытой седой головой, на него было больно глядеть.
—- Нет! — сказал он, как бы очнувшись. — Деньги не мои, и я не могу ими воспользоваться. Быть может, это ловушка. Какой-нибудь враг...
Николаус сказал:
— Отец Питер, если не считать астролога, у вас и у Маргет не найдется ни одного врага во всей деревне. А если бы нашелся какой-нибудь недоброжелатель, неужели он пожертвовал бы тысячу сто дукатов только для того, чтобы сыграть с вами злую шутку? Подумайте об этом!
Отец Питер не мог не признать, что Николаус привел здравый довод, и немножко приободрился.
— Даже если ты и прав, деньги все же не мои, они все равно чужие.
Он сказал это нетвердо, словно был бы рад, если бы мы привели ему какие-нибудь убедительные возражения.
— Они ваши, отец Питер, все мы свидетели. Правда, ребята?
— Конечно, мы свидетели! Так мы всем и скажем.
— Благослови вас господь, мальчики, вы меня почти уговорили. Сотня дукатов спасла бы меня. Дом заложен, и если к завтрашнему дню мы не уплатим, нам негде будет приклонить голову. Но у меня всего четыре дуката...
— Деньги ваши до последней монеты. Возьмите их себе. Мы поручимся, что деньги ваши. Правда, Сеппи? Правда, Теодор?
Мы поддержали Николауса, и он набил ветхий кошелек золотыми монетами и вручил его старику. Отец Питер сказал, что он возьмет себе двести дукатов — его дом стоит этих денег и послужит надежным залогом, — а остальное отдаст под проценты, пока не разыщется владелец. Нас же он попросит подписать свидетельство о том, как деньги нашлись, чтобы никто в деревне не подумал, что он спасся от беды нечестным путем.
Глава IV
В деревне было немало шума, когда на другое утро отец Питер уплатил свой долг Соломону Айзексу золотыми монетами, а остаток денег поместил у него под проценты. Произошли также и другие радостные перемены: многие из деревенских жителей посетили отца Питера, чтобы поздравить его, некоторые из его бывших друзей снова обрели свои исчезнувшие было дружеские чувства, а в довершение всего Маргет получила приглашение на танцы.
Отец Питер не делал тайны из своей находки. Он рассказал во всех подробностях, каким путем достались ему деньги, и добавил, что не знает, как объяснить случившееся: разве только это рука провидения.
Были слушатели, которые покачивали головами, а потом толковали между собой, что это больше походит на проделки Сатаны (нельзя не признать, что эти невежественные люди проявили в данном случае незаурядную проницательность). Были и такие, что старались всякими хитроумными способами выведать у нас «всю правду». Они говорили, что добиваются ее не из каких-нибудь тайных видов, а просто так, ради интереса, и клялись молчать. Они даже сулили заплатить нам за нашу тайну; и если бы мы могли придумать какую-нибудь небылицу, то, пожалуй, согласились бы, но ничего почему-то не шло в голову, и мы не без сожаления должны были отказаться от соблазнительной сделки.
Эту тайну мы держали при себе без особых мук, но другая тайна, великая и ослепительная, жгла нас словно огнем. Она так и просилась наружу. Нам ужасно хотелось разгласить ее и поразить весь свет своим рассказом. Но мы вынуждены были хранить свою тайну, — вернее было бы сказать, что она сама хранила себя, как и предрек нам Сатана.
Каждое утро мы уходили из деревни и уединялись в лесу, чтобы потолковать о Сатане. По правде говоря, ничто больше нас не интересовало, и ни о ком больше мы не думали. День и ночь мы высматривали его, ждали, не придет ли он, и нетерпение наше все возрастало. Прежние друзья утратили для нас всякий интерес, мы не могли больше участвовать в их играх и забавах. По сравнению с Сатаной они были такие скучные. Какими пресными и унылыми казались нам их разговоры, их интересы рядом с его рассказами о древних временах и отдаленных созвездиях, с его чудесами, с его таинственными исчезновениями!
В тот день, когда отец Питер нашел деньги, нас сильно заботила одна тайная мысль, и мы то и дело под разными предлогами наведывались к священнику, чтобы проверить, как там обстоят дела. Мы боялись, что золотые монеты обратятся в прах, как это обычно бывает с деньгами, добытыми волшбой. Но ничего худого не приключилось. Пришел вечер — все было в порядке, и мы успокоились. Это было настоящее золото.
У нас был также один важный вопрос к отцу Питеру, и на второй вечер мы отправились к нему, предварительно бросив жребий, кто будет держать речь, потому что вопрос этот нас смущал. Напустив на себя самый равнодушный вид, но не поборов все же одолевавшего меня смущения, я спросил:
— Что такое Нравственное чувство, сэр?
Он удивленно взглянул на меня поверх своих больших очков.
— Это то, что позволяет нам отличать добро от зла.
Ответ отца Питера не устранил наших недоумений. Я был отчасти разочарован, отчасти озадачен, Он ждал, что я скажу ему еще, и я, не зная, как быть дальше, спросил:
— А к чему оно нам, сэр?
— К чему оно нам? Боже милостивый! Нравственное чувство, дружок, — это то, что возвышает нас над бессловесными тварями и дает нам надежду на вечное спасение.
Я не знал, что еще сказать, и мы попрощались и вышли из дома священника со странным ощущением, словно мы наелись досыта, но не утолили нашего голода. Мои друзья хотели, чтобы я растолковал им слова отца Питера, но я почувствовал сильную усталость и ничего не сумел им объяснить.
Когда мы проходили через гостиную, то увидели, что Маргет дает урок на клавикордах своей ученице, Мари Люгер. Мари была одной из самых состоятельных ее учениц, и это значило, что к Маргет вернутся и все остальные. Маргет вскочила, подбежала к нам и со слезами на глазах принялась благодарить нас за то, что мы спасли ее и ее дядю от беды, а мы сказали, что мы тут ни при чем. Это было в третий раз, что она нас благодарила. Такая уж она была девушка: если кто-нибудь сделает для нее хоть какую-нибудь безделицу, она будет ему век благодарна. Мы не мешали ей выражать свои чувства. В саду мы встретили Вильгельма Мейдлинга. Близился вечер, и он пришел, чтобы пригласить Маргет прогуляться с ним по берегу реки, когда она закончит урок. Мейдлинг был молодой адвокат, он пользовался популярностью у нас в городке, дела его шли потихоньку, но успешно. Он и Маргет с детства любили друг друга, и Мейдлинг не покинул священника и его племянницу, как это сделали другие, и был все время с ними. Маргет и отец Питер оценили верность молодого адвоката. Он не обладал выдающимися дарованиями, но был приветливым и добрым человеком, а это тоже немалый талант, и он сильно помогает в жизни. Вильгельм Мейдлинг спросил нас, скоро ли окончится урок, и мы сказали, что он уже идет к концу. Может быть, это было так, а может быть, и не так. Мы знали, что он с нетерпением ждет конца урока, и нам хотелось его порадовать.
Глава V
На четвертый день после описанных событий астролог вышел из своей полуразрушенной башни и, направляясь к деревне, как видно, узнал о случившемся. Он отозвал нас в сторону, и мы рассказали ему все, что было возможно, — так как ужасно боялись его. Он погрузился в раздумье и думал долго. Потом спросил:
— Сколько денег было в кошельке?
— Тысяча сто семь дукатов, сэр.
Тогда он сказал, словно размышляя вслух:
— Странная история... Оч-чень странная. Удивительное совпадение. — И стал снова нас расспрашивать и заставил еще раз все рассказать от начала до конца. Потом он сказал:
— Тысяча сто шесть дукатов. Немалые деньги.
— Тысяча сто семь, — поправил его Сеппи.
— Семь, ты говоришь? Дукатом больше, дукатом меньше — это не имеет значения. Но сперва ты сказал — тысяча сто шесть.
Мы знали, что он не прав, но опасались противоречить ему. Наконец Николаус сказал:
— Если мы ошиблись, извините нас, но там было тысяча сто семь дукатов.
— Пусть это тебя не тревожит, друг мой. Я только хотел отметить, что вы в этом путаетесь. Да и не удивительно, прошло уже несколько дней, от вас нельзя теперь требовать совершенной точности, Когда нет каких-либо особых примет, чтобы твердо запомнить счет, память часто изменяет нам.
— Такие приметы были, сэр! — быстро возразил Сеппи.
— Какие же, сын мой? — спросил астролог безразличным тоном.
— Мы считали монеты по очереди, и у всех получалось тысяча сто шесть дукатов, потому что одну монету я спрятал. А когда пришла моя очередь считать, я положил ее снова и сказал: «Вы ошиблись, здесь тысяча сто семь. Пересчитайте». Они посчитали еще раз и удивились. Тогда я рассказал им о спрятанной монете.
Астролог спросил у нас, как было дело, и мы подтвердили рассказ Сеппи.
— Все ясно! — сказал астролог. — Эти деньги краденые, дети мои, и я знаю, кто вор.
Он ушел, оставив нас в тревоге. Что все это означает? Через час все в деревне уже знали, что отец Питер арестован за кражу, он украл у астролога большую сумму денег. Деревня гудела, как улей. Одни говорили, что это, конечно, ошибка, такой человек, как отец Питер, денег не украдет. Другие покачивали головами и отвечали, что лишения и голод хоть кого толкнут на преступление. В одном, впрочем, все были единодушны: рассказ отца Питера о том, как ему достались деньги, неправдоподобен — такого не бывает. Астрологу, быть может, подобали такие приключения, но уж никак не отцу Питеру! Вспомнили и о нас. Мы засвидетельствовали находку отца Питера; теперь все хотели знать, сколько он заплатил нам за это. Люди так и говорили без обиняков и только презрительно фыркали, когда мы умоляли их поверить, что наше свидетельство ни в чем не отклоняется от истины. Родные сердились на нас пуще всех. Отцы говорили, что мы позорим свою семью, и приказывали нам отречься от лжи. Мы продолжали стоять на своем, и гневу их не было предела. Матери, рыдая, умоляли нас отдать полученную взятку, чистосердечно во всем признаться, вернуть себе честное имя и снять позор с семьи. Под конец нас так замучили этими приставаниями, что мы были готовы рассказать все как было — про встречу с Сатаной и дальнейшее, но слова не шли у нас с языка. Все это время мы надеялись, что Сатана придет и поможет нам выбраться из беды, однако он не появлялся.
Прошло не больше часа после нашей беседы с астрологом, а отец Питер уже сидел в тюрьме, и деньги были опечатаны и переданы властям. Деньги лежали по-прежнему в мешке; Соломон Айзекс заявил, что, посчитав их, он больше к ним не прикасался. Он присягнул также, что это те самые деньги и что их ровно тысяча сто семь дукатов. Отец Питер требовал, чтобы его судил духовный суд, но отец Адольф, наш второй священник, заявил, что отрешенный от должности священнослужитель неподсуден духовному суду. Епископ был такого же мнения, и это решило вопрос. Дело отца Питера подлежало разбору в светском суде. Суд должен был собраться через некоторое время. Вильгельм Мейдлинг хотел защищать отца Питера на суде и готов был, разумеется, сделать для него все, что в человеческих силах, но по секрету он нам сказал, что доказательства, которыми он располагает, недостаточны, чтобы выиграть дело. Сила и предубеждение на стороне астролога.
Новое счастье Маргет оказалось недолговечным. Никто из друзей не навестил ее, чтобы выразить сочувствие, да она и не ждала их. В анонимной записке ей сообщили, что приглашение на танцы отменено, Ученицы снова откажутся приходить к ней. На что она будет жить? На улицу ее, правда, не гнали, — закладная считалась оплаченной, хоть деньги, миновав незадачливого Соломона Айзекса, перешли в руки властей. Старая Урсула, которая вынянчила в свое время Маргет и служила у отца Питера кухаркой, горничной, домоправительницей и прачкой в одном лице, говорила, что господь не даст им погибнуть. Старуха говорила так потому, что была женщиной богобоязненной, но понимала, что господней помощи надо искать, сама она в руки не дастся.
Нам хотелось пойти к Маргет и подтвердить ей, что мы ее друзья по-прежнему, но родители запретили нам это, боясь оскорбить чувства общины. Астролог разгуливал по деревне, восстанавливая всех против отца Питера и повторяя, что тот украл у него тысячу сто семь дукатов. Он говорил, что сразу угадал, кто вор, когда узнал, что отец Питер «нашел» ту самую сумму денег, которая у него пропала.
На четвертый день после всех этих горестных событий старая Урсула постучалась к нам и спросила, нет ли чего постирать. Она умоляла мою мать никому не рассказывать о ее просьбе, чтобы Маргет не узнала и не запретила ей ходить на заработки. Дома у них нечего есть, и Маргет совсем ослабела. Сама Урсула тоже ослабела, это было сразу заметно по ней. Когда ее позвали к столу, она набросилась на еду, словно умирающая с голоду, но взять что-нибудь с собой отказалась, сказав, что Маргет не примет милостыни.
Забрав белье, Урсула пошла к ручью стирать, но мы увидели через окно, что она с трудом удерживает в руках валек. Тогда мы позвали ее назад и предложили ей немного денег. Она сперва отнекивалась, боясь, как бы Маргет не догадалась, что деньги дареные, а потом взяла и решила сказать Маргет, что нашла их на дороге. Чтобы не солгать и не погубить свою душу, она попросила меня уронить монету где-нибудь у нее на виду. Я так и сделал. Потом она заметила ее, подняла, удивленно и радостно вскрикнула и зашагала дальше. Как и все в нашей деревне, Урсула лгала без зазрения совести и, не страшась адского пламени, когда дело касалось обиходных и привычных вещей. История с монетой была необычной и потому внушала ей опасения. Попрактиковавшись с неделю в этой лжи, она привыкла бы и к ней и уже лгала бы с легкостью. Таковы мы все.
Меня не оставляла тревожная мысль, на что Маргет будет жить дальше? Не может же Урсула находить по монете каждый день, — вторая такая находка и то будет выглядеть странной. Мне было стыдно, что я не бываю у Маргет, когда она так нуждается в дружеской поддержке. Правда, это была вина моих родителей, тут я не мог ничего поделать.
Грустный шагал я по тропинке, как вдруг меня пронизало, словно дрожь, бодрящее чувство свежести и веселья. Я возликовал: ощущение было мне знакомо — Сатана был где-то неподалеку. Через миг он уже шагал рядом со мной, и я рассказывал ему о несчастье, случившемся с Маргет и ее дядей, и о наших тревогах. Повернув за угол, мы увидели старую Урсулу, сидевшую под деревом. На коленях у нее приютился тощий бездомный котенок. Я спросил, откуда она его взяла, и она ответила, что он выбежал из леса и не отстает от нее ни на шаг. Котенок, как видно, остался без матери и без хозяев, и она хочет забрать его к себе. Сатана сказал:
— Я слышал, что вы сильно нуждаетесь. К чему вам еще один рот в доме? Почему не отдать котенка кому-нибудь, кто побогаче вас?
Урсула почувствовала себя задетой и сказала:
— Уж не вы ли желаете его взять? Если судить по вашим манерам и по платью, вы, наверное, из богачей.
Презрительно фыркнув, она продолжала:
— Отдать богатому человеку — нечего сказать, славная затея! Богатые люди думают о себе, только бедняк посочувствует другому бедняку и поможет ему. Бедняк да господь бог. Бог поможет этому котенку.
— Почему вы так думаете?
Урсула сердито сверкнула глазами.
— Я не думаю, а знаю! — сказала она. — Воробей не упадет на землю без воли господа.
— Раз он все равно упадет, тогда нет разницы, по воле или без воли господа.
Старая Урсула раскрыла рот, но ничего не смогла сказать, так ужаснули ее эти слова. Когда она обрела дар речи, то закричала с гневом:
— Пошел вон отсюда, щенок, пока я не погнала тебя палкой.
Я замер от страха. Я знал, что Сатана, со своими взглядами на человеческий род, может не моргнув глазом убить Урсулу и потом объяснить, что таких старух и без нее сколько угодно. Предупредить Урсулу я не мог, слова не сходили у меня с языка. Ничего страшного, однако, не произошло. Сатана остался спокойным — спокойным и безразличным. Я думаю, что Урсула не в силах была его оскорбить по той же причине, по какой навозный жук не в силах оскорбить короля. Закричав на Сатану, старуха вскочила на ноги с живостью молодой девушки — уже много лет она не чувствовала себя такой сильной. Это было влияние Сатаны. Он вливал силу в слабого и бодрость в немощного. Действие этой силы почувствовал даже тощий котенок; он спрыгнул на землю и погнался за сухим листком. Урсула была поражена. Позабыв свой гнев, она глядела на котенка и в удивлении покачивала головой.
— Что с ним случилось? — спросила она. — Он был такой слабенький, что ходить не мог.
— Мне кажется, что вам не приходилось иметь дело с кошками этой породы, — сказал Сатана.
Урсула не собиралась любезничать с неизвестно откуда взявшимся насмешником. Она сердито поглядела на него и сказала:
— Не знаю, откуда вы пожаловали сюда и зачем привязываетесь ко мне. Не беритесь судить, с чем я имела дело и с чем не имела.
— Хорошо, а приходилось ли вам видеть котенка, у которого сосочки на языке глядят не назад, а вперед?
— Нет, не приходилось, да и вам тоже!
— А ну-ка, троньте язычок у этого котенка.
Урсула стала очень поворотливой, но котенок был еще поворотливее ее, так что ей не удалось его поймать. Сатана сказал:
— Позовите его по имени. Может быть, он подойдет сам.
Урсула стала кликать котенка то так, то эдак, но он не подходил.
— А ну, позовите его: «Агнесса». Попробуйте.
Котенок откликнулся на имя «Агнесса›› и подбежал к старухе.
Урсула потрогала ему язычок.
— А верно, — сказала она. — Провалиться мне на этом месте. Никогда не видела таких кошек. Это ваша кошка?
— Нет.
— Откуда же вы знаете, как ее зовут?
— Всех кошек этой породы зовут Агнессами, на другое имя они не откликаются.
На Урсулу это произвело впечатление.
— Удивительное дело! — сказала она.
Потом на ее лице мелькнуло выражение беспокойства, в ней проснулось суеверное чувство. Хотя и с видимой неохотой, она опустила котенка на землю и сказала:
— Пожалуй, пусть лучше идет. Я не боюсь, конечно, чего тут бояться, но священник говорил... и люди тоже рассказывали... мне приходилось не раз слышать... Да и котеночек окреп и может теперь сам о себе позаботиться.
Повздыхав, старуха пошла было прочь, потом пробормотала:
— Славный такой котеночек, с ним было бы веселее, а то дома так одиноко и грустно в эти тревожные дни... Мисс Маргет все горюет, совсем в тень превратилась, а хозяин в тюрьме.
— Жаль бросать такого котенка, — сказал Сатана.
Урсула живо обернулась, словно надеясь получить у него поддержку.
— Почему вы так думаете? — спросила она грустно.
— Кошки этой породы приносят счастье.
— Правда? Приносят счастье? Откуда вы об этом знаете? И как они приносят счастье?
— Не берусь сказать, как именно, но они приносят доход.
Урсула была разочарована.
— Доход? От кошки? Что-то не то! Да и не в нашей деревне! Здесь кошку не продашь, задаром и то не возьмут.
Урсула повернулась, чтобы идти домой.
— Зачем же продавать? Оставьте ее себе. Кошек этой породы зовут Кошками, Приносящими Счастье. Владелец такой кошки каждое утро находит у себя в кармане четыре зильбергроша.
Я видел, как старуха покраснела от негодования. Это уж было слишком: мальчишка насмехается над ней! Засунув руки в карманы, она выпрямилась во весь рост, чтобы отчитать его по-свойски. Сейчас она ему покажет! Она раскрыла рот и уже начала свою гневную речь, как вдруг замолкла. Злость в ее лице уступила место удивлению, недоумению, испугу. Она медленно вытащила руки из карманов, разжала кулаки и уставилась на свои ладони. На одной лежала монета, которую она утром получила у нас, на другой — четыре зильбергроша. Она продолжала глядеть на них, ожидая, что они, быть может, исчезнут. Потом сказала с жаром:
— Это правда! Это правда! Мне теперь очень стыдно, и я прошу у вас прощения, о господин мой и благодетель!
Она подбежала к Сатане и стала целовать ему руки, как это в обычае у нас в Австрии.
В глубине души Урсула, может, и считала, что все случившееся колдовство и что кошка орудие дьявола, но это было даже к лучшему, потому что вселяло уверенность, что деньги будут поступать аккуратно и они с Маргет будут сыты. В той мере, в какой это касалось денег, даже самые благочестивые из наших крестьян считали сделку с дьяволом более надежной, чем с ангелом. Урсула направилась домой, держа Агнессу в руках, и я позавидовал ей, что она сейчас увидит Маргет.
Едва я успел сказать это, как мы были в доме священника. Мы стояли в гостиной, и Маргет глядела на нас с удивлением. Маргет была бледная и слабенькая, но я не сомневался, что она почувствует себя лучше в присутствии Сатаны. Так и получилось. Я представил ей Сатану, назвав его Филиппом Траумом. Мы сели, началась беседа. Никакой принужденности не чувствовалось. Мы, деревенские жители, люди простые, и если гость приходится нам по душе, мы привечаем его. Маргет удивилась, почему она не видела, как мы вошли. Траум ответил, что дверь была незаперта, мы вошли незамеченными и ждали, пока Маргет не обернется к нам. Это была неправда. Дверь была заперта, и мы проникли каким-то иным путем, — через крышу, через стены, спустились по трубе или я уж не знаю как. Впрочем, когда Сатана хотел в чем-нибудь убедить своего слушателя, ему всегда это удавалось. И сейчас Маргет вполне удовлетворилась его объяснением. Не говорю уже о том, что она была полностью поглощена им самим, не могла глаз от него отвести, такой он был красавец. Я был доволен этими гордился Сатаной. Я надеялся, что он покажет какие-нибудь чудеса, но он, как видно, намерен был в этот раз ограничиться дружеской беседой и враньем. — Так, например, он заявил, что он сирота. Это вызвало жалость у Маргет, и слезы засверкали у нее на глазах. Он сказал, что никогда не знал материнской ласки, что его мать скончалась, когда он был еще младенцем. Отец же был слабого здоровья и небогат, — во всяком случае, богатства его были не таковы, какие ценятся в этом мире. Зато у него есть дядюшка-делец в далеких тропических странах, богач и владелец доходной монополии; на счет этого дяди он и живет. Упоминание о щедром дядюшке заставило Маргет вспомнить своего дядю, и на глазах у нее снова показались слезы. Она сказала, что было бы приятно, если бы ее дядя и его дядя когда-нибудь познакомились. У меня по спине пробежали мурашки. Филипп сказал, что такое знакомство вполне вероятно. Я снова задрожал.
— Чего на свете не бывает, — промолвила Маргет. — Ваш дядя часто путешествует?
— Да, постоянно. У него дела по всему свету.
Так шла беседа, и бедняжка Маргет на время позабыла свои горести. Это был у нее, должно быть, первый веселый и приятный час за долгое время. Я видел, что Филипп ей понравился; впрочем, это можно было предсказать заранее. Когда же он сказал, что готовится стать священником, то понравился ей еще больше. Затем он пообещал, что устроит ей пропуск в тюрьму, чтобы повидаться с дядей, — тут она просто пришла в восторг. Он сказал, что подкупит стражу. Ее же дело, как только стемнеет, идти прямо в тюрьму и там без дальних разговоров предъявить записку, которую он ей даст, и еще раз показать ее при выходе. Он начертил на листке бумаги какие-то странные письмена и вручил ей. Маргет, вне себя от радости, поблагодарила его и с нетерпением стала ждать сумерек. Надо сказать, что в эти древние жестокие времена узникам не позволяли видеться с близкими, и бывало, что они проводили долгие годы в темнице, так и не увидев ни разу дружеского лица. Я решил, что письмена на бумаге — это заклинание, и что стражники пропустят Маргет, не понимая, что делают, и тут же забудут об этом. Так оно и было.
Урсула просунула в дверь голову и сказала:
— Ужин готов, барышня.
Тут она заметила нас, с испуганным лицом поманила меня к себе и, когда я подошел, спросила, не рассказывали ли мы Маргет про кошку. Когда я ответил, что нет, она осталась довольна и просила молчать и дальше, а то мисс Маргет подумает, что тут колдовство, пошлет за священником, тот освятит кошку — и доходам придет конец. Я сказал, что мы будем молчать, и она успокоилась. Я начал прощаться с Маргет, но Сатана прервал меня и каким-то путем, не нарушив ни единого правила вежливости, устроил так, что и он и я остались к ужину. Маргет была ужасно смущена, она знала, что их ужином не накормишь и цыпленка. Урсула услышала наш разговор и вошла в комнату очень рассерженная. Она не скрыла своего удивления, когда увидела, как весела Маргет и какой яркий румянец играет у нее на щеках. Потом, обратившись к ней на своем родном богемском диалекте, сказала (как я выяснил позднее):
— Пусть они уходят, мисс Маргет. Нам нечем их кормить.
Маргет не успела ничего ответить, как Сатана вмешался и заговорил с Урсулой на ее родном диалекте, чем немало удивил и ее и Маргет. Он спросил:
— Не с вами ли мы беседовали недавно на дороге?
— Да, сударь.
— Очень приятно. Я рад, что вы еще не забыли меня. — Он подошел к ней и тихо прошептал:
— Разве я не сказал вам, что это Кошка, Приносящая Счастье? Не тревожьтесь об ужине.
Беспокойство Урсулы как рукой сняло, и в ее глазах блеснули удовольствие и жадность. Как разумно она поступила, что взяла в дом эту кошку! Маргет не сразу освоилась с мыслью, что мы остаемся ужинать, а потом просто и естественно, как было в ее обычае, сказала, что ужин скудный, но она будет рада, если мы разделим его с ней.
Ужин был подан на кухне, Урсула прислуживала за столом. На сковороде, аппетитно потрескивая, жарилась маленькая рыбка; для Маргет, видимо, подобная роскошь была неожиданностью. Урсула подала рыбку к столу, и Маргет, поделивши ее на две порции — одну Сатане, другую мне, — начала было объяснять, что ей сегодня не хочется рыбы, но вдруг замолкла: на сковороде лежала другая рыбка. Хоть Маргет и была удивлена, но ничего не сказала. Должно быть, она решила ни о чем не спрашивать Урсулу, пока мы не уйдем. Неожиданность следовала за неожиданностью: на столе появилось вино, потом блюдо с мясом, дичь, фрукты — угощения, каких уже давно не было в этом доме. Маргет ничего не говорила и даже перестала выражать удивление; в этом, конечно, сказывалось воздействие на нее Сатаны. Сатана не умолкая вел застольную беседу, был весел и остроумен, и время летело незаметно. Он врал не переставая, но трудно было его за это упрекать. В конце концов он был ангел, а ангелы в этих вопросах не разбираются. Они не отличают хорошего от дурного. Сатана сам мне так говорил. Он решил понравиться Урсуле и стал в разговоре с Маргет расхваливать ее — будто потихоньку, но так, чтобы Урсула слышала его слова. Он сказал, что она красивая женщина и что он хотел бы познакомить с ней своего дядю, Не прошло и пяти минут, как Урсула уже интересничала и жеманилась, изображала из себя молоденькую девушку и оглаживалась, как свихнувшаяся старая курица. Вдобавок она делала вид, будто не слышит, что говорит Сатана. Мне было стыдно за Урсулу, ее поведение подтверждало слова Сатаны, что люди глупы и пошлы. Сатана сказал, что его дядя часто устраивает большие приемы. Умная женщина, которая заняла бы место хозяйки в доме, сумела бы сделать их, без сомнения, еще более привлекательными.
— Ваш дядя, наверное, из знатного рода? — спросила Маргет.
— Да, — ответил Сатана равнодушно. — Некоторые даже, желая польстить ему, именуют его князем. Но он что называется без предрассудков и оценивает людей не по званию, а по личным качествам.
Я сидел, опустивши руку, и Агнесса, подойдя, лизнула ее своим язычком. Тайна обнаружилась. Я открыл рот, чтобы сказать: «Какие глупости! Это самая обыкновенная кошка! Сосочки у нее на языке смотрят назад, а не вперед», но слова застряли у меня в глотке. Сатана засмеялся, и я понял, что этого не следовало говорить.
Когда стемнело, Маргет уложила в корзину фрукты, много всякой еды и питья и побежала в тюрьму, а мы с Сатаной не спеша направились к моему дому. Я подумал, что было бы интересно узнать, что происходит за тюремными стенами. Сатана подслушал мою мысль, и в ту же минуту мы с ним были в тюрьме. Он сказал, что мы находимся в камере пыток. Я увидел дыбу и другие орудия пытки; дымящиеся факелы по стенам создавали зловещий полумрак. Кругом стояли палачи и еще какие-то люди, Они не обращали на нас никакого внимания, — это значило, что мы невидимы.
На полу лежал молодой человек, связанный по рукам и ногам. Сатана сказал, что его подозревают в ереси и сейчас будут допрашивать. Палачи требовали, чтобы он признался в своей вине. Он отказывался, утверждая, что не виновен. Тогда они принялись загонять ему под ногти деревянные шпильки, и он стал громко кричать от боли. Сатана остался невозмутим, но я не вынес этого зрелища, и он вытащил меня наружу почти без чувств. Свежий воздух помог мне прийти в себя, и мы направились домой. Я сказал, что это зверская жестокость.
— Нет, чисто человеческая. Ты оскорбляешь своими словами зверей. Они этого не заслужили.
Он стал развивать эту тему:
— Таковы все вы, люди. Всегда лжете, претендуете на добродетели, которых у вас нет и в помине, и не желаете признать их за высшими животными, которые действительно ими обладают. Ни один зверь никогда не совершит жестокого поступка. Это прерогатива тех, кто наделен Нравственным чувством. Когда зверь причиняет кому-либо боль, он делает это без умысла, он не творит зла, для него зла не существует. Он никогда не причинит боли, чтобы получить от этого удовольствие, так поступает только человек. Человек поступает так, вдохновленный все тем же ублюдочным Нравственным чувством. При помощи этого чувства он отличает хорошее от дурного, а затем решает, как ему поступить. Каковы же результаты выбора? В девяти случаях из десяти он предпочитает поступить дурно. На свете не должно быть зла; и его не было бы, если бы не ваше Нравственное чувство. Беда в том, что человек нелогичен, он не понимает, что Нравственное чувство позорит его и низводит до уровня самого низшего из одушевленных существ. Ну как, твоя дурнота прошла? Сейчас я тебе кое-что покажу.
Глава VI
Миг — и мы во Франции. Мы идем по огромной фабрике. Вокруг нас, в грязи и в духоте, окруженные облаком пыли, трудятся мужчины, женщины, дети. Они в лохмотьях, двигаются с трудом; они измучены и голодны; веки у них смыкаются на ходу. Сатана сказал:
— Вот еще образчик Нравственного чувства. Владельцы этой фабрики богаты и богомольны. Но братьям своим и сестрам, работающим на них, они платят так мало, что те только что не умирают с голоду. Эти люди, взрослые и дети, трудятся по четырнадцать часов в день, зиму и лето, с шести утра до восьми вечера. От лачуг, в которых они ютятся, до фабрики добрых четыре мили, и они проходят эти четыре мили дважды в день, по лужам и по грязи, в дождь и в снег, в гололедицу и в метель, — год за годом, всю свою жизнь. Спят они четыре часа в сутки, живут в невообразимой грязи и вони, три семьи в одной конуре, и мрут от болезней, как мухи. Быть может, это преступники? Нет, они не совершили никакого преступления. За что же они так страшно наказаны? Ни за что, разве лишь за то, что по глупости своей родились людьми, Только что ты видел, как карают виновного; сейчас ты видишь, как карают невинных. Ну что, есть логика у людей? Лучше ли приходится этим немытым праведникам, чем тому еретику? Я думаю, что нет. Его страдания ничто в сравнении с их страданиями. Когда мы ушли из тюрьмы, палачи колесовали его и превратили в окровавленное месиво. Сейчас он уже мертв и, значит, ускользнул от своих достойных собратьев. А эти несчастные рабы? Они умирают уже годы и годы, и некоторым из них не удастся умереть еще долгое время. Нравственное чувство помогло владельцам этой фабрики разобраться в вопросе, что такое добро и что такое зло. Результаты ты видишь сам. И вы еще утверждаете, что вы совершеннее собак! Я не знаю, найдутся ли на свете существа, менее способные к логическому мышлению, чем ваша людская порода. Жалкая порода!
Он переменил тон и принялся всячески высмеивать людей. Он иронизировал по поводу их тщеславного пристрастия к воинским подвигам, хохотал над «бессмертными героями», «немеркнущей славой», «непобедимыми монархами», «голубой кровью», «историческими достопамятностями», насмехался так, что мне стало наконец не по себе. Немножко поостыв, он сказал:
— В конце концов, все это не только смешно, но и грустно, если подумать, как коротка и эфемерна ваша жизнь и как нелепы ваши претензии.
Окружающие нас люди и предметы вдруг исчезли. Эта перемена была мне уже знакома. Мы шагали по нашей деревне, внизу у реки поблескивали огни «Золотого оленя». Из тьмы послышался ликующий крик:
— Он здесь!
Это был Сеппи Вольмайер. Сердце у него вдруг забилось быстро и радостно, и он понял, хоть и не мог еще ничего разглядеть в темноте, что Сатана где-то поблизости. Он подошел к нам, и мы зашагали втроем. Сеппи был вне себя от восторга, словно любовник, нашедший потерянную возлюбленную — Сеппи был живой, смышленый мальчуган и, в отличие от меня и Николауса, выражал свои чувства открыто и бурно. Сейчас он был взволнован таинственной историей: бесследно исчез наш деревенский бродяга — Ганс Опперт. Сеппи сказал, что народ любопытствует, куда он мог запропаститься. Он не сказал: народ беспокоится. Народ любопытствовал — не более того; это было сказано очень точно. Ганса никто не видел уже два дня.
— С тех пор как он учинил эту зверскую штуку, — добавил Сеппи.
— Какую зверскую штуку? — спросил Сатана.
— Видишь ли, он постоянно бьет своего пса. Это добрейший пес, его единственный друг. Он очень предан Гансу, любит его, да и вообще никому не делает зла. И вот два дня тому назад Ганс снова принялся его дубасить ни за что, просто так, для развлечения. Пес ластился к нему и скулил, и мы с Теодором вступились за него, но Ганс только бранился, а потом ударил пса изо всех сил и выбил ему глаз, а нам сказал: «Вот, получили! Это вам за то, что мешаетесь не в свое дело!» И захохотал, бездушный зверь.
Голос Сеппи дрогнул от негодования и жалости. Я знал заранее, что сейчас скажет Сатана:
— Опять эта путаница и вздор про зверей. Звери так не поступают.
— Но ведь это бесчеловечно.
— Нет, Сеппи, это человечно. Вполне человечно. Мне грустно слушать, что ты порочишь высших животных и приписываешь им побуждения, которые им чужды и которые живут лишь в сердце человека. Высшие животные не заражены Нравственным чувством. Следи за тем, что ты говоришь, Сеппи, выкинь из головы весь этот лживый вздор.
Тон его был непривычно суров, и я пожалел, что не рассказал Сеппи, что думает Сатана об этих вещах. Я знал, что Сеппи очень огорчен. Он охотнее поссорился бы со всеми своими родичами, чем с Сатаной. Мы с Сеппи молчали, чувствуя себя неловко, как вдруг появилась собака Ганса Опперта. Бедный пес бросился к Сатане, выбитый глаз висел у него на ниточке, он скулил и повизгивал. Сатана стал отвечать ему, и мы поняли, что они беседуют на собачьем языке. Мы сидели на траве, луна светила в просветы облаков, Сатана притянул голову пса к себе на колени и вложил глаз в глазницу, и пес успокоился, завилял хвостом, лизнул Сатане руку и сказал, как он ему благодарен. Я уверен, что он благодарил его, хотя и не понял слов. Они с Сатаной еще потолковали немного, и Сатана сказал:
— Он говорит, что его хозяин был пьян.
— Это верно, — подтвердили мы.
— Через час после того, как они ушли из деревни, его хозяин свалился в пропасть возле Клиф-Пасчюрс.
— Клиф-Пасчюрс! Это в трех милях отсюда.
— Он говорит, что уже несколько раз прибегал в деревню за помощью, но его не слушали и гнали прочь.
Мы вспомнили, что пес действительно прибегал, но мы не знали, что ему нужно,
— Он приходил за помощью для человека, который дурно с ним обращался, он ни о чем больше не заботился и даже не просил поесть, хотя был очень голоден. Он провел две ночи возле своего хозяина. Что вы кажете теперь о людях? Кто поверит, что вечное блаженство уготовано им, а не этой собаке? Может ли человеческий род соперничать с этой собакой, с ее нравственной силой, с добротой ее сердца? — Последние его слова были обращены к псу, который плясал на месте, веселый и счастливый, ожидая, как видно, приказа Сатаны, чтобы немедленно его выполнить.
— Соберите народ и идите за собакой. Она покажет вам, где лежит эта падаль. Возьмите с собой священника, чтобы обеспечить ему блаженство: он при смерти.
С этими словами, к нашему великому огорчению, Сатана исчез. Мы собрали людей, позвали отца Адольфа, но нашли Опперта уже при последнем издыхании. Все остались равнодушны к его смерти, кроме собаки. Она жалобно скулила, облизывая лицо мертвеца, и была безутешна. Ганса Опперта похоронили без гроба на том месте, где он лежал, — он был нищим, и у него не было ни одного друга, кроме этой собаки. Если бы мы пришли часом раньше, священник мог бы еще спасти несчастного и отправить его душу в рай; теперь же он попал в ад и будет гореть в адском пламени. Обидно, что в этом мире, где многие не знают, куда девать свободное время, для этого бедняги не нашлось одного-единственного часа, от которого зависело, будет ли он блаженствовать в раю или терпеть муки в преисподней. Меня ужаснуло, что час времени значит так много в судьбе человека! Я решил, что теперь ни за что на свете не стану тратить времени зря. Сеппи совсем загрустил; он сказал, что гораздо лучше быть собакой и не заботиться о спасении своей души. Мы забрали собаку Опперта домой и решили оставить ее у себя. На обратном пути Сеппи пришла в голову счастливая мысль, которая утешила и сильно подбодрила нас. Сеппи сказал, что, раз пес простил своего хозяина, который причинил ему столько зла, быть может бог зачтет это за отпущение грехов.
Вся следующая неделя прошла очень уныло. Сатана не появлялся, ничего достопримечательного не происходило, навестить Маргет мы не решались, потому что ночи стояли лунные и нас могли заметить. Но мы несколько раз встречали Урсулу, когда она прогуливалась с кошечкой в долине у реки, и узнали от нее, что у них все благополучно. Урсула была в новом платье, лицо ее светилось довольством. Четыре зильбергроша аккуратно появлялись каждый день, причем не было нужды тратить их на еду, вино и тому подобное. Все съестное кошка доставляла бесплатно.
Теперь Маргет меньше страдала от заброшенности и одиночества; к тому же ее навещал Вильгельм Мейдлинг. Каждый вечер она проводила час или два в тюрьме со своим дядей и с помощью той же кошки значительно улучшила его тюремный паек. Она крепко запомнила Филиппа Траума, и ей хотелось, чтобы я привел его снова. Да и Урсула тоже частенько вспоминала о нем и расспрашивала о его дяде. Мы с трудом удерживались от смеха, глядя на нее: я рассказал ребятам, какие небылицы плел ей Сатана. Урсула же ничем не могла поживиться от нас: ведь мы не могли рассказывать о Сатане, даже если бы хотели.
Из болтовни Урсулы мы узнали, что теперь, когда в доме появились деньги, они с Маргет решили нанять слугу для черной работы и для посылок. Урсула сообщила об этом, как о чем-то само собой разумеющемся, но видно было, что бедняжка вне себя от тщеславия и гордости. Мы позабавились, глядя, как старуха упивается своим величием, но когда узнали, кто их слуга, то почувствовали беспокойство. При всей нашей молодости и легкомыслии, в некоторых жизненных вопросах мы разбирались не хуже взрослых. Их выбор пал на мальчика по имени Готфрид Нарр, глуповатого и добродушного парнишку, о котором нельзя было сказать ничего дурного. Но семья Нарра находилась под подозрением, и это было вполне естественно: всего полгода тому назад его бабушку сожгли за ведовство. А ведь известно, что, когда в семье заведется такая зараза, одним костром ее не выжжешь. Маргет и Урсула поступили очень неблагоразумно, что связались с Готфридом Нарром. Охота на ведьм в наших краях никогда еще не шла так яростно, как в последнее время. От одного упоминания о ведьмах нас охватывал леденящий душу страх. Да и как тут не бояться — ведовство так распространилось в наши дни! В старину ведьмами бывали только старухи, а сейчас ловят ведьм любого возраста, вплоть до восьми- и девятилетних девочек. Ни за кого нельзя поручиться, каждый может оказаться слугой дьявола — мужчина, женщина, младенец. В нашей деревне старались вывести ведовство с корнем, но чем больше мы жгли ведьм, тем больше их появлялось.
Как-то в женской школе, в десяти милях от нас, учительница увидела у одной девочки на спине красные, воспаленные пятнышки. Она, конечно, испугалась: не дьяволова ли это отметина? Девочка была в отчаянии и умоляла учительницу никому ничего не рассказывать; она уверяла, что это следы от блошиных укусов. Дело пошло своим ходом, школьниц подвергли осмотру, пятнышки нашлись у всех пятидесяти девочек, но у одиннадцати из них пятнышек было особенно много. Назначили комиссию, которая допросила школьниц; они ни в чем не желали сознаваться и только кричали: «Мама!» Тогда их заперли по отдельности в темных камерах и посадили на десять дней и десять ночей на хлеб и воду. К концу этого срока они уже не плакали, а сидели исхудавшие, с блуждающим взглядом, не принимали пищи и только несвязно бормотали что-то про себя. Потом одна из них призналась, что часто летала верхом на метле на шабаш в сумрачное ущелье в горах, пила вино, плясала и неистовствовала с полчищами других ведьм и с самим Нечистым, и что все они вели себя там непотребно, кощунственно, поносили священников и проклинали господа бога. Правда, девочка не в силах была рассказать все это в связной форме и не сумела вспомнить подробности, но зато члены комиссии точно знали, что она должна помнить: у них был вопросник для разоблачения ведьм, составленный еще двести лет тому назад. Они спрашивали: «А это ты делала?» И она отвечала: «Да!» — и глядела на них уныло и бессмысленно. Когда остальные десять девочек услышали, что их подруга созналась, они тоже стали сознаваться и тоже отвечали: «Да!» Тогда их всех вместе сожгли на костре. Это было, конечно, правильное и справедливое решение. Все пошли смотреть, как их будут жечь. Я тоже пошел. Но когда я узнал одну из них, веселую хорошенькую девочку, с которой мы часто вместе играли, когда я увидел ее прикованной к столбу и услышал рыдания ее матери, которая, обнимая дочь и осыпая ее поцелуями, беспрерывно восклицала: «Господи, боже мой! Господи, боже мой!» — я не вынес этого ужаса и пошел прочь.
Когда сожгли бабушку Готфрида Нарра, стоял сильный мороз. Ее обвинили в том, что она вылечивала людей от головной боли, массируя им пальцами затылок и шею. Каждому было понятно, что она делала это с помощью дьявольских чар. Судьи хотели расследовать дело, но старуха сказала, что в этом нет нужды, что она и так готова признать, что она ведьма. Тогда ее приговорили к сожжению на костре на рыночной площади утром следующего дня. Первым на площадь явился человек, который должен был приготовить все для казни и разжечь костер. Потом тюремщики привели старуху, оставили ее на площади и отправились за другой ведьмой. Родственники старухи не пришли с ней проститься, — народ был раздражен и мог напасть на них или даже побить камнями. Я пришел на площадь и угостил старуху яблоком. Она сидела на корточках у костра и грелась; губы ее и сморщенные старческие руки посинели от холода. Рядом с нами появился какой-то незнакомый человек, — это был путешественник, гостивший у нас проездом. Он ласково заговорил со старухой и, видя, что, кроме меня, никого кругом нет, выразил ей свое участие. Он спросил ее, подлинно ли она ведьма, и она ответила, что нет. Он был удивлен и еще более опечален и воскликнул:
— Зачем же ты наклепала на себя?
— Я бедная старуха, — сказала она, — и живу тем, что заработаю. Что мне еще оставалось делать? Если я буду отрицать, что я ведьма, меня, может быть, и выпустят на волю. Но что со мной тогда станется? Всем известно теперь, что меня подозревают в ведовстве, и никто не будет у меня лечиться. Куда я ни пойду, люди будут травить меня собаками. Я погибну от голода. Пусть уж лучше меня сожгут — по крайней мере, скорый конец. Спасибо вам обоим, вы были добры ко мне.
Она пододвинулась к костру и протянула руки, чтобы согреть их, снежные хлопья тихо и ласково опускались на ее седую голову, которая становилась все белее и белее. Собрались зрители, кто-то бросил в старуху яйцом. Оно попало ей в глаз, разбилось и потекло по щеке. Послышался смех.
Я рассказал Сатане эту историю про бабушку Готфрида Нарра и про одиннадцать девочек, но его мой рассказ, как видно, не тронул. Таков род человеческий, сказал он, и лучше «не обсуждать того, что творят люди. Сатана повторил также, что видел сам, как был создан человек, и что он был слеплен не из глины, а из грязи — частью во всяком случае. Я знал, какую часть он имеет в виду — Нравственное чувство. Увидев, что я угадал его мысль, он засмеялся. Потом подозвал к себе вола, пасшегося поблизости, ласково потрепал его за холку и о чем-то с ним поговорил,
— Вот возьми этого вола — он не станет терзать детишек одиночеством, страхом и голодом, ввергать их в безумие, а потом жечь на костре неведомо за что. Он не станет надрывать сердце бедной, ни в чем не повинной старухе и доводить ее до того, что она боится жить среди себе подобных. Он не станет издеваться над ней в ее смертный час. Вол не станет делать этого потому, что он не заклеймен Нравственным чувством. Вол не знает, что такое зло, и не творит зла, он подобен ангелам в небе.
При всем своем обаянии, Сатана мог быть суровым до жестокости, когда речь заходила о человеческом роде. Он презирал людей и не находил ни одного слова в их защиту.
Как я уже сказал, мы считали, что Урсула поступила опрометчиво, наняв мальчика из семьи Нарров. Мы были правы: люди вознегодовали, услышав об этом. Откуда взялись деньги на наемного слугу, рассуждали они, когда старухе с девушкой самим не хватает на хлеб? Еще недавно Готфрида все сторонились, но теперь, чтобы удовлетворить свое любопытство, люди стали заговаривать с ним и искать его общества. Готфрид был очень доволен, по простоте своей он не видел расставленной ловушки и болтал, как сорока.
— Откуда деньги? — говорил он. — Да у них полно денег! Я получаю два зильбергроша в неделю, не считая харчей. Едят все самое вкусное. У князя и то нет такого стола.
В воскресенье утром астролог сообщил эти удивительные новости отцу Адольфу, когда тот шел домой от мессы. Священник был сильно взволнован и сказал:
— Этим необходимо заняться.
Он решил, что здесь кроется колдовство, и велел своим прихожанам возобновить дружеские отношения с Маргет и Урсулой и понаблюдать за ними. Сделать это нужно было с осторожностью, не вызывая подозрений, Сначала никому не хотелось пугаться в колдовское дело, но священник сказал, что все, кто войдет в этот дом, будут находиться под его защитой, а если они еще захватят с собой четки и чуточку святой воды, с ними уж наверняка не случится ничего худого. После таких заявлений нашлись охотники пойти в дом к Маргет, а более злые и завистливые даже рвались туда, чтобы поскорее выполнить поручение священника.
Бедняжка Маргет была вне себя от восторга, когда жители деревни снова начали с ней дружить. Она, простая, бесхитростная душа, была довольна, что им с Урсулой хорошо живется, и не видела причины скрывать это от других. Она радовалась каждому приветливому слову вернувшихся друзей, ведь на свете нет тяжелее испытания, чем быть отвергнутым друзьями и жить в одиночестве и презрении.
Поскольку запрет был снят, мы тоже отправились к Маргет. Мы бывали теперь у нее ежедневно вместе с нашими родителями и со всеми соседями. Кошечке пришлось туго. Она кормила теперь целую ораву гостей, причем угощала их самыми редкостными блюдами и поила такими винами, о каких они даже и понятия не имели, разве только понаслышке от княжеских слуг. Сервировка стола была изысканная.
Иногда у Маргет бывали минуты сомнения, и она принималась расспрашивать Урсулу об источнике их благополучия. Урсула ссылалась на руку провидения и ни словом не упоминала о кошке. Маргет знала, конечно, что рука провидения не оскудевает, но тревожилась в душе, хоть и боялась признаться себе в этом. Порой ей приходила в голову мысль о колдовских чарах, но она отвергала ее: ведь их благополучие началось еще до того, как Готфрид поступил к ним в услужение, а Урсула так благочестива и такая ярая ненавистница всякого ведовства. Постепенно Маргет уверилась, что их дом находится под покровительством святого провидения. Кошечка же помалкивала и с течением времени становилась все более опытной и искусной домоправительницей.
В любом обществе, большом или малом, всегда находится достаточное число доброжелательных по природе людей, которых не так просто подбить на дурной поступок, разве только если поставить под угрозу их благополучие или сильно запугать каким-либо иным способом. И у нас в Эзельдорфе были такие люди, и в обычное время они оказывали смягчающее влияние на общественные нравы. Но сейчас время было необычное — шла охота на ведьм, — и во всей нашей общине не оставалось человека с искрой жалости и благородства в душе. То, что творилось в доме у Маргет, было, конечно, колдовством. Люди трепетали, и страх помрачал им рассудок. Встречались, конечно, и такие, что втайне жалели Маргет и Урсулу, запутавшихся в этом страшном деле; но эти люди молчали, боясь погибнуть вместе с ними. Так оно шло, и не было человека, который предупредил бы беспечную девушку и глупую старуху о нависшей над ними беде. Не раз мы собирались это сделать, но нам не хватало храбрости. Что пользы обманывать себя? Мы были трусами и не могли решиться на добрый поступок, потому что он грозил нам опасными последствиями. Признаваться друг другу в низком чувстве не хотелось, и мы поступали так, как поступают все в подобных обстоятельствах, — не касались больной темы совсем. Но я отлично знал, что Сеппи и Николаус не меньше моего чувствуют себя подлецами, когда сидят за столом у Маргет вместе с толпой соглядатаев, дружески болтают с ней, благодарят за угощение, смотрят на ее сияющее личико и ни словом не намекнут, что она шагает к гибели. А она-то так рада, так счастлива, так горда, что снова окружена друзьями. Между тем гости зыркали по сторонам и передавали каждое ее слово отцу Адольфу.
Отец Адольф никак не мог взять в толк: что же такое происходит в доме Маргет? Кто-то там занимается волшбой, но кто же? Ни Маргет, ни Урсулу, ни Готфрида никто не видел за колдовскими занятиями, и тем не менее вина и изысканные лакомства не сходили со стола в этом доме, и каждого угощали всем, чего бы он ни пожелал. То, что при помощи колдовских чар можно добыть любое угощение, — понятно, но это была, как видно, волшба без заклинаний и заговоров, без призраков, молний и землетрясений, — иными словами, нечто совсем новое и неслыханное. О подобной волшбе в книгах ничего не говорилось. То, что создается колдовскими чарами, имеет, как известно, лишь призрачное существование. Когда чары перестают действовать, золото превращается в прах, пища распадается и исчезает. Здесь же не было ничего похожего. Соглядатаи отца Адольфа доставили ему образчики угощений из дома Маргет. Он творил над ними молитву, но без толку. Продукты оставались по-прежнему съедобными. Они теряли свою свежесть лишь с течением времени, нисколько не отличаясь в этом от продуктов, купленных на рынке.
Отец Адольф был озадачен, более того — обескуражен. То, что ему удалось выяснить до сих пор, заставляло его втайне склоняться к мысли, что волшбы нет. Но полной уверенности не было. Ведь всегда возможны новые, неведомые виды колдовства. Наконец он нашел верный способ проверить свои сомнения: если удастся твердо установить, что все эти яства, которыми Маргет кормит своих гостей, не вносятся в дом извне, значит — в доме волшба.
Глава VII
Маргет решила устроить званый обед и позвала к себе сорок человек. До торжественного дня оставалась неделя. Это был подходящий случай для отца Адольфа. Дом Маргет стоял на отшибе, и за ним легко было следить. Все семь дней дом находился под неослабным наблюдением. Было установлено, что Урсула и Готфрид выходили из дому и возвращались как обычно, но ни они, ни кто другой ничего с собой не приносили. Следовательно, никаких запасов для сорока гостей куплено не было. Если хозяева все же собираются их кормить, значит они рассчитывают добыть свои яства не выходя из дому. Правда, Маргет по вечерам уходила куда-то одна с корзинкой в руках. Но шпионы отца Адольфа утверждали, что она возвращалась каждый раз с пустой корзинкой.
Гости явились в полдень и заполонили весь дом. Пришел и отец Адольф. Вслед за ним пожаловал астролог, которого никто не приглашал. Ему уже донесли, что ни с парадного, ни с черного хода в дом Маргет не вносили никаких свертков. Войдя, он убедился, что гости едят и пьют и празднество идет полным ходом. Вдобавок, как он приметил, многие изысканные блюда, которыми кормили гостей, были так свежи, словно только что изготовлены. Свежи были и фрукты, не только наши местные, но и те, что привозят к нам из дальних стран. Сомнений больше не оставалось — тут колдовство! Правда, не было ни призраков, ни заклинаний, ни громовых ударов. Что ж, значит здесь колдовство особого рода, невиданное ранее. Здесь действует колдовство небывалое, колдовство изумительной силы, и ему, астрологу, суждено раскрыть эту тайну. Весть о его подвиге пронесется по всему миру до самых дальних пределов и потрясет сердца, он будет известен всем и каждому, имя его останется в веках. Подумать только, как ему повезло! При одной мысли об этом у него кружилась голова.
Все расступились, чтобы дать дорогу астрологу. Маргет любезно пригласила его принять участие в пиршестве. Урсула велела Готфриду принести отдельный столик, накрыла его для астролога и спросила, чего бы он желал отведать.
— Угостите меня по вашему выбору, — сказал он.
Двое слуг уставили стол яствами и подали две бутылки вина — красного и белого. Астролог, который, должно быть, даже не видывал никогда такого угощения, наполнил свой кубок красным вином, осушил его, налил другой и с волчьим аппетитом принялся за еду.
Я не думал, что придет Сатана, — мы не встречались уже неделю, — но вот он появился среди гостей. Я еще не видел его в толпе, когда почувствовал его присутствие. Он извинился, что пришел неприглашенным, сказал, что заглянул на минутку. Маргет стала уговаривать его остаться, он поблагодарил и остался. Она повела его к столу, представляя своим подругам, Вильгельму Мейдлингу, некоторым из почетных гостей.
Послышался шепот.
— Это молодой незнакомец, о котором столько говорят.
— Его очень редко увидишь, он всегда в разъездах.
— Какой красавец! Как его зовут?
— Филипп Траум.
— Подходящее имя! («Траум» по-немецки значит «мечта».)
— А чем он занимается?
— Говорят, готовится стать священником.
— С такой внешностью всякий далеко пойдет; не удивлюсь, если он станет кардиналом.
— А откуда он?
— Говорят, откуда-то из южных стран, у него там богатый дядя.
И далее в таком же роде.
Он сразу всем понравился, всем захотелось познакомиться и побеседовать с ним. И все вдруг с удивлением почувствовали, как легко им дышится, словно их овевает свежий ветерок, но причину этого не могли понять. Ведь солнце палило так же, как и прежде, с раскаленного безоблачного неба,
Астролог осушил второй кубок и налил третий. Ставя бутылку на место, он случайно опрокинул ее. Вино потекло на скатерть. Он быстро поднял бутылку и стал разглядывать ее на свет, восклицая: «Какая жалость! Королевский напиток!» Тут его лицо осветилось торжеством, И он крикнул:
— Принесите чашу! Живее!
Ему принесли большую чашу вместимостью в четыре кварты. Он поднял над ней свою двухпинтовую бутылку и стал лить в чашу вино. Алая жидкость, бурля и булькая, полилась в белую чашу, поднимаясь все выше и выше. Все глядели затаив дыхание. Вскоре чаша наполнилась до краев.
— Смотрите, — сказал астролог, поднимая бутылку против света, — она полна по-прежнему.
В этот миг я поднял глаза на Сатану — он внезапно исчез. Отец Адольф поднялся с кресла, дрожа от волнения, осенил себя крестным знамением И возопил громовым голосом:
— Да будет проклят этот дом!
Толпа гостей с плачем и воплями ринулась к двери.
— Повелеваю хозяевам этого колдовского обиталища...
Осталось неизвестным, что хотел сказать отец Адольф: он покраснел от натуги, потом побагровел, но не сумел вымолвить более ни слова. Тут я увидел, как Сатана — точнее, его бесплотная тень — вошел в тело астролога, И астролог, подняв руку, крикнул (голос был его):
— Погодите! Остановитесь!
Все остановились,
— Принесите мне воронку!
Перепуганная, трепещущая Урсула принесла воронку, и астролог, вставив ее в горлышко бутылки, поднял огромную чашу и стал переливать вино обратно. Народ глядел в изумлении: все знали, что бутылка и так полна. Перелив содержимое чаши в бутылку, астролог победоносно ухмыльнулся, потом, хихикнув, сказал:
— Это сущие пустяки для меня, мелкая дробь. Вы еще не знаете силы моих чар.
С испуганным воплем: «Он — колдун!» — толпа вновь повалила к двери, и вскоре в доме не осталось никого из гостей, кроме нас троих и Вильгельма Мейдлинга. Нам было понятно, что произошло, но мы никому не могли рассказать об этом. Спасибо Сатане! Если бы он не вмешался в последнюю минуту, беда была бы неминуема.
Маргет сидела бледная, в слезах. Мейдлинг и Урсула словно онемели. Хуже всех чувствовал себя Готфрид Нарр, от страха он едва держался на ногах. Он был из колдовской семьи, даже малейшее подозрение в волшбе было бы для него гибельным. В комнату вошла Агнесса с невинным и благочестивейшим видом и подошла к Урсуле, чтобы та ее погладила. Испуганная Урсула отстранилась от нее, но постаралась сделать это без грубости: она понимала, что портить отношения с такой кошкой неблагоразумно. Мы же стали ласкать Агнессу. Раз Сатана ей покровительствовал, значит это была славная кошечка, — других рекомендаций нам не требовалось, Сатана любил все живые существа, лишенные Нравственного чувства.
Выбравшись из дому, перепуганные гости продолжали свое паническое бегство и рассеялись по улицам: с такими отчаянными воплями, стонами и рыданиями, что скоро подняли на ноги всю деревню. Люди выбегали из домов, чтобы узнать, что приключилось, и в свою очередь присоединились к взволнованной, бушующей толпе. Когда появился отец Адольф, толпа, подобно водам Чермного моря, расступилась надвое[125], освобождая ему путь. За отцом Адольфом важно следовал астролог, беспрестанно бормотавший что-то себе под нос. Толпа сомкнулась за ним, заполняя проход, и каждый смотрел ему вслед недвижным взглядом, учащенно дыша и замирая от ужаса. Две или три женщины лишились чувств. Когда он удалился, люди осмелели и последовали за ним на почтительном расстоянии, взволнованно споря о том, что же такое произошло на пиру. Установивши факты, они пересказывали их соседям, внося свои добавления и поправки. В результате чаша с вином превратилась в бочку, бутылка же, вместив эту бочку, так и осталась пустой.
Когда астролог вышел на рыночную площадь, он прямиком направился к жонглеру, который, разгуливая в своем пестром одеянии, играл тремя медными шарами, попеременно взлетавшими ввысь. Астролог отобрал у него шары и, обернувшись к приближавшейся толпе, сказал:
— Этот жалкий фигляр не знает своего ремесла. Сейчас вы увидите работу мастера!
Он подбросил один шар, — потом другой, третий, и они закружились в воздухе, образовав изящно вытянутый кверху сверкающий овал. Еще шар, еще и еще — никто не видел, откуда он брал их, — еще, еще и еще, овал все выше и выше, движения рук все быстрее и быстрее, пальцев на руках уже не различить, и вот в воздухе кружится целая сотня шаров, — так утверждали те, кто их считал. Сверкающий кружащийся овал поднялся на двадцать футов вверх, это было изумительное зрелище. Сложив руки на груди, астролог приказал шарам кружиться без его помощи — и они стали кружиться сами, Потом он сказал:
— Ну, теперь хватит.
Овал рассыпался, медные шары попадали на землю, покатились во все стороны. Люди отскакивали от них, боясь к ним прикоснуться. Астролог презрительно захохотал и стал бранить зрителей, называя их трусами и старыми бабами.
Оглядевшись по сторонам, он увидел протянутый через площадь канат и сказал, что всегда жалел простофиль, которые тратят деньги, чтобы смотреть на неуклюжих клоунов, профанирующих высокое искусство канатоходца. Сейчас он покажет им, что такое истинное мастерство. Одним прыжком астролог взлетел на канат и, прикрывши глаза ладонями, проскакал по нему на одной ноге до самого конца, а потом, вернувшись тем же путем, выполнил двадцать семь сальто-мортале, сперва вперед, потом назад.
Толпа зашумела. Все знали, что астролог стар и нетверд на ногах, временами он даже прихрамывал. Сейчас же это был ловкий, сильный человек, выполнявший свои кунштюки с чрезвычайным проворством. Закончив представление, он грациозно соскочил на землю, зашагал прочь и вскоре, завернув за угол, исчез из виду. Тесно сгрудившись, бледные и безмолвные от волнения зрители перевели дух и воззрились один на другого, как бы спрашивая: «Да было ли это? Ну а вы-вы тоже это видели? Или мне снился сон?»
Потом послышался сдержанный говор. По двое, по трое, люди побрели домой. Они перешептывались, хватали друг друга за локоть, жестикулировали, — словом, вели себя так, как бывает при важных, чрезвычайных обстоятельствах.
Мы шли следом за своими отцами, прислушиваясь к их разговору. Когда они сели за стол у нас дома, мы пристроились рядом, Отцы наши были в унынии и считали, что эта вспышка колдовства принесет большую беду деревне. Мой отец напомнил собеседникам, что отец Адольф был поражен немотой в ту самую микнуту, когда хотел заклясть ведьм.
— Ведь еще не было случая, чтобы они покусились на помазанного священнослужителя, — сказал он. — Я и сейчас не пойму, как они осмелились на это. У него на груди висело распятие. Правильно я говорю?
— Конечно! — подтвердили собеседники. — Мы видели собственными глазами.
— Плохо дело, друзья, очень плохо. Бог хранил нас все это время. Но сейчас он оставил нас.
Слушатели задрожали, словно в лихорадке, и повторили:
— Бог оставил нас. Он нас оставил.
— Увы, это так, — сказал отец Сеппи Вольмейера. — Наша гибель неминуема.
— Когда люди поймут, что спасения нет, — сказал судья, отец Николауса, — отчаяние отнимет у них веру и волю. Подходят страшные времена.
Он глубоко вздохнул, а Вольмейер добавил озабоченно:
— Как только по стране побежит слух, что на нашу деревню пал гнев господень, никто к нам больше не поедет. «Золотой олень» перестанет приносить мне доход.
— Да, сосед, — сказал мой отец, — все мы потеряем доброе имя, а кое-кто и деньги. Но еще страшнее, если нас постигнет...
— Что такое?
— Если это случится, тогда — конец.
— Что? Что?
— Папское отлучение![126]
Собеседники замерли, словно сраженные громом. Казалось, они лишатся чувств от отчаяния. Но страх перед грядущим бедствием вернул им силы, и они стали раздумывать, как его избежать. Каждый предлагал свой план спасения, так тянулось до самого вечера. Убедившись, что выхода нет, они расстались с тяжелым сердцем, обуреваемые грустными предчувствиями.
Пока гости прощались с моим отцом, я выскользнул из дома и побежал к Маргет, — узнать, как у нее обстоят дела. Никто из встречных не отвечал мне на поклон. В другое время меня бы это удивило, но не сейчас, Люди были так расстроены и напуганы, что их можно было счесть за помешанных. Бледные, с осунувшимися лицами, бродили они по деревне, словно лунатики, широко раскрыв невидящие глаза, беззвучно шевеля губами и судорожно сжимая и разжимая кулаки.
В доме у Маргет царило отчаяние. Она и Вильгельм Мейдлинг сидели на софе, не говоря ни слова и даже не взявшись за руки, как это было у них в обычае. Оба были сумрачны, глаза у Маргет покраснели от слез. Она сказала мне:
— Я умоляла его покинуть нас и спасти свою жизнь. Я не хочу стать его убийцей. Наш дом проклят, и все, кто в нем живет, погибнут на костре. Но он отказывается уйти. Он хочет умереть вместе с нами.
Вильгельм повторил, что никуда не уйдет. Раз Маргет грозит опасность, он будет рядом с ней до конца. Маргет снова залилась слезами. Это было грустное зрелище, и я пожалел, что не остался дома. Раздался стук, вошел Сатана, красивый, полный сил, искрящийся веселостью, как молодое вино, и сразу переменил у нас настроение, Он ни словом не упомянул ни о том, что произошло за обедом, ни о страхах, терзавших деревню, а стал оживленно болтать о разных пустяках. Потом он перевел разговор на музыку. Это был ловкий ход, и Маргет, позабыв о своем горе, тотчас оживилась и приняла участие в беседе. Ей еще не приходилось встречать никого, кто рассуждал бы о музыке с таким глубоким пониманием, и она была совершенно очарована собеседником. Маргет не умела скрывать свои чувства, личико ее просияло, и Вильгельм Мейдлинг почувствовал себя немного задетым. Сатана стал говорить о поэзии, отлично прочитал несколько стихотворений, и Маргет снова пришла в восторг. Мейдлинг опять почувствовал себя задетым. Маргет заметила перемену в его лице и упрекнула себя за легкомыслие.
Я заснул в этот вечер под славную музыку: капли дождя барабанили в ставни, вдалеке погромыхивал гром. Ночью пришел Сатана, разбудил меня и сказал:
— Вставай! Куда мы отправимся?
— С тобой — куда угодно!
Меня ослепил солнечный свет. Сатана сказал:
— Мы в Китае.
Ничего подобного я не ожидал и был счастлив и горд, что странствую в этих дальних краях. Так далеко никто из нашей деревни не заезжал, даже сам Бартель Шперлинг, который воображает себя великим путешественником. Больше получаса мы парили над империей и осмотрели ее от края до края. Это было удивительное зрелище, многое было прекрасно, многое вызывало ужас. Я мог бы рассказать... впрочем, я сделаю это после и тогда же объясню, почему Сатана выбрал Китай для нашего путешествия. Сейчас это помешает моему повествованию. Насытившись зрелищем, мы прервали полет.
Мы сидели на вершине горы. Под нами расстилался огромный край. Горы, ущелья, долины, луга, реки нежились в солнечном сиянии; в отдалении синело море. Это был тихий, мирный пейзаж, радующий своей красотой и успокаивающий душу. Насколько легче было бы жить в этом мире, если бы мы могли по собственному желанию вдруг перенестись в такое блаженное место. Перемена обстановки гонит прочь усталость духа и тела, словно перекидываешь тяжесть забот с одного плеча на другое.
Мне пришла в голову мысль потолковать с Сатаной о его поступках, уговорить его стать лучше, добрее. Я напомнил ему о том, что он натворил, и просил его не действовать впредь столь опрометчиво и не губить попусту людей. Я не обвинял его в дурных намерениях, а только просил, чтобы он, перед тем как решиться на что-нибудь, помедлил и поразмыслил, не пострадает ли кто-нибудь от его поступка. Ведь если он перестанет действовать легкомысленно и наобум, будет меньше несчастий. Сатана нисколько не обиделся на мою прямоту, но видно было, что я удивил и рассмешил его, Он сказал:
— Почему ты думаешь, что я действую наобум? Я не поступаю так никогда. Ты хочешь, чтобы я помедлил и подумал о том, к чему приведет мой поступок. Мне этого не требуется. Я всегда точно знаю, к чему он приведет.
— Зачем же ты так поступаешь, Сатана?
— Изволь, я отвечу тебе, а ты постарайся понять, если сумеешь. Ты и тебе подобные — единственные в своем роде существа. Каждый человек — машина для страдания и машина для радостей. Эти два механизма соединены сложной системой соответствий и действуют на основе взаимной связи. Как только первый механизм зарегистрировал удовольствие, второй уже готовит вам боль, несчастье, целый ряд несчастий. У большинства людей жизнь складывается так, что радостей и горя приходится поровну. Там же, где такого равновесия нет, преобладает несчастье. Счастье не преобладает никогда. Встречаются люди, устроенные так, что вся их жизнь подчинена механизму страдания. Такой человек от рождения и до смерти совсем не знает счастья. Все служит для него источником страдания, все, что он ни делает, приносит ему боль. Ты, наверно, встречал таких людей? Жизнь для них гибельный дар, Порой за единственный час наслаждения человек платит годами страдания — так он устроен. Разве ты не знаешь об этом? Нужны примеры? Сейчас я тебе их приведу. Что же до жителей вашей деревни, то они для меня просто не существуют. Ты, наверно, это заметил?
Я не хотел быть резким и сказал, что да, у меня складывается такое впечатление.
— Так вот, повторяю: они для меня не существуют. И это вполне естественно. Разница между нами слишком велика. Начать с того, что они лишены разума.
— Лишены разума?
— Да, всякого подобия разума. Когда-нибудь я познакомлю тебя с тем, что человек называет своим разумом, разберу по частям этот хаос, и ты увидишь, что я прав. У меня с людьми нет ничего общего, ни малейшей точки соприкосновения. Их переживания ничтожны и пусты, таковы же их наглые претензии, их тщеславие. Вся их вздорная и нелепая жизнь — не более чем смешок, вздох, гаснущий огонек. Они вовсе лишены чувств, если не считать Нравственного чувства. Сейчас я объясню тебе мою мысль на примере. Вот красный паучок, он не крупнее булавочной головки. Как ты думаешь, может ли слон испытывать к нему интерес, беспокоиться о том, счастлив этот паучок или несчастлив, богат или беден, любит ли его невеста, здорова ли его матушка, пользуется ли он успехом в обществе, справится ли он со своими врагами, поддержат ли его в беде друзья, оправдаются ли его надежды на карьеру, преуспеет ли он на политическом поприще, встретит ли он свой конец в лоне семьи или погибнет одинокий и презираемый всеми на чужбине? Слон никогда не сможет проникнуться этими интересами, они не существуют для него, он не властен сузить себя до их микроскопических размеров. Человек для меня то же, что этот красный паук для слона. Слон ничего не имеет против паука, он с трудом его различает. Я ничего не имею против людей. Слон равнодушен к пауку. Я равнодушен к людям. Слон не возьмет на себя труда вредить пауку, — напротив, если он приметит паука, то, быть может, даже посодействует ему в чем-нибудь, разумеется попутно со своими делами и между прочим. Я не раз помогал людям и никогда не стремился им вредить. Слон живет сто лет, красный паучок один день. Разница между ними в физической силе, в умственной одаренности и в благородстве чувств может быть выражена разве только астрономическими числами. Добавлю, что расстояние между мною и людьми в этом, как и во всем остальном, неизмеримо шире расстояния, отделяющего слона от крохотного паучка.
Разум человека неуклюж. Уныло, с натугой он сопоставляет элементарные факты, чтобы сделать из них вывод, — не станем говорить, каков этот вывод! Мой разум творит! Подумай, что это означает! Мой разум творит мгновенно, творит все, что ни пожелает, творит из ничего. Творит твердое тело, или жидкость, или цвет — любое, что мне захочется, все, что мне захочется — из пустоты, из того, что зовется движением мысли. Человек находит шелковое волокно, потом изобретает машину, которая прядет из него нить, потом задумывает рисунок, потом трудится в течение многих недель, вышивая его шелковой нитью на ткани. Мне достаточно мысленно представить себе все это сразу, и вот гобелен передо мной, я сотворил его,
Я вызываю мысленно к жизни поэму, музыкальное произведение, партию в шахматы — что угодно, — вот я сотворил их! Мой разум — это разум бессмертного существа, для него нет преград. Мой взор проникает всюду, я вижу во тьме, скала для меня прозрачна. Мне не нужно перелистывать книгу, я постигаю заключенное в ней содержание одним взглядом, сквозь переплет; даже через миллион лет я буду помнить ее наизусть и знать, на какой странице что написано. Я вижу, что думает каждый человек, птица, рыба, насекомое; в природе нет ничего скрытого от меня. Я проникаю в мысли ученого и схватываю в одно мгновение все, что он скопил за шестьдесят лет. Он может позабыть это когда-нибудь, и он позабудет, но я буду помнить вечно.
Сейчас я читаю твои мысли и вижу, что ты понял меня. Что же дальше? Допустим, при известных обстоятельствах слону удалось разглядеть паучка, и он почувствовал к нему симпатию. Полюбить его слон, разумеется, не может: любить можно существа своей породы, своих равных. Любовь ангела возвышенна, божественна — человек не в силах даже отдаленно представить ее себе. Ангел может любить ангела. Человек, на которого падет любовь ангела, будет испепелен ею в одно мгновение. Мы не питаем любви к людям, мы снисходительно равнодушны к ним, подчас случается, что они вызывают у нас симпатию. Ты нравишься мне, мне нравятся твои друзья, мне нравится отец Питер. Ради вас я покровительствую жителям вашей деревни.
Он заметил, что я принял его последние слова за насмешку, и решил пояснить их,
— Я приношу добро жителям вашей деревни, хотя с первого взгляда может показаться, что я врежу им. Люди не умеют различать, что идет им на пользу и что — во вред. Они не разбираются в этом, потому что не знают будущего. То, что я делаю для жителей вашей деревни, даст обильные плоды; иные из этих плодов вы вкусите сами, иные предназначены для грядущих поколений. Никто никогда не узнает, что я переменил течение жизни этих людей, но это так. Есть игра, ты не раз играл в нее со своими друзьями. Вы расставляете кирпичи поблизости один от другого. Вы толкаете первый кирпич; он падает на соседний и валит его, тот сбивает еще один, и так далее, и так далее, пока все кирпичи не повалятся на землю. Так устроена и человеческая жизнь. В младенчестве человек толкает первый кирпич. Дальнейшее следует с железной неотвратимостью. Если бы ты читал будущее, как читаю его я, то увидел бы, как и я, все, что случится далее. Порядок человеческой жизни предопределен первым толчком. Никаких неожиданностей в ней не будет, потому что каждый последующий толчок зависит от предыдущего. Тот, кому доступно такое видение, прозревает весь ход человеческой жизни от колыбели до могилы.
— Разве бог не управляет человеческой жизнью?
— Нет, она предопределена заранее средой и обстоятельствами. Первый поступок человека влечет за собой второй и так далее. Представим себе на минуту, что из чьей-то жизни выпал один из таких неизбежных поступков, самый пустячный. Человек должен был в определенный день, в определенный час, в определенную минуту и секунду, — быть может, речь идет о доле секунды, — пойти к колодцу за водой, но он не пошел. Начиная с этого момента жизнь его должна коренным образом перемениться. До самой его кончины она потечет теперь не по тому руслу, которое было предопределено его первым поступком, но по другому. Если бы он пошел к колодцу за водой, то, быть может, это привело бы его к трону. Он не пошел к колодцу — и вот его ждут бедствия и нищета. Возьмем Колумба. Стоило ему, скажем, в детские годы утратить крохотное, ничтожное звено в цепи поступков, начатых и обусловленных первым его поступком, и вся его жизнь сложилась бы по-иному. Он стал бы священником в итальянской деревушке, умер бы в безвестности, и открытие Америки было бы отсрочено еще на двести лет. Я знаю это наверняка. Не сверши Колумб хоть одного из миллиарда положенных ему поступков, судьба его переменилась бы. Я рассмотрел миллиард жизненных линий Колумба, и только в одной-единственной из них значится открытие Америки. Люди не понимают, что любой их поступок, крупный или мелкий, все равно одинаково важен в их жизни. Поймать муху, которую вам предназначено поймать, может оказаться не менее существенным для вашей дальнейшей судьбы, чем, скажем...
— Чем покорить царство?
— Да, именно так. Практически, конечно, человек не волен отказаться от поступка, который ему предназначено совершить, этого никогда не бывает. Когда ему кажется, будто он принимает решение, как ему поступить, так или же иначе, то колебания эти составляют в свою очередь звено той же цепи, и решение, которое человек примет, заранее обусловлено. Человек не может порвать свою цепь. Это исключено. Скажу больше, если он задастся подобным намерением, то и это намерение окажется звеном все той же цепи — оно неизбежно должно было зародиться у него в определенный момент, как следствие определенных поступков, относящихся еще к его младенчеству.
Я был подавлен картиной, которую набросал передо мной Сатана.
— Человек осужден на пожизненное заключение, — сказал я грустно, — и не может вырваться на свободу.
— Да, он не в силах освободиться от следствий первого поступка, совершенного им в младенчестве. Но я в силах освободить его.
Я поглядел на Сатану вопросительно.
— Я уже переменил судьбу нескольких человек в вашей деревне.
Я решил было поблагодарить Сатану, но потом подумал, что благодарить не за что, и промолчал.
— Я хочу переменить еще несколько судеб. Ты знаешь маленькую Лизу Брандт?
— Конечно, кто же ее не знает? Моя мама всегда твердит, что такой красивой и ласковой девочки еще не рождалось на свет. Она говорит, что Лиза, когда вырастет, станет гордостью нашей деревни, и все будут так же любить ее, как и сейчас.
— Я изменю судьбу этой девочки.
— Сделаешь Лизу еще счастливее?
— Да. Я переменю также судьбу Николауса.
Тут я обрадовался по-настоящему и сказал:
— Думаю, что за Николауса просить не надо. Для него ты уж постараешься.
— Разумеется.
Фантазия у меня заработала, и я стал рисовать себе славное будущее Ника: он будет знаменитым генералом и гофмейстером двора. Тут я заметил, что Сатана ждет, когда я закончу свои размышления, и мне стало неловко, что он прочел мои незамысловатые мечты. Я ждал насмешек, но он продолжал свою речь:
— Нику суждено прожить Шестьдесят два года.
— Отлично! — сказал я.
— Лизе — тридцать шесть. Я уже сказал тебе, что решил переменить линию их жизни. Через две минуты и пятнадцать секунд Николаус проснется и услышит, что дождь хлещет в открытое окно. По тому плану жизни, который ему предопределен, он должен был повернуться на другой бок и снова уснуть. Но я заставлю его встать и затворить окно. Эта пустяковая перемена изменит всю его жизнь. Утром он проснется на две минуты позже, чем ему следовало, и ничто из того, что должно было с ним случиться, уже не произойдет.
Сатана вынул часы, поглядел на них, потом сказал:
— Николаус встал с постели и затворил окно. Прежний ход его жизни прервался, начался новый. Это не останется без важных последствий.
Слова Сатаны звучали таинственно, по спине у меня побежали мурашки.
— То, что случилось сейчас, переменит события, которым назначено было случиться через двенадцать дней. Николаус должен был спасти тонущую Лизу. Он прибежал бы к берегу реки к четырем минутам одиннадцатого — секунда в секунду, это давно было определено, — и тогда он легко вытащил бы девочку из воды, плыть ему было бы недалеко. Но теперь он опоздает на несколько секунд, Лизу унесет течением на глубокое место, и, несмотря на все усилия Николауса, оба они утонут.
— Сатана, дорогой Сатана! — вскричал я, заливаясь слезами. — Спаси их! Не надо этого! Я не перенесу смерти Николауса. Он мой любимый товарищ, мой друг. Что станется с матерью Лизы?
Прильнув к нему, я продолжал свои мольбы, но он остался невозмутим. Он усадил меня на прежнее место и просил выслушать его до конца.
— Я нарушил ход жизни Николауса — и этим нарушил ход жизни Лизы. Если бы я не вмешался, Николаус спас бы Лизу, но захворал бы от купания в ледяной воде. Простуда перешла бы в одну из гибельных горячек, которым подвержен ваш род, и последствия были бы ужасны. Николаусу предстояло пролежать сорок шесть лет прикованным к постели, без движения, без слуха, без речи, с одной лишь мечтой — поскорее умереть. Хочешь ты, чтобы я отменил то, что свершилось?
— Нет, нет, ни за что! Пожалей его, пусть будет так, как ты сделал!
— Ты прав. Лучше, чем я сделал, сделать нельзя. Я перебрал миллиард жизненных линий Николауса, но все они были ужасны, полны несчастий и горя. Если бы я не вмешался, через двенадцать дней он спас бы Лизу, потратил бы на это шесть минут и получил бы в благодарность за свой геройский поступок сорок шесть лет мук и страданий. Когда я говорил тебе недавно, что поступок, который приносит человеку час радости и довольства собой, нередко вознаграждается — или наказывается, называй как хочешь — многими годами страдания, я думал о Николаусе.
Мысленно я задал вопрос, от каких же бед должна спасти Лизу ее ранняя кончина? Сатана ответил на мою мысль:
— Ей предстояло мучиться десять лет, медленно оправляясь от случайного увечья. После этого ее ждали девятнадцать лет позорной, грязной и преступной жизни и смерть от руки палача. Через двенадцать дней она умрет. Ее мать отдала бы все на свете, чтобы спасти ее. Разве я не добрее ее матери?
— О да! И добрее и мудрее.
— Приближается суд над отцом Питером. Он будет оправдан. Суд получит твердые доказательства его невиновности,
— Но каким же образом? Ты уверен в этом?
— Я знаю это наверняка. Его доброе имя будет восстановлено, и остаток жизни он проживет счастливо.
— Ты прав. Если его доброе имя будет восстановлено, он будет счастлив.
— Он будет счастлив, но по другой причине. Когда суд вынесет ему оправдательный приговор, я переменю линию его жизни ради его же блага. Он никогда не узнает, что его доброе имя восстановлено.
Я робко подумал, что хорошо бы поточнее узнать, что произойдет с отцом Питером, но Сатана не обратил на мои мысли никакого внимания. Потом я подумал об астрологе. Он-то куда же девался?
— Я отправил его на луну, — ответил Сатана со странным смешком. — На неосвещенную сторону луны. Он никак не может понять, куда попал, и ему там не так уж весело, но я считаю, что лучшего места для наблюдения за звездами не найти. Скоро он мне понадобится. Тогда я доставлю его назад и еще раз воплощусь в него. У астролога впереди долгая жизнь, исполненная преступлений и мерзостей. Но я не питаю к нему зла и даже готов сделать ему одолжение. Пожалуй, я переменю линию его жизни, и его сожгут на костре.
У Сатаны были самые странные представления о том, как сделать человеку одолжение. Но он был ангел, разве ангелу это растолкуешь! Ангелы ничуть не похожи на нас и ни во что нас не ставят. Мы кажемся им чудаками. А к чему Сатане вздумалось закинуть астролога в такую даль? С тем же успехом он мог держать его под рукой где-нибудь в Германии.
— В такую даль? — спросил Сатана. — Для меня не существует дали, для меня все одинаково близко. Солнце находится от нас на расстоянии около ста миллионов миль, и свет, освещающий землю, дошел оттуда за восемь минут. Я же могу пройти это расстояние, как и любое другое, за столь малое мгновение, что его не уследишь на часах. Мне довольно пожелать этого, и мой полет совершен.
Я протянул к нему раскрытую ладонь.
— Свет падает мне на руку. Сатана, обрати его в стакан с вином!
Он сделал это. Я осушил стакан.
— Разбей его, — сказал он.
Я разбил стакан.
— Ты видишь — он из стекла. Жители вашей деревни боялись дотронуться до медных шаров, думали, что они колдовские и исчезнут как дым. Какие вы странные существа — род человеческий. Впрочем, довольно об этом. Я тороплюсь. Давай уложим тебя снова в постель.
Я лежал в постели. Сатана исчез. Потом я услышал его голос, донесшийся откуда-то из тьмы, сквозь шум дождя.
— Да, Сеппи можешь об этом рассказать, но больше никому.
Это был ответ на то, о чем я думал.
Глава VIII
Я лежал без сна. Мысли мои были не о том, что я побывал на краю света, в Китае, и вправе теперь посмеиваться над Бартелем Шперлингом, который, после того как один-единственный раз съездил в Вену, возомнил себя великим путешественником и смотрел свысока на остальных эзельдорфских мальчишек, не повидавших, подобно ему, широкого мира. В другое время эта мысль, быть может, и лишила бы меня сна, но сейчас она меня ничуть не занимала. Я думал о Николаусе. Все мои помыслы были о нем. Я вспоминал, сколько беззаботных деньков провели мы с ним вместе, как мы играли и резвились в лесу, в полях, у реки в долгие летние дни, как бегали на коньках и катались на санках зимой, убежав с уроков. И вот он должен распрощаться со своей молодой жизнью. Снова наступит лето, снова придет зима, мы, как и прежде, будем бродить по лесу, затевать игры, а Николауса уже не будет с нами, Николауса мы больше не увидим. Завтра я его встречу, он еще ничего не знает, он такой же, как всегда, а мне уже тяжко будет слышать его смех и глядеть, как он веселится и дурачится, потому что для меня он уже мертвец в саване, с восковыми пальцами и остекленевшим взором. Пройдет день, он по-прежнему ни о чем не будет подозревать, потом другой день и третий, эта ничтожная горстка дней тает, тает, а страшный конец неуклонно приближается, словно поступь судьбы. И никто не будет об этом знать — только Сеппи да я. Двенадцать дней, всего двенадцать дней! Подумать об этом — и то страшно. Я заметил, что даже мысленно называю его не как обычно — Ник или Ники, а уважительно — Николаус, как принято называть умерших. Одну за другой я вспомнил все ссоры, какие были у нас с ним за долгие годы нашей дружбы, и убедился, что почти всегда я был несправедлив к нему и обижал его. Мне горько было это сознавать, и сердце у меня терзалось раскаянием, как это бывает, когда вспоминаешь, что поступил дурно с человеком, которого уже нет на свете, и уже никакими силами нельзя даже на минуту вернуть его к жизни, стать на колени и взмолиться: «Сжалься, прости меня!»
Однажды — мы были еще девятилетними мальчуганами — торговец фруктами послал Николауса с каким-то поручением почти что за две мили от деревни и дал ему в награду большое вкусное яблоко. Я встретил его, когда он шел домой с этим яблоком, сам не свой от изумления и радости. Я попросил у него яблоко, будто бы так, полюбоваться, и он, не подозревая коварства, дал мне его. Я побежал прочь, обгрызая яблоко на ходу, а Николаус за мной, умоляя: «Отдай, отдай!» Когда он догнал меня, я сунул ему огрызок и стал смеяться над ним. Он отвернулся и пробормотал сквозь слезы, что хотел отнести яблоко сестренке. Я понял, что поступил нехорошо: сестренка его выздоравливала после долгой болезни, и ему, конечно, хотелось сделать ей сюрприз и насладиться ее радостью. Но мне было очень стыдно признать, что я поступил дурно, и вместо того, чтобы попросить прощения, я сказал ему что-то обидное и грубое, хотел показать свое молодечество. Николаус ничего не ответил, но, когда он повернул к дому, я увидел по выражению его лица, как мучительно он страдает. Много раз по ночам вставало передо мной это страдальческое лицо, и я испытывал стыд и раскаяние. Постепенно это чувство ослабевало, потом исчезло совсем, но сейчас оно снова владело мной и терзало меня.
Другой раз, это было в школе, и нам было уже по одиннадцати лет, я опрокинул чернильницу и залил четыре тетради. Мне грозило суровое наказание. Но я свалил все на Николауса, и порка досталась ему.
И, наконец, совсем недавно, в прошлом году, я обманул его, когда мы менялись рыболовными крючками. Я всучил ему большой крючок с надломом, а взял три маленьких, совсем новых. Крючок у него сломался в первый же раз, как он вытащил рыбу, но он не подозревал, что я обманул его, и когда я, со стыда, хотел вернуть ему один из его крючков, он не захотел этого и сказал:
«Мена есть мена. Кто же виноват, что крючок сломался?»
Да, сон не шел. Мучительное воспоминание об этих мелких подлостях не покидало меня, и думать о них было больнее, чем обычно, когда речь идет о живых людях. Николаус был еще жив, но для меня он был мертвым. Ветер по-прежнему стонал в ставнях, дождь барабанил в стекла.
Утром я нашел Сеппи и рассказал ему обо всем. Мы стояли на берегу реки. Сеппи сильно побледнел, губы у него дрогнули, но он ничего не сказал; мои слова словно оглушили его, Так он стоял несколько мгновений, потом слезы брызнули у него из глаз, и он отвернулся. Я взял его крепко под руку, и мы пошли вместе, думая об одном и том же, но не говоря ни слова. Пройдя мост, мы спустились в долину, потом поднялись на лесистые холмы и только там обрели дар речи. Мы говорили о Николаусе и вспоминали нашу дружбу. Сеппи не переставая твердил, словно обращаясь к самому себе:
— Двенадцать дней! Меньше двенадцати дней!
Мы решили, что все оставшееся время будем проводить с Николаусом. Мы должны насладиться его дружбой. Каждый час был на счету. Но сейчас у нас не хватало духу пойти к нему. Нам было жутко — ведь это все равно что увидеть мертвеца. Сказать об этом вслух мы не решались, но думали именно так. Поэтому мы оба вздрогнули, когда за поворотом дороги столкнулись лицом к лицу с Николаусом. Он весело закричал.
— Ну-ну! Что это у вас такие кислые физиономии? Уж не повстречали ли вы призрака?
Мы не могли вымолвить ни слова в ответ, — по счастью, в этом не было нужды, Николаус был готов говорить за троих. Он только что виделся с Сатаной и все еще ликовал после беседы с ним. Сатана рассказал ему о нашем полете в Китай, Николаус попросил взять его тоже в какое-нибудь путешествие, и Сатана обещал ему это, сказал, что возьмет его с собой в далекое путешествие, увлекательное и прекрасное. Николаус просил его, чтобы он и нас взял, но Сатана сказал, что сейчас это невозможно; а придет время, отправимся путешествовать и мы, Сатана обещал прийти за ним 13-го, и Николаус с нетерпением считал часы, оставшиеся до этого дня.
Это было то самое роковое число. Мы тоже считали оставшиеся часы. В тот день мы прошагали втроем не одну милю, выбирая излюбленные тропинки, знакомые нам еще с детства, и все время напоминая один другому разные случаи из нашей дружбы. Веселился, впрочем, один Николаус; мы с Сеппи ни на минуту не могли забыть мучившую нас страшную тайну. Мы старались обходиться с нашим другом как можно бережнее и внимательнее, старались показать ему, как мы любим его, и ему это было очень приятно. Мы все время старались оказать ему какую-нибудь услугу, маленькое одолжение, и это тоже его радовало. Я отдал ему семь рыболовных крючков, все мое достояние, и уговорил его принять их в подарок, а Сеппи подарил ему новенький перочинный нож и желто-красный волчок. (Сеппи признался мне после, что недавно надул Николауса при обмене и теперь хотел искупить свою вину, хоть Николаус и не помнил зла.) Сейчас он наслаждался нашим вниманием и был счастлив, что у него такие верные друзья. Его нежность к нам и благодарность заставляли нас страдать, мы чувствовали себя недостойными такой дружбы. Расставаясь с нами, Николаус сиял от восторга и говорил, что никогда в жизни не был так счастлив.
По дороге домой Сеппи сказал мне:
— Мы всегда любили Николауса, но разве мы дорожили им так, как сейчас, когда теряем его?
На другой день и все следующие дни мы старались проводить каждую свободную минуту с Николаусом. Чтобы подольше побыть вместе, мы трое всеми правдами и неправдами увиливали от наших домашних обязанностей. Родители бранили нас и грозились наказать. Просыпаясь каждое утро, мы с Сеппи дрожали от ужаса и твердили? «Осталось десять дней. Осталось только девять дней. Осталось восемь дней. Осталось семь». Дни убывали один за другим, а Николаус был весел и беспечен и не мог понять, почему мы грустны.
Он пускался на всевозможные выдумки, чтобы развлечь нас, но большого успеха не имел. Наша веселость была принужденной, наш смех замирал, словно что-то глушило его изнутри, и переходил в печальные вздохи. Тогда он стал расспрашивать нас, почему мы грустны, и говорил, что хочет помочь нам или хотя бы облегчить наше горе дружеским участием, и нам приходилось лгать, чтобы успокоить его.
Больше всего нас ужасало, когда Николаус назначал что-либо на будущее, часто переступая в своих планах роковое 13-е число. Всякий раз мы при этом внутренне содрогались. Его не оставляла мысль развлечь нас и вывести из уныния, и наконец, когда ему оставалось жить всего три дня, он сказал нам радостно, что придумал замечательную штуку. На 14-е он назначает пикник и танцы для девочек и мальчиков со всей деревни на том самом месте в лесу, где мы впервые встретили Сатану. Мы слушали нашего друга с отчаянием. Ведь 14-го его должны хоронить! Сказать, что мы не согласны, было нельзя. Он, конечно, захочет узнать почему, а мы ничего не сумеем ответить. Он попросил нас помочь ему созвать гостей, и мы согласились, разве можно отказать в чем-нибудь умирающему другу? Но это было ужасно, ведь мы приглашали гостей на его похороны!
Какими страшными были эти одиннадцать дней! Но сейчас, когда меня отделяет от того времени целая прожитая жизнь, я вспоминаю о них с благодарностью и умилением. Ведь это были дни близости с умершим другом, и с той поры я никогда уже не испытывал дружбы, которая была бы такой тесной и нежной. Мы считали каждый час, каждую минуту ускользающего времени и цеплялись за них с той страстью и отчаянием, какие испытывает скупец, когда разбойники расхищают его богатства червонец за червонцем, а он не в силах им помешать.
В последний вечер мы задержались дольше обыкновенного. Вина была наша, мы медлили расстаться с Николаусом, и когда наконец простились с ним у дверей его дома, час был поздний. Мы помедлили у двери, когда он ушел, и услышали то, чего опасались. Отец Николауса, уже не раз грозивший ему наказанием, жестоко избил его, и мы услышали, как он заплакал. Мы пошли домой с раскаянием в душе, сокрушаясь, что это случилось по нашей вине. Мы жалели не только Николауса, жалели и его отца. Мы думали: «Если бы он знал... если бы он только знал...»
Утром Николаус не пришел на условленное место, и мы отправились к нему домой, чтобы узнать, что произошло. Его мать сказала нам:
— Отец потерял терпение, говорит, что с него хватит. Когда Ники ни кликнешь, его нет дома, а потом оказывается, что он где-то пропадал с вами двумя. Вчера вечером отец отлупил его. Я всегда жалею Ники и много раз спасала его от норки, но на этот раз не стала заступаться, потому что сама на него сержусь.
— Ах, если бы вы заступились за Ники в этот раз! — сказал я дрожащим голосом. — Может быть, это принесло бы вам утешение.
Разговаривая, мать Николауса гладила белье и стояла к нам спиной. Сейчас она обернулась с удивленным и обеспокоенным видом и спросила:
— Что это ты такое говоришь?
Я был застигнут врасплох. Она глядела на меня в упор, а я не знал, как объяснить ей мои слова. Мне на выручку пришел находчивый Сеппи:
— Конечно, вам было бы приятно вспоминать об этом. Вчера Николаус как раз рассказывал нам о том, как вы всегда заступаетесь за него, — вот мы и задержались. Он говорил, что отцу ни за что не удается отлупить его, пока вы рядом. Он так интересно об этом рассказывал, а мы с таким интересом слушали, что совсем позабыли про поздний час.
— Значит, он вам рассказывал об этом, правда? — промолвила она, вытирая глаза уголком фартука.
— Спросите Теодора, он вам то же скажет.
— Мой Ники хороший, добрый мальчик, — сказала она. — Ах, зачем я позволила отцу высечь его. Никогда больше не допущу этого. Подумать только, я-то сержусь и браню его, а он весь вечер расхваливает меня перед своими друзьями. Боже мой, если бы знать все заранее! Тогда мы не ошибались бы так, а то бродим впотьмах и спотыкаемся, словно скоты неразумные. Теперь я никогда не смогу вспоминать этот вечер без сердечной боли.
Она была такая же, как все остальные. В эти несчастные дни никто, казалось, не мог раскрыть рта, чтобы не выпалить что-нибудь, от чего нас охватывал трепет. Да, они «бродили впотьмах» и не понимали к тому же, какие грустные истины они изрекали.
Сеппи спросил, нельзя ли Николаусу пойти с нами погулять.
— К сожалению, нет, — отвечала она. — Отец велел держать его взаперти, чтобы он сильнее почувствовал, что наказан.
Мы переглянулись. Это был шанс на спасение. Если Николауса не выпустят из дому, он не утонет. Для верности Сеппи спросил:
— Он просидит дома только утро, сударыня, или весь день до вечера?
— Весь день. По правде сказать, обидно, погода — такая хорошая, а ему непривычно сидеть взаперти. Но он сейчас занялся подготовкой к пикнику, это должно его развлечь. Надеюсь, он не очень будет скучать.
Что-то в выражении ее лица придало Сеппи храбрости, и он спросил, нельзя ли нам подняться к Николаусу и составить ему компанию.
— Вот и молодцы! — сказала она сердечно. — Вы настоящие друзья, если готовы отказаться ради него от веселой прогулки. Хоть иной раз я вас и браню, мальчики, но сердце у вас доброе. Возьмите-ка себе по пирожку, а этот отдайте Ники, скажите — мама посылает.
Первое, что бросилось нам в глаза, когда мы вошли в комнату Николауса, были стенные часы. Они показывали без четверти десять. Возможно ли, что ему оставалось так мало жить? Сердце у меня сжалось. Николаус подпрыгнул от радости и кинулся обнимать нас. Он не скучал, готовился к пикнику и был в самом лучшем настроении.
— Садитесь, — сказал он, — я вам кое-что покажу. Я смастерил такого змея, вы просто ахнете. Он сушится на кухне. Сейчас притащу.
На столе были расставлены всякие заманчивые вещички. Это были призы, которые Николаус приготовил для пикника. На покупку их он потратил все сбережения из копилки. Уходя, он сказал:
— Вот, любуйтесь, а я схожу на кухню, попрошу маму прогладить змея утюгом, чтобы он скорее сох.
Он выскочил за дверь и, насвистывая, побежал вниз по лестнице.
Мы не стали рассматривать призы. Нас ничто не занимало сейчас, кроме движения стрелок на циферблате. Молча мы вслушивались в тиканье часов, и каждый раз, как минутная стрелка передвигалась на деление вперед, мы согласно качали головой — проиграна одна минута в состязании жизни со смертью.
Глубоко вздохнув, Сеппи сказал:
— До десяти — две минуты. Через семь минут, Теодор, зона смерти останется позади. Он будет спасен. Он...
— Тсс! Я как на иголках. Следи за стрелкой и молчи.
Прошло пять минут. Мы задыхались от волнения и страха. Еще три минуты. На лестнице послышались шаги.
— Он спасен!
Мы вскочили и ринулись к двери.
Вошла мать Николауса со змеем в руках.
— Вот это змей так змей! — сказала она. — А сколько он трудился над ним! Начал на рассвете, а кончил перед самым вашим приходом.
Она прислонила змея к стене и отступила на несколько шагов, чтобы лучше рассмотреть его.
— Ники сам его расписал и, по-моему, на славу. Церковь, правда, получилась не очень хороша, но взгляните на мост, каждый скажет, что это наш мост. Он велел мне принести змея сюда. Боже ты мой, уже семь минут одиннадцатого, а я-то здесь с вами!
— Где он?
— Он? Сейчас вернется. Вышел на минутку.
— Вышел?!
— Да. К нам зашла мать маленькой Лизы и говорит, что ее дочурка куда-то запропастилась и она сильно волнуется. Я и говорю Николаусу: «Хоть отец и запретил тебе выходить из дому, сбегай все-таки поищи Лизу...» Да что с вами, почему вы такие бледные? Вы оба больны, наверно. Сядьте, я сейчас принесу вам лекарство. Наверно, это от пирожков. Тесто тяжеловато, но я думала, что...
Она исчезла, не закончив фразы, а мы ринулись к окошку, которое выходило на реку. На дальнем конце моста стояла толпа, народ сбегался со всех сторон.
— Все кончено! Бедный Николаус! Ах, зачем она выпустила его из дому!
— Уйдем, — сказал Сеппи, подавляя рыдания. — Скорее уйдем, я не в силах больше видеть ее. Через пять минут она все узнает.
Но уйти нам не удалось. Когда мы сбегали с лестницы, мать Николауса встретила нас с пузырьком в руках и заставила сесть и принять лекарство. Потом ей захотелось проверить, помогли ли ее капли. Убедившись, что нам не стало лучше, она запретила нам уходить, а сама все бранила себя, что угостила нас плохо пропеченными пирожками.
Наконец настал миг, которого мы страшились. За дверью послышался шум и топот, и люди с обнаженными головами торжественно внесли в дом и положили на кровать два мертвых тела.
— О господи! — вскрикнула несчастная мать. Рухнув на колени, она обняла своего мертвого сына и стала осыпать поцелуями его мокрое лицо. — Это я, я виновата во всем, я погубила его! Если бы я не нарушила запрета и не выпустила его из дому, с ним ничего бы не случилось. Я наказана по заслугам, я жестоко поступила с ним вчера вечером, когда он просил меня, свою мать, заступиться за него.
Она рыдала и причитала, и все женщины рыдали, жалея ее и стараясь ее утешить, но она не слушала утешений и только твердила, что никогда не простит себе своего поступка, что, если бы она не выпустила его из дому, он был бы жив и здоров, что она погубила его.
Все это показывает, как неразумны люди, когда упрекают себя за что-либо, что они совершили. Сатана сказал, что в жизни человека не случается ничего, что не было бы предопределено самым первым его поступком, и что человек не в силах нарушить предусмотренный ход своей жизни или повлиять на него.
Но вот послышался пронзительный вопль. Неистово расталкивая толпу, в дом вбежала фрау Брандт, простоволосая, полуодетая, и, бросившись к своей мертвой дочери, стала осыпать ее поцелуями и ласками, стеная и бормоча несвязные мольбы. Истощив свое отчаяние, она поднялась, на ее залитом слезами лице вспыхнуло ожесточенное и гневное выражение. Грозя небу сжатым кулаком, она промолвила:
— Скоро две недели, как меня мучают сны и предчувствия. Я знала, что ты хочешь отнять у меня самое дорогое. Ночи и дни, дни и ночи я пресмыкалась перед тобой, молила тебя пожалеть невинное дитя... И вот ответ на мои мольбы!
Она ведь не знала, что девочка спасена, она не знала об этом.
Фрау Брандт осушила глаза, отерла слезы со щек и стояла как вкопанная, продолжая ласкать щечки и локоны девочки и не сводя с нее взора. Потом она сказала все так же горестно:
— В его жестоком сердце нет сострадания. С сегодняшнего дня я не молюсь богу.
Она взяла на руки свое мертвое дитя и пошла прочь. Толпа шарахнулась в стороны, чтобы пропустить ее. Все были напуганы тем, что она сказала.
Бедная женщина! Сатана прав, мы не знаем, где нас ждет счастье, где несчастье, и не умеем отличать одно от другого. Не раз с той поры мне приходилось слышать, как люди молили бога сохранить жизнь умирающему. Я не делаю этого никогда.
Утопленников отпевали на другой день в нашей маленькой церкви. На панихиду собралась вся деревня, в том числе и те, кто был приглашен на пикник. Пришел и Сатана, это было вполне естественно: если бы не он, не было бы и панихиды. Николаус умер без покаяния, и пришлось объявить сбор пожертвований на заупокойные службы, чтобы выручить его из чистилища. Удалось собрать лишь две трети нужных денег, и родители Николауса уже решили обратиться к ростовщику, когда появился Сатана и внес нехватаюшую треть. Он сказал нам по секрету, что никакого чистилища не существует и что он дал денег просто для того, чтобы родители Николауса и их друзья не горевали и не расстраивались зря. Мы восхитились его поступком, но он возразил нам, что деньги для него ничего не значат.
На кладбище плотник, которому фрау Брандт уже год была должна пятьдесят зильбергрошей, отобрал у нее гроб с мертвой дочерью вместо залога. Фрау Брандт не возвращала долга, потому что ей нечем было платить, не было у нее денег и сейчас. Плотник унес гроб домой и четверо суток держал его у себя в погребе. Мать сидела все это время у порога его дома и просила пожалеть ее. Наконец он закопал гроб без церковных обрядов на скотном дворе у своего брата. Мать Лизы почти помешалась с горя и стыда. Она забросила свое хозяйство и бродила по городу, проклиная плотника и кощунственно понося законы империи и святой церкви. Жалко было на нее смотреть. Сеппи просил Сатану, чтобы он вмешался в это дело, но Сатана возразил, что плотник и все, кто его поддерживает, — существа человеческого рода и поступают в точности так, как свойственно этому классу животных. Если бы так поступила лошадь, он непременно бы вмешался. В случае если какая-нибудь лошадь позволит себе подобный человеческий поступок, он просит нас немедленно сообщить ему, чтобы он мог вмешаться. Это, конечно, было насмешкой с его стороны. Где же найдешь такую лошадь?
Через несколько дней мы почувствовали, что не можем больше терпеть отчаяния фрау Брандт, и снова попросили Сатану, чтобы он рассмотрел другие линии ее жизни и выбрал какую-нибудь не столь жестокую. Он сказал, что самая продолжительная линия ее жизни тянется еще сорок два года, а самая короткая — двадцать девять лет, но что обе они полны горя, страданий, болезней и нищеты. Единственное, что в его силах, это задержать ход ее жизни на три минуты и переменить его направление. Если мы согласны, он готов это сделать. Решать надо немедленно. Нас с Сеппи раздирали сомнения и нерешительность. Мы не успели еще расспросить Сатану о подробностях, как он сказал, что больше нельзя ждать, да или нет, — и мы крикнули:
— Да!
— Вот и все! — сказал он. — Она должна была повернуть за угол. Я задержал ее. Это переменит ее жизненный путь.
— Что же с ней теперь произойдет?
— То, что должно произойти, уже происходит. Вот она встретила ткача Фишера и повздорила с ним. Теперь Фишер обозлился и задумал отомстить ей; он не решился бы на это, если бы не теперешняя ссора. Фишер был при том, как фрау Брандт произнесла свои кощунственные слова над телом мертвой дочери.
— Что же он теперь сделает?
— Он уже сделал это. Он подает на нее донос. Через три дня ее сожгут на костре.
Мы оледенели от ужаса. Язык не повиновался нам. Мы навлекли на фрау Брандт эту страшную судьбу, вмешавшись в ее жизнь! Сатана прочел наши мысли и сказал:
— Вы рассуждаете, как свойственно людям, — иными словами, неразумно. Я осчастливил эту женщину. Когда бы она ни умерла, ей все равно суждено попасть в рай. Теперь срок ее блаженства в раю увеличится на двадцать девять лет, и на столько же лет сократятся ее страдания в этой жизни.
Только что мы с Сеппи решили никогда больше не просить Сатану помогать нашим друзьям: ведь он считает, что оказывает человеку услугу, убивая его! Но сейчас, после его разъяснения, мы стали думать по- другому, были довольны своим поступком и даже гордились им.
Немного погодя я вспомнил о Фишере и робко спросил Сатану:
— А как с Фишером? Его поступок тоже изменит линию его жизни?
— Конечно, коренным образом. Если бы не эта встреча с фрау Брандт, он умер бы в будущем году тридцати четырех лет от роду. А теперь он проживет до девяноста, будет богат и вообще, по вашим понятиям, счастлив.
Мы снова обрадовались и даже возгордились тем, что сделали для Фишера, и ожидали, что Сатана разделит наши чувства. Однако он оставался холоден. Мы с беспокойством ждали, что он скажет, но он по-прежнему молчал. Тогда, снедаемые тревогой, мы спросили, нет ли какой тени в счастливой судьбе Фишера. Сатана задумался, потом ответил:
— Видите ли, это не такой простой вопрос. Если бы все осталось по-старому, он попал бы после смерти в рай.
Мы остолбенели.
— А сейчас?
— Не отчаивайтесь. Ведь вы не хотели ему зла. Пусть это утешит вас.
— Боже мой! Как это может нас утешить? Ты должен был сказать нам обо всем заранее.
Наши слова не оказали на него никакого действия. Он не способен был почувствовать боль или страдание, не мог по-настоящему понять, что это такое. Он рисовал их себе отвлеченно, с помощью рассудка. А так не годится. Пока не хлебнешь горя сам, всегда будешь судить о чужом горе приблизительно и неверно. Напрасно мы старались втолковать ему, как ужасно то, что произошло, и как дурно поступили мы, причинив Фишеру это зло. Он отвечал, что не видит большой разницы, попадет ли Фишер в рай или в ад, что в раю по нем плакать не будут, там таких Фишеров хоть отбавляй. Мы старались объяснить Сатане, что он не должен брать на себя решение этого вопроса, что Фишер сам вправе судить, что для него лучше и что хуже. Но наши уговоры пропали впустую. Сатана ответил, что не станет обременять себя заботами о всех Фишерах на свете.
В эту минуту на другом конце улицы показался Фишер. Я едва устоял на ногах, когда подумал, какая судьба ждет его по нашей вине, А Фишер даже не подозревал, что с ним приключилось что-либо худое. Он шагал энергичным, упругим шагом, как видно — очень довольный тем, что ему удалось погубить фрау Брандт, и то и дело с нетерпением оглядывался через плечо. Наконец он увидел то, чего ждал. Стражники вели по улице фрау Брандт, закованную в цепи. За ней бежала толпа зевак, которые оскорбляли ее и кричали: «Богохульница! Еретичка!» Некоторые из преследователей подбегали поближе, чтобы ударить ее, и стража, которая должна была отгонять их, делала вид, будто ничего не замечает.
— Прогони их! Прогони! — закричали мы Сатане, позабыв в эту минуту, что всякое его вмешательство в действия людей меняет их судьбу. Он слегка дунул, и преследователи фрау Брандт зашатались, стали вдруг спотыкаться и размахивать руками, словно хватаясь за воздух. Потом они побежали кто куда, крича от невыносимой боли. Дунув, Сатана сокрушил каждому из них по ребру. Мы спросили его, не переменил ли он линию их жизни.
— Конечно. Одни из них проживут больше, другие — меньше. Некоторые выгадают от перемены, но большинство прогадает.
Мы не стали спрашивать, не ожидает ли кого-нибудь из этих людей судьба Фишера. Лучше было не спрашивать. Ни я, ни Сеппи не сомневались, что Сатана хочет нам помочь, но нас все сильнее стали смущать его приговоры. До того мы хотели просить его познакомиться с нашей линией жизни и посмотреть, нельзя ли ее улучшить. Теперь мы отказались от этой мысли и решили не говорить с ним совсем на подобные темы.
День или два в деревне только и было толков, что об аресте фрау Брандт и о таинственной каре, постигшей ее мучителей. Зал суда ломился от публики. Исход дела был предрешен, потому что фрау Брандт повторила на суде все свои прежние кощунственные речи и отказалась взять их назад. Когда ей пригрозили смертной казнью, она сказала, что будет рада смерти и предпочитает жить с настоящими дьяволами в аду, чем с их жалкими подражателями в нашей деревне. Ее обвинили в том, что она сокрушила ребра своим преследователям с помощью колдовских чар, и спросили, не ведьма ли она. Она отвечала с презрением:
— Неужели вы думаете, жалкие святоши, что остались бы в живых, если бы я обладала колдовской силой? Я убила бы вас на месте. Выносите свой приговор и оставьте меня в покое. Вы мне отвратительны.
Суд вынес обвинительный приговор. Фрау Брандт отлучили от церкви, лишили райского блаженства и обрекли на муки ада. Потом на нее надели балахон из грубого холста, передали светским властям и под мерный звон колокола повели на рыночную площадь. Мы видели, как ее приковали к столбу и как первый, не колеблемый ветром голубой дымок поднялся вверх. Гневное выражение на ее лице сменилось ласковым и умиротворенным, она оглядела собравшуюся толпу зрителей и негромко сказала:
— Когда-то, давно-давно, мы с вами были невинными крошками и играли вместе. Во имя этих светлых воспоминаний я прощаю вас.
Мы ушли с площади, чтобы не видеть, как сожгут фрау Брандт, но слышали ее крики, хоть и заткнули уши пальцами. Но вот крики стихли, — значит, она уже в раю, пусть и отлученная от церкви. Мы были рады, что она умерла, и не жалели, что были причиной этого.
Прошло несколько дней, и Сатана появился снова. Мы всегда ждали его с нетерпением, с ним жизнь была веселее. Он подошел к нам в лесу, на месте нашей первой встречи. Жадные до развлечений, как все мальчишки, мы попросили его что-нибудь нам показать.
— Что ж! — сказал он. — Я покажу вам историю человеческого рода — то, что вы называете ростом цивилизации. Хотите?
Мы сказали, что хотим.
Мгновенным движением мысли он превратил окружающий лес в Эдем. Авель приносил жертву у алтаря. Появился Каин с дубиной в руках[127]. Он прошел рядом, как видно не заметив нас, и непременно наступил бы мне на ногу, если бы я ее вовремя не отдернул. Он стал что-то говорить брату на непонятном языке. Тон его становился все более дерзким и угрожающим. Зная, что должно сейчас случиться, мы отвернулись, но услышали тяжкие удары, потом крики и стоны. Наступило молчание. Когда мы снова взглянули в ту сторону, умирающий Авель лежал в луже крови, а Каин стоял над его телом, мстительный и нераскаянный.
Видение исчезло, и вслед за ним длинной чередой потянулись неведомые нам войны, убийства и казни. Затем мы увидели потоп. Ковчег носился по бурным волнам. На горизонте сквозь дождь и туман виднелись высокие горы. Сатана сказал:
— Начало цивилизации оказалось неудачным. Сейчас будет сделан новый зачин.
Сцена переменилась. Мы увидели Ноя, упившегося вином. Потом Сатана показал нам нечестие Содома и Гоморры. Историю с Лотом он назвал «попыткой отыскать на свете хотя бы двух или трех порядочных людей». Потом мы увидели Лота с дочерьми в пещере.
Дальше последовали войны древних иудеев. Они убивали побежденных и истребляли их скот. В живых оставляли только молодых девушек, которые становились добычей победителей.
Мы увидели, как Иаиль проскользнула в шатер и вбила колышек в висок спящего гостя[128]. Это было совсем рядом с нами; кровь, брызнувшая из раны, потекла маленьким красным ручейком у наших ног, и мы могли бы, если бы захотели, коснуться ее пальцами.
Перед нами прошли войны египтян, войны греков, войны римлян, вся земля была залита кровью. Римляне коварно обманули карфагенян, мы увидели ужасающее избиение этого отважного народа[129]. Цезарь вторгся в Британию[130]. «Варвары, жившие там, не причинили ему никакого вреда, но он хотел захватить их землю и цивилизовать их вдов и сирот», — пояснил нам Сатана.
Появилось христианство. Действие перенеслось в Европу. Мы увидели, как на протяжении столетий христианство и цивилизация шагали рука об руку, «оставляя на своем пути голод, опустошение, смерть и другие признаки прогресса», — как сказал Сатана.
Войны, войны, опять войны и снова войны, по всей Европе, во всем мире. По словам Сатаны, они велись во имя частных династических интересов, иногда же — чтобы подавить народ, который был слабее других. Ни разу, — добавил он, — завоеватель не начинал войну с благородной целью, Таких войн в истории человечества не встречается».
— Ну вот, — заключил Сатана, — мы с вами обозрели прогресс человеческого рода вплоть до наших дней. Кто скажет, что он недостоин всяческого удивления? Сейчас мы заглянем в будущее.
Он показал нам сражения, в которых применялись еще более грозные орудия войны и которые были еще ужаснее по числу погубленных жизней.
— Вы можете убедиться, — сказал он, — что человеческий род не останавливается в своем развитии. Каин убил брата дубиной. Древние иудеи убивали мечами и дротиками. Греки и римляне ввели латы и создали воинский строй и полководческое искусство. Христиане изобрели порох и огнестрельное оружие. Через два-три столетия они неизмеримо усовершенствуют свои смертоносные орудия убийства, и весь мир будет вынужден признать, что без помощи христианской цивилизации война осталась бы навсегда детским баловством.
Тут Сатана залился бесчувственнейшим смехом и принялся издеваться над человеческим родом, хоть и знал отлично, как задевают его слова наше самолюбие. Никто, кроме ангела, не станет так вести себя. Страдания для ангелов ничто, они знают о них только понаслышке.
И я и Сеппи не раз уже пытались с осторожностью и в деликатной форме объяснить Сатане, насколько неправилен его взгляд на человечество. Он обычно отмалчивался, и мы принимали его молчание за согласие. Так что эта речь Сатаны была для нас сильным ударом, Наши уговоры, видимо, не произвели на него сколько-нибудь заметного впечатления. Мы были разочарованы и огорчены, подобно миссионерам, проповеди которых остались втуне. Впрочем, мы не обнаружили перед ним своих чувств, понимая, что момент для этого неподходящий.
Сатана смеялся своим жестоким смехом, пока не устал. Потом он сказал:
— Разве это не выдающееся достижение? За последние пять или шесть тысячелетий родились, расцвели и получили общее признание не менее чем пять или шесть цивилизаций. Они сошли за это время со сцены и исчезли, но ни одна так и не сумела изобрести достойный своего величия, простой и толковый способ убивать людей. Кто посмеет обвинить их, что они мало старались? Убийство было любимейшим занятием человеческого рода с самой его колыбели, — но одна лишь христианская цивилизация добилась сколько-нибудь стоящих результатов. Пройдет два-три столетия, и никто уже не сможет отрицать, что христиане — убийцы самой высокой квалификации, и тогда язычники пойдут на выучку к христианам, — пойдут не за религией, конечно, а за их оружием. Турок и китаец купят у них оружие, чтобы было чем убивать миссионеров и новообращенных христиан
Тут Сатана снова открыл свой театр, и перед нашими глазами прошли народы многих стран, гигантская процессия, растянувшаяся на два или три столетия человеческой истории, бесчисленные толпы людей, сцепившихся в яростной схватке, тонущих в океанах крови, задыхающихся в черной мгле, которую озаряли лишь сверкающие знамена и багровые вспышки орудийного огня. Гром пушек и предсмертные вопли сраженных бойцов не затихали ни на минуту.
— К чему все это? — спросил Сатана со своим зловещим хохотом. — Решительно ни к чему. Всякий раз человечество возвращается к исходной точке. Уже добрый миллион лет вы уныло размножаетесь и уныло истребляете друг друга. К чему? Ни один мудрец не ответит на мой вопрос, Кто извлекает для себя пользу из всего этого? Только лишь горстка знати и ничтожных самозванных монархов, которые пренебрегают вами и которые сочтут себя оскверненными, если вы прикоснетесь к ним, и захлопнут дверь у вас перед носом, если вы к ним постучитесь. На них вы трудитесь, как рабы, за них вы сражаетесь и умираете (и гордитесь к тому же этим, вместо того чтобы почитать себя опозоренными). Самое существование этих людей — удар по вашему достоинству, хоть вы и боитесь это признать. Они не более чем попрошайки, которых вы из милости содержите, но эти попрошайки взирают на вас, как благотворители на жалких нищих. Они разговаривают с вами, как господин с рабом, и слышат в ответ речь раба, обращенную к господину. Вы не устаете склоняться перед ними, хотя в глубине души — если у вас еще сохранилась душа — презираете себя за это. Первый человек был лицемером и трусом и передал лицемерие и трусость своему потомству. Вот дрожжи, на которых поднялась ваша цивилизация. Так выпьем же, чтобы она процветала и впредь! Выпьем, чтобы она не угасла! Выпьем, чтобы...
Тут он заметил, как глубоко мы обижены, оборвал свою речь на полуслове, перестал смеяться и, сразу переменившись, сказал ласково:
— Нет, давайте выпьем за здоровье друг друга и забудем про цивилизацию. Вино, которое пролилось нам в бокалы, — земное вино, я предназначал его для того, прежнего тоста. А сейчас бросьте эти бокалы. Наш новый тост мы отметим вином, которого свет еще не видывал.
Мы повиновались и протянули руки. Новое вино было разлито в кубки необычайного изящества и красоты, которые были сделаны из какого-то неведомого нам материала. Кубки эти менялись у нас на глазах так, что казались живыми существами. Они сверкали, искрились, переливались всеми цветами радуги, ни на минуту не застывали в неподвижности. Разноцветные волны сшибались в них, идя одна другой навстречу, и разлетались брызгами разных оттенков. Больше всего они походили на опалы в морском прибое, пронизывающие своим огнем набегающий вал. Вино было вне каких-либо доступных нам сравнений. Выпив его, мы ощутили странное, околдовывающее чувство, словно вкусили райское блаженство. Глаза у Сеппи наполнились слезами, и он вымолвил благоговейно:
— Когда-нибудь мы будем там, и тогда...
Мы украдкой поглядели на Сатану. Должно быть, Сеппи ожидал, что он скажет: «Да, настанет час, и вы там будете», но Сатана словно о чем-то задумался и не вымолвил ни слова. Я внутренне содрогнулся, я знал, что Сатана слышал слова Сеппи, — ничто сказанное или хотя бы помышленное не проходило мимо него. Бедный Сеппи смешался и не закончил своей фразы. Кубки взлетели вверх, устремились в небо, словно три лучистых ореола, и пропали. Почему они не остались у нас в руках? Это было дурным предзнаменованием и навевало грустные мысли. Увижу ли я снова свой кубок? Увидит ли Сеппи свой?
Глава IX
Власть Сатаны над временем и пространством поражала нас. Они для него попросту не существовали. Он называл их человеческим изобретением и говорил, что их выдумали. Мы не раз отправлялись с ним в самые отдаленные уголки земного шара и проводили там недели и даже месяцы, но, возвратившись домой, замечали, что прошла всего ничтожная доля секунды. Это было видно по часам.
Комиссия по охоте за ведьмами, не решаясь поднять дело против астролога или Маргет, посылала на костер одних только беззащитных бедняков, и жители нашей деревни роптали. Наступил день, когда они пришли в неистовство и решили сами заняться поисками ведьм. Их выбор пал на одну женщину хорошего происхождения, о которой было известно, что она излечивала людей колдовским способом. Вместо того чтобы глотать слабительное и пускать себе кровь у цирюльника, как это принято у нас, ее пациенты мылись горячей водой и укрепляли свои силы питательной пищей.
Женщина бежала по деревенской улице, преследуемая улюлюкающей толпой. Она пыталась укрыться сперва в одном доме, потом в другом, но хозяева предусмотрительно заперли все двери на засов. Ее гоняли по деревне около получаса, мы тоже бежали с толпой, чтобы посмотреть, чем все это кончится. Наконец она ослабела и повалилась на землю. Ее схватили, подтащили к дереву, привязали к суку веревку и стали надевать ей петлю на шею. Женщина рыдала и молила пощады у своих мучителей. Ее юная дочь стояла возле нее, заливаясь слезами, побоялась вымолвить даже слово в защиту матери.
Они повесили эту женщину, и я бросил в нее камнем, хотя в глубине души жалел ее. Все бросали в нее камнями, и каждый следил за соседом. Если бы я не поступил, как другие, на меня бы непременно донесли. Стоявший рядом со мной Сатана громко захохотал.
Все, кто был рядом, обернулись удивленно и негодующе. Неподходящее время выбрал он для смеха. Его вольнодумство, язвительные шутки, неземные мелодии, с которыми он нас познакомил, уже не раз порождали подозрения, и многие были настроены против него, хотя пока что молчали. Ражий детина, деревенский кузнец, сочтя момент подходящим, зычно, чтобы все слышали, спросил:
— Чего ты смеешься? Отвечай! И еще ответь народу, почему ты не бросил в нее камнем?
— А ты уверен, что я не бросил в нее камнем?
— Конечно. Не пытайся вывернуться. Я за тобой следил.
— Я тоже! Я тоже следил! — присоединились два голоса.
— Три свидетеля, — сказал Сатана. — Кузнец Мюллер, подручный мясника Клейн, ткач Пфейфер. Все трое отъявленные лжецы, Может быть, есть еще свидетели?
— Это не важно, есть или нет. Какого ты о нас мнения — тоже не важно. Важно, что три свидетеля налицо. Докажи, что ты бросил в нее камнем, или тебе придется плохо.
— Да! Да! — закричала толпа и сгрудилась вокруг спорящих.
— Сначала дай ответ на первый вопрос, — закричал кузнец. Окрыленный поддержкой толпы, он почувствовал себя героем дня. — Говори, над чем ты смеялся?
Сатана учтиво улыбнулся и ответил:
— Мне показалось смешным, что трое трусов бросают камнем в умирающую женщину, когда сами стоят одной ногой в могиле.
Суеверная толпа ахнула от ужаса и подалась назад. Кузнец, пытаясь храбриться, сказал:
— Вздор! Ты не можешь этого знать.
— Я знаю наверняка. Я предсказываю людям будущее, это мое ремесло. Когда вы трое и некоторые другие подняли руки, чтобы бросить камнем в эту женщину, я прочитал судьбу каждого по линиям ладони. Один из вас умрет через неделю. Другой сегодня к вечеру. Третьему осталось жить всего пять минут — следите по часам на башне.
Слова Сатаны произвели глубокое впечатление на толпу. Все, как по команде, подняли к башенным часам побледневшие лица. Мясник и ткач сразу ослабели и обмякли, словно пораженные тяжелым недугом, но кузнец взял себя в руки и сказал угрожающе:
— Сейчас мы проверим одно из твоих трех предсказаний. Если оно окажется ложным, ты не проживешь и минуты, голубчик мой. Это я тебе говорю.
Все молчали и следили в торжественной тишине за движением стрелки на башенных часах. Когда прошло четыре с половиной минуты, кузнец вдруг охнул, схватился за сердце и с криком: «Пустите! Дышать нечем!» — стал валиться навзничь. Окружающие отступили назад, никто не поддержал его, и он рухнул мертвым на землю. Люди уставились сперва на кузнеца, потом на Сатану, потом друг на друга. Губы у них шевелились, но никто не мог произнести ни слова. Тогда Сатана сказал:
— Три человека заявили, что я не бросал в женщину камнем. Может быть, найдутся еще свидетели? Я жду.
Эти слова вызвали панику в толпе. Сатане никто не ответил, но многие принялись злобно попрекать друг друга, говоря:
— Это ты сказал, что он не бросил в нее камнем!
— Лжешь, возьми свои слова назад! — слышалось в ответ.
Толпа заревела, началась всеобщая свалка, каждый тузил своего соседа, а посредине висел труп повешенной женщины, равнодушный ко всему на свете. Она покончила с этим миром, ее страдания были позади.
Мы с Сатаной пошли прочь. Мне было не по себе, и я не мог отделаться от мысли, что хоть он и говорил, будто смеется над ними, но на самом деле смеялся надо мной.
Он снова разразился смехом и сказал:
— Ты прав. Я смеялся над тобой, Из страха, что на тебя донесут, ты бросил камнем в женщину, когда вся твоя душа была против. Но я смеялся и над ними.
— Почему?
— Потому что они испытывали то же, что и ты.
— Как так?
— Если хочешь знать правду, из шестидесяти восьми человек, которые там стояли, шестидесяти двум так же не хотелось бросать в эту женщину камнем, как и тебе.
— Неужели?
— Будь уверен, что это так! Я хорошо изучил людей. Они — овечьей породы. Они всегда готовы подчиняться меньшинству. Лишь в самых редких, в редчайших случаях большинству удается изъявить свою волю. Обычно же большинство приносит в жертву свои чувства и убеждения и идет за горсткой горлодеров. Иногда горлодеры бывают правы, иногда нет, это не имеет большого значения для толпы — она подчиняется и в том и в другом случае. Люди — дикие или цивилизованные, все равно — добры по своей натуре и не хотят причинять боль другим, но в присутствии агрессивного и безжалостного меньшинства они не решаются в этом признаться. Призадумайся на минуту. Добрый в душе человек шпионит за другим таким же добрым человеком, чтобы толкнуть его на поступок, который у обоих вызывает омерзение. Мне достоверно известно, что девяносто девять человек из каждых ста были решительно против убийства ведьм, когда много лет назад кучка свихнувшихся святош затеяла это безумие. Я утверждаю, что и сейчас, после того как суеверия и идиотские предрассудки столетиями вбивались людям в голову, только один человек из двадцати верит в них всерьез. И тем не менее каждый кричит о злокозненности ведьм и каждый требует, чтобы их убивали. Но в один прекрасный день поднимется горстка людей, которая сумеет перекричать остальных, быть может это даже будет один-единственный человек, храбрец со здоровой глоткой и твердой решимостью добиться своего, — и не пройдет недели, как овцы повернут за ним и охоте на ведьм наступит конец. Монархии, аристократические правления и религиозные системы основывают свою власть на этом коренном недостатке людей. Суть его в том, что человек не доверяет другому человеку, но, трепеща за свое благополучие и свою жизнь, делает все, чтобы подладиться к нему.
Монархии, аристократические правления и религии будут процветать, а вы будете под ярмом, оскорбленные и униженные, потому что вы рабы меньшинства и хотите оставаться ими и впредь. Не было еще такой страны, где большинство людей было бы действительно преданно монарху, вельможе или священнику!
Меня возмутило, что Сатана сравнивает человеческий род с овцами, и я сказал, что не согласен с ним.
— И тем не менее это так, ягненочек ты мой, — возразил Сатана. — Погляди, как людей заставляют воевать, и ты убедишься, что они до смешного походят на баранов.
— Почему же?
— Еще не было случая, чтобы тот, кто начинает войну, действовал справедливо и честно. Вот я гляжу на миллион лет вперед и вижу только пять или шесть исключений из этого правила. Обычно же дело происходит так. Горстка крикунов требует войны. Церковь для начала возражает, воровато озираясь по сторонам. Народ, неповоротливая, медленно соображающая громадина, протрет заспанные глаза и спросит: «К чему эта война?», а потом скажет, от души негодуя: «Не нужно этой несправедливой и бесчестной войны». Горстка крикунов удвоит свои усилия. Несколько порядочных людей станут с трибуны и с пером в руках приводить доводы против войны. Сперва их будут слушать, им будут рукоплескать. Но это продлится недолго. Противники перекричат их, они потеряют свою популярность, ряды их приверженцев будут редеть. Затем мы увидим любопытное зрелище: ораторы под градом камней сойдут с трибуны, орды озверелых людей, которые в глубине души по-прежнему против войны, но уже не смеют в этом сознаться, удушат свободу слова. И вот вся страна, поддерживаемая церковью, поднимает боевой клич, кричит до хрипоты и линчует честного человека, который осмелится поднять голос протеста. Вот уже стихли и эти голоса. Теперь бесчестные государственные мужи измышляют лживые доводы, чтобы возложить ответственность за начавшуюся войну на страну, подвергшуюся нападению, и каждый, радуясь в душе, что ему дают возможность чувствовать себя порядочным человеком, прилежно изучает эти доводы и затыкает уши при малейшем слове критики. Мало-помалу он уверится, что его страна ведет справедливую войну, и, надув таким образом самого себя, вознесет благодарственную молитву всевышнему и обретет наконец спокойный сон.
Глава X
Дни шли за днями. Сатана не появлялся. Без него жизнь текла уныло. Астролог, вернувшийся недавно из своего путешествия на луну, разгуливал по деревне, пренебрегая общественным мнением. От времени до времени кто-нибудь из ненавистников волшбы, надежно укрывшись от его взгляда, запускал в него камнем. Маргет под влиянием двух обстоятельств переживала благодетельную перемену. Во-первых, Сатана, который был к ней совершенно равнодушен, после двух-трех визитов вовсе перестал бывать у них в доме. Это задело ее гордость, и она решила забыть его. Во-вторых, после того как Урсула не раз сообщала ей, что Вильгельм Мейдлинг предался беспутной жизни, Маргет поняла, что повинна в этом, что он ревнует ее к Сатане, и почувствовала раскаяние. То и другое пошло Маргет на пользу: интерес ее к Сатане ослабевал, а интерес к Вильгельму Мейдлингу столь же неуклонно усиливался. Если бы Вильгельму удалось взять себя в руки и каким-нибудь образом добиться вновь похвал и уважения в нашей деревне, это привело бы к решительному перелому в чувствах Маргет.
Вскоре такой случай представился. Маргет послала за Вильгельмом и просила его принять на себя защиту ее дяди в предстоящем судебном процессе. Вильгельм был чрезвычайно горд этим поручением, бросил пить и усердно принялся готовиться к защите. По правде говоря, усердие заменяло ему уверенность в победе, потому что шансов на выигрыш дела почти не было. Вильгельм часто вызывал меня и Сеппи к себе в контору и тщательнейшим образом обсуждал с нами наши показания, стараясь разыскать в груде словесной мякины полновесные зерна доказательств. Увы, урожай был скудный.
Ах, где же Сатана? Я не переставал думать о нем ни на минуту. Он нашел бы способ выиграть дело. Ведь он сказал мне, что дело будет выиграно, значит ему известно, как этого добиться. Но дни шли за днями, а его все не было. Я, конечно, не сомневался, что дело будет в конце концов выиграно и что отец Питер счастливо проживет остаток своей жизни. Раз Сатана обещал, это исполнится. Но на душе у меня было бы много спокойнее, если бы он явился и сказал, что нам нужно делать. По правде говоря, ждать было больше нельзя, и если отцу Питеру действительно суждена счастливая жизнь, ему следовало начинать ее не откладывая. Со всех сторон говорили, что тюрьма и позор совершенно извели старика, и если не придет быстрое спасение, он умрет с горя.
Наконец настал день суда. Народ стекался со всех сторон, чтобы послушать, как будут судить отца Питера. К нам в деревню съехались люди из отдаленных мест. В зале были все, кроме обвиняемого. Он был слишком слаб, чтобы присутствовать на суде. Маргет пришла, она крепилась изо всех сил, стараясь поддержать в себе бодрость и надежду. Деньги тоже были тут. Они лежали на столе, высыпанные из мешка, и те, кому это разрешалось по должности, рассматривали их и любовно перебирали монеты руками.
На свидетельской скамье появился астролог. Для этого случая он надел свою лучшую мантию и шляпу.
Вопрос: Вы утверждаете, что это ваши деньги?
Ответ: Да.
Вопрос: Как они достались вам?
Ответ: Я нашел кошелек с деньгами на дороге, возвращаясь из путешествия.
Вопрос: Когда это было?
Ответ: Два с лишним года тому назад.
Вопрос: Как вы поступили с находкой?
Ответ: Я взял деньги с собой и спрятал их в тайнике, в своей обсерватории, рассчитывая, что в дальнейшем владелец отыщется.
Вопрос: Что вы сделали, чтобы отыскать владельца?
Ответ: В продолжение нескольких месяцев я производил тщательные розыски, но без успеха.
Вопрос: Что вы предприняли тогда?
Ответ: Я решил, что дальше искать бесполезно, и решил пожертвовать эти деньги на новый приют для подкидышей при здешнем женском монастыре. Я вынул кошелек из тайника и начал считать деньги, чтобы проверить, все ли цело. В эту минуту...
Вопрос: Почему вы запнулись? Продолжайте.
Ответ: Мне тяжело об этом вспоминать. Когда я пересчитал деньги и стал укладывать их обратно в тайник, то заметил, что за плечами у меня стоит отец Питер.
Кто-то в зале пробормотал: «Слушайте, слушайте!» Но в ответ послышалось: «Да это же лгун!»
Вопрос: Вы были встревожены?
Ответ: В ту минуту нет. Отец Питер и ранее захаживал ко мне невзначай, чтобы попросить помощи. Он нуждался в то время.
Маргет вспыхнула, услышав эту бесстыдную ложь, будто ее дядя ходил просить милостыни, да еще у человека, которого он не раз обличал в шарлатанстве. Она хотела крикнуть что-то, но сдержалась вовремя и промолчала.
Вопрос: Что было дальше?
Ответ: Поразмыслив, я все же побоялся отдать найденные деньги на приют для подкидышей и решил продолжать поиски владельца еще в течение года. Услышав о находке отца Питера, я порадовался за него — и только. Не возникло у меня никаких подозрений и через два или три дня, когда я обнаружил, что мои деньги исчезли. Я стал подозревать его, лишь когда установил три подозрительных совпадения, связывавших мою пропажу с находкой отца Питера.
Вопрос: Какие это совпадения?
Ответ: Отец Питер нашел свои деньги на тропинке, я — на дороге. Отец Питер нашел золотые дукаты. Я — тоже. Отец Питер нашел тысячу сто семь дукатов — ту же сумму, что и я.
На этом астролог закончил свои показания. Было очевидно, что они произвели на судей сильное действие.
Задав несколько вопросов астрологу, Вильгельм Мейдлинг вызвал нас двоих и попросил рассказать, как было дело. Публика в зале стала посмеиваться, и мы сконфузились. Нам и без того было не по себе — мы видели, что Вильгельм чувствует себя неуверенно. Он старался как мог, бедняга, по обстоятельства складывались против него. Даже при самом добром желании публика в зале суда не могла стать на его сторону.
Допустим, что рассказ астролога, учитывая всем известную лживость этого человека, не вселил в судей и публику полной веры, но ведь и рассказ отца Питера был чистейшей сказкой! Мы приуныли. Когда же защитник астролога заявил, что не станет нас допрашивать, потому что наши показания слишком непрочны, и было бы невеликодушным предъявлять к ним излишние требования, все в зале захихикали, и нам стало окончательно не по себе. После этого заявления он выступил с краткой язвительной речью, высмеял наш рассказ, назвал его детской выдумкой, нелепой и вздорной с первого и до последнего слова, и под конец так развлек публику, что все хохотали до колик. Бедная Маргет не в силах была больше храбриться и залилась слезами. Мне было жаль ее от души.
Но вот я поднял голову и почувствовал, как в меня вливается бодрость. Рядом с Вильгельмом показался Сатана! Контраст был разительный. Вильгельм стоял понурив голову, в отчаянии. Сатана — уверенный в себе, дышащий энергией. Мы с Сеппи мгновенно успокоились. Сейчас он выступит с речью и убедит суд и публику, что черное это белое, а белое — черное, — словом, сделает, что пожелает. Мы обернулись в зал, чтобы поглядеть, какое он производит впечатление, — ведь Сатана был очень красив, ослепительно красив. Но никто его, казалось, не замечал. Мы поняли, что он явился невидимым.
Защитник астролога как раз заканчивал речь. Когда он произносил заключительные фразы, Сатана стал воплощаться в Вильгельма. Он растворился в нем и исчез. Вильгельма сразу стало не узнать в его глазах засветилась неукротимая энергия Сатаны.
Защитник закончил на патетической ноте. Торжественно указуя на деньги, он сказал:
— Страсть к золоту лежит в основе всякого зла. Вот оно перед вами, древнейший соблазнитель. Оно блещет позорным румянцем, чванится новой победой — бесчестием священнослужителя и двух его юных сообщников. Если бы деньги имели дар речи, то, думаю, они признались бы сейчас, что из всех одержанных ими побед не было ни одной, более ужасающей и прискорбной для человечества.
Он сел на место. Вильгельм поднялся и спросил:
— Из показаний истца я заключаю, что он нашел деньги на дороге два с лишним года тому назад. Правильно ли я понял вас, сударь? Если нет, поправьте меня.
Астролог сказал, что его слова поняты правильно.
— Найденные деньги оставались во владении истца вплоть до указанного им дня, то есть до последнего дня истекшего года. Если я неправильно вас понял, сударь, поправьте меня.
Астролог кивком подтвердил слова Вильгельма. Тогда Вильгельм повернулся к председателю суда и спросил:
— Если я представлю доказательства, что лежащие здесь деньги не являются теми деньгами, о которых говорил истец, не будет ли это означать, что эти деньги не его?
— Разумеется. Но вы нарушаете нормальный ход судебного разбирательства. Если вы располагали свидетельскими показаниями такого рода, вы обязаны были осведомить об этом суд своевременно, в установленном порядке вызвать свидетеля и…
Председатель суда прервал свою речь и стал совещаться с другими судьями. Защитник астролога вскочил с места и раздраженнно заявил протест против вызова новых свидетелей, когда слушание дела уже идет к концу. Судьи признали его протест обоснованным и вынесли соответствующее решение.
— Я не прошу о вызове нового свидетеля, — возразил Вильгельм. — Мой свидетель уже принял частичное участие в судебном следствии. Я имею в виду золотые монеты.
— Золотые монеты? Какое показание могут дать золотые монеты?
— Они могут показать, что они не те монеты, которые находились во владении астролога, они могут заявить, что в декабре прошлого года их еще не было на свете. Не забудьте, что на них обозначен год их выпуска.
Более верное доказательство трудно было бы найти. Публика заволновалась. Судьи и защитник астролога брали одну монету за другой и разглядывали их с криками изумления. Все восхваляли Вильгельма за то, что ему пришла в голову такая блестящая мысль. Наконец судья призвал всех к порядку и объявил:
— Все монеты, не считая четырех, отчеканены в текущем году. Суд выражает обвиняемому сочувствие и глубоко сожалеет, что он, будучи невинным, в силу несчастного стечения обстоятельств был опозорен, заключен в темницу и предан суду. Дело прекращено.
Таким образом, выяснилось, что деньги все же имеют дар речи, хотя защитник астролога и сомневался в этом. Суд удалился, и почти все присутствующие направились сперва к Маргет, чтобы поздравить ее и пожать ей руку, а потом к Вильгельму, чтобы пожать и ему руку и выразить свое восхищение его удивительной находчивостью. Сатана к этому времени выступил из Вильгельма и стоял рядом, с интересом наблюдая происходящее, а люди шли сквозь него то туда, то сюда, даже не подозревая, что он здесь. Вильгельм не мог объяснить, почему он заявил о монетах только в самую последнюю минуту. По его словам, эта мысль пришла ему в голову внезапно, словно по наитию, а высказал он ее не колеблясь, так как был почему-то уверен, что не ошибается, хоть и не проверял года выпуска монет ранее. Это было честно сказано, иного нельзя было и ждать от Вильгельма. Другой на его месте сказал бы, конечно, что придумал все заранее и приберег к концу для пущего эффекта.
Сейчас Вильгельм чуть-чуть поблек, в его глазах уже не было того блеска, какой им придавало присутствие Сатаны. Впрочем, они снова зажглись на минуту, когда Маргет подошла к нему, расхвалила его, осыпала благодарностями, нисколько не пытаясь скрыть, как она горда его успехом. Астролог удалился вне себя от злобы, осыпая всех проклятиями, а Соломон Айзекс собрал деньги в мешок и унес с собой. Никто не собирался больше оспаривать их у отца Питера.
Сатана исчез. Я подумал, что он перенесся в тюрьму, чтобы сообщить о происшедшем узнику, и оказался прав. Радостные и счастливые, мы следом за Маргет со всех ног побежали в тюрьму.
Позже выяснилось, что, появившись перед несчастным узником, Сатана вскричал:
— Суд окончен! Слушай приговор! Тебя заклеймили как вора!
От потрясения старик лишился рассудка. Десять минут спустя, когда мы вошли к нему, он важно разгуливал взад и вперед по камере и отдавал приказания тюремщикам и надзирателям, именуя одного главным камергером, другого — князем таким-то, третьего — адмиралом флота, четвертого — фельдмаршалом и так далее, и наслаждался, как дитя. Он вообразил себя императором.
Маргет бросилась к нему на шею и зарыдала. Все мы были потрясены до глубины души. Отец Питер узнал Маргет, но не мог понять, почему она плачет. Он потрепал ее по плечу и сказал:
— Не надо, дорогая. Здесь посторонние люди, и наследнице престола не подобает так себя вести. Скажи мне, что тебя тревожит, и я сделаю все, что ты захочешь. Власть моя беспредельна.
Оглянувшись, он увидел старую Урсулу, утиравшую фартуком слезы, и с удивлением спросил ее:
— Ну, а с вами что случилось?
Рыдая, Урсула объяснила, что горюет потому, что с ним стряслось «такое».
Он задумался, потом пробормотал, словно обращаясь к самому себе:
— Странная особа, эта вдовствующая герцогиня. В сущности, неплохая женщина, но постоянно ноет и не может даже толком разъяснить, что с ней случилось, а все потому, что она не в курсе событий.
Взгляд его упал на Вильгельма.
— Князь Индийский, — сказал он, — я склонен думать, что вы повинны в слезах наследницы престола. Я утешу ее. Я не стану более разлучать вас. Пусть она царствует вместе с вами. Свое царство я тоже передаю вам. Ну как, моя дорогая, разумно я поступил? Теперь ты улыбнешься, не так ли?
Он приласкал Маргет, поцеловал ее, а потом, довольный собой и всеми нами, решил облагодетельствовать всех разом и стал раздавать царства направо и налево. Не осталось человека, который не получил бы в дар хоть маленького княжества. Когда его наконец уговорили покинуть тюрьму, он направился домой, сохраняя прежнюю величественную осанку. Народ, столпившийся на улице, понял, что старика радуют почести, и стал кланяться ему до земли и кричать «ура», а он улыбался, милостиво наклонял голову и время от времени, простирая руки, говорил:
— Благословляю вас, мои подданные.
Ничего более грустного мне не приходилось видеть. А Маргет и Урсула всю дорогу не переставали рыдать.
По пути домой я встретил Сатану и упрекнул его, что он так жестоко меня обманул. Он нисколько не смутился и ответил мне спокойно и просто:
— Ты заблуждаешься. Я не обманывал тебя. Я сказал, что отец Питер будет счастлив до конца своих дней. Разве я не выполнил обещания? Он воображает себя императором и будет гордиться и наслаждаться этим до самой смерти. Он единственный по-настоящему счастливый человек во всей вашей империи.
— Но каким путем ты добился этого, Сатана! Разве нельзя было оставить ему рассудок?
Рассердить Сатану было нелегко, но мне это удалось.
— Какой же ты болван! — сказал он. — Неужели ты не понял до сих пор, что, только лишившись рассудка, человек может быть счастлив? Пока разум не покинет его, он воспринимает жизнь такой, как она есть, и видит, что она ужасна. Только сумасшедшие счастливы, да и то не все. Счастлив тот, кто вообразит себя королем или богом, остальные несчастны по-прежнему, все равно как если бы они были в здравом уме. Впрочем, ни об одном из вас нельзя твердо сказать, что он в здравом уме, и я пользуюсь этим выражением условно. Я отобрал у этого человека мишуру, которую вы зовете рассудком, я заменил дрянную оловяшку его разума чистым серебром безумия, а ты меня упрекаешь! Я сказал, что сделаю его счастливым до конца его дней, и я выполнил свое обещание. Я обеспечил ему счастье единственно верным путем, каким можно осчастливить человека, а ты недоволен!
Он разочарование вздохнул и сказал:
— Вижу, что угодить человеческому роду нелегко.
Вот как обстояло дело с Сатаной! Он считал, что единственное одолжение, которое можно оказать человеку, это либо убить его, либо свести с ума. Я извинился перед ним как мог, но остался при своем мнении. В то время я считал, что он слабо разбирается в наших делах.
Сатана не раз говорил мне, что жизнь человечества — постоянный, беспрерывный самообман. От колыбели и до могилы люди внушают себе фальшивые представления и иллюзии, принимают их за действительность и строят из них поддельный мир. Из дюжины добродетелей, которыми люди чванятся, хорошо если они владеют одной; медь они стараются выдать за золото. Как-то раз, когда разговор шел на эту тему, он заговорил о чувстве юмора. Тут я решил, что не уступлю ему, и сказал, что люди, конечно, обладают чувством юмора.
— Узнаю знакомую повадку, — сказал он. — Всегда претендуете на то, чего у вас нет, и норовите выдать унцию медных опилок за тонну золотого песка. Какое-то ублюдочное чувство юмора у вас имеется, не спорю. Комическая сторона низкопробных и тривиальных вещей доступна большинству из вас. Я имею в виду тысячу грубых несоответствий, абсурдных и гротескных ситуаций — то, что может рождать животный смех. Но из-за своей тупости вы не можете распознать комическую сторону тысяч и тысяч смешнейших вещей на свете. Наступит ли день, когда род человеческий поймет, как они смешны, захохочет над ними и разрушит их смехом? При всей своей нищете, люди владеют одним бесспорно могучим оружием. Это — смех. Сила, деньги, доводы, мольбы, настойчивость — все это может оказаться небесполезным в борьбе с властвующей над вами гигантской ложью. На протяжении столетий вам, быть может, удастся чуть-чуть расшатать, чуть-чуть ослабить ее. Однако подорвать ее до самых корней, разнести в прах вы сможете лишь при помощи смеха. Перед смехом ничто не устоит. Вы постоянно пытаетесь бороться то тем, то другим способом, почему же не прибегаете вы к этому оружию? Зачем вы даете ему ржаветь? Способны ли вы воспользоваться этим оружием по-настоящему — не поодиночке, а сразу, все вместе? Нет. У вас не хватит на это ни здравого смысла, ни отваги.
Как-то, странствуя с Сатаной, мы забрели в маленький индийский городок и остановились посмотреть на фокусника, дававшего представление перед толпой зрителей-индийцев. Он показывал удивительные фокусы, не я знал, что Сатане ничего не стоит затмить его. Я попросил Сатану показать свои таланты, он согласился и в ту же минуту стал индийцем в тюрбане и набедренной повязке. С обычной своей предусмотрительностью он внушил мне на время знание индийского языка.
Фокусник достал откуда-то семечко, посадил его в цветочный горшочек и прикрыл тряпицей. Прошла минута, тряпица стала подниматься над горшочком. Через десять минут она поднялась на фут. Фокусник сбросил тряпицу долой, — под ней было деревцо с листьями и зрелыми ягодами. Мы отведали ягод, они были хороши. Но Сатана сказал:
— К чему ты прикрываешь семечко тряпкой? Разве нельзя вырастить дерево на свету?
— Нет, — ответил фокусник, — это невозможно.
— Недалеко же ты ушел в своем искусстве. Я покажу тебе, как это делается.
Он взял у фокусника плодовую косточку и спросил:
— Какое дерево ты хочешь, чтобы я вырастил?
— Из вишневой косточки можно вырастить только вишню.
— Вздор! Это годится для начинающих. Хочешь, я выращу из вишневой косточки апельсиновое дерево?
— Попробуй! —сказал фокусник со смехом.
— И оно будет родить не только апельсины, но и другие фрукты тоже.
— Если будет на то воля богов!
Все засмеялись.
Сатана засыпал косточку горстью земли и приказал ей:
— Расти!
Крошечный стебелек пробился вверх, поднялся выше, еще выше. Он рос так быстро, что через пять минут стал большим деревом, осенившим нас своей листвой. В толпе пронесся ропот удивления. Когда зрители взглянули вверх, им представилось необычайное, чарующее зрелище. Ветви дерева были усыпаны разноцветными плодами всех видов — апельсинами, виноградом, бананами, персиками, вишнями, абрикосами. Принесли корзины, и начался сбор плодов. Люди толпились возле Сатаны, целовали ему руки и называли царем фокусников. Весть быстро распространилась по городу, народ сбежался, чтобы взглянуть на чудо, многие пришли с корзинами. Дерево не оскудевало. На месте сорванных плодов тут же вырастали новые. Десятки и сотни корзин были уже полны доверху, но плодов все не убывало. Вдруг появился иностранец в белом полотняном костюме и в пробковом шлеме. Он сердито закричал:
— Прочь отсюда! Убирайтесь вон, собаки. Дерево выросло на моей земле и принадлежит мне.
Индийцы поставили корзины на землю и стали почтительно кланяться. Сатана тоже почтительно поклонился, приложив руку ко лбу, как другие, и сказал:
— Я очень прошу вас, сударь, позвольте этим людям собирать плоды еще час, только один час. Потом вы можете воспретить им это. Вам останется столько фруктов, что вся страна не сможет съесть их за целый год.
Эти слова очень рассердили иностранца, и он закричал:
— Кто ты такой, бродяга, чтобы указывать, что мне делать и чего не делать?
Не ведая, какую судьбу он себе готовит, иностранец ударил Сатану тростью, а потом пнул его ногой. Фрукты на дереве стали гнить, листья засохли и опали. Иностранец уставился на голые сучья с удивленным и недовольным видом. Сатана сказал:
— Теперь ухаживайте усердно за этим деревом, его жизнь и ваша связаны отныне воедино. Дерево не будет больше приносить плодов, но если вы будете ходить за ним, оно проживет еще долго. Поливайте его каждый час, от заката солнца и до рассвета. Делайте это собственными руками. Нанимать кого-нибудь для этой цели нельзя, поливать в дневное время тоже нельзя. Если вы не польете его хоть раз, оно засохнет, и вы умрете вместе с ним. Не пытайтесь скрыться на родине — вы не доедете туда живым. Не отлучайтесь из дому в поздний час ни по делам, ни в гости, помните, что жизнь ваша поставлена на карту. Не сдавайте внаймы эту землю и не продавайте ее — опасность слишком велика.
Иностранец был самолюбив и не стал молить о пощаде, но по выражению его глаз я понял, что он близок к этому. Он стоял, вперив в Сатану недвижный взгляд, но тут мы с Сатаной исчезли и оказались на Цейлоне.
Мне было жаль этого человека. Почему Сатана не поступил как обычно: не убил его или не лишил разума? Это было бы милосерднее.
Сатана прочел мою мысль и сказал:
— Я не сделал этого потому, что жалею его жену, которая ничем передо мной не виновата. Она должна приехать к нему с их родины, из Португалии. Сейчас она здорова, но скоро должна умереть. Она стосковалась по нем и едет, чтобы уговорить его вернуться в будущем году вместе с ней на родину. Она умрет здесь, не узнав, что он не может покинуть это место.
— Он не расскажет ей?
— Нет. Он никому не доверит своей тайны. Он побоится, что тот, кто узнает ее, проболтается во сне и тайна станет известной туземным слугам кого-нибудь из португальцев.
— А индийцы поняли, что ты ему сказал?
— Нет, но он всегда будет бояться, что кто-нибудь из них понял. Страх этот будет терзать его. Он всегда поступал с ними жестоко, и теперь ему будут сниться страшные сны, будто они рубят его дерево. Это отравит ему дневной покой. О его ночном покое я уже позаботился.
Я был несколько огорчен, что Сатана черпает столь злобное удовольствие в своей мести этому иностранцу.
— А он поверил твоему предсказанию, Сатана?
— Ему хотелось бы усомниться, но наше исчезновение заставит его поверить. Дерево, выросшее на пустом месте, — как тут не поверить? Нелепое, фантастическое разнообразие плодов на дереве, внезапно сохнущие листья — все это тоже вынуждает верить. Но, поверит он или нет, одно несомненно — он будет поливать дерево. Впрочем, прежде чем наступит эта ночь, которая перевернет всю его жизнь, он сделает последнюю попытку спастись, весьма характерную попытку.
— Какую же?
— Он позовет священника, чтобы тот изгнал из дерева нечистого духа. Все вы, люди, порядочные комики, хоть и не понимаете этого.
— А священнику он раскроет свою тайну?
— Нет. Он скажет, что фокусник из Бомбея вырастил это дерево, а он хочет изгнать из дерева беса, чтобы оно снова цвело и приносило плоды. Молитва священника не поможет, и тогда португалец падет духом и наполнит водой свою лейку.
— Пожалуй, священник сожжет дерево. Он не даст ему расти.
— В Европе он так бы и сделал и сжег бы вместе с ним и португальца. Но в Индии живет цивилизованный народ, здесь этого не допустят. Португалец прогонит священника и примется поливать свое дерево.
Я задумался, потом сказал:
— Сатана, ты обрек этого человека на тяжкую жизнь.
— Да, праздником ее не назовешь.
Мы перелетали с места на место, путешествуя по всему свету, как нам случалось уже не раз, и Сатана указывал мне на разные происшествия, большей частью свидетельствовавшие о слабостях и о пошлости человеческого рода. Он поступал так не из каких-нибудь низких намерений, вовсе нет, он просто развлекался и делал попутно наблюдения; так развлекается и делает наблюдения натуралист, разглядывая муравейник.
Глава XI
Сатана посещал нас целый год, но потом стал появляться реже и наконец на долгое время исчез совсем. Когда его не было, я чувствовал себя одиноким и мне становилось грустно. Я понимал, что он постепенно утрачивает интерес к нашему крохотному мирку и может в любую минуту забыть о нем совершенно. Когда он наконец появился, я был вне себя от радости, но радость была недолгой. Сатана сказал, что пришел проститься со мной, пришел в последний раз. У него есть дела, которые призывают его в другие концы вселенной, и он пробудет там столько времени, что я не смогу дождаться его возвращения.
— Значит, ты уходишь и больше не вернешься?
— Да, — сказал он, — мы с тобой подружились, я был рад нашей дружбе, думаю, что и ты тоже. Сейчас мы расстанемся с тобой навсегда и больше не увидим друг друга.
— Не увидим друг друга в этой жизни, Сатана, но ведь существует иная жизнь. Разве мы не увидимся в иной жизни?
Спокойно, негромким голосом он дал этот странный ответ:
— Иной жизни не существует.
Легчайшее дуновение его мысли проникло в меня, а с ним вместе неясное и смутное пока, но несущее с собой надежду и покой предчувствие, что слова Сатаны должны быть правдой, что они не могут не быть правдой.
— Неужели тебе никогда не приходилось думать об этом, Теодор?
— Нет. Мне не хватало смелости. Неужели это правда?
— Это правда.
Порыв благодарности стеснил мне грудь, но, прежде чем я успел его выразить, вновь родилось сомнение:
— Да, но ведь... мы сами видели эту будущую жизнь, мы видели ее наяву... значит...
— Это было видение. Ничего больше.
Я дрожал всем телом, великая надежда охватила меня.
— Видение? Одно лишь видение?
— Сама жизнь — только видение, только сон.
Его слова пронзили меня, словно удар ножа. Боже мой! Тысячу раз эта мысль приходила мне на ум!
— Нет ничего. Все только сон. Бог, человек, вселенная, солнце, луна, россыпи звезд — все это сон, только сон. Их нет. Нет ничего, кроме пустоты и тебя.
— И меня?..
— Но ты — это тоже не ты. Нет тела твоего, нет крови твоей, нет костей твоих — есть только мысль. И меня тоже нет. Я всего только сон, я рожден твоим воображением. Стоит тебе понять это до конца и изгнать меня из твоих видений — я тотчас растворюсь в пустоте, из которой ты вызвал меня... Вот я уже гибну, я кончаюсь, я ухожу прочь. Сейчас ты останешься один навек в необъятном пространстве и будешь бродить по его бескрайним пустыням без товарища, без друга, потому что ты — только мысль, единственная мысль на свете, и никому не дано ни разрушить эту одинокую мысль, ни истребить ее. А я лишь покорный слуга твой, я дал тебе познать себя, дал обрести свободу. Пусть тебе снятся теперь иные, лучшие сны.
Странно! Как странно, что ты не понял этого уже давным-давно, сто лет назад, тысячи лет назад, не понимал все время, что существуешь один-единственный в вечности. Как странно, что ты не понял, что ваша вселенная и жизнь вашей вселенной — только сон, видение, выдумка. Странно потому, что вселенная ваша так чудовищна и так нелепа, как может быть чудовищен и нелеп только лишь сон. Бог, который властен творить добрых детей, так же как и злых, — но творит только злых; бог, который мог бы с легкостью сделать все свои творения счастливыми, — но предпочитает делать их несчастными; бог, который заставляет их цепляться за горестную жизнь, — но скаредно отмеривает каждое ее мгновение; бог, который дарит своим ангелам вечное блаженство задаром, — но остальных своих детей заставляет добиваться его в тяжких муках; бог, который дал своим ангелам свободу от страданий, а других своих детей наделил неисцелимыми недугами, язвами духа и тела! Бог, проповедующий справедливость — и придумавший адские муки, призывающий любить ближнего, как самого себя, и прощать врагам семьдесят раз, умноженных на семь, — и придумавший адские муки! Бог, который предписывает нравственную жизнь, но сам безнравствен; осуждает преступления, но сам их совершает; бог, который создал человека, не спросясь у него, но возложил ответственность за проступки человека на его хрупкие плечи, вместо того чтобы честно принять их на свои, и, наконец, с подлинно божественной тупостью заставляет своего замученного и поруганного раба молиться на себя!..
Теперь ты понимаешь, что подобное возможно лишь во сне. Теперь тебе понятно, что это не более чем абсурд, порождение незрелого и вздорного воображения, неспособного даже осознать свою нелепость, что это всего только сон, который тебе приснился. Это не может быть не чем иным, кроме как сном. Как ты не догадывался об этом раньше?
Все, что я тебе говорю сейчас, — это правда! Нет бога, нет вселенной, нет человеческого рода, нет жизни, нет рая, нет ада. Все это только сон, замысловатый, дурацкий сон. Нет ничего, кроме тебя. А ты — только мысль, блуждающая мысль, бесцельная мысль, бездомная мысль, потерявшаяся в вечном пространстве.
Он исчез и оставил меня в смятении, потому что я знал, знал наверняка, что все, что он сказал, было правдой.
Настоящий перевод «Таинственного незнакомца» сделан по американскому изданию «Харпер энд брозерс» 1922 г.
КОММЕНТАРИИ
«ПО ЭКВАТОРУ» И «ТАИНСТВЕННЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
Третья книга Марка Твена о путешествии за границей, в отличие от первых двух («Простаки за границей» и «Пешком по Европе»), создавалась в очень трудное для писателя время.
В 1894 году, в разгар экономического кризиса в США, принадлежавшее Твену издательство «Чарльз Уэбстер энд Компэни» потерпело крах. Одновременно погибли сбережения Твена, вложенные в новую типографскую машину, изобретателя которой он долгое время поддерживал. Твен не пожелал воспользоваться льготами, которые буржуазное законодательство предоставляет банкротам, и заявил, что вернет своим кредиторам «все до последнего цента», попросив лишь отсрочить уплату. В поисках быстрого и верного заработка он решил поехать за границу с публичными чтениями и затем издать книгу о своей поездке.
В августе 1895 года Твен отправился в кругосветное путешествие, затянувшееся на целый год. Он начал свои чтения уже в США, по пути в Ванкувер (Канада), откуда он должен был отплыть. Твен читал отрывки из «Простаков за границей», «Налегке», «Приключений Гекльберри Финна», а также выступал с устными рассказами из старого юмористического репертуара 70-х годов («3олотая рука», «Старый дедушкин баран» и др.). Маршрут путешествия был таков: Австралия, Тасмания, Новая Зеландия, Цейлон, Индия, Южная Африка. В течение всей поездки Твена беспокоило нездоровье; он тяготился вынужденными публичными выступлениями и даже считал их постыдными; временами терял надежду, что ему удастся заработать достаточно денег, чтобы расплатиться с кредиторами. Позже он так говорил о своей поездке: «Я, почти старик, больной, преследуемый бронхитом, карбункулами, ревматизмом, с истерзанными нервами, — я должен был паковать чемоданы и мчаться вокруг этого дьявольского света, — и для чего? Чтобы платить долги, которых я не делал». (Запись дочери Твена Клары Клеменс.)
Из Южной Африки, закончив чтения, Твен поехал в Англию, куда прибыл в конце июля 1896 года; он намеревался в Лондоне написать свою книгу. Здесь его постиг новый удар — в августе в США скоропостижно умерла его старшая дочь Сюзи. В октябре Твен поселился отшельником на окраине Лондона и начал писать «По экватору» (сперва рукопись называлась «Вокруг света»). Американские газеты пустили слух, что он покинут семьей, распространяли ложные сообщения о его смерти; Твен болезненно реагировал на эти измышления желтой прессы. Он работал с большим напряжением, подгоняемый денежными заботами и пытаясь найти в работе забвение от горестных мыслей. «Придет ли исцеление, буду ли я снова дорожить жизнью?» — писал он своему другу, американскому писателю Гоуэлсу. 15 апреля 1897 года он записал в дневнике: «Сегодня окончил книгу», и 18 мая: «Снова окончил книгу. Дописал 30 000 слов». Гонорара за книгу и заработка от публичных чтений Твену хватило для уплаты основного долга. Полностью он рассчитался с кредиторами лишь в 1898 году.
«По экватору» — неровная книга как в литературном отношении, так и по своей общественной ценности.
Твен стремится разнообразить и обогащать повествование, перемежая путевые очерки и дневниковые записи историко-культурными и публицистическими отступлениями. Публицистичность книги «По экватору» отражает расширение социально-политических интересов Твена. Однако как раз в публицистических главах «По экватору», в исторических экскурсах и отдельных общественно-политических оценках наиболее остро оказалась противоречивость, а порой и ошибочность его политических взглядов.
Сочувствие Твена на стороне угнетенных колониальных народов, но он еще находится под сильным влиянием ходячих мнений буржуазных историков и публицистов. В особенности это проявилось в главах, посвященных Индии, где многие страницы вызывают законный протест читателя. Некритически следуя фальшивым источникам, Твен говорит о «цивилизаторской миссии» англичан в Индии, по незнанию искажает смысл исторических событий. В 22-й главе второго тома он односторонне и несправедливо освещает всенародное индийское восстание 1857-1859 годов («восстание сипаев»), говоря лишь о жестокости восставшего народа и замалчивая многолетний кровавый террор англичан, послуживший причиной восстания; он повторяет досужие измышления английских колониалистов о национальном характере индийцев; он пытается искать какое-то положительное содержание в деятельности таких жесточайших британских колонизаторов, как Клайв или Гастингс. Не будет преувеличением сказать, что в большей части своих суждений о роли англичан в Индии Твен еще находится в плену реакционной историографии и английской империалистической пропаганды. (При чтении индийских глав книги «По экватору» читателю будет полезно следить за историческим комментарием К. А. Антоновой к настоящему изданию.)
Вместе с тем Твен в своей книге не раз активно выступает против колонизаторов. В 21-й главе первого тома книги он пишет о бесчеловечном преследовании коренного населения австралийского материка белыми поселенцами. В 27-й главе он освещает историю истребления колонизаторами аборигенов Тасмании. Твен прибыл в Наталь вскоре после разбойничьего набега английского отряда Джеймсона на бурскую республику Трансвааль и резко осудил колониалистские авантюры англичан в Южной Африке. В заключительных главах второго тома своей книги он вновь и вновь касается этой темы, клеймит идеолога английской империалистической экспансии Сесиля Родса и осуждает английского поэта-лауреата Джеймса Остина за стихи в защиту империалистической авантюры в Африке. Следует отметить, что, протестуя против экспансии англичан, Твен одновременно осуждает и буров за угнетение и преследование коренного негритянского населения Южной Африки.
Эта антиколониалистская публицистика Твена, пока еще ограниченная укоренившимися в его сознании историческими и политическими предрассудками, составляет новую страницу в его идейной и творческой биографии. Она отражает его политическую эволюцию в 1890-х годах, на пороге эпохи империализма, и предшествует его знаменитым антиимпериалистическим выступлениям 1900-х годов.
Многое в книге, что связано с непосредственными личными впечатлениями Твена, свежо, интересно и привлекательно. Он очарован Востоком, его яркостью и своеобразием, и полон живой симпатии к народам отсталых и угнетенных стран — индийцам, цейлонцам, южноафриканским неграм. Проявления колониального неравенства н несправедливости вызывают у Твена не только протест, но и ощущение личной вины. В этой связи замечательно своей искренностью и прямотой небольшое отступление во 2-й главе второго тома книги: увидев, как немец-управляющий в бомбейской гостинице ударил по лицу слугу-индийца, Твен мгновенно переносится мыслью к своему детству в рабовладельческой деревушке в Миссури и вспоминает, как расправлялись с неграми-невольниками американские рабовладельцы, в том числе и его собственный отец.
Каждой главе своей книги писатель предпосылает саркастические и горькие афоризмы из «Нового календаря Простофили Вильсона». Эти эпиграфы, также отражающие нарастание и обострение социального протеста Твена, по большей части высмеивают ненавистные Твену людские пороки-лицемерие, ханжество, жестокость, но временами переходят в конкретную критику буржуазного общества и американской буржуазной демократии. Таков, например, знаменитый эпиграф к 20-й главе первого тома: «Милостью божьей в нашей стране есть такие неоценимые блага, как свобода слова, свобода совести и благоразумие никогда этими благами не пользоваться».
Повесть Твена «Таинственный незнакомец» была посмертно опубликована в 1916 году секретарем и первым хранителей литературного наследия Твена, Альбертом Пейном. Творческая история этой повести недостаточно изучена; ее черновики и варианты не опубликованы и хранятся в архиве Твена, сколько-нибудь полного описания которого не существует.
Первое упоминание о замысле «Таинственного незнакомца» имеется в записи Твена, относящейся к сентябрю 1898 года: «Рассказ о Сатане-младшем, который поселился в Ганнибале и посещал там школу. Те, кто был посвящен в его тайну, дружили с ним и очень его любили. Другие завидовали ему. Девочки не хотели водиться с ним потому, что от него пахло серой. Он часто творил чудеса, его друзья знали, что это чудеса, другие считали, что это фокусы». Продумывая и расширяя план повести, Твен вскоре стал придавать ей чрезвычайное значение; он считал, что в этой книге сумеет высказаться до конца по ряду волновавших его морально-философских вопросов. В мае 1899 года Твен писал Гоуэлсу, что, разделавшись с материальными затруднениями, намерен прекратить литературную работу для заработка и будет писать книгу, о которой давно мечтает, «книгу, в которой я ничем не буду себя ограничивать, не буду считаться с чувствами и предрассудками других... книгу, в которой выскажу все, что думаю, все, что у меня на сердце, все начистоту, без оглядки...» В том же письме Твен сообщает, что уже дважды начинал работу над повестью — и оба раза оказывался на неверном пути, но теперь, как он считает, нашел то, что искал, и намерен довести работу до конца. Однако через восемь лет, в автобиографической записи от 30 августа 1906 года, Твен отмечает, что «Таинственный незнакомец» написан только лишь «более чем наполовину». Твен добавляет: «Я много отдал бы, чтобы довести ее [повесть] до конца. Сознание, что это невыполнимо, причиняет мне истинную боль».
Бернард Де Вото, сменивший Пейна в качестве хранителя твеновского литературного наследия, обнаружил в бумагах писателя два ранних незавершенных варианта «Таинственного незнакомца», о которых Твен упоминает в своем цитированном выше письме к Гоуэлсу. В первом из этих вариантов, непосредственно связанном с твеновской записью 1898 года, Сатана появляется в Ганнибале, родном городе Твена, и рядом с ним выведены Том Сойер и Гек Финн. Во втором варианте действие уже перенесено в средневековую Европу, но автобиографические мотивы, связанные с Ганнибалом и детством Твена, еще сохраняются (так, в средневековой деревне у Твена описана типография примерно такого типа, в какой подростком работал он сам). Публикуя третий вариант «Таинственного незнакомца», также не завершенный Твеном, Пейн добавил к нему в качестве окончания последнюю (11-ю) главу, принадлежавшую, как он полагает, одному из ранних вариантов повести. Де Вото ставит в заслугу Пейну его редакцию «Таинственного незнакомца», считая, что Пейн нашел истинный конец повести; однако решить этот вопрос историки литературы смогут лишь после опубликования всех рукописей Твена, связанных с творческой историей «Таинственного незнакомца».
В опубликованном варианте повести действие происходит в Австрии шестнадцатого века, в деревушке Эзельдорф (Ослиная деревня). Таинственный герой повести, который называет себя Сатаной и обладает чудесной, сверхъестественной силой, вмешивается в жизнь обитателей Эзельдорфа, погрязших в корыстных интересах, убогих верованиях, жестоких и нелепых предрассудках. С тремя мальчиками-подростками, с которыми он дружит, Сатана ведет беседы о несправедливом социальном устройстве общества, о религии, о природе человека и критикует людей за жестокость друг к другу и за трусливое пресмыкательство перед деспотизмом. В «Таинственном незнакомце» нашли наиболее полное выражение горько пессимистические настроения Твена в поздний период его жизни и творчества. Однако было бы неправильно видеть в повести только лишь «пессимистический манифест» Твена, как это делают буржуазные литературоведы. Живая, ищущая мысль Твена не всегда совпадает с безрадостными и фаталистическими выводами «таинственного незнакомца» и порою вступает с ними в противоречие. Следует отметить в этой связи рассуждения Твена в 10-й главе повести 0 грозной и очищаю щей силе смеха в борьбе с предрассудками, затуманивающими сознание людей.
Важно отметить и то, что, невзирая на аллегоричность повести, удаляющую писателя от конкретного изображения жизни, и на то, что действие повести отнесено в прошлое, к XVI столетию, в «Таинственном незнакомце» в той или другой форме затронуты все основные социально-политические проблемы, волновавшие Твена в последние годы его жизни. В 6-й главе повести говорится об эксплуатации рабочего класса; в 9-й Твен разоблачает захватнические войны; в 10-й показан белый колонизатор Индии. По всей повести проходят как лейтмотивы резкий антирелигиозный и антиклерикальный протест, ненависть к угнетателям и эксплуататорам, жажда социальной справедливости.
А. СТАРЦЕВ
1
Простофиля Вильсон — герой одноименного произведения М. Твена (1894). См. т. 7 настоящего издания.
(обратно)2
Есть (франц.).
(обратно)3
Потерян (нем.).
(обратно)4
Генерал Грант Улисс (1822-1885) — в Гражданской войне 1861-1865 гг. в Северной Америке командовал войсками северян; в 1869-1877 гг. был президентом США.
(обратно)5
Гонолулу — столица острова Гавайи, самого большого из Гавайских (или Сандвичевых) островов. В самом начале XIX в. Камеамеа І объединил под своей властью мелкие владения князьков на острове Гавайи и смог оказать сопротивление проникновению туда колониальных держав. В 1893 г. США свергли правителя Гавайи Лилиукалани и завладели его территорией, но под давлением других империалистических стран отказались от официального оформления этого захвата до 1897 г, когда аннексия Гавайских островов Соединенными Штатами была открыто провозглашена.
(обратно)6
Лайош Кошут (1802-1894) — венгерский политический деятель, организатор борьбы венгерского народа во время венгерской революции 1848-1849 гг.
Женни Линд (1820-1887) — шведская певица.
«Ревекка у колодца», «Моисей, исторгающий воду из скалы», «Слуги Иосифа находят кубок в мешке Вениамина» — сюжеты, заимствованные из библии.
Бакстер Ричард (1615-1691) — английский пуританский проповедник и богослов.
(обратно)7
Фокс Джон (1516-1587) — английский богослов.
Таппер Мартин (1810-1889) — английский писатель. В своей книге «Философия, вошедшая в пословицы» в бездарных виршах излагал правила буржуазной морали.
(обратно)8
Эксетер-Холл. — В Эксетер-Холле в Лондоне в конце XIX в. помещались религиозно-филантропические учреждения.
(обратно)9
Ф о р б с, Два года на Фиджи (Прим. автора.)
(обратно)10
Перевод И. Гуровой.
(обратно)11
Сборник лирических песен миссис Джулии Мур, стр. 36. (Прим. автора.)
(обратно)12
Перевод И. Гуровой.
(обратно)13
Дж. Лори. История Австралазии. (Прим. автора.)
(обратно)14
Сесиль Родс (1853-1902) — представитель английского империализма в Южной Африке; в 70-х гг. XIX в. составил себе большое состояние на добыче южноафриканских алмазов и совместно с гамбуржцем А. Бейтом основал компанию по добыче алмазов в Кимберли. С начала 80-х гг. стал крупным политическим деятелем в Южной Африке. а с 1890 г. — премьер-министром Капской колонии. В 1884 г. финансировал завоевание Бечуаналенда, а в 1889 г. основал «Компанию по хартии», которая стала заселять европейскими колонистами земли, впоследствии названные Родезией. Когда в бурской республике Трансвааль были найдены новые богатые алмазные россыпи, Родс, стремясь прибрать их к рукам, организовал набег Джеймсона, послуживший началом первой англо-бурской войны 1895-1896 гг. Во второй англо-бурской войне (1899-1902 гг.) Родс принял участие в обороне Кимберли. Родс являлся, как указывал В. И. Ленин, «главным виновником» англо-бурской войны 1899-1902 гг. (Соч., 4 изд., т. 22, стр. 244). Рассказ о Родсе в ХІІІ главе носит шуточный характер. О набеге Джеймсона и об отношении к нему и к Родсу М. Твена см. заключительные главы книги.
(обратно)15
Истец Тичборн. — Под этим именем был известен авантюрист Артур Ортон (1834-1898), выдавший себя за пропавшего без вести знатного и богатого англичанина Роджера Тичборна и в 1865 г. потребовавший своего восстановления в правах. Долгое судебное разбирательство по поводу иска Ортона закончилось обвинением Истца в принесении ложной клятвы и осуждением его на каторжные работы.
(обратно)16
Хьюз Томас (1822-1896) — английский писатель и юрист, автор популярных книг из жизни английских школьников и студентов.
(обратно)17
Гарфилд Дж. А. (1831-1881) — генерал во время Гражданской войны в США; в 1880 г. был избран президентом США, но вскоре был убит безработным по имени Гито.
(обратно)18
Гай Фокс (1570-1606) — организатор так называемого «порохового заговора» католической реакции. Подложив бочку с порохом под здание английского парламента, он намеревался его взорвать; однако заговор был раскрыт, а Фокс казнен. День раскрытия заговора — 5 ноября — до сих пор отмечается в Англии как праздник.
(обратно)19
Четвертое июля — праздник в Соединенных Штатах. В этот день отмечается годовщина Декларации независимости (1776).
(обратно)20
Синяя книга Нового Южного Уэльса. (Прим. автора.)
(обратно)21
Д. М. Лаки (Прим. автора.)
(обратно)22
Самая сильная жара в Виктории наблюдалась, по официальным источникам, в Сандгарсте в январе 1862 года. Термометр показывал 117° в тени. В январе 1880 года в Аделаиде (Южная Австралия) температура была 172° на солнце. (Прим. автора.)
(обратно)23
Все данные, кроме двух последних, взяты из книги «По Британской империи» Джорджа Р. Паркина. (Прим. автора.)
(обратно)24
Смотри главу о Тасмании. (Прим. автора).
(обратно)25
Маркус Кларк (1846-1881) — австралийский романист и драматург; Рольф Болдревуд — псевдоним австралийского романиста Т. А. Брауна (1826-1915); Гордон А. Л. (1833-1870) — австралийский поэт-романтик; Кендолл Г. К. (1841-1882) — крупный австралийский поэт-лирик.
(обратно)26
Ботичелли С. (1444-1510) — известный флорентийский художник итальянского Возрождения.
Дюморье (1834-1896) — английский карикатурист и писатель, сотрудничавший долгие годы в английском юмористическом журнале «Панч».
Корробори — пляски австралийцев как развлекательного, так и обрядового характера.
(обратно)27
Иоанн — король Англии (1199-1216); в борьбе с восставшими против него английскими баронами вынужден был даровать им в 1215 г. так называемую Великую хартию вольностей.
Хэмпден Джон (1594-1643) — один из руководителей английской революции XVII в., возглавлял борьбу против корабельного налога, незаконно введенного королем Карлом І.
(обратно)28
Конкорд и Лексингтон — места первых крупных сражений в 1775 г., в борьбе североамериканских колоний за независимость.
(обратно)29
Тренч и Латам — известные английские филологи ХІХ в.
(обратно)30
Леонид — царь Спарты (488-480 до н. э.), героически защищавший в 480 г. до н. э. вместе с тремястами воинов Фермопильское ущелье (во время греко-персидской войны).
(обратно)31
«Черный Дуглас» (?-1330) — вождь шотландского клана, боровшийся против английских вторжений в Шотландию.
(обратно)32
Уоллес У. (1270-1305) — руководитель антианглийской борьбы за независимость Шотландии, воспетый в шотландской народной поэзии.
(обратно)33
Сумчатое — это стопоходящее позвоночное, главная особенность которого — наличие кармана. В некоторых странах оно вымерло, в других встречается редко. Первыми сумчатыми Америки были Стефан Жирард, мистер Астор и опоссум; основные сумчатые Южного полушария — Сесиль Родс и кенгуру. Себя я причисляю к новейшим сумчатым. Могу также похвастаться, что самый большой карман у меня. Но ведь в нем ничего нет. (Прим. автора).
(обратно)34
Майкл Дэвитт (1846-1906) — рабочий, один из вождей борьбы за независимость Ирландии, основателей Земельной лиги; был в 1870 г. сослан в Австралию и принимал там участие в политической жизни страны. По возвращении в Англию стал членом лейбористской партии
(обратно)35
Перепутанные строчки из стихотворения «Касабьянка» английской поэтессы Ф. Хименс (1793-1835).
(обратно)36
Винкельрид Е. — швейцарский национальный герой; погиб в бою с австрийцами в 1386 г.
Банкер-Халл — местечко близ Бостона, где американцы в 1775 г., во время войны за независимость, одержали победу над английскими войсками.
(обратно)37
Перевод И. Гуровой.
(обратно)38
Ласкары — матросы-индийцы.
(обратно)39
Парсы — потомки персов-зороастрийцев, переселившихся в Индию в VII-ХІ вв. н. э. в связи с завоеванием Ирана арабами-мусульманами. Первоначально парсы (именуемые еще гебрами) жили во многих местах Северной Индии, но к ХІХ в. крупная колония парсов находилась лишь в Гуджарате, на западном побережье Индии, особенно много их было в городе Бомбее. В ХVІ-ХVІІІ вв. среди парсов было много богатых купцов и откупщиков налогов. С завоеванием Индии англичанами парсы стали играть крупную роль в компрадорской торговле, а впоследствии из их среды вышли первые индийские фабриканты. Когда Твен посетил Индию, некоторые видные деятели-парсы были в руководстве партии «Индийский национальный конгресс», стремившейся тогда, действуя «лояльными» методами, добиться самостоятельности Индии.
(обратно)40
Чапраси — слуга или стражник-индиец.
(обратно)41
Религия индуизма действительно отличается сострадательностью к живым существам, однако крайних форм, включающих заботу о насекомых, достигает религия не индуизма, а джайнизма.
(обратно)42
Гоа — остров и город того же названия в Индии. В конце ХІХ в., когда писал Марк Твен, в руках Португалии осталось лишь три небольших владения в Индии — Гоа, Дамап и Диу, наиболее отсталые части страны.
(обратно)43
В древней Индии существовали 4 основных касты (сословия): брахманы (жрецы), кшатрии (воины), вайшии (торговцы и ремесленники) и шудры (крестьяне и рабы). Это деление на четыре сословия в какой-то мере существует и в наши дни, в смысле высокого или низкого кастового происхождения.
(обратно)44
Население сейчас насчитывает 300 миллионов. — М. Т.
(обратно)45
По-видимому, речь идет об Ага-хане (титул наследственного главы секты исмаилитов). Последние Ага-ханы воспитывались и жили преимущественно в Европе, наезжая в Индию лишь изредка, по торжественным случаям.
(обратно)46
Палитана — небольшое княжество в 190 милях от Бомбея, площадью в 99 кв. миль и с населением примерно в 55 тыс. человек (в то время, когда Твен был в Индии).
(обратно)47
Зенана — гарем.
(обратно)48
Панчаят — совет старейшин в сельской или религиозной общине или в касте.
(обратно)49
Джайны — религиозная община. Джайнизм как религиозное учение зародился еще в древней Индии и характеризуется крайней заботой о всех живых существах. Однако среди джайнов в Индии имеется значительное количество богатых ростовщиков, взимающих со своих должников грабительские проценты и отличающихся своей безжалостностью по отношению к людям, от них зависящим.
(обратно)50
В Индии в торжественных случаях при появлении индийского князя салютовали из пушек, причем количество положенных салютов определял ранг данного князя. Эта привилегия салюта очень ценилась.
(обратно)51
Английские колонизаторы сохраняли в Индии феодальные пережитки, так как это способствовало низкому уровню жизни и дешевизна рабочей силы в стране. Одним из таких феодальных пережитков было сохранение индийских княжеств с неограниченной властью князей, при всяком направлением против них массовом движении опиравшихся на английские штыки. В индийских княжествах, как правило, нищета и бесправие населения были еще большими, чем в Британской Индии, и основание школы, больницы или промышленного предприятия зависело только от доброй воли князя и было чрезвычайно редким явлением. Твен в оценке последствий английского господства в Индии находился под влиянием официальной империалистической пропаганды, лживо уверявшей, что под британской властью в Индии распространяются блага цивилизации, порядка и мира. Сам Твен неоднократно отмечал нищету индийских масс, но, веря утверждениям колонизаторов, не связывал это с последствиями полуторавекового английского гнета.
(обратно)52
Дурбар — двор правителя, а также аудиенция при дворе.
(обратно)53
Вакил — представитель, агент.
(обратно)54
Гризи Карлотта (1821-1899) — итальянская балерина.
(обратно)55
Медоус Тэйлор (1808-1876) — английский чиновник в Индии, написавший ряд романов из индийской жизни. Его роман «Признания туга» написан в 1839 г., на основе официального отчета о дознаниях по делу тугов.
Туги (тхаги) — в Индии являлись грабителями, обставлявшими свой «промысел» на большой дороге известным религиозным ритуалом. В результате длительного процесса завоевания Индии английскими захватчиками, распада ряда индийских княжеств, покоренных англичанами, разорения ряда местностей и расформирования многотысячных индийских армий в Индии первой трети ХІХ в. бродяжило много разоренных и деклассированных людей. Поэтому туги, бывшие в начале ХІХ в. небольшой сектой или бандой, к 20- 30-м гг. ХІХ в. распространились почти но всей Центральной Индии. Тревожась за безопасность торговых путей, по которым должны были распространяться английские товары, англичане во второй половине 30-х гг. ХІХ в. подавили банды тугов. Твен, писавший на основании официального английского отчета, преувеличивает цивилизаторское значение для Индии этого мероприятия.
(обратно)56
Джубили Миллс — самая крупная ткацкая фабрика Бомбея.
(обратно)57
Пайса — мелкая медная монета.
(обратно)58
Чоли — короткая женская курточка, надеваемая под сари.
(обратно)59
Уоррен Гастингс (1732-1818) — первый английский генерал-губернатор в Индии (1772-1784), проводивший жестокую колонизаторскую политику. Его личным главным противником в Индии был член его совета Филипп Фрэнсис (1740-1818), надеявшийся сам занять место Гастингса и потому выступавший против всех его мероприятий.
Маколей Т. Б. (1800-1859) — английский либеральный деятель и историк, искажавший, как отмечал Маркс, историю в угоду английской буржуазии. В 1833 г. был назначен в Индию в качестве члена совета при генерал-губернаторе по законодательным вопросам. Презрительно относился к индийской культуре, а индийцев считал лжецами и обманщиками. Во всех учебных заведениях Индии, кроме низшей школы, он ввел обучение исключительно на английском языке, заявив, что одна полка английских книг стоит всей литературы Востока.
(обратно)60
Английские колонизаторы ввели в Индии свою систему судопроизводства, в которой главную роль играли показания свидетелей. При царившей в Индии нищете, индийские богачи и английские чиновники могли с легкостью заставить зависимых от них лиц лжесвидетельствовать в свою пользу.
(обратно)61
Колесница Джаггернаута (правильнее — Джагганнатха) — огромная колесница, которую волокли в Пури (Орисса) во время храмовой процессии в честь бога Джагганнатха. Верующие фанатики бросались под колеса, считая, что такая смерть открывает им дорогу к богу.
(обратно)62
Сати — обряд самосожжения вдов. Против сати выступали как мусульманские правители Могольской империи в Индии в ХVІ-ХVIІ вв., так и различные секты индуизма, например сикхи. В ХІХ в. за запрещение сати высказывались просвещенные индусы, в частности известный индийский деятель Рам Мохан Рей. Таким образом, ликвидация сати англичанами отнюдь не была столь большим нововведением, как утверждает английская пропаганда.
(обратно)63
Португальским словом «каста» в европейской литературе обозначали как сословные (по-санскритски «варна»), так и профессионально-племенные деления индийского общества, известные в Индии под названием «джати». Кастовая система являлась одним из сохраняемых англичанами пережитков феодализма и затрудняла объединение индийского населения в борьбе против эксплуататоров за свое национальное и классовое освобождение.
(обратно)64
«Сборник лирических песен», стр. 49, раздел «Ранняя пора жизни поэта», куплет 19. (Прим. автора).
(обратно)65
Кайеты — каста писцов в Центральной Индии.
(обратно)66
Хавилдар — сержант-индиец синайских войск.
(обратно)67
Марварцы — выходцы из княжества Марвар в Раджпутане. В других частях Индии марварцы обычно выступали в роли купцов.
Пандиты — ученые люди, знатоки священного писания у индусов.
Кхатрии — члены касты писцов.
Кахары — племя, живущее в горных районах Пенджаба.
Раджпуты — племя и каста. Раджпуты были воинственным крестьянством в Северной Индии и часто служили в войсках разных индийских князей.
Лохары — члены касты кузнецов.
(обратно)68
Гордон Камминг (1820-1866) — путешественник и охотник за дикими зверями в Африке, написавший книгу своих воспоминаний.
(обратно)69
«Всадив пулю в плечевую кость слона, что заставило его привалиться от слабости к дереву, я продолжал кипятить свой кофе. Подкрепившись и наблюдая между двумя глотками кофе за тем, как бьется и мучается слои, я решил выявить его наиболее уязвимые места и, подойдя совсем близко, выпустил несколько пуль в различные части его громадной головы. Он отозвался на выстрелы лишь взмахами хобота, словно приветствуя меня и осторожно касаясь своих ран каким-то особым трогательным движением. Увидя, к своему изумлению, что я лишь продлеваю страдания благородного животного, которое принимает выпавшие ему муки с таким глубоким достоинством, я решил покончить дело как можно быстрее и открыл огонь по слону с левой стороны. Целясь ему в плечо, я шесть раз выстрелил из нарезной винтовки, что должно было вызвать неминуемую смерть, а после этого, целясь опять же в плечо, шесть раз выстрелил из голландского шестифунтового ружья. Из глаз слона, которые он то медленно закрывал, то открывал, катились крупные слезы, все его огромное тело содрогалось в конвульсиях, и наконец он свалился на бок и издох». — Гордон Камминг. (Прим. автора).
(обратно)70
Так называемое «сипайское восстание» (1857-1859) было антиколониальным народным восстанием в Индии, в котором принимали участие как индусы, так и мусульмане и почти все слои индийского общества — крестьяне, ремесленники и даже некоторые прослойки феодалов, которых английские завоеватели лишили былой власти и привилегий. Началось это восстание в частях сипаев — индийских солдат на английской службе, — расквартированных в Мируте, 10 мая 1857 г., а затем распространилось по стране. Основными центрами восстания были Дели, бывшая столица Индии перед английским завоеванием, Каппур и Лакхнау. В Аллахабаде, который посетил М. Твен, синаи и городское население восстали 6 июня, однако восстание это было подавлено через две недели стянутыми к Аллахабаду из Бенареса английскими войсками под командой генерала Пила, прославившегося своей жестокостью. Победившие англичане сжигали деревни, вешали тысячи индийцев по подозрению в сочувствии восстанию, установили царство террора. По показанию современников, Аллахабад после ухода войск Нила казался обезлюдевшим.
(обратно)71
Аллахабадский форт был построен Акбаром, правителем Могольской империи (1556-1605).
(обратно)72
Дядюшка Римус — старый негр, от лица которого ведется повествование в сказках американского писателя Джоэла Чандлера Гарриса (1848-1908), написанных им на основе фольклорных рассказов и басен американских негров. «Братец Лис» — один из персонажей этих сказок.
(обратно)73
Аурангзеб — правитель Могольской империи (1659-1707). Он часто разрушал индусские храмы и строил вместо них мечети, в том числе и в священном для индусов городе Бенаресе.
(обратно)74
В договоре, заключенном в 1776 г. Ост-Индской компанией, завоевавшей Бенгалию, со своим вассалом раджей Чаит Сингхом, правителем Бенареса, было специально оговорено, что компания не имеет права увеличивать взимаемую с Бенареса дань. Однако, когда компания стала остро нуждаться в деньгах, генерал-губернатор Гастингс стал требовать дополнительных денег с Бенареса. В 1781 г., когда дань была повышена настолько, что Чаит Сингх не был в состоянии ее выплатить, Гастингс с небольшим отрядом прибыл в Бенарес и арестовал раджу. Это вызвало восстание населения в Бенаресе, разбившего отряд Гастингса. Через два месяца восстание было подавлено англичанами, подтянувшими новые силы. Гастингс вел себя как захватчик, не считаясь с данными компанией торжественными обязательствами и подавляя силой всякое сопротивление населения. Твен в своей оценке результатов превращения Индии в британскую колонию и действий Гастингса находился под влиянием реакционной пропаганды.
(обратно)75
Отряды английского полковника Клайва в битве при Плесси 23 июня 1757 г. разбили армию наваба (правителя) Бенгалии Сираджуд-даула и покорили Бенгалию, Это считается началом английского завоевания Индии.
(обратно)76
Твен ошибается: на всех индийских языках, пользующихся индийским шрифтом, слова читают слева направо.
(обратно)77
Барнум — известный директор цирка в Нью-Йорке в конце ХІХ в.
(обратно)78
Охтерлони (1758-1825) — английский генерал, служивший в индийской армии.
(обратно)79
Восхваление правосудия британских колонизаторов в Индии и верности их своему слову являлось общим местом английской империалистической пропаганды, под влиянием которой находился в данном случае и Марк Твен. В действительности английские завоеватели жестоко угнетали индийское население, презирали и унижали индийцев и нарушали свои обещания, как только им это было выгодно. Сам Твен заметил во второй главе, что европейцы в Индии обращаются со своими индийскими слугами так, как в южных штатах Америки обращались с неграми-рабами.
(обратно)80
Черная Яма — так называлось тюремное помещение в форте Калькутты. В 1756 г., когда английская Ост-Индская компания укрепилась в Индии и готовилась к завоеванию страны, наваб Бенгалии Сирадж-уд-даул, стремясь изгнать из своих владений опасных чужестранцев, взял с боем Калькутту, в которой господствовали англичане. Английские пленные были заключены в Черной Яме, где в течение ночи многие умерли от духоты, поскольку стража не имела права выпустить их самовольно и не решилась будить наваба. Оставшиеся в живых были освобождены на следующее утро навабом. Холуэлл, один из заключенных в Черной Яме, уверял, что там находилось 146 человек, из которых в живых осталось только 23. Английские ханжи, по выражению Маркса, кричали о «неслыханном зверстве наваба» и воспользовались этим как предлогом для захвата Бенгалии. Впоследствии в свидетельстве Холуэлла стали сомневаться, поскольку физически невозможно было втиснуть столько человек в небольшое 51 1/2-метровое помещение. В настоящее время армянским историком в Индии Сетхом найдены письма современников — армянских купцов, проживавших в Калькутте, и выяснено, что в Черной Яме было заключено 40-50 человек, а Холуэлл включил в их число всех англичан, погибших при штурме Калькутты. Холуэлл после победы англичан получил огромную денежную компенсацию и стал богатым и влиятельным человеком.
(обратно)81
Историки подозревают, что автором злых памфлетов «Письма Юниуса» (опубликованных в Лондоне в 1769-1772 гг.), содержащих резкие нападки на английское правительство и на короля, был Филипп Фрэнсис. После взаимных публичных оскорблений Гастингс и Фрэнсис дрались на дуэли. Фрэнсис был ранен и по выздоровлении покинул Индию.
Майдан — название центральной площади в Калькутте.
(обратно)82
Английский миссионерский гимн.
(обратно)83
Гладстон У. Ю. (1809-1898) — видный английский политический деятель, глава либеральной партии, четыре раза — в 1868-1874, в 1880-1885, в 1886 и в 1892-1894 гг. — был премьер-министром Англии.
(обратно)84
Он убил его накануне, (Прим. автора).
(обратно)85
Аннексия английскими колонизаторами крупного княжества Ауд в 1856 г. привела к роспуску княжеской армии и свиты и к падению ремесел. Кроме того, англичане угрожали начать пересмотр всех нрав крупных и средних феодальных владельцев на их земли. Поэтому аннексия Ауда вызвала недовольство многих слоев аудского населения и послужила одной из непосредственных причин народного восстания 1857-1859 гг.
Генри Лоуренс (1806-1857) — английский чиновник в Индии, к началу восстания в Ауде находился во главе местной администрации и подготовил оборону Резиденции. Умер от ран во время осады.
(обратно)86
Р. Клайв (1725-1774) был клерком Ост-Индской компании на юге Индии. Во время разгоревшейся там англо-французской торговой войны Клайв стал лейтенантом в английской армии и выдвинулся благодаря своим смелым действиям. После взятия Калькутты навабом Бенгалии Клайв (уже в чине полковника) был послан с войском из Мадраса в Бенгалию для восстановления положения. Отобрав обратно Калькутту, Клайв тайно договорился с одним из полководцев наваба и в битве при Плесси в 1757 г. разбил армию наваба Сирадж-уд-даула. Так Бенгалия стала английским владением. Одного из индийских посредников в переговорах с военачальником наваба Клайв обманул подложным договором, подделав на нем подписи. В 1765 г., после серьезного антианглийского восстания в Бенгалии, Клайв вернулся из Англии в Бенгалию в качестве губернатора. Устранив наиболее вопиющие злоупотребления английских чиновников, послужившие непосредственной причиной восстания, Клайв установил государственную монополию на соль, селитру и опиум, а прибыль от этого отдал высшим чиновникам Ост-Индской компании. В 1773 г. в палате общин состоялся суд над Клайвом, его обвинили в грабеже казны наваба и коррупции. Хотя факты подтвердились, Клайв был оправдан на основании того, что он, по словам приговора, «оказал большие и похвальные услуги своей стране», завоевав Бенгалию. Английские империалисты превозносили Клайва и Гастингса как «великих строителей империи», то есть своих предшественников в колониальном ограблении Индии.
(обратно)87
Нана Сахиб (1820-1859) — один из вождей народного восстания 1857-1859 гг.
Так называемая «трагедия в Канпуре» явилась результатом не обдуманного предательства, как утверждали колонизаторы, а стихийного взрыва ненависти к англичанам со стороны толпы, собравшейся на берегу во время их отъезда на лодках. К. Маркс писал, что «подобные насилия обычно встречаются только во время повстанческих, национальных, расовых и особенно религиозных войн... Как ни отвратительно поведение сипаев, оно лишь отражает в концентрированном виде поведение самой Англии в Индии не только в период основания ее восточной империи, но даже в продолжение последних десяти лет ее длительного господства. Для характеристики этого господства достаточно сказать, что пытка была неотъемлемой частью английской финансовой политики» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2-е, т. 12, М. 1958, стр. 296). К. Маркс добавляет: «...в отношении нынешней катастрофы было бы непростительной ошибкой предполагать, что все жестокости исходят только от сипаев» (там же, стр. 297). Дальше Маркс рассказывает в своей статье о зверствах, чинимых англичанами над индийским населением после подавления восстания. Он пишет: «Не следует также забывать, что, в то время как жестокости англичан изображаются как акты воинской доблести и описываются просто, кратко, без омерзительных подробностей, насилия туземцев, достаточно ужасные сами по себе, к тому же умышленно преувеличиваются» (там же, стр. 298). Марк Твен поддался влиянию империалистической пропаганды, о которой говорит Маркс, и приводит подробные описания, данные пострадавшими англичанами, ни словом не обмолвившись о жестоком терроре английских завоевателей, и в мирное время угнетавших население Индии и свирепо подавлявших всякую попытку индийцев освободиться от чужеземного гнета.
Столица Ауда Лакхнау стала во время народного восстания 1857-1859 гг. ареной ожесточенных боев. Англичане укрепились в так называемой Резиденции — большом европейском квартале прекрасных зданий на берегу реки. У восставшего населения почти не было патронов, во главе восставших солдат стояли люди неопытные в военном деле. Осада Резиденции затянулась, и англичане смогли там продержаться, пока не подошли посланные им на помощь английские войска.
(обратно)88
Дж. О. Тревельян (1838-1928) — крупный английский чиновник и историк. Один из его трудов посвящен истории восстания 1857-1859 гг. в Канпуре (опубликован н 1865 г.).
(обратно)89
Хью Уилер (1789-1857) — английский генерал в Индии. Во время восстания командовал канпурской дивизией. Вынужден был капитулировать перед восставшим населением и был убит в период «канпурской трагедии».
(обратно)90
Г. Хэвлок (1795-1857) — английский генерал. Во время восстания в 1857 г. Хэвлок вместе с Нилом жестоко подавил движение в Аллахабаде, нанес поражение Нана Сахибу и, взяв Канпур, отдал город на разграбление своим солдатам. Весь путь Хэвлока был отмечен потоками крови, резней населения и уничтожением сел. После трех неудачных попыток Хэвлок пробился в Резиденцию в Лакхнау, но не имел сил выйти оттуда. Осажденный восставшими в Резиденции, Хэвлок заболел и умер.
(обратно)91
Утрам Дж. (1803-1863) — английский генерал. До восстания был резидентом (английским представителем) в княжестве Ауд. После начала восстания вступил добровольцем в английскую армию и вместе с Хэвлоком пробился в лакхнаускую Резиденцию, где, после смерти Хэвлока, стал во главе осажденных английских сил. За «заслуги» в подавлении восставшего населения Утрам получил от английского правительства титул баронета и чин генерала.
(обратно)92
К. Кемпбелл (1792-1863) — английский генерал; при подавлении народного восстания в Индии отличился своими зверствами наравне с Нилом. Его войска, встретив жестокое сопротивление восставших в Лакхнау, после взятия города превратились в банду убийц и насильников, расстреливали стариков и детей и даже сжигали людей живьем. За эти «подвиги» Кемпбелл получил титул лорда и чин фельдмаршала.
(обратно)93
Колледж Мартиньер — школа во дворце, построенном французским авантюристом Клодом Мартином в Лакхнау. Незадолго до своей смерти, в 1800 г., Мартин завещал это здание и крупную сумму денег для организации школы, с целью обучения индийских детей английскому языку и литературе.
(обратно)94
Дилкуша — парк и загородный дворец, построенный в конце ХVІІІ в. навабом Ауда Саадат Али-ханом.
(обратно)95
Сикандербагх — большой сад в Лакхнау, неподалеку от Резиденции.
(обратно)96
Тадж-Махал — мавзолей, построенный Шах-Джеханом, правителем Могольской империи (1629-1658) над гробом его любимой жены. Сам Шах-Джехан тоже погребен в этом мавзолее. Тадж-Махал считается чудом индийской архитектуры.
(обратно)97
Хантер Уильям Уилсон (1840-1900) — английский историк и руководитель статистического департамента в Индии; автор исторических, статистических и филологических трудов и справочников по Индии.
(обратно)98
Хука — кальян; хауда — павильончик на спине слона, в котором сидят едущие.
(обратно)99
Кардинал Уолси (1472-1530) — влиятельный английский церковник и политический деятель при королях Генрихе VII и VІІІ, фактически правивший государством в течение 14 лет.
(обратно)100
«Я служу» — нем. — надпись на фоне пучка из трех страусовых перьев — герб принца Уэльского. Согласно историческим преданиям, этот герб ввел Эдуард, именуемый Черным принцем, победив в битве при Кресси в 1346 г. слепого короля Богемии и присвоив себе его девиз.
(обратно)101
Английский закон о неприкосновенности личности, введенный в 1679 г. и названный так по первым латинским словам («Есть у тебя личность»), с которых он начинается.
(обратно)102
Ошибки индийских школьников не удивительны, если принять во внимание, что обучение проводилось на английском языке, чуждом индийцам — учителям и учащимся, а предметом преподавания была история чужой страны — Англии.
(обратно)103
Капитан Джон Смит (1579-1631) — английский авантюрист, один из основателей английской колонии в Виргинии (Америка); попал в плен к индейцам и был спасен девушкой по имени Покохонтас, дочерью индейского вождя.
(обратно)104
Американского классика Ирвинга (1783-1859) звали Вашингтон, а не Генри.
(обратно)105
«Беовулф» — англосаксонский эпос VІІІ-ІХ вв. о приключениях рыцаря Беовулфа, ставшего правителем Готланда в Скандинавии.
(обратно)106
«Кентерберийские рассказы» — произведение английского поэта Дж. Чосера (1340-1400). Король Альфред правил Уэссексом (Англия) с 871 по 901 гг. н. з. О нем ни слова не упоминается в «Кентерберийских рассказах». Томас Бекет (1118-1170) — епископ Кентерберийский, боролся против церковной политики английского короля Генриха ІІ. Школьник неправильно написал его фамилию.
(обратно)107
«Дева озера» — поэма Вальтера Скотта (1771-1832).
(обратно)108
Джейн Остин (1775-1817) — английская писательница, автор семейно-бытовых психологических романов.
(обратно)109
Поль и Виргиния — герои одноименного романа французского писателя Жака Анри Бернарден де Сен-Пьера (1737-1814).
(обратно)110
Стонхендж — древнейшее сооружение (эпохи энеолита), расположенное у города Солсбери в Англии. Имело, по-видимому, культовое назначение.
(обратно)111
Коленсо Дж. В. (1814-1883) — английский епископ Наталя (Южно-Африканский Союз); был судим и приговорен к лишению сана и свободы за сомнения в некоторых догматах библии, но был оправдан английским светским Тайным Советом.
(обратно)112
Чака — вождь зулусов, объединивший в начале ХІХ в. различные зулусские племена и создавший сильное феодальное зулусское государство. Его сыну и преемнику Дингаану пришлось защищаться против нападения буров, нанесших ему поражение в 1838 г. и захвативших часть территории зулусов. В дальнейшем английские империалисты вели длительные кровавые войны против зулусов, оказывавших отчаянное сопротивление вооруженным пушками английский отрядам. В 1879 г. англичане и буры, выступая совместно, нанесли решительное поражение зулусам, руководимым их вождем Кечвайо. Территория зулусов была поделена между англичанами и бурами.
(обратно)113
Трапписты — католический монашеский орден, основанный А. Ж. де Рансэ (1626-1700), настоятелем бенедиктинского монастыря во Франции, называвшегося Ла Трапп.
(обратно)114
Крюгер П. (1825-1904) — с 1864 г. главнокомандующий, а с 1881 г. — президент бурской республики Трансвааль в Южной Африке. Оказал решительное сопротивление английскому империализму, возглавляемому Сесилем Родсом, желавшему захватить в свои руки богатые алмазные копи Трансвааля в двух войнах — 1880-1881 гг. и 1899-1902 гг. После победы англичан и аннексии Трансвааля Крюгер тщетно добивался в Европе дипломатической поддержки для буров.
(обратно)115
Ф. Реджиналд Стэтем, «Южная Африка, как она есть», стр. 82, Лондон, 1897. (Прим. автора).
(обратно)116
Я полагаю, что общее число выбывших из строя было никак не меньше 150, потому что в крюгередорпский госпиталь было доставлено 53 человека, а не 30, как утверждает мистер Гаррет. Дама, гостеприимством которой я пользовался в Крюгерсдорпе, сообщила мне эти цифры. С самого начала военных действий (1 января) и до прибытия профессиональных сестер милосердия (8 января) она была старшей сестрой этого госпиталя. Из этих 53 человек «трое или четверо были буры». Я привожу ее слова. (Прим. автора.)
(обратно)117
Оливия Шрайнер (1855-1920) — английская писательница, жившая долгое время среди буров и выступавшая против империалистической политики Англии в Южной Африке.
(обратно)118
Как раз в те дни, когда я дописываю эту книгу, разгорелся спор между доктором Джеймсоном и его офицерами, с одной стороны, и полковником Родсом, с другой, — относительно содержания записки, которую Родс послал с велосипедистом из Иоганнесбурга Джеймсону как раз накануне того памятного Нового года, когда начались военные действия. Обрывки этой записки были подобраны на поле битвы после сражения и сложены вместе; спор зашел о том, какие слова содержатся в отсутствующих кусках. Джеймсон утверждает, что записка содержала в себе обещание прислать из Иоганнесбурга триста человек подкрепления. Полковник Роде это отрицает, заявляя, что он просто пообещал выслать навстречу Джеймсону «несколько человек».
Как жаль, что такие добрые друзья ссорятся из-за подобного пустяка. Если бы и явилось подкрепление в 300 человек, какую пользу они бы принесли? За двадцать один час отчаянного сражения 530 солдат Джеймсона, вооруженные 8 пулеметами, 3 пушками и 145 000 пулеметных лент, убили лишь одного бура. Статистика доказывает, что подкреплений в 300 иоганнесбуржцев, вооруженных всего лишь мушкетами, явилось бы причиной гибели в лучшем случае лишь немногим более половины второго бура. Они не спасли бы Джеймсона. Это никак не могло бы оказать серьезного влияния на исход сражения. Цифры ясно, с математической точностью, свидетельствуют о том, что единственной возможностью спасти Цжеймсона или хотя бы уравнять его шансы с шансами противника было прислать ему из Иоганнесбурга 240 пулеметов, 90 пушек, 600 повозок с боеприпасами и 240 000 солдат. Иоганнесбург не мог этого сделать. Иоганнесбург всячески поносили за отказ в помощи Джеймсону. Но подобное обвинение могло исходить только от двух категорий людей: людей, которые не изучают историю, и людей вроде Джеймсона, которые даже после изучения истории не способны усвоить ее уроков. (Прим. автора).
(обратно)119
Кафрами (от арабск. «кафир» — «неверный») европейцы называли негров племени банту, включающего различные африканские племена, в том числе и зулусов. Военные столкновения с бурами, стремившимися захватить земли негров банту, продолжались в течение всего ХІХ в. Наиболее крупные «кафрские войны» против вторжения буров происходили в 1811-1812, 1834-1835, 1846--1847 и в 1850-1853 гг.
(обратно)120
Речь идет об осаде Вены турками под командованием Сулеймана V в 1529 г.
(обратно)121
Инкуб — по средневековому поверью, злой дух в образе мужчины, ищущего любовной связи с женщиной.
(обратно)122
В библейской легенде рассказывается, что взятый в плен и ослепленный филистимлянами Самсон, вернув свою силу, обрушил кровлю храма, похоронив под нею себя и своих врагов.
(обратно)123
Гай Юлий Цезарь был убит республиканцами под предводительством Брута в 44 г. до н. э.
(обратно)124
Речь идет об одном из эпизодов упоминавшегося цикла библейских легенд о борьбе Самсона с филистимлянами.
(обратно)125
Согласно библейской легенде, когда войска фараона преследовали иудеев, ушедших из Египта, Чермное море расступилось, чтобы беглецы могли пройти посуху, а потом, сомкнувшись, погубило египетскую армию.
(обратно)126
Папское отлучение (или интердикт) — наказание общины и даже целой страны в католическом церковном праве; интердикт предусматривает полное запрещение церковных служб и религиозных обрядов, а также другие репрессии, наводящие страх на верующее население.
(обратно)127
Показанное Сатаной убийство Авеля его братом Каином — библейская легенда. Вслед за нею упоминается легенда об опустошившем землю всемирном потопе, от которого спасся в ковчеге один лишь благочестивый Ной со своим семейством, ставший родоначальником нового поколения людей. Далее упоминаются следующие эпизоды из библии: позорное опьянение старого Ноя; гибель погрязших в пороке городов (Содома и Гоморры), от которой был избавлен праведник Лот с семьей; прелюбодеяние пьяного Лота со своими дочерьми.
(обратно)128
Сатана показывает мальчикам описанное в библии коварное убийство ханаанского военачальника Сисары, потерпевшего поражение в войне с иудеями.
(обратно)129
В результате 3-й Пунической войны (149-146 гг. до н. э.) Рим жестоко расправился с ослабевшим Карфагеном.
(обратно)130
В 55-54 гг. до н. э. кельтская Британия была завоевана римскими легионами.
(обратно)



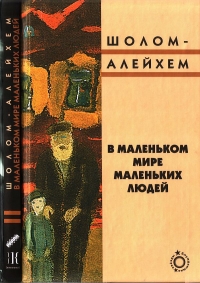
Комментарии к книге «Том 9», Марк Твен
Всего 0 комментариев