Джозеф Конрад Дуэль Повесть
Глава I
Наполеон Первый, чья карьера очень похожа на поединок, в котором он выступал один против целой Европы, терпеть не мог дуэлей между офицерами своей армии. Воинственный император отнюдь не был головорезом и мало питал уважения к традициям.
Однако история одной дуэли, ставшей легендой армии, входит в эпос собственных его величества войн. Вызывая восхищенное изумление своих товарищей, два офицера, уподобившись безумным живописцам, пытающимся позолотить чистейшее золото или расписать красками живую лилию, упорно вели свой поединок на протяжении всех этих долгих лет всемирной бойни. Оба они были кавалеристы, и эта связь их с пылким, своенравным животным, которое несет человека в битву, кажется нам здесь чрезвычайно уместной. Трудно было бы представить себе героями этой повести пехотных офицеров, чье воображение укрощено долгими пешими переходами, а доблести в силу этого отличаются несколько более тяжеловесным характером. Что же касается артиллеристов или саперов, головы которых постоянно охлаждаются сухой математической диетой, то для них это уже совершенно немыслимо.
Звали этих офицеров Феро и д'Юбер. Оба они были лейтенанты, гусары; но служили в разных полках.
Феро нес строевую службу, а лейтенанту д'Юберу посчастливилось оказаться лично при особе дивизионного генерала в качестве офицера для поручений. Дело было в Страсбурге, и в этом оживленном крупном гарнизоне они, как и все, спешили насладиться кратким промежутком мира. Они наслаждались им, будучи настроены оба весьма воинственно, ибо это был такой мир, когда точат шпаги и чистят ружья, желанный для сердца воина и не роняющий военного престижа, тем более что ни одна душа не верила ни в искренность этого мира, ни в его продолжительность.
Вот при таких-то исторических обстоятельствах, столь благоприятных для должной оценки того, что называется военным досугом, в один прекрасный день после полудня лейтенант д'Юбер шествовал по тихой уличке мирного предместья, направляясь к лейтенанту Феро, который квартировал в домике, выходившем в сад и принадлежавшем некой престарелой деве.
На его стук дверь немедленно открыли, и из нее выглянула молоденькая девушка в эльзасском костюме. Ее свежий вид и длинные ресницы, стыдливо опустившиеся перед статным офицером, заставили лейтенанта д'Юбера, человека в высшей степени восприимчивого к впечатлениям эстетического порядка, смягчить холодную, строгую суровость, которая была написана на его лице. Он тут же заметил, что на руке у нее висела пара синих гусарских с красным кантом рейтуз.
— Дома лейтенант Феро? — вежливо осведомился он.
— Ах нет, сударь, он ушел утром в шесть часов. Хорошенькая девушка попыталась было закрыть дверь, но лейтенант д'Юбер с мягкой настойчивостью, воспрепятствовал этому и вступил в переднюю, позванивая шпорами.
— Полно, душечка. Не станете же вы рассказывать мне, что он так и пропал с шести часов утра!
И с этими словами лейтенант д'Юбер без всяких церемоний отворил дверь в комнату, прибранную так чистенько и уютно, что только неоспоримые улики в виде сапог, мундира и прочих военных принадлежностей позволили ему убедиться, что это была действительно комната лейтенанта Феро. И тут же он убедился, что лейтенанта Феро нет дома… Правдивая девушка вошла вслед за ним и подняла на него свои ясные глазки.
— Гм!.. — произнес лейтенант д'Юбер, весьма разочарованный, ибо он уже побывал всюду, где может обретаться гусарский лейтенант в погожий день после полудня. — Так, значит, его так-таки и нет. А не знаете ли вы, милочка моя, для чего это ему понадобилось уйти в такую рань?
— Нет, — ответила девушка, не задумываясь. — Он вчера вернулся поздно, лег и сразу захрапел. Я встала в пять часов и слышала, как он храпел. А потом он надел свой самый старый мундир и ушел. Наверно, на службу.
— На службу?! Вот то-то и дело, что нет! — воскликнул лейтенант д'Юбер. — Знайте, мой ангелочек: он ушел спозаранку драться на дуэли с одним штатским.
Она выслушала эту новость, даже не моргнув черными ресницами. Очевидно было, что поступки лейтенанта Феро здесь обсуждению не подлежат. Она только глядела в немом изумлении. А лейтенант д'Юбер по этому невозмутимому спокойствию заключил, что она в течение дня, конечно, видела лейтенанта Феро. Он оглядел комнату.
— Да ну же! — настаивал он с вкрадчивой фамильярностью. — Он, может быть, где-нибудь здесь, дома? Она отрицательно покачала головой.
— Тем хуже для него, — продолжал лейтенант д'Юбер тоном тревожного убеждения. — Но он был дома после того, как уходил утром?
На этот раз хорошенькая девушка чуть заметно кивнула.
— Так был, — воскликнул д'Юбер, — и опять ушел! Зачем? Да что ему дома не сидится? Эка, полоумный! Послушайте, крошка…
Природное добросердечие д'Юбера и сильное чувство товарищества помогали его наблюдательности. Переменив тон, он заговорил с самой подкупающей ласковостью. И, поглядывая на гусарские рейтузы, висевшие у девушки на руке, он взывал к ее участию и заботам о благополучии и спокойствии лейтенанта Феро. Он говорил настойчиво и убедительно, пуская при этом в ход с превосходным результатом для дела свои красивые, ласковые глаза. Его страстное желание как можно скорее разыскать лейтенанта Феро для его же собственного блага казалось таким искренним, что наконец оно преодолело ее нежелание разговаривать. К сожалению, она не много могла рассказать. Лейтенант Феро вернулся домой примерно около десяти часов. Прошел прямо к себе, повалился на кровать и заснул. Она слышала, как он храпел, — еще громче, чем ночью. И так продолжалось далеко за полдень. Потом он встал, надел свой самый лучший мундир и ушел. И это все, что она знает.
Она подняла на него свои глазки и лейтенант д'Юбер уставился в них весьма недоверчиво.
— Просто невероятно! Пошел шататься по городу, нарядившись в парадный мундир! Да знаете ли вы, крошечка моя, что он сегодня утром проткнул этого штатского насквозь? Подцепил, как зайца на вертел!
Хорошенькая девушка выслушала это ужасное известие без малейшего огорчения, только задумчиво поджала губки.
— Вовсе он не шатается по городу! — произнесла она.
— А семья этого штатского, — продолжал лейтенант д'Юбер, выкладывая все то, что у него было на уме, — подняла невероятный скандал. Генерал очень рассержен. Семья эта — одна из самых видных в городе. И Феро следовало бы уж по крайней мере хоть дома сидеть.
— А что ему сделает генерал? — вдруг обеспокоилась девушка.
— Ну конечно, он ему голову с плеч не снимет, — проворчал д'Юбер, — но все-таки поведение Феро… просто неприлично. Он себе наделает пропасть неприятностей своим бахвальством.
— Да он вовсе не шатается по городу, — застенчиво повторила девушка.
— Ах да, верно! В самом деле, ведь я его нигде не встретил! Н-да… Но куда же он, черт побери, девался?
— Он пошел с визитом… — выговорила девушка, помолчав.
Лейтенант д'Юбер чуть не подскочил:
— С визитом? Что? Вы хотите сказать — с визитом к даме? Вот наглость! А вы откуда это знаете, милочка моя?
Не скрывая своего женского презрения к мужскому тупоумию, хорошенькая девушка напомнила, что лейтенант Феро надел свой самый лучший мундир. И также свой самый новый доломан[1], добавила она таким тоном, который ясно показывал, что этот разговор действует ей на нервы, и круто отвернулась.
Лейтенант д'Юбер, нимало не сомневаясь в разумности ее умозаключений, не видел, каким образом это, может помочь ему в его официальных розысках. Ибо его поиски лейтенанта Феро имели вполне официальный характер. Он не знал ни одной женщины, к которой этот молодчик, заколов сегодня утром человека, мог бы отправиться с визитом среди дня. Молодые люди были едва знакомы. Он в раздумье покусывал палец своей перчатки.
— С визитом! — вырвалось у него. — С визитом к самому дьяволу!
Девушка, которая в это время, повернувшись к нему спиной, складывала на стуле рейтузы, возразила с несколько уязвленным смешком:
— Ах, вовсе нет! К мадам де Льонн.
Лейтенант д'Юбер тихонько свистнул. Мадам де Льонн была супругой крупного сановника; ее салон пользовался известностью, как и претензии мадам на тонкие чувства и изысканность. Супруг был человек штатский и старик, но общество, посещающее салон, состояло из людей молодых и военных. Лейтенант д'Юбер свистнул не потому, что перспектива идти в этот салон искать лейтенанта Феро была ему неприятна, а потому, что он только недавно приехал в Страсбург и еще не имел чести быть представленным мадам де Льонн. А что он там делает, этот головорез Феро? Он кажется, не производит впечатления человека, который…
— Вы в этом уверены? — спросил лейтенант д'Юбер.
Девушка была вполне уверена. Не оборачиваясь и не глядя на него, она объяснила ему, что соседский кучер знает метрдотеля госпожи де Льонн. А отсюда и она все знает. Совершенно точно, она в этом уверена. И, выражая эту уверенность, она вздохнула.
— Лейтенант Феро ходит туда почти каждый день, — добавила она.
— А-а, вот как! — иронически воскликнул д'Юбер. Его мнение о госпоже де Льонн сразу упало на несколько градусов. Лейтенант Феро, по его соображениям, отнюдь не заслуживал внимания со стороны женщины, пользующейся репутацией чуткой и изысканной. Но что там говорить! В сущности, все они одинаково расчетливы, практичны и отнюдь не идеалистки. Впрочем, лейтенант д'Юбер не соизволил задерживаться на размышлениях подобного рода.
— Черт возьми, — продолжал он вслух, — генерал-то там тоже бывает! Если он застанет этого молодца у госпожи де Льонн, тут такое заварится! Генерал наш не очень покладистого нрава, уж в этом-то я смею вас заверить.
— Тогда идите же скорей! Не стойте здесь, раз я вам уже сказала, где он! — вдруг воскликнула девушка.
— Благодарю вас, милочка. Просто я не знаю, что бы я без вас стал делать!
И, изъявив свою благодарность с весьма настойчивой галантностью, лейтенант д'Юбер удалился.
Он шел по улице воинственно и браво, позвякивая шпорами. Стащить с заоблачных высот на землю товарища в гостиной, где его не знали, было для него совершенным пустяком. Ведь мундир его — это вроде пропуска, а положение офицера для поручений при дивизионном командире придавало ему еще большую самоуверенность. Тем более что теперь, когда он уже знал, где ему искать лейтенанта Феро, у него, в сущности, выбора не было: дело служебное.
Дом госпожи де Льонн выглядел весьма импозантно. Человек в ливрее распахнул дверь в гостиную с навощенным до блеска полом, выкрикнул имя д'Юбера и отступил, пропуская господина лейтенанта. Это был приемный день. Дамы были в громадных шляпах, обильно украшенных перьями; затянутые от подмышек до носков низко вырезанных атласных туфелек в белые, плотно облегающие шелка, они напоминали сильфид — такой прохладой веяло от этих блестящих обнаженных спин, плеч, рук. Мужчины, беседовавшие с ними, были, напротив, грузно облачены в пестрые мундиры с воротничками до самых ушей и толстыми поясами вокруг талии. Лейтенант д'Юбер, нимало не смутясь, прошел через всю комнату и, низко склонившись перед сильфидоподобной фигуркой, откинувшейся на кушетке, извинился за свое вторжение, которое, разумеется, ничто не могло бы извинить, если бы не крайняя безотлагательность служебного приказа, который он должен передать своему товарищу Феро. Он надеется, что ему позволят вернуться более надлежащим образом, чтобы испросить прощенье за то, что он осмелился прервать столь интересную беседу…
Обнаженная рука с грациозной небрежностью протянулась к его устам прежде, чем он успел договорить. Он почтительно поднес ее к губам, заметив про себя, что она несколько костлява.
Мадам де Льонн была блондинка, с нежнейшей кожей и с длинным лицом.
— Прекрасно! — промолвила она с воздушной улыбкой, обнажившей ряд крупных зубов. — Приходите сегодня вечером заслужить помилование…
— Почту своим долгом, мадам.
Между тем лейтенант Феро, во всем великолепии своего нового доломана и ослепительно начищенных сапог, сидел в креслах в двух шагах от кушетки. Одной рукой он упирался в бедро, другой покручивал кончик уса. В ответ на многозначительный взор д'Юбера он не спеша поднялся и медленно последовал за ним к оконной нише.
— Что вам угодно? — спросил он с поразительным равнодушием.
Лейтенант д'Юбер не мог себе представить, что лейтенант Феро в сердечной невинности и душевной простоте относится к своей дуэли без малейших угрызений совести и каких бы то ни было разумных опасений по поводу могущих возникнуть последствий. Хотя Феро и не совсем ясно помнил, из-за чего возникла эта ссора (это произошло в одном из заведения, где пиво и спиртные напитки подаются далеко за полночь), но у него не было ни малейшего сомнения в том, что именно он был оскорбленной стороной. Секундантами были его приятели, люди опытные. Все состоялось по всем правилам, установленным для такого рода происшествий. Ведь на дуэли, ясное дело, для того и дерутся, чтобы кто-нибудь из дерущихся был по меньшей мере ранен, если не убит наповал. Штатский оказался ранен, так что и тут все было в полном порядке. Лейтенант Феро был совершенно спокоен, но лейтенанту д'Юберу это показалось бахвальством, и поэтому он заговорил с раздражением:
— Генерал поручил мне передать вам приказ немедленно отправиться к себе на квартиру и оставаться там под строгим домашним арестом.
Теперь настала очередь лейтенанта Феро удивиться.
— Какого черта! Что это вы мне такое рассказываете? — пробормотал он растерянно и, не помня себя от изумления, машинально последовал за лейтенантом д'Юбером.
Двое офицеров, один высокий, с тонким лицом и усами цвета спелой ржи, другой низенький, коренастый, с горбатым носом и густой шапкой черных вьющихся волос, приблизились к хозяйке дома проститься. Мадам де Льонн улыбнулась этим двум воинственным юношам с совершенно одинаковой чуткостью и равной дозой интереса к каждому. Все остальные глаза в гостиной внимательно провожали удаляющихся офицеров. А когда они вышли, кое-кто из тех, кто уже слышал о дуэли, поделились своими сведениями с сильфидоподобными дамами, которые приняли это со слабыми возгласами гуманного сочувствия.
Между тем два гусара шествовали рядом: лейтенант Феро — углубившись в тщетные попытки проникнуть в суть вещей, которая в данный момент ускользала от его понимания, а лейтенант д'Юбер — досадуя на свою миссию, ибо инструкция генерала требовала от него, чтобы он лично удостоверился, что лейтенант Феро приказ выполнил и при этом без малейшего промедления.
«Командир, по-видимому, прекрасно знает это животное», — думал д'Юбер, поглядывая на своего спутника, чья круглая физиономия, круглые глаза и даже закругленные черные усики — все решительно, казалось, было пронизано отчаянным усилием постичь непостижимое. Он сказал вслух с некоторой укоризной:
— Генерал чертовски зол на вас.
Лейтенант Феро внезапно остановился на краю тротуара и воскликнул с таким чистосердечием в голосе, что нельзя было усомниться в его искренности:
— Да за что, черт побери! За что же?
Наивность этой бурной гасконской души проявилась и в том жесте, каким он, схватившись обеими руками за голову, сдавил ее, словно опасаясь, чтобы она не лопнула от напряжения.
— За дуэль, — коротко ответил лейтенант д'Юбер. Его невероятно раздражало это упорное шутовство.
— За дуэль? Как!
Лейтенант Феро впал из одной крайности удивления в другую. Он опустил руки и пошел, медленно передвигая ноги, пытаясь примирить эту непостижимую новость с собственными переживаниями. Это оказалось невозможным. Он разразился негодованием:
— А что же, я должен был позволить этому штафирке, этому капустнику марать своими сапожищами мундир седьмого гусарского?
Лейтенант д'Юбер не мог остаться совершенно безучастным к изъявлению столь естественных чувств.
«Этот молодчик явно сумасшедший, — подумал он, — однако в том, что он говорит, есть какая-то доля смысла».
— Конечно, я не могу судить, насколько вы в данном случае правы… — начал он успокаивающим тоном. — Возможно, что генерал не совсем точно осведомлен. Но эта публика все уши прожужжала ему своими жалобами.
— А! Так, значит, генерал неточно осведомлен, — забормотал Феро, все больше и больше прибавляя шагу, по мере того как возрастал его гнев на эту несправедливость судьбы. — А! Он не совсем… И он сажает меня под строгий арест, и черт знает, что еще меня ждет впоследствии!
— Не взвинчивайте себя зря. Родственники этого вашего противника люди очень влиятельные, поэтому так все и обернулось. Генерал вынужден был немедленно принять меры в ответ на их жалобу. Я не думаю, что он собирается проявить по отношению к вам чрезмерную строгость, но самое лучшее, что бы вы могли сейчас сделать, — это не попадаться ему на глаза.
— Премного обязан генералу, — пробормотал, стиснув зубы, лейтенант Феро. — Может быть, вы скажете еще, что я и вам должен быть также благодарен за то, что изволили ловить меня в гостиной у дамы?
— Откровенно говоря, — перебил его лейтенант д'Юбер, рассмеявшись от души, — я полагаю, что да. Мне пришлось изрядно побегать, прежде чем я узнал, где вы находитесь. Нельзя сказать, чтобы это было надлежащее место при данных обстоятельствах. Если бы генерал застал вас и увидел, как вы строите глазки богине храма сего, воображаю, что бы это было! Он терпеть не может, когда ему жалуются на его офицеров, вам это известно. Ну, а уж тут ваше поведение показалось бы ему явной бравадой.
Оба офицера подошли к дверям дома лейтенанта Феро. Лейтенант Феро обернулся к своему провожатому.
— Лейтенант д'Юбер, — сказал он, — мне надо вам кое-что сказать, на улице это не совсем удобно. Не откажитесь войти.
Хорошенькая девушка открыла им дверь. Лейтенант Феро стремительно прошел мимо, а она подняла испуганные, недоумевающие глаза на лейтенанта д'Юбера, который только слегка пожал плечами, следуя за ним с явной неохотой.
Войдя в свою комнату, лейтенант Феро отстегнул портупею, швырнул свой новый доломан на постель и, сложив руки крестом на груди, круто повернулся к вошедшему за ним гусару.
— Не воображаете ли вы, что я способен покорно подчиниться несправедливости? — вызывающе спросил он.
— Послушайте, будьте благоразумны! — попытался уговорить его лейтенант д'Юбер.
— Я благоразумен. Я совершенно благоразумен, — отвечал тот со зловещим спокойствием. — Я не имею возможности потребовать у генерала отчета в его поведении, но вы за свое мне ответите.
— Я не в состоянии слушать эту белиберду! — промолвил лейтенант д'Юбер с несколько презрительной гримасой.
— Ах, это, по-вашему белиберда? А мне кажется что я выражаюсь вполне ясно. Разве что вы перестали понимать французский язык!
— Что вы хотите сказать, черт побери?
— Я хочу, — внезапно завопил лейтенант Феро, — обрубить вам уши, проучить вас, чтобы вы в другой раз не лезли ко мне с вашими генеральскими приказами, когда я разговариваю с дамой!
Мертвая тишина наступила в комнате вслед за этой полоумной тирадой. Из открытого окна лейтенанту д'Юберу слышно было деловитое щебетанье птичек в саду. Сдерживая себя, он сказал:
— Ну что ж, если вам угодно говорить со мной таким тоном, я, разумеется, буду к вашим услугам в любую минуту, когда вы получите возможность заняться этим делом. Однако я не уверен в том, что вам удастся обрубить мне уши.
— Мне угодно заняться этим немедленно, сию же секунду! — в бешенстве вскричал лейтенант Феро. — Если вы воображаете, что вам удастся расточать чары вашей грации в салоне госпожи де Льонн в мое отсутствие, так вы изволите жестоко ошибаться.
— Нет, в самом деле вы невозможный человек! — отвечал лейтенант д'Юбер, начиная раздражаться. — Генерал дал мне распоряжение посадить вас под арест, а вовсе не крошить вас в котлету. До свидания! — И, повернувшись спиной к маленькому гасконцу, он направился к двери.
Однако, услышав за своей спиной весьма отчетливый звук извлекаемой из ножен сабли, лейтенант д'Юбер вынужден был остановиться.
«Черт возьми этого полоумного гасконца!» — подумал он, круто оборачиваясь и спокойно оглядывая лейтенанта Феро в его воинственной позе с обнаженной саблей.
— Сию же секунду, немедленно! — вне себя вопил Феро.
— Вы слышали мой ответ, — сказал лейтенант д'Юбер, прекрасно владея собой.
Сначала он был просто раздосадован и даже несколько заинтересован происходящим, но сейчас лицо его омрачилось. Он всерьез спрашивал себя, как же ему теперь удастся уйти. Немыслимо бежать от человека, который гонится за тобой с обнаженной саблей в руке. А драться с ним — об этом не могло быть и речи. Помолчав, он сказал именно то, что он думал:
— Оставьте это! Драться с вами я не буду: я не желаю ставить себя в дурацкое положение.
— А, так вы не желаете? — прошипел гасконец. — Вы предпочитаете остаться в подлецах? Вы слышите, что я вам говорю? Подлец! Подлец! Подлец! — орал он, приподнимаясь на носках, и лицо его с каждым возгласом все более и более наливалось кровью.
Лейтенант д'Юбер сначала сильно побледнел, услышав это неаппетитное слово, а потом вдруг вспыхнул до корней своих белокурых волос.
— Но вы не можете даже выйти отсюда, чтобы драться, — вы под арестом! Вы просто с ума спятили! — сказал он с гневным презреньем.
— У нас есть сад. Там хватят места, чтобы уложить ваш длинный остов! — захлебываясь, крикнул Феро с такой яростью, что гнев его хладнокровного противника даже несколько остыл.
— Но это же сущая нелепость! — возразил д'Юбер, обрадовавшись тому, что он хотя бы на данную минуту нашел какой-то выход. — Мы ведь не можем сейчас достать никого из наших товарищей в качестве секундантов. Это бессмыслица.
— Секундантов? На черта нам секунданты! Не нужно никаких секундантов! Нечего вам беспокоиться о секундантах! Я пошлю сказать вашим друзьям, когда я с вами покончу, чтобы они вас где-нибудь там закопали. А если вам угодно свидетелей, я велю сказать этой старой деве, чтобы она высунулась в окошко. А! Постойте! Тут у нас есть садовник. Он вполне сойдет. Глух, как пень, но глядеть может в оба. Пошли. Я вам покажу, штабной офицеришка, что носиться с генеральскими приказами — это не всегда детская шуточка, нет-с!
В пылу этого словоизвержения он отстегнул свои пустые ножны, швырнул их на кровать и, опустив саблю концом вниз, зашагал мимо остолбеневшего лейтенанта д'Юбера с криком:
— Следуйте за мной!
Едва он распахнул дверь, раздался слабый возглас, и хорошенькая девушка, которая подслушивала у замочной скважины, отскочила в сторону, закрыв глаза руками. Феро как будто и не заметил ее, но она бросилась за ним и схватила его за левую руку. Он стряхнул ее руку. Тогда девушка бросилась к лейтенанту д'Юберу и вцепилась ему в рукав.
— Гадкий человек! — всхлипнула она. — Так вот для чего вы его искали!
— Пустите меня! — умоляющим тоном произнес лейтенант д'Юбер, осторожно пытаясь высвободиться. — Ну словно попал в сумасшедший дом! — воскликнул он в отчаянии. — Пустите же меня, я не причиню ему никакого вреда!
Злобный хохот лейтенанта Феро раздался вслед за этим в качестве пояснения.
— Идите же! — рявкнул он, топнув ногой. И лейтенант д'Юбер последовал за ним. Ему не оставалось ничего другого. Однако, чтобы отдать должное его здравомыслию, необходимо отметить, что когда он проходил через переднюю, то мысль отворить входную дверь и выскочить на улицу мелькнула у этого храброго юноши, но он, разумеется, тотчас же отверг ее, ибо был уверен, что Феро без стыда и стеснения побежит за ним с саблей наголо. А представить себе гусарского офицера спасающимся от другого гусарского офицера, который гонится за ним с обнаженной саблей в руках, — вещь совершенно немыслимая.
Итак, он последовал за ним в сад. А девушка бросилась за ними. С побелевшими губами, вытаращив обезумевшие от ужаса глаза, она не отставала от них, влекомая страхом и любопытством. Она уже решила про себя, что в последнюю минуту она бросится между ними и спасет от смерти лейтенанта Феро.
Глухой садовник, которого не могли потревожить приближающиеся шаги, мирно поливал цветы, пока лейтенант Феро не хлопнул его по спине. Внезапно увидев перед собой рассвирепевшего человека, потрясающего громадной саблей, старик затрясся всем телом и выронил лейку. Лейтенант Феро с яростью отшвырнул ее ногой и, схватив садовника за глотку, припер его к дереву. Не выпуская его из рук, он крикнул ему в самое ухо:
— Стой здесь и гляди, понял? Ты должен глядеть! Стой и не шевелись!
Лейтенант д'Юбер медленно вышел на дорожку, отстегивая свой доломан, и на лице его было написано чувство явного омерзения. Взявшись рукой за эфес сабли, он все еще колебался, не зная, как поступить, как вдруг возглас: «Вы что думаете — гулять сюда пришли?» — и яростный выпад противника заставили его мгновенно принять оборонительную позицию.
Лязг сабель огласил уютный садик, который доныне не ведал иных воинственных звуков, кроме пощелкивания садовых ножниц. Из окна мезонина, выходящего в сад, высунулась по пояс фигура престарелой девы.
Она всплескивала руками, хваталась за свой белый чепец и причитала надтреснутым голосом. Садовник так и стоял, прилипнув к дереву, разинув беззубый рот в бессмысленном изумлении. А чуть-чуть подальше, на траве у дорожки, ломая руки и что-то бессвязно бормоча, металась хорошенькая девушка, топчась на одном месте, как если бы она попала в заколдованный круг. Она не бросилась между дерущимися — сабля лейтенанта Феро взлетела с такой свирепостью, что у нее не хватило духу. Лейтенанту д'Юберу, который все свои усилия сосредоточил на защите, требовались вся его ловкость, все его искусство фехтовальщика, чтобы отражать выпады противника. Он уже два раза вынужден был отступить. Он с раздражением чувствовал, что ему не удается занять твердую позицию, так как подошвы его сапог скользили по круглому крупному гравию, которым была усыпана дорожка.
«Самая что ни на есть неподходящая почва для поединка», — думал он, не спуская внимательных, пристальных глаз, полуприкрытых длинными ресницами, со своего остервенелого противника. Эта нелепая история погубит его репутацию благоразумного, воспитанного, подающего надежды офицера. Во всяком случае, со всеми надеждами на ближайшее повышение надо проститься, так же как и с благорасположением генерала. Эти суетные заботы о мирском были, конечно, неуместны в столь высокоторжественный момент. Дуэль, рассматривать ли ее как обряд некоего культа чести, или отнести ее, исходя из ее моральной сущности, к одному из видов спорта, требует неослабной напряженности мысли, суровой стойкости духа. Однако беспокойство о своем будущем оказало в данном случае неплохое действие на лейтенанта д'Юбера — он начал злиться. Прошло примерно около минуты, с тех пор как они скрестили сабли, и лейтенанту д'Юберу снова пришлось отступить, чтобы не проткнуть своего исступленного противника, как жука для коллекции. Но лейтенант Феро истолковал это, разумеется, по-своему и с торжествующим ревом усилил атаку.
«Это взбесившееся животное вот-вот припрет меня к стене!» — подумал лейтенант д'Юбер. Он полагал, что он гораздо ближе к дому, чем это было на самом деле, а оглянуться он не решался. Ему казалось, что он удерживает своего противника на расстоянии не столько острием сабли, сколько своим пристальным взглядом. Лейтенант Феро приседал и подпрыгивал со свирепым проворством тигра. Глядя на это, оробел бы и самый храбрый человек. Но страшней этой ярости дикого зверя, подчиняющегося в своем безгрешном неведении естественному инстинкту, была та настойчивость в осуществлении зверского намерения, на которую способен только человек. Лейтенант д'Юбер, озабоченный своими мирскими делами, наконец уяснил это. Он с самого начала считал, что эта история — бессмыслица, что она может привести к дурным последствиям, но из каких бы дурацких побуждений ни затеял ее этот субъект, сейчас было совершенно ясно: он поставил себе целью убить своего противника, убить во что бы то ни стало. И он добивался этого с упорной настойчивостью, оставляющей далеко позади скромные возможности тигра.
Как это обычно бывает с истинно храбрыми людьми, сознание опасности, которая только теперь предстала перед ним во всей своей полноте, пробудило у лейтенанта д'Юбера интерес к этому делу. И стоило ему только по-настоящему заинтересоваться, как длина его руки и ясность рассудка заговорили в его пользу. Теперь отступать пришлось лейтенанту Феро, и он попятился, рыча, как бешеный зверь. Внезапно он сделал финту и вдруг стремительно бросился вперед.
«Ах, вот ты как! Вот как!» — мысленно воскликнул лейтенант д'Юбер.
Поединок длился уже около двух минут — срок, вполне достаточный для любого человека, чтобы войти в азарт независимо от характера ссоры. И вдруг все сразу кончилось. Лейтенант Феро, невзирая на позицию защиты противника, попытался сойтись с ним грудь с грудью и получил удар по согнутой руке. Он даже не почувствовал его, но это остановило его стремительный натиск, и, поскользнувшись на гравии, он тяжело грохнулся на спину во весь рост. От сотрясения его клокочущий мозг погрузился в состояние, полной неподвижности. Как только он упал, хорошенькая девушка вскрикнула, но старая дева в окошке перестала причитать, а начала истово креститься.
Видя своего противника неподвижно лежащим на земле, с лицом, запрокинутым к небу, лейтенант д'Юбер решил, что он заколол его насмерть. У него сохранилось ощущение удара, которым, как ему казалось, он мог разрубить его пополам, и оно еще усиливалось воспоминанием о том ожесточении, с которым он нанес ему этот удар. Когда он убедился, что даже не перерубил противнику руку, чувство некоторого облегчения смешалось с легким разочарованием: «Дешево еще отделался, следовало бы проучить его покрепче!» По правде сказать, д'Юбер вовсе не желал смерти этому греховоднику. Однако уже и сейчас эта отвратительная история приняла довольно-таки скверный оборот.
Не теряя времени, лейтенант д'Юбер попытался, как мог, унять кровотечение. Но тут явилась неожиданной помехой хорошенькая девушка. С неистовыми воплями она набросилась на него сзади, и, вцепившись в волосы, оттаскивала его назад. Почему ей понадобилось мешать ему именно в этот момент, этого он не мог понять и не пытался. Все это было похоже на какой-то нелепый, мучительный кошмар. Дважды ему пришлось вставать и отталкивать ее, чтобы она его не опрокинула. Он делал это терпеливо, не произнося ни слова, и сейчас же снова опускался на колени и продолжал делать свое дело. Но на третий раз, когда ему наконец удалось наложить перевязку, он встал, крепко схватил девушку за руки, и прижал их к ее же груди. Чепчик ее сполз набок, лицо пылало, глаза исступленно горели. Он кротко смотрел на нее, в то время как она, захлебываясь, кричала, что он негодяй, предатель, убийца. Все это огорчало его значительно меньше, чем несомненная уверенность в том, что она ухитрилась здорово оцарапать ему лицо. Эта скандальная история сделает его еще и посмешищем. Он представил себе, как эта разукрашенная сплетня пойдет ходить по всему гарнизону, распространится в армии, по всему фронту, как чудовищно будут извращены все обстоятельства, побуждения, чувства, а его репутация человека с хорошим вкусом, способного взвешивать свои поступки, подвергнется сомнению, и все это наконец дойдет до ушей его почтенных родственников. Хорошо, конечно, этому молодчику Феро, не имеющему ни связей, ни родни, с которой приходится считаться, никаких достоинств, кроме храбрости. Ну, а это уж нечто само собой разумеющееся, это есть у каждого солдата французской кавалерии. Все еще продолжая крепко держать девушку за руки, лейтенант д'Юбер оглянулся через плечо. Лейтенант Феро открыл глаза. Он не шевелился. Словно еще не совсем проснувшись от глубокого сна, он без всякого выражения глядел в вечернее небо.
Лейтенант д'Юбер несколько раз громко окликнул старого садовника, но без всякого результата: тот так и продолжал стоять, разинув свой беззубый рот. Тут он вспомнил, что человек этот глух, как пень. Все это время девушка не переставала вырываться, при этом она не проявляла никакой девической застенчивости, а скорее напоминала хорошенькую немую фурию, которая старалась лягнуть его куда ни попадя.
Он продолжал держать ее, как в тисках, чувствуя, что если только он отпустит ее, она сейчас же вцепится ему в лицо. Все это было в высшей степени унизительно. Наконец она утихла, но не потому, что успокоилась, а, по-видимому, просто от изнеможения. Тогда он все-таки решил сделать попытку покончить с этим кошмаром и начал увещевать ее.
— Послушайте меня, — сказал он как только мог спокойнее, — если я вас отпущу, вы обещаете мне сбегать за доктором?
И с истинным огорчением он услышал ее вопль, что она ничего подобного не станет делать. Наоборот, всхлипывала она, она останется здесь, в саду, и будет зубами и когтями защищать несчастного поверженного. Это было что-то возмутительное.
— Милочка моя, — воскликнул д'Юбер в отчаянии, — неужели вы думаете, что я способен убить раненого противника? Ведь это… Да успокойтесь же! Вот бешеный, дикий котенок!
Они опять начали бороться. Хриплый, сонный голос позади него спросил:
— Чего вы пристаете к девчонке?
Лейтенант Феро чуть-чуть приподнялся на своей здоровой руке. Он смотрел осоловелым взором на другую свою руку, на пятна крови на мундире, на маленькую красную лужицу на земле, на саблю, валяющуюся на дорожке в нескольких шагах от него, затем опять тихонько улегся, чтобы поразмыслить над всем этим, если только мучительная головная боль не заставит его отказаться от этой непосильной задачи.
Лейтенант д'Юбер выпустил девушку, которая тотчас же бросилась к другому лейтенанту.
Вечерние сумерки спускались над мирным садиком, окутывая эту трогательную пару; тихий шепот соболезнования и участия раздавался в тишине вперемешку с другими неясными звуками, напоминавшими бессвязную брань. Лейтенант д'Юбер удалился.
Он вышел из затихшего дома, радуясь тому, что темнота скрывает его окровавленные руки и расцарапанное лицо. Однако эту историю не скроешь. Лейтенант д'Юбер больше всего на свете боялся запятнать свою репутацию и поставить себя в смешное положение, поэтому он испытывал сейчас чувство омерзения от того, что ему приходится прятаться от людей, как убийце, и сворачивать в темные переулки. Звуки флейты, долетавшие из открытого окошка освещенного мезонина, прервали его мрачные размышления. Музыкант старался достичь виртуозности, и иногда из-за его фиоритур слышно было мерное отбиванье такта ногой.
Лейтенант д'Юбер окликнул по имени полкового хирурга, с которым был хорошо знаком. Звуки флейты прекратились, музыкант появился у окна с инструментом в руке и выглянул на улицу.
— Кто это? Это вы, д'Юбер? Что это вас сюда занесло?
Он не любил, чтобы ему мешали в те часы, когда он играл на флейте. Это был человек, поседевший на неблагодарной службе, которая заключалась в том, что он перевязывал раненых на полях сражений, тогда как другие пожинали чины и славу.
— Мне надо, чтоб вы сейчас же пошли к Феро. Вы знаете лейтенанта Феро? Он живет тут, через два квартала. Это в двух шагах от вас.
— А что с ним такое?
— Ранен.
— Вы в этом уверены?
— Уверен! — воскликнул д'Юбер. — Я только что оттуда.
— Вот как? Забавно! — сказал пожилой хирург. «Забавно» было его излюбленное слово; но выражение его лица, когда он произносил его, нимало не соответствовало сказанному. Это был равнодушный человек. — Войдите, — сказал он, — я сейчас соберусь.
— Благодарю вас, я войду. Я хочу вымыть руки. Когда лейтенант д'Юбер вошел в комнату, хирург разбирал свою флейту и методично укладывал ее по частям в футляр. Он повернул к нему голову:
— Вода там, в углу. Да, руки ваши нуждаются в мытье.
— Я кое-как унял кровь, — сказал лейтенант д'Юбер, — но вы все-таки поторопитесь. Прошло уже, знаете, минут десять.
Хирург продолжал собираться все так же не спеша. — А что там такое случилось? Повязка, что ли, соскочила? Вот забавно! Я целый день работал в госпитале. А кто же это говорил нынче утром, что он отделался без единой царапины?
— Не от той дуэли, наверно, — мрачно пробормотал лейтенант д'Юбер, вытирая руки грубым полотенцем.
— Не от той… Как! Еще дуэль? Да меня бы сам черт не заставил лезть в драку второй раз в один и тот же день! — Хирург пристально посмотрел на лейтенанта д'Юбера. — Где это вы так лицо исцарапали? Да как симметрично — с обеих сторон! Вот забавно!
— Чрезвычайно! — рявкнул лейтенант д'Юбер. — И его разрубленная рука тоже покажется вам очень забавной. Надеюсь, вас обоих это позабавит на некоторое время.
Доктор был несколько заинтригован и даже чуточку потрясен этой грубой язвительностью лейтенанта д'Юбера. Они вместе вышли на улицу, и тут поведение лейтенанта еще больше заинтриговало его.
— Разве вы не идете со мной? — спросил он.
— Нет, — сказал лейтенант д'Юбер. — Вы отлично и сами найдете этот дом. Входная дверь, наверно, и сейчас открыта.
— Ну хорошо. А где там его комната?
— В первом этаже. Но я вам советую пройти сначала прямо в сад.
Этот весьма удивительный совет заставил доктора без долгих разговоров двинуться в путь.
Лейтенант д'Юбер вернулся к себе на квартиру в страшном негодовании и смятении. Зубоскальство товарищей страшило его не меньше, чем гнев начальства. Поистине в этом происшествии было что-то безобразно нелепое, недопустимое, не говоря уже о том, что были нарушены все правила дуэли, что само по себе давало повод рассматривать это как преступление. Как человек, не отличающийся богатым воображением, что помогало ему разумно рассуждать, лейтенант д'Юбер был сильно озабочен тем затруднительным положением, в какое поставила его эта история. Он, разумеется, был очень рад, что не убил лейтенанта Феро в этом поединке, где не был соблюден регламент, где не было даже настоящих свидетелей, достаточно правомочных для подобного рода дел. Чрезвычайно рад. И в то же самое время он чувствовал, что с величайшим удовольствием свернул бы голову этому Феро безо всяких церемоний.
Д'Юбер все еще находился во власти этих противоречивых переживаний, когда любитель флейты, хирург, пришел навестить его. Прошло уже дня три со дня дуэли. Лейтенант д'Юбер уже больше не состоял офицером для поручений при дивизионном генерале. Его отослали обратно в полк. И его возвращение в солдатскую семью ознаменовалось тем, что его подвергли строжайшему заключению, и не в его собственной квартире в городе, а в казармах. В связи с серьезностью правонарушения ему было запрещено видеться с кем бы то ни было. Он не знал ни того, что после этого произошло, ни того, что об этом говорили и думали. Появление хирурга было в высшей степени неожиданным для бедного пленника. Любитель флейты прежде всего сообщил, что он допущен сюда по особому соизволению полковника.
— Я его убедил, что надо же быть справедливым и дать вам возможность узнать, что сталось с вашим противником, — заявил он. — Вы, конечно, порадуетесь, узнав, что он поправляется.
На лице лейтенанта д'Юбера не выразилось никаких признаков радости. Он продолжал шагать взад и вперед по пыльному, пустому бараку.
— Вон там стул, садитесь, доктор, — пробормотал он. Доктор сел.
— Об этой истории ходят разные слухи и в городе и у нас в армии. И мнения на этот счет сильно расходятся. Просто-таки забавно!
— Еще бы! — пробормотал лейтенант д'Юбер, упорно шагая от стены к стене. А про себя подумал: «Как это может быть, чтобы тут существовало два мнения?»
Доктор продолжал:
— Конечно, поскольку истинные обстоятельства дела неизвестны…
— Я думал, — перебил его д'Юбер, — что этот молодчик посвятил вас в истинные обстоятельства этого дела.
— Он что-то говорил, — сказал доктор, — в тот раз, когда я только что его увидел. Да, кстати, я действительно нашел его в саду. Он здорово стукнулся затылком и был до некоторой степени в беспамятстве, ну попросту сказать, заговаривался. А потом, когда он пришел в себя, из него уже трудно было что-нибудь вытянуть.
— Вот уж никак не ожидал, что он способен устыдиться! — пробормотал д'Юбер и опять заходил взад и вперед.
— Устыдиться? — подхватил доктор. — Вот забавно! Нет, я бы этого не сказал. Он вовсе и не думает стыдиться. Конечно, вы можете смотреть на это дело иначе…
— Что вы такое плетете? На какое дело? — воскликнул д'Юбер, искоса поглядывая на грузную седовласую фигуру, восседавшую на табурете.
— Что бы это ни было, — сказал доктор несколько раздраженно, — я вовсе не собираюсь высказывать вам всего, что я думаю по поводу вашего поведения.
— Да, уж лучше остерегитесь, черт возьми! — вырвалось у д'Юбера.
— Потише! Потише! Ну что за манера — чуть что, сейчас же хвататься за саблю! Ведь это, знаете, добром не кончится. И запомните вы раз навсегда, что если мне когда-нибудь придется крошить кого-нибудь из вас, сорванцов, то только при помощи моих инструментов, а не чего-либо иного. Но я вам советую по-хорошему: если вы будете так продолжать, то вконец испортите себе репутацию.
— Как «продолжать»? — воскликнул лейтенант д'Юбер и остановился как вкопанный. — Я… я испорчу себе репутацию? Да что вы такое выдумываете?
— Я уж вам сказал, что я вовсе не собираюсь судить, кто здесь прав, кто виноват. Это не мое дело. Тем не менее…
— Да что же такое, черт возьми, он рассказал вам? — перебил лейтенант д'Юбер, холодея от ужаса.
— Я уже вам говорил, что сначала, когда я подобрал его в саду, он немножко заговаривался. Потом он больше отмалчивался. Но, насколько я понял, он не мог поступить иначе.
— Он не мог? — вскричал лейтенант д'Юбер неистовым голосом и тут же, угрожающе понизив тон, произнес: — А я как же? Я мог?
Доктор поднялся с табурета. Мысли его уже устремились к флейте, к его неизменной спутнице с нежным, утешительным голосом. Рассказывали, что даже в дни сражений, где-нибудь на санитарном пункте, после двадцатичетырехчасовой напряженной работы, он будил ее сладостными звуками зловещую тишину поля битвы, где павшие в бою обрели вечный покой. И вот этот утешительный час его повседневной жизни приближался. А в мирное время он так дорожил этим часом, что цеплялся за каждую минуту, как скряга за свое добро.
— Ну да, разумеется, — сказал он рассеянно. — Вы, конечно, думаете так. Забавно! Однако я, будучи совершенно не заинтересован и расположен к вам обоим, выужден был обещать исполнить его поручение. Ну просто, я вам скажу, я не мог отказать больному. Он поручил передать вам, что ни в коем случае не считает это дело оконченным. Как только ему разрешат встать с постели, он немедленно пошлет к вам секундантов — разумеется, если мы до тех пор не выступим в поход.
— Ах, вот что! Значит, он намерен… Ну да, разумеется… — захлебываясь от негодования, проговорил лейтенант д'Юбер.
Причина этого негодования была скрыта от посетителя, но бурное его проявление окончательно подтвердило уверенность доктора в том, что между этими двумя молодыми людьми произошло нечто чрезвычайно серьезное, настолько серьезное, что они не решаются никого посвятить в это дело. По-видимому, это посеяло между ними такую непримиримую вражду, что их ничто не может остановить: они готовы запятнать себя, испортить себе будущее, погубить свою карьеру чуть ли не в самом начале. Доктор опасался, что предстоящее расследование не приведет ни к каким результатам и не удовлетворит всеобщего любопытства. Они никому не откроют этой тайны, ибо то, что произошло между ними, носит, по-видимому, настолько оскорбительный характер, что они готовы подвергнуться обвинению в убийстве, лишь бы не предавать этого огласке. Но что же это такое может быть?
Доктор не отличался большим любопытством, но эта загадка не давала ему покоя. Дважды в течение этого вечера он отнимал флейту от губ и задумывался на целую минуту прямо посреди мелодии, стараясь найти какой-нибудь правдоподобный ответ.
Глава II
Он преуспел в этом не больше, чем все остальные в гарнизоне и даже во всем городе. Два молодых офицера, до сих пор не выделявшиеся ничем особенным, стали объектом всеобщего любопытства в связи со своей загадочной ссорой.
Салон мадам де Льонн превратился в центр всевозможных догадок. Хозяйку без конца осаждали расспросами, ибо всем было известно, что она последняя разговаривала с этими несчастными, безрассудными молодыми людьми, перед тем как они вместе вышли из ее гостиной, чтобы сойтись на этом варварском поединке в сумерках в саду частного дома. Она отнекивалась. Она уверяла, что не заметила ничего особенного в их поведении. Лейтенант Феро был явно недоволен, что его увели. Но это было вполне естественно: всякому мужчине неприятно, когда его отрывают от беседы с дамой, славящейся своей изысканностью и чуткостью.
Но, сказать правду, эти расспросы раздражали мадам де Льонн, потому что, несмотря на чудовищные размеры, которые приняла эта сплетня, никто не связывал с этим происшествием ее особы. Ее возмущало, когда она слышала, что здесь, по всей вероятности, замешана женщина, и это возмущение проистекало не из ее изысканности или чуткости, а из более непосредственной стороны ее натуры. Наконец оно выросло до такой степени, что она строго-настрого запретила говорить об этой. истории под ее кровом. Около ее кушетки запрещение действовало, но в дальних уголках салона это вынужденное молчание в большей или меньшей мере нарушалось.
Некий субъект с длинным бледным лицом, сильно напоминавший барана, изрекал, покачивая головой, что, по всей вероятности, эта ссора давнишнего происхождения и что она просто обострилась со временем. Ему возражали, что оба эти офицера слишком молоды, чтобы можно было допустить такое предположение. Кроме того, они родом из различных краев Франции. Находились еще и другие, весьма веские возражения.
Младший интендантский чиновник, образованный, приятный холостяк в казимировых рейтузах, высоких сапогах и в голубом мундире, расшитом серебряным шнуром, притворяясь, будто он верит в переселение душ, высказывал предположение, что эти двое, должно быть, знали друг друга в каком-то из своих прежних существований. Вражда между ними возникла в каком-то далеком, забытом прошлом. Возможно, это было даже что-то непостижимое для них в их настоящем бытии, но души их помнят об этой вражде, и они испытывают друг к другу инстинктивную ненависть. Он шутя развивал эту мысль, а так как эта загадочная ссора казалась всем до такой степени нелепой и со светской, и с военной, и с почтенной, и с благоразумной, и с любых точек зрения, то это туманное объяснение в данном случае казалось более разумным, чем какое-нибудь другое.
Ни один из обоих офицеров не счел нужным давать какие бы то ни было объяснения по этому поводу. Унизительное сознание того, что он оказался побежденным, и горькая уверенность в том, что он пострадал из-за несправедливости судьбы, вынуждали лейтенанта Феро мрачно молчать. Он не доверял людскому сочувствию. Конечно, оно окажется на стороне этого щеголеватого штабного офицерика. Лежа в постели, он бурно изливал свое негодование хорошенькой девушке, которая ухаживала за ним с истинным обожанием и выслушивала его страшные проклятия с ужасом. Что лейтенант д'Юбер должен «поплатиться за это», казалось ей вполне естественным и справедливым. Главной ее заботой было, чтобы Феро не волновался. Ее смиренному, сердцу он казался столь обольстительным и неотразимым, что ей хотелось только одного — видеть его поскорей здоровым даже если он опять возобновит свои визиты в салон мадам де Льонн.
Лейтенант д'Юбер хранил молчанье прежде всего потому, что ему не с кем было разговаривать, за исключением туповатого молодого денщика. Кроме того, он чувствовал, что это происшествие, как бы серьезно оно ни оценивалось с профессиональной точки зрения, имело свою комическую сторону. И когда он думал об этом, у него опять поднималось желание свернуть шею лейтенанту Феро. Конечно, это выражение скорее фигурально, нежели точно; оно больше выражало его настроение, чем непосредственное желание. Лейтенант д'Юбер от природы был добрый человек, и ничто не могло бы заставить его изменить чувству товарищеского долга и ухудшить и без того скверное положение лейтенанта Феро. Он не желал вести никаких разговоров об этой дурацкой истории. На расследовании ему, разумеется, придется говорить правду в целях самозащиты. И эта перспектива раздражала его.
Но никакого расследования не состоялось. Армия выступила в поход. Лейтенанта д'Юбера освободили без всякого замечания, и он вернулся к своей строевой службе, а лейтенант Феро, едва сняв повязку с руки, отправился, недопрошенный, со своим эскадроном завершать свое лечение в дыму битв, на свежем воздухе ночных бивуаков. Этот суровый режим оказал на него столь благотворное действие, что едва только пронесся слух о перемирии, как он без малейшего угрызения совести вернулся к мысли о своей собственной войне.
На этот раз война была объявлена по всем правилам. Феро послал двух приятелей к лейтенанту д'Юберу, полк которого стоял всего в нескольких милях от его полка. Эти приятели не задавали Феро никаких вопросов. «Я должен свести счеты с этим смазливым штабным офицериком», — мрачно сказал он, и они отправились, очень довольные возложенным на них поручением.
Лейтенант д'Юбер также без труда нашел двух преданных приятелей, которые не сочли нужным проявлять излишнее любопытство. «Есть тут один полоумный субъект, которого я должен проучить», — коротко, заявил он, и больше они ни о чем не спрашивали.
Итак, был найден подходящий участок, и однажды рано утром они сошлись и скрестили сабли. После третьей схватки лейтенант д'Юбер упал с пронзенным боком навзничь на росистую траву. Ясное солнце поднималось налево от него над лугами и лесами. Доктор — не флейтист, а другой — склонился над ним, чтобы осмотреть рану.
— На волосок проскочила! Ну, ничего, все будет хорошо.
Лейтенант д'Юбер выслушал эти слова с удовольствием. Один из его секундантов, который сидел на мокрой траве и поддерживал его голову у себя на коленях, сказал:
— В войне как повезет, кому счастье выпадет, старина. Что поделаешь! Но лучше вам все-таки помириться, как добрым товарищам. Право.
— Вы не знаете, о чем вы просите, — прошептал лейтенант д'Юбер слабым голосом. — Однако, если он…
На другом конце луга секунданты лейтенанта Феро уговаривали его пойти пожать руку своему противнику.
— Вы же расквитались с ним, черт возьми! Теперь надо помириться. Этот д'Юбер — очень порядочный малый.
— Знаю я порядочность этих генеральских любимчиков! — пробормотал лейтенант Феро сквозь зубы.
И мрачное выражение его лица отбило у них охоту к дальнейшим попыткам примирения. Секунданты, раскланявшись издали, увезли противника с поля битвы. Вечером у лейтенанта д'Юбера, которого очень любили в полку как доброго товарища с открытым и мягким характером и храброго офицера, собралось много друзей. Но говорили, что лейтенант Феро, против своего обыкновения, не очень-то показывается на людях и не спешит принять поздравления от своих друзей. А у него их нашлось бы немало, потому что его тоже любили в полку, за широту его южной натуры и бесхитростный нрав. Во всех тех местах, где имели обыкновение сходиться к вечеру офицеры, дуэль, состоявшаяся утром, обсуждалась со всех точек зрения. Хотя лейтенант д'Юбер на этот раз оказался побежденным, его искусство владеть саблей расценивалось очень высоко. Никто не оспаривал, что он проявил удивительное мастерство и необыкновенную точность. Кое-кто даже говорил по секрету, что если он оказался раненым, то только потому, что он щадил своего противника. Но многие утверждали, что стремительность и сила атаки лейтенанта Феро совершенно неотразимы.
Достоинства обоих офицеров как участников дуэли обсуждались открыто; но об их отношениях друг с другом после дуэли говорили вскользь и с осторожностью. Они непримиримы. Это очень жаль. Но в конце концов им лучше знать, как надлежит поступать согласно чести, и не дело их товарищей вмешиваться в это. Что же касается причины ссоры, общее мнение утверждало, что она возникла еще в то время, когда они стояли гарнизоном в Страсбурге. Музыкальный хирург, услышав это, покачал головой. По его мнению, она возникла много-много раньше.
— Да что вы? Нет, в самом деле, ведь вы, должно быть, знаете всю эту историю! — воскликнуло сразу несколько голосов с жадным любопытством. — В чем тут дело?
Он задумчиво поднял глаза от своего бокала.
— Если б я даже и знал, неужели вы полагаете, что я мог бы сказать вам, раз оба они считают нужным молчать об этом?
Он поднялся и вышел, и у всех осталось ощущение тайны. А он не мог оставаться дольше, потому что уже приближался заманчивый час игры на флейте.
После того как он ушел, один совсем молоденький офицерик торжественно заявил:
— Ясное дело: он поклялся хранить тайну!
И никто, не усомнился в истине этого заявления. Оно даже как-то усилило впечатление, которое произвела на всех эта история.
Несколько пожилых офицеров из обоих полков, движимые исключительно добросердечием и любовью к миру, предложили создать товарищеский суд чести, которому оба молодых офицера передадут дело об их примирении. К несчастью, они начали с лейтенанта Феро, исходя из того, что он, выйдя победителем, окажется более сговорчивым и склонным на уступки.
Рассуждение было довольно разумно. Однако все повернулось очень неудачно. Лейтенант Феро, пребывая в том состоянии душевного размягчения, которое возникает из приятного чувства удовлетворенного тщеславия, дошел наедине с самим собой до того, что решил подумать об этой истории; у него даже возникли сомнения — не в своей правоте, конечно, нет, но в том, вполне ли разумно он поступает. Именно поэтому-то он и не склонен был разговаривать об этом деле. Предложение полковых умников поставило его в затруднительное положение. Он возмутился. И это возмущение по какой-то противоречивой логике снова пробудило в нем ненависть к лейтенанту д'Юберу. До каких пор будут к нему приставать с этим субъектом, у которого, по-видимому, какой-то особый дар обводить людей вокруг пальца? Тем не менее ему трудно было отказаться наотрез от этого посредничества, освященного кодексом чести.
Он выпутался из этого затруднения, напустив на себя мрачную сдержанность. Он покручивал усы и выражался туманно. Его дело абсолютно ясно. Он ничуть не стыдится передать его в суд чести и не побоится защищать его в поединке, но он не видит никаких причин хвататься за это предложение, прежде чем не удостоверится, как отнесется к этому его противник.
Позже днем, когда раздражение его дошло до крайних пределов, кое-кто слышал, как он, будучи в общественном месте, язвительно заявил, что для лейтенанта д'Юбера это, конечно, прекрасный выход из положения, потому что если они встретятся еще раз, то ему уж нечего надеяться, что он отделается таким пустяком, как проваляться три недели в кровати.
Эта хвастливая фраза, возможно, была продиктована поистине макиавеллиевской хитростью. Южные натуры часто под внешней непосредственностью поступков и речи скрывают известную долю расчетливости.
Лейтенант Феро, не веря в людскую справедливость, отнюдь не желал никакого суда чести; и эта его фраза, которая вполне согласовалась с его характером, отлично служила его целям. Хотел он этого или не хотел, но меньше чем через двадцать четыре часа она проникла в спальню лейтенанта д'Юбера. Поэтому на другой день, когда лейтенант д'Юбер, сидя в постели, обложенный подушками, выслушал это предложение, он заявил, что это дело не такого рода, чтоб его можно было подвергнуть обсуждению.
Бледное лицо раненого офицера, его слабый голос, которым ему разрешено было пользоваться с крайней осторожностью, и учтивое достоинство его тона произвели сильное впечатление. Рассказ об этом способствовал усугублению тайны значительно больше, чем хвастливая болтовня лейтенанта Феро. Сей последний был чрезвычайно доволен таким исходом. Ему очень нравилось чувствовать себя объектом всеобщего удивления, и он с удовольствием поддерживал его, напуская на себя свирепую таинственность.
Командир полка, в котором служил лейтенант д'Юбер, седовласый, закаленный в боях воин, имел весьма определенную и несложную точку зрения на свои обязанности в отношении подчиненных. «Я не могу позволить, — решил он про себя, — чтобы лучший из моих офицеров позволял себя калечить так, ни за что, ни про что. Я должен разобраться в этой истории. Я заставлю его говорить, что бы там ни было. Командир должен быть для этих юнцов ближе отца родного». И в самом деле, он относился ко всем своим подчиненным с не меньшей любовью, чем чадолюбивый отец к каждому отдельному члену своей семьи. Если человеческие существа по какому-то недосмотру провидения родятся на свет жалкими штафирками, то, поступая в полк, они родятся заново, как дети в семье, и только это военное рождение, по его мнению, и шло в счет.
При виде лейтенанта д'Юбера, который стоял перед ним очень бледный, с провалившимися глазами, сердце старого воина сжалось от истинного сострадания. Вся его привязанность к полку — к этой массе людей, которую он одним мановением руки мог послать вперед и вернуть назад, которая преисполняла его чувством гордости и владела всеми его помыслами, — казалось, перешла сейчас на этого юного, подающего надежды офицера. Он кашлянул, громко нахмурился и начал свирепым тоном:
— Вы должны понимать, что я нисколько не дорожу жизнью каждого отдельного человека в моем полку. Мне ничего не стоит послать вас всех, восемьсот сорок три человека, на конях прямо в пекло, на смерть. Это мне все равно, что муху убить.
— Так точно, господин полковник! И вы сами поскачете впереди всех, — сказал лейтенант д'Юбер, слабо усмехнувшись.
Полковник, весьма озабоченный тем, чтобы вести разговор как можно более дипломатично, пришел в ярость:
— Потрудитесь слушать! Я желаю, чтобы вы поняли, лейтенант д'Юбер, что, если понадобится, я могу стоять в стороне и смотреть на то, как вы будете лететь к черту. Я такой человек, что готов и на это, если того требуют служба и мой долг перед родиной. Но это, конечно, немыслимая вещь, так что, пожалуйста, и не заикайтесь об этом… — Он грозно сверкнул глазами, но голос его смягчился. — У вас, молодой человек, еще молоко на губах не обсохло. Да вы знаете, на что способен такой человек, как я? Я готов спрятаться за стог сена, если… Нечего улыбаться, сударь! Как вы смеете? Если б это был не частый разговор, я… Слушайте меня. Я отвечаю за то, чтобы должным образом распоряжаться жизнью вверенных мне людей, она должна служить славе Франции и чести полка. Понятно? Так почему же, черт возьми, вы позволяете протыкать себя этому молодчику из седьмого гусарского? Ведь это же просто позор!
Лейтенант д'Юбер почувствовал себя в высшей степени уязвленным. Плечи его слегка передернулись. Ему нечего было ответить. Он сознавал свою ответственность.
Полковник перестал сверкать глазами и произнес тихо:
— Это ужасно! — Затем он опять переменил тон. — Послушайте, — начал он убедительно, но с тем оттенком властности в голосе, который таится в глотке каждого хорошего командира, — с этой историей надо покончить. Я требую, чтобы вы мне чистосердечно рассказали, в чем тут дело. Я вправе это знать как лучший ваш друг.
Настойчивая нотка властности, убеждающая сила душевной доброты сильно подействовали на человека, только что поднявшегося с одра болезни. Рука лейтенанта д'Юбера, сжимавшая рукоятку стэка, слегка задрожала. Однако его северная натура, чувствительная и вместе с тем дальновидная и трезвая в своем понимании того, что хорошо и что дурно, заставила его подавить мучительное желание выложить начистоту всю эту отвратительную нелепость. Следуя истинно мудрому правилу, он семь раз повернул язык во рту, прежде чем заговорить, и затем рассыпался в благодарностях.
Полковник слушал сначала с интересом, потом посмотрел с недоумением. Наконец он нахмурился.
— Вы что, не решаетесь? Черт возьми! Я же вам сказал, что а хочу обсудить это с вами как друг!
— Да, господин полковник, — ответил лейтенант кротко. — Но я опасаюсь, что после того, как вы выслушаете меня как друг, вы поступите как начальник.
Внимательно слушавший полковник прикусил губу.
— Ну, и что ж тут такого? — простодушно сказал он. — Разве это так уж позорно?
— Нет, — отвечал лейтенант д'Юбер слабым, но твердым голосом.
— Разумеется, я поступлю так, как того требует служба. И ничто не может помешать мне в этом. Для чего же, вы думаете, я хочу это знать?
— Я знаю, что не из простого любопытства, — сказал лейтенант д'Юбер. — Я знаю, что вы поступите разумно. Но что, если от этого пострадает репутация полка?
— Репутация полка не может пострадать от сумасбродной выходки мальчишки-лейтенанта! — строго сказал полковник.
— Нет, конечно, не может, но от злых языков может. Пойдут разговоры о том, что лейтенант четвертого гусарского побоялся встретиться со своим противником и спрятался за своего полковника. А это хуже, чем спрятаться за стог сена… по долгу службы. Я не могу допустить этого, господин полковник.
— Никто не осмелится сказать ничего подобного!.. — свирепо начал полковник, но конец фразы получился у него несколько неуверенным.
Храбрость лейтенанта д'Юбера не подлежала сомнению. Но полковник отлично знал, что храбрость, проявляемая на дуэли, где встречаются один на один, расценивается — правильно или ошибочно — как храбрость совершенно особого рода. И, разумеется, было безусловно необходимо, чтобы офицер его полка обладал и тем и другим родом храбрости и мог бы доказать это, если понадобится.
Полковник выпятил нижнюю губу и уставился куда-то в пространство странно остекленевшим взором. Это было у него выражением недоумения, и такого выражения никто никогда не видел в полку, ибо недоумение есть чувство, несовместимое с рангом полковника кавалерии. Полковник и сам испытывал какое-то неприятное ощущение новизны от этого чувства. Так как у него не было привычки размышлять над чем бы то ни было, что не входило в его служебные интересы, связанные с заботами о вверенных ему людях и лошадях и надлежащем использовании их на поле славы, то все его мозговые усилия свелись к тому, что он мысленно разразился проклятиями.
«Экая чепуха дьявольская! Вот чертовщина!» — думал он.
Лейтенант д'Юбер мучительно кашлянул и слабым голосом добавил:
— Найдется немало злых языков, которые будут говорить, что я увильнул. А я полагаю, вы не сомневаетесь в том, что я не потерплю этого. И тогда может оказаться, что мне придется вести целую дюжину дуэлей вместо этой одной.
Ясная простота этого аргумента дошла до полковника. Он пристально посмотрел на своего подчиненного.
— Сядьте, лейтенант, — ворчливо сказал он. — Черт знает что такое… Сядьте!
— Господин полковник, — снова начал д'Юбер, — я не боюсь злых языков. Есть средство заставить их замолчать. Но не могу же я поступить против своей совести! Я никогда бы не мог примириться с мыслью, что я погубил товарища, офицера. Что бы вы ни предприняли, это непременно пойдет дальше. Расследование не состоялось. Прошу вас, не поднимайте этого снова. Так или иначе, это погубит Феро.
— Как! Что вы говорите? Он так гнусно себя вел?
— Да, достаточно гнусно, — прошептал лейтенант д'Юбер. Но, будучи еще очень слабым, он почувствовал, что вот-вот расплачется.
Так как другой офицер был не из его полка, полковник без труда поверил лейтенанту д'Юберу. Он зашагал взад и вперед по комнате. Он был хороший командир и истинно сердечный человек, но у него были и другие человеческие свойства, и они тут же обнаружились, ибо он не был способен к притворству.
— Черт знает, что за чепуха, лейтенант! — простодушно воскликнул он. — Я же ведь сказал всем о своем намерении докопаться до сути этого дела. А слово полковника, вы сами понимаете, это что-нибудь… Н-да…
— Умоляю вас, господин полковник, — горячо заговорил лейтенант д'Юбер, — поверьте мне! Клянусь вам честью, мне не оставалось ничего другого. У меня не было выбора: как человек и как офицер я не мог поступить иначе, не уронив своего достоинства… И в конце концов, господин полковник, это и есть самая суть дела. Вот теперь вы все знаете. Остальное — просто подробности.
Полковник хотел было что-то возразить, но удержался. Репутация лейтенанта д'Юбера как человека здравомыслящего и уравновешенного говорила в его пользу. Ясная голова, горячее сердце, открытая, чистая душа, всегда со всеми корректен — как ему не поверить? Полковник мужественно подавил чувство нестерпимого любопытства.
— Гм… Так вы утверждаете… как это вы сказали?.. Как человек и как офицер не могли поступить иначе? Так?
— Как офицер — да, и офицер четвертого гусарского, — горячо продолжал лейтенант д'Юбер. — Ничего другого мне не оставалось. И в этом и есть вся суть дела, господин полковник.
— Н-да… Но все-таки мне непонятно. Как это, своему полковнику… Ведь это все равно, что отцу родному! Черт побери!
Лейтенант д'Юбер слишком рано поднялся с постели. С чувством унижения и отчаяния он обнаружил свою физическую слабость. Но какое-то болезненное упрямство нашло на него, и в то же время, весь сгорая от стыда, он не мог удержать навертывающиеся на глаза слезы. Это было слишком для его нервов. Слеза покатилась по впалой, бледной щеке лейтенанта д'Юбера.
Полковник поспешно повернулся к нему спиной. В комнате наступила мертвая тишина.
— Какая-нибудь дурацкая ссора из-за женщины? Так или нет?
И с этими словами командир круто повернулся в надежде поймать истину на лету. Ибо истина — не прекрасное созданье, живущее на дне колодца, а пугливая птичка, которую можно поймать только хитростью. Это была последняя попытка полковника проявить дипломатию. Он увидел эту истину безошибочно по тому жесту, каким лейтенант д'Юбер, подняв глаза к небу, вскинул свои исхудалые руки в явном протесте.
— Не ссора из-за женщины? А? — ворчливо спросил полковник, глядя на него в упор. — Я не спрашиваю вас, кто и где, я только хочу знать, не замешана ли тут женщина.
Лейтенант д'Юбер опустил руки, и его слабый голос жалобно дрогнул.
— Ничего похожего, господин полковник!
— Честное слово? — продолжал допытываться старый воин.
— Честное слово офицера.
— Хорошо, — сказал полковник задумчиво и прикусил губу.
Доводы лейтенанта д'Юбера и невольное расположение, которое он внушал к себе, убедили его. Однако, с другой стороны, получалось в высшей степени неудобно, что его вмешательство, из которого он не делал тайны, не привело ни к каким очевидным результатам. Он задержал лейтенанта д'Юбера еще на несколько минут и ласково отпустил его.
— Полежите еще несколько дней в постели, лейтенант. С чего это наш доктор поторопился выпустить вас?
Выйдя из квартиры полковника, лейтенант д'Юбер ничего не сказал товарищу, который ожидал его на улице, чтобы отвести домой. Он никому ничего не сказал. Лейтенант д'Юбер не считал нужным пускаться в откровенности. Но вечером этого же дня полковник, прогуливаясь со своим помощником под вязами возле своего дома, разомкнул уста.
— Я докопался, в чем тут дело, — сказал он. Подполковник, сухой, загорелый человек с коротко подстриженными баками, навострил уши, но не позволил себе обнаружить ни малейшего признака любопытства.
— Это не шутка, — загадочно произнес полковник. Собеседник выдержал довольно долгую паузу и наконец вымолвил:
— Вот как!
— Да, не шутка, — повторил полковник, глядя прямо перед собой. — Тем не менее я запретил д'Юберу вызывать этого Феро или принимать от него вызов в течение года.
Он придумал это запрещение, чтобы спасти престиж, который надлежит иметь полковнику. Таким образом, на эту страшную тайну непримиримой вражды была наложена официальная печать. Лейтенант д'Юбер своим невозмутимым молчанием пресекал все попытки проникнуть в истину. Лейтенант Феро сначала несколько беспокоился втайне, но, по мере того как шло время, он снова обрел всю свою самоуверенность. Он прикрывал свое неведение, когда его спрашивали, что означает это перемирие, язвительными усмешками, словно посмеиваясь про себя над чем-то, что было известно только ему одному. «Ну, что же вы думаете делать?» — спрашивали его приятели. Он ограничивался ответом: «Поживем — увидим». И в тоне его слышалось нечто угрожающее. И все восхищались его скрытностью.
Срок перемирия еще не истек, когда лейтенант д'Юбер был назначен командиром эскадрона. Повышение было вполне заслуженно, но, по-видимому, никто этого как-то не ожидал. Когда лейтенант Феро услышал эту новость в офицерском собрании, он пробормотал, стиснув зубы: «Ах, вот как!» Затем тут же снял свою саблю, которая висела на гвозде около двери, пристегнул ее не спеша и, не сказав ни слова, покинул компанию. Мерно шагая, он направился домой. Придя к себе, он выбил огонь из кремня и зажег свечу. Потом схватил попавшийся под руку бокал и с яростью швырнул об пол.
Теперь, когда лейтенант д'Юбер был старше его чином, не могло быть и речи о дуэли. Никто из них не мог ни послать, ни принять вызов, ибо это грозило им военно-полевым судом. Нечего было и думать об этом. Но лейтенант Феро, давно уже, в сущности, не испытывавший желания драться с лейтенантом д'Юбером, теперь вдруг снова впал в бешенство от этой постоянной несправедливости судьбы. «Он что думает, что ему удастся отделаться таким способом? — возмущался он про себя, усматривая в этом повышении интригу, заговор, трусливую увертку. — Этот полковник знает, что он делает. Он поторопился продвинуть своего любимчика. Какая гнусность, когда человек старается уйти от ответа за свои поступки таким нечестным, низким способом!»
Лейтенант Феро, по своей бесшабашной натуре, отличался не столько воинственным, сколько драчливым пылом. Он любил раздавать и получать удары просто из бескорыстной любви к вооруженной борьбе, нимало не заботясь о повышении. Но теперь страстное желание добиться чина вспыхнуло в его сердце. Этот боец по призванию решил не упускать ни одного удобного случая и, как какой-нибудь жалкий карьерист, всеми силами старался заслужить доброе мнение своего начальства. Он знал, что он никому не уступит в храбрости, и нисколько не сомневался в своем личном обаянии. Однако ни храбрость, ни обаяние не подвигали дела. Подкупающая бесшабашная отвага лихого рубаки лейтенанта Феро приобрела какой-то новый оттенок. Он начал с горечью поговаривать о «ловких молодчиках, которые ничем не брезгают, только бы выдвинуться».
— Сколько их развелось в армии! — брюзжал он. — Стоит только посмотреть кругом.
При этом он имел в виду не кого иного, а только своего противника д'Юбера. Как-то он разоткровенничался с одним из сочувствующих ему приятелей:
— Я, видите ли, не умею подлаживаться к тем, к кому надо, — это не в моем характере.
Только спустя неделю после Аустерлица он получил повышение. Первое время легкой кавалерии великой армии хватало дела, но как только военная служба вошла в свою рутину, капитан Феро, не теряя времени, принял меры к тому, чтобы встретиться со своим противником.
— Знаю я эту птичку! — мрачно заявил он. — За ним надо в оба смотреть, а то он, того и гляди, получит повышение через головы других, гораздо более достойных. У него на это особый, дар.
Поединок состоялся в Силезии. И если на этот раз дело не было доведено до конца, то, во всяком случае, оно дошло до крайних пределов. Дрались они на кавалерийских саблях, и ловкость, мастерство, мужество и решимость, проявленные противниками, вызвали восхищение присутствующих. Рассказы об этом ходили по обе стороны Дуная, вплоть до гарнизонов, стоявших в Граце и Лайбахе. Противники семь раз скрещивали сабли. Оба нанесли друг другу множество ран, оба обливались кровью. И оба после каждого тура в смертельной ненависти отказывались прекратить поединок… Такая непримиримость со стороны капитана д'Юбера, объяснялась его естественным желанием покончить раз навсегда с этой неотвязной чепухой, а со стороны капитана Феро — неистовым возбуждением его драчливых инстинктов и бешеной яростью уязвленного тщеславия. Наконец, когда они оба, взлохмаченные, в изодранных в клочья сорочках, покрытые кровью и грязью, уже едва держались на ногах, их силой оттащили друг от друга восхищенные и потрясенные ужасом секунданты. Потом, когда секундантов со всех сторон осаждали жадными расспросами, они отвечали, что не могли допустить, чтобы эта резня продолжалась до бесконечности. Когда им задавали вопросы, покончено ли наконец с этой ссорой, они с убеждением говорили, что эта ссора окончится только тогда, когда один из противников свалится бездыханным трупом.
Вся эта необыкновенная история передавалась из одного полка в другой и проникла даже в самые незначительные отряды, разбросанные между Рейном и Савой. В венских кафе единодушно высказывалось мнение, сложившееся из кое-каких несомненных данных, что противники будут в состоянии встретиться через три недели. И уж на этот раз их поединок будет представлять собой нечто совершенно из ряда вон выходящее.
Эти ожидания оказались напрасными, так как по обстоятельствам военной службы пути обоих офицеров разошлись. Никакого официального вмешательства в их ссору на этот раз не было. Она стала теперь достоянием армии, и не так-то просто было в это вмешаться. Однако вся эта история с дуэлью или, скорее, неутомимое упорство дуэлянтов в какой-то мере препятствовало их продвижению по. службе. Ибо они все еще были капитанами, когда судьба свела их во время войны с Пруссией. Переброшенные после Иены на север с армией под командованием маршала Бернадотта — принца Понте-Корво, они одновременно вошли в Любек.
Уже после того как они прочно расположились в этом городе, капитан Феро улучил время подумать, как ему надлежит поступить в связи с тем, что капитан д'Юбер получил новое назначение и состоял теперь в качестве третьего адъютанта при особе маршала. Он размышлял об этом чуть ли не всю ночь, а утром позвал двух преданных ему приятелей.
— Я все это обдумал, — сказал он, глядя на них утомленными, налитыми кровью глазами, — я вижу, что мне прямо-таки необходимо избавиться от этого интригана. Вот теперь он ухитрился примазаться к личному штабу маршала. Это прямой вызов мне. Я не могу допустить такого положения, при котором мне каждую минуту может грозить неприятность получить через него любой приказ. Да еще черт знает какой! Я уже испытал это однажды, с меня довольно. Он это прекрасно поймет, не беспокойтесь. Больше я вам ничего не могу сказать. Вы теперь знаете, как поступить.
Поединок состоялся в окрестностях города Любека, на весьма открытом участке, который был заботливо выбран, дабы удовлетворить единодушное желание кавалерийского полка, чтобы на этот раз противники встретились верхами на конях. В конце концов ведь эта дуэль является достоянием кавалерии, и драться все время как пехотинцам — это значит в какой-то мере высказывать пренебрежение к собственному роду оружия. Когда секунданты, несколько опешившие от такого неслыханного предложения, довели условия дуэли до сведения своих принципалов, капитан Феро ухватился за эту мысль с радостью. По каким-то тайным причинам, связанным, несомненно, с его душевными качествами, он считал себя неуязвимым в седле. Оставшись один у себя в комнате, он потирал руки и, ликуя, приговаривал:
— Ага, мой штабной красавчик, мой душка-офицерик, вот ты мне когда попался!
Капитан д'Юбер, в свою очередь выслушав секундантов, некоторое время внимательно смотрел на своих друзей, затем пожал плечами. Эта история бессмысленно, бесконечно отравляла ему существование. Одной нелепостью больше или меньше в этой канители — для него не имело значения. Ему вообще претила всякая нелепость. Но со свойственной ему учтивостью, он только чуть-чуть иронически улыбнулся и ответил спокойным, голосом:
— Ну что ж, это до некоторой степени внесет какое-то разнообразие в нашу затянувшуюся дуэль.
Оставшись один, он подошел к столу, сел и обхватил голову руками. Он не щадил себя последнее время. А маршал не давал своим адъютантам ни отдыху, ни сроку. Последние три недели этих походов при отвратительном ненастье подточили его здоровье. Когда он переутомлялся, зажившая рана в боку давала себя чувствовать, и это болезненное ощущение действовало на него угнетающе. «И все из-за этого животного!» — с горечью думал он.
Накануне он получил письмо из дому, где ему сообщали, что его единственная сестра выходит замуж. Он подумал, что с тех пор как он уехал из дому в гарнизонные войска в Страсбург (ей было девятнадцать, а ему двадцать шесть), он видел ее урывками всего только два раза. Они были очень дружны и всегда поверяли друг другу свои тайны. А теперь ее отдадут какому-то человеку, которого он, д'Юбер, не знает, и пусть это будет превосходный человек, но разве он может быть хоть сколько-нибудь достойным ее? Он, д'Юбер, никогда больше не увидит свою прежнюю Леони. Какая она была умница! Вот уж дельная головка! И сколько такта! Конечно, она сумеет прибрать к рукам этого своего супруга. Он не сомневался в том, что она будет счастлива, но чувствовал, что он уже теперь не будет занимать первое место в ее мыслях, как это было всегда с тех пор, как она начала говорить. Охваченный воспоминаниями о своем невозвратимом детстве, капитан д'Юбер, третий адъютант принца Понте-Корво, погрузился в печальные размышления.
Он отложил поздравительное письмо, которое начал было писать без всякого воодушевления, просто из чувства долга, взял чистый лист бумаги и написал на нем следующие слова: «Это моя последняя воля и мое завещание». Глядя на эти слова, он грустно задумался. Предчувствие, что он никогда не увидит тех мест, где протекало его детство, давило его, как камень, и возмущало обычное спокойствие его духа. Он вскочил, отпихнул стул, зевнул, как бы в доказательство того, что не верит ни в какие предчувствия, бросился на кровать и заснул. Во сне он время от времени вздрагивал, но спал не просыпаясь.
Утром он отправился верхом за город в сопровождении своих секундантов и, разговаривая о том, о сем, поглядывал с напускным равнодушием направо и налево — на глубокий утренний туман, окутывавший ровные зеленые поля, обнесенные изгородью. Перескочив через ров, он увидел вдалеке смутные силуэты всадников, которые неясными рядами вырисовывались в тумане. «Мы, похоже, будем драться на виду у галерки», — с горечью подумал он.
Секунданты его были сильно озабочены состоянием атмосферы. Но вот бледное, чахлое солнце выглянуло из сплошного тумана, и капитан д'Юбер различил вдалеке трех всадников, отделившихся от остальных. Это был капитан Феро с секундантами. Он вытащил саблю из ножен и попробовал, крепко ли она держится на темляке.
Секунданты, съехавшись тесной группой, так что морды их лошадей сблизились, теперь легкой рысью отъехали в разные стороны, оставив между противниками широкое чистое поле. Капитан д'Юбер смотрел на бледное солнце, на угрюмые поля, и нелепость неминуемой битвы приводила его в отчаяние. С дальнего конца поля зычный голос мерно выкликнул команду:
— Шагом… рысью… сходись! «Не зря у человека является предчувствие смерти», — подумал он, пришпоривая коня.
Поэтому он был невероятно удивлен, когда капитан Феро, едва они успели скрестить оружие, неосторожно подставил свой лоб под сабельный удар, от которого кровь хлынула у него ручьем и залила ему глаза. Так этот поединок и кончился — прежде чем они успели, в сущности, по-настоящему сразиться. Продолжать его не было никакой возможности. Капитан д'Юбер, покинув своего противника, который, едва удерживаясь в седле с помощью двух своих потрясенных приятелей, неистово сыпал проклятиями, перескочил через ров, выехал на дорогу и поскакал домой в сопровождении своих секундантов; они, по-видимому, были совершенно ошеломлены столь молниеносным исходом.
Вечером капитан д'Юбер окончил поздравительное письмо своей сестре. Он долго сидел над ним. Это было длинное письмо. Капитан д'Юбер дал волю своему воображению. Он писал сестре, что будет чувствовать себя очень одиноким после этой важной перемены в ее жизни. Но наступит когда-нибудь день, когда и он женится. Правду сказать, он уже и сейчас мечтает о том времени, когда не с кем будет драться в Европе и с войнами будет покончено навсегда. «Я надеюсь, что к тому времени, — писал он, — я смогу уже протянуть руку к маршальскому жезлу, а ты будешь опытной матроной. Ты подыщешь мне жену. Наверно, у меня к тому времени появится лысина и я буду чувствовать себя несколько пресыщенным. Невеста моя, конечно, должна быть молоденькая девушка, разумеется хорошенькая и с солидным приданым, которое поможет мне завершить мою славную карьеру со всем пышным великолепием, подобающим моему высокому сану». В конце он приписал, что он «только что проучил одного неотвязного буяна, который почему-то воображает, что я его чем-то обидел. Но если ты когда-нибудь в глуши провинции услышишь разговоры о том, что твой брат забияка, прошу тебя этому не верить. Трудно представить себе, какая сплетня из тех, что ходят по армии, может достичь твоих невинных ушей. Но что бы ты ни услышала, можешь быть совершенно уверена, что твой неизменно любящий тебя брат отнюдь не бретер».
Затем капитан д'Юбер скомкал чистый лист бумаги, на котором была написана одна-единственная фраза: «Это моя последняя воля и мое завещание», и, громко расхохотавшись, бросил его в камин. Его теперь ничуть не беспокоило, что бы там еще ни надумал выкинуть этот полоумный. У него почему-то появилась уверенность, что его противник, как бы он ни старался, неспособен причинить ему никакого вреда, разве что доставит ему несколько необычных минут острого волнения в эти чудесные, радостные дни перерывов между походами.
Однако с этого времени никаких перерывов в военной службе капитана д'Юбера не было: поля Эйлау и Фридланда, походы туда и обратно по снежным, грязным, пыльным равнинам Польши, награды, отличия, чины на всех дорогах, ведущих в северо-восточную Европу. Между тем капитан Феро, переброшенный со своим полком на юг, безуспешно воевал в Испании, и только когда начались приготовления к русской кампании, он получил приказ вернуться на север. Без сожаления покинул он страну мантилий и апельсинов.
Первые признаки довольно живописной лысины украсили высокое чело полковника д'Юбера. Оно теперь было уже не такое белое и гладкое, как в дни его юности; приветливый, открытый взгляд его голубых глаз стал несколько жестче, как если бы он слишком долго вглядывался в дым сражений.
В черной щетине на голове полковника Феро, упругой и жесткой, как шапка из конского волоса, появилось возле висков множество серебряных нитей. Тяжелая война с засадами и неожиданностями не улучшила его характера. Горбатая линия носа, похожего на птичий клюв, резко выделялась, подчеркнутая глубокими складками по обе стороны рта. От круглых глаз лучами расходились морщинки. Он больше чем когда-либо напоминал сердитую, уставившуюся немигающим взором птицу — что-то среднее между попугаем и филином. Он по-прежнему откровенно выражал свое презрение к «этим интриганам» и при каждом удобном случае говорил, что он заслужил свой чин не в передней маршала. Если кому-нибудь из штатских или военных, желавших проявить любезность, случалось, на свое несчастье, попросить полковника Феро рассказать, откуда у него этот глубокий шрам на лбу, они с недоумением обнаруживали, что попали впросак, ибо он тут же принимался отчитывать их: кого просто грубо, а кого с загадочной язвительностью. Юных офицеров в полку более опытные товарищи дружески предупреждали, чтобы они не таращили глаза на шрам полковника, но, правду сказать, только очень юный офицерик мог не знать об этой легендарной дуэли, об этой непримиримой вражде, которая возникла из-за какого-то загадочного, несмываемого оскорбления.
Глава III
Отступление от Москвы потопило все личные переживания в море несчастий и скорби. Полковники без полков, д'Юбер и Феро, с мушкетами на плечах шагали в рядах так называемого Священного батальона — батальона, который состоял из офицеров всех родов оружия, но которым уже некем больше было командовать.
В этом батальоне заслуженные полковники выполняли обязанности сержантов, генералы — ротных командиров, а маршал Франции, принц империи, возглавлял батальон. Все они были вооружены ружьями, подобранными на дороге, патронами, отобранными у мертвецов. В эти дни полного распада всякой дисциплины и служебного долга, который связывает крепкими узами взводы, батальоны, полки, бригады и дивизии вооруженного войска, эта группа людей старалась из чувства гордости соблюдать какую-то видимость порядка и стройности. Отставал только тот, кто падал и препоручал ледяной стуже свою измученную душу.
Они брели вперед, и шаг их не нарушал могильной тишины равнин, сверкающих мертвенным блеском снегов под пепельно-серым небом. Вьюга бушевала на полях, налетала на сомкнутую колонну, окутывала ее снежным вихрем, затихала на миг, и люди снова плелись по своему безотрадному пути, не отбивая такта, не соблюдая мерного ритма военного шага. Они брели, не обмениваясь ни словом, ни взглядом; шли плечо к плечу день за днем, не поднимая глаз от земли, словно погруженные в безнадежные думы. В безмолвной, черной сосновой чаще слышалось только потрескивание веток, отягченных снегом. Часто от зари до зари никто во всей колонне не произносил ни слова. Это было похоже на шествие мертвецов — эти бредущие трупы, пробивающиеся к далекой могиле. Только налеты казаков воскрешали в их глазах некоторое подобие воинственной решимости. Батальон поворачивал кругом и выстраивался в боевом порядке или становился сомкнутым строем, а сверху без конца, без конца сыпались снежные хлопья. Кучка всадников в меховых папахах, с длинными пиками наперевес с криками «ура! ура!» носилась вокруг этого ощетинившегося строя, откуда с глухими раскатами, прорезая густую снежную завесу, вылетали сотни огненных вспышек. Через несколько минут всадники исчезали, словно подхваченные вихрем, а Священный батальон, настороженно застыв в одиночестве, среди бурана, слышал только завыванье ветра, пронизывающего до самого мозга костей. Со слабым возгласом: «Vive l'empereur!»[2] — он снова двигался вперед, оставляя позади несколько безжизненных тел — крошечные черные точки среди белой пустыни снега.
Хотя они нередко шагали в одной шеренге или, отстреливаясь, стояли плечо к плечу, оба офицера теперь не замечали друг друга отнюдь не из враждебного умысла, а поистине из полного равнодушия. Весь запас их душевной энергии уходил на то, чтобы противостоять страшной враждебности окружающей их природы и гнетущему чувству непоправимого бедствия. Они до самого конца считались самыми бодрыми, больше всех сохранившими стойкость духа во всем батальоне. Их мужественная жизнеспособность окружала их в глазах товарищей ореолом геройства. За все время они обменялись, может быть, двумя-тремя словами и то случайно, за исключением одного дня, когда, отстреливаясь, впереди всех от конного разъезда в лесу, они оказались отрезанными от батальона небольшой кучкой казаков. Десятка два усатых, обросших щетиной всадников в меховых папахах, потрясая пиками, носились вокруг них в зловещей тишине. Но ни тот, ни другой офицер не собирался сложить оружие. И тут-то полковник Феро, вскинув мушкет к плечу, неожиданно сказал хриплым, ворчливым голосом:
— Вы цельтесь вот в этого, что поближе, полковник д'Юбер, а я разделаюсь вон с тем: я стреляю лучше вас.
Полковник д'Юбер кивнул, поднимая мушкет. Они стояли, прислонившись к стволу толстого дерева. Громадные сугробы впереди защищали их от прямой атаки. Два метких выстрела прозвучали в морозном воздухе, — два казака зашатались в седлах. Остальные, решив, что игра не стоит свеч, сомкнулись вокруг своих раненых товарищей и ускакали прочь. Полковникам Феро и д'Юберу удалось нагнать свой батальон, когда он остановился на ночлег. В этот день они не раз опирались друг на друга, и в конце концов полковник д'Юбер, которому его длинные ноги давали преимущество в ходьбе по рыхлому снегу, решительно отнял мушкет у полковника Феро и вскинул его себе на плечо, опираясь на свой, как на посох.
На окраине деревушки, почти занесенной снегом, ярким громадным костром пылал старый деревянный сарай. Священный батальон скелетов, кутаясь в лохмотья и тесно сбившись в кучу, спиной к ветру, жадно тянулся к огню сотнями онемевших костлявых рук. Никто не заметил, как они подошли. Прежде чем вступить в круг света, озарявший худые, изможденные лица с остекленевшими глазами, полковник д'Юбер сказал:
— Вот вам ваш мушкет, полковник Феро. Хожу-то я лучше вас.
Полковник Феро кивнул и, расталкивая сидящих направо и налево, протискался к самому огню. Полковник Д'Юбер, хотя и не столь бесцеремонно, но тоже постарался занять место в первом ряду. Те, кого они отпихнули, все же слабыми возгласами приветствовали двух несокрушимых товарищей. И эти слабые возгласы были, пожалуй, самой высокой похвалой, которой когда-либо удостаивались мужество и стойкость.
Таков достоверный рассказ о словах, которыми обменялись полковники Феро и д'Юбер во время отступления от Москвы. Угрюмость полковника Феро была выражением накопившейся в нем ярости. Приземистый, обросший щетиной, почерневший от слоев грязи и густо разросшейся жесткой бороды, с подвязанной рукой, обмотанной грязными лохмотьями, он проклинал судьбу за неслыханное вероломство но отношению к божественному Человеку Судьбы[3].
Полковник д'Юбер относился к событиям значительно более серьезно. Его тонко очерченное, когда-то красивое лицо, от которого теперь остались одни только кости да впадины, обтянутые кожей, выглядывало из черного бархатного женского капора; поверх капора была напялена треугольная шляпа — он выудил ее из-под колес пустого военного фургона, некогда служившего для перевозки офицерского багажа; длинные усы висели сосульками по обе стороны его потрескавшихся, посинелых губ; глаза под воспаленными веками слезились от нестерпимо яркого снежного блеска. Главную часть его одежды составлял овчинный полушубок, который он с большим трудом снял с валявшегося на дороге трупа. Полушубок этот, слишком короткий, для человека его роста, оканчивался чуть-чуть пониже пояса, и посиневшие от холода ноги проглядывали сквозь лохмотья брюк. Но при создавшихся обстоятельствах это не вызывало ни насмешки, ни жалости. Никто не обращал внимания на то, как выглядит или как чувствует себя сосед.
Полковник д'Юбер, терпеливо переносивший холод, испытывал непрестанное чувство унижения от этой плачевной непристойности своего костюма. Какой-нибудь легкомысленный человек мог бы сказать, что груды безжизненных тел, усеивавшие путь отступления, могли бы без труда пополнить этот недостаток. Но стащить брюки с замерзшего трупа отнюдь не так просто, как кажется. На это требуются время и усилия, а между тем колонна уходит вперед. Полковник д'Юбер не решался остаться позади. Он не надеялся на свои силы, он опасался, что, если он хоть немножко отстанет, ему не удастся нагнать свой батальон. Кроме того, омерзительная борьба с замерзшим трупом, оказывающим при этом железное сопротивление, вызывало у него чувство тошноты.
Но как-то раз, копаясь в сугробе возле какой-то деревенской лачужки в надежде найти мороженую картошку или какую-нибудь другую съедобную дрянь, которую он мог бы пожевать своими длинными расшатанными зубами, полковник д'Юбер нашел две рогожи из тех, какими русские мужики закрывают с боков свои телеги. Очистив их от примерзшего снега, он обернул ими свою элегантную особу, крепко стянув вокруг пояса, и таким образом получилось нечто похожее на колокол, что-то вроде негнущейся юбки, которая, правда, придавала полковнику д'Юберу вполне пристойный вид, но делала его еще более заметным.
Экипировавшись таким образом, он продолжал отступать, твердо надеясь на то, что ему удастся спастись, но, втайне полный других опасений. Его пылкая юношеская вера в будущее была разрушена. «Если дорога славы приводит к таким неожиданностям, — рассуждал он — а он еще был способен рассуждать, — можно ли всецело полагаться на того, кто тебя ведет?» Эти опасения задевали его патриотические чувства, а к ним примешивалось беспокойство и за свою личную судьбу; но все это было отнюдь не похоже на ту слепую, безрассудную ярость против людей и всего на свете, бушевавшую в груди полковника Феро.
Восстанавливая свои силы в маленьком немецком городке, где он пробыл три недели, полковник д'Юбер с удивлением обнаружил в себе любовь к покою. Постепенно возвращавшаяся к нему энергия отличалась непривычным миролюбием. Он молча раздумывал над этой странной переменой своего душевного состояния. Можно не сомневаться, что многие из его товарищей-офицеров переживали примерно то же самое. Но говорить об этом было не время. В одном из своих писем домой полковник д'Юбер писал:
«Все твои планы, моя дорогая Леони, женить меня на очаровательной девушке, которую ты обрела по соседству, сейчас отодвигаются на неопределенное будущее. Мир еще не наступил. Европу следует проучить еще раз. Трудная нам предстоит задача, но ее надо выполнить, ибо император непобедим».
Так писал полковник д'Юбер из Померании своей замужней сестре Леони, жившей на Юге Франции. Чувства, выражавшиеся в этом письме, нашли бы несомненный отклик в душе полковника Феро, который никому не писал писем, ибо отец его был безграмотный кузнец и не было у него ни сестер, ни братьев и никого, кто бы мечтал соединить его с юной, очаровательной девушкой, которая украсила бы его мирные дни. Но в письме полковника д'Юбера были еще и иные философские рассуждения — о непрочности каких-либо личных надежд, когда они всецело связаны с фантастической судьбой одного человека, который, как бы неоспоримо он ни был велик, тем не менее при всем своем несомненном величии, как-никак, все же только человек.
Подобные рассуждения показались бы полковнику Феро гнусной ересью, а попадись ему кое-какие другие осторожные высказывания, в которых проскальзывали невеселые опасения по поводу войны, он, не задумавшись, объявил бы это государственной изменой. Но Леони, сестра полковника д'Юбера, прочла их с чувством глубокого удовлетворения и, задумчиво сложив письмо, сказала про себя: «Я всегда думала, что у Армана в конце концов благоразумие возьмет вверх». Леони, с тех пор как она вышла замуж и поселилась на родине мужа — в провинции Южной Франции, стала убежденной роялисткой и мечтала о возвращении законного короля. В надежде и смятении она молилась утром и вечером и ставила в церкви свечки за здоровье и благополучие своего брата.
У нее были все основания предполагать, что молитвы ее были услышаны. Полковник д'Юбер, побывав в сражениях под Люценом, Бауценом и Лейпцигом, остался невредим и покрыл себя славой. Приспособляясь к условиям этого страшного времени, он никогда не высказывал вслух своих опасений. Он скрывал их под приятной учтивостью такого подкупающего характера, что люди с удивлением спрашивали себя: а допускает ли вообще полковник д'Юбер возможность какой-нибудь катастрофы? Не только его манера держаться, но даже и взгляд его оставался невозмутимым. Спокойная приветливость этих голубых глаз сбивала с толку всех злопыхателей и приводила в замешательство даже само отчаяние.
Это поведение обратило на себя благосклонное внимание самого императора, ибо полковник д'Юбер, состоявший теперь при штабе верховного главнокомандующего, неоднократно имел случай находиться в присутствии его императорского величества. Но все это в высшей степени раздражало более непосредственную натуру полковника Феро. Попав однажды проездом по делам в Магдебург, он как-то раз мрачно сидел за обедом с комендантом крепости и вскользь в разговоре сказал о своем давнишнем противнике:
— Этот человек не любит императора.
На это присутствующие ответили глубоким молчанием. Полковник Феро, испытывая тайные угрызения совести от изреченной им чудовищной клеветы, почувствовал необходимость подкрепить ее каким-нибудь веским аргументом.
— Уж я-то его хорошо знаю! — воскликнул он, присовокупив несколько крепких словечек. — Противника своего изучаешь вдоль и поперек, а мы сходились с ним по крайней мере раз шесть. Кто об этом в армии не знает! Чего же вам еще надо? Самый что ни на есть отъявленный дурак и тот сумел бы воспользоваться случаем, чтобы раскусить человека, а уж я-то, черт возьми, знаю, что говорю! — И он окинул сидящих за столом мрачным, упорным взглядом.
Спустя некоторое время в Париже, где у него оказалась масса хлопот в связи с переформированием полка, полковник Феро услышал, что полковник д'Юбер произведен в генералы. Он недоверчиво смерил взглядом своего собеседника, затем, сложив руки на груди, повернулся к нему спиной и тихо пробормотал:
— Этот человек меня теперь ничем не удивит. — А затем прибавил вслух, чуть повернув голову через плечо: — Вы премного обяжете меня, если не сочтете за труд передать генералу д'Юберу при первой же возможности, что его повышение на некоторое время спасает его от одной жаркой схватки. Я как раз поджидал, не покажется ли он здесь.
Офицер не удержался и сказал с укоризной:
— Как вы только можете думать об этом, полковник Феро, в такое время, когда каждый человек должен стремиться отдать свою жизнь для славы и спасения Франции!
Но накопившаяся горечь, посеянная превратностями войны, испортила характер полковника Феро. Подобно многим другим, он озлобился от несчастий.
— Я отнюдь не считаю, что существование генерала д'Юбера может хоть сколько-нибудь способствовать славе и спасению Франции, — злобно отрезал он. — Впрочем, вы, может быть, изволите полагать, что вы знаете его лучше, чем я? Я, который по меньшей мере раз шесть сходился с ним в поединке!
Собеседник его, молодой человек, вынужден был замолчать. Полковник Феро прошелся по комнате.
— Сейчас, знаете, не время щепетильничать, — сказал он. — Я не верю, чтоб этот человек когда-нибудь любил императора. Он заработал свои генеральские эполеты на побегушках у маршала Бертье. Прекрасно! Я сумею заслужить свои иначе. И тогда уж мы разберемся в этом деле, которое, на мой взгляд, слишком затянулось.
Когда генералу д'Юберу кто-то случайно обмолвился об этих враждебных выпадах полковника Феро, он только махнул рукой, словно отгоняя что-то бесконечно надоевшее. Мысли его были заняты более серьезными заботами. Ему так и не удалось съездить повидать своих родных. Сестра его, у которой ее роялистские надежды возрастали с каждым днем, хотя и очень гордилась своим братом, тем не менее несколько огорчилась повышением, ибо оно накладывало на него весьма заметное клеймо особой милости узурпатора, что впоследствии могло оказать совершенно обратное влияние на его будущее. Он написал ей, что никто, кроме какого-нибудь заклятого врага, не может сказать о нем, что он получил повышение по чьей-то милости. Что же до будущего, то он писал, что у него нет привычки заглядывать дальше предстоящего сражения.
Начав кампанию во Франции в этом непреклонном состоянии духа, генерал д'Юбер на второй же день был ранен в битве при Лане. Когда его уносили с поля, он услышал, что полковник Феро, только что произведенный в генералы, был послан на его место в качестве командира бригады. У него невольно вырвалось проклятие, ибо он с первого взгляда не смог оценить те преимущества, которые давала ему эта проклятая рана. И, однако, именно этим героическим способом провидение кроило его будущее. Медленно пробираясь на юг, в усадьбу сестры, под заботливым присмотром старого преданного слуги, генерал д'Юбер счастливо избежал унизительных компромиссов и запутанного положения, в котором очутились сподвижники наполеоновской империи в момент ее крушения.
Лежа в постели у себя в комнате, в распахнутые окна которой сияло солнце Прованса, он оценил истинный смысл этой великой милости судьбы, ниспосланной ему в виде острого осколка прусского артиллерийского снаряда, который, убив под ним лошадь и разворотив ему бедро, спас его от жестокой борьбы со своей совестью. После этих четырнадцати лет походной жизни, в седле с саблей наголо, чувствуя себя вправе сказать, что он выполнил свой долг до конца, генерал д'Юбер теперь пришел к мысли, что покорность судьбе — легкая добродетель. Сестра его была в восторге от такой рассудительности.
— Я всецело отдаю себя в твои руки, моя дорогая Леони, — заявил он ей.
Он все еще был прикован к постели, когда благодаря полезному вмешательству в его дела влиятельных родственников зятя он получил от королевского правительства не только подтверждение в чине, но и извещение о том, что он оставлен на действительной службе.
При этом ему предоставлялся неограниченный отпуск для поправления здоровья. Неблагоприятное мнение, сложившееся о нем в бонапартистских кругах, хотя и не основывалось ни на чем, кроме совершенно голословного заявления генерала Феро, сыграло несомненную роль в том, что генерал д'Юбер был оставлен на действительной службе. Что касается генерала Феро, он тоже был утвержден в чине. Это было больше того, на что он мог рассчитывать, но маршал Сульт, военный министр правительства возвращенного короля, благоволил к офицерам, служившим в Испании. Однако даже и благоволение маршала не могло посулить ему действительную службу. Он пребывал в полной праздности, непримиримый, мрачный, и целые дни просиживал в дешевых ресторанчиках в компании других отставных офицеров, которые бережно прятали в жилетных карманах старые трехцветные кокарды и сохраняли на своих потрепанных мундирах старые пуговицы с запретным орлом, заявляя, что они слишком бедны и не могут позволить себе обзавестись новыми.
Триумфальное возвращение с Эльбы, подлинный исторический факт, чудесный и невероятный, как подвиги мифических полубогов, свершилось, когда генерал д'Юбер все еще не мог сесть на коня, да и ходить-то мог едва-едва. Мадам Леони очень радовалась этому обстоятельству, ибо оно держало ее брата вдали от всех зол, но она с ужасом замечала, что его умонастроение в это время отнюдь не отличалось рассудительностью. Этот генерал, оставленный на действительной службе, которому все еще грозила опасность остаться без ноги, был застигнут однажды ночью в конюшне — конюх, увидев там свет, подумал, что это воры, и поднял тревогу. Костыль генерала валялся на полу, наполовину зарытый в солому, а сам он, прыгая на одной ноге, пытался оседлать лошадь, которая фыркала и не хотела стоять на месте.
Таково было действие чар императора на человека спокойного и рассудительного. При свете фонаря, горевшего в конюшне, генерала обступили перепуганные и возмущенные родственники; они накинулись на него со слезами, мольбами, упреками, и это безвыходное для него положение разрешилось только тем, что он, потеряв сознание, упал в чьи-то родственные объятия. Он еще не успел подняться после болезни, как второе царствование Наполеона — Сто дней лихорадочного волнения и немыслимых усилий — пронеслось, как ошеломляющий сон. Тяжкий 1815 год, начавшийся в смятении умов и терзаниях совести, завершался карающими проскрипциями.
Как избежал генерал Феро проскрипционного списка и последних услуг стрелковой команды, он и сам не знал. Отчасти он был обязан этим тому второстепенному положению, которое он занимал в течение Ста дней. Император не предоставил ему командного поста, а держал его на запасном кавалерийском пункте, откуда он снаряжал и отправлял на поля сражений наспех обученные эскадроны. Будучи высокого мнения о своих способностях, генерал Феро считал это занятие ниже своего достоинства и выполнял его без особого рвения; но главное, что спасло его от эксцессов роялистской реакции, было вмешательство генерала д'Юбера.
Все еще находясь в отпуску по болезни, генерал д'Юбер был уже теперь в состоянии двигаться, и сестра убедила его поехать в Париж представиться законному королю. Так как никто в столице, разумеется, не был осведомлен о происшествии в конюшне, его приняли там весьма благосклонно. Ввиду того, что весь он, душой и телом, до мозга костей был человек военный, перспектива пойти дальше на этом поприще утешала его, когда он увидел себя объектом бонапартистской ненависти, которая преследовала его с таким рвением, какого он никак не мог себе объяснить. Вся злоба этой раздраженной гонимой партии устремилась на него, на человека, который никогда не любил императора, — на это чудовище хуже всякого предателя.
Генерал д'Юбер невозмутимо пожимал плечами на эти остервенелые выпады. Отринутый своими старыми друзьями и отнюдь не склонный доверять авансам, которые делали ему роялистские круги, молодой, красивый генерал (ему только что исполнилось сорок лет) держал себя с холодной, официальной учтивостью, которая при малейшем намеке на недостаточное уважение переходила в сухое высокомерие.
Забронировав себя таким образом, генерал д'Юбер устраивал свои дела в Париже и чувствовал себя в глубине души очень счастливым. Это было совсем особое, захватывающее чувство человека сильно влюбленного. Очаровательная девушка, которую подыскала ему сестра, уже появилась на сцене и завоевала его всего целиком, так, как это может сделать юная девушка, неожиданно появившись в поле зрения сорокалетнего человека. Они должны были пожениться, как только генерал д'Юбер получит официальное назначение на обещанный ему пост.
Однажды днем, сидя на веранде кафе Тортони, генерал д'Юбер услыхал из разговора двух незнакомых ему людей, сидевших за соседним столиком, что, генералу Феро, арестованному в числе прочих офицеров высшего командного состава после вторичного возвращения короля, грозит опасность предстать перед чрезвычайным судом. Генерал д'Юбер, который, подобно многим томящимся ожиданием влюбленным, едва только у него выдавалась свободная минута, тотчас же переносился в будущее и предавался ослепительным мечтам, оторвался от упоительного созерцания своей невесты только тогда, когда услышал, как кто-то громко произнес имя его вечного противника. Он оглянулся. Незнакомцы были в штатском. Худые, с суровыми, закаленными лицами, они сидели, откинувшись на спинки стульев, и с мрачным, вызывающим равнодушием полядывали вокруг из-под своих низко надвинутых на глаза шляп. Нетрудно было узнать в них двух уволенных с военной службы офицеров старой гвардии. То ли бравируя, то ли действительно от полного равнодушия, они разговаривали громко, и генералу д'Юберу, который не видел причины пересаживаться на другое место, было слышно каждое слово. Они, по-видимому, не были близкими друзьями генерала Феро и называли его имя в числе других.
Когда генерал д'Юбер второй раз услышал это имя, его сладостное предвкушение семейного будущего, скрашенного женским очарованием, растворилось в остром сожалении о воинственном прошлом, об этом неумолчном упоительном грохоте орудий, неповторимом в величии своей славы и своего крушения, об этом чудесном достоянии, владеть которым выпало на долю его поколения. В сердце его шевельнулась необъяснимая нежность к его старому противнику, и он с чувством умиления вспомнил ту поистине убийственную нелепость, которая вносила в его существование эта дуэль. Это было нечто вроде острой приправы к жаркому, — он сейчас с грустью вспоминал эту остроту. Никогда уж он не вкусит ее больше. Все кончено. «Он, должно быть, ожесточился против меня с самого начала за то, что я тогда бросил его, раненого, в саду», — добродушно подумал д'Юбер.
Двое незнакомцев за соседним столиком, упомянув в третий раз имя генерала Феро, замолчали; затем более пожилой из них, продолжая разговор, сказал с горечью:
— Да, для генерала Феро теперь, можно сказать, все кончено. А почему? Да просто потому, что он не из тех выскочек, которые только о себе думают. Эти роялисты понимают, что им от него никогда никакой пользы не будет. Он слишком любил Того.
Тот — это был человек на острове Святой Елены. Оба офицера кивнули друг другу, чокнулись и выпили за несбыточное возвращение. Затем тот, который только что говорил, сказал с язвительным смешком:
— Противник-то его оказался умнее.
— Какой противник? — спросил, словно недоумевая, собеседник.
— Да разве вы не знаете? Их было два гусара. После каждого повышения они дрались на дуэли. Неужели вы ничего не слышали о дуэли, которая тянулась с тысяча восемьсот первого года?
Да, разумеется, он слышал об этой дуэли!
— Ах, вот о чем речь! Да, конечно, генерал барон д'Юбер может теперь спокойно наслаждаться милостями своего жирного короля.
— Пусть себе наслаждается, — неодобрительно пробормотал другой.
— А ведь храбрые были офицеры оба! Я никогда не видал этого д'Юбера. Говорят, какой-то шаркун, интриган. Но я, конечно, охотно верю Феро: он говорил про него, что он никогда не любил, императора.
Они поднялись и ушли.
Генерал д'Юбер очнулся с чувством невыразимого ужаса, словно лунатик, который, проснувшись на ходу от своего глубокого сна, видит, что он забрел в трясину. Его охватило глубочайшее омерзение к этому болоту, в котором он себе прокладывал путь. Даже образ очаровательной девушки потонул в этом нахлынувшем на него отвратительном чувстве. Все, все, чем он когда-либо был, и то, к чему он стремился, будет теперь навек отравлено горечью невыносимого стыда, если ему не удастся спасти генерала Феро от страшной судьбы, грозящей многим храбрым.
Охваченный этим почти болезненным желанием во что бы то ни стало спасти своего противника, генерал д'Юбер, не щадя рук и ног, как говорят французы, пустил в ход все, что было можно, и меньше чем через сутки получил особую аудиенцию у министра полиции.
Генерала барона д'Юбера сразу, без доклада, впустили в кабинет. В сумраке министерского кабинета, в глубине, позади письменного стола, кресел и столиков, между двумя снопами восковых свечей, пылавших в канделябрах, он увидел фигуру в раззолоченном мундире, позирующую перед громадным зеркалом. Бывший член Конвента Фуше, сенатор империи, предававший каждого человека, изменявший любому принципу, любому стимулу человеческого поведения, герцог Отрантский, грязный подручный второй Реставрации, любовался своим придворным мундиром, ибо его прелестная юная невеста изъявила желание иметь его портрет на фарфоре не иначе, как в этом мундире. Это был каприз, очаровательная прихоть, и первый министр второй Реставрации горел нетерпением его выполнить, ибо человек этот, которого за его коварные повадки часто сравнивали с лисой, но моральные качества коего нельзя достойным образом охарактеризовать, не прибегнув к более сильному сравнению — с вонючим скунсом, пылал любовью не меньше, чем генерал д'Юбер.
Раздосадованный, что его по оплошности слуги застали врасплох, он замял эту неловкость бесстыдством, к которому он так умело прибегал в нескончаемых интригах, созидая свою карьеру. Ничуть не изменив позы — он стоял, выставив вперед одну ногу в шелковом чулке, откинув голову к левому плечу, — он спокойно произнес:
— Прошу сюда, генерал, пожалуйста, подойдите. Извольте, я вас слушаю.
В то время, как генерал д'Юбер, чувствуя себя чрезвычайно неловко, как если б это его уличили в какой-то смешной слабости, излагал как можно короче свою просьбу, герцог Отрантский расправлял воротник, приглаживая отвороты и глядя на себя в зеркало, поворачивался всем туловищем, чтобы посмотреть, хорошо ли лежат на спине расшитые золотом фалды. Будь он один, его спокойное лицо, внимательные глаза не могли бы обнаружить большей непринужденности и сосредоточенного интереса к этому занятию, чем сейчас.
— Изъять из рассмотрения специальной комиссии некоего Феро, Габриеля-Флориана, бригадного генерала производства восемьсот четырнадцатого года? — повторил он слегка удивленным тоном и повернулся от зеркала. — Почему же именно его изъять?
— Я удивлен, что ваша светлость, будучи столь компетентным в оценке своих современников, сочли нужным включить это имя в список.
— Ярый бонапартист!
— Как это должно быть известно вашей светлости, то же можно сказать про любого гренадера, про любого солдата армии. А личность генерала Феро имеет не больше значения, чем личность любого гренадера. Это человек недалекий, не обладающий никакими способностями. Нельзя даже и предположить, чтобы он мог пользоваться каким-нибудь влиянием.
— Однако языком своим он хорошо пользуется, — заметил Фуше.
— Он болтлив, я допускаю, но не опасен.
— Я воздержусь спорить с вами. Мне о нем почти ничего не известно. Ничего, в сущности, кроме имени.
— И, однако, ваша светлость стоит во главе комиссии, уполномоченной королем отобрать лиц, которым надлежит предстать перед ее судом, — сказал генерал д'Юбер с подчеркнутой интонацией, которая, разумеется, не ускользнула от слуха министра.
— Да, генерал, — сказал он, удаляясь в полумрак, в глубину комнаты, и опускаясь в глубокое кресло, откуда теперь видно было только тусклое сверканье золотого шитья и неясное бледное пятно вместо лица. — Да, генерал. Вот стул, садитесь, пожалуйста.
Генерал д'Юбер сел.
— Да, генерал, — продолжал этот непревзойденный мастер в искусстве интриг и предательств, которому иногда словно становилось невтерпеж от собственного двуличия, и он, чтобы отвести душу, пускался в циничную откровенность. — Я поспешил создать проскрипционную комиссию и сам стал во главе ее. А знаете, почему? Да просто из опасения, что если я не возьму как можно скорее это дело в свои руки, то мое имя может оказаться первым в проскрипционном списке. Такое сейчас время. Но пока я еще министр его величества короля, я вас спрашиваю: почему, собственно, я должен изъять из этого списка какого-то неведомого Феро? Вас удивляет, каким образом попало сюда это имя? Может ли быть, что вы так плохо знаете людей? Дорогой мой, на первом же заседании комиссии имена хлынули на нас потоком, как дождь с крыши Тюильри. Имена! Нам приходилось выбирать их из тысяч. Откуда вы знаете, что имя этого Феро, жизнь или смерть которого не имеет никакого значения для Франции, не заменило собой ничье другое имя?
Голос в кресле умолк. Генерал д'Юбер сидел перед ним, не двигаясь, и мрачно молчал. Только сабля его чуть-чуть позвякивала. Голос из кресла снова заговорил:
— А ведь нам приходится еще думать о том, чтобы удовлетворить требования монархов-союзников. Да вот только вчера еще принц Талейран говорил мне, что Нессельроде официально уведомил его о том, что его величество император Александр весьма недоволен тем скромным количеством уроков, которое намеревается дать правительство короля, в особенности среди военных. Это, конечно, конфиденциально.
— Клянусь честью, — вырвалось у генерала д'Юбера сквозь стиснутые зубы, — если ваша светлость соизволит удостоить меня еще каким-нибудь конфиденциальным сообщением, я не ручаюсь за себя… После этого остается только переломить саблю и швырнуть…
— Вы какому правительству изволите служить, как вы полагаете? — резко оборвал его министр.
После недолгой паузы упавший голос генерала д'Юбера вымолвил:
— Правительству Франции.
— Это называется отделываться пустыми словами, генерал. Вся суть в том, что вы служите правительству бывших изгнанников — людей, которые в течение двадцати лет были лишены родины, людей, которые ко всему этому только что пережили очень тяжелое и унизительное чувство страха… Не надо обманывать себя на этот счет, генерал.
Герцог Отрантский замолчал. Он отвел душу и добился своего — потоптал чуточку собственное достоинство этого человека, который так некстати застал его позирующим перед зеркалом в расшитом золотом придворном мундире. Но эта публика из армии — народ горячий. Он тут же подумал, что будет в высшей степени неудобно, если офицер высшего командного состава, настроенный доброжелательно генерал, принятый им по рекомендации одного из принцев, вдруг после разговора с министром выкинет сгоряча какую-нибудь глупость, из-за, которой потом поднимется шум. Он переменил тон и спросил, переходя к делу:
— Ваш родственник — этот Феро?
— Нет. Не родственник.
— Близкий друг?
— Да… близкий… Мы тесно связаны с ним, и связь эта такого рода, что для меня является вопросом чести попытаться…
Министр позвонил, не дослушав до конца фразы. Когда слуга, поставив на письменный стол дча массивных серебряных канделябра, вышел, герцог Отрантский поднялся, сияя золотой грудью при ярком свете свечей, достал из стола лист бумаги и, небрежно помахивая им в руке, сказал с мягкой внушительностью:
— Вам не следует говорить о том, что вам хочется переломить вашу саблю, генерал. Вряд ли вам удастся получить другую. Император на этот раз не вернется… Что за человек! Был один момент в Париже, вскоре после Ватерлоо, когда он изрядно напугал меня… Казалось, он вот-вот начнет все сначала. К счастью, это никому не удается — никогда нельзя начать все сначала, нет. Забудьте думать о том, что вы хотели переломить вашу саблю, генерал.
Генерал д'Юбер, не поднимая глаз, чуть заметно шевельнул рукой, как бы ставя крест и смиряясь. Министр полиции отвел от него свой взор и начал неторопливо просматривать бумагу, которую он все время держал открыто в руке.
— Тут у нас всего двадцать генералов из действующего состава, предназначенных послужить уроком. Двадцать. Круглое число. А ну-ка поищем, где этот Феро… Ага, вот он! Габриель-Флориан. Отлично! Этот самый. Ну что ж, пусть у нас теперь будет девятнадцать.
Генерал д'Юбер встал с таким чувством, как если бы он перенес какую-то заразную болезнь.
— Я позволю себе просить вашу светлость сохранить мое ходатайство в тайне. Для меня чрезвычайно важно, чтоб он никогда не знал…
— А кто ж ему станет говорить, хотел бы я знать? — сказал Фуше, с любопытством поднимая глаза на застывшее, напряженное лицо генерала д'Юбера. — Вот, пожалуйста, возьмите тут какое-нибудь перо и зачеркните это имя сами. Это единственный список. Если вы хорошенько обмакнете ваше перо и проведете черту пожирней, никто никогда не сможет узнать, что это было за имя. Но только уж извините, я не отвечаю за то, как им потом распорядится Кларк[4]. Если он будет неистовствовать, военный министр пошлет его на жительство в какой-нибудь провинциальный городок под надзор полиции.
Спустя несколько дней генерал д'Юбер, вернувшись домой, сказал сестре после того, как они расцеловались:
— Ах, милочка Леони, мне так не терпелось поскорей вырваться из Парижа!
— Любовь торопила? — сказала она с лукавой усмешкой.
— И ужас, — добавил генерал д'Юбер очень серьезно. — Я чуть не умер от… от омерзения.
Лицо его брезгливо передернулось. Перехватив внимательный взгляд сестры, он продолжал:
— Мне надо было повидать Фуше. Я добился аудиенции. Я был у него в кабинете. Когда имеешь несчастье находиться в одной комнате с этим человеком, дышать с ним одним воздухом, выходишь от него с таким ощущением, как будто утратил собственное достоинство. Появляется какое-то отвратительное чувство, что в конце концов ты, может быть, вовсе не так чист, как ты думаешь… Нет, ты этого не можешь понять.
Она несколько раз нетерпеливо кивнула. Напротив, она прекрасно понимает. Она очень хорошо знает своего брата и любит его таким, каков он есть. Никаких чувств, кроме ненависти и презрения, не вызывал ни у кого якобинец Фуше, который, пользуясь для своих целей любой человеческой слабостью, любой человеческой добродетелью, благородными человеческими мечтами, ухитрился обмануть всех своих современников и умер в безвестности под именем герцога Отрантского.
— Арман, дорогой мой, — сказала она с участием, что тебе понадобилось от этого человека?
— Не больше, не меньше, как человеческая жизнь. И я получил ее. Мне это было необходимо. Но я чувствую, что я никогда не смогу простить эту необходимость человеку, которого я должен был спасти.
Генерал Феро, абсолютно неспособный понять, что с ним такое происходит (как в таких случаях и большинство из нас), получив распоряжение военного министра немедленно отправиться в некий маленький городок центральной Франции, подчинился этому с зубовным скрежетом и неистовым вращением очей. Переход от войны, которая была для него единственным привычным состоянием, к чудовищной перспективе мирной жизни страшил его. Он отправился в свой городок в твердой уверенности, что долго это продолжаться не может. Там он получил уведомление об отставке и предупреждение о том, что его пенсия, присвоенная ему соответственно со званием генерала, будет выплачиваться ему при условии благонадежного поведения, в зависимости от надлежащих отзывов полиции.
Итак, он больше не числился в армии. Он вдруг почувствовал себя оторванным от земли, подобно бесплотному духу. Так жить невозможно. Сначала он отнесся к этому с явным недовернем. Этого не может быть! Он со дня на день ждал, что вот-вот разразится гром, случится землетрясение, произойдет какая-то стихийная катастрофа. Но ничего не происходило. Безысходная праздность придавила своим свинцовым гнетом генерала Феро, и так как ему нечего было черпать в самом себе, он погрузился в состояние невообразимого отупения. Он бродил по улицам, глядя перед собой тусклым взглядом, не замечая прохожих, почтительно приподнимавших шляпы при встрече с ним; а обитатели городка, подталкивая друг друга локтем, когда он проходил мимо, говорили шепотом:
— Это бедный генерал Феро. Он совсем убит горем. Подумайте, как он любил императора!
Другие кое-как уцелевшие останки кораблекрушения, выкинутые наполеоновской бурей, льнули к генералу Феро с беспредельной почтительностью. Сам же он всерьез воображал, что душа его раздавлена скорбью. Временами на него находило желание заплакать, завыть во весь голос, кусать себе руки до крови; иной раз он просто валялся целыми днями в постели, накрыв голову подушкой. Но все это было исключительно от скуки, от тяжкого гнета неописуемой, необозримой, безграничной скуки. Он был не в состоянии осознать безнадежность своего положения, и это спасало его от самоубийства. Он даже никогда и не думал об этом. Он ни о чем не думал. Но у него пропал аппетит, а так как он был не в силах выразить те сокрушительные чувства, которые он себе приписывал (самая неистовая брань отнюдь не выражала их), он мало-помалу приучил себя хранить молчание, а для южанина это все равно что смерть.
Вот почему поведение генерала Феро произвело целую сенсацию среди отставных военных, когда в один жаркий, душный день в маленьком кафе, сплошь засиженном мухами, этот бедный генерал вдруг разразился громовыми проклятиями.
Он сидел спокойно на своем привилегированном месте, в углу, и просматривал парижские газеты, проявляя к этому столько же интереса, сколько приговоренный к смерти человек накануне казни, — к хронике происшествий. Воинственные, загорелые лица, среди которых у одного недоставало глаза, у другого — кончика носа, отмороженного в России, с любопытством склонились к нему.
— Что случилось, генерал?
Генерал Феро сидел выпрямившись, держа сложенную вдвое газету в вытянутой руке, чтобы легче было разобрать мелкий шрифт. Он перечел еще раз про себя сжатое сообщение, которое, если можно так выразиться, воскресило его из мертвых:
«Нам сообщают, что генерал д'Юбер, который в настоящее время находится в отпуску по болезни на юге, назначается командиром 5-й кавалерийской бригады…»
Газета выпала у него из рук. «Назначается командиром…» И вдруг он изо всех сил хлопнул себя по лбу.
— А ведь я совсем забыл о нем! — пробормотал он, потрясенный.
Один из ветеранов крикнул ему во всю глотку с другого конца кафе:
— Еще какая-нибудь новая пакость правительства, генерал?
— Пакостям этих мерзавцев нет конца! — рявкнул генерал Феро. — Одной больше, одной меньше… — Он понизил голос. — Но я надеюсь положить конец одной из них… — Он обвел взглядом окружавшие его физиономии. — Есть у них там один напомаженный, расфранченный штабной офицерик, любимчик некоторых маршалов, которые продали отца своего за пригоршню английского золота. Теперь он узнает, что я еще жив, — заявил он наставительным тоном. — Впрочем, это частное дело, старое дело чести. Эх, наша честь теперь ничего не значит! Вот нас всех согнали сюда, поставили клеймо и держат, как табун отслуживших полковых лошадей, которым место только на живодерне. Но это будет все равно, что отомстить за императора… Господа, я вынужден буду обратиться к услугам двоих из вас.
Все бросились к нему. Генерал Феро, горячо тронутый этим изъявлением чувств, с нескрываемым волнением обратился к одноглазому ветерану-кирасиру и к офицеру кавалерийского полка, потерявшему кончик своего носа в России. Перед остальными он извинился:
— Это, видите ли, кавалерийское дело, господа. Ему ответили возгласами:
— Превосходно, генерал… Совершенно правильно… Ну конечно, черт возьми, мы же знаем!..
Все были удовлетворены. Тройка покинула кафе, сопровождаемая криками:
— В добрый час! Желаем удачи!
На улице они взялись под руки, генерал оказался посредине. Три потрепанные треуголки, которые они носили в боях, грозно надвинув на глаза, загородили собой чуть ли не всю улицу. Изнемогающий от зноя городок с серыми глыбами домов под красными черепицами крыш раскинулся под синим небом в мертвом забытьи захолустной послеобеденной одури. Эхо глухо разносило между домами мерно повторяющийся стук бочара, набивающего обруч на бочку. Генерал, слегка волоча левую ногу, старался идти в тени.
— Эта проклятая зима тысяча восемьсот тринадцатого года здорово подточила меня, до сих пор кости болят. Ну, не важно! Придется перейти на пистолеты, вот и все. Да так, просто маленький прострел… Ну что ж, будем драться на пистолетах. Все равно эта дичь от меня не уйдет. Глаз у меня такой же меткий, как раньше… Посмотрели бы вы, как я в России укладывал на всем скаку из старого, заржавленного мушкета этих свирепых казаков! Я так думаю, что я родился стрелком.
Так ораторствовал генерал Феро, закинув голову с круглыми глазами филина и хищным клювом. Буян, рубака, лихой кавалерист, он смотрел на войну попросту — она представлялась ему нескончаемой вереницей поединков, чем-то вроде сплошной массовой дуэли. И вот у него теперь опять своя война. Он ожил. Мрак мира рассеялся над ним, как мрак смерти. Это было чудесное воскрешение Феро, Габриеля-Флориана, волонтера 1793 года, генерала 1814 года, погребенного без всяких церемоний служебным приказом военного министра второй Реставрации.
Глава IV
Нет человека, которому удавалось бы сделать все, за что бы он ни взялся. В этом смысле мы все неудачники. Вся суть в том, чтобы не потерпеть неудачи в разумном направлении и в стойкости своих усилий в жизни. И вот тут-то наше тщеславие нередко сбивает нас с пути. Оно заводит нас в такие запутанные положения, из которых мы потом выходим разбитыми, тогда как гордость, напротив, охраняет нас, сдерживая наши притязания строгой разборчивостью и укрепляя нас своей стойкостью.
Генерал д'Юбер был человек гордый и сдержанный. Если у него и были какие-то любовные увлечения, счастливые или неудачные, они прошли для него бесследно. В этом теле, покрытом зарубцевавшимися ранами, сердце его к сорока годам осталось нетронутым. Ответив сдержанным согласием на матримониальные замыслы сестры, он, будучи вовлечен в них, влюбился без памяти бесповоротно, словно прыгнул в пропасть с разбегу. Он был слишком горд, чтобы испугаться, да и ощущение само по себе было настолько сладостно, что не могло испугать.
Неопытность сорокалетнего мужчины это нечто гораздо более серьезное, чем неопытность двадцатилетнего юнца, потому что здесь не приходит на выручку безудержная опрометчивость юности.
Девушка была загадкой, как все молоденькие девушки, просто своей юной непосредственностью. Но ему загадочность этой юной девушки казалась необыкновенной и пленительной. Однако не было ничего загадочного в приготовлениях к этому браку, который взялась устроить мадам Леони, а также и ничего удивительного. Это был весьма подходящий брачный союз, весьма желательный для матери юной девицы (отец у нее умер) и терпимый для ее дядюшки — престарелого эмигранта, недавно вернувшегося из Германии, который, подобно хилому призраку старого режима, бродил, опираясь на тросточку, по садовым дорожкам родового поместья своей племянницы. Генерал д'Юбер, надо сказать прямо, был не таким человеком, чтобы удовлетвориться тем, что он нашел себе жену с приданым. Его гордость (а гордость всегда стремится к истинному успеху) не могла удовлетвориться ничем, кроме любви. Но так как истинная гордость несовместима с тщеславием, он не мог представить, с какой стати это загадочное создание с сияющими глубокими очами цвета фиалки будет питать к нему какое-нибудь более теплое чувство, чем равнодушие.
Молоденькая девушка (ее звали Адель) приводила его в замешательство при каждой его попытке разобраться в этом вопросе. Правда, попытки эти были неуклюжи и робки, потому что генерал вдруг очень остро почувствовал количество своих лет, своих ран и множество других своих недостатков и окончательно убедил себя в том, что он недостоин ее, ибо он только теперь, на собственном опыте, узнал, что означает слово «трус». Насколько он мог разобраться, она как будто давала понять, что, вполне положившись на нежное материнское чувство и материнскую прозорливость, она не испытывает непреодолимого отвращения к особе генерала д'Юбера и что этого для хорошо воспитанной юной девицы вполне достаточно, чтобы вступить в брачный союз, Такое отношение мучило и уязвляло гордость генерала д'Юбера. И, однако, спрашивал он себя в сладостном отчаянии, на что, собственно, большее он может рассчитывать.
У нее был ясный, открытый лоб. Когда ее синие глаза смеялись, линии ее рта и подбородок сохраняли очаровательную серьезность. И все это выступало в такой пышной рамке блестящих светлых волос, дышало такой удивительной свежестью румянца, такой выразительной грацией, что генералу д'Юберу никогда не удавалось поразмыслить хладнокровно над этими возвышенными требованиями своей гордости. Он, собственно, даже побаивался предаваться такого рода размышлениям, ибо они не раз доводили его до такого отчаяния, что он понял: скорей согласится убить ее, чем откажется от нее. После таких переживаний, которые бывают у людей в сорок лет, он чувствовал себя разбитым, уничтоженным, пристыженным и несколько напуганным. Но он научился находить утешение в мудрой привычке просиживать далеко за полночь у открытого окна, и подобно фанатику, предающемуся фанатическим размышлениям о вере, замирать в экстазе при мысли о том, что она существует.
Однако не следует думать, что кто-либо из окружающих мог по его виду догадаться обо всех этих перипетиях его душевного состояния. Генерал д'Юбер неизменно сиял, что не стоило ему ни малейшего усилия, потому что, сказать правду, он чувствовал себя необыкновенно счастливым. Он соблюдал установленные для его положения правила: спозаранку каждое утро посылал цветы (из сада и оранжерей Леони), а немножко попозже являлся сам завтракать со своей невестой, ее матерью и дядюшкой-эмигрантом. Днем они прогуливались или сидели где-нибудь в тени. Бережная почтительность, готовая вот-вот перейти в нежность, — таков был оттенок, окрашивавший их взаимоотношения с его стороны; шутливая речь прикрывала глубокое смятение, в которое повергала его ее недосягаемая близость. На исходе дня генерал д'Юбер возвращался домой и, шагая среди виноградников, чувствовал себя то ужасно несчастным, то необыкновенно счастливым, а иной раз погружался в глубокую задумчивость, но всегда с неизменным ощущением полноты жизни, какого-то особенного подъема, присущего художнику, поэту, влюбленному — людям, одержимым большим чувством, высокой думой или возникающим перед ними образом красоты.
Внешний мир в такие минуты не очень отчетливо существовал для генерала д'Юбера. Но однажды вечером, переходя мостик, генерал д'Юбер увидел вдалеке на дороге две фигуры.
День был чудесный. Пышное убранство пылающего закатного неба пронизывало мягким сиянием четкие краски южного ландшафта. Серые скалы, коричневые поля, пурпурные волнистые дали, сливаясь в сияющем аккорде, наполняли воздух вечерним благоуханием. Две фигуры вдалеке были похожи на два неподвижных деревянных силуэта, совершенно черных на белой ленте дороги. Генерал д'Юбер различил длинные, прямые походные сюртуки, застегнутые до самого подбородка, треугольные шляпы, худые, резко очерченные загорелые лица — старые солдаты-усачи. У одного из них, у того, что был повыше, чернела повязка на глазу; суровое высохшее лицо второго отличалось какой-то странной непонятной особенностью, которая при ближайшем рассмотрении оказалась отсутствием кончика носа. Подняв одновременно руки к шляпам, они приветствовали штатского, который шел, слегка прихрамывая, опираясь на толстую палку, и спросили его, как пройти к дому генерала барона д'Юбера и есть ли возможность побеседовать с ним наедине.
— Если вам кажется, что здесь достаточно уединенно, — сказал генерал д'Юбер, окидывая взором пурпурные полосы виноградников, раскинувшихся у подножия круглого холма, на самом верху которого прилепились серые и коричневые хижины деревушки, а над ними, как вершина утеса, торчала высокая колокольня, — если вы находите, что здесь достаточно уединенно, вы можете поговорить с ним сейчас же, и я прошу вас, товарищи, говорите открыто. Будьте вполне спокойны.
Услышав это, они отступили на шаг и снова поднесли руки к шляпам, на этот раз с подчеркнутой церемонностью. Затем тот, у которого не хватало кончика носа, выступив от имени обоих, сказал, что дело весьма конфиденциальное и приходится соблюдать осторожность. Их штаб-квартира, вон там, в деревушке, где это проклятое мужичье — подлые, гнусные роялисты — подозрительно косится на них, трех честных солдат. Сейчас он просил бы генерала д'Юбера назвать им только имена его друзей.
— Каких друзей? — с удивлением сказал генерал д'Юбер, совершенно сбитый с толку. — Я живу здесь у моего зятя.
— Ничего, он подойдет, — сказал ветеран с отмороженным носом.
— Мы друзья генерала Феро, — вмешался другой. Он до сих пор стоял молча и только грозно сверкая своим единственным глазом на этого человека, который никогда не любил императора. Было на что посмотреть! Потому что даже эти иуды в раззолоченных мундирах, продавшие его англичанам, эти маршалы и принцы — все они хоть когда-нибудь да любили его. Но этот человек никогда не любил императора. Генерал Феро так и сказал, совершенно определенно.
Генерал д'Юбер почувствовал, как у него екнуло в груди. На какую-то ничтожно малую долю секунды он словно увидел, как земля в бесконечной неподвижности пространства завертелась с каким-то зловещим глухим шумом. Но это биение крови в ушах сразу утихло. Он невольно прошептал:
— Феро?.. Я совсем забыл о его существовании!
— И, однако, он существует — очень неудобно, правда, — в этой поганой харчевне, в логове дикарей, — ядовито сказал одноглазый кирасир. — Мы приехали сюда час тому назад на почтовых. Он сейчас с нетерпением ждет нас. Нам, видите ли, надо поторопиться. Генерал нарушил министерский приказ, чтоб получить от вас удовлетворение, которое он вправе требовать по законам чести. И, само собой разумеется, он хотел бы получить его прежде, чем жандармы нападут на наш след.
Спутник его постарался изложить это несколько яснее:
— Мы хотим вернуться потихоньку, понимаете? Фьюить! И чтобы никаких следов. Мы ведь тоже нарушили приказ. А ваш приятель король обрадуется случаю лишить нас пропитания. Мы ведь тоже рискуем. Но, ясное дело, честь прежде всего.
Генерал д'Юбер наконец обрел дар речи.
— Так, значит, вы вышли сюда на дорогу, чтобы предложить мне вступить в рукопашную с этим… с этим… — И вдруг неудержимый хохот напал на него: — Ха-ха-ха-ха!..
Схватившись за бока, он покатывался со смеху, а они стояли перед ним, вытянувшись неподвижно, словно их защемило капканом из-под земли. Всего только два года тому назад хозяева Европы, они теперь были похожи на древних призраков. Они казались более бесплотными в своих вылинявших мундирах, чем их собственные длинные тени, чернеющие на белой дороге. Воинственные, нелепые тени двадцати лет походов и побед. У них был какой-то диковинный вид — два бесстрастных бонзы, поклоняющиеся мечу. А генерал д'Юбер, тоже некогда один из этих бывших хозяев Европы, потешался над этими мрачными призраками, преграждавшими ему путь.
Тогда один, кивнув на хохочущего генерала, сказал:
— Весельчак, похоже, а?
— А вот среди нас многие разучились улыбаться, с тех пор, как Тот покинул Францию, — промолвил другой.
Генерала д'Юбера охватило бешеное желание броситься с кулаками на этих бестелесных призраков, повалить их на землю, растоптать. Он сам ужаснулся этому. Он сразу перестал смеяться. У него теперь была только одна мысль: отделаться от них, спровадить их как можно скорей с глаз долой, пока он еще как-то владеет собой. Он сам не понимал, откуда взялось это бешенство. Ему некогда было думать об этом.
— Я понимаю ваше желание разделаться со мной как можно скорей, — сказал он. — Так не будем тратить время на пустые разговоры. Видите там этот лесок у подножья холма? Да, этот сосновый лесок. Давайте встретимся там завтра на рассвете. Я принесу с собой саблю или пистолеты, или то и другое, если угодно.
Секунданты генерала Феро переглянулись.
— Пистолеты, генерал, — сказал кирасир.
— Хорошо. До свиданья. До завтрашнего утра. А до тех пор разрешите мне посоветовать вам держаться где-нибудь подальше до темноты, если вы не желаете, чтобы вами заинтересовались жандармы. В наших краях приезжие — редкость.
Они молча откланялись. Генерал д'Юбер повернулся спиной к удаляющимся фигурам и долго стоял посреди дороги, прикусив нижнюю губу и глядя в землю. Затем он пошел прямо вперед, то есть той же дорогой, откуда он только что пришел, и остановился у ограды парка, у дома своей невесты. Смеркалось. Не двигаясь, он смотрел сквозь прутья ограды на фасад дома, сияющего освещенными окнами сквозь листву деревьев. Шаги заскрипели по гравию, и высокая сутуловатая фигура вышла из боковой аллеи и двинулась по дорожке вдоль ограды.
Это был шевалье де Вальмассиг — дядюшка прелестной Адели, экс-бригадир армии под командованием принцев, переплетчик в Альтоне, а потом сапожник в маленьком немецком городке (прославившийся изяществом своей работы и элегантными фасонами дамской обуви) — в шелковых чулках, обтягивающих его тощие икры, в низко вырезанных туфлях с серебряными пряжками, в вышитом жилете. Длиннополый камзол висел, как на вешалке, на его худой, сутулой спине. Маленькая треугольная шляпа венчала напудренные волосы, завязанные сзади в косичку.
— Господин шевалье, — тихонько окликнул его генерал д'Юбер.
— Как, это опять вы, мой друг? Вы что-нибудь забыли?
— Да, вот именно. Так оно и есть. Я забыл одну вещь. И я пришел сказать вам об этом. Нет, только здесь, за оградой. Это настолько чудовищно, что я не могу говорить об этом около ее дома.
Шевалье покорно вышел стой снисходительной уступчивостью, которую некоторые старые люди проявляют по отношению к неугомонным юношам. Будучи старше генерала д'Юбера на четверть столетия, он в глубине души считал его довольно-таки надоедливым влюбленным юнцом. Он очень хорошо слышал его загадочные слова, но не придавал большого значения тому, что иной раз способен сболтнуть или выкинуть влюбленный молодой человек. Это поколение французов, выросшее в годы его изгнания, отличалось каким-то непонятным для него складом ума. Ему казалось, что и чувства у них какие-то неистовые, им недостает меры и тонкости. И даже в их манере выражаться есть что-то крайне преувеличенное. Он спокойно подошел к генералу, и они молча сделали несколько шагов по дороге. Генерал старался подавить, волнение и заставить себя говорить спокойно.
— Вы совершенно правильно сказали: я забыл одну вещь. Я забыл и только полчаса тому назад вспомнил, что я должен драться на дуэли. Это немыслимо, но это так.
На минуту наступила тишина. Затем в этой глубокой вечерней деревенской тишине ясный старческий голос шевалье, дрогнув, произнес:
— Это гнусно, сударь.
Больше он ничего не мог сказать. Эта девочка, родившаяся здесь, в то время как он был в изгнании, уже после того как его несчастный брат был убит шайкой якобинцев, стала после его возвращения единственной отрадой для его старого сердца, которое столько лет питалось одними воспоминаниями о привязанности.
— Это совершенно немыслимо, вот что я вам скажу. Долг мужчины — покончить с такими делами прежде, чем он осмеливается просить руки молодой девушки. Как же так? Если б вы не вспомнили об этом еще десять дней, то вы бы уже успели жениться и только потом спохватились бы! В мое время мужчины не забывали таких вещей — того, что они обязаны щадить чувства невинной молоденькой девушки. Если б я мог позволить себе пренебречь ими, я бы вам сказал, что я думаю о вашем поведении. И боюсь, что это вам не понравилось бы.
Генерал д'Юбер громко застонал:
— Не бойтесь, пусть это вас не останавливает. Для нее это не будет смертельным ударом.
Но старик не обратил внимания на этот бессмысленный лепет влюбленного. Возможно, что он даже и не слышал его.
— Что это за история? — спросил он. — Из-за чего это?
— Назовите это юношеским сумасбродством, господин шевалье… Из-за какой-то немыслимой, невероятнейшей…
Он вдруг осекся. «Он никогда не поверит этой истории, — подумал он. — Он только решит, что я считаю его дураком, и обидится».
— Да, — продолжал генерал д'Юбер, — из юношеской глупости это выросло… Шевалье перебил его:
— Но тогда, значит, это надо уладить.
— Уладить?
— Да, чего бы это ни стоило вашему самолюбию. Вам следовало помнить о том, что вы помолвлены. Или, может быть, вы об этом тоже забыли? Вот так же, как вы, уехав, забыли о вашей ссоре? Какое чудовищное легкомыслие! Никогда ничего подобного не слышал!
— Боже ты мой, господин шевалье! Неужели вы думаете, что я затеял эту ссору теперь, когда я был в Париже? Или еще что-нибудь в этом роде?
— Ах, какое может иметь значение точная дата вашей сумасбродной выходки! — воскликнул с раздражением шевалье. — Вся суть в том, чтобы это уладить.
Видя, что генералу д'Юберу не терпится вставить слово, старый эмигрант поднял руку и сказал с достоинством:
— Я сам когда-то был солдатом. Я бы никогда не позволил себе посоветовать ложный шаг человеку, имя которого будет носить моя племянница. И я говорю вам, что между порядочными людьми такое недоразумение можно всегда уладить.
— Ах, господин шевалье, но ведь это же случилось пятнадцать или шестнадцать лет тому назад! Я был тогда лейтенантом гусарского полка.
Старый шевалье был, по-видимому, совершенно ошеломлен этим отчаянным возгласом.
— Вы были лейтенантом гусарского полка шестнадцать лет тому назад? — пробормотал он точно в забытьи.
— Ну разумеется! Что ж вы думаете, меня на свет произвели генералом? Как наследного принца?
В сгущающемся пурпурном сумраке полей и виноградников, раскинувшихся под густо-рдяной низкой полосой заката, голос старого экс-офицера армии принцев прозвучал сдержанно, официально, учтиво.
— Что это, бред или просто шутка? Как это надо понимать? Вы хотите драться на дуэли, на которой вам следовало драться шестнадцать лет тому назад?
— Эта история тянется до сих пор с того времени, вот что я хочу сказать. Объяснить это не так просто. Мы, разумеется, дрались уже несколько раз в течение этого времени.
— Какие нравы! Какое чудовищное извращение понятия истинного мужества! Только кровожадным безумием революции, охватившим целое поколение, и можно объяснить подобную бесчеловечность, — промолвил тихо бывший эмигрант. — Кто он такой, этот ваш противник? — спросил он, повысив голос.
— Мой противник? Фамилия его Феро. Почти неразличимый под своей треугольной шляпой, в старомодном камзоле, хилый, согбенный призрак минувшего режима, шевалье де Вальмассиг погрузился в призрачные воспоминания.
— Мне припоминается ссора из-за маленькой Софи д'Арваль между господином де Бриссаком, капитаном королевской гвардии, и д'Анжораном (не тем, у которого лицо было оспой изрыто, а другим — красавцем д'Анжораном, так звали его). Они сходились на поединке три раза в течение восемнадцати месяцев и показали себя достойными противниками. Во всем была виновата эта крошка Софи, которую забавляло…
— Эта история совсем другого рода, — перебил его генерал д'Юбер и язвительно усмехнулся. — Далеко не такая простенькая. И гораздо более бессмысленная, — закончил он, стиснув зубы с такой яростью, что они скрипнули.
После этого звука надолго воцарилась тишина. Затем шевалье спросил безжизненным тоном:
— Кто он такой, этот Феро?
— Лейтенант гусарского полка, так же как и я, то есть я хочу сказать — генерал. Гасконец. Сын кузнеца, кажется.
— Вот как! Так я и думал. У этого Бонапарта была какая-то особенная любовь ко всякому сброду. Я, конечно, не имею в виду вас, д'Юбер. Вы один из нас, хотя вы тоже служили этому узурпатору, который…
— Ах, не впутывайте вы уж его-то сюда! — перебил генерал д'Юбер.
Шевалье пожал своими острыми плечами.
— Какой-то Феро… Сын деревенского кузнеца и какой-нибудь гулящей девки. Вы видите, к чему это приводит — связываться с такими людьми!
— Вы когда-то сами были сапожником, господин шевалье.
— Да, но я не сын сапожника, так же как и вы, господии д'Юбер. Вы и я, мы с вами обладаем тем, чего не имеют все эти бонапартовские принцы, герцоги, маршалы. Потому что нет такой силы на земле, которая могла бы дать им это, — возразил эмигрант с возрастающим оживлением, как человек, оседлавший своего конька. — Эти люди просто не существуют, все эти Феро. Феро! Что такое Феро? Бродяга, которого нарядил генералом корсиканский авантюрист, вырядившийся в императора. Нет никаких оснований господину д'Юберу пачкать себя дуэлью с такой личностью. Отлично вы можете извиниться перед ним. А если этот грубиян вздумает отклонить ваше извинение, вы можете просто отказаться драться с ним.
— По-вашему, я могу это сделать?
— Да. Со спокойной совестью.
— Господин шевалье, как вы думаете, к чему вы вернулись после эмиграции?
Это было сказано таким необыкновенным тоном, что старик, вздрогнув, поднял свою склоненную голову, сверкающую серебром под острыми углами треуголки. С минуту он сидел молча.
— Бог знает, — сказал он наконец, медленно и величественно показывая рукой на высокий крест на краю дороги, который простирал свои чугунные руки, черные как смоль на рдяной полосе заката. — Один господь бог знает: если бы не этот крест, что стоит здесь с тех пор, как я был ребенком, я бы и сам не мог сказать, к чему мы вернулись, мы, сохранившие верность нашему богу и нашему королю. Ничего не узнать, даже голоса у людей совсем стали не те.
— Да, Франция не та, — сказал генерал д'Юбер. К нему как будто вернулось его спокойствие. Голос его звучал несколько иронически. — Поэтому я и не могу последовать вашему совету. Да и как можно отказаться от того, чтобы тебя укусила собака, когда она в тебя вцепилась? Это невозможно. Поверьте мне, Феро не такой человек, которого можно заставить отстать извинениями или отказами. Но есть другой способ — я мог бы, например, дать знать начальнику жандармерии в Сен-лаке. Феро и двух его приятелей арестуют просто по одному моему слову. Об этом поговорят в армии, в обеих, быть может, — и в регулярной, и в распущенной, в особенности в распущенной. Но ведь это все сброд, хотя все они были когда-то товарищами по оружию Армана д'Юбера. Но какое дело д'Юберу до того, что могут подумать люди, которые, как вы говорите, не существуют? А то и еще проще — я мог бы попросить моего зятя позвать здешнего мэра и шепнуть ему словечко. Достаточно, чтобы здешние крестьяне, вооружившись цепами и вилами, бросились на этих бродяг и загнали их в какой-нибудь глубокий ров, — никто и не узнает. Так оно и случилось в десяти милях отсюда с тремя беднягами уланами из старой гвардии, когда они возвращались домой. Что говорит вам ваша совесть, господин шевалье? Может ли д'Юбер позволить себе поступить так с этими тремя людьми, которые, по-вашему, не существуют?
Редкие звезды выступили на темной синеве ясного, как кристалл, неба. Высокий, сухой голос шевалье прозвучал резко:
— Зачем вы мне говорите все это? Генерал схватил иссохшую старую руку и крепко сжал ее.
— Потому, что я доверяю вам больше, чем кому бы то ни было. Кто может рассказать это Адели, кроме вас? Вы понимаете, почему я не могу довериться моему зятю, ни даже родной сестре? Господин шевалье, я был на волосок от этого. Я и сейчас весь дрожу, как подумаю об этом. Вы представить себе не можете, до чего ужасна для меня эта дуэль. Но избежать ее нет возможности. — Помолчав, он прошептал: — Это рок. — И, выпустив безжизненную руку шевалье, сказал спокойным тоном: — Мне придется обойтись без секундантов. И если меня убьют, по крайней мере хоть вы будете знать все, что можно рассказать об этой истории.
Печальный призрак минувшего режима, казалось, еще более поник и согнулся в течение этой беседы.
— Как же я после этого смогу показаться сегодня этим двум женщинам? — со стоном вырвалось у него. — Я чувствую, что я не в силах простить вам этого, генерал.
Генерал д'Юбер не ответил.
— Но вы хоть по крайней мере можете сказать, правы вы или нет?
— Я ни в чем не виноват. — Тут генерал схватил призрачную руку шевалье повыше локтя и крепко дожал ее. — Я должен убить его, — прошипел он и, выпустив руку старика, повернулся и пошел по дороге.
Заботливое внимание любящей сестры предоставляло генералу возможность жить совершенно независимо в доме, где он был гостем. У него даже был свой отдельный ход через маленькую дверцу в оранжерее. Поэтому ему не было надобности в этот вечер притворяться спокойным перед ничего не ведающими обитателями дома. Он был рад этому; ему казалось, что стоит ему только открыть рот, как он разразится чудовищными, бессмысленными проклятиями, бросится ломать мебель, колотить фарфор и стекло.
Отворяя маленькую дверцу и поднимаясь по двадцати восьми ступенькам винтовой лестницы, которая вела в коридор, где помещалась его комната, он ясно представил себе это страшное, унизительное зрелище: разъяренный сумасшедший с налитыми кровью глазами и пеной у рта неистовствует в роскошно обставленной столовой и бьет и расшвыривает все, что ни попадается под руку. Когда он открыл дверь в свою комнату, припадок этот прошел, но он чувствовал такое физическое изнеможение, что ему пришлось хвататься за спинки стульев, чтобы добраться до широкого низкого дивана, куда он повалился без сил. Но его душевное изнеможение было еще сильнее. Пережитый им приступ неукротимого бешенства, которое прежде охватывало его только в бою, когда он с саблей наголо бросался на врага, вызывал теперь содрогание у этого сорокалетнего человека. Он не понимал, что это — слепое бешенство неутоленного чувства, оказавшегося под угрозой. Но в этом душевном и физическом изнеможении чувство это очистилось, смягчилось и вылилось в глубокое отчаяние, в безграничную жалость к себе, оттого что ему, может быть, предстоит умереть прежде, чем он сумеет завоевать сердце этой прелестной девушки.
В эту ночь генерал д'Юбер, лежа растянувшись на спине и закрыв лицо руками или повернувшись ничком и зарыв лицо в подушки, изведал всю бездну человеческих чувств. Чудовищное омерзение к этой бессмысленной истории, сомнение в собственной своей пригодности к жизни, разочарование в лучших своих чувствах (потому что на кой черт понадобилось ему идти к этому Фуше!) — все это он пережил. «Я сущий идиот, — думал он. — Сентиментальный идиот! Только потому, что я услышал этот разговор в кафе… Идиот! Испугаться такой лжи! Ах, в жизни надо считаться только с правдой!»
Он несколько раз вставал и тихонько, в одних носках, чтобы не услышал кто-нибудь внизу, подходил к буфету и выпил всю воду, которую ему удалось найти в темноте. И муки ревности он пережил тоже. Она выйдет замуж за кого-нибудь другого! Вся душа его переворачивалась. Упорство этого Феро, чудовищная настойчивость этого бессмысленного животного настигали его с сокрушительной силой беспощадного рока. Генерал д'Юбер дрожал с головы до ног, опуская пустой графин. «Он убьет меня», — думал он. Генералу д'Юберу суждено было в эту ночь испытать все, что может испытать человек. Он ощутил в своем пересохшем рту тошнотворный, липкий привкус страха — не того простительного страха перед ясным, удивленным взглядом молоденькой девушки, но страха смерти и страха, который благородный человек испытывает перед трусостью.
Но если истинная храбрость заключается в том, чтобы пойти навстречу опасности, от которой воротит душу, тело и сердце, генерал д'Юбер имел случай испытать и это впервые за всю свою жизнь. Когда-то он в восторге самозабвения обрушивался на батарею, скакал сломя голову под градом пуль с каким-нибудь поручением и не думал об этом. Теперь же ему предстояло выйти тайком на рассвете и отправиться навстречу неведомой, отвратительной смерти. Генерал д'Юбер не проявил ни малейшего колебания. Он положил два пистолета в кожаную сумку и перекинул ее через плечо. Проходя садом, он почувствовал, что у него опять пересохло во рту. Он сорвал два апельсина. Когда он закрывал за собой калитку, его охватила легкая слабость.
Он зашатался, но, не обратив на это внимания, пошел вперед и через несколько шагов уже крепко держался на ногах.
В бледном, тусклом рассвете сосновый лес отчетливо вырисовывался колоннами своих стволов и темно-зеленым куполом на сером каменистом склоне холма. Д'Юбер смотрел на него, не отрываясь, и шел, посасывая апельсин. Постепенно присущее ему бодрое хладнокровие перед лицом опасности, то, за что его любили солдаты и ценило начальство, снова вернулось к нему. Это было все равно, что идти в бой. Подойдя к опушке леса, он сел на камень и, держа второй апельсин в руке, стал ругать себя за то, что он притащился в такую рань. Вскоре, однако, он услышал шуршанье кустов, шаги по каменистой земле и обрывки громкого разговора. Какой-то голос позади него сказал хвастливо:
— Эта дичь от меня не уйдет.
«Вот они, — подумал д'Юбер. — Что это, какая дичь? Ах, это они обо мне говорят! — И, спохватившись, что у него апельсин в руке, он подумал: — Хорошие апельсины. Леони сама выращивала. Съем-ка я, пожалуй, этот апельсин, вместе того чтобы бросать его».
Когда генерал Феро и его секунданты вышли из-за кустарников и скал, они увидели генерала д'Юбера, который сидел и чистил апельсин. Они остановились, дожидаясь, когда он заметит их. Затем секунданты приподняли шляпы, а генерал Феро, заложив руки за спину, отошел в сторонку.
— Я вынужден просить кого-нибудь из вас, господа, быть моим секундантом — я не привел с собой друзей.
— Отказываться не приходится, — сказал рассудительно одноглазый кирасир.
— Все-таки это как-то неудобно, — заметил другой ветеран.
— Принимая во внимание настроение в здешних краях, я не решился никого посвятить в причины вашего пребывания здесь, — учтиво пояснил генерал д'Юбер.
Они поклонились и, оглядевшись по сторонам, сказали сразу в один голос:
— Неподходящая почва.
— Здесь не годится.
— Что нам беспокоиться о почве, отмерять расстояние и прочее? Давайте упростим дело. Зарядите обе пары пистолетов. Я возьму пистолеты генерала Феро, а он пусть возьмет мои. Или, еще лучше, пусть каждый возьмет смешанную пару. Затем мы углубляемся в лес и стреляем друг в друга. А вы останетесь на опушке. Мы сюда не церемониться пришли, а воевать — воевать насмерть. Для этого годится всякая почва. Если меня прихлопнет пуля, вы оставите меня там, где я упаду, и уберетесь отсюда. Не годится, если вас после этого кто-нибудь увидит здесь.
После недолгих переговоров генерал Феро, по-видимому, согласился принять эти условия. В то время, как секунданты заряжали пистолеты, он стоял, посвистывая, и, чрезвычайно довольный, потирал руки. Затем он стащил с себя сюртук и швырнул его наземь. Генерал д'Юбер тоже снял свой и аккуратно положил его на камень.
— Так, может быть, вы отведете вашего принципала на опушку по ту сторону леса, и пусть он войдет в лее ровно через десять минут, — спокойно предложил генерал д'Юбер, но с таким чувством, как если бы он отдавал распоряжение о собственной казни. Но это было последнее проявление слабости. — Постойте. Давайте сначала проверим часы.
Он вытащил часы из кармана. Офицер с отмороженным носом пошел за часами к генералу Феро и тут же вернулся. Некоторое время они стояли, сблизив головы, и смотрели на циферблат.
— Так. Значит, четыре минуты шестого по вашим, семь минут — по моим.
Кирасир, оставшийся с генералом д'Юбером, стоял, держа часы на ладони, и не отрываясь смотрел своим единственным глазом на белый кружок циферблата. Задолго до того, как истекла последняя секунда, он раскрыл рот и наконец выкрикнул:
— Шагом марш!
Генерал д'Юбер прошел с опушки, залитой ярким утренним солнцем Прованса, и вступил в прохладную душистую тень сосен. Земля мелькала светлыми пятнами между красноватыми стволами, которые, склоняясь друг к другу, сходились так тесно, что у него сразу зарябило в глазах. Он чувствовал себя, точно перед боем. Властное чувство уверенности в себе уже пробудилось в нем. Он был весь поглощен этой предстоящей битвой. Он должен убить противника, непременно убить. Никак иначе не освободиться от этого идиотского кошмара. «Ранить это животное — никакого проку», — думал генерал д'Юбер. Когда-то д'Юбер считался предприимчивым офицером. Много лет тому назад товарищи прозвали его стратегом. И действительно, он умел спокойно соображать в присутствии врага, тогда как Феро был просто стрелок, но стрелял, к сожалению, без промаха.
«Я должен заставить его сделать выстрел как можно более издалека», — подумал генерал д'Юбер.
И в ту же минуту он увидел что-то белое — рубашку противника. Он мгновенно выступил из-за ствола и стал на виду. И тотчас же с быстротой молнии отскочил за дерево. Это был рискованный маневр, но он удался. В ту же секунду грянул выстрел и кусочек коры, отбитый пулей, больно задел его по уху.
Генерал Феро, выпустив один заряд, сделался осмотрительнее. Генерал д'Юбер, осторожно выглядывая из-за своего дерева, нигде не обнаруживал его. Невозможность определить местонахождение врага вызывала ощущение опасности. Генерал д'Юбер чувствовал себя незащищенным с фланга и с тыла. Но вот опять что-то белое мелькнуло впереди. Ага! Так, знатат, неприятель все еще угрожает с фронта. Он опасался обходного движения. Но, по-видимому, генерал Феро и не думал об этом. Генерал д'Юбер видел, как он не спеша, прячась то за одним, то за другим деревом, приближался к нему по прямой линии. Генерал д'Юбер с большим самообладанием удержал готовую было подняться руку. Нет, неприятель еще слишком далеко, а он сам не такой уж первоклассный стрелок. Он должен подождать свою дичь, чтобы стрелять наверняка.
Желая обеспечить себе достаточное прикрытие за толстым стволом дерева, он опустился на землю. Вытянувшись во весь рост головой к неприятелю, он теперь был совершенно защищен. Подставлять себя сейчас уже не годилось, потому что неприятель был слишком близко. Тайная уверенность, что Феро наверняка сделает сейчас что-то необдуманное, радостным предчувствием охватила генерала д'Юбера. Однако держать подбородок на весу, приподняв голову над землей, было неудобно, да и бесполезно. Он высунулся с величайшим страхом, но, по правде сказать, без всякого риска, ибо противнику его не могло прийти в голову искать его на таком близком расстоянии от земли. На секунду генерал Феро снова мелькнул перед ним; он все еще двигался вперед, осторожно прячась за деревьями. «Он не боится моего выстрела», — подумал он с той проницательностью, которая позволяет угадывать мысли неприятеля и тем самым обеспечивает победу. Его тактика оказалась правильной. «Если б я только мог охранять себя с тыла так же, как с фронта!» — подумал он, мечтая о невозможном.
Опустить пистолеты на землю — на это требовалось немалое присутствие духа, но генерал д'Юбер, повинуясь какому-то внутреннему побуждению, тихонько положил их по обе стороны от себя. В армии его считали франтом, потому что у него была привычка бриться и надевать чистое белье в дни сражений. Он всегда очень следил за своей внешностью, а у сорокалетнего человека, влюбленного в прелестную молоденькую девушку, это похвальное самоуважение доходит даже до такой маленькой слабости, как привычка носить при себе изящный маленький кожаный несессер с гребенкой из слоновой кости и с маленьким зеркальцем на откидной крышке. Генерал д'Юбер, у которого теперь обе руки были свободны, нащупал у себя в карманах это невинное доказательство своего тщеславия, простительное обладателю длинных шелковистых усов. Вынув зеркальце, он с необычайным хладнокровием быстро перевернулся на спину. В этой новой позиции, слегка приподняв голову и выставив чуть-чуть маленькое зеркальце из-за прикрытия дерева, он глядел в него, прищурившись, левым глазом, а правым между тем спокойно обозревал тыл. Таким образом оправдывал он слова Наполеона о том, что для французского солдата слово «невозможно» не существует. Дерево, за которым скрывался генерал Феро, заполняло собой почти все поле зрения в маленьком зеркальце.
«Если он только выйдет из-за дерева, — с удовлетворением думал генерал д'Юбер, — я увижу его ноги. Во всяком случае, он не может застигнуть меня врасплох».
И действительно, он увидел сапоги генерала Феро: мелькнув на мгновение, они заполнили собой все зеркальце. Сообразно с этим он чуть-чуть изменил свою позицию, но так как ему приходилось судить о движении протиника только по отражению в зеркале, он не сообразил, что теперь ступни его и часть ног оказались на виду у генерала Феро.
Генерал Феро давно уже пребывал в недоумении по поводу той удивительной ловкости, с какой прятался от него его противник. Он с кровожадной уверенностью безошибочно определил дерево, за которым скрывался генерал д'Юбер. Он был совершенно уверен, что он и сейчас там. Но хотя он не спускал глаз с этого места, ему ровно ничего не удавалось обнаружить, из-за ствола ни разу не мелькнул даже кончик уха. В этом не было ничего удивительного, так как он искал его на высоте, по меньшей мере, полутора-двух метров от земли, но генералу Феро это казалось чрезвычайно удивительным.
Когда он вдруг неожиданно для себя увидел эти вытянутые носками вверх ноги, вся кровь бросилась ему в голову. Он буквально зашатался на месте, так что ему пришлось ухватиться за дерево. Так он лежит на земле и не двигается! Прямо на виду! Что же это значит? И тут у генерала Феро мелькнула мысль, а не уложил ли он своего противника первым выстрелом? И чем больше он смотрел на эти ноги, тем сильнее эта мысль, вытесняя все другие догадки и предположения, укреплялась в его сознании и переходила в уверенность — непоколебимую, торжествующую, свирепую.
— Какой же я был осел! Как это я мог думать, что я промахнулся! — бормотал он. — Ведь он же стоял на виду, болван, по крайней мере, секунды две.
Генерал Феро смотрел на эти вытянутые ноги, и последняя тень недоумения растаяла без следа в безграничном восторге перед собственным несравненным мастерством.
«Вывернул носки! Боже мой, что за выстрел! — восхищался он. — Прямо в лоб угодил, как и метил. А он, значит, зашатался, рухнул на спину — и готов».
И он смотрел, смотрел, не двигаясь, с благоговением, чуть ли не с жалостью. Но нет, ни за что в мире не отказался бы он от этого выстрела! «Какой выстрел! Боже мой, какой выстрел! Рухнул на спину — и готов!»
Несомненно, беспомощная поза лежавшего на спине человека казалась генералу Феро неопровержимым доказательством. Ему, конечно, никогда не могло прийти в голову, чтобы живой человек мог умышленно принять такую позу. Это было совершенно невероятно, противно всякому здравому смыслу. Зачем, для чего? Догадаться об этом не было никакой возможности. И правда, надо сказать, что торчащие носками вверх ноги генерала д'Юбера выглядели точь-в-точь как у мертвеца. Генерал Феро уже набрал воздуху в легкие, чтобы изо всех сил крикнуть своим секундантам, но какая-то, как ему самому казалось, излишняя щепетильность удержала его.
«Пойду-ка я посмотрю, может быть, он еще дышит», — подумал он и вышел из-за своего прикрытия.
Это движение было немедленно обнаружено изобретательным генералом д'Юбером. Он решил, что это еще шаг по прямой к другому дереву, но когда оказалось, что сапоги изчезли из поля зрения в зеркале, он почувствовал некоторое беспокойство. Генерал Феро просто отошел от дерева, но противник его никак не мог предположить, что он двигается теперь совершенно открыто. И тут-то генерал д'Юбер, уже несколько обеспокоенный исчезновением своего противника, был пойман врасплох. Он обнаружил опасность только тогда, когда длинная утренняя тень неприятеля легла на его вытянутые ноги. Он даже не слышал шагов, когда Феро вышел из-за деревьев.
Это было слишком даже для его хладнокровия. Он сразу вскочил, а пистолеты остались на земле. Непреодолимый инстинкт любого обыкновенного человека (если он только не совсем растерялся от страха) заставил бы его нагнуться за своим оружием и тем самым подставить себя под выстрел. Инстинкт, конечно, не рассуждает. Это, так сказать, входит в его определение. Однако стоило бы заняться вопросом, не влияет ли у мыслящего человека привычка думать на механические движения инстинкта. В дни своей юности Арман д'Юбер, рассудительный, подающий надежды офицер, высказал однажды мнение, что во время боя никогда не следует исправлять свою ошибку. Эта мысль, которую он неоднократно высказывал и защищал, так глубоко засела у него в мозгу, что стало как бы частью его сознания. Проникла ли она так глубоко, что обрела власть управлять его инстинктом, или просто, как он потом сам говорил, он слишком испугался и забыл об этих проклятых пистолетах, но генерал д'Юбер не сделал попытки нагнуться за ними. Вместо того чтобы исправить свою ошибку, он обхватил широкий ствол обеими руками и юркнул за него с такой быстротой, что, вынырнув по другую его сторону в тот самый момент, когда раздался выстрел, очутился лицом к лицу с генералом Феро. Генерал Феро, совершенно обомлев от такого необыкновенного проворства мертвого противника, задрожал с головы до ног. В легком облачке дыма, повисшем в воздухе, его физиономия, у которой как будто отпала нижняя челюсть, представляла собой поразительное зрелище.
— Мимо! — хрипло вырвалось у него из пересохшего горла.
Этот зловещий голос вывел генерала д'Юбера из остолбенения.
— Да, мимо, а стреляли в упор, — услышал он свой собственный голос, прежде чем успел окончательно прийти в себя.
Внезапный переворот, совершившийся в самоощущении генерала д'Юбера, вызвал в нем бешеную ярость. Столько лет его мучила, унижала, преследовала эта чудовищная нелепость, дикое самодурство этого человека! И то, что ему на этот раз так трудно было решиться пойти навстречу смерти, сейчас тоже разжигало в нем одно непреодолимое желание — убить.
— А за мной еще два выстрела, — безжалостно сказал он. Генерал Феро стиснул зубы, и на лице его появилось отчаянное, бесшабашное выражение.
— Стреляйте! — мрачно сказал он.
И это были бы его последние слова, если бы генерал д'Юбер держал пистолеты в руках. Но пистолеты лежали на земле, под сосной, — и вот тут-то оказалось, что достаточно было одной секунды, чтобы генерал д'Юбер понял, что он боялся смерти не так, как может просто бояться человек, а как влюбленный, и что смерть стояла перед ним не как угроза, а как соперник, не как непримиримый враг, а как помеха к браку. И вот теперь этот соперник сокрушен, разбит, уничтожен!
Он машинально поднял пистолеты и, вместо того чтобы выпустить заряд в грудь генерала Феро, сказал первое, что пришло ему в голову:
— Больше вам не придется драться на дуэли. Эта фраза, произнесенная невозмутимым, уверенно-довольным тоном, оказалась не по силам генералу Феро, стоически глядевшему в глаза смерти.
— Да не тяните вы, черт вас возьми, хлыщ проклятый, штабной шаркун! — рявкнул он, не изменяя выражения лица и продолжая стоять неподвижно, вытянувшись.
Генерал д'Юбер не спеша разрядил пистолеты. Генерал Феро смотрел на эту операцию со смешанным чувством.
— Вы промахнулись дважды, — спокойно сказал победитель, держа пистолеты в одной руке, — и последний раз — стреляя в упор. По всем правилам поединка, ваша жизнь принадлежит мне. Но это не значит, что я воспользуясь своим правом сейчас.
— Не нуждаюсь я в вашем прощении! — мрачно сказал генерал Феро.
— Разрешите мне довести до вашего сведения, что меня это нимало не интересует, — сказал генерал д'Юбер, осторожно взвешивая слова, которые диктовала ему его исключительная деликатность.
В ярости он мог бы убить этого человека, но сейчас, когда он был спокоен, он ни за что не позволил бы себе задеть своим великодушием это неразумное существо — товарища, солдата великой армии, спутника его в этой чудесной, страшной, великолепной военной эпопее.
— Надеюсь, вы не претендуете на то, чтоб диктовать мне, как распорядиться моей собственностью?
Генерал Феро смотрел на него, ничего не понимая.
— Вы в течение пятнадцати лет вынуждали меня предоставлять вам по долгу чести распоряжаться моей жизнью. Отлично. Теперь, когда это право осталось за мной, я намерен поступить с вами, следуя тому же принципу. Вы будете находиться в моем распоряжении столько, сколько мне вздумается. Не больше, не меньше. Вы обязуетесь ждать до тех пор, пока я не найду нужным воспользоваться своим правом.
— Да. Но ведь это же черт знает что такое! Бессмысленное положение для генерала империи! — воскликнул генерал Феро с чувством глубокого возмущения. — Ведь это же значит сидеть всю жизнь с заряженным пистолетом в столе и ждать вашего распоряжения! Это же бессмысленно! Вы делаете меня просто посмешищем!
— Бессмысленно? Вы так думаете? — ответил генерал д'Юбер с ехидной серьезностью. — Возможно. Однако я не знаю, как этому помочь. Во всяком случае, я не собираюсь болтать об этой истории. Никто не будет и знать о ней, так же как и по сей день, я полагаю, никто не знает причины нашей ссоры. Но довольно разговаривать, — поспешно прибавил он. — Я, собственно говоря, не могу входить в обсуждение этого вопроса с человеком, который для меня теперь больше не существует.
Когда дуэлянты вышли на открытое место, генерал Феро несколько позади и с каким-то остолбеневшим видом, оба секунданта бросились к ним со своих позиций на опушке. Генерал д'Юбер, обратившись к ним, сказал громко и отчетливо:
— Господа, я считаю своим долгом торжественно заявить вам в присутствии генерала Феро, что наше недоразумение наконец улажено. Вы можете сообщить об этом всем.
— Вы примирились наконец! — воскликнули они в один голос.
— Примирились? Нет, это не совсем так. Нечто гораздо более связывающее. Не правда ли, генерал?
Генерал Феро только опустил голову в знак согласия. Оба ветерана переглянулись. Позднее днем, когда они на минуту очутились одни, в отсутствие их мрачно помалкивающего приятеля, кирасир сказал:
— По правде говоря, я очень неплохо разбираю своим единственным глазом, но тут я ничего не могу разобрать. А он говорить не собирается.
— Насколько я понимаю, в этой дуэли с самого начала было что-то такое, чего никто во всей армии не мог понять, — сказал кавалерист с отмороженным носом. — В тайне она началась, в тайне продолжалась, в тайне, похоже, и окончится.
Генерал'д'Юбер возвращался домой широкими, поспешными шагами; однако он отнюдь не испытывал торжества победителя. Он победил, но у него не было чувства, что он что-то выиграл этой победой.
Накануне ночью он содрогался перед этой опасностью, угрожавшей его жизни. Жизнь казалась ему такой прекрасной, он так дорожил ею! Она давала ему возможность надеяться завоевать любовь этой девушки. Были минуты, когда в каком-то чудесном самообольщении ему казалось, что он уже завоевал эту любовь, и тогда жизнь его — перед этой угрозой смерти — казалась еще желанней, ибо он мог посвятить ее любимой.
Теперь, когда ему ничто не угрожало, жизнь сразу вдруг потеряла все свое очарование. Наоборот, она представлялась ему какой-то страшной западней, подстерегавшей его затем, чтобы показать ему все его ничтожество. А чудесное самообольщение — «завоеванная любовь», то, что на несколько мгновений утешило его среди кошмаров этой бессонной и, может быть, последней ночи, — он теперь понимал, что это такое. Это было просто безумие, тщеславный бред. Так этому человеку, отрезвленному благополучным исходом дуэли, жизнь предстала вдруг лишенной всякой привлекательности только потому, что ей больше ничто не угрожало.
Он подошел к дому сзади через огород и поэтому не заметил царившего в нем смятения. Он не встретил ни души. Только когда он уже тихонько шел по коридору, он обнаружил, что в доме не спят и что в нем царит необычная суета. Внизу среди беспорядочной беготни раздавались возгласы, окликали кого-то из слуг. Он с беспокойством увидел, что дверь в его комнату распахнута настежь, хотя ставни окон были закрыты. Он надеялся, что никто не заметил его утренней экскурсии, и подумал, что это, может быть, кто-нибудь из слуг вошел в его комнату. Но в солнечном свете сквозь щели ставен он увидел на своем низком диване какой-то ком, который потом принял очертания двух женщин в объятиях друг у дружки. Шепот, загадочно прерываемый стенаниями и слезами, доносился от этой необыкновенной групы. Генерал д'Юбер дернул и распахнул настежь ставни ближайшего окна. Одна из женщин вскочила. Это была его сестра. С распущенными волосами, закинув руки над головой, она минуту стояла неподвижно и затем с криком бросилась ему в объятия. Он обнял ее, но тут же сделал попытку высвободиться. Другая женщина не двигалась. Наоборот, она, казалось, старалась совсем прильнуть к дивану и зарывалась лицом в подушки. У нее тоже были распущенные волосы, восхитительно белокурые! Генерал д'Юбер узнал их, замирая от волнения. Мадемуазель де Вальмассиг! Адель! В слезах! Он страшно испугался и наконец решительно вырвался из объятий сестры. Тогда мадам Леони, взмахнув рукавом пеньюара, протянула свою красивую обнаженную руку и трагическим жестом показала на диван:
— Эта бедная девочка с перепугу бросилась из дому бегом! Бежала две мили, не останавливаясь!
— Что же такое случилось? — спросил генерал д'Юбер тихим, взволнованным голосом. Но мадам Леони продолжала громко:
— Она подняла трезвон, ударила в большой колокол у ворот! Весь дом подняла на ноги! Мы все еще спали. Ты представляешь себе, какой ужас? Адель, моя дорогая, сядьте!
Лицо генерала д'Юбера отнюдь не свидетельствовало о том, что он себе что-то «представляет». Однако из всех этих бессвязных восклицаний ему почему-то вдруг вообразилось, что его будущая теща внезапно скончалась. Но он сейчас же отогнал от себя эту мысль, Нет, он не мог представить себе размеров катастрофы, которая могла бы заставить мадемуазель де Вальмассиг броситься из дому, полного слуг, и бежать две мили, не останавливаясь, только затем, чтобы сообщить об этом.
— Но почему вы здесь, в этой комнате? — прошептал он чуть ли не в ужасе.
— Ну конечно, я побежала сюда, и эта крошка, я даже не заметила, бросилась за мной. И все из-за этого нелепого шевалье, — продолжала Леони, взглядывая на диван. — Все волосы у нее распустились! Ты представляешь себе, она даже не позаботилась позвать горничную причесать ее, а прямо ринулась сюда… Адель, дорогая моя, сядьте! Он выболтал ей все это в половине шестого утра. Она проснулась спозаранку и отворила ставни, чтобы подышать свежим воздухом, и видит — он сидит, сгорбившись, в саду на скамейке, в конце аллеи, — это в такую-то рань, представляешь себе? А накануне он говорил, что ему нездоровится. Она только накинула на себя платье и бросилась к нему. Конечно, она испугалась. Он очень любит ее, это правда, но уж до такой степени безрассудно! Оказывается, он так и не раздевался всю ночь, бедный старик! Он совершенно измучился и не в состоянии был выдумать что-нибудь правдоподобное… Вот уж тоже ты нашел, кому довериться! Муж пришел прямо в ярость. Он сказал: «Мы уж теперь не можем вмешаться». Ну вот, мы сели и стали ждать. Это просто ужасно! И эта бедная девочка бежала с распущенными волосами всю дорогу, ее кто-то там видел в поле. И здесь она подняла весь дом! Ужасно неудобно! Хорошо, что вы поженитесь на той неделе. Адель, сядьте, пожалуйста, вы же видите — он пришел домой, на собственных ногах. Мы боялись, что тебя принесут на носилках. Мало ли что могло случиться! Поди посмотри, заложили ли коляску, я должна сейчас же отвезти ее домой. Ей нельзя оставаться здесь ни минуты больше, это неудобно.
Генерал д'Юбер стоял не двигаясь, он как будто ничего не слыхал.
Мадам Леони уже передумала.
— Я пойду и посмотрю сама, — сказала она. — Мне надо надеть плащ. Адель… — начала она, но так и не прибавила: «сядьте». Выходя, она сказала громко, бодрым голосом: — Я не закрываю дверь!
Генерал д'Юбер сделал движение к дивану, но тут Адель села, и он остановился как вкопанный. Он подумал: «Я сегодня не умывался, у меня, должно быть, вид старого бродяги. Наверно, вся спина в земле, сосновые иглы в волосах». Он вдруг решил, что ему сейчас следует держать себя крайне осмотрительно.
— Я чрезвычайно огорчен, мадемуазель… — начал он как-то неопределенно и тут же умолк.
Она сидела на диване, щеки у нее пылали, а волосы, блестящие, светлые, рассыпались по плечам. Это было совершенно невиданное зрелище для генерала. Он подошел к окну, выглянул для безопасности и сказал:
— Я боюсь, что вы считаете меня сумасшедшим.
Он сказал это с искренним отчаянием. И тут же повернулся и увидел, что она следит за ним, не отрывая глаз. И глаза ее не опустились, встретившись с его взглядом, и выражение ее лица тоже было ново для него, — как если бы в нем что-то перевернулось. Глаза смотрели на него с серьезной задумчивостью, а прелестные губы словно сдерживали улыбку. От этой перемены ее непостижимая красота казалась менее загадочной, более доступной пониманию. Чувство удивительной легкости вдруг охватило генерала, и у него даже появилась какая-то непринужденность движений. Он направился к ней через всю комнату с таким восторженным воодушевлением, с каким он когда-то врезался в батарею, изрыгающую смерть, пламя и дым, затем остановился, глядя смеющимися глазами на эту девушку, которая должна была стать его женой (на следующей неделе) благодаря стараниям мудрой, чудесной Леони.
— Ах, мадемуазель, — произнес он тоном учтивого раскаяния, — если б я только мог быть уверен, что вы бежали сюда сегодня две мили бегом, не останавливаясь, не только из любви к вашей матушке!
И он умолк, дожидаясь ответа, с виду невозмутимый, но с каким-то ликующим чувством в душе. В ответ раздался застенчивый шепот, а ресницы, пленительно дрогнув, опустились:
— Если уж вы сумасшедший, то по крайней мере не надо быть злым.
И тут генерал д'Юбер сделал такое решительное движение к дивану, которое уж ничто не могло бы остановить.
Диван этот находился совсем не против двери, однако, когда мадам Леони, накинув на плечи легкий плащ и держа на руке кружевную шаль для Адели, чтоб скрыть ее непростительно распущенные волосы, подошла к двери, ей показалось, что брат ее стремительно поднялся с колен.
— Идемте, дорогая моя! — крикнула она с порога. Но генерал, который теперь уже вполне овладел собой, проявил находчивость галантного кавалерийского офицера и властность командира.
— Неужели ты думаешь, что она может идти сама? — воскликнул он возмущенно. — Да разве это можно позволить! Она не в состоянии. Я отнесу ее вниз.
И он понес ее бережно, не спеша. За ним шла его потрясенная, почтительная сестра. Но обратно он взлетел одним духом — поскорей смыть с себя все следы ночных кошмаров и утренней битвы, переодеться в праздничный костюм победителя и отправиться к ней. Если б не это, генерал д'Юбер готов был бы оседлать лошадь и погнаться за своим недавним противником. просто чтобы расцеловать его, так он был счастлив! «И всем этим я обязан этому глупому животному! — думал он. — Он сделал ясным для меня в одно утро то, на что мне понадобились бы годы, потому что я трусливый дурак. Ни капли самоуверенности. Сущий трус! И этот шевалье — какой чудесный старик!» Генерал д'Юбер жаждал расцеловать и его.
Шевалье лежал в постели. Он чувствовал себя плохо несколько дней. Эти императорские солдаты и послереволюционные молодые девицы совсем могут уморить человека! Он поднялся только накануне свадьбы и так как он был очень любопытен, то постарался как-то улучить минутку, чтобы побеседовать со своей племянницей наедине. Он посоветовал ей непременно попросить супруга рассказать ей истинную причину этой дуэли, в которой крылось, по-видимому, что-то до такой степени серьезное, исключительное, что это едва не привело ее к трагедии.
— Конечно, он должен рассказать об этом жене. А так примерно через месяц вы, дорогая моя, сможете добиться от него всего, чего бы вы ни пожелали.
Спустя некоторое время, когда супружеская чета приехала погостить к матери невесты, юная генеральша д'Юбер рассказала своему дорогому дядюшке истинную историю, которую она без всякого усилия узнала от своего супруга.
Шевалье выслушал с глубоким вниманием все до конца, взял понюшку табаку, стряхнул крошки с кружевной манишки и произнес спокойно:
— И это все?
— Да, дядя, — ответила юная генеральша, широко раскрывая свои хорошенькие глазки. — Не правда ли, как нелепо? Подумать только, до чего могут дойти мужчины!
— Гм? — произнес старый эмигрант. — Все, конечно, зависит от людей. Эти бонапартовы солдаты были сущие дикари. Да, разумеется, это нелепо. Но, дорогая моя, вы, конечно, должны верить тому, что говорит ваш супруг.
Но мужу Леони шевалье высказал свое истинное мнение на этот счет: если д'Юбер в свой медовый месяц способен рассказать жене такую басню, можно быть совершенно уверенным, что никто никогда не узнает тайну этой дуэли.
Уже много позже генерал д'Юбер, считая, что прошло достаточно времени, решил воспользоваться удобным случаем и написать письмо генералу Феро. Он начал свое письмо с того, что он не чувствует к нему никакой вражды. «Никогда за все это время, пока длилась наша злополучная ссора, — писал генерал барон д'Юбер, — я не желал вашей смерти. Разрешите мне вернуть вам по всем правилам вашу находящуюся под моим запретом жизнь. И мне кажется, что мы, которые так долго были товарищами в военной славе, можем теперь открыто признать себя друзьями».
В этом же письме он сообщал ему о некоем событии семейного порядка. И вот на это-то сообщение генерал Феро из своей маленькой деревушки на берегу Гаронны ответил в следующих выражениях:
«Если б вы дали вашему сыну имя Наполеон, или Жозеф, или хотя бы Иоахим, я мог бы поздравить вас по поводу этого события от души, но так как вы сочли уместным дать ему имя Карл-Анри-Арман, я остаюсь при своем убеждении, что вы никогда не любили императора. Когда я думаю об этом несравненном герое, прикованном к скале посреди разъяренного океана, жизнь кажется мне такой ничтожной, что я был бы истинно рад получить от вас распоряжение пустить себе пулю в лоб. Честь запрещает мне покончить самоубийством, но я буду хранить у себя в столе заряженный пистолет».
Юная генеральша д'Юбер, выслушав этот ответ, в отчаянии всплеснула руками.
— Ты видишь? Он не хочет мириться, — сказал ее супруг. — Мы должны быть очень осторожны, чтобы он, избави боже, никогда не мог узнать, откуда он получает деньги. Это никак нельзя. Он этого не потерпит.
— Какой ты хороший, Арман! — с восхищением сказала генеральша.
— Милочка моя, я имел право всадить ему пулю в лоб, но так как я этого не сделал, не можем же мы допустить, чтоб он умер с голоду. Он лишился пенсии и совершенно неспособен что-либо сделать для себя сам. Мы должны заботиться о нем втайне до конца наших дней. Разве я не обязан ему самыми чудесными минутами моей жизни?.. Ха-ха-ха! Подумать только: две мили напрямик по полям, бегом, не останавливаясь! Я просто ушам своим не поверил. Если бы не эта его бессмысленная свирепость, мне понадобились бы годы, чтобы раскусить тебя. Да, просто удивительно, как только этот человек ухитрился пронять меня и зацепиться за самые мои глубокие чувства!
Примечания
1
Доломан — гусарская накидка с меховой опушкой.
(обратно)2
Да здравствует император! (франц.).
(обратно)3
К Наполеону.
(обратно)4
Кларк — маршал, военный министр Франции после падения Наполеона.
(обратно)

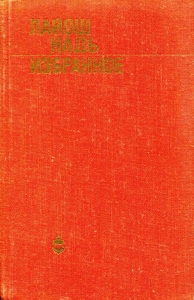
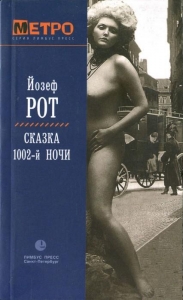
Комментарии к книге «Дуэль», Джозеф Конрад
Всего 0 комментариев