Натанаэл Уэст День саранчи
Видения Бальсо Снелла © Перевод. А. Ливерганта
В конечном счете, дорогой мой, жизнь, как сказал Анаксагор, — это путешествие.
Бергот [1]Прогуливаясь в высокой траве, выросшей вокруг Трои, Бальсо Снелл обнаружил знаменитого деревянного коня. Как и положено поэту, он вспомнил старинную песнь Гомера и решил проникнуть внутрь.
Тщательно изучив коня, Бальсо понял, что войти в него можно лишь тремя способами: через пасть, через пупок и через ведущий в пищеварительный тракт задний проход. До конской пасти ему было не достать, пупок оказался на поверку тупиком, а потому, позабыв о своем достоинстве, Бальсо воспользовался задним проходом. О, Anus Mirabilis![2]
Вдоль выступов мистического портала узрел он надписи, которые, не без некоторых усилий, сумел разобрать. На сердце, пронзенном стрелой и увенчанном инициалом N, было выгравировано:
«Ах! Qualis… Artifex… Регео!»[3] Чтобы не уступить императору - лицедею[4], Бальсо достал перочинный ножик и вырезал еще одно сердце, а под ним следующие слова: «О Донна, ты бездонна! О Анон! О Анан!» Стрелу же и свои инициалы вырезать не стал. Прежде чем войти, Бальсо вознес молитву: — О Лошадь! О «Белая лошадь»! О Бах! О Оффенбах! Не покидайте меня сейчас и во веки веков!
И тотчас Бальсо почувствовал себя как Один на мосту, как Двое в постели, как Трое в лодке, как Четверо в одном седле, как Семеро против Фив. И, воодушевившись, растворился во мраке похожего на фойе толстого кишечника.
Спустя некоторое время, решительно никого не увидев и абсолютно ничего не услышав, Бальсо впал в уныние. И, дабы воспрянуть неукротимым своим поэтическим духом, сочинил вот какую песню:
Круглые точно Задний Проход Бронзового Коня Или как Пуговица Лошадиного Ануса На Колесах Его Колесницы Обитых Медью Вопиют Серафимы Языки Господа Нашего Гулкий и Круглый Точно Брюхо Силена Джотто Живописец Идеальных Кругов Делает Полный Круг Круглый и Полный Круглый и Полный Точно Наполненный до Краев Кубок Налитый Росой Пупок Марии Марии Богоматери Нашей Круглые и Гулкие Точно Переполненный Кубок Покрытые Ржавчиной Дыры В Ногах Господа Нашего Дыры от Гвоздей Вбитых ЕвреямиВ дальнейшем Бальсо давал этой песне самые разные названия, вот наиболее удачные: «Куда глаза глядят, или Бесплодные поиски света в конце туннеля», а также «На задних лапках перед задним проходом бронзового коня, или Стигматы как средство для полета фантазии».
Несмотря на оптимизм сочиненной им песни, Бальсо было по - прежнему не по себе. Ему вспомнились Phoenix Excrementi[5], племя, которое он вообразил себе однажды, нежась в постельке поздним воскресным утром, и от страха, что он с легкостью может встретить здесь представителя этого племени, по всему его телу пробежала дрожь. Для дрожи были веские основания, ибо Phoenix Excrementi сами себя едят, сами себя переваривают и, опорожняя желудок, сами же себя производят на свет.
В надежде привлечь внимание кого-то из местных жителей Бальсо сделал вид, что потрясен великолепием увиденного, и закричал:
— О, Увитая Розами Изгородь! О Влажный Сад! О Колодец! О Фонтан! О Клейкий Цветок! О Слизистая Оболочка!
Тут из тени выступил человек с вышитым на кепке словом «Тур». С целью доказать, что поэт имеет право преступать любые границы, Бальсо процитировал ему свое собственное изречение:
— Если хотите, чтобы две параллельные линии встретились — немедленно или в самом ближайшем будущем, — заранее дайте соответствующие указания, и лучше — по радио.
Человек в кепке оставил эту реплику без внимания.
— Сэр, — сказал он, — вы, спору нет, — представитель изобретательного народа, который придумал и усовершенствовал автоматический ватерклозет, мы же — наследники древних греков и римлян. Как прекрасно выразился ваш пиит: «Сиянье Греции святой и слава, чье имя — Рим…»[6] Я предлагаю свои услуги в качестве гида. Если соблаговолите посмотреть направо, то взгляду вашему предстанет красивейшая дорическая предстательная железа, распухшая от радости и переизбытка нежных чувств.
Бальсо этот монолог возмутил до крайности.
— Изобретатели автоматического ватерклозета, говоришь?! — вскричал он. — Ах ты, говноед! Дорическая? Ты бы еще сказал, феерическая! И никакая это не предстательная железа, а просто геморроидальный узел. И ты еще называешь эту дыру «великой» и «славной»? Видел когда-нибудь вокзал Грэнд-Сентрал в Нью-Йорке, или Йельский футбольный стадион, или туннель Холланд, или новый Мэдисон Сквер-Гарден? Мне же, придурок, ничего, кроме ржавых водопроводных труб, здесь на глаза не попадается. А ведь на дворе двадцатый век. Вы безбожно отстали, слышишь?
Гид смешался.
— Простите, сэр, — залопотал он, — простите… Хотите вы того или нет, но места эти освящены веками, их почитали великие мужи. В конце концов, в чужой монастырь со своим уставом…
— Говноед, — повторил Бальсо, на этот раз, правда, не столь свирепо.
Гид воспрял:
— Веди себя прилично, гастролер. Если тебе здесь не нравится, вали откуда пришел. Но сначала я расскажу тебе одну притчу — наш, можно сказать, фольклор. Тебе эта история придется по вкусу. Только не принимай ее на свой счет, договорились? Называется история
Нежданная встреча
Путешественник, приехавший в Тиану[7] на поиски мудреца Апполония, увидел, как в задний проход какого-то человека вползает змея.
— Прости меня, — сказал путешественник, приблизившись, — но только что змея заползла к вам в… — И он показал пальцем на то, что не посмел назвать.
— Да, сэр, она там живет, — последовал несколько неожиданный ответ.
— В таком случае вы, надо полагать, тот самый человек, которого я ищу, философ-святой, Апполоний из Тианы. Вот рекомендательное письмо от моего брата Джорджа. Можно взглянуть на змею? А теперь — заглянуть к вам в анус. Превосходно!
— Превосходно! Превосходно! — подхватил Бальсо последнее слово рассказа. — Настоящая старинная притча! Считайте, что я вас нанял.
— У меня и другие истории есть, — похвастался гид. — Буду их тебе рассказывать по ходу дела. Слышал ли ты про Моисея и Терновый Куст? Как пророк упрекнул Куст в болтливости: «Болтаешь вздор, а не видишь, что горишь огнем», и как куст, набравшись наглости, возразил: «Терновый Куст, чтоб ты знал, хоть и горит огнем, но не сгорает»[8].
Эта история понравилась Бальсо куда меньше, чем предыдущая; собственно, она ему совсем не понравилась, однако он решил, что не будет больше прерывать своего провожатого, и, взяв его под руку, втиснулся в толстую кишку. Гид молол языком не переставая, и они сами не заметили, как прошли почти всю кишку до конца. К несчастью, когда они подошли к тому месту, где кишка выпирала за стенку желудка, Бальсо не выдержал и, не веря своим глазам, закричал:
— Ну и грыжа! Вот так грыжа!
Гид пришел в такое бешенство, что потерял дар речи, однако Бальсо отговорился тем, что особенности ландшафта в виду не имелись.
— Г-р-р-р-ы-ж-а, — проговорил он нараспев. — Какая жалость, что такие красивые слова, как «грыжа», из-за детских ассоциаций и нелепых предрассудков не могут использоваться в качестве имен. Грыжа! Какое было бы красивое женское имя! Грыжа Грош! Парез Паркинсон! Паранойя Пунц! Насколько приятнее звучат (а благозвучие для имени самое главное) эти имена, чем, скажем, Вера Вейсман или Надежда Натансон.
Но Бальсо вновь просчитался.
— Эй ты! — вскричал гид дрожащим от возмущения голосом. — Я, к твоему сведению, еврей, и, когда разговор касается еврейской темы, считаю необходимым об этом напомнить. Я еврей! Еврей!
— Ты меня неправильно понял, — возразил Бальсо. — Лично я против евреев ничего не имею. Более того, я восхищаюсь евреями, это исключительно бережливая нация. Среди моих близких друзей немало евреев.
Видя, что гид безутешен и верить ему не желает, Бальсо решил процитировать высказывание Чарльза Монтегю Даути[9].
— Семиты, — отчеканил Бальсо, — сродни человеку, который сидит по уши в клоаке, но глаза которого устремлены в небеса.
После того как Бальсо удалось наконец успокоить гида, он попытался угодить ему еще больше, сказав, что великолепный туннель потряс его до глубины души и он был бы рад провести в нем остаток дней, прихватив с собой лишь несколько любимых трубок и книгу.
Гид воздел руки к небу одним из тех красноречивых жестов, какими так славятся потомки древних римлян, и воскликнул:
— Что есть в конечном счете искусство? Не могу не согласиться с Джорджем Муром. Искусство — это не просто природа, а переваренная природа. Искусство — это возвышенное испражнение.
— А Доде? — поинтересовался Бальсо.
— О, Доде! Доде, c'est de bouillabaisse[10]! Вот что говорит по этому поводу тот же Джордж Мур: «Какая мне разница, если за «La Source» Энгра[11] пришлось заплатить добродетелью шестнадцатилетней девственницы». Так вот…
— Пикассо говорит… — вставил Бальсо. — Пикассо говорит, что в природе нет такого понятия, как ноги…[12] Спасибо, что столько всего показали. Мне пора.
Но улизнуть Бальсо не удалось.
— Минуточку, — сказал гид, ухватив его за воротник. — Ваша реплика более чем справедлива. Нам следует говорить о творчестве, а не о творцах. Пожалуйста, объясните, какой смысл вы вкладываете в слова испанского мастера.
— Моя точка зрения… — начал было Бальсо, но гид, не дав ему закончить, заговорил снова:
— Если вы готовы признать существование точек, то заявление о том, что в природе нет ног, несостоятельно, ибо, по сути своей, оно основывается на том, что точек не существует. Высказав эту мысль, Пикассо становится на сторону монизма в извечной борьбе сторонников Единственности и Множественности. Не случайно ведь задавался вопросом Джеймс[13]: «Реальность существует дистрибутивно или коллективно — в форме каждых, всяких, любых, или же только в форме всего или целого?» Если реальность единична, тогда в природе нет ног, если плюралистична, их очень и очень много. Если мир — это единое целое (под природой Пикассо понимает все, что является частью одного и того же), то в нем нет ничего, что бы начиналось или кончалось. Только когда предметы приобретают форму каждых, всяких, любых (то есть когда они конечны), у них есть ноги. Ноги ведь, по определению, конечны. Больше того, если все едино и не имеет ни начала, ни конца, значит все есть круг. У круга нет ни начала, ни конца. У круга нет ног. Если мы предположим, что природа — это круг, стало быть, в природе нет ног. Только не сводите эту мысль к чистой мистике. Бергсон…
— Сезанн говорит: «Все в природе стремится к сферичности». — И, сделав это заявление, Бальсо предпринял еще одну, отчаянную попытку ретироваться.
— Сезанн? — Гид по-прежнему крепко держал Бальсо за воротник. — Сезанн прав. Мудрец из Экса…
Но тут Бальсо все же вырвался и убежал.
Бальсо долго бежал по длинному туннелю, пока не увидел перед собой совершенно голого человека в котелке с торчащим из него репеем. Человек пытался распять себя на канцелярских кнопках. Любопытство возобладало над страхом, и Бальсо остановился.
— Я могу вам чем-нибудь помочь? — вежливо спросил он.
— Увы, — ответил обнаженный еще более вежливо, несколько раз приподняв свой котелок. — Очень вам благодарен, но я уж как - нибудь сам справлюсь…
Меня зовут Малуни-Ареопагит, — продолжал обнаженный, отвечая на вопросы, которые Бальсо, как человек воспитанный, задать не решился. — Я католический мистик и свято верю святой
Гильдегард[14], которой принадлежит следующее леденящее душу изречение: «Господь обитает не только в теле здоровых и сильных». Живу я так же, как жили Маргарита-Мария Алакокская[15], Генрих Сузо, Лабре, Лидвина Схидамская, Роза Лимская. Когда страдания мои не столь велики, я сочиняю стихи в подражание Ноткеру Балбусу, Эккенарду le Vieux[16], Укбальду le Chauve[17]:
В оперенном мраке Рта твоего, О Божья Матерь! Славлю я Христа — Цветущую розу.Вы меня поняли? Все свободное время я трачу на то, что восхищаюсь той любовью, какую все великие святые дарят даже малым Божьим тварям. Вы когда-нибудь слышали о Бенедикте Лабре? Это он подобрал вошь, выпавшую из его шляпы, и припрятал ее себе в рукав. Другой святой, прежде чем вызвать прачку, снял вошь со своей одежды, дабы не утопить в горячей воде драгоценную святость, присущую инсектам.
Подобные мысли побудили меня написать жизнеописание Saint Puce[18], великомученицы из семейства паразитов. Если хотите, могу дать вам precis[19] ее жизни.
— Буду вам весьма признателен, сэр, — сказал Бальсо. — «Век живи — век учись» — вот мой девиз, мистер Малуни, а потому, прошу вас, продолжайте.
— Saint Puce была блохой, — начал Малуни-Ареопагит хорошо поставленным голосом. — Блохой, родившейся, жившей и умершей под мышкой у Господа нашего.
Родилась Saint Puce из яйца, отложенного во плоти Христа, когда младенцем Он играл на полу яслей в Вифлееме. Факты подобной инкубации хорошо известны — достаточно вспомнить, к примеру, Диониса и Афину.
У Святой Блохи было две матери: крылатое существо, которое отложило яйцо, и Бог, который высидел его в Своей плоти. Как и у всех нас, у нее было два отца: Отец наш Небесный и тот, кого мы, по молодости лет, называли «папкой».
Кто же из этих двух отцов оплодотворил яйцо? Ответить на этот вопрос со всей определенностью я не берусь, но некоторые факты из жизни Святой Блохи наводят на мысль, что оплодотворило яйцо существо, на крыльях которого отсутствовало оперение. Да-да, я имею в виду Голубя или Параклета — Sanctus Spiritus[20]. Опять же приходят на ум примеры из античности: Леда, Европа. Предвосхищая вашу реплику о том, что блоха, дескать, — существо ничтожно малое, хочу напомнить, что Божья любовь распространяется на всех и вся.
О счастливое, счастливое детство! Играть в курчавом светлом шелке волос в укромной подмышке Сына Человеческого. Насыщаться нежной плотью Спасителя. Пить Его кровь. Купаться в Его поту. Отведать — да еще с каким наслаждением! — Его Божьей перхоти. Не нуждаться в том, к чему непрестанно взываю я:
Corpus Christi, salva me Sanguis Christi, inebria me Aqua lateris Christi, lave me[21].Как же сильна, как же похотлива была Святая Блоха в пору зрелости! И как похоть ее и сила получали нескончаемое, высшее удовлетворение! Кожа Господа нашего скользила по Его плоти волшебной музыкой сродни фугам Баха. Переплетение Его сосудов было более замысловатым, чем Кносский Лабиринт. Аромат Его тела более благоуханным, чем Храм Соломона. Для юной Блохи температура Его тела была более приятной, чем римские бани. А вкус Его крови! В этом вине все удовольствие, все возбуждение возрастало стократ, и крошечное тело Святой Блохи начинало биться в экстазе, сотрясаясь, точно раскаленная печь.
В расцвете лет и сил Святая Блоха ушла далеко от своего места рождения, от этой шелковисто-волосатой ложбинки, подмышки
Господа нашего. Она бродила в кущах на груди Спасителя, подымалась на холм Его живота. Опускалась в гулкий, бездонный колодец — пупок Господа нашего. Исследовала, нанося на карту, каждую расселину, каждый кряж, каждую каверну на теле Христа. Из заметок, делавшихся во время этих путешествий, она составила впоследствии свою знаменитую работу — «География Господа нашего».
После долгих странствий, измученная, Святая Блоха возвратилась домой, в священный лес. Дабы провести, как она надеялась, остаток дней в трудах, молитве и созерцании. Предаться безмятежному досугу в храме, чьи стены были из плоти Христовой, чьи окна порозовели от крови Христовой и на чьих алтарях горели золотые свечи из Божьей ушной серы.
Скоро, увы, слишком скоро настанет день мук Христовых (О Jesu, mi dulcissime![22]), и руки Христа воздеты будут, дабы в ладони Его могли впиться гвозди.
Стены и окна церкви Святой Блохи были разбиты, пределы ее залиты кровью.
Жаркое солнце Голгофы сожгло плоть под воздетой рукой Христа, и нежная, точно лепесток цветка, кожа высохла, сморщилась и стала похожа на тщательно выбритые подмышки старой актрисы.
После смерти Христа скончалась и Святая Блоха, отказавшись довольствоваться меньшей плотью, даже плотью Марии, стоявшей рядом, под крестом. Из последних сил отбивалась она от неумолимого червя…
Тщедушное тельце мистера Малуни сотряслось от рыданий, однако Бальсо не испытал к нему ни малейшей жалости.
— Сдается мне, вы слишком впечатлительны, — процедил он. — Все-то вам видится в черном свете. Перестаньте разглядывать свой пупок, не прячьте голову под крыло. Будет вам принюхиваться к смерти. Занимайтесь спортом. Не читайте так много книг. Принимайте холодный душ. Ешьте больше мяса.
И, дав мистеру Малуни эти столь полезные советы и предоставив его самому себе, Бальсо продолжал свой путь.
Малуни-Ареопагит остался далеко позади, когда за поворотом кишки Бальсо увидел мальчика, который прятал в дупле дерева нечто похожее на пачку писем. Дождавшись, пока мальчик уйдет, Бальсо извлек из дупла письма и сел их читать. Начал он, однако, с того, что снял обувь, — болели ноги.
То, что он принял за письма, при ближайшем рассмотрении оказалось дневником. На первой странице сверху значилось: «Тетрадь для сочинений. Джон Джилсон, класс 8–6, средняя школа 186. Учительница — мисс Макгини». Он стал читать дальше.
1 янв. — дома
Кого я обманываю, называя эти страницы дневником? Уж во всяком случае не вас, мисс Макгини. Увы! — никого. Никого не введет в заблуждение и тот факт, что пишу я от первого лица. Именно поэтому я вовсе не стремлюсь доказать, что нашел эти страницы в дупле дерева. Я честный человек, и мне отвратительны маски, картонные носы, дневники, мемуары, письма с Сабинской фермы, театр… Да, все это мне отвратительно, но поделать я ничего не могу. «Сэр, — говорю себе я, — вас зовут не Яго, а всего лишь Джон. Лгать в дневнике чудовищно».
И тем не менее я настаиваю на том, что человек я честный. Как и все честные люди, я с реальностью не в ладах.
Реальность! Реальность! Если б только я мог обнаружить Реальное! То Реальное, которое я постигаю всеми своими чувствами. Которое будет терпеливо ждать, пока я его не обследую подобно тому, как собака обследует мертвого кролика. Но увы! Исследуя реальность, я словно бы бросаю камень в лужу: идущие по воде круги становятся все менее заметны по мере того, как они расходятся в стороны от того предмета, который их вызвал.
Писал эти строки и облизывал указательный палеи, левой руки.
2 янв. — дома
Неужели этот дневник будет похож на все остальные, которые я начинал вести? Длинная первая запись, где подробно рассказывается о событии, доказывающем, что мне есть чем заполнить дневник, за которой следуют записи покороче, пока наконец за целую неделю не наберется ни одного, даже самого пустячного фрагмента.
У начинающих первая запись в дневнике — самая длинная. Они с нетерпением, с жаром предают бумаге все наболевшее. У них, можно сказать, запор мыслей и наблюдений, и лист белой бумаги действует на них наподобие слабительного. В результате — словесный понос. Поток слов столь неудержим, что остановить его невозможно.
Дневник должен развиваться естественным путем — как цветок, раковая клетка, цивилизация… В дневнике, честный Яго, нет места фигурам речи.
Иногда мое имя — Раскольников, иногда — Яго. Я никогда не был и никогда не буду просто Джоном Джилсоном. Честным, честным Яго — да, но честным Джоном — никогда. Под именем Раскольникова я веду дневник, который назвал «Как стать злодеем». Вот выдержки из моего Дневника преступлений.
Дневник преступлений
В этой больнице я уже почти два месяца. Нахожусь под наблюдением врачей. Я психически здоров? Дневник доказывает обратное.
Эта запись выдает меня с головой.
Дневник преступлений
Сегодня меня навестила мать. Плакала. Не в себе она, а не я. Порядок — свидетельство здравомыслия. Ее же чувства и мысли в полном беспорядке. Мои, напротив, организованны, взвешенны, продуманны.
Человек тратит большую часть жизни на то, чтобы привести хаос в некое подобие порядка. И в то же время утверждает, что эмоции беспорядочны. Я упорядочиваю свои эмоции — и я безумен. Вместе с тем здравомыслие — это дисциплина. Моя мать катается по больничному полу и кричит: «Джон, дорогой… Джон, любимый». Шляпка съезжает ей на лицо. Она лихорадочно сжимает в руках свою нелепую сумку с апельсинами. И она — в своем уме.
Я шепотом говорю ей: «Мать, я люблю тебя, но этот спектакль абсурден, да и запах от твоей одежды действует на меня угнетающе». Я безумен.
Дневник преступлений
Порядок — это тщеславие. Я решил перестать пользоваться точными приборами. Хватит все измерять. Отныне и впредь я отказываюсь от счетной логарифмической линейки. Счет пойдет на другое. Психическая норма — это отсутствие крайностей.-
Дневник преступлений Интересно, кто-то читает мой дневник, когда я сплю? Перечитав написанное накануне, я заметил некоторые изменения в порядке слов. Так, во всяком случае, мне показалось. Получился как будто бы комментарий.
Я обращаюсь к тому, кто читает эти страницы, пока я сплю. Пожалуйста, поставьте здесь свою подпись.
Джон Раскольников Джилсон
Дневник преступлений Ночью я встал, нашел вчерашнюю запись и расписался.
Дневник преступлений Я безумен. Я (газеты назвали мое преступление «Культурный злодей убивает мойщика посуды») безумен.
Ребенком я ничем не отличался от других: «от души» смеялся, «тяжко» вздыхал, сочинял «искрометные» стихи, улыбался «загадочной» улыбкой, искал «непроторенные» тропы. Я был абсолютно безумным поэтом, одним из тех «великих ниспровергателей», кого так любил Ницше за то, что они «великие энтузиасты, стрелы страстного желания, выпущенные на другой берег». Помимо «mоn hysterie»[23] я культивировал в себе «тухлую, перезревшую зрелость». Вы понимаете, что я имею в виду. Как и Рембо, меня частенько посещали галлюцинации.
Так вот, мое воображение — это дикий зверь, рвущийся на свободу. Меня постоянно преследует желание дать выход какому-то странному чувству, ощутимому, но неясному, которое скрывается в непроходимых дебрях моего рассудка. Это скрывающееся существо криком кричит мне из своего укрытия: «Делай как я тебе говорю, и ты нащупаешь мои очертания. Ну же, быстрей! Что там у тебя в мозгу? Потакай моим прихотям, и в один прекрасный день великие двери твоего разума распахнутся, и ты сможешь войти и увидеть воочию неясные очертания и фигуры, скрывающиеся за ними».
Мне ничего не дано знать; мне ничего не дано иметь; всю свою жизнь я должен посвятить погоне за тенью. Это все равно, что пытаться зацепить кончиком карандаша тень от этого же карандаша.
Тень карандаша меня завораживает, и мне нестерпимо хочется ее обвести, — но тень неотделима от карандаша, она двигается вместе с ним и в руки не дается. В то же время мне так хочется овладеть ею, что я постоянно вынужден предпринимать все новые и новые усилия.
Два года назад я по восемь часов в день сортировал книги в городской библиотеке. Только представьте: восемь часов подряд вы находитесь в окружении тысяч и тысяч книг, перед глазами мелькают сотни миллиардов слов, написанных десятками тысяч безумцев! Какое терпение, какой труд понадобились для создания этих вздорных опусов! Какие лишения! Какие жертвы! Какой энтузиазм, какое исступление, какие бредовые фантазии!..
От книг пахло ничуть не лучше, чем от их авторов; так пахнет в комоде, забитом старой обувью, если его содержимое обдать кипятком из шланга. Когда я перебирал эти книги, мне казалось, что они превращаются в плоть или, по крайней мере, в нечто съедобное.
Вам когда-нибудь приходилось находиться среди читателей больших библиотек? Людей, которые просматривают старые медицинские журналы в поисках порнографии и патологии? Среди комиков, которые запасаются анекдотами из старых иллюстрированных еженедельников? Мужчин и женщин, что по заданию страховых компаний собирают статистику смертных случаев? Я работал в философском зале, который посещали алхимики, астрологи, каббалисты, демонологи, колдуны, атеисты и создатели новых религий.
Жил я тогда в меблированных комнатах, в нелепом и убогом здании в районе западных Сороковых улиц. Дом этот я выбрал из - за его неудобства. Мне непременно хотелось быть несчастным. В удобном, уютном доме я бы не прижился. Шум (грубый, резкий), грязь (животная, сальная), запахи (застоявшийся пот, прогорклая плесень) давали мне возможность нежиться в неудобстве. Мой ум погряз в мелких тревогах и раздражениях, тело от нервного перенапряжения стало издерганным и настоятельно требовало многочасового сна. И физически, и умственно я превратился в развалину. Я забирался в себя, точно медведь в берлогу, и часами лежал без движения, мучаясь от жары, дурных запахов и собственной скверны.
На одном со мной этаже, самом последнем, жил еще один человек, идиот. На жизнь он зарабатывал мытьем посуды в отеле «Astor». Это был толстый, похожий на свинью тип, от которого пахло дешевым табаком, застоявшимся потом, плесенью и овсяным мылом. Черепа как такового у него не было — всю голову занимало похожее на маску лицо, у которого боковая, задняя и верхняя части напрочь отсутствовали.
Идиот никогда не носил воротничков, однако пуговицы от воротничка, и заднюю, и переднюю, меняя рубашку, перешивал с грязной на чистую. Шея у него была гладкая, белая, толстая, покрытая сеточкой крошечных голубых сосудов, отчего напоминала кусок дешевого мрамора. Кадык у идиота был гигантский — казалось, будто в горле выросла опухоль. Когда он глотал слюну, его белая шея раздувалась и он издавал звуки, похожие на шум спускаемой в уборной воды.
Мой сосед, идиот, никогда не улыбался, зато смеялся непрерывно. Смеяться ему, по-видимому, было больно: со своим смехом он сражался так, словно это был дикий зверь. Казалось, зверь этот хочет разжать ему зубы, вырваться и убежать.
Говорят, нет ничего хуже человеческого плача. По-моему, еще хуже, когда человек смеется. (Между тем древние считали истерию женской болезнью. Истерия, полагали они, проистекает оттого, что матка отрывается и свободно плавает по всему телу. Лечили истерию прикладыванием к влагалищу душистых трав — чтобы приманить матку обратно, и дурно пахнущих вещей к носу — чтобы отвадить ее от головы.)
Как-то вечером я пошел в кино и перед сеансом слушал арию Дьявола из «Фауста» в исполнении баса из Чикагской оперы. В середине арии певец должен был разразиться громоподобным смехом, однако, дойдя до этого места, никак почему-то не мог начать смеяться. Он тужился изо всех сил, но ничего не выходило. Наконец ему удалось с собой совладать, он начал смеяться, однако на этот раз никак не мог остановиться. Оркестр несколько раз повторил мелодию между смехом и следующими тактами арии, однако унять смех бас был не в силах.
Когда я вернулся домой, в голове у меня звучал раскатистый хохот певца. Заснуть я не мог, оделся и спустился вниз. На лестнице мне встретился мой сосед, идиот. Он тихонько смеялся чему-то своему. Стало смешно и мне. Решив, что смеюсь я над ним, он рассердился. «Над кем это вы смеетесь?» — спросил он. Я испугался и предложил ему сигарету. Он отказался. Я пошел вниз, а он остался стоять на лестнице, безуспешно борясь со своим смехом и со своим гневом.
Я понимал, что если как следует не высплюсь, вставать утром будет тяжело. Если же вернуться и лечь сейчас, заснуть наверняка не удастся. Поэтому я вышел на Бродвей и отправился в направлении жилых кварталов — устану от ходьбы и тогда, быть может, забудусь сном. Я быстро натер ногу и вначале получал от боли даже некоторое удовольствие. Вскоре, однако, боль сделалась непереносимой, и мне пришлось вернуться домой.
Я лег, но не спалось по-прежнему. Если ты не хочешь сойти с ума, подумал я, надо проявить интерес к чему-то постороннему. Вот тогда-то я и замыслил убийство идиота.
По существу, я ничем не рисковал. Почему? Да потому, что мотивы преступления будут полиции совершенно непонятны. Полицейские ведь люди разумные, для них форма и цвет человеческого горла, человеческий смех, а также то обстоятельство, что человек носит рубашки без воротничка, не могут служить серьезным основанием для лишения его жизни.
Вы ведь тоже не считаете все это основанием для убийства, верно, доктор? Согласен, основания эти чисто литературные. Рассуждая в вашем духе, любезный доктор, в духе Дарвина или полисмена, мне следовало бы объяснить свой поступок желанием жить или творить жизнь. Можете мне не верить, но я вдруг понял: чтобы не помешаться, я обязательно должен убить этого человека, подобно тому, как ребенком я должен был, чтобы уснуть, поубивать всех мух у себя в спальне.
Чепуха? Согласен, чепуха. Но прошу вас (очень, очень прошу вас), поверьте, именно поэтому я и убил Адольфа. Я убил идиота, потому что он вывел меня из себя. Убил, так как полагал, что его смерть позволит мне обрести покой. Вожделенный покой!
Оттого, что убивал я впервые в жизни, мне было не по себе. Чем явится чудовищное преступление, которое я никогда раньше не совершал? Какие ужасы сопутствуют этому преступному акту? Я убил человека и получил ответы на все вопросы. Я никогда больше не убью человека. Мне незачем будет убивать.
Продолжим. Я решил, что замысловатого убийства совершать не стану. Испугавшись, как бы не запутаться в хитросплетениях задуманного, я решил ограничить свое преступление только одним актом — убийством. Я даже не поддался искушению пойти в библиотеку и ознакомиться с соответствующей литературой.
Поскольку горло мойщика посуды явилось основной побудительной причиной убийства, преступление я решил совершить холодным оружием, а именно ножом. Резать все, и мягкое и твердое, я любил с детства. Я купил нож пятнадцати дюймов в длину, одна его сторона была острой, как бритва, другая — тупой, в полдюйма толщиной. Вес ножа полностью соответствовал поставленной цели.
Совершать преступление сразу после покупки ножа в мои планы не входило, однако вечером того дня, когда он был куплен, я услышал, что идиот подымается по лестнице мертвецки пьяный. Прислушиваясь, как он тычет ключом в замочную скважину, я в первый раз сообразил: Адольф запирает дверь на ночь. Сделав это неожиданное открытие, я чуть было не отказался от мысли об убийстве, однако, представив себе пытку, которая меня ждет, подави я в себе желание совершить преступление, я справился со своими сомнениями и решил осуществить задуманное в тот же вечер. Дверь в его комнату была приоткрыта. Подкравшись к двери, я заглянул внутрь и увидел, что идиот лежит, раскинув руки, на кровати в состоянии тяжелого опьянения. Я вернулся к себе и снял халат и пижаму. Убийство я решил совершить в чем мать родила, чтобы не пришлось потом устранять пятна крови с одежды. С голого же тела смыть кровь ничего не стоит. Мне стало холодно, и я заметил, что мои гениталии затвердели и сморщились — как у собаки или у древнеримской статуи; вид у них был такой, будто я только что принял ледяную ванну. Я испытывал сильное возбуждение, но возбуждение это было не во мне, а словно бы где-то вне меня.
Я пересек коридор и вошел в комнату мойщика посуды. Свет он выключить забыл. Я приблизился к кровати и перерезал ему горло. Я собирался убить его несколькими быстрыми ударами, но от прикосновения холодной стали к коже он проснулся, я перепугался и в панике стал перепиливать ему кадык. Успокоился я лишь после того, как он затих.
Вернувшись к себе, я поставил нож, как ставят мокрый зонт, стоймя в раковину, чтобы с него в водосток стекала кровь. Одеваясь, я почувствовал, что меня душит страх. Страх, который, разрастаясь, должен был разорвать меня изнутри. Страх такой силы, что казалось: еще мгновение, и он вышибет мне мозги. Этот раздувающийся в голове страх походил на быстро растущий плод в утробе матери. Я чувствовал, что вот-вот взорвусь, если от этого страха не избавлюсь. Я широко раскрыл рот, но разродиться страхом был не в состоянии.
Неся в себе этот страх, как муравей несет на себе гусеницу, которая больше него раз в тридцать, я сбежал по лестнице, вышел на улицу и двинулся в сторону реки.
Бросив нож в воду, я ощутил, что вместе с ножом исчез и страх. Мне вдруг стало легко и свободно. Я почувствовал себя счастливой юной девушкой. «Какая же ты у меня хорошенькая-прехорошенькая, мурочка-кошечка-кисанька-лапочка-душечка», — промурлыкал я и стал ласкать себе груди, словно тринадцатилетняя девочка, что вдруг, погожим весенним днем, впервые ощутила себя женщиной. Я изобразил вихляющую походку школьницы, которая красуется перед мальчишками. В темноте я сам себя облапил.
Когда я возвращался, навстречу шли матросы, и мне ужасно захотелось, чтобы они за мной приударили. Точно отчаявшаяся шлюха, что изо всех сил стремится показать товар лицом, я беззастенчиво вилял бедрами и вертел задом. Матросы посмотрели на меня и рассмеялись. Стоило мне подумать: вот было бы хорошо, если б кто-нибудь из них последовал за мной, как за спиной у меня раздались шаги. Шаги приближались, и мне показалось, будто я таю, будто весь состою из шелка, духов и розовых кружев. Я обмер — но мужчина, даже не посмотрев в мою сторону, прошел мимо. Я сел на скамейку, и меня вырвало.
Я долго сидел на скамейке, а затем, больной и замерзший, вернулся к себе в комнату.
Убийство забилось мне в голову, точно песок в раковину устрицы. Вокруг него начала набухать жемчужина. Идиот, оперный певец, его смех, нож, река, превращение в женщину — все это обволокло убийство подобно тому, как секреция устрицы обволакивает саднящую песчинку. С ростом и затвердением оболочки возникшее раздражение постепенно исчезает. Если же убийство будет разрастаться и дальше, я не смогу больше удерживать его в себе. И тогда, боюсь, оно убьет меня точно так же, как жемчужина в конце концов убивает устрицу.
Бальсо спрятал рукопись обратно в дупло и, задумчиво опустив голову, продолжал свой путь. Да, нелегко живется поэту в современном мире. Он почувствовал, что стареет. «Ах, молодость! — со значением вздохнул он. — Ах, Бальсо Снелл!»
Внезапно совсем рядом чей-то голос спросил:
— Ну как, носач, понравилось тебе мое сочинение?
Бальсо повернул голову и увидел школьника, чей дневник он только что читал. Школьник был в коротких штанишках, и на вид ему было никак не больше двенадцати лет.
— С психологической точки зрения интересно, — робко сказал Бальсо, — но вот искусство-ли это? Я бы поставил тебе «три с минусом», да еще всыпал хорошенько.
— Да плевать мне на ваше искусство! Знаете, почему я написал эту странную историю? Потому что мисс Макгини, моя учительница английского, читает русские романы, а я хочу с ней переспать. Вы случайно журнал не издаете? Не хотите купить у меня эту историю? Мне деньги нужны.
— Нет, сынок, я поэт. Бальсо Снелл, поэт.
— Поэт он! Рассказывай!
— Я бы тебе посоветовал, дружок, побольше бегать. Читай поменьше и играй в бейсбол.
— Не морочьте мне голову. Я знаю одну толстуху — она только поэтам и дает. Когда я ее трахаю, я тоже поэт. Могу прочесть стишок, которым я ее покорил:
Затворница моя! Толстуха! Тому, кто покорил Вершины горные Арраса и Аррата, Парнасса, Оссы, Пелиона, Иды, Писги, И даже золотого Пика Пайке[24], Тебя не покорить.Недурно, а? Но мне поэзия и искусство осточертели. А что делать? Мне нужны женщины, а поскольку ни купить, ни изнасиловать их я не в состоянии, приходится сочинять им стишки. Если б ты знал, как мне надоело изображать безумие Ван Гога и страсть к путешествиям Гогена ради того, чтобы завоевать сердца этих надутых недотрог. А как мне надоели эти окололитературные ублюдки! Увы, только на них я и могу претендовать… Слушай, Бальсо, за доллар я готов вкратце описать тебе свои взгляды.
Бальсо дал мальчишке доллар в надежде от него избавиться — и получил в ответ небольшой трактат.
Трактат
Вчера, раздумывая, бриться мне или нет, я узнал о смерти своей подруги Саньетт. И решил не бриться.
Сегодня, бреясь, я обратился к своим вчерашним эмоциям. Обратился в том смысле, что стал искать их — в карманах своего халата, в висящей на стене аптечке. Ничего не обнаружив, я продолжал поиски. Куда я только не заглянул. И (сначала, разумеется, с улыбкой) в бездонные недра сострадательности, и в тайники души, и даже за бескрайние горизонты памяти. Увы, как и следовало ожидать, поиски мои закончились ничем. Мои восклицания: «Откройтесь, о врата чувств! Опустошитесь, о фиалы страсти!» — лишь подтвердили полную и окончательную неразрешимость моей задачи.
То, что я не преуспел в поисках, явилось для меня свидетельством моего недюжинного ума. Я (подобно детям, что, играя, становятся на сторону полицейских или разбойников, индейцев или ковбоев) становлюсь на сторону интеллекта против эмоций, рассудка против сердца. И тем не менее я не мог не признать всю ходульность своей позиции (бреясь, молодой человек отмахивается от смерти) и не оставил попыток отыскать эмоции. Я тщательно пересмотрел все свои резоны предаться горю (с Саньетт я прожил без малого два года), однако так ему и не предался.
Мне очень трудно всерьез думать о смерти, поскольку имеются некоторые предвзятые суждения, в свете которых мои мысли могут показаться абсурдными. Каким бы образом я ни рассуждал, я подвергаю устоявшиеся представления критике сентиментального, сатирического и формального толка. Этим суждениям сопутствует и ряд литературных ассоциаций, которые уводят меня еще дальше от истинного чувства. Из-за литературных упражнений признание таких категорий, как Смерть, Любовь, Красота, сделалось невозможным.
Отдав себе отчет в том, что я потерпел неудачу, я несколько раз ухмыльнулся своему отражению в зеркале, пытаясь тем самым скрыть свое поражение. Вспомнив, что накануне смерть Саньетт я использовал как предлог, чтобы не бриться, я громким голосом произнес: «Точно так же и мои друзья воспользуются моей смертью, чтобы не пойти на свидание с нелюбимой девушкой».
Приободрившись от вида своей глумливой физиономии, я представил себе смерть Саньетт. Лежит под одеялом на больничной койке и взывает к матушке Эдди и доктору Куэ[25]: «Я не умру! Мне все лучше и лучше! Я не умру! Воля возобладает над плотью. Я не умру!» На что смерть ей ответит: «А вот и умрешь». И она умерла. Смерть победила жизнь, и ее победой я воспользовался в полной мере.
Неизбежность смерти всегда доставляла мне удовольствие — и не потому, что хочется умереть мне, а потому, что должны умереть все Саньетты. Когда проповедник объяснил королю Франции, что в одном, по крайней мере, сомневаться не приходится — все когда-нибудь умрут, монарх разгневался. Когда смерть возобладала над оптимизмом Саньетт, девушка, я уверен, искренне удивилась. Мысль о том, что Саньетт удивилась, доставляет мне такое же удовольствие, как гнев короля — проповеднику.
Отчасти я недолюбливал Саньетт по той же причине, по какой пессимисты не любят оптимистов, ковбои — индейцев, полицейские — разбойников. Но лишь отчасти. В основном же моя антипатия была сродни той, какую всякий исполнитель питает к своей аудитории. Наши с Саньетт отношения были в точности отношениями актера и зрителя.
Живя со мной, Саньетт относилась ко всем самым моим чудовищным выходкам так же, как зрительный зал относится к самым рискованным трюкам акробата. Ее безразличие приводило меня в такое возбуждение, что в своих «спектаклях» я вел себя все более и более развязно. И то сказать: что такое трагедия на театре всего с одной смертью? Почему не с двумя покойниками? Не с сотней трупов? Исходя из этого я демонстрировал ей самые свои сокровенные органы: сердцем и гениталиями, можно сказать, подпоясывался.
И всякий раз внимательно следил, как она воспримет мое представление — с улыбкой или со слезами. Хоть я и выступал в роли клоуна, клоуном я был трагическим — тут двух мнений быть не может.
Я уже забыл то время, когда отношения с женщиной вспоминались лишь как серия причудливых театральных поз, которые казались мне настолько забавными, что я принимал их, вполне сознавая, насколько они нелепы. Все мои ужимки преследовали тогда только одну цель — привадить самку.
Имей я возможность привлекать к себе женщин физически, моя ненависть к ним не была бы столь велика. Однако я считал необходимым противопоставить мускулам, зубам и волосам своих соперников причудливые образы, тонкие и остроумные наблюдения, нестандартное поведение — Искусство, наконец.
Мой ум, который я так часто выставлял напоказ, есть не что иное, как проявление инстинкта угождать. В этом смысле я чем-то похож на птицу под названием Amblyornis Inornata. Inornata[26], о чем свидетельствует и ее имя, — птица бесцветная и уродливая. В то же время Inornata — кузина Райской птицы. Поскольку великолепное оперение сестры у нее отсутствует, ей приходится овеществлять свое внутреннее оперение. Inornata разводит сад и сооружает дом из цветов, компенсируя тем самым красочность и пестроту своей родственницы. Муж нежно любит свою скромную садовницу, однако ей на просьбу Райской птицы: «Покажи-ка нам свой хвост, дорогая», ответить, увы, нечего. Больше того, если Райская птица в ударе, ей ничего не стоит попросить кузину овеществить несколько внутренних перьев. А впрочем, нельзя же винить Райскую птицу за высокое качество ее хвоста — такой вырос. Бедяжке же Инорнате приходится нести личную ответственность за артистизм своей сестры.
Было время, когда мне думалось, что я и впрямь живу богатой духовной жизнью, — впоследствии я изложил ее с детским восторгом и во всех подробностях. Вскоре, однако, чтобы заинтересовать своих слушателей, я счел необходимым несколько сократить пространные излияния, сделать их, используя все свое воображение, зрелищными. Ах, сколько сил уходит на поиски всего необычного, незатасканного!
Благодаря таким женщинам, как Саньетт, я приобрел привычку неординарно мыслить. Теперь я все превращаю в фантастическое развлечение, я одержим всем из ряда вон выходящим…
Умному человеку не составляет труда смеяться над самим собой, но смех его, если только человек этот проницателен, редко бывает искренним. Будь я Гамлетом или хотя бы клоуном с рвущимся сердцем под разноцветным шутовским нарядом, такая роль была бы для меня приемлемой. Я же считаю необходимым представить тайну чувства в комическом обличье. Я должен смеяться над самим собой, и, если смех этот «горек», я должен смеяться над смехом. Ритуал чувства требует бурлеска, и, вне зависимости от того, удачен бурлеск или нет, смех…
Однажды ночью, когда мы с Саньетт, сняв номер в гостинице, лежали в постели, мне стало вдруг тошно от тех безумных снов, которые я, смеха ради, взялся ей пересказывать. Так тошно, что я стал ее бить. Бил и вспоминал этого странного человека, Джона Раскольникова Джилсона, русского студента. Бил и кричал: «О запор желаний! О понос любви! О жизнь в жизни! О тайна бытия! О Христианская ассоциация молодых женщин! О! О!»
Когда же на ее крики прибежал коридорный, я попытался объяснить причину своего раздражения. Вот что я сказал:
«Сегодня вечером я очень нервничаю. На глазу у меня ячмень, на губе засохшая болячка, на шее прыщ от воротника, еще один прыщ в углу рта, на носу висит соленая сопля. Оттого, что я все время вытираю нос, ноздри у меня воспалены, саднят и болят.
Лоб мой покрыт такими глубокими морщинами, что он постоянно ноет, расправить же морщины я не в состоянии. Я трачу много часов в день, чтобы удалить морщины. Пытаюсь застать себя врасплох, пытаюсь разгладить лоб пальцами, пытаюсь сосредоточиться на этом — но ничего не получается. Кожа над бровями стянута в саднящий, тугой узел.
Деревянная крышка стола, бокалы на столе, шерстяное платье этой девушки, кожа под платьем — все это возбуждает и раздражает меня. Мне кажется, будто все эти вещи — дерево, стекло, шерсть, кожа — трутся о мой ячмень, о мои прыщи и болячки, причем трутся так, что не только не останавливают зуд, не превращают раздражение в настоящую боль, а еще больше усиливают, усугубляют его, доводят до того, что оно перекрывает все — истерику, отчаяние.
Я подхожу к зеркалу и выдавливаю ячмень, срываю ногтями корочку на болячке. Тру грубым рукавом пальто свои распухшие, воспаленные ноздри. Если б только можно было превратить раздражение в боль, обратить все в безумие — и таким образом спастись! Довести раздражение до настоящей боли я могу всего на несколько секунд, но вскоре боль стихает, и вновь возвращается монотонное воспалительное подергиванье. О, как мимолетна боль! — кричу я. Меня подмывает растереть все тело наждачной бумагой. На ум приходят топленое сало, сандаловое масло, слюна. В эти минуты я думаю о бархате, о Китсе, о музыке, о прочности драгоценных камней, о математике, об архитектурных сооружениях. Но увы! Облегченья все эти мысли мне не приносят».
Ни Саньетт, ни коридорный ничего не поняли. Саньетт сказала, что, насколько она могла понять, речь идет не о физическом, а о моральном раздражении. «Я пришла к выводу, — добавила она, — что он меня больше не любит, — джентльмен ведь никогда не ударит даму». Коридорный же что-то бубнил про полицию.
Чтобы выпроводить коридорного, я спросил его, приходилось ли ему слышать о маркизе де Саде или о Жиль де Ре[27]. По счастью, отель, который мы сняли, находился на Бродвее, а служащие бродвейских отелей жизнь, как правило, знают неплохо. Стоило мне произнести эти имена, как коридорный поклонился и с улыбкой скрылся за дверью. Моя Саньетт тоже не вчера родилась; она улыбнулась и снова легла в постель.
Наутро я вспомнил их многозначительные улыбки и счел за лучшее еще раз объяснить свои поступки. Нет, я вовсе не желал подчеркнуть разницу между тем, как избивает свою «супружницу» карикатурный пьяница, и тем, как бил Саньетт я. Мне просто хотелось прояснить свою позицию, окончательно расставить все точки над i.
— Когда ты думаешь обо мне, Саньетт, — сказал я, — думай не об одном, а о двух мужчинах, обо мне и о шофере внутри меня. Шофер этот — здоровенный детина в уродливом костюме из дешевого магазина готового платья. На его подошвах, стертых от ходьбы по улицам огромного города, налипли жвачка и собачьи экскременты. Руки — в перчатках из грубой шерсти. На голове котелок.
Имя этого шофера — Страсть к Воспроизводству Себе Подобных.
Во мне он расположился так же, как сидит человек в автомобиле. Его пятки давят мне на живот, коленями он упирается мне в сердце, лицом — в мозг. Его ручищи в перчатках крепко держат меня за язык; покрытые шерстью руки заткнули рот, чтобы я не мог выразить чувства, которые испытываю оттого, что его глаза устремлены прямо мне в мозг.
Изнутри он управляет теми ощущениями, которые я получаю через пальцы, глаза, язык, уши.
Можешь себе представить, каково носить в себе этого дьявола в костюме? Тебе когда-нибудь приходилось голой обниматься с одетым мужчиной? Помнишь, как врезаются в кожу пуговицы на его пиджаке, как наступают на твои голые ступни тяжелые башмаки? А теперь вообрази, что этот человек находится в тебе, что своими толстыми пальцами в шерстяных перчатках он хватает тебя за сердце и за язык, наступает своими грязными, кривыми ножищами на твою нежную, голую ножку.
Выражался я настолько витиевато, что Саньетт сумела обратить мою месть в шутку. Второе избиение она перенесла с кроткой, мягкой улыбкой.
Саньетт олицетворяет собой особый вид аудитории — это толковые, искушенные, глубоко чувствующие и вместе с тем видавшие виды театралы. В своих выступлениях я ориентируюсь именно на них, истинных почитателей искусства.
Когда-нибудь я отомщу миру и сочиню пьесу для небольшого художественного театра, куда ходят немногие избранные: любители искусства и книгочеи, школьные учителя, которые обожают травоядного Шоу, помешанные на культуре сентиментальные евреи, библиотекари, ассистенты издателей, гомосексуалисты и ассистенты гомосексуалистов, пьющие горькую газетчики, художники-декораторы и авторы рекламных буклетов.
В этой пьесе я завоюю доверие истинных театралов, польщу им, их вкусу и выбору. Я поздравлю их с тем, что истинное искусство, искусство с большой буквы они ставят выше жизнерадостной требухи.
И вот, внезапно, прервав какой-нибудь остроумный обмен репликами, вся труппа выйдет к рампе и выкрикнет в зал вещие слова Чехова:
«Лучше уж лабазнику воспитывать крыс в своих амбарах, чем буржуа баловать художника, который не может не заниматься подрывной деятельностью»[28].
Если же зрители не поймут это высказывание и встанут на сторону художника, потолок театра раздвинется и на зрительный зал выльются тонны жидкого дерьма. Если и после потопа у поклонников моего искусства не пропадет желание говорить о высоком, они смогут собраться, как это у них водится, небольшими группами и обсудить пьесу «в своем кругу».
Закончив чтение, Бальсо со вздохом швырнул трактат на землю. В детстве у него все было иначе, да и бриться до шестнадцати лет тогда строго запрещалось. Бальсо ничего не оставалось, как во всем обвинить войну, изобретение книгопечатания, точные науки прошлого века, коммунизм, мягкие фетровые шляпы, противозачаточные средства, переизбыток продовольственных магазинов, кинематограф, желтую прессу, отсутствие нормальной вентиляции в больших городах, исчезновение салунов, любовь к мягким воротничкам, распространение зарубежного искусства, крах западных ценностей, коммерциализацию и, наконец, Ренессанс, из-за которого художник вновь, в который уж раз, остался наедине с собственной личностью.
«Что есть красота как не мои страданья?» — спросил самого себя Бальсо, процитировав Марло.
И тут, словно отвечая на его вопрос, перед ним предстала стройная юная дева, омывавшая в городском фонтане свои тайные прелести. В древо его мозга вонзилась пила желания.
Дева обратилась к нему со следующими словами:
«Запечатли, о поэт, набухшие кровью цветы внезапно озарившейся в памяти близости — эту пышную листву воспоминаний. Ощути, о поэт, как раскаленное лезвие мысли незаметно скользит по дорожкам старого сада, рассекая его на части.
Но вот горячее семя преграждает ножу путь. Горячее семя обернется бурной порослью мелколесья и болотистых лесов.
Проложи путь к домам города своей памяти, о поэт! К домам, что являются наростами на коже улиц — бородавками, опухолями, прыщами, мозолями, сосками, сальными железами, твердыми и мягкими шанкрами.
Кроваво-красные, цвета искусственных десен, вывески взывают к тебе: выйди на охотничью тропу, освещенную железными цветами. Подобно муравьям, что лихорадочно копошатся под перевернутым камнем, там в истерике снуют женщины, облаченные в шелковое, пропитанное рыбьей слизью трико наслаждений. Женщины, чье единственное удовольствие в том и состоит, чтобы возбуждать пресыщенность, покуда она не распалится вновь, и новые наросты…»
Тут Бальсо прервал эти излияния и, заключив юную деву в объятья, поцеловал ее взасос. Однако стоило ему в упоении смежить веки, как он почувствовал, что обнимает твид. Бальсо открыл глаза и увидел, что держит в объятьях даму средних лет в мешковатом твидовом костюме и в очках в роговой оправе.
— Меня зовут мисс Макгини, — представилась дама. — Я не только школьная учительница, но и литератор. Давайте-ка что-нибудь обсудим.
Бальсо подмывало свернуть ей челюсть, но он вдруг обнаружил, что не в состоянии рукой пошевелить. Он попробовал выругаться, но сказал лишь:
— Как интересно. Над чем вы сейчас работаете?
— В настоящее время я пишу биографию Сэмюэла Перкинса. Мой текст отличается сухостью, логикой, ироническим звучанием, в нем есть чувство, но нет чувствительности, есть и жалость, и смех, и язвительность. Хочется надеяться, что в этой книге причудливый юмор будет сочетаться с добродушной, я бы сказала, приглушенной сатирой на жизнь человека непритязательного и скромного.
На первый взгляд «Сэмюэл Перкинс. Чутье и запах» (так я назвала свою монографию) — это не более чем прелестная история для детей. Не лишенный же проницательности взрослый обнаружит, что замысел биографии возник в голове философа-гуманиста, что это сдержанная сатира на человечество.
В качестве эпиграфа я взяла стих из Ювенала[29]: «Кого в Альпах удивит вздутый зоб? Quis tumidum guttur miratur in Alpibus?» Мне кажется, что эта цитата передаст суть всей книги.
Но вам, наверно, интересно узнать, кто такой Сэмюэл Перкинс. Сэмюэл Перкинс — биограф Е. Ф. Фицджеральда. А кто такой Фицджеральд? — спросите вы. Вы ведь, разумеется, знакомы с жизнеописанием Босуэлла, написанным Д. Б. Хобсоном. Так вот, Е. Ф. Фицджеральд — автор биографии Хобсона. Герой же моей биографии, Сэмюэл Перкинс, — автор жизнеописания Фицджеральда.
Некоторое время назад один издатель обратился ко мне с предложением создать произведение биографического жанра, и я решила написать биографию Е. Ф. Фицджеральда. Мне повезло: еще не приступив к работе над книгой, я познакомилась с Сэмюэлом Перкинсом, и тот сообщил мне, что написал биографию Фицджеральда — биографа Хобсона — биографа Босуэлла. Узнав об этом, я не только не изменила своего первоначального решения, но еще больше в нем утвердилась — буду писать биографию Перкинса и таким образом стану еще одним звеном в блестящей литературной цепочке. По-моему, со временем кто-то непременно должен будет подхватить эту эстафету, написав биографию мисс Макгини, женщины, написавшей биографию мужчины, написавшего биографию мужчины, написавшего биографию мужчины, написавшего биографию Босуэлла. И так ad infinitum[30]: все мы будем длинной вереницей брести по чертогам времени, выступая — каждый в свой черед — в роли консервной банки, привязанной к хвосту доктора Джонсона[31].
Но были у меня и другие, не менее веские причины для написания биографии Перкинса. Это был великий, хотя и довольно своеобразный человек, это была личность, жизнеописание которой представляет несомненный интерес.
В возрасте, когда черты большинства людей еще ничем не примечательны, когда формирующаяся личность еще не дала преимущества одной черте лица над другими, — уже тогда на лице Перкинса господствовал нос. Об этом я узнала, просмотрев детские фотографии Перкинса, которые мне любезно предоставил его горячий поклонник, такой же, как и я, перкинсовед Роберт Джонс, автор нашумевшей монографии «Носология».
Когда я увидела Перкинса впервые, лицо его напомнило мне тело одного моего сокурсника. В женском общежитии колледжа ходили слухи, что этот студент занимается онанизмом. Вызваны эти слухи были особым сложением его тела. Все сосуды, мышцы и жилы сходились у него в одной точке. Сходным образом и морщины на лице Перкинса, и очертания его головы, и линии бровей и подбородка словно бы сошлись воедино у него в носу.
Во время нашей первой встречи Перкинс произнес одну весьма симптоматичную для его будущих биографов фразу. Он процитировал Лукреция, которому принадлежат следующие слова: «Его нос быстрее распознавал зловонную язву или потную подмышку, чем собака чуяла припрятанную свинину». Впрочем, цитата эта, как и любая другая, верна лишь отчасти. Верна в отношении только одного этапа эстетического развития Перкинса, того периода, который я весьма произвольно назвала «экскрементальным».
Непревзойденное обоняние Перкинса можно объяснить хорошо известной теорией естественной компенсации. Всякий, кому приходилось наблюдать остроту осязания, свойственную слепому, или могучие плечи безногого, не станет оспаривать тот очевидный факт, что отсутствие одного атрибута Природа с лихвой восполняет наличием другого. В лице Сэмюэла Перкинса Природа — в который уж раз! — стремилась восстановить равновесие. Перкинс был глух и почти совершенно слеп, постоянно и без всякого толка перебирал пальцами, из его приоткрытого, пересохшего рта высовывался распухший, малоподвижный язык. Но зато нос! Его нос был инструментом поразительно чутким и благородным. В его обонянии Природа словно бы совместила все пять чувств. Она усилила этот орган сверх меры, сделав его настолько чувствительным, что он мог заменить собой все тактильные органы, вместе взятые. Перкинсу ничего не стоило перевести в запах все прочие восприятия: звук, зрение, вкус, осязание. Он мог распознать по запаху аккорд D-минор, отличить посредством обоняния скрипку от альта. Он обонял нежность бархата и жесткость железа. Про него говорили, что он может по запаху отличить равнобедренный треугольник от неравнобедренного.
Способностью передавать функции одного чувства посредством функций другого отличался, как вы знаете, не он один. Один французский поэт в сонете о гласных назвал букву «I» красной, а букву «U» синей[32]. Другой символист, отец Кастель, изобрел клавикорды, на которых исполнял цветовую мелодию. Дез Эссент, герой Гюисманса[33], пользовался органом обоняния для сочинения симфоний, которые воспринимаются не ухом, а языком.
Но только вообразите, мой новый друг и именитый поэт, сколь тяжкой была участь этого чувствительного и чувственного мужа, вынужденного давать толкование миру, сообразуясь с выводами, сделанными посредством одного лишь обоняния! Если даже нам нелегко найти Истину, то каково приходилось ему?!
Однажды Перкинс назвал при мне пять наших чувств «дорогой в никуда». «Ведь нам приходится выбирать, — пояснил он, — между запахом марихуаны, вонью Африки и зловонием разложения».
Я бы назвала пять наших чувств не «дорогой в никуда», а «кругом». Шаг вперед по окружности круга — это шаг в направлении начала. Перкинс шел по окружности круга своих чувств, от предчувствия к воплощению, от голода к насыщению, от naive[34] к умудренности, от простоты к извращению. Он шел (говоря перкинсовым языком) от запаха свежескошенной травы к запаху мускуса и вербены (от примитивного к романтическому); от вербены к поту и экскрементам (от романтического к реалистическому), и, наконец, чтобы круг замкнулся, от экскрементов он вернулся к свежескошенной траве.
Для истинного художника, впрочем, выход найдется всегда, и Перкинс его нашел. Окружность бесконечного круга — это прямая линия. А такой человек, как Перкинс, способен приблизить к бесконечности круг своего сенсорного опыта. Шаг от простоты к извращению, например, он может квалифицировать таким образом, что кривая, которая делает возвращение к простоте неизбежным, становится незаметной.
Как-то Перкинс сообщил мне, что собирается жениться. Я спросила, поймет ли его жена и сможет ли он быть счастлив с женщиной. На оба вопроса Перкинс дал отрицательный ответ, заметив, что в брак он вступает как художник. Я попросила его пояснить эту мысль, и он сказал, что человек, взявшийся подсчитать число запахов человеческого тела и обнаруживший, что число это равняется семи, — непроходимый болван, — если, конечно, речь не идет о мистическом числе «семь».
Я долго думала над этим странным разговором с мэтром, прежде чем наконец поняла истинный его смысл. В ароматах женского тела Перкинс обнаружил нескончаемые, непредсказуемые изменения и метаморфозы — мир грез, морей, дорог, лесов, очертаний, цветов, ароматов, форм. После ряда наводящих вопросов Перкинс подтвердил, что в своих предположениях я оказалась права, и признался, что из ароматов тела жены он создал архитектуру и эстетику, музыку и математику. Там было все — контрапункт, умножение, ощущение в квадрате, кубический корень опыта. По его словам, он обнаружил даже политическую иерархию благоуханий: самоуправление, управление…
Пока она говорила, Бальсо удалось высвободить одну руку, и, изловчившись, он нанес мисс Макгини страшный удар в солнечное сплетение и столкнул ее в фонтан.
Сообразив, что деревянный конь населен исключительно литераторами, находящимися в непрестанных поисках читательской аудитории, Бальсо дал себе слово больше никаких историй не слушать. За исключением разве что своей собственной.
Шагая по нескончаемому коридору, он вдруг задумался: «А где же Anus Mirabilis? Доберусь ли я до него вновь?» Ноги ныли, болела голова. Увидев небольшое кафе, примостившееся на стенке брюшной полости, Бальсо вошел, сел и заказал кружку пива. Утолив жажду, он достал из кармана газету, накрылся ею и заснул.
Ему приснилось, что он снова молод, что сидит с друзьями, такими же, как и он, любителями музыки, в Карнеги-холле, кругом прелестные девушки-калеки, которые приходят сюда, ибо Искусство — их единственное утешение, и на которых мужчины в большинстве своем взирают с нескрываемым отвращением. Но не таков Бальсо Снелл. Для него их вывернутые бедра, короткие ноги, горбы, косолапая походка, вытаращенные глаза сравнимы с причудливым орнаментом. Изуродованные конечности, свисающие головы, выпирающие грудные клетки приводили его в восторг: Бальсо всегда отдавал предпочтение несовершенному, хорошо зная простоту и незатейливость совершенства.
Увидев в толпе красавицу горбунью, он мгновенно воспылал к ней страстью. Высокий рост и выдающийся горб делали ее похожей на какого-то доисторического ящера, вынырнувшего из морских глубин. Если б не завязанный в узел позвоночник, ее рост достигал бы семи футов. Вдобавок, как и все горбуньи, она была чертовски умна.
Бальсо приподнял шляпу, она улыбнулась, он взял ее под руку и вскричал:
— О, арабеска! Я, Бальсо Снелл, заменю тебе музыку! Теперь ты будешь получать от жизни истинное удовольствие. Тебе не придется больше предаваться дурным мыслям. Для меня твои язвы подобны цветам. Свежие, розовые, под стать бутонам, язвы. Язвы, точно распустившиеся розы. Нежные, хранящие семя язвы. Я буду лелеять их все до одной. О, отклонение от Золотой Середины! О, отбившаяся от стаи!
Малютка (ибо так он ее немедленно прозвал) открыла рот, чтобы ему ответить, и продемонстрировала сто сорок четыре безукоризненных зуба в четыре ряда.
— Бальсо, — сказала она, — ты — негодяй. Признавайся, ты и любишь как все негодяи?
— Нет, — ответил Бальсо. — Вот как я люблю. — И с этими словами он положил свои прохладные белые руки на ее мрамрный гидроцефалический лоб, после чего, перегнувшись через огромный горб, запечатлел на ее челе нежнейший поцелуй.
Ощутив его губы на своем лбу, Джейни Дейвенпорт (она же — Малютка) выглянула из-за голубой средиземноморской волны и испытала восторг оттого, что молода, богата, красива. Те, кто сохранил в памяти ее устрашающую внешность, не могли не понимать, насколько прекрасна ее душа. Никогда прежде не испытывала она трепета из-за того, что ею овладевает самец из чужой земли, из земли ее сновидений. И вот сейчас она обрела удивительного поэта; испытала трепет, прежде ей неведомый… испытала трепет в могучих объятьях этого молодого и высокого, этого несказанно мудрого человека, который, как и она, попал в величайшие из известных человеческому сердцу сетей — в сети Любви.
Бальсо проводил Малютку домой и в подъезде попытался овладеть ею. Она дала поцеловать себя всего один раз, после чего решительно вырвалась из его объятий. С ее губ, над которыми нависал выпученный глаз и под которыми топорщился мощный зоб, сорвалось:
— Любовь — странная штука, не так ли, Бальсо Снелл?
Бальсо боялся рассмеяться; он знал: стоит только ему улыбнуться, и спектакль тут же закончится.
— Любовь, — вздохнула она, — прекрасна. Ты, Бальсо, не любишь. Любовь священна. Как можешь ты целовать, если не любишь?
Когда он начал расстегивать на ней платье, она с безрассудной улыбкой обронила:
— Хотел бы ты, чтобы с твоей сестрой обошлись так же, как ты обходишься сейчас со мной? Так вот, оказывается, зачем ты пригласил меня на ужин! Нет, уж лучше музыка!
Он предпринял еще одну попытку, но она его оттолкнула:
— Любовь для меня священна, мистер Снелл. Я никогда не уроню любовь или себя, или память о своей матери, — и где, в подъезде! Ведите себя пристойно, мистер Снелл. Пасть в подъезде в моем-то возрасте! Как вы смеете?! Есть же, в конце концов, вечные истины, не говоря уж о привратнике. Нас с вами ведь даже толком не познакомили.
После получасовой борьбы ему все же удалось немного ее разогреть. Она на мгновение крепко прижала его к себе и закатила зрачки.
— Если б только ты любил меня, Бальсо! — вырвалось у нее. — Если б только ты любил меня…
Он заглянул ей в выпученный глаз, погладил горб и с чувством поцеловал в мраморный лоб.
— Но ведь я действительно люблю тебя, Джейни. Люблю. Люблю. Клянусь. Ты должна быть моей. Должна! Должна!
Она оттолкнула его с грустной, но решительной улыбкой:
— Сначала тебе придется доказать свою любовь, как это делали в старину рыцари.
— Я готов, — вскричал Бальсо. — Что я должен сделать?
— Пойдем ко мне — все узнаешь.
Бальсо последовал за Малюткой в ее квартиру и сел рядом с ней на диван.
— Я хочу, чтобы ты убил человека по имени Бигль Дарвин[35], - сказала она тоном, не терпящим возражений. — Он жестоко меня обманул. В этом горбу я ношу его ребенка. После того, как ты его убьешь, я отдам тебе на поруганье свое бело-розовое тело, а затем покончу с собой.
— По рукам, — сказал Бальсо. — Дай же мне хотя бы свой чулок: я надену его на шляпу и совершу подвиг во имя нашей любви.
— Не торопись, мой рыцарь. Позволь мне сначала кое-что тебе объяснить. Мне так понравилось, как Бигль Дарвин читает вслух свои стихи, что однажды вечером, когда родители уехали к друзьям в Плейнфилд, штат Нью-Джерси, я ему отдалась. Он сказал, что любит меня и хочет взять с собой в Париж, где мы будем жить в studio, и я по своей наивности ему поверила. Я была ужасно счастлива, пока не получила от него письмо. Вот оно.
И Малютка достала из секретера два письма, одно из которых протянула Бальсо.
Дорогая Джейни!
Ты никак не хочешь меня понять. Пожалуйста, пойми: брать тебя с собой в Париж я отказываюсь ради твоего же блага. Я глубоко убежден: такое путешествие кончится твоей смертью.
Вот как ты умрешь.
Ты сидишь в пижаме у окна, Джейни, и прислушиваешься к легкомысленному шуму парижской жизни. Автомобили гудят так весело, так призывно, что кажется, будто каждый день здесь — праздник. Ты же глубоко несчастна.
Вот что ты себе говоришь. Ах, празднично одетые люди спешат мимо моего окна. Я же похожа на старого актера, который, бормоча себе под нос монолог Макбета, роется в мусорном баке у входа в театр, где еще совсем недавно его встречали громом аплодисментов. А ведь я не стара, я молода. Молода, а между тем мне нечего вспомнить, на мою долю не выпадали ни успехи, ни аплодисменты. Об успехах мне приходилось только мечтать. Я — Джейни Дейвенпорт, беременная, незамужняя, никем нелюбимая, одинокая — смотрю, как под моим окном нескончаемым потоком спешат веселые, смеющиеся люди.
На этом празднике жизни я чужая. Я в эту жизнь не вписываюсь. И в его жизнь тоже. Он терпит меня только ради моего тела. Ему от меня нужно только одно, а мне… мне нужна любовь. Боже, как мне нужна любовь!
«Бред», «бред» — целыми днями только от него и слышишь: это бред, то бред. И имеет он в виду меня. Я — бред. Всё и всех вокруг он называет «бредом» — себя, меня. Конечно, я могу вместе с ним посмеяться над мамой или над домашним очагом — но почему надо называть мою мать и мой дом «бредом»?! Смеяться над Хоби, Джоан я могу сколько угодно, но над собой смеяться не дам. Мне надоело смеяться, смеяться, смеяться. Не осталось ничего, над чем бы он не смеялся, подонок. Во мне же есть такое, над чем я смеяться не стану. Над окружающим я готова смеяться столько, сколько он захочет, но над своим внутренним миром я смеяться не хочу. Не хочу и не буду. Хорошо ему говорить: «Не распускай нюни! Будь жестче! Будь интеллектуалкой! Думай, а не чувствуй!» А я хочу быть не жесткой, а нежной. Я хочу чувствовать. Я не хочу думать. Когда я думаю, мне плохо. Жесткой я хочу быть по отношению к миру, нежной по отношению к нему. Внешне — жесткой, внутренне — нежной. И мне хочется, чтобы и он вел себя так же. Чтобы ни он, ни я не сомневались в любви друг друга. Он же, как раз когда мне хочется ласки, когда хочется поговорить с ним по душам, начинает грубо, гадко шутить. Когда я чувствую себя особенно незащищенной, он хохмит. Я не хочу все время быть настороже. Бывает, что мне хочется поднять забрало. Мне надоело смотреть на мир с опаской. Любовь — это родство душ, а не предлог для ведения интеллектульных баталий. От своих эмоций я хочу получать удовольствие. Мне хочется, чтобы со мной хоть иногда обращались как с ребенком и чтобы ласкали как ребенка — нежно, доверчиво. А его насмешки и подначки мне осточертели.
Я беременна, я не замужем — он ни за что на мне не женится. Если же я его попрошу взять меня в жены, он разразится своим грубым, жутким смехом: «Что, цыганочка, надоело вести кочевую жизнь, да? Ничего не поделаешь, жизнь есть жизнь. Надо смотреть правде в глаза. Так не бывает, чтобы и рыбку съесть… и костью не подавиться». А друзьям подаст всю историю в виде шутки. Шутки у него те еще… И эти самодовольные кретины будут вместе с ним надо мной смеяться. Особенно эта девка. Пейдж.
Я им не нравлюсь — выпадаю из их круга. Всю жизнь была изгоем, всю жизнь никуда не вписывалась. Праздничные толпы всегда спешили мимо моего окна. Ребенком я никогда не любила играть на улице с другими детьми; мне хотелось одного: сидеть дома и читать книжку. С тех пор как умер отец, мне некому пожаловаться. Он-то всегда был готов войти в мое положение. Понять меня и утешить. Боже, как хочется, чтобы меня поняли, полюбили. Мама, как и Бигль, вечно надо мной смеется. Когда они со мной ласковы, то кричат: «Эй, глупая гусыня!» Когда сердятся: «Не будь идиоткой!» Только один отец меня жалел, да и тот умер. Вот бы и мне умереть!
Джоан Хиггинс знала бы, что делать, будь она в моем положении, — беременна и не замужем. Джоан вписывается в ту жизнь, которая ему и его дружкам удается лучше, чем мне. В свое время она обмолвилась, что вернулась к Хоби, потому что ей надоело бегать за здоровыми, полноценными мужчинами. Джоан меня отговаривала, говорила, что он мне не подходит. А мне казалось, что очень даже подходит, — ведь он меланхолик и поэт. Да, он грустит, но даже грусть у него какая-то отвратительная: сам же над ней и смеется: «А все из-за войны. В наше время все грустят. Великая вещь — пессимизм». И все же он печален; если б только он перестал кривляться, мы могли бы быть счастливы, очень счастливы. Мне так хочется его утешить — приласкать.
Джоан, вероятно, посоветовала бы заставить его на мне жениться. Представляю, как бы он поднял меня на смех: «Хочешь, чтоб я сделал из тебя честную девушку, а?»
Из окна тебе видно кафе «Carcas». Ты живешь на Рю де ля Гранд Шомьер, в отеле «Liberia».
Почему мне не сидится в «Carcas»? Джоан бы чувствовала себя там отлично. Почему я им не нравлюсь? Ведь я такая же хорошенькая, как она, и ничуть не глупее. А все потому, что я, в отличие от нее, держу себя в руках. Не веду разгульный образ жизни. Да мне и не хочется. Что-то есть во мне такое, отчего мне не хочется себя ронять.
Ты видишь, как я выхожу из кафе, как смеюсь и размахиваю руками.
Хоть бы он поднялся наверх!
Ты видишь, как я поворачиваюсь и иду в сторону отеля.
Пусть только придет — скажу ему, что беременна. Скажу самым обычным голосом, как бы между прочим. Если сказать спокойно, без истерики, поднять меня на смех он не сможет.
— Привет, дорогая. Как дела?
— Знаешь, Бигль, je suis enceinte[36].
— Что-что?!
(Проклятое произношение! Все испортила.)
— Я беременна.
Несмотря не желание казаться спокойной, твой голос предательски дрожит. В глазах тоска.
— Надо будет по такому случаю устроить прием.
Я выхожу из комнаты, однако дверью не хлопаю.
А вдруг он больше никогда не вернется?.. Ты подбегаешь к окну. У тебя подкашиваются ноги. Ты садишься и начинаешь страдать. Ты упиваешься своим несчастьем, лелеешь его. Я беременна! Я беременна! Загоняешь этот истошный крик себе в кровь. Когда первые, самые тяжелые минуты позади, ты накрываешься своей тяжкой судьбой, точно одеялом, — с головой. Главное несчастье твоей жизни служит тебе прибежищем от тысяч мелких неурядиц. Ты так несчастна.
Ты вспоминаешь, что «жизнь — это тюрьма без решеток на окнах», и думаешь о самоубийстве.
Никто меня не слушает, когда я говорю о самоубийстве. И он — прежде всего. Когда я проснулась ночью в одной с ним постели и пожаловалась, что часто думаю о смерти, он решил, что я шучу. А я говорила правду. Смерть и самоубийство — это то, о чем я размышляю постоянно. Я сказала, что умереть — это все равно что надеть мокрый купальник. Теперь же смерть кажется мне совсем другой — теплой и ласковой. Нет, смерть все-таки похожа на мокрый купальник — от нее мороз по коже.
Если я решусь на самоубийство, посмертной записки ни за что ему не оставлю — не хочу, чтобы надо мной смеялись. Покончу с жизнью — и все. Что бы я в этой записке ни написала, он всегда найдет, над чем посмеяться, чем посмешить друзей…
Мама знает, что я живу в Париже, с мужчиной. Софи написала, что все только обо мне и говорят, и если б я поехала домой, если б не была беременной, мама бы меня поедом ела. Нет, в Штаты я возвращаться не намерена — что за радость сначала месяц по морю плыть, а потом всю оставшуюся жизнь в начальной школе преподавать!
Что от него ждать? Наверняка захочет, чтобы я сделала аборт. Сейчас, говорят, из-за падения рождаемости хорошего гинеколога не найти. Да и французская полиция лютует. Если я умру под ножом…
Убить себя значит убить свое тело, а его я убивать не хочу — оно у меня хорошее: мягкое, белое; оно любит меня — красивое, счастливое тело. Будь он и в самом деле настоящим поэтом, он любил бы меня за красоту моего тела. У него же, как и у всех мужчин, одно на уме. Скоро тело мое распухнет, станет тяжелым, неуклюжим. Говорят, после аборта женская грудь из-за поступающего молока теряет форму. Когда грудь у меня испортится, он меня возненавидит. Было время, когда я надеялась: вот рожу ему ребенка, привяжу к себе, и он будет любить меня, как родную мать. Но он признает только одну мать — Мамми из популярного Бродвейского мюзикла: «Мамми, где ты, Мамми, где мой дом в Майами?» Никакой другой матери для него не существует. Он не понимает, что мать — это прибежище, любовь, близость. Боже, как мне не хватает любви!
Подними я крик, мама наверняка заставила бы его на мне жениться. Но она бы ужасно ругалась, поносила его последними словами. Свадьбы под дулом пистолета я просто не переживу — я и без того измучилась, исстрадалась.
А что, если у меня просто задержка из-за вина? Нет, быть такого не может. Где это я прочла: «Лес рук и ног во чреве у меня»? Уж не его ли это стишки? Уходя, он сказал: «Ради такого случая надо будет устроить прием». Представляю, чем это кончится. Напьется и будет произносить тосты: «Выпьем же за брюхо и за брюхатых. И за щеночка, моя ненаглядная! Эй, официанты, стоять по стойке „смирно", когда я подымаю бокал за своего наследника!» Устроит с дружками балаган и еще будет требовать, чтобы я в нем принимала участие. Веселиться так веселиться!
Он утверждает, что если уж кончать с собой, то на могиле Чехова. В Париже, впрочем, самоубийств тоже хватает: «Средь парижского шума…», «Она убила себя в Париже». Уже в самой мысли об этом есть что-то невыразимо трагическое. У французов окна начинаются от пола, поэтому рассчитаться с жизнью ничего не стоит: открыл окно и вышел… Начиная с третьего этажа каждое окно — райские врата. То-то на небесах моему животу удивятся. Что это я в черный юмор ударилась? Он, кстати, слово «юмор» терпеть не может. «Юмор»? Не «юмор», моя ненаглядная, а «шутка» — никогда не употребляй слово «юмор».
Боже, как я несчастна! Мне так не хватает любви. Жить не могу без тепла, без ласки. Если б я выпрыгнула с третьего этажа, только бы покалечилась. По счастью, наша комната на четвертом. По счастью? Хорошенькое счастье! (Животные, те никогда с собой не кончают.)
А мама? Что скажет мама, когда ей сообщат, что я свела счеты с жизнью? Мама куда больше расстроится, если узнает, что я не замужем. Могу оставить ему записку, в которой попрошу написать ей, что мы поженились. Должен же он выполнить мою последнюю просьбу! Наверняка забудет.
Не зря говорят, что смерть избавляет. Со смертью решатся все мои проблемы. Мама, Бигль, все остальные оставят меня в покое. Но во всем винить его одного я не могу. Я ведь сама все затеяла. В конце концов, я сама пришла тогда к нему в комнату — в моей комнате он вел себя вполне пристойно. Я ревновала его к Джоан — вот кто любит таскаться по мужским спальням, и не только таскаться. Сейчас Джоан со всеми своими причудами кажется мне такой смешной, такой наивной. Дитя малое!
Когда я уйду из жизни, весь мир — Бигль, мама — уйдут из жизни вместе со мной. Or aussi[37], в Париж ведь я приехала учить французский. И учила. Учила, да не выучила. Это слово произнесла так, что вместо сочувствия вызвала смех.
А ведь мне так хотелось родить ребенка от любимого человека, да еще в Париже! Если он вдруг вернется и застанет меня у раскрытого окна с моими мыслями, то обязательно скажет: «У тебя, моя ненаглядная, хорошие шансы убить одним выстрелом сразу двух зайцев. Говорят, впрочем, и другое: за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». Какая же он свинья! Думает, мне не хватит силы воли убить себя. Опекает меня, как будто я маленькая девочка. «Когда самоубийство совершает русская красавица — это прелестная причуда; когда же с собой кончаешь ты, дорогая Джейни, — это сущий бред! Не морочь мне голову».
Ты обижаешься и кричишь: «Неправда! Я никому не морочу голову! Я всерьез! Да! Да! Я не хочу жить! Я несчастна! Я не хочу жить!»
Стоя у открытого окна, я лишь дразню себя мыслями о самоубийстве. Я этого никогда не сделаю. «Отойди от окна, дура! — крикнет мама. — Простудишься и умрешь или из окна вывалишься, дуреха неповоротливая!»
При слове «неповоротливая» ты выпадаешь из окна и разбиваешься насмерть.
Ужасно, да? Теперь ты понимаешь, Джейни, что, отказавшись взять тебя с собой в Париж, я спас тебя от самоубийства.
Твой Бигль.
Когда Бальсо кончил читать первое письмо, она протянула ему второе.
Дорогая Джейни, надеюсь, ты на меня за мое письмо не в обиде. Поверь, мне хотелось описать, как ты покончила с собой, со всей возможной беспристрастностью. Я постарался изобразить нас обоих с поистине научной объективностью, и если с тобой я поступил жестоко, то и с собой ничуть не лучше. Верно, в основном я сосредоточился на тебе, но лишь потому, что совершила самоубийство ты, а не я. В этом письме попробую рассказать, как я воспринял твою смерть.
Ты как-то обмолвилась, что я говорю книжным языком. На самом деле я не только говорю, но думаю и чувствую как человек книги. Я прожил книжную жизнь; литература оказала глубочайшее воздействие на мой образ мысли, окрасила его, если угодно, в определенный цвет. Подобный литературный окрас носит мимикрический характер, подобно бурому цвету кролика или клетчатому оперению перепела, в результате чего даже мне трудно сказать, где кончается литература и начинаюсь я сам.
Начинаю с того места, которым закончилось первое письмо.
Когда на мостовую перед домом рухнуло полуобнаженное тело Джейни, толпы людей, как обычно, спешили в кафе и рестораны из мастерской Коларосси на Гранд-Шомьер. В это же время на улицу из боковой двери выходил консьерж. Таксист, выезжавший с Рю Нотр-Дам де Шан, направлявшийся в сторону сквера на улице Гранд-Шомьер и заметивший на мостовой ее тело, резко затормозил. Увидев, что таксист чуть не задавил лежавшего на мостовой жильца его дома, консьерж подбежал к машине, схватил таксиста за руку и стал кричать: «Полиция! Полиция!» Только шофер такси видел, как в действительности обстояло дело; он пришел в бешенство, обозвал консьержа «идиотом» и показал на открытое окно, откуда выпала Джейни. Вокруг таксиста образовалась толпа, поднялся крик. Прибыл полицейский — он тоже не поверил таксисту, хотя и заметил, что разбившаяся девушка была в пижаме. «Что, по-вашему, она могла делать на улице в пижаме?» — «От этих американок всего можно ждать», — возразил полицейский, пожимая плечами.
Бигль, который как раз в это время шел пропустить рюмку-другую в «Carcas», увидел, как на улице вокруг такси собирается толпа, и подошел посмотреть, что произошло: в такое унылое, пасмурное утро он был рад любому развлечению. Присоединившись к толпе, он вспомнил слова Джейни: «Я беременна». Вспомнились ему и другие ее слова: «Пора бы мне завести любовника». Первое высказывание ассоциировалось у него с Жизнью, второе — почему-то — с Любовью. Она вообще имела обыкновение бросать совершенно неожиданные реплики — всего несколько слов, но каких глубокомысленных!
Он понимал, зачем она сообщила ему, что беременна. Чтобы с помощью его друзей найти врача, который бы согласился сделать аборт. И еще чтобы получить из Штатов в ответ на истерические письма необходимую для операции сумму. Ловко устроилась: переложила на него ответственность, а сама, бедняжка, мученица, страдалица, страстотерпица, забилась в угол: «Делайте со мной что хотите. Что будет, то будет. Семь бед — один ответ».
В толпе кто-то обмолвился, что погибла девушка. Он посмотрел туда, куда указывал таксист, и увидел открытое окно в их комнату. В следующий момент он увидел под колесами такси Джейни. Лица ее он не разглядел, зато пижаму узнал сразу.
Вот как она ему отомстила! И вдобавок решила все свои проблемы. Он выбрался из толпы и заспешил прочь, боясь, как бы его не узнали. Теперь идти в «Carcas» было нельзя: наверняка найдется какой-нибудь знакомый, который тут же, стоит только ему войти, бросится ему навстречу: «Бигль! Бигль! Джейни покончила с собой!» Он решил где-нибудь скрыться и подготовить ответ. Фразочкой типа «Подумаешь, умерла. Все мы смертны» — не отговоришься, даже в «Carcas».
Он миновал кафе, поднялся по Рю Делямбр, свернул на Авеню де Мэн, зашел в кафе, где американцы бывают довольно редко, и, сев за угловой столик в задней комнате и спросив коньяку, задумался.
Ей уже ничем не поможешь. Что было делать? Ползать на коленях по тротуару и оплакивать ее труп? Рвать на себе волосы? Взывать к богам? А может, надо было спокойно подойти к полицейскому и сказать: «Я — ее муж. Позвольте мне сопровождать тело в морг».
Он заказал еще коньяку. Бигль Дарвин — душегуб. Он надвинул шляпу на глаза и осушил бокал.
Она пошла на это, потому что была беременна. Вот дура — я бы на ней женился. Я ведь нарочно говорил ей, что у нее плохое произношение. «Je suis enceinte». Я, помнится, сказал «Что-что?», но не переспрашивая, а выражая удивление. Неправда. Ты сказал «Что - что?», желая ее унизить. Зачем было постоянно издеваться над ее охами и ахами? К чему возмущаться глупостью других? Ты-то чем умнее? Можно подумать, что сам не сюсюкаешь. Почему ее поступки ты оценивал лишь с точки зрения эстетических, а не этических категорий? Она убила себя, потому что боялась бросить вызов судьбе. Боялась аборта, боялась родов, боялась за своего ублюдка. Бред. Она ведь никогда не просила тебя на ней жениться. Ничего ты не понимаешь.
Он сидел сгорбившись, словно готовый к прыжку тигр. Тигр Дарвин: хищный взгляд полуприкрытых глаз.
Интересно, удалось ли ей перед самоубийством избежать вечных тем? Уверен, голова у нее была забита не выпавшими на ее долю несчастьями, а какими-то обрывками «философии». Хоть я и сделал все возможное, чтобы высмеять finita la comedia, — эту или подобную фразу она наверняка твердила перед тем, как выкинуть свой номер. Вероятно, она сочла, что Любовь, Жизнь и Смерть можно совместить в одном афоризме: «Вещи, которые ценятся в этой Жизни, пусты, непрочны и никудышны; Любовь — это всего лишь мимолетная тень, соблазн, мишура, безделица. А Смерть? — Пустое! Что же в таком случае удерживает вас в этой юдоли скорби?» Чем объяснить, что в подобном высказывании форма выражения заботит меня больше всего? А может, все дело в том, что в самоубийстве есть что-то высокохудожественное? Самоубийство. Вертер, Космический порыв, Душа, Поиск… Отто Гринбаум: студенческое братство «Фи-бета-каппа»[38], семнадцатилетний возраст — «Жизнь его недостойна». Холдингтон Нейп: Оксфорд, литератор, жуир, большой человек — «Жизнь слишком тяжела». Терри Корнфлауэр: поэт, без шляпы, рубаха нараспашку — «Жизнь слишком сурова». И Джейни Дейвенпорт: беременна, не замужем, выпрыгивает из окна парижской studio — «Жизнь слишком трудна». Все, и О. Гринбаум, и X. Нейп, и Т. Корнфлауэр, и Дж. Дейвенпорт, согласятся, что «жизнь — это не более чем просвет от утробы до гроба; не более чем вздох, улыбка; это озноб, лихорадка; это приступ боли, спазм сладострастия. Но вот послед-ний, судорожный вздох — и комедия кончена, песня спета, опустите занавес, клоун мертв».
Клоун мертв; занавес упал. И когда я говорю «клоун», я имею в виду тебя. В конце концов, разве все мы… разве все мы не клоуны? Конечно, я понимаю, это старая история — но какая, в сущности, разница? Жизнь — театр, мы — клоуны. Что может быть трагичнее роли клоуна? В ком, скажите, больше жалости и иронии — того, без чего не бывает великого искусства. Неужели не ясно? Перед тобой тысячи потных, смеющихся, гримасничающих, скалящихся животных; не успел ты рассадить их по местам, как входит вестник. Твоя жена сбежала с квартирантом, твой сын убил человека, у твоего младенца рак. А может, и жены никакой нет? Нет и не было? Выходя из ванной, ты обнаруживаешь, что у тебя гонорея, или же ты получаешь телеграмму, что у тебя умерла мать, или отец, или сестра, или брат. А теперь представь. После твоего выхода зрители визжат от восторга: «Еще разок, приятель! Бигля на сцену! Хотим Бигля! Бигль — то, что надо!» Клоуны у рампы смеются, свистят, рыгают, кричат, потеют и щелкают орешки. А ты? Ты — за кулисами, прячешься в тени какого-то старого бутафорского щита. Сжимаешь обеими руками раскалывающуюся от боли голову и ничего, кроме глухого рева собственных невзгод, не слышишь. Сквозь стиснутые пальцы просачиваются крики твоих братьев клоунов. Первое, что приходит тебе в голову, — это броситься к рампе и, разразившись напоследок громким хохотом, перерезать себе глотку прямо у клоунов на глазах. Но вскоре ты опять выбегаешь на сцену и делаешь свое дело. Ты все тот же непревзойденный Бигль: танцуешь, смеешься, поешь — играешь. Наконец занавес опускается, и в уборной, перед зеркалом ты строишь такие гримасы, которые с румянами и гримом не сойдут. Гримасы, которые на сцене тебе не состроить никогда.
Бигль заказал еще один бокал коньяка и запил его жидким пивом. Число картонных кружочков из-под коньячных бокалов растет.
Да, пошутила Дженни неплохо. Молодая незамужняя женщина совершает самоубийство, узнав, что она беременна. Старый как мир способ решить старую как мир проблему. Мотылек и свеча, муха и паук, бабочка и дождь, клоун и занавес — проблемы (увы!) одни и те же.
Еще один бокал коньяка! Вот выпьет и пойдет в «Carcas», где будет ждать, когда его известят о смерти Джейни.
Как я восприму эту ужасную новость? Во избежание недоброжелательной критики необходимо иметь в виду, что я — англосакс и, стало быть, в трудную минуту должен быть холоден, спокоен, собран, почти флегматичен. А поскольку речь в данном случае идет о смерти очень близкого человека, мне следует дать понять, что я, хоть и держу себя в руках, случившееся переживаю очень тяжело. А может, учитывая, что «Carcas» — кафе артистическое, стоит напустить на себя рассеянный вид, отказаться покидать башню из слоновой кости, отказаться тревожить свою душу, эту задумчивую белую птицу? Легкий взмах руки: «В самом деле? Не может быть. Мертва…» Можно предстать в своей любимой роли Ниспровергателя вечных истин и прокричать: «Смерть, что это? Жизнь, что это? Жизнь — это ведь отсутствие Смерти, а Смерть — всего-навсего отсутствие Жизни». Но тем самым я могу вступить в полемику, а тому, кто оплакивает потерю возлюбленной, полемика не пристала. Ради официантов я буду Б. Дарвином, спокойным, трезвым, выдержанным господином с зонтиком под мышкой, который в величайшей печали прорыдает: «О, моя незабвенная! Почему ты это сделала? О, почему?» Или же, что будет лучше всего, скажусь, подобно Гамлету, безумным. Ведь если они обнаружат, что скрывается у меня на сердце, они меня линчуют.
ВЕСТНИК:
Бигль! Бигль! Джейни выпала из окна — ее больше нет.
ПОСЕТИТЕЛИ, ОФИЦИАНТЫ И ДР. В КАФЕ «CARCAS»: Девушка, с которой ты жил, мертва.
Бедная Джейни. Бедный Бигль. Ужасная, ужасная смерть. И такая молодая, такая красивая… лежит на холодной мостовой.
Б. ГАМЛЕТ ДАРВИН: Бромий! Иакх![39] Сын Зевса!
ПОСЕТИТЕЛИ, ОФИЦИАНТЫ И ДР.:
Ты что, не понял, дружище? Подружка, с которой ты жил, померла. Зазноба твоя на том свете. С собой покончила. Отдала концы!
Б. ГАМЛЕТ ДАРВИН: Бромий! Иакх! Сын Зевса!
ПОСЕТИТЕЛИ, ОФИЦИАНТЫ И ДР.: Он пьян.
Греческие боги! Неужто он думает, будто нам неизвестно, что он методист?
Сейчас не время богохульствовать! Дурак он и есть дурак.
Да, напейся из Пиерийского источника или… И все же очень колоритно: «Бромий! Иакх!» Очень колоритно.
Б. ГАМЛЕТ ДАРВИН:
О, esca vermium! О, massa pulveris![40] Где Богач? Тот, что много ел?[41] Он и сам еще не съеден.
ПОСЕТИТЕЛИ, ОФИЦИАНТЫ И ДР.: Загадка! Загадка! Он ищет приятеля.
Он что-то потерял. Скажите ему, пусть посмотрит под столом.
ВЕСТНИК:
Он хочет сказать, что черви съели Богача, а когда умерли сами, были съедены другими червями.
Б. ГАМЛЕТ ДАРВИН:
Ну-ка, говорите, куда девался Самсон — сильнейший из людей? Он даже уже не слаб. И где, о скажите, прекрасный Аполлон? Он даже уже не уродлив. А где снега прошлых лет? И где Том Джайлз? Билл Тейлор? Джейк Холц? Иными словами: «Сегодня с нами, а завтра — с червями».
ВЕСТНИК:
Да, то, что он говорит, увы, — чистая правда. Ввиду печальной кончины, о которой зашла речь, мы замираем средь давки и сутолоки нашей суматошной жизни и задумываемся над словами поэта, сказавшего, что мы «nourriture des vers!»[42]. Продолжай же, дорогой товарищ по несчастью, мы внимаем каждому твоему слову.
Б. ГАМЛЕТ ДАРВИН:
Начну с самого начала, друзья.
Сижу я со своими друзьями, веселюсь, как вдруг в кафе вступает вестник. Входит и кричит: «Бигль! Бигль! Дженни покончила с собой!» Я вскакиваю, лицо, не буду от вас скрывать, белое как бумага, и в тоске истошно кричу: «Бромий! Иакх! Сын Зевса!» И тогда вы вопрошаете, отчего это я так громко взываю к Дионисию. А я продолжаю свое:
«Дионисий! Дионисий! Я взываю к богу вина, ибо зачатие его и рождение не имели ничего общего с зачатием и рождением Джейни, равно как и с вашим и моим зачатием и рождением. Я взываю к Дионисию, дабы объяснить причину случившегося. Причину той трагедии, что является не только трагедией Джейни, но и трагедией для всех нас.
Кто из нас может похвастаться, что он, как Дионисий, родился три раза — один раз из чрева «злополучной Семелы», один раз из бедра Зевса и один раз из пламени? Кто может сказать, как Христос, что он был рожден от девы? Или кто возьмется утверждать, что он появился на свет как Гаргантюа? Увы, ни один из нас. И тем не менее все мы должны не ударить лицом в грязь — как не ударила лицом в грязь Джейни — перед трижды рожденным Дионисием, перед Сыном Божьим Христом, перед Гаргантюа, родившимся на свет из требухи на достопамятном пиршестве. Ты слышишь гром, видишь молнию, вдыхаешь запах леса, ты пьешь вино — и еще пытаешься быть таким, каким был Христос, Дионисий, Гаргантюа! Ты, родившийся из утробы, покрытый слизью и испачканный кровью, в криках, исполненных тоски и страдания.
При твоем рождении вместо Волхвов, Голубя, Вифлеемской звезды присутствовал лишь старый доктор Хаазеншвейц в резиновых перчатках и с перекинутым через руку полотенцем, отчего очень походил на официанта.
А как твой влюбленный отец пришел к своей возлюбленной? (Весь погожий летний день он просидел в офисе и по дороге видел на улице двух собак.) Он что, явился ей в обличье лебедя, быка или золотого дождя? Ничего подобного! Вышел из ванной в мятых брюках со спущенными подтяжками…»
Б. Гамлет Дарвин навис над недопитым бокалом коньяка, а в театре своего воображения — над объятым ужасом зрительным залом. Решительный, галантный, непоколебимый, обаятельный Бигль Дионисий Гамлет Дарвин. Могучее его сердце содрогнулось от нежданного прилива глубоких чувств к человечеству. Он задохнулся от нахлынувших на него эмоций и осознал всю истинность своих наблюдений. Борьба за жизнь, которую вели его слушатели, была и впрямь жестокой; животные бы такой борьбы за существование не выдержали.
Он поднял руку, словно благословляя посетителей и официантов, и в кафе все смолкло. «Ах, дети мои, — пробормотал он едва слышно, однако прочувствованно, после чего, окинув кафе «Carcas» затуманенным от слез орлиным взором, вскричал: — И все же, ах, и все же вам приходится бросать вызов Христу, чей отец — Бог, Дионисию, чей отец — Бог! Вам, таким же, как Джейни Дейвенпорт. Вам, зачатым как попало дождливым осенним днем».
«Коньяк! Коньяк!»
Повторив на бис свой душещипательный монолог, он растаял во мраке сцены и возник перед занавесом уже в роли клоуна. Чтобы финал получился как можно более драматичным, он воздел над головой Башню из слоновой кости, Безмолвную белую птицу, Святой Грааль, Гвозди, Бич, Терновый Венец и обломок Святого и Истинного Креста.
Твой Бигль.
— И что вы о них думаете?
Бальсо пробудился от сна и увидел мисс Макгини, биографа Сэмюэля Перкинса, сидевшую с ним за столиком.
— О ком — о них?
— О тех двух письмах, которые вы только что прочли, — нетерпеливо сказала мисс Макгини. — Они являются составной частью романа, который я сейчас пишу. Эпистолярного романа в духе Ричардсона. Скажите прямо: эпистолярный стиль очень устарел?
Бальсо выспался, немного отдохнул и взирал теперь на свою собеседницу не без интереса. А у нее неплохая фигура. Решив ей угодить, он сказал:
— Могучим ветром дует с твоих страниц — и читатель падает ниц… Колдовство и безумие. Чем не Джордж Бернард Шоу? Это драма страсти, которая привлекает своей первозданностью и многоголосьем. Истинный Джордж Бернард Шоу. По страницам романа разлита магия, они пронизаны глубоким и теплым чувством к чуждому племени.
— Благодарю, — не тратя слов попусту, сказала она.
Как благородна благодарная женщина, подумал Бальсо. Он вновь ощутил себя молодым: горбушка хлеба, головка сыра, бутылка вина, яблоко. Звучные голоса, голые тела, солнце. Юность, колледж… Дни полны впечатлений, ночи — страстей, дни несутся ревущим потоком.
— О-о! — воскликнул Бальсо, погрузившись в воспоминания молодости. — О-о! — Произнося «о-о», его губы исказились в болезненной гримасе: так страдает цыпленок, несясь утиными яйцами.
— Что «о-о»? — У Мисс Макгини его эмоциональность вызывала явное раздражение.
— Ах, я однажды любил одну девушку. Целыми днями она только и делала, что раскладывала кусочки мяса на лепестки цветов. Она задушила розу маслом и крошками от пирога, марая ее свежие, изящные лепестки соусом и сыром. Ей хотелось, чтобы роза привлекала к себе мух, а не бабочек или пчел. Из своего сада ей хотелось сделать…
— Бальсо! Бальсо! Неужто это ты?! — вскричала мисс Макгини, разлив на скатерть оставшееся в кружке пиво, отчего топтавшийся без дела официант злобно на нее покосился.
— Бальсо! Бальсо! Неужто это ты? — вновь воскликнула она, прежде чем он успел ответить. — Разве ты меня не узнаешь? Ведь я Мэри. Мэри Макгини, твоя юношеская любовь.
Бальсо понял, что это и впрямь была Мэри. Да, она сильно изменилась, но что-то сохранилось и от прежней Мэри — глаза в особенности. Она больше не казалась ему сухой грымзой, это была женщина в соку — манящая, желанная.
Они сидели и пожирали друг друга глазами, пока официант не намекнул, что пора и честь знать, — ему давно не терпелось закрыть заведение и уйти домой.
Они вышли из кафе рука об руку, двигаясь точно во сне. Бальсо указывал дорогу, и вскоре они забрели в густой кустарник. Мисс Макгини легла на спину, подложив под голову руки и широко раскинув колени. Бальсо встал над ней и произнес речь, цель которой была очевидна:
«Во-первых, давайте рассмотрим политический аспект проблемы. Вы, любящие порассуждать о Свободе и прибегающие к защите Догмы перед лицом Жизни и Неотвратимого Физического Закона, подымайте же, слышите, подымайте якоря, отдайте швартовы ваших затаенных желаний! И пусть ветер полощет знамя вашего бунта!
Следует также рассмотреть и философские аспекты предстоящего акта. Природа наделила вас на короткое время некоторыми органами, способными доставлять удовольствие. Имеются среди них и органы половые. Если пользоваться ими с умом, половые органы доставляют особенно интенсивное удовольствие. А удовольствие — заметим к слову — единственное на свете благо. Из чего следует, что, коль скоро удовольствие желанно (а кто, за вычетом горстки фанатиков, придерживается иного мнения?), необходимо предаваться всем мыслимым удовольствиям. Для начала важно разобраться в некоторых банальных идеях. Как человек думающий, как индивидуалист, — а ведь ты и то и другое, любовь моя, — необходимо научиться отличать принципы гедонизма от нравственных принципов своего поколения. Необоснованно жесткими моральными устоями следовало бы пренебречь. Таинство — это секс, а вовсе не брак. Согласна? Почему же в таком случае ты, существо думающее, должна руководствоваться устаревшими нормами. Половой акт — это не грех, не ошибка, не заблуждение, не слабость. Половой акт доставляет удовольствие, а удовольствие желанно. А раз так, Мэри, давай-ка позабавимся.
Теперь, Мэри, взглянем на этот вопрос с точки зрения Искусства. Ты ведь хочешь писать, любовь моя, а значит, должна понимать: истинный художник не может не знать того, о чем он пишет. Как ты можешь изображать мужчин, если никогда не знала мужчины? Как можешь ты читать и понимать, видеть и понимать, не познав божественного трепета? Как без соответствующего опыта убедительно описать кражу, воровство, убийство, изнасилование, самоубийство? Ты ведь постоянно ищешь тему, верно? В моей постели, любимая, ты найдешь новые темы, новые толкования, обретешь новый опыт. Ты сможешь сама судить, является ли любовь трехминутной утехой, которая сменяется глубочайшим отвращением, или же это всепожирающее пламя, божественный закон, предвкушение небесных радостей. Пойдем же, Мэри Макгини, в постель и в новый мир.
А теперь мы переходим к последнему аргументу — Времени. Только, пожалуйста, не смешивай то, о чем я буду сейчас говорить, с теориями, которые так популярны среди метафизиков и физиков, этих пустозвонов. Мое „Время" — поэтическое. Довольно скоро, любимая, ты умрешь, и мысль эта меня гложет. Довольно скоро мы все умрем — и чистоплюи и трубочисты[43]. Все до одного. Сможешь ли ты, умирая, сказать: „Мой стакан пуст — я выпила его до дна. Моя жизнь пуста — я испила ее до дна"? Разве не безумие — отрицать жизнь? Спеши же! Спеши! Ибо все скоро кончится. Цвети, о роза, поутру — увянешь ты к полудню. Ты узнаешь мелодию, которую играют часы? Секунды, как они летят! Все скоро кончится! Все скоро кончится! Лови же, покуда еще можешь, сей краткий миг, мгновенную утеху, пузырь сей мыльный, что лопнуть может всякую секунду. Ты думала о могиле? О любимая, ты думала о могиле и о том, что станется с твоим прекрасным телом? Твоей невесты нет прекрасней, но минуло сто лет, и вместо нежных черт — скелет. Когда улыбка на челе играет, красотка быстро увядает. Длить наслажденье будем, ах, пока не превратимся в прах. Да, Мэри, в прах! Твоя щедрая красота превратится в прах. Я дрожу, я весь горю в предвкушении твоего нежного поцелуя. Не скупись! Поступись, покуда есть еще время, своей белой плотью, нежным своим телом. Дай, ибо, давая, ты и обретешь, и поимеешь то, что даешь. Только время способно лишить тебя твоей плоти. Время — но не я. И оно лишит тебя всего. Всего! Всего! И те, кто бережно сажал зерно, и те, кто россыпью бросал его на дно…»
С этими словами Бальсо бросился на землю рядом со своей возлюбленной.
И как же она приняла его? Поначалу сказала «нет».
Нет. Нет! Невинна, смущена. О Бальсо! О Бальсо! Как же можно? Я закрываю глаза и вижу старую нашу ферму, старую водокачку, стариков-родителей, старую дубовую бадью — и все увито плющом.
Сэр! Топает своей крошечной ножкой — властно, раздраженно. Как вы смеете, сэр! Кто дал вам право? На колени, разбойник! На колени, слышишь? Бесстыжие, всезнающие пальцы наглых шоферов. Выбирает королева. Елизавета Английская, Екатерина Российская, Фаустина Римская.
Два «нет» постепенно превратились в два «да-нет».
Нет… О… О, нет. Глаза полны слез. Голос гортанный, хриплый от сдерживаемой страсти. Хочу, люблю, любимый мой, любимый, любимый. О, я таю. Даже кости и те тают. Оставь меня, а то я упаду в обморок. Оставь меня, оставь, у меня кружится голова. Нет… Нет! Ах ты, скотина!
Нет. Нет, Бальсо, не сегодня. Нет, не сегодня. Нет! Прости, Бальсо, но не сегодня. В другой раз, да, но не сегодня. Прошу тебя, не сегодня. Пожалуйста!
Но Бальсо «нет» не устраивает, и вскоре он добивается сразу нескольких «да». Вот они.
Жаркое дыхание, влажные, полуоткрытые губы; глаза печальны, шепчет «люблю». Тигровая шкура на диване. Испанская шаль на рояле. Алтарь Любви. Церковь и Бордель. Запахи Индии и Африки. В глазах твоих Египет. Богатая, пышная любовь; красивая, вытканная на манер гобелена любовь; восточная, пропитанная ароматами духов любовь.
Несгибаемый. Деловой. Толковый. Бывал здесь и раньше. Я с полицией разберусь, если что. Женщина вовсе не хнычет. Место ему хорошо знакомо. Нет ни новых деревьев, ни колодцев, ни даже заборов.
Тянется к жизни. Жить! Жизненный опыт! Жить своей жизнью. Твое тело — инструмент, орган, барабан. Гармония. Порядок. Груди. Зеница ока моего, утробы моей. Что такое жизнь без любви? Я горю! Я жажду! Ура!
М-м-м-о-о-й! Д-а-а-а! Я никогда не думала, что познаю страсть, сладострастие, таящееся в тебе, — да, да. Тяни меня в трясину, тяни. Да! И своими волосами похоть с глаз моих смахни. Да… Да… О-о! А-а!
Чудо свершилось. Двое слились в Одно. Одно, которое есть всё и ничего: жрец и бог, жертвоприношение, жертвенный обряд, возлияние предкам, заклинание, жертвенное яйцо, алтарь, ego и alter ego, а также отец, сын и дед вселенной, мистическая доктрина, очищение, слог «Ом»[44], путь, учитель, свидетель, убежище, Дух средней школы 186, последний паром, отходящий в Вихокен в семь часов вечера.
Пиит и тело его разделились. Тело зажило своей жизнью. Жизнью, не имевшей с Бальсо-поэтом ничего общего. Это освобождение сравнимо лишь со смертью, с механикой распада. После смерти тело становится хозяином положения, все этапы разложения оно проходит с исключительной четкостью. С такой же уверенностью его тело осуществляло сейчас и любовные процессы.
В этой деятельности Дом и Долг, Любовь и Искусство были напрочь забыты.
В его тело вступила армия, боеспособная армия взбудораженных чувств. Сначала чувства наступали методично, а затем истерично, однако столь же слаженно и уверенно. Армия его тела приступила к длительным, замысловатым учениям, к длительной, сложной церемонии. К церемонии, осуществляемой с продуманностью, отработанностью и четкостью химического процесса, вызванного катализатором.
Наступая, разворачивая свои порядки, армия его тела громко, истошно вопила. Но вот, издав победный крик, она вдруг замерла и спокойно, с сознанием исполненного долга, начала отступать.
Та самая армия, что еще мгновение назад триумфально маршировала по просторам его тела, теперь медленно двинулась вспять. Победоносно, умиротворенно.
Подруга скорбящих © Перевод. В. Голышева
Подруга скорбящих, помоги, помоги
Подруга скорбящих из нью-йоркской «Пост-диспетч» (У вас беда? Вам нужен совет? Пишите Подруге скорбящих, и она вам поможет) сидел за письменным столом, уставясь на полоску белого картона. На ней редактор отдела Шрайк напечатал молитву:
Дух Подруги с., восславь меня. Тело Подруги с., напитай меня. Кровь Подруги с., опьяни меня. Слезы Подруги с., омойте меня. Добрая Подруга с., прости мне мою мольбу, И укрой меня в твоем сердце, И защити меня от врагов моих. Помоги мне, Подруга с., помоги, помоги. Аминь.Статью надо было сдать через четверть часа, а он все сидел над вступлением. Он дошел до: «Жизнь имеет смысл, потому что в ней — мечты и покой, нежность, и восторг, и вера, горящая, как белое пламя на темном мрачном алтаре». Но дальше дело не двигалось. Письма уже не смешили его. Он не мог смеяться одной и той же шутке тридцать раз в день, из месяца в месяц. А обычно писем приходило больше тридцати в день — и все одинаковые, нарубленные из теста бед сердцевидным ножом.
На столе лежали сегодняшние письма. Он стал их просматривать, ища зацепку для искреннего ответа.
Дорогая Подруга скорбящих, у меня такая боль не знаю что делать, иногда кажется убила бы себя так болят почки. А муж считает, что нельзя быть хорошей католичкой не имея детей несмотря на боль. Я честно венчалась в церкви, но не знала что такое семейная жизнь, потому что мне никто не рассказывал про мужа и жену. Бабушка мне не рассказала, а она мне была вместо матери и сделала большую ошибку что не рассказала, потому что неопытность выходит боком и от нее одни разочарования. Я родила 7-х за 12 лет и после 6-го все время болею. Меня два раза оперировали и муж обещал, что детей больше не будет по совету врача, потому что он сказал я могу умереть, но когда я вернулась из больницы он нарушил обещание, теперь я жду ребенка и наверно не выдержу, так болят почки. Мне очень больно и страшно, а аборт мне нельзя ввиду того что я католичка и муж чересчур религиозный. Я все время плачу от боли и не знаю что мне делать.
Уважающая вас
Нет Мочи.
Подруга скорбящих кинул письмо в открытый ящик и закурил.
Дорогая Подруга скорбящих!
Мне шестнадцать лет и я не знаю что делать и буду очень благодарна вам, если посоветуете что делать. Когда я была маленькой это было ничего, я привыкла, что соседские ребята дразнят меня, но теперь мне хочется, чтобы у меня тоже были мальчики, как у других девочек и гулять с ними в субботу вечером, но мальчики на меня не смотрят потому что я родилась без носа — хотя у меня хорошая фигура и хорошо танцую и папа покупает мне красивые платья.
Я сижу целыми днями смотрю на себя и плачу. Посреди лица у меня большая яма и не то что люди, я сама пугаюсь, а мальчики не виноваты, что не хотят меня приглашать. Мама меня любит, но ужасно плачет, когда смотрит на меня.
Чем я заслужила такое несчастье? Если я и сделала что плохое, то после года, а я ведь родилась такой. Я спросила папу, а он говорит, что не знает, но может я что-то сделала в другом мире до того, как родилась, а может быть это мне наказание за его грехи. Я не верю этому потому, что он очень хороший человек. Надо ли мне покончить с собой?
Ваша Отчаявшаяся.
Сигарета была с браком и не тянулась. Подруга скорбящих вынул ее изо рта и оглядел с яростью. Потом заставил себя успокоиться и закурил другую.
Уважаемая Подруга скорбящих, я пишу вам от моей сестренки Грейси, потому что с ней случилось что-то страшное и маме я боюсь сказать. Мне 15 лет, а Грейси 13, мы живем в Бруклине. Грейси глухонемая и выше меня, но не очень сообразительная, так как глухонемая. Она играет у нас на крыше дома и в школу не ходит кроме как в школу глухонемых два раза в неделю по вторникам и четвергам. Мама велит ей играть на крыше потому что мы боимся, что бы ее не переехало — она не очень сообразительная. А на прошлой неделе на крышу влез человек и сделал с ней что-то нехорошее. Она мне рассказал, а я не знаю как быть и боюсь рассказать маме потому что она наверно изобьет Грейси. Я боюсь, что у Грейси будет ребенок и вчера ночью я долго слушал ей живот — не слышно ли там ребенка, но ничего не слышно. Если я скажу маме, она ее страшно изобьет, потому что я один люблю Грейси, а в прошлый раз, когда она порвала платье ее заперли в чулане на два дня и если соседские мальчишки узнают про это, они будут говорить гадости, как про сестру Блохи Коннора когда ее застали на пустыре. Скажите, пожалуйста, что бы вы сделали, если бы это случилось в вашей семье.
Преданный вам Гарольд С.
Он перестал читать. Ответ был — Христос, но Подруга скорбящих был сыт этим по горло. Кроме того, над Христом особенно любил потешаться Шрайк. «Душа Подруги с., восславь меня. Тело Подруги с., напитай меня. Кровь Подруги…» Он повернулся к пишущей машинке.
Несмотря на модный дешевый костюм, в нем все равно легко было угадать сына баптистского священника. Ему бы пошла борода — она оттенила бы его библейскую внешность. Но и без бороды всякий распознал бы в нем пуританина из Новой Англии. Лоб у него был высокий и узкий. Нос длинный и костистый. Костлявый, раздвоенный подбородок формой напоминал копыто. Увидев его в первый раз, Шрайк улыбнулся и сказал: «Сюзанны Честер, Беатрисы Фэрфакс и Подруги скорбящих — жрецы Америки XX века».
Пришел курьер: Шрайк спрашивает, готов ли материал. Он нагнулся к машинке и застучал по клавишам. Но не успел написать и десятка слов, как над плечом его склонился Шрайк.
— Старая песня, — сказал он. — Выдал бы что-нибудь новенькое, обнадеживающее. Про искусство. А ну-ка, я продиктую:
«Выход — в искусстве.
Не позволяйте жизни взять верх над вами. Когда старые дороги завалены обломками крушения, ищите новых, свободных дорог. Такая дорога — искусство. Искусство настояно на страданиях. Как воскликнул сквозь роскошную русскую бороду мистер Польникофф, когда на восемьдесят седьмом году жизни закрыл свое дело, чтобы изучать китайский язык: „Мы еще только начинаем…"
Искусство — один из самых щедрых даров жизни.
Для тех, кто лишен творческих способностей, остается восприятие. Для тех, кто…»
Продолжай отсюда.
Подруга скорбящих и каменное лицо
Когда Подруга скорбящих вышел из редакции, оказалось, что на улице потеплело, и воздух пах так, будто его пропустили через калорифер. Он решил выпить в контрабандной пивной «Диленханти». Дорога туда вела через маленький парк.
Он вошел в парк через северные ворота, заглатывая густую тень, забившую арку. Пересек тень фонарного столба, которая лежала на дорожке, как пика. Она проткнула его, как пика.
Насколько он видел, весна тут ничем не дала себя знать. Прах, покрывший крапчатую землю, был не тот, на котором взрастает новая жизнь. Он вспомнил, что в прошлом году май не смог пробудить эти мусорные лужайки. Лишь лютый июль вымучил из черствой грязи несколько зеленых ростков.
Влаги — вот чего жаждал парк еще больше, чем он. Ни дождем, ни алкоголем тут не обойдешься. Завтра в своей колонке он попросит Убитых горем, Нет-Мочи, Отчаявшихся, Разочарованных-с-мужем-туберкулезником и остальных своих корреспондентов прийти сюда и оросить слезами почву. Тогда взойдут цветы — цветы, которые пахнут ногами.
— Ах, человечество… — Но тень тяготила его, и шутка околела на половине. Он попробовал ее оживить, посмеявшись над собой.
Хотя зачем смеяться над собой, если Шрайк ждет в баре и сделает это куда лучше? «Друг мой Подруга скорбящих, советую тебе давать читателям камни. Когда они просят хлеба, не раздавай им галеты, как Церковь, и не вели, как Государство, скушать пирожное. Объясни, что не хлебом единым жив человек, и дай им камни. Научи их молиться по утрам: „Камень наш насущный даждь нам днесь"».
Он роздал читателям много камней — так много, что сам остался с одним — с камнем, образовавшимся у него в груди.
Вдруг почувствовав усталость, он сел на скамью. Выкинуть бы этот камень. В поисках мишени он посмотрел на небо. Но серое небо выглядело так, как будто его стерли грязной резинкой. На нем не было ангелов, огненных крестов, голубей с оливковыми ветвями, ничего мудрено-сотворенного. Лишь газета корчилась в вышине, как воздушный змей с перебитым хребтом. Он встал и пошел к бару.
«Диленханти» был подвал в каменном доме, отличавшийся от своих добропорядочных соседей лишь железной дверью. Подруга скорбящих нажал потайную кнопку, и в двери открылся волчок. Налитый кровью глаз глянул из него, как рубин из старинной железной оправы.
Пивная была наполовину пуста. Подруга скорбящих нервно огляделся, ища Шрайка, но, к облегчению своему, не увидел. Однако после третьей рюмки, когда он погружался в теплую тину пьяной грусти, Шрайк схватил его за руку.
— А, мой юный друг! — закричал он. — В каком виде я тебя застаю? Опять, я вижу, мрачное раздумье.
— Кончай ты, ради бога.
Шрайк презрел эту просьбу.
— Ты ипохондрик, мой друг, ипохондрик. Забудь распятие, вспомни Возрождение. Мрачным раздумьям тогда не предавались. — Он поднял бокал, и в этом жесте была вся семья Борджиа. — Зову тебя к Возрождению. Какая эпоха! Какая пышность! Пьяные Папы… Прекрасные куртизанки… Внебрачные дети…
Хотя жесты у него были отточенные, лицо не выражало ничего. Он пользовался приемом кинокомиков — «каменным лицом». Какой бы причудливой и шумной ни была его речь, он сохранял непроницаемую маску. Под большим лоснящимся куполом лба его черты теснились мертвым серым треугольником.
— За Возрождение! — выкрикивал он. — За Возрождение! За бурые греческие манускрипты, за дам с большими мраморно-гладкими конечностями… Кстати, я жду одну из моих поклонниц — девушку с кротким взглядом и большой начитанностью. — При слове «начитанность» он изобразил в воздухе две огромные груди. — Она работает в книжном магазине. Но ты погляди, какой у нее зад.
Подруга скорбящих неосмотрительно выказал раздражение.
— А-а, к женщинам ты равнодушен, — да? И. X. - твоя зазноба. Иисус Христос, Царь Царей, Подруга скорбящих подруг скорбящих…
Тут, к счастью для Подруги скорбящих, к стойке подошла молодая женщина, которую ждал Шрайк. У нее были длинные ноги с толстыми щиколотками, большие руки, могучее тело, стройная шея и детское личико, казавшееся совсем крошечным из-за мужской стрижки.
— Мисс Фаркис, — сказал Шрайк, заставив ее поклониться, как чревовещатель — свою куклу. — Мисс Фаркис, познакомьтесь с Подругой скорбящих. Окажите ему такое же почтение, какое оказываете мне. Он тоже утешитель нищих духом и любитель Бога.
Она по-мужски пожала ему руку.
— А это — мисс Фаркис, — сказал Шрайк. — Мисс Фаркис работает в книжном магазине и в свободное время пописывает. — Он потрепал ее по крупу.
— О чем вы так горячо рассуждали?
— О религии.
— Попросите мне рюмку и продолжайте, пожалуйста. Я очень интересуюсь неотомистским синтезом.
Шрайк только того и ждал.
— Святой Фома! — воскликнул он. — За кого вы нас принимаете — за гнилых интеллигентов? Мы не какие-нибудь эрзац-европейцы. Мы беседовали о Христе, Подруге скорбящих подруг скорбящих. У Америки — свои религии. А если вам нужен синтез — вот вам подходящая материя. — Он вытащил из бумажника газетную вырезку и прихлопнул ладонью к бару.
«Арифмометр 3 обряде западной секты
Цифровые молитвы за убийцу престарелого отшельника. Денвер, Колорадо, 2 февраля (А. П.).
Верховный понтифик Американской Либеральной церкви Фрэнк Райе объявил, что исполнит разработанный им обряд „козла и арифмометра" в память осужденного убийцы Уильяма Мойя, несмотря на возражения кардинала секты. Райе сообщил, что козел будет использован в службе „Посыплем голову пеплом" до и после казни Мойя, назначенной на 20 июня. Молитвы за упокой души осужденного будут составлены на арифмометре. Числа, пояснил Райе, это единственный универсальный язык. Мойя умертвил престарелого отшельника Джозефа Земпа в результате ссоры из-за небольшой денежной суммы».
Мисс Фаркис засмеялась, и Шрайк замахнулся на нее кулаком. Бармен, которого покоробил этот жест, поспешно попросил их перейти в заднюю комнату. Подруга скорбящих не хотел идти с ними, но Шрайк настаивал, а он слишком устал, чтобы спорить. Они уселись в кабинете. Шрайк снова сделал вид, что хочет ударить ее, но когда мисс Фаркис отпрянула, он вместо этого ее погладил. Обман удался. Она покорилась его руке, но когда ласки зашли чересчур далеко, оттолкнула ее.
Шрайк опять начал кричать; Подруга скорбящих понял, что на этот раз разыгрывается сцена соблазнения.
— Я великий святой, — кричал Шрайк, — я могу ходить по-маленькому как посуху. Вы что, не слышали про Шрайковы Страсти в Закусочной или Моления о Кружке Пива? Там я уподобил раны Христовы кошелькам, куда мы прячем мелочь наших грехов. Это — поистине замечательный образ. А теперь рассмотрим дыры в наших телах и куда открывают путь сии благодетельные раны. Под кожей человека — дивные джунгли, где жилы, как буйная тропическая зелень, стелются по перезрелым органам и подобные бурьяну кишки перевиваются и сплетаются в красных и желтых корчах. В этой чаще порхает с каменно-серых легких на золотые кишки, с печени на рубец и обратно на печень птица, называемая душой. Католики ловят ее на хлеб и вино, иудеи — на «поступай с другими так, как хочешь, чтоб с тобой поступали», протестанты со свинцовыми ногами — на слово-олово, буддисты — жестами, негры — на кровь. Я плюю на них всех. И вас призываю плюнуть. Тьфу. Вы набиваете чучела птиц? Нет, дорогие мои, таксидермия — не религия. Нет. Тысячу раз нет. Лучше, говорю вам, живая птица в джунглях тела, чем два чучела на библиотечной полке.
Ласки продолжались и во время проповеди. Закончив, он уткнул свое треугольное лицо ей в шею, словно томогавк.
Подруга скорбящих и ягненок
Подруга скорбящих поехал домой на такси. Он жил один в комнате, которая была полна теней, как старинная гравюра на стали. Там стояли кровать, стол и пара стульев. Стены были голые, если не считать Христа из слоновой кости, висевшего в ногах кровати. Подруга скорбящих снял фигуру с креста и приколотил к стене костылями. Но желаемого эффекта не получилось. Христос не корчился, а висел спокойно и декоративно.
Он сразу разделся и лег в постель с сигаретой и «Братьями Карамазовыми». Закладка была на главе о старце Зосиме:
«…любите человека и во грехе его, ибо сие уже подобие Божеской любви и есть верх любви на земле. Любите все создание Божие, и целое, и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну Божию постигнешь в вещах. Постигнешь однажды и уже неустанно начнешь ее познавать все далее и более, на всяк день. И полюбишь наконец весь мир уже все целою, всемирною любовью».
Прекрасный совет. Если бы он последовал ему, то преуспел бы в жизни. Его колонку распространили бы агентства печати, и мир научился бы любить. Наступило бы Царствие Небесное. Он сел бы одесную Агнца.
Но, серьезно говоря, он понимал, что если бы Шрайк и не отравил ему этот христианский хлеб, он все равно бы зря себя обманывал. Призвание его было другого рода. Мальчиком, в отцовской церкви он заметил, что, когда выкрикивает имя Христа, в нем что - то поднимается, — что-то тайное и мощное. Он играл с этим чувством, но никогда не давал ему полной воли.
Теперь он понимал, что это было: истерия, змея, чьи чешуйки — крохотные зеркальца, в которых мертвый мир обретает подобие жизни. А как мертв этот мир… мир дверных ручек. Он спросил себя: а так ли уж дорого в конце концов — заплатить истерией за его оживление?
Для него Христос был самым натуральным из возбудителей. Остановив взгляд на фигуре, прибитой к стене, он стал повторять нараспев: «Господи, Господи, Господи Иисусе. Господи, Господи, Господи Иисусе». Но едва змея стала разворачиваться в голове, он испугался и закрыл глаза.
Он уснул и увидел себя на сцене переполненного театра. Он был фокусником и проделывал фокусы с дверными ручками. По его приказу они кровоточили, цвели, разговаривали. Закончив номер, он хотел призвать публику к молитве. Но сколько он ни старался, молитва получалась та, которой научил его Шрайк, и произносил он ее голосом кондуктора, объявляющего остановки.
«Господи, мы не из тех, кто омывается вином, водой, мочой, уксусом, огнем, маслом, желудочными каплями, молоком, коньяком или борной кислотой. Господи, мы из тех, кто омывается исключительно кровью Агнца».
Декорация переменилась. Он очутился в студенческом общежитии. С ним были Стив Гарви и Джуд Хьюм. Они спорили о бытии Божьем с полуночи до рассвета и теперь, выпив все виски, решили сходить на рынок за яблочной водкой.
Путь их лежал по улицам спящего города и через открытое поле. Была весна; снова опьянев от солнца и запаха новорожденных овощей, они шатались между гружеными тележками. Фермеры смотрели на их возню благодушно. Загуляли студентики.
Они нашли бутлегера, купили четырехлитровый жбан виски и пошли в ряды, где торговали скотом. По дороге они остановились поиграть с ягнятами. Джуд предложил купить барашка и зажарить в лесу на костре. Подруга скорбящих согласился, но при условии, что, перед тем как зажарить, они принесут ягненка в жертву Богу.
Стив отправился в ножовый ряд за мясницким ножом, а они с Джудом остались торговать барашка. После долгого, на армянский лад, торга, в ходе которого Джуд показал свою крестьянскую закваску, выбрали самого молодого барашка, маленького, на шатких ножках — одна голова.
Они прошествовали с ягненком по базару. Впереди шел Подруга скорбящих с ножом, за ним Стив со жбаном и Джуд с животным. Маршируя, они распевали непристойный вариант «У Мери был барашек». Между базаром и холмом, где они собирались совершить жертвоприношение, лежал луг. По дороге они рвали маргаритки и лютики. На склоне холма они нашли большой камень и устлали его цветами. На цветы уложили ягненка. Подругу выбрали жрецом, Стив и Джуд были служителями. Они держали барашка, а Подруга, присев над ним, начал повторять нараспев: «Господи, Господи, Господи Иисусе. Господи, Господи, Господи Иисусе».
Когда они распалили себя, он ударил ножом. Удар был неверный, и нож пропорол только мышцы. Он снова занес нож, но на этот раз вообще не попал по судорожно дергавшемуся ягненку. Нож сломался о камень. Стив и Джуд отогнули ягненку голову, чтобы он перепилил ему глотку, но от лезвия остался только короткий обломок, и он не мог прорезать свалявшуюся шерсть.
Руки их были залиты липкой кровью, и ягненок выскользнул. Он заполз в кусты.
Яркое солнце очертило камень алтаря узкими тенями, и местность словно приготовилась для нового кровопролития. Приятели бросились наутек. Они мчались вниз по склону, пока не сбежали на луг, и там рухнули без сил в высокую траву.
Немного погодя Подруга скорбящих стал умолять их вернуться и прекратить мучения ягненка. Они отказались идти. Он отправился сам и нашел ягненка под кустом. Он размозжил ему голову камнем и оставил тушу мухам, роившимся над окровавленными цветами алтаря.
Подруга скорбящих и валенок
Подруга заметил, что в нем развивается граничащая с безумием чувствительность к беспорядку. Все должно было располагаться по системе: туфли под кроватью, галстуки на вешалке, карандаши на столе. Выглянув из окна, он компоновал горизонт так, чтобы массы зданий взаимно уравновешивались. Если в этом пространстве появлялась птица, он сердито закрывал глаза, дожидаясь, пока она пролетит.
Первое время он не сдавал позиций, но в один прекрасный день оказался приперт к стене. В этот день все неодушевленные предметы, которые он хотел починить, ополчились на него. Стоило ему дотронуться до вещи, как что-то проливалось или скатывалось на пол. Запонки от воротничка исчезли под кроватью, карандаш сломался, ручка бритвы отвалилась, штора не желала опускаться. Он сопротивлялся этому, но с излишней яростью, и потерпел окончательное поражение от пружины будильника.
Он бежал на улицу, но здесь был хаос тысячекратный. Прохожие спешили мимо беспорядочными группами, не образуя ни звезд, ни квадратов. Фонарные столбы расставились неравномерно, плиты мостовой были разнокалиберные. И ничего нельзя было сделать с грубым лязгом трамваев и резкими выкриками разносчиков. На ритм их не ложился никакой рефрен, и никакая гамма не могла придать им смысл.
Он тихо прислонился к стене, стараясь не видеть и не слушать. Тут он вспомнил Бетти. У него часто бывало ощущение, что, поправляя на нем галстук, она поправляет нечто большее. И однажды он подумал, что если бы ее мир был шире, был миром, она навела бы в нем такой же порядок, как на своем туалетном столике.
Он сказал шоферу такси адрес Бетти и велел поторапливаться. Но Бетти жила в другом конце города, и, пока они доехали, паника превратилась в раздражение.
Она открыла ему в свежем белом полотняном халатике с палевой отделкой. Протянула к нему руки — гладкие и круглые, как обкатанное прибоем дерево.
Смущение вернулось, и он почувствовал, что успокоить его сейчас может только грубость. Виновата, однако, была Бетти. Ее мир — не мир, и в нем нет места читателям его колонки. Ее уверенность проистекает из умения произвольно ограничивать свой опыт. Более того — его неразбериха осмысленна, а ее порядок — нет.
Он тоже хотел сказать ей «здравствуй», но язык превратился в валенок. Чтобы не разговаривать, он полез с поцелуем, затем счел нужным извиниться.
— Эти сцены примирения с возлюбленной — лишнее, я понимаю и… — Он нарочно запнулся, чтобы она сочла его смущение искренним. Но фокус не удался — она дожидалась продолжения.
— Прошу тебя, пойдем куда-нибудь пообедаем.
— Боюсь, что не смогу.
Улыбка ее превратилась в смех.
Она смеялась над ним. Желая отыграться, он попытался найти в ее смехе «горечь», «око видит, да зуб неймет», «надрыв», «гори все огнем». Но, к своему конфузу, не нашел ничего, над чем можно было бы посмеяться. Смех ее возник естественно, а не раскрылся, как зонтик, — а потом снова превратился в улыбку, не «кислую», не «ироническую» и не «загадочную».
Когда они перешли в гостиную, его досада усилилась. Бетти села на диван-кровать, поджав голые ноги и выпрямив спину. Позади нее на лимонных обоях цвело серебряное дерево. Он остался стоять.
— Бетти-Будда, — сказал он. — Бетти-Будда. У тебя сытая улыбка; только брюшка не хватает.
В голосе его было столько ненависти, что он сам удивился. Наступило неловкое молчание, и, потоптавшись немного, он наконец сел на диван, чтобы взять ее за руку.
Больше двух месяцев прошло с тех пор, как на этом самом диване он сделал ей предложение. Тогда Бетти согласилась, и они обсуждали совместную жизнь после женитьбы, его работу и ее полосатый передник, его шлепанцы, которые будут стоять у камина, и ее кулинарные способности. После этого он исчез. Он не чувствовал вины; только досадовал, что его обманом заставили поверить, будто такое решение возможно.
Скоро ему надоело держаться за руки, и он опять заерзал. Он вспомнил, что под конец прошлой встречи он засунул руку ей под одежду. И, не придумав ничего лучшего, повторил сейчас эту вылазку. Под халатом на ней ничего не было, и он нашел ее грудь.
Бетти ничем не показала, что чувствует его руку. Он был бы рад пощечине, но она молчала, даже когда он взял ее за сосок.
— Позволь сорвать эту розу, — сказал он, дернув. — Я хочу носить ее в петлице.
Бетти дотронулась до его лба.
— Что с тобой? — спросила она. — Ты болен?
Он начал кричать на нее, сопровождая выкрики жестами, которые слишком хорошо соответствовали словам, как у старомодного актера.
— Какая же ты стерва! Стоит человеку гнусно себя повести, как ты говоришь, что он болен. Все, кто мучает жен, кто насилует детей, — по-твоему, они все больные. Мораль ни при чем — только медицина. А я не болен! Не нужен мне твой аспирин. У меня комплекс Христа. Человечество… я возлюбил человечество. Каждого сломленного кретина… — Он закончил смешком, похожим на лай.
Она пересела с дивана в красное кресло, распираемое набивкой и тугими пружинами. В лоне этого кожаного монстра она потеряла всякое сходство с безмятежным Буддой.
Но гнев его не утих.
— В чем дело, милая? — спросил он, угрожающе поглаживая ее по плечу. — Тебе не понравилось представление?
Она не ответила, а подняла руку, словно заслоняясь от удара. Она была как котенок — такой мягкий и беззащитный, что ему хочется сделать больно.
— В чем дело? — спрашивал он снова и снова. — В чем дело? В чем дело?
Лицо у нее приобрело такое выражение, какое бывает у неопытного игрока, поставившего последние деньги на кон. Он уже потянулся за шляпой, но тут Бетти заговорила:
— Я тебя люблю.
— Ты меня — что?
Ей было трудно повторить, но она и тут постаралась не нагнетать драматизма.
— Я тебя люблю.
— И я тебя, — сказал он. — С проклятой твоей улыбкой сквозь слезы.
— Почему ты не можешь оставить меня в покое? — Она заплакала. — Мне было хорошо, пока ты не пришел, а теперь — паршиво. Уйди. Уйди, пожалуйста.
Подруга скорбящих и чистенький старик
Очутившись на улице, Подруга скорбящих задумался, что делать дальше. Аппетит от волнения пропал, а идти домой было страшно. Собственное сердце казалось ему бомбой, замысловатой бомбой, которая нехитрым взрывом разрушит мир, не шелохнув его.
Он решил выпить у Дилеханти. Возле стойки он увидел приятелей. Они с ним поздоровались и продолжали разговор. Один из них сетовал на засилье женщин в литературе.
— И у всех у них по три имени, — сказал он. — Мэри Роберте Уилкокс, Элла Вила Катетер, Форд Мэри Райнхарт…
Потом кто-то заметил, что все они скучают по хорошему изнасилованию, — и этим вызвал целый водопад рассказов.
— Я знал девицу, приятная была девица, пока не связалась с кружком и не ударилась в литературу. Начала пописывать в журнальчиках насчет того, как ей больно от ее Красоты, бросила парня, который расставлял кегли в кегельбане. Соседские ребята разозлились и как-то ночью отвели ее на пустырь. Человек восемь. Они ее…
— Похожая история была с другой писательницей. Когда пошла эта кровяная струя, она бросила свой топкий английский прононс и переключилась на «гоп-стоп». Стала ходить в шалман и вращаться среди бандюг — изучала жизнь. Ну, а бандюги не знали, что они живописны, и считали ее своей, пока хозяин не открыл им глаза. Увели ее в заднюю комнату, чтобы преподать ей новое учение, и показали, где зимуют раки. Не выпускали ее три дня. На третий день продавали билеты неграм.
Подруга скорбящих перестал слушать. Приятели будут развлекаться этими историями, пока язык ворочается. Они понимали, что это ребячество, но по-другому взять реванш не умели. В колледже и, наверное, первые годы после выпуска они верили в литературу, в Прекрасное, верили, что самовыражение — высшая цель. Потеряв эту веру, они потеряли все. Деньги и слава для них ничто. Они не от мира сего.
Подруга скорбящих пил размеренно. На лице его была невинная довольная улыбка — улыбка анархиста, который сидит в кинотеатре с бомбой в кармане. Если бы соседи знали, что у него в кармане! Скоро он выйдет из зала и убьет президента.
Только когда до него донеслось его имя, он перестал улыбаться и снова начал слушать.
— Он лепролиз. Шрайк говорит, что он облизывает прокаженных. Бармен! Одну проказу для джентльмена.
— Если нет проказы, дайте ему гуляш.
— Ну да, вот где изъян в его отношении к Богу. Литературщина — одноголосый хорал, латинские стихи, средневековая живопись, Гюисманс, витражи и прочая шелуха.
— Если у него и будет подлинное религиозное переживание, оно будет индивидуальным, а значит, непередаваемым — никому, кроме психиатра.
— Его беда, наша общая беда — что у нас нет внешней жизни, только внутренняя, да и та — по необходимости.
— Он эскепист. Он хочет возделывать свой внутренний садик. Но скрыться от мира нельзя, да и где он найдет рынок для плодов своей личности? Сельскохозяйственный совет себя не оправдал.
— В конце концов, я вам скажу, каждому надо зарабатывать на жизнь. Не все могут верить в Христа, а фермеру — какое дело до искусства? Он скинет ботинки и босыми ногами пощупает теплую жирную землю. В церкви ботинки не скинешь.
Подруга скорбящих опять улыбнулся. Подобно Шрайку, которому они все подражали, они были машинами, штампующими шутки. Пуговичная машина штампует пуговицы, что бы ни приводило ее в движение — нога, пар или электричество. Каковабы ни была тут движущая сила — смерть, любовь или Бог, — они штамповали шутки.
Неужели их вздор — единственное препятствие, спросил он себя. Неужели я закинулся перед таким низким барьером?
Виски было хорошее, он ощущал тепло и уверенность. В сизом табачном дыму красное дерево стойки сияло, как мокрое золото. Бокалы и бутылки с яркими бликами позванивали, как колокольчики, когда их сдвигал бармен. Подруга забыл, что его сердце — бомба, и вспомнил случай из детства. Однажды зимним вечером они с сестренкой дождались, когда придет из церкви отец. Сестре тогда было восемь лет, ему — двенадцать. В этом перерыве между игрой и едой ему стало грустно, и, сев за рояль, он начал пьесу Моцарта.
Он впервые сел за рояль добровольно. Сестра отложила свою книжку с картинками и стала танцевать под музыку. До этого она никогда не танцевала. Она двигалась старательно, с серьезным видом — танец был простой и вместе с тем чинный. Подруга скорбящих стоял у бара, покачиваясь под музыку, всплывшую в памяти, и представлял себе, как танцуют дети. Прямоугольник переходил в квадрат, сменялся кругом. Все дети, повсюду, все дети мира, до одного, танцевали серьезно и трогательно.
Он отступил от стойки и случайно наткнулся на человека с кружкой пива. Повернувшись, чтобы попросить прощения, он получил удар в зубы. Потом очутился за столиком в задней комнате — сидел, шевеля языком шатающийся зуб. Он удивился, почему стала мала шляпа, и нащупал на затылке шишку. Наверное, упал. Барьер оказался выше, чем он думал.
Гнев его искал мишень, описывая размашистые пьяные круги. Что еще за христианство, черт его дери? И чинные детские танцы? Попросит Шрайка перевести его в спортивную редакцию.
Заглянул Нед Гейтс — посмотреть, как он себя чувствует, — и предложил выйти на воздух. Гейтс тоже был очень пьян. Когда они выбрались из бара, на улице шел снег.
Гнев Подруги скорбящих сделался холодным и блеклым, как снег. Они плелись вдвоем свеся головы, сворачивая куда попало, пока не очутились перед сквером. В общественной уборной горел свет, и они зашли погреться.
В одной из кабинок сидел старик. Он сидел на крышке унитаза, а дверь кабинки была открыта.
Гейтс приветствовал его:
— Так, так, — тепло, светло, и мухи не кусают, а?
Старик испуганно вскочил, но в конце концов сумел ответить:
— А что вам надо? Оставьте меня, пожалуйста, в покое. — Голос у него был как флейта, — не вибрировал.
— Если нет подруги рядом, пусть будет чистенький старик, — пропел Гейтс.
Казалось, старик сейчас заплачет, но он неожиданно засмеялся. Под смехом возник страшный кашель — зародившись где - то на дне легких, он вырвался из горла. Старик отвернулся, чтобы отереть рот. Подруга скорбящих попробовал увести Гейтса, но тот не желал уходить без старика. Вдвоем они схватили старика и вытащили из кабинки, а затем — на улицу. Он обмяк у них в руках и захихикал. Подруга скорбящих подавил желание ударить его.
Снег перестал, сделалось очень холодно. Старик был без пальто, но заявил, что холод бодрит. Он был с тростью и в перчатках, потому что — пояснил он — не выносит красных рук.
Они не вернулись к Дилеханти, а пошли в итальянский подвальчик возле сквера. Старик убеждал их пить кофе, но они, посоветовав ему не лезть не в свое дело, заказали ржаное виски. У Подруги от виски защипало разбитую губу.
Гейтса раздражали изысканные манеры старика.
— Послушай, ты, — сказал он, — кончай джентльменничать и расскажи нам свою биографию.
Старик выпрямился, как маленькая девочка, когда она показывает брюшной пресс.
— А-а, кончай, — сказал Гейтс. — Мы ученые. Он — Хэвлок Эллис, а я Крафт-Эбинг. Когда вы впервые ощутили в себе гомосексуальные наклонности?
— Как вас понять, сэр? Я…
— Знаю, знаю, но все же чем, по-вашему, вы отличаетесь от других мужчин?
— Как вы смеете… — Старик возмущенно пискнул.
— Ну, ну, — сказал Подруга, — он не хотел вас обидеть. У всех ученых ужасные манеры… Однако вы страдаете извращением, не так ли?
Старик замахнулся тростью. Гейтс перехватил ее сзади и вырвал. Старик закашлялся и приложил ко рту черный атласный галстук. Не переставая кашлять, он добрел до стула в глубине комнаты.
У Подруги возникло такое же ощущение, как много лет назад, когда он случайно наступил на лягушку. При виде выдавленных внутренностей его охватила жалость, но когда он почувствовал мучения лягушки по-настоящему, жалость перешла в ярость, и он исступленно бил ее, пока не умертвил.
— Я вытяну из хрыча биографию, — крикнул он и двинулся к старику. Гейтс, смеясь, прошел за ним.
При их приближении старик вскочил. Подруга схватил его и усадил обратно.
— Мы психологи, — сказал он. — Мы хотим вам помочь. Как вас зовут?
— Джордж Б. Симпсон.
— «Б» — полностью?
— Брамхол.
— Ваш возраст и характер интересующих вас объектов?
— По какому праву вы спрашиваете?
— По праву ученого.
— Да хватит, — сказал Гейтс. — Старый пед сейчас заплачет.
— Нет, Крафт-Эбинг, сантиментам не должно путаться в ногах взыскующей науки.
Подруга обнял старика за плечи.
— Расскажите нам вашу биографию, — сказал он прочувствованным тоном.
— У меня нет биографии.
— Должна быть. У каждого есть биография.
Старик начал всхлипывать.
— Да, понимаю, повесть вашей жизни — печальная повесть. Расскажите ее, черт возьми, расскажите.
Но старик молчал, Подруга схватил его руку и стал выкручивать. Гейтс пробовал его оттащить, но он не отпускал. Он выкручивал руку всем больным и несчастным, сломленным и преданным, беспомощным и бессловесным. Он выкручивал руку Отчаявшейся, Нет - Мочи, Разочарованной-с-мужем-туберкулезником.
Старик закричал. Подругу скорбящих ударили сзади стулом.
Подруга скорбящих и жена Шрайка
Подруга скорбящих лежал на кровати одетый, как его свалили накануне ночью. Голова болела, и мысли крутились внутри боли, как зубчатка в зубчатке. Когда он открыл глаза, комната, как третья зубчатка, закрутилась вокруг боли в голове.
С кровати был виден будильник. Он показывал половину четвертого. Когда зазвонил телефон, Подруга вылез из кислой постели. Шрайк осведомился, намерен ли он идти на службу. Он ответил, что вчера перепил, но постарается прийти.
Он медленно разделся и залез в ванну. От горячей воды телу было приятно, но сердце так и осталось куском застывшего сала. Вытеревшись, нашел в аптечке остатки виски и выпил. Алкоголь согрел только изнанку желудка.
Он побрился, надел чистую рубашку, отглаженный костюм и вышел поесть.
Допив вторую чашку обжигающего кофе, он обнаружил, что идти на работу уже поздно. Но беспокоиться не стоило — Шрайк никогда его не уволит. Он слишком удобная мишень для шуток. Однажды он попробовал добиться увольнения, порекомендовав в своей колонке самоубийство. Но Шрайк сказал только: «Помни, пожалуйста, что твоя задача — расширять подписку на нашу газету. Самоубийства же, подсказывает нам логика, не способствуют достижению этой цели».
Он расплатился за завтрак и вышел из кафетерия. Может быть, его согреет ходьба. Решил идти поживее, но скоро устал и, добравшись до сквера, плюхнулся на скамью напротив обелиска в память о войне с Мексикой.
Каменный столб бросал на дорожку длинную жесткую тень. Он сидел, глядя на нее неизвестно почему, и вдруг заметил, что тень удлиняется не так, как обычно тени, а короткими толчками. Он испугался и быстро поднял взгляд на памятник. Столб казался красным и набрякшим в лучах вечернего солнца — словно вот-вот выбросит струйку гранитного семени.
Подруга скорбящих бросился прочь. На улице он рассмеялся. Да, пробовал и горячую воду, и виски, и кофе, и прогулку, но совсем забыл о женщине. Вот что нужно на самом деле. Он опять засмеялся, вспомнив, что все его приятели в колледже верили, будто половая жизнь успокаивает нервы, расслабляет мускулы и полирует кровь.
Но из всех знакомых только две женщины способны его выносить. С Бетти он уже все испортил, так что остается Мери Шрайк.
Целуя Мери, он чувствовал себя не таким посмешищем. Она целовала его, потому что ненавидела Шрайка. Но Шрайк и тут его побил. Сколько он ее ни упрашивал наставить Шрайку рога, она отказывалась.
Хотя Мери всегда постанывала и закатывала глаза, она не желала облечь свои переживания в более осязаемую форму. Когда он настаивал, она очень сердилась. В том, что стоны искренни, его убеждала перемена, происходившая в ней, когда он начинал усиленно ее целовать. Тогда ее тело издавало аромат, смешивающийся с синтетическим цветочным запахом духов, которыми она смазывала себя за ушами и над ключицами. В его же теле таких перемен не происходило. Его, как мертвеца, разогреть могло только трение, и только насилие могло вывести из неподвижности.
Он решил немного выпить, а потом позвонить Мери от Диленханти. Час был ранний, и пивная пустовала. Бармен подал ему и снова углубился в газету.
На зеркале за стойкой висела реклама минеральной воды. Там была изображена голая девушка, сохранявшая скромный вид благодаря туману, который поднимался от источника у ее ног. Зато ее грудь художник выписал с большим старанием, и соски торчали, как крохотные красные шляпки.
Он попробовал раздразнить себя мыслями о том, как Мери играет своей грудью. Она пользовалась ею так, как кокетки далекого прошлого — своими веерами. Один из приемов состоял в том, что она носила медаль очень низко. Когда он просил показать ее, Мери ее не вытаскивала, а наклонялась сама, чтобы он мог заглянуть. Хотя он часто просил показать медаль, ему так и не удалось выяснить, что на ней изображено.
Но волнения он не почувствовал. Скорее наоборот: когда он начал думать о женщинах, то еще больше остыл. Это не по его части. Тем не менее, упорствуя — от отчаяния, — он пошел звонить Мэри.
— Это ты? — спросила она и добавила, не дожидаясь ответа: — Нам надо срочно увидеться. Я с ним поссорилась. Между нами все кончено.
Она всегда изъяснялась заголовками, а ее взволнованный тон вынуждал его отвечать небрежно.
— Ладно, — сказал он. — Когда. Где.
— Все равно где, слышишь, я покончила с этой дрянью, покончила.
Она не в первый раз ссорилась со Шрайком, и он знал, что в обмен на обычное количество поцелуев ему придется выслушать больше обычного жалоб.
— Хочешь, встретимся здесь, у Диленханти?
— Нет, приходи ко мне. Мы будем одни, к тому же мне все равно надо принять ванну и одеться.
Придя к ней, он, возможно, застанет ее на коленях у Шрайка. Супруги будут рады ему, и втроем они пойдут в кино, где Мери будет тайком держать его за руку.
Он вернулся к стойке, чтобы выпить последнюю, потом купил литровую бутылку виски и взял такси. Дверь открыл Шрайк. Подругу скорбящих это не удивило, однако он смутился и, чтобы скрыть растерянность, прикинулся совсем пьяным.
— Заходи, заходи, разрушитель очага, — смеясь, сказал Шрайк. — Мадам через пять минут выйдет. Она в ванне.
Шрайк взял у него бутылку и откупорил. Потом принес газированной воды и налил себе и Подруге.
— Так, — сказал он, — значит, вот на что нас потянуло, а? На виски и на жену начальника.
Подруга скорбящих никогда не умел ему ответить. Все ответы, которые приходили в голову, были слишком общими или вытекали из слишком далекого прошлого в истории их отношений.
— Собираешь материал на местах, так я понимаю? — сказал Шрайк. — Ну, виски в счет служебных расходов не включай. Однако нам приятно видеть, что молодой человек вкладывает в дело свою душу. А то у тебя она была в пятках.
Подруга скорбящих сделал отчаянную попытку ответить остротой.
— А ты, — сказал он, — старый склочник и бьешь свою жену.
Шрайк стал смеяться, но слишком громко и слишком долго, и
закончил театральным вздохом.
— Увы, мой юный друг, — сказал он, — ты ошибаешься. Битьем занимается Мери.
Он основательно глотнул из бокала и снова вздохнул, еще театральнее.
— Мой добрый друг, я хочу поговорить с тобой по душам. Я обожаю задушевные разговоры, а в наши дни мало осталось людей, с кем можно по-настоящему поговорить. Все так очерствели. Я хочу признаться во всем чистосердечно, излить душу. Лучше излить душу, чем гноить в ней мучительную тайну.
Говоря это, он делал оживленное лицо, кивал головой и подмигивал, что, по-видимому, должно было внушать доверие и доказывать, что он — простецкий малый.
— Мой добрый друг, твое обвинение задело меня за живое. Вы, возвышенные любовники, думаете, что только вы страдаете. Но вы не правы. Хотя моя любовь лежит в плотской плоскости, я тоже страдаю. Страдание-то и бросает меня в объятья разных мисс Фаркис этого мира.
Непроницаемая маска спала, и в его голосе действительно послышалась боль.
— Она эгоистка. Эгоистическая стерва. Она была девушкой, когда мы поженились, и с тех пор сражается, чтобы таковой остаться. Спать с ней — все равно что спать с ножом в паху.
Настал черед Подруги посмеяться. Он сунулся лицом к Шрайку и засмеялся изо всех сил.
Защищаясь, Шрайк попытался обратить все в шутку:
— Утверждает, что я ее изнасиловал. Можешь себе представить, чтобы Вилли Шрайк, милый Вилли, кого-нибудь изнасиловал? Я, как ты, тоже из нежных любовников.
Мери вошла в халате. Она наклонилась к Подруге скорбящих и сказала:
— Не разговаривай с этой свиньей. Идем со мной, и захвати виски.
Войдя за ней в спальню, он услышал, как Шрайк хлопнул выходной дверью. Мери ушла в гардеробную одеваться. Он сел на кровать.
— Что тебе наговорила эта свинья?
— Он сказал, что ты эгоистка, Мери, — половая эгоистка.
— Какая наглость! Думаешь, почему он позволяет мне ходить с другими мужчинами? Из экономии. Знает, что разрешаю им меня обнимать, и, когда я прихожу домой, вся разгоряченная и растревоженная, — слышишь, заползает ко мне в постель и клянчит. Жадный паразит!
Она вышла из гардеробной в черной кружевной комбинации и стала причесываться перед туалетом. Подруга скорбящих наклонился и поцеловал ее в затылок.
— Ну, ну, — сказал она с шаловливым видом, — ты меня разлохматишь.
Он глотнул виски из бутылки, а ей налил с газированной. Когда он подал бокал, Мери его в награду чмокнула.
— Где мы будем есть? — спросила она. — Пойдем туда, где можно танцевать. Я хочу веселиться.
Они поехали на такси в ресторан «Эль гаучо». Когда они вошли, оркестр играл кубинскую румбу. Официант, наряженный южноамериканским пастухом, отвел их к столику. Мери сразу ударилась в испанщину, ее движения стали томными и развязными.
Но в знойной атмосфере он еще острее ощутил себя куском застывшего сала.
Не желая поддаваться этому чувству, он сказал себе, что это — ребячество. Где его доброе, отзывчивое сердце? Гитары, яркие шали, диковинная еда, заморские наряды — все это промышленность мечты. Ведь перестал он смеяться над рекламами, где обещают обучить ремеслу писателя, карикатуриста, инженера, развить бюст, нарастить бицепсы. Значит, он должен понимать, что люди, пришедшие в «Эль гаучо», — это те же самые люди, которые хотят писать и вести жизнь художников, быть инженерами, носить краги, хотят развить себе кисть, чтобы рукопожатие внушало уважение начальнику, хотят баюкать голову Рауля на своих налившихся грудях. Те же самые, которые просят помощи у Подруги скорбящих.
Но раздражение сидело слишком глубоко, чтобы подавить его таким способом. А пока мечты ничуть не грели — даже самые скромные.
— Мне тут нравится. Отдает, конечно, клюквой, зато весело — а мне так хочется веселиться.
Она поблагодарила его, предложив себя в формальной, неодушевленной пантомиме. На ней было облегающее, с блеском платье, похожее на облитую стеклом сталь, и ее жестикуляция производила впечатление чисто механическое.
— Почему ты хочешь веселиться?
— Каждый хочет веселиться — если он не болен.
Болен ли он? Громадной холодной волной читатели его колонки обрушились на музыку, на яркие шали, на живописных официантов, на ее глянцевитое тело. Чтобы спастись от них, он попросил показать медаль. Как девочка, помогающая старику перейти улицу, она наклонилась к нему, чтобы он мог заглянуть в вырез платья. Но он не успел ничего разглядеть — к столу подошел официант.
— Веселиться надо, веселя других, — сказал Подруга скорбящих. — Ты знаешь, как сделать меня весельчаком.
Голос его звучал безнадежно, и ей было легко пропустить его просьбу мимо ушей, но настроение у нее тоже упало.
— Мне тяжело жилось, — сказала она. — С самого начала тяжело жилось. Мать умерла у меня на глазах, когда я была маленькой. У нее был рак груди, и боли были ужасные. Она умерла, прислонившись к столу.
— Ну, я прошу тебя, — сказал он.
— Нет, давай потанцуем.
— Я не хочу. Расскажи мне про твою мать.
— Она умерла, прислонившись к столу. Боли были такие ужасные, что перед смертью она вылезла из кровати.
Мери навалилась на стол, показывая, как умерла мать, и он еще раз попытался рассмотреть медаль. Он увидели, что там изображен бегун, но надпись прочесть не смог.
— Отец с ней был очень жесток, — продолжала она. — Он был художник-портретист, человек гениальный, но…
Подруга перестал слушать и попробовал опять привести в действие свое доброе, отзывчивое сердце. Родители тоже — промышленность мечты. Мой отец был русский князь, мой отец был вождь индейцев-пиутов, мой отец был король овцеводов в Австралии, мой отец разорился на бирже, мой отец был художник-портретист. Люди вроде Мери не могут без таких историй. И рассказывают их потому, что хотят поговорить о чем-нибудь, кроме нарядов, службы, кинофильмов, — хотят поговорить о чем-нибудь поэтическом.
Когда она закончила, он сказал: «Бедная детка» — и нагнулся еще раз взглянуть на медаль. Она наклонилась, чтобы ему было виднее, и оттянула вырез платья. На этот раз ему удалось прочесть надпись: «Присуждена латинским факультетом Бостонского университета за первое место в беге на 100 ярдов».
Победа была маленькая, но удвоила его усталость, и он обрадовался, когда Мери предложила уйти. В такси он снова попросил ее отдаться. Она отказала. Он мял ее тело, как скульптор, рассердившийся на глину, но ласки его были слишком методичны, и оба они остались холодны.
Перед дверью квартиры она обернулась для поцелуя и прижалась к нему. В паху его зажглась искорка. Он не отпускал Мери, пытаясь разжечь из искры пламя. После долгого мокрого поцелуя она оттолкнула его лицо.
— Слушай, — сказал она. — Нам нельзя молчать. Надо разговаривать. Вилли, наверно, услышал лифт и подслушивает за дверью. Ты его не знаешь. Услышит, мы молчим, поймет, что целуемся, и откроет дверь. Всегдашний его номер.
Он обнимал ее и отчаянно старался сохранить искру.
— Не целуй меня в губы, — взмолилась она. — Я должна разговаривать.
Он поцеловал ее в шею, потом расстегнул платье и стал целовать грудь. Она боялась сопротивляться и боялась замолчать.
— Моя мать умерла от рака груди, — говорила она бодрым голосом девочки, которая читает гостям стихи наизусть. — Она умерла, прислонившись к столу. Отец был художник-портретист. Он вел рассеянный образ жизни. Он плохо обращался с матерью. У нее был рак груди. Она… — Он рванул платье, Мери стала мямлить и повторяться. Платье упало к ее ногам, он стал сдирать с нее белье и наконец совсем раздел ее под шубой. Он попытался повалить ее на пол.
— Не надо, не надо, — умоляла Мери. — Он войдет, застанет нас.
Он закрыл ей рот долгим поцелуем.
— Пусти меня, родной, — упрашивала она, — может, его нет дома. Если его нет, мы войдем.
Он отпустил ее. Она открыла дверь и вошла на цыпочках, пряча скатанную одежду под шубой. Он услышал, как она включила свет в передней, и понял, что Шрайк не стоял за дверью. Потом услышал шаги и юркнул за лифт. Дверь открылась, и в коридор выглянул Шрайк. На нем была только пижамная куртка.
Подруга скорбящих собирает материал на местах
В редакции на другой день было холодно и сыро, Подруга скорбящих сидел за столом, сунув руки в карманы и плотно сдвинув ноги. Пустыня, думал он, но не песчаная, а из ржавчины и телесной грязи, окруженная забором, к которому прицеплены плакаты с новостями дня. Мать убила пятерых топором, убила семерых, убила восьмерых… Бейб забил два, забил три… А за забором Отчаявшаяся, Убитая горем, Разочарованная-с-мужем-туберкулезником и остальные вдумчиво складывали из белых ракушек ПОДРУГА СКОРБЯЩИХ, словно украшая скверик захолустного полустанка.
Он не заметил, что к нему вразвалку подошел Голдсмит, и тяжелая рука опустилась на его шею, как шлагбаум. Он, заворчав, освободился. Голдсмиту злость Подруги показалась забавной, и улыбка собрала его толстые щеки в два валика, похожие на рулоны розовой туалетной бумаги.
— Ну, как наш пьяница? — спросил он, подражая Шрайку.
Подруга скорбящих знал, что Голдсмит вчера написал за него
колонку, и, боясь показаться неблагодарным, скрыл раздражение.
— Не за что, — сказал Голдсмит. — Почитать твою почту — одно удовольствие. — Он вынул из кармана розовый конверт и кинул на стол. — От поклонницы. — Он смачно подмигнул — толстое серое веко медленно съехало по влажному выпуклому глазу.
Подруга скорбящих взял письмо.
Дорогая Подруга скорбящих, я не очень умею писать письма, поэтому хотелось бы поговорить с вами лично. Мне всего 32 года, но я повидала в жизни много горя и неудачно вышла замуж за калеку. Мне до ужаса нужен умный совет, но я не могу рассказать свое дело в письме, потому что плохо пишу письма, а чтобы рассказать его, надо быть писателем. Я знаю, что вы мужчина, и это хорошо, потому что женщинам я не верю. Мне вас показали у Дилеханти — что это вы даете советы в газете, и я сразу почувствовала, что вы сумеете мне помочь. Когда я пришла туда с моим мужем-калекой, на вас был синий костюм и серая шляпа.
Мне не очень неудобно просить вас о встрече, потому что у меня такое чувство, как будто мы знакомы. Мой номер телефона: Берджес 7-7323, пожалуйста, позвоните мне, я ужасно хочу посоветоваться с вами о моей семейной жизни.
Ваша поклонница Фей Дойл.
С подчеркнутым отвращением он кинул письмо в корзину для бумаг.
Голдсмит засмеялся.
— Ты что это, Достоевский? — сказал он. — Так не годится. Не русского корчить надо, не самоубийство рекомендовать, а сделать даме ребенка, еще одного потенциального подписчика.
Чтобы избавиться от него, Подруга притворился занятым. Он сел за машинку и стал отстукивать статью.
«Жизнь большинству из нас кажется страшной борьбой, полной боли и горестей, безрадостной и безнадежной. Нет, дорогие мои читатели, это только так кажется. Каждый, как бы он ни был мал и беден, должен развить в себе чувство прекрасного. Увидьте небо в барашках облаков и море в пенных барашках… Как поется в популярной песне, „лучшее в жизни — бесплатно". А жизнь — это…»
Продолжать он не мог и вновь обратился к воображаемой пустыне, где Отчаявшаяся, Убитая горем и остальные все еще складывали его имя. Ракушки у них кончились, и теперь они клали выцветшие фотографии, замусоленные веера, расписания, игральные карты, сломанные игрушки, поддельные драгоценности — хлам, который сделала ценным память — гораздо более ценным, чем все, что можно взять у моря.
Он заглушил свое доброе, отзывчивое сердце смехом, потом достал из мусорной корзины письмо миссис Дойл. И, как розовую палатку, поставил его в пустыне. На фоне стола из черного дерева дешевая бумага заиграла теплыми телесными тонами. Он вообразил миссис Дойл палаткой с волосами и жилками, а себя маломощными мощами, черепом и костями с экслибриса ученого. Когда он запустил скелет в палатку, тот расцвел каждым суставом.
Но, несмотря на эти мысли, он чувствовал себя холодным и сухим, как отполированная кость, и сидел, пытаясь найти моральный аргумент против звонка к миссис Дойл. Если бы он верил в Христа, тогда прелюбодеяние было бы грехом, все стало бы просто, а ответить на письма — легче легкого.
Потерпев в этих поисках полную неудачу, он отправился звонить. Он вышел из редакции б холл, где стояли платные телефоны, потому что по служебным вести частные разговоры не полагалось. Стены кабины были покрыты похабными рисунками. Уставясь на два сиротливых органа, он назвал телефонистке номер Берджес 7-7323.
— Можно миссис Дойл?
— Алло, кто это?
— Мне надо миссис Дойл, — сказал он. — Это миссис Дойл?
— Да, это я. — Голос ее был напряженным, испуганным.
— Это Подруга скорбящих.
— Чья подруга?
— Подруга скорбящих — Подруга скорбящих, я веду колонку в газете.
Он хотел уже повесить трубку, но тут она проворковала:
— А-а, здравствуйте.
— Вы просили позвонить.
— Да, да… что?
Он догадался, что ей неудобно говорить.
— Когда мы можем встретиться?
— Сейчас. — Она все еще ворковала, и он почти ощутил в телефоне ее теплое влажное дыхание.
— Где?
— Решайте.
— Тогда так, — сказал он. — Приходите в сквер, к обелиску, примерно через час.
Он вернулся за стол, дописал статью и пошел в сквер. У обелиска он сел на скамью и стал ждать миссис Дойл. По-прежнему думая о палатке, он окинул взглядом небо и нашел, что оно имеет цвет холстины и плохо натянуто. Он оглядывал небо, как глупый сыщик, пытающийся найти разгадку к собственной бестолковости. Не найдя ничего, он направил наметанный глаз на небоскребы, угрожавшие скверу со всех сторон. В этих тоннах изнасилованного камня и замученной стали он обнаружил то, что ему показалось разгадкой.
Американцы растратили национальную энергию в оргии камнедробления. За короткий свой век они разбили больше камня, чем египтяне при всех фараонах. Они занимались этим истерически, исступленно, словно зная, что в один прекрасный день камни раздробят их самих.
Сыщик увидел, что в сквер вошла крупная женщина и направилась к нему. Он наскоро составил опись: ноги как булавы, груди — аэростаты, лоб голубя. Несмотря на короткую клетчатую юбку, красный свитер, кроличий жакет и вязаный берет, она была похожа на начальника полиции.
Он ждал, чтобы она заговорила первой.
— Подруга скорбящих? Ах, здравствуйте.
— Миссис Дойл? — Он встал и взял ее под руку. На ощупь рука была как бедро.
— Куда мы идем? — спросила она, когда он повел ее прочь.
— Выпить.
— К Дилеханти мне нельзя. Меня там знают.
— Пойдем ко мне.
— А это прилично?
Отвечать было не нужно, потому что она уже шла. Поднимаясь за ней по лестнице своего дома, он наблюдал за работой ее тяжелых окороков: они вращались, как два громадных жернова.
Он разлил виски с содовой и сел рядом с ней на кровать.
— Вы, наверно, знаете женщин насквозь — по вашей работе, — сказала она со вздохом и положила руку ему на колено.
Всегда в роли преследователя выступал он, но теперь ему почему-то было приятно, что роли переменились. Он отстранился, когда она придвинулась для поцелуя. Она схватила его за голову и поцеловала в губы. Сперва тикало, как часы, потом тиканье стало мягче, глуше, перешло в стук сердца. С каждой секундной сердце стучало все чаще и громче. Подруге показалось, что оно сейчас взорвется, и он грубо вырвался.
— Не надо, — взмолилась она.
— Чего не надо?
— Ох, милый, погаси свет.
Он стоял в темноте и курил, слушая, как она раздевается. Это были звуки моря: хлопнуло, как парус; заскрипели канаты; потом, словно волна о причал, шлепнула по телу резина. Ее призыв поторопиться был подобен стону моря, и когда он лег, она вздымалась, как валы, послушные лунной тяге.
Минут через пятнадцать, словно обессиленный пловец из полосы прибоя, он выбрался из постели и рухнул в большое кресло у окна. Она сходила в ванную, вернулась и села к нему на колени.
— Мне стыдно, — сказала она. — Теперь ты не будешь меня уважать.
Он отрицательно помотал головой.
— Муж у меня так себе. Он калека — я тебе писала — и старше меня. — Она засмеялась. — Весь высох. Он уже сколько лет мне не муж. Ты знаешь, моя Люси — не его дочь.
Она ожидала, что он изумится, — он видел это, и заставил себя поднять брови.
— Это длинный рассказ, — продолжала она. — Из-за Люси мне и пришлось за него выйти. Ты, конечно, удивился, как это я — и вышла за калеку. Это — длинный рассказ.
Ее голос гипнотизировал, как тамтам, и был так же монотонен. Его тело и ум одолевала дремота.
— Длинный, длинный рассказ — поэтому я и не могла написать в письме. Я забеременела; мы тогда жили на Центральной улице, а Дойлы — над нами. Я его привечала, ходила с ним в кино, хотя он калека, а я была из первых девушек нашего квартала. Когда я забеременела, я не знала, что делать, и попросила у него денег на аборт. А денег у него не было, и вместо этого мы поженились. А все оттого, что я поверила паршивому итальяшке. Я думала, он джентльмен, а когда попросила его жениться — так он прогнал меня от дверей и даже денег на аборт не дал. Мол, если он даст мне деньги — значит, это от него, а у меня будет за него зацепка. Ну, слыхал ты когда-нибудь про такого подлеца?
— Нет, — ответил он. Жизнь, о которой она рассказывала, была тяжелее даже, чем ее тело. Словно гигантское живое письмо Подруге скорбящих в форме пресс-папье опустилось на его мозг.
— Когда я родила, я написала подлецу, но он даже не ответил, и года два назад я подумала, как это несправедливо, что Люси должна зависеть от калеки, хотя у нее есть все права. Я нашла его фамилию в телефонной книге и повела к нему Люси. Я и ему тогда сказала — что для себя ничего не хочу, а Люси должна иметь то, что ей причитается. Ну, продержал он нас час в прихожей — слышишь, я прямо кипела от злости, когда думала, сколько мыс дочкой терпели от него издевательств, — а потом дворецкий ведет нас в гостиную.
Очень тихо и благородно — потому что деньги это еще не все, а джентльмен из него такой же, как и меня дама, — итальяшка вшивый — я ему говорю, что он должен помогать Люси, раз он ей отец. А у него хватило наглости сказать, что он меня в первый раз видит и, если я не перестану ему надоедать, он меня посадит. Тут я вспылила и выдала подлецу — объяснила, что я о нем думаю. А пока мы ругались, вошла какая-то женщина, видно жена, — ну я и закричала: «Он отец моего ребенка, он отец моего ребенка». Они пошли к телефону, вызывать полицию, а я взяла дочку и удрала.
И тут начинается самая комедия. Муж у меня чудак, всегда делает вид, будто он ей отец, и даже мне говорит — «наш ребенок». Ну, пришли мы домой, а Люси все спрашивает, почему я чужого дядю называла ее папой. И допытывается, правда ли Дойл ей не папа. А на меня, наверно, затмение нашло — запомни, говорю, что твоего отца звать Тони Бенилли и что он меня обманул. Наплела ей всякой такой чепухи — кинофильмов, видно, насмотрелась. Ну, приходит он домой, а Люси первым делом говорит ему, что он ей не папа. Он разозлился и начал допытываться, что я ей наплела. А мне его гонор не понравился — и говорю: «Правду». И еще, видно, мне надоело, что он с ней так носится. Он на меня накинулся, отвесил оплеуху. Ну, такого я бы никакому мужику не спустила — дала ему сдачи; он на меня с палкой, но промазал, свалился на пол и стал плакать. А дочка тоже на полу плачет, ну и меня разобрало: не успела оглянуться — сама лежу на полу и реву.
Миссис Дойл подождала, что он скажет, но он молчал, пока она не подтолкнула его плечом.
— Наверно, муж любит вас и ребенка, — сказал он.
— Может, и так — но я была красивая девушка, могла бы выбрать получше. Кому охота коротать свой век с калекой, недомерком?
— Ты и сейчас красивая, — сказал он неизвестно почему — разве что с испугу.
Она наградила его поцелуем, потом потащила на кровать.
Подруга скорбящих в мрачной трясине
Вскоре после ухода миссис Дойл Подруга скорбящих захворал и перестал выходить из дому. Первые два дня болезни смыл сон, но на третий день его воображение опять заработало.
Он увидел себя в витрине ломбарда, заваленной меховыми шубами, бриллиантовыми перстнями, часами, охотничьими ружьями, рыболовными снастями, мандолинами. Все эти вещи были принадлежностями страдания. Изуродованный блик корежился на лезвии кинжала, обшарпанный рог кряхтел от боли.
Он сидел в витрине и думал. Человек стремится к порядку. Ключи в одном кармане, мелочь в другом. Строй мандолины: соль-ре - ля-ми. Физический мир стремится к беспорядку, к большой энтропии. Человек против природы… многовековая битва. Ключи хотят смешаться с мелочью. Мандолина старается расстроиться. Во всяком порядке скрыт зародыш разрушения. Всякий порядок обречен, но биться за него имеет смысл.
Труба с ярлыком «2 дол. 49 ц.» подала сигнал к бою, и Подруга скорбящих ринулся в схватку. Сначала из старых часов и резиновых сапог он сложил фаллос, потом из зонтиков и мушек для рыбной ловли — сердце, потом из шляп и музыкальных инструментов — бубну, после — круг, треугольник, квадрат, свастику. Но всем фигурам не хватало законченности, и он начал строить гигантский крест. Крест уже не вмещался в ломбард, и тогда он перенес его на берег океана. Тут каждая волна добавляла к его запасам больше, чем он успевал пристраивать к кресту. Труд его был титанический. Он брел от линии прибоя к своему творению, нагрузившись морским сором — бутылками, ракушками, кусками пробки, рыбьими головами, обрывками сетей.
Пьяный от изнеможения, он наконец заснул. Проснулся очень слабым, но умиротворенным.
В дверь робко постучали. Она была не заперта, и вошла Бетти со свертками в обеих руках.
Подруга скорбящих сделал вид, что спит.
— Здравствуй, — сказал он вдруг.
Бетти вздрогнула и обернулась.
— Мне сказали, что ты болен, — объяснила она, — я принесла поесть — горячего супу и всякое такое.
Он так устал, что даже не разозлился на Бетти за эту наивную опеку и позволил кормить себя с ложечки. Когда он поел, она отвори ла окно и перестелила постель. Наведя порядок в комнате, она собралась уходить, но он остановил ее:
— Посиди, Бетти.
Она придвинула к кровати стул и села молча.
— Извини меня за ту сцену, — сказал он. — Я, наверное, был нездоров.
Показывая, что прощает его, он помогла ему найти оправдание:
— Все из-за работы — из-за Подруги скорбящих. Почему ты не бросишь?
— И чем займусь?
— Поступишь в рекламное агентство или еще куда-нибудь.
— Ты не понимаешь, Бетти, — я не могу бросить. И если бы даже бросил — какая разница? Писем-то не забудешь, сколько ни старайся.
— Может, я и не понимаю, — сказала она, — но, по-моему, ты валяешь дурака.
— Попробую все-таки тебе растолковать. Начнем с самого начала. Человека берут в газету, чтобы он давал советы читателям. Сама рубрика — просто приманка для подписчиков, и вся редакция смотрит на это как на шутку. Он рад работе, потому что надеется перебраться отсюда в отдел светской хроники, а кроме того, ему надоело быть на побегушках. Он тоже смотрит на работу как на шутку, но проходит несколько месяцев, и шутка перестает его смешить. Он понимает, что большинство писем — это, в самом деле, смиренная мольба о нравственной и духовной помощи, что это косноязычные свидетельства подлинной муки. Оказывается, читатели принимают его всерьез. Впервые в жизни он вынужден рассмотреть ценности, составляющие основу его бытия. Рассмотрение приводит к выводу, что он вовсе не шутник, а жертва шутки.
Хотя он старался рассуждать здраво, он видел, что Бетти все равно считает его глупцом. Он закрыл глаза.
— Ты устал, — сказала она. — Я пойду.
— Нет, я не устал. Я просто устал говорить, поговори ты.
Она рассказал ему о своем детстве на ферме и о своей любви к животным, о деревенских звуках и деревенских запахах и о том, как все свежо и чисто в деревне. Она сказала, что ему надо пожить там, и когда он поживет там, он поймет, что все его неприятности — это городские неприятности.
Во время ее рассказа в комнату ворвался Шрайк. Он был пьян и сразу поднял крик, как будто думал, что Подруга скорбящих уже одной ногой в могиле и плохо слышит. Бетти ушла, не попрощавшись.
Шрайк, наверно, поймал конец сельской темы, — он сказал:
— Друг мой, я согласен с Бетти, ты эскепист. Но я не согласен, что сельская жизнь для тебя — правильный выход.
Подруга скорбящих отвернулся к стене и накрылся с головой. Но от Шрайка не было спасения. Он повысил голос и заговорил Подруге в затылок сквозь одеяло:
— Есть другие пути, и, дабы расширить твой кругозор, я тебе их обрисую. Но прежде о бегстве в Сельскую Жизнь, как советует Бетти.
Ты сыт по горло городом и его несметными толпами. Пути-дороги людские, — ибо, добывая, ссуживая, тратя, ты опустошаешь свой внутренний мир, — тебе не по нутру. Автобусом слишком долго, а метро набито битком. Куда податься? Ты покупаешь ферму и идешь за влажным задом лошадки, без запонок, душа нараспашку, пашешь свои просторные щедрые акры. Взрываешь черную жирную землю, а ветер несет над нивой запах сосны и навоза, и ритмы древнего, древнего труда вселяются в твою душу. И в этом ритме ты сеешь, и плачешь, и режешь скот без жалости и гнева средь тучных злаков и картошки. Твоя поступь — тяжелая чувственная поступь танцем пьяного индейца, и ты роняешь семя в матушку-землю. Ты сеешь не яблоки раздора, а овсо и просо… Ну, что скажешь, мой друг, Сельская Жизнь — по тебе?
Подруга скорбящих не ответил. Он думал о том, как Шрайк ускорил его болезнь, приучив держаться за единственную свою надежду, Христа, ватной варежкой слов.
— Твое молчание я воспринимаю как знак того, что Сельскую Жизнь ты отвергаешь. Согласен с тобой. Такая жизнь скучна и многотрудна. Рассмотрим теперь Жаркие Страны.
Ты живешь в тростниковой хижине с дочерью царя — это юная дева с гибким станом и древней мудростью в глазах. Груди ее — золотые крапчатые груши, живот подобен дыне, и пахнет она папоротником джунглей. Ввечеру над синей лагуной под бледной луной ты поешь о любви ей одной — нежные звукуки и словаки ее родного языкака. У тебя золотисто-шоколадное тело, как у нее, и лишь негодующий перст миссионера поможет туристам отличить тебя от соплеменников. Туристы завидуют твоей набедренной повязке, твоему беззаботному смеху, маленькой коричневой подруге и пальцам, заменившим вилку. А ты им не завидуешь, и когда прелестная светская девушка приходит ночью к тебе в хижину, чтобы разузнать секрет твоего блаженства, ты прогоняешь ее прочь, на яхту, которая переминается на горизонте, как нервная скаковая лошадь. И ты проводишь дни в мечтах, за рыбной ловлей, на охоте, в танцах, купании, поцелуях, собирании цветов, чтобы потом их вплели в твои волосы… Ну, мой друг, как ты смотришь на Жаркие Страны?
Подруга хотел остановить его и прикинулся спящим. Но Шрайк не поддался на обман.
— Опять молчание, — сказал он, — и опять ты прав. Жаркие Страны себя изжили, и мало проку подражать Гогену. Но не отчаивайся: мы только поскребли поверхность нашего предмета. Рассмотрим Гедонизм или — бери наличными, а кредит побоку.
Ты посвятил свою жизнь погоне за удовольствиями. Но без излишеств, учти, — ты знаешь, что твое тело — машина наслаждения, и обращаешься с ней бережно, чтобы получить от нее максимум. И гольф, и выпивка, и Джек О'Брайен Филадельфийский с его гантелями, и испанские танцовщицы. Не пренебрег ты и наслаждениями ума. Ты блудишь под холстами Пикассо и Матисса, ты пьешь из ренессансных бокалов и часто проводишь вечерок у камина с томиком Пруста и яблоком. Увы, после многого веселья наступает день, когда ты понимаешь, что должен умереть. Ты не раскис и решаешь закатить последний пир. Приглашаешь всех своих бывших любовниц, тренеров, художников, собутыльников. Гости в черном, прислуга черная, стол — гроб, сработанный для тебя Эриком Гиллом. Подают черную икру, чернику, лакричные конфеты, черный кофе. Когда танцовщицы закруглятся, ты встаешь и просишь тишины, ибо хочешь изложить свою жизненную философию. «Жизнь, — говоришь ты, — это клуб, где плакс не держат, где сдают только раз и нельзя сказать „пас". Так что если даже карты подтасованы и краплены рукой судьбы — играй, играй, как джентльмен и спортсмен». Пей до дна, хватай что есть на буфете, пользуйся девчонками из верхних комнат, но помни о ней, когда приходят тузы, и в ящик сыграй, как настоящий игрок, без нытья. Я даже не спрашиваю, как ты смотришь на такое бегство. У тебя нет денег, да и не настолько ты глуп, чтобы выдержать это. Зато теперь мы подошли к тому, что устроит тебя гораздо больше…
Искусство! Стать писателем или художником. Если ты замерз, грейся стронциановой Тициана, если голоден, насыщайся духовно благородными периодами Баха, гармонией Брамса, громами Бетховена. Не кажется ли тебе, что неспроста их фамилии начинаются с Б? Но не надо домыслов — оставь трех Б. и вспомни эти бессмертные строки: «Когда мелодии нежданной прощально эхо вторит меркнущего дня». Какой ритм! Скажи им: возьмите себе ваших светских шлюх и жареную утку в апельсинах. Тебе же — I'art vivant, живое искусство, как ты его называешь. Скажи им: я знаю, что башмаки у меня прохудились и что лицо у меня в прыщах, да, я кривозубый и косолапый, но мне все равно, потому что завтра в Карнеги-холле играют последние квартеты Бетховена, а дома у меня — полный Шекспир в одном томе.
После Искусства Шрайк обсудил самоубийство и наркотики. Покончив с ними, он подошел к тому, что, по его словам, было зерном его лекции.
— Мой друг, я, конечно, понимаю, что и Сельская Жизнь, и Жаркие Страны, и Гедонизм, и Искусство, и самоубийство, и наркотики для нас — пустой звук. Мы не из тех, которые глотают верблюдов, а высиживают комара. Единственное наше спасение — Бог. Церковь — единая наша надежда, Первая Церковь Христа Дантиста, где ему поклоняются как Предотвратителю Порчи. Церковь, чей символ — Троица в новом стиле: Отец, Сын и Жесткошерстный Фокстерьер… Итак, мой добрый друг, позволь продиктовать тебе письмо Христу:
Дорогая Подруга скорбящих подруг скорбящих, мне двадцать шесть лет, и я трублю в газете. Жизнь для меня — неутешительная пустыня. Ни от еды, ни от питья, ни от женщин я не получаю удовольствия, и даже искусство не приносит мне нынче радости. Леопард Недовольства бродит по улицам моего города, Лев Уныния притаился за стенами моей цитадели. Кругом — запустение и томление духа. Мне паршиво. Как мне верить, как хранить веру в такой день и час? Правда ли, что величайшие ученые опять в Вас верят? Я читаю Вашу колонку, и она мне очень нравится. Однажды Вы там написали: «Если же соль потеряет силу, кто вернет ей прежний вкус?» Правильна ли отгадка: «Не кто иной, как Иисус?» Заранее благодарю Вас за скорый ответ и остаюсь преданный Вам
Постоянный подписчик.
Подруга скорбящих за городом
Бетти навестила Подругу скорбящих на другой день и после этого стала приходить ежедневно. Она приносила ему суп и отварную курицу.
Судя по всему, она считала, что он не хочет выздоравливать, однако все ее распоряжения он выполнял, понимая, что болезнь его сама по себе ничего не значит. Это просто тело пустилось на хитрость, чтобы дать выход болезни более глубокой.
Стоило ему заговорить о письмах или о Христе, она сразу меняла тему и потчевала его длинными рассказами о жизни на ферме. Она, очевидно, думала, что если тело выздоровеет, то и все остальное наладится. Он догадывался, что за ее рассказами о ферме кроется какой-то четкий план, но какой именно — сообразить не мог.
В первый же весенний день ему полегчало. Он провалялся больше недели и мечтал выйти. Бетти повела его в зоопарк, и он удивлялся ее нескрываемой вере в целительную силу животных. Она, очевидно, думала, что, глядя на буйвола, он тоже окрепнет.
Он хотел выйти на работу, но Бетти уговорила его отпроситься у Шрайка еще на несколько дней. Из благодарности он послушался. Тогда она открыла ему свой план. У тети до сих пор есть ферма в Коннектикуте, где она родилась, они поедут туда и поживут в пустом доме.
Приятель одолжил ей старый «форд». Они погрузили в него еду и вещи и с утра пораньше отправились. Когда они выехали на окраину, Бетти стала радоваться, как ребенок, с восторгом приветствуя деревья и траву.
Они проехали Нью-Хейвен и в Бремфорде свернули с шоссе на грунтовую дорогу, которая вела в Монкстаун. Дорога проходила через глухой лес, и им попались на глаза несколько рыжих белок и одна куропатка. Он вынужден был признаться — даже себе, — что бледные молодые листья, формой и раскраской напоминавшие огни свечек, красивы, а воздух пахнет жизнью и свежестью.
На ферме был пруд, и, подъезжая к дому, они увидели его за деревьями. Ключа у Бетти не было, дверь пришлось взломать. От тяжелого затхлого духа старой мебели и преющего дерева они раскашлялись. Он заворчал. Бетти сказала, что ей это не мешает — ведь запах нэ человечий. Она вложила столько в слово «человечий», что он рассмеялся и поцеловал ее.
Решили расположиться на кухне, потому что она была больше комнат и не так загромождена старой мебелью. Распахнули все четыре окна и дверь, чтобы проветрить.
Пока он разгружал машину, Бетти подмела и растопила плиту сломанным стулом. Формой и размерами плита напоминала паровоз, но тяга была хорошая, и огонь скоро разгорелся. Он принес воды из колодца и поставил кипятить. Когда вода нагрелась, они вымыли старый матрас, который нашли в одной из спален. Потом положили его сохнуть на солнце.
Только перед закатом Бетти позволила ему прекратить работу. Он сидел и курил, а она готовила ужин. На ужин были бобы, яйца, хлеб, фрукты, потом они выпили по две чашки кофе.
Ужинать кончили засветло и пошли смотреть пруд. Они сидели рядышком, спиной к толстому дубу, и наблюдали, как цапля охотится за лягушками. Когда собрались уходить, к пруду с той стороны подошли два оленя с олененком. Оленей донимали мухи — они вошли в воду и принялись щипать листья кувшинок. Бетти неосторожно пошевелилась, и олени убежали в лес.
Домой они вернулись в потемках. Зажгли керосиновую лампу, которую привезли с собой, втащили в кухню матрас и постелили на полу, возле печки.
Перед сном они вышли на крыльцо — выкурить по последней. Стало очень холодно, и ему пришлось сходить за одеялом. Они сели, прижавшись друг к другу, и укутались одеялом.
На небе было много звезд. Где-то в лесу совка подняла страшный шум, а когда она умолкла, ей ответила гагара на пруду. Почти так же громко, как гагара, кричали сверчки.
Холод проникал и под одеяло. Они ушли в дом, жарко растопили печку и, чтобы грела подольше, набили обломками дубового стола. Съели по яблоку, надели пижамы и легли. Он стал ее гладить, но когда она сказала, что она девушка, отстал и уснул.
Когда он проснулся, в глаза било солнце. Бетти уже хлопотала у плиты. Она отправила его на пруд, умываться, и к его приходу завтрак уже был готов. На завтрак были яйца, ветчина, картошка, жареные яблоки, хлеб и кофе.
После завтрака она принялась наводить уют, а он поехал в Монкстаун за фруктами и газетами. Он заправился в гараже «Эх, да поехали» и рассказал заправщику про оленей. Тот ответил, что у пруда до сих пор много оленей, потому что туда не добрались жиды. Он сказал, что олени не из-за охотников перевелись, а из-за жидов.
Вернулся он ко второму завтраку, а после еды они пошли гулять в лес. Под деревьями было очень грустно. Хотя весна уже хозяйничала в природе, тут, в глубокой тени, не было ничего, кроме смерти: гнилые листья, серые и белые грибы, и над всем — гробовая тишина.
Позже стало жарко, и они решили выкупаться. Влезли нагишом. Вода была такая холодная, что они почти сразу выскочили. Побежали домой, глотнули джину и сели на кухонном крыльце, погреться на солнышке.
Бетти не сиделось на месте. По дому делать было нечего, и она взялась стирать белье, в котором сюда ехала. Потом натянула между деревьями веревку.
Он сидел на крыльце и наблюдал за ее деятельностью. Волосы она повязала клетчатым платком, а больше на ней ничего не было. Она выглядела чуть толстоватой, но когда тянулась с чем-то к веревке, толщина исчезала. За руками кверху подтягивались груди и делались похожи на два больших пальца с розовыми кончиками.
Ни малейший ветерок не спорил с властью земного притяжения. Молодые зеленые листочки поникли и блестели на жарком солнце, как щиты лилипутского войска. В лесу пел дрозд. Голос его был похож на флейту, осипшую от слюны.
Бетти замерла с поднятыми руками, прислушиваясь к пению. Когда птица смолкла, она обернулась к нему с виноватой улыбкой. Он послал ей воздушный поцелуй. Она поймала его по-детски чувственным жестом. Он перелетел через перила крыльца и побежал поцеловать ее. Когда они упали, в ноздри ему ударил смешанный запах пота, мыла и примятой травы.
Подруга скорбящих возвращается
Через несколько дней они отправились обратно, в город. Когда они въехали в трущобы Бронкса, Подруга скорбящих понял, что Бетти не удалось исцелить его, а сам он не ошибся, сказав, что никогда не сможет забыть письма. От сознания этого ему стало легче, потому что он уже готов был считать себя дураком и притворой.
По улицам ожесточенно, как в сновидении, двигались толпы людей. Глядя на их изломанные руки и прорехи ртов, он томился желанием помочь, и оттого, что желание это было искренним, испытывал радость, хотя к ней примешивалось чувство вины.
Он увидел, как мужчина шагами смертельно раненного вошел в кинотеатр, где показывали фильм «Красавица блондинка». Он увидел, как лохматая женщина с громадным зобом вытащила из урны журнал любовного содержания и была очень взволнована своей находкой.
Совесть скребла, он принялся обобщать. Люди всегда боролись с невзгодами при помощи мечты. Кинофильмами, радио, газетами мечты, когда-то могущественные, превращены в мыльные пузыри. Из всех предательств это — худшее.
Его же роль тут оказалась особенно скверной из-за того, что он способен на мечту о Христе. Он понимал, что потерпел здесь неудачу не столько из-за насмешек Шрайка и неуверенности, сколько из-за недостатка смирения.
Наконец он лег в постель. Прежде чем уснуть, он поклялся себе, что честно постарается быть смиренным. Утром, отправляясь в редакцию, он повторил клятву.
К счастью для него, Шрайка в редакции не было, и смирение не подверглось проверке сразу. Он пошел прямо к столу и начал распечатывать письма. После десятка ему стало тошно, и он решил, что сегодня напишет статью, вообще не читая их. Он не хотел испытывать себя слишком пристрастно.
Чехла на машинке не было, и он вставил под валик лист бумаги.
«Христос умер за вас.
Он умер за вас, пригвожденный к дереву. Его вам дар — страдание; только через страдание вы можете Его познать. Берегите этот дар, ибо…»
Он выдрал лист из машинки. У него даже слово Христос — суета. Он долго смотрел на кипу писем, потом перевел взгляд на окно. Редкий весенний дождичек превращал пыльные битумные крыши домов в лакированную кожу.
От воды все стало скользким, и ни взгляд его, ни чувства нигде не находили опоры.
Подруга скорбящих снова повернулся к столу и взял грязный пухлый конверт. Он читал письмо по той же причине, по какой зверь грызет раненую лапу: чтобы сделать боли больно.
Уважаемая Подруга скорбящих, будучи поклонницей вашей колонки, из-за хороших советов, которые вы даете людям, попавшим в беду наподобие той, в какую я попала, я буду вам очень благодарна, если вы посоветуете, что мне делать, когда я поделюсь моей бедой.
Во время войны мне сказали, что если я хочу помочь стране, то надо выйти за того, с кем я помолвлена, потому что он отправляется послужить Дяде Сэму, и чтобы лишних слов не тратить, мы с ним поженились. Когда война кончилась, ему оставалось служить еще год, так уж он завербовался, а я конечно работала, потому что за все про все, за патриотический за долг за свой он греб 18 долларов.
Проработала три года, а потом пришлось сидеть дома, потому что родилась дочка, а супруг, между прочим, то устроится на работу, то уволится, то устанет, то побродить захочет. Пока ребенка не было, все было ничего, я работала, по счетам платила, а как уволилась, все пошло наперекосяк. Прошло еще два года, и брак наш увенчался еще мальчиком. Дочке будет восемь лет, а мальчику шестой.
После второго ребенка я решила, что, несмотря на состояние здоровья, потому что меня сшибла машина, когда я носила первого, мне надо работать, но долги копились — двух детей поднять это подъемный кран нужен, не говоря уже что больная. Работала я вечерами, когда муж был дома, чтобы ребенок не оставался без присмотра, а когда мальчику исполнилось три, я решила взять жильца, который жил и столовался у своей сестры, а она как раз переехала в Рочестер, и ему пришлось искать квартиру с кормежкой. Муж согласился, мол, лишних 15 долларов ему не помешают, тем более человек тот был вдовец, с двумя детьми, а муж его знал двенадцать лет, короче, товарищи, и гуляли вместе и все такое. Прожил он у нас год, и тут в один прекрасный день муж не является ночевать — ночь его нет, две нет, нет и нет. Я заявила на розыск, и через два с половиной месяца меня вызывают на Гроув-стрит и говорят, что он арестован как за отказ содержать меня и детей. Отсидел он три месяца из шести, и судья меня просит поверить ему в последний раз, я дура согласилась, а он когда пришел домой, так меня избил, что потом зубной врач содрал с меня 30 долларов.
Армия платила ему пенсию, но чеки получала конечно я и в магазине брала по ним я, до того он обленился, и за него расписывалась, а рядом писала свое имя по доверенности, но один раз когда отдавала хозяину за квартиру, потому что он нас выселить хотел, за него-то расписалась, а за себя по доверенности забыла, тут он и решил со мной сквитаться за те три месяца, послал в Вашингтон копию чека, чтобы меня посадили как за подделку, но мясник доказал, что я всегда расписываюсь на чеках и меня отпустили.
Он много раз грозился меня убить, говорил, что убийство миссис Миллс не раскрыли и с тобой будет так же, а когда постель стелила, то молоток найду у него под подушкой, то ножницы, то нож, то ломик, то еще что-нибудь, а спросишь зачем — прикидывается будто ничего не знает или мол дети подложили, и еще прошло сколько-то месяцев, я как всегда пошла работать, потому что жилец в тот день сидел дома — хозяину его материала не привезли, и ему делать было нечего, он работал сдельно. А завтрак я всегда готовила с вечера и на стол накрывала, чтобы полежать до семи, мальчик тогда лежал в больнице округа Минг с болезнью, которой меня муж заразил, а сам заболел, когда сражался за Дядю Сэма и меня тоже в клинике лечили уколами. Пока значит я лежала в постели, мой потихоньку от меня услал жильца за газетами, тот вернулся, а того нет. Я выхожу значит попоздней из комнаты, а жилец говорит его нет. Накормила дочку завтраком, сама поела и пошла постирать что за неделю накопилось, а жилец читал газету.
В двенадцать часов пришла мать посидеть с ребенком, потому что мне надо было пойти подработать, убрать у одних. А дома еще беспорядок, постели не убраны, все валяется где попало, да и подмести надо, потому что все утро стирала и не успела, а тут думаю, раз мать тут, она поможет и вдвоем мы быстро управимся. Ношусь как угорелая, чтобы развязаться поскорей, подмела, все по местам расставила, чтобы мужу прицепиться было не к чему, когда придет. У нас было три кровати, и когда я последнюю убирала, двойную, нагнулась со щеткой, чтобы пух и пыль из-под низу вымести, глядь, а на меня рожа смотрит, жуткая, как черт, только белки блестят и лапы растопырил, сейчас удушит, а как увидела, что он шевелится, испугалась до умопомрачения и у меня сделалась истерика, до ночи не могли унять и парализовало всю нижнюю часть тела. Думала, уже никогда не смогу ходить. Мать вызывала врача и он сказал, что за такие штуки надо отправлять в сумасшедший дом. Это супруг лежал под кроватью с семи утра чуть не до полвторого, а весь обгадился, вместо того, чтобы в уборную пойти в своем испражнении лежал, стерег, чтобы испугать меня.
Так что я его опасалась и не спала с ним, а спала на кровати жильца в другой комнате, потому что жильцу велела искать другую квартиру думала может он приревновал или еще что. Бывало, проснусь ночью, а он надо мной стоит, смеется, как ненормальный, а то голый расхаживает и всякое такое.
Я купила новую швейную машину, потому что немного шью на заказ, чтобы свести концы с концами, и один раз пошла относить работу, а когда вернулась, вижу, что дом обчистили, оказывается он заложил мою швейную машину и все, что можно было в доме заложить. А с тех пор как он начал меня пугать, я стала бояться по ночам когда вставала к детям, что он стоит за занавеской и выскочит или же схватит меня, до того как я зажгу свет. А раз я не могла заставить его нормально работать и мне приходилось быть и матерью и хозяйкой и кормилицей семьи и не знаю чем еще, мне нервы распускать было нельзя потому что один раз я потеряла хорошую работу из-за своих нервов, и я просто съехала от него тем более в доме как говорится хоть шаром покати. Он стал упрашивать, чтобы я ему поверила в последний раз, ну я и думаю, что он как-никак отец, поверила, а он такое продолжал вытворять, что описывать никакой бумаги не хватит и я опять ушла. Четыре раза мы сходились и четыре раза я уходила. Пожалуйста поверьте мне Подруга скорбящих, что я ушла только ради детей и простите меня потому что я не знаю как вы обеспечены, а от него за три с лишним года я получила всего-навсего 200 долларов.
Месяца четыре назад я передала ему ордер на арест за уклонение от родительских обязанностей, а он порвал его и ушел и с тех пор я его не видела, сама болела воспалением легких, а девочка болела гриппом и я не могла расплатиться с врачом, пришлось лечь в больницу, а когда вышла из больницы пришлось пустить жильца обратно потому что это верные 15 долларов в неделю, и если что со мной случится он все-таки в доме и присмотрит за детьми. Но он пристает ко мне с нехорошими предложениями, а по субботам приходит вечером пьяный, в доме никого нет и я не знаю что делать, но пока что ничего не позволила. Где мой муж я не знаю, но получила от него поганое письмо, где он даже невинных детей обвиняет во всяких гадостях и ехидно интересуется насчет геройского жильца.
Дорогая Подруга скорбящих, пожалуйста не сердитесь на меня за такое длинное письмо и что отняла у вас столько времени на чтение, но если бы я написала все что мне пришлось терпеть пока мы с ним жили, то набралось бы на книгу и пожалуйста простите за некрасивые выражения потому что я хотела объяснить, что творится у меня дома. У каждой женщины должен быть свой дом, ведь правильно? Так что, Подруга скорбящих пожалуйста черкните в вашей статье несколько строк на счет моего письма, чтобы я догадалась, что вы мне помогаете. Пустить ли мне мужа обратно? И как мне вырастить моих детей. Заранее спасибо за все что вы мне посоветуете и остаюсь уважающая вас
Широкоплечая.
Пояснение. Уважаемая Подруга скорбящих, не думайте, что у меня широкие плечи. Это я так отношусь к жизни, то есть иначе сказать к себе.
Подруга скорбящих и калека
Подруга скорбящих избегал Бетти, потому что в ее обществе сам себе казался смешным. Он все еще развивал в себе смирение, и чем больше он опускался в насмешках над собой, тем легче ему это давалось. Звонила Бетти, он — нет, и после того, как он дважды не пожелал отзвонить ей, она оставила его в покое.
Как-то раз, примерно через неделю после возвращения в город, Голдсмит позвал его выпить. Он принял приглашение с таким смиренным видом, что Голдсмит испугался и чуть не повел его к врачу.
У Диленханти они увидели возле стойки Шрайка и присоединились к нему. Голдсмит пытался что-то шепнуть ему насчет состояния Подруги, но Шрайк был пьян и не слушал. До него дошла только часть сказанного Голдсмитом.
— Не могу с тобой согласиться, дражайший Голдсмит, — сказал Шрайк. — Не называй больными тех, кто хранит веру. Они суть здравы. Это ты больной.
Голдсмит не ответил, и Шрайк обратился к Подруге скорбящих:
— Так расскажи нам, брат, что вывело тебя на стезю веры? Музыка в церкви, или смерть любимой, или, может статься, мудрый старец-священник?
Привычные шутки больше не действовали на Подругу. Он улыбнулся Шрайку так, как должны улыбаться своим палачам святые мученики.
— Ах, как же я недогадлив, — продолжал Шрайк. — Ну конечно, — письма. Не сам ли я говорил, что Подруги скорбящих — жрецы Америки двадцатого века?
Голдсмит засмеялся, а Шрайк, чтобы рассмешить его еще, применил испытанный прием: прикинулся оскорбленным.
— Ты, Голдсмит, — гнусный продукт нашей эпохи неверия. Ты не способен веровать, ты способен только смеяться. Ты засеваешь духовную пашню солью разъедающего скепсиса и забываешь, что соль — враг огня, так же как и льда. Остерегись, ибо соль твоя — не аттическая соль, а английская. Она не укрепляет, а опустошает.
Бармен, стоявший рядом, выждав паузу, обратился к Подруге скорбящих:
— Извините, сэр, тут с вами хочет познакомиться один джентльмен, Дойл его фамилия. Он говорит, что вы знаете его жену.
Не дожидаясь ответа, он поманил кого-то из тех, кто стоял у другого конца стойки. Сигнал был принят маленьким калекой, который сразу направился к ним. Ковыляя, он делал много ненужных движений, как полураздавленное насекомое.
Бармен представил калеку как мистера Питера Дойла. Дойл был очень взволнован, всем по два раза пожал руки и широким жестом заказал виски на всех.
Прежде чем поднять бокал, Шрайк внимательно разглядел калеку. Закончив осмотр, он подмигнул Подруге и сказал:
— Ну, за человечность. — Он потрепал Дойла по спине. — Человечество, человечество… — Тут он со вздохом грустно покачал головой. — Что есть человек, который…
Бармен опять вмешался в интересах своего приятеля и попробовал перевести разговор на привычные рельсы:
— Мистер Дойл — инспектор по счетчикам в газовой компании.
— Отличная, должно быть, должность, — сказал Шрайк. — Я полагаю, что он может ознакомить нас с иной точкой зрения. Наш, журналистов, опыт во многом ограничен, и я хочу выслушать обе стороны.
Дойл, который смотрел на Подругу скорбящих, словно что-то отыскивая, теперь повернулся к Шрайку и сделал попытку ему угодить.
— Знаете, что люди говорят, мистер Шрайк?
— Нет, добрейший, — что же говорят люди?
— У всех теперь рефрижераторы, и мы, газовые контролеры, теперь вместо развозчиков льда в анекдотах. — И он, заметно робея, скорчил коварную рожу.
— Что? — рявкнул Шрайк. — Я вижу, сэр, вы не тот, кого мы искали. Вы ничего не можете знать о человечности; вы сами взываете к ней. Передаю вас Подруге скорбящих. — Он поманил Голдсмита и удалился.
Калека был смущен и рассержен.
— Ваш товарищ — ненормальный.
Подруга скорбящих все еще улыбался, но улыбка стала другой. Полной сочувствия и немного грустной. Новая улыбка предназначалась Дойлу, и калека это понял. Он благодарно улыбнулся в ответ.
— Да, забыл, — сказал Дойл, — жена просила, если на вас налечу, позвать к нам есть. Потому я и попросил Джейка нас познакомить.
Подруга был так занят своей улыбкой, что согласился, не подумав о вечере, проведенном с миссис Дойл. Калека был польщен и пожал ему руку в третий раз. Очевидно, это был у него единственный светский жест.
После нескольких рюмок Дойл сказал, что устал, и Подруга скорбящих предложил перейти в заднюю комнату. Они нашли свободный столик и сели друг против друга.
У калеки было очень странное лицо. Глаза располагались несимметрично, рот не под носом, лоб широкий и костистый, а круглый подбородок — как лоб в миниатюре. Он напоминал фотомонтаж-загадку из кинематографических журналов.
Они сидели, глядя друг на друга, покуда это напряженное безмолвное общение не взволновало их обоих. Дойл нерешительно и без нужды оправлял одежду. Подруге скорбящих улыбка давалась все с большим трудом.
Когда наконец калека заставил себя заговорить, Подруга ничего не понял. Несколько минут он внимательно слушал, но потом догадался, что Дойл и не пытается ничего изъяснить. У него рождались комья слов, существовавшие в нем как отдельные предметы — мешанина из дерзких ответов на оскорбления и проклятий судьбе, которые он на горьком опыте научился держать при себе.
Подруга скорбящих, как исповедник, слегка отвернул лицо. Он наблюдал за жизнью рук калеки. Сначала они не выражали ничего, кроме возбуждения, но постепенно становились все красноречивее. Они отставали, иллюстрируя тему, которую он уже изложил, или забегали вперед, поясняя то, о чем он говорить еще не начал. Вскоре речь сделалась более членораздельной, руки перестали помогать языку, а начали нырять в одежду и выныривать. Вдруг одна вынырнула из кармана с несколькими листками почтовой бумаги. Он сунул их Подруге скорбящих.
Уважаемая Подруга скорбящих, я так сказать стесняюсь писать вам, потому что я не такой человек, который клюет на эти штуки, но жена сказала, что вы мужчина, а не какая-нибудь курица и я, когда прочел ваш ответ Разочарованной решил вам написать. Мне 41 год и я калека, каковым являюсь всю мою жизнь но никогда не разрешал себе расстраиваться до последнего времени, когда мне стало погано, что ничего я хорошего не добился и спрашиваю, к чему это все. Вы образованный и я подумал, что может вы знаете. А я то хочу знать, почему я должен таскаться и лазить с моей ногой вверх и вниз по лестнице и записывать показания газовых счетчиков для компании за паршивых 22 доллара 50, когда хозяева катаются на шикарных машинах и катаются как сыр в масле. Не думайте что я красная сволочь. Я читал, в России стреляют калек, что они не трудоспособны, а я трудоспособней любого бродяги из парка и кормлю жену и ребенка. Но я не про это пишу. А хочу я знать на кой я таскаюсь с моей ногой по улицам и лазию по вонючим подвалам, когда она все время болит до одурения, а под конец дня я от боли прямо чумею, а домой придешь только и слышишь деньги, деньги что же это спрашивается за дом для такого как я. Я то хочу знать на кой же черт, изо дня в день карабкаешься и ползаешь с такой ногой ради три раза в день пожрать, когда она болит как зуб от такой работы. Доктор мне сказал, что надо дать ей полгода отдыха, но кто мне будет платить пока она отдыхает. Но я и не это хотел спросить, потому что вы наверно посоветуете мне сменить работу, а где я найду другую спасибо хоть эта есть? Я не на работу жалуюсь, а то хочу знать на кой вся эта тягомотина.
Пожалуйста не отвечайте мне в газете, потому что жена читает вашу писанину, и не надо ей знать, что я вам писал, а то я всегда говорил что газеты все брешут, но подумал, что может вы знаете раз вы прочли много книг, а я и школу не кончил.
Уважающий вас
Питер Дойл.
Пока Подруга скорбящих разбирал его каракули, влажная рука Дойла случайно прикоснулась под столом к его руке. Он отдернул руку, но тут же вернул ее назад и заставил себя схватить руку калеки. Дочитав письмо, он не отпустил ее, а продолжал держать, вкладывая в это всю любовь, на какую был способен. Сначала калека пытался скрыть смущение, сделав вид, что с его стороны это обычное рукопожатие, но потом успокоился, и они сидели молча, держась за руки.
Подруга скорбящих в гостях
Они вышли из пивной вместе, очень пьяные, погрузившись в раздумье: Дойл — о несправедливостях, которые ему пришлось претерпеть, Подруга — о всепобедительности своего смирения.
Поймали такси. Когда машина выехала на улицу, где жил Дойл, он начал проклинать свою жену и свою увечную ногу. Он призывал Христа изничтожить их обеих.
Подруга скорбящих был очень счастлив и про себя тоже взывал к Христу. Но его зов был не проклятьем, а выражением радости.
Такси остановилось у тротуара, Подруга помог спутнику вылезти и повел его в дом. В дверях квартиры они подняли сильный шум, и жена Дойла вышла в коридор. При виде ее калека снова начал браниться.
Она поздоровалась с Подругой скорбящих, затем схватила мужа и так тряхнула его, что он задохнулся. После чего она потащила его в комнату. Подруга скорбящих последовал за ними, и когда он проходил мимо нее в темной передней, она ткнула его в бок и рассмеялась.
Вымыв руки, они сели есть. Миссис Дойл приготовила ужин заранее и прислуживала им за столом. Первым делом она поставила на стол литровую бутылку красного вина.
Когда они принялись за кофе, она села рядом с Подругой скорбящих. Он чувствовал, как она жмет его коленкой под столом, но не обращал внимания, и блаженная улыбка сходила с его лица только в те секунды, когда он делал глоток.
От тяжелой пищи он осоловел и изо всех сил старался снова почувствовать то, что чувствовал в пивной, держа руку калеки.
Она просунула коленку под его бедро, но, не добившись и тут никакого отклика, внезапно встала и ушла в гостиную. Через несколько минут они отправились за ней и застали ее за приготовлением коктейлей из виски с имбирным пивом.
Пили молча. Дойл клевал носом, жена его тоже начала пьянеть. Подруга скорбящих не пытался поддержать светскую беседу. Он напряженно искал тему для послания. Когда он заговорит, это обязательно должно быть послание.
После третьего коктейля миссис Дойл начала открыто ему подмигивать, но Подруга скорбящих упорно не обращал на нее внимания. Дойла же эти знаки сильно беспокоили. Он стал ерзать и что - то бормотать вполголоса.
Невнятные звуки, издаваемые мужем, раздражали миссис Дойл.
— Ты чего там мямлишь? — грозно спросила она.
Калека хотел вздохнуть, но вздох перешел в стон, и тогда, словно устыдившись, он сказал:
— Ну не кот ли я, что привел жене мужика? — Он кинул быстрый взгляд на Подругу и виновато засмеялся.
Миссис Дойл рассвирепела. Она скатала газету и хлопнула ею мужа по губам. К ее удивлению, Дойл стал дурачиться. Он зарычал, как собака, и схватил газету зубами. Когда же она выпустила свой конец, он стал на четвереньки и продолжал представление на полу.
Подруга скорбящих хотел поднять калеку на ноги, нагнулся, но тот вдруг дернул его за ширинку, ширинка распахнулась, и Дойл лег кверху лапами, умирая от смеха.
Жена дала ему пинка и, презрительно фыркнув, отвернулась.
Когда Дойл насмеялся вволю, они снова сели за стол. Дойл с женой глядели друг на друга, а он снова стал обдумывать послание.
Молчание тяготило миссис Дойл. Наконец, не выдержав, она встала и пошла к буфету, налить еще по одной. Но бутылка была пуста. Миссис Дойл попросила мужа сходить в угловую аптеку за джином. Он отказался, решительно мотнув головой.
Она стала его уговаривать. Он не слушал, и она потеряла терпение.
— Иди за джином! — взвизгнула она. — Иди за джином, скотина!
Подруга скорбящих встал. Он еще не придумал послания, но
надо было что-то сказать.
— Пожалуйста, не деритесь, — попросил он. — Муж вас любит, миссис Дойл; вот почему он так себя ведет. Будьте добры к нему.
Она раздраженно буркнула и вышла из комнаты. Они услышали, как она гремит посудой на кухне.
Подруга скорбящих подошел к калеке и улыбнулся ему той улыбкой, какую применил в пивной. Калека улыбнулся в ответ и сунул руку. Подруга сжал ее, и так, улыбаясь и держась за руки, они стояли, пока не вошла миссис Дойл.
— Ну что за милая парочка, — сказала она.
Дойл отнял руку и замахнулся на жену. Подруга понял, что настал час выступить с посланием. Теперь или никогда.
— У вас большое сильное тело, миссис Дойл. Сжав мужа в объятиях, вы можете согреть его и вселить в него жизнь. Вы можете растопить лед в его костях. Он влачит свои дни в проулках и подвалах, под тяжким бременем усталости и боли. Вы можете заменить это бремя мечтой о вас. Бодрящей мечтой, которая возбудит его, как динамо. Вы можете добиться этого, позволив ему завоевать вас в постели. И вам воздастся, ибо он расцветет и преисполнится к вам страстью…
Она была настолько изумлена, что даже не рассмеялась, а калека отвернулся, как бы в смущении.
С первых слов подруга понял, что будет смешно. Избегая Бога, он не мог черпать силу в своем сердце и просто сочинил еще одну статейку для газеты.
Он попробовал еще раз — ударившись в истерику.
— Христос есть любовь, — закричал он. Крик был театральный, но он продолжал: — Христос — это черный плод, висящий на крестном дереве. Человек погиб, вкусив искусительный плод. Он спасется, вкушая спасительный плод. Черный Христоплод, любовный плод…
На этот раз он потерпел еще более жалкое фиаско. Пустословие Подруги скорбящих сменил на пустословие Шрайка. Он чувствовал себя как пустая бутылка, сухая и блестящая.
Он зажмурился. Когда он услышал слова калеки: «Я люблю тебя, я люблю тебя», он открыл глаза и увидел, что Дойл ее целует. Ясно было, что калека делает это не под влиянием его проповеди, а из вежливости.
— Ладно, псих, — сказала она мужу с царственным видом. — Я тебя прощаю, только сбегай за джином.
Не взглянув на Подругу скорбящих, Дойл взял шляпу и вышел. Когда дверь за ним закрылась, миссис Дойл с улыбкой сказала:
— Ну, ты уморил — с расстегнутой-то ширинкой. Я думала, сдохну от смеха.
Он не ответил.
— Видал — ревнивый? — продолжала она. — Ему только покажи мужика побольше: «Ой, вот бы с кем закрутить». Так он прямо бесится.
Она говорила тихо и хрипло, и ясно было, что она его соблазняет. Когда она подошла к приемнику, чтобы найти джаз, она вильнула ему задом, как флагом.
Он сказал, что устал и танцевать не хочет. Сделав перед ним несколько непристойных па, она села к нему на колени. Он пытался ее оттолкнуть, но она присосалась к его рту раскрытыми губами, а когда он отвернулся, стала тереться носом о его щеку. Он чувствовал себя как пустая бутылка, медленно наполняющаяся теплой грязной водой.
Когда она расстегнула ворот платья и попыталась засунуть туда его голову, он резко развел колени и скинул ее на пол. Она попыталась стянуть его за собой. Он ударил, не глядя, и попал ей в лицо. Она закричала, он ударил еще раз и еще. Бил ее, пока она не отпустила, и тогда он бросился вон.
Подруга скорбящих идет на вечеринку
Подруга скорбящих снова слег в постель. На этот раз она его определенно вывезла — и с большой скоростью. Надо было только ехать спокойно. Он ехал уже третьи сутки.
Прежде чем подняться на борт, он подготовился к дороге — заглушил звонок телефона и купил несколько громадных жестянок с крекерами. Теперь он лежал в постели, грыз крекеры, пил воду и курил сигареты.
Он думал о том, как он спокоен. Покой был таким глубоким, что Подруга не мог нарушить его даже тем, что сознавал его. За три дня он далеко уехал. В комнате темнело. Он слез с кровати, почистил зубы, помочился, потом выключил свет и уснул. Он уснул без единого вздоха, уснул сном мудрых и безгрешных. Но в сновидении возникали светляки и колыхание океанов.
Потом поезд подъехал к станции, где он был лежащей статуей с остановившимися часами в руке, карета въехала во двор трактира, где он сидел с гитарой, положив перед собой перевернутую шапку и стряхивая дождь с горба.
Сон перешел в явь. Шум обоих приездов скомбинировался: стучали в дверь. Подруга скорбящих вылез из постели. Он был нагишом, но пошел открывать, не одевшись. Ворвались пять человек, двое из них женщины. Увидев его голым, женщины запищали и выскочили в коридор.
Трое мужчин не отступили. В одном Подруга узнал Шрайка и заметил, что тот, как и остальные, очень пьян. Шрайк сказал, что одна из женщин его жена, и хотел драться с Подругой скорбящих, ибо он ее оскорбил.
Подруга скорбящих тихо стоял посреди комнаты. Шрайк ринулся на него, но откатился, как откатывается от древней скалы, отшлифованной опытом, водяной вал. Второго вала не было.
Напротив, Шрайк сделался веселым. Он хлопнул Подругу по спине.
— Надевай штаны, друг мой, — сказал он, — мы идем на вечеринку.
Подруга скорбящих взял жестянку с крекерами.
— Давай же, сын мой, — не отставал Шрайк. — Кто пьет в одиночку, становится пьяницей.
Подруга скорбящих внимательно оглядывал каждый крекер перед тем, как сунуть его в рот.
— Не порть людям веселья, — сказал Шрайк, раздражаясь. Он был чайкой, пытавшейся отложить яйцо на гладком склоне скалы, — крикливой, неуклюжей чайкой. — Мы хотим сыграть в игру, но без тебя не можем. «Каждый — Подруга себе скорбящему». Я ее изобрел, но без тебя ничего не получится.
Шрайк вытащил из карманов толстую пачку писем и помахал перед ним. Подруга узнал их; письма были из его редакционной папки.
Скала осталась невозмутимой. Хотя Подруга скорбящих не сомневался, что она выдержит любое испытание, ему хотелось, чтобы ее проверили. Он стал одеваться.
Спустились на улицу и вшестером залезли в одно такси. Мери Шрайк села к нему на колени, но, несмотря на ее пьяное ерзанье, скала осталась неприступной.
Вечеринка происходила у Шрайка. При появлении Подруги скорбящих гости загалдели и накатились на него толпой. Он стоял непоколебимо, и они отхлынули бессильным бурунчиком. Он улыбался. Он отразил более дюжины пьяных. Отразил без усилия, не задумавшись. Пока он стоял и улыбался, из общей зыби выползла маленькая волна и заплескалась у его ног, прося внимания. Это была Бетти.
— Что с тобой? — спросила она. — Опять заболел?
Он не ответил.
Когда все сели, Шрайк приготовился начать игру. Он роздал карандаши и бумагу, потом вывел Подругу скорбящих на середину комнаты и начал трепаться.
— Дамы и господа, — сказал он, подражая речи и жестам циркового зазывалы. — Сегодня среди нас человек, которого все мы знаем и почитаем. Подруга скорбящих, певчее сердце, сугубо раздувшийся Муссолини души!
Он пришел сегодня, чтобы помочь вам в ваших моральных и духовных затруднениях, чтобы дать вам лозунг, программу, категорический императив и raison d'etre[45].
Некоторые из вас, возможно, поставили на себе крест и не уповают более на помощь. Вы боитесь, что даже Подруге скорбящих, как бы ни был яр его факел, не удастся вас воспламенить. Боитесь, что даже в его жарком пламени вы будете только тлеть и плохо пахнуть. Не падайте духом — ибо я знаю, что гореть вам огнем. Победа будет за Подругой скорбящих.
Шрайк поднял пачку писем и помахал над головой.
— Начнем по порядку, — объявил он. — Сперва каждый из вас постарается как можно лучше ответить на одно из этих писем; затем по вашим ответам Подруга скорбящих поставит вам моральный диагноз. После чего он поведет вас путем утоления.
Шрайк обошел гостей, раздавая письма, как фокусник — карты. Он без умолку трещал и прежде чем отдать письмо, зачитывал из него отрывок.
— Вот это — от старухи, у которой на прошлой неделе умер сын. Ей семьдесят, живет продажей карандашей. Не имеет чулок и ходит в тяжелых ботинках, ноги болят и кровоточат. Гноятся глаза. Найдется для нее уголок в вашем сердце?
А это люкс. Мальчик мечтает о скрипке. Казалось бы, просто: купить ему, и дело с концом. Но тут оказывается, что письмо писала под его диктовку сестренка. Он парализован и даже не может сам есть. У него игрушечная скрипка, и он прижимает ее к груди, изображая ее звук губами. Какая трогательная картина! Однако из этой притчи можно извлечь очень много. Надпишите на мальчике Труд, на скрипке — Капитал и т. д.
Подруга скорбящих стоял безмятежно; его это даже не интересовало. Скале не интересно, что творится в море.
Шрайк роздал все письма и последнее вручил Подруге скорбящих. Тот взял, подержал немного и, не прочтя, уронил на пол.
Шрайк не умолкал ни на секунду:
— Вы погружаетесь в мир несчастья и страдания, населенный существами, чуждыми всем, кроме болезни и полисмена. Подверженные первой, они повержены последним…
Боль, боль, боль, тупая, неотвязная, гложущая, боль, непроходящий мозоль ума и сердца. Боль, которую может утолить лишь великий духовный бальзам…
Заметив, что Бетти уходит, Подруга скорбящих отправился следом. Пусть она тоже увидит, в какую он превратился скалу.
Шрайк не замечал его отсутствия, пока не увидел письмо на полу. Он поднял его, поискал глазами Подругу и снова обратился к собранию.
— Учитель исчез, — объявил он, — но не отчаивайтесь. Я с вами. Я его апостол, и я поведу вас путем утоления. Прежде всего позвольте огласить письмо, адресованное лично учителю.
Он вынул письмо из конверта так, словно не читал его раньше, и начал: «Что же ты паскуда такая? Я прихожу с джином, а жена плачет на полу, и в квартире полно соседей. Она сказала, что ты хотел ее изнасиловать, паскуда, и они хотели звать полицию, но я сказал, что сам с тобой рассчитаюсь…»
Ай-яй-яй, я не в силах повторять эти грубости. Я опускаю брань и иду дальше. «Так вот к чему были все твои красивые речи, падла, тебе за это башку оторвать мало». Подписано: «Дойл».
Так, так, учитель, оказывается, — новый Распутин. Как это подтачивает веру! Но я не могу этого допустить. Этого быть не может. Учитель не способен творить неправду. Моя вера непоколебима. Это всего лишь очередная вылазка дьявола против него. Он всю жизнь сражался за нас с архиврагом, и он восторжествует. То есть Подруга скорбящих, а не дьявол.
Евангелие от Шрайка. Позвольте мне рассказать его жизнь. Она разворачивается передо мной как свиток. Сперва на заре детства, лучась невинностью, как омытая дождем звезда, он — удрученный паломник в Университет Полновесных Палок. И вот уже юношей он выскакивает в ночь из постели своей первой проститутки. А затем Подруга скорбящих — муж — доблестно бьется за воплощение высокого идеала, и путь его устремлен к славной цели. Но, увы, холодом и презрением встречает его мир, громоздя на его пути препятствие за препятствием; мнит он, близка уже цель, но «Стой!» велит громовой голос. «Пусть каменья преткновенья будут мне ступенями, — думает он. — Все выше, и выше, и выше». И с исступлением по ступеням взбирается вверх и подгоняет себя, завороженный священным огнем. И вот…
Подруга скорбящих и нарядное платье
Выйдя из квартиры Шрайка, Подруга скорбящих нагнал Бетти в коридоре, где она ждала лифта. На ней было голубое платье, почти вечернее. Она нарядилась неспроста, понял он.
Это растрогало даже скалу. Нет, не скалу. Скала была по-прежнему неприступна. Растрогало его разум — инструмент, при помощи которого он познавал скалу.
Он подошел к Бетти с улыбкой, ибо его разум был свободен и чист. То, что загрязняло его, выпало в осадок и стало скалой.
Но Бетти не улыбнулась в ответ.
— Что ты ухмыляешься? — сердито спросила она.
— Извини. Я просто так.
Они вошли в кабину лифта. На улице он взял ее под руку, хотя она вырывалась.
— Давай пойдем пить газировку? — предложил он. Нарядное платье дало его упростившемуся разуму ключ, и он с удовольствием разыгрывал этот «спор мальчика с девочкой».
— Нет. Я иду домой.
— Да брось, — сказал он и потянул ее к киоску. Она шла, незаметно для себя утрируя манеру «девочки в нарядном платье».
Взяли клубничную. Потягивая через соломинку розовую жидкость, он улыбался, она дулась, и оба не сознавали, что очень милы.
— Почему ты злишься, Бетти? Я ничего не сделал. Затея была Шрайка, он один и болтал.
— Потому что ты дурак.
— Я покончил с Подругой скорбящих. Почти неделю не был в редакции.
— И что собираешься делать?
— Попробую устроиться в рекламное агентство.
Это не было намеренной ложью. Он просто пытался сказать то, что она хотела услышать. Нарядное платье было такое веселое и симпатичное: голубое с пенным кружевным воротником в розовых искорках — как воротник ее газировки.
— Поговори насчет работы с Биллом Уилрайтом. У него агентство… и человек приятный. Влюблен в меня.
— Работать на конкурента?
Она наморщила нос, и оба рассмеялись.
Он еще смеялся, когда почувствовал, что с ее смехом что-то неладно. Она плакала.
Он потянулся к скале. Скала была на месте; ни смех, ни слезы ее не трогали. Дождь и ветер ей нипочем.
— Ох… — всхлипнула Бетти. — Дура я. — И выбежала на улицу.
Он тоже выскочил и поймал ее. Но она рыдала все громче, он остановил такси и заставил ее сесть.
Она заговорила сквозь слезы. Она беременна. У нее будет ребенок.
Он выставил скалу вперед и с полным самообладанием ждал, когда Бетти перестанет плакать. Наконец она затихла, и он предложил ей пожениться.
— Нет, — сказала она. — Я сделаю аборт.
— Пожалуйста, выйди за меня замуж. — Он упрашивал ее так, как упрашивал перед этим пойти пить газировку.
Он упрашивал нарядное платье пожениться и говорил все, что оно надеялось услышать, все, что полагалось к клубничной газировке и фермам в Коннектикуте. И был таким, каким его хотело видеть нарядное платье: простым и нежным, остроумным и поэтичным, капельку студентом, но очень мужественным.
К тому времени, как такси остановилось у ее дома, они обсуждали жизнь после женитьбы. Где будут жить и сколько у них будет комнат. Могут ли позволить себе ребенка. Как отстроят ферму в Коннектикуте. Какую мебель они больше любят.
Она согласилась родить ребенка. На этом он настоял. Он, со своей стороны, согласился поговорить о работе с Биллом Уилрайтом. Заливаясь смехом, они решили поставить в спальне три кровати. Пару для сна — очень строгих и пуританских, а между ними любовное ложе — вычурную двойную кровать с купидонами, нимфами и Панами.
Они не испытывал чувства вины. Он вообще не испытывал чувств. Скала была окаменелостью его чувств, его совести, его восприятия, его самопознания. Он мог строить любые планы. Замок в Испании и любовь на балконе или на пиратском бриге, любовь на тропическом острове.
Когда ее дверь закрылась за ним, он улыбнулся. Скала подверглась всестороннему испытанию и показала себя безупречно. Оставалось только снова подняться на борт постели.
Обращение подруги скорбящих
После долгой ночи и утра, к полудню, Подруга скорбящих с радостью ощутил приближение лихорадки. Она обещала жар и умственно немотивированное буйство. Обещанное не заставило себя ждать; скала превратилась в топку.
Он устремил взгляд на Христа, прибитого к стене в ногах кровати. У него на глазах Христос превратился в яркую мушку, вертевшуюся стремительно и грациозно на фоне кровавого бархата, нашпигованного звездочками-нервами.
Все остальное в комнате было мертво — стулья, стол, карандаши, одежда, книги. Этот черный мир вещей представлялся ему рыбой. И недаром — ибо мир вдруг устремился к яркой наживке на стене. Он всплыл во всплеске музыки, показав серебристое светлое брюхо.
Христос есть жизнь и свет.
— Христос! Христос! — Крик отдался в самых глубинных клетках тела.
Он переместил голову на прохладный край подушки, и вена на его лбу немного опала. Он ощущал в себе чистоту и свежесть. Его сердце было розой и череп — тоже розой, распускавшейся.
Комната наполнилась благодатью. Нежной, чистой благодатью, не отмытой добела, а чистой, как внутренности внутренних лепестков насильственно раскрытого бутона.
И комната наполнилась радостью. Наполнилась, как ласковым ветерком, и ветерок колыхал его нервы, как голубые цветочки на лугу.
Он ощущал в себе два ритма, медленно сливавшиеся в один. Когда они слились, его отождествление с Богом было завершено. Его сердце стало единым сердцем, сердцем Бога. И мозг тоже стал божьим.
Бог сказал:
— Теперь приемлешь?
И он ответил:
— Приемлю, приемлю.
Он сразу начал планировать новую жизнь и свое поведение в качестве Подруги скорбящих. Он представил тезисы своих статей Богу, и Бог их утвердил. Бог утвердил каждую его мысль.
Вдруг позвонили снизу. Он вылез из постели и вышел в коридор, посмотреть, кто там. Это был калека Дойл, он медленно карабкался по лестнице.
Бог послал его, чтобы Подруга скорбящих сотворил чудо и уверился в своем обращении. Это знамение. Он обнимет калеку, и калека будет исцелен, как исцелился он сам, духовный калека.
Он кинулся вниз по лестнице навстречу Дойлу, распростерши руки для чуда.
Дойл нес газетный сверток. Увидев Подругу скорбящих, он сунул руку в сверток и замер. Он выкрикнул какое-то предостережение, но Подругу это не остановило. Он не понял выкрик калеки и услышал в нем призыв Отчаявшейся, Гарольда С., Матери-католички, Убитой горем, Широкоплечей, Нет Мочи, Разочарованной-с-мужем-туберкулезником. Он бежал выручать их любовью.
Калека пустился наутек, но ему не хватало быстроты, и Подруга скорбящих настиг его.
Пока они возились, в подъезд с улицы вошла Бетти. Она крикнула им, чтобы они прекратили, и стала подниматься. Видя, что путь отступления отрезан, калека решил избавиться от свертка. Он вынул из газеты руку. Пистолет в газете выстрелил, и Подруга скорбящих упал, таща за собой Дойла. Они вместе прокатились по ступеням.
Целый миллион, или Расчленение Лемюэла Питкина © Перевод. С. Белова
1
Дом миссис Сары Питкин, весьма почтенной вдовы, стоял на холме. Окнами дом выходил на Крысиную реку. Эта скромная обитель, расположившаяся неподалеку от городка Оттсвилл, штат Вермонт, сильно обветшала за многие годы, но тем не менее была очень дорога вдове и ее сыну Лемюэлу.
По причине стесненных обстоятельств, в которых находилась эта маленькая семья, дом давно не красили, но он по-прежнему сохранял свою неповторимую прелесть. Этот дом не оставил бы равнодушным ценителя старинной архитектуры, случись ему оказаться в этих местах. Построенный в те далекие и славные годы, когда генерал Старк со своей армией храбро сражался с англичанами, дом воплощал в своих очертаниях гордый дух армии борцов за независимость, в рядах которой сражались многие из Питкинов.
Как-то раз осенним вечером миссис Питкин сидела в гостиной. Вдруг в дверь дома постучали. Вдова пошла открывать сама — прислуги в доме не было.
— Ах, это вы, мистер Слемп! — воскликнула она, увидев на пороге богатого местного адвоката.
— Да, миссис Питкин, это я. Решил заглянуть к вам по одному небольшому дельцу.
— Может, вы войдете? — вежливо предложила вдова, несколько удивленная визитом.
— Что ж, я ненадолго воспользуюсь вашим гостеприимством, — отозвался адвокат. — Как поживаете?
— Благодарю вас, потихоньку, — отвечала вдова, проводя гостя в гостиную. — Садитесь в качалку, мистер Слемп, — предложила она, указывая на лучшее кресло в скромной гостиной.
— Вы очень любезны, — сказал адвокат, осторожно садясь в указанное кресло. — А где ваш сын Лемюэл?
— В школе, но он скоро придет. Он не слоняется без дела, — в голосе вдовы зазвучали горделивые нотки.
— Как, он еще ходит в школу! — удивился мистер Слемп. — Разве не пора ему начать работать и помогать вам?
— Нет, — твердо сказала вдова. — Мы с сыном очень верим в образование. Но вы ведь пришли по делу?
— Ах да, миссис Питкин. Боюсь, дело неприятное. Но я надеюсь, вы понимаете, что в данном случае я всего лишь посредник.
— Неприятное? — встревожилась миссис Питкин.
— Увы. Мистер Джошуа Берд, сквайр Берд, передал мне к взысканию закладную на ваш дом. Разумеется, он лишит вас права пользования лишь в том случае, если вы в течение трех месяцев не погасите свой долг, — поспешно добавил он.
— Но разве я могу его погасить? — удрученно произнесла вдова. — Я думала, сквайр Берд будет только рад продлить контракт, мы ведь платим ему двенадцать процентов.
— Мне жаль вас, миссис Питкин, искренне жаль, но мистер Берд принял решение не продлевать контракта. Он хочет или все деньги, или дом.
Адвокат взял свою шляпу и, вежливо поклонившись, ушел, оставив вдову в слезах.
(Читателям, наверное, будет небезынтересно узнать, что я оказался прав в своих догадках: на самом-то деле дом Питкинов попался на глаза некоему специалисту по интерьерам и произвел на него большое впечатление. Он встретился со сквайром Бердом и выразил желание приобрести дом, потому-то почтенный домовладелец и принял решение предъявить закладную к взысканию. Виновника трагедии звали Аза Гольдштейн, это был владелец фирмы «Особняки и интерьеры в колониальном стиле». Мистер Гольдштейн задумал разобрать дом и установить его в витрине своего салона-магазина на Пятой авеню.)
Покидая скромное жилище Питкинов, адвокат Слемп столкнулся в дверях с Лемюэлом. Через открытую дверь юноша увидел, что мать в слезах, и спросил мистера Слемпа:
— Почему мама плачет, что вы ей сказали?
— Прочь с дороги! — воскликнул адвокат и толкнул Лема с такой силой, что бедняга кубарем полетел со ступенек прямо в погреб, дверь которого, на его беду, была открыта. Пока он выбирался, мистера Слемпа уже и след простыл.
Нашему герою было семнадцать лет, но он был сильный и смелый юноша и обязательно догнал бы адвоката, если бы не мать. Услышав ее голос, он бросил топор, которым успел вооружиться, и поспешил в дом, чтобы ее успокоить.
Бедная вдова рассказала сыну все, и оба они очень загрустили. Но как они ни старались, им не удалось придумать, каким способом сохранить крышу над головой.
В полном отчаянии Лем решил обратиться к мистеру Натану Уипплу, самому уважаемому жителю города. Когда-то мистер Уиппл был президентом Соединенных Штатов и от Мэна до Калифорнии его любовно называли «Кочерга Уиппл». После того как Уиппл провел четыре года в Белом доме, он, что называется, перековал свой цилиндр на орало и отказался баллотироваться вторично, предпочтя возвратиться в родной Оттсвилл и снова стать рядовым гражданином. Все время он проводил в своем гараже, служившем ему жилищем, или в Национальном банке Крысиной реки, президентом которого являлся.
Мистер Уиппл не раз выказывал интерес к Лему, и юноша надеялся, что, может быть, он поможет им с матерью сохранить дом.
2
Кочерга Уиппл жил на главной улице Оттсвилла в двухэтажном каркасном доме, перед которым была узкая лужайка, а за домом гараж, переделанный из курятника. Оба строения выглядели солидно и основательно, внушая почтение к их владельцу.
Дом служил хозяину и жилищем и конторой. На первом этаже расположились помещения банка, а на втором — жилые комнаты экс-президента США. На столбе у входа была бронзовая табличка с надписью:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КРЫСИНОЙ РЕКИ Натан «Кочерга» Уиппл Президент
Некоторые, возможно, возмутились бы при мысли о том, что в их доме может помещаться банковская контора, — особенно если они, как и мистер Уиппл, в свое время запросто общались с коронованными особами. Но Кочерга не был горд и был очень бережлив. Он экономил всю жизнь — с того момента, как в пятилетнем возрасте, получив цент, победил в себе легкомысленное желание потратить его на сладости, и до той поры, когда был избран президентом Соединенных Штатов.
Когда Лем подходил по дорожке к дому мистера Уиппла, солнце клонилось к горизонту. Каждый вечер в это время экс-президент опускал национальный флаг, развевавшийся над его гаражом, и произносил речь перед теми из горожан, кто приходил его послушать. В первый год после возвращения этого великого человека из Вашингтона собиралась большая толпа, но потом интерес стал ослабевать, и сегодня на торжественной церемонии присутствовал один-единственный бойскаут. Да и он пришел не по своей воле: его послал отец, который очень хотел получить от банка ссуду.
Лем снял шляпу и застыл в почтительном ожидании, пока мистер Уиппл закончит речь.
«Да здравствует наш Старый Славный Стяг! Ты радуешь и наполняешь гордостью американские сердца — и когда величаво распускаешь свои складки в ясном летнем небе, и когда, изрешеченный пулями в лоскуты, смутно проглядываешь сквозь грозовые тучи войны. Развевайся же всегда, символ чести, надежды и прибыли, воплощение немеркнущей славы и патриотизма на куполе Капитолия, на равнине среди палаток, на мачте корабля в бурном море и на крыше этого гаража!»
С этими словами Кочерга опустил флаг, за который лучшие из нас проливали кровь и отдавали жизнь, и нежно прижал его к груди. Бойскаут убежал вприпрыжку. Лем подошел к оратору и поздоровался.
— Я хотел бы поговорить с вами, сэр, — сказал он.
— Милости прошу, — отозвался мистер Уиппл со свойственным ему добродушием. — Я всегда рад молодежи, ибо это единственная надежда нации. Проходи в мою берлогу! — добавил он.
Комната, куда вслед за мистером Уипплом проследовал Лем, была расположена в задней части гаража. Она была обставлена с предельной простотой: несколько ящиков, бочонок из-под крекеров, две медные плевательницы, плита и портрет Линкольна.
Наш герой сел на ящик, а Кочерга примостился на бочонке, выставив ноги в крагах, еще помнивших Конгресс, поближе к огню. Он смачно плюнул в ближайшую плевательницу и велел нашему герою начинать.
Чтобы не затягивать повествование, я не буду повторять рассказ Лема о постигшем его несчастье и сразу же перейду к последней фразе.
— Поэтому, — заключил наш герой, — дом моей матери можно спасти, если только ваш банк перекупит у сквайра Берда закладную.
— Я не стал бы помогать тебе деньгами, даже если бы мог сделать это, — услышал удивленный Лем.
— Почему же, сэр? — осведомился он, с трудом скрывая свое глубочайшее разочарование.
— Потому что я убежден, что это неправильно. Ты слишком молод, чтобы брать в долг.
— Что же мне делать? — уныло спросил Лем.
— Они не имеют права продать дом раньше, чем через три месяца, — сказал мистер Уиппл. — Не падай духом, друг мой! Это страна великих возможностей, а мир — устрица.
— Но как же мне заработать полторы тысячи долларов (именно столько стоила закладная) здесь и в такой короткий срок? — спросил Лем, сбитый с толку несколько таинственными афоризмами экс - президента.
— Ты сам поймешь как, но я, между прочим, не говорил, что тебе надо оставаться в Оттсвилле. Сделай как поступил я в твоем возрасте. Ступай в большой мир и возвращайся с победой.
Лем задумался. Когда он снова заговорил, в его голосе появились решительные нотки:
— Вы прав, сэр. Я пойду искать удачу. — В глазах нашего героя загорелся огонь, свидетельствовавший о силе духа.
— Отлично, — сказал мистер Уиппл, искренне за него обрадовавшись. — Как я уже сказал, мир — устрица, которая ждет, чтобы кто-то раскрыл ее створки. Пара крепких рук — это хорошо, но как у тебя с деньгами?
— У меня чуть меньше доллара, — грустно сказал Лем.
— Это очень мало, мой юный друг, но этого может вполне хватить, ибо у тебя честное лицо, а это лучше, чем золото. Но когда я покидал родной дом, у меня было тридцать пять долларов, и было бы неплохо, если бы и у тебя было столько же.
— Пожалуй, — согласился Лем.
— Есть ли у тебя ценности?
— Ценности? — повторил Лем, который был так мало сведущ в бизнесе, что даже не понял, что означало это слова.
— То, подо что можно получить займ? — пояснил мистер Уиппл.
— Нет, сэр, боюсь, что нет.
— Но у твоей матери, кажется, есть корова.
— Да, старушка Сью. — При мысли о том, что придется расстаться с этой верной помощницей, юноша и вовсе пал духом.
— Думаю, что за нее я мог бы выдать тебе двадцать, а может, и тридцать долларов, — сказал мистер Уиппл.
— Но она стоит больше ста долларов, и к тому же она дает нам молоко, масло, сыр — то, чем мы питаемся.
— Ты меня не понял, — терпеливо разъяснял мистер Уиппл. — Твоя мать может держать у себя корову, пока залоговая расписка не будет предъявлена к взысканию — через шестьдесят дней, начиная с сегодняшнего числа. Это только подхлестнет тебя на пути к успеху.
— А вдруг у меня ничего не получится? — усомнился Лем. Не то чтобы он был пессимистом, просто молодость порой нуждается в поощрении.
Мистер Уиппл сразу понял чувства юноши и попытался вселить в него уверенность.
— Америка, — сказал он серьезным тоном, — страна открытых возможностей. Она заботится о честных и трудолюбивых и никогда не дает их в обиду, пока они сохраняют эти качества. Все дело в вере. Когда Америка перестанет верить в свои силы, дни ее будут сочтены. Позволь предупредить, что ты, возможно, встретишь насмешников, которые постараются навредить тебе. Они скажут, что Джон Рокфеллер был вором, а Генри Форд и другие достойнейшие люди — шайка жуликов. Не верь им. Биографии Рокфеллера и Форда типичны для всех великих американцев, и ты должен постараться, чтобы и о тебе могли сказать то же самое. Как и они, ты родился на бедной ферме. Как и они, ты честен, трудолюбив и потому добьешься своего.
Не стоит и говорить, что слова экс-президента вдохновили нашего героя точно так же, как подобные речи вдохновляли юных американцев с той поры, как наша страна сбросила британское ярмо. Лем дал обещание брать пример с Форда и Рокфеллера.
Мистер Уиппл тем временем составил кое-какие бумаги, которые должна была подписать мать Лема, и выпроводил его из своей берлоги. Когда Лем ушел, великий человек повернулся к портрету Линкольна на стене и некоторое время провел в безмолвном диалоге с ним.
3
Наш герой возвращался домой по тропинке, что шла по берегу Крысиной реки. Проходя мимо рощицы, он выломал себе увесистую дубинку с тяжелым шишковатым верхом. Он манипулировал ею, как тамбур-мажор своим жезлом, как вдруг услышал девичий крик. Обернувшись, он увидел перепуганную девушку, за которой гнался свирепый пес. Это была Бетти Прейл, в которую он был по - мальчишески влюблен.
Бетти сразу же узнала его.
— Спасите меня, мистер Питкин! — возопила она, заламывая руки.
— Сейчас! — решительно произнес он.
Вооруженный пришедшейся как нельзя кстати дубинкой, он оказался между жертвой и преследователем и изо всех сил ударил пса по голове. Внимание разъяренного животного — это был огромный бульдог — перешло с Бетти на обидчика, и со свирепым рычанием пес ринулся на Лема. Но наш герой был начеку и ожидал нападения. Он отскочил в сторону и снова изо всех сил ударил собаку по голове. Оглушенный, бульдог упал. Из его пасти высунулся дрожащий язык.
«Нельзя оставлять его так, — подумал Лем, — когда он придет в себя, то может натворить бед».
Распростертому на земле зверю были нанесены еще два удара, решившие его судьбу. После них злобное животное уже ни для кого не представляло угрозы.
— Спасибо, мистер Питкин, — воскликнула Бетти, на щеках которой снова появился румянец. — Я страшно испугалась.
— Еще бы! — сказал Лем. — Зверь и впрямь жуткий.
— Какой вы храбрый! — восхищенно произнесла юная особа.
— Чтобы огреть пса палкой по башке, не нужно особой храбрости, — скромно отозвался Лем.
— Многие молодые люди пустились бы наутек.
— И оставили бы вас на произвол судьбы? — вознегодовал Лем. — Так поступают только трусы.
— Меня провожал Том Бакстер, но он убежал.
— Он видел, как на вас напала собака? — Да.
— И что он сделал?
— Перепрыгнул через каменную ограду.
— Могу сказать лишь, что это не мой стиль, — отозвался Лем. — Смотрите, у собаки на морде пена. Похоже, она бешеная.
— Какой ужас! — содрогнулась Бетти. — Вы это сразу заметили?
— Да, как только увидел пса.
— И все же вступились за меня?
— Это было менее опасно, чем бежать, — снова заскромничал герой. — Интересно, чья же это собака.
— Сейчас узнаешь, — раздался грубый голос.
Повернувшись, Лем увидел дюжего парня, года на три старше
себя, с грубым неприятным лицом. Это был не кто иной, как Том Бакстер, известный в городе забияка.
— Что ты сделал с моей собакой? — злобно заорал Том Бакстер.
Услышав такой тон, Лем решил отбросить ненужную учтивость.
— Убил ее, — коротко ответил он.
— А какое ты имел на это право? — спросил хулиган с еще большей злобой.
— Ты должен был держать этого пса на цепи, чтобы он никому не причинил вреда, — сказал Лем. — К тому же ты видел, как он напал на мисс Прейл. Почему ты не вмешался?
— Я отлуплю тебя до полусмерти, — ответил Том Бакстер и грязно выругался.
— Лучше и не пытайся, — холодно сказал Лем. — По-твоему, я должен был позволить твоему псу искусать мисс Прейл?
— Он бы не покусал ее.
— Неправда. Именно с этим намерением он за ней и погнался.
— Он играл. И погнался за ней в шутку.
— И пена на морде тоже в шутку? — спросил Лем. — Пес был бешеный. Скажи спасибо, что я его убил, иначе он искусал бы и тебя.
— Этот номер у тебя не пройдет, — грубо оборвал его Бакстер. — Придумай что-нибудь другое.
— Он говорит правду, — впервые за это время подала голос Бетти.
— Конечно, теперь ты будешь его защищать, — сказал подручный мясника (такова была профессия Бакстера), — но меня не проведешь. Я заплатил за собаку пять долларов, и если он не вернет мне деньги, я его в порошок сотру.
— Денег ты от меня не дождешься, — спокойно ответил Лем. — Таких собак надо убивать, и никто не имеет права оставлять их без присмотра. В следующий раз, когда у тебя заведется пять долларов, истрать их поразумнее.
— Значит, ты отказываешься платить? — взревел хулиган. — Да я тебе голову оторву.
— Давай, — отозвался Лем. — Получишь достойный отпор. — И он встал в боксерскую стойку по всем правилам.
— Не надо драться с ним, мистер Питкин, — испуганно воскликнула Бетти. — Он гораздо сильнее вас!
— Сейчас он это узнает! — прорычал противник Лема.
Том Бакстер был не только крупнее, но и сильнее Лема. В этом сомнений не было. Однако он не умел правильно пользоваться своей силой. Это была сила неповоротливого, неуклюжего зверя. Если бы ему удалось обхватить Лема поперек туловища, тому пришлось бы худо, но наш герой, прекрасно понимая это, был начеку. Он был неплохим боксером и стоял в выжидательной позиции, сохраняя полное спокойствие.
Когда Бакстер ринулся вперед, надеясь сграбастать в свои объятия невысокого соперника, он получил два молниеносных удара — один по носу, другой в глаз, из-за чего в голове у него все закружилось.
— Я тебя сейчас прикончу! — завопил он в исступлении, но, снова бросившись вперед очертя голову, не подумал о защите. В результате он получил еще пару ударов — на сей раз они пришлись по другому глазу и по зубам.
Бакстер был удивлен. Он надеялся смять Лема с первой же попытки. Вместо этого Лем стоял пред ним целый и невредимый, а у него изо рта и носа текла кровь, и оба глаза почти ничего не видели.
Бакстер застыл на месте, уставился на Лема своими заплывшими зенками и неожиданно улыбнулся, чем очень его озадачил.
— Ну ладно, — сказал Бакстер, смущенно помотав головой, — твоя взяла. Я и сам не промах, но сегодня дело мое табак. Вот тебе моя рука — я не держу обиды.
Лем протянул в ответ свою руку, не подозревая, что кроется за этим дружеским жестом противника.
Честный паренек был убежден, что все устроены так же, как он. Но Том Бакстер, ухватив его за руку, дернул к себе и стиснул Лема так, что тот лишился чувств.
Бетти вскрикнула и потеряла сознание — так она перепугалась за Лема. Услышав ее крик, Бакстер швырнул свою жертву на землю и двинулся к девушке, распростертой в глубоком обмороке. Некоторое время он стоял над ней, любуясь ее красотой. Его маленькие свиные глазки светились плотоядным блеском.
4
С большой неохотой я оставляю мисс Прейл в похотливых объятиях Тома Бакстера и перехожу к новой главе — я просто не могу описывать, что произошло, когда негодяй раздел несчастную девицу.
Тем не менее мисс Прейл — главная героиня нашей истории, и потому я воспользуюсь случаем, чтобы рассказать вам немного о ее прошлом.
В двенадцатилетнем возрасте Бетти стала сиротой, одновременно потеряв и мать, и отца в пожаре, который к тому же уничтожил то немногое из имущества, что могло бы достаться ей по наследству. Тогда же она потеряла кое-что еще, и это, как и ее родителей, невозможно было вернуть.
Ферма Прейлов была расположена примерно в трех милях от Оттсвилла. Дорога была никудышная, и местная пожарная команда, состоявшая из добровольцев (в ее ведении находилась вся округа), отнюдь не обрадовалась перспективе тащиться туда со своим снаряжением. По правде сказать, команда эта состояла из молодых парней, которые с куда большей охотой рассказывали сальные анекдоты, резались в шашки и угощались сидром, чем сражались с пожарами. Когда в город пришло известие о пожаре, они были навеселе, а их начальник Билл Бакстер (отец того негодяя, в чьих объятиях мы оставили нашу героиню) был и вовсе пьян в стельку.
После долгих сборов пожарники все же прибыли на место происшествия, но вместо того, чтобы тушить пожар, они занялись грабежом.
В ту пору Бетти было всего лишь двенадцать лет, но она отличалась весьма соблазнительными формами. В одной ночной рубашке она бродила среди пожарников, умоляя их спасти ее родителей. Тут-то на нее обратил внимание Билл Бакстер и заманил в сарай.
Наутро соседи нашли ее лежащей на земле без памяти в чем мать родила. Они взяли ее к себе. Бетти была сильно простужена и не помнила, что сделал с ней Билл Бакстер. Она только горевала по родителям. По инициативе местного священника был проведен сбор пожертвований, чтобы купить Бетти все самое необходимое, после чего ее отправили в сиротский приют. Там она прожила два года, а когда ей исполнилось четырнадцать, поступила прислугой в известный в Оттсвилле дом Слемпов, с главой которого, адвокатом Слемпом, мы уже имели возможность познакомиться.
Нетрудно догадаться, что жизнь Бетти не была праздником. Возможно, ей жилось бы легче, если бы она не была такой хорошенькой. Но у Слемпа были две уродливые дочки и сварливая жена, и эти представительницы слабого пола очень завидовали свежей красоте служанки. Они одевали ее в жуткие обноски, но даже в грубых башмаках и толстых чулках Бетти выглядела куда привлекательней, чем все прочие представительницы дома Слемпа.
Можно было подумать, что Слемп как мужчина мог бы проявить к сироте больше снисходительности, чем его домочадцы. Увы, все оказалось совсем не так. Адвокат (он, кстати, был также дьяконом в местной церкви) отличался крутым нравом. Мистер Слемп порол Бетти регулярно и вдохновенно. Эти экзекуции начались, когда Бетти только пришла из приюта, и продолжались даже тогда, когда она превратилась во взрослую и соблазнительную девушку. Два раза в неделю мистер Слемп лупил Бетти по голой заднице своей увесистой дланью.
Не берусь судить о Слемпе-дьяконе, но Слемпу-адвокату явно не хватало физической нагрузки, и он дважды в неделю с радостью отдавался этим упражнениям. Бетти, со своей стороны, довольно скоро привыкла к такому положению вещей и сносила порки гораздо легче, чем те утонченные моральные истязания, которым подвергали ее миссис Слемп и ее дочери. К тому же, несмотря на свою скупость, адвокат по окончании очередной экзекуции всегда выдавал наказанной девице четвертак.
Этот еженедельный доход в пятьдесят центов, по мысли Бетти, должен был помочь ей осуществить давний замысел — сбежать из Оттсвилла. Она уже успела приобрести кое-что из гардероба и в тот день возвращалась из города, где купила в магазине первую в своей жизни шляпку. На ее беду ей повстречался Том Бакстер с собакой.
Результат этой печальной встречи читателям уже известен.
5
Очнувшись, наш герой обнаружил, что валяется в канаве у дороги, на которой и приключился его поединок с Томом Бакстером. Уже стемнело, и Лем не заметил, что по ту сторону дороги, в кустах, лежит Бетти. Юноша был уверен, что она благополучно удалилась.
Пока Лем брел домой, туман в его голове рассеялся и к нему вернулось его обычное бодрое настроение. Он позабыл о неудачной стычке с хулиганом, и все помыслы его были устремлены на предстоящий отъезд в Нью-Йорк.
У дверей дома его встретила любящая, но взволнованная мать.
— Лем, Лем! — воскликнула миссис Питкин. — Где ты был?
Наш герой никогда не лгал, но не хотел напрасно тревожить мать
и потому уклончиво сказал:
— Я задержался у мистера Уиппла.
Затем юноша передал матери свой разговор с экс-президентом. Она обрадовалась услышанному и охотно подписала закладную на тридцать долларов. Как и все матери, миссис Питкин была уверена, что ее ребенку повезет.
Ранним утром следующего дня Лем отнес документ мистеру Уипплу и получил тридцать долларов минус двенадцать процентов заемных. Затем на станции он купил билет до Нью-Йорка и стал ждать поезда.
Наш герой смотрел в окно вагона на мелькавшие пейзажи Новой Англии, как вдруг услышал чей-то голос: «Газеты, журналы, популярные романы. Не желаете почитать, мистер?»
Перед Лемом стоял юноша с честным и открытым лицом, продававший книги и журналы.
Нашему герою хотелось поговорить, и он обратился к книгоноше.
— Я не большой любитель романов, — сказал он. — Моя тетка Нэнси как-то раз давала маме почитать один роман, но мне он не понравился. Я люблю факты, люблю узнавать новое.
— Я и сам не охотник до чтения, — отвечал молодой человек. — А куда вы едете?
— В Нью-Йорк, попытать счастья, — откровенно признался Лем.
— Ну уж если вы не сколотите состояние в Нью-Йорке, вы нигде больше не разбогатеете, — отозвался его собеседник. И с этими словами он двинулся дальше по вагону, вовсю расхваливая свой товар.
Лем снова погрузился в созерцание пейзажей. Но ему снова помешали — на сей раз это был модно одетый молодой человек, который подошел к нему и поздоровался.
— Это место занято? — осведомился незнакомец.
— Насколько мне известно, нет, — дружески улыбнулся ему Лем.
— Тогда, с вашего позволения, я его займу, — сказал его шикарно одетый собеседник.
— Пожалуйста, — отозвался Лем.
— Вы, как я полагаю, из провинции, — учтиво продолжал тот, устроившись в кресле рядом с ним.
— Да, я живу неподалеку от Беннингтона, в городке Оттсвилл. Вы там когда-нибудь бывали?
— Нет. Вы, наверное, едете в большой город на каникулы?
— Нет. Я уехал из дома, чтобы разбогатеть.
— Прекрасно. Надеюсь, вам повезет. Кстати, мэр Нью-Йорка — мой дядюшка.
— Правда? — изумленно воскликнул Лем.
— Да. Меня зовут Веллингтон Нейп.
— Рад с вами познакомиться, мистер Нейп. Меня зовут Лемюэл Питкин.
— Вот как! Моя тетка вышла замуж за Питкина. Возможно, мы родственники.
Лема весьма обрадовало предположение, что он, сам того не ведая, может быть родственником мэра Нью-Йорка. Он решил, что, судя по одежде и вежливым манерам, его новый друг богат.
— Вы бизнесмен? — спросил он Нейпа.
— Видите ли, — последовал ответ его собеседника. — Я скорее человек досуга. Отец оставил мне целый миллион, и поэтому я не испытываю необходимости трудиться.
— Целый миллион! — выдавил из себя Лем. — Господи, да это же десять раз по сто тысяч долларов.
— Именно, — энтузиазм Лема вызвал у Нейпа улыбку.
— Это же куча денег! Мне было бы достаточно и пяти тысяч.
— Боюсь, что мне пяти тысяч хватило бы ненадолго, — сказал с дружелюбной улыбкой Нейп.
— Господи, да где же взять такие деньги, если тебе их не оставили в наследство?
— Это нетрудно, — сказал незнакомец. — Лично я заработал ровно столько за день на Уолл-стрите.
— Не может быть!
— И тем не менее это так. Можете мне поверить.
— Я бы с радостью и сам немножко подзаработал, — тоскливо сказал Лем, вспомнив о закладной на дом.
— Чтобы делать деньги, нужно иметь деньги. Если бы у вас сейчас были какие-то наличные…
— У меня чуть меньше тридцати долларов, — сказал Лем.
— И все?
— Да, все. Мне пришлось дать долговую расписку за них мистеру Уипплу.
— Если это все ваши деньги, то берегите их хорошенько. Как эти ни печально, несмотря на все усилия моего дяди мэра, в Нью - Йорке по-прежнему полно мошенников.
— Я буду осторожен.
— Вы держите деньги в надежном месте?
— Я их не прятал, потому что потайной карман — первое, куда залезает вор. Я держу их просто в кармане брюк, ведь никому не придет в голову, что там могут быть деньги.
— Вы правы. Я вижу, вы человек бывалый.
— Думаю, что могу за себя постоять, — сказал Лем с юношеской горячностью.
— Вот что значит носить фамилию Питкин! Рад был узнать, что мы связаны родственными узами. Вы должны обязательно побывать у меня в гостях в Нью-Йорке.
— Где вы живете?
— В отеле «Риц». Просто спросите, где комнаты Веллингтона Нейпа, и вас ко мне проводят.
— Это хороший отель?
— О, да. Я плачу три доллара в день за проживание, но все прочее обходится мне в сорок долларов в неделю.
— Вот это да! — воскликнул Лем. — Я такого себе не мог бы позволить — по крайней мере, на первых порах. — И он рассмеялся с юношеской беззаботностью.
— Разумеется, вам надо подыскать себе пансион, где за умеренную плату вы будете получать хорошую, хотя и простую пищу. Но теперь я должен пожелать вам всего самого наилучшего — в соседнем вагоне меня ждет друг.
И учтивый мистер Веллингтон Нейп распрощался. Лем снова занял пост у окна.
Разносчик книг сменил свою фуражку. «Яблоки, бананы, ананасы», — покрикивал он, продвигаясь по проходу с корзинкой фруктов.
Лем прервал его продвижение, осведомившись, сколько стоят апельсины. Узнав, что два цента за штуку, он решил приобрести один и съесть с крутым яйцом, что дала ему в дорогу мать. Но когда наш приятель сунул руку в карман, его лицо исказила гримаса ужаса. Он снова и снова шарил в кармане, волнуясь все больше и больше. По его лицу стала разливаться мертвенная бледность.
— В чем дело? — спросил Стив (так звали разносчика).
— Меня ограбили! Мои деньги! У меня украли все, что дал мне мистер Уиппл.
6
— Кто же такой ловкач? — полюбопытствовал Стив.
— Понятия не имею, — удрученно сказал Лем.
— И много сперли?
— Все, что у меня было… Почти тридцать долларов.
— Ловкий щипач попался.
— Щипач? — повторил наш герой, незнакомый с жаргоном преступного мира, неплохо известного разносчику.
— Ну да, щипач, — карманный вор. Кто-нибудь разговаривал с тобой в поезде?
— Только мистер Веллингтон Нейп, богатый молодой человек. Он родственник мэра Нью-Йорка.
— Кто тебе это сказал?
— Он сам.
— Как он был одет? — Стив почуял недоброе (в детстве он сам был наводчиком у щипача и кое-что понимал). — На нем была голубая шляпа?
— Да.
— Этакий франт?
— Да.
— Он сошел на предыдущей станции, а с ним уплыли и твои денежки.
— Ты хочешь сказать, он и украл их? Ну надо же! Он сказал мне, что у него целый миллион и что он живет в отеле «Риц».
— Они все так говорят. А ты не сказал ему, где хранишь деньги?
— Сказал. Но как мне их вернуть?
— Вот уж не знаю. Он сошел с поезда.
— Ну попадись он мне! — воскликнул в сердцах Лем. — Я его тогда…
— Если такое случится, он стукнет тебя куском свинцовой трубы. Но ты проверь карманы, вдруг он оставил доллар-другой, — посоветовал Стив.
Лем опустил руку в карман, где у него раньше хранились деньги, и поспешно выдернул ее, словно его укусили за палец. В руках у него было бриллиантовое кольцо.
— Что это? — спросил Стив.
— Не знаю, — удивился Лем. — Первый раз вижу. Черт побери, оно, наверное, соскочило с пальца этого мошенника, когда он полез в карман. Я видел это кольцо у него на руке.
— Неплохо! — воскликнул разносчик. — Тебе везет. Это все равно, что свалиться в выгребную яму и вылезти оттуда с золотыми часами. Да ты счастливчик!
— Сколько оно может стоить? — с интересом осведомился Лем.
— Разрешите мне взглянуть на него, мой друг, и я, возможно, смогу ответить на ваш вопрос, — сказал джентльмен в серой шляпе, сидевший через проход. Он слушал с большим вниманием разговор между нашим героем и мальчишкой-разносчиком. — Я работаю в ломбарде, — пояснил он, — и если вы позволите мне осмотреть кольцо, я смогу назвать его стоимость.
Лем передал вышеуказанный предмет незнакомцу, который вставил в глаз увеличительное стекло и внимательно его осмотрел.
— Мой юный друг, это кольцо стоит пятьдесят долларов, — сказал он.
— Стало быть, мне повезло, — сказал Лем. — Мошенник украл у меня только двадцать восемь долларов шестьдесят центов. Мне не нужно лишнего. Я только хочу получить назад то, что у меня украли.
— Вот что мы сделаем, — сказал самозваный брокер. — Я выдам вам двадцать восемь шестьдесят за кольцо и верну его за указанную сумму плюс небольшие проценты, если владелец объявится.
— Это справедливо, — с благодарностью сказал Лем, положив в карман деньги, переданные ему незнакомцем.
Наш герой заплатил за апельсин и съел его с чувством удовлетворения. Тем временем «работник ломбарда» приготовился выходить. Он пожал руку Лему и выдал ему квитанцию на кольцо.
Но не успел незнакомец сойти с поезда, как в вагон ворвался отряд вооруженных полицейских. Лем смотрел на них с большим интересом. Его интерес, однако, сменился тревогой, когда они остановились рядом с ним и один из них грубо схватил его за горло. На запястьях Лема щелкнули наручники. Ему в голову нацелились револьверы.
7
— Вот мы его и сцапали, — сказал командовавший полицейскими сержант Клэнси.
— Но я ничего не сделал, — возразил побледневший Лем.
— Веди себя тихо, радость моя, — сказал сержант. — Ты пойдешь сам или нет? — Прежде чем юноша мог выразить готовность идти, полицейский с силой стукнул его дубинкой по голове.
Лем обмяк на сиденье, а сержант велел своим молодцам вынести его из поезда. Возле станции стоял полицейский фургон. Бесчувственное тело Лема погрузили в «Черную Марию», и она поехала в участок.
Когда спустя несколько часов наш герой пришел в себя, он лежал на каменном полу в камере. В ней было полно сыщиков. Мерзко пахло сигарным дымом. Лем приоткрыл один глаз, подав таким образом сигнал к началу допроса.
— Признавайся, гад, — заорал детектив Гроган и, прежде чем Лем смог открыть рот, ударил его ногой в живот.
— Погоди, — вмешался детектив Рейнолдс, — надо дать парню шанс. — Он нагнулся над распростертым на полу Лемом и с доброй улыбкой сказал: — Малыш, твое дело труба.
— Я ни в чем не виноват! — возопил Лем. — Я ничего не сделал!
— Ты украл бриллиантовое кольцо и продал его, — сказал другой детектив.
— Ничего подобного, — сказал Лем с убедительностью, на которую был способен в данных обстоятельствах. — В поезде вор залез ко мне в карман и уронил туда кольцо, а я отдал его в заклад незнакомому мне человеку за тридцать долларов.
— Тридцать долларов! — фыркнул детектив Рейнолдс, всем своим видом выражая крайнее недоверие. — Тридцать долларов за кольцо, которое стоит больше тысячи! Нет, нас не проведешь. — И с этими словами детектив ударил юношу ногой в ухо.
Наш герой, как и следовало ожидать, снова потерял сознание, и детективы убрались из его камеры, предварительно удостоверившись, что он еще жив.
Через несколько дней Лем предстал перед судом, но ни судья, ни присяжные не поверили его рассказу.
К несчастью, Стэмфорд — город, где арестовали Лема, — захлестнула волна преступности, поэтому и полицейские, и судейские сажали всех подряд. Роковую роль в деле Лема сыграло то обстоятельство, что человек, представившийся ему работником ломбарда, на самом деле был Хирам Глейзер, он же Булавка, хорошо известный в преступном мире. Этот негодяй согласился дать показания в поддержку обвинения и свалил всю вину на нашего героя в обмен на небольшой гонорар от окружного прокурора, который вскоре должен был баллотироваться на перевыборах.
Как только был вынесен вердикт «виновен», все стали обращаться с Лемом самым нежным образом, даже детективы, которые были такими скотами в участке. Исключительно благодаря их заступничеству — они отметили его готовность помочь следствию — Лем получил всего пятнадцать лет исправительных работ.
Нашего героя тотчас же отправили в тюрьму и посадили в камеру — ровно через пять недель после его отъезда из Оттсвилла. Из всего этого неизбежно вытекало, что правосудие срабатывает у нас быстро, хотя, если вдуматься, не всегда справедливо.
Эзекиль Парди, начальник тюрьмы, был с виду суровым, но, в сущности, добродушным человеком. Он всегда лично приветствовал новичков, и Лем не стал исключением.
— Сын мой, путь преступника тяжел, но в твои годы еще не поздно свернуть с этой стези. Не надо морщиться, я не собираюсь читать тебе нотации.
(Лем, собственно, и не думал морщиться — слова мистера Парди носили чисто риторический характер.)
— Присядь-ка на минуту, — сказал он Лему, указывая на стул. — Твои новые обязанности заключенного могут немного подождать, как подождут и тюремный парикмахер с портным.
Начальник откинулся в своем кресле, время от времени посасывая огромную трубку из тыквы-горлянки.
— Первым делом надо удалить все твои зубы, — сказал он. — Они часто являются источником инфекции, и лучше сразу принять меры предосторожности. Одновременно с этим мы начнем серию холодных обливаний. Холодная вода — отменное лекарство от мрачных мыслей.
— Но я же ни в чем не виноват, — вскричал Лем, когда до него дошел смысл слов начальника. — У меня нет мрачных мыслей, и у меня никогда в жизни не болели зубы.
На все протесты юноши мистер Парди только небрежно повел рукой.
— На мой взгляд, — сказал он, — больных нельзя ни в чем винить. Ты просто болен, как и все преступники. Что касается твоего второго аргумента, помни: береженого Бог бережет. То, что у тебя никогда не болели зубы, вовсе не значит, что они у тебя не заболят в будущем.
Лем только застонал.
— Держись бодрее, сын мой, — весело сказал начальник тюрьмы и нажал вмонтированную в стол кнопку звонка.
Через несколько минут нашего героя повели к тюремному дантисту, но мы за ним туда не последуем.
8
Несколько глав назад я покинул нашу героиню Бетти Прейл, когда она лежала в кустах в чем мать родила. Ей повезло меньше, чем Лему, и она очнулась, только когда он вернулся домой.
Когда она полностью пришла в себя, то поняла, что находится в каком-то ящике, который кто-то сильно трясет. Немного спустя выяснилось, что она лежит на дне фургона.
«Жива ли я?» — спросила она себя и решила, что да, поскольку слышала голоса и ощущала свою наготу. «Даже самых последних бедняков, — утешала себя Бетти, — во что-то одевают, прежде чем похоронить».
На месте кучера, судя по всему, сидели двое. Бетти пыталась понять, о чем они говорят, но не смогла, потому что они говорили на иностранном языке. Она поняла только, что говорят по-итальянcки, так как недолгое время училась музыке в приюте.
— Gli diede uno scudo, il che lo rese subito gentile[46], - сказал один из ее похитителей.
— Si, si… — согласился второй. — Questa vita terrena e quasi un prato, che'l serpente tra fiori giace[47].
После чего оба впали в долгое молчание.
Не стану больше мистифицировать читателей. Бедная Бетти стала добычей охотников за белыми рабынями, и ее везли в один из публичных домов Нью-Йорка.
Поездка оказалась тяжелой. Во-первых, фургон, в котором ее везли, был без рессор, а во-вторых, по дороге похитители преподали Бетти несколько основательных уроков в ремесле, каковое ей предстояло освоить.
Поздним вечером фургон остановился на Мотт-стрит у дверей китайской прачечной. Итальянцы вылезли из колымаги, осмотрелись по сторонам. Убедившись, что полицейского поблизости нет, они завернули свою жертву в мешковину и перенесли в прачечную. Там сидел пожилой китаец и что-то подсчитывал на счетах. Этот сын Поднебесной окончил Йель и свободно владел итальянским.
— Что нового, синьоры? — осведомился он.
— Molto, molto, — ответил старший из негодяев, более мерзкого вида. — La vostra lettera I'abbiamo ricevuto, ma il danara no[48], - добавил он с язвительный ухмылкой.
— Queste sette medaglie le trovero, compaesano[49], - обнадежил их китаец.
После этого обмена репликами китаец провел их добычу через потайную дверь в своего рода приемную. Комната была обставлена с восточным великолепием. Стены были обиты розовым атласом с искусно вышитыми серебристыми цаплями, пол устлан ковром, обошедшимся хозяину в тысячу долларов, и его цвета могли посоперничать с радугой. Перед каким-то уродливым идолом тлели благовония, наполняя комнату тяжким запахом. Отделка комнаты свидетельствовала об изощренной изобретательности и немалых расходах.
Китаец ударил в гонг, и не успел его звук затихнуть, как появилась восточная женщина с забинтованными ногами и поспешила увести Бетти.
Когда они удалились, By Фонг — именно так звали китайца — начал торговаться с двумя итальянцами. Разговор велся по-итальянски. Не желая утомлять читателей пересказом всех подробностей, скажу лишь, что в конце концов Бетти была продана китайцу за шестьсот долларов.
Учитывая ситуацию на рынке, сумма была большая, но By Фонгу не терпелось заполучить Бетти. Он специально послал итальянцев в Новую Англию, чтобы они добыли ему настоящую американку. Бетти устраивала его на все сто процентов.
Возможно, самое время объяснить, почему By Фонгу так понадобилась настоящая американка. Дело в том, что его заведение вовсе не было рядовым публичным домом. Это был «Дом наций», где трудились представительницы всех стран, кроме Соединенных Штатов. Но теперь этот изъян был восполнен.
By Фонг не сомневался, что вскоре вернет свои шестьсот долларов с лихвой, ибо большинство его клиентов приезжали из, так сказать, неарийских стран и горели желанием воспользоваться услугами стопроцентной американки.
У каждой из обитательниц заведения By Фонга был двухкомнатный номер, отделанный в стиле той страны, откуда она приехала. Так, у француженки Марии комнаты были в стиле эпохи Директории. Комнаты пухленькой Селесты (француженок было две по причине их большой популярности) — в стиле Людовика XIV.
У испанки Кончиты стоял рояль с небрежно брошенной на него шалью, а также кресло в чехле из лошадиной шкуры, застегнутом на большие пуговицы, и с оленьими рогами вместо подлокотников. На одной из стен бедный, но вдохновенный художник изобразил балкончик.
Нет смысла описывать обстановку прочих пятидесяти с лишним комнат. Достаточно сказать, что они были отделаны с большим вкусом и знанием истории каждой страны.
Все еще в дерюге, в которой принесли ее итальянцы, героиня была отведена в комнату, предназначенную для нее.
Владелец дома нанял декоратора Азу Гольдштейна, который оформил апартаменты в колониальном стиле. Плетеные салфеточки, кораблики в бутылочках, китовый ус, коврики — все было тут. Аза хвастался, что сам губернатор Виндзор не нашел бы, к чему придраться, настолько достоверным был интерьер.
Бетти совсем обессилела, а потому тут же упала на большую кровать с вышитым покрывалом и заснула. Когда же проснулась, ей приготовили горячую ванну, которая весьма ее освежила. Затем ее приодели две искусные служанки.
Костюм, который она должна была носить, был задуман в соответствии с интерьером. И хотя он был не совсем в духе той эпохи, сам по себе он получился на славу.
Платье было в талию, с кокеткой и поясом, юбка — клиньями, длинная, но не слишком, чтобы явить взору и тонкую лодыжку, и маленькую, изящную ножку, облаченную в белоснежный чулок, и черную туфельку на низком каблуке. Материалом для платья послужил ситец, белый в коричневую крапинку. Горловина была отделана широкой белой оборкой. На руки Бетти натянули черные шелковые митенки. Волосы свернули узлом на макушке, оставив по обе стороны лица лишь два коротких густых локона, подколотых гребнями.
Завтрак был принесен старым негром в ливрее. Он состоял из гречишных оладьев с кленовым сиропом, пирожков, печенья, бекона и большого куска яблочного пирога.
By Фонг был точен в мелочах и, подобно многим другим мошенникам, достиг бы немалых высот и заработал бы гораздо больше денег, если бы потратил энергию и изобретательность на что-то путное.
Молодые люди не умеют долго горевать, и Бетти воздала должное завтраку. Она даже попросила еще кусок яблочного пирога, и негр тут же исполнил ее просьбу.
После завтрака Бетти усадили за вышивание. С разрешения любезных читателей, мы оставим ее за этим занятием, заметив лишь, что вскоре должен был появиться первый клиент, торговец коврами, рябой армянин с Мальты.
9
Справедливость всегда торжествует. Рад сообщить читателям, что через несколько недель после того, как Лем был арестован и брошен в тюрьму, был задержан настоящий преступник, мистер Веллингтон Нейп.
Но когда губернатор штата издал указ о помиловании Лема, наш герой находился в весьма плачевном состоянии, и некоторое время даже существовала опасность, что он не воспользуется свободой. Бедняга валялся в тюремной больнице с сильнейшей пневмонией. Удаление зубов сильно ослабило его здоровье, после тринадцатого холодного душа он простудился, а четырнадцатый — заметно повредил его легкие.
Но его крепкий организм, который не был подорван злоупотреблением табака или алкоголя, выстоял. Лему удалось благополучно миновать кризис.
В первый же день, когда наш герой пришел в сознание, он с удивлением увидел, как по тюремному лазарету идет Кочерга Уиппл в одежде заключенного и с судном в руке.
— Мистер Уиппл, — позвал его Лем. — Мистер Уиппл!
Экс-президент обернулся и подошел к койке юноши.
— Привет, Лем, — сказал он, ставя посудину на пол. — Рад, что тебе полегчало.
— Спасибо, сэр. Но что вы здесь делаете? — с немалым удивлением спросил Лем.
— Я старший по отделению. Но вообще-то тебя, наверное, интересует, как я сюда угодил? — Пожилой государственный деятель огляделся. Увидев, что охранник любезничает с молоденькой медсестрой, он пододвинул стул. — Это долгая история, — вздохнул мистер Уиппл. — Но если коротко, то Национальный банк Крысиной реки лопнул, и вкладчики отправили меня за решетку.
— Не повезло вам, сэр, — сочувственно отозвался Лем. — И это после того, что вы столько сделали для города!
— Такова людская благодарность, но я никого не виню, — отвечал экс-президент, проявляя свое знаменитое здравомыслие. — Скорее, здесь виноваты Уолл-стрит и международные банкиры-евреи. Они всучили мне кучу иностранных акций, а потом приперли меня к стене. Банкиры Уолл-стрита действуют рука об руку с коммунистами, потому-то я и проиграл. Банкиры разорили меня, а коммунисты распустили клеветнические измышления насчет моего банка в парикмахерской дока Слека. Я стал жертвой антиамериканского заговора.
Мистер Уиппл снова вздохнул, а затем возгласил:
— Когда мы с тобой, мой друг, выберемся отсюда, то вступим в решительную схватку с двумя чудовищами. Два заклятых врага американского духа — духа честной игры и свободной конкуренции — это банкиры Уолл-стрита и коммунисты.
— Но что стало с моей матерью? — спросил Лем. — Что стало с нашим домом? И с коровой? Вы ее продали? — Голос нашего героя дрогнул от страшного предчувствия.
— Увы, — вздохнул мистер Уиппл. — Сквайр Берд предъявил закладную к взысканию, и Аза Гольдштейн перевез ваш дом в Нью - Йорк, в свой салон. Поговаривают, что он хочет продать его музею «Метрополитен». Корову же забрали мои кредиторы. Твоя мать пропала. Когда стали распродавать ваши вещи, она ушла, и с тех пор о ней ни слуху ни духу.
От этой ужасной новости наш герой буквально застонал. Чтобы как-то ободрить юношу, мистер Уиппл сказал:
— Твоя корова преподала мне хороший урок. Это был единственный заклад, за который я выжал полную цену. Европейские акции пошли меньше чем по десять центов за доллар. Когда я открою новый банк, он будет принимать в обеспечение только коров, причем исключительно американских.
— Вы снова хотите открыть банк? — спросил Лем, отважно пытаясь не думать о собственных бедах.
— Разумеется, — ответил Кочерга. — Друзья скоро вытащат меня отсюда. Затем я выставлю свою кандидатуру на выборах, и народ Америки увидит, что «старая кочерга» кое-чего стоит. После же я удалюсь от политики и опять открою банк. Собственно, я думаю опять открыть Национальный банк Крысиной реки. Я надеюсь купить его по дешевке.
— Вы в самом деле так думаете? — спросил наш герой, не скрывая своего восхищения.
— Разумеется, — последовал ответ. — Я — американский бизнесмен, и эта тюрьма — случайный эпизод в моей карьере. Мой мальчик, кажется, я в свое время говорил тебе, что у тебя прекрасные шансы преуспеть, потому что ты родился в бедности и на ферме. Позволь добавить, что они увеличиваются, так как ты побывал в тюрьме.
— Но что мне делать, когда я выйду на свободу? — спросил Лем с плохо скрываемым отчаянием.
— Стань изобретателем, — последовал мгновенный ответ. — Американцы славятся своей изобретательностью. Все изобретения современности — от безопасной булавки до тормоза — принадлежат нам.
— Но я не знаю, как изобретать, — сказал Лем.
— Это легко. Пока ты здесь, я покажу тебе кое-что из моих изобретений, чтобы ты смог довести их до кондиции. Если ты добьешься успеха, то прибыль мы поделим поровну.
— Это было бы здорово, — воскликнул Лем.
— Мой юный друг, не может быть, чтобы неудачи охладили твой энтузиазм, я не могу в это поверить, — с притворным удивлением воскликнул мистер Уиппл.
— Ноя даже не доехал на Нью-Йорка, — смущенно сказал Лем.
— Америка — молодая страна, — сказал мистер Уиппл, и в его голосе зазвучали ораторские нотки, — и, как и все молодые страны, она еще в состоянии брожения. Сегодняшний миллионер завтра может оказаться нищим, но никто из-за этого не станет его осуждать. Колесо фортуны обязательно повернется — так устроены все колеса. Не верь глупцам, которые утверждают, что бедняку в наши дни уже не разбогатеть, потому что все лакомые куски расхватали. Клерки по-прежнему женятся на дочках своих боссов. Экспедиторы становятся президентами железнодорожных компаний. Только на днях я прочитал, как лифтер выиграл сто тысяч в тотализатор на бегах и стал партнером в крупной брокерской фирме. Несмотря на коммунистов и их гнусную пропаганду, мы все еще живем в стране безграничных возможностей. Люди еще открывают нефтяные скважины у себя на задворках. В наших горах не перевелись золотые россыпи. Америка — это…
Но тут Кочерга осекся на полуслове, потому что надзиратель подошел к нему и велел поскорее заняться своим делом. Он удалился с судном прежде, чем Лем сумел поблагодарить его за беседу.
Общение с мистером Уипплом так ободрило нашего героя, что он быстро пошел на поправку. Однажды его вызвали к начальнику тюрьмы мистеру Парди. Последний показал ему текст помилования от губернатора и на прощание подарил Лему вставные челюсти. Он проводил его до ворот, где немножко постоял и поговорил с юношей, которого успел полюбить.
Сердечно пожимая Лему руку, мистер Парди сказал:
— Предположим, ты получишь в Нью-Йорке работу за пятнадцать долларов в неделю. Ты провел у нас двадцать недель, стало быть, потерял триста долларов. Но в тюрьме ты не платил за еду, что сэкономило тебе семь долларов в неделю, а всего — сто сорок. Стало быть, твои убытки составили всего сто шестьдесят долларов. Но чтобы удалить зубы, тебе пришлось бы заплатить никак не меньше двухсот долларов, так что ты уже как бы заработал сорок долларов. Новые искусственные челюсти стоят долларов двадцать, а те, подержанные, что я тебе подарил, — никак не меньше пятнадцати. Стало быть, твоя прибыль за двадцать недель равна пятидесяти долларам. Для молодого человека неплохое начало.
10
Вместе с гражданской одеждой тюремщик выдал Лему и тридцать долларов, которые были при нем в день ареста.
Лем не стал задерживаться в Стэмфорде. Он сразу же отправился на вокзал и купил билет до Нью-Йорка. Когда подошел поезд, он сел в вагон, исполненный решимости не заговаривать с незнакомыми людьми. То обстоятельство, что он никак не мог привыкнуть к новым челюстям, очень помогало. Всякий раз, когда Лем открывал рот, они выскальзывали и падали ему на колени.
Он благополучно доехал и вышел из поезда на Центральном вокзале. Сначала его слегка ошарашила суматоха большого города, но когда таксист стал его зазывать, у него хватило духа отрицательно покачать головой.
Однако таксист был малый настойчивый.
— Куда желаете попасть, молодой человек, — спросил он с фальшивым подобострастием. — Вам случайно не в отель «Риц»?
Лем тщательно приладил свои искусственные челюсти и сказал:
— Это, кажется, дорогая гостиница?
— Да, но я могу отвезти вас в дешевую.
— Сколько это будет стоить?
— Три с половиной доллара и полдоллара за багаж.
— Вот весь мой багаж, — сказал Лем, указывая на тряпичный узелок красного цвета.
— Тогда я отвезу вас за три доллара, — сказал водитель, надменно улыбнувшись.
— Спасибо, но лучше я пройдусь пешком, — сказал наш герой. — Я не могу заплатить такую сумму.
— Вы не дойдете. От вокзала до центра десять миль, — соврал таксист, не покраснев, хотя было совершенно очевидно, что они как раз и находились в самом центре города.
Не говоря худого слова, Лем повернулся и пошел своей дорогой. Он шел по людным улицам и мысленно поздравлял себя с тем, как удачно отбил первое нападение. Не растерявшись, он сэкономил десятую часть своих сбережений.
Лем увидел ларек, где продавали арахис, и на всякий случай приобрел пакетик.
— Я из провинции, — признался он продавцу, лицо которого показалось ему честным. — Не могли бы вы сказать мне, где тут поблизости недорогая гостиница?
— Почему бы нет, — отвечал тот, улыбнувшись прямоте собеседника. — Я знаю такую, где с вас возьмут всего доллар в день.
— И это называется дешево! — воскликнул герой. — Сколько же тогда берут в «Рице»?
— Я там никогда не останавливался, но, судя по всему, никак не меньше, чем три доллара.
— Вот это да, — присвистнул Лем. — Двадцать один доллар в неделю! Но зато уж, наверное, и обслуживание там отличное!
— Я слышал, там прилично кормят.
— Не будете ли вы так любезны сказать, как попасть в тот дешевый отель, о котором вы упомянули?
— Разумеется, скажу.
Продавец орехов направил Лема в гостиницу «Коммерсант». Это заведение было расположено на узкой улочке недалеко от Бауэри и никак не относилось к модным отелям. Однако его ценили мелкие коммерсанты, и нашему герою там понравилось. Он никогда до этого не видел роскошных отелей, и это пятиэтажное здание с конторами на первом этаже показалось ему в высшей степени импозантным.
Лем поднялся в свой номер, положил узелок, затем спустился вниз и узнал, что скоро будет обед. Он ел с аппетитом деревенского парня. Стол не отличался изысканностью, но по сравнению с тем, чем потчевали его в заведении мистера Парди, это было божественное пиршество.
Пообедав, Лем спросил у служащего отеля, как попасть на Пятую авеню. Ему посоветовали дойти пешком до Вашингтон-сквер, а затем сесть на автобус, идущий к центру.
Получив удовольствие от поездки по великолепным улицам Нью - Йорка, Лем вышел из автобуса у магазина, на котором красовалась вывеска: «АЗА ГОЛЬДШТЕЙН. Колониальные особняки и интерьеры».
В витрине он увидел дом, в котором прожил всю жизнь.
Сначала бедняга не мог поверить своим глазам. Тем не менее все было как в Вермонте. Его неприятно поразила запущенность родного жилища. Когда они с матерью в нем обитали, дом был в лучшем состоянии.
Наш герой стоял и глазел на него так долго, что привлек внимание одного из служащих. Этот учтивый господин вышел на улицу и обратился к Лему.
— Любите новоанглийскую архитектуру? — осведомился он, прощупывая почву.
— Нет, сэр, просто меня заинтересовал именно этот дом, — честно сознался Лем. — Раньше я в нем жил. Собственно, в нем я и родился.
— Как интересно, — вежливо отозвался служащий. — Не желаете ли войти внутрь и осмотреть все как следует?
Наш герой последовал за обходительным собеседником, дабы лучше взглянуть на родное обиталище. По правде сказать, он взирал на него сквозь пелену слез, ибо думал только о пропавшей матери.
— Не будете ли вы так любезны снабдить меня кое-какой информацией, — сказал служащий, указывая на старый комод. — Куда бы ваша мать поставила его, если бы он ей принадлежал?
Лем сразу подумал, что мать отправила бы комод в сарай, но, увидев, что служащий был определенно высокого мнения об этом предмете, решил поступить дипломатично. Чуть поразмыслив, он указал на место рядом с камином:
— Думаю, она бы поставила его сюда.
— Что я говорил! — воскликнул обрадованный собеседник, обращаясь к своим коллегам, которые собрались послушать, что скажет Лем. — Именно рядом с камином!
Служащий проводил Лема до дверей, а на прощание сунул ему два доллара. Лем не хотел брать деньги, считая, что он их не заработал, но его успокоили, сказав, что благодаря ему магазин сэкономил немалую сумму, каковую запросил бы эксперт за консультацию, — им очень важно было знать, где должен стоять комод.
Столь удачный поворот дел несказанно обрадовал нашего героя, который только диву давался, до чего же легко заработать в Нью-Йорке два доллара. «Если так пойдет дело, — размышлял он, — то восьмичасовой рабочий день будет приносить мне девяносто шесть долларов, а шестидневная рабочая неделя — пятьсот семьдесят шесть долларов. Если я и дальше буду продолжать в том же духе, то не успею оглянуться, как заработаю миллион».
Лем двинулся к Центральному парку, где присел на лавочку недалеко от аллеи для конных прогулок и стал наблюдать за ездой. Его внимание привлек человек, который правил маленьким рессорным экипажем, запряженным парой лошадей. Лем не знал, что человек этот, рядом с которым бежали два прекрасных далматских дога, был тот самый Аза Гольдштейн, в салоне которого он только что побывал.
Выросший в сельской местности юноша тотчас же заметил, что кучер Аза Гольдштейн неважный. Впрочем, он управлял парой гнедых не для удовольствия, а для прибыли. На его складе скопилось изрядное количество старинных фургонов и экипажей, и теперь, раскатывая в одном из них по парку, он рассчитывал, что это станет хорошей рекламой и поможет ему распродать товар. Пока Лем поражался его неумелому обращению с вожжами, одна из лошадок испугалась проходившего полицейского и встала на дыбы. Паника охватила и вторую лошадь, экипаж понесся во весь опор, создавая невероятный переполох. Сам мистер Гольдштейн полетел вверх тормашками, когда экипаж перевернулся, и Лем не мог не расхохотаться, увидев его потешную физиономию, на которой отвращение было смешано с испугом.
Но внезапно веселье Лема как рукой сняло, поскольку он понял, что, если тотчас же не остановить вконец перепуганных лошадей, случится беда.
11
Причину столь внезапной смены настроения объяснить нетрудно. Лем увидел пожилого господина с очаровательной юной дочерью, которые как раз собирались перейти дорогу, и понял, что еще мгновение, и они окажутся под копытами летящих во весь опор лошадей.
Лем задержался только для того, чтобы поправить вставные челюсти, и выбежал навстречу лошадям. Проявив силу и ловкость, он схватил их под уздцы и сумел остановить в двух шагах от ошеломленной и перепуганной пары.
— Этот парень спас вам жизнь, — заметил прохожий старику.
Старик был не кто иной, как Леви Андердаун, президент Андер-
дауновского национального банка.
К несчастью, мистер Леви был слегка глуховат, и, хотя был человеком добродушным и мягкосердечным, о чем свидетельствовали его многочисленные благотворительные деяния, характер у него был вспыльчивый. Он совершенно неверно интерпретировал действия нашего героя и, решив, что несчастный юноша конюх, упустивший разбушевавшихся животных, дал волю гневу.
— Я этого так не оставлю, юноша! — кричал он, потрясая зонтиком.
— Погоди, папочка, — вмешалась его дочь Алиса, которая тоже не разобралась, что к чему. — Не надо звать полицию. Возможно, он любезничал с хорошенькой горничной и забыл о лошадях.
Алиса была особой романтичной и читала много любовных романов. Она одарила Лема очаровательной улыбкой и поспешила увести прочь разгневанного отца.
Лем не мог сказать ни слова, так как во время схватки с лошадьми он потерял свои челюсти, а без них открыть рот не отважился. И потому он проводил отца и дочь взором, исполненным немой тоски и отчаяния.
Затем, поскольку больше ничего не оставалось делать, Лем передал вожжи подоспевшему груму и отправился искать челюсти в придорожной грязи. Пока он пребывал в поисках, к нему подошел человек, представлявший страховую компанию, с которой мистер Гольдштейн поддерживал тесный контакт.
— Вот десять долларов, друг мой, — сказал чиновник. — Человек, лошадей которого вы так храбро остановили, просит принять эту сумму в качестве награды.
Лем взял деньги, не раздумывая.
— Пожалуйста, распишитесь вот здесь, — не отставал чиновник, протягивая ему документ, по которому страховая компания освобождалась от уплаты дальнейших сумм.
Отскочивший из-под копыт камешек так сильно ударил Лема в глаз, что герой ничего им не видел, но тем не менее он отказался подписывать бумагу.
Тогда чиновник решил прибегнуть к хитрости.
— Я собираю автографы, — соврал он. — К сожалению, я не захватил с собой свой альбом, но если вы распишетесь на листке бумаги, который случайно оказался в моем кармане, вы меня просто осчастливите. Ваша подпись займет почетное место в моей коллекции.
Изнемогая от боли в левом глазу, Лем расписался, чтобы избавиться от докучливого собеседника, и снова стал шарить по земле в поисках челюстей. В конце концов он выудил свое сокровище из грязи, покрывавшей аллею для верховой езды, и пошел к питьевому фонтанчику, чтобы сполоснуть челюсти, а заодно и промыть глаз.
12
Пока Лем возился у фонтанчика, к нему подошел молодой человек. Он выделялся из толпы длинными черными волосами, ниспадавшими ему на плечи, и огромным лбом. На голове у него была шляпа с чрезвычайно широкими полями. Виндзорский галстук[50] и южная жестикуляция делали его заметным среди нью-йоркцев.
— Прошу прощения, — сказал этот странный субъект, — но я видел ваш героический поступок и хотел бы выразить свое восхищение. В наши застойные времена так редко приходится встречать настоящих мужчин.
Лем засмущался. Он поспешно вставил челюсти и поблагодарил незнакомца.
— Разрешите представиться, — продолжал молодой человек. — Меня зовут Сильванус Снодграсс, поэт по призванию и вдохновению. Позвольте узнать ваше имя?
— Лемюэл Питкин, — отвечал наш герой, не пытаясь скрыть, что самозваный поэт вызывает у него некоторое подозрение. Признаться, многое в нем напоминало мистера Веллингтона Нейпа.
— Мистер Питкин, — величественно произнес Снодграсс. — Я собираюсь написать оду о вашем подвиге. Как истинный герой, вы скромны и, наверное, не догадываетесь о классическом великолепии вашего деяния. Бедный Юноша. Летящая Упряжка. Дочь Банкира… Все это в давней традиции Америки и созвучно моей лире. Долой жалких Прустов! Американские поэты должны писать об Америке!
Наш герой не стал комментировать услышанное. Глаз ломило так, что от боли он толком ничего не понял.
Снодграсс тем временем заливался соловьем, и вокруг собралась толпа любопытствующих. Поэт уже обращался не к несчастному Лему, а к собравшимся.
— Господа! — говорил он голосом, который было слышно по всему Центральному парку. — А также дамы! Героический поступок этого юноши заставляет меня поделиться с вами кое-какими соображениями. И до него были герои — Леонид, Квинт, Максим, Вулф Тон, Глухой Смит, назовем лишь немногих, — но это не должно помешать нам назвать Лемюэла Питкина героем если не настоящего времени, то недавнего прошлого.
Самой характерной чертой его поступка было преобладание темы лошади, причем речь идет не об одной, но о двух лошадях. Это тем более важно, что годы депрессии заставили нас, американцев, вспомнить о духовных потерях.
У каждой великой нации есть свои кони-символы. Величие древней Греции нашло свое бессмертное воплощение в тех великолепных четвероногих, у которых природное начало прекрасно соединяется с божественным, — их можно видеть у подножия Парфенона. Вечный город Рим, как великолепно запечатлена его неувядающая слава в скакунах, грозно вздымающихся во славу императора Тита. А Венеция, королева Адриатики, — вспомним ее крылатых коней, рожденных из воздуха и воды. И только у нас нет ничего подобного. И не говорите мне о лошади генерала Шермана, иначе меня захлестнет порыв негодования. Это жалкая кляча, и не более того. Я хочу чтобы вы, мои слушатели, разойдясь по домам, не мешкая написали вашим депутатам конгресса требование воздвигнуть статуи, изображающие героический поступок Питкина, которые следует установить во всех парках нашей великой страны.
Сильванус Снодграсс распространялся в этом духе довольно долго, но я на этом прервусь, любезные читатели, чтобы ознакомить вас с его истинными намерениями. Как вы, наверное, уже догадались, его цели не были столь невинны. Пока он отвлекал внимание собравшихся своими речами, его сообщники свободно шныряли в толпе и шарили по карманам зазевавшихся.
Когда появился полицейский, они уже обчистили всех до одного, в том числе и нашего героя. Сильванус же, оборвав на полуслове свою речь, как в воду канул вслед за своими молодцами.
Полицейский велел всем расходиться, что и произошло. Остался лишь один Лем, который лежал на земле в глубоком обмороке. Полицейский, сочтя, что юноша пьян, несколько раз пнул его ногой, но когда выяснилось, что пара ударов в пах не возымела никакого эффекта, он счел за благо вызвать карету «скорой помощи».
13
Ранним зимним утром, через несколько недель после случая в парке, Лем вышел из больницы, оставив там правый глаз. Из-за сильных повреждений врачи решили удалить его.
Денег у Лема не было, ибо подручные Снодграсса обокрали и его. Исчезли даже челюсти, подаренные ему мистером Парди. Их забрали больничные власти, которые утверждали, что челюсти плохо пригнаны и тем самым создают угрозу его здоровью. Бедняга стоял на перекрестке, продуваемый всеми ветрами, не зная, куда податься, когда увидел человека в высокой енотовой шапке. Необычный головной убор заставил Лема присмотреться повнимательнее, и чем дольше он смотрел, тем явственней его обладатель напоминал ему мистера Уиппла.
Это и был Уиппл. Лем окликнул его, и экс-президент остановился пожать руку своему юному другу.
— Кстати, насчет изобретений, — сказал Уиппл, когда обмен рукопожатиями завершился. — Жаль, ты оставил тюрьму прежде, чем я смог поделиться с тобой моими идеями. Не зная, где ты, я сам довел дело до конца. Но давай зайдем в кофейню, — сказал он, сменив тему, — и спокойно поговорим о твоем будущем. Я очень хочу, чтобы ты преуспел. В эти трудные времена молодежь — единственная надежда Америки.
Наш герой поблагодарил его за внимание и заботу, а мистер Уиппл продолжал:
— Кстати, имей в виду, что судьба этой страны была решена в кофейнях Бостона в трудные дни перед восстанием.
У дверей кафе они замешкались, и мистер Уиппл задал Лему еще один вопрос:
— Я временно стеснен в средствах. В состоянии ли ты расплатиться по счету, который нам будет предъявлен?
— Нет, — уныло отвечал Лем, — у меня ни гроша.
— Это меняет дело, — отвечал мистер Уиппл. — Тогда мы пойдем туда, где я пользуюсь кредитом.
И знаменитый земляк Лема отвел его в захудалый квартал. Простояв в очереди несколько часов, они получили по пончику на брата и по чашке кофе от дамы из Армии Спасения. Затем они присели на обочине, чтобы приступить к скромной трапезе.
— Ты, возможно, удивляешься, — начал Кочерга, — почему я стою в одной очереди с бездомными и бродягами за чашкой дрянного кофе и непропеченным пончиком. Учти, что я иду на это добровольно и во имя блага нации.
Здесь он сделал долгую паузу, чтобы подхватить тлеющий окурок, и с удовольствием затянулся.
— По выходе из тюрьмы я вознамерился снова баллотироваться в президенты. Но, к моему крайнему изумлению, обнаружил, что в платформе Демократической партии не осталось ни одной доски, на которой я мог бы стоять. Сплошной ползучий социализм. Мог ли я, Кочерга Уиппл, согласиться с программой, которая угрожала отнять у избирателей Америки их кровное, неотчуждаемое право — продавать свой труд и труд своих детей без ограничений в смысле минимального размера заработной платы и длительности рабочей недели. Настало время для основания новой партии со старыми американскими идеалами. Я решил взяться за это дело, и вот родилась Национальная революционная партия, известная в народе как «Кожаные куртки». Наши штурмовики носят форму: енотовая шапка вроде той, что сейчас на мне, куртка из кожи оленя и пара мокасин. Оружие — охотничья винтовка. — Он указал недлинную очередь безработных, стоявших у столовой Армии Спасения. — Вот материал, из которого я создам рядовых партийцев.
Уиппл повернулся к нашему герою и, словно священник, положил руку на его плечо.
— Мой мальчик, — сказал он, — и голос его задрожал от избытка чувств, — мой мальчик, ты пойдешь за мной?
— Конечно, сэр, — неуверенно произнес Лем.
— Вот и отлично! — воскликнул Уиппл. — Я назначаю тебя старшим офицером моего штаба.
Он подтянулся и отсалютовал Лему. Тот вздрогнул.
— Старший офицер Питкин! — рявкнул Уиппл. — Я хочу обратиться с речью к этим людям. Раздобудьте мне пустой ящик.
Наш герой отправился выполнять поручение и вскоре приволок большой ящик, на который мистер Уиппл тотчас взгромоздился. Дабы привлечь внимание собравшихся у столовой, он стал выкрикивать: «Помните Рейзин-ривер!», «Помните Алама!», «Помните Мэн!» — и прочие известные и популярные в народе лозунги.
Когда вокруг него собралась толпа, Кочерга заговорил:
— Я простой человек, — сказал он задушевно, — я хочу поговорить о простых вещах. Вы не услышите от меня завиральной чепухи. Во-первых, все вы хотите работать? Так?
Грозный ропот согласия прокатился по толпе оборванцев.
— Так вот, первая и основная цель — предоставить всем работу. В 1927 году работы хватало всем, почему не стало ее теперь? Я вам объясню почему: виной тому евреи-банкиры и большевистские профсоюзы. Первые ненавидят Америку и обожают Европу, а вторые хотят все больше и больше зарабатывать. В чем роль профсоюзов сегодня? Это привилегированный клуб, который следит за тем, чтобы у его членов была самая выгодная работа. Когда кто-то из вас хочет работать, получаете ли вы место, даже если хозяин завода готов вас нанять? Нет, если у вас нет профбилета. Это самая настоящая тирания. Это наглое попрание основ демократии.
Его слова утонули в возгласах одобрения.
— Американцы, сограждане, — продолжал мистер Уиппл, когда шум утих, — мы, представители среднего класса, оказались перед угрозой быть перемолотыми двумя гигантскими жерновами. Один из них — Капитал, другой — Труд, а между ними — мы с вами, несчастные страдальцы.
Капитал — понятие международное, его столицы в Лондоне и Амстердаме. Труд — тоже понятие международное, его столица в Москве. Мы же — американцы, и когда не станет нас — не станет и Америки.
Все, что я говорю, — правда, история это подтвердит. Кто, как не представители среднего класса, покинули аристократическую Европу, чтобы заселить эти берега? Кто, как не представители среднего класса — мелкие фермеры, лавочники и чиновники, — сражались и умирали за то, чтобы Америка избавилась от британского гнета?
Это наша страна, и мы должны сражаться за то, чтобы она оставалась нашей. Если Америке суждено быть великой державой, это возможно только когда восторжествует революционный средний класс.
Мы должны прогнать международное еврейство с Уолл-стрита! Мы должны уничтожить большевистские профсоюзы! Мы должны изгнать из нашей страны все чужеродные элементы, которые ее оскверняют.
Америка — для американцев! Назад, к принципам Энди Джексона и Эйба Линкольна!
Здесь Кочерга сделал паузу, чтобы улеглись аплодисменты, и призвал добровольцев записываться в штурмовые батальоны.
Из толпы начали выходить желающие. Их возглавлял странный тип с очень длинными и очень жесткими волосами, в шляпе, которая была ему сильно мала.
— Я американец, — заявил он. — У меня много-много енотовых шапок: две, а может, шесть. — И тут он широко улыбнулся.
Но Кочерга смотрел на него с подозрением. Ему не нравился темный цвет кожи этого оратора. На юге, где он надеялся на сильную поддержку, не потерпели бы негров.
Но добродушный незнакомец, очевидно, понял, в чем дело, поскольку сказал:
— Я индеец, мистер. Я вождь. У нас есть нефтяные скважины. У нас есть золотые прииски. Зовут меня Джек Ворон.
Кочерга сразу повеселел.
— Вождь Джек Ворон! — воскликнул он и протянул руку. — Рад приветствовать вас в нашей организации. Мы — «Кожаные куртки» — можем многому у вас научиться: стойкости, мужеству, а также целеустремленности.
Записав фамилию индейца, он дал ему карточку, на которой значилось:
«Официальный портной Национальной революционной партии ЭЗРА СИЛЬВЕРБЛАТТ. Енотовые шапки со сверхдлинными хвостами, куртки из оленьей кожи с бахромой и без оной, джинсы, мокасины, винтовки — все для американских фашистов по баснословно низким ценам. При оплате наличными тридцатипроцентная скидка».
Но оставим мистера Уиппла и Лема, пока они вербуют сторонников, и проследим за действиями одного из лиц в толпе.
Этот индивидуум обратил бы на себя внимание в любом человеческом скопище, а среди оборванцев, окруживших Кочергу, он выделялся, как дуб среди осин. Во-первых, он был страшно тучен. В толпе были и другие толстяки, но они отличались нездоровым цветом лица, а этот излучал здоровье.
На его голове был шикарный котелок иссиня-черного цвета, стоивший не меньше двенадцати долларов. Одет он был в ладно сшитое пальто с черным бархатным воротником. Его накрахмаленная сорочка была в серую полоску, а галстук из дорогой, но строгой материи, с черно-белым узором. Гетры, тросточка и желтые перчатки удачно довершали ансамбль.
Толстяк на цыпочках выбрался из толпы и пошел к ближайшей телефонной будке в аптеке, откуда сделал два звонка.
Первый разговор с человеком с Уолл-стритской биржи сводился к обмену такими репликами:
— Агент 6384-ХМ, из Парижа, Франция. На углу Хьюстон-стрит и Бейкер-стрит мелкобуржуазные агитаторы мутят безработных.
— Спасибо 6384-ХМ, ваши предложения?
— Двадцать человек и пожарный шланг.
— Отлично, 6384-ХМ.
Второй звонок был сделан в организацию, распложенную возле Юнион-сквер.
— Товарища Р. … Товарищ Р.? — Да.
— Товарищ Р., говорит товарищ 3. из ГПУ, Москва. Мелкобуржуазные агитаторы вербуют безработных на углу Хьюстон-стрит и Бейкер-стрит.
— Ваши предложения, товарищ?
— Десять человек со свинцовыми трубами и кастетами для совместных действий с «Уолл-стритом».
— Бомб не надо?
— Нет, бомб не надо!
— Гутен таг.
— Гутен таг.
Мистер Уиппл едва успел записать добровольца под номером 27, когда объединенные силы международного еврейского банкирства и коммунистов обрушились на собравшихся. Они прибыли в больших черных лимузинах и развернули боевые действия с такой сноровкой, которая достигается долгими упражнениями. Собственно, их боевики все, как один, были выпускниками Вест-Пойнта.
Мистер Уиппл увидел неприятеля еще на дальних подступах, но, как всякий настоящий полководец, он думал о соратниках.
— Национальная революционная партия уходит в подполье! — успел выкрикнуть он.
Лем, научившийся осторожности после своих встреч с полицией, сразу пустился наутек, но Кочерга замешкался. Он только начал спускаться с ящика, когда получил страшный удар по голове куском свинцовой трубы.
14
— Друг мой, если вы сможете носить этот стеклянный глаз, то у меня найдется для вас работа, — произнес изящно одетый господин в светло-серой шляпе и пенсне с черной лентой, ниспадавшей к вороту пальто грациозной петлей.
С этими словами он протянул руку, в которой держал красивый искусственный глаз.
Поворачивая его из стороны в сторону так, что он засверкал как алмаз на зимнем солнце, господин терпеливо ждал, пока отзовется груда тряпья, к которой он обращался. Время от времени он тыкал в нее тонкой тростью, которая была у него в другой руке.
Наконец из-под лохмотьев раздался стон, и они зашевелились. Трость, судя по всему, задела чувствительное место. Вдохновленный успехом, человек еще раз повторил свое предложение:
— Вы можете носить этот глаз? Если да, то я вас нанимаю.
Узел тряпья на это отозвался подергиванием и легким стоном.
Откуда-то показалось лицо, затем зеленоватая рука, которая взяла сверкающий глаз и поднесла его к своей пустой глазнице.
— Позвольте мне вам помочь, — любезно предложил хозяин глаза. Несколькими искусными движениями он вставил глаз в отверстие.
— Отлично! — воскликнул он и чуть отступил, дабы оценить эффект. — Просто превосходно! Вы наняты.
Затем он сунул руку в карман и извлек бумажник, из которого вынул пять долларов и визитную карточку. И то и другое он положил на скамейку рядом с одноглазым человеком, который снова превратился в ком тряпья.
— Подстригитесь, вымойтесь и как следует поешьте, а затем отправляйтесь к моим портным — «Эфраим Пирс и Сыновья». Они займутся вашим гардеробом. Когда обретете пристойный вид, зайдите ко мне в отель «Риц».
С этими словами человек в серой шляпе повернулся на каблуках и пошел прочь.
Если вы еще не поняли, в чем дело, дорогие читатели, то знайте, что в груде тряпья скрывался наш герой Лемюэл Питкин. Вот до какого плачевного состояния довела его судьба!
После неудачной попытки Кочерги Уиппла завербовать людей в «Кожаные куртки» Лем покатился под гору. Не имея денег и не зная, как их заработать, он безуспешно ходил из одной биржи труда в другую. Он питался на помойках и спал под открытым небом. Он ослаб здоровьем и наконец дошел до состояния, в котором мы застали его в начале этой главы.
Луч надежды заблистал, и очень вовремя, ибо наш герой стал уже сомневаться, удастся ли ему разбогатеть.
Лем положил в карман пятерку, выданную незнакомцем, и стал вглядываться в карточку:
ЭЛМЕР ХЕЙНИ Отель «Риц»
Вот и все, что значилось на кусочке картона. Там ни слова не говорилось ни о профессии незнакомца, ни о роде его занятий. Но это ни в коей мере не обеспокоило Лема, ибо он понял, что у него будет работа, а это в 1934 году кое-что да значило.
Лем кое-как встал и взялся за выполнение указаний мистера Хейни. Он съел два обеда и дважды принял ванную. Только его новоанглийское воспитание удержало его от того, чтобы дважды постричься.
Сделав все, что от него требовалось для восстановления сил, он отправился к Эфраиму Пирсу и сыновьям, где его одели с ног до головы. Несколько часов спустя он уже шел по Пятой авеню к своему новому работодателю — ни дать ни взять преуспевающий молодой бизнесмен.
Лем спросил мистера Хейни, и менеджер «Рица» с поклоном проводил его до лифта, который поднял нашего героя на сороковой этаж. Он позвонил в дверь, ведущую в апартаменты мистера Хейни, которую открыл слуга-англичанин.
Мистер Хейни приветствовал его самым сердечным образом. «Отлично, отлично!» — повторял он, осматривая изменившегося до неузнаваемости героя.
Свою признательность Лем выразил глубоким поклоном.
— Если что-то в вашем внешнем облике вас не устраивает, — говорил мистер Хейни, — скажите, прежде чем я сообщу вам ваши обязанности.
Ободренный его любезностью, Лем отважился.
— Прошу прощения, сэр, — заметил он, — но глаз, который вы мне дали, не того цвета. Мой собственный глаз — серо-голубой, этот же — карий.
— Вот именно! — воскликнул мистер Хейни. — И эффект, как я и предполагал, ошеломительный! Когда кто-нибудь на вас посмотрит, он сразу поймет, что один глаз у вас стеклянный.
Лему пришлось примириться с сей странной идеей, хотя это потребовало от него немало душевных сил.
Затем мистер Хейни перешел к делу. Его поведение изменилось, он стал холоден и весьма официален.
— Мой секретарь, — сказал он, — напечатал для вас инструкции. Возьмите их домой и хорошенько изучите. Предполагается, что вы будете выполнять их неукоснительно: малейшее отклонение — и вы тотчас же будете уволены.
— Благодарю вас, сэр, — сказал Лем. — Я все понимаю.
— Ваше жалованье, — смягчился мистер Хейни, — тридцать долларов в неделю и полный пансион. Я договорился в отеле «Уорфорд-Хауз». Отправляйтесь туда сегодня же вечером.
Мистер Хейни достал бумажник и извлек из него три десятидолларовых бумажки.
— Вы очень щедры, — сказал Лем. — Я буду стараться.
— Это прекрасно, но только не переусердствуйте. Просто четко выполняйте инструкции.
Затем мистер Хейни подошел к своему письменному столу, извлек несколько машинописных листков и вручил их Лему.
— И еще одно, — сказал он, пожимая у дверей руку Лема. — Прочитав инструкции, вы, возможно, удивитесь, но тут уж ничего не поделаешь. К сожалению, я не могу дать вам полного объяснения. Тем не менее имейте в виду, что у меня фабрика глазных протезов и ваша деятельность связана с рекламой товара.
15
Лем еле сдерживал любопытство. Он не мог дождаться, пока устроится поудобнее в своих новых апартаментах в «Уорфорд-Хаузе», и сразу же открыл конверт с инструкциями мистера Хейни.
Вот что он прочитал:
«Вы должны направиться в ювелирный магазин Бр. Хазельтон (Бр. — это братья, а не инициалы) и попросить показать вам бриллиантовые булавки для галстука. Изучив один поднос, попросите второй. Когда продавец повернется к вам спиной, удалите искусственный глаз и положите в карман. Когда же продавец снова обернется к вам, сделайте вид, что вы что-то ищете на полу.
Дальше разыграйте примерно такую сцену:
П р о д а в е ц: Вы что-то потеряли, сэр?
В ы: Да, глаз (при этом пальцем укажите на пустую глазни-
цу)-
Продавец: Какая жалость! Я помогу вам, сэр.
В ы: Будьте так любезны.(С чувством. J Я обязательно должен его найти.
Самые тщательные поиски не принесут результатов, поскольку глаз находится в целости и сохранности в вашем кармане.
В ы: Я должен поговорить с хозяевами, братьями Хазельтон.
Через несколько минут продавец приведет мистера Хазельто-
на.
В ы: Мистер Хазельтон, к несчастью, я потерял в вашем магазине искусственный глаз.
Мистер Хазельтон: Может быть, вы оставили его дома?
В ы: Это исключено. Я бы почувствовал сквозняк. Я пришел сюда пешком из дома мистера Гамильтона Шуйлера на Пятой авеню. Увы, когда я вошел в ваш магазин, глаз был на месте.
Мистер Хазельтон: Можете не сомневаться, мы как следует все обыщем.
В ы: Окажите любезность. К сожалению, я не могу ждать результатов поисков. Мне надо быть в испанском посольстве, где у меня через час встреча с послом.
Услышав, с кем у вас встреча, мистер Хазельтон отвесит глубокий поклон.
В ы (продолжая): Глаз, который я потерял, нельзя возместить. Его сделал для меня немецкий мастер, и я заплатил за него немалые деньги. Заказать другой я не могу, потому что мастер погиб в последнюю войну, и секрет изготовления погиб вместе с ним. (Сделайте краткую паузу, как бы в знак памяти погибшего мастера.) Однако (продолжаете вы), скажите вашим клеркам, что я заплачу тысячу долларов награды тем, кто найдет мне глаз.
Мистер Хазельтон: Это совершенно не обязательно. Будьте уверены, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обнаружить пропажу.
В ы: Прекрасно. Сегодня я должен навестить друзей на Лексингтон-авеню, но завтра утром я зайду к вам в магазин. Если вы найдете глаз, я буду настаивать, чтобы вы приняли награду.
Мистер Хазельтон с поклоном проводит вас до дверей.
До получения указаний от мистера Хейни не появляйтесь поблизости от магазина Бр. Хазельтон.
На следующий день после визита в магазин свяжитесь с секретарем мистера Хейни в отеле «Риц». Сообщите ему, прошло ли все в соответствии с планом. О малейших отклонениях необходимо доложить».
16
Работа у мистера Хейни не отнимала у Лема много сил. Ему нужно было раз в неделю разыгрывать эту сцену в новом магазине. Вскоре он выучил роль наизусть, и когда перестал смущаться, упоминая о своем знакомстве с испанским послом, то стал получать даже удовольствие от работы. Она напоминала ему любительские спектакли, в которых он играл в школе Оттсвилла.
К тому же его нынешнее положение предоставляло ему много свободного времени. Часы досуга он использовал с немалой пользой, посещая те достопримечательности, коими так славен Нью-Йорк.
Он также предпринимал неудачные попытки отыскать мистера Уиппла. В Армии Спасения ему сказали, что они видели, как мистер Уиппл лежал в канаве после сборища «Кожаных курток», но когда на следующий день она заглянули проверить, там ли он, то не увидели никого, только пятно крови. Лем и сам посмотрел, но не обнаружил и пятна.
Он был человеком общительным и вскоре завязал знакомства с другими обитателями «Уорфорд-Хауза». Они, впрочем, были гораздо старше его, и он был рад, когда Сэмюэл Перкинс, его ровесник, заговорил с ним. Перкинс работал в универмаге на Бродвее и обожал хорошо одеваться. Особенно он любил яркие галстуки, которые покупал со скидкой у себя в магазине.
— Чем ты занимаешься? — как-то раз вечером спросил он нашего героя, повстречав в вестибюле.
— Демонстрацией стеклянных изделий, — осторожно отвечал Лем, ибо его предупредили не выдавать тайн своей работы.
— И сколько ты получаешь? — не унимался настырный юнец.
— Тридцать долларов в неделю и пансион, — признался Лем.
— А я — тридцать пять, но за еду и жилье плачу сам, и этого мне мало. Человек не может жить на такие деньги, если хочет прилично одеваться и раз в неделю бывать в опере. У меня только на транспорт уходит доллар в неделю, не считая такси.
— Да, вам и впрямь нелегко, — ответил Лем с улыбкой, думая о том, что многим семьям приходится жить на значительно меньшую сумму, нежели тридцать пять долларов в неделю.
— Разумеется, — продолжал Сэмюэл, — родители присылают мне из дома еще десятку в неделю. У старика водятся деньжата. Но в этом городе они тают как снег.
— Еще бы! — отвечал Лем. — Тут есть на что тратить.
— А что, если нам сходить вместе в театр?
— Нет, — ответил Лем. — Мне не так повезло, как вам. У меня нет состоятельного отца, и я должен откладывать все, что удается заработать.
— Тогда, может быть, нам поехать в Китайский квартал, — сказал Сэмюэл, который не мыслил жизни без удовольствий. — Нам придется только заплатить за автобус туда и обратно.
— С удовольствием, — сказал Лем. — Может быть, пригласим и мистера Уоррена?
Мистер Уоррен был еще одним постояльцем, с которым познакомился Лем.
— Этого психа? — удивился Сэмюэл, который был большим снобом. — У него не все дома. Воображает себя писателем, сочиняет для журнальчиков.
— Разве это плохо?
— Может быть, и нет, но ты заметил, какие у него потрепанные галстуки?
— У него нет ваших возможностей, — заметил Лем с улыбкой, ибо знал, где работал его собеседник.
— Кстати, как тебе мой галстук? Здорово, да? — спросил довольный Сэмюэл.
— Очень красочный, — дипломатично отозвался Лем, предпочитавший более умеренные тона.
— У меня каждую неделю новый галстук. Я покупаю их за полцены. Девицы всегда первым делом смотрят, какой у парня галстук.
Прозвучал звонок к ужину, и молодые люди поспешили на трапезу. Поужинав, они снова встретились в вестибюле и отправились в Китайский квартал.
17
Лем и его новый друг слонялись по Мотт-стрит и прилегающим улочками, с интересом наблюдая странные обычаи и своеобразные манеры обитателей этого большого квартала.
В начале вечера, однако, произошел инцидент, заставивший Лема пожалеть, что он поехал в обществе Перкинса. Когда им попался пожилой китаец, читавший газету под уличным фонарем, Сэмюэл обратился к нему, прежде чем Лем успел вмешаться.
— Эй, Джон, — сказал он насмешливо, — белье моем, полоскаем, — и глупо расхохотался.
Человек поднял от газеты свои миндалевидные глаза, целую минуту холодно вглядывался в лицо насмешника, а затем сказал с большим достоинством:
— Клянусь бородой моего деда, такой мерзкой рожи я еще в жизни не видел.
Сэмюэл замахнулся, делая вид, что вот-вот ударит его. Но китаец и бровью не повел. Он вынул из кармана маленький топорик и начал сбривать волосы с тыльной стороны рук его острым как бритва лезвием.
Сэм побледнел и начала что-то бормотать, пока Лем не счел за благо вмешаться.
Но даже этот урок правил хорошего тона не возымел действия на юного нахала. Он продолжал вести себя столь необузданно, что наш герой испытывал страстное желание покинуть его.
Сэм остановился перед тем, что, судя по всему, было подпольной рюмочной.
— Пойдем-ка, — сказал он, — глотнем виски.
— Спасибо, — сказал наш герой, — но я не пью виски.
— Предпочитаешь пиво?
— Я вообще не пью.
11 Зш. 312
— Ты что, чертов трезвенник?
— В общем-то, да.
— Ну и вали к черту, зануда, — сказал Сэм и нажал на секретную кнопку звонка.
К величайшей радости, Лем остался на улице один. Было еще не поздно, и наш герой решил прогуляться.
Он свернул за угол недалеко от Пелл-стрит, и тут у самых его ног разбилась бутылка, чудом не угодив в него самого.
Случай или умысел?
Лем внимательно осмотрелся. На улице не было ни души, а на окнах домов были опущены жалюзи. Он заметил, что на доме, перед которым он стоял, была вывеска: «Прачечная By Фонга», но это ему ничего не сказало.
Приглядевшись, он с удивлением заметил, что в осколках бутылки виднеется записка, и нагнулся, чтобы ее подобрать.
В этот момент двери прачечной тихо распахнулись и из них бесшумно выскользнул огромный китаец, подручный By Фонга. Чтобы не шуметь, он был в тапочках, а когда он стал подкрадываться к нашему герою, в руке у него что-то заблестело.
То был кинжал.
18
Некоторое время назад мы расстались с нашей героиней Бетти Прейл в дурном заведении By Фонга перед самым визитом рябого армянина с Мальты.
С той поры многие представители Востока, а также славяне, латиняне, кельты и семиты посещали ее, иногда по три раза в ночь. Впрочем, такое случалось нечасто, потому что By Фонг держал ее на особом положении и ценил гораздо выше, чем других девиц в своем доме.
Естественно, Бетти радовалась этому куда меньше, чем By Фонг. Сначала она сопротивлялась из всех сил веренице «супругов», которые навязывались ей, но когда поняла, что все это напрасно, она как могла приспособилась к новой жизни. Тем не менее Бетти постоянно думала о побеге.
Записка в бутылке была написана Бетти. Она стояла у окна и с ужасом думала о предстоящем визите борца-тяжеловеса Селима Хамида Бея, который уверял, что влюбился в нее без памяти. Вдруг она увидела Лема Питкина, вышедшего из-за угла и двинувшегося в сторону прачечной. Она быстро сочинила записку с описанием своих страданий и, положив ее в бутылку, швырнула на улицу.
Увы, ее действия не остались незамеченными. Один из многочисленных слуг By Фонга тайно наблюдал за ней в замочную скважину и тотчас же донес обо всем хозяину, который и послал огромного китайца с кинжалом разобраться с Лемом.
Прежде чем продолжить, я хочу сообщить, что за это время в заведении By Фонга произошли изменения. Они представляются мне значительными, и хотя их влияние на нашу историю может показаться спорным, на мой взгляд, оно все-таки существует.
Великая депрессия ударила по By Фонгу с той же силой, что и по честным предпринимателям, и, как и они, он понял, что затоварился. Чтобы выйти из трудного положения, он решил перейти к узкой специализации. Он больше не мог содержать «Дом наций».
By Фонг был человеком проницательным и следил за модой. Он заметил новую тенденцию в общественном сознании, и когда газеты Херста начали кампанию «Покупайте американские товары», он решил уволить всех иностранных барышень и превратить свое учреждение в стопроцентно американский бордель. Если в 1928 году было трудно добыть соответствующих девиц, в 1934 ситуация изменилась. Многие респектабельные фамилии оказались в полной нищете, и это выбросило их представительниц на публичный рынок.
By Фонг поручил Азе Гольдштейну переоборудовать заведение, и сей знаток своего дела отделал комнаты в стиле соответствующего региона с учетом его истории. В результате, все уголки Америки были представлены в лучшем виде.
Лена Хаубенгрубер (Перкомен-Крик, округ Бакс, штат Пенсильвания).
Ее комнаты были обставлены мебелью из крашеной сосны и пестрели немецкими безделушками. Одета она была в простое крестьянское платье яркой расцветки.
Алиса Суиторн (Падука, штат Кентукки).
Помимо нескольких прекрасных образчиков мебели Шератона[51] в ее апартаментах имелась декоративная железная решетка из Чарльстона, изящество которой вызывало восторг гостей. На Алисе было бальное платье эпохи Гражданской войны.
Мери Джадкинс (Джагтаун, штат Аризона).
Стены ее жилища были обшиты грубыми дубовыми досками, а щели замазаны глиной. На полу грязь — не искусственная, а самая настоящая. На Мери было платье из домотканой материи и грубые мужские ботинки. Матрац на ее кровати был набит кукурузными стеблями, а покрывалом служила шкура буйвола.
Патриция Ван Рийс (Гранмерси-парк, Манхаттан, Нью-Йорк).
Ее апартаменты были в стиле «бидермайер»[52]. Окна в шторах из белого бархата (до тридцати ярдов на окно), в гостиной люстра из восьмисот хрустальных подвесок. Патриция была одета в стиле героинь раннего Гибсона.
Роза с реки Паудер (Корсонс-Стор, штата Вайоминг).
Ее обитель — точная копия барака для поденщиков на ферме. Пол устлан соломой, на которой разбросаны седла, попоны, игральные карты, арапники, револьверы с перламутровыми рукоятками. На Розе были кожаные штаны, шелковая блузка и огромная шляпа с засушенной гремучей змеей вместо ленты.
Долорес О'Рейли (Алта-Виста, штат Калифорния).
Экономии ради By Фонг перевел ее в комнаты, ранее принадлежавшие испанке Кончите, и просто заменил обтянутый лоша-диной кожей стул на плетеное кресло. Аза Гольдштейн пришел в неистовство, но By Фонг остался непреклонен. Он не собирался выбрасывать деньги на ветер, поскольку опасался, что это действующее лицо его театра при всей свой достоверности не вызовет особого энтузиазма у поклонников стопроцентно американского.
Принцесса Чалая Олениха (Ту-Форкс, индейская резервация в штате Оклахома).
Ее комнаты были оклеены березовой корой, как вигвам, и своим делом она занималась на полу. Когда клиент срывал лоскутное одеяло, под которым находилась красотка, на ней, кроме ожерелья из волчьих зубов, ничего не было.
Мисс Кобина Уиггс (Вудсток, штат Коннектикут).
Ее апартаменты являли собой нечто среднее между раздевалкой спортклуба и конструкторским бюро. На полу валялись части аэроплана, циркули, угольники, клюшки для гольфа, книги, бутылки из-под джина, а также картины современных художников.
У Кобины были очень широкие плечи, очень узкие бедра и очень длинные ноги. На ней был комбинезон авиатора в обтяжку из серебристой ткани, к поясу был прикреплен шлем.
О Бетти Прейл (Оттсвилл, штат Вермонт), уже подробно говорилось, а потому не стану отвлекать внимание читателей.
By Фонг, как настоящий художник, стремился достичь полного жизнеподобия. Отказавшись от французской кухни и напитков, привычных в таких заведениях, он подчеркивал местный колорит. У Лены Хаубенгрубер клиента потчевали жареной свининой и ржаным виски, у Алисы Суиторн — свиным рубцом с овсянкой и бурбоном. Гость Мери Джадкинс мог полакомиться жареной бельчатиной и выпить кукурузного самогона. У Патриции Ван Рийс подавались омары и шампанское. Гости Розы с реки Паудер запивали горных устриц водкой. У Долорес О'Рейли подавались тортильи и сливовое бренди, у Принцессы Чалой Оленихи — печеная собачатина и огненная вода, у Бетти Прейл — рыбная похлебка и ямайский ром, у авангардистки Кобины Уиггс — сэндвичи с помидорами и салатом и джин.
19
Верзила китаец занес нож, но так и не ударил Лема. Его осенила новая мысль. Пока он взвешивал все «за» и «против», ничего не подозревающий юноша подобрал записку Бетти и стал ее читать.
«Дорогой мистер Питкин!
Меня держат в плену.
Спасите меня, пожалуйста.
Ваш благодарный друг Элизабет Прейл».
Когда наш герой окончательно усвоил смысл этого короткого послания, он стал озираться в поисках полицейского. Это и заставило китайца перейти к решительным действия. Он бросил нож и, применив хитрый прием восточной борьбы, так скрутил Лема, что тот и пальцем не мог пошевелить.
Затем он свистнул носом, как это делают кули. Сигнал услышали в доме, и многочисленная челядь By Фонга выскочила ему на помощь. Лем сражался как лев, но уступил превосходящим силам и был втащен в прачечную.
Бандиты поставили его пред грозные очи By Фонга, который, оглядев молодого человека, с удовольствием потер руки.
— Молодец, Лао Цзы, — похвалил он того, кто скрутил Лема.
— Требую, чтобы меня освободили, — бушевал между тем Лем, — вы не имеете права!
Но хитрый китаец не обращал на его крики никакого внимания и загадочно улыбался. Миловидный американский юноша его вполне устраивал. Как раз сегодня вечером он ожидал визит магараджи, у которого был специфический вкус. By Фонг мысленно поздравлял себя: боги и впрямь смилостивились над ним.
«Приготовьте его», — скомандовал он по-китайски.
Беднягу отвели в комнату, отделанную под корабельную каюту. Стены были обиты тиком, повсюду висели секстанты, компасы и прочие штуки. Люди By Фонга заставили Лема надеть матросский костюм в облипку. Предупредив его самым недвусмысленным образом, чтобы он и не думал о побеге, они ушли, оставив его наедине со своими мыслями.
Лем сидел на краешке койки, встроенной в угол комнаты, закрыв лицо руками. Он пытался понять, какое испытание уготовано ему судьбой на этот раз, но, не придя ни к какому выводу, стал думать о другом.
«Не потеряет ли он работу, если не появится опять у мистера Хейни? Скорее всего, потеряет. Где его дорогая мать? Если не умерла, то попала в дом призрения или ходит просит подаяния. Где мистер Уиппл? Умер и похоронен на кладбище для бродяг? И как ему связаться с Бетти Прейл?»
Лем размышлял над всем этим, когда в комнату вошел вооруженный огромным пистолетом Лао Цзы, тот самый китаец, который взял его в плен.
— Слушай, парень, — угрожающе проговорил он. — Видишь пушку? Так вот, будешь валять дурака, я проделаю в тебе из нее пару дырок.
С этими словами он залез в стенной шкаф. Прежде чем закрыть дверцу, он знаками дал понять Лему, что будет следить за каждым его движением в замочную скважину.
Бедняга ломал голову, пытаясь понять, чего от него хотят, но так ничего и не придумал. Впрочем, очень скоро ему предстояло все узнать.
В дверь постучали. Вошел By Фонг, а за ним маленький смуглый человечек с руками, унизанными кольцами и перстнями. Это и был тот самый магараджа.
— Какой мальшик! — прошепелявил королевский отпрыск с явным восхищением.
— Я рад, что он ласкает ваш августейший взор, — молвил By Фонг, раболепно кланяясь, и, пятясь задом, вышел из комнаты.
Магараджа просеменил к нашему пленнику, который думал только о китайце с пистолетом в шкафу, и обнял его за талию.
— Ну-ка, мальшик, поцелуй меня, — прошептал он с улыбкой, которая превратила его и без того противное лицо в рожу отъявленного злодея.
От отвращения у Лема встали дыбом волосы. «Он что, решил, что я девушка? — подумал он. — Нет, он по меньшей мере дважды назвал меня мальчиком».
Лем обратил взор к шкафу за указаниями. Находившийся там часовой приоткрыл дверцу и высунул голову. Сделав губки бантиком, он закатил глаза в любовно-кокетливой гримасе и указал на гостя.
Когда до нашего героя дошло, что именно от него требуется, он побледнел от ужаса. Лем снова глянул на магараджу и увидел в его взоре такую похоть, что у него подкосились ноги.
Слава Богу, Лем не упал в обморок, но раскрыл рот, чтобы позвать на помощь. Это, собственно, и спасло его, потому что он раскрыл рот так широко, что его челюсти вывалились на ковер.
Магараджа в ужасе отскочил.
Затем как нельзя кстати произошло еще одно событие: когда Лем наклонился, чтобы подобрать челюсти, стеклянный глаз, выданный мистером Хейни, вылетел и, ударившись об пол, разбился вдребезги.
Это было уже чересчур! Магараджа пришел в неописуемую ярость. By Фонг его надул! Что это за мальчишка, который прямо - таки распадается на части?
Побагровев от гнева, принц вылетел из комнаты и побежал требовать деньги обратно. Получив их, он покинул заведение By Фонга, дав клятву никогда больше туда не возвращаться.
By Фонг не простил Лему потерю ценного клиента и страшно рассердился на юношу. Он велел своим молодцам как следует его отлупить, отобрать матросский костюм и вытолкнуть на улицу, швырнув вдогонку его одежду.
20
Подобрав свои вещи, Лем кое-как дополз до заброшенного дома, где и оделся. Он решил первым делом найти полицейского.
Как бывает обычно в таких случаях, блюститель порядка словно сквозь землю провалился, и Лему пришлось немало побегать, прежде чем он нашел патрульного.
— Послушайте, — обратился к нему юноша, стараясь говорить как можно отчетливей — без челюстей это было нелегко. — Я хочу сделать заявление.
— Ну! — коротко отозвался патрульный Райли, ибо вид Лема не внушал ему никакого доверия: китайцы порвали на нем одежду, а глаз и зубы отсутствовали.
— Вызовите подкрепление и немедленно арестуйте By Фонга. Он содержит публичный дом под видом прачечной.
— Арестовать By Фонга? Да это же, пьяный осел, самый главный человек в квартале. Послушай моего совета, выпей-ка чашку кофе покрепче, а потом пойди домой и проспись.
— Но у меня есть доказательство того, что он держит в этом доме девушку против ее воли, а кроме того, применил ко мне насилие…
— Еще одно слово о моем большом друге, — сказал полицейский, — и ты загремишь в тюрьму.
— Но… — негодующе продолжал Лем.
У полицейского Райли слова не расходились с делом. Не дав бедному юноше закончить, он нанес ему страшный удар дубинкой по голове, а после взял за шиворот и потащил в участок.
Когда несколько часов спустя Лем пришел в сознание, он увидел, что находится в камере. Он быстро вспомнил, что с ним приключилось, и стал ломать голову, как бы выпутаться из трудного положения. Первое, что пришло ему на ум, — рассказать обо всем старшему полицейскому чину или судье. Но как он ни кричал, никто не появился.
На следующий день нашего героя покормили, и затем в камеру вошел человечек с еврейской внешностью.
— У вас деньги есть? — спросил представитель избранного народа.
— Кто вы такой? — ответил вопросом на вопрос Лем.
— Я? Ваш адвокат Сет Абрамович, эсквайр. Пожалуйста, ответьте на мой вопрос, иначе я не смогу как следует взяться за ваше дело.
— За мое дело? — удивился Лем. — Я же ничего не совершил!
— Незнание законов не спасает от ответственности, — напыщенно ответил адвокат Абрамович.
— В чем меня обвиняют?
— В нескольких вещах. Хулиганское поведение и нападение на полицейского, во-первых. Попытка государственного переворота, во-вторых, и, в-третьих, мошенничество в магазинах…
— Но я ничего подобного не делал, — запротестовал Лем.
— Слушай, приятель, — сказал адвокат, отбросив официальный тон. — Я не судья, и мне-то ты можешь не врать. Ты жулик, Одноглазый Питкин, и ты это прекрасно знаешь.
— У меня и вправду всего один глаз, но..
— Безо всяких «но». Дело твое — дрянь. Если ты за ночь не вырастишь новый глаз, пиши пропало.
— Я ни в чем не виноват, — печально повторил Лем.
— Будешь твердить это на суде, и я не удивлюсь, если получишь пожизненное… Лучше скажи, не ты ли заходил в магазин братьев Хазельтон и притворялся, что потерял искусственный глаз?
— Да, — сказал Лем, — но я ничего ни у кого не брал.
— И не предлагал вознаграждение в тысячу долларов, если тебе вернут будто бы потерянный глаз.
— Предлагал, но…
— Опять «но»! Не валяй дурака. На следующий день туда явился твой сообщник и притворился, что нашел глаз на полу. Мистер Хазельтон сказал, что знает, кто его потерял, и предложил оставить находку у него. Но твой дружок отказался, сказав, что, на его взгляд, это очень ценная вещь и что, если мистер Хазельтон даст ему адрес владельца, он вернет глаз лично. Мистер Хазельтон, чувствуя, что упускает тысячу, предложил человеку за глаз сотню. После оживленной торговли сделка состоялась, и мистер Хазельтон, заплатив 250 долларов, все ждет, когда ты зайдешь за глазом.
— Но я же не знал! Я никогда не согласился бы на эту работу, даже если бы умирал с голоду. Я думал, это просто что-то вроде рекламы глазных протезов.
— Ладно, сынок, успокойся. Мне придется придумать что-нибудь похитрее. Пока я не начал думать, скажи, сколько у тебя денег?
— Я работал три недели и получал тридцать долларов в неделю. У меня в банке девяносто долларов.
— Не много. Наше свидание обойдется тебе в сто долларов с десятипроцентной скидкой в случае уплаты наличными. Так что с тебя девяносто долларов. Давай их сюда.
— Я не хочу, чтобы вы были моим адвокатом, — сказал Лем.
— Не хочешь, как хочешь, но заплати мне за консультацию.
— Я вам ничего не должен. Я вас не нанимал.
— Ах ты, одноглазая крыса, — сказал адвокат, представ наконец в своем истинном обличье. — Меня назначил суд, и суд решит, сколько ты мне должен. Давай девяносто долларов, и мы в расчете. А то я подам иск.
— Не дам и ломаного гроша! — воскликнул Лем.
— Грубишь, да? Посмотрим, надолго ли тебя хватит! Я пожалуюсь моему приятелю, окружному прокурору, и ты получишь пожизненное заключение.
Произведя этот прощальный выстрел, адвокат Абрамович удалился, и наш герой остался в камере один.
21
Через несколько дней Лема посетил прокурор. Его звали Элиша Варне, и на вид это был очень добродушный человек.
— Ну вот, сынок, — начал он, — теперь ты понял, что на преступлениях не разбогатеешь. Скажи-ка, есть у тебя деньги?
— Девяносто долларов, — сказал Лем.
— Мало. Поэтому тебе лучше признать себя виновным.
— Но я ни в чем не виноват, — сказал Лем. — By Фонг…
— Замолчи! — прервал его прокурор. Услышав это имя, он даже побледнел. — Послушай моего совета и больше никогда не произноси это имя.
— Я не виноват, — воскликнул Лем с отчаянием в голосе.
— Христос тоже был не виноват, — вздохнул мистер Варне, — но его распяли. Но ты мне нравишься. Ты из Новой Англии, а я и сам из Нью-Гемпшира. Я хочу тебе помочь. Тебя обвиняют по трем пунктам. Если ты признаешь свою вину по одному из них, мы забудем об остальных.
— Но я не виноват, — еще раз повторил Лем.
— Может быть, но у тебя нет денег, чтобы это доказать. К тому же у тебя могучие враги. Будь благоразумен, признай себя виновным по одному пункту, скажи, что хулиганил, и отсиди месяц в работном доме. Я прослежу, чтобы тебе больше не дали. Что ты на это скажешь?
Наш герой молчал.
— Я даю тебе хороший шанс, — продолжал мистер Барнс. — Если бы я не был так занят, то упрятал бы тебя на пятнадцать лет. Но на носу выборы, и я должен принять участие в избирательной кампании. Да и вообще я человек занятой — столько разных дел… Сделай мне услугу, глядишь, и я тебе смогу помочь. Если ты заставишь меня готовить против тебя обвинение в государственной измене, я могу рассердиться. Ты перестанешь мне нравиться.
В конечном итоге Лем согласился на предложение прокурора. Через три дня его приговорили к месяцу исправительных работ. Судья хотел приговорить его к трем месяцам, но мистер Барнс оказался верен слову. Он что-то прошептал судье, и дело закончилось месяцем.
Через месяц Лем вышел на свободу и прямиком отправился в банк, за своими деньгами. Он хотел забрать их, чтобы сделать себе новые челюсти и искусственный глаз. Без этих приспособлений нечего было и думать найти работу.
Он сунул свою книжку в окошечко. После небольшой паузы ему сообщили, что денег выдать не могут, так как их забрал Сет Абрамович. Это было слишком! Мужество покинуло Лема, и слезы готовы были покатиться из уцелевшего глаза. Шаркающей старческой походкой он побрел из банка.
Остановившись на ступеньках этого великолепного здания, Лем безучастно смотрел на толпы людей, проходивших мимо. Внезапно кто-то взял его за руку и проговорил в ухо:
— Почему такой мрачный, солнышко? Как насчет позабавиться?
Лем машинально обернулся и увидел, что позабавиться ему предлагает Бетти Прейл.
«Это вы!» — воскликнули они в один голос. Тот, кто видел этих молодых людей в их последнюю встречу на берегу Крысиной реки, был бы поражен теми переменами, что произошли за несколько лет их жизни в большом мире.
Мисс Прейл была сильно нарумянена. От нее исходил запах дешевых духов, и платье слишком уж обтягивало ее фигуру. Это была проститутка, и к тому же проститутка-неудачница.
Что касается Лема, то, не считая потери глаза и зубов, все было при нем. Правда, он стал сильно сутулиться.
— Как вы сбежали от By Фонга? — спросил Лем.
— Вы мне помогли, сами того не подозревая, — отвечала Бетти. — Он и его люди с такой яростью набросились на вас и потащили на улицу, что мне удалось покинуть дом незамеченной.
— Рад за вас, — сказал Лем.
Молодые люди молчали, глядя друг на друга. Им обоим хотелось задать один и тот же вопрос, но они стеснялись. Наконец оба заговорили одновременно.
— Если ли у вас…
Тут они оба запнулись. Каждый замолчал, чтобы дать другому договорить. Наступила довольного долгая пауза, поскольку никто не хотел брать на себя инициативу. Наконец оба закончили вопрос:
— …деньги?
— Нет, — одновременно ответили на вопрос Лем и Бетти.
— Есть очень хочется, — призналась Бетти, — я просто подумала…
— Мне тоже хочется, — сказал Лем.
К ним приблизился полицейский. Он следил за ними с момента их встречи.
— А ну-ка, проваливайте, крысы, — рявкнул он.
— Почему вы разговариваете с дамой в таком тоне! — вознегодовал Лем.
— Что?! — не понял полицейский и поднял дубинку.
— Мы оба — граждане этой страны, и вы не имеете права обращаться с нами таким образом, — продолжал бесстрашный Лем.
Полицейский уже собирался хорошенько огреть его дубинкой по голове, но Бетти вовремя вмешалась и увела Лема от греха подальше.
Молодые люди шли молча. Вместе они чувствовали себя чуть лучше, потому что грустить лучше вместе. Вскоре они оказались в Центральном парке, где и присели на скамейку.
Лем вздохнул.
— В чем дело? — сочувственно осведомилась Бетти.
— Я неудачник, — признался Лем и снова вздохнул.
— Что за речи, Лемюэл Питкин! — вознегодовала Бетти. — Вам еще нет и восемнадцати, а вы…
— Дело вот в чем, — перебил ее слегка смутившийся Лем, которому не хотелось признаваться, что он пал духом, — когда я уезжал из Оттсвилла, я думал разбогатеть, а вместо этого дважды побывал в тюрьме, потерял все зубы и один глаз.
— Чтобы сделать омлет, приходится разбить яйца, — сказала Бетти. — Даже потеряв оба глаза, можно говорить. Буквально на днях я читала о человеке, который потерял оба глаза и все же разбогател. Вспомните и о Генри Форде. В сорок лет он разорился дотла и одолжил у Джеймса Коузенса сорок долларов. Когда он вернул долг, у него было тридцать восемь миллионов. Вам семнадцать, а вы говорите, что вы законченный неудачник. Лемюэл Питкин, вы меня удивляете!
Бетти продолжала утешать Лема, пока не стемнело. Когда село солнце, стало очень холодно.
Из-за кустов, которые не очень-то его и скрывали, на молодых людей подозрительно поглядывал полицейский.
— Мне негде ночевать, — призналась, дрожа от холода, Бетти.
— Мне тоже, — с глубоким вздохом сказал Лем.
— Пойдемте на Центральный вокзал, — предложила Бетти. — Там тепло, и мне нравится смотреть на людей. Если мы притворимся, что просто ждем поезда, то нас не выгонят.
22
— Все это похоже на сон, мистер Уиппл. — Когда утром я вышел из тюрьмы, я думал, что умру с голоду, а теперь вот еду в Калифорнию добывать золото.
Да, это говорил не кто иной, как Лем. Он сидел в вагоне-ресторане экспресса «Пятая авеню», на пути в Чикаго, где он и его спутники должны были пересесть на «Вождя», поезд на Ачисон, Топеку и Санта-Фе, и продолжить путь в горы.
Вместе с ним за столом сидели Бетти, мистер Уиппл и Джек Ворон, и все четверо пребывали в отличном настроении. Они воздавали должное замечательной еде, поставляемой пульмановской компанией.
Объяснить, как наш герой попал туда, очень просто. Когда Лем и Бетти грелись в зале ожидания Центрального вокзала, они заметили в очереди к кассе мистера Уиппла. Лем подошел к экс-банкиру, и тот радушно его приветствовал. Он и впрямь был рад видеть мальчишку. Рад он был видеть и Бетти, с отцом которой, мистером Прейлом, был хорошо знаком.
Выслушав рассказ Лема о том, какие невзгоды выпали на их долю, он предложил им присоединиться к нему и поехать в Калифорнию.
Мистер Уиппл собирался добывать золото вместе с Джейком Вороном на прииске, которым владел краснокожий. На эти деньги он надеялся финансировать Национальную революционную партию.
Лем должен был помогать мистеру Уипплу в его трудах, а Бетти — готовить еду для старателей. Оба с радостью ухватились за предложение и обрушили на мистера Уиппла поток благодарностей.
— В Чикаго, — говорил мистер Уиппл, когда официант принес кофе, — у нас будет три с половиной часа до отхода «Вождя» на Золотой Запад. За это время Лем приобретет новые челюсти и глаз, и все мы, наверное, сможем побывать на Всемирной ярмарке.
Мистер Уиппл долго расписывал цель ярмарки, пока после учтивого намека официанта им не пришлось оставить вагон-ресторан и занять свои полки.
Утром поезд подошел к вокзалу в Чикаго, и они вышли. Лему были выданы деньги для приобретения всего необходимого, а остальные сразу отправились на ярмарку. Условились, что Лем встретится там с ними позже, если успеет.
Лем быстро подобрал все необходимое в специальном магазине. Затем он отправился на Всемирную ярмарку.
Когда он шел по Одиннадцатой улице к северному входу, его остановил коротыш-толстяк в мягкой черной шляпе, надвинутой на брови. Окладистая каштановая борода скрывала нижнюю часть лица.
— Извините, — сказал он сдавленным голосом, — но, по-моему, вы тот самый молодой человек, которого я ищу.
— В чем дело? — удивился Лем. Он был начеку, так как теперь остерегался жуликов.
— Вы Лем Питкин, не так ли?
— Да, сэр. Откуда вы меня знаете?
— Вы отвечаете описанию, которое у меня имеется.
— Кто вам его дал?
— Мистер Уиппл, конечно же, — последовал неожиданный ответ незнакомца.
— Зачем ему было меня описывать?
— Затем, чтобы я смог найти вас на ярмарке.
— Но с какой стати, если мы договорились встретиться на вокзале через два часа?
— Несчастный случай лишил его возможности быть на вокзале.
— Несчастный случай?
— Именно.
— Что за несчастный случай?
— Очень серьезный! Его сбил автобус с экскурсантами.
— Насмерть? — перебил его Лем. — Скажите правду, он погиб?
— Нет, но он получил серьезные ранения, может быть, смертельные. Его отвезли в больницу без сознания. Придя в себя, он спросил, где вы, и меня послали вас искать. Мисс Прейл и Вождь Ворон дежурят у его изголовья.
Лем был настолько ошарашен ужасным сообщением, что долго не мог вымолвить ни слова, а потом сказал:
— Какой кошмар!
Он попросил бородатого незнакомца тотчас же доставить его к мистеру Уипплу.
Этого-то и хотел коварный бородач.
— У меня машина, — произнес он с поклоном. — Пойдемте.
И он подвел нашего героя к огромному лимузину, стоявшему у обочины. Лем сел, и шофер в зеленых очках и длинном плаще стремительно взял старт.
Лем был настолько взбудоражен, что все происходящее казалось ему совершенно естественным, и скорость, с которой они неслись, больше радовала его, чем пугала: он надеялся застать мистера Уиппла в живых.
Лимузин промчался под одним мостом, затем под другим. На перекрестках улиц торговали фруктами и галстуками. По тротуарам взад и вперед сновали пешеходы. Навстречу им летели такси, грузовики и легковые машины. Вокруг грохотал гигантский город, но Лем ничего не замечал.
— Куда отвезли мистера Уиппла? — спросил он.
— В больницу Лейк-Шор.
— Мы едем ближайшей дорогой?
— Разумеется.
Сказав это, незнакомец снова погрузился в угрюмое молчание.
Лем выглянул из окна лимузина и заметил, что машины попадаются им все реже и реже. Да и люди исчезли: только изредка мелькали какие-то оборванцы.
Когда машина вылетела на какую-то подозрительную окраину, бородач опустил штору на одном из окон.
— Зачем вы это сделали? — удивился Лем.
— Солнце бьет в глаза, — пояснил его спутник и опустил вторую штору, отчего в машине сделалось совершенно темно.
Эти действия заставили Лема заподозрить неладное.
— Поднимите хотя бы одну из штор, — попросил он и сделал попытку сделать это сам.
— Нет, они должны быть задернуты, — услышал он мрачный грубый голос.
— Что это все значит, сэр?
Вдруг железные пальцы схватила Лема за горло, и он услышал:
— Это значит, Лемюэл Питкин, что вы в руках Третьего Интернационала!
23
Несмотря на неожиданное нападение, Лем храбро вступил в бой, намереваясь дорого продать свою жизнь. Он считался одним из лучших спортсменов в средней школе Оттсвилла и в гневе был страшен, что бородач вскоре понял. Лем пытался оторвать от горла руку, душившую его, и ему это удалось, но когда он попробовал позвать на помощь, то понял, что лишился голоса.
Впрочем, даже если бы ему и удалось закричать, ничего из этого не вышло бы, потому что шофер был тоже заговорщиком. Ни разу не оглянувшись, он только жал на акселератор и вдруг резко свернул в какой-то темный закоулок.
Лем неистово отбивался и нанес отменный удар по лицу противника. Последний свирепо выругался, но не ударил в ответ. Вместо этого он что-то яростно нашаривал в кармане.
Лем ударил еще раз, и его рука запуталась в бороде. Она оказалась фальшивой и легко отвалилась.
Хотя в машине было темно, вы, любезные читатели, если бы сидели в ней, сразу бы догадались, что наш герой сражается не с кем иным, как с тем толстяком, что сыграл главную роль в разгоне митинга, на котором выступал мистер Уиппл. Лем, однако, не мог его узнать, потому как никогда в жизни не видел.
Неожиданно Лем почувствовал, как что-то холодное и твердое уткнулось ему в лоб. Это был пистолет.
— Ну что, негодяй, попался? Только пошевелись, и я разнесу тебе башку. — Незнакомец не произнес, а прорычал эти слова.
— Что вы от меня хотите? — с трудом проговорил Лем.
— Где находится прииск, на котором вы собираетесь добывать золото?
— Не знаю, — сказал Лем. Это была чистая правда, поскольку Кочерга держал в тайне пункт их конечного назначения.
— Врешь, проклятый фашист. Говори, а не то…
Его слова потонули в визге сирены. Их машина резко свернула, потом вильнула, и раздался страшный грохот. Лему казалось, что он мчится по тоннелю, полному звенящих колоколов. В глазах потемнело, и последнее, что он почувствовал, была острая боль в левой руке.
Когда бедный юноша пришел в себя, он понял, что лежит на какой-то койке и что его куда-то везут. У его изголовья сидел человек в белом халате и спокойно курил сигару. Лем понял, что он уже не в лимузине: задний борт машины был откинут. Было светло.
— Что случилось? — спросил Лем.
— А, очухался, — отозвался человек в белом. — Ну, теперь, наверное, ты выкарабкаешься.
— Но что произошло?
— Тебя сильно помяло.
— Помяло? А куда вы меня везете?
— Давай по порядку. Лимузин, в котором ты ехал, врезался в пожарную машину и разбился вдребезги. Водитель, похоже, удрал, потому как в машине, кроме тебя, никого не было. Ты в карете «скорой помощи», и мы везем тебя в больницу Лейк-Шор.
Лем понял, что попал в очередную передрягу. К счастью, он был жив.
— Ты, часом, не скрипач? — загадочно спросил врач.
— Нет, а что?
— Твоя левая рука была в жутком виде, и нам пришлось кое-что отрезать. Короче, у тебя ампутирован большой палец.
Лем тяжко вздохнул, но, будучи стойким юношей, заставил себя думать о другом.
— Из какой вы больницы? — переспросил он врача.
— Лейк-Шор. А в чем дело?
— Как себя чувствует ваш пациент Натан Уиппл? На ярмарке его сбил автобус с экскурсантами.
— У нас нет пациента с такой фамилией.
— Вы уверены?
— Вполне. Я знаю всех, кто попал к нам по «скорой».
Внезапно Лему стало все ясно.
— Он надул меня! — воскликнул юноша.
— Кто надул? — поинтересовался врач.
Лем не ответил. Вместо этого он спросил:
— Который час?
— Час дня.
— У меня, стало быть, еще пятнадцать минут, чтобы успеть на поезд. Остановите машину и выпустите меня. Пожалуйста!
Врач уставился на нашего героя, пытаясь понять, не сошел ли он с ума.
— Мне надо выйти! — с жаром повторил Лем.
— Конечно, вы имеете право делать все, что вам заблагорассудится, но я бы советовал поехать в больницу.
— Нет, — упорствовал Лем. — Прошу вас. Мне надо на вокзал. Я должен успеть на поезд.
— Я просто восхищен вашим мужеством. Черт возьми, может, и впрямь пойти вам навстречу?
— Будьте так добры, — взмолился герой.
Без лишних слов врач велел шоферу гнать что есть сил на вокзал, пренебрегая правилами уличного движения. В результате неистовой гонки через весь город они подкатили к вокзалу, когда «Вождь» должен был вот-вот отойти от платформы.
24
Как и предполагал Лем, мистер Уиппл и его спутники уже были в поезде. Увидев Лема с перевязанной рукой, они начали спрашивать, что случилось, и Лем рассказал про встречу с агентом Третьего Интернационала. Это вызвало у слушателей бурю негодования.
— Настанет день, — зловеще предрек мистер Уиппл, — когда покатятся головы с бородами, с усами и без оных!
В остальном путешествие прошло без происшествий. В поезде нашелся отличный доктор, и к тому времени, когда «Вождь» достиг Южной Калифорнии, рука Лема понемногу заживала.
После нескольких дней перехода на лошадях маленький отряд прибыл на берег реки Юба в горах Сьерра. На одном из притоков этой реки и находился прииск Джека Ворона.
Недалеко от прииска была бревенчатая хижина, которую мужчины быстро превратили в сносное жилище. Там разместились мистер Уиппл и Бетти; Лем и краснокожий расположились под открытым небом.
Однажды вечером после тяжелого рабочего дня четверо друзей сидели у костра и пили кофе. Вдруг, откуда ни возьмись, появился человек, как две капли воды похожий на отъявленного негодяя из вестерна.
Он был в красной фланелевой рубашке, кожаных штанах и мексиканском сомбреро. За голенищем у него торчал нож, из-за пояса выглядывали перламутровые рукоятки револьверов.
Приблизившись на расстояние двух родов[53], он приветствовал отряд.
— Как дела, ребята? — спросил он.
— Неплохо, — отвечал Кочерга Уиппл. — А у вас?
— Ты янки, верно? — спросил незнакомец, слезая с лошади.
— Да, я из Вермонта, а вы?
— Из округа Пайк, штат Миссури, — ответил тот. — Слыхали об округе Пайк?
— О Миссури я слыхал, — отвечал с улыбкой мистер Уиппл, — но не могу сказать ничего определенного об этом округе.
Человек в кожаных штанах нахмурился.
— Ты, наверное, родился в лесной глуши, если не знаешь об округе Пайк, — сказал он. — Все лучшие воины — из наших мест. Я могу сражаться с дикими кошками; один, не дрогнув, выйду против дюжины индейцев.
— Не желаете ли передохнуть у нас? — предложил мистер Уиппл.
— Может, да, а может, нет, — ответил грубиян. — У вас, случайно, не найдется бутылочки виски?
— Нет, — сказал Лем.
Пришелец был разочарован.
— Жаль, — сказал он. — Я высох, как вобла. А чем вы тут занимаетесь?
— Копаемся в земле, — сказал мистер Уиппл.
— Копаться в земле — не занятие для джентльмена, — изрек миссуриец. Эти слова были произнесены с таким высокомерием, что присутствующие невольно улыбнулись. В красной рубахе, грубых кожаных штанах, давно не мывшийся незнакомец не очень походил на джентльмена в привычном смысле слова.
— Хорошо быть джентльменом, когда у тебя есть денежки, — задумчиво произнес Лем, вовсе не собираясь задеть незнакомца.
— Это ты про меня? — нахмурился тот и привстал с земли.
— Это я про себя, — тихо сказал Лем.
— Извинение принято, — буркнул миссуриец. — Но ты лучше не серди меня, незнакомец, а то я такое устрою, что не приведи господь. Вы меня еще не знаете. Я удалец-молодец, лихой охотник. А тех, кто меня злит, просто убиваю.
После этой злобной тирады человек из Миссури на время утих, занятый кофе и пирогом, который подала Бетти, но вскоре снова завелся.
— Это что, индеец? — возопил он, тыча пальцем в Джека Ворона и нашаривая рукой ружье.
Лем поспешно встал и загородил собой краснокожего, а Кочерга схватил хулигана за руку.
— Это наш друг, — пояснила Бетти.
— А мне плевать, — отвечал лихой удалец-молодец. — Пустите меня, я сдеру с него шкуру.
Но Джек Ворон и сам мог постоять за себя. Он выхватил свой револьвер и, прицелившись в негодяя, сказал:
— Заткнись, болван, или отправишься на тот свет!
При виде направленного на него дула грубиян пошел на попятный.
— Ладно, ладно, — сказал он, — хотя я стреляю в индейца сразу, как увижу. Хороший индеец — мертвый индеец. Такое мое мнение.
Мистер Уиппл отослал Джека от костра, и наступило долгое молчание, во время которого все смотрели на веселые языки пламени. Наконец человек из округа Пайк снова заговорил, на этот раз обращаясь к Лему.
— Не желаешь перекинуться в картишки, дружище? — спросил он. С этими словами он вытащил из кармана засаленную колоду и стал ее тасовать с поразительной ловкостью.
— Я в жизни не играл в карты, — сказал наш герой.
— Где же ты рос? — презрительно осведомился миссуриец.
— В Оттсвилле, штат Вермонт, — отвечал Лем. — Я не отличу короля от валета и не жалею об этом.
Не смутившись, уроженец округа Пай продолжил:
— Я тебя научу. Давай сыграем в покер.
Тут заговорил мистер Уиппл.
— В нашем лагере азартные игры строго-настрого запрещены, — твердо сказал он.
— Какой бред, — прокомментировал незнакомец. Заядлый игрок, он надеялся неплохо подзаработать, обчистив компанию.
— Может, и так, — отрезал мистер Уиппл. — Но это уж наше дело.
— Послушай, друг, — сказал миссуриец. — Ты соображаешь, с кем говоришь? Я сею гибель и разрушение, потому как я сорвиголова и удалец-молодец.
— Это мы уже слышали, — спокойно отвечал мистер Уиппл.
— Гибель и разрушение! — повторил тот, свирепо оскалившись. Знаете, как я обошелся с одним типом на прошлой неделе?
— Нет, — честно признался мистер Уиппл.
— Ехали мы вдвоем через округ Альмеда. Я встретил его случайно, как вас сегодня, и рассказал ему, что однажды на меня напали четыре медведя, а я с ними быстро разобрался, хоть и был один как перст. Он расхохотался и сказал, что я, видно, здорово набрался и у меня в глазах двоилось. Знал бы он, с кем разговаривает, так прикусил бы язык!
— И что же вы сделали? — с испугом спросила Бетти.
— Что я сделал, мэм? — вскинулся человек из округа Пайк. — Для начала сообщил ему, что он не знает, кого оскорбил. Сказал, что я сорвиголова, удалец-молодец. Сказал, что вызываю его на смертельный поединок, и предложил выбирать оружие. Потом спросил, как он желает драться — зубами, клыками, ногами, руками, когтями, на ножах или на пистолетах, на ружьях или на томагавках.
— Он принял ваш вызов? — полюбопытствовал Лем.
— Куда ж ему было деться.
— Чем же закончился ваш поединок?
— Я прострелил ему сердце, — холодно сообщил миссуриец. — Теперь его кости гложут стервятники в каньоне.
25
На следующий день человек из округа Пайк провалялся на своем одеяле до одиннадцати часов утра. Он встал, лишь когда Лем, Кочерга Уиппл и Джек Ворон вернулись с прииска, чтобы перекусить. Они были удивлены, увидев его в своем лагере, но из вежливости ничего не сказали.
Они не знали, что миссуриец давно уже не спал. Он лежал под деревом, следил за Бетти, хлопотавшей по хозяйству, и обдумывал грязный план.
— Я голоден, — свирепо заявил он. — Когда завтрак?
— Сейчас. Не желаете ли присоединиться? — спросил мистер Уиппл с сарказмом, который не был замечен грубияном.
— Благодарю, незнакомец, а почему бы и нет? Мои запасы кончились задолго до того, как я вышел на ваш лагерь, а пополнить их было негде.
Он ел с таким аппетитом, что мистер Уиппл забеспокоился. В лагере кончалось продовольствие, и, если бы незнакомец продолжил в том же духе, пришлось бы срочно ехать в город за едой.
— У вас отменный аппетит, мой друг, — сказал мистер Уиппл.
— Не жалуюсь, — отвечал тот. — Плохо, что нет виски запить все это добро.
— Мы предпочитаем кофе, — сказал Лем.
— Кофе для детей, виски для настоящих мужчин, — последовал ответ.
— И все же я предпочитаю кофе, — возразил Лем.
— Тьфу! — отозвался его собеседник. — Лучше уж снятое молоко. Нет, мне подавай виски или самогон.
— Чего мне не хватает в лагере, — сказал мистер Уиппл, — так это тушеных бобов с черным хлебом. Когда-нибудь пробовал их, дружище?
— Нет, — сказал миссуриец, — пища янки не для меня.
— Что же вы любите больше всего? — спросил Лем с улыбкой.
— Солонину с мамалыгой, кукурузные лепешки и сорокаградусную!
— Кто к чему привык. Я люблю бобы, черный хлеб, пирог с тыквой. Когда-нибудь пробовали пирог с тыквой?
— Да.
— Понравилось?
— Так себе.
Незнакомец поглотил гору еды и выпил шесть или семь чашек кофе. Мистер Уиппл понял, что ему придется ехать в город за пополнением запасов.
Уничтожив три банки ананасов, человек из округа Пайк закурил сигару мистера Уиппла, даже не спросив разрешения, и сделался весьма общительным.
— Ребята, — начал он, — вы когда-нибудь слышали, что у нас произошло с Джеком Скоттом?
— Нет, — сказал мистер Уиппл.
— Мы с Джеком крепко дружили. Вместе охотились, неделями жили в одной палатке и вообще были как братья. Однажды мы ехали верхом, и вдруг ярдах в пятидесяти перед нами выскочил олень. Мы оба вскинули ружья и выстрелили. В олене оказалась только одна пуля. Моя! Я сразу это понял.
— Как же вы это поняли? — спросил Лем.
— Очень ты любопытный, парень. Понял, и все тут. Но Джек решил, что это пуля его. «Это мой олень, — сказал я, — ты ошибаешься. Промазал как раз ты. Думаешь, я не узнаю свою собственную пулю?» — «Думаю», — отвечает он. «Джек, — спокойно роняю я, — не надо так говорить — это опасно». — «Думаешь, я тебя боюсь?» — говорит он наглым тоном. «Джек, — отвечаю, — ты меня не выводи из себя, я ведь диким котам хвосты отрываю». — «Со мной дело будет посложнее», — фыркнул он. Это было слишком! Я удалец - молодец из округа Пайк, штат Миссури, и никто не смеет оскорблять меня, не заплатив за это жизнью. «Джек, — говорю я, — мы были закадычными друзьями, но ты меня оскорбил и должен заплатить за это жизнью». Я поднял свое ружье и прострелил ему голову.
— Как жестоко с вашей стороны! — воскликнула Бетти.
— Мне очень не хотелось так поступать, красавица, это был мой лучший друг, но он не поверил моему слову, а тот, кто на такое способен, должен написать завещание, если, конечно, у него есть имущество.
Никто ничего не сказал, и человек из округа Пайк продолжал свою речь.
— Дело в том, что меня рано научили драться, — сказал он с дружеской улыбкой. — В школе я лупил всех подряд.
— Вот, оказывается, почему вас зовут удалец-молодец! — весело заметил мистер Уиппл.
— Верно, дружище, — гордо отвечал его собеседник.
— А что вы делали, когда вам задавал трепку учитель? — спросил мистер Уиппл.
— Что делал? — переспросил миссуриец с демоническим хохотом.
— Да, что?
— Стрелял, — ответствовал человек из округа Пайк.
— Вот это да! — воскликнул мистер Уиппл. — Сколько же учителей вы застрелили за годы обучения?
— Только одного. Остальные, прослышав об этом, не смели и пальцем меня тронуть.
Сделав это сообщение, сорвиголова улегся под деревом, чтобы спокойно докурить сигару мистера Уиппла.
Видя, что незваный гость не собирается ехать дальше, все остальные занялись своими делами. Лем и Джек отправились на прииск, находившийся примерно в миле от лагеря. Кочерга Уиппл сел на лошадь и поехал в город за продуктами. Бетти занялась стиркой.
Вскоре Джек и Лем поняли, что им не обойтись без динамита. Лем был внизу, в шахте, и потому в лагерь пошел индеец.
Миновал час, другой, а Джека все не было. Лем начал волноваться. Он вспомнил, что говорил миссуриец об индейцах, и подумал, что грубиян мог обидеть Джека.
Лем поднялся из шахты и отправился в лагерь проверить, все ли там в порядке. Выйдя на опушку, где стояла их хижина, он застыл от удивления: в лагере не было никого.
— Джек! — крикнул сбитый с толку юноша. — Джек, где ты?
Ответа не последовало. Только гулкое эхо повторило его слова.
Внезапно тишину разрезал пронзительный вопль. Лем понял, что это кричит Бетти, и стремглав бросился к хижине.
26
Дверь хижины оказалась заперта. Лем стал дубасить по ней кулаками, но без толку. Тогда он побежал за топором к поленнице. Там он и обнаружил Джека. Тот лежал с простреленной грудью. Схватив топор, Лем помчался к хижине. Несколько сильных ударов, и дверь слетела с петель.
В полумраке Лем с ужасом увидел, как человек из округа Пайк деловито стаскивает с Бетти одежду. Девушка отчаянно сопротивлялась, но миссуриец был очень силен.
Подняв топор, Лем ринулся в атаку. Однако его противник предвидел такой оборот событий и поставил у двери медвежий капкан.
Лем успел сделать лишь шаг, и стальные челюсти капкана сомкнулись у него на ноге, кромсая брюки, плоть и кость. Лем упал без чувств, словно сраженный пулей.
Увидев, какая участь постигла беднягу Лема, Бетти тоже потеряла сознание. Никоим образом не смутившись этим, миссуриец продолжал делать свое мерзкое дело и вскоре успешно завершил начатое. Затем он вышел из хижины с Бетти на руках. Перебросив ее через седло, он сел на лошадь, вонзил ей в бока шпоры и ускакал в сторону Мексики.
На полянке воцарилась тишина, и место кровопролития преобразилось. Где-то на верхушке дерева заверещала белка. В ручье неподалеку плеснула форель. Пели птицы.
Внезапно птицы умолкли. Белка перестала собирать шишки и в испуге спрыгнула с дерева. Кто-то зашевелился за поленницей. Джек Ворон был жив.
Со свойственным его народу мужеством, превозмогая боль, тяжело раненный индеец пополз на четвереньках. Он продвигался медленно, но верно.
Милях в трех от лагеря начиналась резервация. Джек знал, что неподалеку находится индейское поселение. Туда-то он и двинулся за помощью.
После долгой и мучительной дороги он добрался до цели, но так ослаб от напряжения, что упал бездыханным на руки первого повстречавшегося ему краснокожего. Он успел только прошептать:
— Стрелял белый человек. Быстро в лагерь.
Предоставив Джека нежной заботе местных скво[54], воины племени собрались у вигвама вождя обсудить план действий. Где-то начал бить тамтам.
Вождя звали Израиль Сатинпенни. Он учился в Гарварде и ненавидел белых всей душой. Он мечтал поднять индейцев на восстание и прогнать бледнолицых в те страны, откуда они пришли, но пока из его планов мало что получалось. Его люди утратили былую воинственность. Наглое нападение на Джека Ворона было шансом, который Сатинпенни не желал упускать.
Когда индейцы собрались вокруг его палатки, он появился во всех регалиях и начал свою речь:
— Краснокожие! Пришло время заявить во всеуслышание об ужасах и кошмарах цивилизации бледнолицых.
Наши отцы помнят, что это была прекрасная страна, где человек если слышал стук, то это билось его сердце, а не тикал будильник, он вдыхал удивительные ароматы цветов, а не винные пары. Надо ли говорить о ручьях, что не знали плена водопроводной трубы! Об оленях, которые никогда не пробовали сена. О диких утках, которые не были окольцованы.
Утратив все это, мы получили от белого человека его цивилизацию: сифилис и радио, туберкулез и кино. Мы приняли цивилизацию, ибо он сам в нее верил. Но раз теперь он стал серьезно сомневаться в ней, почему же мы должны продолжать в нее верить? Его последний дар нам — сомнения, всеразъедающий скепсис. Он сгноил наши земли во имя прогресса. А теперь распад затронул и его самого. Вонь от его испуга бьет в ноздри великого бога Маниту.
Чем же белый человек умнее краснокожего? Мы жили здесь с незапамятных времен, и все было прекрасно. Пришел бледнолицый и в своей бесконечной мудрости загрязнил небосвод дымом, а реки — отбросами. Что же он умел делать в своей мудрости? Я вам скажу. Он делает хитрые зажигалки. Отличные авторучки. Бумажные пакеты, дверные ручки, кожаные сумки. Он покорил силы земли, воздуха, воды, чтобы они крутили колеса, а те, в свою очередь, крутили другие колеса, а те — третьи… Колеса крутились вовсю, пока нас не завалили туалетной бумагой, авторучками, раскрашенными шкатулками для булавок, брелоками для ключей и часов.
Пока бледнолицый мог совладать с вещами, которые производил, мы, краснокожие, благоговели перед его умением прятать свою блевотину. Но теперь все потайные уголки земного шара забиты ею до отказа. Теперь даже Большой Каньон не в состоянии вместить все бритвенные лезвия, что изготовил белый человек. Теперь, о воины, плотина прорвана, и его затопило тем, что он смастерил.
Он здорово захламил наш материк. Но разве пытается он убрать мусор? Нет, он старается, не покладая рук, навалить еще больше. Его волнует лишь одно: как сделать так, чтобы в стране производилось больше шкатулок для булавок, брелоков и кожаных сумок.
Поймите меня правильно, друзья. Я не философ-руссоист! Я знаю, что часы нельзя заставить идти назад. Но я знаю и другое. Можно остановить часы. Можно, наконец, их разбить!
Время настало. Повсюду нищета и насилие, страдания и богохульство. Ворота Бедлама отворились, и по нашей земле шагают боги Мапео и Сураниу.
Пришел день отмщения. Закатилась звезда бледнолицего, и он это прекрасно знает. Шпенглер говорит об этом. Валери говорит об этом. Тысячи мудрецов из стана бледнолицых заявляют об этом во всеуслышание.
Братья! Пора наступить бледнолицему на горло, сорвать с него латы. Надо действовать, пока он слаб и немощен, пока он изнемогает под грудой произведенного им хлама…
Дикими воплями приветствовали эту речь воины, и в глазах их горела жажда мести. Оглашая окрестности новым военным кличем «Разбей часы!», они раскрасили себя краской и оседлали своих пони. У каждого из храбрецов был томагавк в руке и нож для снятия скальпов — в зубах.
Прежде чем вскочить на своего мустанга, Сатинпенни отправил одного из своих соратников на ближайший телеграф. Ему было велено направить зашифрованные послания вождям индейских племен в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике с приказом подняться на смертный бой.
Возглавляемые доблестным Сатинпенни воины поскакали через лес по следам, что оставил Джек Ворон. Когда они прибыли к хижине, Лем по-прежнему находился в стальных объятиях капкана.
— Иехо-хо! — взвыл вождь. Склонившись над распростертым юношей, он ловко снял с него скальп. Размахивая трофеем, Сатинпенни снова оседлал своего скакуна и помчался к ближайшему поселку. Его кровожадные соплеменники следовали за ним.
На поляне остался только мальчик-индеец. Ему было велено поджечь хижину. К счастью, у него не оказалось спичек, и как ни пытался мальчуган развести огонь с помощью двух палочек, у него ничего не вышло. Он старательно тер палочки друг о друга, но только сам согрелся.
Оглашая воздух ругательствами, неприличествующими его юным летам, он бросил палочки и решил искупаться в реке. Но прежде чем осуществить задуманное, лишил окровавленную голову Лема искусственного глаза и челюстей.
27
Спустя несколько часов вернулся мистер Уиппл с запасом провианта. Едва ступив на поляну, он сразу понял: случилось что-то неладное. Он ринулся к хижине. Там он обнаружил Лема, нога которого по-прежнему была в медвежьем капкане.
Мистер Уиппл склонился над распростертым у порога Лемом и с облегчением обнаружил, что тот еще дышит. Он отчаянно пытался освободить Лема из капкана, но у него ничего не вышло. Тогда он поднял Лема и на руках вынес его из хижины вместе с капканом.
Перекинув юношу через лошадиный круп, мистер Уиппл поскакал с ним в ближайшую больницу. Он скакал всю ночь и прибыл в пункт назначения лишь утром. Лема отнесли в операционную, где врачи не мешкая вступили в долгую борьбу за жизнь нашего героя. Врачи победили дорогой ценой: им пришлось ампутировать Лему ногу до колена.
Поскольку Джек Ворон исчез, мистеру Уипплу не было необходимости возвращаться на прииск. Он остался в городке, где была больница, и навещал юношу каждый день. Однажды он принес ему апельсин, в другой раз — букет полевых цветов, собранных им собственноручно.
Выздоровление Лема затянулось. За это время Кочерга Уиппл израсходовал все свои сбережения, и, чтобы поддерживать существование, экс-президент поступил на работу в конюшню. Когда Лем вышел из больницы, он тоже стал работать там.
Поначалу Лем никак не мог привыкнуть к деревянной ноге, которой его снабдили в больнице. Но ежедневная тренировка привела к тому, что он стал помогать мистеру Уипплу чистить стойла и скрести лошадей.
Разумеется, друзья не собирались до конца дней своих работать конюхами. Они пытались найти работу получше, но без толку.
У Кочерги был живой и изобретательный ум. Когда в очередной раз он бросил взгляд на скальпированный череп Лема, его осенила блестящая мысль. Почему бы не разбить палатку и не показывать желающим его юного друга-инвалида как последнего скальпированного белого человека и единственного уцелевшего в резне на реке Юба?
Поначалу наш герой прохладно отнесся к плану мистера Уиппла, но тому в конце концов удалось убедить своего подопечного, что это единственный способ избавиться от нудной работы на конюшне. Он пообещал Лему, что как только они подкопят немного денег, то займутся иным бизнесом. Из старого куска брезента они изготовили подобие палатки. Кроме того, мистер Уиппл приобрел по дешевке у оптового торговца ящик зажигалок. С этим скудным скарбом они и отправились в путь-дорогу.
Метод их работы отличался простотой. Они останавливались на окраине какого-нибудь приглянувшегося им городка и разбивали палатку. Лем заходил внутрь, а мистер Уиппл разгуливал вокруг, неистово колотя палкой в жестянку.
Вскоре вокруг него собиралась толпа, привлеченная шумом и грохотом. Описав достоинства керосиновых зажигалок, мистер Уиппл делал собравшимся «двойное предложение». За десять центов они могли не только приобрести зажигалку, но и, зайдя в палатку, поглазеть на единственного уцелевшего в великой резне на реке (Оба и полюбоваться на его свежескальпированный череп.
Дела у них шли не так бойко, как они предполагали. Хотя мистер Уиппл проявил себя отменным коммивояжером, у жителей городков, через которые лежал их путь, было мало денег, и они не могли позволить себе удовлетворить любопытство, как бы велико оно ни было.
Так они странствовали месяц за месяцем и однажды, по своему обыкновению, собирались разбить палатку на окраине очередного городка. В этот момент местный мальчуган доверительно сообщил им, что в местном оперном театре дается гораздо более картинное представление, причем совершенно бесплатно. Поняв, что бесполезно конкурировать со столь мощным соперником, друзья решили поглядеть, что это такое.
По всем заборам были расклеены афиши, и Лем с мистером Уипплом остановились перед одной из них.
БЕСПЛАТНО! БЕСПЛАТНО! БЕСПЛАТНО!
Кунсткамера американских кошмаров МОНСТРЫ ОДУШЕВЛЕННЫЕ И НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ ВОЖДЬ ДЖЕК ВОРОН Приходите поодиночке Приходите все вместе БЕСПЛАТНО! БЕСПЛАТНО! БЕСПЛАТНО!
С. Снодграсс
Воодушевленные известием, что их краснокожий друг жив, мистер Уиппл с Лемом отправились на его поиски. Когда они подходили к зданию местной оперы, Джек спускался по ступенькам. Он страшно обрадовался и повел их в ресторан.
За кофе Джек поведовал о том, что человек из округа Пайк прострелил ему грудь и как он потом дополз до индейского поселка. Там его раны быстро затянулись благодаря чудодейственному снадобью, изготовляемому тамошними скво. Этим замечательным эликсиром он и приторговывал, когда не был занят в спектаклях «Кунсткамеры американских кошмаров».
Лем, в свою очередь, рассказал, как он был скальпирован и как вовремя вернулся мистер Уиппл, чтобы доставить его в больницу. Выслушав историю юноши, Джек страшно рассердился. Он осудил вождя Сатинпенни за экстремизм и заверил мистера Уиппла и Лема, что все уважаемые члены племени с неодобрением относятся к деятельности Сатинпенни.
Мистер Уиппл хоть и поверил словам Джека, но усомнился в том, что индейский бунт вспыхнул ни с того ни с сего.
— Откуда у Сатинпенни взялись автоматы и виски, столь необходимые для поддержания боевого духа воинов? — спросил он своего краснокожего друга.
Джек Ворон не смог ответить на этот вопрос, и мистер Уиппл загадочно улыбнулся, как человек, знающий кое-что, но не готовый пока поделиться своими соображениями.
28
— Я прекрасно помню годы вашего президентства, мистер Уиппл, — говорил Кочерге Сильванус Снодграсс. — Для меня будет большой честью принять в свою труппу вас и вашего юного друга, которого я также знаю и весьма ценю.
— Спасибо, — в один голос отвечали Лем и мистер Уиппл.
— Сегодня вы будете учить роли, а завтра выступите в нашем представлении.
Вышеописанная беседа состоялась благодаря протекции Джека Ворона. Увидев, в каком бедственном положении оказались его друзья, он предложил им оставить их собственное шоу и присоединиться к «Кунсткамере американских кошмаров».
Не успели Лем и Кочерга Уиппл покинуть кабинет Сильвануса Снодграсса, как открылась внутренняя дверь и туда вошел некий субъект. Если бы друзья увидели его, то сильно бы удивились. Более того, они бы перестали радоваться своей новой работе.
Это был не кто иной, как толстяк в пальто с бархатным воротником, агент 6348-ХМ, известный в определенных кругах как товарищ 3. Появление его в кабинете Снодграсса объяснялось очень просто: «Кунсткамера американских кошмаров» была вовсе не музеем монстров, призванным потешать публику. Это был центр антиамериканской пропаганды. Его финансировали те самые круги, на службе у которых состоял толстяк.
Снодграсс также стал одним из их агентов, ввиду невозможности зарабатывать на жизнь своими «поэмами». Как и многие другие поэты, он винил в своих неудачах не отсутствие таланта, но соотечественников. Его жажда революционных преобразований на самом деле была жаждой мести. Более того, утратив веру в себя, он счел своим святым долгом привить комплекс неполноценности всему американскому народу.
Как и значилось на афише, в кунсткамере были монстры одушевленные и неодушевленные. Сначала давайте познакомимся с последними, среди которых были произведения массового искусства, а также те предметы, которые вызывали гнев вождя Сатинпенни.
«Разве это могло быть простым совпадением?» — вопрошал впоследствии мистер Уиппл.
Проход, что вел в главный зал экспозиции, был украшен гипсовыми статуями. Наибольшее впечатление среди них производили Венера Милосская с будильником в районе диафрагмы, копия пауэровской «Греческой рабыни» с эластичными бинтами на руках и ногах и Геркулес, носивший грыжевой бандаж.
В центре главного зала красовался гигантский геморрой, освещавшийся изнутри электрическими лампочками, которые то гасли, то загорались, создавая ощущение пульсирующей боли.
Впрочем, кошмары Снодграсса не были связаны исключительно с медициной. Вдоль стен стояли столы, на них демонстрировались всевозможные предметы, замечательные тем, что материалы, из которых они изготовлены, были ловко закамуфлированы. Бумага выглядела как дерево, дерево как резина, резина как сталь, сталь как сыр, сыр как стекло, дерево как резина, резина как сталь.
На других столах были разложены инструменты двойного, тройного, а то и множественного назначения. Среди наиболее примечательных назовем точилки для карандашей, одновременно выполнявшие роль инструмента для очистки уха от серы, и консервные ножи-расчески. Кроме того, там было немало предметов, истинное назначение которых оказывалось не так просто разгадать. Посетитель видел цветочные горшки, которые на самом деле оказывались виктролами[55], револьверы, внутри которых были конфеты, и конфеты, в которых были пуговицы.
«Одушевленная» часть шоу проводилась на сцене оперного театра и называлась «Американский карнавал, или Проклятие Колумбу». Представление состояло из серии сценок, где показывалось,
•фонографы или патефоны фирмы «Victrola».
как преследуют квакеров, обманывают и убивают индейцев, продают в рабство негров, а детей истязают непосильным трудом.
Чтобы зрители уяснили связь между изображенным на сцене и показанным на выставке, Снодграсс произносил речь, где пытался расставить все по местам. Его аргументация, однако, не выглядела особенно убедительной.
Кульминацией «карнавала» была маленькая пьеска, которую я постараюсь припомнить.
Поднимается занавес, и зрители видят уютную гостиную типичного американского дома. У камина — старая седовласая женщина. Она вяжет, а три маленьких сына ее недавно скончавшейся дочери тихо играют на полу. Из радиоприемника в углу доносится приятный мелодичный голос.
Радио. Неутомимая Финансовая компания Уолл-стрита желает дорогим радиослушателям счастья, здоровья и богатства. Богатства особенно. Вдовы, сироты и калеки, получаете ли вы хорошие проценты с вашего капитала? Приносят ли деньги, оставленные вашими умершими родственниками, тот комфорт, которого хотели для вас дорогие покойники? Пишите или звоните…
В этот момент на сцене гаснет свет. Когда сцена снова освещается, мы слышим тот же голос, только теперь он исходит от лощеного молодого коммерсанта. Он обращается к бабушке. У зрителей создается впечатление, что перед ними змея и птичка. Разумеется, птичка в данном случае — старая дама.
Лощеный коммерсант. Дорогая мадам! В Южной Америке есть прекрасная плодородная страна Игуания. Это замечательная страна, богатая полезными ископаемыми и нефтью. За пять тысяч долларов — да, мадам, я настоятельно рекомендую вам продать ваши облигации «Либерти» — вы получите десять акций «Золотая Игуания», которые принесут вам семнадцать процентов годовых. Акции обеспечиваются всеми естественными природными ресурсами Игуании…
Бабушка. Но я…
Лощеный коммерсант. Не теряйте времени зря, так как у нас осталось совсем немного акций «Золотая Игуания». Я предлагаю вам акции специального выпуска для вдов и сирот. Мы сочли необходимым пойти на такую акцию, ибо в противном случае крупные банки и корпорации скупили бы все на корню.
Б а б у ш к а. Но я…
Три внука. Гу-гу-гу.
Лощеный коммерсант. Подумайте о детях, мадам. Скоро им поступать в колледж. Тогда им понадобятся костюмы от братьев Брукс, банджо и меховые шубы, чтобы не отличаться от своих сверстников. Как вы себя почувствуете, когда из-за теперешнего упрямства будете вынуждены отказывать им во всем этом?
Снова падает занавес. Когда он вновь поднимается, перед нами оживленная улица. Бабушка лежит в сточной канаве, а под головой у нее вместо подушки — плита тротуара. Рядом валяются трое мертвых внуков. Они, очевидно, скончались от голода и холода.
Бабушка (слабым голосом). Хлеба… Умираем… Хлеба…
Прохожие не обращают на нее ни малейшего внимания, и она умирает.
Легкий ветерок шаловливо играет лохмотьями, в которые одеты четыре трупа. Внезапно он подхватывает и подбрасывает ввысь несколько листков бумаги с золотым тиснением. Один из них падает под ноги двум джентльменам в шелковых цилиндрах, на жилетах у них вышит огромный знак доллара. Это миллионеры.
Первый миллионер (подбирая листок). Послушай, Билл, это же одна из твоих акций! «Золотая Игуания»! (Хохочет.)
Второй миллионер (тоже хохочет). Ну да! Специальный выпуск для вдов и сирот. Я пустил их в оборот в двадцать восьмом году, и продавались они, что твои горячие пирожки. (Он рассматривает акцию со всех сторон, не скрывая восхищения.) Вот что я скажу тебе, Джордж: хорошая полиграфия всегда окупается.
От души хохоча, миллионеры продолжают свой путь. Чуть было не споткнувшись о трупы, они чертыхаются и удаляются, ругая муниципальные службы за отсутствие чистоты и порядка на улицах.
29
«Кунсткамера американских кошмаров» посетила Детройт примерно через месяц после того, как к ней присоединились наши друзья. Именно в Детройте Лем и задал мистеру Уипплу несколько вопросов про спектакль, который очень его смущал, — особенно та сцена, где миллионеры ступают по трупам детей-сирот.
— Прежде всего, — отвечал мистер Уиппл, — бабушку никто не заставлял приобретать акции. Во-вторых, все это следует воспринимать как чистую комедию, потому что у нас никто не умирает на улицах. Власти этого не допустят.
— Но вы, кажется, не против капиталистов, — робко напомнил Лем.
— Далеко не против всех, — последовал ответ. — Надо видеть различие между плохими капиталистами и хорошими капиталистами, между паразитами и созидателями. Я против паразитического международного капитала, но за созидательных американских капиталистов вроде Генри Форда.
— Но по трупам детей ступают лишь плохие капиталисты!
— Даже если это и так, — возразил Кочерга, — лично я против того, чтобы показывать зрителям такие сцены. Это создает напряжение между классами.
— Ясно, — сказал Лем.
— Ты должен уяснить вот что, — продолжал мистер Уиппл. — Капитал и Труд обязаны научиться сотрудничать во имя общего блага. Им пора прекратить примитивную борьбу за высокие заработки, с одной стороны, и баснословные прибыли, с другой. Они должны понять, что единственная достойная война — война с общими врагами Америки: Англией, Японией, Россией, Римом и Иерусалимом. Помни, друг мой, что война классов — это гражданская война, она уничтожит Америку.
— Может, нам надо попробовать уговорить мистера Снодграсса прекратить спектакль? — наивно осведомился Лем.
— Нет, — возразил Кочерга. — Если мы скажем ему об этом, он сразу же нас уволит. Лучше подождем благоприятного момента, а потом разоблачим и его, и его балаган. Мы в Детройте, где живет множество евреев, католиков и членов профсоюзов. Если я не ошибаюсь, вскоре мы направимся на юг. Когда мы окажемся в истинно американском городе, тогда и будем действовать.
Мистер Уиппл не ошибся. Дав несколько представлений в городах Среднего Запада, Снодграсс повез свою труппу по Миссисипи на юг. Было решено остановиться на один день в городе Бьюла.
— Теперь настал наш час, — прошептал на ухо Лему мистер Уиппл, приглядевшись к местным жителям. — Следуй за мной.
Наш герой двинулся за мистером Уипплом, и тот привел его к парикмахерской, владельцем которой был человек по имени Кили Джефферсон, неистовый южанин старого закала. Мистер Уиппл отвел хозяина в сторону, и они начали шептаться. Джефферсон согласился созвать сходку горожан, чтобы Кочерга Уиппл мог обратиться к ним с речью.
К пяти часам вечера все местное население, исключая негров, евреев и католиков, собралось у знаменитого дерева, на каждой из раскидистых ветвей которого в свое время было повешено по крайней мере по одному негру. Горожане стояли плотным кольцом, попивая кока-колу и обмениваясь шуточками. И хотя каждый третий из них захватил с собой веревку или ружье, они скрывали серьезность намерений за напускным весельем.
Мистер Джефферсон залез на ящик, чтобы представить толпе мистера Уиппла.
— Сограждане, южане, протестанты, американцы! — начал он. — Мы собрались здесь, чтобы послушать мистера Кочергу Уиппла, одного из тех немногих янки, кто заслуживает веры и уважения. Он не из негролюбов, он плевать хотел на еврейскую культуру и всегда может разглядеть, куда тянется длинная итальянская рука Папы. Мистер Уиппл!..
Мистер Джефферсон слез с ящика, уступив место Кочерге, который выждал, когда стихнет приветственный гул, положил руку на сердце и возвестил:
— Я люблю Юг. Люблю потому, что южанки прекрасны и целомудренны, южане храбры в бою и галантны с женщинами, а южные земли плодородны. Но есть кое-что, что я люблю даже больше, чем Юг, — это моя страна. Соединенные Штаты Америки.
Это заявление вызвало в толпе еще больший энтузиазм. Кочерга поднял руку, призывая к вниманию, но прошло добрых пять минут, прежде чем страсти улеглись и он смог продолжать.
— Спасибо, — крикнул он, весьма тронутый таким воодушевлением. — Я знаю, что это говорят ваши сердца — бесстрашные сердца. Я бесконечно признателен, ибо вы приветствуете не меня, но мою любимую родину.
Однако сейчас не время цветистых речей. Сейчас время действовать! К нам затесался враг, который изнутри подтачивает наши институты и угрожает нашей свободе. Его оружие не свинец и не сталь, но вредная пропаганда. Он пытается натравить брата на брата, имущих на неимущих и так далее.
Сегодня вы стоите под этим прекрасным и славным деревом как свободные люди, но завтра вы окажетесь в рабстве у большевиков и социалистов. Ваши возлюбленные и ваши жены станут общей собственностью похотливых чужестранцев. У вас отберут ваши магазины и выгонят с родных ферм. Взамен вам швырнут сухую большевистскую корку.
Неужели дух Джубала Эрли и Френсиса Мариона настолько угас, что вы можете лишь скулить и пресмыкаться, словно нашкодившие псы перед хозяином? Неужели вы забыли Джефферсона Дэвиса?
Нет?
Тогда пусть те из вас, кто помнит своих предков, ударят по грязному конспиратору Сильванусу Снодграссу, по гадюке, что согрели мы на своей груди. Пусть те…
Но не успел мистер Уиппл закончить свое обращение, как его слушатели стали разбегаться в разные стороны с криками: «Линчевать его!» — хотя три четверти собравшихся понятия не имели, кого именно. Однако это их совершенно не беспокоило. Отсутствие точной информации они сочли скорее преимуществом, нежели недостатком, поскольку это давало им большую свободу в выборе жертвы.
Наиболее осведомленные ринулись к местной опере, где расположилась «Кунсткамера американских кошмаров». Но мистера Снодграсса и след простыл. Его вовремя предупредили, и он, не долго думая, задал стрекача. Но поскольку было просто необходимо кого-то повесить, толпа накинула петлю на шею Джека Ворона из-за его смуглой кожи. Затем они подпалили театр.
Часть слушателей Кочерги, в основном люди пожилые, почему - то пришла к выводу, что Юг снова откололся от Союза. Они подняли над зданием местного суда флаг Конфедерации и приготовились защищать его до последней капли крови.
Другие, более практичные горожане, ринулись грабить банки, магазины и поспешили освободить из тюрьмы тех своих родных и близких, кому выпало несчастье туда попасть.
Время шло, и бунт принимал все большие размеры. На улицах стоились баррикады. То здесь, то там мелькали шесты с насаженными на них головами негров. Еврейского коммивояжера распяли на двери гостиничного номера. Экономка местного католического священника была изнасилована.
30
Когда начались волнения, Лем потерял в толпе мистера Уиппла и, несмотря на все старания, так и не смог его найти. Пока он метался в поисках друга, в него несколько раз стреляли, и лишь по счастливой случайности ему удалось выбраться из этой суматохи живым.
Лем добрел до соседнего города, через который проходила железная дорога, и сел в поезд, что шел на север. К несчастью, при пожаре он потерял все свои деньги и потому не смог купить билет. Кондуктор, однако, попался добродушный. Видя, что у «зайца» всего одна нога, он выждал, пока поезд не сбавит скорость на повороте, и лишь тогда пинком сбросил Лема под откос.
До ближайшего шоссе было миль двадцать, и Лем ковылял всю ночь. К рассвету он добрел до цели и, путешествуя автостопом, прибыл в Нью-Йорк через два с половиной месяца.
Для жителей этого когда-то процветавшего города наступили тяжелые времена. Исхудалый, в оборванной одежде Лем не вызвал недоуменных взглядов, как случилось бы раньше. Он мгновенно слился с толпой безработных.
Однако от товарищей по несчастью его кое-что отличало. Во - первых, он регулярно мылся. Каждое утро он купался в озере в Центральном парке, на берегу которого жил в ящике из-под пианино. Ежедневно он навещал те агентства по найму рабочей силы, которые еще не закрылись, и, несмотря на неудачи, не терял бодрости духа, не делался нытиком или критиканом.
Однажды, когда он робко отворил дверь агентства «Золотые ворота», его встретили не обычными пренебрежительными репликами, а улыбкой.
— Мой мальчик! — воскликнул хозяин агентства, мистер Гейтс. — Мы подыскали для вас местечко!
Услышав это, Лем так расчувствовался, что на какое-то время утратил дар речи, а в его единственном глазу заблестели слезы.
Мистер Гейтс, не понимая истинных причин молчания героя, был удивлен и обижен.
— Такое случается раз в жизни, — с упреком проговорил он. — Вы, наверное, слышали о дуэте Райли и Роббинс. На афишах про них обычно пишут так: «Пятнадцать минут безудержного веселья и хохота до упаду». Но Райли — мой старый приятель. Вчера он заглянул ко мне и попросил подыскать ему для номера человека. Ему нужен одноглазый, и как только он мне это сказал, я сразу подумал о вас.
К этому времени Лем настолько овладел собой, что оказался в состоянии выразить благодарность мистеру Гейтсу. Он сделал это в самых теплых выражениях.
— Вас чуть было не опередили, — сказал мистер Гейтс, вдоволь наслушавшись благодарственных слов калеки. — Наш разговор с Райли услышал один безработный, и нам с трудом удалось помешать ему выколоть себе глаз, чтобы иметь возможность получить работу. Нам даже пришлось вызвать полицейского.
— Какая жалость, — печально проговорил Лем.
— Но когда Рейли узнал, что у вас деревянная нога, парик и искусственные челюсти, он твердо вознамерился взять вас и никого другого.
Когда наш герой попытался войти в театр Бижу, где играли Райли и Роббинс, у входа его остановил швейцар, которому не понравились лохмотья Лема. Но Лем проявил настойчивость и убедил привратника передать комикам записку. Вскоре его препроводили к ним в уборную.
Лем стоял на пороге, мял в руках засаленную тряпку, которая служила ему головным убором, а Райли и Роббинс глядели на него и хохотали до слез. К счастью, наш герой не понял, что именно его внешность вызвала у них столь бурный приступ веселья, иначе он бежал бы без оглядки.
Справедливости ради следует признать, что с определенной, хотя и не очень цивилизованной, точки зрения наш герой являл собой смехотворное зрелище. У него не просто не было волос на голове, как у нормального лысого человека, но серые кости черепа явственно проступали там, где его скальпировал краснокожий вождь Сатинпенни. А его деревянная нога была украшена инициалами, сдвоенными сердцами и прочими невинными плодами фантазии озорных мальчишек.
— Ты подсадочка что надо! — восклицали комики на своем привычном языке. — Это просто туши свет. Они же все попадают с мест! Погоди, дружище, пусть только эти пупсики на тебя положат глаз. Все будут в отпаде.
Хотя Лем мало что понял из реплик своих будущих хозяев, он был рад их одобрению и горячо их поблагодарил.
— Твое жалованье — двенадцать долларов в неделю, — сказал Райли, который ведал финансовыми вопросами. — Мы бы с удовольствием платили тебе больше, — ты того стоишь, — но и для театра нынче настали трудные времена.
Лем согласился без разговоров, и они сразу приступили к репетициям. Роль у Лема была простая, без слов, и он быстро ею овладел. В тот же вечер состоялся его дебют на сцене. Кода поднялся занавес, Лем стоял между двумя комиками лицом к аудитории. Он был одет в старый длиннополый сюртук на несколько размеров больше, чем следовало. Держался он серьезно и с достоинством. У ног его стояла большая коробка, содержимое которой было из зала не видно.
Райли и Роббинс были в голубых в полоску фланелевых костюмах последнего фасона, белых гетрах и серых котелках. Чтобы подчеркнуть контраст между ними и Лемом, они держались живо и весело. В руках у каждого было по свернутой в трубку газете.
Как только в зале стих смех, вызванный их появлением, они начали свой знаменитый искрометный обмен шутками.
Райли. Послушай, дружище, что это была за дама, с которой я видел тебя вчера вечером?
Роббинс. Как же ты меня разглядел? Ты ведь был пьян в зюзю!
Райли. Послушай, дурень, этого нет в тексте, и ты это знаешь.
Роббинс. В тесте? Чего нет в тесте?
Райли. Ладно-ладно, ты у нас известный хохмач, но давай не будем отвлекаться. Я тебя спрашиваю: «Что это была за дама, с которой я видел тебя вечера вечером?», а ты отвечаешь: «Это не дама, а круп гиппопотама».
Р о б б и н с. Ты что, воруешь мои реплики, да?
После чего оба актера повернулись к Лему и стали неистово колотить его свернутыми в трубку газетами.
Их задача состояла в том, чтобы сорвать с него парик, выбить искусственный глаз или челюсти. Когда им это удавалось, они переставали бить Лема. Тогда Лем, которому все это время полагалось стоять неподвижно, наклонялся и, сохраняя невозмутимость, вынимал из коробки, стоявшей у его ног, то, что ему было необходимо заменить. В коробке лежало множество париков, челюстей и глазных протезов.
Номер продолжался около пятнадцати минут. За это время Райли и Роббинс успевали выпалить десятка два шуток, и в конце каждой из них набрасывались с газетами на Лема. Под занавес они вооружались огромной деревянной кувалдой и, передавая ее друг другу, окончательно расчленяли беднягу. Парик летел в одну сторону, глаз и челюсти — в другую, а деревянную ногу один из комиков швырял в зрительный зал.
При виде деревянной ноги, о которой они ранее и не догадывались, зрители буквально помирали со смеху. Они гоготали, когда опускался занавес и некоторое время после этого.
Комики поздравили нашего героя с успешным дебютом, и хотя голова Лема раскалывалась от их ударов, он был доволен, что оправдал ожидания. «В конце концов, — думал он, — в стране, где столько безработных, и это неплохо».
Одной из обязанностей Лема было покупать газеты и свертывать их в трубки для номера. По окончании представления он получал возможность почитать эти газеты. Это было его единственным развлечением, ибо скудное жалованье не позволяло особенно разгуляться.
Перенесенные невзгоды сильно притупили умственные способности бедняги. Больно было смотреть, как он водит носом по газетной странице, силясь разобрать заголовки. Но на большее он не был способен.
«ПРЕЗИДЕНТ ЗАКРЫВАЕТ БАНКИ НАВСЕГДА», — прочитал он как - то вечером и глубоко вздохнул. Но не потому, что опять потерял те доллары, что ему удалось скопить, но потому, что вспомнил о мистере Уиппле и Банке Крысиной реки. Остаток вечера Лем провел в размышлениях о судьбе своего старшего друга.
Несколько недель спустя он прочел:
«УИППЛ ТРЕБУЕТ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИКТАТУРЫ»,
а также:
«„КОЖАНЫЕ КУРТКИ" БУНТУЮТ НА ЮГЕ».
Затем один за другим стали появляться заголовки, свидетельствующие о новых победах Национальной революционной партии. Юг и Запад, как понял Лем, всецело поддерживали Уиппла и его людей, и Кочерга устроил поход на Чикаго.
31
Как-то раз в театре появился незнакомец. Он хотел увидеть Лема. Он обратился к нему «командир Питкин» и представился как штурмовик Захария Коутс.
Лем поздоровался и спросил, как поживает мистер Уиппл. Коутс ответил, что сегодня вечером Уиппл будет в городе. Затем он сообщил, что из-за большого количества иностранцев Нью-Йорк все еще противится усилению Национальной революционной партии.
— Но сегодня, — добавил он, — в город войдут «Кожаные куртки» из других штатов и попытаются взять власть в свои руки.
Коутс говорил и в то же время внимательно оглядывал нашего героя. Похоже, он увидел то, что хотел, ибо отдал Лему честь и сказал:
— Вы старый член нашей партии, и мы хотели бы, чтобы вы оказали нам содействие.
— Я готов сделать все, что в моих силах, — отвечал Лем.
— Отлично. Мистер Уиппл будет рад это услышать. Он на вас очень рассчитывает.
— Правда, от меня мало толку, — улыбнулся Лем. — Я, как видите, инвалид…
— Мы, члены Национальной революционной партии, знаем, как вы получили эти увечья. Собственно, одна из наших главных целей — не допустить, чтобы юношество этой страны испытывало те муки, которые выпали на вашу долю. Позвольте сказать вам, командир Питкин, — добавил Коутс, — что, по моему скромному разумению, вы в скором времени будете почитаться как один из великомучеников нашего дела. — И он еще раз отдал Лему честь.
Лема смутили похвалы, и он поспешил сменить тему.
— Каковы распоряжения мистера Уиппла? — спросил он.
— Сегодня вечером в местах скопления людей — в парках, театрах, на станциях метро — члены нашей партии обратятся к ним с речью. Среди собравшихся будут и «Кожаные куртки» в штатском. Они помогут ораторам подогреть патриотический пыл толпы. Когда благородное негодование масс достигнет нужной кондиции, будет дан приказ идти к зданию Городской администрации. Там соберется гигантский митинг. К собравшимся обратится сам мистер Уиппл. Он потребует, чтобы власть в городе была передана его партии, и добьется своего.
— Прекрасно придумано, — сказал Лем. — Наверное, вы хотите, чтобы я произнес речь в этом театре?
— Именно.
— Я бы с удовольствием, но у меня вряд ли получится. Я в жизни не выступал с речами. Я даже не актер. А кроме того, Райли и Роббинс будут недовольны, если я осмелюсь прервать их номер.
— Насчет этих господ не беспокойтесь, — с улыбкой отвечал Коутс. — С ними мы разберемся. У меня в кармане речь, написанная мистером Уипплом специально для вас. Я пришел сюда, чтобы отрепетировать ее с вами. — Коутс сунул руку в карман и вынул несколько листков. — Сначала прочитайте, — распорядился он, — а затем мы вместе пройдем ее еще раз, с начала и до конца.
В тот вечер Лем вышел на сцену один. Он хоть и был не в своем обычном сценическом наряде, а в форме «Кожаных курток», зрители знали из программы, что он комик, и встретили его появление взрывом смеха.
Этот неожиданный прием лишил нашего героя остатков уверенности в себе, и некоторое время его так и подмывало убежать. К счастью, дирижер оркестра, который был членом партии мистера Уиппла, не растерялся и велел своим людям играть национальный гимн. Зрители прекратили смех, встали с мест и вытянулись по струнке.
Среди множества зрителей остался сидеть лишь один человек. Это был наш давний знакомый — толстяк в пальто с бархатным воротником. Спрятавшись за портьерой ложи, он скрючился на стуле, сжимая в руке пистолет. Он снова приклеил себе фальшивую бороду.
Когда оркестр доиграл гимн, публика расселась по местам, и Лем заговорил:
— Я клоун, — начал он, — но бывают времена, когда и клоунам становится не до шуток. Такой час настал. Я…
Больше он не сказал ничего. Грянул выстрел, и он упал с простреленным сердцем.
Вот, собственно, и вся история. Но прежде чем проститься с читателями, я хочу рассказать еще об одном событии.
Сегодня день рождения Питкина, национальный праздник Америки. В его честь на Пятой авеню устроен молодежный парад, в котором принимают участие сотни юношей и девушек. Все юноши — в остроконечных енотовых шапках, на плече у каждого — винтовка.
Они поют песню о Лемюэле Питкине:
Воскликнул Питкин: «Час настал!» — И вышел он на сцену. Он Уиппла поддержать призвал И умер, но на смену Ему приходит миллион Таких, как он, таких, как он. В веках же славься, Питкин, друг! Эй, патриоты! Шире круг! Гордится Лемом стар и млад. А это лучше всех наград!Юноши и девушки проходят мимо трибуны, с которой их приветствует мистер Уиппл. Годы не согнули его спину, не потушили огонь его серых глаз.
А кто эта крошечная старушка, стоящая рядом с диктатором? Неужели вдова Сара Питкин? Ну конечно, это она. Сара Питкин плачет, поскольку матери никакие слава и почет не заменят сына. Ей кажется, что не прошло и дня с тех пор, как адвокат Слемп столкнул Лема в открытый погреб.
Рядом с вдовой стоит молодая и красивая женщина, но и ее глаза полны слез. Давайте повнимательней приглядимся к ней — в ее лице есть что-то знакомое. Это Бетти Прейл. Она, похоже, занимает какую-то официальную должность, и на наш вопрос один из зрителей подтверждает: это Бетти — секретарь мистера Уиппла.
Демонстранты выстраиваются перед трибуной, и мистер Уиппл обращается к собравшимся:
— Почему для нас этот день — самый главный праздник? — вопрошает он громовым голосом. — Что сделало Лемюэла Питкина великим гражданином? Вспомним его биографию.
Вот он, быстроногий веселый мальчуган, удит рыбу в Крысиной реке, что течет в штате Вермонт. Вот он ученик средней школы Оттсвилла, капитан бейсбольной команды. Но затем он оставляет родные края, отправляется за удачей в большой город. Так поступали многие, и он вправе был рассчитывать на успех.
Тюрьма стала его первой наградой. Нищета — второй. Увечья — третьей. Смерть — последним даром судьбы.
Короток был его жизненный путь, но пройдет тысяча лет, и ни одна повесть, трагедия или эпическая поэма не потрясут читателей и слушателей так, как история жизни и смерти Лемюэла Питкина.
Однако я не ответил на вопрос: в чем же величие Лемюэла Питкина? Почему этот мученик так дорог нам, что вся нация любит и почитает его? Почему города большие и малые сегодня ликуют?
Потому что, хотя он и умер, он по-прежнему с нами. Мы слышим его голос. О чем же говорит нам Лемюэл Питкин? О том, что каждый американский юноша должен добиваться успеха смекалкой и упорным трудом, не боясь насмешек или козней коварных иноземцев.
Увы, сам Лем не узнал, что такое успех. Он был расчленен врагами. Ему вырвали зубы. Выбили глаз. Отрезали на руке большой палец. С него сняли скальп. Ампутировали ногу. И наконец прострелили сердце.
Но он жил и умер не напрасно. Благодаря его подвижничеству Национальная революционная партия победила, и благодаря этой победе страна избавилась от чужаков-умников — марксистов и международного капитализма. Национальная революционная партия очистила страну от недругов, и Америка вновь стала Америкой.
«Да здравствует мученик из театра Бижу!» — кричали юные слушатели Кочерги Уиппла, когда он заканчивал речь.
«Да здравствует Лемюэл Питкин!»
«Да здравствует истинный американец!»
День саранчи © Перевод. В. Голышева
1
Под конец рабочего дня Тод Хекет услышал из своей мастерской сильный шум на дороге. Сквозь топот тысячи копыт пробивался скрип кожи, лязг железа. Он поспешил к окну.
Двигалась армия пеших и конных. Она текла, как толпа, с расстроенными рядами, словно спасаясь после страшного разгрома. Доломаны гусар, тяжелые кивера гвардейцев, развевающиеся красные султаны на плоских кожаных касках ганноверской легкой кавалерии — все слилось в клокочущую массу. За кавалерией шла пехота — бурное море качающихся ташек, наклонных мушкетов, скрещенных портупей, болтающихся патронташей. Тод узнал английскую пехоту, алую, с белыми валиками на плечах, черную пехоту герцога Брауншвейгского, французских гренадеров в длинных белых гетрах, шотландцев в клетчатых юбках, с голыми коленями.
Из-за угла, вдогонку за армией, выкатился низенький толстяк в коротеньких штанах, рубахе навыпуск и пробковом шлеме.
— Площадка девять, ослы, площадка девять! — кричал он в маленький рупор.
Верховые пришпорили коней, пешие затрусили следом. Толстяк в пробковом шлеме бежал за ними, грозя кулаком и ругаясь.
Тод смотрел, пока они не скрылись за половинкой колесного парохода, потом убрал свои карандаши и чертежную доску и вышел из мастерской. На тротуаре возле студии он постоял, раздумывая, сесть ли ему на трамвай или идти пешком. Он работал в Голливуде только третий месяц и еще не успел здесь соскучиться, но был ленив и ходить пешком не любил. Он решил, что доедет на трамвае до Вайн-стрит, а оттуда пойдет пешком.
На Западное побережье его затащил охотник за дарованиями из студии «Нэшнл», увидевший его рисунки на выставке выпускного курса Иельской школы изящных искусств. Наняли его по телеграфу. Встреться агент с самим Тодом, он едва ли послал бы его в Голливуд изучать мастерство декоратора и художника по костюмам. Большое нескладное тело Тода, сонные голубые глаза, вислогубая улыбка производили впечатление совершенной бездарности, даже дурковатости.
Но, несмотря на свою внешность, он был сложным молодым человеком, с целым набором индивидуальностей — одна в другой, как китайские шкатулки. И «Сожжение Лос-Анджелеса» — картина, которую он скоро должен был написать, ясно доказывала, что он талантлив.
Он вышел на остановке Вайн-стрит. На ходу он изучал вечернюю толпу. Многие носили спортивные костюмы, которые на самом деле не были спортивными. Их свитера, гольфы, легкие брюки, синие фланелевые пиджаки с медными пуговицами были маскарадными нарядами. Тучная дама в капитанке плыла в магазин, а не к причалу; мужчина в охотничьей куртке и тирольской шляпе возвращался не с гор, а из страховой конторы; девушка в брюках, теннисных туфлях и яркой косынке только что покинула коммутатор, а не корт.
В толпу этих ряженых вкраплялись люди другого сорта. Их одежда была сумрачна и плохо сшита — выписана по почте. Тогда как остальные двигались шустро, шныряли по барам и магазинам, эти слонялись возле перекрестков или, стоя спиной к витринам, разглядывали каждого прохожего. Когда кто-то встречал их взгляд, в их глазах загоралась ненависть. Тод еще очень мало знал о них — только что они приехали в Калифорнию умирать.
Он намеревался узнать гораздо больше. Он чувствовал, что именно их он должен написать. Он никогда уже не станет изображать благополучный красный амбар, старую каменную стену, кряжистого нантакетского рыбака. В тот миг, когда он их увидел, он понял, Что, несмотря на его национальность, школу и багаж усвоенных традиций, ни Уинслоу Гомер, ни Райдер не могут быть его учителями, и он обратился к Домье и Гойе.
Он понял это вовремя. В последний год учебы он стал подумывать о том, чтобы вообще бросить живопись. Умения прибавлялось, а удовольствия от работы над цветом и композицией он получал все меньше, и он почувствовал, что идет дорожкой всех своих однокашников — к иллюстративности или просто гладкости. Когда подвернулась работа в Голливуде, он ухватился за нее, вопреки уговорам друзей, убежденных, что он продается и уже никогда не сможет писать.
Тод дошел до конца Вайн-стрит и начал спускаться в Пиньон - Каньон. Ночь наступала.
Деревья окаймлялись бледно-лиловым огнем, а фиолетовые массы крон наливались чернотою. Такой же лиловый ореол, словно аргоновая трубка, очертил макушки уродливых сутулых холмов, и они стали почти прекрасными.
Но даже мягкая отмывка сумерек не помогала домам. Динамита просили эти мексиканские ранчо, самоанские хижины, средиземноморские виллы, египетские и японские храмы, швейцарские шале, тюдоровские коттеджи и всевозможные их гибриды, теснившиеся на склонах каньона.
Когда он заметил, что все они — из гипса, дранки и картона, он смягчился и вину за их безобразие возложил на строительные материалы. Сталь, камень и кирпич смиряют фантазию строителя, вынуждая его распределять нагрузки и напряжения, ставить углы отвесно; а гипсу и картону закон не писан — даже закон тяготения.
На углу Ла-Хуэрта-род стоял миниатюрный рейнский замок с толевыми башенками и амбразурами для лучников. Рядом поместилась ярко раскрашенная будка с куполами и минаретами из «Тысячи и одной ночи». Но Тод и к ним отнесся снисходительно. Оба здания были комичны, но он не смеялся. Их желание поразить было так горячо и бесхитростно.
Трудно смеяться над жаждой красоты и романтики, каким бы безвкусным и даже чудовищным образом она ни утолялась. Но вздохнуть — легко. Что может быть грустнее подлинного уродства?
2
Дом, в котором он жил, был невзрачным строением и назывался «Герб Сан-Бернардино». Он был продолговатый, трехэтажный, некрашеную заднюю и боковые стены его прорезали ровные ряды окон без всяких украшений. Фасад был цвета разжиженной горчицы, и его окна с двойными переплетами обрамлялись розовыми мавританскими колоннами, подпиравшими брюквообразные перемычки.
Комната Тода была на третьем этаже, но он задержался на площадке второго. Здесь, в № 208, жила Фей Грипер. В какой-то квартире засмеялись; он виновато вздрогнул и стал подниматься дальше.
Когда он открыл свою дверь, на пол упала карточка. «Честный ЭЙБ КЬЮСИК», — было напечатано на ней крупным шрифтом, а ниже, мелким курсивом — несколько отзывов, набранных так, чтобы они походили на отзывы прессы:
«Ллойд» [56] Голливуда (Стенли Роуз).
Слово Эйба — золото (Гейл Бреншоу).
Атаман в четвертом, Брильянт в шестом. Можешь
хорошо зашибить на этих клячах.
Распахнув окно, он снял пиджак и лег на кровать. В окно был виден квадрат эмалевого неба и ветка эвкалипта. Ветерок шевелил его длинные узкие листья и поворачивал их то зеленой, то серебряной стороной.
Чтобы не думать о Фей Гринер, он стал думать о «Честном Эйбе Кьюсике». Он ощущал покой и не хотел с ним расставаться.
Эйб был важным персонажем в серии литографий «Плясуны», над которой работал Тод. Он был одним из плясунов. Еще там были Фей Гринер и Гарри, ее отец. Они менялись от листа к листу, но кучка настороженных людей, составлявших публику, везде была одинаковой. Они разглядывали исполнителей так же, как разглядывали ряженых на Вайн-стрит. Их взгляды и заставляли Эйба и других неистово вертеться и скакать, выгибая спину, наподобие форели на крючке.
Несмотря на искреннее негодование, которое вызывала у него карикатурная разнузданность Эйба, Тод радовался его обществу. Карлик будоражил его и как-то поддерживал уверенность в том, что ему нужно писать.
Он познакомился с Эйбом, когда жил на Ивар-стрит, в гостинице «Шато Мирабелла». Другое название у Ивар-стрит было «карболовая аллея», а Шато населяли в основном гастрольные агенты, тренеры и проститутки со всеми опекунами.
По утрам в коридорах воняло дезинфекцией. Тоду не нравился этот запах. Кроме того, плата была высокой, ибо включала в себя расходы на полицейское покровительство — обслугу, в которой Тод не нуждался. Он хотел съехать, но был тяжел на подъем и, не зная другого места, жил в Шато, пока не познакомился с Эйбом. Знакомство состоялось случайно.
Однажды ночью, возвращаясь к себе, он увидел в коридоре, у двери напротив своего номера, какой-то предмет, который он принял за узел с грязным бельем. Когда он прошел мимо, узел зашевелился и испустил странный звук. Тод чиркнул спичкой, думая, что это может быть собака, завернутая в одеяло. Когда спичка вспыхнула, он увидел крохотного человечка.
Спичка догорела, и он торопливо зажег вторую. Перед ним лежал лилипут мужского пола, завернутый в женский фланелевый халат. Округлый предмет на конце оказался слегка гидроцефалической головой. Она издавала протяжный придушенный храп.
В коридоре тянуло холодом. Тод решил разбудить спящего и побеспокоил его носком ботинка. Человек со стоном открыл глаза.
— Не надо здесь спать.
— Пошел ты, — сказал карлик, вновь закрывая глаза.
— Вы простудитесь.
Это дружеское предостережение еще больше рассердило человечка.
— Отдай мои шмотки! — гаркнул он.
Из-под двери, у которой он лежал, брызнул свет. Тод, набравшись смелости, постучался. Через несколько секунд женщина приотворила дверь.
— Какого черта? — спросила она.
— Тут вот ваш друг, он…
Оба не дали ему договорить.
— Ну и что? — рявкнула она и захлопнула дверь.
— Шмотки отдай, сука! — взревел карлик.
Она снова открыла дверь и стала швырять в коридор его вещи. Пиджак и брюки, рубашка, носки, туфли и нижнее белье, галстук и шляпа вылетели друг за другом в быстрой последовательности. Каждый предмет сопровождался особым ругательством.
Тод изумленно присвистнул:
— Вот это да!
— А ты думал, — откликнулся карлик. — Та еще баба — просто туши свет.
Он засмеялся своей шутке, разразившись тонким кудахтаньем — самым лилипутским из звуков, произведенных им до сих пор, потом с трудом поднялся и подобрал свой просторный халат, чтобы не запутаться в нем ногами. Тод помог ему собрать раскиданную одежду.
— Слушай, друг, — сказал карлик, — разреши у тебя одеться?
Тод провел его в свою ванную. Дожидаясь его появления, он
невольно пытался представить себе, что произошло в комнате женщины. Он уже жалел, что вмешался. Но когда карлик вышел из ванной в шляпе, Тоду стало легче.
Эта шляпа почти все поставила на свои места. В тот год тирольские шляпы были в большом ходу на Голливудском бульваре, и гном располагал прекрасным экземпляром. Она была надлежащего волшебно-зеленого цвета с высокой конической тульей. Не хватало только медной пряжки спереди, а в остальном все было идеально.
Однако наряд его плохо сочетался со шляпой. Вместо башмаков с загнутыми носами и кожаного фартука он носил синий двубортный костюм и черную рубашку с желтым галстуком. Вместо кривой суковатой палки в руке он держал свернутый номер «Ежедневного рысака».
— Вот что выходит, когда путаешься с трешечницами, — произнес он вместо приветствия.
Тод кивнул и попробовал сосредоточиться на зеленой шляпе. Его бессловесная уступчивость, видимо, раздражала лилипута.
— Думает, дешевка, крутанула Эйбу динамо — и лады, — со злобой сказал он. — Не выйдет — я могу за двадцатку устроить так, чтобы ей поломали ногу, а двадцатка у меня найдется.
Он вынул толстую пачку денег и помахал перед носом Тода.
— Динамо мне крутить, а? Я тебе так скажу…
Тод поспешно согласился:
— Вы правы.
Карлик подошел к сидящему Тоду, и Тод подумал, что сейчас он вскарабкается к нему на колени, но Эйб только спросил его имя и пожал ему руку. У карлика была могучая кисть.
— Я тебе так скажу, Хекет, — если бы не ты, я бы сломал у ней дверь. Эта баба думает, что может крутить мне динамо, но ей вправят мозги. Ну, все равно спасибо.
— Плюньте на это.
— Плюнуть? Ну, нет. Я все понимаю. Я помню тех, кто мне нагадил, и помню тех, кто мне помог.
Он нахмурил лоб и помолчал.
— Слушай, — сказал он наконец. — Ты мне помог, и я тебя отблагодарю. Мне не нужно, чтобы кто-то тут ходил и болтал, будто Эйб долгов не платит. И я тебе вот что скажу. Я скажу тебе верняка на пятое в Калиенте. Поставишь на него пятерку и двадцать огребешь как штык. Я тебе точно говорю.
Тод не знал, что ответить, и его нерешительность обидела лилипута.
— Я что тебе — врать буду? — сказал он, нахмурясь. — Буду,
да?
Тод пошел к двери, чтобы избавиться от него.
— Нет, — ответил он.
— Чего ж ты тогда опасаешься, а?
— Как зовут лошадь? — спросил Тод, в надежде его успокоить.
Лилипут последовал за ним к двери, волоча халат за рукав.
В шляпе и в башмаках он на полметра не доставал Тоду до пояса.
— Трагопан. Он будет первый, это верняк. Я знаю его хозяина, он мне шепнул.
— Он грек? — спросил Тод.
Он хотел любезностью скрыть маневр, которым рассчитывал выманить карлика за дверь.
— Да, грек. Ты его знаешь?
— Нет.
— Нет?
— Нет, — сказал Тод решительно.
— Да не трухай, — смилостивился карлик, — я просто хотел узнать, откуда ты знаешь, что он грек, если ты его не знаешь?
Он подозрительно прищурился и сжал кулаки.
Тод улыбнулся, чтобы задобрить его.
— Я просто догадался.
— Догадался?
Карлик ссутулился, словно собираясь выхватить револьвер или нанести апперкот. Тод отступил и попытался объяснить.
— Я догадался, что он грек, потому что Трагопан — это греческое слово, которое означает «фазан».
Карлик отнюдь не был удовлетворен.
— Откуда ты знаешь, что оно означает? Ты не грек?
— Нет, но я знаю несколько греческих слов.
— Образованный, значит, а? Культурный?
Он сделал короткий шаг на цыпочках, и Тод приготовился отразить удар.
— В университете учился, а? А я тебе так скажу…
Он запутался ногой в хламиде и упал ничком. Забыв о Тоде, он обругал халат и снова переключился на женщину:
— Мне — динамо крутить? — Он тыкал себя в грудь большими пальцами. — Кто ей кинул сорок долларов на аборт? Кто? И еще десятку — отдохнуть потом за городом? На ранчо ее послал. А кто ей тогда скрипку выкупил у паука в Санта-Монике? Кто?
— Правильно, — сказал Тод, приготовившись неожиданным толчком выставить его за дверь.
Но выталкивать его не пришлось. Лилипут вдруг выскочил из комнаты и побежал по коридору, волоча за собой халат.
Несколько дней спустя Тод зашел в канцелярский магазин, чтобы купить журнал. Разглядывая книги, он почувствовал, что его дергают за полу пиджака. Это опять был лилипут, Эйб Кьюсик.
— Что слышно? — угрожающе осведомился он.
Тод был удивлен, увидя карлика таким же задиристым, как в ту ночь. Впоследствии, узнав его ближе, он понял, что драчливость Эйба часто бывает шутливой. Когда он накидывался на приятелей, они играли с ним, как со щенком, отбивая его яростные атаки и дразня, чтобы он зарычал и бросился снова.
— Ничего, — сказал Тод. — Вот хочу переехать.
Он потратил все воскресенье, подыскивая себе жилье, и теперь был поглощен этой проблемой. Но, заговорив о ней, он сразу понял, что совершил ошибку. Чтобы уйти от разговора, он отвернулся, но карлик преградил ему дорогу. Он, видимо, считал себя специалистом по жилищному вопросу. Перечислив безмолвному Тоду десяток вариантов и отвергнув их по очереди, он наконец напал на «Герб Сан-Бернардино».
— Бердач — это то, что тебе нужно. Я сам там живу, так что не сомневайся. Хозяин — чистый скобарь. Пошли, устрою тебя как надо.
— Не знаю… я… — начал Тод.
Карлик вскинул голову с выражением смертельной обиды:
— Ну конечно — вам не по чину. А я тебе так скажу — слышишь, ты…
Тод решил подчиниться нахрапистому карлику и пошел с ним на Пиньон-Каньон. Комнаты в Бердаче были тесные и не очень чистые. Но когда он увидел в коридоре Фей Гринер, он снял комнату не задумываясь.
3
Тод уснул. Когда он проснулся, был девятый час. Он принял ванну и побрился, потом оделся перед зеркалом комода. Он пытался следить за пальцами, занятыми воротничком и галстуком, но взгляд все время соскальзывал на снимок, заткнутый за верхний угол рамы.
Это была фотография Фей Гринер, кадр из двухчастевого фарса, где она снималась статисткой. Она охотно дала ему карточку и даже надписала ее крупным скачущим почерком: «Искренне Ваша, Фей Гринер», — но в дружбе ему отказывала, вернее требовала, чтобы она оставалась бескорыстной. Фей объяснила почему. Он ничего не мог ей предложить — ни денег, ни красоты, а она могла любить только красивого мужчину и только богатому позволила бы любить себя. Тод был «отзывчивый мужчина», и ей нравились «отзывчивые мужчины», но только как друзья. Фей не была выжигой. Просто она рассматривала любовь в особой плоскости, на которой мужчина без денег и красоты не удерживался.
Взглянув на фото, Тод раздраженно хрюкнул. Она была снята в гаремном костюме — широких турецких шароварах, чашках и куцем жакете — и лежала, вытянувшись на шелковом диване. В одной руке она держала пивную бутылку, в другой — оловянную пивную кружку.
Чтобы увидеть ее в этом фильме, ему пришлось ехать в Глендейл. Фильм был про американца-коммивояжера, который заблудился в серале дамасского купца и очень веселится с его обитательницами. Фей играла одну из танцовщиц. У нее была только одна реплика: «Ах, мистер Смит!» — и она произнесла ее плохо.
Фей была высокая девушка, с крутыми широкими плечами и длинными мечеподобными ногами. Шея у нее тоже была длинная, похожая на колонну. Лицо было гораздо полнее, чем можно было бы подумать, глядя на тело, и гораздо крупнее. Ш ирокое в скулах и сужавшееся ко лбу и к подбородку, оно напоминало луну. Ее длинные «платиновые» волосы сзади доставали почти до плеч, но со лба и ушей она их убирала, перехватывая снизу узкой голубой лентой, которую завязывала на макушке бантиком.
По фильму она должна была выглядеть, и выглядела, пьяной — но не от вина. Она лежала на диване вытянувшись, раскинув руки и ноги, как бы открываясь любовнику, и ее рот был приоткрыт в осоловелой хмурой улыбке. Своим видом она должна была выражать призыв, но звала она не к наслаждениям.
Тод зажег сигарету и возбужденно затянулся. Он снова начал возиться с галстуком, но невольно вернулся к карточке.
Звала она не к наслаждениям, а к борьбе, изнурительной и жесткой — не на любовь, а на смерть. Броситься на нее было бы все равно, что броситься с небоскреба. Такое делаешь с криком. И на ноги встать уже не надейся. Зубы твои вгонит в череп, как гвоздь в тесину, и хребет будет сломан. Вспотеть или зажмуриться — и то не успеешь.
Он еще мог посмеяться над своими метафорами, но смех был ненастоящий, он ничего не разрушал.
Если бы только она позволила, он бы бросился с радостью, чего бы это ни стоило ему. Но он ей был не нужен. Она не любила его, и он не мог содействовать ее карьере. Фей не была сентиментальной и в нежности не нуждалась, даже если бы он был на нее способен.
Одевшись, он торопливо вышел из комнаты. Он обещал быть на вечере у Клода Эсти.
4
Клод, преуспевающий сценарист, жил в большой доме, который был точной копией старинного особняка Дюпюи под Билокси в Миссисипи. Когда Тод ступил на дорожку с самшитовым бордюром, Клод приветствовал его с громадной двухэтажной террасы, разыгрывая роль в духе южной колониальной архитектуры. Он раскачивался с носков на пятки, на манер полковника Гражданской войны, и делал вид, что у него большое брюхо.
Брюха у него не было совсем. Клод был высохший человечек со стертыми чертами и сутулой спиной почтового служащего. Ему подошли бы залосненный мохеровый пиджак и мятые брюки конторщика, но он был одет, как всегда, изысканно. В петлице его коричневого пиджака торчал цветок лимона. Брюки на нем были из красноватого, в шашку, твида ручной выработки, а на ногах — великолепные башмаки цвета ржавчины. Его фланелевая рубашка была кремовой, а вязаный галстук — исчерна-красным.
Пока Тод поднимался по ступеням к его протянутой руке, Клод окликнул дворецкого:
— Крюшону! Да поживее, черная бестия!
Слуга-китаец бегом принес виски с содовой.
Перекинувшись с Тодом несколькими словами, Клод отправил его
к своей жене, Алисе, которая находилась на другом конце террасы.
— Не исчезай, — шепнул он. — Мы собираемся в бордель.
Алиса сидела в двойной качалке с дамой, которую звали миссис Джоан Шварцен. Когда Алиса спросила его, играет ли он в теннис, миссис Шварцен вмешалась:
— Какая глупость — швырять несчастный мячик через сеть, которой надо было бы ловить рыбу, — ведь миллионы голодают, мечтая о кусочке селедки.
— Джоан — чемпионка по теннису, — пояснила Алиса.
Миссис Шварцен была рослая женщина с большими руками и
ногами и квадратными костлявыми плечами. У нее было миловидное личико восемнадцатилетней и тридцатипятилетняя шея, вся в жилах и сухожилиях. Густой рубиновый загар, отливавший синевой, смягчал разительностью контрасты между лицом и шеей.
— Как жалко, что мы не сразу поедем в публичный дом, — сказала она. — Я их обожаю.
Она повернулась к Тоду и захлопала ресницами:
— А вы, мистер Хекет?
— Ты права, душечка, — ответила за него Алиса. — Ничто так не взбадривает мужчину, как веселый дом. Клин клином вышибают.
— Как ты смеешь меня оскорблять!
Она встала и взяла Тода под руку.
— Сопровождайте меня вон туда. — Она показала на группу мужчин, среди которых стоял Клод.
— Проводите ее, ради бога, — сказала Алиса, — она думает, что они рассказывают сальные анекдоты.
Таща Тода за собой, миссис Шварцен врезалась в кружок.
— Похабничаете? — спросила она. — Обожаю похабные разговоры.
Все вежливо засмеялись.
— Нет, мы о делах, — сказал кто-то.
— Не верю. Будто не слышно по вашим гнусным голосам. Ну же, скажите что-нибудь непристойное.
На этот раз никто не засмеялся.
Тод попробовал высвободить руку, но она держала цепко. Наступило неловкое молчание; потом тот, кого она перебила, попытался начать сначала.
— Кинематограф страдает от излишней робости, — сказал он. — Таким людям, как Кумбс, нельзя спускать.
— Совершенно верно, — поддержал другой. — Приезжает такой вот, деньги гребет лопатой, все время ворчит, как тут паршиво, потом работу запорет и возвращается на Восток, рассказывать анекдоты про постановщиков, которых в глаза не видел.
— Боже мой, — сказала миссис Шварцен Тоду громким театральным шепотом, — они и вправду — о делах.
— Пойдемте поищем, кто разносит виски, — предложил Тод.
— Нет. Проводите меня в сад. Вы видели, что лежит в бассейне? — Она потащила его за собой.
В саду было душно от аромата мимозы и жимолости. Из прорехи в синем саржевом небе высовывался зернистый месяц, похожий на огромную костяную пуговицу. Дорожка, вымощенная плитняком и зажатая двумя рядами олеандров, привела к бассейну. На дне у глубокого конца он увидел какой-то массивный черный предмет.
— Что это? — спросил он.
Она нажала ногой выключатель, скрытый в корнях кустарника, и ряд придонных фонарей осветил зеленую воду. Предмет оказался дохлой лошадью, вернее — ее реалистическим, в натуральную величину, изображением. Над чудовищно раздутым брюхом торчали прямые негнущиеся ноги. Похожая на молот голова была свернута набок, и из мучительно оскаленного рта свисал тяжелый черный язык.
— Правда, чудесно? — воскликнула миссис Шварцен, хлопая в ладоши и возбужденно подпрыгивая, как девочка.
— Из чего она сделана?
— Значит, вы догадались? Как невежливо! Из резины, конечно. И стоила массу денег.
— Но зачем?
— Для смеха. Однажды мы стояли у бассейна, и кто-то, кажется Джери Апис, сказал, что тут на дне должна лежать дохлая лошадь, — вот Алиса и раздобыла. Правда — прелестно?
— Очень.
— Вы просто вредина. Подумайте, как должны быть счастливы Эсти, показывая ее гостям и выслушивая охи и ахи неподдельного восторга.
Она встала на краю бассейна и несколько раз подряд «охнула и ахнула».
— Она еще там? — донесся чей-то голос.
Тод обернулся и увидел, что по дорожке идут две женщины и мужчина.
— По-моему, брюхо у нее скоро лопнет, — ликуя, откликнулась миссис Шварцен.
— Красота, — сказал мужчина, торопясь подойти поближе.
— Да она же просто надувная, — возразила одна из женщин.
Миссис Шварцен сделала вид, будто вот-вот расплачется.
— Вы ничуть не лучше этого вредного мистера Хекета. Вам просто не терпится разбить мои иллюзии.
Когда она окликнула Тода, он был уже на полпути к дому. Он помахал рукой, но не остановился.
Компания Клода все еще говорила о делах.
— Но как вы избавитесь от неграмотных мойш, которые им правят? Они держат кино мертвой хваткой. В интеллектуальном плане они, может, и папуасы, но зато — чертовски хорошие дельцы. По крайней мере, знают, как прыгнуть в эту лужу и вынырнуть с золотыми часами в зубах.
— Часть из этих миллионов, которые приносят фильмы, им стоило бы снова пускать в дело. Как Рокфеллеры с их Фондом. Раньше Рокфеллеров ненавидели, а теперь, вместо того чтобы вопить об их грязных нефтяных барышах, все восхваляют их за то, что делает Фонд. Ловкий трюк, и киношники могли бы сделать то же самое. Создать Фонд кино и покровительствовать наукам и искусствам. Понимаете, снабдить малину вывеской.
Тод отозвал Клода в сторонку, чтобы попрощаться, но хозяин его не отпустил. Он увел Тода в библиотеку и налил ему и себе шотландского виски. Они сели на кушетку против камина.
— Вы не были в заведении Одри Дженинг? — спросил он.
— Не был, но наслышан порядком.
— Тогда вы должны пойти.
— Не люблю профессионалок.
— А мы не к ним. Просто посмотрим кино.
— Кино меня угнетает.
— У Одри вы не соскучитесь. Умелой сервировкой она сообщает пороку притягательность. Ее притон — шедевр технической эстетики.
Тоду нравилась его манера. Он был мастером замысловатой пародийной риторики, которая позволяла ему выразить свое негодование, сохранив при этом репутацию светского и остроумного человека.
Тод подкинул ему реплику.
— Не знаю, на каких тарелочках она его преподносит, — сказал он, — но бардаки наводят тоску, как все хранилища — банки, почтовые ящики, склепы, торговые автоматы.
— Любовь как торговый автомат, а? Неплохо. Суешь монету, дергаешь рычаг. В утробе аппарата происходят механические процессы. Получаешь свои сласти, хмуришься, глядя на себя в грязное зеркало, поправляешь шляпу, берешь покрепче зонтик и уходишь, стараясь выглядеть как ни в чем не бывало, — хорошо, но не для кино.
Тод опять высказался начистоту:
— Не в этом дело. Я бегал за девушкой, а это все равно, что таскать с собой вещь, которая не влезает в карман, — вроде портфеля или чемоданчика. Неудобно.
— Знаю, знаю. Это всегда неудобно. Сначала правая рука устает, потом левая. Ставишь чемодан и садишься на него, но прохожие удивляются, останавливаются поглазеть — приходится идти дальше. Прячешь чемодан за дерево и ретируешься, но кто-то его находит и бежит за тобой, чтобы отдать. С утра, когда выходишь из дому, чемоданчик — маленький, дешевый, с паршивой ручкой, а к вечеру это уже сундук с медными углами, весь в заграничных наклейках. Знаю. Хорошо, но опять не для кино. Надо помнить о публике. Что скажет парикмахер с Пердью? Он целый день стриг волосы и устал. Он не хочет смотреть на болвана, который таскается с чемоданом или возится с автоматом. Парикмахеру подавай чары и амуры.
Последнее он сказал уже самому себе и тяжело вздохнул. Он хотел было продолжать, но тут подошел слуга-китаец и объявил, что все собрались ехать к миссис Дженинг.
5
Они отправились на нескольких машинах. Тод сидел на переднем сиденье рядом с Клодом, и, пока они ехали по бульвару Сансет, Клод рассказывал ему о миссис Дженинг. Во время немого кино она была довольно известной актрисой, но звук лишил ее работы. Она не стала сниматься в массовках и эпизодах, как многие бывшие звезды, а, проявив замечательную деловую сметку, открыла дом свиданий. Она не была безнравственной. Отнюдь. Она заведовала своим предприятием точно так же, как другие женщины заведуют библиотеками, — умно и со вкусом.
Ни одна из девушек в доме не жила. Вы звонили по телефону, и она посылала девушку к вам. Плата была тридцать долларов за ночь, и пятнадцать из них миссис Дженинг оставляла себе. Кое-кому может показаться, что пятьдесят процентов за комиссию — чересчур много, но она получала их совершенно заслуженно. Накладные расходы были высокими. Она содержала красивый дом, где девушки ожидали вызова, и машину с шофером, чтобы доставлять их клиентам.
К тому же ей приходилось вращаться в таком обществе, где она могла завязать нужные связи. В конце концов, тридцать долларов — не каждому по карману. Девушкам дозволялось обслуживать только людей состоятельных и с положением, если не сказать — положительных и со вкусом. Она была настолько разборчива, что считала необходимым познакомиться с клиентом прежде, чем бралась его обслуживать. Она часто говорила — и справедливо, — что не позволит девушке отправиться к мужчине, с которым сама бы не стала спать.
И она была по-настоящему культурна. Все самые выдающиеся ее посетители смотрели на знакомство с ней как на пикантное похождение. Однако они бывали разочарованы, обнаружив, насколько она утончена. Им хотелось побеседовать о кое-каких веселых и общеинтересных предметах, а она желала обсуждать только Гертруду Стайн и Хуана Гриса. И сколько ни бился знаменитый гость — а некоторые, по слухам, заходили даже чересчур далеко, — ни изъяна найти в ее утонченности, ни пробить бреши в ее культуре никому не удавалось.
Клод все еще упражнялся на ней в своей странной риторике, когда она появилась в дверях, приветствуя гостей.
— Очень приятно вас снова видеть, — сказала она. — А я как раз вчера за чаем говорила миссис Принс: Эсти — моя любимая чета.
Это была статная женщина, приторная и вкрадчивая блондинка с красноватой кожей.
Она провела их в маленькую гостиную, выдержанную в фиолетово-розово-серой гамме. Жалюзи были розовые, как и потолок, а стены оклеены бледно-серыми обоями с редкими, крохотными фиолетовыми цветочками. На одной стене висел серебристый экран, который можно было свернуть, а напротив него, по обе стороны от вишневого столика, стояли в ряд стулья, обитые лощеным розово - серым ситцем с фиолетовой тесьмой. На столике стоял маленький проектор, и с ним возился молодой человек в смокинге.
Она жестом предложила им сесть. Затем вошел официант и спросил, что они желают пить. Когда заказы были приняты и выполнены, она щелкнула выключателем и молодой человек запустил аппарат. Аппарат весело зажужжал, но его не удавалось навести на фокус.
— С чего мы начнем? — спросила миссис Шварцен.
— «Le Predicament de Marie»[57].
— Название завлекательное.
— Это прелесть, совершенная прелесть, — сказала миссис Дженинг.
— Да, — подтвердил механик, у которого что-то не ладилось. — Изумительный фильм — «Le Predicament de Marie». В нем есть что - то особенное — прямо-таки даже чересчур волнующее.
Задержка получилась долгой; механик отчаянно хлопотал у аппарата. Миссис Шварцен засвистела и затопала ногами, остальные последовали ее примеру. Они изображала неотесанную публику времен иллюзиона.
— Заснул там? Поехали!
— Ехай сам, а мы пешочком.
— Испортилась машина.
— Чини, сапожник!
Молодой человек наконец отыскал лучом экран, и фильм начался.
LE PREDICAMENT DE MARIE, ou
LA BONNE DISTRAITE[58]
Мари, или «Bonne», была пышная девушка в очень коротеньком, тесно облегающем форменном платьице из черного шелка. На голове у нее была крохотная кружевная наколка. В первой сцене показывалось, как она подает обед богатой семье — в обшитой дубовыми панелями столовой с тяжелой резной мебелью. Семья очень респектабельная и состоит из бородатого отца в сюртуке, матери с камеей на груди и в платье со стоячим воротником на китовом усе, высокого худого сына с длинными усами и почти без подбородка и девочки с большим бантом в волосах и распятием на золотой цепочке.
После нескольких банальных номеров с папиной бородой и супом актеры подошли к своей теме вплотную. Было ясно, что вся семья желает Мари, но Мари желает только девочку. Прикрывая свою деятельность салфеткой, отец щиплет Мари, сын пытается заглянуть в вырез ее платья, мать гладит ее по колену. Мари, в свою очередь, тайком ласкает девочку.
Действие переносится в комнату Мари. Она раздевается и, оставшись в черных шелковых чулках и туфлях с высокими каблуками, набрасывает на себя шифоновый пеньюар. В то время как она занимается сложным ночным туалетом, входит девочка. Мари сажает ее на колени и начинает целовать. В дверь стучат. Оцепенение. Она прячет ребенка в стенной шкаф и впускает отца. Он полон подозрений, и она вынуждена принимать его авансы. Он обнимает ее, но в это время в дверь опять стучат. Снова оцепенение и немая сцена. На этот раз входит усатый сын. Мари успевает спрятать отца под кровать. Только сын начинает осваиваться, как в дверь опять стучат. Мари заставляет его забраться в большой ящик для постельного белья. Новый гость — хозяйка дома. Не успевает она взяться за дело, как в дверь опять стучат.
Кто это может быть? Почтальон? Полицейский? В исступлении пересчитывает Мари убежища. Вся семья налицо. Она подкрадывается к двери и слушает.
Кто же он — этот нежданный визитер? — гласила надпись.
И тут аппарат заело. Молодой человек в смокинге пришел в такое же исступление, как Мари. Когда он снова его запустил, экран ярко светился, пленка жужжа побежала через аппарат и иссякла.
— Я ужасно извиняюсь, — сказал он. — Придется перемотать.
— Это — покупка! — крикнул кто-то.
— Розыгрыш!
— Аферисты!
— Деньги обратно!
Они свистели и топали ногами.
Под шум притворного дебоша Тод выскользнул из комнаты. Ему хотелось подышать свежим воздухом. Официант, слонявшийся по холлу, показал ему выход во внутренний двор.
На обратном пути он заглядывал в разные комнаты. В одной из них он обнаружил горку с множеством миниатюрных собачек. Тут были стеклянные пойнтеры, серебряные бигли, фаянсовые шнауцеры, каменные таксы, алюминиевые бульдоги, ониксовые гончие, фарфоровые терьеры, деревянные спаниели. Были представлены все мыслимые породы и чуть ли не все материалы, пригодные для лепки, отливки и резания.
Пока он любовался фигурками, в доме запела женщина. Голос показался ему знакомым, и он выглянул в холл. Это была Мери Доув, одна из ближайших подруг Фей Грине. Может быть, и Фей работает у миссис Дженинг? Если так, то за тридцать долларов…
Он пошел досматривать кино.
6
Надежда Тода уладить свои затруднения за небольшую плату быстро рассеялась. Когда он попросил Клода узнать у миссис Дженинг насчет Фей, дама ответила, что никогда не слышала об этой девушке. Тогда Клод попросил ее выяснить через Мери Доув. Через несколько дней она позвонила ему и сказала, что ничего не выйдет. Девушку предоставить нельзя.
Тод, в общем, не огорчился. Он и не хотел получать ее таким способом, во всяком случае — покуда у него были другие шансы. А ему последнее время стало казаться, что они растут. Гарри, ее отец, заболел, и это дало Тоду повод часто бывать в их квартире. Он бегал по поручениям и болтал со стариком. Желая отблагодарить его за доброту, она сблизилась с ним — как с другом дома. Он надеялся углубить ее благодарность и перевести в серьезное качество.
Помимо этой цели Тода занимал сам Гарри, и общество старика было ему приятно. Старик был клоуном, а Тод, как многие художники, питал слабость к клоунам. Но что еще важнее, у Тода было чувство, что клоунство старика — ключ к голливудским зевакам (живописный ключ, ключ-символ), так же как мечты Фей.
Он сидел у постели Гарри и часами слушал его рассказы. За сорок лет в варьете и бурлеске их у него накопилось бесконечное множество. Как он сам выражался, жизнь его состояла из молниеносных серий сальто, кульбитов, пируэтов и каскадов, проделываемых для того, чтобы уйти от огневого вала «печек с динамитом». «Печка с динамитом» означала любую катастрофу стихийного или умышленного характера — от наводнения в Медеин-Хет, штат Вайоминг, до склочного полисмена в Муз-Фактори, провинция Онтарио.
Возможно, что в самом начале своей сценической карьеры Гарри паясничал только на подмостках; теперь же он паясничал беспрестанно. Это был его единственный способ самозащиты. Он обнаружил, что люди в большинстве своем не станут лезть из кожи вон, чтобы наказать шута.
Он пользовался целым набором изящных жестов, чтобы подчеркнуть комичность своей согнутой унылой фигуры, и особым образом одевался — как банкир, вернее — как дешевая, неубедительная имитация банкира. Наряд состоял из засаленного котелка с необычайно высокой тульей, стоячего воротничка, широкого галстука в горошек, залосненного двубортного пиджака и брюк в серую полоску. Облачение Гарри никого не могло обмануть, но это и не входило в его задачи. Хитрость его была другого рода.
Как актер он был полным неудачником и понимал это. Но он утверждал, будто однажды чуть не добился успеха. И, в доказательство, заставил Тода прочесть старую вырезку из театрального отдела «Санди тайме».
Она была озаглавлена: «Перепачканный арлекин».
«Комедия дель арте не умерла. Она живет в Бруклине — вернее, „проживала" там неделю назад на сцене театра Оглторна — в лице некоего Гарри Гринера. М-р Гринер принадлежит к труппе „Летучие Лини". В тот момент, когда вы читаете эти строки, она, вероятно, дает представление в Мистике, шт. Коннектикут, или ином городке, более радушном, нежели наш район многодетных семей. Если вы располагаете досугом и действительно любите театр — непременно разыщите Линей, где бы они ни находились.
М-р Гринер, перепачканный арлекин нашего заголовка, в момент появления его на сцене вовсе не перепачкан, а чист, опрятен и мил. К тому времени, когда Лини, четверо мускулистых уроженцев Востока, разделаются с ним, он будет отменно перепачкан. Он оборван, измазан кровью, но… по-прежнему мил.
Когда м-р Гринер выходит на сцену, трубы, как и следовало ожидать, молчат. Мама Линь вращает тарелку на шесте, который она держит в зубах; папа Л инь ходит колесом; сестра Линь жонглирует веерами, а братец Линь свисает с портала на своей косичке. Оглядывая своих усердных коллег, м-р Гринер пытается спрятать смущение под весьма наивной маской светскости. Он отваживается пощекотать сестру и в ответ на этот невинный знак внимания получает могучий пинок в живот. Пинок переносит его в привычную стихию, и он принимается рассказывать скучный анекдот. Папа Линь, подкравшись сзади, бросает его брату, который равнодушно отворачивается. М-р Гринер приземляется на затылок. Он мужественно заканчивает анекдот в горизонтальном положении. Когда он встает, публика, не смеявшаяся над анекдотом, смеется над его хромотой, так что он остается хромым до конца номера.
М-р Гринер начинает другой анекдот, еще длиннее и скучнее первого. И вот, когда он доходит до самой соли, оркестр разражается музыкой и заглушает его. Он очень терпелив и очень стоек. Он начинает сначала, но закончить оркестр ему не дает. Боль, которая почти — но, к счастью, не до конца — скрючивает его деревянную фигурку, была бы непереносимой — не будь она столь очевидно притворной. Это гомерически смешно.
Финал великолепен. Лини носятся по воздуху; м-р Гринер же, удерживаемый на земле своим реализмом и осведомленностью о тяготении, всячески пытается убедить публику, что витающие восточные товарищи нисколько не удивляют и не тревожат. Старо как мир, — говорят его руки; но лицо с ними не соглашается. Видя, что коллеги остаются невредимыми, он вновь обретает уверенность. Акробаты не замечают его, поэтому и он не замечает акробатов. Победа остается за ним; ему предназначены аплодисменты зала.
Первой моей мыслью было: кому-нибудь из продюсеров следовало бы пригласить м-ра Гринера в большое ревю, поместив на фоне красивых девушек и блистающих занавесей. Но потом я решил, что это было бы ошибкой. Боюсь, что м-ра Гринера, подобно скромным полевым растениям, которые гибнут, будучи перенесены на более жирную почву, лучше оставить цвести в бурлеске, среди чревовещателей и велосипедисток».
У Гарри хранилось больше десятка копий этой статьи, некоторые — на полотняной бумаге. Попытавшись получить работу при помощи коротких объявлений в «Варьете» («…кому-нибудь из продюсеров следовало бы пригласить Гринера в большое ревю…» — «Тайме»), он приехал в Голливуд — в надежде, что заработает на жизнь, снимаясь в комедийных эпизодах. Однако на таланты его спроса не было. По его собственному выражению, он «провонял голодухой». Чтобы дополнить свои скудные заработки на студиях, он торговал вразнос полировальной пастой для серебра, которую готовил у себя в ванной из мела, мыла и тавота. Когда Фей не была занята на актерской бирже, она возила его в торговые экспедиции на своем форде. В последней поездке он и заболел.
В этой же поездке Фей приобрела нового поклонника по имени Гомер Симпсон. Тод в первый раз увидел Гомера примерно через неделю после того, как слег старик. Он сидел у больного, развлекая его беседой, как вдруг послышался тихий стук в дверь. Тод открыл; в коридоре стоял человек с цветами для Фей и бутылкой портвейна для ее отца.
Тод воззрился на него с любопытством. Он не хотел быть невежливым, но на первый взгляд пришедший казался типичным представителем породы людей, приезжающих в Калифорнию умирать, со всеми ее отличительными чертами — от лихорадочного взгляда до дрожащих рук.
— Меня зовут Гомер Симпсон, — задыхаясь, сказал он, потом смущенно потоптался и промокнул совершенно сухой лоб сложенным носовым платком.
— Не хотите зайти? — спросил Тод.
Он тяжело помотал головой и сунул букет и бутылку Тоду. Прежде чем Тод успел сказать хоть слово, он поплелся прочь.
Тод понял, что ошибся. Гомер Симпсон лишь физически подходил под эту категорию. Люди, которых он имел в виду, не были застенчивы.
Когда он передал подарки Гарри, тот как будто даже не удивился. Он сказал, что Гомер — один из его благодарных клиентов.
— Мою Волшебную Пасту рвут с руками.
Когда Фей вернулась домой и узнала о госте, она очень потешалась. Вдвоем, прерывая свою речь и друг друга взрывами смеха, они рассказали Тоду, как произошло их знакомство с Гомером.
Второй раз Тод увидел Гомера под финиковой пальмой на другой стороне улицы, откуда он смотрел на их дом. Тод наблюдал за ним несколько минут, потом окликнул и приветливо поздоровался. Гомер не ответил и бросился наутек. На другой день и на третий Тод снова видел, как он прячется под пальмой. Наконец он застиг его, подкравшись сзади.
— Как поживаете, мистер Симпсон? — мягко сказал он. — Гринеры очень признательны вам за подарок.
На этот раз Гомер не двинулся — может быть, потому, что Тод припер его к дереву.
— Хорошо, — выпалил он. — Я шел мимо… я живу на этой улице.
Тод ухитрился растянуть разговор на несколько минут, после чего Гомер бежал.
В следующий раз Тоду удалось приблизиться к нему открыто. С этих пор Гомер охотно отвечал на его любезности. Симпатия, даже самого неглубокого свойства, победила его молчаливость и сделала чуть ли не болтливым.
7
В одном, по крайней мере, Тод не ошибся. Как и большинство интересовавшей его публики, Гомер был выходцем со Среднего Запада. Он приехал из Уэйнвилла, городка в Айове, неподалеку от Де-Мойна, где двадцать лет проработал в гостинице.
Однажды, посидев в парке под дождем, он простудился, и простуда перешла в воспаление легких. Выйдя из больницы, он узнал, что гостиница взяла другого бухгалтера. Они соглашались принять его обратно, но врач посоветовал ему поехать на отдых в Калифорнию. Тон у врача был повелительный, и Гомер уехал из Уэйнвилла на Побережье.
Прожив неделю в вокзальной гостинице Лос-Анджелеса, он снял коттедж в Пиньон-Каньоне. Это был всего второй дом, показанный ему агентом по торговле недвижимостью, но Гомер согласился на него, потому что устал и потому что агент был наглец.
Расположение коттеджа ему даже понравилось. Это был последний дом в каньоне, и холмы начинались прямо за гаражом. Они поросли люпином, колокольчиками, маками и луговыми ромашками. На склонах стояло несколько карликовых сосен, юкк и эвкалиптов. Агент сказал, что он будет любоваться голубями и перепелками, но за все время, что тут жил, он видел только крупных бархатно-черных пауков и ящерицу. Он очень привязался к ящерице.
Дом стоил дешево, потому что на него не находилось охотников. Большинство людей, снимавших здесь коттеджи, хотело жить в «испанских», а этот, по утверждению агента, был «ирландским». Гомеру дом показался довольно странным, но агент настаивал, что он оригинальный.
Дом был странным. Из-под соломенной крыши, спускавшейся очень низко по обе стороны от входной двери, смотрели маленькие слуховые оконца с длинными козырьками, а венчала ее циклопическая и очень кривая труба. Дверь из эвкалипта, крашенного под мореный дуб, висела на громадных петлях. Петли были фабричные, но отштампованы так, что имели вид кованых. Столько же умения и старания затратили на то, чтобы сделать кровлю соломенной — ибо она была не из соломы, а из огнестойкого картона, рифленого и крашенного под солому.
Господствующие вкусы нашли отражение в убранстве комнаты. Оно было «испанским». Стены были бледно-оранжевые, в розовую крапинку, и на них висело несколько шелковых знамен с гербами — красных и золотых. На камине стоял большой галеон. Корпус у него был гипсовый. В камине разместились разнообразные кактусы в расписных мексиканских горшках. Некоторые растения были сделаны из резины и пробки; остальные были настоящие.
Комнату освещали бра в виде галеонов, у которых из-под палубы торчали остроконечные желтые лампочки. На столе стояла лампа с бумажным абажуром, промасленным, чтобы он имел вид пергаментного, и на нем было изображено еще несколько галеонов. Шторы из красного бархата висели на черных копьях с серповидными наконечниками.
Из мебели тут были: тяжелая кушетка с выгоревшим красным камчатным покрывалом и ножками в виде жирных монахов и три распухших кресла, тоже красных. Середину комнаты занимал очень длинный стол красного дерева. Он был обит гвоздями с большими бронзовыми шляпками. Возле каждого кресла стоял столик того же цвета и конструкции, что и большой, но в их крышки было врезано по цветной кафельной плитке.
Две маленькие спальни были отделаны в другом стиле. Агент назвал его «новоанглийским». Тут была железная кровать с накаткой под дерево, точеное кресло с перильчатой спинкой — из тех, что обычно стоят в кондитерских, и комод в стиле ранних английских колонистов, окрашенный под некрашеную сосну. На полу лежал мохнатый коврик. На стене против комода висела цветная гравюра, изображавшая занесенную снегом коннектикутскую ферму — полностью, включая волка. Спальни были одинаковы до мельчайших подробностей. Даже картинки были дубликатами.
Имелись также ванная и кухня.
8
Чтобы обосноваться в новом жилище, Гомеру понадобилось всего несколько минут. Он распаковал сундук, повесил свои два костюма — оба темно-серые — в стенной шкаф одной из спален, переложил рубашки и нижнее белье в комод. Переставлять мебель он даже не пытался.
Совершив бесцельный обход дома и двора, он сел на кушетку. Он сидел, словно дожидаясь кого-то в вестибюле гостиницы. Так он провел почти полчаса, шевеля только руками, потом встал, перешел в спальню и уселся на край кровати.
Хотя до вечера было далеко, его сильно клонило ко сну. Он боялся вытянуться и уснуть. Не из-за дурных снов, а из-за того, что так трудно было проснуться. Когда он засыпал, он побаивался, что не проснется вообще.
Но потребность оказалась сильнее страха. Он завел будильник на семь часов и лег, поставив его возле уха. Через два часа, показавшихся ему двумя секундами, будильник зазвонил. Он трещал целую минуту, прежде чем Гомер начал с трудом пробиваться к сознанию. Борьба была тяжелой. Он стонал. Его голова тряслась, ноги дергались. Наконец веки раздвинулись; потом раскрылись шире. Он еще раз одержал победу.
Вытянувшись на кровати, он приходил в себя, испытывал разные части тела. Все они пробудились, кроме рук. Руки еще спали. Он не удивился. Руки требовали особого внимания — всегда требовали. В детстве он, бывало, колол их булавками, а однажды даже сунул в огонь. Теперь он пользовался только холодной водой.
Гомер выбрался из кровати по частям, как неотлаженный робот, и потащил свои руки в ванную. Пустил холодную воду. Когда раковина наполнилась, он погрузил руки до запястий. Они тихо лежали на дне, как пара странных водяных животных. Когда они совсем замерзли и покрылись мурашками, Гомер вытащил их и спрятал в полотенце.
Он озяб. Он пустил в ванну горячую воду и начал раздеваться, возясь с каждой пуговицей, словно раздевал кого-то другого. Когда он разделся, воды в ванне было еще мало; он сел нагишом на табурет и стал ждать. Его огромные руки лежали на животе. Они были совершенно неподвижны, но выглядело это не покоем, а скованностью.
За исключением кистей рук, которые могли бы принадлежать монументу, и маленькой головки, Гомер был сложен очень пропорционально. Мускулы у него был массивные и округлые, грудь мощная и выпуклая. И все же что-то было не так. При всех своих размерах и формах, он не производил впечатления силы и мужественности. Он напоминал стерильных атлетов Пикассо, которые понуро сидят на розовом песке, уставясь на мраморные, в прожилках, волны.
Когда ванна наполнилась, он влез в нее и погрузился в горячую воду. Он закряхтел от удовольствия. Но сию же минуту могли начаться воспоминания — сию же минуту. Он попытался одурачить память, залив ее слезами, и извлек из себя рыдания, как всегда втихомолку ерзавшие в груди. Звук получался как у собаки, лакающей овсянку. Он сосредоточился на том, какой он одинокий и несчастный, но это не помогло. Мысли, которые он отчаянно хотел прогнать, ломились в его сознание.
Однажды, когда он работал в гостинице, с ним в лифте заговорила постоялица Ромола Мартин:
— Мистер Симпсон, вы бухгалтер, мистер Симпсон? — Да.
— Я из шестьсот одиннадцатого.
Она была маленькая, похожая на девочку, с быстрой, нервной повадкой. На груди она баюкала пакет, содержавший, по-видимому, четырехугольную бутылку джина.
— Да, — повторил Гомер, стараясь побороть врожденную приветливость. Он знал, что мисс Мартин задолжала за несколько недель, и слышал, как регистраторша назвала ее пьяницей.
— Ах!.. — кокетливо продолжала девушка, обращая его внимание на их разницу в росте. — Мне так неприятно, что я заставляю вас беспокоиться из-за этого счета…
Ее интимный тон привел его в растерянность.
— Вам придется поговорить с директором, — буркнул он и отвернулся.
Когда он подходил к своему кабинету, его трясло.
До чего беспардонное существо! Она, конечно, была пьяна, но не настолько, чтобы не отдавать себе отчета в своих поступках. Он поспешил назвать свою взволнованность отвращением.
Вскоре ему позвонил директор и попросил принести кредитную карточку мисс Мартин. В кабинете директора Гомер застал регистраторшу, мисс Карлайл. Он прислушался к ее разговору с директором.
— Шестьсот одиннадцатую вы приняли?
— Да… да, я.
— Почему? Кажется, ясно, что это за птица?
— Когда трезвая — нет.
— Мало ли что. Нам такие в гостинице не нужны.
— Виновата.
Директор повернулся к Гомеру и взял у него из рук кредитную карточку.
— Она задолжала тридцать один доллар, — сказал Гомер.
— Пусть заплатит и выезжает. Мне тут такие не нужны. — Он улыбнулся. — Особенно когда они залезают в долги. Соедините меня с ней.
Гомер попросил телефонистку вызвать шестьсот одиннадцатый; вскоре она сообщила, что номер не отвечает.
— Она в гостинице, — сказал он. — Я видел ее в лифте.
— Я попрошу коридорную проверить.
Через несколько минут, когда Гомер уже сидел над своими книгами, зазвонил телефон. Это опять был директор. Коридорная сообщила, что шестьсот одиннадцатая на месте, сказал он и велел Гомеру отнести ей счет.
— Пусть заплатит и освободит номер, — сказал он.
Первой мыслью Гомера было, сославшись на занятость, попросить, чтобы послали мисс Карлайл, но у него не хватило духу. Выписывая счет, он начал понимать, до какой степени он взволнован. Это привело его в ужас. Легкие токи пробегали по нервам; язык у гортани покалывало.
Выйдя на шестом этаже, он почти развеселился. Он шагал бодро, совершенно забыв о руках — постоянном предмете тревоги. Он подошел к 611-му и собрался постучать, но вдруг испугался и опустил кулак, не донеся его до двери.
Он не справится. Пусть пошлют мисс Карлайл.
Коридорная, наблюдавшая за ним издали, подошла, отрезав путь к отступлению.
— Не отзывается, — поспешно объяснил Гомер.
— Вы хорошо стучали? Эта девка у себя.
Не дожидаясь его ответа, она забарабанила в дверь.
— Открывайте! — крикнула она.
Гомер услышал внутри какое-то движение, потом дверь приоткрылась.
— Простите, кто там? — спросил беззаботный голос.
— Бухгалтер Симпсон, — сказал он сипло.
— Заходите, пожалуйста.
Дверь отворилась пошире, и Гомер вошел, не смея оглянуться на коридорную. Его вынесло на середину комнаты, и там он замер. Сперва в нос ему ударили тяжелые запахи перегара и застоявшегося табачного дыма, но потом сквозь них пробился металлический аромат духов. Его взгляд медленно описал круг. По полу была разбросана одежда, газеты, журналы, бутылки. Мисс Мартин забилась в уголок кровати. На ней был мужской халат из черного шелка с голубыми отворотами. Ее коротко остриженные волосы цветом и фактурой напоминали солому, и сама она была похожа на мальчика. Розовая пуговка носа, синие пуговки глаз и красная пуговка рта довершали ее сходство с ребенком.
Гомер был так захвачен нараставшим в нем возбуждением, что не мог ни говорить, ни думать. Он зажмурился, желая оградить, бережно выпестовать то, что он ощущал. Бережность была необходима, потому что, если он поспешит, все может увять, и он опять остынет. Возбуждение росло.
— Уходите, пожалуйста, я пьяная, — сказал мисс Мартин.
Гомер не шевельнулся, не ответил.
Вдруг она заплакала. Хриплые, отрывистые звуки шли как будто из живота. Она закрыла лицо руками и застучала ногами по полу.
Чувства Гомера были так напряжены, что голова его упорно покачивалась, как у китайского болванчика.
— Я на мели. У меня нет денег. Я без гроша. Я на мели, слышите?
Гомер вытащил бумажник и двинулся на девушку так, словно собирался им ударить.
Она отпрянула, съежилась и заплакала громче.
Он уронил бумажник ей на колени и стоял над ней, не зная, что делать. При виде бумажника она улыбнулась, но всхлипывать не перестала.
— Садитесь, — сказала она.
Он сел рядом с ней на кровать.
— Какой вы странный, — застенчиво проговорила она. — Вы такой славный, я просто готова расцеловать вас.
Он обхватил ее и прижал к себе. Его порывистость напугала девушку, и она попробовала вырваться, но он не отпускал и начал неуклюже ласкать ее. Он совершенно не сознавал, что делает.
Он понимал только, что ощущает нечто упоительно-сладостное и должен разделить эту сладость с несчастной рыдающей женщиной.
Всхлипывания мисс Мартин начали затихать и вскоре прекратились совсем. Он чувствовал, что она ерзает и к ней возвращаются силы.
Зазвонил телефон.
— Не подходи, — сказала она, снова начиная всхлипывать.
Он мягко отстранил ее и неуклюже двинулся к телефону. Звонила мисс Карлайл.
— У вас все в порядке? — спросила она. — Или вызвать полицию?
— Не надо, — сказал он и повесил трубку.
Все кончилось. Он не мог вернуться к кровати.
Его безнадежно несчастный вид рассмешил мисс Мартин.
— Давай сюда джин, бегемотище, — весело крикнула она. — Вон он, под столом.
И он увидел, что она недвусмысленным образом вытянулась на постели. Он выбежал из комнаты.
Теперь, в Калифорнии, он плакал оттого, что больше никогда не видел мисс Мартин.
На другой день директор сказал ему, что он хорошо справился с поручением и что она расплатилась и выехала.
Гомер пытался ее разыскать. В Уэншвилле были еще две гостиницы, маленькие и захудалые, и он наводил справки в обеих. Осведомлялся он и в меблированных комнатах — но безрезультатно. Она уехала из города.
Он вернулся к привычному распорядку: десять часов — работа, два часа — еда, сон — остальное. Потом он простудился, и ему посоветовали уехать в Калифорнию. Он вполне мог на время бросить работу. Отец оставил ему шесть тысяч долларов, а за двадцать лет бухгалтерской работы в гостинице он накопил по меньшей мере еще десять.
9
Гомер вылез из ванны, кое-как вытерся жестким полотенцем и пошел одеваться в спальню. Он еще больше погрузился в оцепенение и пустоту, чем обычно. Так бывало всегда. Чувства вздымались гигантской волной; она громоздилась все выше, выше, заворачивалась и, казалось, должна была смести все на своем пути. Но она не обрушивалась. Что-то всегда случалось вверху на самом гребне, и волна расплывалась, сбегала назад ручейками, как в водосточной канаве, оставляя после себя, самое большее, тяжелый осадок.
На одевание у него ушло много времени. После каждой вещи он останавливался и отдыхал — в отчаянии, несоизмеримом с затраченными усилиями.
Еды в доме не было, а магазин находился на Голливудском бульваре. Сперва он решил подождать до завтра, но потом, хотя не чувствовал голода, передумал. Было только восемь часов, а прогулкой можно было убить время. Если он не тронется с места, искушение снова уснуть может сделаться неодолимым.
Вечер стоял теплый и очень тихий. Он начал спускаться под гору, держась обочины тротуара. Между фонарями, где тьма была гуще, он ускорял шаги, а в каждом круге света — ненадолго останавливался. К тому времени, когда он вышел на бульвар, он с трудом заставлял себя идти шагом. На углу он несколько минут постоял, чтобы прийти в себя. Он настороженно замер, готовый к бегству; страх сделал его чуть ли не грациозным.
После того как несколько человек прошли мимо, не обратив на него никакого внимания, он успокоился. Он поправил воротник пальто и приготовился к переходу улицы. Не успел он сделать и двух шагов, как кто-то его окликнул:
— Эй, прохожий.
Это был нищий, который приметил его из темного подъезда. Безошибочное профессиональное чутье подсказало ему, что Гомер будет легкой добычей.
— Не одолжишь пять центов?
— Нет, — ответил Гомер неуверенно.
Нищий рассмеялся и повторил вопрос с угрозой:
— Пять центов, прохожий!
Он сунул руку Гомеру в лицо.
Порывшись в кармане с мелочью, Гомер кинул на тротуар несколько монет. Когда нищий бросился за ними, Гомер перебежал на другую сторону улицы.
Продовольственный магазин Санголд был просторен и ярко освещен. Вся арматура сверкала хромом, а пол и стены — белой плиткой. Цветной свет софитов играл на витринах и прилавках, оживляя природные краски снеди. Апельсины купались в красном, лимоны — в желтом, рыба — в бледно-зеленом, яйца — в кремовом, бифштексы — в розовом.
Гомер направился прямо в консервный отдел и купил банку грибного супа и банку сардин. К ним — полфунта содовых крекеров, и на ужин хватит.
Он вышел с пакетом на улицу и двинулся в обратный путь. Подойдя к повороту на Паньон-Каньон и увидев, как крут и черен впереди холм, он побрел назад по освещенному бульвару. Он хотел было подождать, пока кто-нибудь еще пойдет на холм, но в конце концов взял такси.
10
Хотя других занятий, кроме нехитрой готовки, у Гомера не было, он не скучал. Если не считать случая с Ромолой Мартин и, пожалуй, еще двух или трех событий, разделенных большими промежутками, сорок лет его жизни прошли без всяких перемен и треволнений. Свою бухгалтерскую работу он делал механически, складывая цифры и занося их в книгу так же безучастно, отрешенно, как открывал теперь банки с супом и стелил постель.
Глядя, как он бродит по своему маленькому коттеджу, можно было подумать, что это лунатик или полуслепой. Казалось, его руки живут и действуют сами по себе. Они сами расправляли простыни и взбивали подушки.
Как-то, открывая себе на второй завтрак банку лососины, он распорол палец. Хотя рана, должно быть, болела, его обычное — спокойное и несколько кислое — выражение лица не изменилось. Раненая рука корчилась на кухонном столе, пока не была перенесена в раковину напарницей, которая стала ласково купать ее в теплой воде.
Когда у него не было дел по дому, он сидел в старом сломанном шезлонге на заднем дворе — или, как именовал его агент, — патио. Гомер выходил туда сразу после завтрака, чтобы пожариться на солнце. Он постоянно держал на коленях потрепанную книгу, которую нашел в одном из стенных шкафов, но в нее не заглядывал.
Шезлонг стоял так, что вид перед Гомером открывался самый неприглядный. Повернув кресло на четверть оборота, он мог бы видеть большую часть каньона, змейкой сбегавшего к городу. Такое перемещение ему не приходило в голову. В поле его зрения была закрытая дверь гаража и клочок его ветхой толевой крыши. На переднем плане стояла закопченная кирпичная печь для сжигания мусора и высилась груда ржавых консервных банок. Правее располагались остатки кактусового сада, где еще корежились в муках несколько живых растений.
Одно из них — пучок мясистых лопатообразных листьев, утыканных уродливыми иглами, — цвело. Из края верхней лепешки торчал ярко-желтый цветок, похожий на головку чертополоха, но грубее. С какой бы силой ни дул ветер, его лепестки не шевелились.
В ямке под этим кактусом жила ящерица. Длиной она была сантиметров двенадцать и имела клинообразную головку, из которой вылетал тонкий раздвоенный язык. Она с трудом добывала тут пропитание охотой на мух, отлучившихся от груды консервных банок.
Ящерица была самолюбива и раздражительна, и наблюдения за ней очень забавляли Гомера. Когда ее коварная засада срывалась, ящерица обиженно топталась на коротких лапках и раздувала горло. Окраской она сливалась с кактусами, но, выбежав к жестянкам, где паслись мухи, она делалась очень заметной. Она часами неподвижно сидела на кактусе, потом, потеряв терпение, кидалась к жестянкам. Мухи замечали ее сразу, и после нескольких неудачных бросков она сконфуженно шмыгала на свой пост.
Гомер был на стороне мух. Когда одна из них, чересчур разлетавшись, приближалась к кактусу, он про себя молился, чтобы она пронеслась дальше или повернула обратно. Если она садилась и ящерица начинала подкрадываться, он следил за ними, затаив дыхание и до последней секунды надеясь, что муху что-нибудь вспугнет. Но как бы ни желал он мухе избавления, о вмешательстве он не помышлял и старался не шевельнуться, не проронить ни звука. Бывало, что ящерица промахивалась. Тогда Гомер радостно смеялся.
Солнце, ящерица и дом заполняли его время почти целиком. Но был он счастлив или нет — сказать трудно. Вероятно, ни то, ни другое, так же как растению не свойственно ни то, ни другое. Правда, его беспокоили воспоминания, а у растения их нет, но после первой тяжелой ночи они улеглись.
11
Так он жил почти месяц, как вдруг, когда он собирался готовить второй завтрак, в дверь позвонили. Он открыл и увидел на крыльце человека, в одной руке державшего ящик с образцами, а в другой — котелок. Гомер поспешно захлопнул дверь.
Звонок продолжал звонить. Он высунул голову в ближайшее к двери окно, чтобы прогнать пришельца, но тот очень вежливо поклонился и попросил напиться. Гомер увидел, что человек стар и утомлен, и подумал, что вид у него безобидный. Он вынул из холодильника бутылку воды, потом открыл дверь и пригласил незнакомца.
— Разрешите представиться — Гарри Гринер, — объявил тот нараспев, делая ударение на каждом втором слоге.
Гомер подал ему стакан воды. Он выпил залпом и налил себе еще.
— Весьма признателен, — произнес он с церемонным поклоном. — Удивительно освежает.
Гомер изумился, когда гость отвесил еще один поклон, сделал несколько быстрых па жиги и катнул котелок по руке. Котелок упал. Он нагнулся, чтобы поднять его, судорожно выпрямился, словно его пнули сзади, и с горестным видом потер поясницу.
Сообразив, что его забавляют, Гомер засмеялся.
Гарри поклоном поблагодарил его, но что-то было неладно. Он, видимо, перенапрягся. Лицо его побелело, он дергал воротник.
— Минутное недомогание, — пробормотал Гарри, тоже не понимая, притворяется он или ему плохо.
— Присядьте, — сказал Гомер.
Однако номер еще не кончился. Изобразив мужественную улыбку, Гарри сделал несколько неверных шагов к кушетке и повалился на пол. Он с негодованием осмотрел ковер и, будто бы обнаружив предмет, о который споткнулся, отшвырнул его ногой. После этого он доковылял до кушетки и сел, со свистом выпустив воздух, как надувной шар.
Гомер опять налил ему воды. Гарри попытался встать, но Гомер удержал его и заставил выпить сидя. Он осушил стакан, как и первые два, быстрыми глотками, потом утер рот платком, изображая усача, который только что выпил кружку пенистого пива.
— Вы чрезвычайно добры, сэр, — сказал он. — Но не тревожьтесь, когда-нибудь я воздам вам сторицей.
Гомер кивнул.
Гарри извлек из кармана жестяную баночку и протянул ему.
— С поклоном от фирмы, — объявил он. — В этой коробке «Волшебный растворитель», современное полирующее средство par excellence, средство бесподобное и несравненное, употребляемое всеми кинозвездами…
Он оборвал свою похвальную речь и заливисто рассмеялся.
Гомер взял банку.
— Спасибо, — сказал он, пытаясь выразить лицом признательность. — Сколько я вам должен?
— Обычная цена, розничная цена — пятьдесят центов, но вам, в виде исключения, я уступлю ее за двадцать пять — по оптовой цене, которую я плачу фабрике.
— Двадцать пять? — сказал Гомер, в котором привычка одержала верх над робостью. — За двадцать пять в магазине я могу купить вдвое больше.
Гарри знал, с кем имеет дело.
— Берите, берите даром, — презрительно предложил он.
Маневр поставил Гомера в положение обороняющегося.
— Понимаю, ваша паста, должно быть, гораздо лучше.
— О, нет, — произнес Гарри, словно отметая взятку. — Оставьте ваши деньги при себе. Я в них не нуждаюсь.
Он рассмеялся — на этот раз с горечью.
Гомер вытащил мелочь и протянул ему.
— Возьмите, пожалуйста. Вы нуждаетесь — я вижу. Я куплю две банки.
Теперь Гарри мог брать его голыми руками. Он принялся хохотать на разные лады (все — театральные), как музыкант, настраивающий скрипку перед концертом. Наконец он подобрал нужный тон и дал себе волю. Это был хохот жертвы.
— Перестаньте, пожалуйста, — попросил Гомер.
Но Гарри не мог перестать. Ему и вправду было плохо. Последняя колодка, удерживавшая его на скате самооплакивания, была выбита, и он скользил под уклон, набирая скорость с каждой секундой. Он вскочил на ноги и начала играть Гарри Гринера, бедного Гарри, честного Гарри, благонамеренного, скромного, достойного Гарри, хорошего мужа, любящего отца, верного друга, примерного христианина.
Гомер не оценил представления. Он был в ужасе и раздумывал, не позвонить ли в полицию. Но ничего не сделал. Только поднял руку, чтобы остановить Гарри.
В конце пантомимы Гарри застыл, откинув голову и схватившись за горло, словно в ожидании занавеса. Гомер налил ему еще один стакан воды. Но представление не кончилось. Гарри поклонился, взмахнул шляпой, прижал ее к сердцу и снова принялся за свое. В этот раз его хватило ненадолго, он стал задыхаться и ловить ртом воздух. Вдруг в нем что-то лопнуло, как в заводной игрушке, которую перекрутили, и он начал выдавать весь свой репертуар подряд. Работа была чисто мускульная, как пляска святого Витта. Он танцевал жигу, жонглировал шляпой, изображал, что его пинают, спотыкался, сам себе пожимал руку. Он прокрутил все свои номера в сплошной головокружительной судороге, потом отлетел к кушетке и рухнул.
Он лежал на кушетке, закрыв глаза, и грудь его вздымалась. Он был озадачен не меньше Гомера. Сегодня он повторил свое антре уже четыре или пять раз, и ничего подобного не случалось. Он и вправду заболел.
— У вас был припадок, — сказал Гомер, когда Гарри открыл глаза.
Шли минуты; Гарри полегчало, и к нему вернулась уверенность. Он прогнал все мысли о болезни и до того воспрял духом, что даже поздравил себя с лучшим выступлением за всю карьеру. Этого здорового обормота, который склонился над ним, можно наколоть на пятерку.
— Есть у вас что-нибудь спиртное? — проговорил он слабым голосом.
Бакалейщик прислал на пробу бутылку портвейна, и Гомер пошел за ней. Он налил полстакана, подал Гарри, и тот выпил вино маленькими глотками, гримасничая, словно принимал микстуру.
Медленно выговаривая слова, будто от сильной боли, он попросил Гомера внести его ящик с образцами.
— Он на крыльце. Его могут украсть. В эти баночки с пастой вложена большая часть моего скромного капитала.
Выполняя его просьбу, Гомер вышел и увидел у обочины тротуара девушку. Это был Фей Гринер. Она смотрела на дом.
— Здесь мой отец? — крикнула она.
— Мистер Гринер?
Она топнула ногой.
— Скажите ему, чтоб выкатывался. Целый день его, что ли, ждать?
— Ему плохо.
Девушка отвернулась, ничем не показав, что она услышала или приняла к сведению его слова.
Гомер внес в дом ящик с образцами. Когда он вошел в комнату, Гарри как раз наливал себе вино.
— Вполне приличная штука, — сказал он, причмокивая. — Вполне приличная… ничего, ничего. Извините за бесцеремонный вопрос — сколько вы платите за бу…
Гомер перебил его. Он не любил пьющих и хотел спровадить гостя.
— Ваша дочь на улице, — произнес он со всей твердостью, на какую был способен. — Она вас ждет.
Гарри рухнул на кушетку и тяжело задышал. Он опять притворялся.
— Не говорите ей, — прохрипел он. — Не говорите ей, как плох ее старый папочка. Она не должна этого знать.
Гомер был потрясен его лицемерием.
— Вам уже легче, — проговорил он как можно более холодно. — Почему бы вам не отправиться домой?
Гарри улыбнулся, чтобы показать, как он уязвлен и обижен бессердечным отношением хозяина. Но когда Гомер ничего не ответил, улыбка видоизменилась и выразила безграничное мужество. Он осторожно поднялся на ноги, постоял минуту прямо, потом начал покачиваться от слабости и вновь опрокинулся на кушетку.
— Мне дурно, — простонал он.
Он опять был удивлен и напуган. Ему было дурно.
— Позовите дочь, — прохрипел он.
Она стояла у обочины спиной к дому. Когда Гомер ее окликнул, она круто обернулась и побежала к нему. Он посмотрел на нее, потом вошел, не закрыв за собой дверь.
Фей влетела в комнату. Не обращая внимания на Гомера, она подбежала к кушетке.
— Ну, чего еще? — крикнула она.
— Милая дочь, — сказал он. — Я очень сильно занемог, и этот джентльмен был так отзывчив, что позволил мне здесь полежать.
— У него было что-то вроде припадка.
Она обернулась к Гомеру так резко, что он вздрогнул.
— Здравствуйте, — сказала она, протягивая руку.
Он робко ее пожал.
— Очень рада, — сказала она, когда он что-то промямлил.
Она круто обернулась к отцу.
— Сердце, — сказал Гарри. — Встать не могу.
Небольшой номер, исполняемый отцом при продаже пасты, был
ей известен, и припадок в него не входил. Когда она вновь повернулась к Гомеру, вид у нее был трагический. Ее гордо откинутая голова поникла.
— Прошу вас, разрешите ему тут полежать, — сказала она.
— Да, конечно.
Гомер указал ей на кресло и поднес спичку к ее сигарете. Он старался не глазеть на нее, но тут как раз воспитанность была ни к чему. Фей любила, чтобы на нее глазели.
Она показалась ему немыслимо прекрасной. Но еще больше его поразила бившая в ней через край жизнь. Она была тугая и звенящая. Она сияла, как новая ложка.
Хотя ей шел восемнадцатый год, она была одета как двенадцатилетняя девочка — в белое бумажное платье с синим матросским воротником. На длинных голых ногах были синие сандалии.
— Мне очень неловко, — сказала она, когда Гомер снова посмотрел на отца.
Он жестом дал ей понять, что это — пустяки.
— Бедолага, сердце у него никудышное, — продолжала она. — Сколько раз я умоляла его показаться специалисту — но вы, мужчины, все одинаковы.
— Да, ему надо сходить к врачу, — сказал Гомер.
Ее жеманность и ненатуральный тон привели его в замешательство.
— Который час? — спросила она.
— Около часу.
Она вдруг вскочила и схватилась за голову, зарыв пальцы в волосах, отчего они приподнялись на макушке шелковистой копенкой.
— Ах, — грациозно выдохнула она, — а у меня в ресторане назначено свидание.
Все еще держась за волосы, она повернула торс, не сдвинув ног, так что ее тесное платьице натянулось еще туже, обрисовав изящно выгнутые ребра и маленький, с ямкой, животик. Это искусное телодвижение, как и все другие, было настолько бессмысленным и механическим, что она оказалась даже не манерной актрисой, а танцовщицей.
— Вы любите салат с лососиной? — отважился спросить Гомер.
— Салат с лососи-иной?
Она как будто повторила вопрос своему желудку. Ответ был — да.
— И много майонезу, да? Обожаю.
— Я начал готовить ко второму завтраку. Сейчас доделаю.
— Давайте я помогу.
Они взглянули на Гарри, который как будто уснул, и пошли на кухню. Пока он открывал банку с лососиной, она уселась верхом на стул, сложив руки на спинке и опершись на них подбородком. Когда он оглядывался на нее, она ему интимно улыбалась и встряхивала своими белыми шелковистыми волосами — сначала вперед, потом назад.
Гомер был взволнован, и его руки действовали быстро. Вскоре большая ваза салата была готова. Он расстелил лучшую скатерть и выставил лучший фарфор и серебро.
— От одного вида слюнки текут, — сказала она.
Сказано это было так, как будто слюнки у нее текли при виде Гомера, — и он засиял. Но к еде она приступила раньше, чем он сел. Она намазала ломоть хлеба маслом, посыпала сверху сахаром и откусила большой кусок. Потом шлепнула на лососину ложку майонеза и принялась за дело. Гомер совсем уже было приготовился сесть, но тут она попросила чего-нибудь попить. Он налил ей стакан молока и стоял, наблюдая за ней, как официант. Он не замечал ее бесцеремонности.
Когда она умяла салат, он принес ей большое красное яблоко. Фрукт она еле медленнее, деликатно его обкусывая и оттопырив согнутый мизинец. Покончив с яблоком, она отправилась в комнату, и Гомер пошел за ней.
Гарри лежал на диване, вытянувшись в прежней позе. Тяжкое полуденное солнце било ему прямо в лицо. Но Гарри не чувствовал его затрещин. Он был занят кинжальной болью в груди. Он был занят собой настолько, что даже перестал придумывать, как наколоть здорового обормота.
Гомер задернул штору, чтобы защитить его голову от солнца. Гарри и этого не заметил. Он думал о смерти. Фей склонилась над ним. Из-под опущенных ресниц он видел, что она ждет от него успокоительного жеста. Он воздержался. Он изучил трагическое выражение на ее лице и остался недоволен. В серьезные минуты, подобные этой, ее топорная грусть выглядела оскорбительно.
— Папочка, скажи что-нибудь, — взмолилась она.
Сама того не сознавая, она играла у него на нервах.
— Это что еще, к свиньям, за балаган? — рявкнул он.
Его внезапная ярость испугала Фей, и она, вздрогнув, выпрямилась. Он не хотел смеяться, но короткий лай вылетел из горла раньше, чем он успел с собой совладать. Он с тревогой ждал, что теперь будет. Хуже не стало, и он засмеялся опять. Начал он осторожно, но постепенно разошелся. Он хохотал, закрыв глаза, и по лбу его тек пот. Фей знала только один способ его остановить: сделать что - нибудь столь же ненавистное ему, как ей — его хохот. Она запела:
Елки-палки! Чьи это там мигалки?Она приплясывала, двигая ягодицами и дергая головой из стороны в сторону.
Гомер был изумлен. Он чувствовал, что сцена, разыгравшаяся перед ним, отрепетирована. Он не ошибался. Их самые ожесточенные ссоры чаще всего происходили именно так — он смеялся, она пела:
Елки-палки! Чьи это глаза? Как играют! Сердце обжигают! Как…Когда замолчал Гарри, она тоже замолчала и упала в кресло. Но Гарри только собирался с силами перед решительным штурмом.
Он начал опять. Этот новый смех не был уничижительным, он был ужасным. Когда Фей была ребенком, Гарри наказывал ее этим смехом. Тут он достигал вершин своего мастерства. Один режиссер всегда вызывал Гарри с этим номером, когда снималась сцена в сумасшедшем доме или в замке с привидениями.
Он начинался резким звонким треском, напоминающим треск горящих дров, потом, постепенно набирая звучность, переходил в чистый лай и снова утихал, сменяясь похабным квохтаньем. После короткой паузы он взвивался до лошадиного ржания и еще выше, переходя в механический визг.
Фей беспомощно слушала, склонив голову набок.
Вдруг она тоже захохотала — невольно, просто чтобы заглушить звук.
— Гадина, — завопила она.
Она подскочила к кушетке, схватила его за плечи и начала трясти, чтобы он замолчал.
Он продолжал хохотать.
Гомер двинулся к ней, словно желая ее оттащить, но сробел и не решился до нее дотронуться. Она была такая голая под легким платьицем.
— Мисс Гринер, — взмолился он, причем его ладони исполняли какой-то сложный танец. — Прошу вас, прошу…
А Гарри уже не мог остановиться. Он схватился за живот, но хохот извергался из него. Снова началась боль.
Размахнувшись так, словно в руке был молоток, Фей ударила его кулаком в рот. Ударила только раз. Он успокоился и затих.
— Я не могла иначе, — сказала она Гомеру, когда он увел ее за руку.
Он посадил ее в кухне на стул и закрыл дверь. Она еще долго всхлипывала. Он стоял позади нее и беспомощно смотрел на мерно вздрагивающие плечи. Несколько раз его руки потянулись утешить ее, но он их обуздал.
Когда она выплакалась, он дал ей салфетку, и она утерла лицо. Салфетка была измазана ее румянами и тушью.
— Испортила салфетку, — сказала она, отвернувшись. — Простите, пожалуйста.
— Она была грязная, — ответил Гомер.
Фей вынула из кармана пудреницу и посмотрелась в зеркальце.
— Пугало.
Она попросила разрешения сходить в ванную, и Гомер показал ей дорогу. Потом он на цыпочках вернулся в комнату — посмотреть, как Гарри. Старик дышал шумно, но ровно, и казалось, он спокойно спит. Гомер, не потревожив его, подсунул ему под голову подушку и ушел на кухню. Он зажег газ, поставил кофейник и сел ждать Фей. Он услышал, что она зашла в комнату. Через несколько секунд она вернулась на кухню.
Она виновата потопталась в дверях.
— Хотите кофе?
Не дожидаясь ответа, он налил чашку и подвинул к ней сахар и сливки.
— Я не могла иначе, — сказала она. — Просто не могла.
— Ничего.
Желая показать, что оправдываться не нужно, он начал возиться в раковине.
— Нет, правда, — настаивала она. — Он нарочно смеется, чтобы меня довести. А я не могу, когда он смеется. Просто не могу.
— Да.
— Он ненормальный. Мы, Гринеры, все ненормальные.
Последнюю фразу она произнесла так, словно ненормальность
была заслугой.
— Он плохо себя чувствует, — заметил Гомер, оправдываясь за нее. — Может быть, у него солнечный удар?
— Нет, он ненормальный.
Гомер поставил на стол тарелку имбирного печенья, и она стала есть его со второй чашкой кофе. Нежный хруст, который она при этом издавала, пленил Гомера.
На несколько минут все стихло: Гомер, стоявший у раковины, оглянулся — не случилось ли чего. Она курила сигарету, по-видимому, в глубоком раздумье.
Он попробовал ее развеселить.
— О чем вы думаете? — натянуто осведомился он и почувствовал себя глупо.
Она вздохнула, чтобы показать, как мрачны и безнадежны ее мысли, но не ответила.
— Ручаюсь, вам хочется сладкого. В доме нет ничего, но я могу позвонить в аптеку, и они сейчас же пришлют. А может быть, мороженого?
— Нет, спасибо большое.
— Это совсем не трудно.
— Отец ведь, в сущности, не торговец, — сказала она вдруг. — Он актер. Я актриса. Мать у меня тоже была актрисой — танцовщицей. Театр у нас в крови.
— Я мало бывал в театре. Я…
Он умолк, заметив, что ей не интересно.
— Когда-нибудь я стану звездой, — объявила она, словно вызывая его на спор.
— Конечно, вы…
— В этом — моя жизнь. Ничего на свете мне не нужно — только это.
— Это хорошо — знать, что тебе нужно. Я раньше был бухгалтером в гостинице, но…
— А если не стану, я покончу с собой.
Она встала, поднесла руки к волосам, широко раскрыла глаза и нахмурилась.
— Я не очень часто хожу в театр, — начал оправдываться он, подвигая к ней печенье. — У меня глаза болят от света.
Она засмеялась и взяла крекер.
— Я растолстею.
— Ну что вы.
— Говорят, в будущем году в моде будут полные женщины. Вы верите? Я — нет. Это просто Мей Уэст рекламируют.
Он согласился с ней.
Она говорила и говорила без конца — о себе и о киношных делах. Он смотрел на нее, но не слушал, и всякий раз, когда она повторяла вопрос, требовавший ответа, он молча кивал.
Руки начали беспокоить Гомера. Он тер их о ребро стола, чтобы успокоить зуд, но это только раздражало их. Когда он сцепил руки за спиной, напряжение стало невыносимым. Руки вспухли и горели. Под предлогом мытья посуды он сунул их в раковину под холодный кран.
Когда в дверях появился Гарри, Фей все еще говорила. Он бессильно прислонился к косяку. Нос у него был очень красен, но в лице — ни кровинки, и казалось, костюм стал ему велик. Тем не менее он улыбался.
К удивлению Гомера, они встретились как ни в чем не бывало.
— Ну как, пап, отошел?
— Бодр и весел, детка. Здоров, говорит, как бык, крепок, как дуб, и вообще молодец, как соленый огурец.
Его гнусавый выговор — в подражание прибауточнику из глухомани — вызвал у Гомера улыбку.
— Вы не хотите поесть? — спросил он. — Может быть, стакан молока?
— Да, перекусить бы не мешало.
Фей подвела его к столу. Он пытался скрыть свою слабость, карикатурно изобразив шаркающую походку негра.
Гомер открыл банку сардин и нарезал хлеба. Гарри с преувеличенной жадностью зачмокал губами, но ел медленно и с трудом.
— Жизнь! Лучше бы надо, да некуда, — сказал он, закончив.
Он развалился на стуле и выудил из жилетного кармана мятый
окурок сигары. Фей поднесла ему спичку, и он игриво пустил дым ей в лицо.
— Папа, пора идти, — сказала она.
— Сей момент, дочка. — Он повернулся к Гомеру: — Знатный у вас домишко. Женат?
Фей попыталась его остановить:
— Па!
Он не обращал внимания.
— Холостой, э? — Да.
— Ну-ну. Такой парень…
— Я сюда приехал подлечиться, — нашел нужным сообщить Гомер.
— Не отвечайте на его вопросы, — вмешалась Фей.
— Что ты, что ты, дочка. Я же по-доброму спрашиваю. Я ничего обидного не сказал.
Он все еще изъяснялся с преувеличенно деревенским выговором. Он плюнул воображаемой слюной в воображаемую плевательницу и сделал вид, что перекидывает табачную жвачку из-за щеки за щеку.
Гомеру эта пантомима показалась смешной.
— Одному, в таком большом доме… мне было бы скучно и жутко, — продолжал Гарри. — Вас тут скука не заедает?
Гомер посмотрел на Фей, словно прося совета. Она досадливо нахмурилась.
— Нет, — сказал он, упреждая повторение неприятного вопроса.
— Нет? Ну, прекрасно.
Гарри пустил к потолку несколько колец дыма и критически наблюдал за их поведением.
— А вы не думали взять жильцов? — спросил он. — Каких-нибудь симпатичных, уживчивых людей. И деньги лишние не помешают, и в доме будет уютней.
Гомер был возмущен, но под возмущением копошилась другая мысль — очень волнующая. Он не знал, что сказать.
Фей неправильно истолковала его замешательство.
— Па, кончай! — прикрикнула она, не дав Гомеру ответить. — Ты и так тут надоел.
— Уж и поболтать нельзя, — возразил он с невинным видом. — Уж и язык нельзя почесать.
— Ну ладно, поднимайся, — отрезала она.
— Куда вам торопиться? — сказал Гомер.
Он хотел добавить что-нибудь посильнее, но не отважился. Руки его оказались смелее. Когда Фей на прощание подала ему руку, его рука сжалась и не хотела отпускать.
Фей посмеялась этой теплой настойчивости.
— Миллион благодарностей, мистер Симпсон, — сказала она. — Вы были очень добры. И за завтрак спасибо, и что папе помогли.
— Мы очень признательны, — подхватил Гарри. — Вы сегодня сделали христианское дело. Господь вас вознаградит.
Он вдруг сделался очень набожным.
— Загляните к нам как-нибудь, — сказала Фей. — Мы тут неподалеку, в меблированных комнатах Бернардино — это кварталах в пяти от каньона. Такой большой желтый дом.
Гарри встал, но вынужден был прислониться к столу, чтобы не упасть. Фей и Гомер взяли его под руки и вывели на улицу. Гомер поддерживал его, а Фей пошла, чтобы подогнать машину, стоявшую на другой стороне улицы.
— Мы совсем забыли про ваш заказ на «Волшебный растворитель», — сказал Гарри, — бесподобное и несравненное средство для полировки.
Гомер нашел доллар и сунул ему в руку. Гарри быстро спрятал деньги и принял деловитый вид.
— Товар я доставлю завтра.
— Да, пожалуйста, — сказал Гомер. — Мне правда нужно средство для чистки серебра.
Гарри разозлился — ему было обидно, что этот тюфяк ему покровительствует. Он попытался восстановить подобающие, как ему казалось, взаимоотношения, отвесив иронический поклон, но не смог довести его до конца и начал мять себе кадык. Гомер помог ему влезть в машину, и он кулем опустился на сиденье рядом с Фей.
Машина тронулась. Фей оглянулась и помахала Гомеру, а Гарри даже не повернул головы.
12
Остаток дня Гомер провел в сломанном шезлонге. Ящерица сидела на кактусе, но он мало интересовался ее охотой. Мысли его были заняты руками. Они дрожали и дергались, словно им снились кошмары. Чтобы остановить их, он их сцепил. Пальцы переплелись, как бедра в миниатюре. Он растащил их и сел на руки.
Шли дни, и оттого, что он не мог забыть Фей, ему стало страшно. Интуитивно он чувствовал, что целомудрие — его единственная защита, что, как панцирь черепахе, оно служит ему и броней и хребтом. Он не мог сбросить его даже в мыслях. Если он сделает это, он погиб.
Он не заблуждался. Есть люди, которые вожделеют частями. У них горит лишь сердце или ум, и то не целиком. Еще удачливее те, кто подобен волоску электрической лампы. Они раскалены добела, но не сгорают. А с Гомером — это было бы все равно, что обронить искру на сеновале. Он спасся в истории с Ромолой Мартин, но второй раз спастись ему бы не удалось. Прежде всего, тогда у него была работа в гостинице — изо дня в день и на целый день занятие, которое защищало его тем, что утомляло; теперь же у него не было ничего.
Эти мысли испугали его, и он кинулся в дом, надеясь оставить их, как оставляют перчатки. Он вбежал в спальню и бросился на кровать. Он был так наивен, что думал, будто во сне мыслей нет.
Но беспокойство отняло у него даже эту иллюзию — уснуть он не мог. Он закрыл глаза и попробовал нагнать на себя сонливость. Переход ко сну, прежде не требовавший усилий, превратился в какой-то длинный сверкающий туннель. Сон бал в дальнем конце — размытое пятнышко тени посреди ослепительного блеска. Он не мог бежать — только полз к черной крапинке. Он уже почти отчаялся, но выручила привычка. Она сокрушила сверкающий туннель и швырнула его во тьму.
Проснулся он без труда. Он попробовал снова заснуть, но на этот раз даже не мог найти туннель. Пробуждение было полное. Он попытался думать о том, как он устал, но усталости не было. Со времен Ромолы Мартин он ни разу не чувствовал себя таким живым.
За окном все еще распевали птицы, но с перерывами, то и дело умолкая, словно им грустно было примириться с уходом еще одного дня. Ему почудилось шуршание шелка, но это лишь ветер шумел в листве. Как пусто было в доме! Он попытался заполнить пустоту пением:
Скажи, ты видишь в проблесках зари…Других песен он не знал. Он подумал, что надо купить патефон или радио. Но понимал, что не купит ни того, ни другого. Это очень опечалило его. Печаль была приятная, сладкая и мирная.
Но этого ему было мало. В нетерпении он стал ворошить свою печаль, чтобы она стала острее, то есть еще приятнее. Он получал по почте проспекты бюро путешествий и теперь стал думать о поездках, которых никогда не совершит. Мексика была всего в нескольких сотнях километров. Ежедневно отплывали суда на Гавайи.
Незаметно — он даже помрачнеть не успел — печаль превратилась в муку. Он снова стал страдальцем. Он заплакал.
Слезы помогают тем, у его еще есть надежда. Выплакавшись, они чувствуют облегчение. Но лишенным надежды, как Гомер, — тем, чье страдание исконно и неизбывно, — проку от слез нет. У них ничего не меняется. Они обычно знают это, но удержаться от слез не могут.
Гомеру повезло. Он уплакался до того, что уснул.
Но утром он проснулся опять с мыслью о Фей. Он принял ванну, позавтракал и сел в свой шезлонг. Во второй половине дня он решил пройтись. Дорога у него была только одна и вела мимо комнат Сан-Бернардино.
Где-то, во время своего долгого сна, он капитулировал. Подойдя к дому, он вгляделся в освещенный желтым светом коридор, прочел на почтовом ящике карточку Гринера, повернулся и пошел домой. На другой вечер он повторил поход, захватив букет и бутылку.
13
Состояние Гарри Гринера не улучшалось. Он лежал в постели, скрестив на груди руки, и глядел в потолок.
Тод навещал его почти каждый вечер. Обычно там бывали и другие гости. Иногда — Эйб Кьюсик, иногда — сестры Ли, Анна и Аннабель, выступавшие со своим номером в начале века, а чаще всего — четверо Джинго, семья гастролирующих эскимосов из Пойнт-Берроу, Аляска.
Если Гарри спал или были другие посетители, Фей обычно приглашала Тода в свою комнату, поговорить. Несмотря на все ее рассуждения, его интерес к ней возрастал и она волновала его по-прежнему. В любой другой девушке подобная манерность показалась бы ему невыносимой. Но ужимки Фей были до такой степени ненатуральны, что приобретали в его глазах очарование.
Находиться с ней было все равно что находиться за кулисами во время курьезного любительского спектакля. В зале эти глупые реплики и несуразные положения заставили бы его ерзать от досады, но оттого, что он видел потных рабочих сцены, проволоку, на которой держалась картонная беседка, облепленная бумажными цветами, он принимал все и болел за успех спектакля.
Он нашел ей и другое оправдание. Нередко отдавая себе отчет в своем позерстве, она ломалась лишь потому, казалось Тоду, что не умела вести себя проще или искреннее. Она была актрисой, учившейся на плохих образцах в плохой школе.
Тем не менее Фей была не лишена критической жилки и иногда умела распознать нелепое. Он часто видел, как она смеется над собой. Больше того — ему случалось видеть, как она смеется над своими мечтами.
Однажды вечером разговор зашел о том, чем она занимает себя, когда не снимается в массовках. Она сказала ему, что часто проводит целые дни, сочиняя истории. Она сказала это со смехом. Он стал ее расспрашивать, и она охотно разъяснила свой метод.
Поймав по радио музыку, она ложилась на кровать и закрывала глаза. Она располагала большим набором историй. Приведя себя в надлежащее настроение, она принималась перебирать их в уме, как карты, сбрасывая одну за другой, пока не находила нужной. Бывали дни, когда она просматривала всю колоду и ни на чем не могла остановиться. В таких случаях она отправлялась на Вайн-стрит пить содовую с мороженым или, если не было денег, снова тасовала колоду, заставляя себя что-то выбрать.
Признав, что метод у нее слишком механический и не может дать идеальных результатов и что лучше предаваться мечтам непроизвольно, она сказала, что любая мечта лучше никакой мечты, а голодному и опенки — мясо. Она выразилась не совсем так, но смысл ее слов он понял. Ему показалось знаменательным, что, говоря это, она улыбалась не смущенно, а критически. Этим, однако, ее критические способности исчерпывались. Она смеялась только над механикой.
Первый раз ему довелось услышать одну из ее фантазий поздно ночью, у нее в спальне. За полчаса до этого она постучала к нему в дверь и позвала на помощь — ей показалось, что Гарри умирает. Ее разбудило шумное дыхание отца; решив, что это предсмертный хрип, она очень напугалась. Тод надел купальный халат и спустился с ней по лестнице.
Когда они вошли в комнату, Гарри, видимо, уже откашлялся и дышал спокойно.
Она пригласила Тода к себе, покурить. Она села на кровать, и он сел рядом. На Фей была пижама, а поверх белый мохнатый халат, который ей очень шел.
Он хотел вымолить у нее поцелуй, но боялся — не того, что она откажет, а того, что постарается сделать его бессмысленным. Желая подольститься к ней, он сказал что-то о ее внешности. Сделал он это весьма неуклюже. На открытую лесть он был неспособен, а пустившись в околичности, увяз. Она не слушала, и он замолк, чувствуя себя идиотом.
— У меня прекрасная идея, — вдруг сказала она. — Как заработать кучу денег.
Он снова попытался ей польстить. На этот раз — изобразив на лице глубокий интерес.
— Вы образованный человек, — сказал она. — Вот… А у меня есть прекрасные идеи для фильмов. Вам только надо их расписать, а потом мы продадим их студиям.
Он согласился, и она изложила свой замысел. Он был очень туманным, покуда дело не дошло до его предполагаемых результатов, — и тут она стала вдаваться в детали. Когда они продадут первый сценарий, она расскажет ему второй. У них будут вагоны, вагоны денег. Играть она, конечно, не бросит, даже если очень преуспеет как писатель, потому что она рождена быть актрисой.
В ходе рассказа он понял, что она изготовляет новую мечту в дополнение к своей и так уже толстой колоде. Наконец, когда все деньги были истрачены, он, стараясь, чтобы в голосе не проскользнуло и намека на иронию, попросил Фей изложить идею, которую ему предстояло «расписать».
На стене, в ногах кровати, висела большая фотография — видимо, реклама фильма «Тарзан», из фойе какого-нибудь кинотеатра. На ней красивый молодой человек с великолепной мускулатурой, одетый в узкую набедренную повязку, с жаром обнимал тонкую девушку в изорванной амазонке. Пара стояла на проталине в джунглях, а вокруг извивались огромные ползучие растения, обсыпанные мясистыми орхидеями. Когда она изложила свой сюжет, Тод понял, что он был навеян этой фотографией.
Девушка совершает круиз по Южным Морям на отцовской яхте. Она помолвлена с русским графом; он высокий, худой и старый, но обладает прекрасными манерами. Он тоже находится на яхте и все время умоляет ее назначить день свадьбы. Но она избалована — и не назначает. Может быть, она обручилась с ним назло другому мужчине. Она увлекается молодым матросом, который, конечно, ей не пара, но очень красив. Она флиртует с ним, потому что ей скучно. Матрос не желает быть игрушкой, несмотря на все ее богатство, и говорит, что подчиняется только капитану, а она пусть идет к своему иностранцу. Она жутко злится и грозится уволить его, а он только смеется. Как его уволишь посреди океана? Она влюбляется в него — хотя, может быть, сама этого не понимает, — потому что он — первый мужчина, не подчинившийся ее капризу, и потому, что он так красив. Налетает сильная буря, и яхта разбивается около острова. Все утонули, но ей удается доплыть до берега. Она строит себе шалаш из сучьев и питается рыбой и фруктами. Дело происходит в тропиках. Однажды утром, когда она голая купается в речке, ее хватает большая змея. Она борется, но змея слишком сильная, и дело пахнет керосином. Но матрос, который следил за ней из кустов, бросается на выручку. Он дерется за нее со змеей и побеждает.
Тоду предстояло развить это. Он спросил, чем, по ее мнению, должна кончаться картина, но Фей как будто уже потеряла к ней интерес. Он тем не менее настаивал.
— Ну что… он, конечно, женится на ней, и их спасают. То есть сначала их спасают, а потом они женятся. Может быть, окажется, что он богатый молодой человек, который стал матросом просто из любви к приключениям, или что-нибудь в этом роде. Это уж вам легко будет разработать.
— Ослепительно, — с серьезным видом сказал Тод, глядя на ее влажные губы и крохотный кончик языка, беспрестанно двигавшийся между ними.
— У меня таких сотни.
Он не ответил, и поведение ее изменилось. Излагая сюжет, она была полна внешнего оживления, ее лицо и руки увлеченно сопровождали рассказ пояснительными гримасками и жестами. Теперь же ее возбуждение сосредоточилось, ушло вглубь; игра стала внутренней. Тод подумал, что она, наверно, перебирает свою колоду и скоро выложит перед ним еще одну карту.
Он часто видел ее такой, но до сих пор не понимал, в чем дело. Эти историйки, эти маленькие грезы — они и придавали ее движениям такую необычайную самобытность и таинственность. Казалось, она вечно бьется в их мягких путах — будто выдирается из болота. Глядя на нее, он почему-то был уверен, что у губ ее — соленый вкус крови и что она должна ощущать упоительную слабость в ногах. И хотелось не вызволить ее из топи, а затолкать поглубже в теплую трясину и там держать.
Он выразил свой позыв тихим мычанием. Если бы у него хватило смелости броситься на нее. Изнасиловать — меньшим тут не обойдешься. Примерно то же он чувствовал, когда сжимал в кулаке яйцо. И не потому, что она была хрупкой или казалась хрупкой. Нет. Безмятежная, себе довлеющая цельность яйца — вот что искушало Тода раздавить ее.
Но он ничего не сделал, и Фей снова заговорила:
— Есть еще одна прекрасная идея — сейчас расскажу. Может, вам даже лучше начать с нее. Это из закулисной жизни, в нынешнем году таких много снимают.
Она рассказала историю про девушку из кордебалета, которая становится знаменитой в тот вечер, когда заболевает премьерша. Это была избитая вариация на тему Золушки, но по методу она отличалась от истории в Южных Морях. Хотя сами описываемые события имели характер чуда, описание их было реалистическим. Эффект достигался примерно такой же, как у художников средневековья, которые разрабатывали сюжеты, подобные воскрешению Лазаря или хождению Христа по водам, добиваясь сугубой реалистичности в каждой детали. Фей, по-видимому, как и они, полагала, что фантазию можно сделать правдоподобной, замешав ее на обыденщине.
— Эта идея мне тоже нравится, — сказал он, когда она кончила.
— Обдумайте их и сделайте ту, у которой больше шансов.
Его больше не задерживали; если он сейчас же не начнет действовать, возможность будет упущена. Он наклонился к ней, но она поняла его намерения и встала. Она по-дружески грубо схватила его под руку — теперь они были компаньоны — и проводила к двери.
В коридоре, когда она поблагодарила его за то, что он пришел, и извинилась за беспокойство, он сделал еще одну попытку. Она как будто немного размякла, и он потянулся к ней. Она поцеловала его довольно охотно, но когда он попробовал распространить ласки, вырвалась.
— Не балуй, — засмеялась она, — мамка нашлепает.
Он пошел к лестнице.
— Спокойной ночи, — крикнула она вслед и снова засмеялась.
Тод ее почти не слышал. Он думал о набросках, сделанных с
нее, и о том, как нарисует ее сейчас, вернувшись к себе в комнату.
В «Сожжении Лос-Анджелеса» Фей — обнаженная девушка на переднем плане слева, а за ней гонится группа мужчин и женщин, отделившихся от основной толпы. Одна из женщин нацелилась в нее булыжником. Фей бежит, закрыв глаза, и на губах ее — странная полуулыбка. Хотя лицо ее полно мечтательного покоя, тело, напрягая все силы, летит вперед с предельной быстротой. Этот контраст можно объяснить лишь облегчением, которое приносит безоглядное бегство, — вроде того, как дичь, затаившись на несколько мучительных минут, вдруг вырывается из укрытия в паническом, неподвластном разуму страхе.
14
У Тода были другие соперники, более удачливые, нежели Гомер Симпсон. Одним из главнейших был молодой человек по имени Эрл Шуп.
Эрл был ковбой из маленького городка в Аризоне. Изредка он получал работу в конских эпопеях, а весь досуг проводил перед шорной лавкой на бульваре Сансет. В витрине лавки было выставлено большое мексиканское седло, украшенное серебряной чеканкой, а вокруг него разместилась целая коллекция орудий пытки. Среди всего прочего здесь были вычурные плетеные арапники, шпоры с громадными звездчатыми колесиками, мундштуки такого устрашающего вида, что казалось, они в два счета разворотят лошади челюсть. В глубине тянулась низкая полка, уставленная сапогами — черными, красными и бледно-желтыми. У всех сапог были голенища с бахромой и очень высокие каблуки.
Эрл всегда стоял спиной к витрине, устремив взгляд на крышу одноэтажного дома напротив, где была вывеска «Соложеное молоко — через соломинку не тянется». Регулярно, дважды в час, он вытаскивал из кармана рубахи кисет, пачку курительной бумаги и свертывал цигарку. После этого он задирал колено и, натянув таким манером материю на тыльной стороне бедра, чиркал об нее спичку.
Росту в нем было метр восемьдесят пять, не меньше. Большая стетсоновская шляпа добавляла ему еще сантиметров двенадцать, а каблуки сапог — еще восемь. Его сходство с жердью усугублялось узкими плечами и полным отсутствием боков и зада. Годы, проведенные в седле, не сделали его кривоногим. Наоборот — ноги были так прямы, что его джинсы, вылинявшие от солнца и стирок до бледно-голубого цвета, стояли гладкими трубками, как пустые.
Тод понимал, почему Фей считает его красивым. У него было двухмерное лицо, которое мог бы нарисовать одаренный ребенок при помощи линейки и циркуля. Подбородок у него был совершенно круглый, широко расставленные глаза — тоже круглые. Его тонкий рот лежал под прямым углом к прямому тонкому носу. Красный загар, ровный по тону от корней волос до горла, был словно наведен морилкой и довершал его сходство с чертежом.
Тод как-то сказал Фей, что Эрл — круглый болван. Она, смеясь, согласилась, но заметила, что он криминально красив — это выражение она подцепила в колонке сплетен киногазеты.
Встретив ее однажды вечером на лестнице, Тод предложил ей пойти пообедать.
— Не могу. У меня свидание. Но могу вас взять с собой.
— С Эрлом?
— С Эрлом, — передразнила она, потешаясь над его досадой.
— Нет, благодарю.
Она неправильно истолковала его слова — может быть, нарочно, — и сказала:
— Сегодня он угощает.
Эрл постоянно был без денег, и когда бы Тод ни пошел с ними, платить приходилось ему.
— Да не потому, черт возьми, — вы прекрасно понимаете.
— Разве? — лукаво удивилась она и с полной самоуверенностью добавила: — В пять подходите к Ходжу.
Ходжу принадлежала шорная лавка. Когда Тод пришел туда, он застал Эрла на посту — стоящего, как обычно, и смотрящего, как обычно, на вывеску напротив. Он был в своей четырехведерной шляпе и сапогах с высокими каблуками. На левой руке его висел аккуратно сложенный темно-серый пиджак. На нем была синяя рубаха в крупный, величиной с монету, горошек. Рукава рубахи были не закатаны, а поддернуты до середины предплечий, где и удерживались декоративными розовыми резинками. Руки были того же ровного красного тона, что и лицо.
— Здоров, — ответил он на приветствие Тода.
Тод находил его западный говор забавным. Услышав его в первый раз, он ответил: «Здорово, незнакомец» — и очень удивился тому, что Эрл не почувствовал насмешки. Даже когда Тод начал толковать про «соловых», «лончаков», «людишек, которые пошаливают», Эрл воспринимал его всерьез.
— Здоров, напарник, — сказал Тод.
Рядом с Эрлом находился еще один житель Дальнего Запада в большой шляпе и сапогах; он сидел на корточках и энергично жевал тоненький прутик. За спиной у него стоял облезлый картонный чемодан, перевязанный толстой веревкой с профессионального вида узлами.
Вскоре после Тода подошел еще один человек. Подвергнув подробному осмотру изделия в витрине, он повернулся и стал смотреть на другую сторону улицы, как те двое.
Он был средних лет и смахивал на берейтора из скаковой конюшни. Все его лицо было покрыто сетью мелких морщинок, словно он спал на мотке проволоки. Он очень обносился и, видимо, уже продал свою большую шляпу, но сапоги еще были на нем.
— Здоров, ребята, — сказал он.
— Здорово, Хинк, — сказал хозяин картонного чемодана.
Тод не знал, относится ли приветствие и к нему, но на всякий
случай ответил:
— Привет.
Хинк пнул чемодан.
— Далеко собрался, Калвин? — спросил он.
— В Азусу, на родео.
— Кто устраивает?
— А, какой-то, зовет себя Джек-с-Оврага.
— Этот аферист!.. Ты едешь, Эрл?
— Не.
— Кушать-то надо, — сказал Калвин.
Хинк, прежде чем снова заговорить, тщательно обдумал полученные сведения.
— Моно делает нового Баки Стивенса, — сказал он. — Уил Ферис говорит, им нужно больше сорока наездников.
Калвин повернулся и поднял глаза на Эрла.
— Пегий жилет при тебе еще? — хитро спросил он.
— А что?
— На стопаря тебя в нем возьмут без всяких.
Тод понял, что это — какая-то шутка, потому что Хинк и Калвин крякнули и звонко шлепнули себя по ляжкам, а Эрл насупился.
Снова наступило долгое молчание, потом заговорил Калвин.
— А что, у папаши твоего еще есть коровы? — спросил он Эрла.
Но Эрл теперь был настороже и не ответил на вопрос.
Калвин подмигнул Тоду — медленно и основательно, исказив
половину лица.
— Видишь, Эрл, — сказал Хинк. — Скотина у папаши есть. Подался бы ты до дому.
Раздразнить Эрла не удавалось, поэтому на вопрос ответил Калвин:
— Не подастся он. Его в овечьем вагоне попутали — в резиновых сапогах.
Это тоже была шутка. Калвин и Хинк хлопнули себя по ляжкам и засмеялись, но Тод видел, что они ждут чего-то еще. Эрл неожиданно, даже не откачнувшись, выбросил ногу и крепко лягнул Калвина в крестец. В этом и была соль шутки. Ярость Эрла привела их в восторг. Даже Тод засмеялся. Внезапный переход Эрла от апатии к действию, без обычных промежуточных стадий, был смешон. Серьезность его гнева была еще смешнее.
Немного погодя подъехала на своем помятом форде Фей и остановилась у обочины шагах в десяти. Калвин и Хинк помахали ей, а Эрл не шелохнулся. Спешка была несовместима с его достоинством. Он двинулся с места не раньше, чем Фей дала гудок. Тод пошел следом за ним.
— Привет, ковбой, — весело сказал Фей.
— Здорово, солнышко, — протянул он, бережно снимая шляпу и еще бережнее надевая.
Фей улыбнулась Тоду и жестом предложила им занять места. Тод сел сзади. Эрл развернул висевший на руке пиджак, похлопал ладонью, чтобы расправить морщинки, потом надел, одернул воротник и разгладил лацканы. После этого он уселся рядом с Фей.
Она рывком взяла с места. Добравшись до Ла-Бреа, они свернули направо, к Голливудскому бульвару, а по бульвару поехали налево. Тод видел, что она краем глаза наблюдает за Эрлом и что он готовится заговорить.
— Ну, трогай, — поторопила она его. — В чем дело?
— Слышь, солнышко, денег у меня нет на ужин.
Она надулась.
— Я же сказала Тоду, что угощаем мы. Сколько он может нас угощать?
— Все нормально, — вмешался Тод. — В другой раз. У меня много денег.
— Ну нет, — сказал она, не оглянувшись. — Мне это осточертело.
Она свернула к обочине и резко затормозила.
— Вечно одно и то же, — сказала она Эрлу.
Он поправил шляпу, поправил воротник, рукава и ответил:
— В лагере у нас есть пожрать.
— Бобы, что ли?
— Почему?
Она ткнула его в бок:
— Ну, что у вас есть?
— Мы с Мигом цапки поставили.
Фей рассмеялась:
— На крыс, а? Крыс будем есть?
Эрл ничего не ответил.
— Слушай, жердина ты бессловесная, — сказала она, — или говори толком, или выметайся к чертям из машины.
— На перепелов цапки, — сказал он, нисколько не изменив своей официальной, деревянной манере.
Его пояснение она пропустила мимо ушей.
— С тобой разговаривать — все равно что зубы тащить. Никакого терпения не хватит.
Тод знал, что ему от их ссоры прибытка не будет. Все это он уже слышал.
— Я так просто, — сказал Эрл. — Смехом просто. Я тебя не буду крысами кормить.
Фей отпустила ручной тормоз и завела мотор. У Захариас-стрит она повернула в гору. Одолев полукилометровый откос, они очутились на грунтовой дороге и проехали по ней до конца. Там они высадились, причем Эрл поддерживал Фей.
— Поцелуй меня, — сказала она, прощая его улыбкой.
Он церемонно снял шляпу, возложил ее на капот машины, затем своими длинными руками обвил Фей. На Тода, который стоял в стороне, наблюдая за ними, они не обращали внимания. Он видел, как Эрл по-детски зажмурился и собрал губы бантиком. Но в том, что он делал с ней, ничего детского не было. Когда ей надоело, она оттолкнула его.
— А вы? — весело крикнула она Тоду, который предпочел отвернуться.
— Как-нибудь в другой раз, — ответил он, подражая ее небрежному тону.
Фей засмеялась, потому вынула пудреницу и принялась мазать губы. Когда она кончила, они двинулись по тропе, продолжавшей грунтовую дорогу. Вел Эрл, следом шла Фей, Тод был замыкающим.
Весна была в разгаре. Тропинка бежала по дну узкого каньона, и там, где растениям удалось зацепиться за крутой склон, они цвели багровым, голубым и желтым. Тропу окаймляли оранжевые маки. Их лепестки были сморщены, как гофрированная бумага, а на листьях лежал толстый слой похожей на тальк пыли.
Они поднимались, пока не вышли в другой каньон. В этом не росло ничего, но его голая земля и острые камни горели ярче, чем цветы в первом. Тропа была серебряная с розово-серыми прожилинами, а стены — бирюзовые, лилово-розовые, сиреневые и шоколадные. Сам воздух был звонко-розовым.
Они остановились посмотреть, как колибри гоняется за синей сойкой. Сойка пронеслась с криком, ее крохотный враг жикнул за ней рубиновой пулей. Яркие птицы раскололи цветной воздух на тысячи крупиц, сверкающих, как металлические конфетти.
Выйдя из каньона, они увидели внизу небольшую долину, густо заросшую эвкалиптами, среди которых там и сям виднелись тополя и стоял громадный дуб. Скользя и спотыкаясь, они сошли по водомоине в долину.
Тод увидел человека, наблюдавшего за ними с опушки. Фей тоже увидела его и помахала рукой.
— Привет, Миг! — крикнула она.
— Чинита! — откликнулся он.
Последние десять метров по склону она пробежала, и он подхватил ее на руки.
Он был бежевого цвета, с большими армянским глазами и толстыми черными губами. Голову его покрывала шапка тугих, плотно уложенных кудрей. На нем был косматый свитер, называемый в Лос - Анджелесе и его окрестностях «гориллой»; под свитером было голое тело. Его грязные парусиновые брюки были перепоясаны красным платком; на ногах были разбитые теннисные туфли.
Они пошли к лагерю, расположенному на прогалине посреди рощи. Он состоял из ветхой хибарки, которая была залатана жестяными дорожными знаками, украденными с шоссе, и подпертой камнями железной печки без пода и ножек. Возле хибарки стоял рядок курятников.
Эрл развел под печкой огонь; Фей наблюдала за ним, сидя на ящике. Тод пошел смотреть кур. Там была старая наседка и шесть бойцовых петухов. В постройку курятников вложили много труда — они были сбиты из шпунтованных досок, тщательно подобранных и пригнанных. Полы были устланы свежим белым мхом.
Подошел мексиканец и начал рассказывать про петухов. Он очень гордился ими.
— Это — Хермано, выиграл пять боев. Он — из стритовских «Мясников». Пепе и Эль Негро — новенькие. На будущей неделе они у меня дерутся в Сан Педро. Это — Вилья, он перестарок, но еще крепкий. Этот вот — Сапата, две победы. А это — Хухутла. Мой чемпион.
Он открыл курятник и поднял птицу, показывая ее Тоду:
— Этот молодчик — просто живодер. А быстрый до чего!
Оперение у петуха было зеленое, бронзовое и медное. Клюв был
лимонный, а ноги оранжевые.
— Красавец, — сказал Тод.
— Что и говорить.
Миг кинул петуха в курятник, и они вернулись к печке, где их ждали Фей и Эрл.
— Когда есть будем? — спросила Фей.
Мигель плевком проверил, горяча ли печка. Затем достал большую сковородку и принялся драить ее песком. Эрл дал Фей картошку и нож, чтобы она ее почистила, а сам взял мешок.
— Пойду за птицами, — сказал он.
Тод отправился с ним. По узкой тропинке, проторенной, видимо, овцами, они вышли на крохотную лужайку, поросшую высокой хохлатой травой. Эрл остановился за кустом и предостерегающе поднял руку.
Где-то рядом пел пересмешник. Песня звучала так, как будто в пруд с высоты бросали гальку — камушек за камушком. Потом закричал перепел, чередуя две гортанные мягкие ноты. Ответил другой, и между ними завязалась перекличка. Их крик был не похож на веселый свист виргинской перепелки. Он был полон меланхолии и усталости, но восхитительно нежен. К дуэту присоединился еще один перепел. Он кричал с середины лужайки. Этот сидел в западне, однако в голосе его не было тревоги — только печаль, безличная и безысходная.
Убедившись, что свидетелей его браконьерству нет, Эрл подошел к ловушке. Это была проволочная корзина величиной с лохань, с маленькой дверцей наверху. Он нагнулся и стал возиться с дверцей. Пять перепелов заметались вдоль стенок, колотясь о проволоку. У одного из них, петушка, перья хохолка изящно загибались вперед, почти доставая до клюва.
Эрл выловил птиц по одной и побросал в мешок, перед тем отвернув им головы. Потом он отправился обратно. Мешок он держал слева, под мышкой. Правой рукой он вытаскивал птицу и на ходу ее ощипывал. Перья падали на землю вниз комлем, нагруженным капелькой крови, которая дрожала на кончике.
Когда они вернулись в лагерь, солнце уже зашло. Стало прохладно, и Тод обрадовался огню. Фей потеснилась, освободив ему место на ящике, и они оба нагнулись к теплу.
Миг вынес из дома кувшин текилы[59]. Для Фей он отлил в банку из-под масла, а кувшин отдал Тоду. Водка пахла фруктовой гнилью, но вкус ее Тоду понравился. От него кувшин перешел к Эрлу, потом — к Мигелю. Так они и пили, передавая кувшин по кругу.
Эрл хотел показать Фей, какая упитанная попалась дичь, но она отказалась смотреть. Он выпотрошил птиц. Потом начал резать их на четверти большими ножницами для железа. Фей зажала уши ладонями, чтобы не слышать мягкого хруста костей в мясе. Эрл обтер куски тряпкой и бросил на сковороду, где уже скворчал большой кусок нутряного сала.
При всей своей чувствительности, Фей в еде не отставала от мужчин. Кофе не было, и ужин кончился текилой. Они курили, передавая друг другу кувшин. Фей бросила банку из-под масла и стала пить как остальные — из кувшина, запрокидывая голову.
Тод чувствовал нараставшее в ней возбуждение. Ящик под ними был так мал, что их спины соприкасались, и он ощущал, какая она горячая и беспокойная. Ее лицо и шея цвета слоновой кости порозовели. Она то и дело тянулась к нему за сигаретой.
Лицо Эрла пряталось в тени большой шляпы. А мексиканец был ярко освещен огнем. На коже играли блики, масло в черных кудрях искрилось. Он все время улыбался Фей, и Тоду не нравилась его улыбка. Чем больше он пил, тем больше она ему не нравилась.
Фей все время теснила Тода, и наконец он пересел на землю, откуда ее было лучше видно. Она улыбалась мексиканцу. Она как будто понимала, о чем он думает, и сама думала о том же. Эрл тоже заметил, что происходит между ними. Тод услышал, как он выругался вполголоса, и увидел, как он нагнулся и подобрал в дровах толстую палку.
Миг виновато засмеялся и запел:
Las palmeras lloran рог tu ausencia, Las laguna se seco — ay! La cerca de alambre se cayo!У него был жалобный тенор, и революционную песню он превращал в сентиментальный, до приторности нежный плач. Когда он начал второй куплет, Фей стала подпевать. Слов она не знала, но могла и вести мелодию, и вторить.
Rues mi madre las cuidaba, ay! Toditito se acabo — ay![60]Их голоса соприкасались в разреженном неподвижном воздухе, образуя грустные созвучия, и впечатление было такое, будто соприкасаются их тела. Песня снова преобразилась. Мелодия осталась прежней, но ритм нарушился, стал рваным. Это была уже румба.
Эрл беспокойно ерзал и играл палкой. Тод видел, как она посмотрела на него, и понял, что она боится; но осторожнее она не стала — наоборот, у нее только прибавилось лихости. Она сделала долгий глоток из кувшина и встала. Она приложила ладони к ягодицам и пошла плясать.
Миг будто совсем забыл об Эрле. Он бил в ладоши, сложив их чашечками, так что получался глухой барабанный звук, и все свои переживания вкладывал в песню. Он выбрал более подходящий мотив.
Тони жена, Всем парням в Гаване мила Тони жена…Фей сцепила руки на затылке и в ломаном ритме песни вращала бедрами, выбрасывая подбрюшье вперед.
Тони жена, Дуэли решают, чья будет она, Тони жена…Может быть, Тод неправильно понял Эрла. Своей дубинкой он колотил по дну сковороды, отбивая такт.
Мексиканец поднялся и, продолжая петь, начал танцевать с Фей. Они наступали друг на друга семенящим шагом. Фей приподняла юбку, прихватив ее с боков кончиками пальцев; он то же самое проделал с брюками. Они сошлись голова к голове, иссиня-черная с золотистой, и, упершись лбами, заходили кругом; потом — спиной к спине, соприкасаясь ягодицами и раскорячив согнутые колени. Фей, вытянувшись в струнку, трясла головой и грудью, а он, тяжело колотя ногами по мягкой земле, ходил около нее кругами. Они снова повернулись друг к другу лицом и сделали вид, будто баюкают свои зады в шалях.
Эрл бил по сковороде все сильнее и сильнее, и она уже звенела, как наковальня. Внезапно он вскочил и тоже пустился танцевать. Он откалывал, как в деревенском переплясе. Он подпрыгивал и бил в воздухе пяткой о пятку. Он гикал. Но он не мог войти в их танец.
Ритм, словно гладкая стеклянная стена, отделал от него двух танцоров. Как бы громко он ни гикал, сколько бы ни метался, он не мог возмутить безупречность их прямого и попятного хода, их сближений и удалений.
Тод увидел удар до того, как он обрушился. Он увидел, как Эрл занес палку и опустил ее на голову мексиканца. Он услышал треск и увидел, как Миг упал на колени, все еще продолжая танцевать, потому что его тело не хотело или не могло прервать своего движения.
Фей плясала спиной к Мигу, когда он рухнул, но она не оглянулась. Она побежала. Она промелькнула перед Тодом. Он потянулся схватить ее за щиколотку, но не достал. Он вскочил на ноги и бросился за ней.
Если поймает, она — его. Он слышал ее шаги невдалеке, выше по склону. Он закричал ей — низким, страстным голосом, как гончая, напавшая на свежий след после долгих часов бесплодного рысканья. Он уже ощущал, как это будет, когда он повалит ее на землю.
Но дорога была тяжелой; песок и камни подавались под ногой. Он упал плашмя, лицом в полевую горчицу, свежо и остро пахшую дождем и солнцем. Он перевернулся на спину и посмотрел в небо. Физические усилия остудили его пыл — но не совсем, и по телу пробегали приятные токи. Он ощущал довольство и облегчение, почти счастье.
Где-то выше на холме запела птица. Он прислушался. Сначала ее мягкий тихий голос звучал как капли, падающие в какую-то полость, может быть — на дно серебряного кувшина, потом — как арфа, по струнам которой тихо проводили палочкой. Он лежал неподвижно и слушал.
Когда птица смолкла, он постарался выбросить Фей из головы и начал думать о своих этюдах к картине пожара в Лос-Анджелесе. Тод хотел изобразить горящий город в полдень, чтобы огню пришлось состязаться с солнцем пустыни и он казался не таким страшным — скорее яркими флагами, развевающимися в окнах и на крышах, чем истребительной стихией. Ему хотелось, чтобы у города при пожаре был праздничный вид, чтобы он выглядел почти радостным. А поджигать его должна была толпа курортников.
Птица снова запела. Когда она замолчала, Фей уже была забыта, и он думал лишь о том, не слишком ли он преувеличивает значение людей, приехавших в Калифорнию умирать. Может быть, отчаяния у них не хватает даже на то, чтобы поджечь один город, куда там целую страну. Может быть, они — только цвет безумцев Америки и не типичны для всей нации.
Он возразил себе, что это не меняет дела, ибо он — художник, а не пророк. О работе его будут судить не по точности предсказаний, а по живописным достоинствам. Тем не менее от роли Иеремии он не отказался. «Цвет безумцев Америки» он заменил на «сливки» и почти не сомневался в том, что молоко, с которого они сняты, столь же богато бешенством. Анджелесцы будут первыми; но их товарищи по всей стране последуют за ними. Начнется гражданская война.
Глубокое удовлетворение, которое принес ему этот жестокий вывод, позабавило его. Неужели все провозвестники гибели и истребления — такие счастливые люди?
Он встал, даже не попытавшись ответить на этот вопрос. Когда он выбрался из каньона на грунтовую дорогу, ни Фей, ни ее машины уже не было.
15
— Она в кино отправилась с этим Симпсоном, — сказал ему на другой вечер Гарри, когда он к ним зашел.
Он решил дождаться ее и сел. Старик был очень плох и лежал на кровати чрезвычайно осторожно, словно это была узкая полка и при малейшем движении он мог с нее упасть.
— Что снимают у вас на студии? — медленно проговорил он, скосив глаза на Тода и не поворачивая головы.
— «Судьбой начертано», «Нежные и падшие», «Ватерлоо», «Великий перевал», «Прошу…»:
— «Великий перевал»… — с живостью перебил его Гарри. — Помню эту вещь.
Тод понял, что не стоило его заводить, но теперь уже делать было нечего. Оставалось только ждать, пока завод не кончится, как в часах.
— Когда ее ставили в первый раз, я играл Ирвинга в маленьком номере, он назывался «Входят два господина» — пустячок, но зрелищный, по-настоящему зрелищный. Я играл такого еврейского комика, под Бена Уэлча — котелок, широкие брюки… «Пат, мне пгдедлагают габоту в пгачечной Огёл…» — «Не может быть, Изи, — ты согласился?» — «Нет, а кому нужно стигать оглов?» Подыгрывал мне Джо Парвос в костюме полицейского. Ну, а вечер премьеры Джо разложил одну бабенку на Пятой авеню, и получилась печка с динамитом. Муж их накрыл. А он был…
Завод не кончился. Но Гарри умолк и схватился за левый бок обеими руками.
Тод встревоженно наклонился к нему:
— Воды?
Гарри сложил губами «нет» и умело застонал. Это был стон под занавес второго акта, до того фальшивый, что Тод насилу совладал с улыбкой. Однако мертвенная бледность старика была не из репертуара.
Гарри снова застонал, модулируя из страдания в изнеможение, потом закрыл глаза. Тод обратил внимание, как умело добивается он максимального эффекта, располагая искаженный болью профиль на белом фоне подушки. Он заметил также, что у Гарри, как у многих актеров, очень мало затылка и макушки. Голова состояла почти из одного лица, как маска, а между бровей, на лоб и от носа к углам рта пролегли глубокие борозды, пропаханные годами широких улыбок и мрачных нахмуриваний. Из-за них он ничего не мог выразить тонко и точно. Они не допускали оттенков чувства — только превосходную степень.
Тод задумался: а может, и в самом деле актеры страдают меньше, чем прочие люди? Но, поразмыслив, он решил, что не прав. Чувство — от сердца и нервов, и грубость его выражения никак не связана с его силой. Гарри страдал так же жестоко, как любой другой, при всей театральности его гримас и стонов.
Страдание ему, видимо, нравилось. Но не всякое, и наверняка — не болезнь. Подобно многим, он любил только те страдания, которые причинял себе сам. Излюбленным его методом было обнажение души перед незнакомцами в баре. Прикинувшись пьяным, он плелся туда, где сидели незнакомые люди. Обычно он начинал с декламации стихов.
Позвольте присесть на минуту, Мне что-то попало в туфлю, Я прежде был тоже моложе, Я молодость вспомнить люблю[61].Если слушатели кричали: «Вали отсюда!» — он лишь смиренно улыбался и продолжал свой номер:
Сжальтесь, люди, над моими сединами…И если бармен или еще кто-нибудь не останавливал его силой, он гнул свое, что бы ему ни говорили. Зато когда ему удавалось разойтись, его слушал весь бар, потому что представление получалось великолепное. Он ревел и шептал, командовал и пресмыкался. Он изображал хныканье девочки, навеки потерявшей мать, а также разнообразные говоры жестоких антрепренеров, с которыми его сталкивала жизнь. Он воспроизводил даже шумы за сценой — чирикая, как птички, возвещающие Зарю Любви, и заливаясь, как свора гончих, когда описывал, как его вечно преследует Злая Доля.
Он заставлял слушателей увидеть воочию, как он начинал: играя Шекспира в аудитории латинского отделения в Кембридже, — отрок, полный радужных надежд и высоких устремлений. Быть с ним, когда он юношей голодал в меблированных комнатах Бродвея — идеалист, желавший лишь подарить свое искусство миру. Стоять с ним рядом, когда во цвете лет он обручался с прекрасной балериной, премьершей у Гаса Сана. Присутствовать при том, как однажды ночью, неожиданно вернувшись домой, он застал ее в объятиях старшего капельдинера. Прощать, как он простил, — по доброте сердечной и во имя великой своей любви. И затем смеяться, с саднящей болью в душе, когда на другую же ночь он нашел ее в объятиях гастрольного агента. Снова он простил ее, и снова она согрешила. Но и тогда он ее не прогнал, нет, — хотя она насмехалась и глумилась над ним и даже ударяла неоднократно зонтиком. И все же она сбежала — с иностранцем, чернявым молодцом из факиров. Оставив ему воспоминания и грудную дочь. Гарри вел за собой слушателей от неудачи к неудаче, когда он, человек не первой молодости, обивал пороги антрепренеров — всего лишь тень прежнего себя. Он, мечтавший сыграть Гамлета, Лира, Отелло, был вынужден стать К° в номере под названием «Нат Пламстон и К° — легкие шутки и разговорный жанр». Он заставлял сопровождать его, когда дрожащим, дряхлым стариком он плелся…
Фей вошла неслышно. Тод хотел поздороваться, но она приложила палец к губам и показала на кровать.
Старик спал. Тод подумал, что его сухая, изношенная кожа напоминает разрушенную эрозией почву. Капельки пота, блестевшие на лбу и на висках, не сулили облегчения. Как дождь, слишком поздно пришедший на поля, они не могли освежить, а предвещали гниль.
Тод и Фей на цыпочках вышли из комнаты.
В передней он спросил, весело ли ей было с Гомером.
— С этим обормотом! — скривившись, воскликнула она. — Скука смертная.
Тод хотел спросить еще кое о чем, но она спровадила его коротким: «Я устала, милый».
16
На другой день, поднимаясь к себе по лестнице, Тод увидел перед дверью Гринеров толпу людей. Они были взволнованы и переговаривались шепотом.
— Что случилось? — спросил он.
— Гарри умер.
Он толкнулся в дверь квартиры. Она была не заперта, и он вошел туда. Труп лежал на кровати, с головой накрытый одеялом. Из комнаты Фей доносился плач. Он тихо постучался к ней. Она открыла, отвернулась и, не сказав ни слова, упала на кровать. Она плакала в вафельное полотенце.
Тод стоял в дверях, не зная, что сказать или сделать. Наконец он подошел к кровати и попытался ее утешить. Потрепал ее по плечу:
— Бедная девочка.
На ней был черный кружевной халат с большими дырами. Когда он наклонился над ней, он ощутил, что ее кожа издает приятный теплый запах цветущей гречихи.
Он отвернулся и закурил. В дверь постучали. Он открыл, ворвалась Мери Доув и сжала Фей в объятиях.
Мери тоже просила Фей быть мужественной. Она выразила это иначе, чем он, и ее слова прозвучали гораздо убедительнее:
— Покажи характер, подруга. Не распускайся, покажи характер.
Фей оттолкнула ее и встала. Она в отчаянии сделала несколько шагов по комнате и снова села на кровать.
— Я его убила, — простонала она.
И Мери и Тод энергично запротестовали.
— Я его убила, слышите?! Я! Я!
Она начала всячески себя поносить. Мери хотела остановить ее, но Тод не дал. Фей начала представляться, и он чувствовал, что если ей не мешать, то она сумеет как-нибудь спрятаться от горя.
— Она выговорится и утихнет, — сказал он.
Покаянным голосом Фей стала рассказывать, что произошло. Она пришла со студии и нашла Гарии в постели. Она спросила, как он себя чувствует, и, не дождавшись ответа, отвернулась от него, чтобы посмотреться в зеркало. Потом стала пудриться и сказала ему, что видела Бена Мёрфи и что если бы Гарри чувствовал себя лучше, Бен, может быть, занял бы его в эпизоде на Бауэри-стрит. Ее удивило, что, услышав имя Бена, Гарри не закричал, как обычно. Он завидовал Бену и всегда кричал: «Да пошел он к черту, я знал его, когда он плевательницы у негров в баре чистил».
Она сообразила, что ему, наверное, нехорошо. Но не обернулась, потому что увидела намечающийся прыщик. Он оказался всего лишь пятнышком грязи, которую она стерла; но после этого ей пришлось пудриться сызнова. Занимаясь этим, она сказала, что, если бы у нее было новое вечернее платье, она могла бы сняться в костюмной массовке. И чтобы подразнить его, пригрозила: «Если ты не можешь купить мне вечернее платье, я найду кого-нибудь, кто сможет».
Когда он ничего не ответил, она разозлилась и запела «Елки - палки». Он не сказал, чтобы она замолчала, и она поняла, что ему плохо. Она подбежала к кушетке. Он был мертвый.
Закончив рассказ, она зарыдала тоном ниже, почти воркуя, и начала раскачиваться взад-вперед:
— Бедный папа… Бедный, миленький…
Как они веселились вдвоем, когда она была маленькой. И как бы ему ни было туго, он всегда покупал ей конфеты и кукол, и как бы он ни устал, он всегда играл с ней. Он носил ее на закорках, и они катались по полу и хохотали, хохотали.
Рыдания Мери подхлестнули Фей, и обе зашлись в плаче.
В дверь постучали. Тод открыл и увидел миссис Джонсон, привратницу. Фей помотала головой, чтобы он ее не пускал.
— Зайдите попозже, — сказал Тод.
Он захлопнул дверь у нее перед носом. Минутой позже дверь опять отворилась, и миссис Джонсон нахально вошла. Она воспользовалась отмычкой.
— Уйдите, — сказал он.
Она попыталась протиснуться мимо него, но он держал ее, пока Фей не велела ему отпустить.
Миссис Джонсон ему активно не нравилась. Это была назойливая, суматошная женщина с мягким и пятнистым, как печеное яблоко, лицом. Позже он обнаружил, что ее коньком были похороны. Увлечение похоронами имело не болезненный характер, а скорее церемониальный. Ее интересовало красивое расположение венков, порядок процессии, одежда и поведение провожающих.
Она подошла прямо к Фей и остановила ее рыдания коротким:
— Что ж, мисс Гринер…
В ее голосе и манерах было столько властности, что она преуспела там, где Мери и Тод потерпели неудачу.
Фей смотрела не нее почтительно.
— Во-первых, милая, — сказала миссис Джонсон, загибая большой палец на правой руке указательным пальцем левой, — во-первых, вы должны понять, что моя единственная цель в этом деле — помочь вам.
Она сурово посмотрела на Мери, затем на Тода.
— Выгоды мне от этого никакой, а только одно беспокойство.
— Да, — сказал Фей.
— Так. Чтобы помочь вам, я должна сперва выяснить некоторые детали. Остались ли после покойного какие-нибудь деньги или страховка?
— Нет.
— У вас есть деньги?
— Нет.
— Вы можете их занять?
— Не думаю.
Миссис Джонсон вздохнула:
— Тогда его придется хоронить за казенный счет.
Фей молчала.
— Разве вам не понятно, детка, что за казенный хоронят только в могиле для бедняков?
Столько презрения было вложено в «казенный» и столько ужаса в «бедняков», что Фей залилась краской и снова зарыдала.
Миссис Джонсон притворилась, что уходит, и даже сделала несколько шагов к двери, но передумала и вернулась.
— А сколько стоят похороны? — спросила Фей.
— Двести долларов. Но можно хоронить в рассрочку — пятьдесят долларов сразу и по двадцать пять в месяц.
Мери и Тод вмешались хором:
— Я достану деньги.
— У меня есть немного.
— Вот и отлично, — сказала миссис Джонсон. — И по меньшей мере еще пятьдесят вам потребуется на непредвиденные расходы. Я этим сейчас займусь и все устрою. Вашего отца похоронит мистер Холсеп. Он сделает это как надо.
Она пожала руку Фей, словно поздравляя ее, и торопливо ушла.
Деловой разговор миссис Джонсон, видимо, пошел Фей на пользу. Она подобрала губы, и глаза ее высохли.
— Не беспокойтесь, — сказал Тод. — Денег я наберу.
— Нет, спасибо, — сказала она.
Мери открыла сумку и вынула свернутые в трубочку деньги.
— Вот немного.
— Нет, — сказала Фей, отталкивая их.
Она села и задумалась; потом подошла к туалетному столику и начала приводить в порядок лицо, покрытое разводами от слез. При этом на губах ее была суровая улыбка. Вдруг она обернулась, не донеся помаду до рта, и заговорила с Мери:
— Слушай, устроишь меня к миссис Дженинг?
— Зачем? — вмешался Тод. — Я достану деньги.
Девушки не обратили на него внимания.
— Конечно, — сказала Мери, — давно пора. Работа — не бей лежачего.
Фей засмеялась:
— Берегла.
Произошедшая в них перемена поразила Тода. Они вдруг сделались прожженными.
— Для этого сопляка, для Эрла? Возьмись за ум, девочка, хватит путаться с шантрапой. Пускай его лошадь возит, он же ковбой, верно?
Они пронзительно рассмеялись и, обнявшись, ушли в ванную.
Тоду показалось, что он понял этот внезапный переход на жаргон. Так они чувствовали себя искушенными, трезвыми, более готовыми к серьезным трудностям жизни.
Он постучался в ванную.
— А вам что нужно? — спросила Фей.
— Слушай, девочка, — сказал он, пытаясь им подражать. — Зачем тебе на панель? Деньги я достану.
— Ну да? Нет, спасибочко, — отозвалась Фей.
— Ну послушай… — начал было он.
— Иди гуляй, — крикнула Мери.
17
В день похорон Гарри Тод напился. Фей он не видел с тех пор, как она договорилась с Мери Доув, но он знал, что наверняка увидит ее в похоронном бюро, и хотел набраться храбрости, чтобы сцепиться с ней. Пить он начал со второго завтрака. К концу дня, когда он пришел в похоронное бюро Холсена, храбрость в нем уже перегорела и превратилась в злобу.
Гарри лежал в своем ящике, дожидаясь, когда его выкатят для обозрения в примыкающую к салону часовню. Гроб был открыт, и старик лежал довольно уютно. До подмышек он был укрыт кремовым атласным покрывалом, отогнутым сверху, чтобы видна была его богатая подкладка. Голова лежала на крохотной кружевной подушке. На нем был смокинг — по крайней мере, виднелась крахмальная рубашка со стоячим воротником и черный галстук-бабочка. Лицо его было свежевыбрито, брови выщипаны, щеки и губы подкрашены. Он выглядел как ведущий в труппе «негритянских менестрелей».
Тод склонил голову, как бы в безмолвной молитве, и в это время услышал, что кто-то вошел. Он узнал голос миссис Джонсон и осторожно обернулся. Поймав ее взгляд, он кивнул, но она не ответила. Она была поглощена разговором с мужчиной в плохо скроенном фраке.
— Это вопрос принципа, — выговаривала она. — В вашей смете сказано: бронза. А ручки не бронзовые, и вы это знаете.
— Но я спрашивал мисс Гринер, — скулил мужчина. — Она сказала — хорошо.
— Не имеет значения. Я вам удивляюсь — чтобы выгадать несколько долларов, всучиваете бедной девочке дешевые ручки из желтой меди.
Тод не стал дожидаться его ответа. Он увидел Фей, которая прошла мимо двери, опираясь на руку одной из сестер Ли. Когда он догнал ее, он не знал, что сказать. Она неверное истолковала его волнение и растрогалась. И даже всплакнула ради него.
Никогда еще она не была такой красивой. На ней было новое, облегающее черное платье, и ее белые волосы были собраны блестящим узлом под соломенной шляпой. Кружевной платочек то и дело вспархивал к глазам. А у него в голове вертелось одно — что экипировку свою она заработала на спине.
Ей стало неловко под его взглядом, и она пошла прочь. Он поймал ее за руку.
— Могу я поговорить с вами минуту наедине?
Мисс Ли поняла намек и скрылась.
— В чем дело? — спросила Фей.
— Не здесь, — прошептав он, заговорщицким тоном пытаясь прикрыть свою нерешительность.
Он повел ее по коридору и вскоре нашел пустой выставочный зал. На стенах висели в рамках фотографии выдающихся похорон, а на столиках и маленьких стендах разместились образчики гробовых материалов, макеты надгробий и мавзолеев.
Не зная, с чего начать, он стал утрировать свою застенчивость, прикидываясь безобидным болваном.
Она улыбнулась и почти оттаяла.
— Ну говори, глупая дылда.
— Поцеловать…
— Конечно, птенчик, — рассмеялась она, — только не мни. — Они поцеловались.
Она хотела высвободиться, но он ее не отпускал. Ей надоело, и она потребовала объяснения. Он ломал голову, пытаясь найти довод. Хотя искать ему надо было не в голове.
Она поникла и клонилась к нему — но не от усталости. Так — он видел это — никнут в летний день молодые березы, опившись солнцем.
— Нализался, — сказала она, отталкивая его.
— Ну, подожди, — умолял он.
— Пусти, свинья.
Даже в ярости она была прекрасна. Объяснялось это тем, что красота ее была биологической, как у дерева, а не производным ее ума или души. Поэтому даже проституция, наверное, не могла разрушить ее — а только старость, увечье или болезнь.
Еще минута, и она закричит: «Помогите». Надо было что-то говорить. Эстетического довода она не поймет — а какими ценностями он может обосновать моральный? Экономический тоже не годится. Проституция определенно прибыльна. Тридцать долларов за сеанс; половина — ей. Скажем, десять гостей в неделю.
Она лягнула его в голень, но он не отпускал. Вдруг он начал говорить. Он нашел довод. Болезнь разрушит ее красоту. Он лаял, как лектор ХАМЛа[62] по половой гигиене.
Она прекратила сопротивление и всхлипывала, потупив лицо. Когда аргументы иссякли, он отпустил ее руки, и она выскочила из комнаты. Он ощупью добрался до резного мраморного гроба.
Он все еще сидел на нем, когда в комнату вошел молодой человек в черном пиджаке и полосатых серых брюках.
— Вы — на похороны Гринера?
Тод встал и неопределенно кивнул.
— Служба начинается, — сказал молодой человек, доставая из покрытого атласом гробика пыльную тряпку.
Тод наблюдал, как он ходит по залу, обтирая экспонаты.
— Служба, наверное, началась, — повторил молодой человек, махнув рукой в сторону двери.
На этот раз Тод понял и ушел. Единственный выход, который ему удалось найти, вел через часовню. Стоило ему появиться, как его перехватила миссис Джонсон и направила к скамье. Ему очень хотелось улизнуть, но сделать это без скандала было невозможно.
Фей сидела в переднем ряду, напротив кафедры. Ее соседями были с одной стороны сестры Ли, а с другой — Мери Доув и Эйб Кьюсик. Позади, заняв рядов шесть, расположились обитатели Бердача. В седьмом одиноко сидел Тод. За ним шло несколько пустых рядов, а еще дальше расселись мужчины и женщины, выглядевшие здесь очень неуместно.
Он отвернулся, чтобы не видеть вздрагивающих плеч Фей, и осмотрел публику в задних рядах. Порода была ему известна. Хотя сами не факельщики, они будут бежать за поджигателями и делать много шуму. Они пришли на панихиду в надежде на какой-нибудь драматический инцидент, надеясь, что хотя бы одного из присутствующих в истерике уведут из часовни. Тоду казалось, что они глазеют на него с выражением едкой, злотворной скуки, колеблющейся где - то на грани бесчинства. Когда они начали перешептываться, он повернулся вполоборота и продолжал следить за ними исподтишка.
Вошла старуха, у которой лицо было искажено фабричной, не по мерке сделанной челюстью, и зашепталась с мужчиной, сосавшим ручку кустарной трости. Он передел ее сообщение дальше, и все они встали и торопливо ушли. Наверно, подумал Тод, их дозорные заметили какую-нибудь звезду, отправившуюся в ресторан. Если так, они станут караулить у дверей, пока звезда не выйдет или их не прогонит полиция.
Вскоре после их ухода появилась семья Джинго. Джинго были эскимосы, которых привезли в Голливуд на досъемку картины о полярных исследованиях. Хотя картина давно была выпущена, они не желали возвращаться на Аляску. Им понравился Голливуд.
Гарри был их близким другом и довольно регулярно ел у них копченую лососину, сига, маринованную и рубленую селедку, которую они покупали в еврейских гастрономах. Немало он с ними и выпил — дешевого коньяку, который они мешали с горячей водой и соленым маслом и пили из жестяных кружек.
Папа и мама Джинго в сопровождении сына направились по среднему проходу к передней скамье, кланяясь и махая руками каждому из присутствовавших. Они окружили Фей и по очереди пожали ей руку. Миссис Джонсон хотела отправить их в задние ряды, но они пренебрегли ее приказом и уселись впереди.
Верхние огни в церкви внезапно потускнели. Одновременно зажегся свет за ложными витражами, висевшими на фальшивых дубовых панелях. На миг установилась почтительная тишина, нарушаемая лишь плачем Фей, и электрический орган начал проигрывать запись баховского хорала «Приди, наш Искупитель».
Тод узнал музыку. Дома, по воскресеньям, мать часто играла фортепьянное переложение этого хорала. Музыка просила Христа прийти — очень вежливо, чистым, искренним тоном, с приличествующей долей мольбы. Бог, которого она приглашала, был не Царем Царей, а кротким застенчивым Христом, девицей в окружении девиц, и приглашали его на гуляние в саду, а не в дом какого-нибудь усталого, страждущего грешника. Она не упрашивала — она убеждала, с бесконечной деликатностью и учтивостью, как бы даже боясь отпугнуть предполагаемого гостя.
До сих пор, насколько Тод мог судить, музыку никто не слушал. Фей всхлипывала, а остальные, по-видимому, были поглощены собой. Вежливая серенада Баха Христу была не для них.
Скоро музыка должна измениться и стать более захватывающей. «Подействует ли это на них?» — думал Тод. Бас начинал уже туго пульсировать. Тод заметил, что эскимосы забеспокоились. Бас, набирая звучность, одолевал дискант, и Тод услышал, как папа Джинго заурчал от удовольствия. Мама, перехватив пристальный взгляд миссис Джонсон, положила толстую руку ему на затылок, чтобы он утихомирился.
«Приди же, Спаситель наш», — молила музыка. Робость была отброшена, вежливость забыта. Борьба с басом изменила все. Вкладывались даже нотки угрозы, проскальзывало нетерпение. Сомнений, однако, не было и в помине.
И если проскользнула нотка угрозы, думал Тод, только нотка, и легкая тень нетерпения — можно ли Баха винить? В конце концов, когда он писал эту музыку, мир уже семнадцать веков ждал своего возлюбленного. Но музыка опять изменилась, угроза и нетерпение исчезли. Дискант взмывал свободно и ликующе, и бас уже не силился его подавить. Он превратился в звучное сопровождение. «Придешь ты или нет, — словно говорила музыка, — я люблю тебя, и любви моей довольно». Это было простое утверждение факта — не плач и не серенада, — произнесенное без вызова и без смирения.
Возможно, Христос услышал. Если и услышал, то знака не подал. Служители услышали, ибо это был им сигнал выкатывать ящик с Гарри. Миссис Джонсон шла за ними по пятам, следя, чтобы гроб был поставлен куда надо. Она подняла руку, и Баха оборвали на середине фразы.
— Желающих лицезреть усопшего до начала проповеди — просят выйти вперед, — провозгласила она.
Сразу выступили только Джинго. Они направились к гробу всей семьей. Миссис Джонсон задержала их и жестом предложила Фей посмотреть первой. Поддерживаемая сестрами Ли и Мери Доув, она быстро заглянула в гроб, на минуту участила всхлипывания, затем поспешно вернулась на свое место.
Теперь пришла и очередь Джинго. Они наклонились над гробом и что-то сообщили друг другу при помощи ряда хриплых, взрывных и гортанных звуков. Когда они попытались заглянуть еще раз, миссис Джонсон решительно оттеснила их к скамье.
Карлик бочком подошел к гробу, произвел манипуляции с носовым платком и ретировался. Никто за ним не последовал, и тут миссис Джонсон вышла из себя — восприняв этот очевидный недостаток интереса как личное оскорбление.
— Желающие лицезреть останки покойного мистера Гринера должны сделать это незамедлительно, — прогремела она.
Произошло легкое движение, но никто не встал.
— А вы, миссис Гейл, — наконец сказала она, упершись взглядом в поименованную. — Что же вы? Не хотите кинуть последний взгляд? Скоро эти останки вашего соседа будут навеки преданы земле.
Деться было некуда. Миссис Гейл двинулась по проходу, и за ней еще несколько человек.
За их спинами Тод улизнул.
18
На другой день после похорон Фей выехала из Бердача. Тод не знал, где она поселилась, и собирался с силами, чтобы позвонить миссис Дженинг, как вдруг увидел ее из окна своей мастерской. Она была одета в костюм наполеоновской маркитантки. Пока он открывал окно, она почти успела свернуть за угол дома. Он крикнул ей, чтобы она подождала. Она помахала ему рукой, но когда он спустился вниз, ее уже не было.
По ее одежде он понял, что она снимается в фильме «Ватерлоо». Он спросил студийного полисмена, где работает группа, и тот сказал, что на самой дальней площадке. Он сразу отправился туда. Проехал взвод кирасир — крупные мужчины на гигантских конях. Он знал, что они направляются к той же площадке, и последовал за ними. Они перешли в галоп, и он скоро отстал.
Солнце пекло. Глаза и глотка были забиты пылью, поднятой копытами, в голове стучала кровь. Единственную тень отбрасывал океанский лайнер из раскрашенного холста, с настоящими шлюпками, висевшими на шлюп-балках. Тод постоял в его узкой тени, а потом пошел к торчавшему вдалеке пятнадцатиметровому сфинксу из папье-маше. Между ним и сфинксом пролегала пустыня — пустыня, непрерывно расширявшаяся благодаря армаде грузовиков, которые сваливали здесь белый песок. Едва он сделал несколько шагов, как человек с мегафоном приказал ему вернуться.
Он взял вправо и, огибая пустыню по широкой дуге, вышел на деревянный тротуар улицы Дикого Запада. На веранде салуна «Последняя ставка» стояла качалка. Он сел в нее и закурил.
Отсюда виден был поселок в джунглях и буйвол, привязанный к конической травяной хижине. Каждые несколько секунд животное издавало мелодичный стон. Откуда-то вылетел араб на белом жеребце. Тод окликнул араба, но ответа не получил. Немного погодя он увидел грузовик со снегом и эскимосскими собаками. Он опять крикнул. Шофер что-то крикнул в ответ, но не остановился.
Отшвырнув сигарету, он толкнул двустворчатую дверь салуна. Зада у здания не было, и он очутился на парижской улице. Он прошел ее до конца и вступил на романский двор. Невдалеке слышались голоса, и он направился туда. На лужайке из мочала группа мужчин и женщин в костюмах для верховой езды устроила пикник. Они ели картонную пищу перед целлофановым водопадом. Тод хотел подойти и спросить дорогу, но был остановлен мужчиной, который сделал страшное лицо и поднял табличку: «Тихо! Идет съемка». Когда Тод сделал еще один шаг, мужчина погрозил ему кулаком.
Отсюда он вышел к маленькому пруду, где плавали большие целлулоидные лебеди. Через пруд был переброшен мост с надписью «Лагерь Конфетка». Он прошел по мосту и очутился на тропинке, которая уткнулась в греческий храм Эроса. Сам бог лежал ничком в куче старых газет и бутылок.
Со ступеней храма он разглядел вдалеке дорогу, обсаженную черными ломбардскими тополями. На ней он и потерял кирасир. Он двинулся сквозь чащу колючих кустов, старых задников, железного хлама, миновал остов цеппелина, бамбуковый частокол, саманный форт, деревянного троянского коня, лестничный марш барочного дворца, начинавшийся в клумбе бурьяна и кончавшийся в ветвях дуба, часть станции «14-я улица» нью-йоркской надземной железной дороги, голландскую ветряную мельницу, скелет динозавра, надводную часть «Мерримака», угол храма майя и наконец вышел на дорогу.
Он запыхался. Он сел под тополем на камень, сделанный из коричневого гипса, и снял пиджак. Дул свежий ветерок, и вскоре ему стало легче.
В последнее время он начал думать не только о Домье и Гойе, но и о некоторых итальянских художниках XVII и XVIII веков, о Сальваторе Роза, Франческо Гварди и Монсю Дезидерио — живописцах Упадка и Тайны. Глядя теперь с холма, он видел композиции, которые можно было бы прямо составить из калабрийских работ Роза. Тут были полуразрушенные здания, разбитые памятники, выглядывавшие из-за громадных скрученных деревьев, чьи обнаженные корни корчились на иссохшей земле, и из-за кустов, покрытых не цветами или ягодами, а целым арсеналом сабель, пик и крючьев.
Для Гварди и Дезидерио тут были мосты, переброшенные над ничем, скульптуры среди деревьев, дворцы, казавшиеся мраморными, пока целый каменный портик не начинал хлопать на легком ветру. Были здесь и фигуры. Метрах в ста от Тода мужчина в котелке, сонно прислонясь к позолоченной корме венецианского барка, чистил яблоко. Еще дальше уборщица на приставной лестнице намыливала щеткой лицо десятиметрового Будды.
Он сошел с дороги и взобрался на гребень холма, чтобы взглянуть на ту сторону. Под ним лежал пустырь — пять гектаров дурнишника, среди которого там и сям торчали пучки подсолнухов и кусты. В центре поля возвышалась гигантская груда декораций, задников и реквизита. На глазах у него десятитонный грузовик добавил к ней еще партию. Это была конечная свалка. Он вспомнил «Саргассово море» Дженвер. Подобно тому как этот воображаемый водоем запечатлел в себе всю историю цивилизации в виде морского кладбища, участок внизу являл ее в виде свалки снов. Саргассово море фантазии! И свалка росла непрерывно, ибо не было сна на плаву, который рано или поздно не попал бы сюда — после того, как его сделали фотогеничным при помощи гипса, холста, дранки и краски. Многие суда, затонув, так и не попадают в Саргассово море; но ни один сон не исчезает бесследно. Где-то тревожит он какого-то несчастного человека, и в один прекрасный день, когда это станет ему невтерпеж, сон воспроизведут на съемочной площадке.
Когда он увидел в небе красное зарево и услышал орудийные раскаты, он понял, что это — Ватерлоо. Из-за поворота вышли на рысях несколько кавалерийских полков. У них были каски и кирасы из черного картона, а в седельных кобурах — длинные кавалерийские пистолеты. Солдаты Виктора Гюго. Тод сам делал эскизы некоторых мундиров, в точности следуя описаниям «Отверженных».
Он пошел за ними. Вскоре его обогнала конница Лефевра-Денуэтта, за которой проследовал полк gendarmes d'elite, несколько рот егерей гвардии и летучий отряд улан Рембо.
Они, очевидно, стягивались для гибельной атаки на Ла-Э-Сен. Сценария Тод не читал и думал — интересно, был ли вчера дождь? Поспеют ли Груши и Блюхер? Гротенстайн, продюсер, мог все изменить.
Пушечная пальба становилась все громче, и красный веер в небе разгорался. Долетел сладковатый, едкий запах вхолостую сожженного пороха. Он может опоздать, и битва кончится. Тод побежал. Он одолел косогор за крутым поворотом дороги, и перед ним открылась широкая равнина, покрытая войсками начала XIX века — в ярких нарядных мундирах, доставлявших ему столько удовольствия в детстве, когда он часами разглядывал солдат в старом словаре. На дальнем краю поля он увидел огромный бугор, вокруг которого стояли англичане с союзниками. Это было плато Мон-Сен-Жан, и они готовились храбро защищать его. Оно было еще не вполне закончено и кишело бутафорами, рабочими-постановщиками, плотниками, малярами.
Тод наблюдал из-под эвкалипта, прячась за вывеской «„Ватерлоо" — постановка Чарльза Г. Гротенстайна». Невдалеке юноша в старательно разорванном мундире конной гвардии репетировал с ассистентом режиссера свою роль.
«Vive I'Empereur!» — кричал молодой человек, потом хватался за грудь и падал мертвым. Ассистенту было трудно угодить, и он заставлял молодого человека повторять сцену снова и снова.
В центре поля битва развивалась очень живо. Британцам и их союзникам, по-видимому, приходилось туго. Принца Оранского, командовавшего центром, Хилла на правом крыле и Пиктона на левом сильно теснили французские ветераны. Отчаянному и неустрашимому принцу достался особенно тяжелый участок. Сквозь шум сражения прорывались его хриплые возгласы, обращенные к голландо-бельгийцам: «Нассау! Брауншвейг! Не отступать!» Тем не менее отступление началось. Хилл тоже отошел. Генералу Пиктону французы прострелили голову, и он вернулся в свою уборную. Альтен пал, сраженный саблей, и тоже удалился. Знамя Люнебургского батальона, которое нес представитель династии пфальцграфов Цвайбрюкенских, было захвачено кинозвездой-подростком в мундире парижского барабанщика. Шотландские Серые драгуны полегли, как один, и ушли переодеваться в другие мундиры. Тяжелых драгун Понсонби тоже изрубили в лапшу. М-ру Гротенстайну предстояло получить большой счет от Западной костюмерной компании.
Ни Наполеона, ни Веллингтона не было видно. В отсутствие Веллингтона союзниками командовал один из помрежей, мистер Крейн. Он усилил центр одной бригадой Шассе и одной бригадой Винка. На подкрепление им он бросил брауншвейгскую пехоту, валлийских стрелков, девонширское ополчение и ганноверскую легкую кавалерию в плоских кожаных касках с развевающимися конскими хвостами.
С французской стороны мужчина в клетчатой кепке приказал кирасирам Мило захватить Мон-Сен-Жан. С саблями в зубах и пистолетами в руках они бросились на приступ. Это было страшное зрелище.
Мужчина в клетчатой кепке совершил роковую ошибку. Мон-Сен - Жан не успели достроить. Еще не просохла краска и не все стойки были подведены. Из-за густого пушечного дыма он не разглядел, что над холмом еще трудятся бутафоры, постановщики и плотники.
Это была классическая ошибка, подумал Тод, не хуже наполеоновской. В тот раз она произошла по другой причине. Император приказал кирасирам штурмовать Мон-Сен-Жан, не зная, что у подножия скрыт глубокий ров, ставший ловушкой для его тяжелой кавалерии. Это было несчастьем для Франции, началом конца.
На этот раз та же ошибка привела к другому исходу. Ватерлоо, вместо того чтобы стать концом Великой Армии, закончилась вничью. Ни та, ни другая сторона не одержала победы, и завтра надо было сражаться сызнова. Большие потери, однако, понесла страховая компания, которой предстояло возместить ущерб работникам. Мужчина в клетчатой кепке был отправлен м-ром Гротенстайном на живодерню, как некогда Бонапарт на Святую Елену.
Когда передние ряды тяжелой дивизии Мило двинулись вверх по склону, холм рухнул. Шум был ужасающий. Визжали в муках гвозди, выдираемые из балок. Звук рвущегося холста подобен был плачу младенцев. Рейки и планки хрустели, как хрупкие кости. Холм сложился целиком, словно исполинский зонтик, и накрыл наполеоновскую армию раскрашенным холстом.
Она обратилась в бегство. Герои Березины, Лейпцига и Аустерлица удирали, как школьники, разбившие стекло.
— «Save qui peut!»[63] — кричали они, а вернее: «Мотай!»
Армия англичан и союзников слишком глубоко увязла в декорациях, чтобы бежать. Им пришлось ждать подхода плотников и санитарных машин. Доблестных горцев 75-го Шотландского вытаскивали из развалин талями. Лежа на носилках, они продолжали мужественно сжимать свои палаши.
19
Обратно Тода подбросила студийная машина. Ехать пришлось на подножке, потому что места были заняты двумя валлонскими гренадерами и четырьмя швабскими пехотинцами. У одного из пехотинцев была сломана нога, остальные статисты отделались царапинами и ушибами. Они очень радовались своим ранам. Они рассчитывали получить плату за несколько лишних съемочных дней, а человек со сломанной ногой надеялся, что ему дадут целых пятьсот долларов.
Войдя в мастерскую, Тод увидел Фей, которая дожидалась его. Она не участвовала в битве. В последний момент режиссер решил не привлекать маркитанток.
К его удивлению, она поздоровалась с ним тепло и дружелюбно. Тем не менее он стал извиняться за свое поведение в похоронном бюро. Но едва он начала, как она его прервала. Она не сердилась, а была благодарна ему за лекцию о венерических болезнях. Лекция образумила ее.
Она преподнесла ему еще один сюрприз. Она поселилась у Гомера Симпсона. Соглашение у них чисто деловое. Гомер готов кормить и одевать ее, пока она не станет звездой. Они записывают все его расходы до мелочей, и когда она пробьется в кино, она ему все вернет с шестью процентами. Чтобы придать делу совершенно официальный характер, они попросят юриста составить контракт.
Она непременно хотела узнать мнение Тода, и он сказал, что это — великолепная идея. Она поблагодарила его и пригласила завтра вечером на обед.
Когда она ушла, он стал раздумывать, как повлияет это совместное житье на Гомера. Может быть, оно его выправит. Он внушил себе эту мысль через образ, как будто человек — это кусок железа, который можно накалить и выправить ударами молота. Это был чистый самообман: мало кому так не хватало ковкости, как Гомеру.
Тод оставался при этом заблуждении и во время обеда с ними. Фей выглядела очень счастливой и болтала о хозяйственных расходах и глупых продавцах. У Гомера был цветок в петлице, на ногах — ковровые шлепанцы, и он не сводил сияющих глаз с Фей.
Когда они поели и Гомер занялся на кухне мытьем посуды, Тод заставил ее рассказать, как они проводят день. Она сказала, что они живут тихо, но она этому рада, потому что устала от волнений. Теперь ее интересует только карьера. Гомер делает всю работу по дому, и она по-настоящему отдыхает. Долгая болезнь папы совершенно ее измотала. Гомеру нравится хозяйничать — да он все равно не пустил бы ее на кухню — из-за рук.
— Оберегает свои капиталовложения, — заметил Тод.
— Да, — серьезно ответила она, — руки должны быть красивыми.
Завтракают они в десять, продолжала Фей. Гомер подает ей завтрак в постель. Он берет журнал под домоводству и все раскладывает на подносе, как на картинках. Пока она принимает ванну и одевается, он убирает дом. Потом они идут в город, по магазинам, и она покупает всякую всячину, больше из одежды. Второго завтрака не бывает, чтобы ей не растолстеть, зато обедают они обычно в городе, а потом идут в кино.
— А потом содовая с мороженым, — закончил за нее Гомер, появившись из кухни.
Фей засмеялась и попросила ее извинить. Они собираются в кино, и ей надо переодеться. Когда они остались вдвоем, Гомер предложил выйти во двор подышать. Он усадил Тода в шезлонг, а сам примостился на перевернутом ящике из-под апельсинов.
Тод не мог отделаться от мысли, что если бы он был осторожнее и вел себя прилично, Фей, пожалуй, жила бы с ним. Он хотя бы выглядит лучше Гомера. Да, но ее вторая предпосылка? У Гомера — постоянный доход и дом, а он зарабатывает тридцать долларов в неделю и живет в меблированных комнатах.
Счастливая улыбка на лице Гомера заставила его устыдиться своих мыслей. Он несправедлив. Гомер — скромный благодарный человек, который ни за что не станет смеяться над ней, который вообще ни над чем не способен смеяться. Благодаря этому прекрасному его качеству она с ним сможет жить гораздо более возвышенной — по ее представлениям — жизнью.
— Что случилось? — мягко спросил Гомер, положив тяжелую руку ему на колено.
— Ничего. А что?
Тод передвинулся так, чтобы рука соскользнула.
— Вы гримасничали.
— Задумался кое о чем.
— А-а, — сочувственно произнес Гомер.
Тод не мог удержаться от ехидного вопроса:
— Когда вы собираетесь пожениться?
Гомер, видимо, был задет.
— Разве Фей вам про нас не рассказывала?
— Так, немного.
— У нас деловое соглашение.
— Вон оно что…
Чтобы убедить Тода, он пустился в длинные бессвязные объяснения — видимо, те же, какие он практиковал на себе. Он даже не ограничился чисто практической стороной и заявил, что это делается ради бедного Гарри. У Фей ничего не осталось на свете, кроме артистической карьеры, и она должна добиться успеха ради папы. До сих пор она не могла стать звездой потому, что у нее не было нужных туалетов. А у него есть деньги, он верит в ее талант, и ничего нет естественнее, чем заключить такое деловое соглашение. Тод, случайно, не знает хорошего адвоката?
Вопрос был риторический, но он стал бы практическим и тягостным, если бы Тод улыбнулся. Тод нахмурился. Это тоже было ошибкой.
— Нам нужно найти адвоката на этой неделе и составить документ.
В его нетерпении было что-то жалкое. Тод хотел ему помочь, но не знал, что сказать. Он все еще ломал над этим голову, как вдруг с холма за гаражом донесся женский крик:
— Милон! Милон!
Это было высокое сопрано, очень звонкое и чистое.
— Что за странное имя, — сказал Тод, обрадовавшись случаю переменить тему.
— Может быть, иностранец, — предположил Гомер.
Из-за гаража появилась женщина. Она была энергичная, полная и очень американская.
— Вы не видали моего малыша? — спросила она, беспомощно разводя руками. — Милон такой непоседа.
К удивлению Тода, Гомер встал и улыбнулся женщине. Фей, видимо, оказалась хорошим средством от застенчивости.
— У вас пропал сын? — спросил Гомер.
— Нет, нет, — просто прячется, чтобы подразнить меня.
Она протянула руку.
— Мы соседи. Я — Мейбл Лумис.
— Очень приятно. Я — Гомер Симпсон, а это — мистер Хекет.
Тод тоже пожал ей руку.
— Вы давно здесь живете? — спросила она.
— Нет, я недавно приехал с Востока.
— Неужели? А я здесь седьмой год, со смерти мужа. Можно сказать — старожил.
— Значит, вам тут нравится? — спросил Тод.
— В Калифорнии? — Ее рассмешило предположение, что кому - то может здесь не понравиться. — Ведь это же рай земной.
— Да, — солидно подтвердил Гомер.
— К тому же, — продолжала она, — я должна здесь жить из-за Милона.
— Он болен?
— Ну что вы. Это вопрос его будущего. Агент называет его самой большой маленькой достопримечательностью Голливуда.
Столько страсти было в ее голосе, что Гомер отпрянул.
— Он снимается? — осведомился Тод.
— Еще бы, — отрезала она.
Гомер попытался ее задобрить:
— Это же очень хорошо.
— Если бы не блат вокруг, — с горечью сказал она, — Милон давно бы был звездой. Дело не в таланте. В связях. Ну что есть такого у Ширли Темпл, чего нет у него?
— Да… не знаю, — промямлил Гомер.
Не дослушав его, она издала устрашающий рев:
— Милон! Милон!
Тод видел таких на студии. Она была из полчища матерей, которые таскают детей по отделам найма и сидят часами, неделями, месяцами, дожидаясь случая показать, на что способен Ребенок. Есть среди них очень бедные, но даже самые бедные умудряются — часто ценою больших лишений — наскрести достаточно денег, чтобы отдать ребенка в одну из бесчисленных школ, воспитывающих таланты.
— Милон! — еще раз вскричала она, потом засмеялась и опять стала добродушной домашней хозяйкой, круглолицей коротышкой с ямочками на толстых щеках и толстых локтях.
— У вас есть дети, мистер Симпсон? — спросила она.
— Нет, — ответил он, зардевшись.
— Вам повезло — столько с ними мороки.
Она рассмеялась, показывая, что это не надо принимать всерьез, и снова позвала сына:
— Милон… Ну Милон…
Следующий ее вопрос изумил их обоих:
— Кому вы следуете?
— Чего? — сказал Тод.
— Ну… Взыскуя Здоровья — я имею в виду, на Стезе Жизни.
Оба разинули рты.
— Я сама сыроедка, — сказала она. — Наш глава — доктор Силл. Может быть, вам попадались его объявления — «Знание Силла»?
— А-а, понял, — сказал Тод, — вы вегетарианка.
Она посмеялась над его невежеством.
— Отнюдь. Мы гораздо строже. Вегетарианцы едят вареные овощи. Мы признаем только сырые. Мертвая пища ведет к смерти.
Ни Тод, ни Гомер не нашлись, что сказать.
— Милон! — снова начала она. — Милон…
На этот раз из-за гаража донесся ответ:
— Мама, я здесь.
Через минуту показался мальчик, тащивший за собой маленький парусник на колесиках. Он был лет восьми, с бледным изнуренным личиком и высоким озабоченным лбом. Большие глаза смотрели пристально. Брови были аккуратно и ровно выщипаны. Если не считать отложного воротника, он был одет как взрослый — в длинные брюки, жилет и пиджак.
Он хотело поцеловать маму, но она отстранила его и принялась поправлять на нем одежду, разглаживая и одергивая ее короткими свирепыми рывками.
— Милон, — строго сказала она, — познакомься с нашим соседом, мистером Симпсоном.
Повернувшись, как солдат на строевой, он подошел к Гомеру и схватил его за руку.
— Очень приятно, сэр, — сказал он и, щелкнув каблуками, церемонно поклонился.
— Вот как это делают в Европе, — просияла миссис Лумис. — Правда, он прелесть?
— Какой красивый кораблик, — сказал Гомер, пытаясь быть дружелюбным.
Мать и сын оставили его слова без внимания. Она показала на Тода, и мальчик повторил поклон и щелканье каблуками.
— Ну, нам пора, — сказала она.
Тод наблюдал за ребенком, который стоял чуть поодаль от матери и строил рожи Гомеру. Он закатил глаза под лоб и криво оскалился.
Миссис Лумис перехватила взгляд Тода и резко обернулась. Увидев, чем занят Милон, она дернула его за руку так, что его ноги отделились от земли.
— Милон! — взревела она.
И Тоду, извиняющимся тоном:
— Он воображает себя чудовищем Франкенштейна.
Она схватила мальчика на руки и стала с жаром целовать и тискать. Потом поставила на землю и снова одернула растерзанный костюмчик.
— Может, Милон нам что-нибудь споет? — предложил Тод.
— Нет, — грубо ответил мальчик.
— Милон, — заворчала мать, — спой сейчас же.
— Может быть, не надо, если ему не хочется? — сказал Гомер.
Но миссис Лумис была настроена решительно. Она не могла
допустить, чтобы он ломался перед публикой.
— Пой, Милон, — произнесла она с тихой угрозой. — Пой «Мама гороху не хочет».
Плечи у него передернулись, словно уже почувствовали ремень. Он заломил свою соломенную шляпку, застегнул пиджачок, выступил вперед и начал:
Мама гороху не хочет, Не хочет риса, кокосов. Только бы виски текло рекой, Да стаканчик был под рукой День-деньской. Мама гороху не хочет. Не хочет риса, кокосов.Пел он низким, грубым голосом, умело подпуская хрипу и стону, как заправский исполнитель блюзов. Движения телом он делал незначительные и скорее — против ритма, чем в ритм. Зато жесты рук были крайне непристойны.
Мама не хочет джину, После джину ей надо мужчину, Мама не хочет стаканчик джину, После джину ей подавай мужчину, И ходит, и бродит, и места себе не находит день-деньской.Он, по-видимому, понимал смысл слов, — во всяком случае, казалось, что понимают его тело и голос. Дойдя до последнего куплета, он начал извиваться, и голос его выразил высшую степень постельной муки.
Тод и Гомер захлопали в ладоши. Милон схватил за веревочку свой корабль и сделал круг по двору. Он изображал буксир. Он дал несколько гудков и убежал.
— Ведь совсем малыш, — гордо сказала миссис Лумис, — а талантлив безумно.
Тод и Гомер согласились.
Увидев, что мальчик опять исчез, она торопливо ушла. «Милон! Милон…» — услышали они ее крики в кустарнике за гаражом.
— Вот смешная женщина, — сказал Тод.
Гомер вздохнул.
— Да, я думаю, трудно в кино пробиться.
— Но Фей ведь очень хорошенькая.
Гомер согласился. А через минуту появилась она сама, в новом цветастом платье, в широкополой шляпе с пером, — и вздыхать настал черед Тоду. Она была более чем хорошенькая. Она стала в позу на пороге и спокойно, чуть подрагивая, смотрела сверху на мужчин. Она улыбалась — едва заметной полуулыбкой, не оскверненной мыслью. Она словно только что родилась — вся влажная и свежая, воздушная и душистая. Тод вдруг остро ощутил свои дубовые, заскорузлые ноги, затянутые в мертвую кожу, и липкие, грубые руки, сжимающие толстую шершавую фетровую шляпу.
Он хотел отвертеться от похода в кино, но не смог. Сидеть рядом с ней в темноте оказалось в точности таким испытанием, какое он и предвидел. Ее самоуверенность вызывала у него зуд; желание разрушить эту гладкую оболочку ударом или хотя бы похабным жестом сделалось нестерпимым.
Он подумал, а не въелась ли и в него самого тлетворная апатия, которую он любит изображать в других? Может быть, и его только гальванизация способна привести в чувство — и не поэтому ли он гоняется за Фей?
Он удрал с фильма, не попрощавшись. Он дал себе слово больше не бегать за ней. Дать слово было легко, сдержать оказалось трудно. Чтобы устоять, он прибегнул к уловке — одной из самых древних в богатом арсенале интеллигента. В конце концов, сказал он себе, сколько можно ее рисовать? Он захлопнул папку с карандашными портретами Фей, перевязал бечевкой и засунул в сундук.
Это была детская хитрость, недостойная даже первобытного шамана, но она подействовала. Ему удавалось избегать ее несколько месяцев. Это время он не расставался с карандашами и блокнотом, охотясь за новыми моделями. Все вечера он проводил в разных голливудских церквях, рисуя прихожан. Он посетил «Церковь Христову, Физическую», где святость достигалась постоянным употреблением эспандеров и разрезных гантелей; «Церковь Невидимую», где предсказывали судьбу и заставляли мертвых отыскивать утерянные вещи; «Скинию Третьего Пришествия», где женщины в мужском платье проповедовали «Крестовый поход против соли», и «Современный храм», под чьей стеклянно-хромовой крышей учили «Мозговому Дыханию, Тайне Ацтеков».
Глядя, как корчатся эти люди на жестких церковных скамьях, он думал о том, с каким драматизмом изобразил бы Алессандро Маньяско контраст между их высосанными хилыми телами и буйными, разнузданными душами. Он не стал бы высмеивать их, как Домье или Хогарт, и не стал бы жалеть. Он изобразил бы их неистовство с уважением, сознавая его страшную анархическую силу, сознавая, что у них хватит пороха разрушить цивилизацию.
Однажды вечером, в пятницу, в «Скинии Третьего Пришествия» сидевший недалеко от Тода человек встал и произнес речь. Хотя фамилия его была, скорее всего, Джонсон или Томпсон, а родина — город Сиу-Сити, у него были утопленные, как шляпки вороненых гвоздей, глаза, которые могли бы принадлежать монаху Маньяско. Вероятно, он только что прибыл из какого-нибудь поселения в пустыне, возле Собоба-Хот-Спрингс, где точил свою душу на диете из орехов и сырых фруктов. Он был очень разгневан. То, что он возвестил городу, мог возвестить бы какой-нибудь дремучий отшельник разложившемуся Риму. Послание его представляло собой дикую мешанину из диетических предписаний, экономики и библейских угроз. Он видел Тигра Гнева, который крался к стенам цитадели, и Шакала Похоти, шнырявшего в кустах, и связывал эти знамения с мясоедством и «30-ю долларами каждый четверг»[64].
Тод не смеялся над его риторикой. Он понимал, что дело не в ней. Важна была мессианская ярость оратора и эмоциональный отклик у слушателей. Они повскакали с мест, крича и потрясая кулаками. На алтаре кто-то начал бить в большой барабан, и скоро вся паства пела «Вперед, Христово Воинство».
20
Со временем отношения между Фей и Гомером начали меняться. Ей наскучила их совместная жизнь, и по мере того, как росла ее скука, Фей все больше изводила Гомера. Сначала она делала это бессознательно, потом — со злобой.
Что конец близок, Гомер понял даже раньше ее. Не зная, как его отвратить, он стал еще раболепнее и щедрее. Он разбивался в лепешку. Он купил ей манто из летнего горностая и голубой спортивный «бьюик».
Своим раболепием он напоминал неуклюжую забитую собаку, которая вечно ждет пинка и даже желает его, отчего искушение ударить становится непреодолимым. Его щедрость раздражала еще больше. Она была настолько беспомощной и самоотверженной, что Фей, несмотря на все свои старания обращаться с ним ласковее, чувствовала себя жестокой и подлой. С другой стороны, эта щедрость была настолько объемистой, что не замечать ее Фей не могла. Приходилось ею возмущаться. Он шел к гибели и, сам того не желая, вынуждал Фей возлагать вину на себя.
Тод снова увиделся сними, когда они подошли уже к последней черте. Однажды поздно вечером, когда он собирался спать, к нему постучался Гомер и сказал, что Фей ждет внизу в машине и что они хотят взять его с собой в ночной клуб.
Облачение на Гомере было потешное. Он явился в просторных полотняных брюках голубого цвета, желтой рубашке навыпуск и шоколадном фланелевом пиджаке. Не выглядеть смешным в подобном наряде мог только негр, а мало кто был не похож на негра, как Гомер.
Тод поехал с ними в бар «Золушка» на Вестерн-авеню — маленькое оштукатуренное здание в форме дамской туфельки. Выступали там имитаторы с женскими номерами.
Фей была в отвратительном расположении духа. Когда официант принимал у них заказ, она настояла, чтобы Гомеру подала коктейль с шампанским. Он хотел кофе. Официант принес и то и другое, но она заставила его забрать кофе.
Гомер начал добросовестно объяснять, как делал уже, наверное, не раз, что не может пить спиртного, потому что его тошнит. Фей слушала его с притворным вниманием. Когда он кончил, она рассмеялась и сунула стакан ему в лицо.
— Пей, черт бы тебя взял, — сказала она.
Она наклонила стакан, но Гомер не открыл рта, и жидкость потекла по подбородку. Он вытерся сложенной салфеткой.
Фей опять позвала официанта.
— Он не любит с шампанским, — сказала он. — Принесите ему коньяк.
Гомер замотал головой.
— Фей, не надо, — захныкал он.
Она поднесла стакан к его рту и водила следом, когда он отворачивался.
— Давай, кавалер, — до дна!
— Отстань от него, — сказал Тод.
Она пропустила его слова мимо ушей. Она была в ярости, и вместе с тем ей было стыдно. Стыд разжигал ярость и направлял на подходящий объект.
— Давай, кавалер, — свирепо сказал она, — не то нашлепаю.
Она повернулась к Тоду.
— Не люблю людей, которые не пьют. Это не по-компанейски. Они смотрят на всех свысока, а я не люблю людей, которые смотрят свысока.
— Я не смотрю свысока, — сказал Гомер.
— Нет, смотришь. Я пьяная, а ты трезвый и смотришь на меня свысока. Подумаешь, цаца какая.
Он открыл рот, собираясь возразить, но она влила в него коньяк и зажала рот ладонью, чтобы он не выплюнул. Часть коньяка вышла через ноздри.
Он утерся, по-прежнему не разворачивая салфетки. Фей заказала еще один коньяк. Когда его подали, она снова поднесла стакан к его рту, но на этот раз он сам взял стакан и добровольно проглотил жидкость.
— Вот это я понимаю, — засмеялась Фей. — Молодец, теля.
Чтобы дать Гомеру передышку, Тод пригласил ее на танец. Когда они вышли на площадку, Фей попыталась оправдаться:
— Это высокомерие меня просто бесит.
— Он тебя любит, — сказал Тод.
— Да, знаю, но он такая квашня.
Она начала плакать на его плече, и он обнял ее очень крепко. Он пошел напропалую:
— Живи со мной.
— Нет, солнышко, — сказала она сочувственно.
— Пожалуйста, пожалуйста… один раз.
— Не могу, родной. Я не люблю тебя.
— Ты работала у миссис Дженинг. Притворись, что это — у нее.
Она не рассердилась.
— Это было ошибкой. И потом, там — другое дело. Я всего несколько раз ходила по вызову — чтобы расплатиться за похороны… и там ведь совсем незнакомые. Понимаешь?
— Да. Но прошу тебя, милая. Я больше не буду к тебе приставать. Я сразу уеду на Восток. Будь доброй.
— Не могу.
— Почему?..
— Ну не могу. Не сердись, родной. Я не дразню, я просто не могу так.
— Я тебя люблю.
— Нет, зайчик, не могу.
Они дотанцевали, не произнеся больше ни слова. Он был благодарен ей за то, что она так хорошо себя вела и не пыталась поднять его на смех.
Когда они вернулись к столу, Гомер сидел все в той же позе. В одной руке он держал сложенную салфетку, в другой — пустой стакан из-под коньяка. Его беспомощность невыносимо раздражала.
— Фей, ты права насчет коньяка, — сказал Гомер. — Это прекрасно! Ух!
Он описал стаканом маленький круг.
— Я бы выпил виски, — сказал Тод.
Гомер сделал еще одну мужественную попытку поддержать общее настроение.
— Гарсон, — крикнул он официанту, — еще выпить.
Он тревожно улыбнулся им. Фей расхохоталась, и Гомер приложил все силы, чтобы засмеяться вместе с ней. Но она вдруг оборвала смех, и, обнаружив, что он смеется один, Гомер перевел смех в кашель, а затем спрятал кашель в салфетку.
Она повернулась к Тоду.
— Ну, что ты будешь делать с такой квашней?
Заиграл оркестр, и Тоду не пришлось отвечать.
Все трое повернулись и стали слушать колыбельную, которую исполнял молодой человек в облегающем бальном платье из красного шелка.
Ты плачешь, малышка, Ты за день устал, Почему ты горюешь, я знаю. Кто-то мишку у тебя отобрал, Засыпай поскорей, баю-баю…У него был мягкий вибрирующий голос и жесты зрелой женщины, нежные и замирающие на половине, как нечаянная ласка. Его номер вовсе не был пародией: он был слишком умерен и безыскусствен. В нем отсутствовала даже театральность. Этот смуглый молодой человек с тонкими безволосыми руками и мягкими круглыми плечами, который напевал, покачивая воображаемую колыбельку, и впрямь был женщиной.
Когда он кончил, ему долго хлопали. Молодой человек встряхнулся и снова стал артистом. Он запутался ногой в шлейфе, словно не привык к нему, вздернул юбки, чтобы показать парижские подвязки, и зашагал прочь, качая плечами. Это подражание мужчине было беспомощным и непристойным.
Гомер и Тод захлопали ему.
— Не выношу педов, — заметила Фей.
— Как все женщины.
Тод сказал это в шутку, но Фей сердилась.
— Пакость, — сказала она.
Он хотел еще что-то добавить, но Фей уже взялась за Гомера. Желание его изводить, видимо, было у нее непреодолимым. На этот раз она так ущипнула его за руку, что он пискнул.
— Ты знаешь, что такое пед? — грозно спросила она.
— Да, — ответил он неуверенно.
— Ну, что? — рявкнула она. — Говори. Что такое пед?
Гомер съежился, словно розга уже была занесена, и умоляюще
посмотрел на Тода, который, пытаясь спасти его, складывал губами «гомо…».
— Момо, — сказал Гомер.
Фей разразилась хохотом. Но вид у него был такой убитый, что она невольно смягчилась и потрепала его по плечу.
— Это серость, — сказала она.
Он благодарно улыбнулся и сделал официанту знак принести еще по стакану.
Заиграл оркестр, и какой-то человек пригласил Фей танцевать. Не сказав ни слова Гомеру, она пошла за ним.
— Кто это? — спросил Гомер, не сводя с них глаз.
Тод притворился, будто знает человека, и сказал, что часто встречал его около Бердача. Это объяснение успокоило Гомера, но в то же время направило его мысли по новому руслу. Тод почти зрительно ощущал, как в голове его складывается вопрос.
— Вы знаете Эрла Шупа? — Да.
Гомер разразился длинной, сбивчивой речью о черной курице. Он поминал ее снова и снова, как будто только это и отвращало от Эрла и мексиканца. Для человека, неспособного к ненависти, ему удалось создать довольно отталкивающий образ курицы:
— А как она приседает и вертит головой — ничего отвратительнее вы не видели. Петухи выдрали все перья у нее на шее, гребешок превратили в кусок мяса, а ноги у нее все в струпьях и бородавках, и вы бы знали, до чего она мерзко квохчет, когда они бросают ее в курятник.
— Кто бросает, в какой курятник?
— Мексиканец.
— Мигель?
— Да. Он не многим лучше своей курицы.
— Вы были у них в лагере?
— В лагере?
— На горе.
— Нет. Они живут в гараже. Фей спросила: ничего, если один ее друг поживет в гараже — у него нет денег. А про кур и мексиканца я ничего не знал… Столько людей теперь без работы.
— Почему вы их не выгоните?
— У них нет денег, им некуда деться. Жить в гараже не очень удобно.
— Но раз они плохо себя ведут?
— Все эта курица. Я ничего не имеют против петухов, они красивые, — только против этой грязной курицы. Она каждый раз трясет своими грязными перьями и так мерзко кудахчет.
— Можете на нее не смотреть.
— Они это делают каждый день, в одно и то же время, когда мы с Фей возвращаемся из магазинов и я сажусь во дворе на солнышке — перед обедом. Мексиканец знает, что мне неприятно на это смотреть, и заставляет смотреть назло. Я ухожу в дом, а он стучит в окна и зовет меня выйти поглядеть. Не понимаю, что тут забавного. У некоторых людей странные забавы.
— А Фей что?
— Она не возражает. Она говорит, что это естественно.
И чтобы Тод не расценил это как критику, он объяснил ему, какая она хорошая, чистая девушка. Тод согласился, но поспешил вернуться к прежней теме.
— На вашем месте, — сказал он, — я сообщил бы о курах в полицию. Чтобы держать их в городе, нужно разрешение. Я бы что - нибудь предпринял, черт возьми, — и не теряя времени.
Гомер уклонился от прямого ответа.
— Я бы не мог прикоснуться к ней ни за какие деньги. Она вся в струпьях и почти голая. Она похожа на канюка. Она ест мясо. Один раз я видел, как мексиканец дал ей мясо из помойного ящика. Петухов он кормит зерном, а курица ест помои, и он ее держит в грязном ящике.
— На вашем месте я бы выкинул этих оглоедов вместе с их птицами.
— Нет, вообще-то они симпатичные молодые люди, просто жизнь у них не ладится — знаете, ведь сейчас у многих так. Только вот курица…
Он устало покачал головой, словно попробовал ее на вкус и понюхал.
Вернулась Фей. Гомер понял, что Тод хочет поговорить с ней об Эрле и мексиканце, и в отчаянии делал знаки, чтобы удержать его. Она заметила это и заинтересовалась:
— О чем вы тут сплетничали?
— О тебе, солнышко, — ответил Тод. — Гомер хочет сделать тебе комплимент.
— Делай, Гомер.
— Нет, сперва ты мне сделай.
— Мой кавалер сказал, что ты, наверное, большая шишка в кино.
Тод видел, что Гомер не в состоянии придумать ответный комплимент, и сказал вместо него:
— Я говорю, что ты самая красивая в этом зале.
— Да, — поддержал Гомер. — Он так сказал.
— Не верю. Тод меня ненавидит. А кроме того, я заметила, как ты велел ему молчать. Ты ему шикал.
Она рассмеялась.
— Могу спорить, я знаю, о чем вы говорили. — И передразнила негодующего Гомера: — «Эта грязная черная курица — она вся в струпьях и почти голая».
Гомер униженно засмеялся, но Тод был сердит.
— Что за идея держать этих типов в гараже? — сказал он.
— А тебе-то какое дело? — ответила она, но без особого гнева. Ее это забавляло. — Гомеру приятно их общество. Скажи, теля?
— Я сказал Тоду, что они симпатичные люди, только жизнь у них не ладится — сейчас у многих так. Страшно много всюду безработных.
— Правильно, — сказала она. — Они уйдут — я уйду.
Тод так и думал. Он понял, что дальше разговаривать бесполезно. Гомер опять делал ему знаки, умоляя молчать.
Неизвестно почему, Фей вдруг стало стыдно. В качестве извинения она предложила Тоду потанцевать — откровенно при этом кокетничая. Тод отказался.
Наступившее затем молчание она прервала панегириком бойцовым петухам Мигеля — пытаясь таким образом оправдать себя. Она описывала, какие это прекрасные бойцы, как их любит Мигель и как он о них заботится.
Гомер с энтузиазмом поддакивал. Тод хранил молчание. Она спросила, приходилось ли ему видеть петушиный бой, и пригласила в гараж завтра вечером. Из Сан-Диего приезжает человек с петухами, чтобы выставить их против Мигеля.
Когда она повернулась к Гомеру, он отшатнулся, словно его собирались ударить. Она вспыхнула от стыда и оглянулась на Тода — заметил ли он. До конца вечера она старалась быть ласковой с Гомером. Она даже дотрагивалась до него — поправила ему воротник, пригладила волосы. Он сиял от счастья.
21
Когда Тод рассказал Клоду Эсти о петушином бое, Клод попросился с ним. Они поехали к Гомеру вместе.
Стояла одна из тех сиренево-синих ночей, когда кажется, что светящуюся краску разбрызгали в воздухе из распылителя. Даже самые густые тени отливали фиолетовым.
Перед воротами гаража стояла машина с зажженными фарами. Они увидели несколько человек в углу помещения и услышали их голоса. Кто-то смеялся на двух нотах — ха-ха, ха-ха, повторявшихся снова и снова.
Тод выступил вперед, чтобы его узнали — на случай, если они приняли меры предосторожности против полиции. Когда он вышел на свет, Эйб Кьюсик и Мигель поздоровались с ним, а Эрл — нет.
— Бои отменяются, — сказал Эйб. — Этот хипесник из Диего не явился.
Подошел Клод, и Тод представил его мужчинам. Карлик был надменен, Мигель любезен, а Эрл остался деревянным и угрюмым Эрлом.
Большая часть площади гаража была занята под арену — овальную площадку метра в три длиной и около двух с половиной в ширину. Она была застлана старым ковром и окружена низкой неровной загородкой из планок и обрывков проволоки. Машина Фей стояла на дорожке, и свет ее фар заливал арену.
Клод и Тод отошли за Эйбом в тень и уселись с ним на старый сундук в глубине гаража. Вернулись Эрл с Мигелем и присели на корточки напротив них. На обоих были джинсы, рубахи в горошек, большие шляпы и сапоги с высокими каблуками. Выглядели они очень живописно.
Все сидели спокойно и молча курили — кроме карлика, который вертелся. Хотя места ему хватало, он вдруг пихнул Тода.
— Подвинься, толстозадый, — буркнул он.
Тод промолчал и отодвинулся, потеснив Клода. Эрл засмеялся — над Тодом, а не над карликом, но тот все равно набросился на него:
— А ты-то чего, сопляк? Над кем смеешься?
— Над тобой, — сказал Эрл.
— Ага, так? Ну ты, звездорванец, за два цента я сжевал бы тебя с твоими бутафорскими сапогами.
Эрл сунул руку в карман и кинул на землю монету.
— На — десять.
Карлик начал было слезать с сундука, но Тод схватил его за шиворот. Он не пытался освободиться, а тянул вперед, как терьер на поводке, и мотал громадной головой.
— Ну, давай, — кипятился он, — ты, беженец из Западной костюмерной компании, ты… вошь в конских перьях.
Эрл рассердился бы гораздо меньше, если бы мог придумать язвительный ответ. Он промямлил что-то насчет двухвершковых выродков, потом плюнул. Увесистый плевок попал карлику на подъем ботинка.
— Точное попадание, — заметил Мигель.
Видимо, Эрлу этого было достаточно, чтобы почувствовать себя победителем, — он улыбнулся и успокоился. Карлик, выругавшись, сбросил руку Тода с воротника и снова умостился на сундуке.
— Ему только шпор не хватает, — сказал Мигель.
— С таким сопляком и без них управлюсь.
Все засмеялись, и мир был восстановлен.
Эйб наклонился через ноги Тода к Клоду.
— Бой был классный, — сказал он. — До вас тут пришло больше десяти человек — и кое-кто при хороших деньгах. Я собирался принимать ставки.
Он вытащил бумажник и дал Клоду свою карточку.
— Все было в ажуре, — сказал Мигель. — Пять моих птиц победили бы запросто, а две — наверняка проиграли бы. Хорошо могли заработать.
— Ни разу не видел петушиных боев, — сказал Клод. — Честно говоря, я и бойцового петуха никогда не видел.
Мигель предложил показать одного из своих и ушел за ним. Тод отправился за бутылкой виски, которую они оставили в машине. Когда он вернулся, Мигель держал в луче фары Хухутлу. Все разглядывали петуха.
Мигель держал его обеими руками, наподобие того, как держат баскетбольный мяч перед броском снизу. У петуха были короткие овальные крылья и хвост сердечком, стоявший перпендикулярно к туловищу. Его треугольная голова напоминала змеиную и заканчивалась слегка загнутым клювом, толстым у основания и острым на конце. Оперение у него было такое жесткое и плотное, что казалось полированным. Его слегка проредили для боя, и линии корпуса, похожего на усеченный клин, просматривались ясно. Между пальцев Мигеля свешивались его длинные ярко-оранжевые ноги с чуть более темными пальцами и роговыми когтями.
— Хуху выращен Джоном Боуэсом из Линдейла, штат Техас, — с гордостью сообщил Мигель. — Одержал шесть побед. Я дал за него ружье и пятьдесят долларов.
— Птица красивая, — ворчливо признал карлик, — но красота — это еще не все.
Клод вынул бумажник.
— Я хотел бы посмотреть, как он дерется, — сказал он. — А что, если вы продадите мне какого-нибудь другого петуха и я его выставлю против этого?
Мигель подумал и посмотрел на Эрла, который сказал ему, что это — дело.
— Есть у меня птица, — продам за пятнадцать долларов, — сказал он.
Тут вмешался карлик:
— Давайте я выберу.
— Нет, мне все равно, — сказал Клод. — Мне просто хочется посмотреть бой. Вот вам пятнадцать.
Эрл взял деньги, Мигель попросил его принести Хермано, большого рыжего.
— Этот рыжий потянет больше восьми фунтов, — пояснил он. — А в Хуху от силы шесть.
Эрл принес большого кочета с серебристой шалью. Выглядел он как обычная домашняя птица:
Увидев его, карлик возмутился.
— Это что у тебя — гусь?
— Он из стритовских «Мясников», — сказал Мигель.
— Я бы таким крючка наживлять не стал, — сказал карлик.
— Можешь на него не ставить, — пробурчал Эрл.
Карлик воззрился на птицу, птица — на карлика. Он обернулся к Клоду.
— Уважаемый, — сказал он, — давайте я буду секундантом.
Мигель поспешно вмешался:
— Пусть лучше Эрл. Он знает этого петуха.
Карлик взорвался.
— Сблатовались! — завопил он.
Он хотел отнять рыжего, но Эрл поднял его над головой, чтобы карлик не мог достать.
Мигель открыл сундук и вынул из него деревянный ящичек, в каких держат шахматы. Он был полон изогнутых шипов, квадратиков замши с дырками посередине и кусочков дратвы.
Все столпились вокруг и наблюдали, как он вооружает Хуху. Сначала он протер короткие обрубки шпор, чтобы они были совершенно чистыми, затем надел на лапу кожаный квадратик, пропустив пенек в дырку. На него он насадил шип и тщательно примотал дратвой. То же самое он проделал и с другой лапой.
Когда он закончил, Эрл принялся за рыжего.
— Этому петуху cojones[65] не занимать, — сказал Мигель. — Он выиграл много боев. С виду он не очень быстрый, но быстроты у него хватает и удар жуткий.
— Когда его кинешь в жаровню, так я скажу, — заметил карлик.
Эрл взял ножницы и начал подрезать у рыжего оперение. Карлик смотрел, как он отстригает у птицы большую часть хвоста, но когда он занялся перьями на груди, Эйб схватил его за руку.
— Кончай! — гаркнул он. — Так ты его сразу угробишь. Они нужны ему для защиты.
Он снова обратился к Клоду:
— Ей-богу, уважаемый, дайте я его подготовлю.
— Пускай войдет в долю, — сказал Мигель.
Клод засмеялся и знаком приказал Эрлу отдать птицу карлику. Эрлу не хотелось, и он со значением посмотрел на Мигеля.
Карлик начал приплясывать от ярости.
— Облапошить нас хотите! — закричал он.
— Да ладно, отдай ему, — сказал Мигель.
Лилипут сунул птицу под мышку, чтобы освободить руки, и начал перебирать шипы в ящичке. Все они были одинаковой длины, сантиметров семь-восемь, но некоторые отличались более крутым изгибом. Он выбрал пару и объяснил Клоду свою стратегию:
— Драться он будет по большей части на спине. Эта пара будет колоть вот так. Если бы он мог налетать на ихнего сверху, я бы взял другие.
Он стал на колени и принялся точить шипы о цементный пол, пока они не сделались острыми, как иголки.
— Есть у нас шансы? — спросил Тод.
— Заранее никогда не скажешь, — ответил Эйб и покачал своей безразмерной головой. — Пощупать — птица скорей для супа.
Он очень тщательно укрепил шипы и начал осматривать петуха, разглаживая ему крылья и раздувая перья, чтобы увидеть кожу.
— Для боевой готовности гребень бледноват, — сказал Эйб, ущипнув его. — Но на вид птица сильная. Когда-то, видно, он был ничего.
Он держал петуха на свету и осматривал голову. Увидев, что он изучает клюв, Мигель беспокойно сказал, что хватит тянуть волынку. Карлик не обратил на него внимания и продолжал осмотр, бормоча себе под нос. Он поманил Тода и Клода.
— Ну, что я говорил? — сказал он, пыхтя от негодования. — Нас облапошили.
Он показал на тоненькую линию, пересекавшую надклювье.
— Это не трещина, — запротестовал Мигель, — это просто метинка.
Он протянул руку, словно собираясь стереть ее, и петух с яростью клюнул. Это понравилось карлику.
— Мы будем драться, — сказал он, — но мы не будем делать ставок.
Судить должен был Эрл. Он взял кусок мела и провел на арене три черты — одну длинную посредине и две покороче — параллельно ей, примерно в метре.
— Пускайте петухов, — скомандовал он.
— Нет, сперва стравим, — запротестовал карлик.
Он и Мигель стали друг против друга на расстоянии вытянутой руки и сунули петухов вперед, чтобы раздразнить их. Хуху злобно вцепился рыжему в гребень и держал, пока Мигель его не отдернул. Рыжий, который до сих пор вел себя довольно апатично, оживился, и карлику стало трудно его удерживать. Они снова стравили петухов, и Хуху снова поймал рыжего за гребень. Тот пришел в остервенение и рвался к своему более мелкому противнику.
— Мы готовы, — объявил карлик.
Он и Мигель забрались на арену и поставили петухов друг против друга на короткие линии. Они держали их за хвосты, ожидая, когда Эрл даст сигнал к бою.
— Пускайте, — скомандовал он.
Карлик следил за его губами и отпустил свою птицу раньше, но Хуху сразу поднялся в воздух и вонзил шпору рыжему в грудь. Она прошла сквозь перья в тело. Со шпорой в груди рыжий повернулся и дважды клюнул противника в голову.
Они разняли птиц и снова поставили на линии.
— Пускайте! — крикнул Эрл.
Снова Хуху взлетел над рыжим, но на этот раз промахнулся шпорами. Рыжий попытался подняться выше его, но не смог. Он был слишком тяжел и неповоротлив для боя в воздухе. Хуху снова взлетел и бил и сек лапами с такой быстротой, что они слились в золотистый полукруг. Рыжий встретил его, присев на хвост и цепляя лапами снизу вверх, как кошка. Хуху падал на него снова и снова. Он сломал ему одно крыло и почти перерезал ногу.
— На руки, — приказал Эрл.
Когда карлик взял рыжего, голова у того уже поникла, а шея представляла собой месиво окровавленных перьев. Коротыш застонал над птицей, потом принялся задело. Он плюнул в разинутый клюв, взял в губы гребень и пососал, чтобы прилила кровь. К петуху возвращалась прежняя ярость, но не сила. Клюв его закрылся, шея выпрямилась. Карлик разглаживал и поправлял его оперение. Но он ничего не мог сделать со сломанным крылом и перебитой ногой.
— Пускайте, — сказал Эрл.
Карлик требовал, чтобы петухов поставили нос к носу, на средней линии, — тогда рыжему не надо будет идти к противнику. Мигель согласился.
Рыжий вел себя очень мужественно. Когда Эйб отпустил его хвост, он сделал отчаянное усилие, чтобы взлететь и встретить Хуху в воздухе, но оттолкнуться смог только одной ногой и упал на бок. Хуху взвился над ним, сделал поворот и опустился ему на спину, всадив обе шпоры. Рыжий рванулся, сбросил Хуху и из последних сил попытался ударить его здоровой лапой, но снова завалился на бок.
Прежде чем Хуху успел взлететь, рыжему удалось сильно клюнуть его в голову. Это лишило меньшую птицу подвижности, и ей пришлось драться на земле. В драке клювами превосходство рыжего в силе и массе уравновешивало повреждения крыла и ноги. Он поквитался с врагом. Но вдруг его треснутый клюв обломился, и от него осталась только нижняя половина. На месте клюва вскипел большой пузырь крови. Рыжий не дрогнул и снова сделал отчаянное усилие подняться в воздух. Умело используя единственную ногу, он ухитрился подпрыгнуть сантиметров на пятнадцать, но этого было мало, чтобы пустить в ход шпоры. Хуху взлетел вместе с ним, но поднялся гораздо выше и вогнал обе шпоры рыжему в грудь. Снова один из шипов застрял.
— На руки! — крикнул Эрл.
Мигель освободил своего петуха и отдал рыжего карлику. Эйб с тихим стоном пригладил ему перья и дочиста облизал глаза, а потом взял в рот всю его голову. Петух, однако, уже кончался. Он даже не мог держать прямо шею. Карлик раздул перья у него под хвостом и крепко сжал вместе края заднего прохода. Когда и это не помогло, он всунул туда мизинец и почесал петуху яички. Тот затрепыхался и сделал мужественную попытку выпрямить шею.
— Пускайте.
Рыжий еще раз попробовал подняться вместе с Хуху, сильно отталкиваясь целой ногой, но лишь волчком закружился на месте. Хуху взлетел, но промахнулся. Рыжий слабо ткнул его сломанным клювом. Хуху снова поднялся в воздух, и на этот раз его шпора пронзила глаз рыжего и вошла в мозг. Рыжий упал замертво.
Карлик застонал от горя, но остальные не произнесли ни слова. Хуху выклевывал оставшийся глаз у мертвой птицы.
— Убери эту кровожадную сволочь! — заорал карлик.
Мигель засмеялся, потом поймал Хуху и снял с него шипы. Эрл
то же самое сделал с рыжим. Он обращался с мертвой птицей бережно и почтительно.
Тод пустил по кругу виски.
22
Когда в гараж вошел Гомер, они уже были сильно навеселе. Он слегка вздрогнул, увидев распростертую на ковре мертвую птицу. Он пожал руку Клоду, когда Тод представил их друг другу, потом — Эйбу Кьюсику и произнес маленькую заготовленную речь относительно того, чтобы все зашли в дом и выпили. Они повалили за ним.
Фей приветствовала их в дверях. На ней был пижамный костюм из зеленого шелка и зеленые домашние туфли с большими помпонами и очень высокими каблуками. Распахнутая сверху пижама щедро показывала тело, но грудей не было видно — и не потому, что они были маленькими, а потому, что росли далеко друг от друга и смотрели вверх и в стороны.
Она подала руку Тоду, а карлика потрепала по голове. Они были старые приятели. Когда Гомер неуклюже представлял ей Клода, она вела себя совсем как дама. Это была ее любимая роль, и она разыгрывала ее всякий раз, когда знакомилась с новым мужчиной, особенно — таким, чья обеспеченность не вызывала сомнений.
— Счастлива познакомиться, — прожурчала она.
Карлик захохотал над ней.
Голосом, деревянным от высокомерия, она услала Гомера на кухню — за содовой, льдом и бокалами.
— В порядке комнатуха, — объявил карлик, надевая шляпу, которую снял в дверях.
Работая коленями и руками, он вскарабкался на большое испанское кресло и сел на краю, свесив ножки. Он был похож на куклу чревовещателя.
Эрл с Мигелем задержались, чтобы умыться. Когда они вошли, Фей встретила их напыщенно-снисходительно:
— Здравствуйте, молодые люди. Напитки будут поданы сию минуту. Впрочем, вы, может быть, предпочтете ликер, Мигель?
— Нет, мадам, — сказал он несколько озадаченно. — Как другие, так и я.
Он проследовал за Эрлом к кушетке. Оба шагали по-журавлиному, на негнущихся ногах, словно не привыкли жить в доме. Они осторожно опустились на кушетку и сидели выпрямившись, держа большие шляпы на коленях и руки — под шляпами. Уходя из гаража, они причесались, и их маленькие круглые головы красиво блестели.
Гомер разнес стаканы на маленьком подносе.
Все вели себя церемонно — вернее, все, кроме карлика, который, по обыкновению, нахальничал. Он даже высказался о качестве виски. Обслужив всех, Гомер сел.
Продолжала стоять одна Фей. Хотя все глазели на нее, она была полна самообладания. Она стояла, подбоченясь и круто выкатив бедро. Со своего места Клод мог наблюдать обворожительную линию ее хребта, нисходящую в ягодицы, которые были похожи на перевернутое сердечко.
Он присвистнул от восхищения, и все согласились с ним, заерзав или засмеявшись.
— Дорогой, — обратилась она к Гомеру, — может быть, мужчины хотят выкурить по сигаре?
Он удивился и забормотал, что сигар в доме нет, но что он может сходить за ними в магазин, если… От этой вынужденной речи он пришел в расстройство и снова стал разносить виски. Наливал он не скупясь.
— Этот оттенок зеленого вам очень идет, — сказал Тод.
Фей красовалась перед ними.
— А мне казалось, он немножко вульгарен… понимаете, чересчур ярок.
— Нет, — с энтузиазмом возразил Клод, — он изумителен.
Фей вознаградила его за комплимент особой загадочной улыбкой, завершившейся облизыванием губ. Это была одна из ее излюбленных ужимок — и наиболее действенных. Казалось, она сулит какие-то неизведанные интимности, но на самом деле она была такой же простой и автоматической, как слово «спасибо». Фей расплачивалась ею со всеми и за все, даже самое пустяковое.
Клод попался на нее так же, как часто попадался Тод, и вскочил на ноги.
— Может быть, вы присядете? — сказал он, галантно предлагая свое кресло.
Она приняла предложение, повторив загадочную улыбку и облизывание губ. Клод поклонился, но, осознав, что все за ним наблюдают, и боясь показаться смешным, дополнил поклон ироническим взмахом руки. Тод подошел к ним, потом присоединились и Эрл с Мигелем. Любезничал Клод, а остальные стояли рядом, уставясь на нее.
— Вы работаете в кино, мистер Эсти? — спросила она.
— Да. Вы, конечно, снимаетесь?
Все услышали молящую нотку в его голосе, но никто не улыбнулся. Они не осуждали его. В разговоре с ней было почти невозможно не сбиться на этот тон. Мужчины не могли удержаться от него, даже когда здоровались.
— Не совсем, — ответила она, — но надеюсь — в скором времени. Я снималась в массовках, а настоящего случая у меня еще не было. Думаю, он скоро представится. Случай — я больше ничего не прошу. Актерство у меня в крови. Понимаете, мы, Гринеры, давно связали свою судьбу с театром.
-Да… я…
Она не дала ему кончить, но ему было все равно.
— Нес опереткой, а с настоящим драматическим… Конечно, для начала пусть это будет даже водевиль. Случай — я больше ничего не прошу. Последнее время я покупаю много туалетов — ведь просто так он не придет. В удачу я не верю. Удача, говорят, это просто упорный труд, а я желаю трудиться не меньше, чем кто бы то ни было.
— У вас восхитительный голос, и вы хорошо им владеете.
Он не мог удержаться. Увидев однажды эту загадочную улыбку и все, что ей сопутствовало, хотелось вызывать ее снова и снова.
— Я хотела бы выступить на Бродвее, — продолжала она. — Теперь ведь с этого надо начинать. Если у вас нет сценического опыта, с вами никто и разговаривать не станет.
Она говорила и говорила, объясняя ему, как добиваются успеха в кино и как она намерена его добиться. Все это была сплошная чепуха. Она мешала обрывки плохо понятых советов из профессиональных газет с заметками из бульварных киножурналов и сопоставляла все это с легендами, окружающими кинозвезд и кинодеятелей. Без всякого видимого перехода возможное превращалось в вероятное и оказывалось неизбежным. Сначала она изредка останавливалась, дожидаясь, чтобы Клод с одобрением подхватил ее слова, но когда она разошлась, все ее вопросы стали риторическими, и поток слов струился бесперебойно.
Никто ее, в сущности, не слушал. Все с головой погрузились в наблюдение за тем, как она улыбается, смеется, трепещет, шепчет, негодует, закладывает ногу на ногу и сбрасывает обратно, высовывает язык, расширяет и прищуривает глаза, встряхивает головой, расплескивая платиновые волосы по красному плюшу спинки. Странным в ее жестах и гримасах было то, что они вовсе не иллюстрировали ее рассказа. Они были почти беспредметны. Ее тело как будто понимало, до чего глупы ее слова, и пыталось возбудить слушателей до состояния всеядности. Сегодня ей это удавалось; никому и в голову не пришло смеяться над ней. Единственное, что они сделали, — это еще теснее обступили ее кресло.
Тод стоял вне круга, наблюдая ее в просвет между Эрлом и мексиканцем. Ощутив легкое похлопывание по плечу, он понял, что это Гомер, но не обернулся. Когда похлопывание повторилось, он отбросил руку плечом. Через несколько минут он услышал скрип башмаков и, оглянувшись, увидел уходящего на цыпочках Гомера. Гомер благополучно добрался до кресла и со вздохом сел. Он положил тяжелые руки на колени — каждую на свое — и некоторое время созерцал их. Почувствовав на себе взгляд Тода, он поднял глаза и улыбнулся.
У Тода его улыбка вызвала досаду. Это была одна из тех раздражающих улыбок, которые словно говорят: «Друг мой, что вы можете знать о страдании». Было в ней что-то очень покровительственное и самодовольное, какой-то невыносимый снобизм.
Его бросило в жар и затошнило. Он повернулся к Гомеру спиной и вышел через парадную дверь. Демонстративный уход не удался. Его сильно шатало, и, добравшись до тротуара, он вынужден был сесть на обочину и прислониться к финиковой пальме.
Оттуда, где он сидел, не видно было города в долине под каньоном, но зарево его висело в небе, как раскрашенный от руки зонтик. Неосвещенная часть неба за краями зонтика была густо-черной, без синевы.
Гомер вышел из дома за ним и столбом стоял позади, не решаясь приблизиться. Он мог бы так же тихо уйти, и Тод бы его не заметил, если бы не опустил голову и не увидел его тень.
— Привет, — сказал он.
Он показал Гомеру, чтобы тот сел рядом.
— Вы простудитесь, — сказал Гомер.
Тод понял, почему он медлит. Гомер хотел убедиться, что Тод в самом деле будет рад его обществу. Тем не менее Тод не повторил своего приглашения. Он даже не оглянулся второй раз. Он не сомневался, что страдальческая улыбка до сих пор украшает лицо Гомера, и не желал ее видеть.
Он удивлялся, почему все его сочувствие вдруг превратилось в злость. Из-за Фей? Он не мог этого признать. Потому что он ничем не может помочь Гомеру? Это объяснение было более удобным, но он отверг его еще решительнее. Он никогда не строил из себя целителя.
Гомер смотрел в другую сторону, на дом, наблюдал за окном гостиной. Когда кто-то засмеялся, он наклонил голову набок. Четыре коротких звука, отчетливо музыкальные ноты, ха-ха, ха-ха, исходили от карлика.
— Вы могли бы у него поучиться, — сказал Тод.
— Чему? — обернувшись, спросил Гомер.
— Да ладно.
Его раздражение обидело и озадачило Гомера. Тод почувствовал это и жестом предложил ему сесть — на этот раз настойчивее.
Гомер повиновался. Он сделал неудачную попытку опуститься на корточки и ушибся. Он сел, потирая колено.
— Что такое? — наконец спросил Тод, пытаясь проявить душевность.
— Ничего, Тод, ничего.
Он был благодарен, и улыбка стала шире. Тод не мог не замечать всех ее раздражающих атрибутов — смирения, доброты, покорности.
Они сидели тихо, Гомер — ссутулив массивные плечи, с мягкой улыбкой на лице, Тод — нахмурясь и крепко прижавшись спиной к пальме. В доме играл приемник, и его рев разносился по улице.
Они долго сидели, не разговаривая. Несколько раз Гомер порывался что-то сказать, но не мог выдавить из себя ни слова. Тод не пожелал помочь ему вопросом.
Гомер убрал руки с колен, где они играли в «кто выше», и спрятал их под мышки. Пожив там немного, они съехали под ягодицы. Минутой позже они снова очутились на коленях. Правая рука с хрустом вытягивала фаланги левой, потом левая отплатила ей той же монетой. Обе как будто успокоились — но ненадолго. Они снова начали «кто выше» и проиграли весь спектакль, закончившийся, как и прежде, манипуляцией с суставами. Гомер пошел по третьему кругу, но, поймав взгляд Тода, остановился и зажал руки между коленями.
Это был самый замысловатый тик, какой доводилось видеть Тоду. Особенно ужасной была его отточенность. Это была не пантомима, как он сперва подумал, а ручной балет.
Увидев, что руки снова выползают на волю, Тод взорвался:
— Бога ради!
Руки рвались на свободу, но Гомер прихлопнул их коленями и не выпускал.
— Извините, — сказал он.
— Ничего.
— Я не могу удержаться, Тод. Я должен сделать это три раза.
— Мне — что? Валяйте.
Он отвернулся.
Фей запела; ее голос лился на улицу.
Без дури небо мне коптить — не расчет, Счастья жизнь отпускает — баш на баш. Запалить бы раз метровый косячок, Затянуться, затянуться — и шабаш.Она исполняла мелодию не в обычной своей свинговой манере, а траурно, с подвываниями, как погребальную песнь. В конце каждого куплета она еще поддавала грусти.
С охнарём усядусь, мне кум — король, Закурю, и все мне — трын-трава. С фонарем по свету счастья искать уволь, Оно в руках — затянись раза два.— Она очень красиво поет, — сказал Гомер.
— Она напилась.
— Я не знаю, что делать, Тод, — пожаловался Гомер. — Последнее время она пьет ужасно. Все этот Эрл. Мы очень весело жили, пока его не было. Но с тех пор как он тут осел, всякое веселье кончилось.
— А почему вы его не выгоните?
— Я думал насчет того, что вы мне сказали насчет лицензии на содержание кур.
Тод догадался, чего он хочет.
— Я завтра сообщу о них в отдел здравоохранения.
Гомер поблагодарил и начал настойчиво и дотошно объяснять, почему он не может сделать этого сам.
— Но так вы избавитесь только от мексиканца. Эрла вам придется выгнать самому.
— Может быть, он уйдет с другом?
Тод понимал, что Гомер умоляет не отнимать у него надежду, но не сжалился.
— Исключено. Вам придется его выгнать.
Гомер принял это с доброй, мужественной улыбкой.
— Может быть…
— Скажите, чтобы Фей это сделала.
— Что вы, не могу.
— Почему, черт подери? Это ваш дом.
— Тодди, не сердитесь на меня.
— Ладно, Гоми, я на вас не сержусь.
Из открытого окна доносился голос Фей:
…и сухо стало в глотке, И ты как в лодке — поплыл, поплыл…Остальные подхватили последнее слово.
— Тодди, — начал Гомер, — если…
— Перестаньте звать меня Тодди, ради Христа!
Гомер не понял. Он взял Тода за руку.
— Я ведь просто так. У нас дома все зовут друг…
Тод не мог вынести его трепетных сигналов нежности. Он грубо вырвал руку.
— Нет, правда, Тодди…
— Она б…!
Он услышал, как замычал Гомер и как скрипнули его колени, когда он стал подниматься на ноги.
Из открытого окна вырывался голос Фей — пронзительные причитания, перерываемые хриплыми вздохами:
Дурь, дурь, дурь, — если есть дурь, Не ходи такой угрюмый, Задвигайся и не думай Ни о крыше, ни о хлебе, И торчи, как солнце в небе, Лоб заботами не хмурь…[66]23
Когда Тод вернулся в дом, Эрл, Клод и Эйб Кьюсик стояли рядышком и смотрели, как Фей танцует с Мигелем. Они танцевали медленное танго под патефон. Мексиканец крепко прижимал ее к себе, просунув одну ногу между ее ногами, и, плавно раскачиваясь, они выписывали длинные спирали, обламывавшиеся на вершине каждого витка, когда он припадал на колено. Все пуговицы ее пижамы были расстегнуты, и его рука обнимала ее талию под одеждой.
Тод задержался в дверях, глядя на пару, потом подошел к столику, где стояла бутылка виски. Он налил себе четверть стакана, выплеснул в рот, налил еще. Со стаканом в руке он подошел к Клоду и остальным. Они не обратили на него внимания; их головы только поворачивались вслед за танцорами, как у зрителей на теннисном матче.
— Гомера не видели? — спросил он, тронув Клода за плечо.
Клод не обернулся; обернулся карлик. Он проговорил как под
гипнозом:
— Какая баба! Какая баба!
Тод оставил их и пошел искать Гомера. На кухне его не было, и он решил заглянуть в спальни. Одна была заперта. Он тихо постучался, выждал, постучался снова. Ответа не было, но ему послышалось какое-то движение. Он заглянул в замочную скважину. В комнате была кромешная тьма.
— Гомер, — позвал он вполголоса.
Он услышал скрип кровати, потом Гомер отозвался:
— Кто там?
— Это я — Тодди.
Уменьшительное имя он употребил совершенно серьезно.
— Уходите, пожалуйста, — сказал Гомер.
— Пустите меня на минуту. Я хочу вам объяснить.
— Нет, — сказал Гомер, — уходите, пожалуйста.
Тод вернулся в гостиную. Танго на патефоне сменилось фокстротом, и с Фей танцевал Эрл. Он держал ее по-медвежьи, обеими руками за плечи, и они мотались по всей комнате, налетая на мебель и стены. Фей, закинув голову, дико хохотала. У Эрла глаза были зажмурены.
Мигель и Клод тоже хохотали — в отличие от карлика. Эйб стоял, стиснув кулаки и выпятив подбородок. Когда ему стало совсем невтерпеж, он побежал за парой, чтобы разбить ее. Он схватил Эрла сзади за брюки.
— Дай мне, — рявкнул он.
Эрл нагнул голову и посмотрел на карлика через плечо.
— Пусти! Пусти, говорю!
Фей с Эрлом остановились, не выпуская друг друга из объятий. Когда карлик нагнул по-козлиному голову и попытался протиснуться между ними, она опустила руку и дернула его за нос.
— Дай потанцевать, — заорал он.
Они двинулись было дальше, но карлик их не пустил. Он просунул между ними руки и отчаянно старался растащить их. Когда это не получилось, он сильно лягнул Эрла в голень. Эрл ответил тем же, заехав ему сапогом в живот, и лилипут опрокинулся на спину. Все засмеялись.
Карлик с трудом поднялся на ноги и пригнул голову, как маленький таран. Как только Фей и Эрл снова начали танцевать, он бросился между ног Эрла и сунул вверх обе руки. Эрл закричал от боли и попытался достать карлика. Потом вскрикнул еще раз, застонал и начал оседать, раздирая в падении шелковую пижаму Фей.
Мигель схватил Эйба за глотку. Тот разжал руки, и Эрл свалился на пол. Мексиканец поднял карлика в воздух, перехватил за щиколотки и шваркнул об стену, как кролика о дерево. Он снова размахнулся карликом, чтобы ударить еще раз, но Тод поймал его за руку. Тут же Клод вцепился в Эйба, и вдвоем они отняли его у мексиканца.
Карлик был без сознания. Они отнесли его на кухню и сунули под холодную воду. Он быстро пришел в себя и разразился бранью. Увидев, что он ожил, они вернулись в гостиную.
Мигель вел Эрла к кушетке. У ковбоя сошел весь загар с лица, и оно было мокро от пота. Мигель ослабил на нем пояс, а Клод снял с него галстук и расстегнул воротник.
Фей и Тод наблюдали, стоя в стороне.
— Смотри, — сказала она, — погибла моя новая пижама.
Один рукав был почти оторван, и в прореху выглядывало плечо.
Брюки тоже были разодраны. Пока он смотрел на нее, она расстегнула брюки и переступила через них. На ней были тугие черные кружевные трусики. Он шагнул к ней и заколебался. Она спокойно перебросила штанины через руку, медленно повернулась и пошла к двери.
— Фей, — прошептал Тод.
Она остановилась и улыбнулась ему.
— Я иду спать, — сказала она. — Забери отсюда маленького.
Подошел Клод и взял Тода под руку.
— Давайте смываться.
Тод кивнул.
— И надо захватить гомункула — а то он тут всех поубивает.
Тод опять кивнул и вышел за ним на кухню. Карлик прикладывал к голове большой кусок льда.
— А здоровую шишку набил мне желтопузый.
Он заставил их щупать ее и восхищаться.
— Пойдемте домой, — сказал Клод.
— Нет, — сказал карлик, — пошли к бабам. Я только начал заводиться.
— Ну их к черту, — вмешался Тод. — Пошли отсюда. — Он подтолкнул Эйба к двери.
— Руки придержи, сопляк! — взревел лилипут.
Клод встал между ними.
— Спокойно, граждане, — сказал он.
— Ну ладно, только не толкаться.
Эйб важно двинулся к выходу, они — за ним.
Эрл еще лежал на кушетке. Глаза у него были закрыты, и он обеими руками держал себя за низ живота. Мигеля не было.
Эйб хохотнул и весело помотал головой:
— Уделал я пастуха!
На тротуаре он еще раз попробовал заманить их с собой:
— Пошли, ребята, — получите удовольствие.
— Я иду домой, — сказал Клод.
Они подошли с карликом к его машине и посмотрели, как он забирается в кабину. На тормозе и сцеплении у него были специальные надставки, чтобы он мог дотянуться до них своими крохотными ножками.
— Ну, махнем?
— Нет, спасибо, — вежливо ответил Клод.
— Ну и черт с вами!
Так он с ними попрощался. Он отпустил тормоз, и машина укатилась.
24
На другое утро, когда Тод проснулся, голова у него раскалывалась. Он позвонил на студию, сказал, что не придет, и до полудня пролежал в постели; затем пошел в город завтракать. После нескольких чашек горячего чая ему стало легче, и он решил навестить Гомера. Он все еще хотел извиниться.
От подъема в гору к Пиньон-Каньону боль в голове начала пульсировать, и он даже обрадовался, что никто не ответил на его настойчивый стук. Собравшись уже уходить, он заметил, что штора в одном окне шевельнулась, и вернулся, чтобы постучать еще раз. Ответа по-прежнему не было.
Он заглянул в гараж. Машина Фей исчезла, так же как и бойцовые петухи. Он подошел к дому сзади и постучал в дверь кухни. Тишина была какой-то чересчур уж полной. Он тронул ручку и обнаружил, что дверь не заперта. Он несколько раз крикнул «эй», чтобы дать о себе знать, и прошел через кухню в гостиную.
Красные бархатные шторы были плотно задернуты, но он разглядел Гомера, который сидел на кушетке, уставясь на свои руки, лежавшие на коленных чашечках. Он был в бумазейной ночной рубахе, босой.
— Только что встали?
Гомер не пошевелился и не ответил.
Тод сделал еще попытку:
— Ну и вечерок!
Он понимал, что глупо изображать бодрячка, но ничего лучше придумать не мог.
— Здорово я вчера перебрал! — продолжал он и даже попытался хихикнуть.
Гомер не обращал на него ни малейшего внимания.
В комнате все оставалось так же, как прошлой ночью. Столы и стулья были перевернуты, разбитая картина валялась на том же самом месте. Чтобы как-то оправдать свое присутствие, он принялся наводить порядок. Он поднял стулья, расправил ковер и собрал раскиданные повсюду окурки. Потом раздвинул шторы и открыл окно.
— Ну, так уже веселее, а? — бодро спросил он.
Гомер на секунду поднял глаза, потом снова уставился на руки. Тод видел, что он постепенно выходит из оцепенения.
— Хотите кофе? — спросил Тод.
Гомер убрал руки с колен и, спрятав под мышками, крепко зажал — но не ответил.
— Горячего кофейку — что вы скажете?
Гомер вынул руки из подмышек и сел на них. Немного погодя он отрицательно помотал головой — медленно, тяжело, как собака с клещом в ухе.
— Я сварю.
Тод вышел на кухню и поставил кофейник на плиту. Пока он закипал, Тод заглянул в комнату Фей. Она была опустошена. Все ящики комода были выдвинуты, на полу валялись пустые коробки. Посреди ковра лежал разбитый флакон духов, и от всего вокруг разило гарденией.
Сварив кофе, Тод налил две чашки и отнес их на подносе в гостиную. Гомера он нашел в той же позиции — сидящим на руках. Тод пододвинул к нему столик и поставил поднос.
— Себе я тоже налил, — сказал он. — Давайте пейте, пока не остыл.
Тод поднял чашку и протянул ему, но, увидев, что Гомер собирается заговорить, опустил ее и стал ждать.
— Я возвращаюсь в Уэйнвилл, — сказал Гомер.
— Прекрасная идея — замечательная!
Он снова подвинул к нему чашку. Гомер даже не посмотрел на нее. Он несколько раз сглотнул, пытаясь протолкнуть что-то застрявшее в горле, потом заплакал. Он плакал, не закрывая лица и не наклонив головы. Звук был как от топора, рубящего сосну, — тяжелый, гулкий, литой. Он повторялся мерно, но без акцентов. В нем не было развития. Каждый его обрубок был в точности подобен предыдущему. Он ничем не мог разрешиться.
Тод понял, что успокаивать Гомера бесполезно. Только очень глупый человек мог бы на это решиться. Он отошел в дальний угол и стал ждать.
Он уже собрался закурить вторую сигарету, когда Гомер позвал его:
— Тод!
— Я здесь, Гомер. — Он поспешил к кушетке.
Гомер еще плакал, но вдруг остановился — так же внезапно, как начал.
— Да, Гомер? — ободряюще произнес Тод.
— Она ушла.
— Да, я понял. Выпейте кофе.
— Она ушла.
Зная, что он питает большое доверие к пословицам, Тод привел подходящую:
— Меньше на дворе, легче голове.
— Она ушла, пока я спал.
— А вам не один черт? Вы ведь возвращаетесь в Уэйнвилл.
— Не надо сквернословить, — произнес Гомер с тем же сумасшедшим спокойствием.
— Виноват, — пробурчал Тод.
Слово «виноват» подействовало, как динамит, заложенный в плотину. Речь хлынула из Гомера мутным бурлящим потоком. Сначала Тод подумал, что ему будет полезно облегчиться таким путем. Но он ошибся. Запасы за плотиной восполнялись слишком быстро. Чем больше Гомер говорил, тем больше росло давление, потому что поток был круговым и бежал обратно за плотину.
Проговорив минут двадцать без перерыва, он замолк на середине фразы. Он откинулся назад, закрыл глаза и будто заснул. Тод подложил ему под голову подушку. Понаблюдав за ним немного, он ушел на кухню.
Он сел и попытался разобраться в том, что говорил Гомер. По большей части это была тарабарщина. Но не только тарабарщина. Ключ к рассказу он нашел, когда понял, что он был не столько запутанным, сколько вневременным. Слова выскакивали одно после другого, а не одно за другим. То, что он принимал за длинные цепочки слов, было словами-наростами, а вовсе не фразами. Точно так же, несколько фраз не соединялись в абзац, а существовали параллельно. Пользуясь этим ключом, он смог упорядочить часть того, что услышал, и извлечь из нее смысл.
После того как Тод обидел его, так гадко обозвав Фей, он убежал за дом, вошел через кухню и заглянул в гостиную. Он не сердился на Тода, просто он был удивлен и расстроен, потому что Тод — славный молодой человек. Из коридорчика, ведущего в гостиную, он увидел, что всем очень весело, и обрадовался, потому что Фей было скучновато жить с таким стариком, как он. Она от этого нервничала. Никто его не заметил, и он обрадовался, потому что ему не особенно хотелось развлекаться с ними, хотя ему приятно, когда людям весело. Фей танцевала с мистером Эсти, и они были прекрасной парой. У нее было хорошее настроение. Когда у нее хорошее настроение, она сияет. Потом она танцевала с Эрлом. Это ему не понравилось из-за того, как Эрл ее держал. Он не мог понять, что она находит в этом парне. Он просто неприятный, вот и все. У него противный взгляд. У них в гостинице всегда следили за такими и никогда не давали им кредита, потому что они сбегают, не расплатившись. Может быть, он потому и работы никак не найдет, что люди ему не доверяют, хотя Фей права — сейчас действительно многие ходят без работы.
Пока он стоял там и наблюдал за гостями, радуясь их смеху и пению, Эрл схватил Фей, перегнул ее и поцеловал, и все засмеялись, хотя видно было, что Фей это неприятно, потому что она дала ему пощечину. А Эрлу было все равно, и он опять ее поцеловал — долгим гнусным поцелуем. Она вырвалась и побежала к двери, где стоял он. Он хотел спрятаться, но она его застигла. И хотя он ни слова не сказал, она закричала, что он подло шпионит, и не захотела слушать его объяснений. Она пошла к себе в комнату, а он — за ней, пытаясь объяснить, что он не подглядывал, но она ужасно разошлась и все время поносила его, пока красила губы. Потом она опрокинула духи. От этого она разозлилась в два раза больше. Он пробовал объяснить, но она не желала слушать, а только продолжала ругать его самыми последними словами. Тогда он ушел к себе в комнату, разделся и лег спать. Потом Тод разбудил его и хотел войти и поговорить. Он не сердился, просто ему не хотелось разговаривать, ему хотелось только одного — уснуть. Тод ушел, и как только он снова забрался в постель, раздался ужасный крик и грохот. Он побоялся выйти и посмотреть и подумал, что надо вызвать полицию, но выйти в переднюю, где телефон, ему было страшно, и он начал одеваться, чтобы вылезти в окно и позвать на помощь, потому что шум был такой, словно кого-то убивали, но когда он начал надевать туфли, он услышал, как Тод разговаривает с Фей, и решил, что, наверное, все обошлось, иначе она бы не смеялась, и тогда он разделся и опять лег в постель. Уснуть он не мог, потому что все время думал, что там случилось, и когда в доме стихло, он решился постучать в комнату Фей и узнать. Фей впустила его. Она лежала в постели, свернувшись калачиком, как маленькая девочка. Она назвала его миленьким, поцеловала его и сказала, что совсем на него не сердится. Она сказала, что была драка, но все остались невредимы, и чтобы он шел спать, а утром они поговорят подробнее. Он пошел к себе, как она велела, и уснул, но опять проснулся, когда только начинало рассветать. Сначала он удивился, что проснулся, — обычно он не просыпается, пока не зазвонит будильник. Видимо, что-то его разбудило, но что именно — он не мог понять, пока не услышал звука, донесшегося из комнаты Фей. Это был стон, и он подумал, что ему померещилось со сна, но потом стон послышался снова. Да, конечно, стонала Фей. Он подумал, что ей, наверное, плохо. Она опять застонала, как от боли. Он встал с постели, подошел к ее двери, постучал и спросил, не заболела ли она. Она не ответила, и стоны прекратились; тогда он снова лег в постель. Немного погодя она опять застонала, и тогда он встал с постели, подумав, что, может быть, ей нужно грелка, или аспирин и стакан воды, или что-нибудь еще, и опять постучал в ее дверь — желая просто помочь. Она услышала его и что-то сказала. Он не понял, но подумал, что она разрешает ему войти. Он часто носил ей аспирин и воду, когда у нее ночью болела голова. Дверь была не заперта. Казалось бы, она должна была запереть дверь, потому что в постели с ней лежал мексиканец, оба голые, и она его обнимала. Фей увидела его и натянула простыни на голову, не говоря ни слова. Он не знал, что делать, и поэтому попятился из комнаты и закрыл дверь. Он стоял в передней, не зная, что делать, и ему было так стыдно, и в это время появился Эрл с сапогами в руках. Он, наверное, спал в гостиной. Эрл спросил его, в чем дело. «Фей плохо, — сказал он. — Я хочу принести ей стакан воды». Но тут Фей завизжала. Он услышал, как Эрл и Мигель ругают друг друга и дерутся. Он боялся позвать полицию из-за Фей и не знал, что делать. Фей визжала не переставая. Когда он опять открыл дверь, из нее вывалился Эрл верхом на Мигеле, и они трепали друг друга. Он вбежал к ней в комнату и заперся. Она визжала, накрывшись с головой. Он слышал, как Эрл и Мигель дерутся в передней, а потом перестал их слышать. Она лежала, накрывшись с головой. Он с ней заговорил, но она не отвечала. Он сел на стул, чтобы охранять ее, если вернутся Мигель и Эрл, но они не вернулись, и немного погодя она высунула голову из-под простыни и велела ему уйти. Когда он ответил, она снова накрылась с головой, и тогда он подождал еще немного, и она снова велела ему уйти, не показывая ему лица. Ни Эрла, ни Мигеля не было слышно. Он открыл дверь и выглянул. Их не было. Он запер двери и окна, пошел к себе в комнату и лег на кровать. Незаметно для себя он уснул, а когда проснулся, ее не было. Он нашел только сапоги Эрла в передней. Он выбросил их в заднюю дверь, а утром их уже не было.
25
Тод вернулся в гостиную — посмотреть, как там Гомер. Он все еще лежал на кушетке, но уже в другой позе. Большое тело свернулось в клубок. Колени были подтянуты к подбородку, локти плотно прижаты, руки — на груди. Но это не было покоем. Какое-то внутреннее напряжение нервов и мускулов скручивало клубок все туже и туже. Он был как стальная пружина, освобожденная от своей работы в механизме и получившая возможность использовать всю свою упругость центростремительно. В механизме тяга пружины работала против других, превосходящих сил, а теперь, освободившись наконец, она стремилась восстановить форму первоначальной закрутки.
Первоначальной закрутки… В учебнике патопсихологии, взятом однажды в университетской библиотеке, Тод видел изображение женщины, спавшей в веревочном гамаке в той же позе, что и Гомер. «Утробное бегство» или что-то вроде этого было написано под фотографией. Женщина проспала в гамаке, не меняя позы — позы зародыша в матке, — многие годы. Врачам в доме для душевнобольных удавалось разбудить ее лишь на короткое время и то — раз в несколько месяцев.
Он сел, чтобы выкурить сигарету, и задумался, как быть с Гомером. Вызвать врача? Но в конце концов Гомер почти всю ночь не спал и просто измучился. Доктор растолкает его, он зевнет и спросит, в чем дело. Можно попробовать самому его разбудить. Но он и без этого достаточно надоел Гомеру. И Гомеру гораздо лучше во сне — даже если это «утробное бегство».
А какое это идеальное спасение — вернуться во чрево. Куда лучше религии, или искусства, или Островов в Южных Морях. Там так тепло и уютно, там автоматическое питание. Все идеально в этой гостинице. Не удивительно, что память о таких удобствах живет в крови и нервах каждого. Там темно, да, — но какая это богатая, теплая темнота. Там нет смерти. Не удивительно, что человек так яростно сопротивляется выселению, когда истекает девятимесячный срок контракта.
Тод загасил окурок. Он проголодался и хотел получить свой обед, а также двойную порцию шотландского с содовой. Он поест и вернется — узнать, в каком состоянии Гомер. Если Гомер еще будет спать, он попробует разбудить его. А если это не удастся, можно будет вызвать врача.
Тод взглянул на него в последний раз, потом на цыпочках вышел из дома и осторожно притворил дверь.
26
Тод не сразу пошел обедать. Сначала он отправился к шорной лавке Ходжа в надежде, что там ему удастся разузнать об Эрле, а через него — о Фей. Там стоял Калвин с морщинистым индейцем, длинные волосы которого были перехвачены на лбу бисерной повязкой. На груди у индейца висела рекламная доска:
ФАКТОРИЯТАТЛА
ПОДЛИННЫЕ РЕЛИКВИИ СТАРОГО ЗАПАДА
бусы, серебро, ювелирные изделия, мокасины, куклы, игрушки, редкие книги, открытки
ЗАПАСИТЕСЬ СУВЕНИРОМ на
ФАКТОРИИТАТЛА
Калвин всегда был дружелюбен.
— Здоров, — приветствовал он подошедшего Тода. — Познакомься с вождем, — ухмыляясь, прибавил он. — Вождь Киш Мин Тохес.
Индеец от души засмеялся шутке.
— Жить-то надо, — сказал он.
— Эрл сегодня появлялся? — спросил Тод.
— Ага. Проходил тут с час назад.
— Мы вчера были в гостях, и я…
Калвин перебил его, звонко шлепнув себя по ляжкам:
— Да, как Эрл рассказывал, видно, крепко погуляли. Скажи, вождь?
— Ды был дам, Шарли? — согласился индеец, показывая черную полость рта, малиновый язык и щербатые оранжевые зубы.
— Я слышал, там была драка, когда я ушел.
— Да уж, была, видать, у Эрла под каждым глазом по фингалу — во!
— Вот что бывает, когда хороводишься с желтопузой сволочью, — взволнованно проговорил индеец.
Между ним и Калвином завязался долгий спор о мексиканцах. Индеец сказал, что все они гады. Калвин утверждал, будто ему приходилось встречать и хороших. Индеец привел в пример братьев Хермано, убивших одинокого старателя из-за пятидесяти центов; Калвин возразил ему длинной историей про человека по имени Томас Лопц, который поделился с незнакомцем последней кружкой воды, когда они оба заблудились в пустыне.
Тод попытался навести разговор на интересующую его тему.
— Мексиканцы умеют обходиться с женщинами, — заметил он.
— Больше с лошадьми, — сказал индеец. — Помню, раз на Брасосе я…
Тод попробовал еще раз:
— Они подрались из-за подруги Эрла — верно?
— Про это он не говорил, — сказал Калвин. — Он говорит — из-за денег, говорит, мексикашка обчистил его, когда он спал.
— Грязный, паршивый ворюга, — сказал индеец и плюнул.
— Говорит, он завязал с этой девкой, — продолжал Калвин. — Такая вот, дорогой, картина — как он рисует.
Тоду было достаточно.
— Пока, — сказал он.
— Рад был познакомиться, — сказал индеец.
— Будь здоров, не кашляй, — крикнул ему вслед Калвин.
Тод подумал, не ушла ли она с Мигелем. Но решил, что скорее
она вернулась на работу к миссис Дженинг. Так или иначе, ничего страшного с ней не случится. Ей ничто не может повредить. Она как пробка. Как бы ни бушевало море, она будет плясать на тех же волнах, которые топят стальные корабли и взламывают пирсы из армированного бетона. Он вообразил ее скачущей по бешеному морю. Вал громоздится за валом, обрушивая на нее тонны плотной воды, а она только весело отскакивает от них.
Придя в ресторан Муссо Франка, он заказал бифштекс и двойную порцию шотландского виски. Сначала подали виски, и он прихлебывал его, не сводя внутреннего ока с танцующей пробки.
Это была очень красивая пробка, позолоченная, с блестящим осколком зеркала, вставленным в макушку. Море под ней было прекрасно — зеленое в подошвах волн и серебристое на гребнях. Но, при все своей луногонной мощи, они могли лишь опутать ее на миг тонким кружевом пены. Наконец ее прибило к неведомому берегу, где дикарь с пальцами-сосисками и прыщавым задом подхватил ее и прижал к отвислому пузу. Тод узнал счастливца: то был один из клиентов миссис Дженинг.
Официант подал еду и застыл с согнутой спиной, ожидая его отзыва. Напрасно. Тод был слишком занят, чтобы разглядывать бифштекс.
— Устраивает, сэр? — спросил официант.
Тод отмахнулся от него, как отмахиваются от мухи. Официант исчез. Тод попробовал применить тот же жест к своим чувствам, но изводивший его зуд не проходил. Эх, если бы у него хватило смелости подкараулить ее как-нибудь ночью, оглоушить бутылкой и изнасиловать.
Он мог представить себе, как это будет — как он притаится ночью на пустыре и будет ждать ее. И птица — какая там поет по ночам в Калифорнии — будет выворачивать душу в оперных руладах и трелях, и прохладный ночной воздух будет пахнуть гвоздикой. Она подъедет, заглушит мотор, посмотрит вверх на звезды, так что груди встанут торчком, потом тряхнет головой и вздохнет. Она бросит ключ зажигания в сумочку, защелкнет ее и выйдет из машины. При первом же длинном шаге ее узкое платье задерется, обнажив мерцающую полоску бедра над черным чулком. Когда он тихо двинется к ней, она будет обдергивать платье, оглаживать его на боках.
— фей, Фей, минутку, — окликнет он.
— А-а, Тод, здравствуй.
Она протянет ему длинную руку, грациозно сбегающую с округлого плеча.
— Ты испугал меня!
Она будет похожа на лань у дороги, застигнутую вылетевшим из-за поворота грузовиком.
Он ощущал в руке холод бутылки, спрятанной за спиной, и уже ступил вперед, чтобы замах…
— Что-нибудь не так, сэр?
Официант-муха был тут как тут. Тод отмахнулся, но на этот раз человек продолжал виться над ним.
— Прикажете забрать его на кухню, сэр?
— Нет, нет.
— Благодарю вас, сэр.
Но он не исчез. Он желал убедиться, что гость действительно намерен кушать. Тод взял нож и отрезал кусок. Но официант не ушел, пока он не набил рот еще и вареной картошкой.
Тод хотел возобновить изнасилование, но не осязал бутылки, которой замахивался. Пришлось отставить.
Официант опять вернулся. Тод поглядел на бифштекс. Мясо было очень хорошее. Но ему совсем расхотелось есть.
— Пожалуйста, счет.
— Десерта не нужно?
— Нет, спасибо, прямо счет.
— Сию секунду, — радостно сказал официант, выуживая карандаш и книжку.
27
Очутившись на улице, он увидел десяток лиловых лучей, суматошно обметавших вечерний небосвод. Завалившись почти горизонтально, огненная колонна высвечивала на миг розовые купола и точеные минареты кинотеатра «Персидский дворец Кана». Целью этой иллюминации было оповестить мир о премьере новой картины.
Отвернувшись от прожекторов, он направился в противоположную сторону — к дому Гомера. Пройдя совсем немного, он увидел часы, показывавшие четверть седьмого, и решил повременить. Пусть бедняга поспит еще часок, а он убьет время, разглядывая толпу.
Еще за квартал от театра он увидел высоко над мостовой громадную электрическую рекламу. Трехметровыми буквами она объявляла:
ЧЕРТОГ ЗЕМНЫХ СОБЛАЗНОВ
ВЕЛЕЛ ВОЗДВИГНУТЬ КАН
Хотя до съезда знаменитостей оставалось еще несколько часов, тут уже собрались тысячи людей. Они стояли лицом к театру, спиной к мостовой, в плотной шеренге, вытянувшейся не на одну сотню метров. Большой наряд полиции удерживал свободным проход между фасадом и передним рядом зрителей.
Тод вторгся в проход, когда охранявший его полисмен был занят женщиной, у которой лопнул пакет и раскатились апельсины. Другой полисмен крикнул, чтобы он убирался к чертям на ту сторону улицы, но он рискнул пойти дальше. Сейчас им было не до того, чтобы гоняться за Тодом. Он заметил, как они встревожены и как осторожно себя ведут. Если им надо было кого-нибудь арестовать, они добродушно подтрунивали над нарушителем, обращая дело в шутку, — пока не выводили его за угол, где начинали охаживать дубинками. Им приходилось быть вежливыми только до тех пор, пока человек оставался частью толпы.
Тод был еще в самом начале узкого прохода, а ему уже стало страшно. Люди выкрикивали что-то насчет его шляпы, его походки, его одежды. За ним волной катились улюлюканье, гогот, рев, изредка перерываемые визгом. За визгом обычно следовало внезапное движение в плотной массе людей, и часть ее накатывалась на полицейскую цепь — там, где она была пореже. Как только этот вырост заталкивали обратно, толпа вспучивалась в другом месте.
Когда начнут появляться звезды, полицейские силы придется удвоить. При виде своих героев и героинь толпа станет бесноватой. Какой-нибудь незначительный жест — не в меру лестный или не в меру вызывающий — приведет ее в движение, и тогда ее не остановишь ничем, кроме пулеметов. По отдельности, каждому, может быть, просто захочется получить сувенир, но стадом они будут рвать и крушить.
Молодой человек с микрофоном вел репортаж. Своим захлебывающимся истерическим голосом он напоминал проповедника на радении, взвинчивающего паству до экстатических судорог.
«Какая толпа, друзья! Какая толпа! Здесь, у „Персидского Кана", собралось, наверное, десять тысяч взволнованных, шумных кинолюбов. Полиция не может их сдержать. Вот, вы слышите этот рев?»
Он протянул микрофон, и ближайшие к нему с готовностью заревели.
«Вы слышите их? Это бедлам, друзья. Настоящий бедлам. Сколько волнения! Из всех премьер, какие я видел, эта — самая… самая… бесподобная, друзья! Сдержит ли их полиция? Сможет ли сдержать? Кажется мне — нет, друзья…»
Ворвался еще отряд полиции. Сержант умолял репортера стать подальше, чтобы публика его не слышала. Полицейские ринулись на толпу. Она позволяла теснить и пихать себя по привычке — и потому, что не имела перед собой цели. Она терпела полицию, как терпит мальчика слон, позволяющий погонять себя легкой палочкой.
Людей хулиганского вида Тоду попадалось очень мало; рабочих не было совсем. Толпу составляли небогатые обыватели, и каждый второй был из его факельщиков.
Уже у самого края толпа, всколыхнувшись, закрыла проход, и Тоду пришлось пробиваться. Кто-то сшиб с него шляпу, а когда он нагнулся за ней, кто-то дал ему пинка. Он сердито обернулся и увидел, что окружен людьми, которые над ним смеются. У него хватило ума засмеяться вместе с ними. Толпа сразу сделалась благосклонной. Тучная женщина хлопнула его по спине, а мужчина подал ему шляпу, перед этим аккуратно обтерев ее рукавом. Другой мужчина крикнул, чтобы ему дали пройти.
Проталкиваясь и протискиваясь и все время стараясь делать вид, будто это доставляет ему удовольствие, Тод выбрался наконец на волю. Приведя в порядок одежду, он подошел к автомобильной стоянке и сел на низкую подпорную стенку, охватывавшую ее спереди.
Прибывали все новые и новые группы зевак, целыми семьями. Он заметил, как они преображаются, влившись в толпу. Пока они были сами по себе, они выглядели робкими, чуть ли не боязливыми; но, став частью толпы, они становились наглыми и задиристыми. Счесть их безобидными ротозеями было бы ошибкой. Они были ожесточены и свирепы — особенно люди средних лет и пожилые, — и сделали их такими скука и разочарование.
Всю жизнь они маялись на какой-нибудь нудной, утомительной работе — за прилавками, конторскими столами, в поле, у разных отупляющих машин, — откладывая по грошу и мечтая о дне, когда накопленное купит им досуг. И вот этот день настает. У них — постоянный доход, десять-пятнадцать долларов в неделю. Куда еще поехать, как не в Калифорнию — апельсиновый, солнечный край?
Прибыв сюда, они обнаруживают, что одного солнца — мало. Апельсины надоедают — и даже груши авокадо и плоды страстоцвета. Ничего не происходит. Неизвестно, куда девать время. Для досуга они не оснащены духовно, для наслаждений — денежно и физически. Неужели они надрывались всю жизнь ради какого-то убого пикника?
А что еще тут есть? Они смотрят на прибой в Венеции. Там, где они жили, наверное, не было океана, но если ты видел одну волну, ты видел их все. То же — и с самолетами в Глендейле. Хоть бы самолет когда разбился и пассажиры погибли в «бушующем пламени», как пишут газеты. Но не разбиваются самолеты.
Скука — все ужаснее и ужаснее. Они догадываются, что их надули, и пылают негодованием. Каждый божий день они читают газеты и ходят на кинофильмы. И те и другие потчуют их судами Линча, убийствами, половыми преступлениями, взрывами, крушениями, любовными гнездышками, чудесами, пожарами, революциями, войнами. От такого обилия разносолов они сделались пресыщенными. Солнце? Шутка. Апельсины пресны их утомленным вкусовым бугоркам. Нет на свете силы, которая могла бы поднять их дряблые души и тела. Их обманули и предали. Они корпели и копили зазря.
Тод встал. За десять минут, что он сидел на стенке, толпа выросла на десять метров, и если он будет тут прохлаждаться, ему, чего доброго, отрежут дорогу. Он прошел на другую сторону улицы и направился обратно.
Он раздумывал, что ему делать, если не удастся разбудить Гомера, как вдруг увидел его голову, плывущую над толпой. Тод кинулся к нему. Судя по его виду, с ним определенно что-то было не так.
Походкой он больше, чем когда-либо, напоминал неотлаженный робот, а лицо его было сведено застывшей механической улыбкой. Брюки он надел на ночную рубаху — кусок ее высовывался из расстегнутой ширинки. В руках у него было по чемодану. При каждом шаге его шатало из стороны в сторону, и чемоданами он пользовался как противовесами.
Тод остановился прямо перед ним, загородив дорогу.
— Куда вы?
— В Уэйнвилл, — ответил он, челюстью производя работу, несоизмеримую с этими двумя словами.
— Прекрасно. Но вы не дойдете пешком отсюда до вокзала. Он в Лос-Анджелесе.
Гомер попытался обойти его, но Тод схватил его за руку.
— Мы возьмем такси. Я поеду с вами.
Из-за премьеры движение направили в обход квартала. Он объяснил это Гомеру и попытался отвести его за угол.
— Пошли, на соседней улице наверняка поймаем машину.
Тод хотел усадить его в такси и сказать шоферу, чтобы он вез их
в ближайшую больницу. Но как он ни уговаривал и ни дергал Гомера, тот не сворачивал. Люди останавливались и смотрели на них, другие с любопытством оглядывались. Тод решил оставить его и пойти за такси.
— Сейчас вернусь, — сказал он.
Ни по глазам, ни по лицу нельзя было понять, слышал ли его Гомер, — они не выражали ничего, даже раздражения. На углу Тод обернулся и увидел, что Гомер, двигаясь как слепой, пересекает улицу. Визжали тормоза, дважды его чуть не переехали, но он не ускорял шагов и не сворачивал. Он двигался точно по диагонали. Достигнув обочины, он попытался взойти на тротуар как раз там, где толпа была особенно плотной, и его с силой отбросили. Он сделал еще попытку, но на этот раз его схватил за шиворот полицейский и стал толкать к хвосту очереди. Когда полицейские его отпустил, он продолжал шагать как ни в чем не бывало.
Тод хотел догнать его, но не мог пересечь улицу, пока не переключился светофор. Когда он перешел на другую сторону, Гомер сидел на скамейке, в пятнадцати-двадцати метрах от края толпы.
Тод обнял его за плечо и предложил пройти еще несколько кварталов. Гомер не ответил, и он взялся за чемодан. Гомер не отпускал ручку.
— Я поднесу, — сказал Тод, легонько дергая за ручку.
— Вор!
Прежде чем Гомер успел повторить свой выкрик, Тод отскочил в сторону. Было бы чрезвычайно неловко, если бы Гомер крикнул «вор» поблизости от полицейского. Ему пришла в голову мысль позвонить в «скорую помощь». Но опять-таки — уверен ли он, что Гомер сумасшедший? Он тихо сидит на скамейке, ни к кому не пристает.
Тод решил подождать, а потом еще раз попытаться посадить его в такси. Толпа непрерывно прибывала; но скамейку она захлестнет через полчаса, не раньше. До тех пор он найдет какой-нибудь выход. Он немного отошел и стал спиной к витрине, чтобы следить за Гомером, не привлекая внимания.
Метрах в трех от скамейки Гомера рос большой эвкалипт, а за ним стоял мальчик. Тод увидел, как он осторожно выглянул из-за ствола, потом отдернул голову. Через минуту маневр повторился. Сначала Тод подумал, что мальчик играет в прятки, потом увидел в руке у него бечевку, тянувшуюся к старому кошельку, который лежал перед скамейкой Гомера. Время от времени мальчик дергал бечевку и кошелек подпрыгивал, словно ленивая жаба. Его драная подкладка высовывалась из железного рта, как лохматый язык, и над ним кружили нерешительные мухи.
Тоду эта игра была знакома. Он сам играл в нее, когда был маленьким. Если Гомер потянется за кошельком, думая, что там деньги, мальчик отдернет его, визжа от радости.
Тод подошел к дереву и с удивлением обнаружил, что это — Милон Лумис, сосед Гомера. Тод хотел прогнать его, но он юркнул за дерево и показал ему нос. Тод сдался и занял прежнюю позицию. Стоило ему отойти, как Милон снова занялся кошельком. Гомер не обращал на ребенка ни малейшего внимания, и Тод решил не вмешиваться.
Миссис Лумис, наверное, где-нибудь в толпе, подумал он. Сегодня вечером, когда она отыщет Милона, она его выпорет. Он разорвал карман пиджака, а воротник рубашки измазал чем-то жирным.
У Милона был отвратительный характер. Полное равнодушие Гомера к нему и к его кошельку привело его в неистовство. Он перестал дергать кошелек за бечевку и на цыпочках приблизился к скамейке, корча страшные рожи, но карауля малейшее движение Гомера. Он остановился метрах в полутора и высунул язык. Гомер не замечал его. Он сделал еще шаг и произвел целый ряд оскорбительных телодвижений.
Если бы Тод знал, что в руке у мальчика камень, он бы вмешался. Но он был уверен, что Гомер не причинит ребенку вреда, и выжидал, надеясь, что приставания Милона вынудят его тронуться дальше. Когда Милон замахнулся, было уже поздно. Камень попал Гомеру в лицо. Мальчик бросился бежать, но споткнулся и упал. Прежде чем он успел подняться, Гомер вскочил ему на спину обеими ногами, потом подпрыгнул еще раз.
Тод завопил, чтобы он слез, и попытался его сдернуть. Он отпихнул Тода и продолжал работать каблуками. Тод изо всех сил ударил его в живот, потом в лицо. Гомер, не замечая ударов, топтал мальчика. Тод бил и бил его, потом обхватил руками и попробовал стащить. Гомер не шелохнулся. Он был как каменная колонна.
Через мгновение Тода оторвало от Гомера, и удар по затылку развернул его и бросил на колени. Толпа перед театром хлынула. Вокруг него месили ступни, мелькали колени. Он поднялся, вцепившись в чей-то пиджак, и отдался движению толпы, которая по плавной дуге стремительно понесла его назад. Он увидел на миг Гомера, взметнувшегося над маской голов, на фоне неба, с разинутым ртом — словно он хотел закричать, но не смог. Поднялась рука и, схватив его за отвисшую челюсть, рванула вперед и вниз.
Новый головокружительный бросок толпы. Тод закрыл глаза, изо всех сил стараясь удержаться вертикально. Его швыряло в перекрестном прибое спин и плеч, волокло то в одну сторону, то в другую. Он пихал и колотил людей вокруг, пытаясь повернуться лицом туда, куда шел. Когда его тащило спиной вперед, его охватывал ужас.
Ориентируясь на эвкалипт, Тод стал продвигаться туда боковым проскальзыванием в потоке, упорно отбиваясь, когда его уносило от дерева, и ловя стремнину, когда она приближала его к цели. Он был уже в нескольких шагах от дерева, как вдруг мощный рывок бросил его далеко прочь. Несколько секунд он отчаянно барахтался, потом затих, отдавшись на волю потока. Он был на острие мчавшегося клина, когда тот врезался в лаву, двигавшуюся навстречу. Столкновение развернуло его кругом. Две силы перемалывали друг друга, вертя и вертя его, как зерно между жерновами. Это продолжалось до тех пор, пока встречная масса не поглотила его. Давление продолжало увеличиваться, и он думал, что вот-вот рухнет. Его медленно выжимало наверх. Хотя подъем обещал облегчение его трещавшим ребрам, он бился, чтобы удержаться на земле. Потерять ее из-под ног было еще страшнее, чем двигаться спиной вперед.
Снова произошел бросок, на этот раз более короткий, и он очутился в мертвой зоне, где давление было меньше и равномернее. Он начал ощущать страшную боль в левой ноге, над самой щиколоткой, и попытался переместить ее в более удобное положение. Туловище было зажато намертво, но ему удалось повернуть голову. Спиной к его плечу был притиснут костлявый парнишка в фуражке телеграфиста. Боль в голени все усиливалась и волнами разливалась по ноге до самого паха. Наконец ему удалось вытащить левую руку и схватить парнишку сзади пальцами за шею. Он скрутил ее изо всех сил. Парнишка начал выпрыгивать из своей одежды. Распрямляя руку, Тод оттолкнул от себя его затылок, после чего смог повернуться на четверть оборота и высвободить ногу. Боль не утихла.
Толпу снова понесло, и снова его вогнало в мертвую зону. Теперь он стоял лицом к лицу с молоденькой девушкой, плакавшей навзрыд. Ее цветастое шелковое платье было разорвано спереди, и крохотный лифчик свисал на одной бретельке. Отжимаясь назад, он пытался дать ей побольше места, но стоило ему отодвинуться, как ее опять притискивало к нему. Время от времени она вся дергалась, и Тод опасался, что у нее начнется припадок. Ее бедро было у него между ногами. Он пытался освободиться от нее, но она не отставала, двигаясь вместе с ним и напирая на него.
Она повернула голову и сказал кому-то позади:
— Перестаньте, перестаньте.
Он увидел, в чем дело. Ее хватал старик в панаме и роговых очках. Одна его рука была у нее под платьем, и он кусал ее за шею.
Тод, откинувшись всем телом, высвободил правую руку, протянул над девушкой и ударил кулаком старика по темени. Ударить сильно он не мог, но все же сбил с него очки и шляпу. Старик хотел уткнуться лицом в плечо девушки, но Тод поймал его за ухо и рванул. Их снова потащило. Тод не выпускал уха сколько мог, надеясь, что оно останется у него в руке. Девушке удалось протиснуться ему под руку. Кусок платья оторвался совсем, но она освободилась от притеснителя.
По толпе прошла новая судорога, и Тода увлекло к обочине тротуара. Он пробивался к фонарному столбу, но его подхватило и понесло мимо раньше, чем он успел уцепиться. Он увидел, как девушку в порванном платье поймал другой мужчина. Она закричала «помогите». Он хотел добраться до нее, но его потащило в противоположную сторону. Этот бросок тоже закончился для Тода мертвой зоной. Тут все соседи были ниже его. Тод задрал голову к небу, пытаясь набрать в смятые легкие свежего воздуха, но он был насыщен людским потом.
В этой части орды истерики не было. Напротив, большинство людей как будто наслаждалось своим положением. Перед Тодом стояла толстая женщина, а спереди к ней был притиснут мужчина. Его подбородок покоился на ее плече, и он обнимал ее за талию. Она не обращался на него никакого внимания и беседовала с соседкой.
— Не успела я оглянуться, — услышал Тод, — как все куда-то ринулись, а я — в самой середине.
— Да. Кто-то заорал: «Вон идет Гарри Купер!» — и пошло!
— Не в этом дело, — сказал низенький человек в полотняной кепке и пуловере. — Мы с вами участвует в уличных беспорядках.
— Да, — сказала третья женщина, у которой седые волосы змеились по лицу и плечам. — Извращенец напал на ребенка.
— Линчевать его надо было.
Все с жаром согласились.
— Я приехала из Сент-Луиса, — объявила толстая. — У нас по соседству тоже жил один такой извращенец. Изрезал девушку ножницами.
— С ума, наверно, сошел, — сказал мужчина в кепке. — Тоже мне развлечение!
Все засмеялись. Толстуха обратилась к обнимавшему ее мужчине.
— Эй, вы, — сказала она. — Я вам что — подушка?
Мужчина блаженно улыбнулся, но позы не изменил. Она рассмеялась, даже не пытаясь освободиться от объятий.
— Малый не промах, — сказала она.
Другая женщина засмеялась.
— Да, — сказала она, — сегодня хватай кому не лень.
Мужчина в кепке и пуловере решил, что смеются опять над его
шуткой об извращенце.
— Резать девушку ножницами! Разве это инструмент?
Он не ошибся. Они захохотали громче прежнего.
— Ты бы сделал это по-другому, а, дядя? — сказал молодой человек с почкообразной головой и вощеными усами.
Обе женщины засмеялись. Это вдохновило мужчину в кепке, и он ущипнул приятельницу толстухи. Она взвизгнула.
— Ты это брось, — сказал она добродушно.
— Меня толкнули, — объяснил он.
На улице завыла сирена «скорой помощи». Этот горестный вопль снова привел толпу в движение, и ее ровный неторопливый натиск сорвал Тода с места. Он закрыл глаза и старался уберечь ногу, в которой пульсировала боль. На этот раз, когда движение замерло, он оказался прижатым спиной к стене кинотеатра. Он не открывал глаз и стоял на здоровой ноге. Прошло, казалось, несколько часов; спрессованная масса чуть раздалась и, перемешиваясь, тронулась. Она все ускоряла ход и наконец понеслась. Тод катился в ней, пока его не ударило об опору железных перил, ограждавших подъезд к кинотеатру с улицы. От удара у него пресеклось дыхание, но он прилип к ограде. Он отчаянно цеплялся за нее, чтобы его не засосало обратно. Женщина обхватила его вокруг пояса, стараясь удержаться на месте. Она мерно всхлипывала. Тод почувствовал, что перила выскальзывают из пальцев, и со всей силы лягнул. Женщина отпустила.
Несмотря на пронизывающую боль в ноге, он был способен ясно думать о своей картине «Сожжение Лос-Анджелеса». После ссоры с Фей он работал над ней беспрестанно, чтобы забыться, и путь к ней в его сознании совершался почти автоматически.
И вот, стоя на одной ноге, отчаянно цепляясь за железные перила, он видел свой большой холст, все размашистые угольные штрихи наброска. Поверху, параллельно рамке, он нарисовал горящий город, громадный костер архитектурных стилей — от древнеегипетского до новоанглийского, колониального. Через центр, заворачивая слева направо, спускалась крутая улица, и из нее выплескивалась на передний план орда людей с бейсбольными битами и факелами. Для их лиц Тод воспользовался своими бесчисленными зарисовками людей, приехавших в Калифорнию умирать: последователей разного рода культов, как религиозных, так и экономических, созерцателей прибоя, самолетов, похорон и рекламных роликов — всех этих несчастных, которых разбудить может только обещание чудес — и разбудить лишь для бесчинства. Какое-то сверх-«Знание Силла» посулило им эти чудеса, и вот они шагают под его знаменами — объединенным национальным фронтом тронутых и чокнутых, чтобы обновить страну. Забыв о скуке, они радостно поют и пляшут в красном зареве пожара.
Внизу на переднем плане мужчины и женщины бегут очертя голову от авангарда охваченной священным порывом орды. Среди них — Фей, Гарри, Гомер, Клод и он сам. Фей бежит горделиво, высоко вскидывая колени. Гарри ковыляет за ней, обеими руками придерживая драгоценный котелок. Гомер словно вываливается из полотна, лицо у него сонное, большие руки хватаются за воздух в пантомиме муки. Клод обернулся и показывает преследователям нос. Сам Тод подобрал камешек и швыряет его в толпу, прежде чем побежать дальше.
Он почти забыл и о ноге, и о безвыходном своем положении, и, довершая свое бегство, влез на стул и начал прорисовывать пламя в верхнем углу, моделируя языки его так, чтобы они с еще большей жадностью лизали коринфскую колонну, поддерживающую тростниковую крышу бутербродного ларька.
Он закончил один язык и занялся уже вторым, как вдруг чей-то крик над ухом вернул его на землю. Он открыл глаза и увидел полицейского, который пытался достать его из-за перил. Он разжал пальцы и поднял левую руку. Полицейский поймал его запястье, но втащить его не смог. Тод не осмелился выпустить перила, пока на помощь полицейскому не пришел второй человек, схвативший его за спину пиджака. Тогда он отпустил перила, и они вдвоем перевалили его через ограду.
Увидя, что он не может стоять, они бережно опустили его на землю. Он лежал перед входом в кинотеатр. Рядом с ним на обочине сидела женщина и плакала, уткнувшись в юбку. Вдоль стены разместились кучками другие растерзанные люди. В конце дорожки стояла санитарная машина. Полицейский спросил, хочет ли он в больницу. Тод отрицательно покачал головой. Тогда полицейский предложил подбросить его домой. У него еще хватило сообразительности дать адрес Клода.
Его вынесли черным ходом в соседний переулок и усадили в полицейскую машину. Завыла сирена, и он сначала подумал, что воет сам. Он потрогал губы руками. Они были стиснуты. Тогда он понял, что воет сирена. Это почему-то рассмешило его, и он принялся вторить ей во всю глотку.
Примечания
1
Герой романного цикла М. Пруста «В поисках утраченного времени».
По бурлеску Уэста «Видения Бальсо Снелла», этой «Алисы в Стране чудес» XX века, пародирующему стиль разнообразных и разновеликих литературных жанров — от экспериментальной поэзии и философского трактата до биографии, от криминального и любовного романов до исповедального дневника, — рассыпаны цитаты, аллюзии, ссылки, многие из которых намеренно видоизменены, порой до неузнаваемости, а некоторые придуманы автором и комментировать их переводчик не видит особой необходимости: подобная «гелертерская» дотошность, прояснив отдельные частности, вошла бы в противоречие с легкомысленной комической стихией уэстовского Зазеркалья. Комментируется поэтому главным образом то, что препятствует пониманию текста. Здесь и далее примеч. пер.
(обратно)2
«О, Изумительный Анус!» (Лат.)
(обратно)3
«Какой… Артист… Погибаю!» (Лат.). Подлинные слова императора Нерона.
См.: Светоний. Жизнь двенадцати цезарей: Нерон, VI, 49(1).
(обратно)4
То есть Нерону.
(обратно)5
Финикийские Экскременты (лат.).
(обратно)6
Переиначенная цитата из стихотворения Эдгара По "К Елене".
(обратно)7
Тиана — город в Каппадокии.
(обратно)8
Обыгрывается эпизод из Ветхого Завета (Исход, 3: 2).
(обратно)9
Чарльз Монтегю Даути (1843–1926) — английский писатель-очеркист, поэт и путешественник.
(обратно)10
«В этом есть что-то от буйабеса» (франц.). Буйабес — рыбная похлебка с чесноком и пряностями.
(обратно)11
Имеется в виду картина Жана Огюста Доменика Энгра (1780–1867) «Источник» (1856), на которой обнаженная девушка поливает себя водой из кувшина.
(обратно)12
Уэст перефразирует известное высказывание Пикассо: «В природе нет такого понятия, как красота».
(обратно)13
Речь, надо думать, идет об американском философе-прагматике Уильяме Джеймсе (1842–1910).
(обратно)14
Святая Гильдегард (1098–1179) — настоятельница бенедиктинского монастыря в Дизибоденберге
(обратно)15
Святая Маргарита Мария Алакокская (1647 — 1690).
(обратно)16
Старому (франц.).
(обратно)17
Лысому (франц.).
(обратно)18
Святая Блоха (франц.).
(обратно)19
Краткое изложение (франц.).
(обратно)20
Святой Дух (лат.).
(обратно)21
"Тело Христово, спаси меня Кровь Христова, напои меня Слезы Христовы, омойте меня (лат.).
(обратно)22
«О Иисус, милейший мой!» (Лат.)
(обратно)23
Моей истерии (франц.).
(обратно)24
Аррас — город в провинции Па де Кале; Парнасс — гора в Фокиде, у южной подошвы которой находились посвященные Аполлону и Музам Дельфы и Кастальский источник; Осса — гора в Тасмании; Пелион — гора в северо-восточной Фессалии; Ида — гора во Фригии, к юго-востоку от Трои; Пик Пайке — горная вершина в центральной части штата Колорадо, куда в середине девятнадцатого века устремлялись партии золотоискателей.
(обратно)25
Мэри Морс Бейкер Эдди (1821–1910) — основательница религиозного течения «Христианская наука»; утверждала, что любые недуги поддаются излечению силой духа. Эмиль Куэ (1857–1926) — французский фармацевт и психолог; считал самовнушение средством от многих заболеваний.
(обратно)26
Буквально: неукрашенная (лат.).
(обратно)27
Жиль де Ре (1404–1440) — маршал Франции. Осужден и казнен по обвинению в занятиях черной магией и в совершении садистских преступлений. Народная традиция идентифицировала его с персонажами «кровавых» сказок («Синяя Борода» и др.).
(обратно)28
Видоизмененная цитата из «Чайки»; у Чехова реплика Аркадиной звучит следующим образом: «И, разумеется, для светских людей баловать романистов и привлекать их к себе так же опасно, как лабазнику воспитывать крыс в своих амбарах».
(обратно)29
Ювенал. Сатиры. XIII, 162.
(обратно)30
До бесконечности (лат.).
(обратно)31
Имеется в виду английский писатель и лексикограф Сэмюэль Джонсон (1709–1784), классическое жизнеописание которого — «Жизнь Сэмюэля Джонсона» (1791) — принадлежит его другу и собеседнику Джеймсу Босуэллу (1740–1795).
(обратно)32
В сонете «Гласные» Артюр Рембо (1854–1891), говоря об «окраске» каждого звука, проводит мысль о соответствиях между звуками и цветами.
(обратно)33
Дез Эссент — герой романа Жориса Карла Гюисманса (1848–1907) «Наоборот» (1884) — бежит от прозы жизни в мир изощренной и извращенной чувственности.
(обратно)34
Наивности (франц.).
(обратно)35
В 1831 году Чарльз Дарвин отправился в научную экспедицию в Южную Америку на корабле «Бигль»; под псевдонимом «Бигль» ученый опубликовал и свою первую работу.
(обратно)36
Я беременна (франц.).
(обратно)37
Здесь: Да, кстати (франц.).
(обратно)38
«Фи-бета-каппа» — Общество студентов и выпускников американских университетов, основанное в 1776 году. Греческие буквы названия — первые буквы девиза «Философия правит жизнью».
(обратно)39
Культовые имена Вакха.
(обратно)40
О, корм для червей! О, горсть праха! (Лат.).
(обратно)41
Евангельская аллюзия (Лука, 16: 19).
(обратно)42
Корм для червей (франц.).
(обратно)43
Переиначенная цитата из шекспировского «Цимбелина» (акт IV, сцена 2).
(обратно)44
У браминов — мистический эквивалент Божества; современными оккультистами это понятие используется для обозначения абсолютного добра, истины, а также духовной сути.
(обратно)45
Смысл существования (франц.).
(обратно)46
Ему дали монету, и она сделала его очень кротким (итал.).
(обратно)47
Да, да… Земная жизнь — словно луг, где среди цветов прячутся змеи (итал.).
(обратно)48
Много нового. Письмо от вас мы получили, а вот деньги — нет (итал.).
(обратно)49
Эти семь медалей — я их найду, земляк (итал.).
(обратно)50
Широкий шелковый галстук-бабочка.
(обратно)51
Речь идет об изделиях, выполненных в мастерской или по эскизам английского дизайнера и краснодеревщика Т. Шератона (1751 — 1806).
(обратно)52
Стилевое направление в немецком и австрийском искусстве первой половины XIX века, приспосабливающее формы ампира к камерным, «домашним» пропорциям.
(обратно)53
Род — мера длины, равная 5 метрам.
(обратно)54
Индейская женщина.
(обратно)55
Фонографы или патефоны фирмы "Victrola"
(обратно)56
«Ллойд» — крупнейшее объединение страховщиков и страховых маклеров в Англии.
(обратно)57
«Злоключения Мари» (франц.).
(обратно)58
«Злоключения Мари, или Рассеянная служанка» (франц.).
(обратно)59
Текила — мексиканская водка, которую гонят из агав.
(обратно)60
Пальмы оплакивают твое отсутствие.
Лагуна высохла!
Изгородь нашего дворика тоже упала!
Моя мать за всем этим ухаживала!
Все пошло прахом! (Исп.)
(обратно)61
Пер. Иосифа Бродского.
(обратно)62
ХАМЛ — Христианская ассоциация молодых людей.
(обратно)63
Спасайся кто может! (Франц.)
(обратно)64
«30 долларов каждый четверг» — лозунг «Общества яичницы и ветчины», состоявших из калифорнийских безработных во время экономического кризиса в 1929–1932 гг.
(обратно)65
Мужества (исп.).
(обратно)66
Пер. Иосифа Бродского.
(обратно)



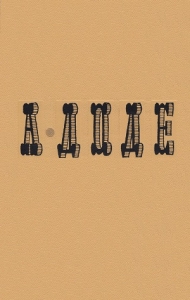
Комментарии к книге «День саранчи», Натанаэл Уэст
Всего 0 комментариев