Сомерсет Моэм Заклятье
Из своего шезлонга миссис Хэмлин безучастно разглядывала взбиравшихся по трапу пассажиров. В Сингапур судно пришло ночью, и с самого рассвета началась погрузка, лебедки надрывались целый день, но, став привычным, неумолчный скрип их более не резал слух. Позавтракала она в «Европе» и, чтобы скоротать время, села в коляску рикши и покатила по нарядным, кишащим разноликим людом улицам города. Сингапур — место великого столпотворения народов. Малайцев, истинных сынов этой земли, здесь попадается немного, но видимо-невидимо угодливых, проворных и старательных китайцев; темнокожие тамилы неслышно перебирают босыми ступнями, как будто ощущают здесь себя людьми чужими и случайными, зато холеные богатые бенгальцы прекрасно чувствуют себя в своих кварталах и преисполнены самодовольства; подобострастные и хитрые японцы поглощены какими-то своими спешными и, видно, темными делишками, и только англичане, белеющие шлемами и парусиновыми панталонами, летящие в своих автомобилях и вольно восседающие на рикшах, беспечны и непринужденны с виду. С улыбчивой безучастностью несут правители этой роящейся толпы бремя своей власти. Устав от города и зноя, миссис Хэмлин ждала, чтоб пароход продолжил свой неблизкий путь через Индийский океан.
Завидев поднимавшихся на палубу доктора и миссис Линселл, она им помахала — ладонь у нее была крупная, да и сама она была большая, высокая. От Иокогамы, где началось ее нынешнее плавание, она с недобрым любопытством наблюдала, как быстро нарастала близость этой пары. Линселл был морским офицером, прикомандированным к британскому посольству в Токио, и безразличие, с которым он взирал на то, как доктор увивается за его женой, заставляло недоумевать миссис Хэмлин. По трапу поднималось двое новеньких, и, чтоб развлечься, она стала гадать, женаты они или холосты. Вблизи нее, сдвинув плетеные кресла, расположилась мужская компания — плантаторы, подумала она, глядя на их костюмы цвета хаки и широкополые фетровые шляпы; стюард сбился с ног, выполняя их заказы. Они переговаривались и смеялись слишком громко, ибо влили в себя достаточно спиртного, чтоб впасть в какое-то дурашливое оживление; то явно были проводы, но чьи, миссис Хэмлин не могла понять. До отплытия оставались считанные минуты. Пассажиры все прибывали и прибывали и наконец по сходням величественно прошествовал мистер Джефсон, консул; он ехал в отпуск. На корабль он сел в Шанхае и сразу стал ухаживать за миссис Хэмлин, но у нее не было ни малейшего расположения к флирту. Вспомнив о том, что сейчас гнало ее в Европу, она нахмурилась. Рождество она хотела встретить в море, вдали от всех, кому есть до нее хоть сколько-нибудь дела. От этой мысли у нее мгновенно сжалось сердце, но она тут же рассердилась на себя за то, что воспоминание, которое она решительно изгнала, вновь бередит ее сопротивляющийся ум.
Громко, упреждающе пробил судовой колокол, ее соседи разом встрепенулись.
— Ну ладно, пора топать, а то нас увезут, — сказал один из них.
Они поднялись и кучкой двинулись к трапу. Теперь, когда пришла пора прощаться, она увидела, с кем они обмениваются рукопожатиями. В этом человеке, на котором она сейчас задержалась взглядом, не было ничего примечательного, но, за неимением более интересного занятия, пристально посмотрела на него. То был высокий детина — более шести футов росту, грузный, с широкой спиной, в заношенном полотняном костюме цвета хаки и в мятой, потрепанной шляпе. Его приятели уже спустились на пристань, но и оттуда продолжали перебрасываться с ним шутками, и миссис Хэмлин отметила про себя его ярко выраженный ирландский выговор и глубокий, сильный, уверенный голос.
Миссис Линселл прошла вниз, а доктор опустился на стул рядом с миссис Хэмлин, и они стали рассказывать друг другу, что повидали за день. Но тут вновь зазвонил колокол, и пароход в ту же минуту отделился от пристани. Ирландец напоследок помахал приятелям еще раз и не спеша прошел к креслу, где лежали его газеты и журналы. Поравнявшись с доктором, он кивнул.
— Вы знакомы? — удивилась миссис Хэмлин.
— Да, нас представили друг другу в клубе, куда я заглянул позавтракать. Его фамилия Галлахер, он плантатор.
После грохота порта и шумной неразберихи посадки судно поражало благодатной тишиной. Оно долго скользило мимо зеленых крутых скалистых берегов (суда «Р.&O.» всегда бросали якорь в прелестной, маленькой, уединенной бухте), прежде чем перешло в воды главной гавани. Корабли всех стран и всех мастей — великое их множество — собрались на внешнем рейде: пассажирские суда, буксиры, трампы, а у волнореза щетинился целый лес тонких, струганых, прямых стволов — то были мачты местных джонок. В нежном свете сгущавшихся сумерек все это исполненное живого, деятельного смысла зрелище обретало какую-то странную таинственность, нельзя было не ощутить, что, позабыв свою неугомонность, все корабли сейчас как будто замерли и ждут чего-то небывалого, особенного.
Миссис Хэмлин по ночам забывалась недолгим, беспокойным сном, и у нее вошло в привычку с первыми лучами солнца выходить на палубу. Когда она смотрела, как угасают в свете занимающегося дня последние бледнеющие звезды, спокойствие нисходило на ее встревоженную душу. В эти ранние утренние часы стеклистые морские воды часто застывают в неподвижности, и рядом с этой неподвижностью земные горести ничтожны. Небо чуть серело, воздух струил сладостную свежесть. Но, дойдя на следующее утро после стоянки в Сингапуре до конца верхней палубы, она обнаружила, что кто-то ее опередил. То был Галлахер, который наблюдал, как восходящее солнце, словно волшебник, выманивает из тьмы отлогие берега Суматры. Она смешалась, слегка вознегодовала про себя, но, прежде чем успела ретироваться, он ее заметил и приветствовал кивком.
— Ранняя пташка, — бросил он. — Закурить не желаете?
На нем были пижама и шлепанцы. Из кармана куртки он достал портсигар и протянул ей. Миссис Хэмлин заколебалась — она была в капоте и кружевном чепце, натянутом на спутанные волосы, — небось сейчас она страшна, как пугало, ну и пусть… у нее были собственные тайные причины для самобичевания.
— На мой взгляд, сорокалетней женщине не стоит беспокоиться о внешности, — сказала она с улыбкой, словно он не мог не знать, какие суетные мысли пронеслись сейчас у нее в голове, и взяла сигарету: — Но вы тоже встали рано.
— Так ведь я плантатор. Я столько лет поднимался в пять утра, что не знаю, как отделаться теперь от этой привычки.
— Да, дома это вряд ли кому-нибудь понравится.
Лицо его, не затененное шляпой, было теперь хорошо видно. Оно было приятно, хоть и некрасиво. Он был слишком массивен, и черты его, должно быть, не лишенные привлекательности в молодости, сейчас обрюзгли, кожа побурела, задубилась, но темные глаза глядели весело, а волосы, хотя ему исполнилось лет сорок пять, были густы и черны как смоль.
— Едете домой в отпуск?
— Да нет, насовсем.
Черные глаза его блеснули. Он явно любил поговорить, и, прежде чем миссис Хэмлин спустилась в каюту, чтобы принять утреннюю ванну, она успела узнать о нем немало. Двадцать пять лет прожил он в Малайской Федерации, последние десять служил управляющим плантаций на Селатане, в ста милях от тех мест, где есть еще какие-то признаки цивилизации. Там было очень одиноко, но капитал он сколотил — во время каучукового бума дела шли хорошо — и очень дальновидно (что как-то не вязалось с обликом такого легкомысленного человека) вложил его в правительственные облигации, так что сейчас, когда спрос вдруг упал, смог уйти со службы.
— А из каких вы мест в Ирландии? — спросила миссис Хэмлин.
— Из Голуэя.
Когда-то миссис Хэмлин объездила всю Ирландию, и в памяти мелькнуло что-то грустное: унылый городок, глядящий на задумчивое море, с большими каменными складами, безлюдный и с облупленными домами. Осталось ощущение сочной зелени, тихого дождика, безмолвия, покорности. И там он хочет провести остаток дней? Он отвечал ей с юношеским пылом. Бившая из него энергия так плохо сочеталась с тем смутным сереньким мирком, что миссис Хэмлин почувствовала себя заинтригованной:
— У вас там родственники?
— Нет, никого. Отец с матерью уже умерли. Насколько мне известно, у меня нет родственников на всем белом свете.
Он все давно обдумал, целых двадцать пять лет он представлял себе, что будет делать дома, и рад был случаю поведать хоть одной душе то, о чем так долго мог только мечтать. Он непременно купит дом. И машину. Займется разведением лошадей. Охота его не волнует. Поначалу, когда он только поселился в Малайской Федерации, он настрелял немало крупной дичи, но сейчас потерял к этому вкус. Кто это решил, что в джунглях можно убивать? Сам он долго жил в джунглях. Что-что, а охотиться он умеет.
— Как вы считаете, я очень толстый?
Улыбнувшись, миссис Хэмлин окинула его оценивающим взглядом с головы до пят.
— По-моему, вы весите не меньше тонны.
В ответ он захохотал. Ирландские лошади самые лучшие в мире, а он всегда умел держать форму. На каучуковых плантациях черт знает сколько ходишь пешком, так что физической нагрузки предостаточно. К тому же он довольно часто играл в теннис. В Ирландии он быстро похудеет. И тогда женится. Миссис Хэмлин молча глядела на море, чуть тронутое лучами восходящего солнца, потом вздохнула:
— Не тяжело было вырвать все с корнем и уехать? Разве там не осталось никого, с кем было жалко расставаться? Как вы ни ждали отъезда, наверное, после стольких лет, когда пришла пора прощаться, сердце защемило?
— Ничуть. Я только радовался, что уезжаю. Я сыт по горло этой страной, видеть ее больше не желаю, и никого и ничего мне тут не надо.
На палубе стали появляться первые пассажиры — из тех, кто любит вставать рано, и миссис Хэмлин, вспомнив, что она полуодета, заторопилась вниз.
Два дня она лишь мельком видела Галлахера, почти не покидавшего курительный салон. В Коломбо пароход не заходил из-за забастовки, и пассажиры полностью освоились со всеми прелестями плавания через Индийский океан. Они на палубе играли в спортивные игры, сплетничали, флиртовали. Благодаря приближающемуся Рождеству в их жизни появилась цель: кто-то предложил устроить по этому поводу костюмированный бал, и дамы тотчас принялись за шитье туалетов. Чтобы решить, приглашать ли на бал пассажиров второго класса, пассажиры первого класса созвали собрание, и дело не обошлось без жарких споров. Дамы придерживались мнения, что пассажиры второго класса будут чувствовать себя не в своей тарелке. По случаю праздника они, скорее всего, выпьют лишнего, и это может обернуться всяческими неприятностями. Все выступавшие самым энергичным образом подчеркивали, что далеки от мысли о сословном превосходстве, ибо нельзя же по-снобистски полагать, что пассажиры первого и второго класса разнятся, так сказать, по существу, но из соображений простой гуманности не нужно ставить их в двусмысленное положение. Они будут чувствовать себя веселее и свободнее, если устроят собственный праздник у себя во втором классе. С другой стороны, никто, конечно, не желает оскорблять их чувства — в наше время нужно быть демократичнее (это было сказано в ответ на замечание жены миссионера из Китая о том, что она тридцать пять лет плавает на судах «Р.&O.» и слыхом не слыхала, чтоб пассажиров второго класса приглашали на танцы в салон первого класса), — и хотя им это, надо думать, не доставит радости, но все-таки, наверное, приятно будет получить такое приглашение. Заставили высказаться и мистера Галлахера, насильно оторвав его от карточной игры, ибо существовало опасение, что ни одно из мнений не получит большинства при голосовании. Галлахер вез с собой в Ирландию служащего, работавшего у него на плантациях, тот ехал вторым классом. С усилием оторвал Галлахер свое грузное тело от кушетки и произнес:
— Что касается меня, я могу сказать только одно: я взял с собой человека, который отвечал у нас там за машины. Это отличный малый, и он не меньше моего годится для вашего праздника. Только прийти он к вам не сможет, потому что я его так напою на Рождество, что уже к шести часам вечера его можно будет лишь уложить спать.
Мистер Джефсон, консул, выдавил из себя кривую улыбку. Из уважения к занимаемому им посту его выбрали председательствующим, и в этом качестве он хотел, чтобы к делу отнеслись серьезно. Он был из тех, кто любит повторять: если берешься за что-то, делай это как надо.
— Из ваших слов следует, — сказал он не без язвительности, — что стоящий перед нашим собранием вопрос не представляется вам достаточно важным.
— По-моему, он не стоит выеденного яйца, — подтвердил Галлахер, и в глазах его мелькнул огонек.
Миссис Хэмлин засмеялась. Под конец было решено, что пассажиров второго класса пригласить нужно, но необходимо вместе с тем поговорить с капитаном конфиденциально и намекнуть, что было бы разумно, если бы он запретил им приходить на праздник. Вечером того же дня, когда происходило это собрание, одевшаяся к обеду миссис Хэмлин поднялась на палубу одновременно с Галлахером.
— Успеете как раз к коктейлю, — весело проговорил он.
— Я бы не отказалась. По правде говоря, мне нужно капельку взбодриться.
— А что случилось? — улыбнулся он.
Миссис Хэмлин подумала, что улыбка его красит, но от прямого ответа предпочла уклониться.
— Я же вам говорила давеча, — бодро подхватила она, — мне исполнилось сорок.
— В жизни не встречал женщины, которая бы так это афишировала.
Они прошли в бар, где ирландец заказал ей мартини, а себе разбавленный джин. Он так давно жил на Востоке, что разучился пить все остальное.
— А у вас икота, — заметила миссис Хэмлин.
— Да, с полудня, — ответил он небрежно. — Занятно, что началась она, как только берег скрылся из виду.
— Ну ничего, пройдет после обеда.
Они выпили и после второго удара колокола перешли из бара в столовую.
— Вы в бридж играете? — спросил он на прощание.
— Да нет.
Она и не заметила, что в следующие два-три дня не встретила его ни разу: была слишком погружена в свои мысли. Стоило ей взяться за шитье, как они одолевали ее; вставали между ней и книгой, за которую она хваталась, чтобы обмануть их неотступность. Чем дальше увезет ее корабль от места, где произошло несчастье, надеялась она, тем меньше будет мука, раздирающая душу. Но нет, с каждым днем, приближавшим ее к Англии, тоска ее лишь делалась острее. Со страхом думала она о будущем, о серенькой, тоскливой жизни, которая ее там ожидала, но, изгоняя из своего усталого ума образ пугавшего ее грядущего, она уже в тысячный раз мысленно прокручивала историю, которая и обратила ее в бегство.
Двадцать лет была она замужем. Это немалый срок, и, разумеется, смешно было бы требовать, чтоб муж любил ее безумно, как когда-то. Она сама давно уже не была влюблена, как прежде, но они оставались добрыми друзьями и отлично ладили. Их брак, пожалуй, можно было назвать счастливым — в той мере, в какой браки бывают счастливыми. И вдруг она узнала, что ее муж влюбился. Будь это флирт, она бы не испугалась — такое случалось и прежде, она всегда поддразнивала мужа, против чего он никогда не возражал, ему это немножко льстило, и они вместе смеялись над его увлечениями, в которых не было ничего серьезного и угрожающего. Но тут все было иначе — он влюбился без памяти, как восемнадцатилетний мальчишка. А ему ведь пятьдесят два! Это просто смешно. И к тому же нечестно. Он совершенно потерял голову. Когда ей удружили, преподнеся эту новость, все иностранцы в Иокогаме уже были наслышаны об этом. Оправившись от первого удара и подождав, чтоб стихли гнев и удивление (он был последний человек, от которого можно было ожидать чего-либо подобного), она пыталась говорить себе, что поняла бы и простила, если бы он увлекся молоденькой. Мужчины средних лет часто ведут себя как идиоты, гоняясь за девчонками, а прожив на Дальнем Востоке двадцать лет, она не раз имела случай убедиться, какой опасный возраст для мужчины — пятьдесят и около того. И все равно нет ему оправдания. Подумать только, влюбиться в женщину восемью годами старше ее! Просто дикость какая-то! Это ставило ее в дурацкое положение. Еще чуть-чуть — и Дороти Лейком стукнет пятьдесят. И знаком он с ней был ни много ни мало восемнадцать лет, потому что Лейком, как и ее собственный муж, был коммерсантом — торговал шелком. Из года в год они встречались три-четыре раза в неделю, а как-то даже оказались вместе в Англии и, больше того, жили в одном доме на морском берегу. И ничего из этого не воспоследовало! До прошлого года между ними ничего не было, кроме шутливого дружеского заигрывания. Нет, это просто уму непостижимо! Дороти в самом деле привлекательная женщина, ничего не скажешь, у нее прекрасная фигура, пожалуй, формы пышноваты, но она все еще хороша: яркий рот, прелестные волосы, открытый, дерзкий взгляд темных глаз. Но все это было при ней и много лет назад, а сейчас ей уже сорок восемь лет. Сорок восемь!
Миссис Хэмлин не стала таиться и сразу пошла на мужа в атаку. Поначалу он отпирался — клялся и божился, что в ее обвинениях нет ни слова правды, но у нее были неопровержимые доказательства. Он помрачнел и наконец признался в том, что невозможно было отрицать. Потом он задал ей немыслимый вопрос:
— Почему это тебя волнует?
Чем привел ее в бешенство. Говорила она долго, с гневным презрением, и душевная горечь подсказала ей немало обидных слов. Он выслушал ее спокойно.
— Все двадцать лет, что мы женаты, я был не самым худшим мужем. Мы с тобой давным-давно друзья, и только. Я к тебе очень привязан, и привязанность моя сейчас ничуть не стала меньше. И то, что я даю Дороти, я не отнимаю у тебя.
— Что тебя во мне не устраивает?
— Все устраивает. Нельзя и желать лучшей жены.
— И ты смеешь это говорить после того, как обошелся со мной так жестоко?
— Прости, я не хотел быть жестоким, но ничего не могу с собой поделать.
— Но сделай милость, объясни, за что ты ее любишь?
— Откуда мне знать? Ты же не думаешь, что я хотел того?
— Разве ты не мог подавить свое чувство?
— Я старался. Мы оба старались.
— Ты так это говоришь, как будто тебе двадцать. Ты не забыл, что вы уже немолоды? Она на восемь лет старше меня, и ты ставишь меня в глупое положение.
Он ничего ей не ответил. Она сама не понимала обуревавших ее чувств: была ли это ревность, или злость, или просто уязвленная гордость?
— Я не допущу, чтоб все так шло и дальше. Будь это только ваше с ней дело, я разошлась бы с тобой, но у нее есть муж и дети. Бог мой, подумал ли ты о том, что, если б у нее были не сыновья, а дочери, она б уже, наверное, была бабушкой?
— Очень может быть.
— Какое счастье, что у нас нет детей!
Он нежно протянул к ней руку, видно, хотел погладить, но она отпрянула в ужасе.
— Ты сделал меня посмешищем в глазах моих друзей. Ради всех нас я бы хотела замолчать эту историю, но при условии, что вы покончите с вашим романом раз и навсегда.
Он опустил глаза и стал рассеянно вертеть в руках какую-то японскую фигурку, стоявшую на столе.
— Хорошо, я скажу Дороти.
Она едва кивнула и, не проронив ни слова, направилась к двери. Она была так зла, что не почувствовала, как театрально держалась.
Она ждала, что он скажет об их с Дороти решении, но он вел себя так, как будто того разговора не было: был вежлив, спокоен, немногословен, и в конце концов ей вновь пришлось заговорить с ним первой.
— Ты не забыл, о чем я тебя просила? — осведомилась она холодно.
— Я все сказал Дороти. Она просила передать тебе, что ей очень жаль, она не хотела причинить тебе такую боль. Ей бы хотелось прийти к тебе поговорить, но она боится, что тебе это будет неприятно.
— Вы приняли какое-нибудь решение?
Он заколебался. Ему не изменила сдержанность, но, когда он заговорил, голос у него слегка дрожал:
— Боюсь, нет никакого смысла давать слово, раз уж мы не в силах будем его сдержать.
— Что ж, это решает дело.
— Наверное, мне следует предупредить тебя, что, если ты захочешь получить развод, мы будем оспаривать выдвинутое обвинение. Ты не сумеешь добыть необходимые улики и проиграешь процесс.
— И не подумаю делать ничего подобного. Я поеду в Англию и пойду к адвокату.
— В наше время такие вещи улаживаются довольно просто, и я доверюсь твоему великодушию. Ты ведь вернешь мне свободу, не вмешивая в дело Дороти Лейком? — Он вздохнул: — Все так запутано, ты не находишь? Я не хочу разводиться с тобой, но, конечно, сделаю все так, как ты захочешь.
От гнева у нее помутилось в глазах.
— А что, по-твоему, должна делать я? — крикнула она. — Сидеть и смотреть, как ты окончательно превращаешь меня в дуру?
— Мне очень горько, что я ставлю тебя в унизительное положение, — он бросил на нее затравленный взгляд. — Поверь, мы не хотели любви. Как ты верно заметила, Дороти уже могла бы быть бабушкой, а я лысеющий толстяк пятидесяти двух лет от роду. Когда влюбляешься в двадцатилетнем возрасте, то думаешь, что чувство твое никогда не кончится, но в пятьдесят так много всего знаешь о любви, о жизни, знаешь, что продолжаться это будет лишь короткое мгновение. — Он говорил так тихо и грустно, как будто лицезрел сейчас всю горестную неприглядность осени и осыпавшиеся листья. Взгляд его стал очень серьезен: — В таком возрасте понимаешь, что нельзя упустить счастливый случай, который посылает своенравная судьба. Пройдет лет пять, и, разумеется, все будет позади, а может, это кончится через полгода. Жизнь так бесцветна и однообразна, а счастье — столь большая редкость! Зато небытие длится бесконечно долго.
Ей было больно его слушать; больнее всего было то, что ее муж, практичный, трезвый, заговорил, как незнакомый. В нем точно проглянул какой-то новый человек, которого она совсем не знала, тоскующий, ранимый. Двадцать лет совместной жизни не имели над ним власти, и она оказалась бессильна перед его решимостью. Оставалось только одно — уехать, и сейчас, озлившись и преисполнившись решимости добиться развода, которым она ему угрожала, она была на пути в Англию.
Под беспощадными лучами солнца морская гладь сверкала, точно зеркало, своей враждебностью и пустотой напоминая жизнь, в которой для нее, миссис Хэмлин, не оставалось места. За три дня ни одно судно не развеяло одиночество этих неоглядных просторов. Лишь изредка поверхность моря на миг дробилась от прыжка летучей рыбы. Солнце палило так нещадно, что даже самые неугомонные из пассажиров забросили игры на палубе, а те, что не спускались после завтрака в каюту, во весь рост растягивались в шезлонгах. Заметив в одном из них миссис Хэмлин, Линселл подошел и сел рядом.
— А где же ваша жена? — поинтересовалась миссис Хэмлин.
— Наверное, где-нибудь поблизости.
Какое возмутительное равнодушие! Как будто он не видел, что у его жены роман с корабельным доктором! А ведь еще совсем недавно он к этому отнесся бы по-другому. Они поженились при романтических обстоятельствах. Миссис Линселл даже школу не успела кончить, да и сам он был почти мальчиком. Они были красивой, милой парой, чья юность и любовь, наверное, трогали сердце. И вот прошло совсем немного времени — и они уже наскучили друг другу. На это невозможно было смотреть. Как это спросил ее муж перед отъездом:
— Ты, наверное, будешь жить в Лондоне?
— Наверное, — ответила она.
Нет, невозможно было примириться с тем, что ее никто нигде не ждет и что нет никакой разницы, где ей доведется жить. Тут ей вспомнился мистер Галлахер. Она позавидовала наивной радости, с которой он спешил в родные края, растроганно и чуть насмешливо припомнила, как он расписывал дом, где будет жить, жену, которую туда введет, — воображение его при этом разыгралось не на шутку. Ее друзья в Иокогаме, которым она доверила свою тайну — намерение получить развод, — утешали ее, говорили, что она вскоре снова выйдет замуж. Но ее не очень прельщала возможность еще раз оказаться в положении, в котором она однажды испытала такое горе, да и потом любой мужчина трижды подумает, прежде чем предложит руку и сердце сорокалетней женщине. Вот и Галлахер мечтал жениться на статной молодой девице.
— А что это нигде не видно мистера Галлахера? — спросила она у безучастного Линселла.
— Как, вы не знаете? Он болен.
— Бедняга, что же с ним случилось?
— У него икота.
Миссис Хэмлин засмеялась:
— Ну, это не такая страшная болезнь.
— Доктор очень встревожен. Чего он только не пробовал, ничего не помогает!
— Как странно!
Она тут же забыла об этом разговоре. Но, встретив на следующее утро доктора, осведомилась, как поправляется здоровье мистера Галлахера. И с удивлением увидела, как омрачилась его веселая мальчишеская физиономия, как явно проступило на ней выражение растерянности:
— Боюсь, ему довольно плохо, бедолаге.
— Из-за икоты? — воскликнула она, не веря собствен-ным ушам, — ну как было принять всерьез такое легкое недомогание?
— Понимаете, он ничего не может проглотить, не может спать, и это страшно истощает. Я перепробовал все, что сумел придумать, — он замялся. — Если я с этим не справлюсь, не знаю, что и будет.
Миссис Хэмлин стало страшно.
— Но он ведь такой крепкий, энергичный!
— Вы бы сейчас на него посмотрели.
— А можно? Он не будет возражать, если я его проведаю?
— Пойдемте вместе.
Галлахера перевели из каюты в лазарет, подходя к которому, они услышали громкую икогу. Звуки эти, обычно сопровождающие опьянение, вызывали невольную усмешку, но, когда миссис Хэмлин взглянула на Галлахера, она ужаснулась. Он страшно исхудал, кожа на шее висела крупными складками, загар не скрывал бледности, глаза ввалились, и взгляд, прежде блиставший смехом и весельем, был усталым и измученным. Его большое тело непрестанно сотрясалось от икоты, в которой уже не было ничего забавного, скорее что-то ужасное, зловещее — миссис Хэмлин сама не знала почему. Галлахер улыбнулся посетителям.
— Как обидно, что я застаю вас в таком положении! — сказала она.
— Ничего, от этого я не помру, — торопливо выдохнул он. — В лучшем виде доберусь до зеленых берегов Ирландии.
У его койки сидел какой-то человек, который встал при виде посетителей.
— Это мистер Прайс, — представил его доктор. — Он служил механиком на плантациях у мистера Галлахера.
Миссис Хэмлин кивнула в знак приветствия. Надо думать, это и был тот самый пассажир второго класса, которого упоминал Галлахер на собрании, где обсуждался рождественский бал. То был очень крепкий коротышка с лицом приятным и нагловатым; держался он весьма самоуверенно.
— Рады, что едете домой? — обратилась к нему миссис Хэмлин.
— Да уж не без того, леди, — последовал ответ.
Этих нескольких сказанных им слов оказалось достаточно, чтобы признать в нем кокни, и, вспомнив этот хорошо знакомый ей тип людей — разумных, жизнерадостных, неунывающих, она сразу потеплела к Прайсу.
— Вы ведь не ирландец?
— Только не я, мисс. Мы лондонские, и я, скажу вам, рад буду очутиться дома.
Миссис Хэмлин никогда не обижалась на обращение «мисс».
— Ну, я пошел, сэр, — обратился Прайс к Галлахеру и сделал рукой такое движение, словно хотел снять воображаемый картуз.
Миссис Хэмлин справилась у больного, не может ли чем-нибудь быть ему полезна, и минуты через две вышла, оставив его с доктором. Коротышка-кокни поджидал ее у дверей:
— Можно вас на пару слов, мисс?
— Ради бога.
Лазарет был расположен в кормовой части судна; опершись на поручни, они смотрели на нижнюю палубу, где ласкары и стюарды отдыхали после дежурства, растянувшись на задраенных люках.
— Не знаю, как начать, — проговорил неуверенно Прайс, чье оживленное, легко морщившееся личико странно переменилось, посерьезнев. — Я у мистера Галлахера прослужил четыре года как один день, и лучшего джентльмена еще не было под солнцем. — Он снова заколебался, потом сказал: — Не по нутру мне это все, говоря по совести.
— Что не по нутру?
— Так вот, скажу вам, ему крышка, а доктор не хочет брать в толк. Я говорил ему, а он только отмахивается.
— Ну, не унывайте, мистер Прайс. Доктор наш, конечно, человек молодой, но, по-моему, толковый, а икота — это не смертельно, сами знаете. Вот увидите, через денек-другой мистер Галлахер придет в себя.
— Вы знаете, когда все это началось? Как только берег скрылся из виду. Она же сказала, не видать ему родной земли.
Миссис Хэмлин обернулась к нему и посмотрела в лицо. Он был ниже ее дюйма на три, не меньше.
— Что вы имеете в виду?
— По мне, как есть на него напустили порчу, если вы понимаете, что я хочу сказать. От медицины ему не будет проку. Вы этих малайских женщин не знаете, как я.
На мгновение миссис Хэмлин стало страшно, и потому она передернула в ответ плечами и засмеялась:
— Полноте, мистер Прайс, это же дикость.
— Вот-вот, и вы туда же. Как доктор. Попомните мои слова, он помрет, прежде чем мы завидим берег.
Он был так серьезен, что миссис Хэмлин, томимая каким-то смутным беспокойством, поневоле ощутила силу его слов.
— Но кому понадобилось напускать чары на мистера Галлахера? — стала она расспрашивать Прайса.
— Ну, леди это затруднительно растолковать.
— Нет уж, пожалуйста, скажите.
На лице его изобразилось такое смущение, что в другое время миссис Хэмлин не удержалась бы от смеха.
— Мистер Галлахер долго жил в глуши, если вы понимаете, что я хочу сказать, а это одинокое житье. Ну, вы же знаете, что за народ мужчины, мисс.
— Я двадцать лет была замужем, — отозвалась она с улыбкой.
— Виноват, мэм. И дело тут такое, что он жил с одной малайской девушкой. Не знаю сколько — может, десять, может, двенадцать лет. Когда он надумал ехать домой насовсем, она ему и слова не сказала. Просто села и сидела. Он ждал, что она поднимет шум, а она ни слова. Само собой, он о ней подумал, купил ей домик небольшой, устроил, чтобы каждый месяц она что-то получала. Не поскупился, нет, это уж можете поверить, да и знала она всегда, что он когда-нибудь уедет. Она не плакала, ни что-нибудь еще такое. Когда он уложился и отправлял багаж, она просто сидела и смотрела, как увозят вещи. И когда он продал мебель одному китайцу, она и рта не раскрыла. Он бы ей ни в чем не отказал, что бы она ни попросила. Ну, а когда пора было уже уходить из дому, чтобы вовремя добраться до парохода, она все так же сидела на ступеньках бунгало, просто, знаете, сидела и смотрела, ни звука не проронила. Он хотел с ней попрощаться, как водится, но, поверите ли, она даже не шелохнулась. «Ты разве со мной не попрощаешься?» — спросил он. И тут что-то эдакое чудное, диковинное мелькнуло у нее в глазах. И знаете ли, что она сказала? «Ты иди», — у них, у этих местных, несуразная такая манера выражаться, не как у нас у всех. Так вот, она сказала: «Ты иди, но говорю тебе, никогда тебе не бывать в твоей стране. Когда земля скроется в море, смерть придет за тобой, и, прежде чем те, что едут с тобой, снова увидят землю, смерть заберет тебя». Меня аж передернуло.
— А мистер Галлахер что на это?
— Да что там, вы же его знаете. Засмеялся только: «Всегда бодра и весела», — вскочил в машину, и мы покатили.
Миссис Хэмлин представилась залитая солнцем белая дорога, которая бежит между каучуковыми плантациями, между ровными рядами аккуратно подстриженных зеленых деревьев, окутанных безмолвием, потом взмывает в гору и стремится вниз в густые заросли джунглей. Машина с белыми людьми и отчаянным водителем-малайцем несется все дальше и дальше, мимо малайских хижин, уединенных, молчаливых, отступивших от дороги в тень кокосовых деревьев, мимо оживленных деревень, мимо рыночных площадей, заполненных малорослым, смуглым, изящным народом в пестрых саронгах. К вечеру они добираются до чистенького современного городка, где есть клубы, площадки для гольфа, сверкающие чистотой, ухоженные придорожные гостиницы, белое население, вокзал, откуда двое путешественников могут уехать в Сингапур. А на ступеньках бунгало — пустующего, пока не явился новый хозяин, сидит женщина и не сводя глаз смотрит на дорогу, на которой рокочет, а потом скрывается из виду машина, смотрит, пока дорогу не поглощает ночная тьма.
— А какая она из себя? — спросила миссис Хэмлин.
— Ну, не знаю, — отозвался Прайс. — По мне, так все эти малайки на одно лицо. Да и не такая уж она молодая, и потом, вы знаете, этих местных быстро разносит.
— Разносит?
Как ни нелепо, но образ огромной, расплывшейся женщины наполнил ее душу страхом.
— Мистер Галлахер из тех, что не любят себе ни в чем отказывать.
Мысль об обжорстве сразу отрезвила миссис Хэмлин. Она рассердилась на себя за то, что на какое-то мгновение поддалась фантазиям коротышки-кокни.
— Ну, это уж совсем нелепо, мистер Прайс. Толстухи не в силах напускать на людей чары, да еще за тысячу миль. Им и без того тяжело живется.
— Можете смеяться надо мной, мисс, но, если мы что-нибудь не предпримем, вы еще вспомните мои слова, моему хозяину крышка. От медицины ему помощи не будет, на медицину белых ему нечего надеяться.
— Возьмите себя в руки, мистер Прайс. У этой толстой дамы нет причины обижаться на мистера Галлахера. Если вспомнить, как это заведено на Востоке, он поступил с ней очень по-доброму. За что ей желать ему зла?
— Ну, нам не увидать это их глазами. Да что там, человек может двадцать лет прожить с какой-нибудь из этих местных, и что, вы думаете, он будет знать, что делается в ее черном сердце? Да ни в жизни!
Ее даже не рассмешил его патетический тон, так много подлинного чувства было в его словах. Уж кто-кто, а она знала, что сердце человека, независимо от цвета кожи — желтой, белой или черной, разгадать нельзя.
— Но если она даже и обозлилась на него, если так его возненавидела, что готова была его уничтожить, ну что особенного она могла сделать? — Удивительнее всего было то, что своими доводами она, того не сознавая, пыталась убедить саму себя. — Такого яда, который действует дней через шесть-семь, не существует.
— А разве я говорил про яд?
— Вы меня извините, мистер Прайс, — улыбнулась она, — но я не стану верить в чары, знаете ли.
— Вы жили на Востоке?
— Да, двадцать лет наездами.
— Так вот, коли вы можете сказать, на что они способны, а на что нет, вы знаете больше моего. — Стиснув кулак, он яростно хватил по поручням. — С меня довольно этой клятой страны, она мне истрепала нервы. Нам за ними не угнаться — нам, белым, точно. Уж вы меня простите, мисс, мне лучше пойти промочить горло. А то меня трясет.
Он коротко кивнул и пошел прочь. Она проводила его взглядом. Небольшой, крепко сбитый, верткий, одетый в потрепанный защитного цвета костюм, он скользнул по трапу на шкафут, быстро пересек его, не подымая головы, и скрылся в салоне второго класса. Она не могла понять, отчего у нее на душе остался какой-то осадок. И не могла отогнать стоявшую перед мысленным взором картину: тучная, уже не очень молодая женщина в саронге и цветастой жакетке с золотыми украшениями в волосах сидит на ступеньках бунгало и пристально глядит на дорогу. Ее оплывшее лицо накрашено, но взгляд больших, сухих — без единой слезинки — глаз непроницаем. А двое мужчин, что катят в машине, веселы, как школьники, спешащие на каникулы. У Галлахера вырывается вздох облегчения. От свежести раннего утра, от ярко-синего неба радость в нем бьет ключом. И будущее кажется ему залитой солнцем дорогой, которая уходит в привольную, лесистую равнину.
Через какое-то время миссис Хэмлин снова справилась у доктора, полегчало ли его пациенту. Доктор отрицательно помотал головой.
— Я выдохся. Просто не знаю, что еще предпринять, — он горестно нахмурился. — Какое чертово невезение! Напороться на такой случай! С этим и дома было бы нелегко справиться, а уж в открытом море…
Он был родом из Эдинбурга, только что получил докторский диплом и ожидал от плавания отдыха перед началом серьезной врачебной практики. Его как будто обманули. Он-то надеялся приятно провести время, а вместо этого ему приходится лечить какую-то загадочную хворь, до крайности его тревожившую. Ясное дело, он был неопытен, но делал все, что только было в силах человеческих, и мысль, что пациент, наверное, считает его невежественным тупицей, выводила его из себя.
— Прайс говорил вам о своих подозрениях?
— В жизни не слышал подобной чуши. Я рассказал об этом капитану, он страшно возмутился. Он не желает, чтоб по судну поползли слухи. Опасается, что это испугает пассажиров.
— Я буду нема как могила.
Доктор бросил на нее пронзительный взгляд:
— Но сами-то вы не верите, что в этих бреднях есть крупица правды?
— Конечно, нет, — она не отрывала взгляд от моря, чья синяя маслянистая ровная гладь, сияя, обступила их со всех сторон. — Я очень долго жила на Востоке, — прибавила она. — Порою там случается необъяснимое.
— Вот это меня и бесит.
Неподалеку от них два маленьких японца бросали кольца в цель. Подтянутые, аккуратные, в теннисных рубашках, белых брюках и прорезиненных спортивных туфлях, они выглядели совершенно по-европейски, даже счет выкрикивали по-английски, и все-таки, взглянув на них, миссис Хэмлин снова ощутила смутное беспокойство. Они так убедительно маскировались под ее соплеменников, что в этом было что-то жуткое. Нет, у нее тоже сдают нервы.
Трудно сказать, как это получилось, но слухи, что Галлахер страдает от дурного глаза, все же поползли. Дамы, сидевшие в шезлонгах с шитьем в руках и мастерившие себе костюмы для рождественского бала, шушукались об этом на палубе, то же обсуждали мужчины в курительном салоне, потягивая коктейли. Многие пассажиры подолгу жили на Востоке и сейчас извлекали из глубин памяти разные странные и необъяснимые истории. Само собою, глупо было верить, что Галлахер заболел от сглаза, такого, ясное дело, не бывает, но случилось же в свое время то-то и то-то, и объяснения этому так и не нашлось. Доктору ничего не оставалось, кроме как признать, что он не может указать причину заболевания, вернее, физиологическое объяснение он мог, конечно, дать, но почему вдруг на Галлахера напали такие чудовищные спазмы, он не знал. Чувствуя за собой какую-то неясную вину, он пытался оправдаться.
— Это болезнь, которая может ни разу не встретиться за всю практику, — твердил он. — Экое чертово невезение.
Он связывался по радио с проходящими судами, и советы сыпались со всех сторон.
— Я перепробовал все, что мне предлагали, — с сердцем сказал он. — С японского судна посоветовали применить адреналин. Откуда, черт побери, я возьму адреналин среди Индийского океана?
В мысли о судне, которое совершает свой бег через пустынное море и на борт которого поступают отовсюду невидимые сообщения, было что-то волнующее. Оно казалось странно одиноким и в то же время центром мира. А в пароходном лазарете истомленный человек, судорожно хватавший ртом воздух между спазмами, боролся со смертью. Вскоре пассажиры почувствовали, что корабль лег на другой курс; до них дошла весть, что капитан решил бросить якорь в Адене, чтобы высадить Галлахера на берег и отправить в больницу, где ему могли бы оказать более существенную помощь, чем на борту парохода. Старший механик получил приказ идти полным ходом. Судно было старое, корпус дрожал от напряжения. Пассажирам, давно свыкшимся с его ходом и шумом машинного отделения, стало не по себе от непривычной вибрации. Нельзя сказать, что страх проник в их подсознание, но сотрясения судна били по нервам, вселяя беспокойство в каждого. Морская ширь по-прежнему была пустынна — казалось, они плывут в безлюдном мире. И вот уже окутавшая пароход подспудная тревога стала явной, как проявившийся недуг. Пассажиры начали раздражаться, ссоры вспыхивали по пустякам, которых раньше никто бы и не заметил. Мистер Джексон все так же изрекал дежурные остроты, но больше никто не отвечал на них улыбкой. Между супругами Линселл произошла размолвка. Многие слышали, как поздно ночью миссис Линселл расхаживала с мужем взад-вперед по палубе и тихим, напряженным шепотом осыпала его страстными упреками. В один из вечеров партия бриджа в курительном салоне завершилась дракой, после чего последовало примирение, которое сопровождалось общей пьянкой. Имя Галлахера почти не упоминалось, но в мыслях пассажиров он присутствовал неотлучно. Они сверяли курс корабля по карте — доктор сказал, что Галлахеру не продержаться дольше трех-четырех дней, — и ядовито спорили, как побыстрее достичь Адена. А что с ним будет дальше, после высадки, их не касалось: лишь бы не умер на борту.
Миссис Хэмлин навещала Галлахера ежедневно. И словно трава, бурно растущая прямо на глазах после весеннего тропического ливня, шло разрушение его плоти. От него остались лишь кожа, висевшая мешком, да кости, вместо двойного подбородка болтался морщинистый индюшачий зоб, щеки запали; стало особенно заметно, какого он большого роста: из-под простыни выступало огромное костлявое тело, похожее на остов доисторического животного. Почти все время он лежал, не размыкая век, оцепенев от морфия и содрогаясь, как и прежде, от ужасных спазмов; когда порой он открывал глаза, заметно становилось, как неестественно они огромны, каким невидящим, недоуменным и тревожным взором глядят из резко обозначившихся, провалившихся орбит. Но если он выныривал из забытья и узнавал миссис Хэмлин, то заставлял себя галантно улыбнуться.
— Как вы себя сегодня чувствуете, мистер Галлахер? — справлялась она.
— Вот кончится этот чертов зной, и я сразу оживу. Господи боже мой, жду не дождусь, когда смогу нырнуть в Атлантику. Кажется, все на свете бы отдал, лишь бы как следует поплавать в море и чтоб холодные, серые волны Голуэя били в грудь.
Тут все его тело, от макушки до кончиков пальцев, передернулось. При нем неотлучно находились мистер Прайс или горничная. С лица кокни исчезло выражение вызова и дерзкого веселья, уступив место угрюмости.
— Вчера меня затребовал к себе капитан, — сообщил он ей, когда они остались вдвоем. — Устроил мне приличную головомойку.
— Из-за чего?
— Сказал, что не потерпит эти разговорчики про сглаз и все такое. Сказал, что это лишь пугает пассажиров и чтобы я попридержал язык, иначе буду иметь дело с ним. А я тут при чем? Я никому о том ни звука, кроме вас и доктора.
— Но пассажиры лишь об этом и толкуют.
— И что? Вы думаете, без меня это никто не видит? Да это понимают все — ласкары и китайцы, они смекают, что с ним происходит. Не думаете же вы, что их удалось переучить? Они смекают, что это не обычная болезнь.
Миссис Хэмлин в ответ не проронила ни слова. От цветной прислуги знакомых пассажиров она знала, что на пароходе никто, за исключением белых, не сомневается, что женщина, которую бросил Галлахер в далеком Селантоне, изводит его колдовским заклятьем. Они не сомневаются, что, как только каменистые берега Аравии станут видны с корабля, душа его расстанется с телом.
— Капитан сказал, что если он услышит, будто я затеваю всякие там штучки-дрючки, то запрет меня в каюте и не выпустит до конца пути, — вдруг выпалил Прайс, и его морщинистое личико явно приняло озабоченное выражение.
— Какие еще штучки-дрючки?
Прайс бросил на нее свирепый взгляд, как будто ярость на капитана распространялась и на нее:
— Доктор перепробовал все дурацкие средства, какие были ему известны, и по радио запрашивал советы по всему свету — ну и чего он добился? Скажите на милость, он что, не видит, — человек умирает? Теперь остался только один способ его вылечить.
— Какой же?
— От колдовства он погибает, и только колдовство его спасет. И не говорите мне, что такого не бывает, — он почти кричал, пронзительно и раздраженно. — Я сам видел, как человека буквально из могилы вытащили, когда привели к нему паванга — по-нашему говоря, знахаря-чудодея, и он стал проделывать эти свои фокусы. Я сам видел, говорю вам.
Миссис Хэмлин по-прежнему не отзывалась. Он посмотрел на нее испытующе:
— Тут на борту имеется такой вот чудодей, вроде того, что был у нас в Малайзии. Только ему нужно какое-нибудь животное, хоть живой петух.
— Живой петух? Но для чего? — она слегка нахмурилась.
— Послушайте моего совета, вам же лучше ничего об этом не знать. Но хочу сказать вот что: я ничего не побоюсь, лишь бы спасти моего хозяина. А если капитан дознается и запрет меня в каюте, пусть его запирает.
Тут к ним подошла миссис Линселл, и, попрощавшись с ними тем же странным жестом, что и с Галлахером, он скрылся. Миссис Линселл просила миссис Хэмлин примерить ее костюм, который она сшила себе для бала-маскарада, и по пути к каюте стала озабоченно обсуждать, что будет, если Галлахер умрет на Рождество. Тогда, наверное, отменят танцы. Она сказала доктору, что рассорится с ним навсегда, если такое случится, и доктор ей торжественно поклялся, что не допустит этого и что-нибудь придумает, лишь бы больной не умер в праздник.
— И для него так будет лучше, — заключила свою речь миссис Линселл.
— Для кого? — не поняла собеседница.
— Для бедного мистера Галлахера. Кому приятно умереть на Рождество, ведь верно?
— Не знаю, право, — бросила миссис Хэмлин.
Забывшись ненадолго сном, она той ночью пробудилась от рыданий. Ее встревожило открытие, что она плачет во сне. Ведь это значило, что телесная слабость взяла верх над волей, а если воля сломлена, ей больше нечем защититься от всезатопляющей печали. Снова и снова перебирала она мысленно — как делала уже не раз — подробности сразившего ее несчастья, вспоминала свои разговоры с мужем, понимала задним числом, что надо было сказать одно, и корила себя за то, что сказала другое. От всей души жалела она, что не осталась тогда в блаженном неведении, и спрашивала себя, не было ли бы умнее спрятать гордость и закрыть глаза на огорчительную правду. Женщина светская, она прекрасно знала, что, расставаясь с мужем, теряла много больше, чем одну только любовь, она теряла и налаженную жизнь, и твердое положение, и достаток, и поддержку влиятельной среды. Ей было знакомо много жен, живших отдельно от мужей, и положение их было шатко, а доходы куцы. Знала она и то, как быстро ими начинали тяготиться друзья. Она тоже была одинока. Одинока, как корабль, который, содрогаясь, поспешал сейчас через пустыню моря, одинока, как никому не нужный человек, который умирал сейчас неподалеку в лазарете. В каюте было очень душно. Она мельком взглянула на часы, стрелки показывали четыре с минутами, и, значит, до наступления несущего отраду дня оставалось еще два томительных часа.
Она накинула кимоно и поднялась на палубу. Тьма была непроглядная — на чистом небе, не закрытом тучами, не высветилось ни одной звезды. Дрожа и пыхтя, старое судно на всех парах тяжело влеклось сквозь мрак. Стояла жуткая тишина. Миссис Хэмлин, нащупывая босыми ногами дорогу, медленно брела по палубе.
Не видно было ни зги. Дойдя до конца верхней палубы, она оперлась о поручни. Вдруг она вздрогнула и насторожилась — на нижней палубе мерцал неверный огонек. Она осторожно пригнулась вперед. Внизу горел маленький костерок, но ей был виден только отсвет — пламя загораживали голые спины сгрудившихся вокруг мужчин. Чуть в стороне она не столько разглядела, сколько угадала крепкую мужскую фигуру в пижаме. В отличие от прочих — туземцев, это был европеец. Должно быть. Прайс. И она тотчас догадалась, что там происходит таинственный обряд изгнания нечистой силы. Напрягши слух, она расслышала, как тихий голос бормотал, нанизывая загадочные слова заклинания. Ее пронзила дрожь. Хотя она и понимала, что те внизу сейчас слишком заняты, чтоб заподозрить, будто кто-то их выслеживает, но все-таки боялась шевельнуться. И вдруг, разорвав душную темноту ночи — казалось, будто треснул пополам туго натянутый шелк, — пропел петух. Она едва сдержала крик. Прайс боролся за жизнь своего друга и господина, принося жертвоприношение темным богам Востока. Упорный, тихий голос бормотал и бормотал. Затем в неясно различимом кругу произошло какое-то движение, там что-то совершалось, но что — она не видела. Потом послышалось испуганное и сердитое кудахтанье, а после звук — жуткий, непередаваемый: колдун полоснул петуха ножом по горлу, и воцарилось молчание; затем последовало вновь какое-то неясное движение, которое нельзя было понять, и вскоре — мягкое притопывание, должно быть, гасили костер. Смутно серевшие фигуры растворились в ночи, и стало еще тише, чем прежде. Слышна была только мерная вибрация моторов.
Исполненная непонятного волнения, она еще немного постояла, медленно пошла по палубе, нащупала шезлонг и легла. Ее по-прежнему била дрожь. Можно было лишь догадываться о том, что совершилось там, внизу. Она сама не знала, долго ли лежала так, когда заметила, что зарю осталось ждать недолго. Еще не рассвело, но тьма редела, ночь сменялась днем. На фоне черного неба уже можно было разглядеть поручни. И вдруг она увидела, что к ней идет человек в пижаме.
— Кто там? — испуганно вскрикнула она.
— Всего лишь доктор, — отозвался дружелюбный голос.
— Ох! Как вы тут оказались в эту пору?
— Я от Галлахера. — Он сел рядом и закурил. — Сделал ему только что отличное вспрыскивание, и он успокоился.
— Было очень плохо?
— Я думал, это агония. Я наблюдал за ним: он вдруг приподнялся на постели и заговорил по-малайски. Понять его я, разумеется, не мог, но он твердил одно и то же слово.
— Наверное, имя, женское имя.
— Рвался из постели, хотел куда-то бежать. Он до сих пор чертовски силен, пришлось с ним повозиться. Я боялся, как бы он не шагнул за борт. Ему, видимо, казалось, что его зовут.
— А когда это было? — не сразу выговорила миссис Хэмлин.
— Примерно между четырьмя и половиной пятого. А почему вы спрашиваете?
— Да так.
Она внутренне содрогнулась.
Через несколько часов, когда жизнь на корабле шла уже привычным ходом, по палубе мимо миссис Хэмлин прошел Прайс, но не остановился, а только поприветствовал ее коротким кивком и отвел взгляд. Вид у него был усталый, измученный. И вновь миссис Хэмлин вспомнилась тучная женщина с золотыми украшениями в густых, иссиня-черных волосах, сидевшая на ступеньках брошенного бунгало и устремившая неподвижный взгляд на дорогу, прорезающую ровные ряды каучуковых посадок.
Стоял нещадный зной. Теперь она поняла, отчего ночь была так черна. Небесная синева выцвела до ровной, мертвенной белесости, столь идеально равномерной, что невозможно было обмануться и принять ее за облачность; где-то наверху зной, казалось, собрался в непроницаемую пелену. Не чувствовалось ни малейшего дуновения, и море, такое же бесцветное, как небо, переливалось, словно жидкость в чане красильщика. Пассажирами овладела вялость, они тяжело дышали, гуляя по палубе, и бисер пота орошал их лбы. И говорили они тихо, полушепотом. Над кораблем нависло что-то жуткое, тревожное, смех замирал, не доходя до уст, в сердцах закипало раздражение. Они все были живы и здоровы, а то, что рядом умирает человек, в конце концов, их не касалось — ведь умирали не они, а он, и это лишь сердило их и странно бередило душу. У одного из плантаторов вырвалось за стаканом слинга то, что думали многие, но не решались выговорить вслух:
— Если он собирается сыграть в ящик, пусть не тянет, и пусть все это поскорее кончится. А то у меня мурашки но спине бегают.
День тянулся бесконечно. Миссис Хэмлин была рада, когда наконец пришла пора обедать. Хотя бы часть дня миновала. Она подсела за стол к доктору:
— Когда мы прибываем в Аден?
— Завтра. Капитан сказал, что мы будем в виду земли между пятью и шестью утра.
Она посмотрела ему прямо в глаза пронизывающим взглядом, который он какое-то время выдерживал, потом потупился и покраснел. Ему припомнилось, что женщина, грузная женщина, сидевшая на крыльце бунгало, сказала, что Галлахеру не увидать земли. У миссис Хэмлин мелькнуло подозрение, что трезвый и скептичный юный доктор тоже дрогнул наконец. Он слегка нахмурился и, взяв себя в руки, заставил себя посмотреть ей в лицо:
— Признаюсь, я без сожаления передам своего пациента санитарам в Адене.
На следующий день был сочельник. Когда миссис Хэмлин стряхнула с себя остатки беспокойного сна, заря уже занималась. Она выглянула в иллюминатор — небо было чистое, серебристое, за ночь дымка рассеялась, стояло сияющее утро. Она поднялась на палубу — на душе у нее было легче, чем вчера, — и прошла до самого конца. Над горизонтом слабо поблескивала поздняя звезда. Море вспыхивало искорками солнечного света, словно баловень бриз пробегал, резвясь, кончиками пальцев по его шири. Свет был волшебно нежен, словно молодой весенний лес, и так прозрачен, что вспоминалась хрустальная, клокочущая влага горного ручья. Она обернулась посмотреть, как выплывает на востоке розовое солнце, и увидела, что к ней приближается одетый по всей форме доктор. Он явно провел на ногах всю ночь. Растрепанный, с поникшими плечами, он шел походкой смертельно утомленного человека. Она сразу догадалась, что Галлахер умер. Когда доктор подошел ближе, она увидела, что по щекам его струятся слезы. Он был так юн, что у нее сжалось сердце, она взяла его за руку.
— Ах вы, мой милый, бедненький, как же вы устали! — вырвалось у нее.
— Я сделал все, что мог, — ответил он, — я так хотел его спасти.
Голос его задрожал, она поняла, что он на грани истерики.
— Когда это случилось? — спросила она.
Он прикрыл глаза, стараясь сдержаться, но губы у него тряслись:
— Несколько минут назад.
Миссис Хэмлин не нашлась что сказать. Взгляд ее блуждал по спокойным, бесстрастным, вечно юным морским просторам. Судно окружала водная гладь, безбрежная, как людское горе. Вдруг глаза ее задержались на какой-то точке — впереди на линии горизонта появилось что-то похожее на громадное облако с обрывистыми краями, но контуры его очерчивались слишком резко. Она тронула доктора за руку:
— Что это там?
Он всматривался несколько секунд, и под его загаром проступила бледность.
— Земля.
Вновь миссис Хэмлин подумала о толстой безмолвной малайке, сидевшей на ступеньках галлахеровского бунгало, — знает ли она? Хоронили Галлахера, когда солнце поднялось уже высоко. Люди стояли на нижней палубе, на крышках люков: пассажиры первого и второго класса, белые стюарды и горничные, офицеры-европейцы.
«Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями, как цветок, он выходит и опадает; убегает, как тень, и не останавливается», — читал миссионер слова заупокойной службы.
Прайс стоял, не отрывая глаз от палубы, лицо его было нахмурено, челюсти сжаты. Он не ощущал горя — сердце его пылало гневом. Доктор и консул стояли плечом к плечу. На лице консула застыло выражение официальной скорби, продуманное до тонкостей и в точности отвечавшее случаю, но доктор, чисто выбритый, в наглаженном новом кителе с золотым позументом, был бледен и подавлен. Взгляд миссис Хэмлин упал на миссис Линселл. Плача, прижалась она к мужу, нежно державшему ее за руку. Вид этой пары почему-то особенно растрогал миссис Хэмлин: в минуту горя и смятения чувств маленькая женщина инстинктивно искала защиты у мужа. Но тут слабая дрожь прошла по телу миссис Хэмлин, и она принялась старательно разглядывать бороздки палубной обшивки, чтобы не видеть того, что произойдет дальше. Было слышно, как люди задвигались, один из офицеров отдал команду, и голос миссионера продолжал:
«Ибо Всемогущему Богу по неизреченной милости Его угодно было призвать к себе душу нашего дорогого преставившегося брата, и мы предаем бренное его тело морской пучине в ожидании часа, когда по воскресении мертвых море отдаст бывших в нем».
Миссис Хэмлин почувствовала, как по щекам ее побежали горячие слезы. Раздался глухой всплеск, и голос миссионера стал возглашать вечную память.
По окончании службы все разбрелись кто куда, пассажиры второго класса спустились к себе, и колокол вскоре стал созывать их на завтрак. Но пассажиры первого класса еще долго бесцельно расхаживали по верхней палубе. Многие мужчины подались в курительный салон, чтобы заправиться виски с содовой или слингом с джином. На доске возле дверей в столовую консул вывесил объявление, приглашающее пассажиров на собрание. Все догадывались, о чем будет это собрание, и аккуратно пришли в назначенное время. Сегодня они были более оживлены, чем в прошлый раз, и весело болтали, сдерживаясь только из приличия. Поднялся консул с моноклем в глазу и объявил, что пригласил их, чтоб решить, как быть с завтрашним балом. Он знает, что все они глубоко скорбят о мистере Галлахере, и он было хотел предложить, чтоб все сложились и отправили телеграфом соответствующее соболезнование родственникам покойного. Однако казначей, тщательнейшим образом обследовавший его бумаги, не обнаружил никаких упоминаний хотя бы об одном-единственном родственнике или друге, которому можно было бы адресовать подобное послание. Похоже, покойный был совсем один на свете. Поэтому он, консул, берет на себя смелость выразить самое искреннее сочувствие доктору, который — он нимало в том не сомневается — сделал все возможное в сложившихся обстоятельствах.
— Правильно, согласны, — поддержали его пассажиры.
Все они прошли через очень трудное испытание, продолжал консул, и кое-кому из пассажиров может показаться, что из уважения к памяти покойного было бы лучше перенести бал с завтрашнего дня на тридцать первое декабря. Но он должен откровенно признаться, что думает иначе и совершенно убежден, что и мистер Галлахер не захотел бы этого. Впрочем, пускай решает большинство. Затем встал доктор и поблагодарил консула и пассажиров за добрые слова, это и впрямь было мучительное время, и он уполномочен капитаном заявить, что было бы весьма желательно, чтобы все праздничные мероприятия были проведены в рождественский вечер, как если бы ничего не случилось. Он, доктор, хочет от себя добавить конфиденциально: капитан чувствует, что пассажиры впали в довольно болезненное состояние духа, и полагает, что им всем будет полезно хорошенько повеселиться на рождественском балу. Затем поднялась жена миссионера и напомнила, что они должны думать не только о себе, организационный комитет постановил устроить детям елку после того, как пассажиры первого класса отобедают, к тому же дети ждут не дождутся, чтобы посмотреть на всех в костюмах, нечестно разочаровывать малышей; она ничуть не меньше прочих чтит память умерших и от души сочувствует всем, у кого на сердце так тяжело, что они и думать не могут о танцах, у нее и самой душа болит, но она считает, что было бы эгоистично поддаваться чувству, от которого никому не станет лучше. Не нужно забывать о малышах. Эта мысль весьма воодушевила пассажиров. Им хотелось поскорее сбросить томительный страх, в течение стольких дней висевший над судном, — они ведь были живы и хотели жить и радоваться, но им мешало чувство, что из благопристойности нужно выказать хоть сколько-нибудь горя. Но если можно сделать то, что в самом деле хочется, к тому же из соображений альтруизма, это меняет дело. И когда консул попросил проголосовать, кто согласен не переносить бал, все, кроме миссис Хэмлин и еще одной старушки, страдавшей ревматизмом, с энтузиазмом подняли руки.
— Большинство высказалось за это предложение, — подвел итог консул, — и я позволю себе поздравить собравшихся с очень разумным решением.
Все уже собирались было расходиться, когда с места поднялся один из плантаторов и сказал, что хочет высказаться. Не кажется ли собранию, что в сложившихся обстоятельствах было бы неплохо пригласить и пассажиров второго класса. На похоронах сегодня все они были вместе. Следом вскочил миссионер и бурно поддержал плантатора: всех их сплотили события последних дней, ибо перед лицом смерти все равны. Тогда к собранию снова обратился консул. Вопрос обсуждался на предыдущем собрании, участники которого высказали мнение, что пассажирам второго класса будет приятнее праздновать Рождество в своем кругу, но жизнь вносит коррективы, и он решительно выступает за то, что прежнее решение необходимо изменить.
Всех захлестнула волна демократических восторгов, и предложение было встречено горячим одобрением. Расстались они на подъеме, ощущая себя добрыми и милосердными. Потом в курительном салоне все угощали друг друга выпивкой.
Итак, на следующий вечер миссис Хэмлин надела свой маскарадный костюм. У нее не лежала душа к предстоящему веселью, и какое-то время она даже колебалась, не сказаться ли больной. Но ей, конечно, не поверят и сочтут слабонервной, а этого ей не хотелось. Она сшила себе костюм Кармен и, одевшись, не могла побороть тщеславное желание выглядеть как можно ослепительней. Она подкрасила ресницы, положила румяна на щеки. Костюм ей очень шел. Когда пропел рожок и она вошла в зал, все восхищенно замолчали, и это ей польстило. Консул, не упуская случая потешить публику, оделся балериной, и его встретили раскатами утробного смеха. Миссионер и его жена, чувствовавшие себя несколько скованно — впрочем, они были вполне довольны собой, — изображали императора и императрицу из династии Цин. Миссис Линселл нарядилась Коломбиной, постаравшись открыть как можно выше свои стройные ножки. Ее муж изображал арабского шейха, доктор — малайского султана.
К обеду подали шампанское (деньги заранее собирали по подписке), и за трапезой царило оживление. Пароходная компания предоставила хлопушки, выстреливавшие разнообразными бумажными шапками, которые пассажиры немедля водружали себе на головы. Хлопушки выстреливали также серпантином и конфетти, и гости запускали ими друг в друга, многие перебрасывались маленькими воздушными шариками, летавшими по залу. Было шумно, все смеялись, возбужденно разговаривали. Всем было очень весело. Праздник удался на славу, ничего не скажешь. Как только закончился обед, пассажиры перешли в салон, где уже стояла наряженная рождественская елка с горящими свечками, тотчас же открыли двери и впустили детей, завизжавших от восторга, и стали вручать им подарки. Потом начались танцы. Пассажиры второго класса робко стояли на палубе по краям отведенного под танцы круга и изредка приглашали друг друга.
— Я рад, что они с нами, — сказал консул во время танца миссис Хэмлин. — Я убежденный демократ и нахожу, что они ведут себя весьма благоразумно, держась друг друга.
Миссис Хэмлин нигде не видела Прайса и поинтересовалась у одного из пассажиров второго класса, где он.
— Потерян для мира, — последовал ответ. — Мы еще днем уложили его в постель и заперли в каюте.
Консул пригласил ее вновь и, танцуя, острил не переставая. И вдруг она почувствовала, что больше не в силах переносить все это громыхание любительского оркестра, шуточки консула, оживление танцующих. Она сама не знала, почему веселье этих людей, плывущих на корабле в ночи через пустыню моря, вдруг наполнило ее ужасом. Когда консул наконец отпустил ее, она выскользнула из салона, бросила по сторонам осторожный взгляд, проверяя, не заметил ли кто-нибудь ее бегство, и вышла на палубу. Там она стала тихо пробираться в один укромный уголок, где ее никто не мог бы потревожить. Все тонуло во мраке, но из ближайшего закоулка вдруг донеслись звуки сдавленного смеха, и она приметила Коломбину и малайского султана: миссис Линселл и доктор спешили продолжить флирт, прерванный смертью Галлахера.
Все эти люди с каким-то ожесточением спешили вычеркнуть из памяти всякую мысль о бедном одиноком человеке, так странно угасшем у них на глазах. Он не внушал им ни капли сострадания, скорее вызвал раздражение, нарушив их покой. С жадностью набросились они вновь на жизнь: шутили, флиртовали, сплетничали. Миссис Хэмлин вспомнилось, как консул сказал, что в бумагах умершего не нашлось ни единого письма, ни даже упоминания ни об одном друге, которого бы можно было известить о его смерти, и это показалось ей самым ужасным — горем, от которого болело ее сердце. В человеке, прошедшем по жизни в таком всечасном одиночестве, было что-то таинственное. А ведь подумать только, всего несколько дней назад пышущий здоровьем, как задиристый самец, полный сил и дерзких планов он поднялся на борт судна в Сингапуре. При мысли об этом ее охватила тоска. Священным трепетом отозвались в ее душе слова заупокойной службы: «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Как цвет, он выходит и опадает…» Год за годом он мечтал, строил планы, страстно любил жизнь, столько хотел сделать, и когда наконец протянул руку, желая… нет, это было слишком горько, рядом с этим все остальные невзгоды казались безделицами. Важна только смерть, тайна смерти. Миссис Хэмлин облокотилась на поручни и стала рассматривать усыпанное звездами небо. Зачем люди сами себя мучают? Пусть плачут о тех, кого любили, смерть всегда ужасна, а остальным, живым, стоит ли растравлять в себе обиду, злость, заноситься, проявлять жестокость. Она вновь подумала о себе, о своем муже, о женщине, которую он так неожиданно полюбил. Он тоже сказал, что за всю жизнь мы бываем счастливы лишь краткие мгновения, а небытие продолжается вечно. Она размышляла долго, сосредоточенно, и вдруг, как молния, пронзающая тьму летней ночи, ум ее озарила мысль, заставившая ее за¬трепетать от удивления, ибо она поняла о себе что-то важное — она поняла, что у нее в сердце больше нет обиды на мужа и ревности к сопернице. Мысль эта сначала смутно забрезжила на краю сознания, а потом, как утреннее солнце, согрела ей душу отрадным, мягким теплом. Благодаря трагической смерти этого незнакомого ирландца она возвысилась духом и обрела мужество, чтобы принять отчаянное решение. Сердце ее стучало часто, ей не терпелось поскорее привести свою мысль в исполнение. Ее снедала страсть к самопожертвованию.
Музыка смолкла, бал окончился, почти все улеглись, немногие бодрствовавшие нашли себе приют в курительном салоне. Она прошла в каюту, не встретив по дороге ни души. Там она достала бювар и написала мужу письмо:
«Дорогой мой, сегодня Рождество, и я хочу сказать тебе, что мое сердце исполнено самых теплых чувств к вам обоим. Я вела себя глупо и нелепо. Я думаю, мы не должны мешать нашим любимым обретать счастье на их лад, напротив, мы должны любить их так сильно, чтобы не чувствовать себя от этого несчастными. Я хочу, чтобы ты знал: я не ревную тебя ни к одной из радостей, так странно пришедших в твою жизнь. Я больше не испытываю зависти, обиды или мстительного чувства. Не бойся, что я буду несчастна и одинока. Если когда-нибудь ты поймешь, что я нужна тебе, я приму тебя с радостью, не попрекая и не тая недобрых чувств. Я бесконечно благодарна тебе за все те годы счастья и нежности, которые ты подарил мне, и предлагаю тебе в ответ чувство, не связывающее тебя никакими обязательствами и, хочу надеяться, совершенно бескорыстное. Думай обо мне по-доброму и будь счастлив, счастлив, счастлив».
Она поставила подпись и вложила письмо в конверт. Хотя оно не могло уйти раньше, чем из Порт-Саида, ей хотелось поскорее опустить его в почтовый ящик. Так она и сделала. Раздеваясь перед сном, она глянула на себя в зеркало — глаза ее сияли, щеки под румянами горели. Будущее больше не казалось ей пустыней, а дарило надежду. Она скользнула в постель и заснула крепким сном без сновидений.


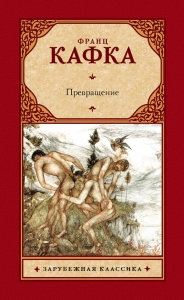

Комментарии к книге «Заклятье», Уильям Сомерсет Моэм
Всего 0 комментариев