В ту ночь мы лежали на полу, и я слушал, как едят шелковичные черви. Червей кормили тутовыми листьями, и всю ночь было слышно шуршание и такой звук, словно что-то падает в листья. Спать я не хотел, потому что уже давно я жил с мыслью, что если мне закрыть в темноте глаза и забыться, то моя душа вырвется из тела. Это началось уже давно, с той ночи, когда меня оглушило взрывом и я почувствовал, как моя душа вырвалась и улетела от меня, а потом вернулась назад. Я старался не думать об этом, но с тех пор по ночам, стоило мне задремать, это каждый раз опять начиналось, и только очень большим усилием я мог помешать этому. Теперь я почти уверен, что ничего такого не случилось бы, но тогда, в то лето, я не хотел рисковать.
У меня было несколько способов занять свои мысли, когда я лежал без сна. Я представлял себе речку, в которой мальчиком я удил форель, и мысленно проходил ее всю, не пропуская ни одной коряги, ни одного изгиба русла, забрасывая удочку и в глубоких бочагах, и на светлеющих отмелях, и форель иногда ловилась, а иногда срывалась с крючка. В полдень я делал перерыв и садился завтракать, иногда на коряге у самой воды, иногда под деревом на высоком берегу; и ел всегда очень медленно, все время глядя на реку. Часто мне не хватало наживки, потому что, отправляясь на ловлю, я брал с собой не больше десятка червей в жестянке из-под табака. Когда этот запас приходил в концу, нужно было искать еще червей; и там, где кедры загораживали солнечный свет и трава на берегу не росла, сырую голую землю было очень трудно копать, и случалось, что я не мог найти ни одного червяка. Все же какая-нибудь наживка всегда находилась, но один раз на болоте я так и не нашел ничего, и мне пришлось изрезать на куски одну из пойманных форелей и ею наживить удочку.
Иногда на болотистых лугах, в траве или под папоротниками, я находил насекомых, которые годились для наживки. Попадались жуки, и какие-то букашки с длинными, точно стебельки травы, ножками, и личинки, водившиеся в старых, трухлявых колодах, — белые личинки с цепкими челюстями; они плохо держались на крючке, и в холодной воде от них оставалась одна оболочка; под колодами можно было найти лесных клещей, а иногда я находил и червяков, но они уползали в землю, как только приподнимаешь колоду. Однажды я насадил на крючок саламандру, которую поймал под старой колодой. Саламандра была очень маленькая, складная, проворная и красивой раскраски. У нее были крошечные лапки, которыми она цеплялась за крючок, и больше я никогда не брал для наживки саламандр, хотя они часто мне попадались. Не брал я и сверчков, из-за того, что они так извиваются на крючке.
Иногда речка протекала среди лугов, и в сухой траве я ловил кузнечиков и брал их для наживки; а иногда ловил кузнечиков, и бросал их в воду, и смотрел, как они плыли на поверхности, подхваченные течением, а потом исчезали, как только всплывала форель. Иногда в одну ночь я проходил с удочкой четыре или пять рек, начиная от самого верховья и продвигаясь вниз по течению. Если я доходил до конца, а времени до утра было еще много, я пускался в обратный путь, вверх по течению, начиная оттуда, где речка впадала в озеро, и старался выловить всю форель, которую упустил, идя вниз по течению. Были ночи, когда я придумывал речки, и это бывало иногда очень интересно, точно сны наяву. Некоторые из этих речек я до сих пор помню, и мне кажется, что я на самом деле ловил в них рыбу, и в моей памяти они путаются с теми, где мне приходилось бывать. Я давал им названия, и иногда ехал поездом, а иногда проходил целые мили пешком, чтобы добраться до них.
Но были ночи, когда я не мог думать о ловле форелей; и в такие ночи я лежал с открытыми глазами и твердил молитвы, стараясь помолиться за всех тех, кого я когда-либо знал. Это занимало очень много времени, потому что, если припоминать всех, кого когда-либо знал, начиная с самого первого воспоминания в жизни, — а для меня это был чердак дома, в котором я родился, и свадебный пирог моих родителей, подвешенный в жестянке к стропилам, и тут же на чердаке банки со змеями и другими гадами, которых мой отец еще в детстве собрал и заспиртовал, но спирт в банках частью улетучился, и у некоторых змей и гадов спинки обнажились и побелели, — так вот, если начать с таких ранних воспоминаний, то людей вспоминается очень много. Если за всех помолиться, прочитав за каждого "Отче наш" и "Богородицу", то на это уйдет много времени, и под конец уже рассветет, а тогда можно заснуть, если только находишься в таком месте, где можно спать днем.
В такие ночи я старался припомнить все, что со мной было в жизни, начиная с последних дней перед уходом на войну и возвращаясь мысленно назад от события к событию. Оказалось, что раньше того чердака в доме у моего дедушки я ничего припомнить не могу. Потом я начинал с него и вспоминал все в обратном порядке, пока не доходил до войны.
Я вспоминал, как после смерти дедушки мы переезжали из старого дома в другой, выстроенный по указаниям моей матери. На заднем дворе жгли вещи, которые решили не перевозить, и я помню, как все банки с чердака побросали в огонь, и как они лопались от жары, и как ярко вспыхивал спирт. Я помню, как змеи горели на костре за домом. Но в этих воспоминаниях не было людей; были только вещи. Я не мог даже вспомнить, кто бросал вещи в огонь, и я вспоминал дальше, и когда доходил до людей, то останавливался и молился за них.
Думая о новом доме, я вспоминал, как моя мать постоянно наводила там чистоту и порядок. Один раз, когда отец уехал на охоту, она устроила генеральную уборку в подвале и сожгла все, что там было лишнего. Когда отец вернулся домой и вышел из кабриолета и привязал лошадь, на дороге у дома еще горел костер. Я выбежал навстречу отцу. Он отдал мне ружье и оглянулся на огонь.
— Это что такое? — спросил он.
— Я убирала подвал, мой друг, — отозвалась мать. Она вышла встретить его и, улыбаясь, стояла на крыльце.
Отец всмотрелся в костер и ногой поддел в нем что-то. Потом он наклонился и вытащил что-то из золы.
— Дай-ка мне кочергу. Ник, — сказал он.
Я пошел в подвал и принес кочергу, и отец стал тщательно разгребать золу. Он выгреб каменные топоры и каменные свежевальные ножи, и разную утварь, и точила, и много наконечников для стрел. Все это почернело и растрескалось от огня. Отец тщательно выгреб все из костра и разложил на траве у дороги. Его ружье в кожаном чехле и две охотничьи сумки лежали тут же на траве, где он их бросил, выйдя из кабриолета.
— Снеси ружья и сумки в дом, Ник, и достань мне бумаги, — сказал он.
Мать уже ушла в комнаты. Я взял обе сумки и ружье, которое было слишком тяжелым и колотило меня по ногам, и направился к дому.
— Бери что-нибудь одно, — сказал отец. — Не тащи все сразу.
Я положил сумки на землю, а ружье отнес в дом и на обратном пути захватил газету из стопки, лежавшей в отцовском кабинете. Отец сложил все почерневшие и потрескавшиеся каменные орудия на газету и завернул их.
— Самые лучшие наконечники пропали, — сказал он. Взяв сверток, он ушел в дом, а я остался на дворе возле лежавших в траве охотничьих сумок. Немного погодя я понес их в комнаты. В этом воспоминании было двое людей, я молился за обоих.
Но бывали и такие ночи, когда я не мог вспомнить даже молитву. Я доходил до "яко на небеси и на земли" и потом должен был начинать все сначала, но снова застревал на этом месте. Тогда приходилось признать, что дальше я забыл, и на эту ночь отказаться от молитв и придумать что-нибудь другое. Иногда я принимался вспоминать названия всех животных, какие только есть на свете, потом птиц, потом рыб, потом все страны и города, потом названия всех известных мне кушаний, потом все улицы в Чикаго, а когда больше я уже ничего не мог вспомнить, я просто лежал и слушал. Не припомню такой ночи, когда совсем ничего не было бы слышно. Если можно было спать со светом, я не боялся уснуть, так как знал, что только в темноте моя душа может вырваться из тела. Конечно, мне часто приходилось проводить ночи в таких местах, где я мог не гасить света, и тогда я спал, потому что почти всегда чувствовал усталость, и меня постоянно клонило ко сну. И, наверно, мне не раз случалось засыпать незаметно для себя, но сознательно я никогда не решился бы заснуть в темноте. Вот и в эту ночь я лежал и слушал шелковичных червей. Ночью отчетливо слышно, как шелковичные черви едят, и я лежал с открытыми глазами и прислушивался к ним.
В комнате, кроме меня, был еще один человек, и он тоже не спал. Долгое время я слушал, как он не спит. Он не мог лежать так спокойно, как я, быть может, потому, что у него не было привычки не спать. Мы лежали на одеялах, разостланных поверх соломы, и при каждом движении солома под нами хрустела, но шелковичных червей не пугал этот хруст, и они не переставали есть. За стенами дома ночь была полна обычных шумов прифронтовой полосы, но в темной комнате были совсем другие, свои, маленькие шумы. Человек, деливший со мной комнату, некоторое время старался лежать спокойно. Потом он заворочался снова. Я тоже стал ворочаться, чтобы он понял, что я не сплю. Он десять лет прожил в Чикаго. Его мобилизовали в девятьсот четырнадцатом, когда он приехал навестить родных, и так как он говорил по-английски, его приставили ко мне вестовым. Я услыхал, что он прислушивается, и тогда я еще раз повернулся на своем одеяле.
— Не спится вам, signer tenente?[1] — спросил он.
— Не спится.
— И мне тоже.
— А почему?
— Не знаю. Так, не спится.
— Вы, может быть, нездоровы?
— Да нет. Я здоров. Только вот не спится.
— Давайте поговорим о чем-нибудь, — предложил я.
— Давайте. Только о чем тут говорить, в этой проклятой дыре?
— Здесь не так уж плохо, — сказал я.
— Точно, — согласился он, — здесь ничего.
— Расскажите, как вы жили в Чикаго, — сказал я.
— Так ведь я вам уже об этом рассказывал, — сказал он.
— Расскажите, как вы женились.
— И об этом тоже рассказывал.
— То письмо, в понедельник, было от нее?
— Точно. Она мне все время пишет. Торговля у нее там идет хорошо.
— Вы, когда вернетесь, найдете налаженное дело.
— Точно. Она хорошо справляется. И барыши неплохие.
— А не разбудим мы остальных своими разговорами? — спросил я.
— Нет. Им не слышно. И потом, они спят, как сурки. А я вот не могу, — сказал он. — Я очень нервный.
— Говорите тише, — сказал я. — Курить хотите?
Мы осторожно закурили в темноте.
— Вы мало курите, signer tenente.
— Да, я почти бросил.
— Что ж, — сказал он, — это только на пользу, и, наверно, когда отвыкнешь, так уже и не хочется. Правда, что слепые не курят потому, что не могут видеть дым?
— Вряд ли.
— Ерунда, по-моему, — сказал он. — Хотя так говорят. Да, знаете, мало ли что говорят.
Мы оба замолчали, и я снова прислушался к шуршанью шелковичных червей.
— Вы слышите этих противных червяков? — спросил он. — Слышно, как они жуют.
— Да, забавно, — сказал я.
— Скажите, signor tenente; что такое с вами, что вы не спите по ночам? Я никогда не видел, чтобы вы спали. Вы ни одной ночи не спали, с тех пор как я при вас.
— Не знаю, Джон, — сказал я. — В начале прошлой весны я попал в скверную переделку, и с тех пор мне ночью всегда не по себе.
— Вот и мне тоже, — сказал он. — Не надо было мне идти на войну. Слишком я нервный.
— Может быть, это пройдет.
— Скажите мне, signer tenente, зачем вы-то пошли на войну?
— Не знаю, Джон. Захотелось пойти, и пошел.
— Захотелось? — сказал он. — Нечего сказать, хороша причина.
— Не надо так громко разговаривать, — сказал я.
— Да они спят, как сурки, — сказал он. — И потом, ведь они не понимают по-английски. Ни черта они не знают. Что вы будете делать, когда все это кончится и мы вернемся в Штаты?
— Думаю работать в газете.
— В Чикаго?
— Может быть.
— Вы читаете статьи этого Брисбэйна? Жена всегда вырезает их и посылает мне.
— Читаю, конечно.
— Вы с ним не знакомы?
— Нет, но я знаю его в лицо.
— Хотел бы я с ним познакомиться. Он здорово пишет. Жена хоть по-английски не читает, но газету выписывает, как при мне, а передовицы и страничку спорта вырезает и посылает мне сюда.
— Как ваши малыши?
— Хорошо. Старшая девочка уже перешла в четвертый. А знаете, signer tenente, если б не дети, не быть бы мне вашим вестовым. Меня бы все время держали на передовых позициях.
— Я очень рад, что у вас есть дети.
— Я и сам рад. Девочки хорошие, но мне бы хотелось сына. Три девочки, и ни одного мальчика. Это уж значит — не везет.
— Ну, теперь полежите тихо, может быть, заснете.
— Нет, не засну. У меня весь сон пропал, signer tenente. Но вот вы-то не спите — это меня огорчает.
— Ничего, Джон, это пройдет.
— Такой молодой, и не спит по ночам.
— Все пройдет. Только не сразу.
— Надо, чтобы прошло. Так ведь жить нельзя, если совсем не спать. Может быть, вас тревожит что-нибудь? Что-нибудь у вас есть на душе?
— Да нет как будто.
— Жениться вам нужно, signor tenente. Тогда ничто вас не будет тревожить.
— Едва ли.
— Вам нужно жениться. Выбрали бы себе какую-нибудь хорошенькую итальяночку, с деньгами. За вас любая пойдет. Молодой, красивый, имеете отличия. Были ранены несколько раз.
— Я плохо говорю по-итальянски.
— Отлично говорите. И на кой тут черт говорить по-итальянски? Никаких разговоров и не требуется. Женитесь, и все тут.
— Я подумаю об этом.
— У вас ведь есть тут знакомые девушки?
— Есть, конечно.
— Вот и женитесь на той, у которой денег больше. Они здесь все так воспитаны, что любая будет вам хорошей женой.
— Я подумаю об этом.
— А вы не думайте, signor tenente. Вы действуйте.
— Ладно.
— Мужчине нужна жена. Вы об этом не пожалеете. Каждому мужчине нужна жена.
— Ладно, — сказал я. — Теперь попробуем поспать немного.
— Ладно, signor tenente. Попробую. Только вы не забывайте, что я вам сказал.
— Не забуду, — сказал я. — А теперь поспим немного, Джон.
— Ладно, — сказал он. — Желаю вам заснуть.
Мне было слышно, как он, хрустя соломой, завернулся в свое одеяло. Потом он затих, и я услышал его ровное дыхание. Вскоре он захрапел. Я долго слушал, потом я перестал к нему прислушиваться и снова стал слушать, как едят шелковичные черви. Они ели не переставая, и все время что-то падало в листья. У меня появилось новое занятие; лежа в темноте с открытыми глазами, я стал думать обо всех девушках, которых я знал, и о том, какие бы из них вышли жены. Это было очень интересно и на время вытеснило рыбную ловлю и помешало молитвам. Но в конце концов я вернулся к рыбной ловле, так как оказалось, что реки я все могу припомнить, и в каждой всегда находилось что-то новое, тогда как девушки, после того как я подумал о них несколько раз, стали расплываться в моей памяти и в конце концов расплылись совсем и стали все на одно лицо, и я бросил думать о них. Но молитв я не бросил, и часто ночами я молился за Джона, и его разряд был отпущен с действительной службы до октябрьского наступления. Я был рад, что это так вышло, потому что он причинил бы мне немало забот. Несколько месяцев спустя он навестил меня в миланском госпитале и был очень огорчен, что я еще не женился, и, представляю, как бы он расстроился, узнав, что я до сих пор не женат. Он думал вернуться в Америку и не сомневался в пользе брака, и был уверен, что брак улаживает все.
Переводчик: Е. Калашникова
Примечания
1
Господин лейтенант (итал.)
(обратно)

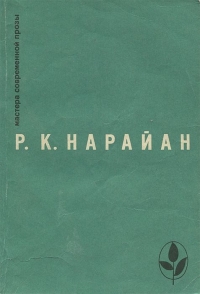
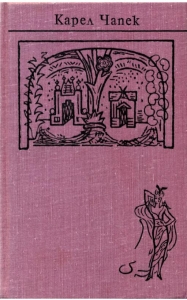
Комментарии к книге «На сон грядущий», Эрнест Миллер Хемингуэй
Всего 0 комментариев