Симона де Бовуар Очень легкая смерть
Не отступай покорно в эту ночь,
Пусть возраст возопит на склоне дня;
Ярись, ярись, что свет уходит прочь…
(Перевод А. Сергеева)В четверг 24 октября 1963 года в четыре часа пополудни я находилась в Риме в комнате гостиницы «Минерва»; я собиралась вылететь домой на следующий день и приводила в порядок бумаги, когда раздался телефонный звонок. Звонил из Парижа Бост. «С вашей матерью случилась беда», — сказал он. Первой моей мыслью было, что мать попала под машину. Она с трудом, опираясь на палку, взбиралась с мостовой на тротуар, и, наверно, машина задела ее. «Она упала в ванной комнате и сломала шейку бедренной кости», — добавил Бост. Он жил в том же доме; что и моя мать. Накануне, часов в десять вечера, поднимаясь с Ольгой по лестнице, он заметил впереди даму с двумя полицейскими. «На третьем этаже», — сказала дама. «Что-нибудь случилось с госпожой де Бовуар?» — «Да, она упала. Целых два часа она ползком добиралась до телефона. Она позвонила своей знакомой, госпоже Тардье, и попросила ее вызвать кого-нибудь, чтобы взломать дверь». Бост и Ольга вошли вслед за ними в квартиру. Мама лежала на полу, в своем красном бархатном халате. Врач, госпожа Лакруа, проживающая в том же доме, установила трещину в шейке бедренной кости. Санитарная машина доставила маму в больницу Бусико, и она провела ночь в общей палате. «Но я собираюсь положить ее в клинику С… — сказал Бост. — Там работает один из лучших специалистов по костным операциям, профессор Б. Сначала она не хотела, боялась, что это будет для нее слишком дорого. Но в конце концов я уговорил ее».
Бедная мама! Я завтракала у нее месяца за полтора до этого случая: она, как обычно в последнее время, выглядела неважно. Еще не так давно она гордилась тем, что выглядит моложе своих лет; но теперь ошибиться было нельзя: это была очень дряхлая семидесятисемилетняя женщина. Артроз бедренных суставов, появившийся у нее после войны, прогрессировал год от года, несмотря на массаж и лечение в Экс-ле-Бэне. Не меньше часа требовалось ей теперь на то, чтобы обойти небольшой квартал поблизости от дома. Она недомогала, плохо спала, несмотря на шесть таблеток аспирина, которые принимала ежедневно. В последние два — три года, особенно с прошлой зимы, у нее не пропадали темные круги под глазами, нос стал острее, щеки ввалились. «Ничего серьезного, — уверял лечивший ее доктор Д. — пошаливает печень, вяло работает кишечник». Время от времени он прописывал ей какие-то лекарства или советовал против запора кисель из ревеня. Так что я не удивилась, когда она назвала себя «развалиной». Меня огорчало лишь то, что она плохо провела лето. Она могла бы поселиться в деревне — в гостинице или в одном из тех монастырей, которые берут приезжих на пансион. Но она рассчитывала, что ее, как обычно, пригласит к себе в Мериньяк моя кузина Жанна или в Шарахберген моя сестра. Но обеим что-то помешало, и она осталась в обезлюдевшем дождливом Париже. «Ты знаешь, я никогда не скучаю, но тут захандрила», — сказала она мне. К счастью, вскоре после этого разговора сестра пригласила ее на две недели к себе в Эльзас. А теперь все ее друзья уже вернулись в Париж, да и я собиралась домой, и если бы не этот перелом, я нашла бы ее бодрой. Сердце у нее отличное, давление — как у молодой, и поэтому я за нее особенно не беспокоилась.
Я позвонила ей в шесть часов в клинику, сообщила, что вернулась и скоро буду у нее. В ответ она что-то неуверенно проговорила, но тут трубку взял профессор Б., который сказал, что будет ее оперировать в субботу утром.
«Ты мне не писала целых два месяца!» — сказала она, когда я подошла к ее постели. Я возразила, что мы виделись перед моим отъездом в Италию и что я послала ей письмо из Рима. Она недоверчиво выслушала мои объяснения. Лоб и руки у нее горели, перекошенный рот шевелился с трудом, сознание было замутнено. Было ли это результатом падения или, наоборот, она упала, потому что потеряла сознание? Сколько я себя помню, у нее всегда был тик. (Не всегда, конечно, но очень давно. А как давно?) Сначала дергалось веко, потом поднимались брови, лоб собирался в морщины. Пока я сидела у нее, это не прекращалось ни на минуту. Когда ее отекшие веки опускались, они плотно закрывали глаза. Пришел ассистент доктора Ж. и сказал, что в операции нет нужды, что бедренная кость не сместилась; достаточно трех месяцев покоя, и она сама срастется. Мама с облегчением вздохнула. Она стала беспорядочно рассказывать, с каким трудом она доползла до телефона, как она испугалась, как сердечно отнеслись к ней Бост и Ольга. Она попала в больницу Бусико как была в халате, без вещей, и назавтра Ольга принесла ей кое-какие необходимые мелочи, одеколон и красивый белый шерстяной халатик. Когда она благодарила Ольгу, та ответила ей: «За что же благодарить, я это делаю от души». Мама несколько раз повторила задумчиво и проникновенно: «Она так и сказала: от души».
Париж
«Ее так мучило, что она нас беспокоит, она так за все благодарила, что прямо сердце сжималось», — сказала мне вечером Ольга. И с возмущением добавила, что доктор Д., задетый тем, что пригласили мадам Лакруа, отказался в четверг посетить маму в Бусико. «Я минут двадцать пыталась его убедить, — сказала Ольга. — Ведь после того, как она упала, после ночи, проведенной в больнице, ее подбодрило бы присутствие врача, к которому она привыкла. Но он и слушать не хотел». По мнению Боста, у матери не было спазма мозговых сосудов: когда он поднял ее с пола, она показалась ему растерянной, но сознание ее было вполне ясным. И все же он сомневался, что она поправится через три месяца: сам по себе перелом шейки бедренной кости не так уж опасен, однако в результате длительной неподвижности появляются пролежни, которые у стариков не заживают. Лежачее положение вызывает также застой в легких: начинается пневмония, и больной гибнет. Тем не менее, я не очень волновалась. Несмотря на свои болезни, мать была крепкого десятка. Да и вообще говоря, смерть в ее возрасте — вполне естественное явление.
Бост уже известил мою сестру Элен, и у меня был с ней долгий телефонный разговор. «Я ждала чего-то в этом роде», — сказала она. Когда мать приехала летом к ней в Эльзас, сестра нашла ее настолько постаревшей, что сказала мужу: «Она не протянет и до весны». Однажды ночью у матери начались острые боли в животе, и она уже готова была просить, чтобы ее отправили в больницу. Но к утру боли утихли. Когда сестра с мужем привезли ее в Париж на машине, она казалась посвежевшей и повеселевшей и сказала, что «очень, очень довольна» своим пребыванием у них. Однако в середине октября, дней за десять до несчастного случая, Фраисина Диато позвонила сестре: «Я только что навестила вашу мать. По-моему, она совсем плоха, я решила предупредить вас». Элен тотчас приехала в Париж, придумав какой-то предлог, и повела мать к рентгенологу. Посмотрев снимки, домашний врач категорически заявил: «Нет никаких причин для тревоги. Правда, рентген показал, что проходимость кишечника несколько затруднена. Кроме того, ваша мать слишком мало ест и поэтому худеет, но, так или иначе, ничего опасного я не вижу». Он посоветовал матери лучше питаться и прописал ей новые, очень действенные средства. «И все же я ушла в тревоге, — добавила Элен. — Я умоляла маму взять ночную сиделку, но она не хотела допустить и мысли, что кто-то посторонний будет ночевать в ее квартире». Мы с Элен договорились, что она вернется в Париж через две недели, когда я должна была ехать в Прагу.
На следующий день рот у мамы все еще оставался перекошенным, речь затрудненной; глаза ее почти все время были закрыты, брови вздрагивали. Правая рука, которую она сломала двадцать лет назад, упав с велосипеда, срослась плохо, а левую она сильно ушибла теперь, когда упала в ванной. Она еле двигала ими. К счастью, ей был обеспечен самый тщательный уход. Палата ее выводила в сад, и уличный шум туда не проникал. Кровать переставили к задней стене, и, таким образом, мама могла дотянуться до телефона. Обложенная подушками, она полусидела, чтобы предупредить застой в легких. А чтобы не появились пролежни, ее массировал электрический вибрирующий матрац. Специалист по лечебной гимнастике каждое утро заставлял ее делать упражнения для ног. Казалось бы, все опасности, против которых предостерегал Бост, были предотвращены. Вялым голосом мама сказала, что сиделка нарезает ей мясо, помогает есть и что пища в клинике превосходная. А в больнице Бусико ее кормили кровяной колбасой с картошкой! «Подумай только, колбасой! Это больных-то!» Она говорила больше, чем накануне. Мама вновь переживала растерянность и страх, охватившие ее, когда она два часа ползла по полу, не зная, удастся ли ей ухватиться за телефонный провод и притянуть к себе аппарат. «Однажды я сказала госпоже Mapшан, которая живет одна: «Как хорошо, что существует телефон». А она мне ответила: «Еще нужно до него добраться». Мама несколько раз повторила со значением эти слова. Потом добавила: «Если бы мне не удалось добраться до телефона, я пропала бы».
Улица Бломе
Могла бы она крикнуть так громко, чтобы ее услышали? Вряд ли. Я представляла себе ее отчаяние. Мама верила в бога, но, несмотря на возраст и недуги, была крепко привязана к земле, и смерть внушала ей животный страх. Она рассказала сестре о кошмаре, который часто мучил ее во сне. «Меня преследуют. Я бегу, бегу, натыкаюсь на стену. Мне нужно перепрыгнуть через эту стену, но я не знаю, что за ней, и боюсь. Смерть меня не пугает, думала, что пришло время совершить этот прыжок. Я спросила маму: «Ты сильно ушиблась, когда упала?» — «Нет. Не помню. Мне даже не было больно». Значит, она все-таки потеряла сознание, подумала я. Мама вспомнила, что прежде чем упасть, она почувствовала головокружение; затем добавила, что за несколько дней до несчастного случая приняла новое лекарство и, ощутив сильную слабость, едва успела добраться до дивана. Я с недоверием покосилась на пузырьки, которые наша молоденькая родственница Марта Кордонье принесла по просьбе мамы вместе с другими вещами. Мама хотела продолжать прописанный ей курс лечения: разумно ли это было?
К концу дня ее посетил профессор В., и я вышла за ним в коридор. «Когда ваша мать поправится, — сказал он мне, — она будет ходить не хуже, чем прежде. И сможет снова жить полегоньку». А не кажется ли доктору, что она упала вследствие кратковременной потери сознания? Нет, он этого не считает. Я сообщила, что у матери не в. порядке кишечник, доктор пришел в некоторое замешательство. В Бусико у мамы определили перелом шейки бедренной кости, и ничего другого он не предполагал. Он попросит терапевта осмотреть ее.
«Ты будешь ходить не хуже, чем раньше, — сказала я матери, — и жизнь твоя потечет по-прежнему». — «Я никогда не вернусь в эту квартиру. Видеть ее не хочу. Никогда! Ни за что на свете!»
А ведь как она гордилась своей квартирой! У нее осталась неприязнь к ее прежнему жилищу на улице Ренн, где мой стареющий и впавший в ипохондрию отец мучил ее приступами желчной раздражительности. Затем он умер, вслед за ним умерла бабушка, и мать решила порвать со старыми воспоминаниями. За несколько лет до этого одна из приятельниц матери переселилась в бывшую мастерскую художника, и этот смелый шаг привел маму в восхищение. По известным причинам в 1942 году с жильем не было затруднений, и мама могла легко осуществить свою мечту: она сняла студию с лоджией на улице Бломе. Она продала кабинетную мебель из потемневшей груши, столовую в стиле Генриха II, супружескую кровать и рояль. Остальную мебель и кусок старого красного ковра она оставила себе. Она развесила по стенам картины младшей дочери. В спальне поставила диван. В те годы она бодро взбиралась и спускалась по внутренней лестнице. Мне же эта квартала казалась унылой. Третий этаж, мало света, несмотря на большие окна. Наверху — в спальне, кухне и ванной — всегда было темно. Но с тех пор, как каждая ступенька лестницы стала даваться ей с трудом, мать почти не спускалась. За двадцать лет все — стены, мебель, ковер — потемнело и обветшало. Мама подумывала уже о том, чтобы переселиться в пансион для престарелых, к тому же в 1960 году в ее доме сменился хозяин и она стала опасаться, как бы ей не пришлось освободить квартиру. Подходящего пансиона не нашлось, да и мама привыкла к независимости. Узнав, что хозяин не имеет права выгнать ее, она так и осталась на улице Бломе. Конечно, теперь ее друзья и я тоже сообща подыщем для нее уютный пансион, и она переберется туда, как только поправится. «На улицу Бломе ты больше не вернешься, я тебе обещаю», — заверила я ее.
В воскресенье глаза ее были по-прежнему полузакрыты, сознание замутнено, слова падали медленными вязкими каплями. Она снова рассказала мне о своей Голгофе, но радовалась, что ее перевезли в эту клинику, и без устали хвалила здешние порядки. «Говорят, эта клиника самая лучшая в Париже. А в больнице Бусико меня бы еще вчера стали резать!» Но этого ей было мало, и мама, чтобы показать, как ей повезло, с осуждением отозвалась о частной больнице по соседству: «Здесь гораздо лучше, чем в клинике Г. Я слышала, что там все из рук вон плохо!».
Не позволила себе увязнуть в прошлом
«Я давно так не спала, как сегодня ночью», — сообщила она мне в понедельник. Лицо ее стало прежним, дикция четкой и глаза ясными. Память полностью восстановилась. «Нужно будет послать цветы докторше Лакруа». Я обещала сделать это. «А как быть с полицейскими? Наверно, их тоже следует отблагодарить? Ведь я и им доставила хлопты». Я с трудом уговорила ее, что в этом нет нужды. Обложенная подушками, она поглядела мне в глаза и твердо сказала: «Понимаешь, я перегнула палку; я не считалась со своим возрастом и поплатилась за это. Никак не могла согласиться с тем, что я старуха. Но правде надо смотреть в лицо: через несколько дней мне стукнет семьдесят восемь лет, это уже настоящая старость. Теперь мне нужно помнить об этом и перестроить свою жизнь. Ничего не поделаешь, придется перевернуть страницу».
Я посмотрела на нее с восхищением. Она так долго и упорно не желала мириться со своими годами. Как-то раз в ответ на неловкое замечание зятя она сердито заявила: «Я знаю, что я стара, это достаточно неприятно, и не к чему лишний раз мне об этом напоминать». И вот теперь, выбираясь из сумрачной бездны, в которую она была погружена трое суток, она нашла в себе силы безбоязненно взглянуть в лицо старости. «Придется перевернуть страницу».
С удивительным мужеством она уже сделала это однажды, когда скончался отец. Горе ее было глубоко, но она не позволила себе увязнуть в прошлом. Она воспользовалась обретенной свободой и избрала образ жизни, отвечающий ее вкусам. Отец не оставил ни гроша, а ей было в ту пору пятьдесят четыре года. Она сдала экзамены, прошла стажировку и получила свидетельство, позволившее ей поступить помощником библиотекаря в одно из отделений Красного Креста. Поступив на работу, она снова стала ездить на велосипеде. После войны она собиралась заняться шитьем на дому. В ту пору я уже могла содержать ее, однако безделье было не в ее характере. Получив долгожданную возможность жить, как ей нравится, мама придумывала себе множество занятий. Взялась бесплатно привести в порядок библиотеку какого-то санатория близ Парижа, потом библиотеку католического клуба неподалеку от своего дома. Ей нравилось возиться с книгами, обертывать их, расставлять по полкам, вести картотеку, давать советы читателям. Она старалась использовать свое знание английского языка, принялась за немецкий и итальянский. Она вышивала в пользу безработных женщин, принимала участие в благотворительных базарах, посещала лекции. У нее появилось много новых приятельниц, кроме того, она возобновила знакомство с прежними друзьями и родственниками, которых отпугнул в свое время суровый характер отца. В ее квартирке нередко собирались веселые компании. Наконец-то сбылась и самая заветная ее мечта — она стала путешествовать. Она яростно боролась против прогрессирующей неподвижности суставов ног. Гостила у Элен в Вене, в Милане. Летом осматривала Флоренцию, Рим, музеи Бельгии и Голландии. Но в последнее время мама, обреченная на почти полную неподвижность, отступилась и перестала разъезжать по свету, Однако, когда друзья или родственники приглашали ее за город, либо в провинцию, ничто не могло ее остановить. Ее не смущало, что проводникам приходилось едва ли не на руках втаскивать ее в вагон. Но самым большим удовольствием для нее была машина. Не так давно Катрин, ее внучатая племянница, увезла ее в Мариньяк на своей малолитражке, они проделали за ночь более 450 километров, и мама вышла из машины свежая, как цветок.
Ее жизнелюбие восхищало меня, ее мужество вызывало уважение. Но почему, едва только к ней вернулась речь, слова ее стали коробить меня? Вспоминая ночь, проведенную в больнице Бусико, она сказала: «Ты же знаешь это простонародье: вечные стоны и нытье… А сестры в больницах работают только ради денег. Так что, сама понимаешь…». Суждения эти были поверхностными, обывательскими, но за ними стояли какие-то понятия, которые не могли не вызвать чувства неловкости. Меня огорчал контраст между мудростью ее страдающего тела и вздором, которым была напичкана ее голова.
Я совсем перестала стесняться
Специалистка по лечебной гимнастике подошла к кровати, откинула простыню и приподняла левую ногу матери. Ночная рубашка задралась, и мать равнодушно обнажила под посторонним взглядом свой дряблый живот, покрытый мелкими морщинами, и безволосый лобок. «Я совсем перестала стесняться», — призналась она с удивлением. «И правильно делаешь», — ответила я, но все же отвернулась и стала разглядывать сад за окном. Нагота матери потрясла меня. Ничье тело не значило для меня так мало и в то же время так много. Ребенком я льнула к нему, когда я стала подростком, оно тревожило и отталкивало меня; это происходит со всеми, и я считала естественным, что тело матери так и осталось для меня отталкивающим и священным одновременно — неким табу. Тем не менее меня поразила острота неприятного ощущения, которое я испытала теперь. А бездумная покорность матери только увеличила это ощущение. Она словно отбросила запреты, подавляющие ее всю жизнь, и этого я не могла не одобрить. Но тело ее уже стало жалкой оболочкой, которую щупали и теребили бесцеремонные руки врачей и в которой жизнь теплилась, лишь повинуясь какой-то бессмысленной инерции. Для меня мать существовала всегда, я никогда всерьез не думала о том, что когда-нибудь она уйдет из жизни. Ее смерть, как и ее рождение, помещались где-то за пределами реального времени. Иногда я говорила себе: она достигла возраста, когда люди обычно умирают, но слова эти, как и многие другие, не имели для меня подлинного смысла. И только теперь, глядя на нее, я стала различать неотвратимые признаки близкой смерти.
На следующее утро я отправилась в магазин: медицинские сестры посоветовали купить короткие ночные рубашки так как складки материи, собирающиеся под ягодицами, могут вызвать пролежни. «Желаете рубашечки «беби-долль»? — спрашивали продавщицы. Я перебирала тончайшее, нежных тонов белье, сшитое для юных жизнерадостных женщин, его легкомысленный покрой вполне отвечал названию. Стоял погожий осенний день, но небо казалось мне свинцовым, давящим. Я поняла, что беда, случившаяся с матерью, повлияла на меня гораздо сильнее, чем я ожидала. Я и сама не знала почему. Эта беда вырвала мать из тех рамок, в которые я привыкла ее заключать. Я узнавала мать в лежавшей передо мной больной женщине, но мне было внове чувство жалости и растерянности, которые она во мне вызывала. Наконец я остановила свой выбор на розовых в белый горошек рубашках «труакар».
Во время моего посещения, к матери зашел терапевт Т., наблюдавший за ее общим состоянием. «Вы, как видно, вообще слишком мало едите?» — «Этим летом у меня было скверное настроение, и мне кусок в горло не лез». — Вам не хотелось возиться на кухне?» — «Да нет, я готовила иной раз что-нибудь вкусное, а потом не притрагивалась к еде». — «Значит, дело не в лени, раз вы готовили вкусные блюда?» Мать ответила после минутного раздумья: «Как-то раз я сделала творожное суфле, а потом проглотила две ложки и оставила». — «Понимаю», — снисходительно улыбнулся врач.
Все они — доктор Ж., профессор В., терапевт Т., — подтянутые, вылощенные, благоухающие, взирали с высоты своего величия на плохо причесанную старую женщину с растерянными глазами. Я хорошо знала эту значительную мину, которую делают судьи и адвокаты перед лицом обвиняемого, когда для него решается вопрос жизни и смерти. «Итак, вы готовили себе вкусные блюда?» Почему доверчивость матери, с которой она пыталась разобраться в своем состоянии, вызывала у него усмешку. Ведь для нее это тоже был вопрос жизни и смерти. И как только Б. решился сказать мне: «Она снова будет жить полегоньку»? Эта снисходительность меня коробила. Когда устами матери говорил мирок благополучных, я негодовала, но теперь я была целиком на стороне пригвожденной к постели калеки, всеми силами пытающейся отдалить неподвижность, отдалить смерть.
Меня любят, потому что я веселая
Медицинские сестры, наоборот, вызывали во мне симпатию. Выполняя обязанности, унизительные для матери и неприятные для них самих, сестры проявляли к ней почти дружеское внимание. Молодая и хорошенькая мадемуазель Лоран, опытный тренер по лечебной гимнастике, всегда умела подбодрить мать, расположить к себе, отнюдь не впадая в снисходительный тон.
«Завтра мы сделаем вам рентген желудка», — заканчивая визит, сказал терапевт. Мать всполошилась: «Вы заставите меня глотать эту противную жижу!» — «Полноте, не такая уж она противная!» — «Ох, нет, ужасная!» Оставшись со мной наедине, она стала жаловаться: «Если бы ты знала, какая это гадость! От нее так противно во рту!» — «Не расстраивай себя заранее». Но ни о чем другом мама уже не могла думать. С того дня, как ее поместили в клинику, она очень внимательно следила за своим питанием. И все же ее ребяческий тон меня удивил. Ведь она мужественно перенесла столько страданий. А может, за отвращением к лекарству скрывался страх? Но в тот момент я об этом не подумала.
Как мне сообщили на следующий день, рентген желудка и легких прошел благополучно, все как будто оказалось в порядке. Мать лежала с умиротворенным выражением в розовой в белый горошек ночной рубашке и подаренном Ольгой халате. Волосы ее были заплетены в толстую косу; она совсем не походила на больную. Левая рука ее вновь обрела подвижность. Она разворачивала газету, перелистывала книгу и снимала телефонную трубку без посторонней помощи. Прошла среда. Четверг. Пятница. Суббота. Мать решала кроссворды, читала какое-то сочинение «об интимной жизни Вольтера» и записки Жана де Лери об экспедиции в Бразилию. Она просматривала «Фигаро», «Франс-Суар». Я навещала ее каждое утро, сидела час-другой, не больше, так как посетители ее утомляли. Иногда она даже жаловалась: «Сегодня у меня было слишком много народу». Палата ее благоухала цветами; цикламенами, азалиями, розами, анемонами. На ночном столике высилась стопка коробок с засахаренными фруктами, шоколадом, конфетами. Я спрашивала: «Ты не скучаешь?» — «О, нет!». Она с удовольствием принимала заботливый уход, внимание и предупредительность. Ведь раньше ей стоило мучительных усилий перенести ногу через край ванны, предварительно взобравшись на скамеечку; натягивая чулки, она всякий раз испытывала нестерпимую боль. А теперь утром и вечером сестры обтирали ее одеколоном, припудривали тальком. Еду ей приносили на подносе. «Одна из здешних сестер раздражает меня, — говорила мать. — То и дело спрашивает, когда я собираюсь домой, а я вовсе и не хочу домой». Когда ей сообщили, что скоро она сможет садиться и что после этого ее перевезут в санаторий, она помрачнела: «Они растрясут меня, растревожат перелом». И все же время от времени она подумывала о будущем. Одна из приятельниц рассказала матери о пансионах для престарелых, находящихся в часе езды от Парижа. «Никто не станет навешать меня там, и мне будет одиноко!» — сказала мать печально. Я заверила ее, что ей не придется ехать в такую даль, и показала список пансионов, расположенных поблизости. Мама уже мечтала о том, как она будет читать или вязать, сидя на солнышке в парке где-нибудь в Нейи, под самым Парижем. С легким сожалением и не без лукавства она заметила: «Соседи будут огорчены моим отъездом. И в клубе дамам тоже будет скучно без меня». Однажды она заявила мне: «Я слишком долго жила для других. Теперь я стану старой эгоисткой и буду жить только для себя». Ее тревожило, что она уже не сможет сама мыться и одеваться, но я успокоила ее, заверив, что сестра или сиделка помогут ей. Ну, а пока она с наслаждением нежилась на своей кровати «в одной из лучших клиник Парижа, где все гораздо лучше, чем в клинике Г.». Тем временем обследование продолжалось. Кроме рентгена, ей несколько раз делали анализ крови: все было в порядке. По вечерам у матери слегка поднималась температура; я хотела выяснить причину, но сестры, казалось, не придавали этому никакого значения.
«Вчера ко мне приходило слишком много людей, я устала», — сказала мать в воскресенье. Она была не в духе. По случаю выходного дня дежурила неопытная сестра; она опрокинула судно, полное мочи, простыня и даже подушки промокли. Мама часто опускала веки, мысли ее путались. Терапевт Т. не сумел расшифровать рентгеновские снимки, сделанные доктором Д., и на следующий день предстояло повторить рентген кишечника. «Опять глотать барий, какое наказание, — жаловалась мать, — и опять они меня растрясут. Оставили бы меня в покое!». Я сжимала ее влажную прохладную ладонь: «Не думай об этом заранее, не волнуйся! Тебе вредно волноваться». Мало-помалу она успокоилась, но казалась слабее, чем накануне. Звонили ее приятельницы, я брала трубку. «Какое внимание! — сказала я. — Английская королева могла бы тебе позавидовать: цветы, письма, конфеты, звонки! Все о тебе помнят!». Я держала ее вялую руку. Она не подняла век, но печальная усмешка тронула ее рот: «Меня любят, потому что я веселая».
Навязчивая идея матери
В понедельник маму собирались навестить несколько человек, а у меня были неотложные дела, так что я пришла к ней только во вторник утром. Я толкнула дверь и застыла на пороге. Мать, и без того худая, казалось, похудела и сморщилась еще больше. Она высохла, словно веточка. В ее хриплом шепоте звучала растерянность: «Я совсем обезвожена». Она прождала рентгена до вечера, а значит, в течение двадцати часов ей не позволяли пить. Проглотить барий оказалось не так уж мучительно, но жажда и тревога вконец ее извели. Лицо ее словно сжалось, искаженное предчувствием беды. Что показал рентген? «Мы ничего в снимках не понимаем», — уклончиво ответили мне сестры. Я добилась разговора с терапевтом. Оказалось, что и на этот раз снимки получились неясные; опухоли как будто не видно, но кишечник скован нервными спазмами и поэтому не функционировал со вчерашнего дня. Неисправимая оптимистка, мать была в то же время нервозной и мнительной, этим и объяснялся ее давний тик. Она была пастельно измучена, что попросила меня отменить по телефону визит ее духовника, отца П. Она едва шевелила языком и не могла заставить себя улыбнуться.
«До завтрашнего вечера», — сказала я, уходя. Сестра приезжала ночным поездом и собиралась прийти в клинику утром. В девять часов мне позвонил профессор Б. «Вы не будете возражать, если я назначу ночную сиделку к вашей матери? Она неважно себя чувствует. Вы хотели навестить ее завтра вечером, но будет лучше, если вы приедете утром». Наконец он решился и сказал мне, что в кишечнике образовалась непроходимость, вызванная опухолью в тонкой кишке: у матери обнаружен рак.
Рак. Он уже носился в воздухе. Он даже бросался в глаза — худоба, темные круги под глазами… Правда, еще недавно домашний врач отвергал подобное предположение, но кому не известно: родители последними решаются поверить в психическое расстройство своего ребенка, а дети — в то, что у их матери рак. К тому же она всю жизнь опасалась рака, и мы, привыкнув, не придавали этому значения. Стоило ей удариться грудью обо что-нибудь, как она приходила в ужас: «У меня будет рак груди». Прошлой зимой один из моих друзей перенес операцию по поводу рака желудка. «Вот увидишь, со мной случится то же самое». В ответ я пожала плечами: все-таки есть разница между раком и вялостью кишечника, которую лечат ревенем. Мы не могли себе представить, что навязчивая идея матери сбудется. А между тем Фраспна Дпато призналась нам позже, что она сразу подумала о раке: «Я узнала это характерное осунувшееся лицо. Да и запах». Все становилось понятным. Приступ, который случился с мамой в Эльзасе, был вызван опухолью. И именно опухоль послужила причиной обморока в ванной комнате. А две недели постельного режима ускорили непроходимость кишечника, которая давно угрожала маме.
Элен несколько раз разговаривала с ней по телефону и полагала, что найдет ее в отличном состоянии. Она была сильнее меня привязана к матери, они вообще были ближе друг другу, и я не хотела, чтобы, придя в больницу, Элен вдруг увидела перед собой умирающую. Вскоре после ее приезда я позвонила Диато, у которых она остановилась. Сестра уже спала. Какое пробуждение ее ожидало!
В тот день, в среду 6 ноября, началась забастовка, и мы лишились транспорта, газа, света. Я попросила Боста заехать за мной на машине. Но пока я его ждала, позвонил профессор Б. и сообщил мне, что маму рвало всю ночь и вряд ли она доживет до вечера.
Улицы были не так запружены машинами, как я опасалась. Около десяти утра я встретилась с Элен перед дверью палаты № 114. Я передала сестре слова профессора Б. Она сказала мне, что с утра около матери находится доктор Н., реаниматолог; он собирается ввести ей зонд через нос, чтобы промыть желудок. «Зачем же терзать ее, если она уже осуждена? Пусть дадут ей умереть спокойно», — плакала Элен. Я отослала сестру к Босту, который ждал в холле, чтобы отвести ее куда-нибудь выпить чашку кофе. Мимо меня, направляясь в палату, прошел доктор Н. Я задержала его. Это был молодой мужчина с замкнутым лицом, в белом халате и белой шапочке. «Зачем нужен этот зонд? К чему мучить мать, если нет никакой надежды?» Он, испепелив меня взглядом, ответил: — «Я делаю то, что должен делать» — и толкнул дверь. Через несколько минут медицинская сестра пригласила меня войти.
Надежда
Кровать опять стояла на прежнем месте, посередине палаты, изголовьем к стене. От левой руки матери тянулась вверх трубка капельницы. Из ноздрей свисал прозрачный синтетический зонд, который, проходя через сложную систему трубок и колб, заканчивался в стеклянной банке. Нос матери заострился, лицо еще больше сморщилось и выражало отчаяние и покорность. Она еле слышно прошептала, что зонд ее не очень беспокоит, но что ночь была тяжелой. Ее томила жажда, а пить не разрешали. Сестра подносила к ее рту стеклянную палочку, которую окунала в воду, и смачивала губы матери. Меня поразило, как жадно и в то же время сдержанно она сосала, ее верхняя губа, оттененная легким пушком, была немного выпячена, как в годы моего детства, когда мама была недовольна или смущена. «И вы хотели, чтобы мы оставили это в желудке?» — спросил Н. вызывающим тоном, показывая на сосуд, полный желтоватой жидкости. Я промолчала. В коридоре он сказал мне: «На рассвете ей оставалось жить не больше четырех часов. Я воскресил ее». Я не посмела спросить: для чего?
Идет консилиум. Элен стоит около меня, в то время как хирург П. и терапевт исследуют вздутый живот матери. Под их руками мать стонет, потом кричит. Укол морфия. Мать стонет. Мы просим: «Сделайте еще укол!» Они возражают, такое количество морфия парализует кишечник. На что же они надеются? Электричества все еще нет, врачи посылают кровь на анализ в американскую клинику, которая имеет собственную электростанцию. Может быть, они решили оперировать ее? «Вряд ли это возможно, больная слишком слаба», — отвечает мне хирург, выходя из палаты. Он удаляется, а пожилая медсестра, госпожа Гонтран, услышав этот разговор, восклицает: «Не позволяйте ее оперировать!» Но тут же закрывает рот ладонью: «Хорошо, что доктор Н. не знает, что я вам сказала! Если бы речь шла о моей матери, я бы…». Я спрашиваю: «А чем ей грозит операция?». Но госпожа Гонтран уже замкнулась и не отвечает на мой вопрос.
Мама заснула; я ухожу, оставив Элен номера телефонов, по которым можно меня найти. Когда она позвонила Сартру около пяти часов, в голосе ее прозвучала надежда: «Хирург все же хочет попытаться ее оперировать. Анализы крови благоприятные; она немножко набралась сил, сердце должно выдержать. И наконец, нет полной уверенности, что у нее рак: может быть, это всего лишь перитонит. В таком случае есть смысл. «Ты даешь согласие?» — («Не позволяйте ее оперировать!») «Я согласна. В котором часу?» — «Приходи к двум. Ей ничего не скажут об операции, и она будет думать, что ее снова везут на рентген».
«Не позволяйте ее оперировать». Чего стоит совет медицинской сестры по сравнению с решением специалиста, по сравнению с надеждой, которую питает моя сестра? А если мама погибнет под ножом? Возможно, это еще не самый страшный исход. Кроме того, я не могла себе представить, что врач станет рисковать, если не уверен в силах больной. А если операция ускорит ход болезни? Не это ли имела в виду госпожа Гонтран? С другой стороны, при полной непроходимости кишечника мама не проживет и трех дней и скончается после мучительной агонии.
Час спустя Элен позвонила, захлебываясь от рыданий. «Приходи скорее, они вскрыли брюшную полость, обнаружили огромную опухоль… рак…». Сартр вышел со мной и в такси отвез в клинику. От тревоги перехватывало дыхание. Меня провели в коридор между приемной и операционной, там находилась сестра. Она была вне себя от горя и волнения, я попросила, чтобы ей дали что-нибудь успокаивающее. Она рассказала, что врачи самым естественным тоном предупредили мать, что перед рентгеном ей сделают анестезирующий укол. Пока доктор Н. давал наркоз, Элен держала маму за руку. Каким испытанием было для нее зрелище обнаженного, старого, измученного тела матери! Глаза закатились, рот открылся; никогда Элен не сможет забыть это лицо. Потом мать перенесли в операционную. Вскоре оттуда вышел доктор Н. и сообщил: в животе два литра гноя, прободение брюшины, обнаружена огромная злокачественная опухоль, худшая разновидность рака. Хирург удаляет все, что возможно. Пока мы с сестрой ждали исхода операции, пришла кузина Жанна со своей дочерью Шанталь. Жанна приехала из Лиможа и рассчитывала найти мать, спокойно лежащую в палате: Шанталь принесла для нее журнал с кроссвордами. Мы раздумывали, что сказать матери, когда она очнется. Что ж, скажем, что рентген показал перитонит и ее сразу же решили оперировать.
Высокие духовные и интеллектуальные достоинства.
Н. сообщил, что больная уже в палате. Он торжествовал: утром мама была на пороге смерти, а теперь отлично перенесла долгую и тяжелую операцию. Благодаря самым современным способам анестезии сердце, легкие и весь организм продолжали функционировать нормально. Разумеется, операцию он провел виртуозно; что же касается последствий, они ничуть его не интересовали, и это тоже само собой разумелось. До начала операции Элен обратилась к хирургу: «Я даю согласие, но если у матери окажется рак, обещайте мне, что не позволите ей страдать». Он обещал, но чего стоит его слово?
Мама спала на спине, ее лицо было мертвенно-бледным, нос заострился, рот был полуоткрыт. Моя сестра и сиделка остались около нее. Я вернулась домой, мы поговорили с Сартром, послушали Бартока. Внезапно около одиннадцати часов вечера я истерически разрыдалась.
Поразительно. Когда скончался отец, я не уронила ни слезинки. И даже сказала сестре: «Вот увидите, когда умрет мама, будет то же самое». До этого вечера я была хозяйкой своих чувств. Даже когда они захлестывали меня, я ими управляла. Теперь же я не владела собой: во мне безудержно рыдал кто-то другой, не подвластный моей воле. Я рассказала Сартру, какой у матери утром был рот и как много он выражал: жажду, которую не давали утолить, почти раболепное смирение, надежду, отчаяние, одиночество — одиночество смерти и одиночество жизни, которое мама не хотела признавать. Сартр потом сказал мне, что на моем лице он увидел губы матери, мой рот помимо воли обрел то же выражение. Все существо матери, вся ее жизнь как бы воплотилась в моих губах. Невыразимая жалость раздирала мне сердце.
Не думаю, чтобы у мамы было счастливое детство. С удовольствием она вспоминала лишь сад в доме своей бабушки в лотарингской деревушке, где прямо с дерева можно было есть нагретые солнцем сливы — мирабель и ренклод. О том, как она жила в Вердене, она ничего не рассказывала. Сохранилась фотография: восьмилетняя девочка в костюме маргаритки. «Красивый костюм» — «Да», — отвечала мать, — но чулки полиняли, и три дня я не могла отмыть с ног зеленую краску». В голосе ее прозвучала давняя обида и неизжитая горечь. Не раз она жаловалась мне на черствость своей матери. Я помню бабушку пятидесятилетней женщиной, чопорной и высокомерной. Она редко смеялась, охотно злословила, а ее привязанность к дочери была чисто показной. Она была фанатически предана мужу, и дети занимали в ее жизни второстепенное место. Вспоминая о своем отце, мама часто повторяла с затаенной болью: «Для него свет клином сошелся на твоей тетке Лили». Белокурая, розовая Лили, которая была на пять лет моложе матери, до сих пор оставалась предметом ее страшной зависти. Пока я была ребенком, мама находила во мне самые высокие духовные и интеллектуальные достоинства, она словно бы отождествляла меня с собой. В ту пору она была несправедливо сурова к Элен, которую в семье звали Пышечкой. Тоже белокурая и тоже розовая, она, очевидно, напоминала матери Лили; и мать безотчетно вымещала на ней старую обиду.
Мать с гордостью рассказывала мне о годах, проведенных ею в монастырской школе Уазо, и о настоятельнице, которая ценила и выделяла ее и тем успокаивала ее раненое самолюбие. Мама хранила фотографию своего класса: шесть девушек и две монахини в монастырском саду. Четыре ученицы-пансионерки одеты в черное. Две, приходящие, в белом — мать и ее подружка. Все шесть девушек в закрытых блузах с высоким воротом, длинных юбках, строго, гладко причесаны. Глаза ничего не выражают. Мать так и вошла в жизнь; стянутая тесным корсетом провинциальных добродетелей и монастырской морали.
В двадцать лет она потерпела новое разочарование: молодой человек, в которого она влюбилась, предпочел ее двоюродную сестру, мою тетю Жермену. Эти неудачи навсегда сделали мать мнительной и обидчивой.
Подражая Марселю Прево.
Выйдя замуж, она расцвела. Она любила мужа и восхищалась им. Первые десять лет брака принесли ей глубокое и полное удовлетворение. Отец обожал женщин, у него было много связей, но, подражая Марселю Прево, которого он охотно читал, он относился к молодой жене с ничуть не меньшим жаром, чем к любовнице, а лицо матери в те годы, с легким пушком над верхней губой, говорило о пылкой, чувственной натуре. Их взаимная привязанность бросалась в глаза: он то и дело гладил руки жены, ласкал ее, говорил нежные пошлости. Помню, как маленькой девочкой лет шести — семи я увидела мать однажды утром в коридоре. Она стояла босиком на красном ковре в длинной белой рубашке, пышные волосы падали ей на плечи, и меня поразило сияние ее улыбки, таинственным образом связанной со спальней, из которой мать только что вышла. В этом прелестном видении я с трудом узнала степенную даму, какой привыкла видеть свою мать.
Ничто не может вытравить из нашей памяти впечатления детства. Счастье матери не было безоблачным. Уже во время свадебного путешествия дал о себе знать отцовский эгоизм. Матери хотелось посмотреть итальянские озера, но остановились они в Ницце, где открывались бега. Об этом первом столкновении она часто вспоминала без досады, но с грустью. Она любила новые места. «Я всегда хотела стать путешественницей», — говорила мать. Самые светлые воспоминания ее молодости связаны с экскурсиями, которые устраивал дедушка, — по Вогезам и Люксембургу, пешком или на велосипедах. Ей пришлось от многого отказаться, поскольку отец обычно брал верх. Она перестала встречаться со своими подругами, потому что отец любил светские салоны и кулисы театров. Мать охотно сопровождала его, она тоже полюбила светские развлечения. Однако красота не защищала ее от злословия, она была застенчивой и провинциальной. И в этой истинно парижской среде ее неловкость вызывала улыбки. Среди женщин, с которыми мать встречалась теперь в гостиных, были прежние любовницы отца: я представляю себе, как ехидно они перешептывались за ее спиной. В письменном столе отца хранилась фотография его последней возлюбленной, красивой светской дамы, которая иногда приходила к нам в гости вместе с мужем. Лет тридцать спустя отец с усмешкой сказал маме: «Это ты уничтожила ее фотографию». Мать отрицала, но он ей не поверил. Так или иначе, уже во время медового месяца мать страдала — и любви ее и гордости не раз наносились удары. Она была цельной, страстной натурой, и раны ее заживали медленно.
Вдобавок ко всему дед обанкротился. Мать остро переживала бесчестье семьи и порвала все давние связи с Верденом. Отец так и не получил обещанного приданого, но ни словом не попрекнул мать, и она, потрясенная этим, всю жизнь чувствовала себя перед ним виноватой.
И все же брак в общем оказался удачным, у нее были две нежно любившие ее дочери, в доме царило относительное благополучие, и до конца первой мировой войны мама не жаловалась на судьбу. Она была ласкова, весела, и улыбка ее казалась мне пленительной.
Когда дела отца пошатнулись и мы узнали материальные затруднения, мать решила обходиться без прислуги. К сожалению, домашние заботы тяготили ее, мать добровольно взяла их на себя, но гордость ее страдала. Она забывала о себе ради отца, ради нас, однако кто может сказать: я жертвую собой, — не ощущая при этом горечи. Мать искренне верила в величие самопожертвования, и в то же время ее властная натура восставала против ненавистных ей оков, Это противоречие раздирало ее, она то и дело бунтовала против обязанностей и лишений, которые сама, по доброй воле, взвалила на себя.
Жаль, что предрассудки помешали ей в ту пору прийти к решению, к которому она пришла двадцать лет спустя, поступив на работу. Толковая, исполнительная, наделенная прекрасной памятью, она вполне могла бы стать секретарем или библиотекарем; это избавило бы ее от некоторой приниженности, усилив в ней чувство собственного достоинства. Она обзавелась бы знакомыми и смогла бы избежать зависимости, которую принимала как должное, хотя зависимость эта ей претила. И уж конечно, тогда ей легче было бы переносить пренебрежение мужа.
Посвящается Франсуазе де Бовуар.
Я не обвиняю отца: привычка часто убивает в мужчине желание. Мать утратила молодую свежесть, а он — прежний пыл. Чтобы расшевелить себя, он стал прибегать к услугам девиц из заведений вроде «Версаль» или «Сфинкс». В юности я не раз видела, как отец возвращался домой в восемь утра, распространяя запах перегара и смущенно бормоча что-то про бридж и покер. Мать встречала его спокойно, может быть, она даже верила ему, издавна приучив себя избегать неприятных истин. Но с его равнодушием она не могла примириться. История моей матери навсегда осталась для меня красноречивым доказательством противоестественности буржуазного брака. Обручальное кольцо дало ей право познать супружеские радости, ее чувственность стала требовательной. Но в тридцать пять лет, в расцвете сил, мать лишилась возможности удовлетворять ее. Она продолжала спать рядом с мужчиной, которого любила и который желал ее теперь очень редко. Она надеялась, ждала, терзалась — и все напрасно. Полное отчуждение меньше оскорбило бы ее гордость, чем это безрадостное ложе. Не удивительно, что мать изменилась. Теперь случалось все — пощечины, крики, сцены не только при домашних, но и на людях. «У Франсуазы несносный характер», — твердил отец. Она и сама не отрицала, что вспыльчива. Но больше всего ее огорчало, когда о ней говорили: «Франсуаза вечно недовольна» — или: «У Франсуазы настоящая неврастения».
В молодости она любила наряды. Она сияла, когда ее принимали за мою старшую сестру. У отца был родственник, игравший на виолончели, мама аккомпанировала ему на рояле. Он почтительно ухаживал за ней, и, когда он женился, мама возненавидела его жену. Ее интимная и светская жизнь почти прекратились, и мать перестала заниматься собой, кроме особо торжественных случаев, когда «одеваться» было обязательно. Помню, однажды мы с сестрой возвращались после каникул, мама встречала нас на вокзале, напудренная, в красивой бархатной шляпе с вуалеткой. Сестра восторженно воскликнула: «У тебя вид шикарной дамы!». Мать улыбнулась, хотя уже давно оставила всякие притязания на элегантность. Презрение к плоти, которое ей внушали в монастыре и которое она старалась привить нам, теперь оборачивалось неряшливостью. И тем не менее ей по-прежнему хотелось нравиться — еще одно ее противоречие. Комплименты тешили ее тщеславие, она кокетливо откликалась на них. Она очень гордилась, когда один из друзей отца посвятил ей свою книгу (изданную, между прочим, на деньги автора «Посвящается Франсуазе де Бовуар, чья жизнь вызывает во мне чувство поклонения». Двусмысленная похвала: мать внушала поклонение самоотречением, которое лишало ее поклонников.
Отторгнутая от плотских радостей и светских утех, с головой ушедшая в хлопоты по дому, которые казались ей нудными и унизительными, самолюбивая и упрямая женщина все-таки не прониклась смирением. Между взрывами гнева она по-прежнему пела, шутила, болтала, заглушая ропот уязвленного сердца. Как-то уже после смерти отца тетя Жермена намекнула, что он не был примерным мужем, мать резко оборвала ее: «Я была с ним счастлива!». Разумеется, она и себя непрестанно убеждала в этом. И все же оптимизм по заказу не мог насытить ее жадность к жизни. И она устремилась по единственному пути, который был перед ней: питаться от молодых жизней, находившихся на ее попечении. «Я никогда не была эгоисткой, я жила только для других», — сказала она мне позднее. Да, конечно, но за счет этих других. Деспотичная собственница, она хотела безраздельно властвовать над нами. Но именно тогда, когда эта награда за прежние потери стала для нее необходимой, мы начали отдаляться от семьи, стремясь к независимости. Назревавшие подспудно конфликты то и дело прорывались наружу, и мать по-прежнему не могла обрести душевное равновесие.
Вспышки грубой откровенности или едкого сарказма.
И все же в ту пору она была сильнее нас, ее воля одерживала верх. Мы с сестрой ни на минуту не могли остаться одни; мне приходилось делать уроки при матери, непременно в той комнате, где она в это время была. Когда по ночам мы болтали, лежа в своих постелях, мать, снедаемая любопытством, вслушивалась через стену в наши разговоры и, не выдерживая, кричала: «Да замолчите вы!» Она не позволила нам заниматься плаванием, запретила отцу купить нам велосипеды: она не могла разделять наши спортивные увлечения и боялась, что, воспользовавшись этой лазейкой, мы ускользнем из-под ее опеки. Она настойчиво пыталась участвовать во всех наших увеселениях не только потому, что ей их не хватало: здесь вступали в силу причины, уходящие корнями в ее далекое детство; мысль, что ее обойдут, была для матери невыносима. Даже зная, что мы предпочли бы остаться без нее, она навязывала нам свое общество. Однажды на даче в Ла Грийер мы, подростки, целой компанией собрались под вечер на кухне, чтобы сварить раков, которых мы наловили с фонарями. Неожиданно явилась мать, единственная взрослая среди нас. «А я хочу поужинать с вами», — заявила она. Все смущенно умолкли, но она не ушла. Как-то в другой раз Жак, наш двоюродный брат, условился со мной и сестрой о встрече у Осеннего салона. Мама увязалась за нами, и он не подошел к нам. «Я увидел твою мать и убежал», — сказал он мне на следующий день. Ее присутствие давило. Когда у нас собирались приятели, она заявляла: «А я хочу с вами пить чай», — и завладевала беседой. Позднее, гостя у дочери в Бене и в Милане, мать не раз приводила ее в замешательство своей неуместной разговорчивостью на официальных приемах.
Навязывая свое общество, изо всех сил стараясь везде быть первой, мать как бы вознаграждала себя за прошлое, когда ей так редко удавалось самоутвердиться. Она мало видела людей, а если и бывала где-либо с отцом, то около него она неизменно оставалась в тени. Раздражавшее нас «а я хочу…» на самом деле скрывало неуверенность в себе, этим же объяснялась ее назойливость. Несдержанная и крикливая в порыве гнева, в спокойную минуту она была деликатна до полного самозабвения. Она из-за пустяков устраивала отцу сцены, но не решалась просить у него денег, экономила на себе и старалась как можно меньше тратить на нас. Покорно терпела, когда вечерами он не бывал дома и даже по воскресеньям оставлял ее одну. После смерти отца заботы о содержании матери легли на нас, но она проявляла такую же щепетильность, стараясь ничем нам не докучать. У нее не было другого способа выразить свои чувства, с тех пор как она стала зависеть от дочерей, прежде же, опекая нас, она считала себя в праве быть деспотичной.
Ее любовь к нам была глубокой, но ревниво-требовательной и всегда отражала противоречия, терзавшие мать, поэтому нам с ней было трудно. Легко ранимая, она могла на протяжении двадцати и даже сорока лет переживать брошенный ей упрек или неодобрительное замечание. Непреходящее чувство подавленной обиды прорывалось в бурных вспышках грубой откровенности или едкого сарказма. И все же недоброжелательность, которую она выказывала по отношению к нам, не была намеренной: мать не хотела нам зла, она лишь хотела убедить себя в своей власти. Как-то, гостя у подруги во время летних каникул, я получила письмо от сестры. Пышечка делилась со мной своими отроческими тревогами, волновавшими ее сердце и душу. Мать вскрыла мой ответ и прочитала его вслух при сестре, потешаясь над ее секретами. Полная гнева и презрения к матери, Элен сжала зубы и поклялась, что никогда ей этого не простит. Мать разрыдалась и написала мне, умоляя помирить их, что я и сделала.
Женщина с пламенем в крови.
Свою власть она старалась в первую очередь утвердить над Элен, и наша дружба вызывала в ней ревность. Узнав, что я больше не верю в бога, мать кричала в ярости: «Я не допущу, чтобы она тебя портила, я должна тебя уберечь!». Во время каникул она запретила нам видеться наедине, и мы встречались тайком в каштановой роще. Эта ревность терзала ее всю жизнь, поэтому мы даже взрослыми не говорили ей о наших встречах.
Но часто ее горячая любовь трогала нас. Когда Пышечке было семнадцать лет, она невольно явилась причиной ссоры между отцом и «дядюшкой Андриеном», которого тот считал своим лучшим другом. Мать горой встала за сестру, а отец после этого не разговаривал с ней несколько месяцев. Позднее отец сердился на Элен, что она не бросает живопись ради более выгодной профессии и продолжает жить на шее у родителей; он не давал ей ни гроша и попрекал куском хлеба. Мать поддержала сестру и всячески изворачивалась, помогая ей. Я не забуду, как после смерти отца она великодушно отпустила меня путешествовать с подругой, хотя стоило ей только вздохнуть, и я бы осталась.
Ее отношения с людьми зачастую портились из-за ее неловкости, а ее неуклюжие усилия отдалить от меня сестру могли вызвать только жалость. Когда ее племянник Жак, на которого она в какой-то степени перенесла былую девичью любовь к его отцу, стал реже появляться у матери, она каждый раз встречала его упреками; ей они казались шутливыми, а у него вызывали раздражение. И Жак стал приходить еще реже. Она чуть не расплакалась, когда я переезжала к бабушке, но я была тронута тем, что она не попыталась разжалобить меня; она вообще избегала проявлений нежности. Тем не менее в ту зихму, всякий раз как я приходила обедать домой, она ворчала, что я забываю семью, хотя я часто навещала родителей. Из гордости и из принципа она никогда ничего не просила, а потом жаловалась, что мало получает.
В своих трудностях она не признавалась никому, даже себе. Ее смолоду не приучили анализировать свои чувства, иметь собственное суждение. Ей приходилось обращаться к авторитетам, но их мнения были противоречивыми; да и что, в сахмом деле, могло быть общего между взглядами отца и настоятельницы монастыря в Уазо. Я тоже пережила подобный кризис, но это случилось в пору моего духовного формирования, а не тогда, когда я стала уже сложившимся человеком. С раннего детства я привыкла судить обо всем сама, мать же была лишена критического отношения к чужому мнению. Она легко соглашалась с каждым и обычно склонялась к доводам того, кто говорил последним. Она много читала, но несмотря на хорошую память, почти все забывала; будь у нее четкие знания, собственная ясная точка зрения, она не стала бы игрушкой прихотливых обстоятельств. Даже после смерти отца она оставалась той же, но теперь хотя бы могла выбирать друзей в соответствии со своими вкусами. «Просвещенных» католиков она предпочитала прямолинейным догматикам. Однако и среди ее знакомых были расхождения во взглядах. Удивительно, но часто она прислушивалась ко мне, хоть я и погрязла в заблуждениях, а также к сестре с Лионелю. Она боялась «выглядеть дурой» в наших глазах. Так она и жила, с кашей в голове, послушно соглашаясь со всем и никогда не выказывая удивления. В последние годы она обрела какую-то внутреннюю гармонию, но в пору ее метаний у нее не было ни собственных принципов, ни четких представлений, ни даже слов, которые цомогли бы ей трезво размышлять. И в этом была причина ее постоянных тревог и растерянности.
Полезно выносить суждение в ущерб себе; у матери было другое: она жила в ущерб себе. Полная желаний, она употребила всю свою энергию, чтобы их подавить, но, добровольно отрекаясь от чего-нибудь, она тут же бунтовала. С молодых ногтей путы религиозных запретов сковывали ее тело, сердце, дух. Мать научили крепко затягивать на себе эту подпругу. В ней скрывалась женщина с пламенем в крови, но изуродованная, искалеченная и неведомая даже себе самой.
Страдающая плоть вновь превратилась в женщину.
Проснувшись, я тут же позвонила Элен. В середине ночи мать пришла в сознание; она узнала, что подверглась операции, и как будто не удивилась этому. Я поспешно вскочила в такси. Тот же путь, та же теплая голубая осень, та же клиника. И вместе с тем все изменилось: это было не выздоровление, а агония. До сих пор я спокойно приходила в клинику, равнодушно шла по ее коридорам. За закрытыми дверями свершались чужие трагедии, но наружу ничто не просачивалось. Теперь одна из этих трагедий стала моей. Я поднималась по лестнице то как можно быстрее, то как можно медленнее. На двери висела табличка: «Посещения запрещены». В палате тоже все переменилось. Кровать стояла, как накануне, изголовьем к стене. Конфеты были убраны в шкаф, книги тоже. Цветы исчезли с большого стола в углу, теперь там стояли бутылки, банки, колбы. Мать спала, из ее ноздри больше не свешивался зонд, и смотреть на нее было не так тягостно. Однако под кроватью виднелись стеклянные сосуды и трубки, сообщающиеся с желудком и кишечником. От левой руки тянулась вверх трубка капельницы. На матери не было никакой одежды: ее грудь и голые плечи были укрыты халатом как одеялом. На сцене появилось новое лицо — отдельная сиделка, мадемуазель Леблон, грациозная и хрупкая, точно с картин Энгра. Волосы ее были убраны под синюю косынку, на ногах бахилы из белой материи; она следила за капельницей, встряхивала колбу, разводя в ней плазму. Элен сказала мне, что, по мнению врачей, развязка, возможно, отсрочится на несколько недель или даже месяцев. Она спросила у профессора В.: «Что скажут маме, когда боли возобновятся в другом месте?» — «Не беспокойтесь, мы найдем, что сказать. Мы всегда находим. И больной всегда верит».
Днем мать открыла глаза; она говорила еле слышно, но здраво. «Ну и ну! — сказала я, — ты ломаешь себе ногу, а хирург находит у тебя аппендицит!». Она подняла палец и прошептала не без гордости: «Не аппендицит, а перитонит. Какое счастье… что… здесь». — «Ты довольна, что я здесь?» — «Нет. Что я здесь». Подумать только, перитонит, и ей так повезло, она попала в эту клинику! Итак, предательство началось. «Как я счастлива, что больше нет зонда. Как счастлива!» Ее освободили от гноя, от которого накануне вздувался живот, и она больше не мучилась. Обе ее дочери были с ней, она считала себя в безопасности. Когда вошли врачи Н. и П., она сказала с удовлетворением: «Видите, меня не бросают», — и закрыла глаза. Врачи обменялись замечаниями: «Поразительно, как быстро она поправляется! Прямо на глазах!». И действительно, благодаря всем этим вливаниям и переливаниям лицо матери слегка порозовело и казалось здоровым. Простертая здесь накануне несчастная страдающая плоть вновь превратилась в женщину.
Я показала матери журнал с кроссвордами, который принесла для нее Шанталь. Она прошептала, обращаясь к сиделке: «У меня есть толстый словарь Ларусса нового издания, я недавно купила его для кроссвордов». Этот словарь был одной из последних ее радостей. Она стала говорить о нем задолго до того, как решилась приобрести, и всегда сияла, когда я искала в нем что-нибудь, с Мы тебе его принесем», — сказала я. «Хорошо. И «Нувель Эдип» тоже принесите, я там не все разгадала…» Приходилось угадывать по губам, что она произносит, и слова ее, вылетающие вместе с выдохом, были таинственны и тревожны, будто прорицания оракула. Самые простые желания и заботы матери утратили реальную связь со временем, ведь смерть уже неотвратимо нависла над ней, ее слабый детский голосок вызывал щемящую жалость.
Она много спала, время от времени глотала через пипетку несколько капель воды; сплевывая в бумажные салфетки, которые сиделка подносила к ее губам. К вечеру мать раскашлялась; мадемуазель Лоран, зашедшая взглянуть, не надо ли чего, приподняла ее повыше, сделала легкий массаж, помогла ей отхаркнуть. И мать благодарно улыбнулась ей — это была первая ее улыбка за четверо суток.
Аппарат траурного цвета.
Элен решила на ночь оставаться в клинике: «Папа и бабушка умерли при тебе, я была тогда далеко, — сказала она, — а маму я хочу проводить сама. Кроме того, мне действительно хочется побыть с ней». Я не возражала. Мать удивилась: «Зачем тебе ночевать здесь?» — «Когда оперировали Лионеля, я ночевала в его палате, так всегда делают». — «А, ну ладно».
Я вернулась домой простуженная, с температурой. После жарко натопленной клиники меня продуло сырым осенним ветром, я наглоталась порошков и легла в постель. Телефона не выключила: мама в любую минуту могла угаснуть «как свечка», по выражению врачей, и Элен обещала вызвать меня при малейшей тревоге. В четыре часа я вскочила от звонка: конец. Я схватила трубку и услышала незнакомый голос: ошибка. После этого мне удалось заснуть только под утро. В половине девятого снова раздался звонок, я бросилась к телефону, звонил кто-то из знакомых. Я возненавидела этот аппарат траурного цвета: «У вашей матери рак», «Ваша мать не дотянет до вечера». В один из ближайших дней он прострекочет мне в ухо: «Конец».
Я прохожу через сад клиники, толкаю дверь. Можно подумать, что это зал ожидания в аэропорту: низкие столики, современные кресла, люди целуются, здороваясь и прощаясь, другие терпеливо ждут, кругом чемоданы, дорожные сумки, цветы в вазах, букеты в целлофане, словно здесь встречают пассажиров, прибывающих с очередным рейсом… Однако выражение лиц и приглушенные голоса говорят, что это не так. Время от времени из коридора появляется человек в белом халате, в белых матерчатых бахилах, забрызганных кровью. Я поднимаюсь на второй этаж. Налево уходит длинный коридор с палатами, комнатой медицинских сестер, канцелярией. Направо — квадратное помещение, где стоит скамья и письменный стол с белым телефоном. Отсюда одна дверь ведет в небольшую приемную, другая — в палату № 114. ПОСЕЩЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНЫ. За дверью маленький тамбур, по левую руку ванная комната, где я вижу судно, вату, стеклянные банки; справа шкаф с мамиными вещами, в котором висит ее старый красный халат. «Видеть больше его не желаю!» Я толкаю вторую дверь. Прежде я проходила мимо, ничего этого не замечая. Теперь эти вещи навсегда вошли в мою жизнь.
«Я чувствую себя отлично, — сказала мать и добавила лукаво. — Вчера, когда врачи толковали между собой, я все слышала. Они сказали: «Это поразительно!» Слово ей понравилось. Она вдумчиво повторила его несколько раз как магическое заклинание, от которого зависело ее выздоровление. Между тем она чувствовала себя еще очень слабой и настойчиво стремилась избегать малейших усилий. Ей очень нравилось питаться через капельницу. «Никогда больше не буду есть сама». — «Как? Ты, такая лакомка!» — «Да, и все же не буду». Мадемуазель Леблон взяла было гребень и щетку, чтобы причесать ее, и вдруг мать приказала: «Отрежьте мне волосы». Мы стали возражать, но она повторила: «Меня это утомляет, отрежьте мне волосы». Она настаивала со странным упорством, словно надеялась этой жертвой купить полный покой. Мадемуазель Леблон потихоньку расплела и расчесала ее волосы. Потом заплела серебряную косу и уложила вокруг головы. Умиротворенное лицо матери опять обрело выражение поразительной чистоты. Мне вспомнился один из рисунков Леонардо да Винчи, изображающий красивую старую женщину. «Ты сейчас хороша, словно с картины Леонардо да Винчи», — сказала я ей. Она улыбнулась: «Когда-то я была недурна». Потом доверительным тоном сообщила сиделке: «У меня были густые волосы. Я укладывала их вокруг головы». И стала рассказывать о себе: как добилась библиотечного диплома, как любила возиться с книгами. Мадемуазель Леблон отвечала ей, подготавливая тем временем раствор для внутреннего вливания. Эта прозрачная жидкость, объяснила она, содержит глюкозу и соли. «Настоящий коктейль», — заметила я.
Где же она таилась столько времени, эта улыбка?
Целый день мы говорили матери о наших планах. Она слушала, не поднимая век. Элен с мужем недавно купили в Эльзасе старую ферму, которую они собирались благоустроить. Для матери отведут там большую комнату; на этой ферме она окончательно поправится. «А я не помешаю Лионелю, если останусь надолго?» «Конечно, нет». — «Да, теперь я вас не стесню. Не то что в Шарахбергене, там было слишком мало места». Еще мы говорили о Мериньяке. Этот городок для матери был связан с молодостью. Уже давно она с восторгом рассказывала мне, как там стало красиво. Мама очень любила Жанну, старшие дочери которой — юные, хорошенькие и веселые — жили в Париже и очень часто приходили в клинику: «Понимаете, — объяснила она мадемуазель Леблон, — у меня нет внучат, а у них бабушки. Вот я и заменяю им бабушку». Увидев, что мама задремала, я развернула газету. Но она сейчас же спросила, приоткрыв глаза: «Ну, что там делается в Сайгоне?». Я рассказала. Немного спустя она заявила с шутливой укоризной: «А ведь меня оперировали с обманом!». И при виде входящего хирурга П. весело добавила: «Вот он, мой палач!». Хирург, постояв около нее, заметил: «Мало ли что случается» — на это мать ответила не без важности: «Да, случилось, что у меня перитонит». Я улыбнулась: «Все-таки ты у нас особенная! Привозят тебя в клинику с переломом бедра, а оперируют по поводу перитонита!» — «Ты права. Я женщина особенная». Несколько дней ее забавляла эта мысль: «Вот какую шутку я сыграла с профессором Б. Пока он собирался вправить мне бедро, доктор П. взял да и сделал мне операцию!»
В тот день мы все были тронуты радостью, с какой она переживала малейшее приятное ощущение, словно в семьдесят восемь лет чудесным образом возродилась к жизни. Когда сиделка поправляла подушки, металлическая трубка коснулась ее обнаженного бедра: «Какая приятная прохлада!». Она вдыхала запах одеколона и душистого талька: "Как славно пахнет!". По ее просьбе к кровати подкатили столик на колесах и расставили на нем букеты и горшки с цветами, с Эти мелкие красные розы из Мериньяка. Ведь там еще цветут розы». Она попросила нас раздвинуть занавеси и любовалась через закрытые окна детвой: «Как красиво, из своей квартиры я бы такого не увидела!». Мама улыбнулась. Одно и то же чувство пронзило меня и сестру: мы обе узнали улыбку, что освещала наше детство, сияющую улыбку молодой женщины. Где же она таилась столько времени, эта улыбка?
«Если выпадет несколько таких счастливых дней, — значит, стоило продлевать ей жизнь», — сказала Элен. Н: какая предстоит за это расплата?
«Ну, прямо покойницкая», — подумала я на следующий день. Окно задернули тяжелыми синими занавесями. (Штора была испорчена и не опускалась, но до сих пор свет не мешал матери.) Она лежала в полутьме, с закрытыми глазами. Я взяла ее руку, мать прошептала: «Это ты, Симона? Я не вижу тебя!» Элен ушла, я села на ее место и открыла детективный роман. Время от времени мать вздыхала: «У меня в голове все путается». Доктору П. она пожаловалась: «По-моему, у меня уже агония». — «Будь это так, вы не знали бы об этом». Ответ успокоил ее. Него спустя она сказала задумчиво: «Я перенесла очень серьезную операцию. Я тяжелая больная». Конечно, я согласилась с ней, и лицо ее постепенно просветлело. Она рассказала, что накануне лежала с открытыми глазами и вдруг увидела сон: «В палату пришли какие-то мужчины, злые, в чем-то синем, они хотели унести меня, заставили пить коктейль. Пышечка прогнала их…» Коктейлем я в шутку назвала раствор, который готовила для вливания сиделка. Синей была косынка на ее волосах. А мужчины были санитары, которые везли мать в операционную. «Да, наверно, так оно и было…» Она попросила открыть окно: «Как приятен прохладный воздух». Снаружи донесся птичий гомон, мать умилилась: «Птицы!». А перед моим уходом она сказала: «Как странно. На левой щеке я чувствую желтый свет. Словно на щеке лежит желтая бумажка и яркий свет проходит сквозь эту бумажку. Так приятно».
Не мучаю, делаю то, что должен.
Я обратилась к хирургу П.: «Все же операцию можно считать удачной?» — «Можно, если восстановится деятельность кишечника. Но это мы узнаем через два — три дня».
Доктор П. мне нравился. Он не напускал на себя важность, с матерью говорил как с равной и охотно отвечал на мои вопросы. Зато доктора Н. я невзлюбила, и он платил мне тем же. Элегантный, подтянутый, энергичный, талантливый, он с увлечением возрождал жизнь в организме матери. Но для него она была всего лишь объектом интересного опыта, а не человеческим существом. Он внушал нам страх. У матери была старая родственница, которая уже полгода лежала без сознания. «Надеюсь, вы не допустите, чтобы со мной проделали такое, это было бы ужасно!» — просила мать. Если доктор Н. решит во что бы то ни стало поставить рекорд, он окажется для нас опасным противником.
В воскресенье утром Элен с отчаянием сказала мне: «Он оживил маму, и теперь она то воскресает, то снова умирает. За что он так мучает ее?» Я остановила доктора Н. в коридоре, ибо сам он никогда со мной не заговаривал. И снова стала умолять его: «Не мучайте мать». Он ответил оскорбленным тоном: «Я ее не мучаю. Я делаю то, что должен».
Синий занавес отдернули, палата стала менее мрачной. По просьбе матери ей купили темные очки. Когда я вошла, она сняла их. «Ну вот, сегодня я тебя вижу!» В этот день она чувствовала себя хорошо и спокойно спросила меня: «Скажи, есть у меня правый бок?» — «Разумеется!» — «Странно. Вчера мне говорили, что я хорошо выгляжу. Но я хорошо выглядела только слева. Я чувствовала, что правая сторона у меня серого цвета, мне даже казалось, точно у меня ее вовсе нет, что я разделена надвое. А сейчас эти половины как будто опять соединяются». Я дотронулась до ее правой щеки: «Чувствуешь?» — «Да, но словно во сне». Я прикоснулась к левой щеке. «Вот теперь я действительно чувствую», — сказала она. Перелом бедра, рана, перевязки, зонды, переливание крови — все сосредоточилось на левой стороне. Может быть поэтому правая как бы перестала существовать? «Вид у тебя великолепный. Врачи от тебя в восторге», — сказала я. — «Не все, доктор Н. недоволен; ему нужно, чтобы у меня отходили газы. Когда я выйду отсюда, пошлю ему коробку слабительного драже», — и она улыбнулась своей шутке. Пневматический матрац массировал ее кожу. Между колен прикрепили подушечки, специальный обруч приподнимал простыню, и она не касалась ног. Другое приспособление поддерживало ее пятки на весу; тем не менее у матери появились пролежни. Бедра ее были скованы артрозом, правая рука почти не действовала, в левой торчала игла капельницы, так что практически она не могла шевельнуться. «Приподними меня повыше» — просила мать. Одна я не решалась эта сделать. Ее нагота больше не смущала меня: передо мной была уже не мать, а несчастное больное тело. Но меня пугало то непонятное и страшное, что скрывалось под бинтами, и я боялась сделать ей больно. В то утро матери снова назначили клизму, мадемуазель Леблон попросила помочь ей. Я подхватила под мышки скелет, обтянутый влажной синеватой кожей. Когда мы переворачивали маму на бок, лицо ее вдруг исказилось, взгляд стал беспокойным, она закричала: «Я упаду». Она не могла забыть, как упала в ванной. Стоя у изголовья кровати, я держала маму и успокаивала ее.
Девочки, пользуйтесь жизнью.
Потом мы опять опустили ее на постель, подложив под спину подушки. Через несколько минут она сказала: «У меня отходят газы!», — а немного погодя крикнула: «Судно! Скорее!» Мадемуазель Леблон с помощью сестры попыталась подсунуть под нее судно, но мать закричала. Я видела ее истерзанное тело, видела холодный блеск металла, и мне чудилось, будто ее кладут на острие ножа. Обе женщины упорно старались приподнять ее, рыжая раздраженно теребила маму и та кричала от боли, напрягшись всем телом. «Ах, оставьте ее!» — сказала я и, выйдя вслед за сестрами, добавила: «Пусть делает прямо в постель». «Но ведь это их так унижает! — возразила мадемуазель Леблон. — Больные очень к этому чувствительны». — «Кроме того, все у нее намокнет, а это вредно для пролежней», — добавила рыжая. «Ну что же, вы сразу смените белье». Я вернулась к матери. «Эта рыжая — злая женщина, — простонала она жалобно, как ребенок, и сокрушенно добавила: — Вот не думала, что я такая неженка». — «А ты и не неженка вовсе, — сказала я. — Делай в постель, они сменят тебе простыни, ничего страшного». — «Да, — она решительно нахмурила брови и с вызовом сказала: — Мертвые ведь делают в постель».
У меня перехватило дыхание. «Это их унижает!» А вот мать, которая всю жизнь отличалась щепетильностью и обостренной мнительностью, сейчас не испытывала никакого стыда. Немало мужества потребовалось этой пуританке и идеалистке, чтобы так бесповоротно смириться с животным началом в человеке.
Сменив белье, мать умыли, протерли одеколоном. Теперь нужно было сделать болезненный укол, чтобы удалить избыток мочевины, отравляющий ее организм. Мать казалась такой измученной, что мадемуазель Леблон заколебалась. «Колите, — сказала мать, — раз это на пользу». Мы снова повернули ее на бок; я поддерживала маму и смотрела ей в лицо, выражавшее растерянность, мужество, надежду и страх. «Раз это на пользу». Чтобы выздороветь. И все равно умереть. Мне хотелось молить кого-то о прощении.
Назавтра я узнала, что вторая половина дня прошла благополучно. Вместо мадемуазель Леблон дежурил молодой фельдшер, и Элен сказала матери: «Тебе везет, за тобой ухаживает такой славный юноша.» — «Да, — ответила мать, — он красивый мужчина». — «Ну, ты-то знаешь толк в красивых мужчинах!» — «Да нет, не очень», — ответила мать печально. — «Ты как будто сожалеешь о чем-то?» — «Пожалуй, да. Я часто говорю внучкам; «Девочки, пользуйтесь жизнью». — «Теперь понятно, почему они тебя так любят. Но дочерям ты такого не сказала бы?» Лицо матери вдруг стало строгим: «Дочерям? Никогда!» Доктор П. привел к ней восьмидесятилетнюю женщину, которая боялась предстоящей операции: мать отчитала ее, ставя себя в пример.
«Они используют меня для рекламы», — с усмешкой сказала она в понедельник. И спросила: «А что, правый бок у меня появился? Ты уверена?» — «Конечно, посмотри сама», — сказала Элен. Мать устремила в зеркало недоверчивый хмурый взгляд. «И это — я?» — «Ну да. Ты же видишь, твое лицо ничуть не изменилось». — «Но я стала совсем серая». — «Просто здесь освещение такое. Ты розовая, как всегда». И в самом деле, вид у нее был превосходный. Однако, улыбнувшись мадемуазель Леблон, она сказала: «Наконец-то я улыбаюсь всем ртом. А то мне казалось, будто я улыбаюсь половиной лица».
Бессильны перед заключениями специалистов.
После полудня мама не улыбалась. Несколько раз она с неудовольствием и удивлением повторила: «Ну и уродиной же я выглядела в зеркале!» В предыдущую ночь что-то испортилось в капельнице: пришлось вынуть иглу, потом снова ввести ее. Ночная сиделка не сразу попала в вену, часть жидкости проникла под кожу, маме было очень больно. На распухшую посиневшую руку тотчас положили компресс. Капельницу перенесли на правую руку. Измученное тело еще кое-как принимало физиологический раствор, но от вливаний плазмы мать стонала. К вечеру ее охватил страх: она боялась ночи, боялась новых страданий, боялась, что опять что-нибудь случится. С искаженным от ужаса лицом она умоляла: «Смотрите хорошенько за капельницей!» И вечером, глядя на ее руку, в которую медленно вливалась жизнь, ставшая сплошным страданием, я опять спрашивала себя: ради чего?
В клинике мне было некогда задавать себе вопросы. Я помогала маме отхаркиваться, поила ее, поправляла подушки, причесывала ей волосы, перемещала ноги, поливала цветы, открывала или закрывала окно, читала вслух газету, отвечала на ее вопросы, заводила часики с черным шнурком, лежавшие у нее на груди. Ее тешило наше внимание, и она беспрерывно требовала его новых проявлений. Но когда я вернулась домой, печаль и ужас последних дней тяжелым грузом легли мне на плечи. Мне тоже не давала покоя болезнь — угрызения нечистой совести. «Не позволяйте ее оперировать». Я не помешала им. Не раз при мысли о муках обреченных на смерть больных я возмущалась бездействием их близких: «Я бы убила такого больного». Но при первом же испытании я дрогнула, поддалась общепринятой морали и отреклась от своей собственной. «Да нет, — сказал Сартр, — просто вы спасовали, это неизбежно». И действительно, мы бессильны перед заключениями специалистов, перед их прогнозами и решениями и втягиваемся в события, не зависящие от нашей воли.
Уж если больной попал в руки врачей, попробуйте его вырвать! В среду перед нами стоял выбор: или операция, или агония, облегчаемая наркотиками. Сердце у матери крепкое, и после успешной реанимации она могла бы долго тянуть при полной непроходимости кишечника и погибла бы в адских муках, ибо врачи отказались бы без конца накачивать ее морфием. Мне следовало быть в тот день в клинике в шесть утра. Ну, а будь я там, решилась бы я сказать Н.: «Дайте ей умереть?» Разве не это звучало в моей просьбе: «Не мучьте ее», когда Н. оборвал меня высокомерно, как человек, уверенный в своей правоте? Они сказали бы мне: «А вдруг вы лишаете ее нескольких лет жизни?» И я не могла бы уступить. Но все эти рассуждения не успокаивали меня. Будущее внушало мне ужас. Когда мне было пятнадцать лет, мой дядя Морис умер от рака желудка. Родные рассказывали, что в течение долгих мучительных дней он кричал: «Прикончите меня, дайте мне револьвер. Сжальтесь надо мной». Сдержит ли доктор П. свое обещание: «Она не будет страдать»? Что одержит верх — смерть или сострадание? И как можно жить дальше, если дорогой вам человек тщетно взывает к вам: сжалься! Интернет-магазин шин!
И даже если победит смерть, то и тут не избежать гнусного обмана. Матери казалось, что мы с сестрой рядом с ней; а мы уже стояли по ту сторону барьера. Я, словно всеведущий злой дух, знала все наперед, а она отбивалась от смерти где-то очень далеко в полном одиночестве. Ее судорожные усилия выжить во что бы то ни стало, ее терпение и мужество — все было зря. Ей не возместится ни за одно страдание. Я вспомнила ее слова: «Раз это на пользу». С отчаянием я сознавала свою вину, за которую даже не могла нести ответственность и которую никогда не смогу искупить.
Освободилась от неизжитых обид.
Мама провела спокойную ночь. Сиделка, видя тревогу больной, все время держала ее руку. Сестры сумели подложить судно, не причинив ей боли. Она снова начала есть, и врачи предполагали снова снять капельницу. «Сегодня вечером!» — умоляла она. — «Сегодня вечером или завтра», — ответил Н. Мы решили, что сиделка по-прежнему будет дежурить ночью, а Элен уйдет спать к знакомым. Я спросила доктора П., могу ли я сопровождать Сартра, который на следующий день собирался вылететь в Прагу. «В любую минуту может произойти все что угодно. Однако такое положение может продолжаться месяцами. В конце концов, до Праги всего полтора часа лету, и телефон у вас всегда под рукой». Я рассказала матери о своем плане. «Разумеется, поезжай, ты мне не нужна», — ответила она. Мое решение окончательно убедило ее в том, что она уже вне опасности: «Они вернули меня издалека! Подумать только, перитонит в семьдесят восемь лет! Как хорошо, что я попала именно сюда! Какое счастье, что они не стали оперировать мне бедро». Левую руку освободили от капельницы, и опухоль на ней немного спала. С сосредоточенным видом мать подносила пальцы к лицу и трогала нос, рот: «Мне казалось, будто глаза у меня между щек, а нос сидит поперек лица у самого подбородка. Какой вздор…»
Мать не привыкла заниматься собой. Но теперь ее тело настойчиво требовало внимания. Придавленная тяжестью этого груза, она уже не витала в облаках и не говорила того, что прежде коробило меня. Вспоминая о Бусико, она жалела больных, вынужденных лежать в общей палате. Она сочувствовала медицинским сестрам, которых эксплуатировало начальство. При всей тяжести своего положения она не утратила обычной деликатности. Она боялась, что доставляет мадемуазель Леблон слишком мьПэго хлопот, поминутно благодарила, извинялась. «Подумать, сколько крови уходит на старуху, она и молодым могла бы пригодиться». Она упрекала себя за то, что отнимает у меня время: «У тебя столько дел, а ты часами сидишь здесь, и все из-за меня!» С какой-то гордостью, но и с печалью она сказала нам: «Бедные мои девочки! Переволновались вы со мной! Наверное, страху натерпелись!». Особенно трогательна была ее внимательность к нам. В четверг утром сестре принесли завтрак в палату; мать, только что вышедшая из коматозного состояния, прошептала: «Св… св…» — «Священника?» — «Нет, свежую булочку». Она помнила о том, что Элен любит свежие булочки к утреннему завтраку. Спрашивала, хорошо ли распродается моя последняя книга. Узнав, что мадемуазель Леблон съехала с квартиры по требованию домохозяйки, мама, вняв совету Элен, предложила ей поселиться у себя, хотя обычно мама не терпела, чтобы в ее отсутствие кто-нибудь входил в ее комнаты. Болезнь разбила защитную скорлупу ее предрассудков и устоявшихся представлений — может быть, потому, что они уже не могли ее защитить. Уже не было речи о самоотречении, о жертвах: теперь первым ее долгом было выздороветь, а следовательно, заботиться о себе. Подчиняясь лишь собственным желаниям и радостям, она наконец-то освободилась от неизжитых обид. К ней вернулась улыбка, ее похорошевшее лицо выражало полное примирение с собой. Так на смертном одре она познала своего рода счастье.
Помолись за меня, дружок.
С некоторым удивлением мы отметили, что мама так и не попросила к себе духовника, чей визит отменили во вторник. Еще до операции она сказала Марте: «Помолись за меня, дружок, ведь ты знаешь, когда человек болен, он не в силах молиться». Еще бы! Она была слишком поглощена заботой о выздоровлении, и молитвы утомили бы ее. Однажды доктор Н. сказал ей: «Вы, как видно, в ладу с господом богом. Уж очень быстро поправляетесь!» — «О, да, в ладу. Но сейчас мне не хотелось бы к нему торопиться». На земле вечная жизнь означает смерть, а умирать мама отказывалась. Разумеется, ханжи из числа ее знакомых решили, что мы противимся ее желаниям, и попытались действовать силой. Несмотря на табличку «Посещения запрещены», Элен в одно прекрасное утро увидела, как в палату вошел священник. Она немедленно его выставила: «Я отец Авриль и пришел просто как друг». — «Неважно, ваша сутана могла напугать маму».
В понедельник произошло новое вторжение. «Мать никого не принимает», — заявила Элен, выпроваживая госпожу де Сент-Анж. «Возможно. Но я хотела бы обсудить с вами очень важный вопрос: мне известны убеждения вашей матери…» — «Мне они также известны, — сухо ответила сестра. — Мать в полном сознании. В тот день, когда она пожелает видеть священника, мы тотчас его пригласим».
Когда в среду утром я вылетела в Прагу, мать такого желания еще не высказала. В среду в полдень я позвонила. «Ты разве не уехала?» — спросила Элен, так хорошо было слышно. Мать чувствовала себя прекрасно, в четверг тоже, а в пятницу она сама взяла трубку, польщенная, что я звоню ей из Праги. Она понемногу читала, решала кроссворды. В субботу мне не удалось позвонить. В воскресенье вечером, в половине двенадцатого, я заказала разговор с нашими друзьями Диато. Пока я ждала соединения, горничная принесла телеграмму: «Мама очень слаба, если можешь, приезжай», Франсина по телефону сказала мне, что Элен ночует в клинике. Немного спустя я дозвонилась к ней. «День был ужасный, — сказала она. — Я не выпускала мамину руку, и она умоляла: «Не дай мне уйти». Она твердила: «Я больше не увижу Симону». Сейчас она приняла таблетку экванила и спит».
Я попросила портье заказать мне место в самолете, который улетал утром в половине одиннадцатого. У меня было намечено несколько деловых встреч, и Сартр уговаривал задержаться на день — два, но это было невозможно. Я не очень стремилась увидеть маму перед смертью, но мысль, что она не сможет увидеть меня, была невыносима. Почему мы придаем такое значение предсмертным желаниям, если вместе с жизнью исчезает и память? Но ведь исчезает и возможность искупить вину. В эти дни я отчетливо поняла, что, присутствуя при последних минутах близкого человека, мы прикасаемся к вечности.
В понедельник в половине второго я вошла в палату № 114. Маму предупредили о моем возвращении, и она считала, что оно входило в мои планы. Она сняла темные очки и улыбнулась мне, Под действием успокаивающих средств мама была в хорошем настроении. Однако лицо ее изменилось, пожелтело, от правого глаза к носу спускалась отечная складка. На всех столах опять стояли цветы. Мадемуазель Леблон больше не появлялась: капельницу отменили и не было нужды в отдельной сиделке.
Меня кладут в ящик.
В вечер моего отъезда мадемуазель Леблон начала делать маме переливание крови, которое должно было длиться два часа: истерзанные вены переносили кровь хуже, чем плазму. Мама кричала целых пять минут, и Элен наконец не выдержала: «Прекратите!» Медицинская сестра возразила: «Что скажет доктор Н.?» — «Я беру все на себя». И действительно, Н. пришел в ярость: «Это замедлит заживление». А между тем он прекрасно знал, что рана не может затянуться: образовался свищ, через который освобождался кишечник; таким образом устранялась возможность новой непроходимости, ибо естественная работа кишечника опять нарушилась. Сколько времени мать еще могла сопротивляться? Анализы показали, что опухоль была крайне вирулентной саркомой, которая дала метастазы по всему организму, однако эволюция, в силу возраста матери, могла длиться довольно долго.
Мать рассказала, как она провела последние два дня. В субботу начала читать роман Сименона и побила Элен в решении кроссвордов. На столе лежала стопка кроссвордов, вырезанных ею из газет. В воскресенье она позавтракала картофельным пюре, которое, как она уверяла, не прошло (в действительности уже начался распад метастаз). Она пережила длительный кошмар наяву: «Я лежала на синей простыне над ямой. Пышечка держала простыню, и я умоляла ее: «Не урони меня, а то я упаду в эту яму». — «Не бойся, мама, не упадешь», — отвечала Элен. Она провела ночь в кресле около ее кровати, и мать, обычно заботившаяся о том, хорошо ли она спит, твердила: «Не засыпай, а то упустишь меня. Если я засну, буди: не дай мне уйти во сне». Элен рассказала, как в какую-то минуту, обессилев, мать закрыла глаза. Пальцы ее перебирали простыню, она отчетливо произнесла: «Жить! Жить.
Чтобы избавить мать от страданий, врачи назначили ей болеутоляющие таблетки и уколы, и мать с какой-то жадностью требовала их. Весь день она оставалась в прекрасном настроении. Она снова заговорила о мучивших ее кошмарах: «Напротив меня маячил круг, который очень меня раздражал. А Пышечка его не замечала. Я ее просила: «Убери его», — но она не видела никакого круга». Оказалось, мама имела в виду маленькую металлическую пластинку на оконной раме, скрытую под опущенной шторой, которую наконец починили. В этот день к маме приходили Шанталь и Катрин. Она удовлетворенно заявила: «Доктор П. сказал, что я все сделала правильно и поступала очень умно: пока я выздоравливаю после операции, бедренная кость срастается». Вечером я предложила сменить Элен, не сомкнувшую глаз в предыдущую ночь, но мать привыкла к ней и к тому же считала ее гораздо опытнее меня, потому что сестре уже довелось ухаживать за Лионелем.
Вторник прошел благополучно. Ночью мать снова мучили кошмары. «Меня кладут в ящик, — сказала она Элен. — Я уже там, в этом ящике. Это я и уже не я. А ящик уносят!» Она кричала: «Не давай им унести меня!». Элен долго держала ладонь на лбу матери. «Обещаю… Они не положат тебя в ящик». Сестра попросила, чтобы больной сделали лишний укол наркотика. Кошмарные видения прекратились, и мать спросила: «Что же могут означать этот ящик и эти люди?» — «Это тебе вспоминается операция и санитары, которые несли тебя на носилках». Мать заснула. Но утром ее глаза выражали тоску затравленного животного. Сестры перестелили ей постель, потом спустили катетером мочу, ей было больно, она стонала. Потом спросила меня едва слышным голосом: «Ты думаешь, я выкарабкаюсь?» Я пристыдила ее. Она робко спросила доктора Н.: «Вы довольны мной?» В его «да» не было уверенности, но мама тут же ухватилась за эту соломинку. Она придумывала убедительные причины своей слабости. Ока обезвожена, картофельное пюре слишком тяжело для нее, сестры накануне сделали ей только три перевязки вместо четырех: «Вечером доктор Н. пришел в ярость, — сказала она, — уж он им дал нахлобучку»; несколько раз она с удовольствием повторила: «Он пришел в ярость!» Лицо ее утратило привлекательность, оно то и дело подергивалось от тика, а в голосе опять зазвучали обиженные, требовательные нотки.
Уважая мой ум, робела передо мной.
«Я так устала», — вздыхала она. Она согласилась принять днем брата Марты, молодого иезуита. «Хочешь, я отложу вашу встречу?» — «Нет. Это доставит удовольствие Элен. Они побеседуют на богословские темы, а я закрою глаза, и мне не придется разговаривать». Она отказалась от завтрака. Потом заснула, опустив голову на грудь, и, когда Элен открыла дверь, ей показалось, что все кончено. Шарль Кордонье пробыл в палате не больше пяти минут. Он вспомнил о завтраках, на которые каждую неделю его отец приглашал маму: «Я рассчитываю встретить вас на бульваре Распай в один из ближайших четвергов». Мать посмотрела на него недоверчиво и грустно. «Ты думаешь, мне доведется снова побывать там?» Я еще не видела на ее лице такого несчастного выражения: в этот день она поняла, что ей не подняться. Нам казалось, что развязка совсем близка, и я не пошла домой, когда Элен сменила меня. Мать прошептала: «Наверное, мне совсем худо, раз вы обе остались». — «Но мы всегда здесь». — «Не обе сразу». Я снова сделала вид, будто сержусь: «Я остаюсь, потому что мне не нравится твое настроение. Но если это тебя тревожит, я уйду». — «Нет, нет», — виновато пробормотала она. Меня удручала моя несправедливая суровость. В момент, когда истина всей тяжестью обрушилась на маму, ей нужно было освободиться от нее, дав волю словам, а мы принуждали ее к молчанию, заставляли таить страхи, подавлять сомнения. И она вновь — уже в который раз — чувствовала себя виноватой и в то же время не понятой. Но перед нами не было выбора: в надежде она нуждалась больше всего. Ее лицо так испугало Шанталь и Катрин, что они позвонили в Лимож и посоветовали своей матери вернуться в Париж.
Элен еле держалась на ногах, и я решила: «Сегодня ночую я». Мать встревожилась: «А ты сумеешь? Будешь класть мне руки на лоб, если у меня начнутся кошмары?» — «Конечно». Она подумала и, пристально посмотрев на меня, произнесла: «Я боюсь тебя».
Уважая мой ум и самостоятельность, которых она не видела в младшей дочери, мать всегда немного робела передо мной. Меня же с очень давних пор отталкивала ее назойливая добродетель. Я росла чистосердечной и бесхитростной, но со временем поняла, что взрослые живут, замкнувшись в четырех стенах своего внутреннего мирка. Иногда в этих стенах появлялась узенькая щель, которую тотчас торопливо затыкали. И тогда мать шептала многозначительно: «Она поделилась со мной своими тайнами». Если же трещинку замечали снаружи, начинались пересуды: «Она скрытная, ничего мне не сказала, но судя по всему…». Вкрадчивый шепот этих признаний и сплетен был мне противен, и я решила, что в моей крепости не будет ни единой бреши. Особенно я старалась скрывать все от мамы, боясь ее взгляда, полного растерянности и ужаса. Очень скоро она перестала задавать мне вопросы. Краткое объяснение по поводу того, что я больше не верю в бога, тяжко далось нам обеим. Мне было трудно видеть ее слезы; но вскоре я поняла, что мать оплакивает свою неудачу, мало заботясь о том, что происходит со мной. Она стала подавлять меня, предпочтя деспотизм дружбе. И все же между нами могло бы установиться согласие, если бы мама меньше заботилась о спасении моей души и больше о том, чтобы уделить мне хоть немного тепла и участия. Теперь-то я знаю, что ей мешало: ей нужно было залечить слишком много ран, отплатить за давние обиды, и она была не в силах поставить себя на место другого. Она могла жертвовать собой, но на дружеское общение была неспособна. Да и как ей было понять меня, если она старалась не заглядывать даже в собственное сердце? Понимая, что мы с ней расходимся все дальше, она не умела воспрепятствовать этому. Все непредвиденное пугало ее, ибо она привыкла думать, действовать и чувствовать только в узких, раз и навсегда установленных пределах.
Жизнеспособность ты взяла от меня.
Отчужденность между нами росла. Поэтому до выхода в свет «Гостьи» мама плохо представляла себе, чем я живу. Она пыталась убедить себя, что я «порядочная и серьезная женщина». Дошедшие до нее слухи развеяли эти иллюзии, но к тому времени отношения между нами изменились. Она зависела от меня материально и не принимала ни одного решения, не посоветовавшись со мной; теперь я была опорой семьи, как бы сыном. С другой стороны, я уже стала довольно известной писательницей. Эти обстоятельства до некоторой степени искупали беспорядочность моего существования, которой мама старалась найти извинение, утверждая, что свободный союз, в конце концов, все же меньшее кощунство, чем гражданский брак. Содержание моих книг нередко шокировало ее, но их успех льстил ей. Этот успех придавал мне вес в ее глазах и в то же время усугублял в ней чувство неловкости. Я тщательно избегала каких бы то ни было споров с ней, но она, может быть, именно поэтому считала, что я ее осуждаю. Пышечка, «младшенькая», не внушала матери такого уважения, сестра не унаследовала ее чопорности, и отношения между ними были проще. После выхода в свет «Мемуаров благовоспитанной девицы» Элен, как могла, постаралась успокоить мать. Я же ограничилась тем, что принесла ей цветы и коротко извинилась перед ней, что поразило и тронуло мать. Однажды она сказала мне: «Да, родители не понимают своих детей, но и дети платят им тем же…». В тот день мы поговорили на эту тему весьма отвлеченно и больше к ней не возвращались. Я приходила, стучалась. Раздавался легкий стон, шарканье туфель по паркету, снова вздох, и я давала себе слово, что на этот раз найду тему для разговора, общий язык. Через пять минут я уже на это не надеялась: мы так были непохожи! Я листала ее книги — я читала совсем другие. Я задавала ей вопросы, она говорила, я слушала, изредка вставляя два — три слова. И именно потому, что она моя мать, все, с чем я бывала не согласна, раздражало меня больше, чем в устах постороннего человека. Я внутренне сжималась, как давным-давно в двадцать лет, когда мать со своей обычной неловкостью пыталась говорить со мной доверительным тоном: «Я знаю, ты считаешь меня не очень-то умной. Но жизнеспособность ты взяла от меня, и это меня радует». Я бы охотно откликнулась на последние ее слова, но первая фраза охлаждала мой порыв. И вот так мы всегда парализовали друг друга. Это она и имела в виду, когда, вглядываясь в мое лицо, произнесла: «Я боюсь тебя».
Я надела ночную рубашку Элен и растянулась на кушетке рядом с кроватью мамы: мне тоже было страшно. К вечеру, когда штору по маминой просьбе опускали и горел лишь ночник, палата приобретала зловещий вид. Полумрак усиливал царившую здесь таинственную атмосферу смерти. Тем не менее в ту ночь и в три последующие я спала лучше, чем дома; я не боялась телефонных звонков и своего расстроенного воображения: я была подле матери и ни о чем не думала. Кошмары не беспокоили маму. В первую ночь она часто просыпалась и просила пить. На следующую у нее появились сильные боли в копчике. Мадемуазель Курно повернула маму на правый бок, но скоро ее стала мучить затекшая рука. Подложили резиновый круг. Боль в копчике уменьшилась, но круг мог повредить синеватую прозрачную кожу на ягодицах. В пятницу и субботу мама спала неплохо. С четверга благодаря таблеткам эвканила она снова преисполнилась надежды. Она уже не спрашивала: «Как ты думаешь, я выкарабкаюсь?», — а говорила: «Как ты думаешь, смогу я вернуться к нормальной жизни?». «Ну вот, сегодня я тебя вижу, — радостно сказала она. — Ведь вчера я тебя не видела!» На следующий день Жанна, приехавшая из Лиможа, нашла ее не такой истощенной, как ожидала. Они проговорили около часа. В субботу утром Жанна снова навестила ее вместе с Шанталью, мама пошутила: «Как видите, мои похороны откладываются! Я проживу сто лет, и в конце концов меня придется убить». Доктор П. был озадачен. «С такой больной трудно что-либо предсказать, у нее прекрасная сопротивляемость!». Эти слова я передала матери. «Да, у меня прекрасная сопротивляемость!» — повторила она удовлетворенно. Одно только ее удивляло: кишечник не работал, но врачей, казалось. это не беспокоило. «Важно, что он уже работал, значит, паралича нет. Врачи очень довольны. А раз они довольны, все в порядке!».
Мир сократился до размеров ее палаты.
В субботу вечером мы беседовали перед сном. «Как странно, — сказала мать задумчиво, — когда я думаю о мадемуазель Леблон, я представляю ее у себя в квартире в виде надутого манекена без рук, на каких утюжат платья. А доктор П. — это полоска черной бумаги у меня на животе. И когда я вижу, как он тут ходит, меня это удивляет». Я сказала: «Вот видишь, ты уже привыкла ко мне: я тебя больше не пугаю». — «Ну конечно, нет». «Ты ведь говорила, что боишься меня». — «Разве? Чего иногда не скажешь.»
Я уже привыкла к новому существованию. Я являлась к восьми часам вечера. Элен рассказывала о том, как прошел день. Заглядывал доктор Н., потом появлялась мадемуазель Курно, и пока она делала перевязку, я сидела в приемной. Четыре раза в день в комнату вкатывали стол на колесах, на котором громоздились бинты, марля, чистое белье, вата, пластырь, жестяные коробки, тазы, ножницы. Когда стол выезжал из палаты, я старалась на него не смотреть. Мадемуазель Курно с помощью одной из сиделок, своей приятельницы, переодевала маму, мыла и укладывала на ночь поудобнее. Я ложилась. Сестра делала ей уколы, потом уходила выпить чашку кофе, пока я читала при свете ночника. Потом она возвращалась, устраивалась около двери, приоткрытой в тамбур, так чтобы свет оттуда падал на ее книгу или вязание. Тихо гудел электрический аппарат, приводивший в движение матрац. Я засыпала. В семь часов подъем. Во время перевязки я поворачивалась лицом к стене, радуясь, что насморк лишил меня обоняния. Элен страдала от ужасного запаха, мой же нос не чувствовал ничего, кроме одеколона, которым я смачивала матери лоб и щеки. Его запах казался мне сладковатым и тошнотворным, никогда больше я не смогу пользоваться этим одеколоном.
Потом мадемуазель Курно уходила, я одевалась и завтракала. Я готовила маме беловатое снадобье, по ее словам, очень противное, но помогавшее ей переваривать пищу. Потом из ложечки поила ее чаем, размачивая в нем печенье. Санитарка убирала палату, я поливала цветы, меняла воду в вазах, Часто звонил телефон, я стремглав бросалась в приемную, плотно закрывала за собой двери и все же, не уверенная, что мать не услышит, говорила обиняками. Мама смеялась, когда я рассказывала: «Госпожа Рэмон спрашивала, как твое бедро». — «Все они ничего не понимают!». Время от времени меня вызывали в приемную: друзья матери, родственники, справлялись о ее состоянии. Обычно у нее не было сил принять их, но она радовалась, что о ней беспокоятся. Во время перевязок я выходила из палаты. Потом я кормила ее вторым завтраком; она не могла жевать и ела только протертое: пюре, компоты, кремы. Она заставляла себя съедать все, что приносили: «Мне нужно хорошо питаться». Днем она маленькими глотками пила фруктовые соки. «Витамины мне очень полезны». Часам к двум приходила Элен. «Мне нравится порядок, который вы завели», — говорила мама. Однажды она вздохнула с сожалением: «Подумать только, какая досада! В кои-то веки вы обе при мне, а я больна!».
Я стала спокойнее, чем до поездки в Прагу. Окончательное превращение матери в живого покойника свершилось. Мир сократился до размеров ее палаты. Когда я ехала в такси по Парижу, город представлялся мне декорацией, а прохожие статистами. Моя подлинная жизнь протекала около матери и свелась к одной цели: оберегать ее. Ночью любой шум — шелест газеты в руках мадемуазель Курно, легкий гул электрического мотора — казался мне оглушительным. Днем я ходила по палате без туфель. Звук шагов на лестнице и в верхнем этаже разрывал мне барабанные перепонки. От одиннадцати часов до полудня по коридору с чудовищным грохотом катили столики с металлическими подносами, судками и кастрюлями, которые то и дело стукались друг о друга. Я приходила в бешенство, когда беспечная санитарка будила дремлющую маму вопросом о меню на завтра: соте из кролика или жареный цыпленок? Или когда вместо обещанных мозгов к обеду приносили не слишком аппетитное рубленое мясо. Я разделяла симпатию матери к мадемуазель Курно, мадемуазель Лоран, молоденьким сестрам Мартен и Паращ госпожа Гонтран мне, как и ей, казалась чересчур болтливой: «Она мне рассказывает, что потратила полдня на покупку туфель для дочери. Ну что мне до этого?».
Желали, чтобы первой к финишу пришла смерть.
Мы больше не восхищались клиникой. Приветливые, исполнительные сестры были перегружены работой, платили им плохо, а обращались с ними сурово. Мадемуазель Курно приносила из дома кофе, здесь ей давали только кипяток. У сиделок не было ни душевой, ни даже умывальной, где они могли бы освежиться и привести себя в порядок после бессонной ночи. Как-то расстроенная мадемуазель Курно рассказала нам о придирках старшей сестры, которая сделала выговор, заметив на ней коричневые туфли. «Но они же без каблуков». — «Туфли должны быть белые». А увидев ее огорченное лицо, старшая сестра прикрикнула: «Нечего изображать усталость, когда вы еще и не начали работать!» Целый день мать с возмущением повторяла эту фразу: она и прежде с какой-то страстью принимала сторону одних и ополчалась против других. Однажды вечером в палату зашла приятельница мадемуазель Курно и со слезами рассказала, что больная, которую она выхаживала, вдруг перестала с ней разговаривать. Трагедии, с которыми эти девушки повседневно сталкивались на работе, нисколько не закалили их для борьбы с мелкими неурядицами собственной жизни.
«Ну, прямо впадаешь в детство», — жаловалась Элен. Я же равнодушно вела все те же глупые разговоры с матерью, повторяла все те же шутки: «А ловко ты провела профессора Б.!», «В этих черных очках ты похожа на Грету Гарбо!» Но язык мой уже отказывался произносить эти фразы. Мне казалось, что я с утра до ночи играю комедию. Беседуя со старой приятельницей о ее скором переезде на новую квартиру, я чувствовала, насколько фальшив мой оживленный тон; и даже когда я искренне хвалила обед хозяину ресторана, собственные слова звучали в моих ушах душеспасительной ложью. А временами эту лживую маску надевало все, что окружало меня. Гостиница вдруг казалась мне клиникой, горничные — медицинскими сестрами. Официантки в ресторанах словно следили, чтобы я питалась согласно определенному режиму. Я всматривалась в людей новыми глазами, меня преследовала навязчивая мысль о трубках и зондах, скрытых у них под одеждой. Иногда сама я превращалась в насос, попеременно втягивающий и выбрасывающий воздух, или в сложное сплетение кишок и вздутий.
Элен измучилась до предела, у меня поднялось давление, кровь приливала к голове. Особенно терзали нас перемежающиеся агонии и воскрешения и овладевавшие нами противоречивые чувства. Зрители на этих гонках страдания и смерти, мы страстно желали, чтобы первой к финишу пришла смерть. Но когда во сне лицо матери вдруг мертвело, мы с тревогой следили за слабым колыханием черного шнурка от часов на ее белом халате: страх, что этот судорожный вздох будет последним, сжимал нам горло.
Когда в воскресенье днем я ушла от нее, она чувствовала себя неплохо. В понедельник утром ее осунувшееся лицо меня испугало: ее плоть словно таяла на глазах, пожираемая полчищем невидимых организмов. Накануне в десять часов вечера Элен сунула сиделке записку: «Не вызвать ли из дома сестру?» Сиделка отрицательно качнула головой: сердце пока справлялось. Однако новые беды подступали к маме. Госпожа Гонтран показала мне ее правый бок: сквозь поры просачивались капли влаги, простыня намокла. Мама уже почти не мочилась, ее тело вздувалось от отека. Она с недоумением разглядывала свои руки, шевеля набухшими пальцами. «Это от неподвижности», — объяснила я. Экванил и уколы морфия успокаивал ее, но она чувствовала, что слабость растет, хотя и переносила ее терпеливо. «Когда мне показалось, что я уже почти выздоровела, Пышечка сказала мне одну очень важную вещь: слабость еще может вернуться. И теперь я понимаю, что все идет нормально». На одну минуту она приняла госпожу де Сент-Анж и заявила ей: «О, теперь все в порядке!». Она улыбнулась, обнажив десны, и, хотя улыбка ее походила больше на зловещий оскал скелета, в глазах матери светилась простодушная вера. После еды ей стало плохо, я бросилась к звонку, с ожесточением нажимала кнопку, вызывая медицинскую сестру. Мое желание сбывалось, она умирала, а я теряла голову. Мать выпила таблетку, и ей сразу стало легче.
Дайте мне револьвер, сжальтесь надо мной.
Вечером, сидя дома, я представляла ее мертвой, и сердце мое разрывалось. Утром Элен сообщила, что матери немного лучше, и новость эта привела меня в уныние. Мать чувствовала себя настолько прилично, что прочитала несколько страниц Сименона. Но следующая ночь была очень тяжелой: «У меня все болит». После укола морфия она заснула. Когда, уже днем, она очнулась, взгляд у нее был остекленевший, и я подумала, что на этот раз конец близок. Она снова забылась, и я спросила у Н.: «Это конец?» — «О нет, — ответил он полуучастливо, полуторжествующе, — мы сделали все слишком основательно!» Так неужели победят страдания? ПРИКОНЧИТЕ МЕНЯ, ДАЙТЕ МНЕ РЕВОЛЬВЕР, СЖАЛЬТЕСЬ НАДО МНОЙ. Мать жаловалась: «У меня все болит». Она со страхом двигала опухшими пальцами. Доверие покидало ее: «Эти врачи начинают меня раздражать. Они твердят, будто мне лучше, а я чувствую себя все хуже и хуже».
Я привязалась к этой смертнице. Мы беседовали в полутьме, и я чувствовала, как смягчается наконец застарелая горечь, словно восстанавливается то, что связывало меня с ней в ранней юности и что оборвалось позже, когда обнаружились расхождения и сходство, существовавшие между нами. И давняя, как будто навсегда угасшая нежность вдруг возродилась с той минуты, как наши поступки и слова обрели утраченную простоту.
Я смотрела на маму. Она лежала передо мной в полном сознании и трезвой памяти, но не ведая истинного положения вещей. Обычно никто не знает, что происходит у него внутри, но от нее были скрыты и внешние проявления недуга: рана на животе, свищ и вытекающие из него нечистоты, синева кожи, жидкость, сочившаяся через поры. Она не могла ощупать все это своими почти парализованными руками, а во время перевязок голова ее была запрокинута назад. Она больше не просила зеркала и не знала этого страшного лица. Она лежала и грезила, бесконечно далекая от своего разлагающегося тела, убаюканная нашей уклончивой болтовней, подчиненная одной страстной надежде: выжить. Мне хотелось оградить ее от бесполезных мучений. «Это лекарство больше не надо принимать». — «А я всетаки приму». И она с жадностью глотала беловатую жидкость. Ей трудно было есть: «Хватит, не насилуй себя». — «Ты думаешь?» Она рассматривала блюдо с едой, колебалась: «Дай мне еще немножко». В конце концов я убирала тарелку со словами: «Ты уже все съела». Днем она заставляла себя проглотить йогурт и часто просила фруктовых соков. Она слегка приподнимала руки, сдвигала ладони, медленно и осторожно соединяла их наподобие чаши и неуверенно охватывала стакан, который я не выпускала из рук. Она втягивала через пипетку витамины, жадными губами всасывая в себя жизнь.
Глаза стали огромными на иссохшем лице, временами они как-то страшно расширялись, взгляд неподвижно застывал, сверхъестественным усилием она словно отрывалась от своего тела и всплывала на поверхность этих черных озер. В них она сосредоточивалась вся и разглядывала меня с напряженным вниманием, точно глаза ее смотрели впервые. «Я тебя вижу!» Всякий раз ей приходилось воевать с тьмой. Взглядом она цеплялась за мир, так же как ногтями за простыню, пытаясь удержаться на краю бездны. «Жить! Жить!».
Невеселой я ехала в такси в ту среду вечером по прекрасным улицам мимо роскошных парфюмерных магазинов Ланком, Убиган, Эрмес, Карден; я видела в витринах шляпы, вязаные жилеты, туфли и ботинки, утрированно элегантные. Чуть дальше были выставлены чудесные пушистые халаты нежных тонов, Я подумала: «Я куплю ей такой взамен красного». Духи, меха, белье, украшения — надменная роскошь мира, в котором нет места для смерти. Смерть таилась за фасадом этого мира, в сером безмолвии клиник, больниц, за закрытыми дверями палат. И другой истины для меня сейчас не существовало.
Умирать тяжело, кто так сильно любит жизнь.
В четверг, как и во все предыдущие дни, лицо матери меня огорчило; оно выглядело еще более осунувшимся и измученным, чем накануне. Но зато она видела. Она пристально посмотрела на меня: «Я тебя вижу. Волосы у тебя совсем темные.» — «Разумеется, ты же это знаешь». — «Да, но у тебя и у Пышечки свисала большая седая прядь. Я за нее цеплялась, чтобы не упасть». Она пошевелила пальцами: «Опухоль меньше, правда?» Потом она ненадолго забылась. Открыв глаза, она сказала: «Когда мне снится большой белый рукав, я уже знаю, что скоро проснусь. А когда я засыпаю, я как будто зарываюсь в юбки». Какие воспоминания, ещё фантастические видения владели ею? Всю жизнь ее занимала лишь внешняя сторона существования, и теперь я с волнением наблюдала, как она ощупью блуждает в дебрях своей души. Она досадовала, когда ее от этого отвлекали. В тот день к ней пришла приятельница, мадемуазель Вотье, и с преувеличенным оживлением стала толковать о своей прислуге. Я поторопилась увести ее, увидев, что мать закрывает глаза. Когда я вернулась, она сказала: «Зачем говорить с больными на такие темы? Им это не интересно».
Ночь я провела возле матери. Она боялась кошмаров не меньше, чем болей. Когда пришел доктор Н., она попросила: «Пускай меня колют почаще» — и сделала движение, словно вводила иглу. «Да вы у нас станете настоящей наркоманкой, — ответил Н. шутливо. — Что ж, по сходной цене я могу доставать вам морфий». Затем он нахмурился и резко бросил в мою сторону: «Уважающий себя врач не идет на компромисс в двух случаях: когда дело касается наркотиков и аборта».
Пятница прошла без происшествий. В субботу мать все время спала. «Вот и хорошо, — сказала ей Элен, — ты набралась сил». Мама вздохнула: «Сегодня я совсем не жила».
Умирать тяжело для того, кто так сильно любит жизнь. «Она может протянуть два — три месяца», — заявили нам в тот вечер врачи. В таком случае следовало изменить наш распорядок, приучить маму какое-то время обходиться без нас. В Париж приехал муж сестры, и она решилась на ночь оставить мать на мадемуазель Курно. Элен обещала прийти утром, Марта — к половине третьего, а я к пяти.
В пять часов я толкнула дверь. Штору опустили, в палате было почти темно. Мать лежала на правом боку, жалкая, в полком изнеможении; пролежни на боку, она страдала меньше, но эта неудобная поза ее утомляла. Марта сидела рядом и держала ее за руку. До одиннадцати часов мама беспокоилась, ожидая Элен и Лионеля: шнур от звонка забыли приколоть к ее простыне и она не могла никого позвать. И хотя госпожа Тардье навестила ее, мать сказала Элен: «Ты меня бросила на растерзание!» (Она не терпела воскресных медсестер.) Потом она немного оживилась и стала поддразнивать Лионеля: «Вы, наверно, считали, что уже отделались от тещи? Да не тут-то было!» После второго завтрака она час пробыла одна, и страх снова охватил ее. Она сказала мне дрожа] голосом: «Не нужно оставлять меня одну, я еще слишком слаба. Не бросайте меня на растерзание!» — «Больше мы не оставим тебя».
Пытаться оттянуть смерть теперь было бы уже садизмом.
Марта ушла, мать заснула и вскоре внезапно проснулась от боли в правой ягодице. Госпожа Гонтран переложила ее поудобнее. Мать продолжала жаловаться, и я хотела опять позвонить. «Это бесполезно. Снова придет госпожа Гонтран, она ничего не понимает». Боли мама вовсе не придумывала, они объяснились вполне конкретными причинами. И все же в какой-то степени мадемуазель Паран или мадемуазель Мартен могли их успокоить. Госпожа Гонтран делала то же, что и они, однако ей не удавалось облегчить страдания матери. В конце концов мать заснула. В половине седьмого она с аппетитом выпила бульону и съела крем. И вдруг она закричала, левая ягодица ее горела, словно обожженная. И ничего удивительного: мочевая кислота, сочившаяся сквозь кожу, разъедала ее тело, ободранное до живого мяса; медсестрам жгло пальцы, когда они меняли под ней простыню. В панике я стала звонить; секунды тянулись бесконечно! Я держала мать за руку, клала ладонь ей на лоб и говорила: «Сейчас тебе сделают укол, и боль пройдет. Одну минуту. Подожди одну только минутку». Скорчившись, сдерживая вопль, ока стонала: «Все горит, это ужасно, я не могу терпеть. Я не выдержу». Заплакав, как ребенок, она проговорила голосом, разрывавшим мое сердце: «Мне очень плохо!» Как она была одинока! Я прикасалась к ней, говорила с ней, но не могла разделить ее муку. Сердце у нее колотилось, глаза закатывались, и я подумала: «Она умирает», — а мама прошептала: «Я теряю сознание». Наконец госпожа Гонтран сделала ей укол морфия. Безрезультатно. Я снова позвонила. Меня ужаснула мысль, что эти боли начались утром, когда возле нее никого не было и она не могла никого позвать. Ее нельзя было оставлять ни на минуту. На этот раз сестры дали матери экванил, сменили простыню, положили на раны мазь, от которой их пальцы заблестели, словно металлические. Жжение исчезло: оно длилось каких-нибудь пятнадцать минут — целую вечность. ОН ЧАСАМИ КРИЧАЛ. «Как это нелепо, — повторяла мать. — Как нелепо!» Да, нелепо до слез. Я уже никого не могла понять — ни врачей, ни сестру свою, ни самое себя. Ничто в мире не могло оправдать этой ненужной пытки.
В понедельник утром я позвонила Элен: конец приближался. Отек не спадал, рана на животе не закрывалась. Врачи сказали медсестрам, что остается только притуплять боль наркотиками.
В два часа я нашла Элен перед дверью палаты № 113 в полном отчаянии. Она попросила мадемуазель Мартен: «Не давайте матери страдать, как вчера». — «Но, мадам, если мы будем делать столько уколов из-за пролежней, морфий не подействует, когда начнутся сильные боли». Уступив настояниям сестры, мадемуазель Мартен объяснила, что в аналогичных случаях больной умирает в нестерпимых страданиях. СЖАЛЬТЕСЬ НАДО МНОЙ. ПРИКОНЧИТЕ МЕНЯ. Неужели доктор П. обманул нас? У меня в мозгу пронеслось: достать револьвер, застрелить мать, задушить — напрасные мечты. Мысль о том, что мать часами будет кричать, была непереносима. «Пойдем, поговорим с П.». Он как раз появился, и мы обе вцепились в него: «Вы обещали, что ей страдать не придется». — «Она и не будет страдать». Если бы мы хотели во что бы то ни стало продлить ее жизнь и обеспечить ей еще неделю мучений, объяснил он, то потребовались бы новая операция, переливания крови, тонизирующие уколы. Вот как. Даже Н. сказал утром: «Мы предприняли все возможное, пока оставался хоть один шанс. Но пытаться оттянуть смерть теперь было бы уже садизмом». Однако этот отказ от дальнейшей борьбы не удовлетворил нас, и мы спросили у П.: «Поможет ли морфий в случае сильных болей? — «Ей будут даны необходимые дозы».
Усталость опустошила сердце. В его голосе звучала убежденность, мы поверили ему и успокоились. П. вошел в палату, чтобы сделать матери перевязку. «Она спит», — сказали мы. — «Она все равно ничего не почувствует», — возразил он. Мама все еще спала, когда П. вышел из палаты. Вспомнив о страхах накануне, я сказала Элен: «Мы должны быть там, когда она очнется». Элен распахнула дверь, тут же мертвенно бледная выскочила обратно и, рыдая, упала на скамью: «Я видела ее живот!» Я пошла за успокоительным. Когда доктор П. вернулся, она сказала ему: «Я видела ее живот! Это ужасно!» — «Да нет, все в порядке», — ответил врач с некоторым смущением. Элен сказала мне: «Она гниет заживо», Я не стала задавать ей вопросы. Мы поговорили, потом я села около мамы. Я решила бы, что она умерла, если бы не слабое колыхание черного шнурка на белом халате. Часам к шести она подняла веки. «Который час? Не понимаю, разве уже ночь?» — «Ты спала все время после обеда». — «Я проспала двое суток!» — «Да нет же!» Я напомнила ей о том, что было вчера. Она смотрела вдаль на темноту и неоновые рекламы за окном. «Не понимаю», — повторяла она обиженно. Я рассказала ей, кто приходил и звонил, пока она спала. «Это мне безразлично, — ответила она. Какая-то неотвязная мысль тревожила ее: — Я ведь слышала, как врачи сказали: ее нужно оглушать морфием». На этот раз врачи забыли об осторожности. Я объяснила, что они хотят избавить ее от бесполезных мучений, таких, как накануне, и, пока пролежни не заживут, ей надо подолгу спать. «Да, конечно, — с укором возразила мать, — но дни уходят
«Сегодня я не жила. Дни уходят». Она дорожила каждым днем и скоро должна была умереть. От нее это скрывали, но я-то знала. И, ставя себя на ее место, я не могла с этим примириться.
Она выпила немного бульону, и мы стали ждать Элен. «Для нее так утомительно ночевать здесь», — сказала мать. — «Да нет, что ты». Мать вздохнула: «А мне все равно. — Подумав, она добавила: — Меня беспокоит мое безразличие». Перед сном она спросила с сомнением: «А разве это можно — оглушать людей?» Протест? Не думаю, пожалуй, ей хотелось услышать от меня, что бесчувственность врачи вызывают намеренно и она не означает угасания.
Когда вошла мадемуазель Курно, мать подняла веки. Ее зрачки медленно повернулись, затем она увидела сиделку и стала смотреть на нее серьезно, как ребенок, впервые открывающий мир. «Кто вы?» — «Это же мадемуазель Курно». — «Почему вы здесь в такое время?» — «Сейчас уже ночь», — повторила я, Ее широко раскрытые глаза вопросительно смотрели на мадемуазель Курно. «Но зачем?» — «Вы же знаете, я каждую ночь дежурю около вас». — «Да? Как странно!» — недовольно проговори: а мать. Я собиралась уйти. «Ты уходишь?» — «А ты не хочешь, чтобы я ушла?» И тут она снова сказала: «Мне все равно. Мне все безразлично».
Я ушла не сразу: дневные медсестры были уверены, что мать не дотянет до утра. Пульс то падал до 48, то подскакивал до 100. И вошел в корму часам к десяти. Элен легла, а я отправилась домой. Теперь я не сомневаюсь, что доктор П. не обманул нас и что мать умрет через день — два без особых страданий.
Проснулась она в полном сознании. Едва начавшиеся боли тотчас заглушали. Я приехала в три часа, мать спала. Возле нее сидела Шанталь. «Бедняжка Шанталь, — сказала мать позже, — у нее столько забот, а она еще тратит время на меня». — «Шанталь делает это с удовольствием, она тебя очень любит». Мать задумалась и произнесла с печальным недоумением: «А я не знаю, люблю ли я кого-нибудь».
Я вспомнила, с какой гордостью она говорила: «Меня любят, потому что я веселая». Постепенно все больше людей становилось ей в тягость. Сердце ее совсем очерствело: усталость опустошила его. И странно — ни одно ласковое, слово, которое я когда-нибудь от нее слышала, не трогало меня так глубоко, как это признание в равнодушии. Условные фразы, заученные жесты заслоняли в ней прежде истинные чувства. Теперь их не стало, и этот холод пустоты помог мне оценить их тепло. Еще была здесь, но ушла навеки. Она заснула, дыхание ее было совсем не слышным, и я подумала: «Если бы вот так все кончилось незаметно и тихо». Но черная ленточка по-прежнему поднималась и опускалась: нет, последний прыжок не будет легким. В пять часов я разбудила ее, как она просила, и дала ей йогурт. «Пышечка говорит, что он мне полезен». Она съела две — три ложки, и я вспомнила об обычае некоторых народов оставлять еду на могилах. Я дала ей понюхать' розу, которую принесла накануне Катрин: «Последняя роза из Meриньяка». Она рассеянно взглянула на цветок и снова погрузилась в сон. Разбудило ее нестерпимое жжение в ягодице. Укол морфия не дал никакого результата. Как и в прошлый раз, я держала ее за руку и уговаривала: «Ну подожди минутку. Укол сейчас подействует. Через минуту боль кончится». — «Это просто китайская пытка», — сказала мать потухшим голосом, она уже не могла даже жаловаться. Я снова позвонила и добилась второго укола, Юная сестра Паран поправила простыни, немного передвинула снова задремавшую мать, укрыла одеялом ее леденеющие руки. Санитарка, принесшая в шесть часов обед, разворчалась, когда я отослала его обратно: ничто не должно нарушать порядка в больнице, где агония и смерть привычные, будничные события. В половине восьмого мать сказала: «Ну вот, теперь я чувствую себя хорошо. По-настоящему хорошо. Давно мне не было так хорошо». Пришла старшая дочь Жанны и помогла мне накормить ее бульоном и кофейным кремом. Мама ела с трудом, она кашляла, надвигалось удушье. Элен и мадемуазель Курно посоветовали мне уйти домой. В эту ночь, по всей вероятности, ничего не произойдет, а присутствие мое только встревожит мать. Я поцеловала ее, и она улыбнулась мне своей страшной улыбкой: «Я рада, что ты видела меня, когда мне так хорошо!» В половине первого я приняла снотворное и легла. Меня разбудил телефонный звонок: «Ей осталось жить несколько минут. Марсель поехал за тобой на машине». Марсель, родственник Лионеля, помчал меня по безлюдному Парижу. У заставы Шампере мы остановились у бистро, открытого, несмотря на поздний час, и наспех проглотили у стойки по чашке кофе. Элен встретила нас в саду перед клиникой: «Все кончено». Мы поднялись наверх. Мы давно были готовы увидеть труп на постели мамы, и все же это было непостижимо. Я коснулась ее холодной руки и лба. Она еще была здесь, но мы знали, что она ушла навеки. Бинт придерживал ее подбородок, обрамляя застывшее лицо. Сестра хотела поехать за вещами матери на улицу Бломе: «Зачем?» — «Кажется, так принято». — «Нам с тобой это ни к чему». Я не могла представить, что мать нарядят, словно она собирается в гости, и вряд ли ей этого хотелось. Она не раз говорила, что ей все равно, как ее будут хоронить. «Наденьте на нее длинную ночную рубашку», — сказала я мадемуазель Курно. «А как быть с обручальным кольцом?» — спросила Элен, доставая его из ящика в столе. Мы надели его матери на палец. Почему? Вероятно, потому, что на всем свете уже не было места для этого тонкого золотого колечка.
Элен валилась с ног. Бросив последний взгляд на то, что уже не было мамой, я поторопилась увести ее. Вместе с Марселем мы выпили по рюмке коньяку у стойки кафе Дом. Элен стала рассказывать. Нужно приберечь смерть. В девять часов из палаты вышел Н. и сказал сердито; «Еще одна скобка соскочила. Столько мы с ней воаддись — и все зря, просто зло берет!» Он ушел, оставив Элен в полном отчаянии. Руки матери были ледяными, но она жаловалась, что ей жарко, и дышала затрудненно. Ей сделали укол, и она заснула. Элен разделась и легла, открыв детективный роман. К полуночи мать забеспокоилась. Элен и сиделка подошли к ней. Она открыла глаза: «Что вы тут Делаете? Почему у вас такой испуганный вид? У меня все в порядке». — «Тебе, наверно, приснилось что-то неприятное». Когда мадемуазель Курно укрывала маму, она притронулась к ее ногам: могильный холод уже коснулся их. Элен подумала, не вызвать ли меня. Но мама была в сознании, и мое присутствие в неурочное время встревожило бы ее. Элен легла. В час ночи мама опять зашевелилась. Она задорно бормотала слова старой песенки, которую часто напевал отец: «Ты уходишь, ты нас оставляешь». Элен сказала: «Да нет же, я не оставляю тебя». Мать понимающе усмехнулась. Дышать ей становилось все труднее. После первого укола она пробормотала невнятно: «Нужно… приберечь… смерть…» — «Что приберечь?» — «Смерть, — отчетливо выговорила мать и добавила: — Я не хочу умирать». — «Но ты поправляешься!» Потом ее речь стала совсем бессвязной: «Я должна успеть сдать книгу… Пусть она кормит грудью, кого хочет». Сестра оделась; мать почти потеряла сознание. Вдруг она вскрикнула: «Я задыхаюсь!» Рот ее открылся, расширенные глаза казались огромными на обтянутом лице. Судорога пробежала по телу мамы, и она потеряла сознание. «Идите звонить», — сказала мадемуазель Курно. Элен позвонила, но я не ответила. Телефонистка звонила полчаса, пока ей удалось меня разбудить. Элен вернулась к матери, уже ничего не сознававшей. Сердце ее билось неровно, она тяжело дышала полусидя, с остекленевшим, невидящим взглядом. Потом все кончилось. «Врачи говорили, что она угаснет как свечка, а вот как оно получилось», — сказала Элен, разрыдавшись. «Уверяю вас, мадам, — ответила ей сиделка, — это была очень легкая смерть» Всю жизнь мать боялась рака, возможно, мысль о нем тревожила ее и в тот день, когда врачи клиники назначили ее на рентген. Но после операции она ни разу о нем не подумала. Иногда ее охватывал страх, что хирургическое вмешательство может оказаться роковым в ее возрасте. Однако у нее не появилось и тени сомнения, ее оперировали по поводу перитонита, болезни опасной, но излечимой.
Еще больше нас удивило то, что она не пригласила священника, даже в тот день, когда убивалась: «Я больше не увижу Симону!» Она ни разу не вынула из ящика молитвенник, распятие и четки, принесенные Мартой. Как-то утром Жанна сказала: «Сегодня воскресенье, тетя Франсуаза. Вам не хотелось бы причаститься?» — «Нет, милай, я слишком устала. Бог милостив!» Госпожа Тардье в присутствии Элен спросила у матери, не хочет ли она побеседовать со своим духовником. Лицо матери сразу стало жестким: «Я слишком устала». Она опустила веки, как бы прекращая разговор. После визита другой своей старой приятельницы мать сказала Жанне: «Чудачка Луиза задает нелепые вопросы, интересуется, нет ли в клинике священника. Ну какое мне до этого дело!» Смерть вызывала в нас обеих одинаковый протест. Госпожа де Сент-Анж не давала нам проходу: «Сейчас она смятена душой и, конечно, жаждет утешения от Ёсевышнего». — «Ничего она не жаждет». — «Она взяла с нас слово, с меня и других ее приятельниц, что мы поможем ей умереть достойно». — «Сейчас она жаждет, чтобы ей помогли выздороветь, и только». Нас осуждали. Разумеется, мы не мешали матери принять последнее причастие, но и не навязывали его. Может быть, нам следовало предупредить мать: «У тебя рак, ты умираешь». Не сомневаюсь, нашлись бы ханжи, которые бы так и поступили, оставь мы их наедине с матерью. (Однако на их месте я остерегалась бы вызвать у больной ропот и тем ввести ее во грех, который стоил бы ей многих веков чистилища.) Мать и не стремилась к таким беседам. Ей приятнее было видеть у своей кровати улыбки молодых: «На старух, вроде меня, я успею наглядеться, когда поселюсь в пансионе», — говорила она внучкам. Она чувствовала себя спокойно в обществе Жанны, Марты и двух-трех приятельниц, набожных, но терпимых и одобряющих наш обман. К остальным она стала относиться недоверчиво, а о некоторых говорила с затаенным недоброжелательством. Словно какой-то удивительный инстинкт подсказал ей, чье присутствие может нарушить ее покой: «Этих дам из клуба я больше не хочу видеть. Я туда не пойду» Иные скажут: «Вера ее была поверхностной, не шла дальше слов, раз она не выстояла перед страданием и смертью». Я не знаю, что такое вера. Но религия была стержнем и сутью жизни матери — об этом говорят записи, которые мы нашли в ее секретере. Если бы молитва была для нее механическим бормотанием, четки утомляли бы ее не больше, чем кроссворды. Но именно ее отказ от молитвы убедил меня, что она требовала от матери внимания, размышлений и душевной сосредоточенности. Она знала, что должна была сказать богу: «Исцели меня. Но если будет на то воля твоя — я готова умереть». А она не хотела умирать, и ей претило лгать в решающую минуту. С другой стороны, она не хотела и бунтовать. И она молчала: «Бог милостив». «Не понимаю, — растерянно сказала мне мадемуазель Вотье. — Ваша мать такая набожная и так боится смерти!» Неужели она не знает, что были святые, которые, умирая, корчились и вопили от ужаса? Впрочем, мать не боялась ни бога, ни дьявола, она боялась только одного: расстаться с землей. Моя бабка умерла в полном сознании. Она сказала умиротворенно: «Ну вот, теперь я съем последнее яичко всмятку и отправлюсь к Гюставу». Она никогда не любила жизни, которая в восемьдесят четыре года стала для нее постылой обузой. Мысль о близкой смерти ничуть не волновала ее. Мой отец проявил не меньше мужества. «Попроси мать не приглашать ко мне священника. Не хочется ломать комедию», — сказал он мне. С полным самообладанием он дал мне ряд деловых распоряжений. Разоренный, ожесточившийся, он принял небытие с той же ясностью духа, с какой бабка готовилась отправиться в рай. Мать любила жизнь так же сильно, как я, и смерть вызывала в нас обеих одинаковый протест. Пока длилась ее агония, я получила много писем по поводу моей последней книги. «Если бы вы не утратили веры, смерть не так пугала бы вас», — ядовито писали благочестивые святоши. «Уход в небытие не страшен: ваши творения переживут вас», — убеждали меня благочестивые читатели. И те и другие ошибались. Религия была бессильна помочь, а мысль о посмертной славе не может утешить меня. Когда дорожишь жизнью, бессмертие, каким бы оно ни представлялось — небесным или земным, — не примиряет со смертью. За одни сутки она состарилась на сорок лет. Как развернулись бы события, если бы мамин домашний врач определил рак при первых его симптомах? Вероятно, удалось бы приостановить болезнь с помощью облучения и мать прожила бы еще два-три года. Но она узнала бы или заподозрила истинную причину своего недуга, и душевные терзания омрачили бы ее конец. Ужасно то, что ошибка врача ввела в заблуждение и нас: иначе мы сделали бы все, чтобы ей жилось как можно лучше. Мы бы устранили препятствия, помешавшие ей провести лето у Жанны или Элен. Я бы чаще навещала ее и придумывала бы для нее развлечения.
Стоит или не стоит жалеть о том, что врачи ее оживили, а затем оперировали? Она «выиграла» на этом тридцать дней, а ведь она не желала терять и одного. Эти тридцать Дней принесли ей какие-то радости, но и много страхов и мучений. Она избежала пыток, которые, я боялась, угрожали ей, и все же я не могу за нее решать, как было бы лучше. Элен смерть матери в самый день ее приезда нанесла бы тяжкий удар, от которого ей было бы трудно оправиться. А мне? Эти четыре недели оставили после себя воспоминания, кошмары и печаль, которых я бы не знала, если бы мама угасла в ту среду утром. Правда, мне трудно измерить степень потрясения, которое я пережила бы, поскольку мое горе прорвалось неожиданным для меня образом. Во всяком случае, эта отсрочка дала облегчение и нам, избавив или почти избавив нас обеих от угрызений совести. Когда уходит дорогой нам человек, мы чувствуем себя виноватыми в том, что пережили его, и расплачиваемся за это горем и щемящей тоской. Со смертью близкого постигаем его неповторимость. Он занимает собой весь мир, который для него уже не существует, но который с его уходом перестает существовать и для нас. Нас мучает сожаление, что мы уделяли ему слишком мало времени и сил, что он достоин был гораздо большего. Но проходит время, все становится на свои места, и мы вновь понимаем, что он был лишь одним из многих. И все же мало кто может сказать, что он сделал для другого все возможное, хотя бы в тех скромных пределах, какие он себе установил, и потому всегда найдется повод для укоров и угрызений. Последние годы мы были по отношению к матери небрежны, нерадивы и невнимательны. И нам казалость, что мы искупили свою вину этими днями, целиком посвященными ей, покоем, который давало ей наше присутствие, победами, одержанными над страхом и болью. Без нашей неусыпной заботы она страдала бы гораздо сильнее.
По сравнению с другими смертями смерть ее была действительно легкой. «Не бросайте меня на растерзание». Я думала о тех, кому некого просить об этом. Как страшно сознавать себя беззащитным, отданным во власть равнодушных врачей и раздраженных, задерганных медсестер. И нет руки на лбу, когда накатывается ужас, нет болеутоляющих средств, когда боль впивается в тело, нет ласковой, хотя и лживой болтовни, которая заполняет пустоту надвигающегося небытия. «За одни сутки она состарилась на сорок лет». Эта фраза долго преследовала меня. Ведь и по сей день многие умирают в ужасной обстановке. Так ли это неизбежно? В общих палатах, когда для умирающего наступает последний час, его койку отгораживают ширмами; ему уже доводилось видеть эти ширмы. У коек, назавтра пустых, он все понимает. Я на минуту представила себе за этими ширмами мать, ослепленную лучами черного солнца, на которое никто не может смотреть в упор, я видела ужас в ее широко раскрытых глазах с громадными зрачками. Да, ей действительно выпала очень легкая смерть — смерть избранных. Труп — это уже ничто. Элен переночевала у меня, в десять часов утра мы вернулись в клинику. Как и в гостинице, помещение надлежало освободить до полудня. Еще раз мы поднялись по лестнице, толкнули одну дверь, вторую: кровать была пуста. Стены, окно, лампы, мебель — все это было на своем месте, а на белых простынях — никого. Знать — еще не значит понимать: мы испытали такое сильное потрясение, будто вид этой комнаты был для нас неожиданностью. Вытащили из шкафа чемоданы и побросали в них книги, белье, всякие мелочи, журналы, накопившиеся за шесть недель близости, отравленной предательством. Красный халат мы оставили на вешалке. Потом прошли через сад. Где-то там, в глубине, скрытый за зеленью, находился морг, где лежала мама с подвязанной челюстью. Элен, по собственной воле, а также по воле случая принявшая на себя самый тяжелый удар, была так подавлена, что я не решилась предложить ей еще раз взглянуть на тело матери. Да и я не была уверена, что готова к этому.
Оставив чемоданы у консьержки по улице Бломе, мы там же поблизости зашли в похоронное бюро. «Не все ли равно, это или другое». Нами занялись два господина в черном. Они показали фотографии различных гробов: «Вот этот будет поэлегантнее!» Элен истерически засмеялась. «Элегантнее! Этот ящик! Она так не хотела, чтобы ее клали в ящик!» Мы назначили похороны на послезавтра, на пятницу. Желаем ли мы цветов? Мы согласились, сами не зная, почему: но ни гирлянд, ни венков не надо, просто большую охапку. Отлично, они все хлопоты берут на себя. Днем мы внесли чемоданы в мамину квартиру. Мадемуазель Леблон преобразила ее, комнаты стали чище, веселее, мы их едва узнали — что ж, тем лучше. Мы сунули, в один из шкафов узел с белым халатом и ночными рубашками, расставили по местам книги, конфеты, туалетные принадлежности, а остальное унесли ко мне. Ночью я с трудом заснула. Я не жалела, что ушла от мамы, услышав ее последние слова: «Я рада, что ты видела меня, когда мне так хорошо». Но упрекала себя за то, что так поспешно оставила ее тело. Правда, она сама, да и сестра говорили: «Труп — это уже ничто». Но ведь это была ее плоть, ее кости, и лицо еще было ее лицом. Я не отходила от тела отца до тех пор, пока он не превратился для меня в вещь: я как бы проделала вместе с ним путь от жизни к небытию. А от мамы я ушла сразу после того, как поцеловала ее в лоб, и поэтому мне все чудилось, что там, в холодном морге, лежит она, а не ее труп. В гроб ее положат завтра днем, смогу ли я присутствовать при этом?
На следующий день в четыре часа я пошла в клинику, чтобы заплатить по счету. Мне отдали адресованные матери письма и коробку фруктового мармелада. Я поднялась попрощаться с сестрами и в коридоре увидела, как молоденькие. Мартен и Паран чему-то смеются. Комок остановился у меня в горле, и я с трудом выдавила из себя несколько слов. Я прошла мимо палаты № 114. Табличку «Посещения запрещены» уже сняли. Я спустилась в сад, минуту поколебалась, но мужество покинуло меня. Да и к чему? Я ушла. Я снова проехала мимо магазина Кардена и витрин с изящными халатами. Больше никогда не сидеть мне в приемной клиники, не хвататься за белую трубку телефона, не ходить по этим улицам. Я легко рассталась бы со всем этим, если бы мама выздоровела, но теперь мне было грустно, потому что все это ушло вместе с нею.
По парижским улицам на свои собственные похороны. Мы решили раздать кое-что из ее вешей на память близким. Когда мы взяли соломенную сумку, где она держала мотки шерсти и недовязанный свитер, когда открыли ее бювар, когда увидели ее ножницы, наперсток, нас охватило волнение. Кто не знает власти вещей: жизнь воплощается в них гораздо реальнее, чем в любом своем мгновении. Сиротливые и бесполезные, они лежат у меня на столе, ожидая своей участи: то ли их выбросят, то ли они перейдут к другому хозяину (этот несессер мне достался от тети Франсуазы). Часы мы решили отдать Марте. Отвязали их от черного шнурка, Элен заплакала: «Это глупо, я не придаю этому значения, но не могу выкинуть эту тесемку». — «Ну, так сохрани ее». Бесполезно пытаться соединить смерть и жизнь и вести себя логично в обстоятельствах, лишенных логики. Пусть каждый по-своему находит выход из смятения чувств. Мне понятно, когда люди высказывают последнюю волю и когда не выражают никаких желаний; одни судорожно вцепляются в бездыханное тело, другие позволяют похоронить останки любимого человека в общей могиле. Если бы сестра захотела одеть мать или сохранить ее кольцо, ее побуждения показались бы мне столь же естественными, как и мои. С похоронами все было ясно. Мы считали, что знаем желания матери и действуем в соответствии с ними.
И все же зловещие препятствия неожиданно возникли перед нами. На кладбище Пер-Лашез наша семья владела участком, приобретенным в вечное пользование сто тридцать лет тому назад некоей госпожой Миньо, сестрой нашего прадеда. Там были похоронены она сама, дед, жена его и брат, дядя Гастон и наш отец. Места больше не оставалось. В таких случаях покойного хоронят во временной могиле, а после того, как прах умерших прежде собирают в общий гроб, его останки переносят в семейный склеп. Однако кладбищенская земля ценится очень дорого, и администрация кладбища, пытаясь вернуть себе участки, приобретенные навечно, потребовала, чтобы владельцы каждые тридцать лет возобновляли свои права. Срок истек. В свое время никто не уведомил нас, что мы можем эти права потерять, и поэтому за нами их сохранили при условии, что семья Миньо не станет их оспаривать. А пока нотариус не выяснит положение дел, гроб с телом матери будет находиться в месте временного захоронения. Мы со страхом ждали завтрашней церемонии. Приняли снотворное и проспали до семи часов, утром выпили чаю, поели и снова приняли успокоительное. Около восьми часов на пустынной улице остановился черный автобус. Еще до рассвета он заехал в клинику за гробом, который вынесли через боковую дверь. Мы вышли в прохладный утренний туман и сели в машину. Элен — в кабину между шофером и одним из служащих похоронного бюро, а я около металлического ящика. «Она здесь?» — спросила сестра. «Да». Сестра всхлипнула и сказала мне: «Меня утешает лишь то, что и я пройду через это. Иначе это было бы непереносимо!» Да. Мы присутствовали на генеральной репетиции своих собственных похорон. К несчастью, это событие, общее для всех смертных, каждый переживает в одиночку. Мы не отходили от матери во время ее агонии, которую она принимала за выздоровление, и все же были по другую сторону барьера.
Мы поехали по парижским улицам, я смотрела на дома, на прохожих, стараясь ни о чем не думать. У ворот кладбища стояло несколько машин с нашими родственниками. Машины проследовали за нами до кладбищенской церковки. Там все вышли, и пока служащие похоронного бюро выносили гроб, я увела Элен к маминой сестре, стоявшей в отдалении с распухшим от слез лицом. Один за другим мы вошли в церковь, где уже толпилось много народу. На катафалке не было цветов, распорядители забыли их в автобусе, но какое это имело значение! Симона — позор нашей семьи. Молодой священник в облачении, из-под которого выглядывали брюки, отслужил мессу и произнес короткую проповедь, исполненную странной печали.
«Бог очень далек, — сказал он. — Даже у тех, чья вера тверда, бывают дни, когда он кажется далеким, таким далеким, будто его вовсе не существует. Тогда возникают мысли о его небрежении. Но ведь он послал нам своего сына». Принесли две скамеечки для причастия. Почти все, кто был в церкви, причастились. Священник сказал еще несколько слов. И всякий раз, когда он произносил «Фрасуаза де Бовуар», у нас с сестрой сжималось сердце. Эти слова возвращали ее на землю, подводили итог ее пути: детство, замужество, вдовство и могила. Скромная Франсуаза де Бовуар, чье имя столь редко звучало при жизни, обретала значительность.
Люди вереницей прошли мимо нас, некоторые женщины плакали. Мы еще пожимали чьи-то руки, а служащие похоронного бюро уже вынесли гроб из церкви. На этот раз Элен, увидев его, разрыдалась, уткнувшись мне в плечо: «Я обещала маме, что ее не положат в этот ящик!» Я была рада, что сестра не вспомнила другую просьбу матери: «Не дай им бросить меня в яму». Распорядитель от похоронного бюро объявил присутствующим, что церемония окончена и можно расходиться. Автобус тронулся и одиноко покатил куда-то. В бюваре, который я принесла из клиники, мне попалась узкая полоска бумаги с двумя строчками; мать написала их тем же прямым и четким почерком, каким писала в молодости: «Я хочу, чтобы меня похоронили очень просто. Не нужно ни цветов, ни венков, пусть лучше за меня как следует помолятся». Что ж, мы выполнили ее последнюю волю и даже лучше, чем хотели, ибо заказанные нами цветы были забыты в автобусе. Почему все-таки меня так потрясла смерть матери? С тех пор как я стала жить самостоятельно, меня очень редко к ней тянуло. Когда умер отец, глубина и искренность ее горя меня взволновали, а ее простодушие растрогало. «Не насилуй себя», — говорила она мне, думая, Что я сдерживаю слезы из боязни увеличить ее горе. Год спустя кончина ее матери больно напомнила ей о предсмертных минутах мужа. В день похорон она не встала с постели, сраженная приступом нервной депрессии. Я тогда просидела ночь у ее изголовья и, забыв о своем отвращении к этой супружеской кровати, где я родилась и где умер отец, смотрела на спящую мать. В пятьдесят пять лет, с закрытыми глазами и умиротворенным лицом, она все еще была красива. Меня восхищало, что острота чувств взяла верх над ее волей. Обычно я думала о матери с безразличием. А между тем, в сновидениях я редко и как-то смутно видела отца, тогда как матери там принадлежала главная роль: она и Сартр сливались для меня воедино, и мы с ней были счастливы. Затем сон переходил в кошмар: почему мы опять вместе? Каким образом я снова попала под ее власть? Наши давние отношения подспудно жили во мне, приняв двойное обличие зависимости, одновременно дорогой мне и ненавистной. Зависимость эта возродилась в полную силу, когда несчастный случай с матерью, ее болезнь и смерть сломали привычный уклад, который до сих пор определял наши отношения. Время иссякает для того, кто покидает земной мир, и чем больше я старею, тем больше сжимается мое прошлое «Дорогую мамочку» моего детства уже невозможно отделить от вспыльчивой властной женщины, притеснявшей меня в отроческие годы. Оплакивая мать, я оплакивала их обеих. Боль от неудачно сложившихся отношений, с которыми я как будто уже смирилась, снова наполняла мое сердце. Я смотрю на две фотографии, сделанные примерно в одно время. Мне восемнадцать лет, ей — под сорок. Сегодня я могла бы быть ее матерью и бабкой этой девушки с грустными глазами. Мне жаль их обеих — себя потому, что я так молода и ничего не понимаю, ее потому, что будущее уже закрыто перед ней и ей так и не суждено будет что-либо понять. Я ничего не могла бы посоветовать им обеим. Не в моей власти было стереть в материнской памяти горести ее детства, заставлявшие ее мучить меня и самой же от этого страдать. Ибо если она отравила мне несколько лет жизни, я, сама того не желая, осталась в долгу. Она тревожилась о моей душе, но радовалась моим земным успехам и в то же время болезненно переживала скандал, который я вызывала в ее среде. Она страдала, когда один из родственников заявил: «Симона — позор нашей семьи». Естественной смерти не существует. Изменения, произошедшие с матерью за время болезни, увеличили горечь моих сожалений. Я уже говорила, что наделенная пылким темпераментом, мать, ожесточившись от вынужденного самоотречения, утратила равновесие и стала несносной для других. Когда она слегла, она решила наконец жить только для себя и все же неустанно тревожилась о близких: из противоречий ее натуры родилась гармония. Отец мой был вполне типичен для своей среды: его устами говорил его класс. От его предсмертных слов: «Ты рано стала зарабатывать себе на хлеб, но сестра твоя стоила мне дорого», — сразу высыхали слезы* Мать была скована своими идеалистическими представлениями и в то же время полна страстной любви к жизни; эта любовь служила источником ее мужества и, когда недуги обрушились на тело матери, помогла ей приблизиться к истине. Она отбросила заученные формулы, скрывавшие в ней все искреннее и привлекательное. И тогда я почувствовала в матери тепло и нежность, которые прежде она так плохо умела выразить и которые так часто искажались ревностью. В ее записях я нашла несколько трогательных доказательств ее любви ко мне. Она сохранила два давних письма, одно — написанное знакомым иезуитом, другое — ее подругой: оба уверяли маму, что придет день, когда я вернусь к богу. Она переписала своей рукой несколько строк из Шансона, где автор говорит: «Если бы в ту пору, когда мне было двадцать лет. кто-нибудь из моих друзей постарше смог бы увлечь мое воображение рассказами о Ницше, Жиде, о свободе воли, я ушел бы из родительского дома». В той же папке лежала вырезанная из газеты статья Реми Рура «Жан-Поль Сартр спас заблудшую душу», в которой сообщалось, что, узидев «Бариону» Сартра, некий врач-атеист обратился в христианство (кстати говоря, это была неправда). Мне понятно, зачем нужны были матери эти записи, — она хотела успокоиться на мой счет. Но она не стремилась бы к этому, если бы ее не мучила неустанная забота о моем спасении. «Конечно, я хочу попасть на небо, но не одна, а с дочерьми», — писала она своей приятельнице, молодой монахине. Случается, хоть и очень редко, что любовь, дружеская привязанность, чувство товарищества одолевают предсмертное одиночество. Однако, несмотря на кажущуюся близость, даже в те минуты, когда я держала руку матери, я не была с ней: я ей лгала. И поскольку ее обманывали всю жизнь, этот последний обман был мне отвратителен. Я словно участвовала в заговоре, который готовила ей судьба. И в то же время каждой клеткой своего существа я поддерживала ее бунт, ее протест против смерти: возможно, еще и по этой причине я так болезненно приняла ее поражение. Меня не было подле нее в момент ее кончины. Я трижды видела агонию умирающих, но лишь у одра матери узнала, что такое издевки Смерти, ее гримасы и судороги. Узнала смерть из страшных сказок, что стучит в дверь с косой в руке, безжалостную пришелицу из неведомых краев. У Смерти было лицо матери и ее страшный оскал, ее доверчивая улыбка.
«Ему пора умирать». Бедные, одинокие старики, многие из них совсем не считают, что час их пробил. Эти избитые слова часто приходили мне на ум, когда я думала о матери. Я не верила, что можно искренне оплакивать человека, которому больше семидесяти. Когда я встречала немолодую женщину, удрученную недавней утратой матери, я принимала ее за истеричку: мы все смертны, и в восемьдесят лет можно завершить свой земной путь.
Но нет. Человек умирает не оттого, что родился, жил, состарился. Он умирает от конкретной причины и, хотя мать доживала последние годы, мы были потрясены, когда узнали, что у нее саркома. Рак, инфаркт, воспаление легких — все это так же ужасно и неожиданно, как авария во время полета. Мужество матери вселяет оптимизм: почти парализованная, при последнем издыхании, она боролась за каждое бесконечно ценное мгновение; и в то же время ее тщетное упорство срывало утешительный покров мнимой обыденности. Естественной смерти не существует: ни одно несчастье, обрушивающееся на человека, не может быть естественным, ибо мир существует постольку, поскольку существует человек. Все люди смертны, но для каждого человека смерть — это бедствие, которое настигает его, как ничем не оправданное насилие, даже если человек покорно принимает ее.


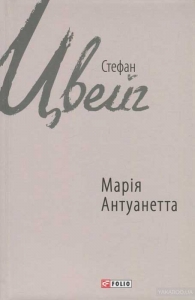
Комментарии к книге «Очень легкая смерть», Симона де Бовуар
Всего 0 комментариев